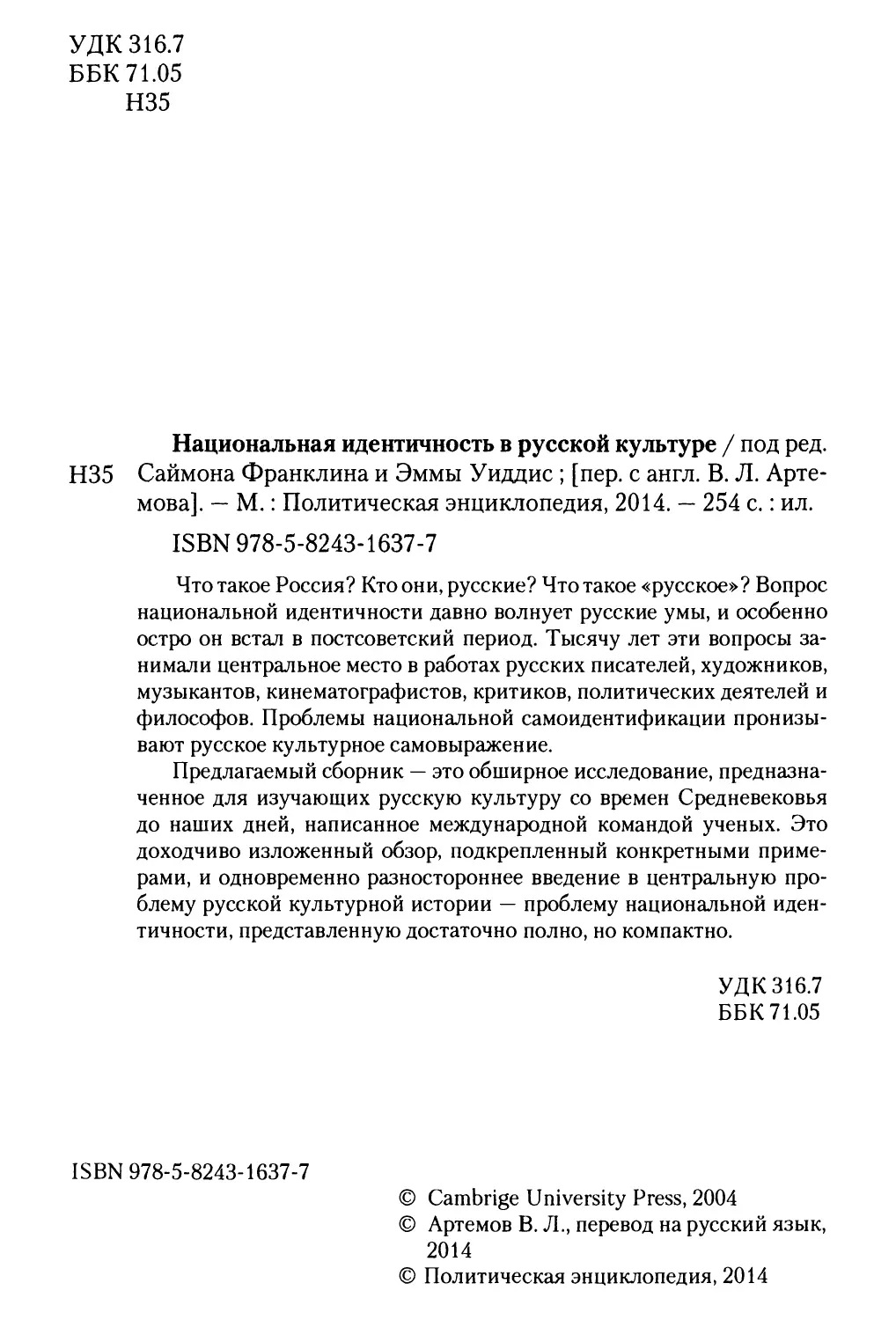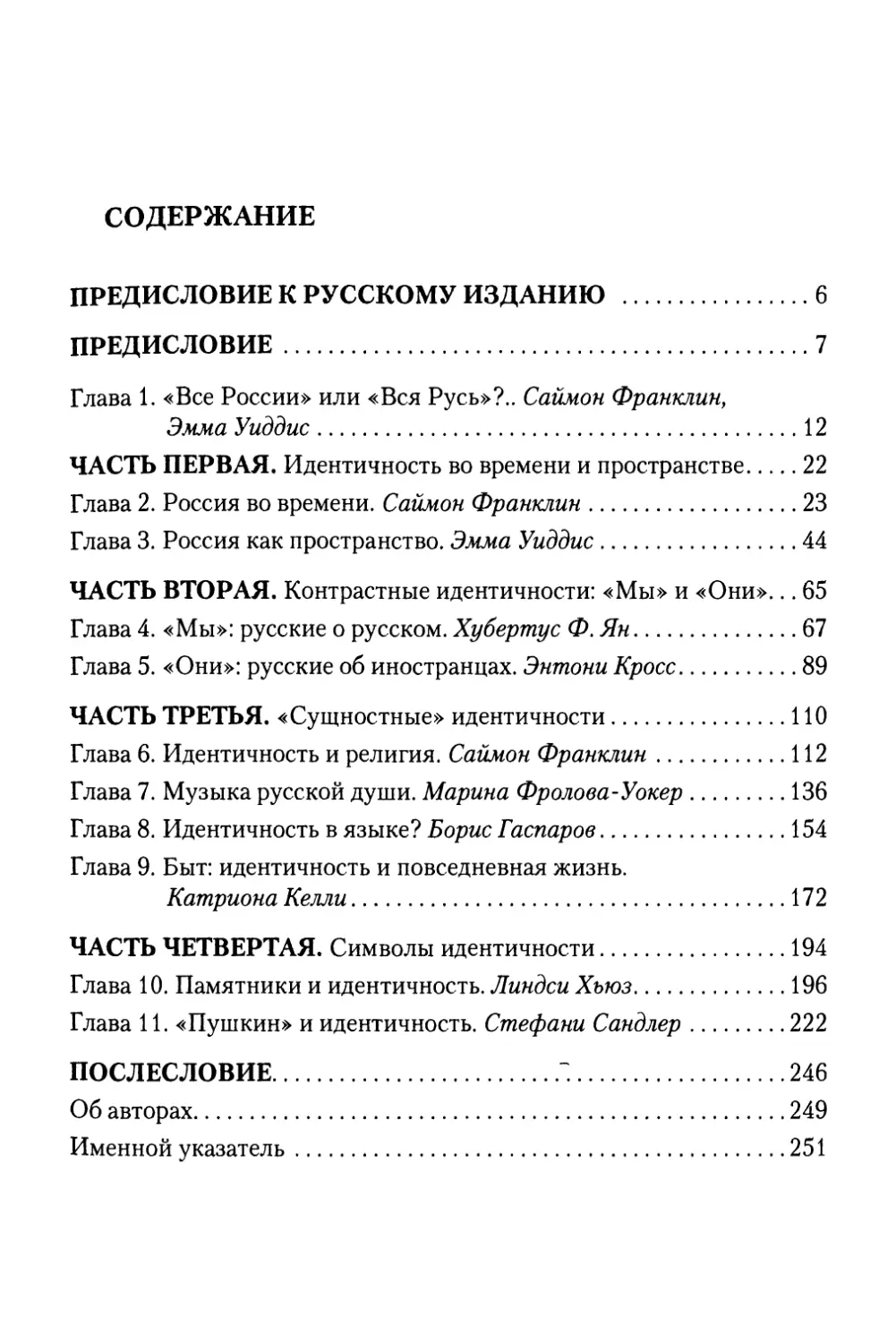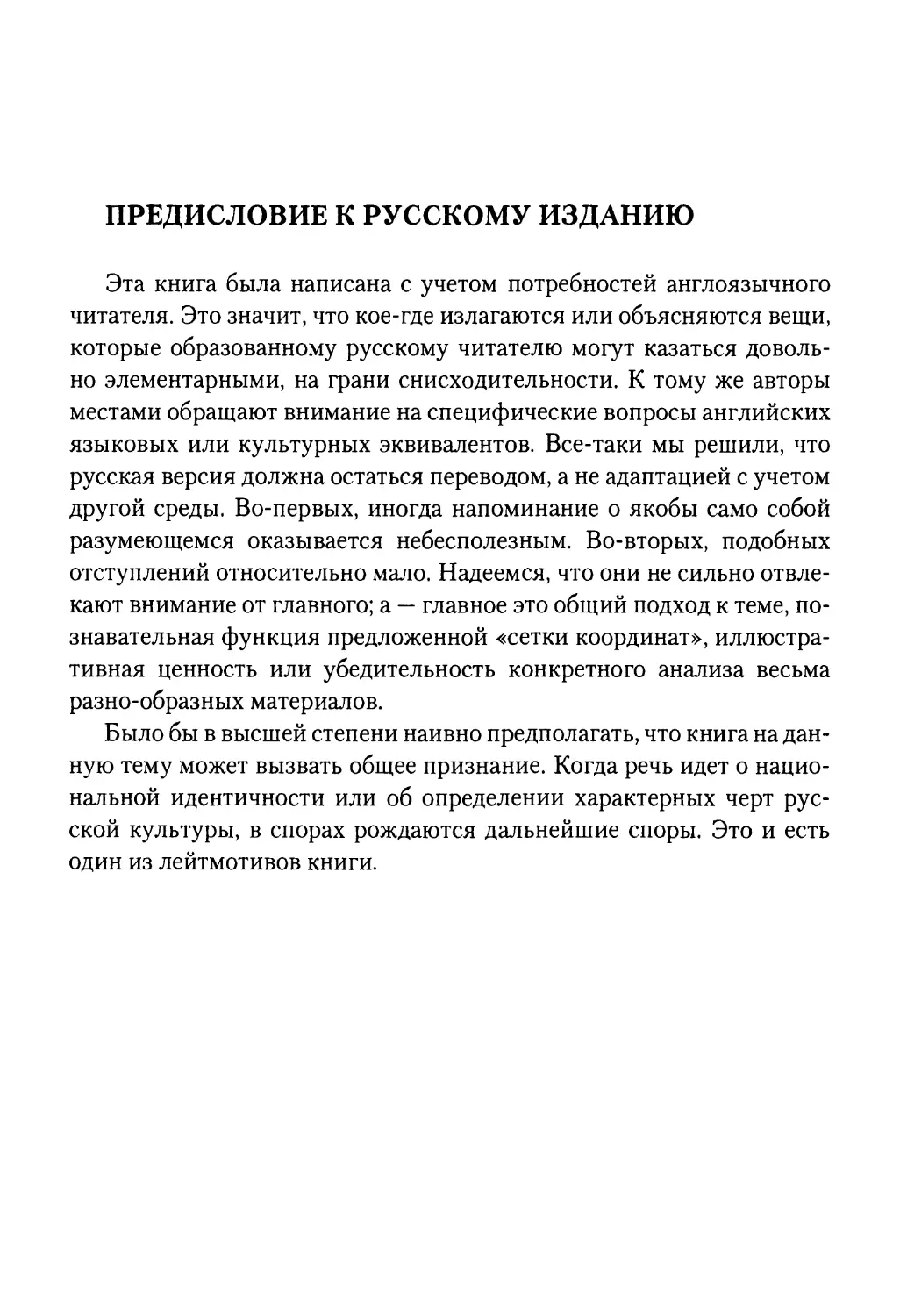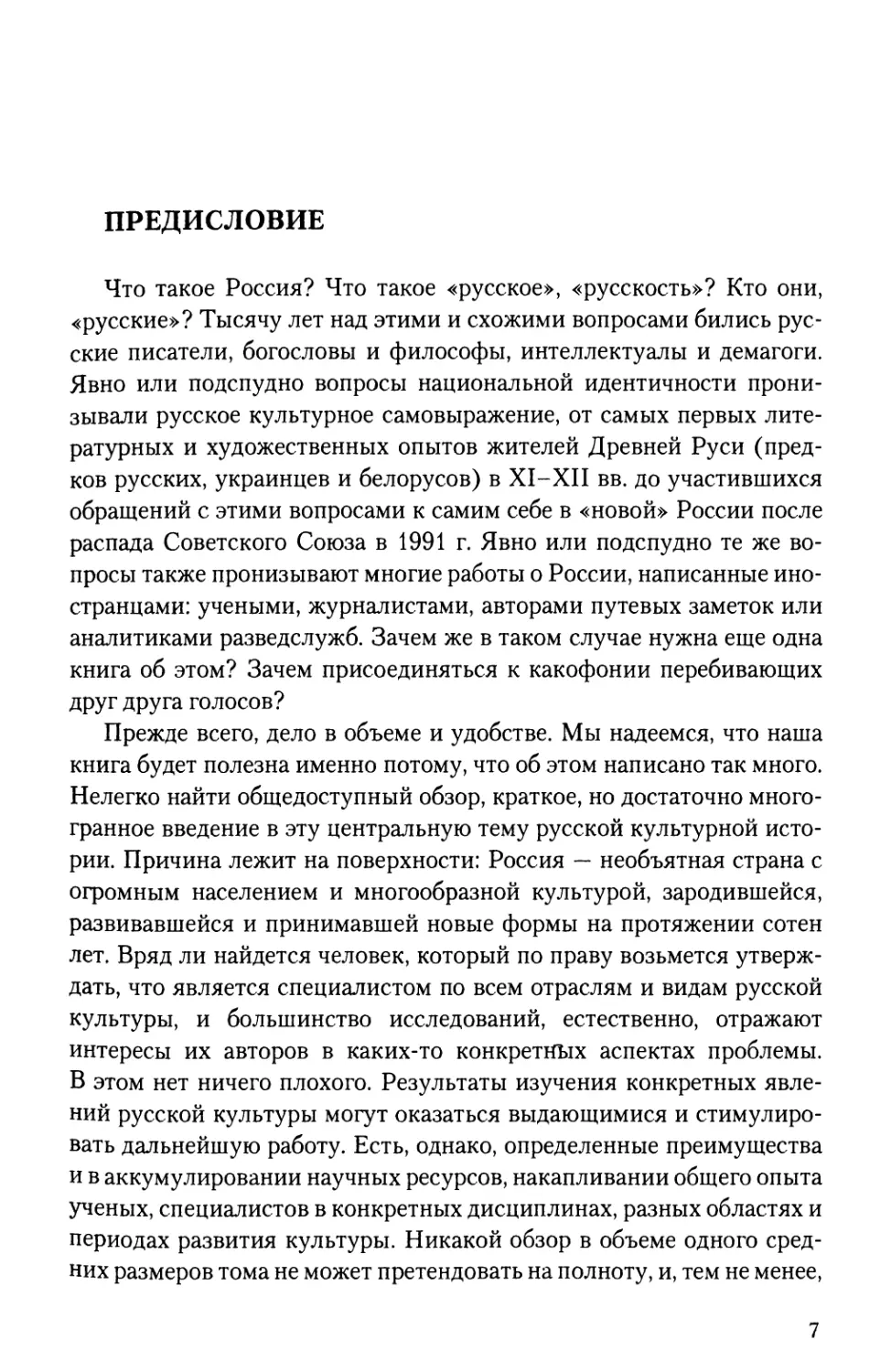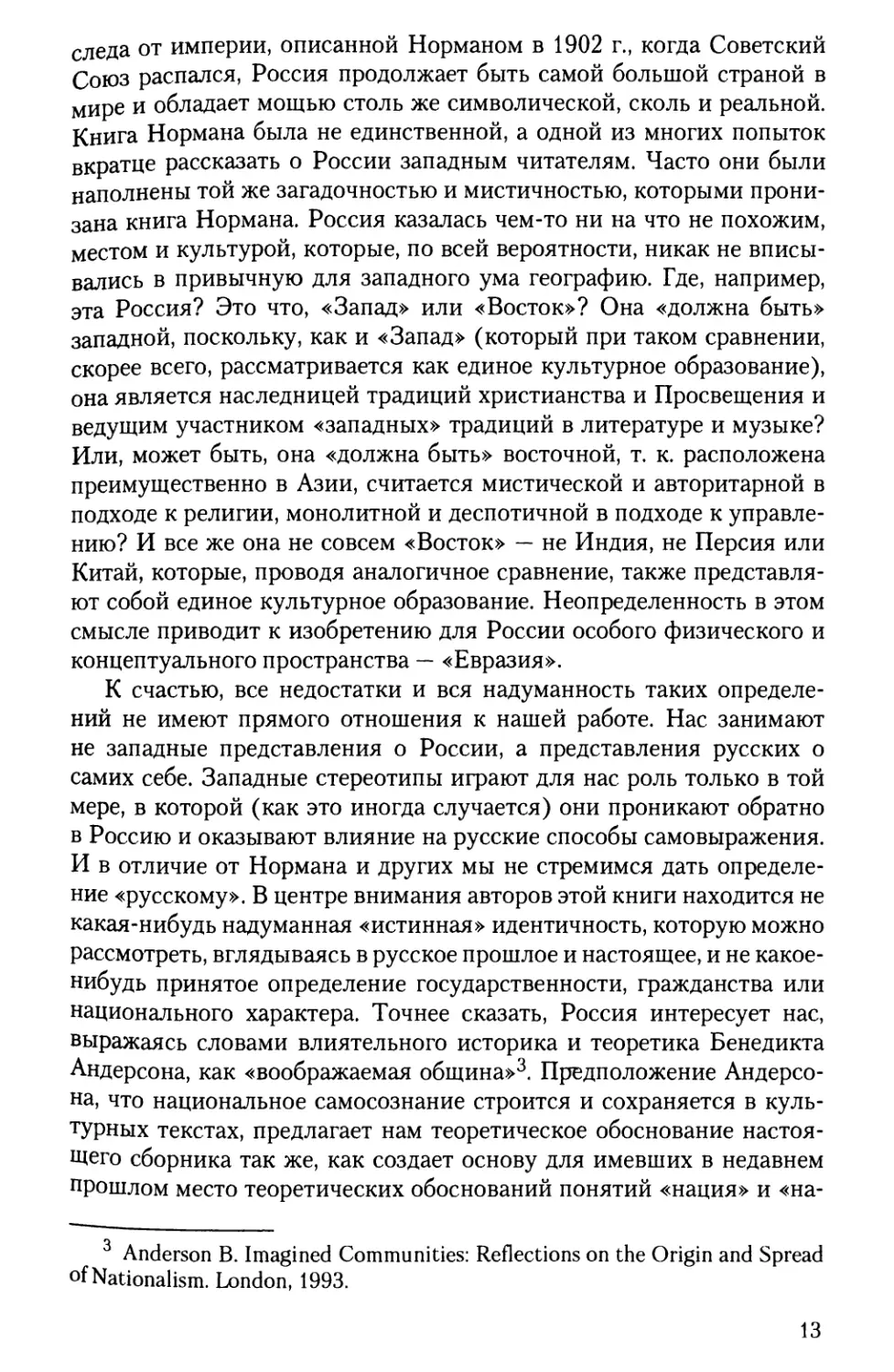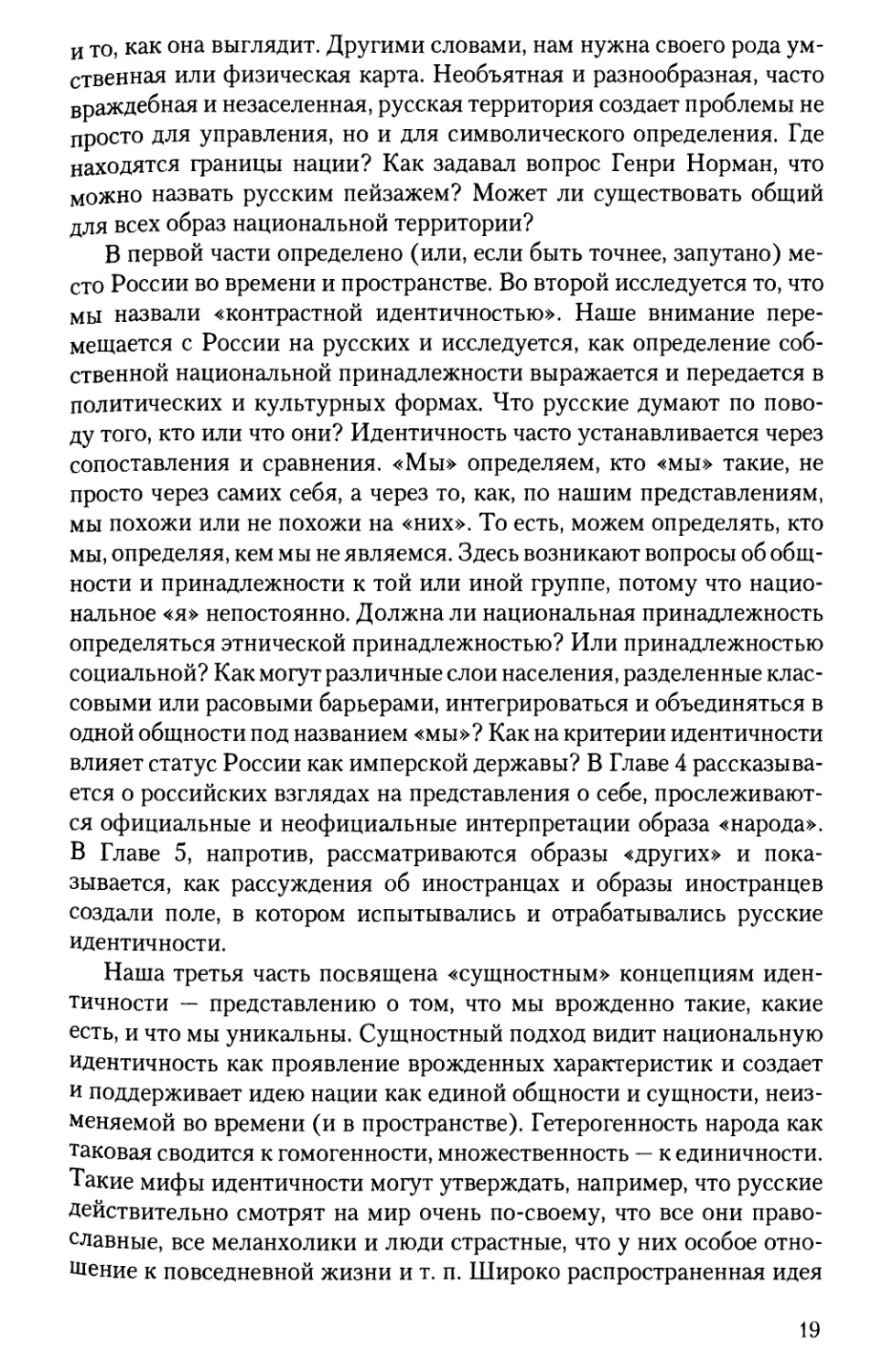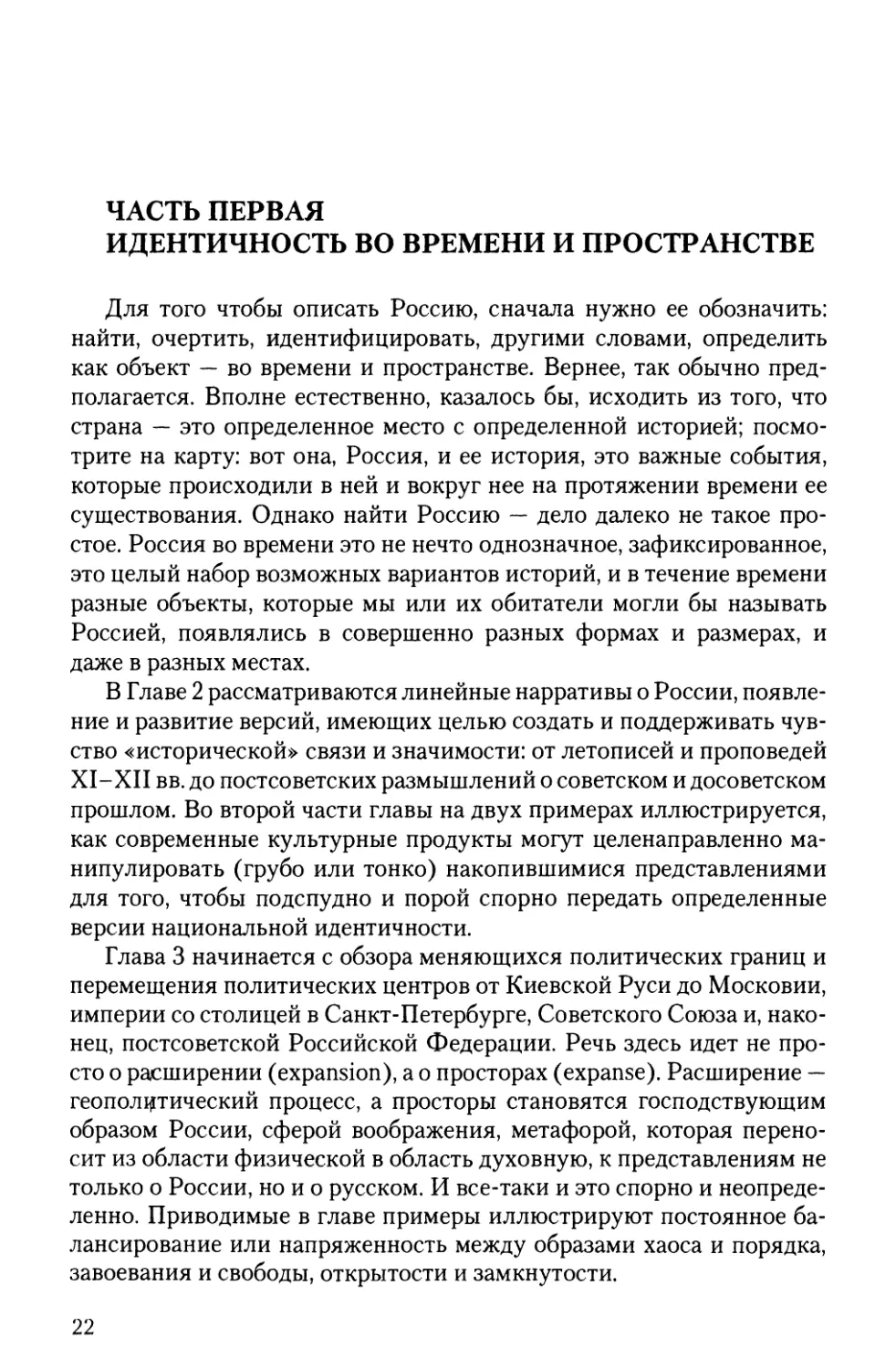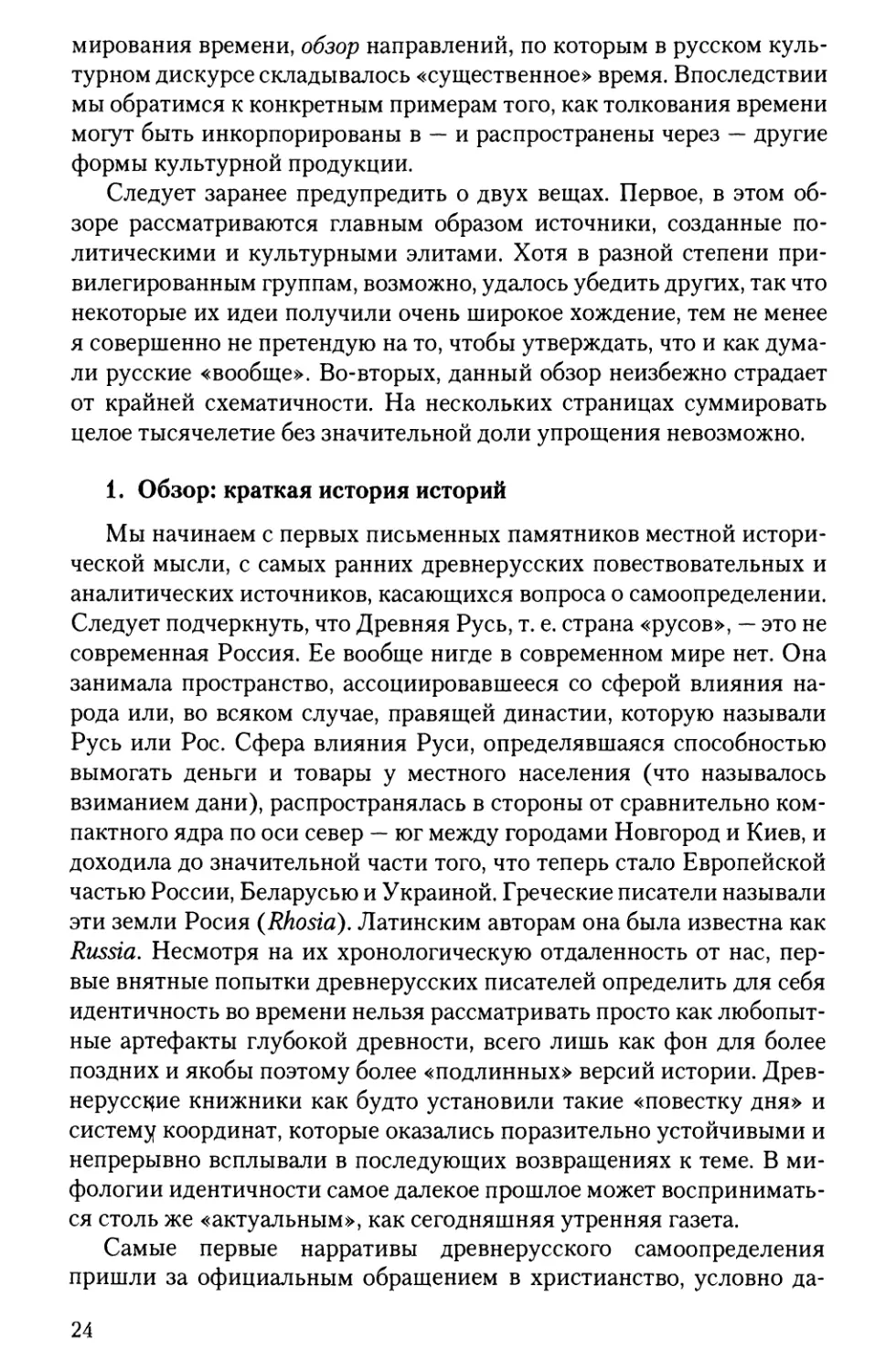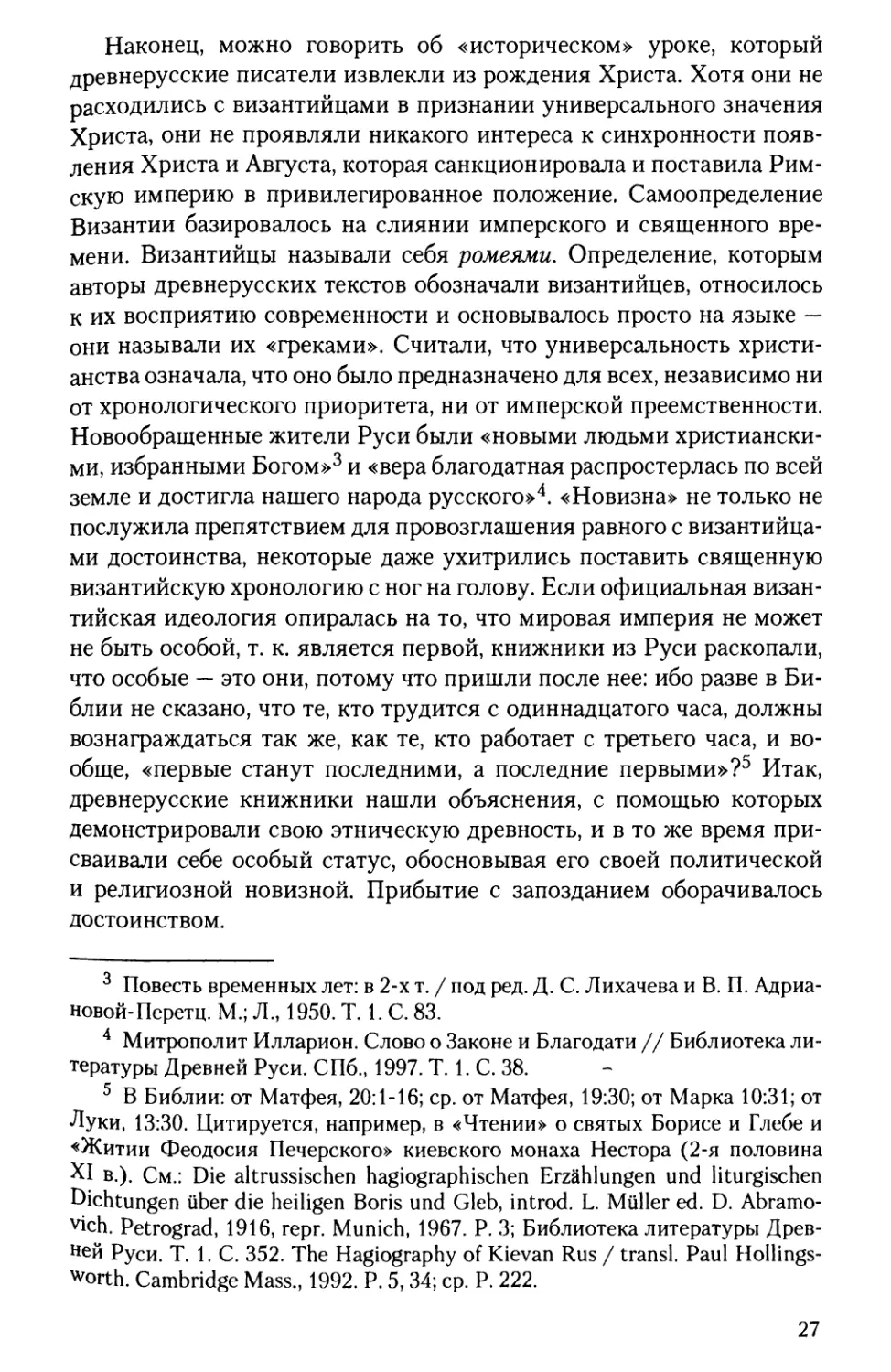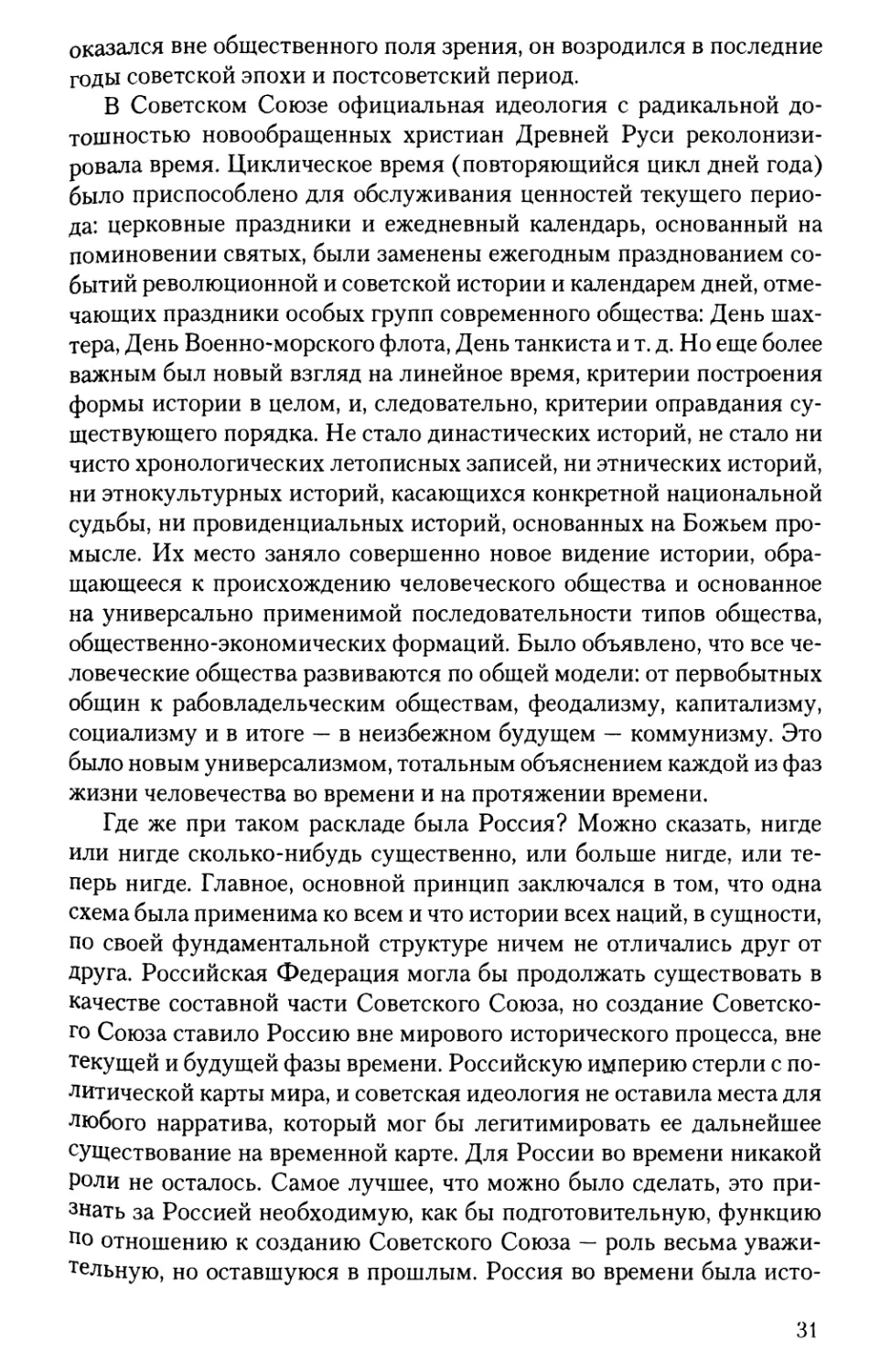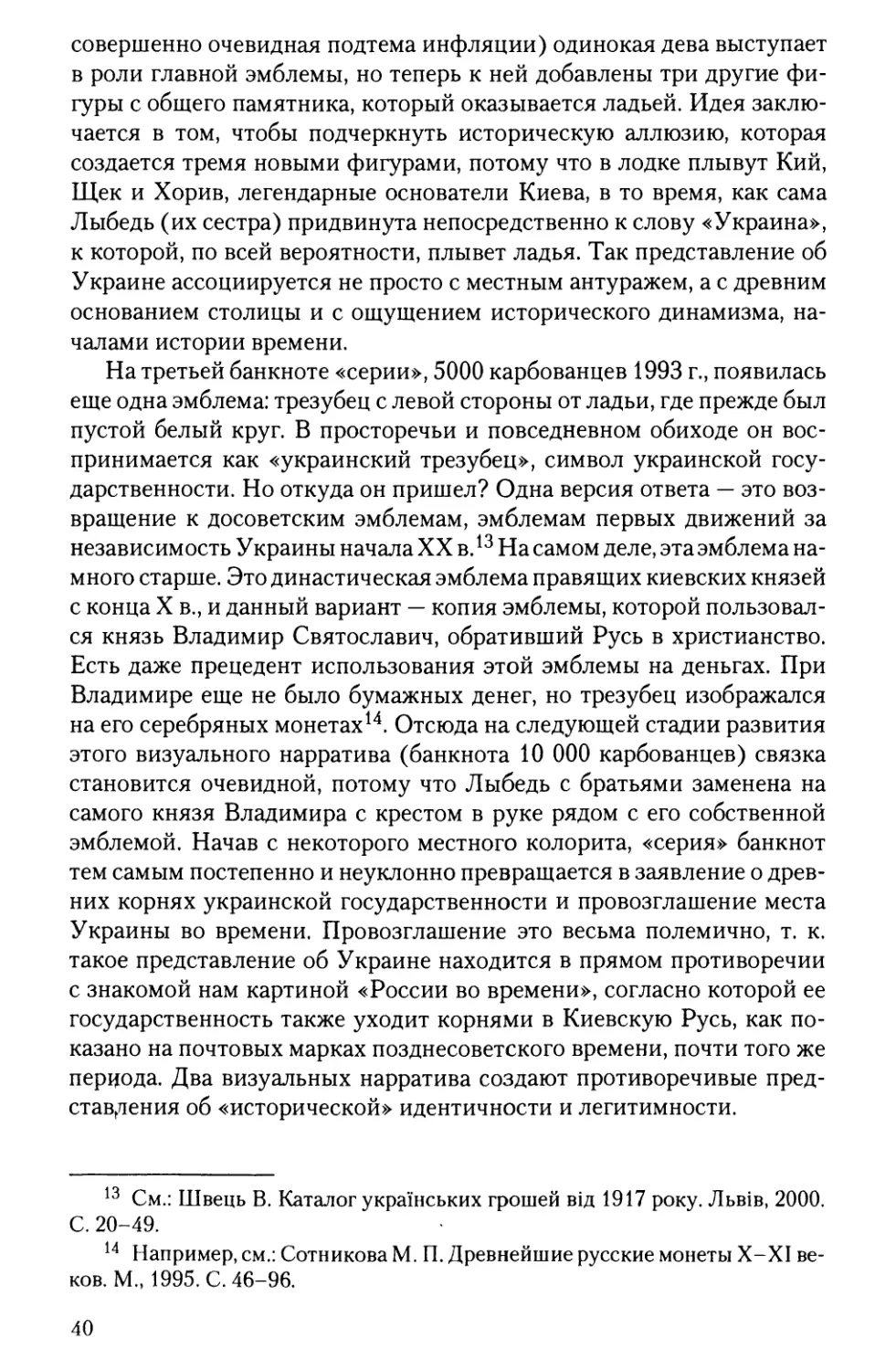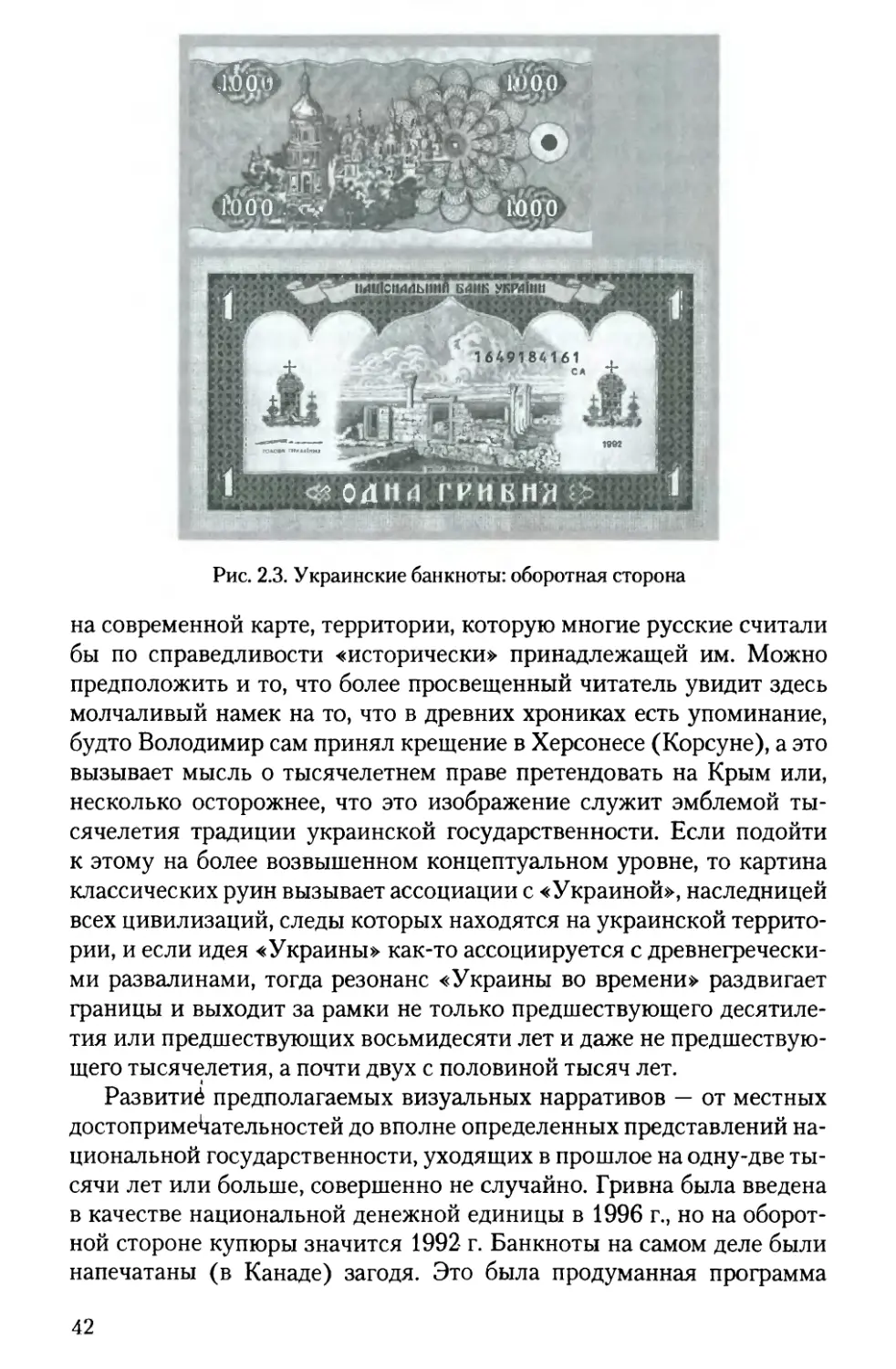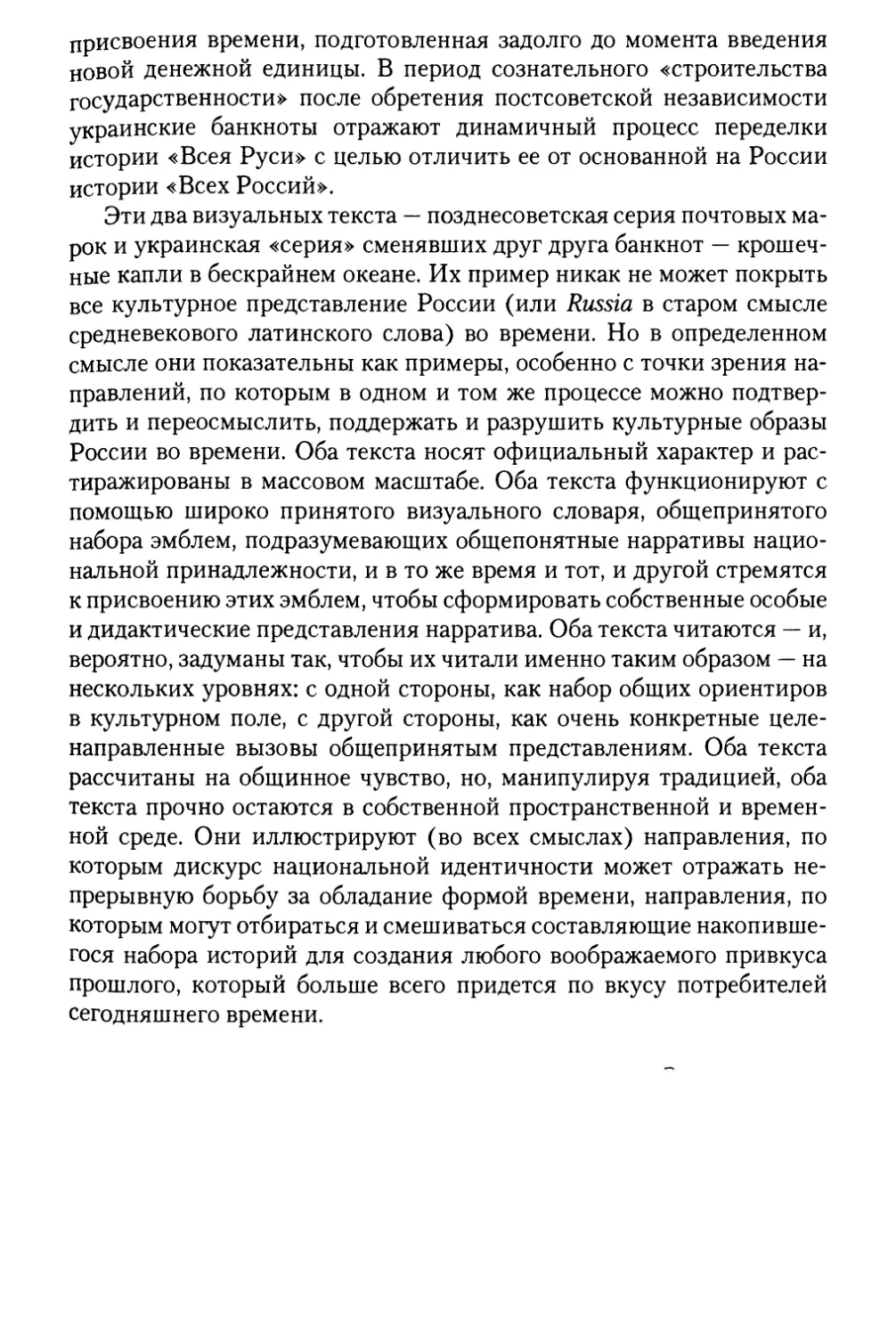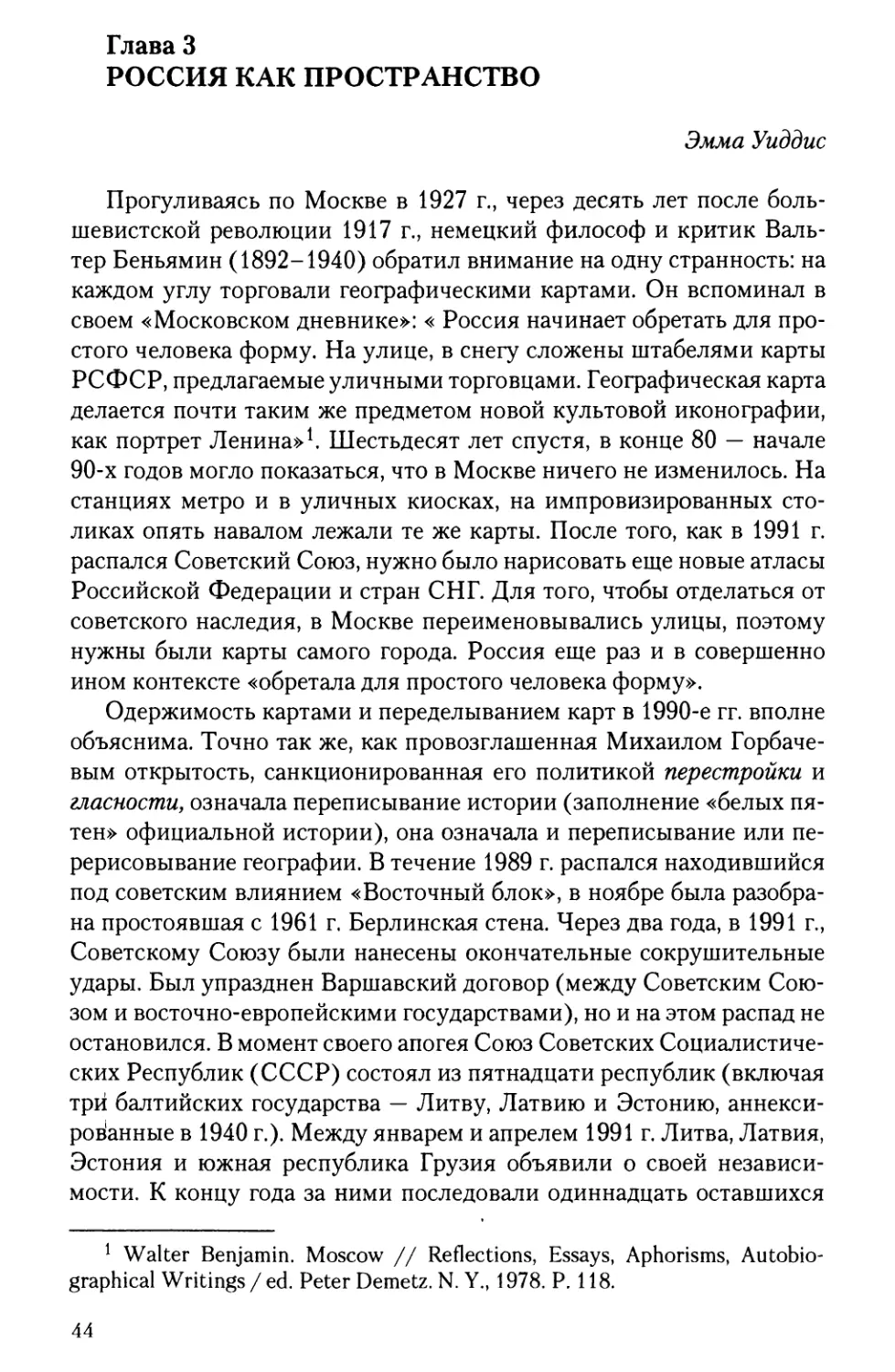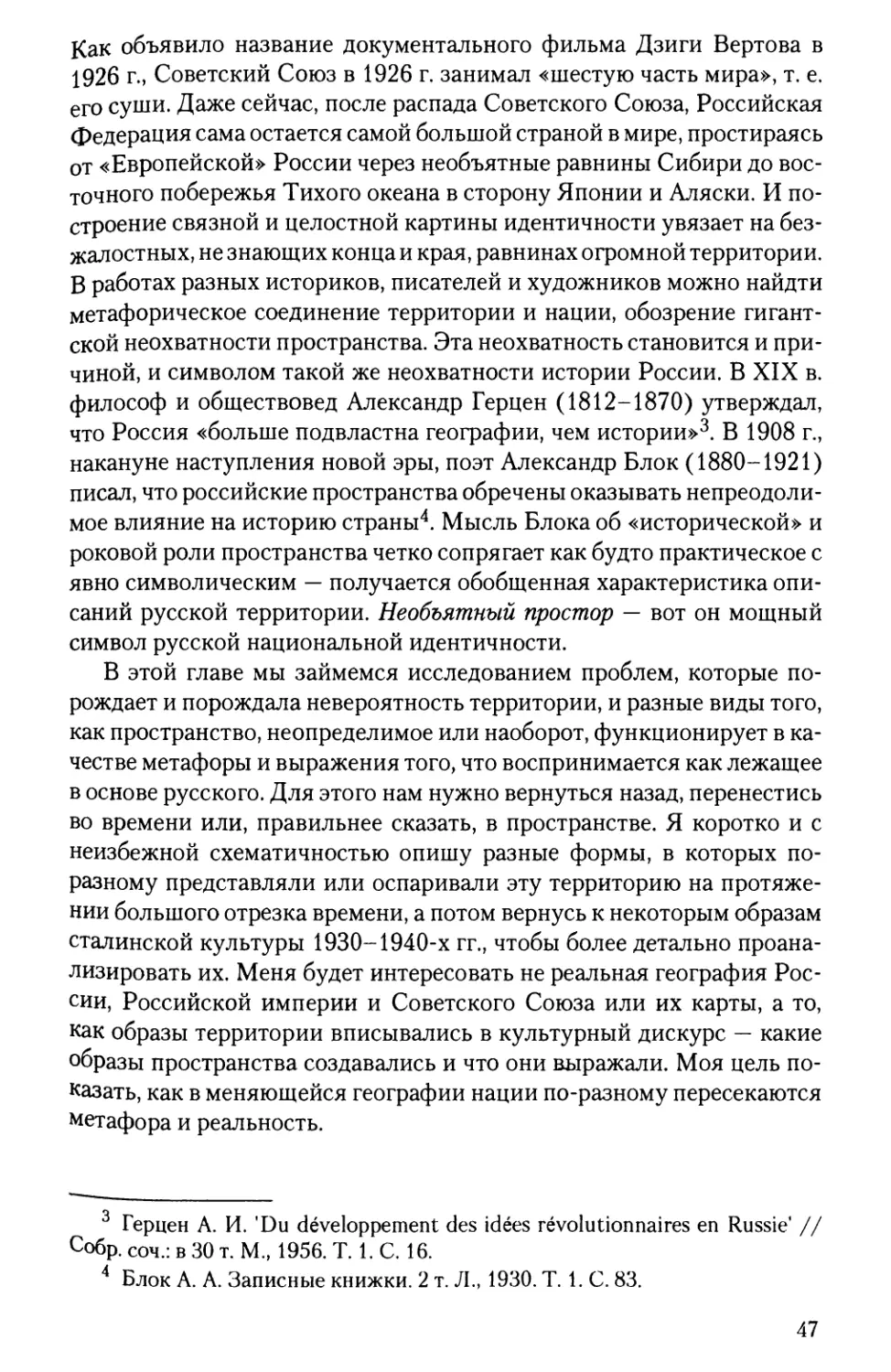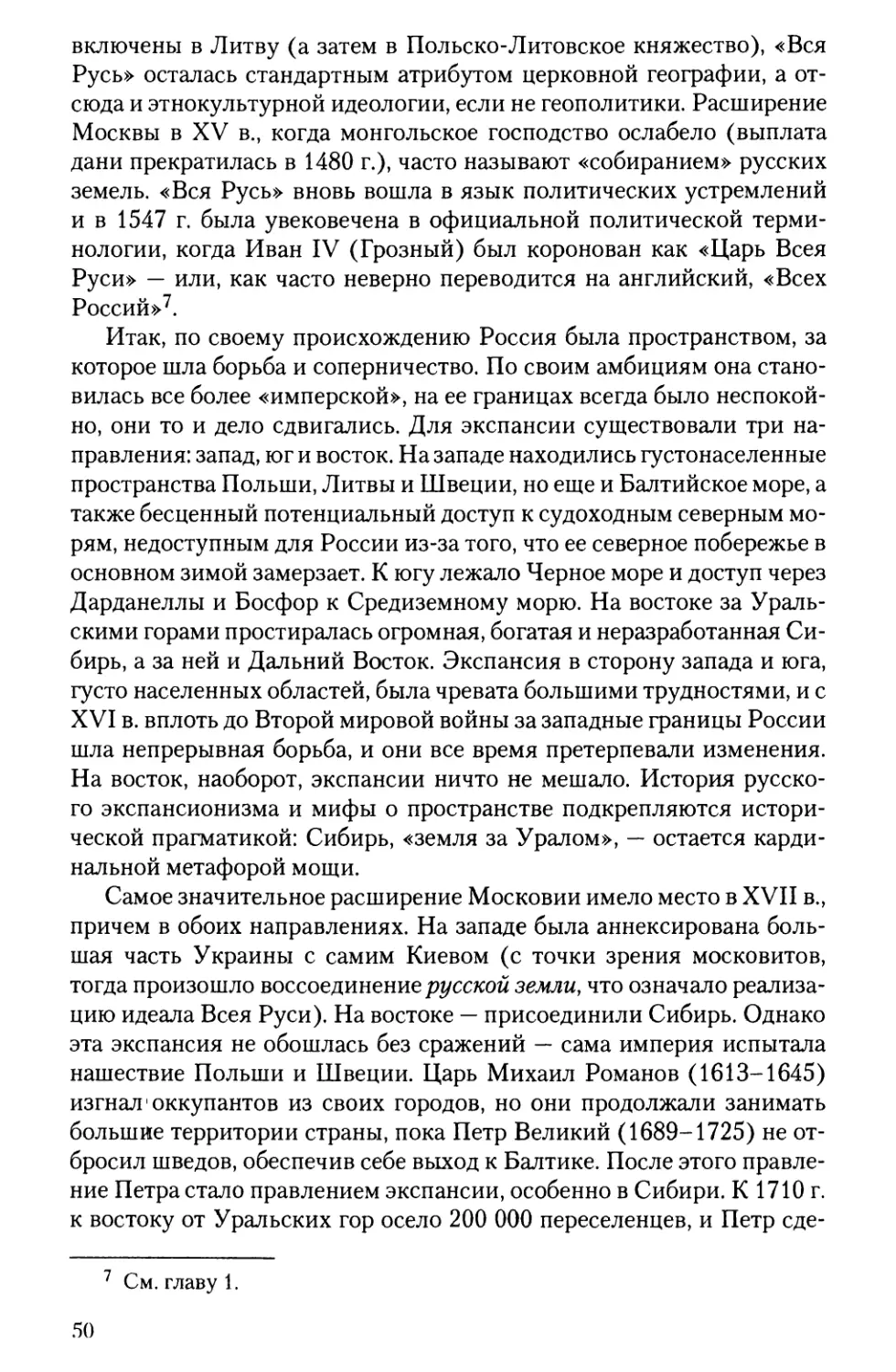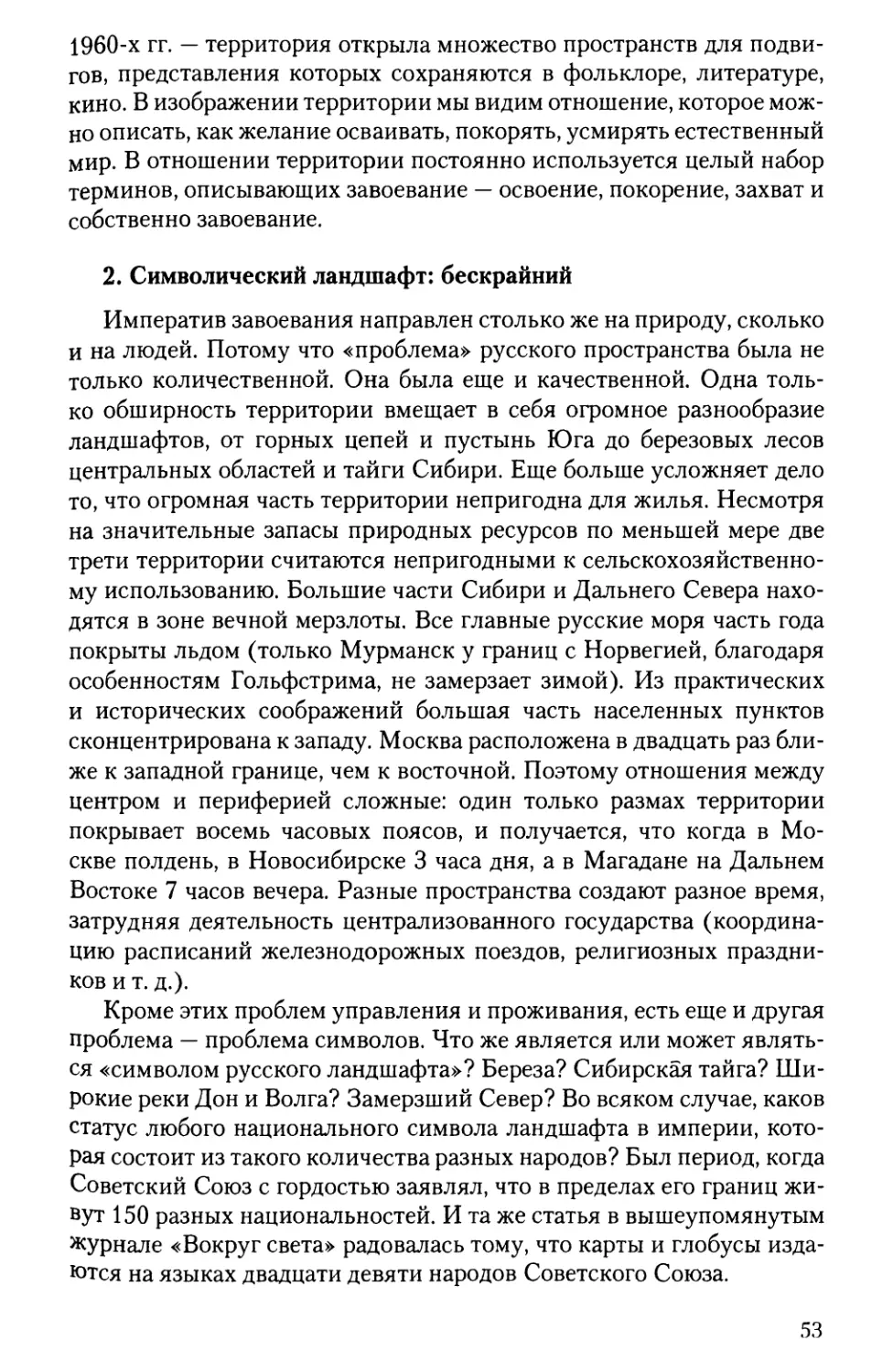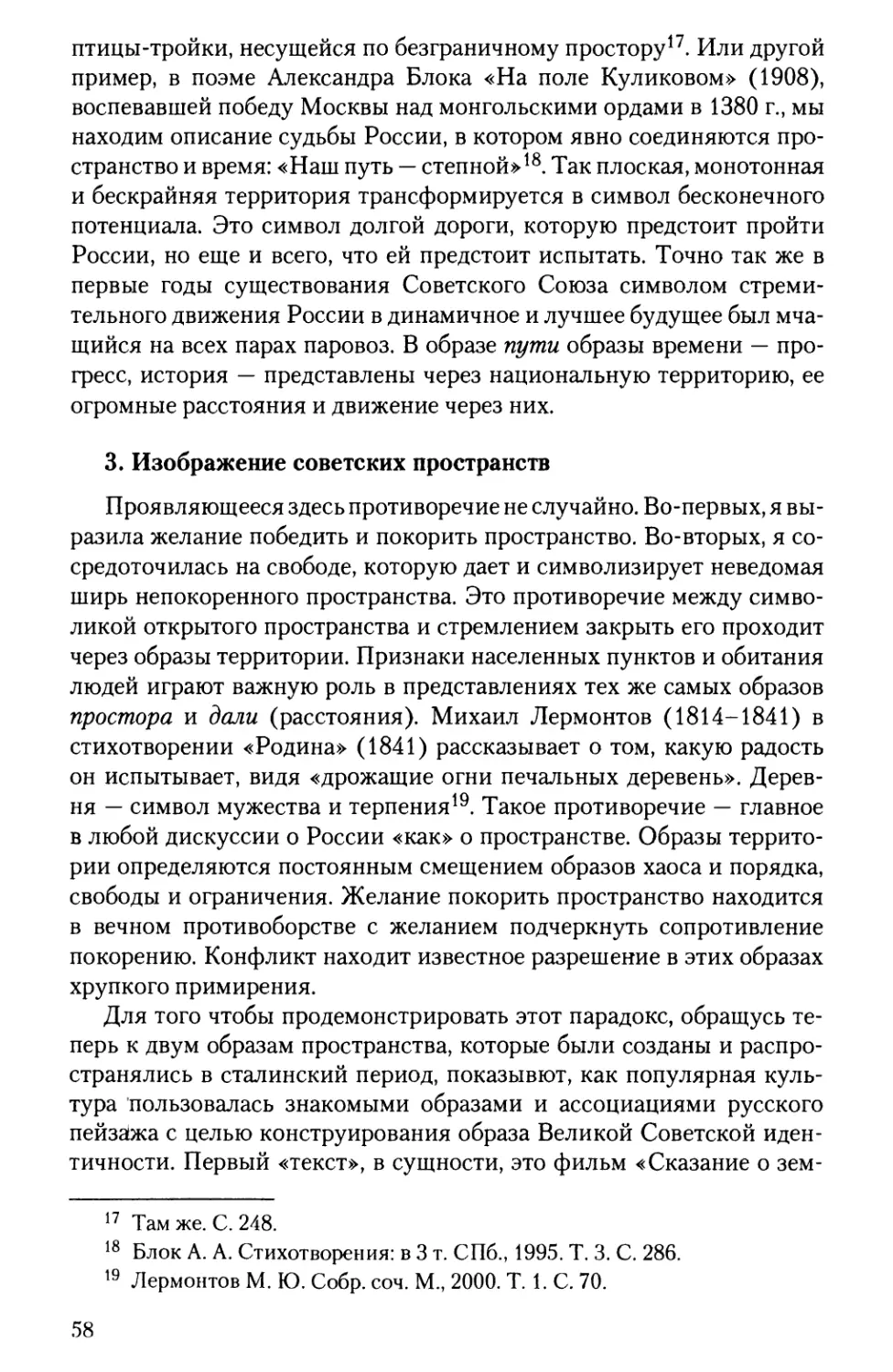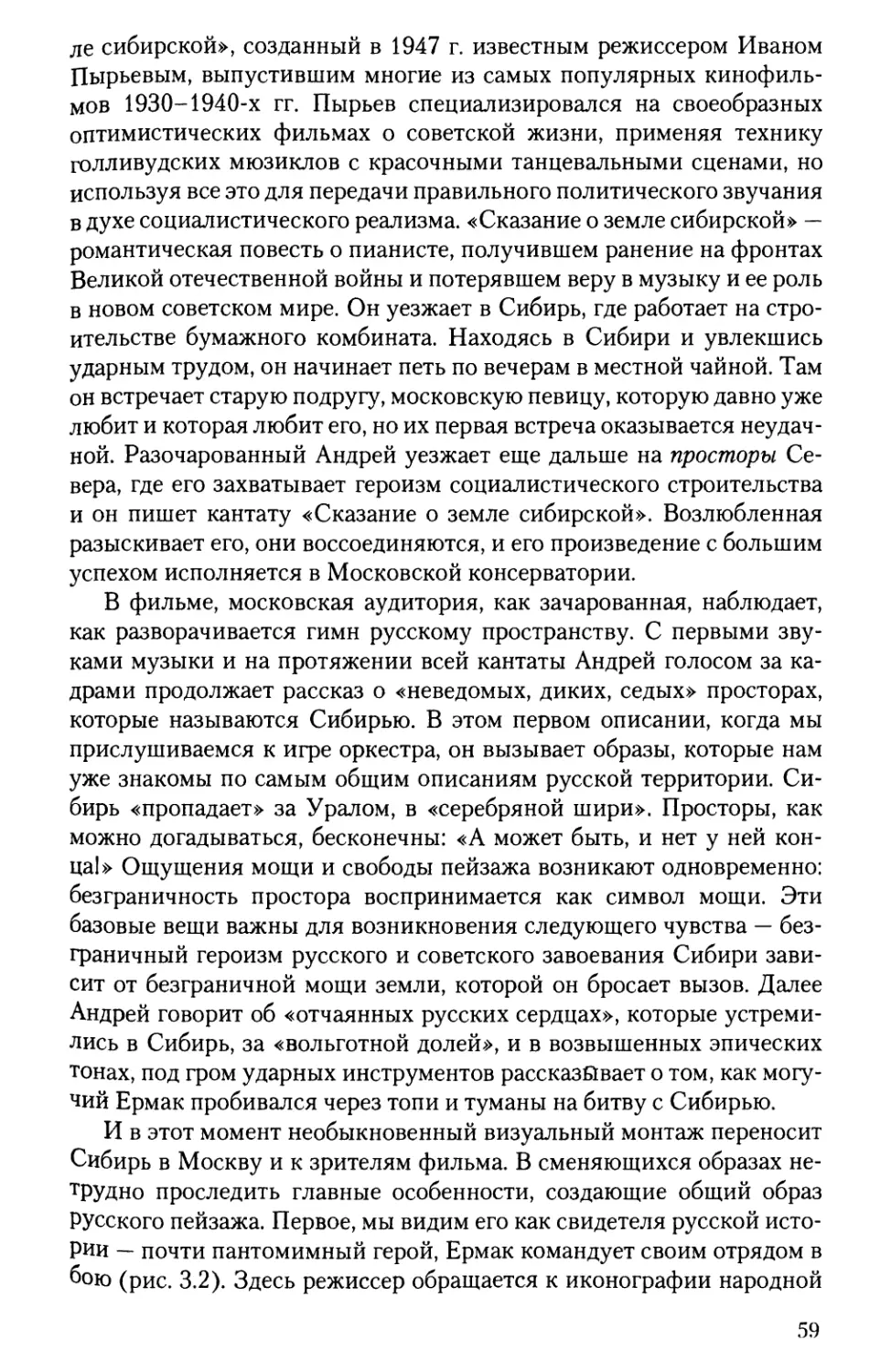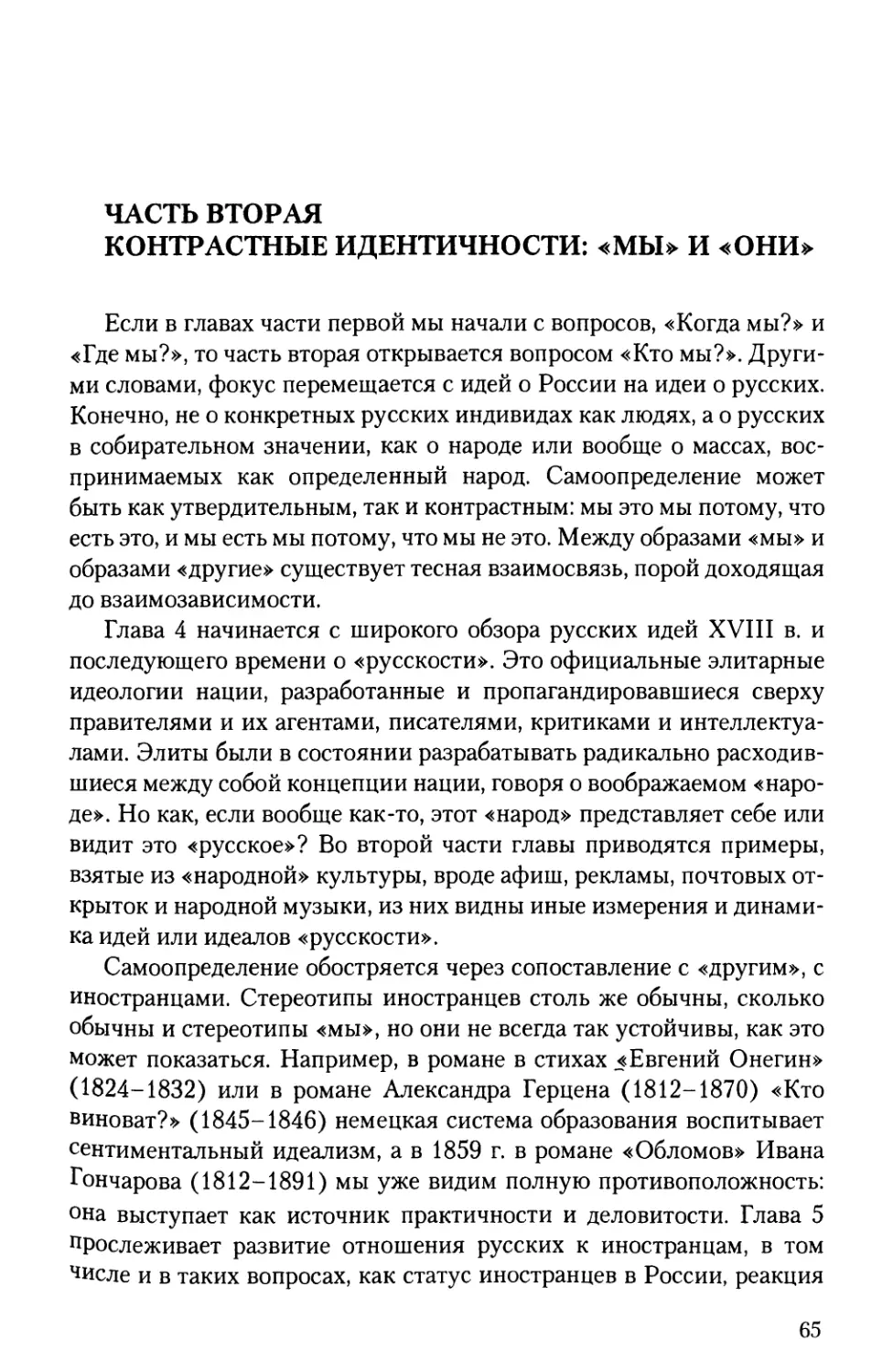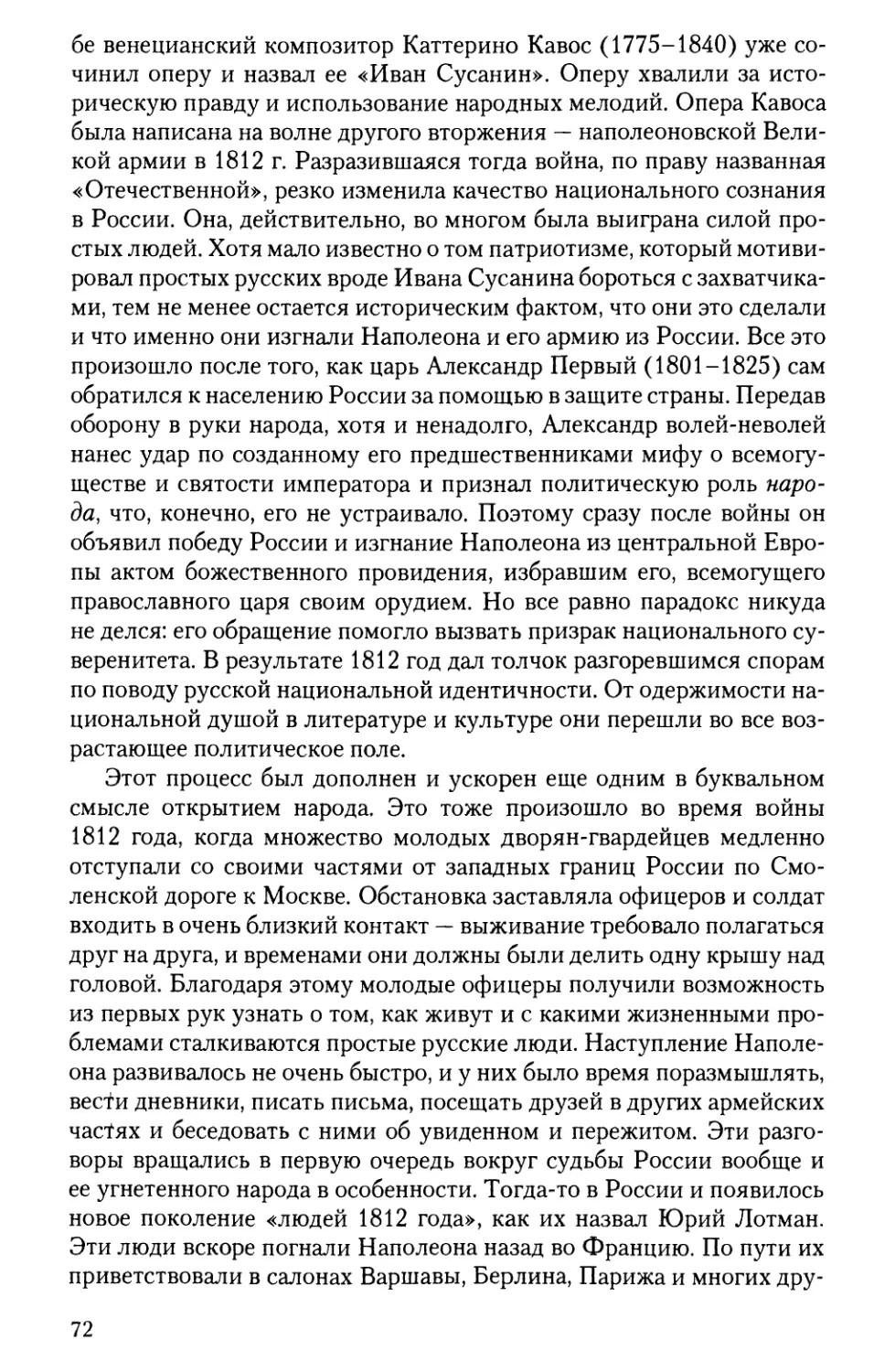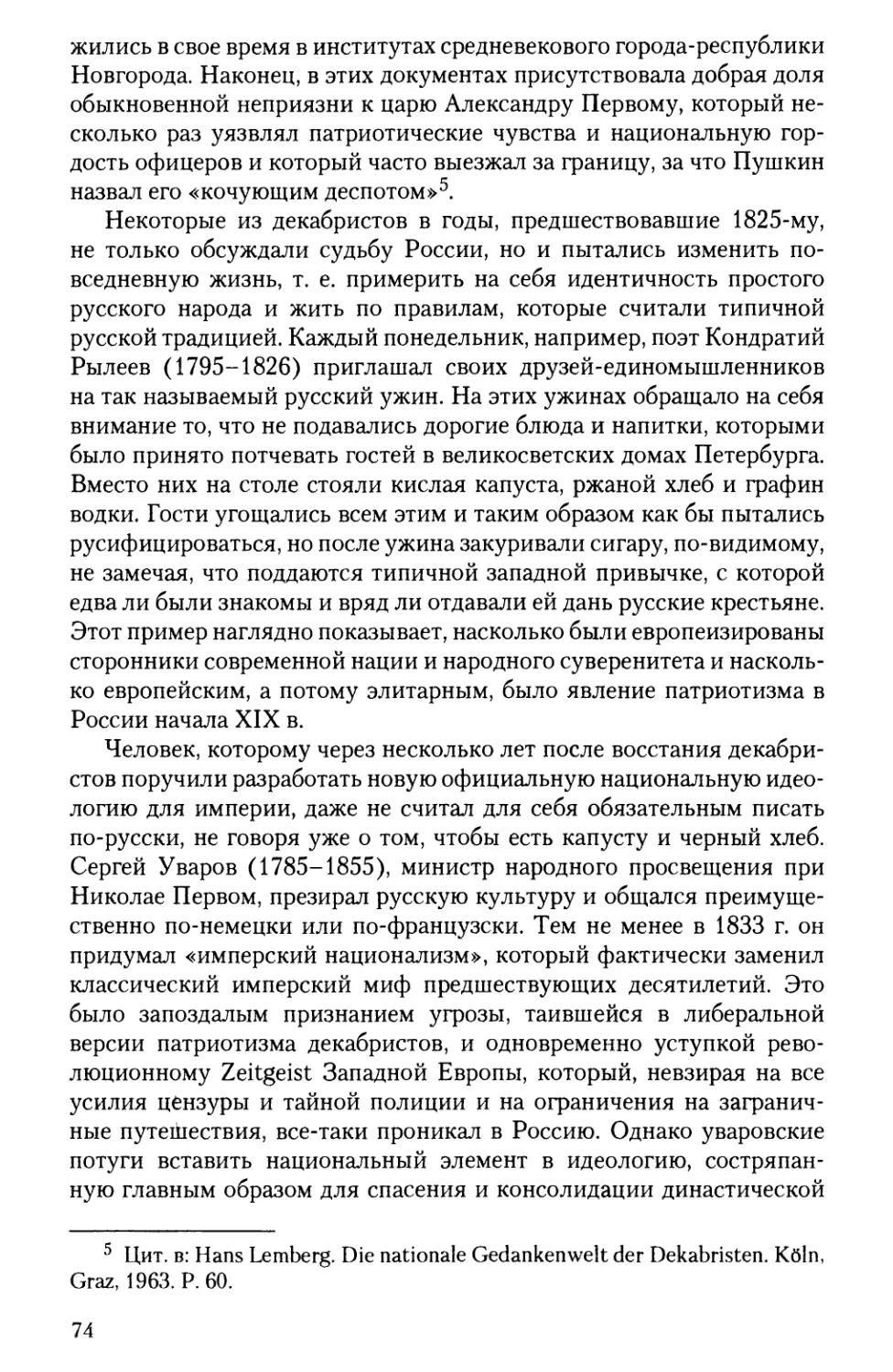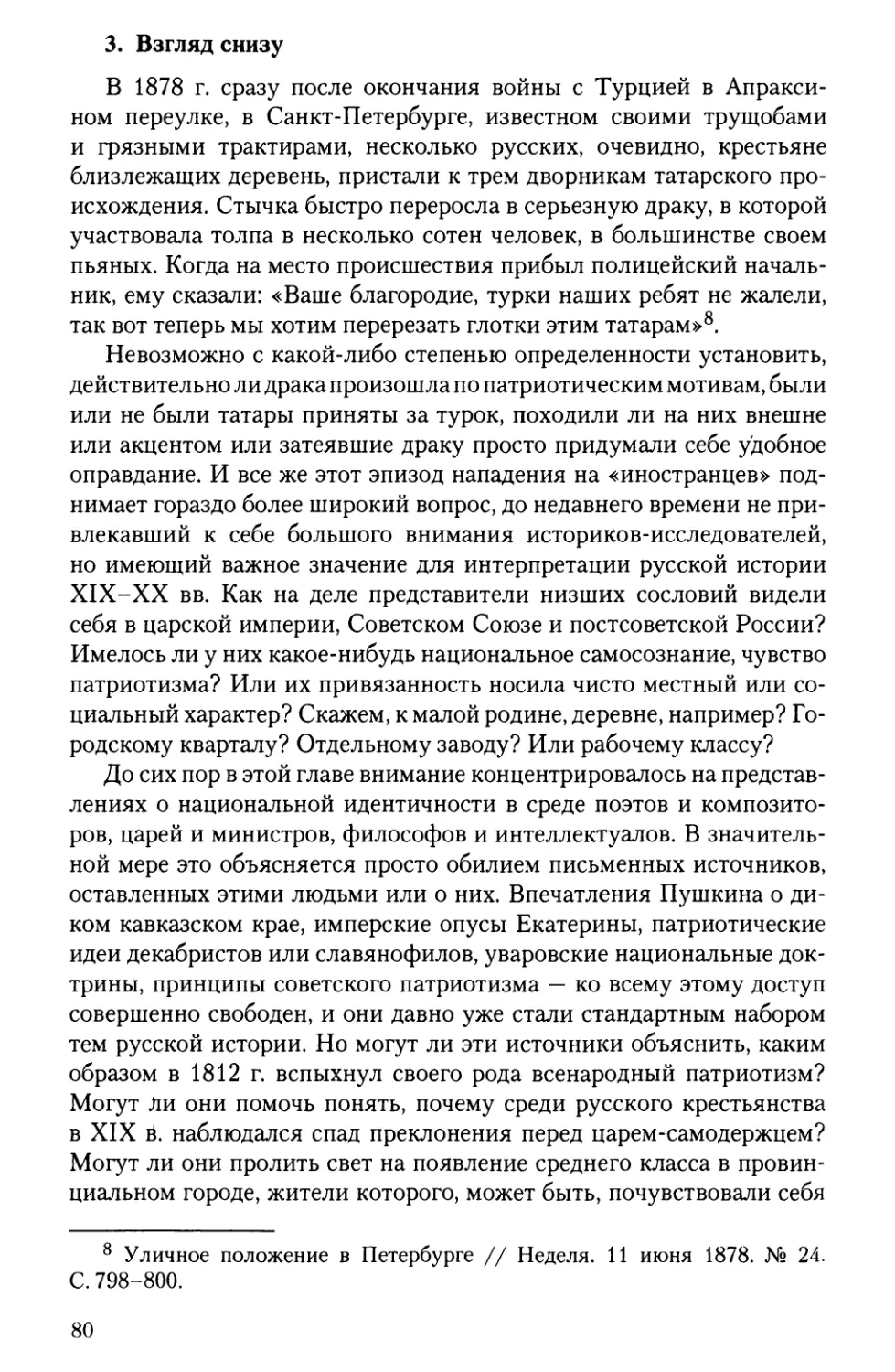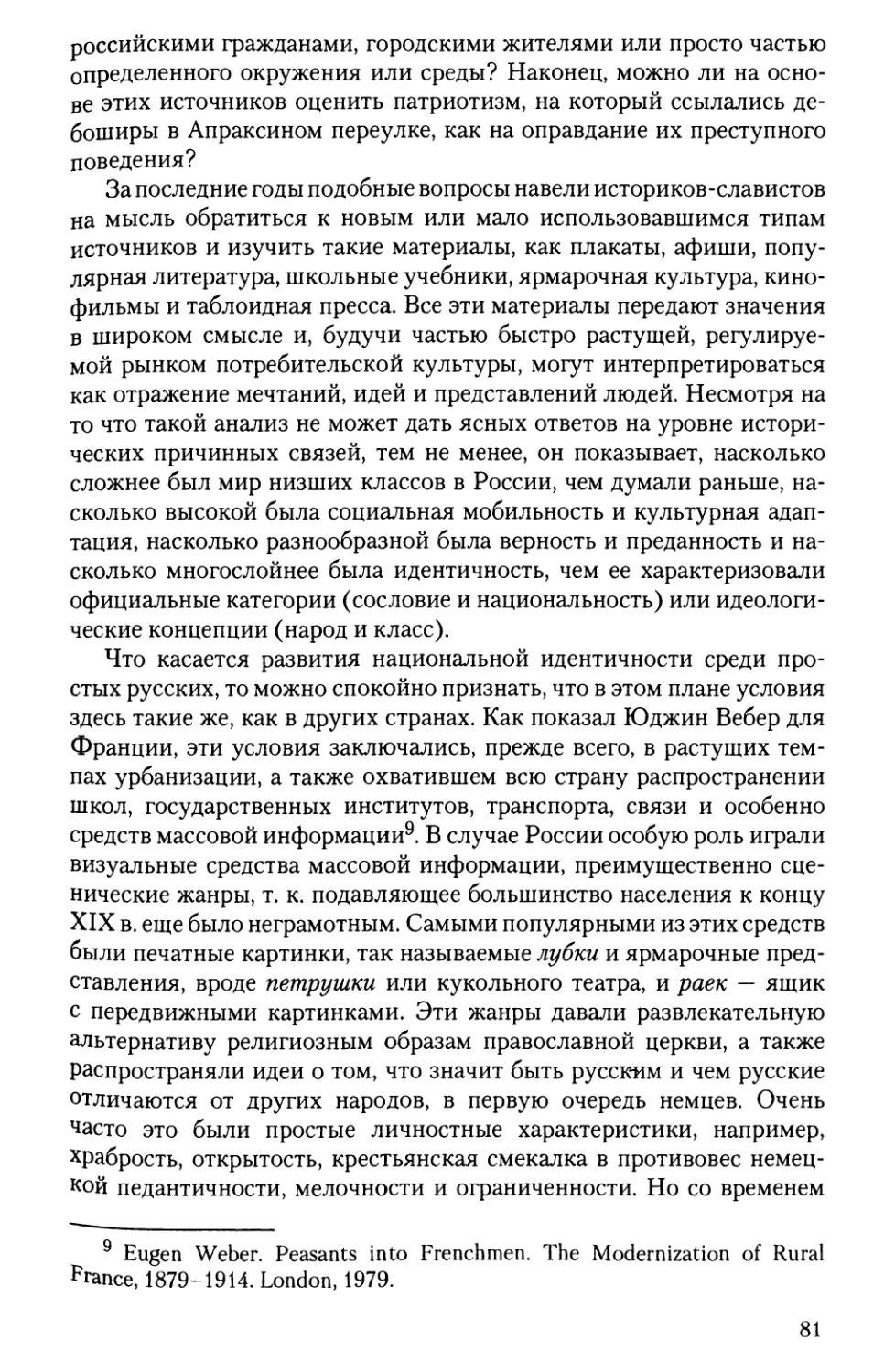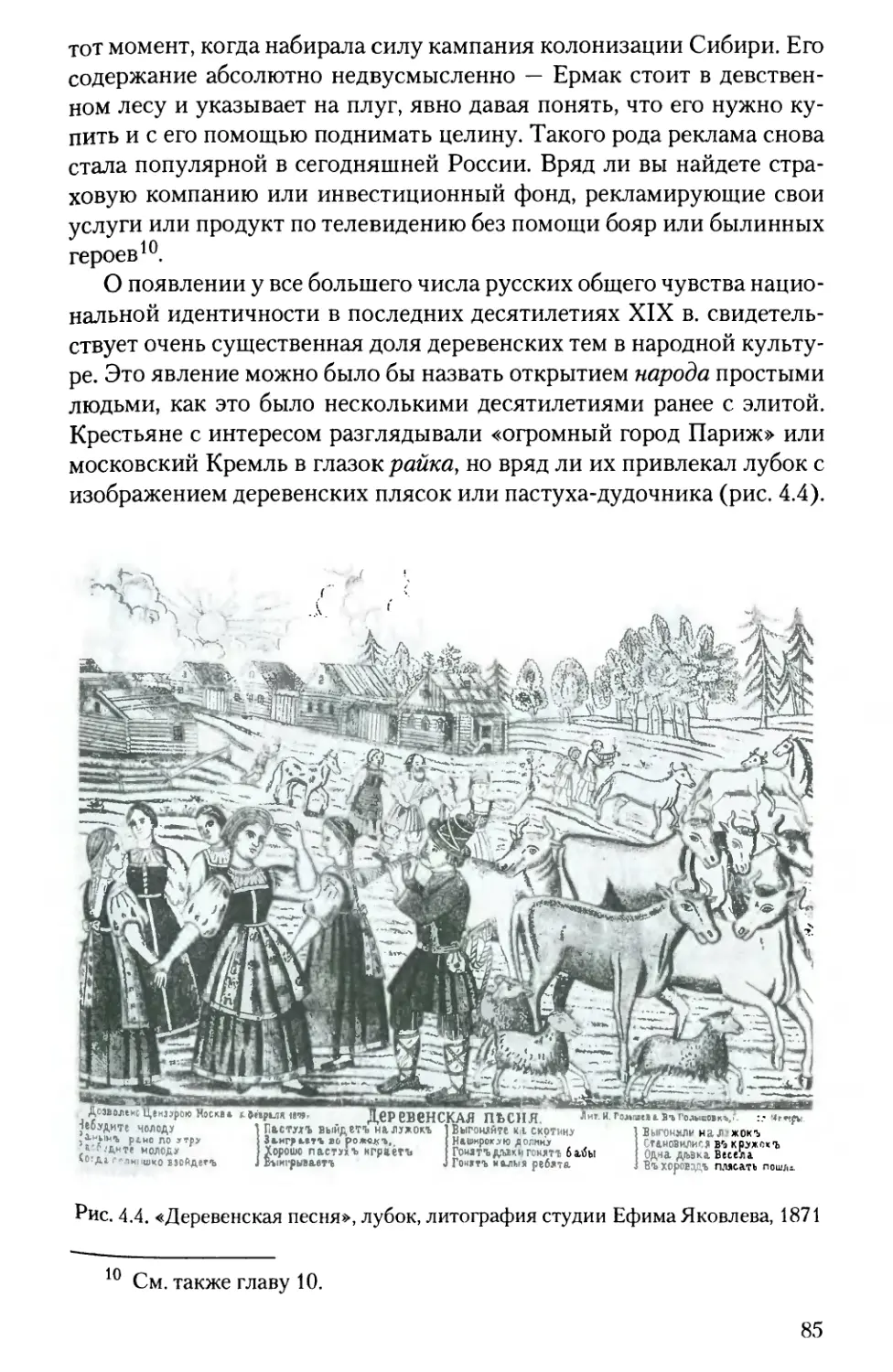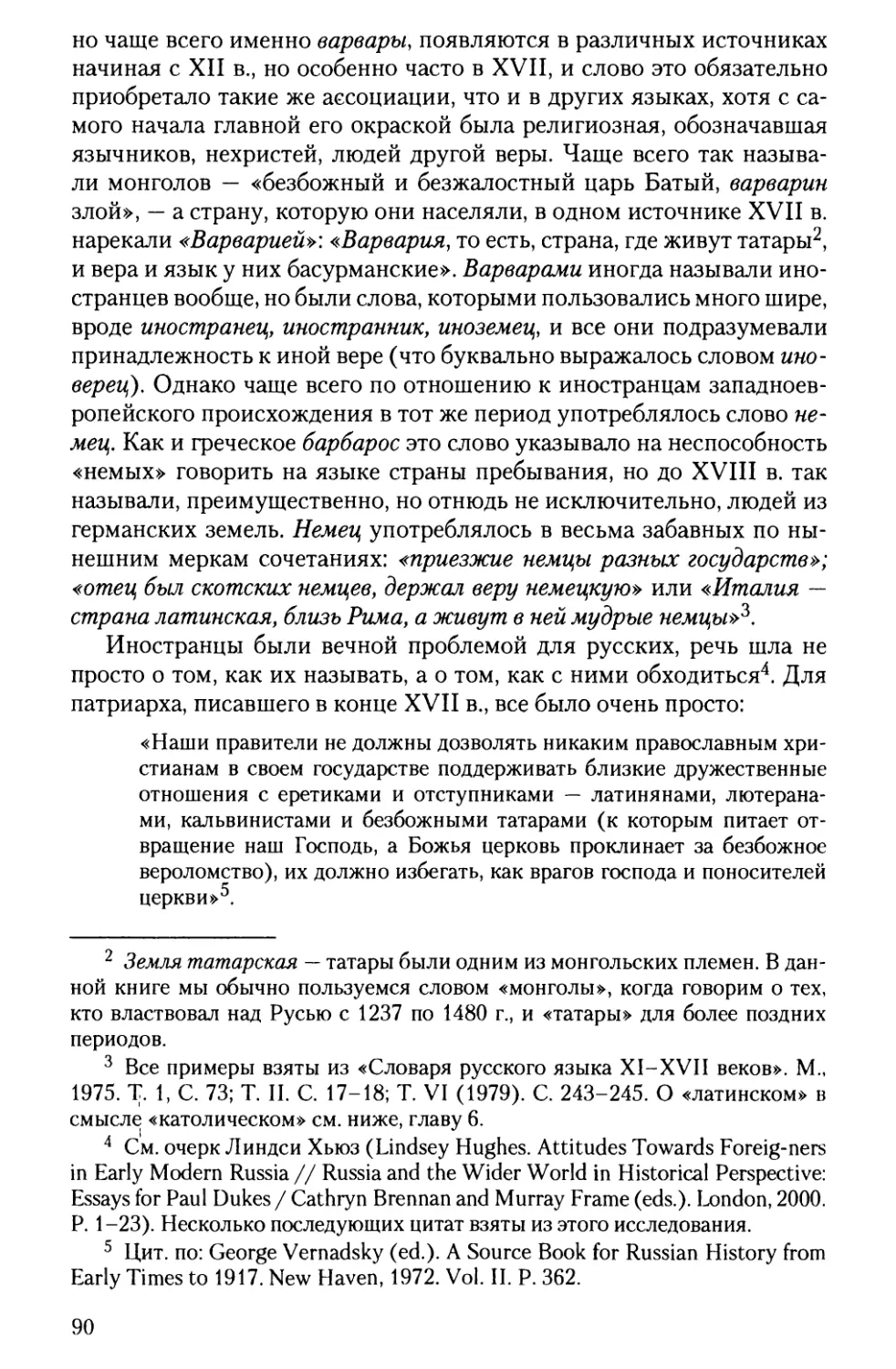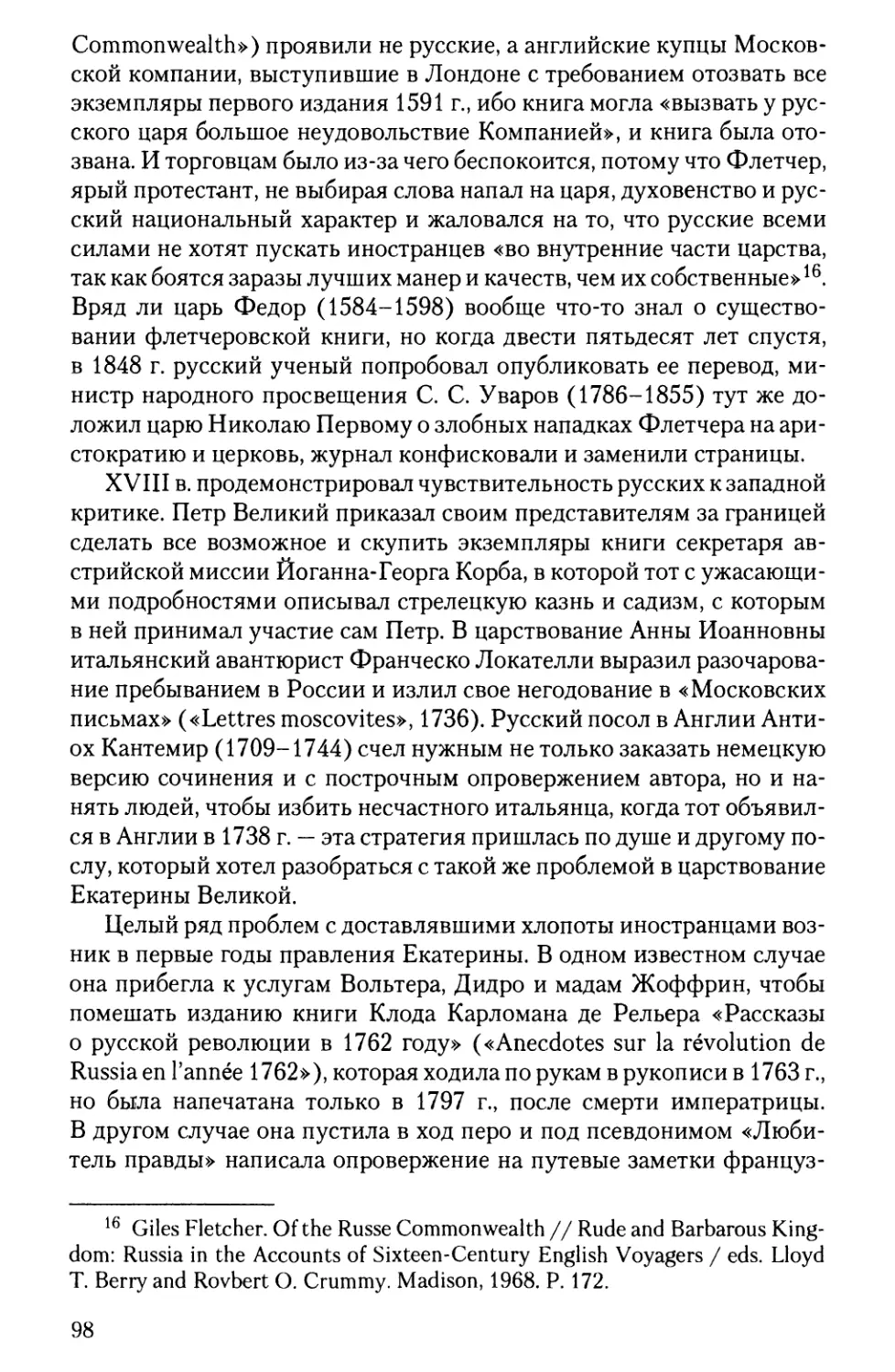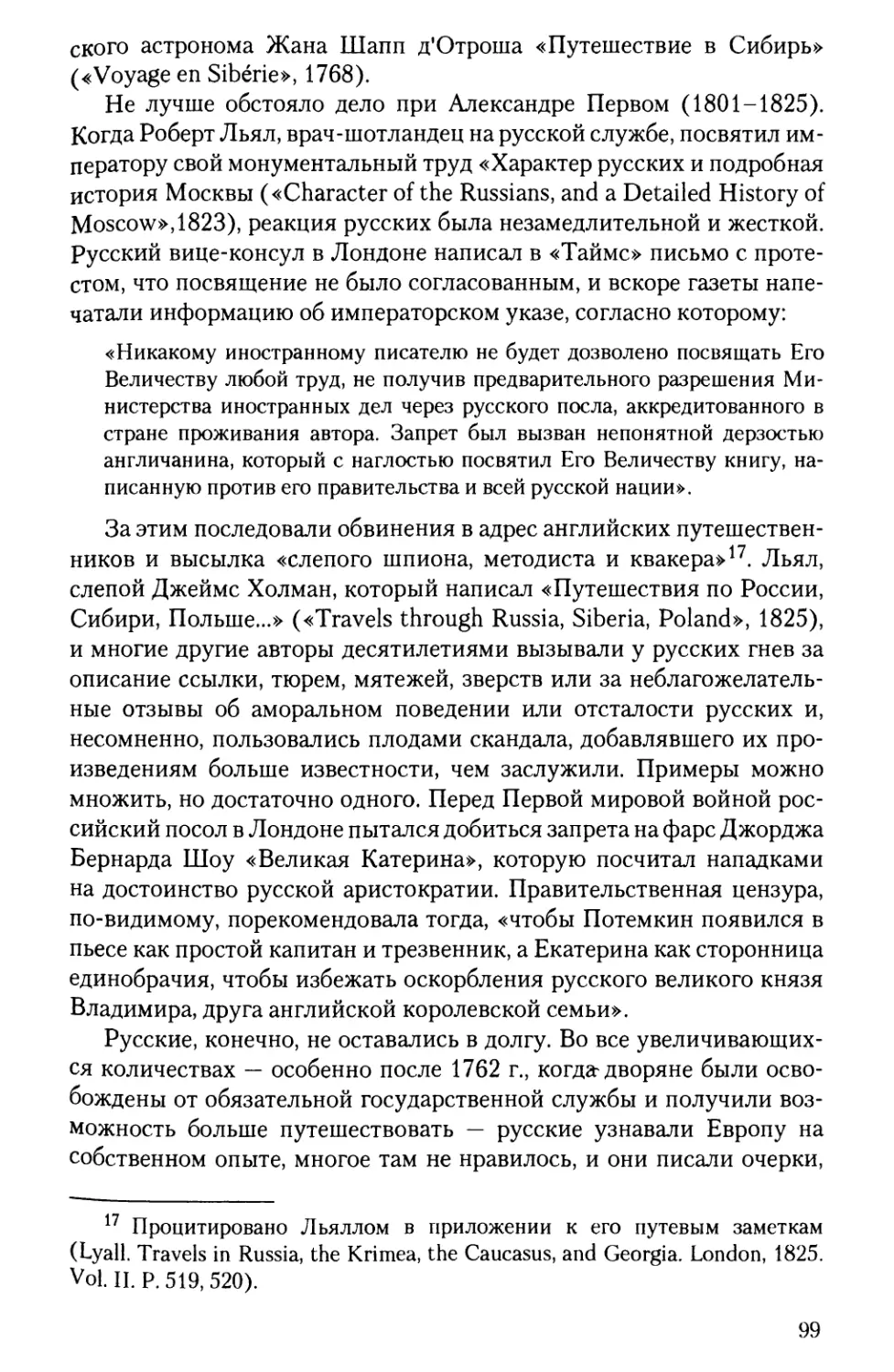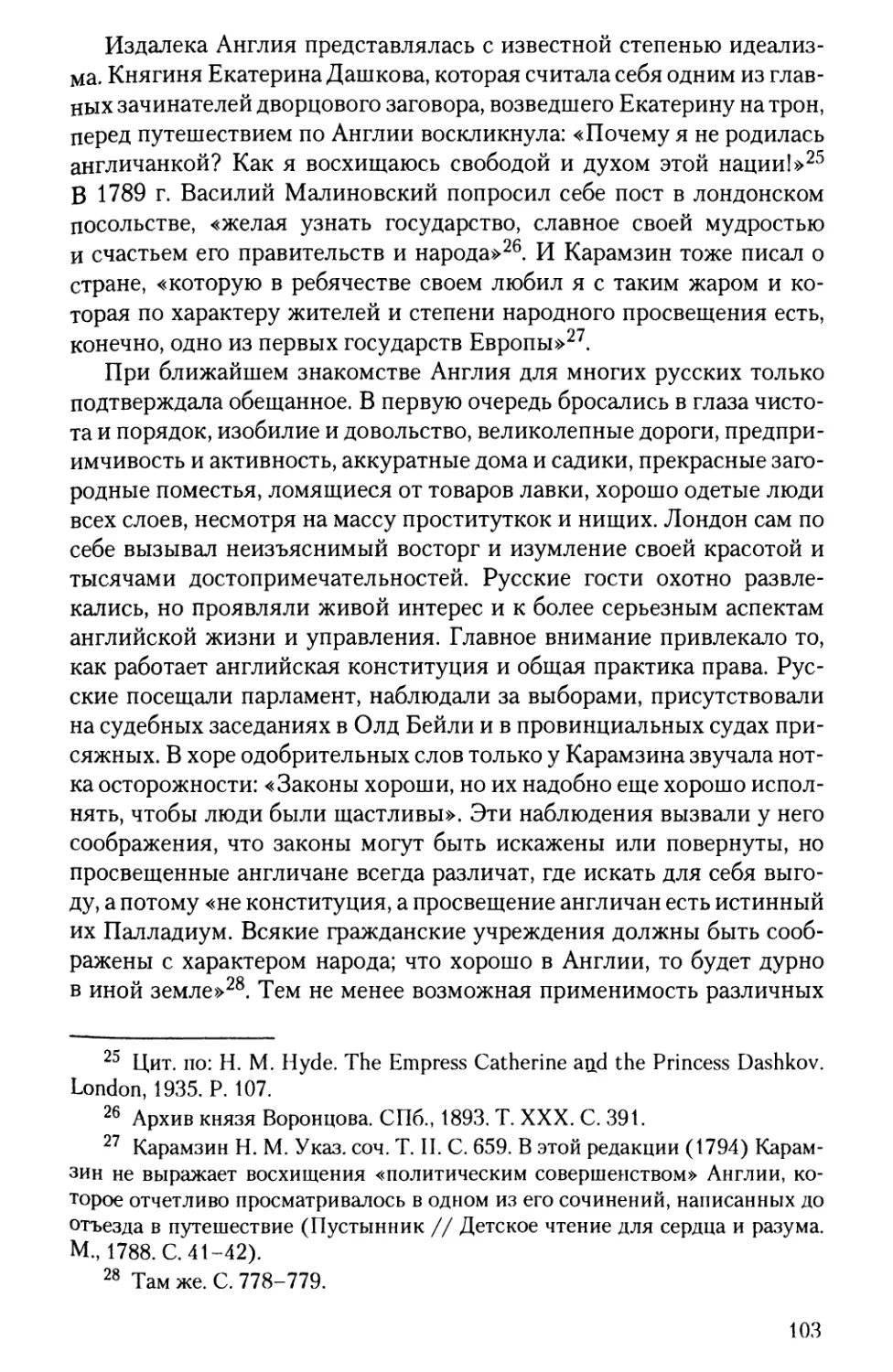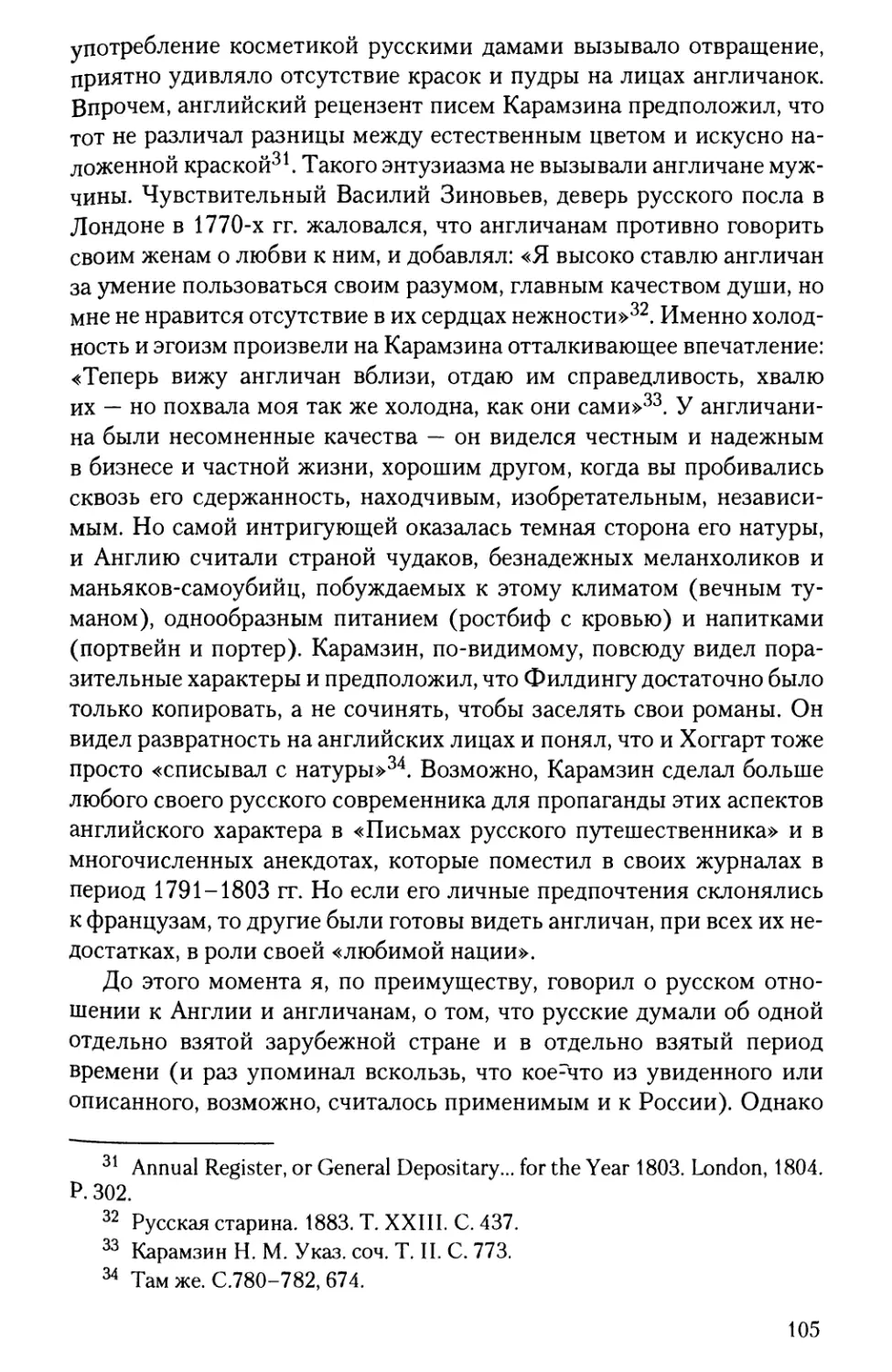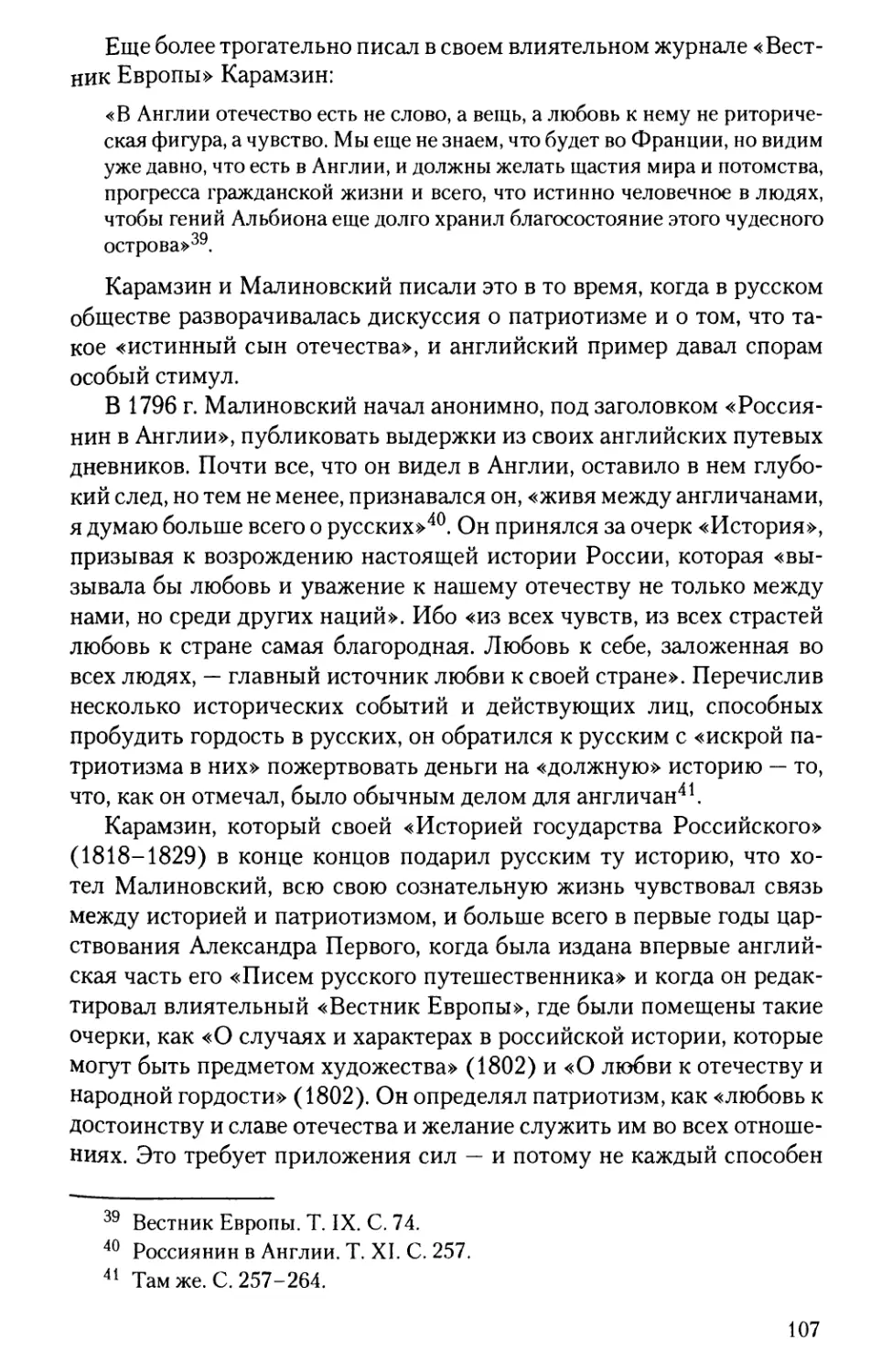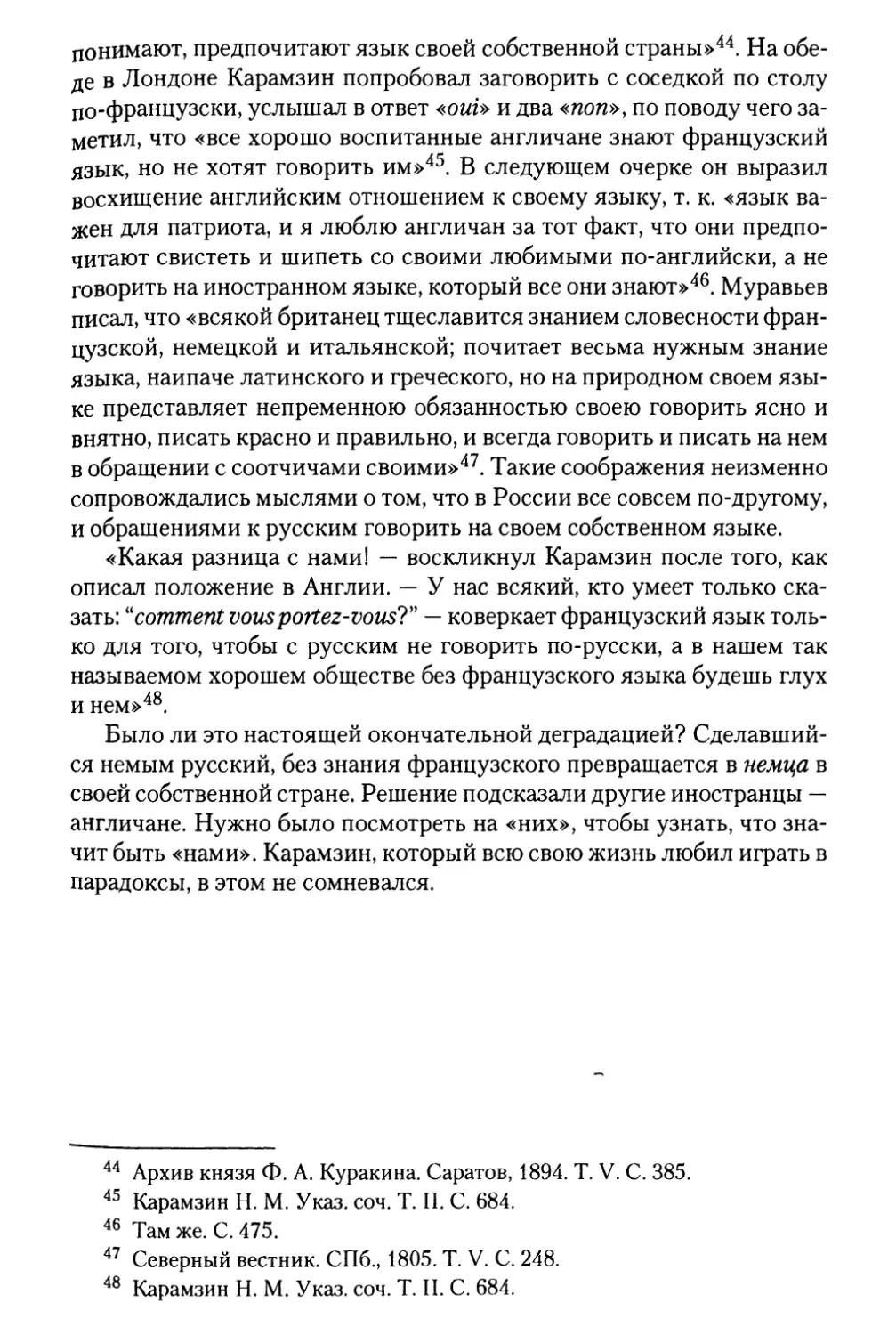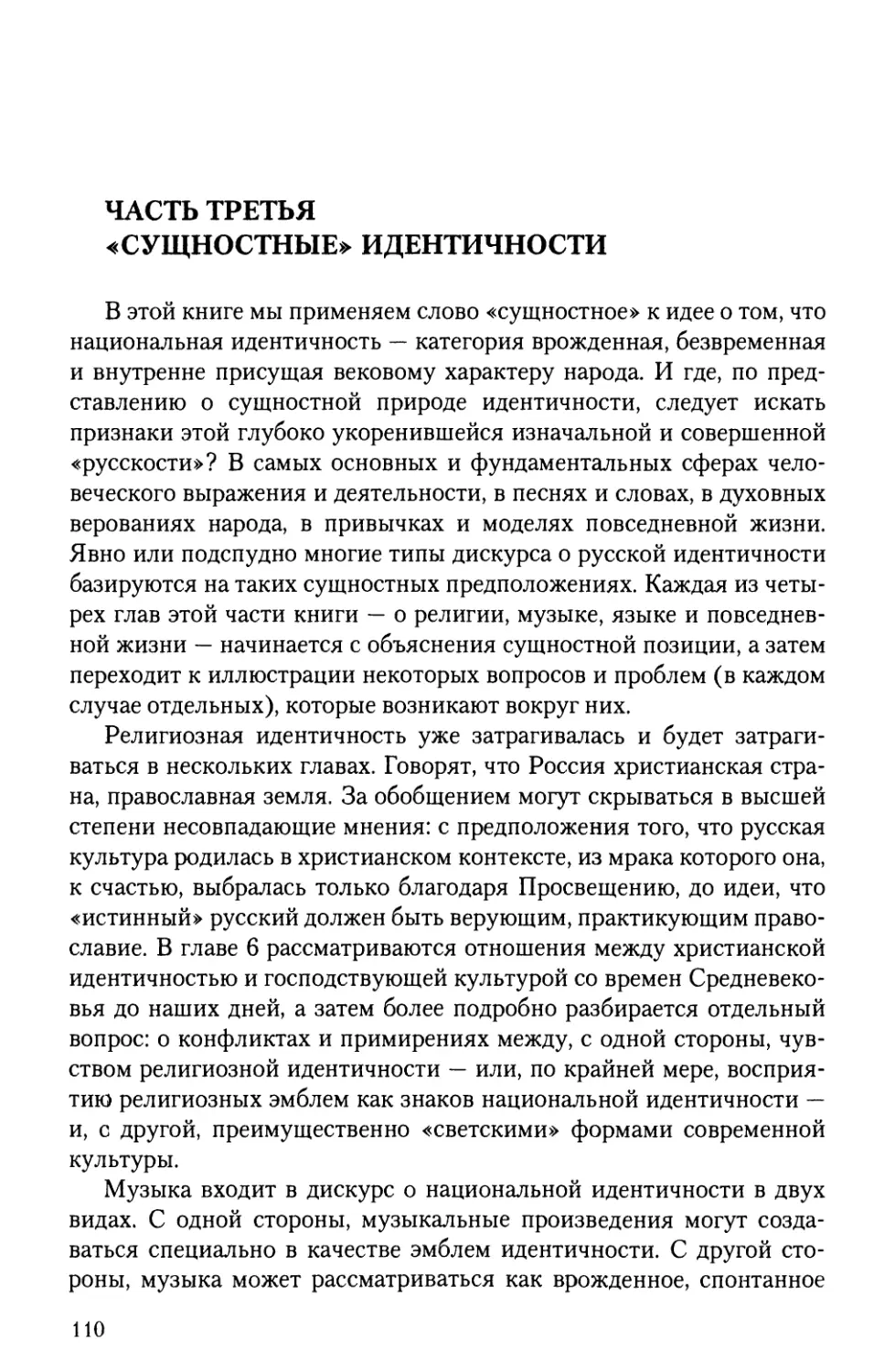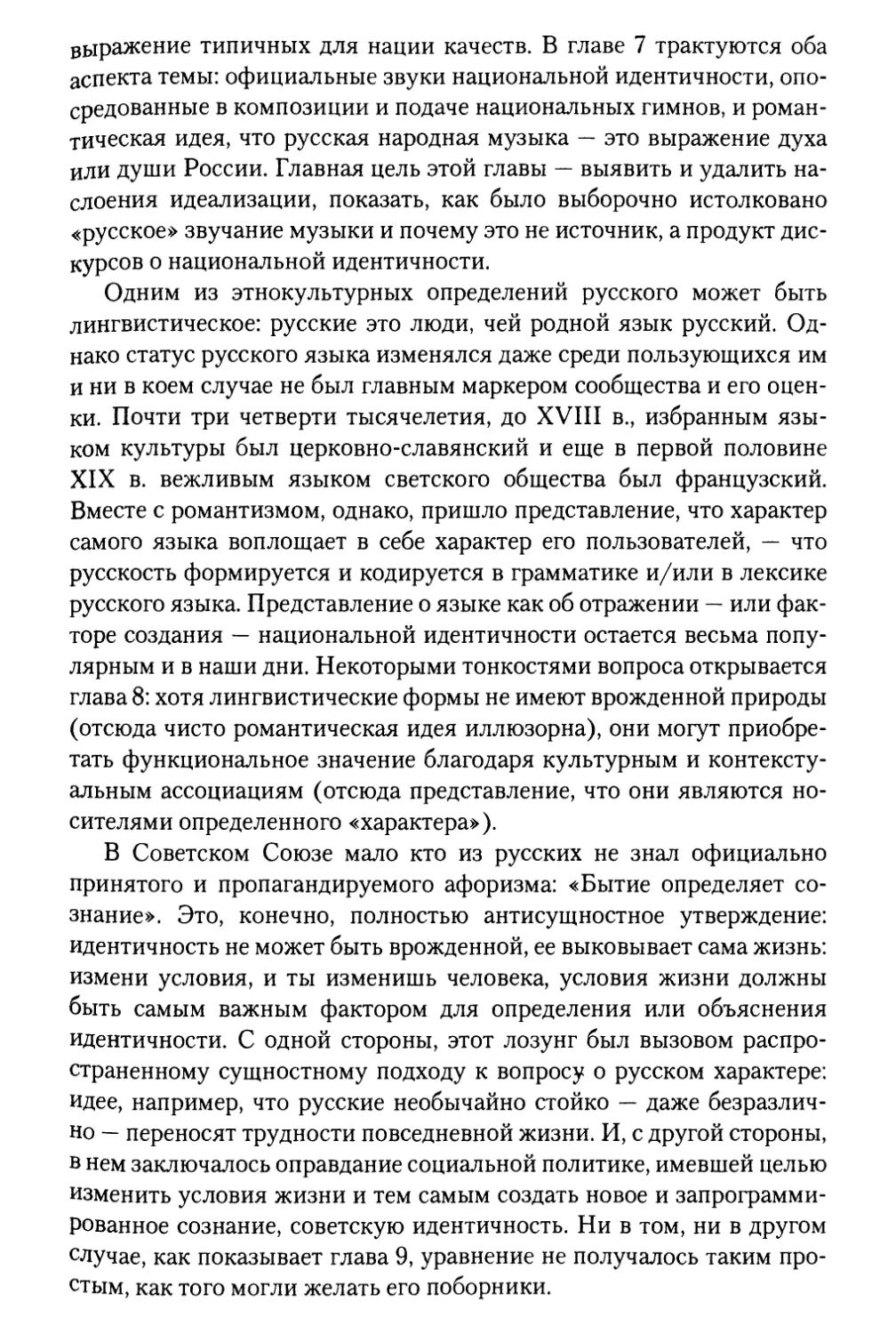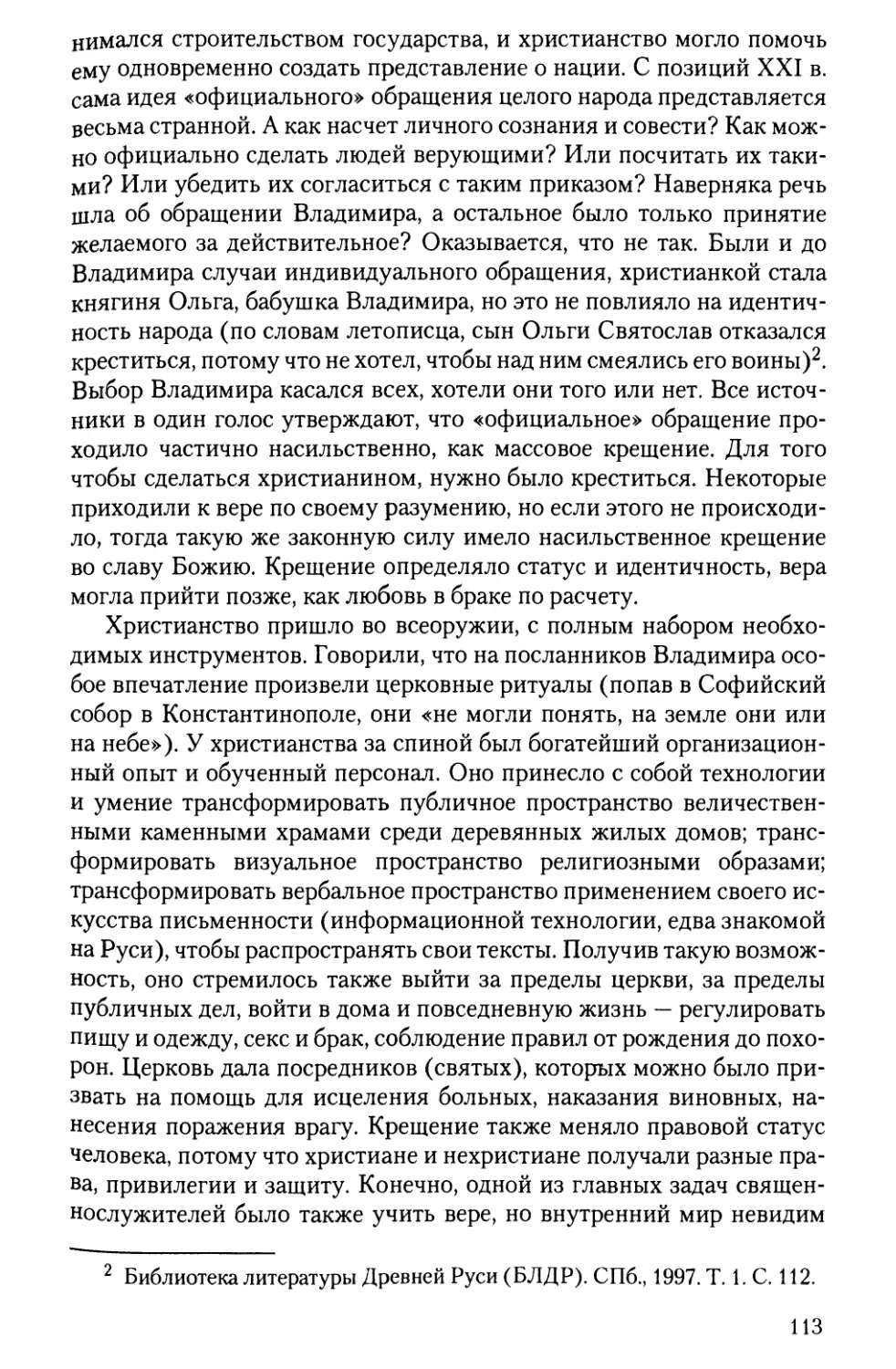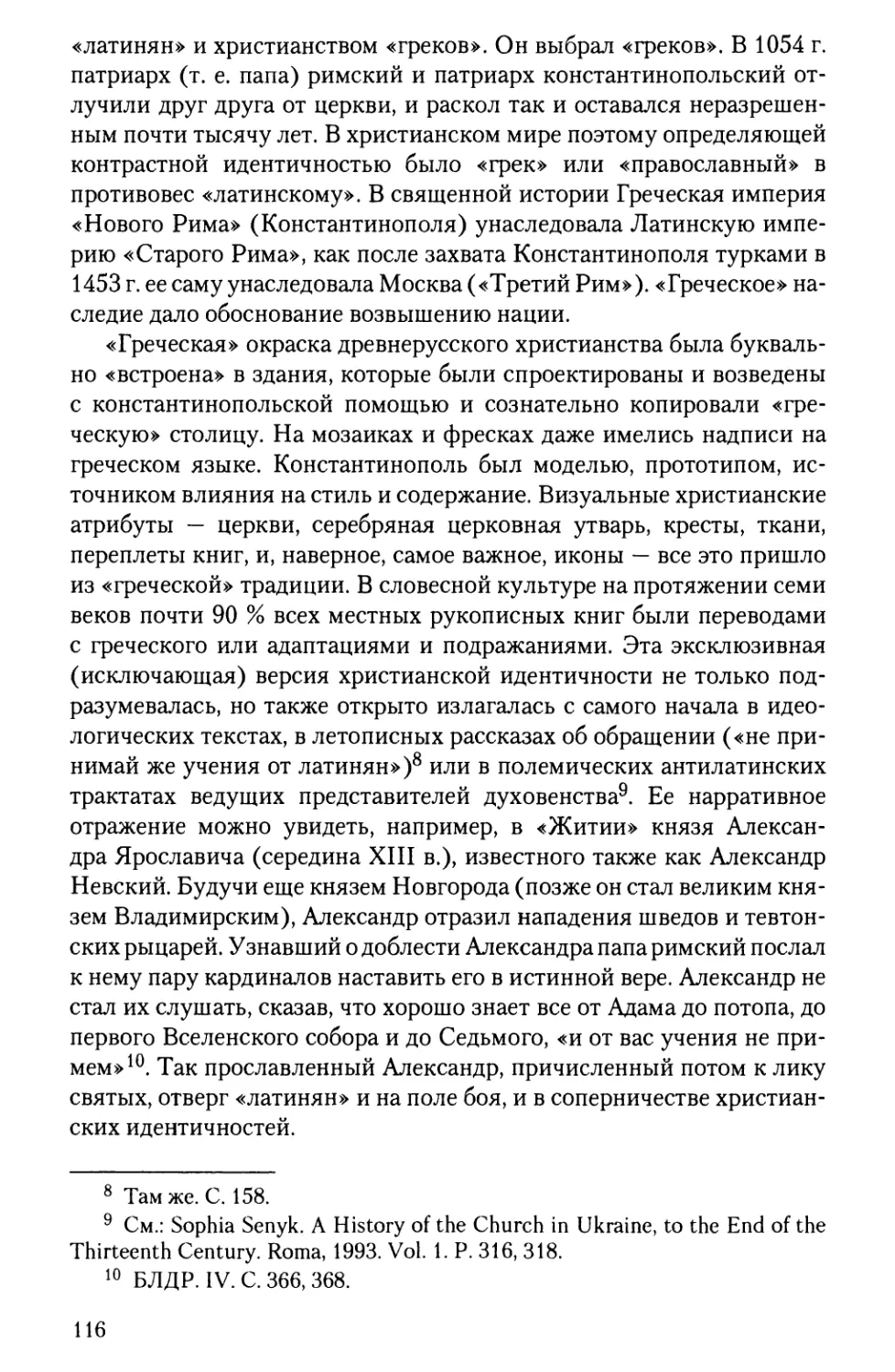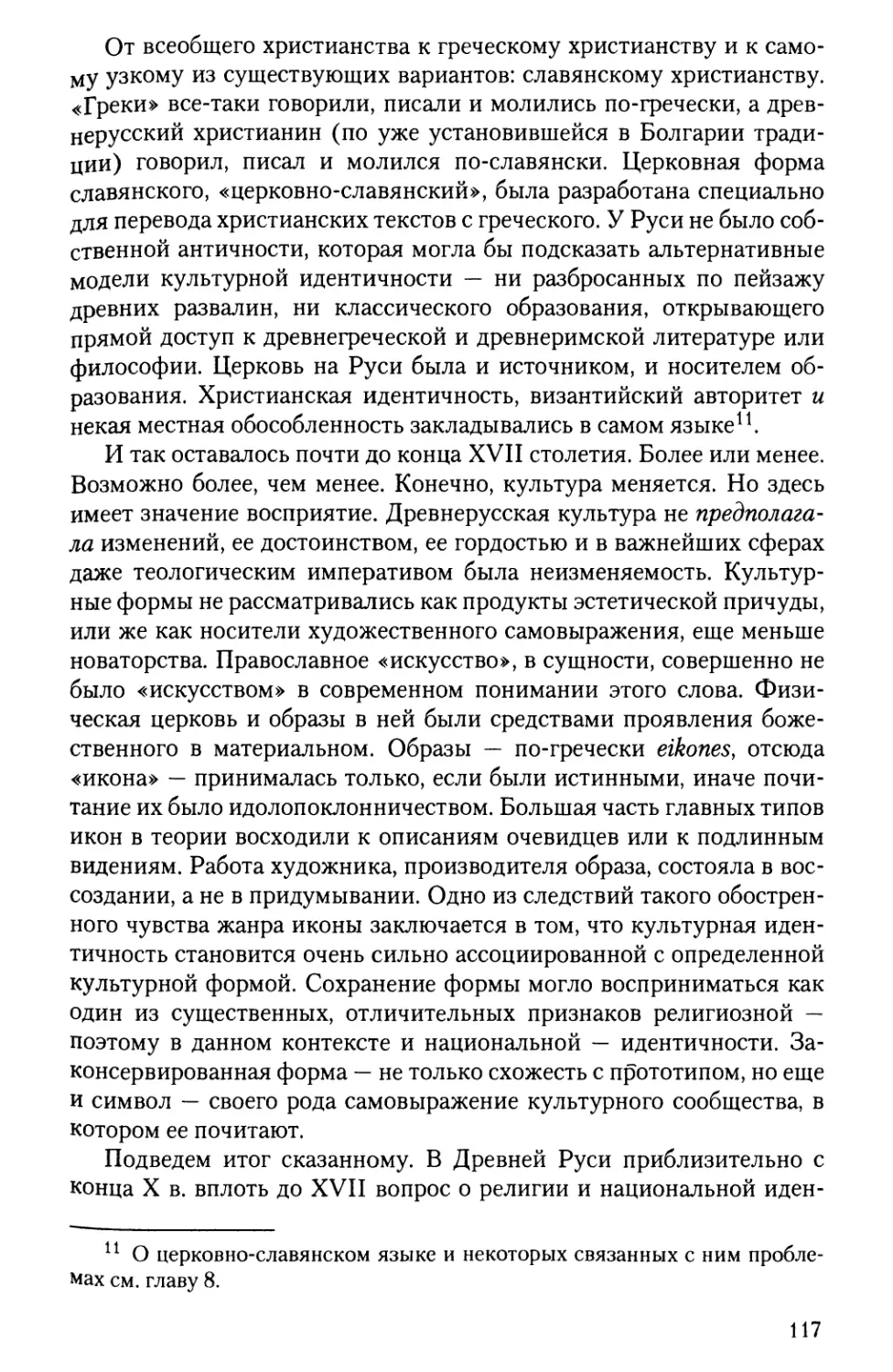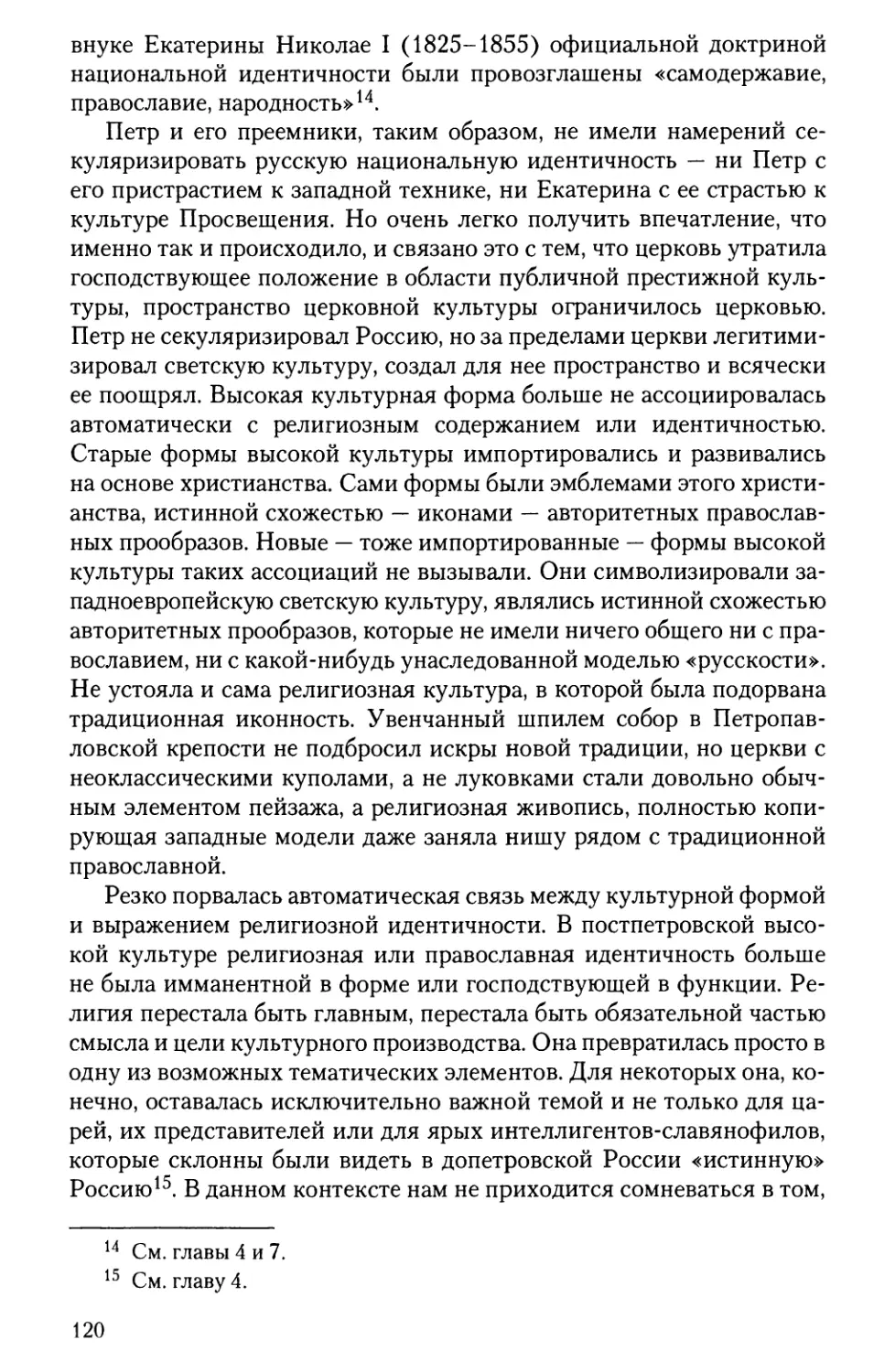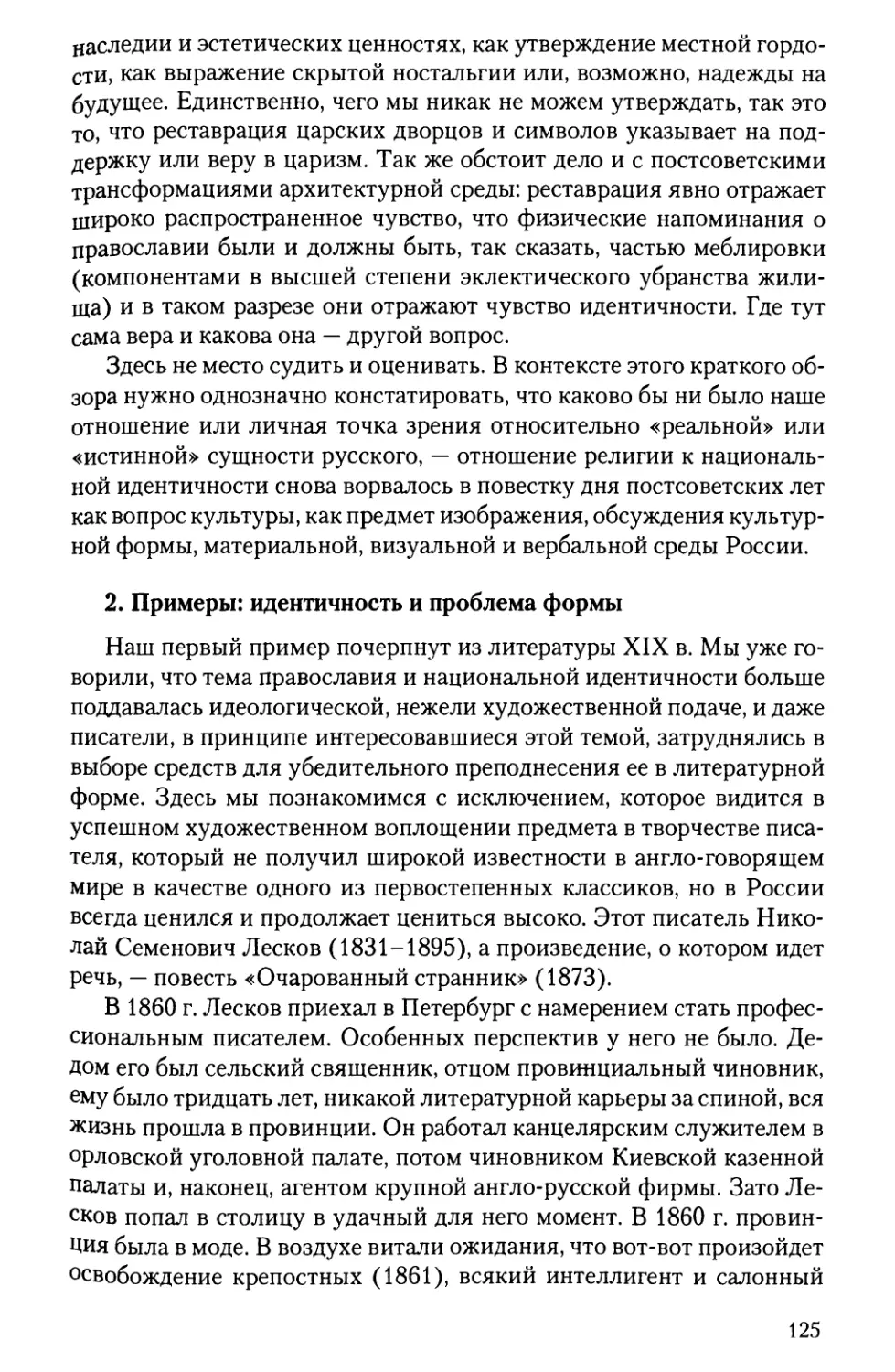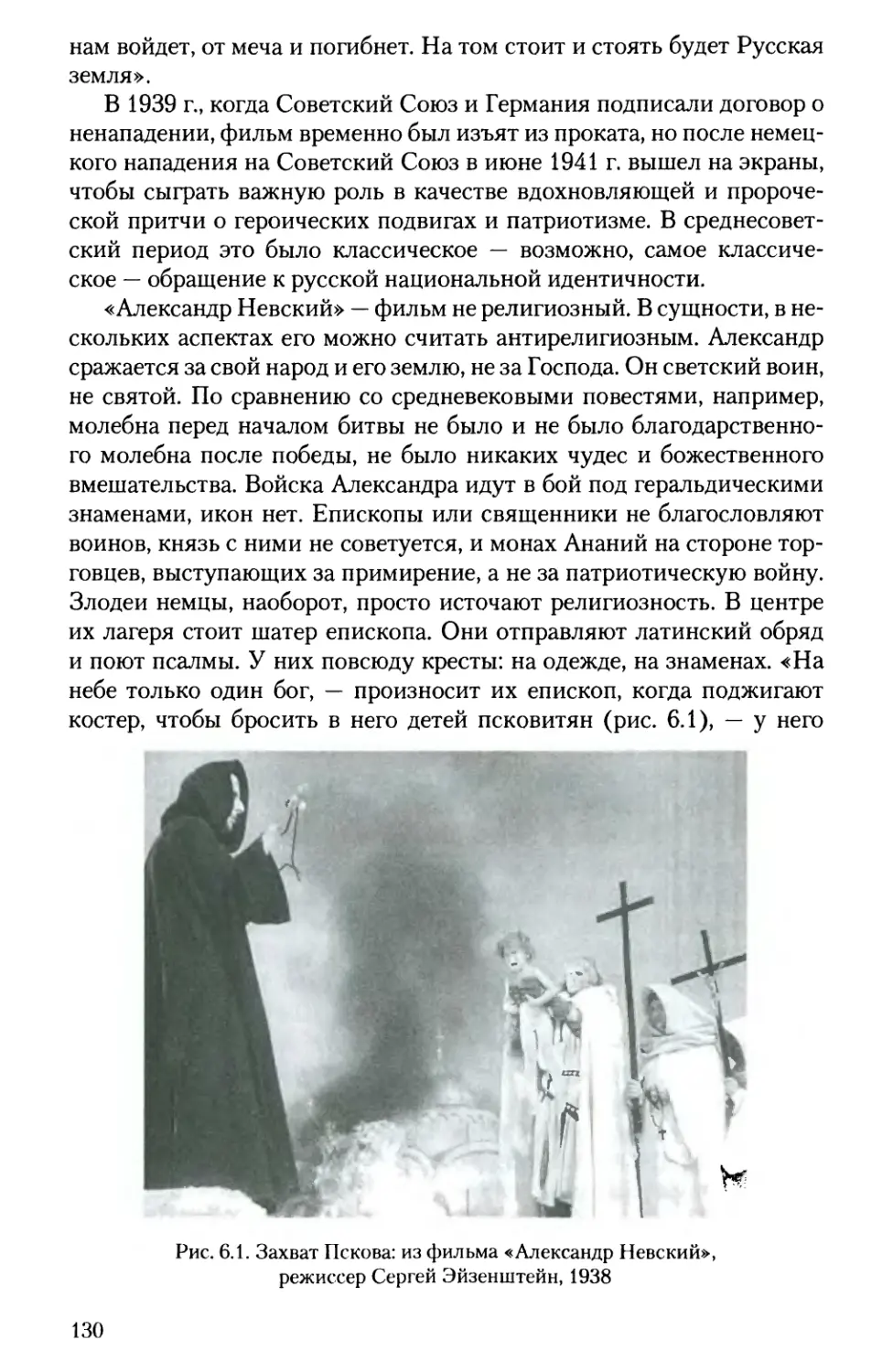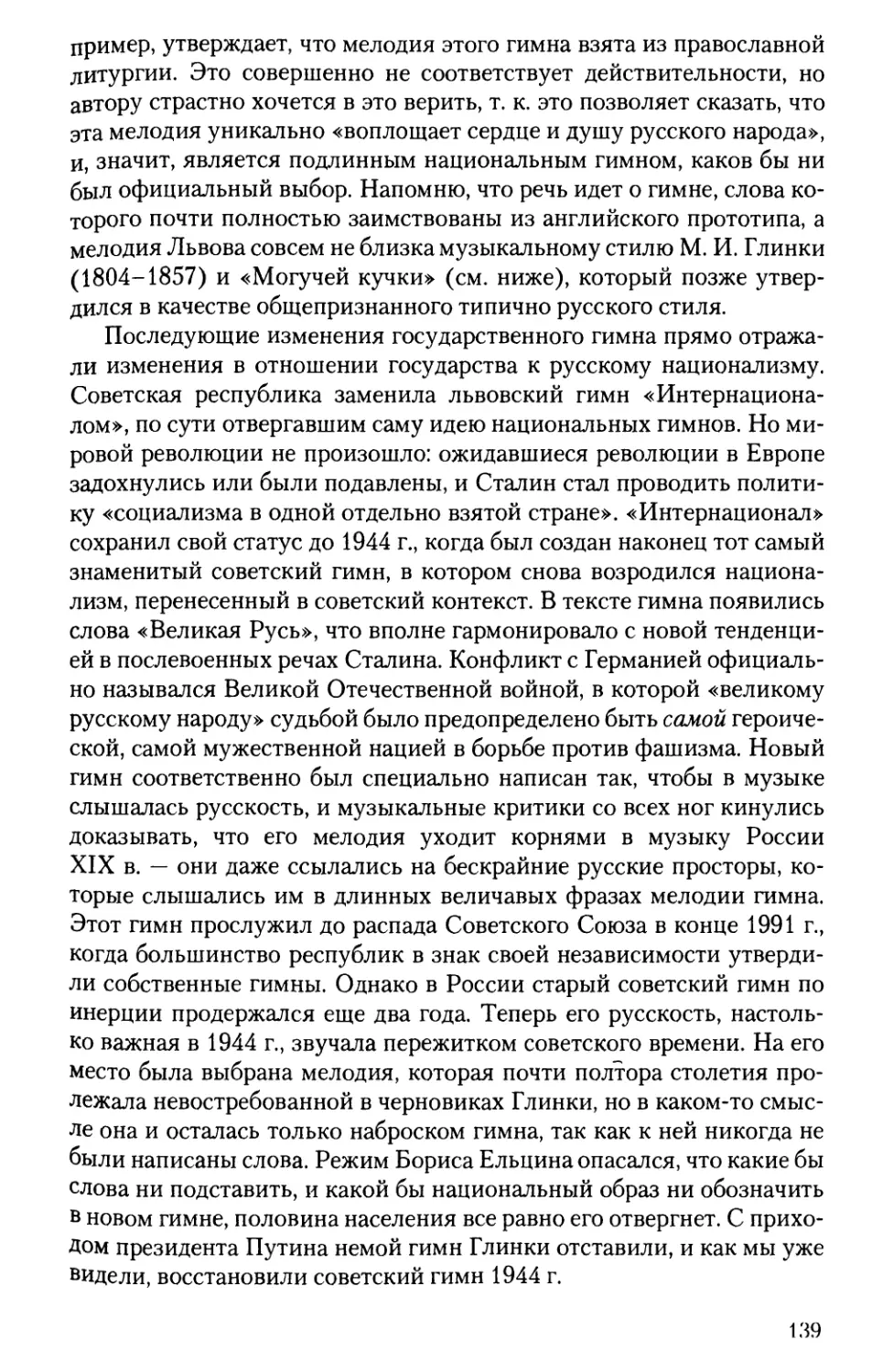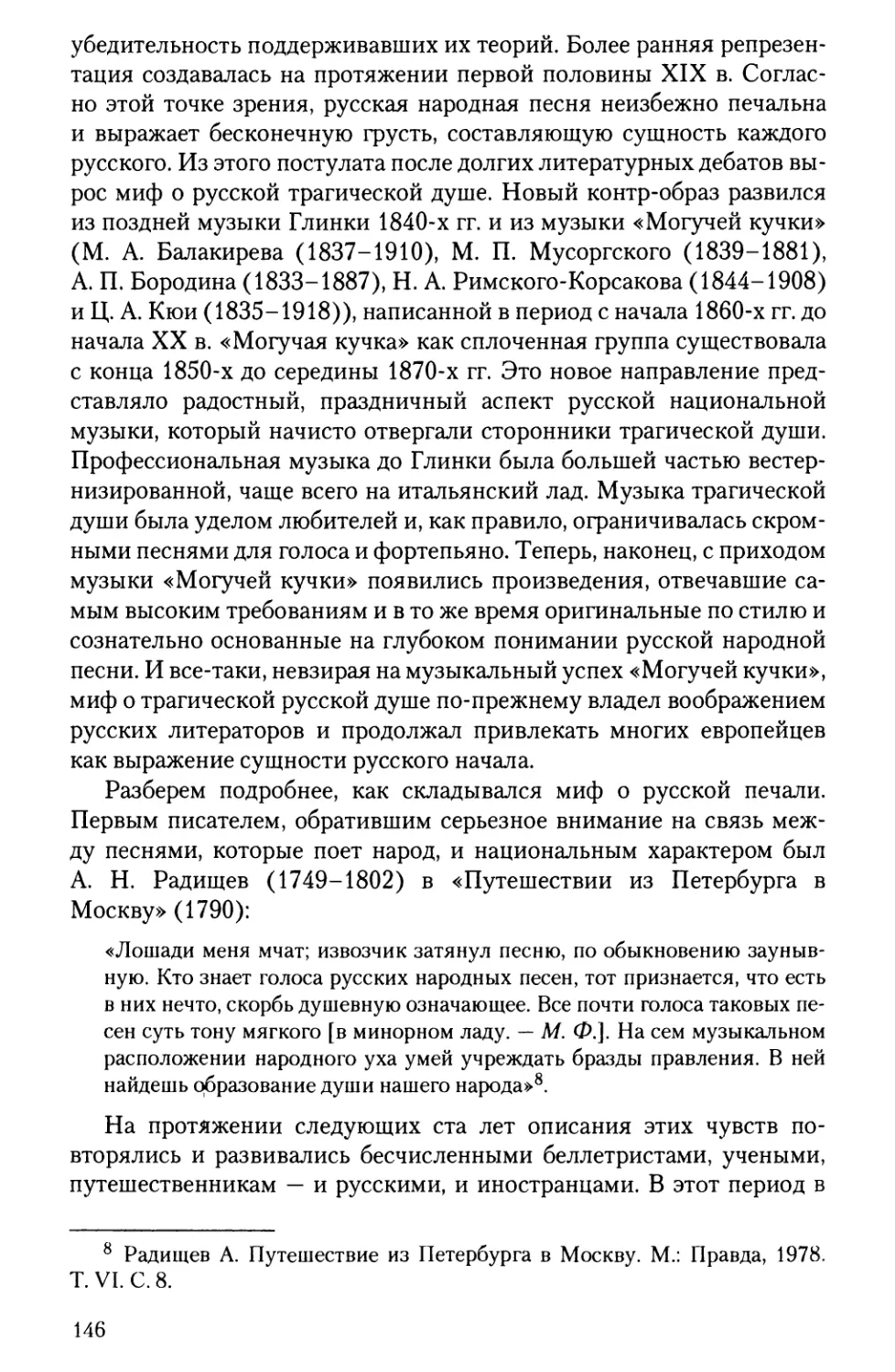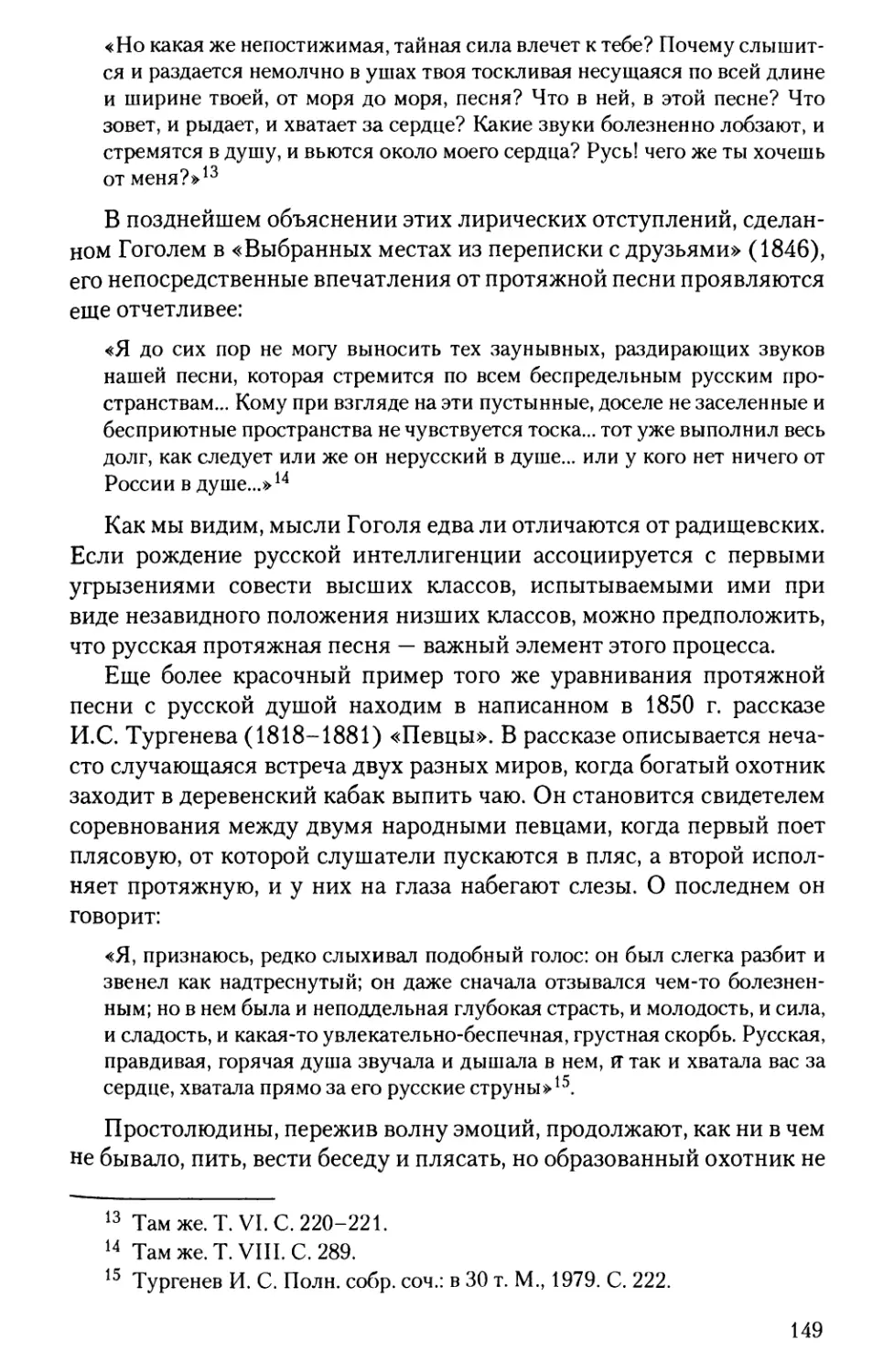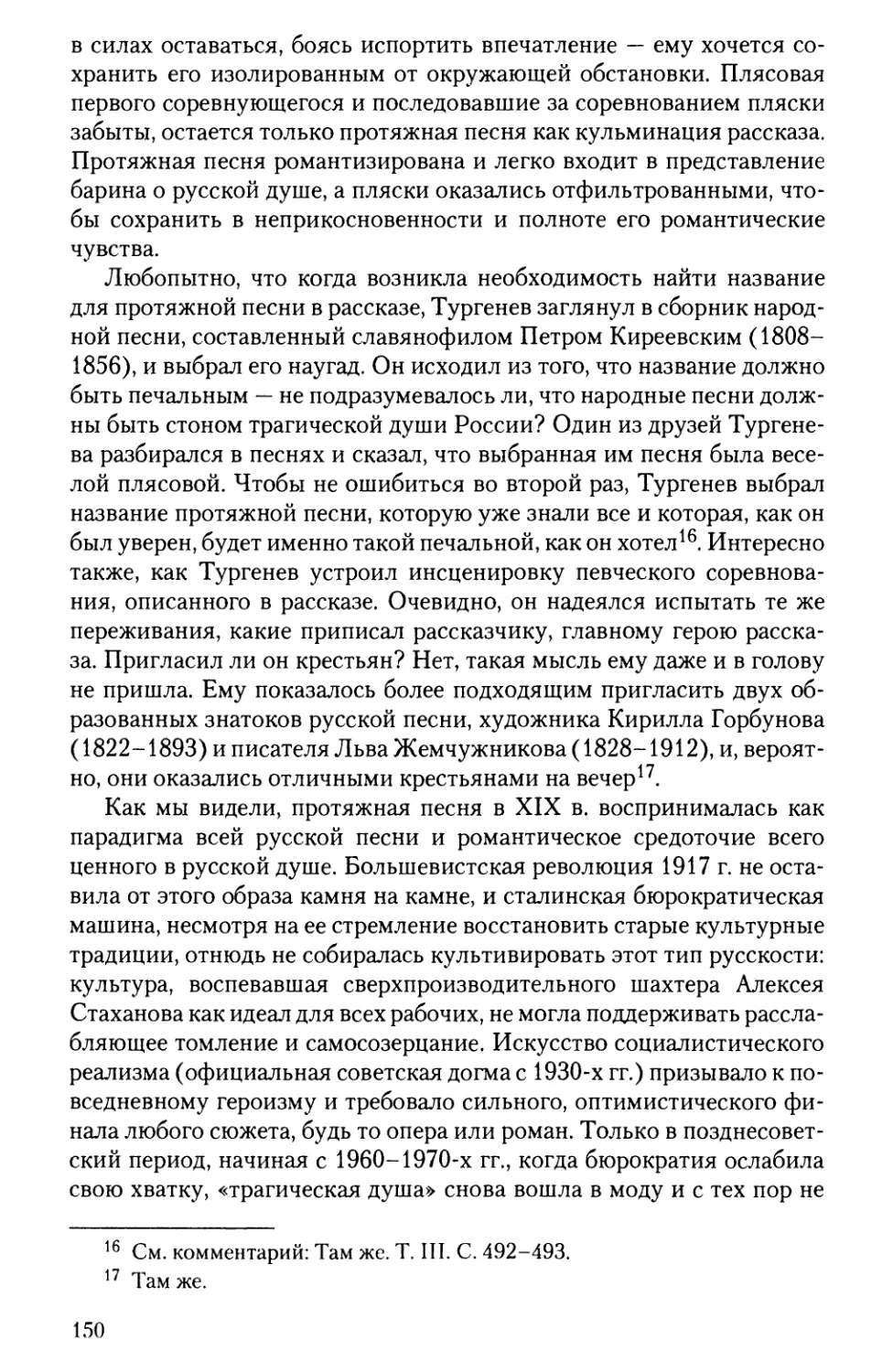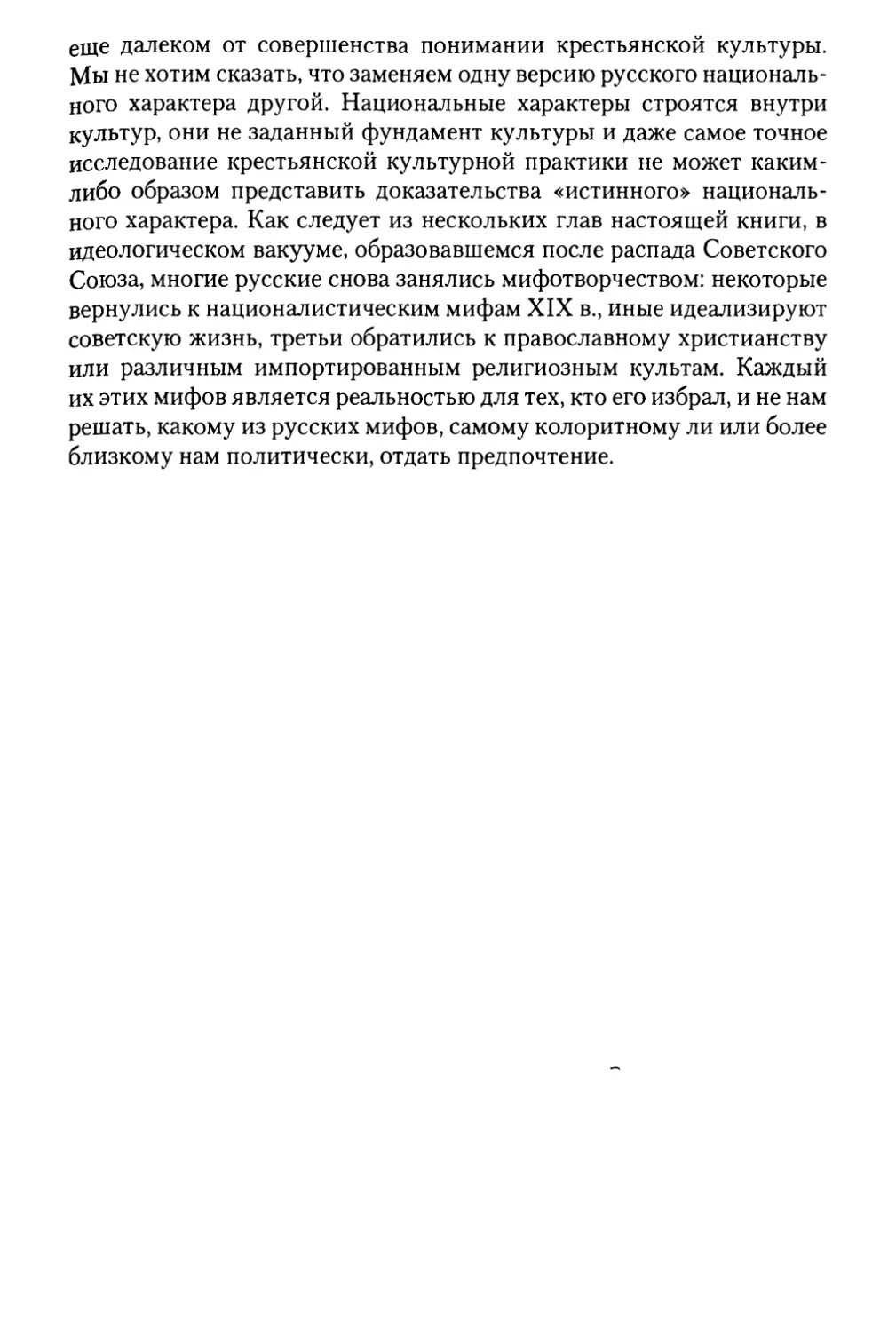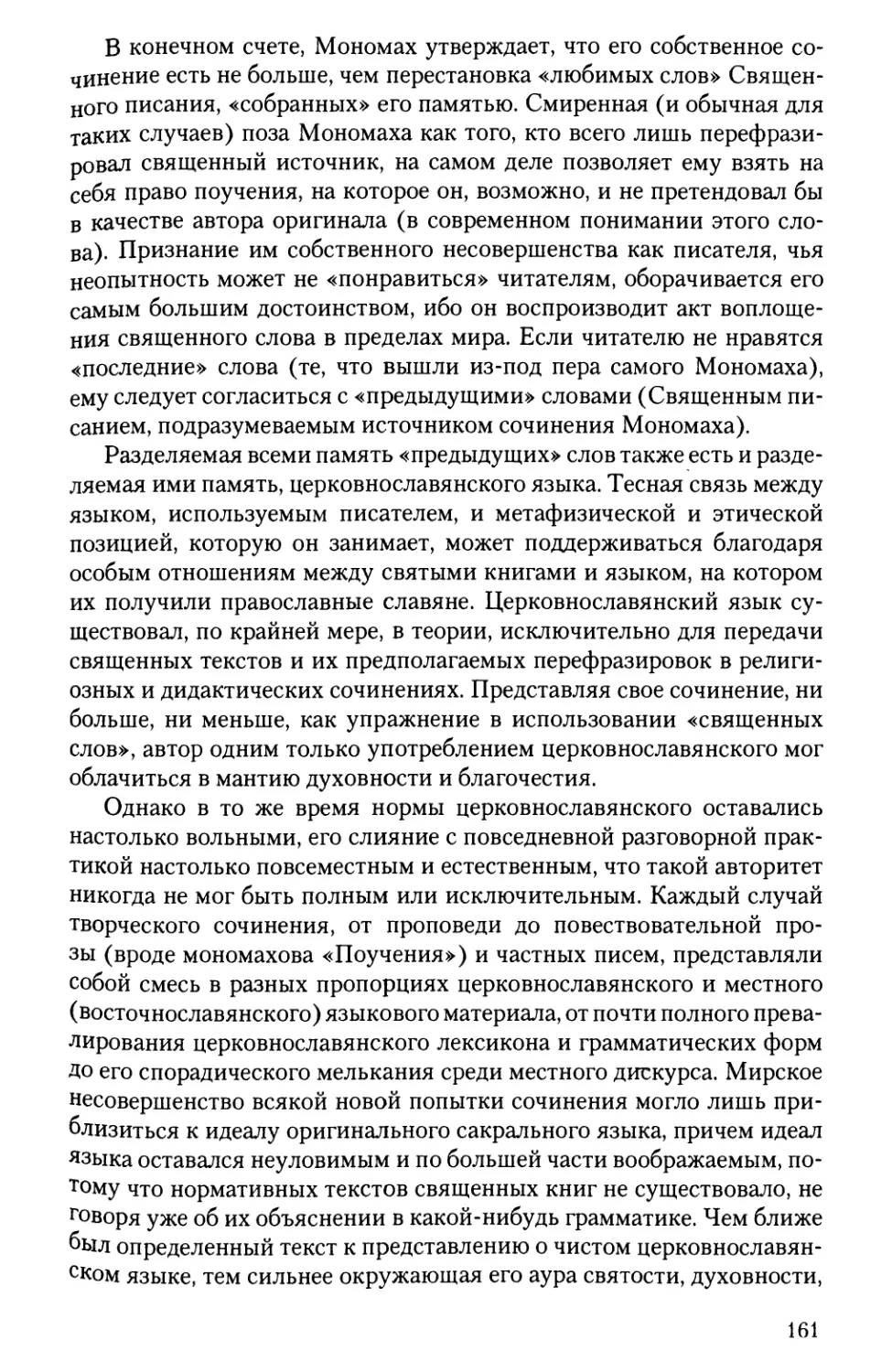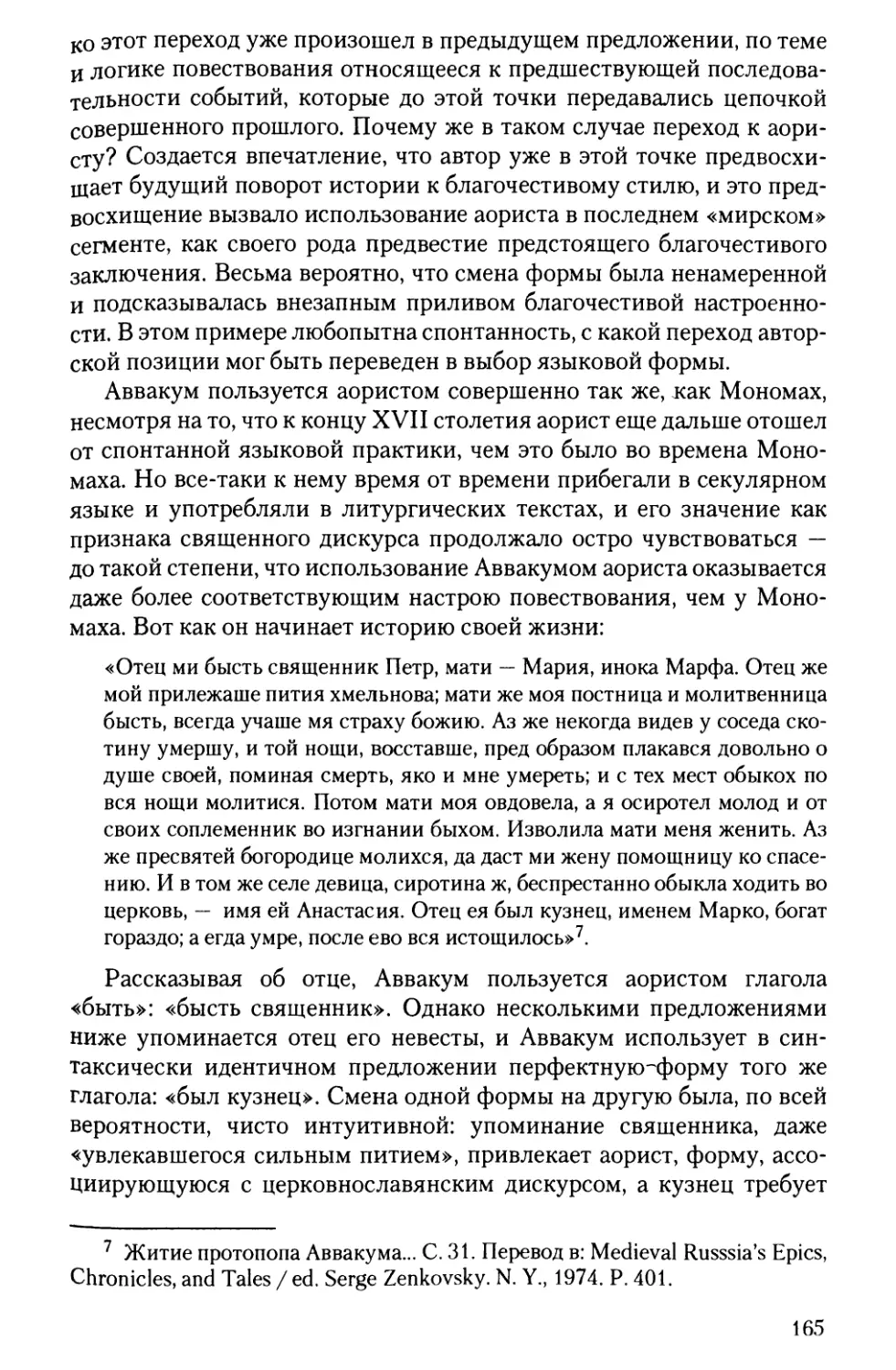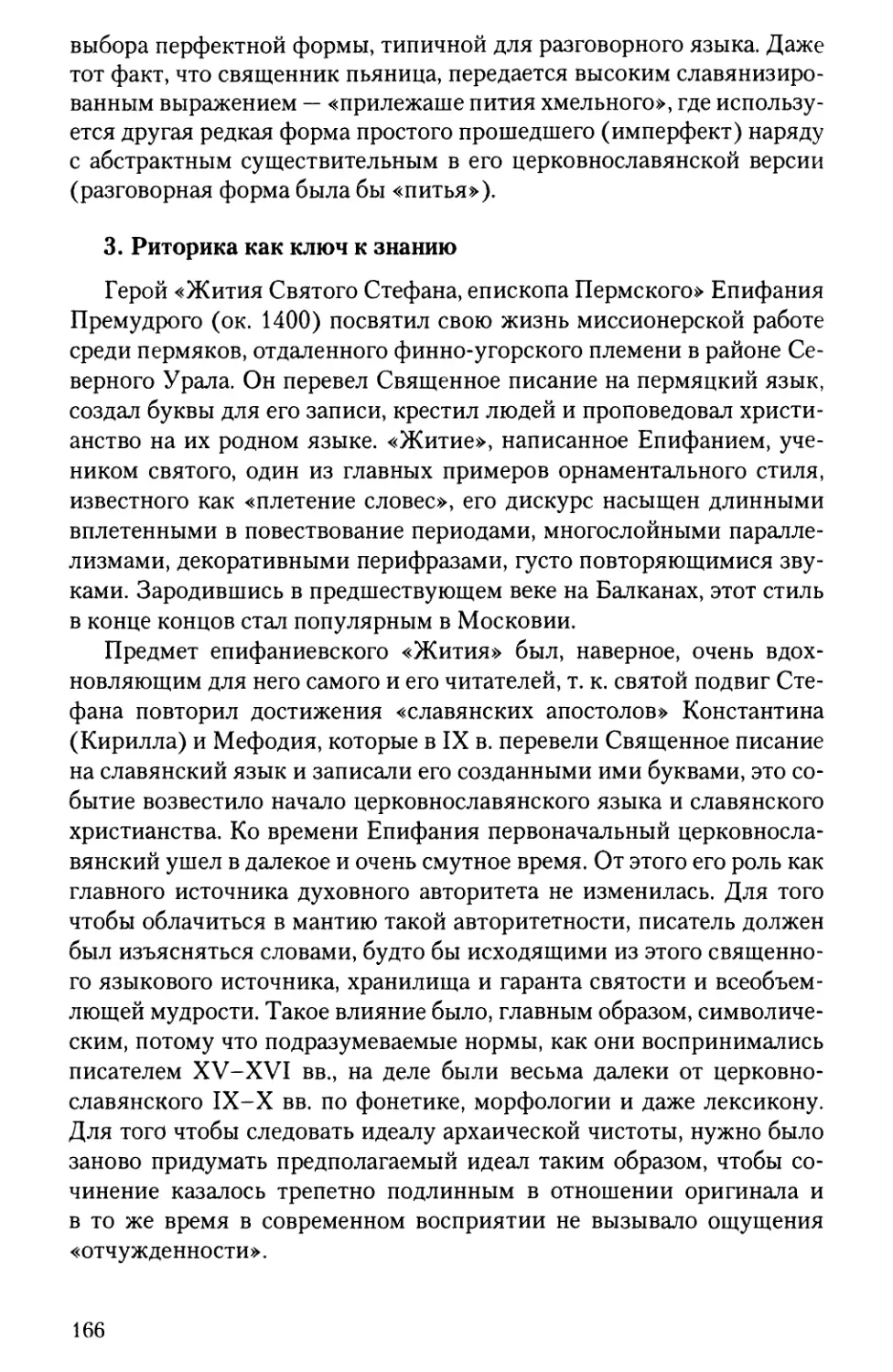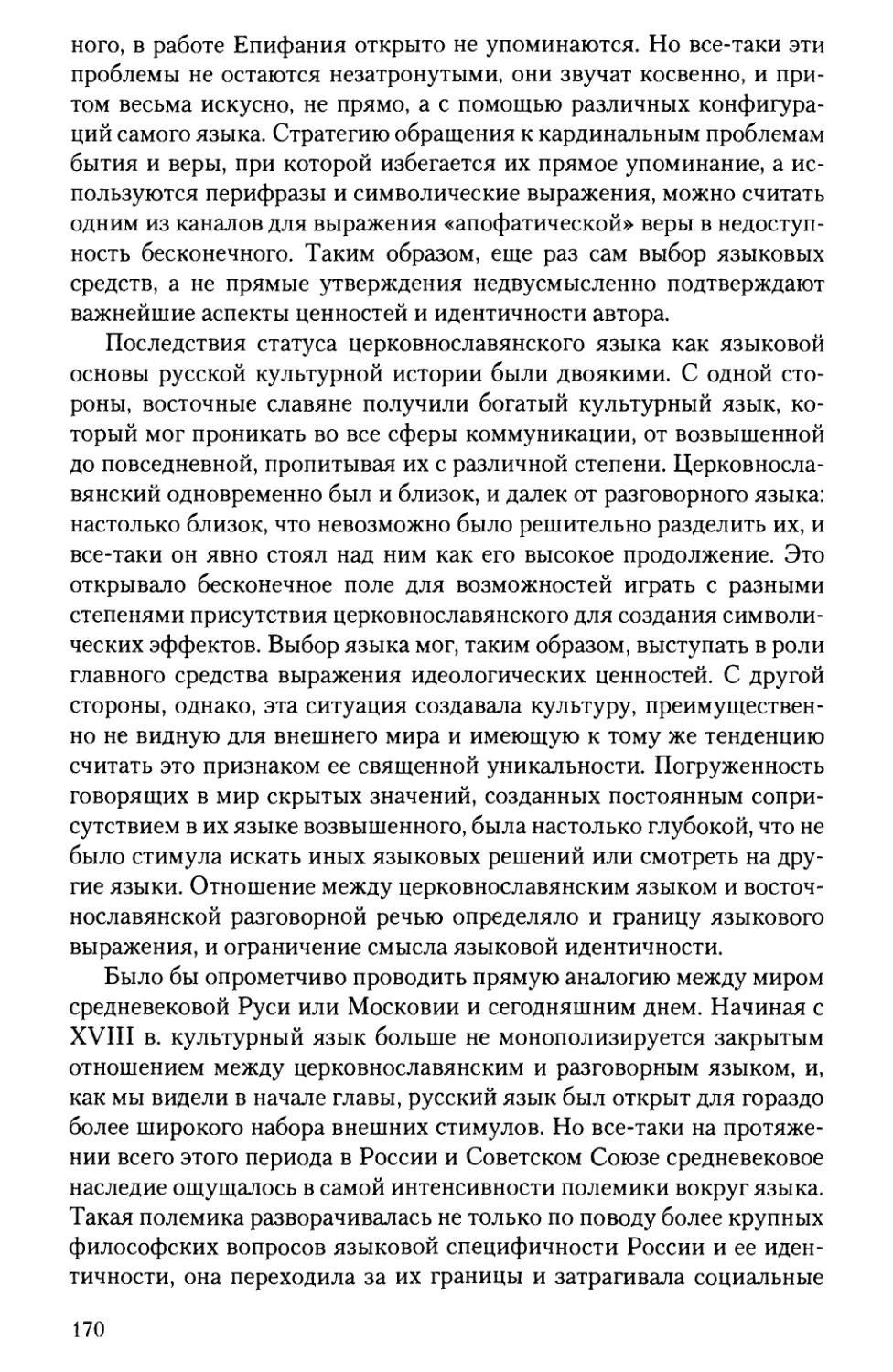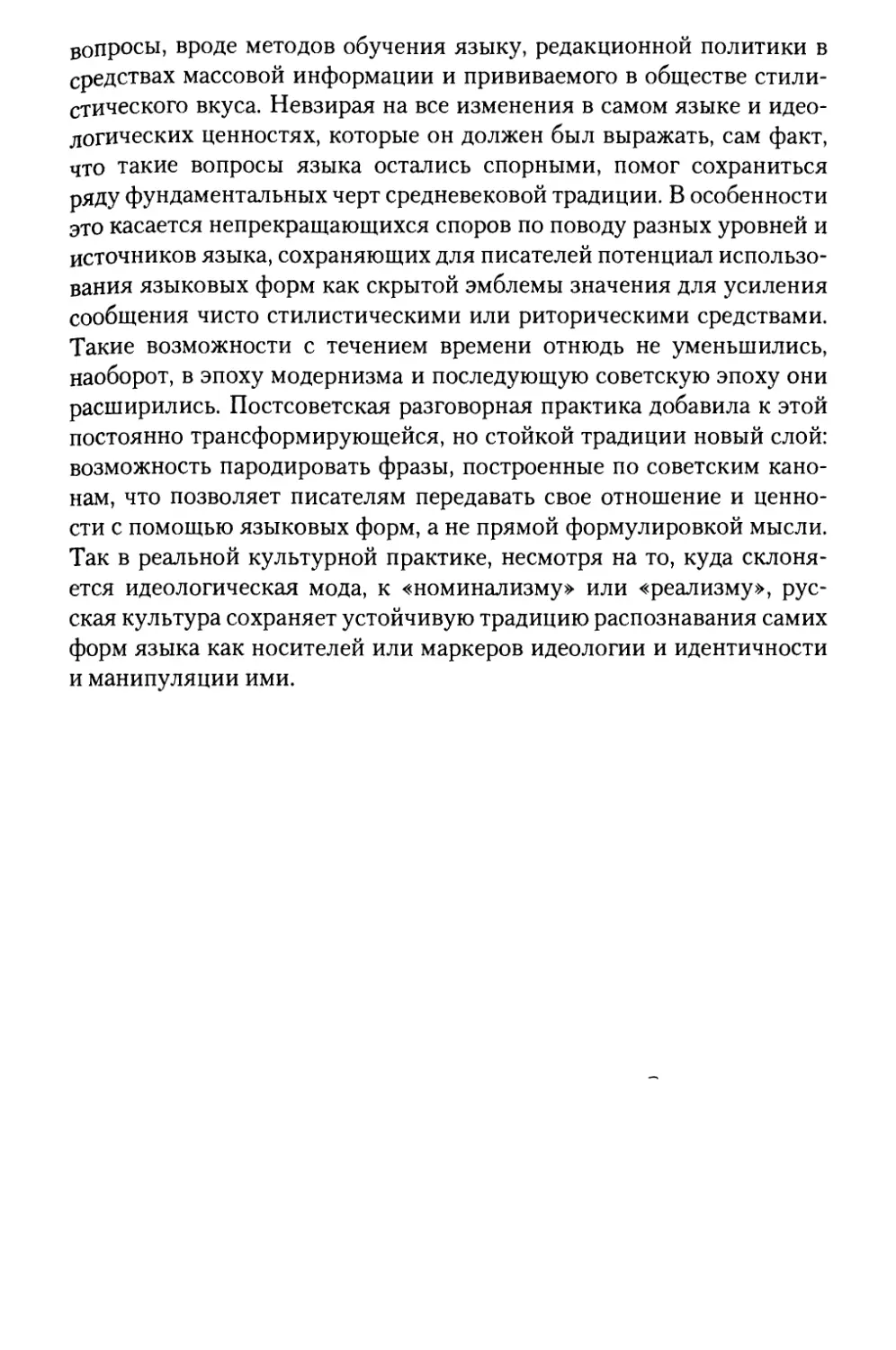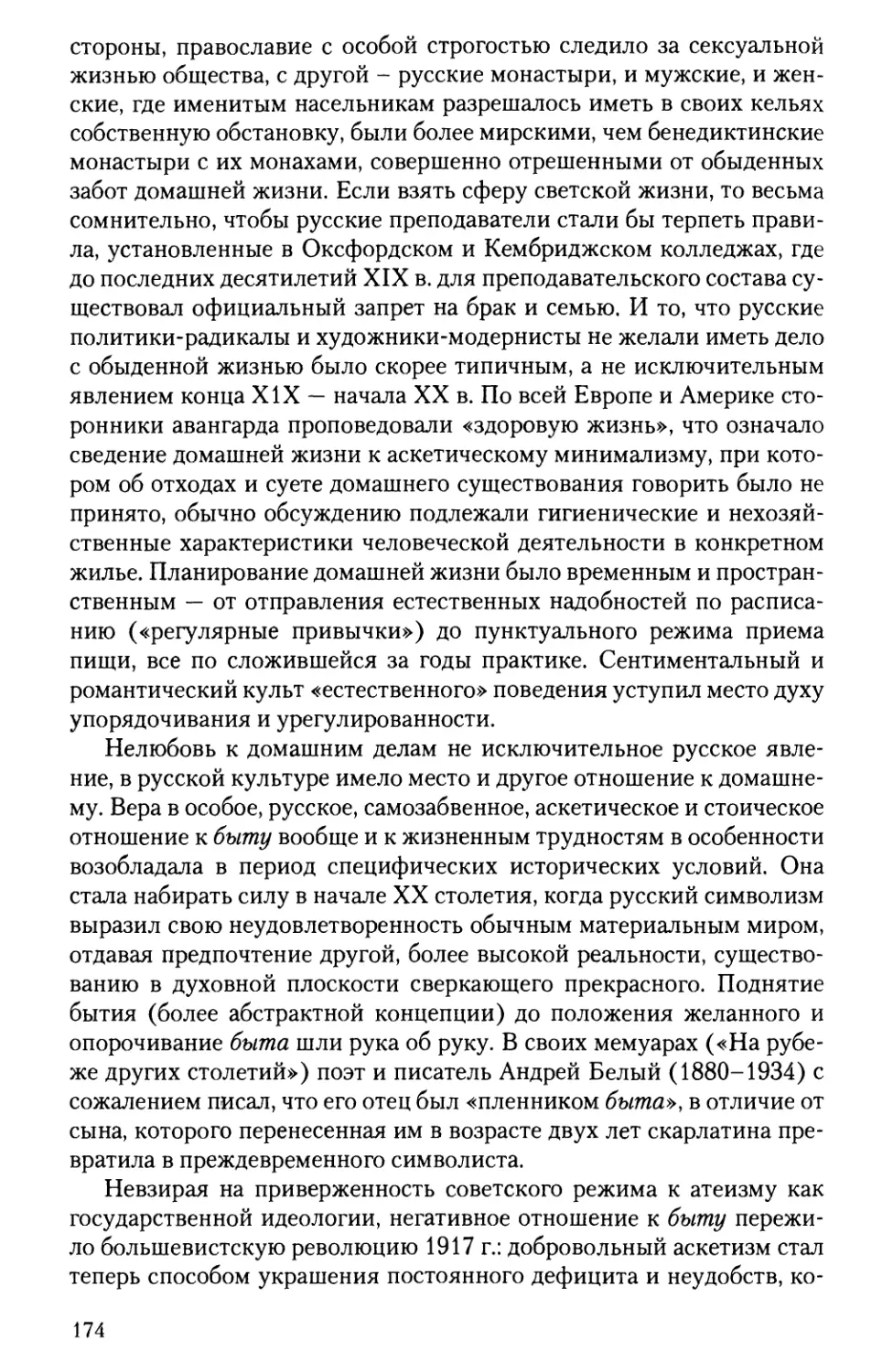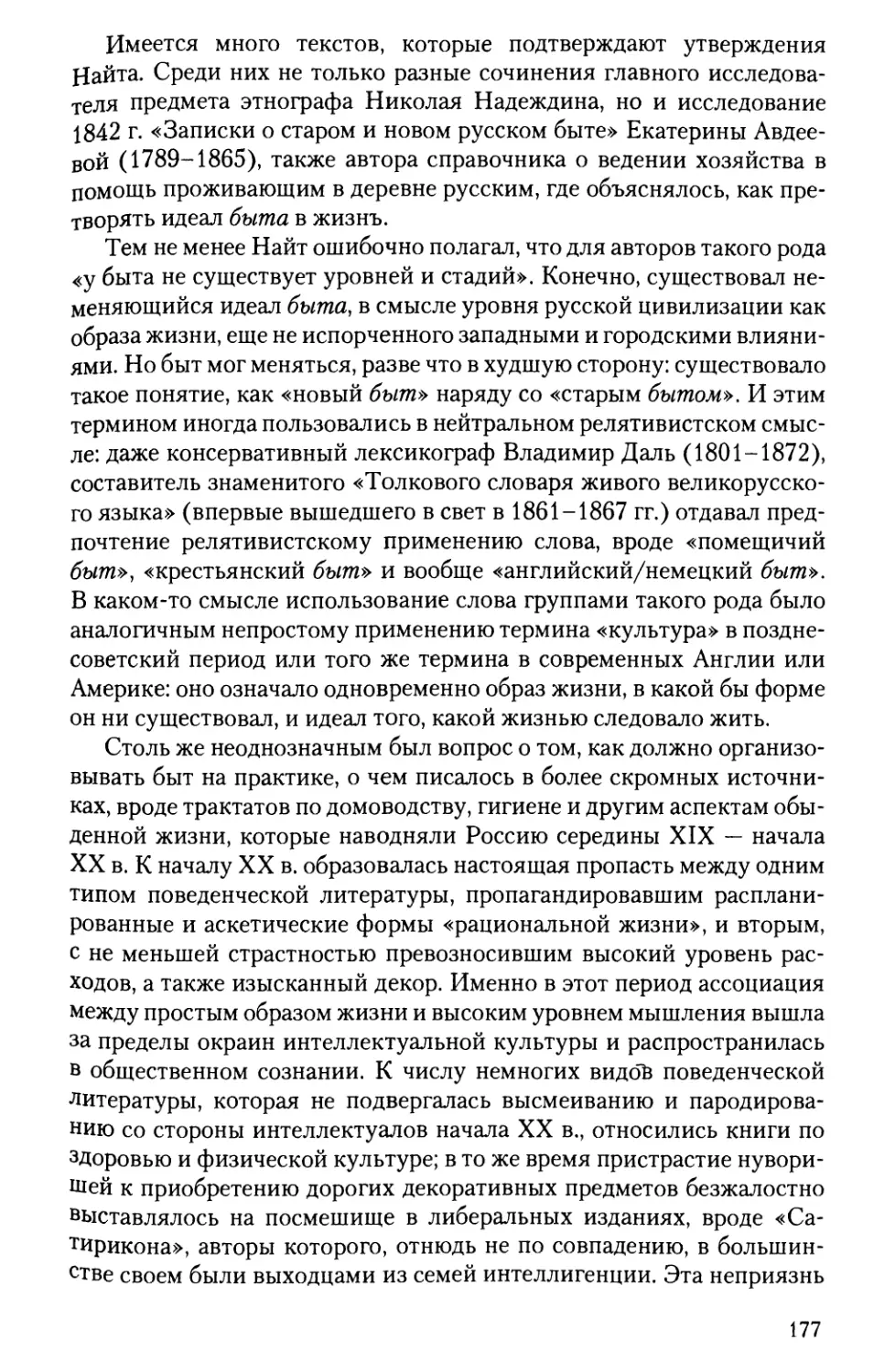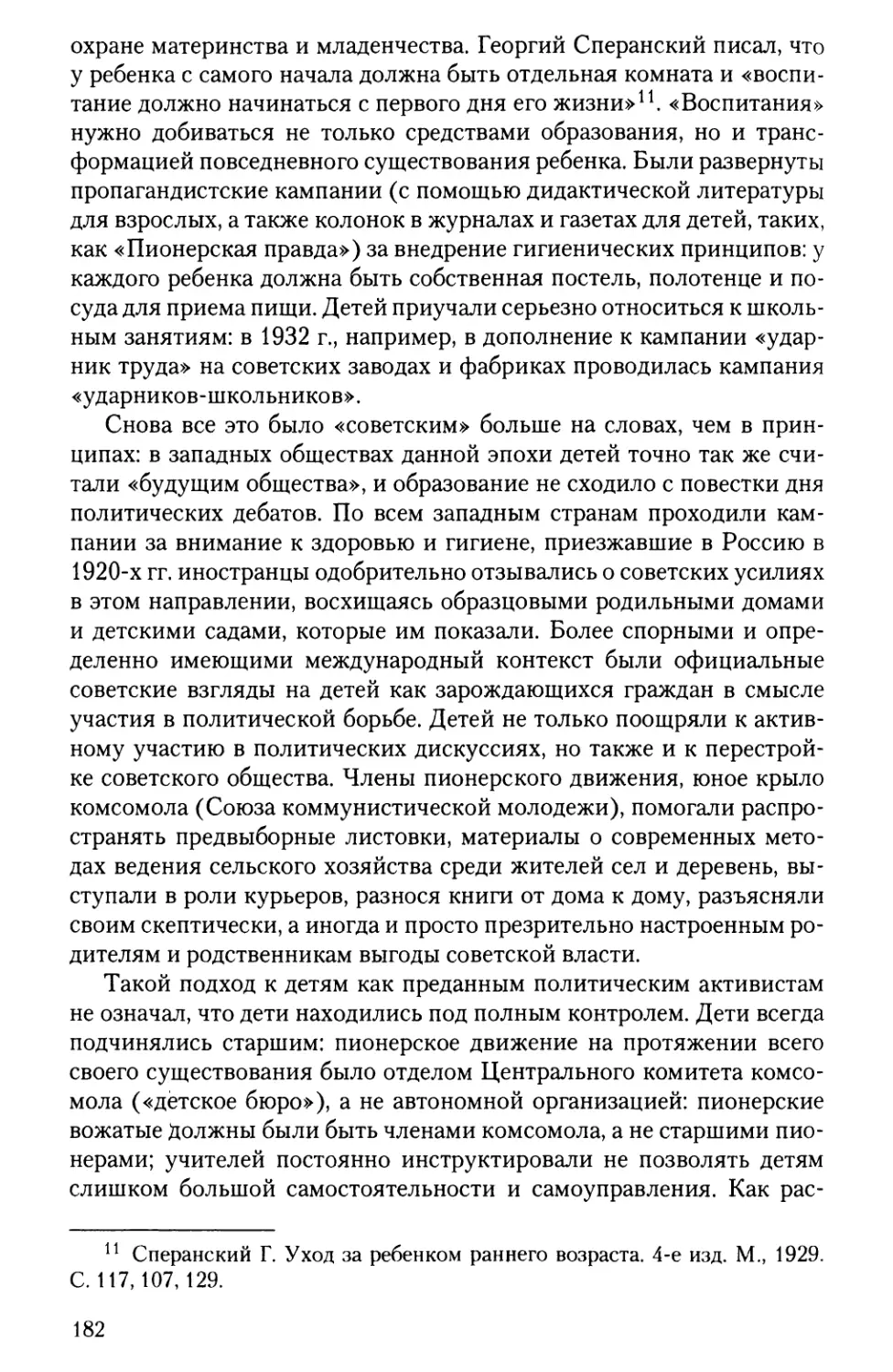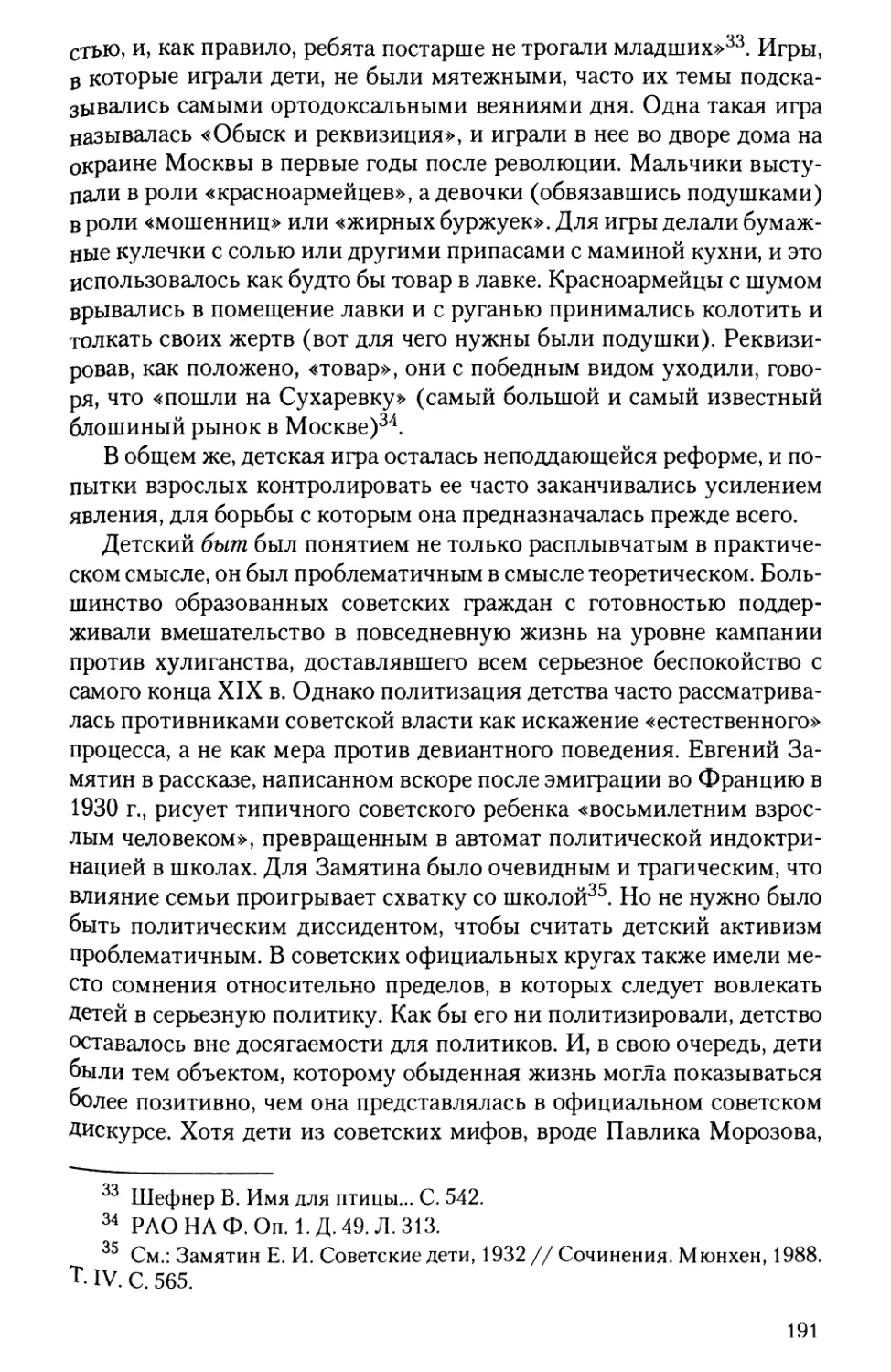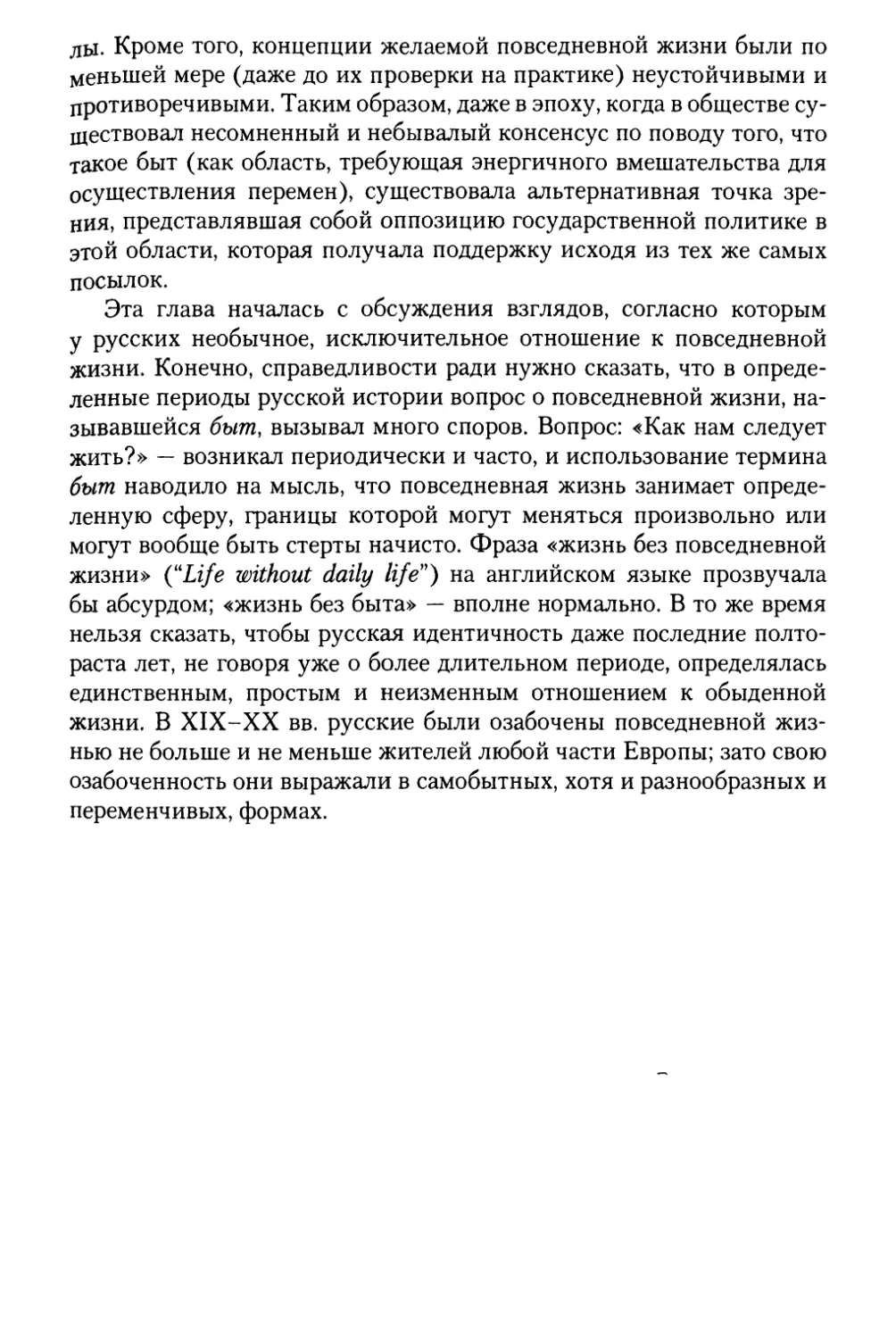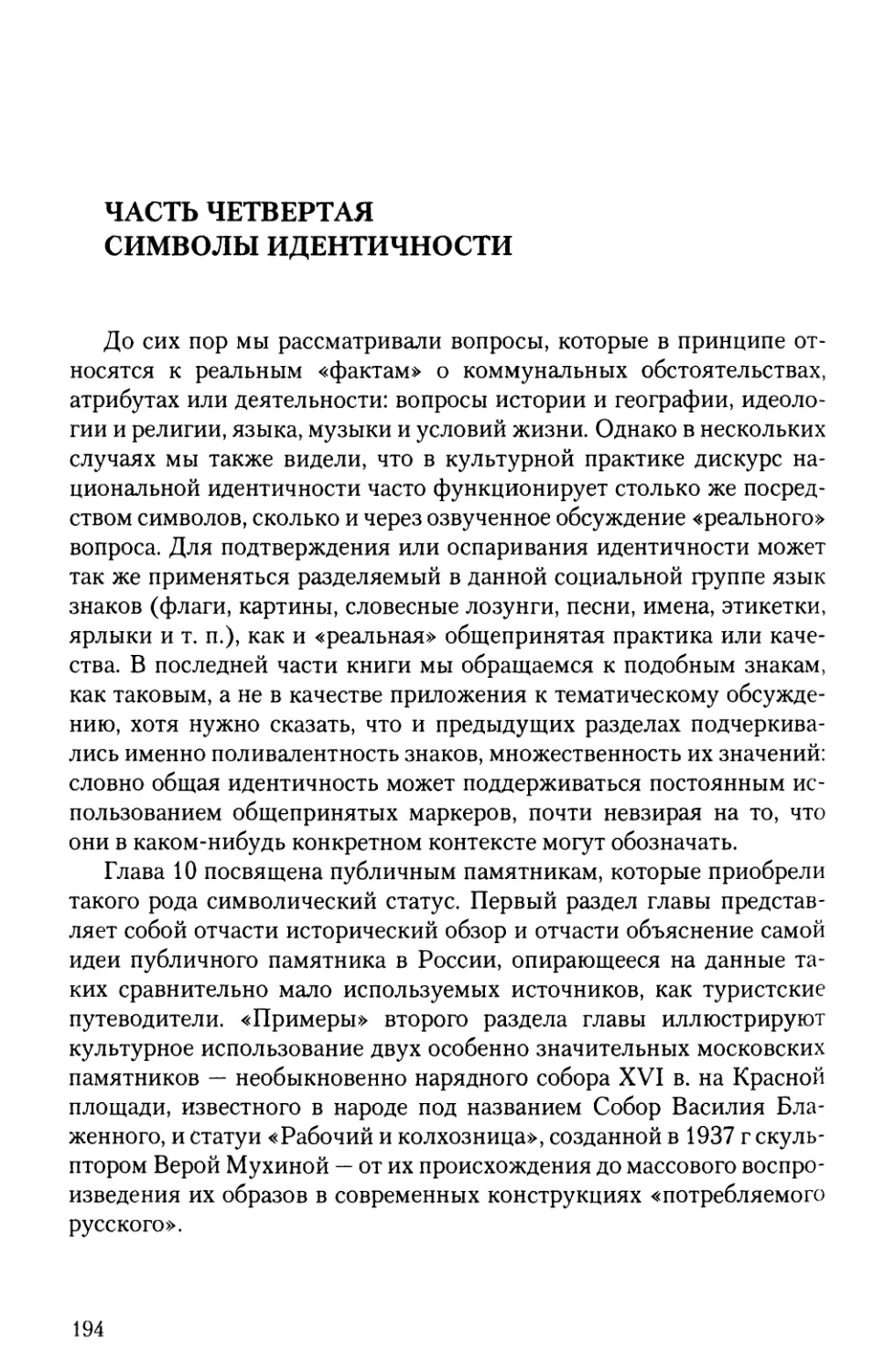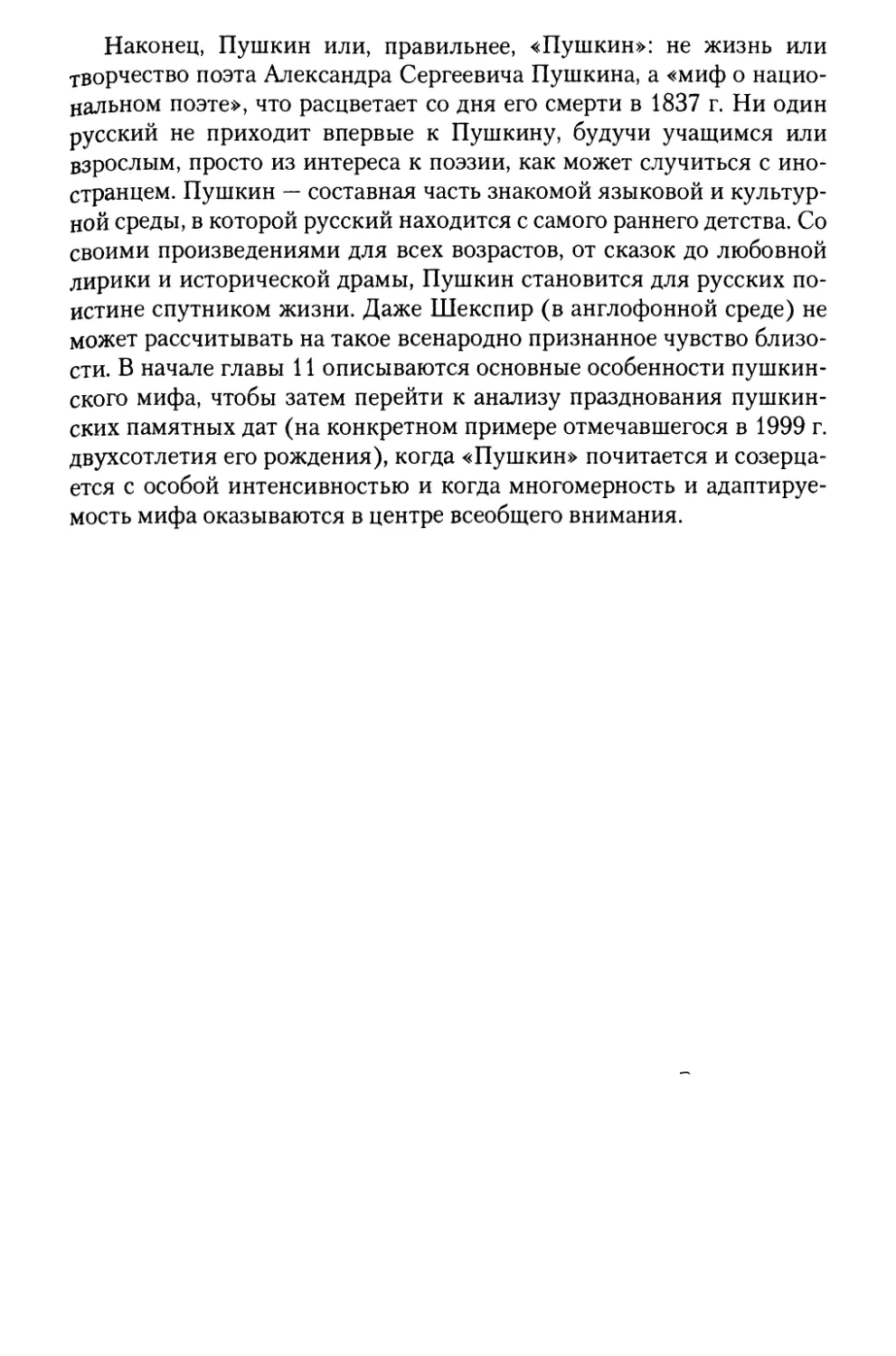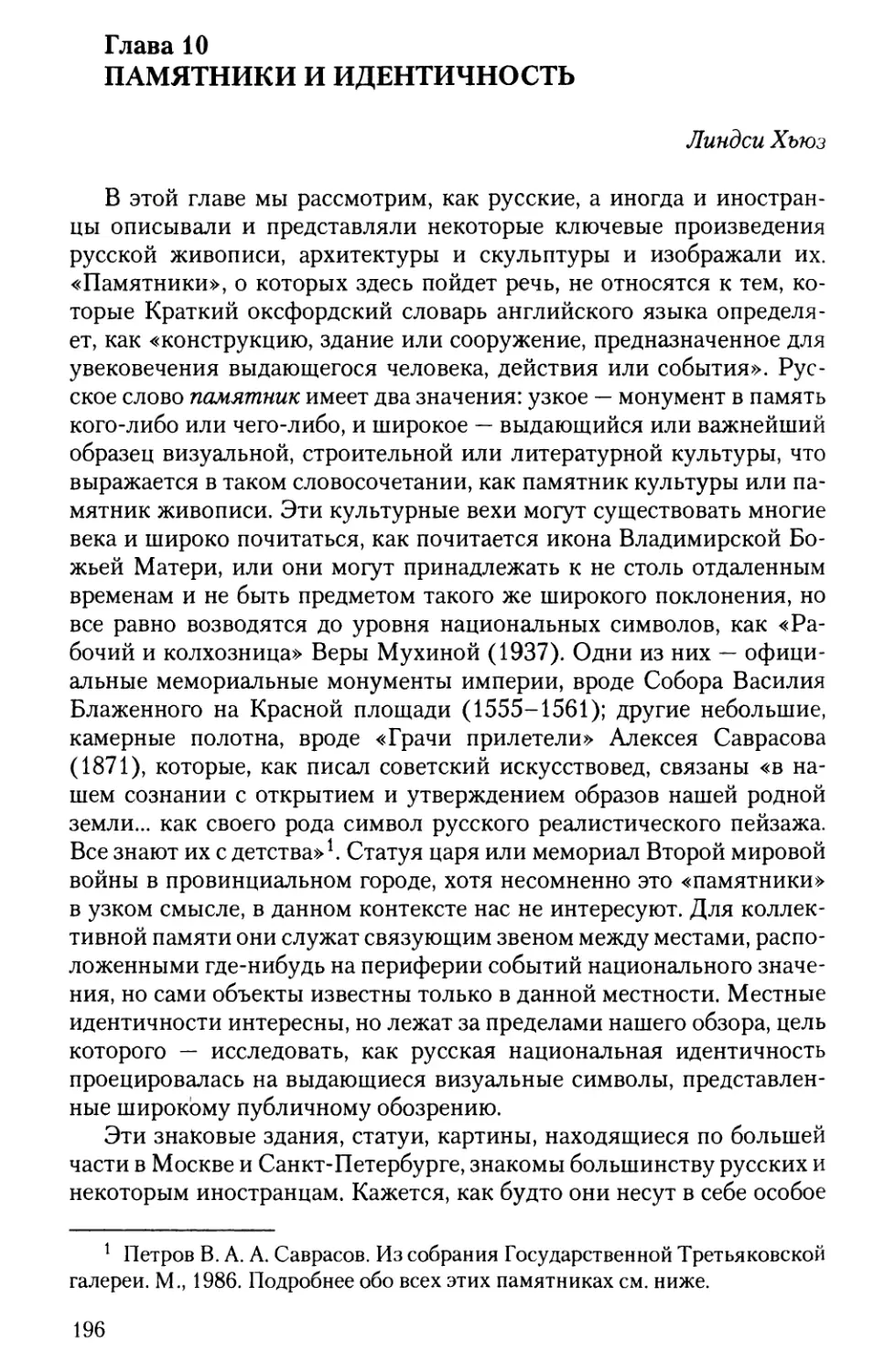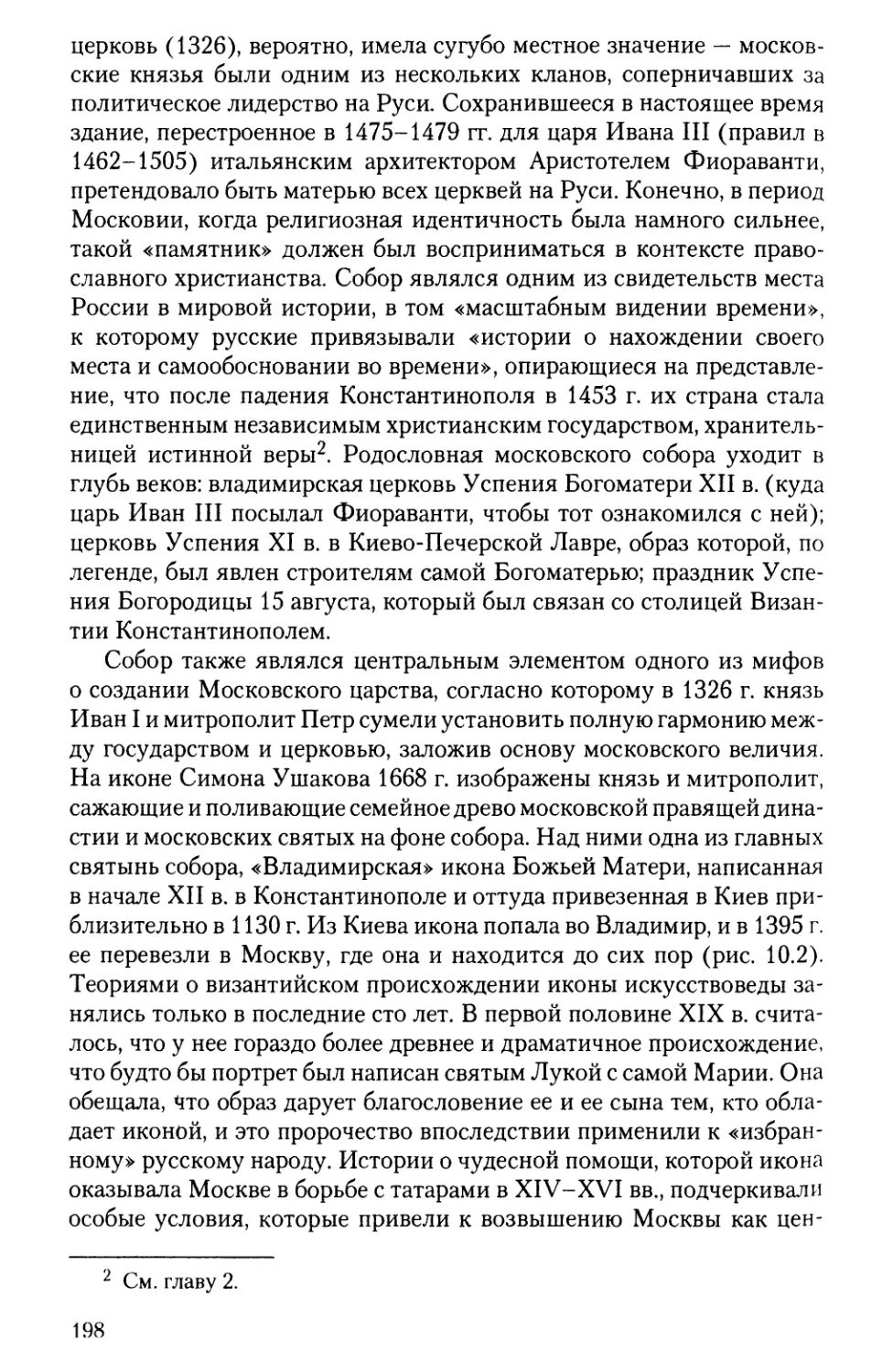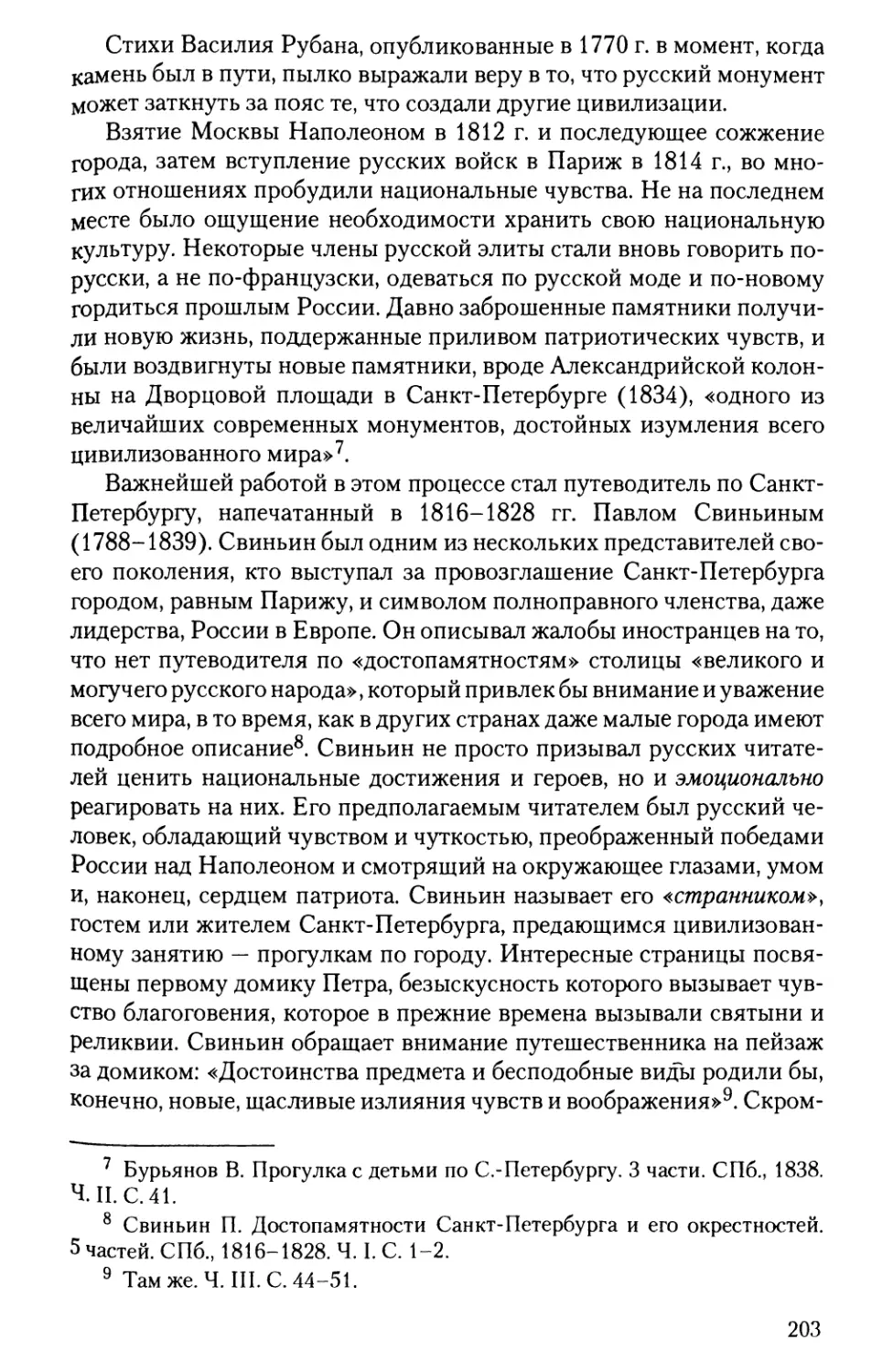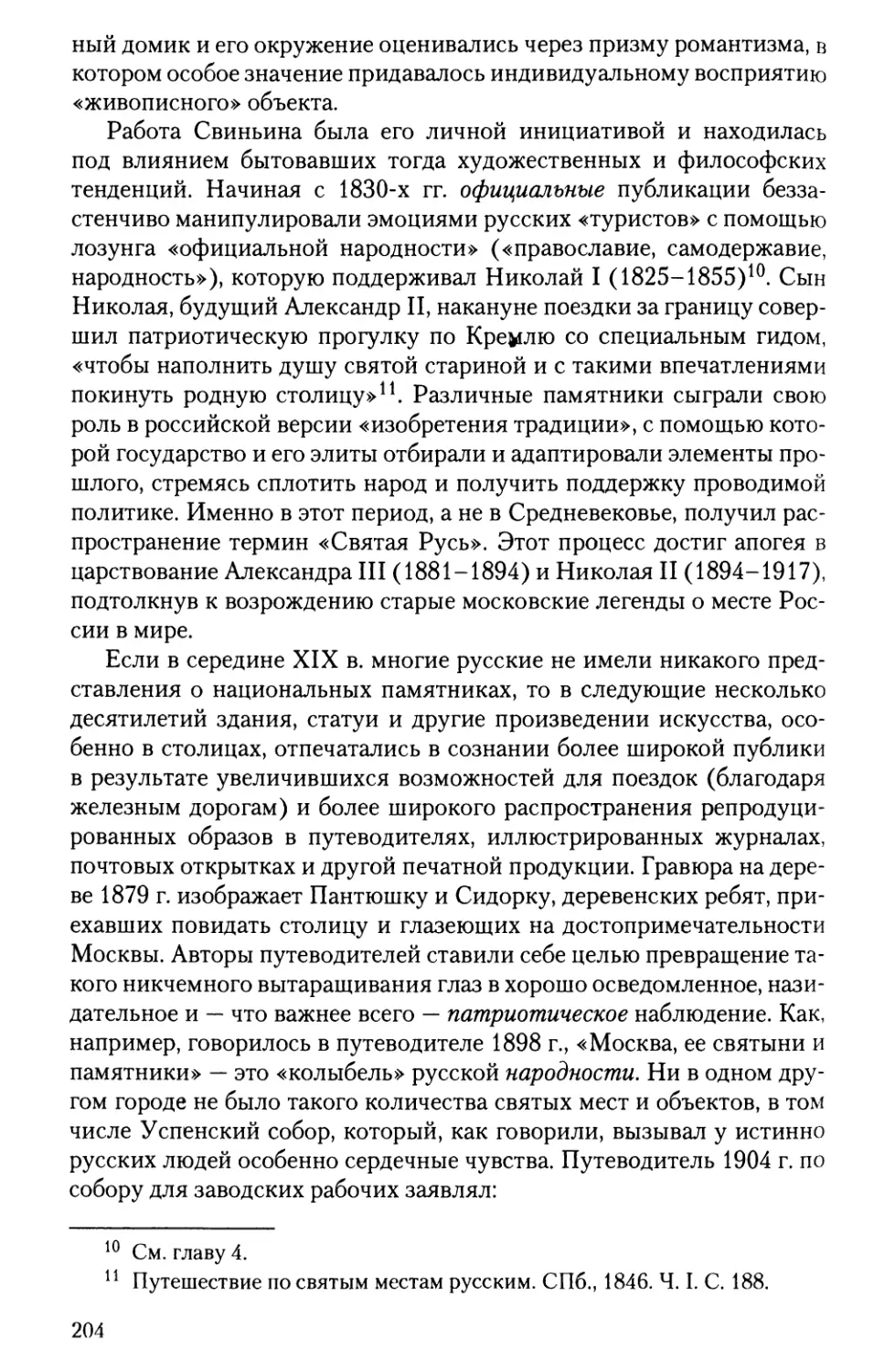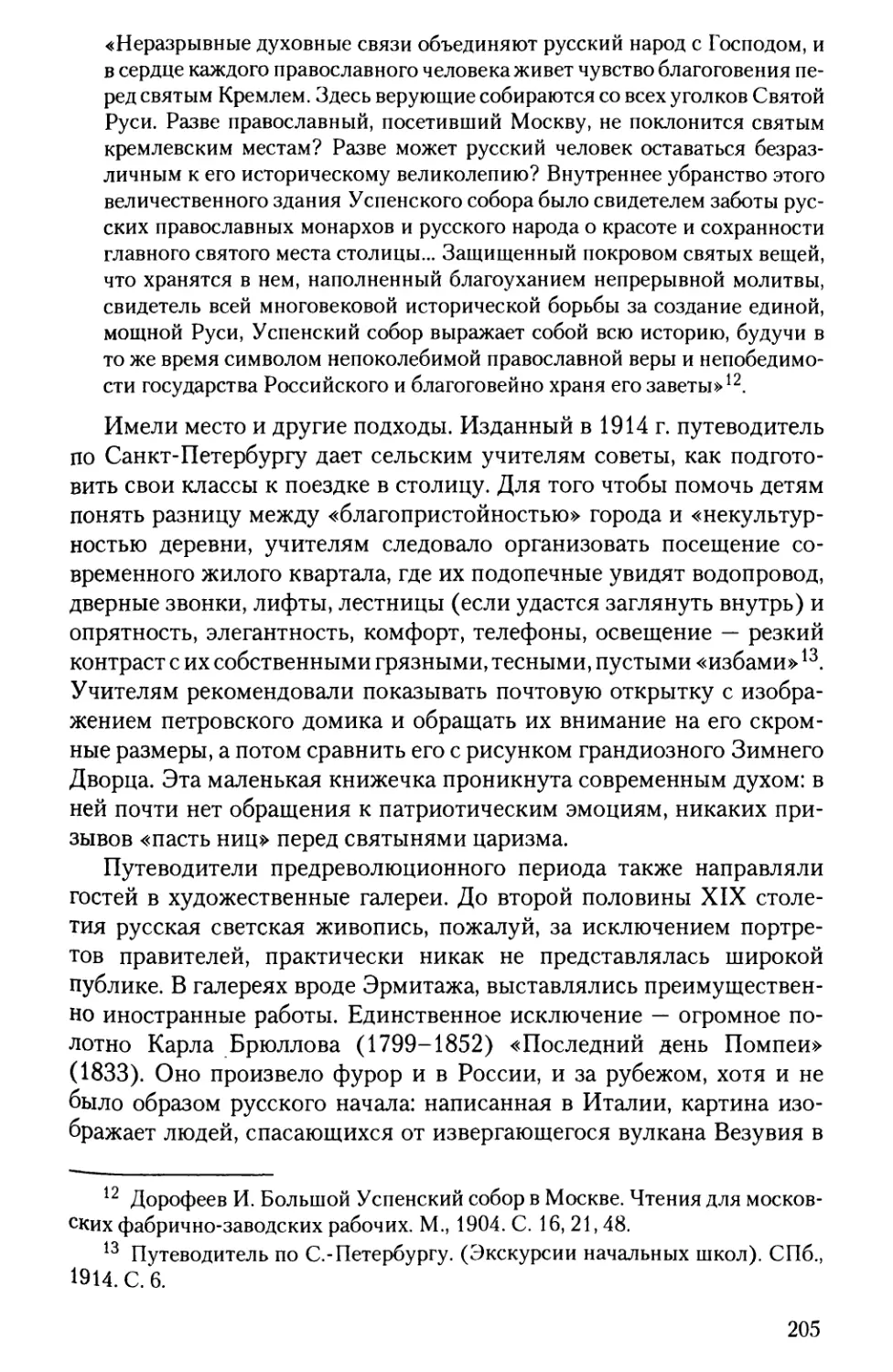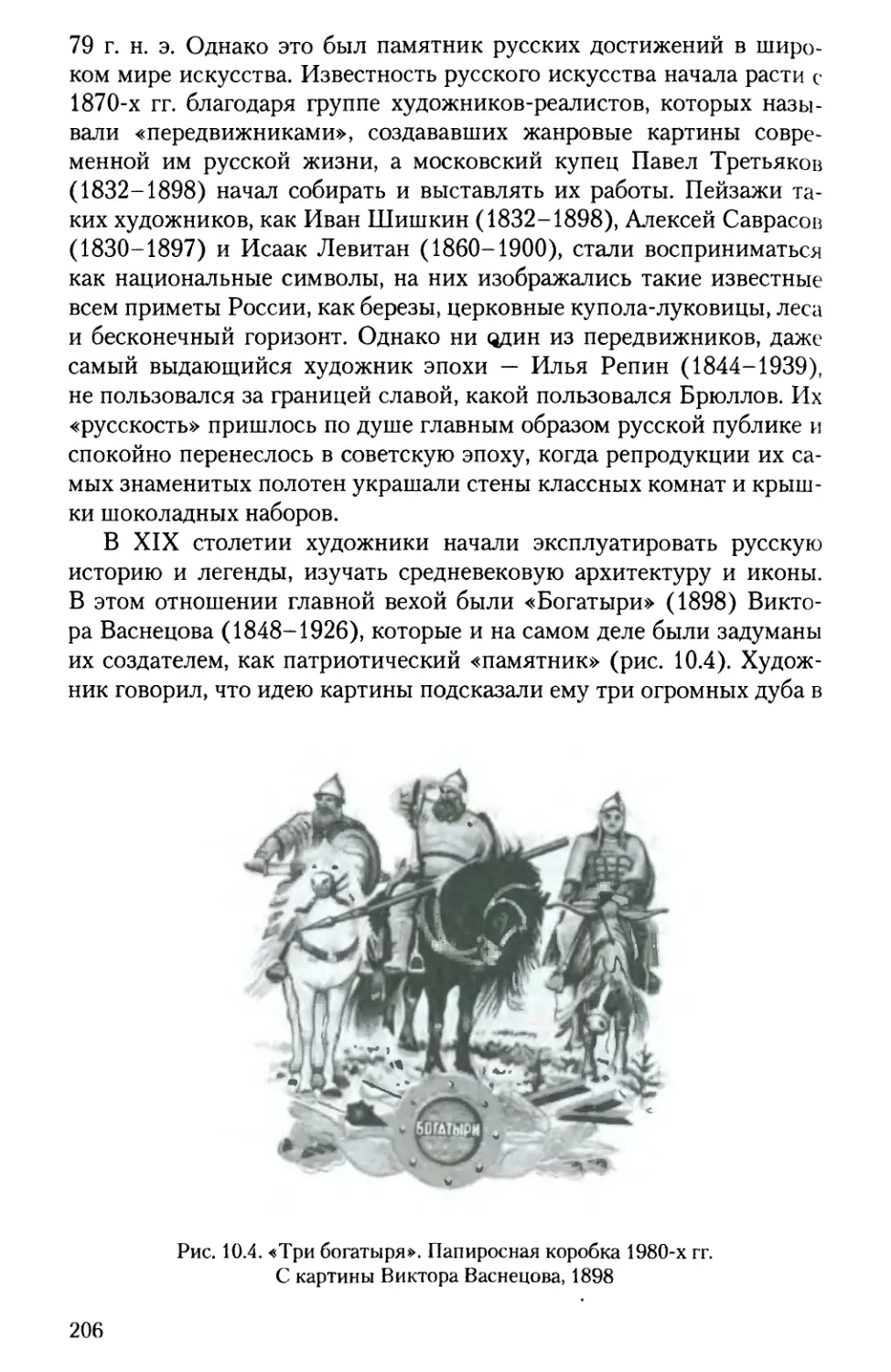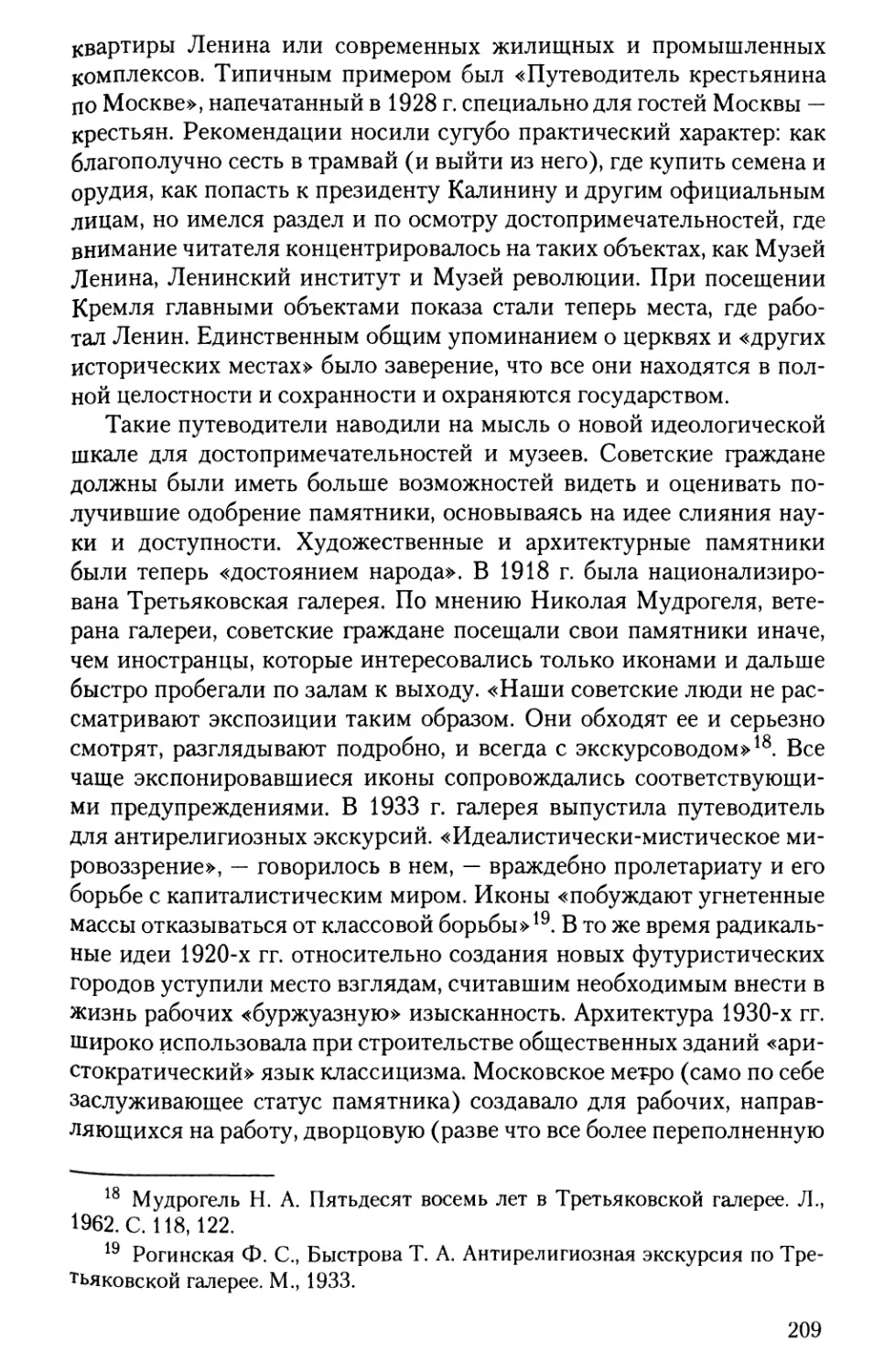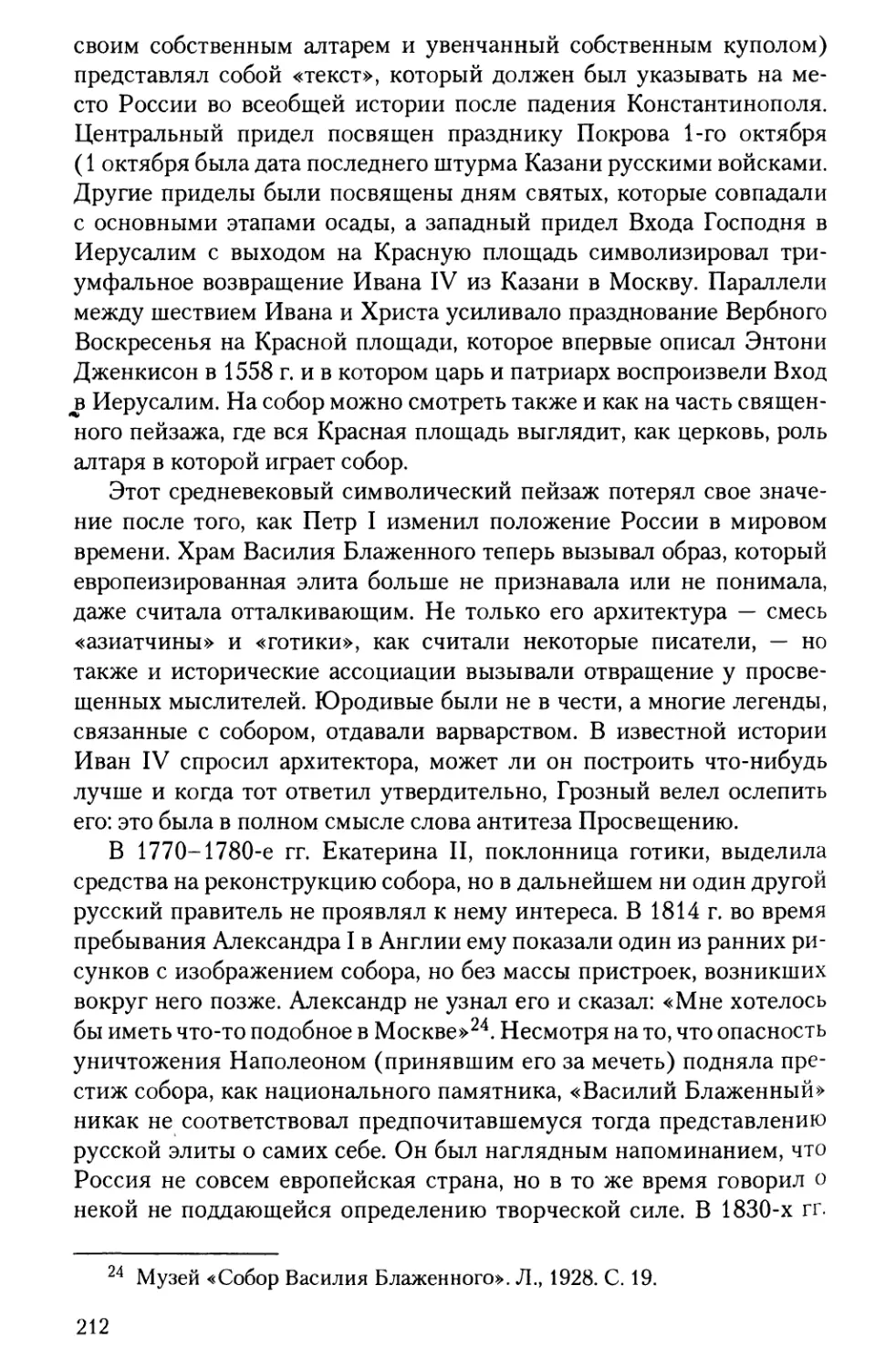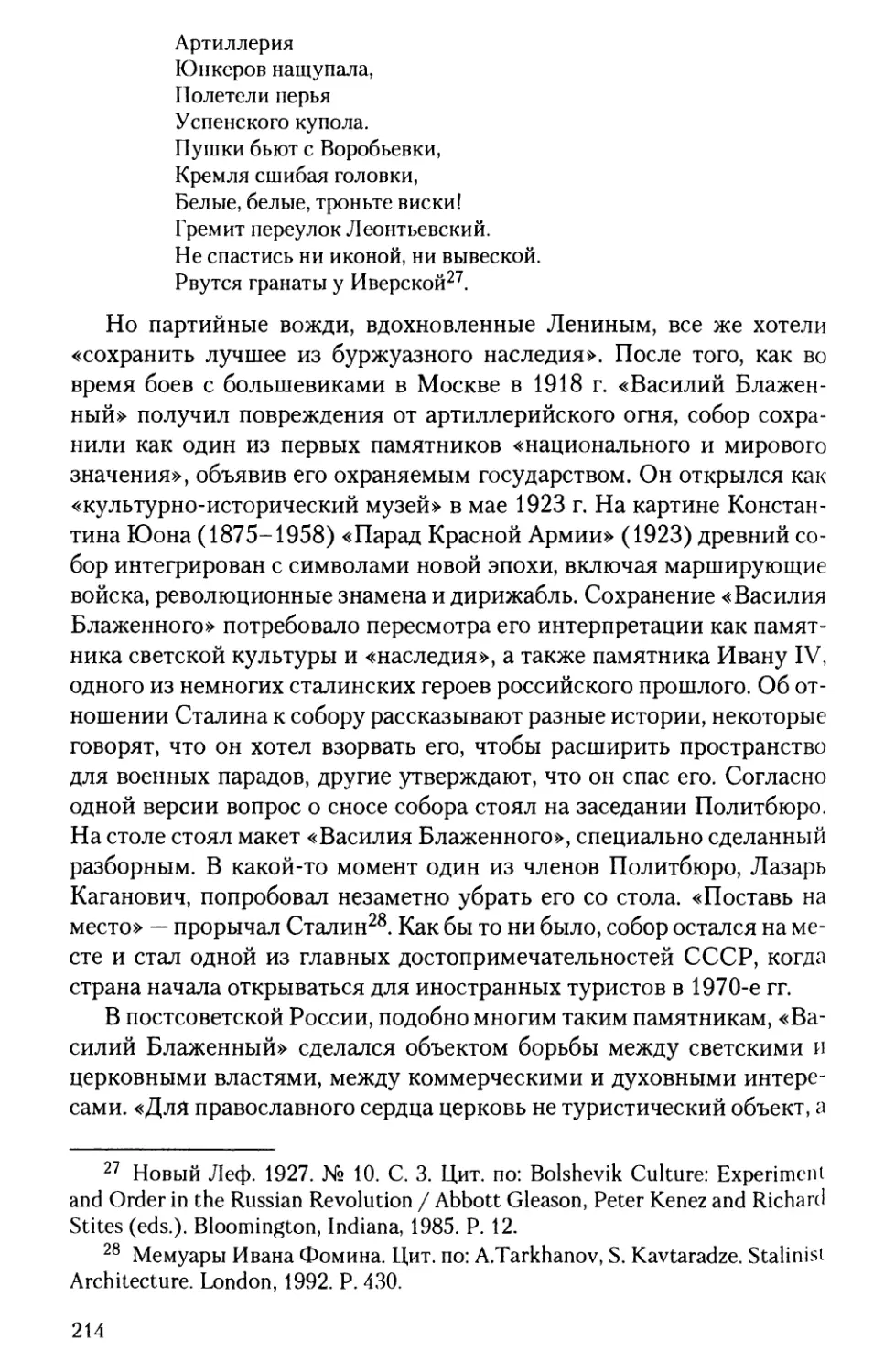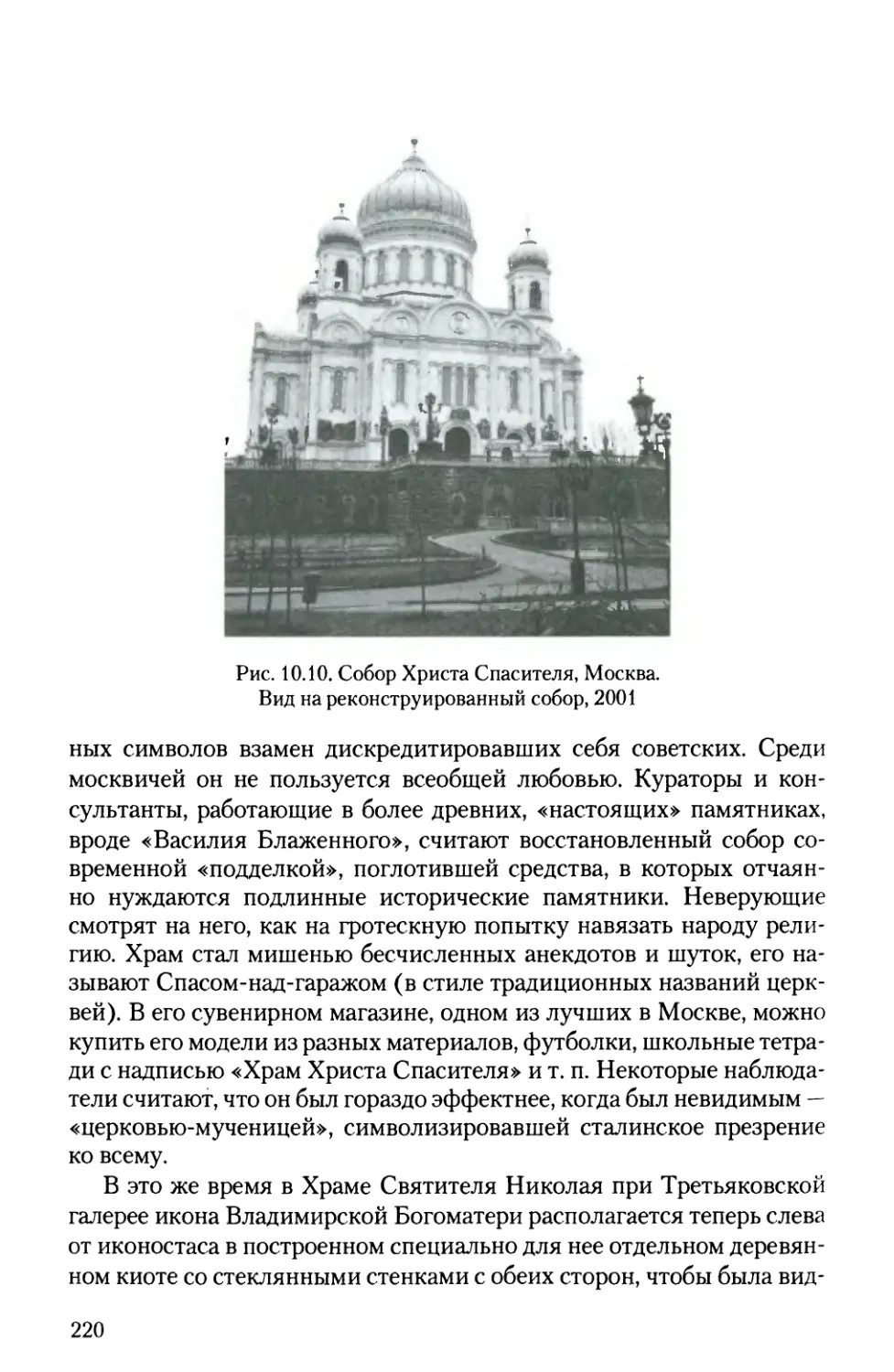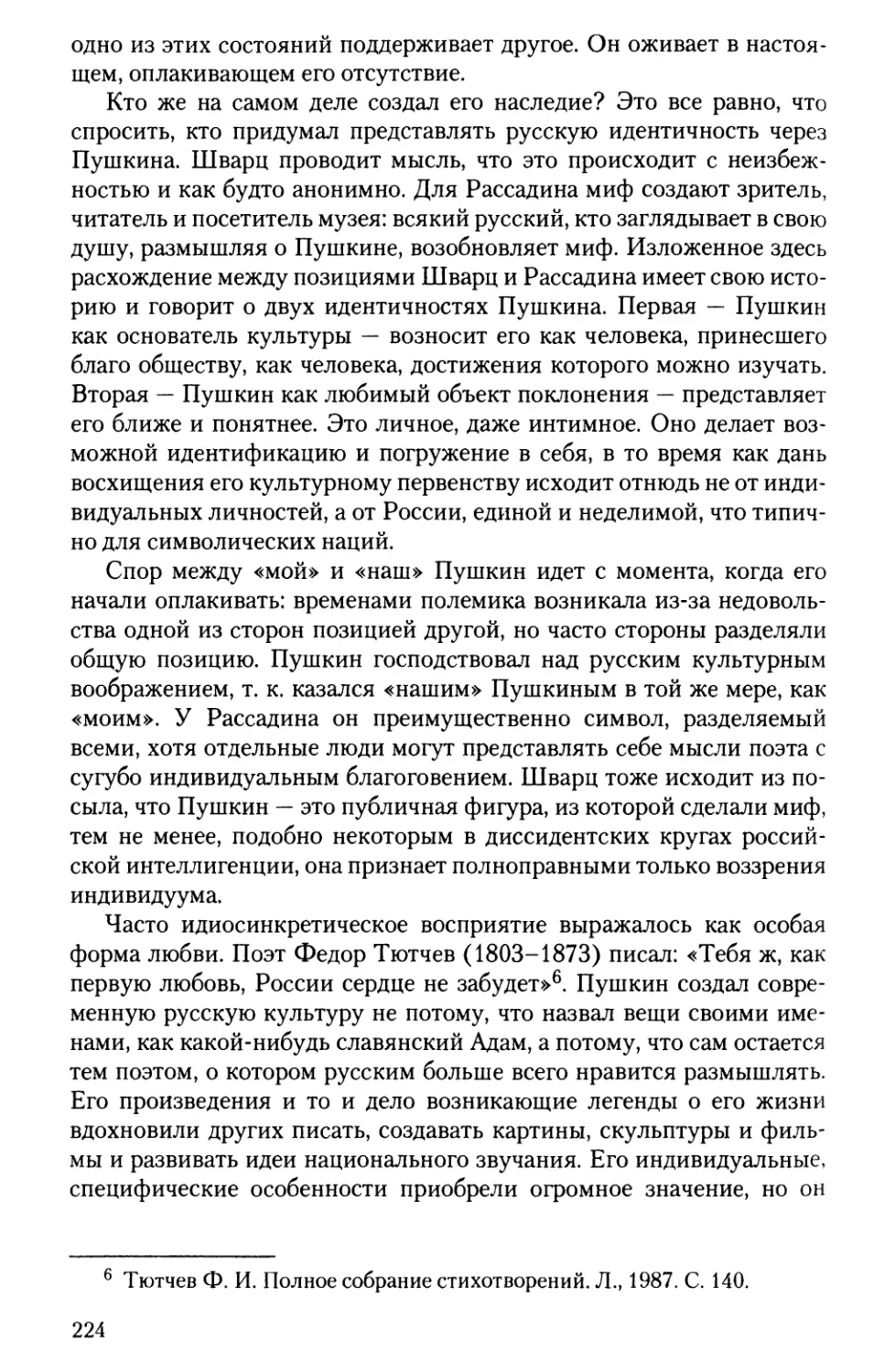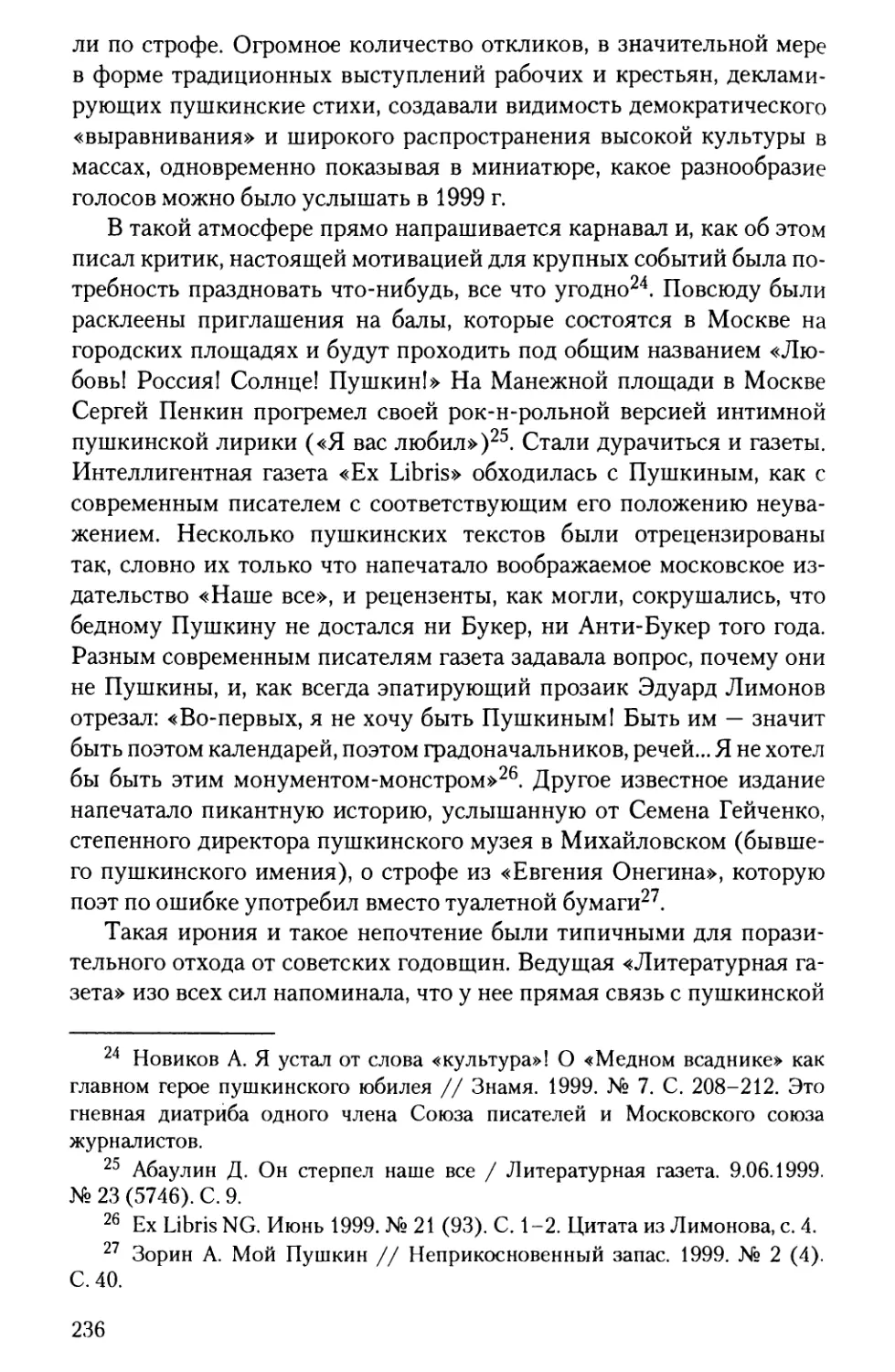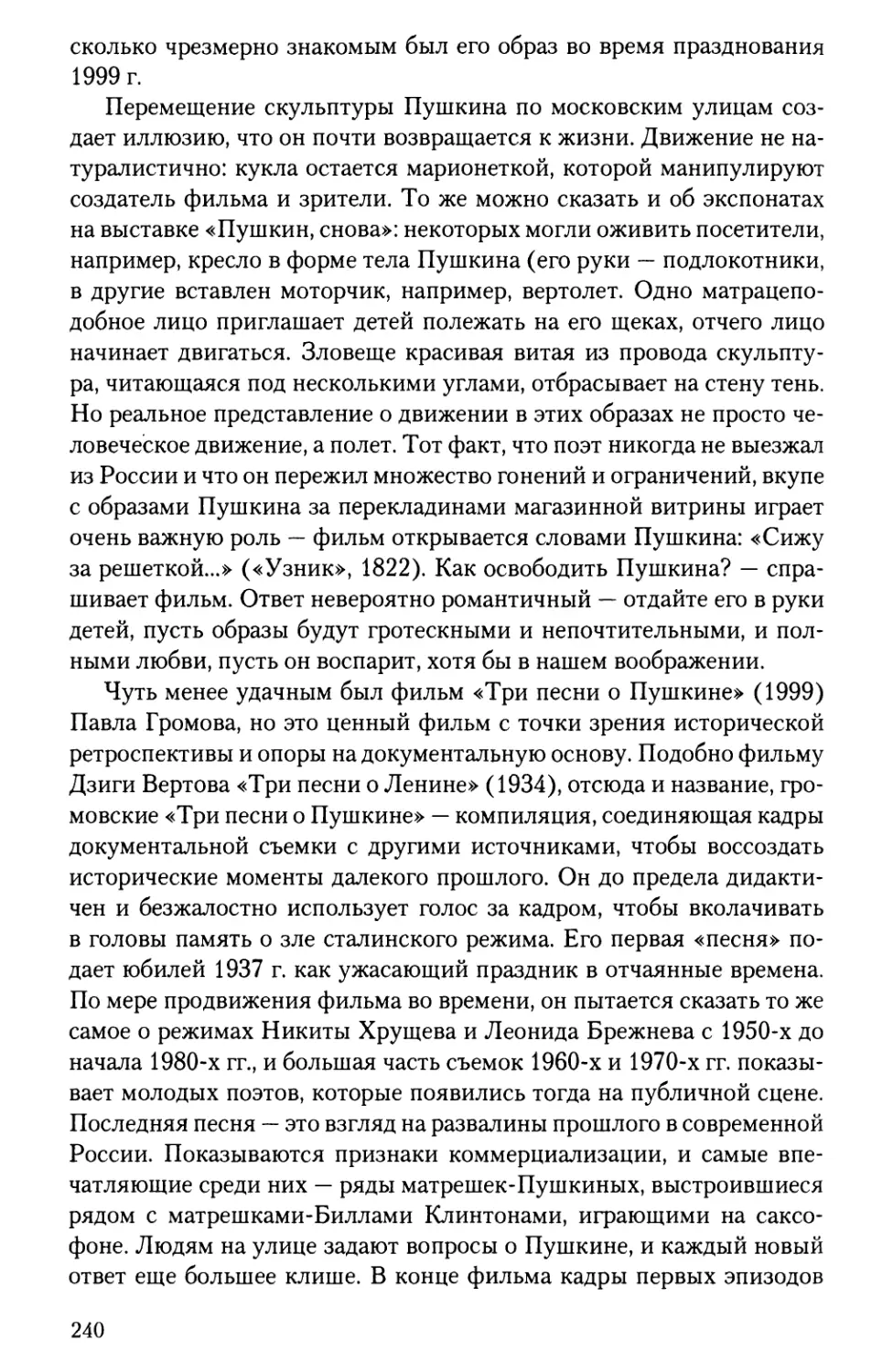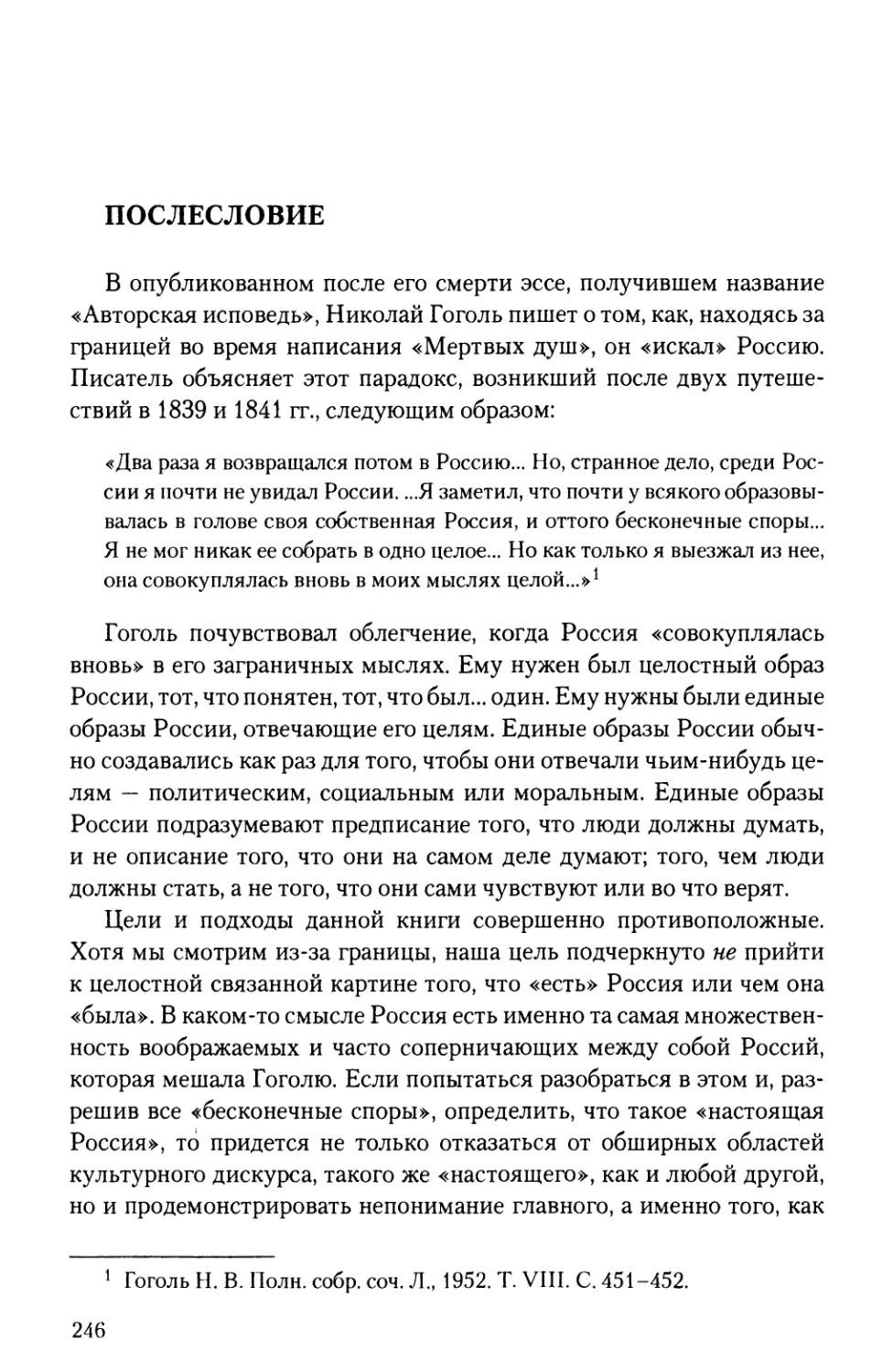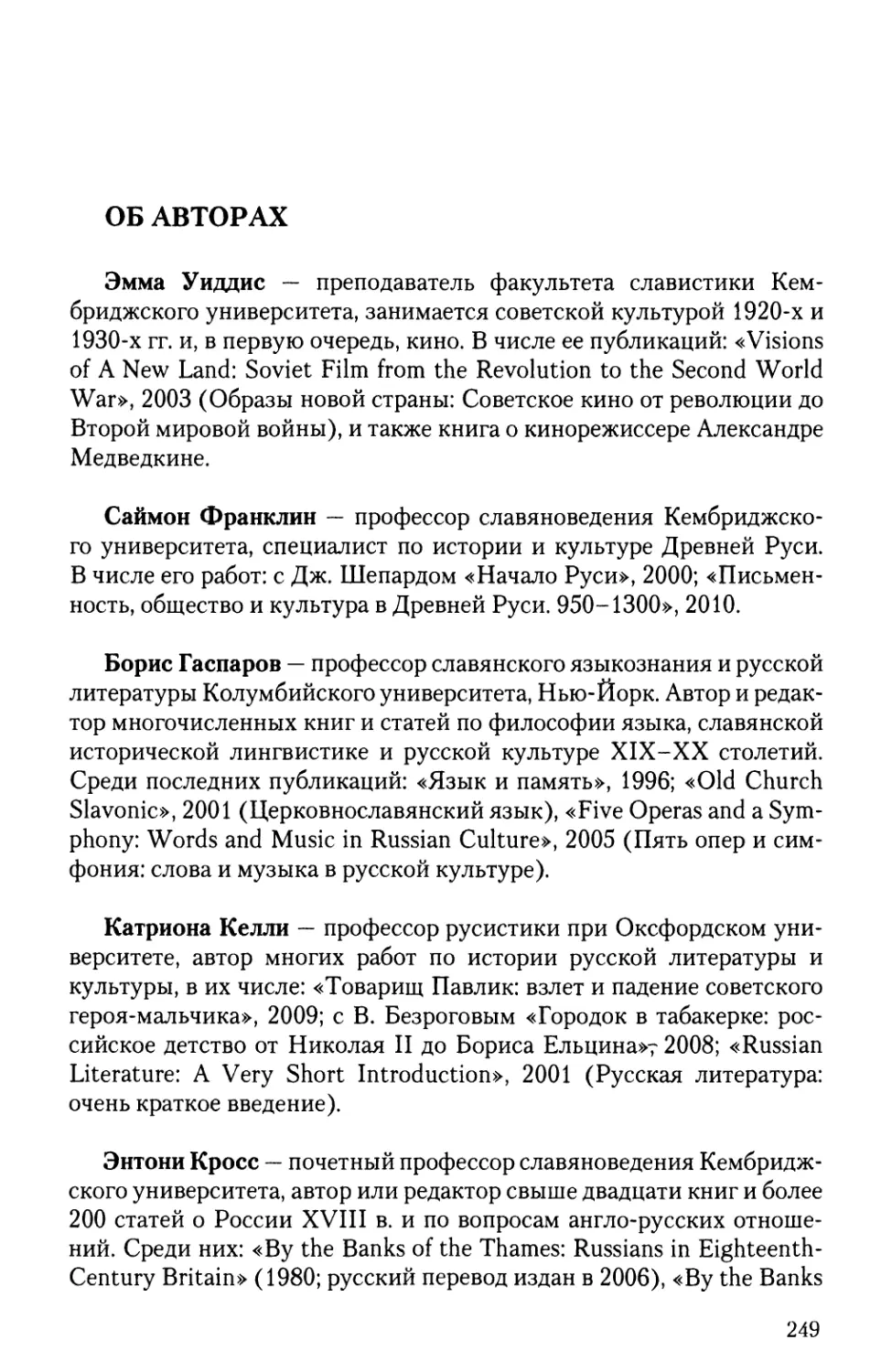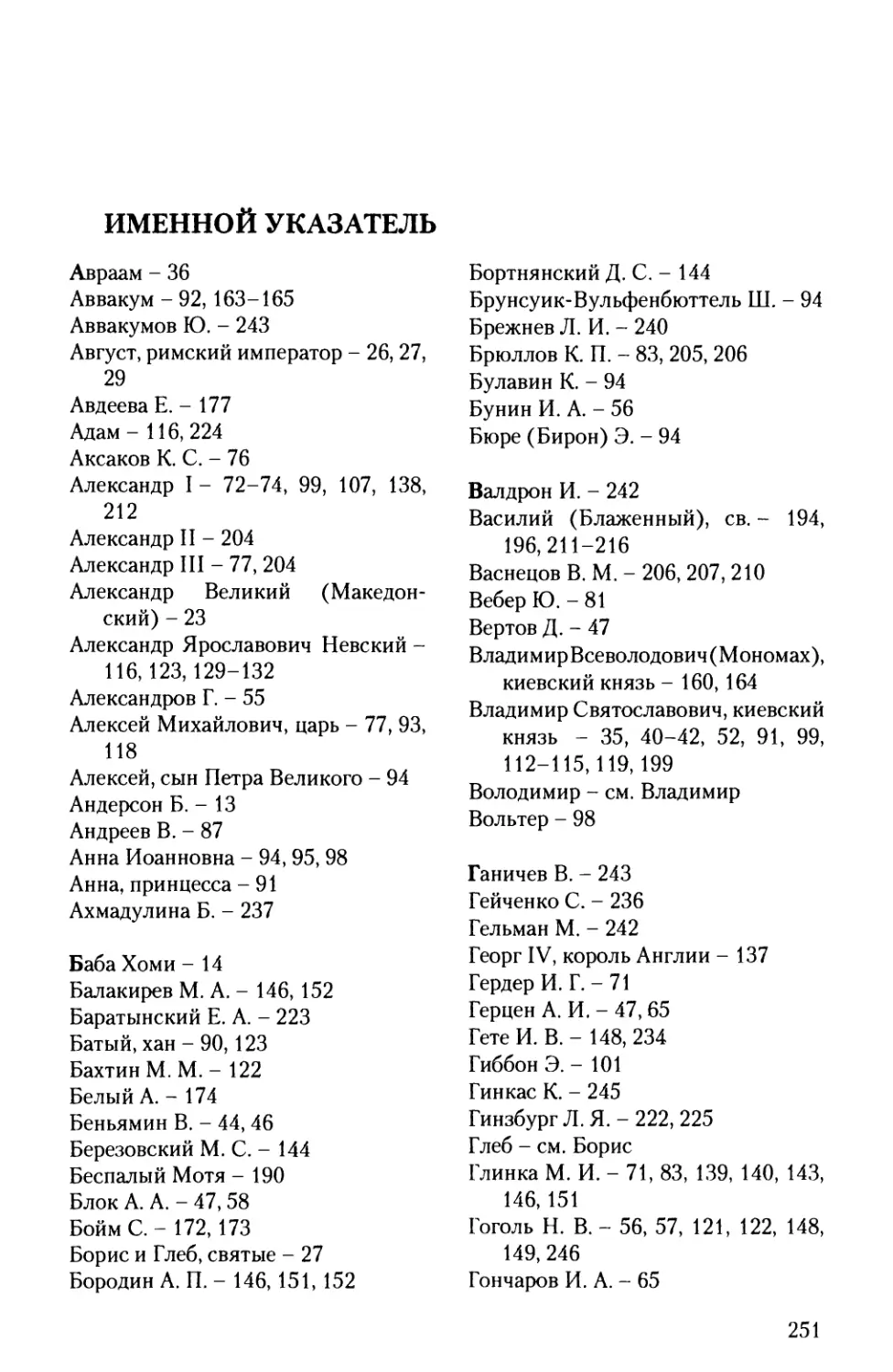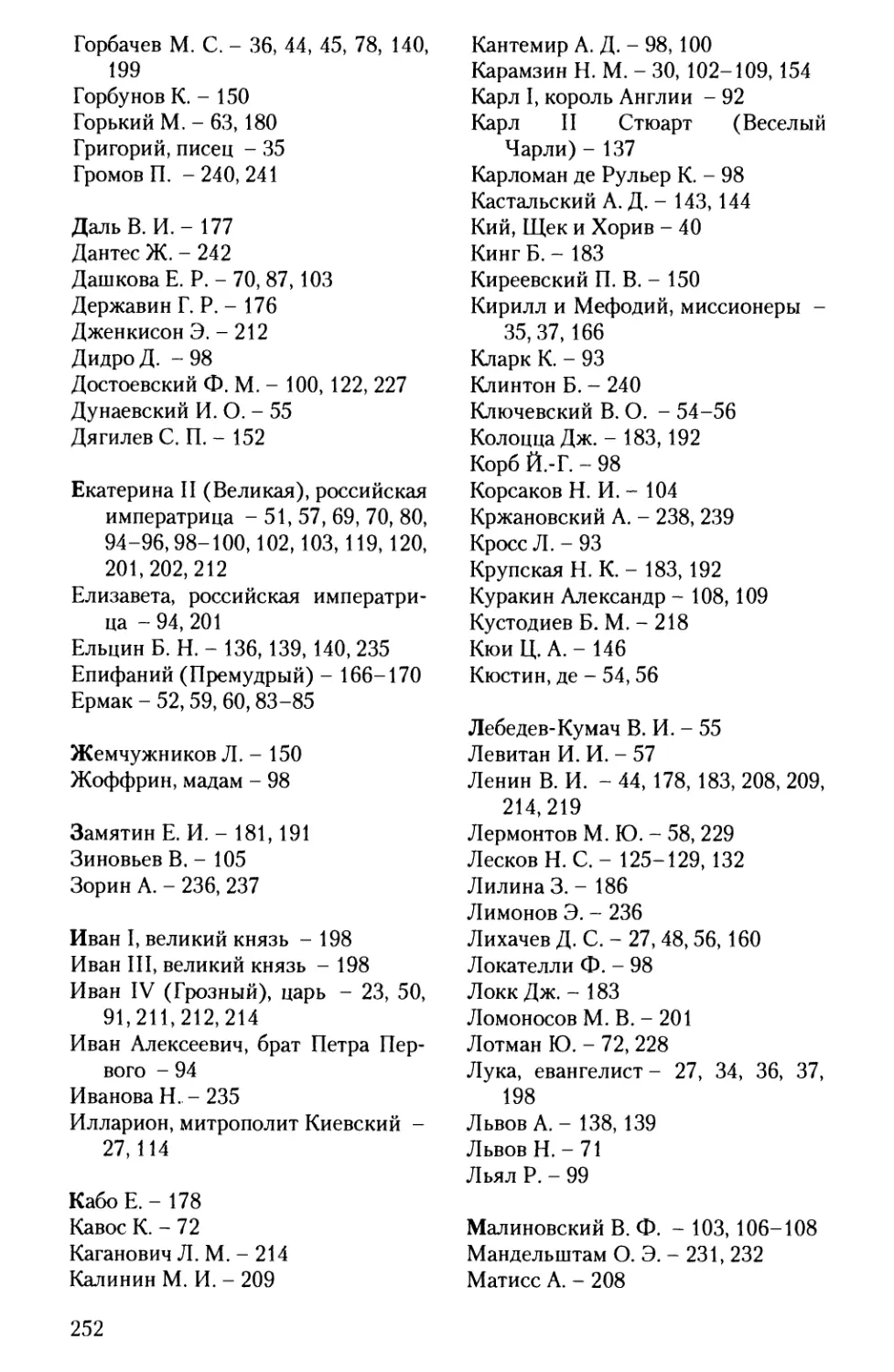Author: Франклин С.
Tags: социология культуры культурный контекст социальной жизни теория культуры культурология история культуры социология
ISBN: 978-5-8243-1637-7
Year: 2014
Text
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
В РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ
NATIONAL
IDENTITY
IN RUSSIAN
CULTURE
Edited by
Simon Franklin
and Emma Widdis
Cambridge University Press
2004
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
В РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Под редакцией
Саймона Франклина
и Эммы Уиддис
РОССПЭН
Москва
2014
УДК 316.7
ББК 71.05
Н35
Национальная идентичность в русской культуре / под ред.
Н35 Саймона Франклина и Эммы Уиддис ; [пер. с англ. В. Л. Арте¬
мова]. — М.: Политическая энциклопедия, 2014. — 254 с.: ил.
ISBN 978-5-8243-1637-7
Что такое Россия? Кто они, русские? Что такое «русское»? Вопрос
национальной идентичности давно волнует русские умы, и особенно
остро он встал в постсоветский период. Тысячу лет эти вопросы за¬
нимали центральное место в работах русских писателей, художников,
музыкантов, кинематографистов, критиков, политических деятелей и
философов. Проблемы национальной самоидентификации пронизы¬
вают русское культурное самовыражение.
Предлагаемый сборник — это обширное исследование, предназна¬
ченное для изучающих русскую культуру со времен Средневековья
до наших дней, написанное международной командой ученых. Это
доходчиво изложенный обзор, подкрепленный конкретными приме¬
рами, и одновременно разностороннее введение в центральную про¬
блему русской культурной истории — проблему национальной иден¬
тичности, представленную достаточно полно, но компактно.
УДК 316.7
ББК 71.05
ISBN 978-5-8243-1637-7
© Cambrige University Press, 2004
© Артемов В. Л., перевод на русский язык,
2014
© Политическая энциклопедия, 2014
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 6
ПРЕДИСЛОВИЕ 7
Глава 1. «Все России» или «Вся Русь»?.. Саймон Франклин,
Эмма Уиддис 12
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Идентичность во времени и пространстве 22
Глава 2. Россия во времени. Саймон Франклин 23
Глава 3. Россия как пространство. Эмма Уиддис 44
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Контрастные идентичности: «Мы» и «Они»... 65
Глава 4. «Мы»: русские о русском. Хубертус Ф.Ян 67
Глава 5. «Они»: русские об иностранцах. Энтони Кросс 89
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. «Сущностные» идентичности 110
Глава 6. Идентичность и религия. Саймон Франклин 112
Глава 7. Музыка русской души. Марина Фролова-Уокер 136
Глава 8. Идентичность в языке? Борис Гаспаров 154
Глава 9. Быт: идентичность и повседневная жизнь.
Катриона Келли 172
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Символы идентичности 194
Глава 10. Памятники и идентичность. Линдси Хьюз 196
Глава 11. «Пушкин» и идентичность. Стефани Сандлер 222
ПОСЛЕСЛОВИЕ 246
Об авторах 249
Именной указатель 251
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Эта книга была написана с учетом потребностей англоязычного
читателя. Это значит, что кое-где излагаются или объясняются вещи,
которые образованному русскому читателю могут казаться доволь¬
но элементарными, на грани снисходительности. К тому же авторы
местами обращают внимание на специфические вопросы английских
языковых или культурных эквивалентов. Все-таки мы решили, что
русская версия должна остаться переводом, а не адаптацией с учетом
другой среды. Во-первых, иногда напоминание о якобы само собой
разумеющемся оказывается небесполезным. Во-вторых, подобных
отступлений относительно мало. Надеемся, что они не сильно отвле¬
кают внимание от главного; а — главное это общий подход к теме, по¬
знавательная функция предложенной «сетки координат», иллюстра¬
тивная ценность или убедительность конкретного анализа весьма
разно-образных материалов.
Было бы в высшей степени наивно предполагать, что книга на дан¬
ную тему может вызвать общее признание. Когда речь идет о нацио¬
нальной идентичности или об определении характерных черт рус¬
ской культуры, в спорах рождаются дальнейшие споры. Это и есть
один из лейтмотивов книги.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Что такое Россия? Что такое «русское», «русскость»? Кто они,
«русские»? Тысячу лет над этими и схожими вопросами бились рус¬
ские писатели, богословы и философы, интеллектуалы и демагоги.
Явно или подспудно вопросы национальной идентичности прони¬
зывали русское культурное самовыражение, от самых первых лите¬
ратурных и художественных опытов жителей Древней Руси (пред¬
ков русских, украинцев и белорусов) в XI—XII вв. до участившихся
обращений с этими вопросами к самим себе в «новой» России после
распада Советского Союза в 1991 г. Явно или подспудно те же во¬
просы также пронизывают многие работы о России, написанные ино¬
странцами: учеными, журналистами, авторами путевых заметок или
аналитиками разведслужб. Зачем же в таком случае нужна еще одна
книга об этом? Зачем присоединяться к какофонии перебивающих
друг друга голосов?
Прежде всего, дело в объеме и удобстве. Мы надеемся, что наша
книга будет полезна именно потому, что об этом написано так много.
Нелегко найти общедоступный обзор, краткое, но достаточно много¬
гранное введение в эту центральную тему русской культурной исто¬
рии. Причина лежит на поверхности: Россия — необъятная страна с
огромным населением и многообразной культурой, зародившейся,
развивавшейся и принимавшей новые формы на протяжении сотен
лет. Вряд ли найдется человек, который по праву возьмется утверж¬
дать, что является специалистом по всем отраслям и видам русской
культуры, и большинство исследований, естественно, отражают
интересы их авторов в каких-то конкретных аспектах проблемы.
В этом нет ничего плохого. Результаты изучения конкретных явле¬
ний русской культуры могут оказаться выдающимися и стимулиро¬
вать дальнейшую работу. Есть, однако, определенные преимущества
и в аккумулировании научных ресурсов, накапливании общего опыта
ученых, специалистов в конкретных дисциплинах, разных областях и
периодах развития культуры. Никакой обзор в объеме одного сред¬
них размеров тома не может претендовать на полноту, и, тем не менее,
7
мы предприняли попытку передать некое представление о размерах и
многосторонности самой проблемы: о ее видоизменениях во времени,
о многообразии ее воплощения в разных формах и жанрах культур¬
ного выражения.
Кроме того, речь идет о самом подходе к проблеме. Многое в раз¬
говорах о русской идентичности навеяно верой или, по крайней мере,
представлением, будто на этот вопрос имеется ответ, будто русское —
это нечто такое, что можно выделить, описать и объяснить. Эта книга
исходит, скорее, из противного, а именно из того, что пытаться от¬
ветить таким образом значит, в известном смысле, подменить вопрос.
На самом деле идентичность — это нечто такое, что не поддается объ¬
ективному описанию. Это не предмет и не объект, а сфера культурной
коммуникации, культурного дискурса. Это представление каждого о
самом себе как о человеке, о своем отношении к социальной груп¬
пе или группам и об отличии от других людей или групп. Русское
самосознание было и остается предметом бесконечных споров, кон¬
фликтующих утверждений, сталкивающихся образов, противоречи¬
вых критериев. В этом-то все и дело. Нет необходимости разрешать
противоречия, принимать ту или иную сторону, стремиться разо¬
браться в соперничающих мнениях о сущности подлинной русской
идентичности. Какой-нибудь отдельной «реальности» вне выраже¬
ний идентичности в поле культуры не существует. Отсюда несколько
нарочитое название книги: «Национальная идентичность в русской
культуре». Идентичностью или идентичностями как раз и являются
многообразные выражения или конструкции культуры. Их реаль¬
ность или истинность нужно искать в их собственном существовании
как фактов культуры, а не в том масштабе, в каком они точно отража¬
ют некий набор внешних фактов.
И наконец, нужно иметь в виду организацию как книги в целом,
так и глав внутри нее. Взятые вместе, части и главы книги составлены
таким образом, чтобы образовать своего рода сетку, концептуальную
географию предмета, позволяющую находить соответствующее место
для различных категорий выражений идентичности. Эта сетка может
быть расширена и применяться не только в рамках конкретных ис¬
следований и аналитических работ, нашедших место в данной книге.
В пределах частей книги каждая глава обладает двойной структурой:
начинается с очень широкого обзора проявлений ее предмета, затем
по контрасту переходит к анализу небольшого количества конкрет¬
ных примеров. Если части образуют карту, то примеры — мозаику.
8
В каждой главе примеры сами по себе представляют собой всего лишь
иллюстративные фрагменты, но, складываясь вместе на протяжении
книги, они дают довольно представительную и нюансированную кар¬
тину разнообразных форм, которые принимают в практике культуры
представления о национальной идентичности. Чтобы книга была до¬
ступной для читателей, не имеющих специальных знаний о России и
русской культуре, приводимые географические названия, имена лю¬
дей или ссылки на события, насколько это возможно, объясняются, и
каждая часть предваряется кратким введением.
[XXX] Московское княжество, ок. 1450 г.
Китай
* I
Северный-Ледовитый
Nj\X1 Московское царство, ок. 1600 г.
| Советский Союз, 1945-1991 гг.
шшишш Границы Российской Федерации
Изменения границ России
10
океан
и Российской империи
11
Глава 1
«ВСЕ РОССИИ» или «ВСЯ РУСЬ»?..
Саймон Франклин, Эмма Уиддис
Первый принцип, из которого нам
следует исходить, это национальный ха¬
рактер: у каждого народа есть или должен
быть характер. Если у него нет характера,
мы должны начинать с того, чтобы ему та¬
кой характер дать1.
Жан-Жак Руссо
В 1902 г. некто Генри Норман (член британского парламента)
опубликовал книгу под названием «Все России: путешествия и ис¬
следования в современной европейской России, Финляндии, Сиби¬
ри, на Кавказе и в Средней Азии», явившуюся, по его утверждению,
результатом пятнадцати лет интереса к российским делам и четырех
путешествий по европейской и азиатской России. «Россия! — писал
он. — Какая стая мыслей взлетает, когда ухо слышит это слово! Да
разве есть какое-нибудь слово на любом языке, кроме дорогого серд¬
цу названия своей страны, которое бы столько значило сегодня?»1 2
«Что же такое Россия?» — спрашивал Норман во вступлении к
своей книге: это что — царь, православие, Санкт-Петербург, «необъ¬
ятная и почти бездорожная страна», Сибирь, Средняя Азия? Конечно
же, это все она. Норман заключил книгу любопытным утверждением,
что «легче сказать, что не есть Россия... В мировых делах, куда ни по¬
вернись, увидишь Россию, когда бы ни прислушался, услышишь ее.
Она шествует по всем дорогам». «Расползающийся шепот мира — это
ее шаги, “разливающаяся мгла” — ее вуаль. Нации, всматривающиеся
из-за своих границ, на требование ответить слышат неизменно: “Кто
идет?”... “Россия!”»
Делая скидку на поэтические изыски Нормана, нужно отметить,
что его слова мало что утратили в своем резонансе и более чем через
сто лет после того, как были напечатаны. Запугивания мощью России
и исходящей от нее угрозой пронизывают западные представления о
Российской империи, Советском Союзе и, если на то пошло, о Рос¬
сийской Федерации первых лет XXI в. Теперь, когда не осталось и
1 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М, 1969. С. 268.
2 Norman Н. All the Russias: Travels and Studies in Contemporary European
Russia, Finland, Siberia the Caucasus and Central Asia. London, 1902. P. 1.
12
следа от империи, описанной Норманом в 1902 г., когда Советский
Союз распался, Россия продолжает быть самой большой страной в
мире и обладает мощью столь же символической, сколь и реальной.
Книга Нормана была не единственной, а одной из многих попыток
вкратце рассказать о России западным читателям. Часто они были
наполнены той же загадочностью и мистичностью, которыми прони¬
зана книга Нормана. Россия казалась чем-то ни на что не похожим,
местом и культурой, которые, по всей вероятности, никак не вписы¬
вались в привычную для западного ума географию. Где, например,
эта Россия? Это что, «Запад» или «Восток»? Она «должна быть»
западной, поскольку, как и «Запад» (который при таком сравнении,
скорее всего, рассматривается как единое культурное образование),
она является наследницей традиций христианства и Просвещения и
ведущим участником «западных» традиций в литературе и музыке?
Или, может быть, она «должна быть» восточной, т. к. расположена
преимущественно в Азии, считается мистической и авторитарной в
подходе к религии, монолитной и деспотичной в подходе к управле¬
нию? И все же она не совсем «Восток» — не Индия, не Персия или
Китай, которые, проводя аналогичное сравнение, также представля¬
ют собой единое культурное образование. Неопределенность в этом
смысле приводит к изобретению для России особого физического и
концептуального пространства — «Евразия».
К счастью, все недостатки и вся надуманность таких определе¬
ний не имеют прямого отношения к нашей работе. Нас занимают
не западные представления о России, а представления русских о
самих себе. Западные стереотипы играют для нас роль только в той
мере, в которой (как это иногда случается) они проникают обратно
в Россию и оказывают влияние на русские способы самовыражения.
И в отличие от Нормана и других мы не стремимся дать определе¬
ние «русскому». В центре внимания авторов этой книги находится не
какая-нибудь надуманная «истинная» идентичность, которую можно
рассмотреть, вглядываясь в русское прошлое и настоящее, и не какое-
нибудь принятое определение государственности, гражданства или
национального характера. Точнее сказать, Россия интересует нас,
выражаясь словами влиятельного историка и теоретика Бенедикта
Андерсона, как «воображаемая община»3. Предположение Андерсо¬
на, что национальное самосознание строится и сохраняется в куль¬
турных текстах, предлагает нам теоретическое обоснование настоя¬
щего сборника так же, как создает основу для имевших в недавнем
прошлом место теоретических обоснований понятий «нация» и «на¬
3 Anderson В. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread
of Nationalism. London, 1993.
13
циональность». Нация, пишет Хоми Баба, это «система культурных
значений»4. Она заключена в ее текстах — ее флагах, гимнах, памят¬
никах, народных героях, образовательной практике, в ее фольклоре и
литературе. В этих текстах воплощаются, превращаясь в реальность,
абстрактные идеи России и «русского», делая коллективное самосо¬
знание зримым для тех, кто причисляет себя к нему. В качестве тако¬
вых они фактически создают идентичность. Вернее, они создают те
идентичности, благодаря которым Россия и русское принимают не¬
прерывно меняющиеся формы. Поэтому национальная идентичность
это процесс, а не результат. Тем не менее мысль о том, что мы имеем
дело с «воображаемой» Россией и «русскостью», не должна означать,
что это не реальные вещи. Несколько упрощенно говоря, сказать, что
подобные вещи воображаются, не то же самое, что утверждать, буд¬
то они только мнимы. Скорее, эти воображаемые русские идентич¬
ности — так, как они написаны, как они обсуждаются, изображаются
или поются — это и есть единственно существующие идентичности.
Они существуют как факты культуры, и сама культура есть факт. Ко¬
нечно, они являются составными частями нескончаемого процесса
формирования идентичности, хрупкими и всегда незаконченными,
но они ведь также пережиты, а значит, реальны.
Восприятие нации как текста в широком смысле слова или как
сферы культурного дискурса поднимает неизбежные вопросы и о
производстве, и о потреблении. Кто пишет тексты национальной
идентичности, кто их читает или соглашается с ними? Если образы
русской идентичности содержатся в продукции культуры, то кто их
создает? И кто разделяет эти образы, кто поддается их влиянию или
видит в них собственное отражение? Ясно, что идеи о России и рус¬
ском, которые стали предметом исследования в этой книге, нельзя
рассматривать единственно как творение аппарата государственного
управления. Нельзя считать их и продуктом какого-нибудь инстин¬
ктивного народного излияния чувств. Они — производное одновре¬
менно от деятельности государства и народа, политики и практики.
Но в то же время они в значительнейшей степени — плод усилий тех,
кого можно назвать «производителями культуры» в самом широком
смысле слова (интеллектуалов, писателей, деятелей кино, картогра¬
фов, историков, музыкантов, богословов, философов, художников
и j. д.). На этих образах России, реализованных в культуре, мы и со¬
средоточиваем внимание читателя нашей книги. Интересно, конечно,
было бы знать, насколько широкие слои населения могли знакомить¬
ся или ассоциировать себя с теми или иными аспектами конкретных
типов идентичности и в какое время. Однако в целом мы пытаемся
4 Homi Bhabha (ed.). Nation and Narration. London, 1990. P. 2.
14
не попасть в западню и не принимать за само собой разумеющееся,
что население, обязательно должно разделять любую идентичность,
которую ему приписывают. К счастью, подобные вопросы остаются
за пределами тематики данной книги. В общем, дискурсы о нацио¬
нальной идентичности могут распространяться настолько широко и
эффективно, насколько способны это осуществлять соответствую¬
щие культурные технологии, хотя не следует исходить из того, что
современные технологии, при всей своей массовости и быстроте про¬
изводства и распространения, в конечном счете обязательно окажут¬
ся более всеохватными, чем технологии прошлого.
Всеохватность подразумевается в названии книги Генри Нормана
«Все России», и получилось так, что это же название было рабочим
для нашей книги, и мы сохранили его для настоящей вводной гла¬
вы. Это отнюдь не означает претензии на исчерпывающую полно¬
ту. Польза этого названия заключается скорее в том, что оно может
пробуждать многообразные культурные ассоциации, ибо выражение
«Все России» может читаться по меньшей мере на трех уровнях.
На одном уровне выражение «Все России» не может не быть эхом
традиционной английской терминологии по отношению к Россий¬
ской империи. Вследствие не совсем точного — или, вернее, совсем
не точного — перевода «Царь (Самодержец) Всея Руси (или Всерос¬
сийский)» стал на английском языке «Царем (Самодержцем) Всех
Россий» («Tsar (or Autocrat) of All the Russias»), чье царство вклю¬
чало в себя «Великую, Малую и Белую России»5. Употребление этой
формулы в настоящем контексте не должно, конечно, воспринимать¬
ся как утверждение подразумеваемой принадлежности Украины и
Беларуси к России в качестве ее подлинных или исконных состав¬
ных частей. Здесь всеохватность данного фразеологизма не имеет
никакого отношения к современной политике. Этот термин просто
означает, что границы предмета нашего исследования — это истори¬
ческие границы русского культурного самопредставления, и ни со¬
временная политическая карта, ни наши или чьи-нибудь еще пред¬
ставления о том, что должно быть или должно было быть Россией,
не могут влиять на них. На втором уровне, таким же образом, фраза
«Все России» может пониматься как отсылка к представлению о че¬
редовании политических воплощениий страны и народа за послед¬
нее тысячелетие: Древняя Русь, Московское царство, Российская
империя, Советский Союз, Российская Федерация. О фактической
основе подобной конструкции опять-таки можно спорить, а тут речь
5 Получается, что употребление множественного числа в английской
версии царского титула несет еще более «империалистические» оттенки, чем
единственное число в русском оригинале!
15
идет именно о культурном дискурсе, поэтому укладывается в рамки
настоящего обзора. На третьем уровне, и наиболее показательно, все¬
охватная фраза «Все России» может говорить о множественности и
многослойности идентичностей, которые могли бы составить поле
«русского», «русскости».
Значительная часть русской культуры, явно или косвенно, в боль¬
шей или меньшей степени, обращена к самой себе, пронизана темой
России или русскости. Однако подразумеваемое собственное «я»
оказывается вовсе не постоянной и отчетливо определяемой сущно¬
стью. Русская культура выражает целую цепь разного рода «мифов»
о России и русском (здесь миф понимается как нарратив, который
как будто легитимирует происхождение и существование данной
общности как факт культуры, независимо от его отношения к фак¬
там истории). Вот почему, хотя постоянно утверждалась ее сущность,
Россия так же непрерывно представлялась как вопрос, как некое поле
возможностей, как набор противоречий. Эта книга не ставит себе це¬
лью попытку разрешить возникающие противоречия ради того, что¬
бы объяснить, что такое Россия и русскость в самом деле. Ее цель
помочь читателю разобраться в многочисленных типах критериев
и выражений России и русскости. Можно сказать, что в известном
смысле русская национальная идентичность обнаруживается не в
итогах дискуссий и споров, а в самой их природе. Недостаток поня¬
тия «Все России» не в его политически чреватой множественности,
а в нереализуемом ожидании определенной полноты, всеобщности и
потенциальной завершенности.
До этого момента мы пользовались несколькими терминами, не
проводя между ними отчетливого разграничения: Россия, российский,
русский, русские, русское, русскость — так, словно они равнозначны
по отношению к национальной идентичности. Беда в том, что они как
раз не равнозначны. Лексическая многовариантность представляет
собой теоретическую или по крайней мере практическую проблему.
В западноевропейских рассуждениях о «национализме» и «нацио¬
нальной государственности» Россия часто не фигурирует. Россия не
является и никогда не была «национальным государством», у которо¬
го совпадают геополитические и этнокультурные границы. В какой-
то степени с самого начала она была полиэтническим, многоязычным
государственным образованием — империей (даже если ее правители
не всегда ее так называли), но с сильным преобладанием славянского
населения и славянской культуры. Русь, Российская империя, Со¬
ветский Союз — все они были растущими державами, непрерывно
раздвигавшими свои территориальные границы и сферы влияния
путем завоеваний и аннексий. Создание «великорусской» идентич¬
16
ности сделалось политическим императивом, процессом культурно¬
го освоения. Так как же в таком случае рассматривать Россию — как
имперское образование или как национальное государство?
Возможно, «проблема» русского — отчасти в его шатком поло¬
жении между этими двумя понятиями. В известной степени можно
сказать, что оно находится на самой разграничительной линии меж¬
ду имперской и национальной идентичностью или, точнее, между
геополитическим и этнокультурным критериями самоопределения.
В английском языке это порождает двусмысленность: все ли гражда¬
не «России» (Russia) — «русские» (Russians), невзирая на их родной
язык, религию, одежду или политические устремления? Даже в до¬
статочно специализированных западных публикациях было приня¬
то употреблять слово «русский» в качестве синонима «советскому»
(равно как в России и других странах часто слово «английский» упо¬
требляют вместо «британский»). Или являются ли «русские» отдель¬
ной национальностью, невзирая на место жительства или на то, где
на карте проведены границы? В русском языке проблема частично
разрешалась тем, что развивалось лексическое и семантическое раз¬
личие между формами русский и российский. Оба слова передаются
по-английски как «Russian», хотя только российский относится к Рос¬
сии как геополитическому образованию (отсюда имперская идентич¬
ность), а русский носит более узкий этнический и лингвистический
характер. Существование этих двух прилагательных отражает сосу¬
ществование геополитического и этнокультурного критериев само-
описания. В России их сосуществование не всегда было легким.
Подобные концептуальные неопределенности мигрируют через
языковые границы в обоих направлениях. Ряд русских концепций
с трудом вписывается в английские. Важнее, однако, что и русские
концептуальные инструменты для самоопределения часто сами им¬
портировались из других языков и культур и адаптировались на ме¬
сте. С момента обращения в христианство в конце X в., пройдя эпоху
Просвещения XVIII в., набравшись идей романтизма и марксизма,
придя к рыночному капитализму и глобализации, русские, кажет¬
ся, периодически стремились найти себе место на концептуальной
карте, которую до них и для других мест придумали другие народы,
а потом поменять его. Это можно понимать абсолютно буквально.
В России, например, Иерусалим — часть «Ближнего Востока», хотя он
располагается несколько к западу от Москвы: в этой метафорической
географии сам язык говорит о принадлежности к Западной Европе.
В определенном смысле русское представление об идентичности
сформировалось в подразумеваемом диалоге с заграницей. Возмож¬
но, было бы преувеличением утверждать (пользуясь термином, ко¬
17
торый ввел в научный оборот американский литературовед Харольд
Блум), что русскую культуру отличает «страх влияния», но с полным
основанием можно констатировать присутствие в русской культуре
постоянных переговоров о влиянии, ощущения связи с неким «дру¬
гим», и реальным, и воображаемым.
Наше введение в русские идентичности в этой книге не устраняет
такие двусмысленности и противоречия. Мы не скованы никакими
теориями национального государства, никакими рассуждениями об
империи или какими-либо идеями из длинного чередования проти¬
воборствующих систем, будь они привнесены извне или рождены
на почве этой страны. Наша цель, наоборот, состоит не в том, чтобы
сложности и столкновения разрешить, а в том, чтобы их проследить и
выявить. В какой-то мере «русскость» и есть именно тот культурный
процесс постоянного взаимодействия различных и подчас несовме¬
стимых концепций и моделей идентичности.
Части и главы нашей книги — это ориентиры в широком поле фор¬
мирования идентичности. Они должны снабдить читателя средствами
для обозрения этого поля и разметки измерений русской идентично¬
сти. Заголовки, которые мы выбрали, нельзя считать исчерпывающи¬
ми. Создавая узловые точки коммуникации, они представляют собой
главные идеи, или области, вокруг которых вращаются разговоры об
идентичности. Предлагаемая нами «сетка координат»» создает си¬
стему, помогающую видеть идентичность как поле значений. Каждая
часть книги исследует разные типы идентичности, а главы в преде¬
лах частей исследуют эти широкие концептуальные категории при¬
менительно к русской культуре. Сетка не может рассматриваться как
ключ к тайнам сущности русского, это всего лишь конструкция, по¬
могающая ориентироваться в представлениях о нем.
Часть первая — она же первая составляющая нашей «сетки» — ка¬
сается идентичностей во времени и пространстве. В ней исследуют¬
ся попытки выстроить или интерпретировать Россию как временную
или физическую данность. В Главе 2 рассматривается важность исто¬
рии в нарративах об идентичности. Представления об общей истории
создают общее чувство настоящего и будущего. Однако эти представ¬
ления об истории сами не остаются стабильными. Есть много возмож¬
ных вариантов изображения России во времени. В дискурсе о русско¬
сти совмещаются, конкурируют и взаимодействуют неодинаковые
истории, непохожие мифы и альтернативные объяснения прошлого.
В Главе 3 мы говорим о тех же проблемах определения места в про¬
странстве. Для того чтобы концептуализировать страну, нам прежде
всего нужно определить, где она расположена, ее форму и размеры,
18
и то, как она выглядит. Другими словами, нам нужна своего рода ум¬
ственная или физическая карта. Необъятная и разнообразная, часто
враждебная и незаселенная, русская территория создает проблемы не
просто для управления, но и для символического определения. Где
находятся границы нации? Как задавал вопрос Генри Норман, что
можно назвать русским пейзажем? Может ли существовать общий
для всех образ национальной территории?
В первой части определено (или, если быть точнее, запутано) ме¬
сто России во времени и пространстве. Во второй исследуется то, что
мы назвали «контрастной идентичностью». Наше внимание пере¬
мещается с России на русских и исследуется, как определение соб¬
ственной национальной принадлежности выражается и передается в
политических и культурных формах. Что русские думают по пово¬
ду того, кто или что они? Идентичность часто устанавливается через
сопоставления и сравнения. «Мы» определяем, кто «мы» такие, не
просто через самих себя, а через то, как, по нашим представлениям,
мы похожи или не похожи на «них». То есть, можем определять, кто
мы, определяя, кем мы не являемся. Здесь возникают вопросы об общ¬
ности и принадлежности к той или иной группе, потому что нацио¬
нальное «я» непостоянно. Должна ли национальная принадлежность
определяться этнической принадлежностью? Или принадлежностью
социальной? Как могут различные слои населения, разделенные клас¬
совыми или расовыми барьерами, интегрироваться и объединяться в
одной общности под названием «мы»? Как на критерии идентичности
влияет статус России как имперской державы? В Главе 4 рассказыва¬
ется о российских взглядах на представления о себе, прослеживают¬
ся официальные и неофициальные интерпретации образа «народа».
В Главе 5, напротив, рассматриваются образы «других» и пока¬
зывается, как рассуждения об иностранцах и образы иностранцев
создали поле, в котором испытывались и отрабатывались русские
идентичности.
Наша третья часть посвящена «сущностным» концепциям иден¬
тичности — представлению о том, что мы врожденно такие, какие
есть, и что мы уникальны. Сущностный подход видит национальную
идентичность как проявление врожденных характеристик и создает
и поддерживает идею нации как единой общности и сущности, неиз¬
меняемой во времени (и в пространстве). Гетерогенность народа как
таковая сводится к гомогенности, множественность — к единичности.
Такие мифы идентичности могут утверждать, например, что русские
Действительно смотрят на мир очень по-своему, что все они право¬
славные, все меланхолики и люди страстные, что у них особое отно¬
шение к повседневной жизни и т. п. Широко распространенная идея
19
«русской души» — показательный пример такого сущностного мифа
идентичности. Четыре главы этой части отслеживают четыре гипоте¬
зы русского, показывая, как эти гипотезы сложились и функциониро¬
вали на протяжении долгой русской истории. В Главе 6 исследуется
статус православия как символа идентичности и показывается, как
религия использовалась для кодирования различных категорий и об¬
разов России и русского. Глава 7 рассматривает миф о «душе», ис¬
пользуя пример русской музыки для выяснения появления меланхо¬
лии как тропа идентичности. В Главе 8 речь идет об идее, что русский
язык характеризуется рядом чисто «русских» черт или что он созда¬
ет сущностные образы русского. Глава 9 обращается к повседневной
жизни, рассказывая и разъясняя сущностные мифы специфического
русского «быта» или «отношения к существованию».
Четвертая (последняя) часть книги трактует о «символических»
идентичностях, показывая, как в дискурс об идентичности проника¬
ли визуальные и словесные символы. Как становятся олицетворе¬
нием идентичности конкретные здания, памятники и скульптуры?
В Главе 10 излагается история русских памятников — зданий, кар¬
тин и скульптур, которым со временем придали значимость, а так¬
же рассказывается о том, как эта значимость менялась. Кроме того,
здесь говорится о том, как в России пришли к идее использовать и
пропагандировать памятники в качестве символов идентичности и
какой резонанс это получило в современный период. Наконец, и без
сомнения к месту, наша последняя глава посвящена одному из знаме¬
нитейших сынов России (и одному из наименее успешных предметов
экспорта) Александру Сергеевичу Пушкину. О Пушкине говорится
не как о поэте или исторической фигуре, а как об идее, символе рус¬
ской идентичности. На примере Пушкина мы можем видеть, как под
влиянием дискурса идентичности формируются и меняют форму его
объекты, делая реальность поэта и его работ средством, с помощью
которого проецируются находящиеся в процессе постоянного изме¬
нения способы выражения русскости.
Общие координаты нашей «сетки» позволяют читателю про¬
следить за обсуждением понятий «Россия» и «русскость», которое
не прекращалось на протяжении тысячелетних видоизменений —
исторических, идеологических, географических и культурных. На¬
чавшись в XI столетии, они продолжаются и в начале XXI в. Эти
координаты создают широкие хронологические и концептуальные
рамки, позволяя представить себе русскую историю, не скованную
историческим периодом. Они охватывают историю трансформаций
идеи «русского» во взаимодействии с разными культурными и идео¬
логическими влияниями и сдвигами от византийского богословия до
20
постмодернизма. Для того чтобы не утратилась связь между отдель¬
ными элементами в пределах такого широкого исследования, каждая
глава имеет общую структуру. Первые абзацы каждой главы в общих
словах представляют излагаемую в них тему в широкой временной
перспективе. Они рассказывают о том, как обсуждались, представля¬
лись и оспаривались определенные измерения идентичности. Даль¬
нейшие параграфы предметно иллюстрируют, как проходят такие
процессы на уровне конкретики. Такой переход от общего к частному
очень важен. Достаточно сказать, что идентичность содержится имен¬
но на уровне конкретного, в деталях. В десяти главах наши соавторы
исследуют широкий спектр культурных текстов. Взятые вместе, они
показывают текстуру идентичности, переплетение нитей и много¬
численных слоев предполагаемой «русскости».
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ
Для того чтобы описать Россию, сначала нужно ее обозначить:
найти, очертить, идентифицировать, другими словами, определить
как объект — во времени и пространстве. Вернее, так обычно пред¬
полагается. Вполне естественно, казалось бы, исходить из того, что
страна — это определенное место с определенной историей; посмо¬
трите на карту: вот она, Россия, и ее история, это важные события,
которые происходили в ней и вокруг нее на протяжении времени ее
существования. Однако найти Россию — дело далеко не такое про¬
стое. Россия во времени это не нечто однозначное, зафиксированное,
это целый набор возможных вариантов историй, и в течение времени
разные объекты, которые мы или их обитатели могли бы называть
Россией, появлялись в совершенно разных формах и размерах, и
даже в разных местах.
В Главе 2 рассматриваются линейные нарративы о России, появле¬
ние и развитие версий, имеющих целью создать и поддерживать чув¬
ство «исторической» связи и значимости: от летописей и проповедей
XI-XII вв. до постсоветских размышлений о советском и досоветском
прошлом. Во второй части главы на двух примерах иллюстрируется,
как современные культурные продукты могут целенаправленно ма¬
нипулировать (грубо или тонко) накопившимися представлениями
для того, чтобы подспудно и порой спорно передать определенные
версии национальной идентичности.
Глава 3 начинается с обзора меняющихся политических границ и
перемещения политических центров от Киевской Руси до Московии,
империи со столицей в Санкт-Петербурге, Советского Союза и, нако¬
нец, постсоветской Российской Федерации. Речь здесь идет не про¬
сто о расширении (expansion), а о просторах (expanse). Расширение —
геополитический процесс, а просторы становятся господствующим
образом России, сферой воображения, метафорой, которая перено¬
сит из области физической в область духовную, к представлениям не
только о России, но и о русском. И все-таки и это спорно и неопреде¬
ленно. Приводимые в главе примеры иллюстрируют постоянное ба¬
лансирование или напряженность между образами хаоса и порядка,
завоевания и свободы, открытости и замкнутости.
22
Глава 2
РОССИЯ ВО ВРЕМЕНИ
Саймон Франклин
В конце 1990-х гг. в Москве была издана книга с тем же названием,
что и эта глава: «Россия во времени». Цитирую из ее заключительной
части: «На огромных пространствах Евразии, в самых различных ее
частях, обнаружены многочисленные надписи, созданные на языке
древних славян... Распространение древними славянами письмен¬
ности... привело... к созданию следующих цивилизаций: убаидской:
шумерской, вавилонской (?), прото-индийской, хеттской (?), крит¬
ской, древнегреческой, древнеримской (и в конечном счете, европей¬
ской), славянской»1. Такого рода грандиозные притязания русских
на многотысячелетнюю историю довольно характерный продукт
постсоветского бума дилетантской истории. Книжные полки ломят¬
ся под тяжестью еще более амбициозных утверждений: будто древ¬
ние этруски были предками русских, будто Иерусалим был русским
городом и что поэтому Христос был русским пророком. Или уж со¬
вершенно наоборот, согласно одной из особо нашумевших теорий, в
мировой истории нет ничего древнее тысячи лет, и Александр Маке¬
донский просто выдумка времен царя Ивана IV Грозного (XVI в.).
В хаосе свободы постсоветских популярных изданий Россия во вре¬
мени стала удивительно эластичной.
Историки делают недовольную мину. Но в данном случае дело не в
том, правильны ли эти утверждения (почти во всех таких случаях они
оказываются полной чепухой), но в общей озабоченности приданием
времени определенной формы, в отсутствии сомнений в том, что при¬
даваемая времени форма оказывает влияние на выявление того, кто
есть «мы», в уверенности, что в линейном отражении истории во вре¬
мени лежит ключ или один из ключей к тому, что обычно называется
«исторической идентичностью». Такая убежденность начинается не с
ощущения историографической свободы — или анархии — постсовет¬
ского периода. Дело в том, что законодатели общественного мнения
России, пока они имели возможность писать (возможно, и дольше),
стремились определять себя и свой статус, контролируя линейное
видение истории и определяя временные формы и их толкование.
Первая часть главы содержит поэтому пересказ этих вариантов фор- 11 Сторожев А. Н., Сторожев В. Н. Россия во Времени. Кн. 1: Древняя
история сибирских и славянских народов. М., 1997. С. 85. Вопросительные
знаки поставлены авторами.
23
мирования времени, обзор направлений, по которым в русском куль¬
турном дискурсе складывалось «существенное» время. Впоследствии
мы обратимся к конкретным примерам того, как толкования времени
могут быть инкорпорированы в — и распространены через — другие
формы культурной продукции.
Следует заранее предупредить о двух вещах. Первое, в этом об¬
зоре рассматриваются главным образом источники, созданные по¬
литическими и культурными элитами. Хотя в разной степени при¬
вилегированным группам, возможно, удалось убедить других, так что
некоторые их идеи получили очень широкое хождение, тем не менее
я совершенно не претендую на то, чтобы утверждать, что и как дума¬
ли русские «вообще». Во-вторых, данный обзор неизбежно страдает
от крайней схематичности. На нескольких страницах суммировать
целое тысячелетие без значительной доли упрощения невозможно.
1. Обзор: краткая история историй
Мы начинаем с первых письменных памятников местной истори¬
ческой мысли, с самых ранних древнерусских повествовательных и
аналитических источников, касающихся вопроса о самоопределении.
Следует подчеркнуть, что Древняя Русь, т. е. страна «русов», — это не
современная Россия. Ее вообще нигде в современном мире нет. Она
занимала пространство, ассоциировавшееся со сферой влияния на¬
рода или, во всяком случае, правящей династии, которую называли
Русь или Рос. Сфера влияния Руси, определявшаяся способностью
вымогать деньги и товары у местного населения (что называлось
взиманием дани), распространялась в стороны от сравнительно ком¬
пактного ядра по оси север — юг между городами Новгород и Киев, и
доходила до значительной части того, что теперь стало Европейской
частью России, Беларусью и Украиной. Греческие писатели называли
эти земли Росия (Rhosia). Латинским авторам она была известна как
Russia. Несмотря на их хронологическую отдаленность от нас, пер¬
вые внятные попытки древнерусских писателей определить для себя
идентичность во времени нельзя рассматривать просто как любопыт¬
ные артефакты глубокой древности, всего лишь как фон для более
поздних и якобы поэтому более «подлинных» версий истории. Древ¬
нерусские книжники как будто установили такие «повестку дня» и
систему координат, которые оказались поразительно устойчивыми и
непрерывно всплывали в последующих возвращениях к теме. В ми¬
фологии идентичности самое далекое прошлое может воспринимать¬
ся столь же «актуальным», как сегодняшняя утренняя газета.
Самые первые нарративы древнерусского самоопределения
пришли за официальным обращением в христианство, условно да¬
24
тируемым 988 г.2 Обращение могло иметь множество значений
для разных людей. В числе значений могли быть элементы полити¬
ческого, экономического, этического и эстетического, не говоря уже
о верованиях и вере. Здесь следует подчеркнуть тот аспект христиан¬
ства, который можно назвать колонизацией времени.
Импортированная религия стремилась колонизировать любое из¬
мерение времени, от деления каждого дня до времени существования
самой Вселенной: установленные часы церковных служб, более под¬
ходящие для характерной для Средиземноморья смены дня и ночи,
а не для типичного для Севера сезонного цикла перехода от светло¬
го времени суток к темному, новые имена и длительность месяцев,
новый дневной календарь, построенный по регулярному циклу по¬
миновения святых, эзотерические циклы передвигаемых в календа¬
ре праздников, привязанных к Пасхе. Такое короткое циклическое
времяисчисление — это, скорее всего, то, что отражалось непосред¬
ственно на жизни большинства людей. Но в контексте нашего иссле¬
дования намного важнее представление о более масштабном видении
времени: сама идея мировой истории, измеряемой точно по единой
линейной последовательности лет и значимое тематическое деление
этой истории, названия глав в «книге мира».
Христианство на Руси было воспринято, церковь на Руси разви¬
валась в рамках юрисдикции Константинопольской патриархии. Ви¬
зантийское летоисчисление, в отличие от Западной («Латинской»)
церкви, вело счет годам не от рождения Христа, а от Сотворения
мира. Отсюда древнейшие собственные исторические сочинения,
хроники, которые начали составлять где-то в середине или во второй
половине XI в., организованные по летописному принципу, распре¬
деляли события по годам, отсчитываемым от года Сотворения мира:
в году 6523 умер такой-то и такой-то князь, в году 6524 произошло
такое-то и такое-то сражение. Первой задачей самоопределения было
установить, в какой точке Русь сама вписалась во всеобщую сетку
координат, в последовательную смену временных лет. Летописцы
считали, что «Русская земля» появилась приблизительно в середине
IV в . седьмого тысячелетия после Сотворения мира — что означает по
западному летоисчислению около 850-860 гг.
Но одной последовательности в смене лет недостаточно. Пусть
кое-что происходит раньше и кое-что происходит позже, а смысл-
то в этом какой? Значит, помимо голой хронологической последо¬
вательности необходимы другие типы представлений, чтобы время
приобрело осмысленную форму. Самые существенные значения это
те, которые созданы тогда, когда можно нарисовать разные типы
2 Подробнее см. главу 6.
25
историй и свести их вместе во времени, показать их взаимопроник¬
новение, усилить одно за счет другого, создать впечатление предо¬
пределенности следования событий. В Византии эту проблему реши¬
ли давно. Несмотря на то что византийцы не вели летоисчисления
от рождения Христа, это событие все же рассматривалось как раз¬
граничение между фазами последовательного хода времени. А что
еще происходило в эпоху, когда родился Христос? Рождение Рим¬
ской империи при Августе, первом императоре. Это воспринималось
византийцами как чудесное и поэтому отнюдь не случайное совпа¬
дение. Совершенно ясно, Бог избрал Римскую империю в качестве
своего посредника: вселенская империя для вселенской веры. Таким
образом, христианизированная Римская империя — Византийская
империя со столицей в Константинополе — была воплощением Бо¬
жественного плана для человечества.
Это наверняка устраивало византийцев, а как насчет русичей?
Главная византийская карта времени оставляла Руси место на голой
хронологической шкале, но не как факту значимому, а как чему-то
вроде приложения к Византии, и это древнерусских книжников не
устраивало. Поэтому летописцы постарались привить и другие исто¬
рии самоопределения на древо пустой хронологии.
Одна ветвь была династической: рассказы о великих подвигах
княжеских предков. Здесь, в сплаве литературных и долитературных
жанров формирования прошлого, византийская матрица была запол¬
нена местными, возможно, устными историями о славных традициях
правящей семьи, восходящей к Рюрику, легендарному основателю
династии. Рассказывалось, что Рюрик пришел из Скандинавии со
своими родичами не в качестве завоевателя, а по приглашению, что¬
бы управлять местными племенами, которые были не в состоянии
мирно уживаться друг с другом. Династия Рюриковичей была, следо¬
вательно, легитимной и правила по воле управляемых.
Вторая ветвь была этнической. Несмотря на то, что с политической
точки зрения славяне были новопришельцами, летописцы решили,
что этнически они все равно были древними, что они происходили
от народов Севера, которые унаследовали долю третьего сына Ноя,
полученную им при дележе земель после ветхозаветного Потопа. Ра-
зыскади авторитетные источники для такой версии в текстах унасле¬
дованной христианской традиции, но не в самой Библии, которая по
понятным причинам не упоминает славян, а в серии апокрифических
рассказов, дополняющих скудные повествования библейской Книги
Бытия, которые в то время имели самое широкое хождение и поль¬
зовались большой популярностью в средневековом христианском
мире. Так Русь приобрела для себя достоинство квази-библейской
древности.
26
Наконец, можно говорить об «историческом» уроке, который
древнерусские писатели извлекли из рождения Христа. Хотя они не
расходились с византийцами в признании универсального значения
Христа, они не проявляли никакого интереса к синхронности появ¬
ления Христа и Августа, которая санкционировала и поставила Рим¬
скую империю в привилегированное положение. Самоопределение
Византии базировалось на слиянии имперского и священного вре¬
мени. Византийцы называли себя ромеями. Определение, которым
авторы древнерусских текстов обозначали византийцев, относилось
к их восприятию современности и основывалось просто на языке —
они называли их «греками». Считали, что универсальность христи¬
анства означала, что оно было предназначено для всех, независимо ни
от хронологического приоритета, ни от имперской преемственности.
Новообращенные жители Руси были «новыми людьми христиански¬
ми, избранными Богом»3 и «вера благодатная распростерлась по всей
земле и достигла нашего народа русского»4. «Новизна» не только не
послужила препятствием для провозглашения равного с византийца¬
ми достоинства, некоторые даже ухитрились поставить священную
византийскую хронологию с ног на голову. Если официальная визан¬
тийская идеология опиралась на то, что мировая империя не может
не быть особой, т. к. является первой, книжники из Руси раскопали,
что особые — это они, потому что пришли после нее: ибо разве в Би¬
блии не сказано, что те, кто трудится с одиннадцатого часа, должны
вознаграждаться так же, как те, кто работает с третьего часа, и во¬
обще, «первые станут последними, а последние первыми»?5 Итак,
древнерусские книжники нашли объяснения, с помощью которых
демонстрировали свою этническую древность, и в то же время при¬
сваивали себе особый статус, обосновывая его своей политической
и религиозной новизной. Прибытие с запозданием оборачивалось
достоинством.
3 Повесть временных лет: в 2-х т. / под ред. Д. С. Лихачева и В. П. Адриа¬
новой-Перетц. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 83.
4 Митрополит Илларион. Слово о Законе и Благодати // Библиотека ли¬
тературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1. С. 38.
5 В Библии: от Матфея, 20:1-16; ср. от Матфея, 19:30; от Марка 10:31; от
Луки, 13:30. Цитируется, например, в «Чтении» о святых Борисе и Глебе и
«Житии Феодосия Печерского» киевского монаха Нестора (2-я половина
XI в.). См.: Die altrussischen hagiographischen Erzahlungen und liturgischen
Hichtungen tiber die heiligen Boris und Gleb, introd. L. Muller ed. D. Abramo¬
vich. Petrograd, 1916, repr. Munich, 1967. P. 3; Библиотека литературы Древ¬
ней Руси. Т. 1. С. 352. The Hagiography of Kievan Rus / transl. Paul Hollings¬
worth. Cambridge Mass., 1992. P. 5, 34; ср. P. 222.
27
Эти конструкции, придуманные первыми древнерусскими сочи¬
нителями мифов о себе, иллюстрируют процесс создания на пустом
месте связной нарративной идентичности, когда в результате целе¬
направленного перемешивания существующих идей получается осо¬
бый синтез. Сила придуманного ими заключается в том, каким об¬
разом оно добивается сплава разных категорий нарратива, разных
критериев построения времени: династических легенд о происхожде¬
нии от скандинавов, этнической истории о происхождении от славян,
истории обращения от «греков»; хронологической сетки координат
библейского происхождения и провиденческой истории, обосновы¬
вающей их собственное место на всеобщей сетке времени. В дальней¬
шем их особый историографический синтез оказался поразительно
эффективным и долговечным. Хотя их сочинила и скомпилировала
горстка книжников середины XI — начала XII в., эти истории о на¬
хождении своего места и о самообосновании во времени сделались
по-настоящему эталонными свидетельствами «исторической» иден¬
тичности. На протяжении последующей половины тысячелетия и
даже больше их многократно копировали и переписывали, не внося
каких-либо фундаментальных поправок. И хотя с той поры их до¬
полняли или оспаривали другими разновидностями нарративов, они
даже в наши дни продолжают вызывать резонанс намного более силь¬
ный, чем можно было бы ожидать.
Для того чтобы обнаружить первые сколько-нибудь значительные
изменения в этом нарративе об «исторической» идентичности, нам
придется совершить длинный прыжок во времени и пространстве:
от середины XI к концу XV или началу XVI столетия, и из Киева в
Москву. В 1453 г. Константинополь, целых тысячу лет бывший сто¬
лицей Восточной Римской империи, был захвачен турками. Писате¬
ли и правители растущего Московского государства начали смотреть
на свое государство как на некую замену, божественно назначенного
преемника Византии и Римской империи, единственного выжившего
и процветающего истинного хранителя Истинной Веры. Поэтому они
всё больше одевались в византийские одежды, в прямом и переносном
смысле. В области ритуала и церемоний это означало происшедшее в
конечном счете принятие формального имперского титула царь, по¬
степенное присвоение имперских атрибутов, якобы полученных из
Византии. При построении «я» во времени это означало, прежде все¬
го, составление новых крупных историографических произведений, в
которых повествование о Русской земле было продолжением и куль¬
минацией мировой истории, а не просто одним из составляющих ее
ткань нитей, что означало обозрение новыми глазами имперского —
т. е. Римского — компонента Византийской исторической идентич¬
ности. Если Константинополь был «Вторым Римом», то, естественно,
28
Москва стала третьим. И было сделано чудесное открытие, что этот
величественный образ может быть обоснован даже с династической
точки зрения, ибо генеалоги открыли, что предки викинга Рюрика
на самом деле происходят от родственника римского императора
Августа. И совсем ничего не значит, что генеалогическая связь, о ко¬
торой трактуется в «Сказании о князьях Владимирских»6, — чистой
воды фантазия. Эта история сыграла нужную для своего времени
роль, продемонстрировав мощное воздействие, которым обладает
мифология, когда могут быть объединены разные типы наррати¬
вов, чтобы в общем знаменателе получилось воздействие в одном
направлении.
Обращение Москвы к римскому наследию носило чисто аб¬
страктный, идеологический, квазитеологический характер. Оно не
подразумевало особого интереса к Риму как таковому. Более суще¬
ственная переориентация в сторону Западной Европы была связана
с реформами Петра I на рубеже XVII и XVIII вв. Петровский проект
«вестернизации» был и показным, и всепроникающим. О его харак¬
тере можно судить по новому внешнему виду городского пейзажа
(петровского нового города Санкт-Петербурга), по технике, образо¬
ванию, языку, одежде и внешнему виду людей и — что имеет прямое
отношение к теме нашего обзора — по хронологии. Еще до основа¬
ния Санкт-Петербурга указом от 19 декабря 7208 г. (от Сотворения
мира) Петр приказал, что отныне год должен начинаться с 1 января
и летоисчисление должно вестись от рождения Христа. Год 7208 от
Сотворения мира начинался в сентябре 1699 г. от рождения Христа.
Первого января этого года, т. е. 1 января 1700 г., Россия официально
и торжественно перешла на новый (для России) календарь. Петров¬
ский указ отменял принятую в России и унаследованную от Визан¬
тии сетку исторических координат и официально поместил Россию
на иной карте времени, карте, которую она теперь разделяет с Запад¬
ной Европой (хотя отсчет дней и месяцев не был изменен до приня¬
тия григорианского календаря, которым советский декрет от ноября
1917 г. заменил юлианский календарь).
Петр с его непосредственными преемниками был больше озабочен
преобразованием настоящего и будущего России, чем обдумыванием
ее прошлого, но к концу XVIII в. и в первые десятилетия XIX отмеча¬
ется возобновление значительного интереса к более отдаленному про¬
шлому России (или Руси): с древних манускриптов переписывались
Древние летописи, их публиковали; в литературе появились истори¬
ческие жанры; монументальное, изящно написанное, в двенадцати
6 Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. XI. С. 278-289.
Тексты о Москве как Третьем Риме см.: с. 290-305.
29
томах (но так и не законченное) издание «Истории государства Рос¬
сийского» пера видного писателя Николая Карамзина (1766-1828),
которое пользовалось у целого поколения россиян и позже большой
популярностью. Сам Петр перестал быть повсеместно присутствую¬
щей реальностью; он сделался одним из элементов, из которых по
выбору можно было составлять картину прошлого. Вернее, писате¬
ли начали различать потенциально неудобное несоответствие между
петровским и допетровским нарративами, в которых как будто пред¬
полагались совершенно разные подходы к конструированию России
во времени, абсолютно разные критерии «исторических» значимости
и аутентичности. Теперь, как оказалось, было две истории русского
исторического «я», которые не так-то просто было совместить и кото¬
рые никак не подтверждали и не поддерживали друг друга.
Некоторые просто отметили парадокс и были готовы принять его,
принять именно противоречие или напряжение между этими исто¬
риями «я» как часть идентичности. Другие полагали, что нужно вы¬
бирать. Начиная с 1830-х гг. такие споры получили новый стимул и
привлекли к себе внимание благодаря популярности (во всяком слу¬
чае, среди немногочисленной интеллектуальной элиты) разновидно¬
сти немецкой романтической философии, в центре которой стояли
форма и движение мирового времени, а также место и судьба наций
в его пределах. Шли жаркие споры по поводу того, что представляет
собой более «аутентичная» Россия, настоящая Россия, более желае¬
мая Россия и что представляет собой «подлинная» история России
во времени. Предлагалось множество вариантов решений. Некото¬
рые из них были весьма поверхностные, некоторые весьма изощрен¬
ные. Они включали такую крайность, как представление, выдвинутое
в «Философических письмах» Петра Чаадаева (1794-1856), опубли¬
кованных (на французском языке) в 1836 г., о том, что Россия пока
еще вообще не имеет настоящей истории. Но основная характерная
черта этой дискуссии заключается не в поиске какого-либо опреде¬
ленного решения, а в том, что в ней проявилась озабоченность самой
проблемой, особой дилеммой исторического самоопределения и воз¬
никающими в связи с ней противоречиями. Простое противопостав¬
ление образов России во времени создавало рамки дискуссий, если не
их философское содержание, для расхождений и споров между «сла¬
вянофилами» (теми, кто чувствовал, что — упрощенно говоря — на¬
стоящий ход русской истории был прерван петровскими реформами)
и «западниками» (теми, кто чувствовал, что настоящий ход истории
России только начался с петровских реформ)7. Хотя в XX в. этот спор
7 См. также главу 4.
30
оказался вне общественного поля зрения, он возродился в последние
годы советской эпохи и постсоветский период.
В Советском Союзе официальная идеология с радикальной до¬
тошностью новообращенных христиан Древней Руси реколонизи-
ровала время. Циклическое время (повторяющийся цикл дней года)
было приспособлено для обслуживания ценностей текущего перио¬
да: церковные праздники и ежедневный календарь, основанный на
поминовении святых, были заменены ежегодным празднованием со¬
бытий революционной и советской истории и календарем дней, отме¬
чающих праздники особых групп современного общества: День шах¬
тера, День Военно-морского флота, День танкиста и т. д. Но еще более
важным был новый взгляд на линейное время, критерии построения
формы истории в целом, и, следовательно, критерии оправдания су¬
ществующего порядка. Не стало династических историй, не стало ни
чисто хронологических летописных записей, ни этнических историй,
ни этнокультурных историй, касающихся конкретной национальной
судьбы, ни провиденциальных историй, основанных на Божьем про¬
мысле. Их место заняло совершенно новое видение истории, обра¬
щающееся к происхождению человеческого общества и основанное
на универсально применимой последовательности типов общества,
общественно-экономических формаций. Было объявлено, что все че¬
ловеческие общества развиваются по общей модели: от первобытных
общин к рабовладельческим обществам, феодализму, капитализму,
социализму и в итоге — в неизбежном будущем — коммунизму. Это
было новым универсализмом, тотальным объяснением каждой из фаз
жизни человечества во времени и на протяжении времени.
Где же при таком раскладе была Россия? Можно сказать, нигде
или нигде сколько-нибудь существенно, или больше нигде, или те¬
перь нигде. Главное, основной принцип заключался в том, что одна
схема была применима ко всем и что истории всех наций, в сущности,
по своей фундаментальной структуре ничем не отличались друг от
друга. Российская Федерация могла бы продолжать существовать в
качестве составной части Советского Союза, но создание Советско¬
го Союза ставило Россию вне мирового исторического процесса, вне
текущей и будущей фазы времени. Российскую империю стерли с по¬
литической карты мира, и советская идеология не оставила места для
любого нарратива, который мог бы легитимировать ее дальнейшее
существование на временной карте. Для России во времени никакой
роли не осталось. Самое лучшее, что можно было сделать, это при¬
знать за Россией необходимую, как бы подготовительную, функцию
по отношению к созданию Советского Союза — роль весьма уважи¬
тельную, но оставшуюся в прошлым. Россия во времени была исто-
31
рией прогресса в сторону устранения самой себя в качестве отдель¬
ного и автономного геополитического образования. Эта роль была
запечатлена в первых строках советского национального гимна, при¬
нятого в 1944 г.8:
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Неслучайно, что и тут все-таки упоминается не Россия, а Русь, не
морально-сомнительное и грубо-конкретное обозначние государства,
а неопределенно-благозвучное напоминание о былой славе.
Это не значит, что тем самым были упразднены и национальные
идентичности или что национальные идентичности больше не рас¬
сматривались как линейные нарративы о форме и смысле времени.
В советской идеологии отношение между национальным и наднацио¬
нальным значениями было сложным и не вполне последовательным,
но, опять несколько преувеличив, можно сказать, что линейному
нарративу национальных государств пришел конец — даже многона¬
циональному государству с национальным названием (такому, как
Россия) — но этнокультурный нарратив мог в какой-то мере сохра¬
няться. Для данной фазы истории России во времени этнокультур¬
ное было оторвано от геополитического, и преемственность русского
можно было представить как преемственность культуры. Для этого
культуру (сделавшуюся еще более «прогрессивной») выводили пре¬
имущественно из того, что она представляла собой в постпетровское
время (тут ключевую роль играет Пушкин или, вернее, образ Пушки¬
на9. Тем не менее русская культура все-таки приобрела нечто вроде
метаполитического статуса благодаря навязыванию русского языка
как lingua franca Советского Союза.
Классическое советское видение времени представлялось не в ка¬
честве теории, а как доказуемый научный факт. У истории есть свои
законы, и, признавая эти законы, можно обрести свободу в достиже¬
нии поставленных целей. Но советская идеология также вспомнила
о мощном эффекте, который создается при гармоничном совпадении
разнородных нарративов. Парадоксам тут места не было, тут нужна
была новая чудесная гармония, и оказалось, что у объективных зако¬
нов истории имелось и моральное измерение, они обусловливали пе¬
ремены к лучшему. Объединив своего рода Троицу связанных между
собой идей, исторически неизбежное (победа коммунизма) представ¬
ляли как самое эффективное экономически (плановая экономика, ис¬
ключающая расточительный двойной расход ресурсов в процессе ка¬
32
8 Историю русского и советского гимнов см. в главе 7.
9 См. также главу 11.
питалистической конкуренции) и в то же время самое справедливое
социально (обслуживание потребностей всех членов общества).
Причины распада Советского Союза лежат за пределами нашего
обзора, но задолго до конца 1991 г. этот сплетенный из трех частей
образ, троица (исторически неизбежное, экономически выгодное и
социально справедливое), уже утратил силу своего воздействия. Что
бы ни думали об экономических или социальных составляющих тро¬
ицы, главный исходный пункт — объективная неизбежность победы
коммунизма — давно лишился видимости правдоподобия. Поздняя
советская идентичность была больше связана с обществом разделяе¬
мого опыта, чем с великими видениями человеческих сообществ на
все времена. Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего нача¬
ли, роясь на полках постсоветских книжных магазинов и знакомясь
с возродившимися постсоветскими поисками «настоящих» Россий
во времени. Выбор становится шире, когда статус Советского Союза
сам делается одним из вопросов нарратива. Был ли Советский Союз
«настоящим» или «ненастоящим» (в несколько сюрреалистическом
смысле, на мысль о котором наводит такая конструкция)? Включа¬
ет ли история «аутентичной» России советский опыт или Советский
Союз был аберрацией «настоящего» пути, который обнаруживается,
когда восстановлены прямые связи с досоветской Россией? Могут
возобновиться старые споры, поиски новых великих образов. Редко
бывало, чтобы имелось столько исторических Россий.
2. Примеры: символы времени
Для того чтобы проиллюстрировать, как такие нарративы могут
явно или подпудно функционировать в реальной культурной про¬
дукции, рассмотрим два текста. Оба относятся к недавнему прошло¬
му: это переходные тексты позднесоветского и раннего постсовет¬
ского периода. И то, и другое — формы официального культурного
дискурса. Я привожу их не более чем в качестве иллюстративных и,
возможно, поучительных примеров, т. к. никакие два текста не могут
сколько-нибудь полно отразить весь диапазон возможностей.
Первый «текст» (пользуясь этим словом в его широком смысле,
как оно обычно используется в культурных исследованиях) — это се¬
рия из пяти почтовых марок (рис. 2.1). На деле перед нами довольно
вычурная, хлопотливая композиция: четыре параллельных текста по
Цене, так сказать, одного. Прочитав надпись на нижней строчке, мы
Узнаём, что главная предполагаемая функция объектов — служить
почтовыми марками разного номинала. Мы также можем определить
время появления текста: марки были выпущены в 1991 г., т. е. (и это
сУЩественно) в самые последние месяцы существования Советско¬
33
го Союза. Второй параллельный текст состоит из серии красочных
рисунков, создающих центральные образы. Третий дает надписи над
картинками, поясняя изображенный объект, и четвертый — самый
любопытный и интригующий — состоит из второй (мельче и бледнее)
серии слов и образов в верхней части марок, т. е. из дополнительных
штриховых рисунков с заголовками, которые вводят главные цвет¬
ные иллюстрации в более широкий контекст. Образы расположены в
более или менее хронологическом порядке так, чтобы, взятые вместе,
они образовали своего рода линейный нарратив (или параллельные
линейные нарративы), охватывая около 500 лет, если брать централь¬
ные картинки или, если брать верхние заголовки, 700 лет.
Рис. 2.1. Серия почтовых марок «Культурное наследие России», 1991
Что приходит в голову, если бросить беглый взгляд на эти обра¬
зы? Большинство людей вряд ли пристально всматриваются в по¬
чтовые марки, поэтому первое впечатление образует один уровень
совершенно аутентичного восприятия. Создающееся при этом общее
впечатление, возможно, сводится к тому, что серия предназначается
для представления темы: что-то вроде «иконы» или «древнее русское
(христианское) искусство» — что-то, имеющее некое отношение к
средневековому наследию. Существенно отметить, что перед нами
позднесоветское массовое прославление средневекового прошлого
России. Однако эта серия допускает — вернее, невольно наводит на
более специфическое прочтение. На каждой марке центральный об¬
раз изображает артефакт, предмет культурного производства, кото¬
рый и назван в заголовке, привязан ко времени. И на каждой марке
верхнее изображение показывает и называет (но не указывает дату)
лицо (лица) или институты, которые считаются (нередко по косвен¬
ным данным) производителями главного предмета. Эти параллель¬
ные нарративы построены очень тщательно, каждый сопровождается
отдельным комментарием, и все вместе они формируют сложную ин¬
терпретацию России во времени.
Первый образ воспроизводит миниатюру с изображением святого
Луки из древнейшей сохранившейся точно датированной древнесла¬
вянской рукописной книги, «Остромирова Евангелия», написанной
писцом Григорием в 1056-1057 гг. Главный заголовок указывает
дату, которая таким образом уверенно привязывает начало серии к
киевскому периоду. Поэтому может казаться неожиданным верх¬
ний образ: две фигуры с подписями «Кирилл» и «Мефодий». Ки¬
рилл и Мефодий не имеют прямого отношения к Руси/России. Они
были миссионерами среди совершенно других славян, в Моравии в
860-х гг., более чем за сто лет до крещения Руси и около двухсот лет
до того, как Григорий создал «Остромирово Евангелие». Тем не менее
в известном смысле Кирилл и Мефодий сделали возможным появле¬
ние «Остромирова Евангелия», поскольку считается, что они изобре¬
ли систему письменности для славян и первыми перевели Евангелие
на славянский язык. Таким образом, рукописное славянское Еван¬
гелие представлено не просто в своем временном контексте (1056-
1057, как указано в главном заголовке), а в подразумеваемом более
широком контексте славянского наследия Кирилла и Мефодия.
Второй центральный образ — это еще одна рукописная страница,
но только теперь с письменным текстом. Надпись определяет его как
«Русская правда. XI-XIII вв.». «Русская правда» — самый раний свод
древнерусских законов. Это обычное право, определенно не выведен¬
ное из христианства, а достижение, примечательное для рождения
государства. Снова верхний заголовок дает дидактический контекст:
«Ярослав Мудрый». Ярослав был киевским князем в середине XI в.
(умер в 1054 г., в то же десятилетие, когда было написано «Остро¬
мирово Евангелие»). Он был сыном Владимира, обратившего Русь
в христианство, с его именем связывают широкую программу куль¬
турного производства, в том числе строительство главного и само¬
го величественного архитектурного памятника древнего Киева, Со¬
фийского собора. Хотя в верхнем образе это просматривается лишь
на заднем плане, здесь Ярослава совершенно очевидно связывают с
его светской административной деятельностью: введением институ¬
та письменного права, одного из главных инструментов и атрибутов
государственности. Это образ и символ политических корней, уходя¬
щих в «Киевскую» эпоху.
Центральный образ на третьей марке серии — вышитый портрет с
надписью «Сергий Радонежский. Вышивка. 1424». Сергий Радонеж¬
ский (ум. 1392; 1424 это год изготовления вышивки) считается от¬
цом московского и последующего монашества, и основной памятник,
связанный с ним, показан в верхнем образе: Троице-Сергиева Лавра,
расположенная к северо-западу от Москвы, до сих пор самый пре¬
стижный из русских монастырей. Здесь отношение главного и верх¬
него образов меняется: главный образ рисует героя, а верхний — его
Достижение, а не наоборот. Примечательно, что тут наследие Сергия
представлено именно во впечатляющих зданиях, мощных монастыр¬
35
ских стенах, которые и являются, пожалуй, самыми типичными отли¬
чительными чертами древнего (допетровского) русского городского
пейзажа.
Четвертый центральный образ показывает наиболее часто вос¬
производимую из всех русских икон. Надпись гласит: «Троица. Ико¬
на. ок. 1411 г.» Здесь «Троица» — это так называемая «Ветхозавет¬
ная Троица»: три мужа, посетившие Авраама в его шатре в Мамре и
считавшиеся ангелами10 11, они служили прообразами «Новозаветной
Троицы». Довольно необычно нарисованный верхний образ показы¬
вает художника, надпись читается — «Андрей Рублев». Иконопись
была практически анонимной формой религиозного изображения,
но современные концепции художника требуют признания бренда,
индивидуального гения, и Андрей Рублев — один из очень немногих
иконописцев, чье имя до нас дошло. Это признанный гений древне¬
русского искусства: его имя известно даже тем, кто абсолютно равно¬
душен к иконам, символическое, запоминающееся имя, гарантия ста¬
туса и достоинства древнерусского художественного наследия11.
Центральный образ пятой марки — последней — портрет святого
Луки, которым открывается (о чем свидетельствует первая надпись)
«Апостол», напечатанный (см. верхние образы и надпись) «Иваном
Федоровым и Петром Мстиславцем». Иван Федоров известен как
московский первопечатник (вернее, как первый, чье имя мы знаем),
и его «Апостол» — самая ранняя из датированных московских печат¬
ных книг. Данный образ ассоциируется с прогрессом в технологии
культуры — началом книгопечатания. Поэтому изображение святого
в конце серии как бы перекликается, и визуально, и тематически, с
открывающим серию образом того же святого Луки из самого ранне¬
го датированного славянского манускрипта.
Так серия почтовых марок показывает символичную последо¬
вательность официальных образов, созданную в последние месяцы
существования Советского Союза и представляющую набор вер¬
бальных и визуальных нарративов. Их происхождение уверенно обо¬
значено Киевом, и предполагается преемственность между Москвой
и Киевом. Может вызвать удивление появление в официальном со¬
ветском дискурсе откровенно-религиозного содержания. В годы,
предшествующие 1980-м гг., было бы чрезвычайно странно встретить
подобное чередование образов в такого рода публичном контексте.
Катализатором перемен стало празднование в 1988 г. тысячелетия
«русского» христианства — своего рода тест для объявленной прези¬
дентом Михаилом Горбачевым политики «гласности». Первоначаль¬
10 Книга Бытия, 18:1-10.
11 См. также главу 10.
36
но празднование предполагалось как частное событие для церкви, но
в конце концов оно превратилось в крупное публичное национальное
событие. На этом уровне такая серия почтовых марок была продук¬
том нового (с конца 1980-х гг.) отношения к христианскому прошло¬
му России12.
Однако на другом уровне при более внимательном прочтении
мы видим, насколько текст все еще привязан к обычной советской
практике. Хотя образы имеют преимущественно религиозное про¬
исхождение, сделано все, чтобы преподнести эти образы как «куль¬
туру» — как она воспринималась по-советски, а именно как после¬
довательную смену «прогрессивных» явлений, связанных с более
широкими продвижениями в политике, технологии и строительстве.
Нельзя не заметить что-то музейное, какую-то назидательную дотош¬
ность, некоторую дидактику во всем взятом вместе тексте: продуман¬
ная смесь средств (одна рукописная миниатюра, один рукописный
текст, одна вышитая картина, одна живописная икона, один печат¬
ный образ), важная роль дат на всех главных надписях; бросается в
глаза отсутствие слова «святой», по крайней мере, в трех местах, где
его могли бы употребить в подлинном христианском дискурсе (свя¬
тые Кирилл и Мефодий, святой Сергий Радонежский и святой Лука),
но, главное, добавление вторичных образов и надписей, которые
играют роль комментариев к центральным образам. Верхние образы
и надписи концентрируют нарратив, придают ему более конкретную
значимость: изобретение письма, установление закона и управления,
формирование внушительных архитектурных памятников, создание
великого искусства, появление книгопечатания. Вот что стоит за та¬
кой необычной композицией.
Наконец, эта серия подкрепляет определенный геополитический
нарратив формирования России во времени. Это наглядная повесть
о славянских корнях России, об основании государства в Киеве и о
Москве как его преемнице. Текст можно читать на всех трех уров¬
нях: как наглядное напоминание об истории древнерусского христи¬
анства, как серию символов культурного и технического прогресса и
как заявление о национальной преемственности, восходящей к Ки¬
евской Руси. Составители, по-видимому, отдавали себе отчет, что на
практике большинство потребителей вряд ли будут утруждать себя
внимательным разглядыванием марок. Возможно, они намерен¬
но придумали распространение основанного на религии нарратива
идентичности и вставляли вторичные образы и подписи как руди¬
ментарный фиговый листок советского приличия. Но что бы они
12 См. также главу 6.
37
ни думали о том, как будут восприниматься марки, их композиция
явно препятствует возможности их толкования как прямого и безо¬
говорочного утверждения христианской преемственности в качестве
определяющего компонента России во времени. В 1991 г. джинна
чуть не выпустили из бутылки, но в последний момент схватили
за хвост. Официальное название серии советских почтовых марок
«Культурное наследие России». Сегодня российская постсоветская
почта могла бы спокойно назвать такой набор «Наследие русского
христианства».
Второй «текст» — серия украинских денежных купюр (рис. 2.2).
Такой выбор может показаться неправильным, поскольку мы за¬
нимаемся изучением разных аспектов русской национальной иден¬
тичности — Украина больше не входит в Российскую империю и не
составляет части Советского Союза, где доминирующее положение
занимает Россия. Однако нарративы идентичности простираются
за пределы нынешней геополитической карты. Украина не Россия,
зато она в неменьшей мере, чем сама Россия, имеет отношение к той
Russia, которая возникала в представлении средневековых латино¬
язычных авторов. Таким образом, как мы увидим далее, нарратив об
«Украине во времени» частично совпадает — и в некоторых вари¬
антах даже вступает в соперничество — с нарративами о «России во
времени», и в их взаимоотношениях проясняются некоторые черты
каждой из них.
В отличие от последних советских марок, украинские купюры не
были выпущены одновременно в качестве целостного набора, а вы¬
пускались на протяжении времени и при разных обстоятельствах.
Поэтому они представляют собой двойной динамичный нарратив,
потому что история, рассказываемая объектами, разворачивается бок
о бок с историей ее рассказа. «Серия» начинается с одной из первых
денежных купюр независимой Украины, «купона» на один «карбова¬
нец» (или, иначе говоря, одного «купоно-карбованца»). На ней стоит
дата 1991 г. На рисунке изображена юная девушка в довольно дра¬
матичной позе. В ней киевляне узнавали Лыбедь, фигуру одного из
известных киевских памятников. Поэтому ее изображение на первый
взгляд придавало определенный местный колорит новой местной
валюте. Ею пользуются как эмблемой Украины так же, как в других
местах! пользуются фигурой Британии в качестве эмблемы Велико¬
британии, статуей Свободы как эмблемой Нью-Йорка или США,
Марианной в качестве эмблемы Франции.
Однако по мере развития «серии» язык символов делается все бо¬
лее направленным, приобретает все большую конкретность в раскры¬
тии смысла нарратива. К 1992 г. на купюре в 1000 карбованцев (тут
38
Рис. 2.2. Украинские банкноты, 1991-1996
39
совершенно очевидная подтема инфляции) одинокая дева выступает
в роли главной эмблемы, но теперь к ней добавлены три другие фи¬
гуры с общего памятника, который оказывается ладьей. Идея заклю¬
чается в том, чтобы подчеркнуть историческую аллюзию, которая
создается тремя новыми фигурами, потому что в лодке плывут Кий,
Щек и Хорив, легендарные основатели Киева, в то время, как сама
Лыбедь (их сестра) придвинута непосредственно к слову «Украина»,
к которой, по всей вероятности, плывет ладья. Так представление об
Украине ассоциируется не просто с местным антуражем, а с древним
основанием столицы и с ощущением исторического динамизма, на¬
чалами истории времени.
На третьей банкноте «серии», 5000 карбованцев 1993 г., появилась
еще одна эмблема: трезубец с левой стороны от ладьи, где прежде был
пустой белый круг. В просторечьи и повседневном обиходе он вос¬
принимается как «украинский трезубец», символ украинской госу¬
дарственности. Но откуда он пришел? Одна версия ответа — это воз¬
вращение к досоветским эмблемам, эмблемам первых движений за
независимость Украины начала XX в.13 На самом деле, эта эмблема на¬
много старше. Это династическая эмблема правящих киевских князей
с конца X в., и данный вариант — копия эмблемы, которой пользовал¬
ся князь Владимир Святославич, обративший Русь в христианство.
Есть даже прецедент использования этой эмблемы на деньгах. При
Владимире еще не было бумажных денег, но трезубец изображался
на его серебряных монетах14. Отсюда на следующей стадии развития
этого визуального нарратива (банкнота 10 000 карбованцев) связка
становится очевидной, потому что Лыбедь с братьями заменена на
самого князя Владимира с крестом в руке рядом с его собственной
эмблемой. Начав с некоторого местного колорита, «серия» банкнот
тем самым постепенно и неуклонно превращается в заявление о древ¬
них корнях украинской государственности и провозглашение места
Украины во времени. Провозглашение это весьма полемично, т. к.
такое представление об Украине находится в прямом противоречии
с знакомой нам картиной «России во времени», согласно которой ее
государственность также уходит корнями в Киевскую Русь, как по¬
казано на почтовых марках позднесоветского времени, почти того же
периода. Два визуальных нарратива создают противоречивые пред¬
ставления об «исторической» идентичности и легитимности.
13 См.: Швець В. Каталог украшських грошей вщ 1917 року. Льв1в, 2000.
С. 20-49.
14 Например, см.: Сотникова М. П. Древнейшие русские монеты X-XI ве¬
ков. М., 1995. С. 46-96.
40
Текст продолжается. В 1996 г. Украина ввела новую валюту,
гривну (последняя банкнота в наборе украинских купюр). Помимо
того что это предоставило случай сбросить несколько нулей с силь¬
но раздутого инфляцией карбованца (величина одной гривны была
установлена в 100 000 старых единиц), новые деньги говорят о даль¬
нейшем совершенствовании подразумеваемого нарратива Украины
во времени. Что такое гривна? Название денежной единицы симво¬
лично и вызывает в памяти страницы прошлого. Оно еще раз напо¬
минает о денежной единице предыдущего периода независимости в
XX в., вместе с тем возбуждая в памяти видения древней киевской го¬
сударственности: гривна была главной денежной единицей киевского
периода и мерилась или весом серебряного слитка или количеством
куньих шкурок. Кроме того, первым заслуживающим внимания древ¬
ним текстом, где упоминается гривна, была «Русская правда», та са¬
мая, которую на позднесоветской серии почтовых марок использова¬
ли в качестве иллюстрации как часть именно «русского» наследия.
Спор за историческую линию преемственности становится все бо¬
лее острым. Давайте посмотрим на портрет Владимира на банкноте
стоимостью в одну гривну. Это уже не Владимир, креститель Руси в
мантии, с бородой и крестом в руке. Это Володимир15 с обвислыми
усами украинского гетмана. Это уже не духовный лидер, а полный
национального достоинства глава государства.
Этот Володимир пока еще не конец временной темы. Сравним
картинки на обратной стороне старой купюры в тысячу карбованцев
с обратной стороной новой гривны (рис. 2.3). На первой, как и вообще
на всех купюрах карбованцев, изображен Софийский собор и окружа¬
ющие его здания в Киеве. Снова это напоминает нам о христианстве
XI в., хотя образ также читается просто как одна из местных достопри¬
мечательностей. Гривна же намного претенциознее и сложнее. Образ
с обрамляющими центр рисунками, похожими на часть многоглавой
церкви, наводит на мысль о христианстве, но в центре этой рамки не¬
ожиданно видим руины древнегреческого города Херсонеса в Крыму.
Включение Херсонеса в оформление национального денежного знака
можно рассматривать по-разному. В самом остром варианте, напри¬
мер, это можно посчитать визуальным провозглашением принадлеж¬
ности к Украине Крыма, этой в высшей степени спорной территории
15 Формы имени могут сами по себе играть символическую роль. «Вла¬
димир» — современная русская форма, которая также отражает древнюю
Церковно-славянскую форму, использовавшуюся самим князем в надписях
на его монетах. «Володимир» это современная украинская форма, она ближе
к древней восточнославянской разговорной форме, которую часто предпо¬
читали в летописях.
41
Рис. 2.3. Украинские банкноты: оборотная сторона
на современной карте, территории, которую многие русские считали
бы по справедливости «исторически» принадлежащей им. Можно
предположить и то, что более просвещенный читатель увидит здесь
молчаливый намек на то, что в древних хрониках есть упоминание,
будто Володимир сам принял крещение в Херсонесе (Корсуне), а это
вызывает мысль о тысячелетнем праве претендовать на Крым или,
несколько осторожнее, что это изображение служит эмблемой ты¬
сячелетия традиции украинской государственности. Если подойти
к этому на более возвышенном концептуальном уровне, то картина
классических руин вызывает ассоциации с «Украиной», наследницей
всех цивилизаций, следы которых находятся на украинской террито¬
рии, и если идея «Украины» как-то ассоциируется с древнегречески¬
ми развалинами, тогда резонанс «Украины во времени» раздвигает
границы и выходит за рамки не только предшествующего десятиле¬
тия или предшествующих восьмидесяти лет и даже не предшествую¬
щего тысячелетия, а почти двух с половиной тысяч лет.
Развитий предполагаемых визуальных нарративов — от местных
достопримечательностей до вполне определенных представлений на¬
циональной государственности, уходящих в прошлое на одну-две ты¬
сячи лет или больше, совершенно не случайно. Гривна была введена
в качестве национальной денежной единицы в 1996 г., но на оборот¬
ной стороне купюры значится 1992 г. Банкноты на самом деле были
напечатаны (в Канаде) загодя. Это была продуманная программа
42
присвоения времени, подготовленная задолго до момента введения
новой денежной единицы. В период сознательного «строительства
государственности» после обретения постсоветской независимости
украинские банкноты отражают динамичный процесс переделки
истории «Всея Руси» с целью отличить ее от основанной на России
истории «Всех Россий».
Эти два визуальных текста — позднесоветская серия почтовых ма¬
рок и украинская «серия» сменявших друг друга банкнот — крошеч¬
ные капли в бескрайнем океане. Их пример никак не может покрыть
все культурное представление России (или Russia в старом смысле
средневекового латинского слова) во времени. Но в определенном
смысле они показательны как примеры, особенно с точки зрения на¬
правлений, по которым в одном и том же процессе можно подтвер¬
дить и переосмыслить, поддержать и разрушить культурные образы
России во времени. Оба текста носят официальный характер и рас¬
тиражированы в массовом масштабе. Оба текста функционируют с
помощью широко принятого визуального словаря, общепринятого
набора эмблем, подразумевающих общепонятные нарративы нацио¬
нальной принадлежности, и в то же время и тот, и другой стремятся
к присвоению этих эмблем, чтобы сформировать собственные особые
и дидактические представления нарратива. Оба текста читаются — и,
вероятно, задуманы так, чтобы их читали именно таким образом — на
нескольких уровнях: с одной стороны, как набор общих ориентиров
в культурном поле, с другой стороны, как очень конкретные целе¬
направленные вызовы общепринятым представлениям. Оба текста
рассчитаны на общинное чувство, но, манипулируя традицией, оба
текста прочно остаются в собственной пространственной и времен¬
ной среде. Они иллюстрируют (во всех смыслах) направления, по
которым дискурс национальной идентичности может отражать не¬
прерывную борьбу за обладание формой времени, направления, по
которым могут отбираться и смешиваться составляющие накопивше¬
гося набора историй для создания любого воображаемого привкуса
прошлого, который больше всего придется по вкусу потребителей
сегодняшнего времени.
Глава 3
РОССИЯ КАК ПРОСТРАНСТВО
Эмма Уиддис
Прогуливаясь по Москве в 1927 г., через десять лет после боль¬
шевистской революции 1917 г., немецкий философ и критик Валь¬
тер Беньямин (1892-1940) обратил внимание на одну странность: на
каждом углу торговали географическими картами. Он вспоминал в
своем «Московском дневнике»: « Россия начинает обретать для про¬
стого человека форму. На улице, в снегу сложены штабелями карты
РСФСР, предлагаемые уличными торговцами. Географическая карта
делается почти таким же предметом новой культовой иконографии,
как портрет Ленина»1. Шестьдесят лет спустя, в конце 80 — начале
90-х годов могло показаться, что в Москве ничего не изменилось. На
станциях метро и в уличных киосках, на импровизированных сто¬
ликах опять навалом лежали те же карты. После того, как в 1991 г.
распался Советский Союз, нужно было нарисовать еще новые атласы
Российской Федерации и стран СНГ. Для того, чтобы отделаться от
советского наследия, в Москве переименовывались улицы, поэтому
нужны были карты самого города. Россия еще раз и в совершенно
ином контексте «обретала для простого человека форму».
Одержимость картами и переделыванием карт в 1990-е гг. вполне
объяснима. Точно так же, как провозглашенная Михаилом Горбаче¬
вым открытость, санкционированная его политикой перестройки и
гласности, означала переписывание истории (заполнение «белых пя¬
тен» официальной истории), она означала и переписывание или пе¬
рерисовывание географии. В течение 1989 г. распался находившийся
под советским влиянием «Восточный блок», в ноябре была разобра¬
на простоявшая с 1961 г. Берлинская стена. Через два года, в 1991 г.,
Советскому Союзу были нанесены окончательные сокрушительные
удары. Был упразднен Варшавский договор (между Советским Сою¬
зом и восточно-европейскими государствами), но и на этом распад не
остановился. В момент своего апогея Союз Советских Социалистиче¬
ских Республик (СССР) состоял из пятнадцати республик (включая
три балтийских государства — Литву, Латвию и Эстонию, аннекси¬
рованные в 1940 г.). Между январем и апрелем 1991 г. Литва, Латвия,
Эстония и южная республика Грузия объявили о своей независи¬
мости. К концу года за ними последовали одиннадцать оставшихся
1 Walter Benjamin. Moscow // Reflections, Essays, Aphorisms, Autobio¬
graphical Writings /ed. Peter Demetz. N. Y., 1978. P. 118.
44
республик, создавших целый сонм независимых государств: Арме¬
ния, Молдова, Украина, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизстан, Казахстан и Беларусь. Двадцать первого
декабря 1991 г. в Алма-Ате (сейчас Алматы) Союз Советских Социа¬
листических Республик был формально распущен и на его месте воз¬
никло Содружество Независимых Государств (СНГ). Пятнадцатая
республика, РСФСР (Российская Советская Федеративная Социа¬
листическая Республика), бывшая до этого центром обширного Сою¬
за, оказавшись заброшенной, в одиночестве в новой геополитической
обстановке, была вынуждена объявить о независимости, к которой
она не стремилась.
Эта перемена мест сопровождалась странным и болезненным от¬
крытием пространства самой Российской Федерации. Когда Горба¬
чев в 1985 г. пришел к власти и призвал к «гласности», к оглашению
трагических эпизодов истории Советского Союза, начался длинный
процесс «раскрытия» подробностей репрессий, депортаций, террора.
По всей территории страны переставали быть «закрытыми» города
(как правило, имевшие отношение к военно-промышленному ком¬
плексу и часто являвшиеся центрами ядерных исследований), ко¬
торые не обозначались на официальных картах Советского Союза и
въезд и выезд из которых были запрещены. Эти города стали отмет¬
ками на формирующейся карте перестраивающегося пространства.
Кроме того, были обнаружены места, где в свое время находились
трудовые лагеря, многие из которых располагались в практически не¬
доступных и необитаемых северных районах. Пространство, занятое
ранее лагерями, давно стало вынужденно «обитаемым», но, благодаря
недоступности и секретности, оставалось совершенно затерянным на
просторах огромной страны и не нанесенным на карту официально.
Все эти перемены принесли с собой фундаментальное смещение
на том, что можно было бы назвать общепризнанной национальной
картой — в реальной и воображаемой географии русской идентично¬
сти. То же самое произошло и на микроуровне: в городах поменяли
названия улиц, заменив советские на дореволюционные. Были де¬
монтированы памятники, часто при этом нарушались точки ориен¬
тации в пределах городского пространства. В начале 1990-х гг. на во¬
прос о том, как пройти, даже в центре Москвьгполучали ответ вроде
следующего: «Идите мимо Дзержинского — ну, мимо пьедестала, где
стоял Дзержинский, выйдите на проспект Маркса, мимо нового пар¬
ламента, повернете направо на улицу Горького, простите... Тверскую,
и так дальше дойдете до площади Маяковского... хотя теперь ее назы¬
вают Триумфальной...» Переименованная Москва вдруг стала незна¬
комым местом для тех, кто жил в ней. Пространству, как и истории,
Доверять нельзя.
45
В период «перестройки» перемены — социальные и политиче¬
ские — отозвались переменой карты. Продававшиеся тогда карты име¬
ли такое же символическое, как и политическое значение. Возможно,
это было попыткой воспротивиться пространственной фрагмента¬
ции географии русской идентичности и сохранить общепринятую
концепцию родины, «познать» пространство, которое угрожало стать
«непознаваемым». Или просто средством отслеживания быстрых и
дестабилизирующих перемен? Во всяком случае, это свидетельству¬
ет об идеологическом и символическом значении пространства. Все
это, конечно, связано с тем, что Беньямин наблюдал в Москве в конце
1920-х гг.: увиденные им кучи карт на снегу были частью обширного
процесса создания карт, имевшего место в советской России в пер¬
вые два десятилетия после большевистской революции 1917 г. Про¬
изводство и распространение образов территории было важнейшей
задачей нового режима. Цель — обозначение разметки границ власти,
создание связного общепринятого представления о советском про¬
странстве. Это было своеобразной формой социальной интеграции.
В 1931 г., например, статья в научно-популярном журнале для юно¬
шества, называвшемся «Вокруг света», похвасталась, что до револю¬
ции одна ленинградская фабрика выпускала в год только 800 карт
территории страны, а теперь, как утверждалось в статье, та же самая
фабрика выпускает 125 тыс. глобусов и 28 тыс. географических карт
страны, хотя, признавался автор, «для нашего необъятного Союза»
даже 125 тыс. глобусов мало2. С 1925 по 1947 г. специальный карто¬
графический комитет работал над созданием того, что должно было
стать самой большой и самой подробной картой Советского Союза.
Ее масштаб должен был повторить обширный масштаб самой тер¬
ритории (и если судить по легенде, он постоянно возрастал, так что
последняя карта имела масштаб 1 см : 1 км, и карта становилась ши¬
риной около пятидесяти метров). Значение — идеологическое, соци¬
альное и культурное, — которое придавалось картографии в сталин¬
ской России, будет ясным, если вспомнить, что в 1935 г. контроль над
национальной картографией взял на себя НКВД (Народный комис¬
сариат внутренних дел). Но процесс создания карт не ограничивался
картографией. Все ресурсы советской пропаганды (кино, визуальное
искусство, литература) были вовлечены в проект создания новой во¬
ображаемой географии молодого режима.
В последней части этой главы я вернусь к специфическим осо¬
бенностям «формирования» Советского Союза. Для начала, однако,
должна сказать, что эта одержимость картографией составляет одну
из проблем, которая периодически возникает в русской культуре.
2 Модель мира // Вокруг света. 1931. № 11. С. 23.
46
Как объявило название документального фильма Дзиги Вертова в
1926 г., Советский Союз в 1926 г. занимал «шестую часть мира», т. е.
его суши. Даже сейчас, после распада Советского Союза, Российская
федерация сама остается самой большой страной в мире, простираясь
от «Европейской» России через необъятные равнины Сибири до вос¬
точного побережья Тихого океана в сторону Японии и Аляски. И по¬
строение связной и целостной картины идентичности увязает на без¬
жалостных, не знающих конца и края, равнинах огромной территории.
В работах разных историков, писателей и художников можно найдти
метафорическое соединение территории и нации, обозрение гигант¬
ской неохватности пространства. Эта неохватность становится и при¬
чиной, и символом такой же неохватности истории России. В XIX в.
философ и обществовед Александр Герцен (1812-1870) утверждал,
что Россия «больше подвластна географии, чем истории»3. В 1908 г.,
накануне наступления новой эры, поэт Александр Блок (1880-1921)
писал, что российские пространства обречены оказывать непреодоли¬
мое влияние на историю страны4. Мысль Блока об «исторической» и
роковой роли пространства четко сопрягает как будто практическое с
явно символическим — получается обобщенная характеристика опи¬
саний русской территории. Необъятный простор — вот он мощный
символ русской национальной идентичности.
В этой главе мы займемся исследованием проблем, которые по¬
рождает и порождала невероятность территории, и разные виды того,
как пространство, неопределимое или наоборот, функционирует в ка¬
честве метафоры и выражения того, что воспринимается как лежащее
в основе русского. Для этого нам нужно вернуться назад, перенестись
во времени или, правильнее сказать, в пространстве. Я коротко и с
неизбежной схематичностью опишу разные формы, в которых по-
разному представляли или оспаривали эту территорию на протяже¬
нии большого отрезка времени, а потом вернусь к некоторым образам
сталинской культуры 1930-1940-х гг., чтобы более детально проана¬
лизировать их. Меня будет интересовать не реальная география Рос¬
сии, Российской империи и Советского Союза или их карты, а то,
как образы территории вписывались в культурный дискурс — какие
образы пространства создавались и что они выражали. Моя цель по¬
казать, как в меняющейся географии нации по-разному пересекаются
метафора и реальность.
3 Герцен А. И. 'Du cteveloppement des idees revolutionnaires en Russie V/
Собр. соч.: в 30 т. M„ 1956. Т. 1. С. 16.
4 Блок А. А. Записные книжки. 2 т. Л., 1930. Т. 1. С. 83.
47
1. Реальный ландшафт: меняющиеся границы
Так что же такое русское пространство? Ответ зависит частично
от времени (границы передвигаются, меняются места сосредоточе¬
ния власти) и частично от критериев, по которым определяется это
пространство. Россия всегда была гибкой концепцией. Возможно, ее
единственной характеристикой можно считать то, что практически по
любым критериям она в широких масштабах расширялась. Древняя
Rhosia была безгранична в буквальном смысле слова, о ней думалось,
как о приблизительной сфере влияния (влияния племени, которое
называли Rhos или Русь)5, а не как о стране с обозначенными грани¬
цами, но она была много меньше того, чем о ней стали думать позже.
Ее основу составляли земли по оси север — юг, образованной речны¬
ми путями между Балтийским и Черным морями. Русы были пре¬
имущественно викингами, которые пришли сюда из Скандинавии,
видимо, в конце IX в., влекомые к югу перспективой торговли с Кон¬
стантинополем, сердцем Византийской империи и самым богатым
городом Европы. Их путь лежал через земли, населенные финскими
племенами на севере, славянами в центре и тюрками-кочевниками в
южных степях — это были совершенно разные, определенные геогра¬
фические и этнокультурные зоны, имевшие множество собственных
и различающихся между собой местных идентичностей, и ни одна из
них поначалу не была «русской». Русы оберегали этот торговый путь,
обосновавшись в поселениях вдоль него, и постепенно расширив
свои регулярные контакты с местными племенами, стали ассимили¬
роваться со славянами в языковом отношении. К середине X в. (бо¬
лее древняя политическая история не ясна и является предметом
споров) их главные северные и южные базы в Новгороде и Киеве
соответственно выросли в процветающие и людные города, оба под
властью киевских князей. Для византийских авторов того времени
Rhosia была областью, где действовали эти правители — русы со сво¬
ими союзниками.
Официальное обращение в христианство в конце X в. помогло
получить концептуальные инструменты для интеграции расширяю¬
щихся и разных территорий и населявших эти территории народов.
Киевские авторы начали идентифицировать и обосновывать «рус¬
скую землю». Во вступлении к «Повести временных лет» — компи¬
ляции (Сочинений начала XII в. — говорится, что одной из основных
ее целей было рассказать «откуда Русская земля стала есть?»6. Для
5 См. главу 2.
6 Повесть временных лет: в 2 т. / под ред. Д. С. Лихачева и И. П. Адриа-
новой-Перетц. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 8.
48
летописца, который пытается выстроить однородное и связное пред¬
ставление о нации (другими словами, описать ее идентичность), соз¬
дание нарратива государства было неразрывно связано с созданием
воображаемой географии этой нации.
Несмотря на то, что русская земля «стала есть», она, однако, во
многом еще находилась в процессе становления. Государственное
управление XI в. базировалось в Киеве, на торговом пути север — юг,
но к середине XII в. быстро множившиеся члены династии значитель¬
но расширили зоны своего влияния, продвигаясь в обоих направле¬
ниях от центральной оси и основывая сильные региональные центры
от Владимира на северо-востоке (за Москвой, первое упоминание о
котором как об укрепленном пункте относится к 1147 г.) до Галича на
юго-западе (в настоящее время это Западная Украина). Так, благода¬
ря непрерывной династической (и культурной) колонизации, русская
земля раздвигалась вширь, и пространственно, и концептуально.
Региональный рост создавал проблемы, т. к. наделе династическая
«земля» состояла теперь из отдельных соперничавших между собой
«земель». Соответственно распалась и терминология, касавшаяся
пространства и территории. С одной стороны, источники часто поль¬
зуются термином «Русь» в его узком значении, подразумевая области
вокруг Киева и контролируемые им, в отличие, скажем, от «Суздаль¬
ской земли» или «Смоленской земли». С другой стороны, мы встре¬
чаем также употребление термина «русская земля» в более широком,
пандинастическом значении. Этот ярлык был придуман для того,
чтобы поощрять чувство объединения вокруг правителей Киева, но
появление множества все более автономных региональных княжеств,
хотя, в общем, и говорило о продолжающемся укреплении династии,
в то же время создавало впечатление дезинтеграции, если сравнивать
с предшествующей относительной компактностью «земли». Уже к
XIII в. мы слышим жалобы на упадок «русской земли». Первоначаль¬
но синтетический ярлык для того, что «было», для растущей геопо¬
литической единицы, для того, что «стала есть», «русская земля» —
в широком смысле слова — превратился в более явное абстрактное
понятие, понятие метаполитическое о том, чем это должно быть, в
однозначно идеальную географию нации. Это было в то время, когда
родилась идея «Всея Руси». Вся Русь означала все земли, которые
тот, кто пользовался этим термином, по каким бы критериям он это
ни определял (поначалу речь шла о церковной юрисдикции), хотел
ассоциировать с идеей Руси, независимо от существующего полити¬
ческого режима.
Метаполитическая «русская земля» могла пережить нечто боль¬
ше, нежели династический раскол. В XIV в., когда восточные зем¬
ли были данниками монголов, а западные (в том числе Киев) были
49
включены в Литву (а затем в Польско-Литовское княжество), «Вся
Русь» осталась стандартным атрибутом церковной географии, а от¬
сюда и этнокультурной идеологии, если не геополитики. Расширение
Москвы в XV в., когда монгольское господство ослабело (выплата
дани прекратилась в 1480 г.), часто называют «собиранием» русских
земель. «Вся Русь» вновь вошла в язык политических устремлений
и в 1547 г. была увековечена в официальной политической терми¬
нологии, когда Иван IV (Грозный) был коронован как «Царь Всея
Руси» — или, как часто неверно переводится на английский, «Всех
Россий»7.
Итак, по своему происхождению Россия была пространством, за
которое шла борьба и соперничество. По своим амбициям она стано¬
вилась все более «имперской», на ее границах всегда было неспокой¬
но, они то и дело сдвигались. Для экспансии существовали три на¬
правления: запад, юг и восток. На западе находились густонаселенные
пространства Польши, Литвы и Швеции, но еще и Балтийское море, а
также бесценный потенциальный доступ к судоходным северным мо¬
рям, недоступным для России из-за того, что ее северное побережье в
основном зимой замерзает. К югу лежало Черное море и доступ через
Дарданеллы и Босфор к Средиземному морю. На востоке за Ураль¬
скими горами простиралась огромная, богатая и неразработанная Си¬
бирь, а за ней и Дальний Восток. Экспансия в сторону запада и юга,
густо населенных областей, была чревата большими трудностями, и с
XVI в. вплоть до Второй мировой войны за западные границы России
шла непрерывная борьба, и они все время претерпевали изменения.
На восток, наоборот, экспансии ничто не мешало. История русско¬
го экспансионизма и мифы о пространстве подкрепляются истори¬
ческой прагматикой: Сибирь, «земля за Уралом», — остается карди¬
нальной метафорой мощи.
Самое значительное расширение Московии имело место в XVII в.,
причем в обоих направлениях. На западе была аннексирована боль¬
шая часть Украины с самим Киевом (с точки зрения московитов,
тогда произошло воссоединение русской земли, что означало реализа¬
цию идеала Всея Руси). На востоке — присоединили Сибирь. Однако
эта экспансия не обошлась без сражений — сама империя испытала
нашествие Польши и Швеции. Царь Михаил Романов (1613-1645)
изгнал оккупантов из своих городов, но они продолжали занимать
большие территории страны, пока Петр Великий (1689-1725) не от¬
бросил шведов, обеспечив себе выход к Балтике. После этого правле¬
ние Петра стало правлением экспансии, особенно в Сибири. К 1710 г.
к востоку от Уральских гор осело 200 000 переселенцев, и Петр сде¬
7 См. главу 1.
50
лал Сибирь одной из своих первых губерний, тем самым введя ее в
правительственную структуру империи. С конца XVII в. Сибирь сде¬
лалась пространством для искателей приключений и героев и про¬
странством для ссылки, в ее самые медвежьи уголки отправляли уго¬
ловников и политических заключенных.
Несмотря на многочисленные завоевания, Петр не сумел дойти до
Черного моря, и понадобилось около ста лет, с 1735 по 1829 год, что¬
бы Россия в результате войн с Турцией за владычество над Черным
морем получила право прохода через черноморские проливы. При
Екатерине Великой (1762-1796) были аннексированы части Крыма
и Кубани, и Россия получила кусок черноморского побережья. Такая
аннексионистская политика — утверждение могущества и подавле¬
ние сопротивления — была характерна для правления Екатерины.
Первый «раздел» Польши в 1795 г. означал, что Россия приобрела
большие части Польши, после чего до конца XVIII столетия продол¬
жала захватывать новые и новые земли, и подвластные России терри-
торее простерлись до самых границ Австрийской империи. Империя
продолжала раздвигать свои границы на запад и восток весь XIX в.
и к началу Первой мировой войны в 1914 г. российская территория
включала столицу Польши Варшаву.
Таково было пространство, которое не без борьбы в 1917 г.
унаследовали большевики. В сущности, казалось бы, крушение
монархии и хаос, порожденный сначала Первой мировой войной,
а затем Гражданской войной, открыли дорогу к свободе многим наро¬
дам, захваченным царскими армиями на протяжении предшествую¬
щих столетий. Между 1917 и 1920 гг. большевистские армии вели бои
за Азербайджан, Армению и Грузию и за спорную границу с Поль¬
шей. Они воевали под знаменем мировой революции — международ¬
ного рабочего восстания, которое сделает ненужными национальные
границы. А между тем границы приходилось защищать. Необходимо
было наносить на карту новое пространство.
Конечно, не все территории, унаследованные новым режимом,
не были нанесены на карту. Если быть точными, то первые чертежи
(карты без градусной сетки) русской земли были изготовлены в XVI и
XVII вв., на них были нанесены реки, озера, водоемы и близлежащие
города. Первый «атлас» Сибири создали в 1701 г. В 1745 г. по при¬
казу императора Академией наук был издан официальный «атлас»
имперского пространства. Он состоял из девятнадцати специальных
карт, представляющих Российскую империю и соседние с ней терри¬
тории. В XIX в., особенно в связи с имперской экспансией, процесс
нанесения российского пространства на карту шел сразу на несколь¬
51
ких уровнях: на уровне картографическом в буквальном значении
слова, на уровне строительства инфраструктуры и коммуникаций
(железная дорога Петербург — Москва была построена между 1842 и
1851 гг.) и на уровне развития смежных дисциплин, таких, как этно¬
графия. Однако масштабы территории были, по-видимому, настоль¬
ко огромны, что официозная статья энциклопедии 1885 г. вынужде¬
на была констатировать, что «обширные части территории империи
остаются технически не замерены»8.
Геополитическая история России и Советского Союза — это исто¬
рия экспансии, что, естественно, имело решающее влияние на кон¬
цепцию русского пространства. Во-первых, сами основы любой идеи
«русской нации» базировались на постоянно менявшейся идее о том,
что составляет ее территорию. Древнейшая «русская земля» симво¬
лически ориентировалась на Киев. Впоследствии Москва претендо¬
вала на наследование статуса и авторитета Киева, несмотря на то что
находилась совсем в другом месте, далеко на северо-востоке. Петр
Великий еще раз сместил центр своей нации, на этот раз к Финскому
заливу. Строительство Санкт-Петербурга в качестве «окна в Европу»
означало переориентацию — и реальную, и символическую — русско¬
го пространства. На карте разметили идеологию — так называемая
модернизация нации должна была быть достигнута пространствен¬
ной переделкой карт. Подобным же образом решение советского ру¬
ководства в 1918 г. о переносе социалистической столицы обратно в
Москву было отказом от имперского пространства Санкт-Петербурга
(вместе с ассоциировавшимся с ним угнетением рабочих), и одновре¬
менно попыткой использовать новую столицу в своих интересах, опи¬
раясь на символические исторические корни. Киев, Москва, Санкт-
Петербург порождают разные символические нарративы, разные
стратегии национальной самоидентификации. Один из них, Киев,
теперь столица Украины, даже не часть современной России, но это
столица Владимира, место официального обращения в христианство
и как таковое образующее пространство в одном из главных наррати¬
вов «русскости». Так где же искать символическое местонахождение
российской идентичности?
Во-вторых, можно было бы предположить, что история этих за¬
воеваний создает особое отношение с территорией — ее природой
и ее людьми. Всем — от первых богатырей, которые населяют рус¬
ский фольклор, до подвигов Ермака Тимофеевича (ум. 1585), перво¬
го завоевателя Сибири, и вплоть до искателей приключений ста¬
линской России и романтических странников периода «оттепели»
8 Энциклопедический словарь. СПб., 1895. Т. XV(a). С. 633-640.
52
1960-х гг. — территория открыла множество пространств для подви¬
гов, представления которых сохраняются в фольклоре, литературе,
кино. В изображении территории мы видим отношение, которое мож¬
но описать, как желание осваивать, покорять, усмирять естественный
мир. В отношении территории постоянно используется целый набор
терминов, описывающих завоевание — освоение, покорение, захват и
собственно завоевание.
2. Символический ландшафт: бескрайний
Императив завоевания направлен столько же на природу, сколько
и на людей. Потому что «проблема» русского пространства была не
только количественной. Она была еще и качественной. Одна толь¬
ко обширность территории вмещает в себя огромное разнообразие
ландшафтов, от горных цепей и пустынь Юга до березовых лесов
центральных областей и тайги Сибири. Еще больше усложняет дело
то, что огромная часть территории непригодна для жилья. Несмотря
на значительные запасы природных ресурсов по меньшей мере две
трети территории считаются непригодными к сельскохозяйственно¬
му использованию. Большие части Сибири и Дальнего Севера нахо¬
дятся в зоне вечной мерзлоты. Все главные русские моря часть года
покрыты льдом (только Мурманск у границ с Норвегией, благодаря
особенностям Гольфстрима, не замерзает зимой). Из практических
и исторических соображений большая часть населенных пунктов
сконцентрирована к западу. Москва расположена в двадцать раз бли¬
же к западной границе, чем к восточной. Поэтому отношения между
центром и периферией сложные: один только размах территории
покрывает восемь часовых поясов, и получается, что когда в Мо¬
скве полдень, в Новосибирске 3 часа дня, а в Магадане на Дальнем
Востоке 7 часов вечера. Разные пространства создают разное время,
затрудняя деятельность централизованного государства (координа¬
цию расписаний железнодорожных поездов, религиозных праздни¬
ков и т. д.).
Кроме этих проблем управления и проживания, есть еще и другая
проблема — проблема символов. Что же является или может являть¬
ся «символом русского ландшафта»? Береза? Сибирская тайга? Ши¬
рокие реки Дон и Волга? Замерзший Север? Во всяком случае, каков
статус любого национального символа ландшафта в империи, кото¬
рая состоит из такого количества разных народов? Был период, когда
Советский Союз с гордостью заявлял, что в пределах его границ жи¬
вут 150 разных национальностей. И та же статья в вышеупомянутым
Журнале «Вокруг света» радовалась тому, что карты и глобусы изда¬
ются на языках двадцати девяти народов Советского Союза.
53
Несмотря на такое поразительное разнообразие, а может быть,
благодаря ему, благодаря необходимости держаться стратегии объ¬
единения, в многих русских культурных текстах все описания тер¬
ритории России пронизывают общие нити. Особенно отчетливо
это видно в вербальных и визуальных текстах XIX столетия, когда
вопросы идентичности и национальности приобрели самое острое
звучание. Французский путешественник маркиз де Кюстин (1790—
1857), путешествовавший по России в 1839 г., оставил одно из самых
убийственных описаний российского ландшафта, назвав Россию
«страной без пейзажа», но зато с бесконечным голым пространством:
«Что за страна!.. Это одно, без конца и края, плоское пространство,
плоское, как ладонь вашей руки, без цвета и без формы; вечное боло¬
то, местами перемежающееся полями пшеницы». Проходит несколь¬
ких недель, заканчивает он, «и сердце путешественника охватывает
ужас», появляется желание «бежать без оглядки из этого кладбища,
которому, видимо, нет конца и края»9. Рассказ иностранца можно
сравнить с удивительно схожим описанием, принадлежащим русско¬
му человеку, Василию Ключевскому (1841-1911), в начале XX в. за¬
вершившему работу над многотомной историей России. Ключевский
начинает свою историю с описания неповторимости русского про¬
странства, подробно передавая впечатления воображаемого русского
путешественника, попавшего на Запад и чувствующего себя зажатым
и загнанным, когда он вспоминает родную землю. В своих снах, пи¬
шет Ключевский, русский видит «ровные пустые поля, которые, ка¬
жется, как море, загибаются за горизонт, и почти не видно селений»10.
В этих двух цитатах, разделенных во времени почти сотней лет и
написанных, одна иностранцем, другая русским, обнаруживаются
общие черты, поданные, однако, с разным акцентом. Первое: оба от¬
мечают плоский ландшафт и пустоту. Второе: оба вспоминают о го¬
ризонте или его отсутствии. Де Кюстин с ужасом говорит о стране,
которой нет конца и края; Ключевский описывает плоское простран¬
ство, которое, кажется, загибается за горизонт, что наводит на мысль
о том, что пространству просто нет конца, нет никакого горизонта.
Это представление об отсутствии пределов характерно для описаний
данной территории. Русское пространство часто описывается как не¬
что бесконечное — у него, кажется, нет края. А потому оно непозна¬
ваемо и не поддается контролю.
Для Ключевского «пустая» русская равнина, где не найти каких-
либо отличительных черт, и есть своего рода определение русской
9 Marquis de Custine. La Russie en 1839. Paris, 1845. IV. P. 108-110. Cm.
главу 2.
10 Ключевский В. О. Сочинения: в 8 т. М., 1956. Т. 1. С. 70.
54
идентичности. Ее власть заключается именно в ее пустоте, что явля¬
ется одновременно и символом, и реальностью. Эта русская пусто¬
та по самой своей природе может быть заполнена любым значением
по вашему выбору. Иностранец в России видит только хаос. Вооб¬
ражаемый русский за границей вспоминает, наоборот, открытость и
свободу — своего рода свободу и отсутствие клаустрофобии, которые
не дают более обычные «национальные» (под этим мы подразумева¬
ем европейские) пейзажи. В то же время, для Ключевкого и многих
других писателей, русская идентичность обладает своей собствен¬
ной свободой и чистотой. Процесс обращения недостатка в преиму¬
щество — это то, что прослеживается во многих из множества «дис¬
курсов о национальной идентичности», которые исследуются в этой
книге. Точно так же, как «позднее» обращение Руси в христианство
превратилось в уникальное достоинство11, так может преобразиться
достоинство и «необычность» самого таинственного, самого неиз¬
веданного и трудно локализуемого на карте. Характеризуя русское
пространство, неизменно говорят о его неведомости — именно о том
самом, что делает русскую идентичность проблематичной. Напри¬
мер, вспоминая пустынные просторы страны, Ключевский вызывал в
памяти нежелание России быть «отгороженной», будь то физически,
границами, или метафорически, по определению. В широко извест¬
ном коротком стихотворении Федора Тютчева (1803-1873) говорит¬
ся, что Россию «аршином общим не измерить» и умом ее не понять.
Ее душа, как и ее пространство, не принимает ограничений: «В Рос¬
сию можно только верить»11 12.
Слово необъятность выражало именно эту неуловимость опреде¬
ления — это не просто «неохватность», и она может незаметно пере¬
ходить в «беспредельность». Необъятный простор — одновременно и
безграничный (свободный), и «беспредельный» (невозможно поста¬
вить предел), т. е. необъятность русского пространства подразумева¬
ет свободу, способность глубоко дышать. Это отчетливо выражено в
словах «Песни о Родине», написанной Исааком Дунаевским (1900-
1955) на слова популярного поэта Лебедева-Кумача (1898-1949) для
музыкальной комедии Григория Александровгг(1903-1984) «Цирк»
(1936):
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
11 См. главу 2.
12 Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 229.
55
Песня пользовалась такой популярностью, что быстро стала нео¬
фициальным гимном. Это значит, что сталинская культура использо¬
вала те же самые символы территории — колоссальность простран¬
ства взята в качестве кода для обозначения открытости и свободы
русской (советской) «души».
Этот образ России как безграничного открытого пространства —
общая черта многих описаний национальной территории, в том числе
и в словаре. Я уже показывала, как это работает в случае необъят¬
ного простора. Но есть и другие термины, которые еще более явно
заряжены символическим значением и которые постоянно использу¬
ются для того, чтобы вызвать в сознании образ пространства. Воля,
например, может интерпретироваться, как свобода, но это не совсем
адекватно, потому что воля это не только свобода от ограничения в
действиях. Это еще и «сознательное стремление к осуществлению»
чего-либо или «желание, требование»13. По мнению Дмитрия Лиха¬
чева, разница между этими терминами в том, что воля описывает сво¬
боду плюс простору широкое открытое безграничное пространство,
столь характерное для России14. Это свобода в пространстве. Русская
земля древних текстов сосуществовала в фольклоре с пространством
для смелых предприятий, которое невозможно с какой-нибудь долей
достоверности нанести на карту, но которое имело свои реки и широ¬
кие равнины. В одном, например, народном сказании, былине, пове¬
ствование начинается строками: «Издалека, из чиста поля / Пришли
два добрых молодца». Этот сплав юности, молодечества и открыто¬
го пространства демонстрирует сближение между территорией как
пространством и территорией как символом. Следует также заме¬
тить, что слова чисто поле, которое можно перевести, как «открытое
поле», на самом деле значительно многовалентнее. Чистое означает
не имеющее инородных элементов, что вызывает ценность открыто¬
го, пустого пространства — тех самых равнин или степей, которые с
таким ужасом расписывал де Кюстин и о которых Ключевский писал
с такой ностальгией. Термин своего резонанса не терял — в начале
XX столетия писатель Иван Бунин (1870-1953) писал: «Я родился
и рос... совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не
может европейский человек»15.
Так недостаток определения сам по себе становится формой
определения. Как и для пространства, для самой России характер¬
13 Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. М. Ушакова. М., 1935.
С. 358.
14 Лихачев Д. С. Заметки о русском. М., 1984. С. 10.
15 Бунин И. А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1988. Т. V. С. 37.
56
на открытость, она делается символом свободы, мужества, открыто¬
сти сердец. Но символичность безграничности обладает еще и дру¬
гим важным измерением. В эпических повестях о народных героях,
странствующих через чистое поле, мы видим характерную реакцию
на территорию, ту, за которой далекая история. Кажется, одни только
размеры России вызывают необходимость передвигаться по ней и за¬
ставляют сосредоточиться на самом процессе передвижения. Фоль¬
клорное приключение строится вокруг подвига, это путешествие
через пространство похождений, а это чисто поле. В свою очередь,
совершающий это путешествие путник, странник, выглядит своего
рода божьим старцем русского религиозного фольклора, чья свобо¬
да от материальных оков символизируется его бесконечными стран¬
ствованиями. И конечно, пространство для этого создает огромная
территория.
Не случайно образы пейзажа в пейзажной живописи XIX в. ча¬
сто включали образ дороги, пути, уходящего вдаль (рис. 3.1). В му¬
зыкальном фольклоре появились так называемые песни ямщика или
разбойника с большой дороги, воспевавшие путешествие как во¬
площение метафорической свободы. Николай Гоголь (1809-1852)
писал: «И какой же русский не любит быстрой езды?»16 Сама импе¬
ратрица Екатерина Великая любила промчаться на лихой тройке по
сельским дорогам. Этот постоянный мотив путешествия перерос, в
свою очередь, в метафорический путь нации. В культурных текстах
путь, странствия русской истории столь же непредсказуемы, столь же
полны опасностей и трудностей, как и настоящий путь и странствия
по просторам России. Это отразилось у Гоголя в образе России как
Рис. 3.1. Исаак Левитан. «Владимирка», 1892. Современная почтовая открытка
(с оригинала, хранящегося в Третьяковской галерее в Москве)
16 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. V. С. 248.
57
птицы-тройки, несущейся по безграничному простору17. Или другой
пример, в поэме Александра Блока «На поле Куликовом» (1908),
воспевавшей победу Москвы над монгольскими ордами в 1380 г., мы
находим описание судьбы России, в котором явно соединяются про¬
странство и время: «Наш путь — степной»18. Так плоская, монотонная
и бескрайняя территория трансформируется в символ бесконечного
потенциала. Это символ долгой дороги, которую предстоит пройти
России, но еще и всего, что ей предстоит испытать. Точно так же в
первые годы существования Советского Союза символом стреми¬
тельного движения России в динамичное и лучшее будущее был мча¬
щийся на всех парах паровоз. В образе пути образы времени — про¬
гресс, история — представлены через национальную территорию, ее
огромные расстояния и движение через них.
3. Изображение советских пространств
Проявляющееся здесь противоречие не случайно. Во-первых, я вы¬
разила желание победить и покорить пространство. Во-вторых, я со¬
средоточилась на свободе, которую дает и символизирует неведомая
ширь непокоренного пространства. Это противоречие между симво¬
ликой открытого пространства и стремлением закрыть его проходит
через образы территории. Признаки населенных пунктов и обитания
людей играют важную роль в представлениях тех же самых образов
простора и дали (расстояния). Михаил Лермонтов (1814-1841) в
стихотворении «Родина» (1841) рассказывает о том, какую радость
он испытывает, видя «дрожащие огни печальных деревень». Дерев¬
ня — символ мужества и терпения19. Такое противоречие — главное
в любой дискуссии о России «как» о пространстве. Образы террито¬
рии определяются постоянным смещением образов хаоса и порядка,
свободы и ограничения. Желание покорить пространство находится
в вечном противоборстве с желанием подчеркнуть сопротивление
покорению. Конфликт находит известное разрешение в этих образах
хрупкого примирения.
Для того чтобы продемонстрировать этот парадокс, обращусь те¬
перь к двум образам пространства, которые были созданы и распро¬
странялись в сталинский период, показывют, как популярная куль¬
тура пользовалась знакомыми образами и ассоциациями русского
пейзажа с целью конструирования образа Великой Советской иден¬
тичности. Первый «текст», в сущности, это фильм «Сказание о зем¬
17 Там же. С. 248.
18 Блок А. А. Стихотворения: в 3 т. СПб., 1995. Т. 3. С. 286.
19 Лермонтов М. Ю. Собр. соч. М., 2000. Т. 1. С. 70.
58
ле сибирской», созданный в 1947 г. известным режиссером Иваном
Пырьевым, выпустившим многие из самых популярных кинофиль¬
мов 1930-1940-х гг. Пырьев специализировался на своеобразных
оптимистических фильмах о советской жизни, применяя технику
голливудских мюзиклов с красочными танцевальными сценами, но
используя все это для передачи правильного политического звучания
в духе социалистического реализма. «Сказание о земле сибирской» —
романтическая повесть о пианисте, получившем ранение на фронтах
Великой отечественной войны и потерявшем веру в музыку и ее роль
в новом советском мире. Он уезжает в Сибирь, где работает на стро¬
ительстве бумажного комбината. Находясь в Сибири и увлекшись
ударным трудом, он начинает петь по вечерам в местной чайной. Там
он встречает старую подругу, московскую певицу, которую давно уже
любит и которая любит его, но их первая встреча оказывается неудач¬
ной. Разочарованный Андрей уезжает еще дальше на просторы Се¬
вера, где его захватывает героизм социалистического строительства
и он пишет кантату «Сказание о земле сибирской». Возлюбленная
разыскивает его, они воссоединяются, и его произведение с большим
успехом исполняется в Московской консерватории.
В фильме, московская аудитория, как зачарованная, наблюдает,
как разворачивается гимн русскому пространству. С первыми зву¬
ками музыки и на протяжении всей кантаты Андрей голосом за ка¬
драми продолжает рассказ о «неведомых, диких, седых» просторах,
которые называются Сибирью. В этом первом описании, когда мы
прислушиваемся к игре оркестра, он вызывает образы, которые нам
уже знакомы по самым общим описаниям русской территории. Си¬
бирь «пропадает» за Уралом, в «серебряной шири». Просторы, как
можно догадываться, бесконечны: «А может быть, и нет у ней кон¬
ца!» Ощущения мощи и свободы пейзажа возникают одновременно:
безграничность простора воспринимается как символ мощи. Эти
базовые вещи важны для возникновения следующего чувства — без¬
граничный героизм русского и советского завоевания Сибири зави¬
сит от безграничной мощи земли, которой он бросает вызов. Далее
Андрей говорит об «отчаянных русских сердцах», которые устреми¬
лись в Сибирь, за «вольготной долей», и в возвышенных эпических
тонах, под гром ударных инструментов рассказывает о том, как могу¬
чий Ермак пробивался через топи и туманы на битву с Сибирью.
И в этот момент необыкновенный визуальный монтаж переносит
Сибирь в Москву и к зрителям фильма. В сменяющихся образах не¬
трудно проследить главные особенности, создающие общий образ
Русского пейзажа. Первое, мы видим его как свидетеля русской исто¬
рии — почти пантомимный герой, Ермак командует своим отрядом в
бою (рис. 3.2). Здесь режиссер обращается к иконографии народной
59
Рис. 3.2. Ермак со своим войском: из фильма «Сказание о Земле Сибирской»,
режиссер Иван Пырьев, 1947
культуры и представляет пейзаж эпопеи. Когда бой завершился, при¬
рода сама отдает должное величию сделанного Ермаком (рис. 3.3).
Полыхают молнии, и начинается ливень: победа над силами приро¬
ды достигнута, и природа склоняется перед русской силой. Сибирь
покорена. Здесь визуальное представление Сибири несколько рас¬
ходится с аудио-текстом. Андрей рассказывает о том, как продол¬
жалось завоевание, как потомки Ермака прошли через всю Сибирь,
а визуальный текст делается мягче и лиричнее, и мы видим сначала
горы, потом небо, а потом просто плоскую равнину (рис. 3.4). При¬
рода становится все более умиротворяющей, пока Великая Россия
Рис. 3.3. Пламя завоевания: из «Сказания о Земле Сибирской»
60
Рис. 3.4. Покоренная природа: из «Сказания о Земле Сибирской»
не увидела перед собой «великий океан»! Россия проникла через Си¬
бирь к океану. Говоря словами сталинской пропаганды, произошло
«открытие» Сибири, проложившее дорогу к Тихому океану. И точно
так же, как великий океан встречается с Великой Россией, так и мощь
природы, следуя логике нарратива, вторит эхом могуществу ее побе¬
дителя. Когда кантата подходит к концу, простор уже заселен, заводы
построены, города полны жизни (рис. 3.5,3.6). Гигантская природная
мощь Сибири встречается с достойным соперником — великим геро¬
измом Советского Союза. Потом фильм возвращается в Москву, где
все, собственно, и началось.
61
Рис. 3.6. Сибирь заселенная: из «Сказания о Земле Сибирской»
Таким способом этот фильм показывает, как визуальные тексты
сталинского периода обошли молчанием разнообразие советского
пространства, и получилась единая территория Советского Союза.
К концу симфонии следует коллаж — не специально Сибири, а Сиби¬
ри как кода более обобщенного русского пространства. Перед глазами
зрителей встают разные пейзажи. Где-то образы пасторальные — мы
видим освоенный пейзаж, используемый для сельского хозяйства,
видим, как колышется на ветру кукуруза, видим, как распускают¬
ся цветы. Здесь мы видим пространство, населенное животными и
людьми; в других местах оно все такое же дикое и недоступное. На
протяжении монтажа Сибирь делается всеохватным термином, кото¬
рый описывает «бескрайнюю территорию» России вообще. Это образ
преобразованной советской властью Сибири, но он опирается и на
идею исторической преемственности. Пейзаж выступает в роли хра¬
нителя преемственности между сталинизмом и великими завоевате¬
лями прошлого.
Более того, «Сказание» начинается и заканчивается в Москве.
Перед самым началом концерта мы видим двух простых сибиряков,
друзей Андрея, приехавших в Москву, чтобы побывать на концерте.
Они гордо стоят перед входом в Консерваторию, им радостно, что их
пригласили в Москву увидеть что-то «о них самих». Символично, что
центр подтверждает идентичность дикой периферии. Эта централи¬
зованная структура, прочно помещающая Москву как символиче¬
ский центр пространства, составляла основу для образной географии
сталинской культуры, подчеркивая необходимость «завоевывать»
и покорять территорию. Пропуская образы Сибири через Москву,
62
структура самого фильма повторяет процесс покорения, о котором
ведется рассказ. Фильм заземляет необъятный простор, определяя
его место по отношению к контролирующему центру. Эта экраниза¬
ция пространства прямо говорит о том, что «Сибирь для всех», что
она общенациональная гордость. Однако в то же время главное — это
взаимодействие между контролем и стихийностью. Сибирь завоева¬
на, но на каком-то уровне остается необъятной и всемогущей, а по¬
тому воспринимается как метафорический эквивалент силы русской
души. Находясь где-то между цивилизацией и дикостью, контролем
и свободой, образ Сибири являет собой парадокс дискурса о русской
идентичности.
Мой последний «текст» — карта Советского Союза (рис. 3.7) —
фронтиспис к изданию 1935 г., которым отмечалось открытие одно¬
го из самых великих сталинских проектов: канала от Балтийского
моря до Белого, который был частью утопического плана превратить
Москву в «порт пяти морей»20. Эта карта — документ завоевания. Это,
конечно, не карта в полном смысле слова, но в качестве символическо¬
го образа воображаемой географии сталинизма она очень даже подхо¬
дит. Мы видим Москву, красную звезду, уверенно располагающуюся
в символическом центре карты, в центре звезды изображен Сталин.
Отсюда радиально расходятся линии влияния. Пространство четко
разграничено — его границы ясно обозначены и надежно защищены.
Рис. 3.7. Карта СССР: из книги М. Горького, Л. Авербаха и С. Финна (ред.)
«Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: история строительства»
(Москва, 1934), вклейка
20 Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: история строитель¬
ства / ред. М. Горький, Л. Авербах и С. Финн. М., 1934. Вкладка.
63
В их пределах нецивилизованная, дикая, необъятная территория по¬
казана освоенной. «Здесь, например, в глубине Сибири — заявляет
текст, — оказывается, может расти пшеница». На северном побережье
«ледоколы делают море судоходным». Благотворное советское влия¬
ние достигает самых отдаленных, самых темных уголков территории
на карте, которая, как гордо гласит подпись, «совсем не та, что старые
карты». Значит, эта карта находится за пределами дискурса необъят¬
ности и безграничности, который мы раньше заметили в отношении
пространства. Она осваивает и ограничивает территорию, видя в ней
благодетельного поставщика ресурсов для центра, откуда исподволь
за всем наблюдает Сталин.
В этих двух текстах мы отмечаем ряд ингредиентов «России в
пространстве», видоизмененных сталинской культурой. Оба говорят
о завоевании, подчеркивают покорение и освоение дикого непрохо¬
димого простора. Оба определенно связывают это с героизмом — мо¬
гущество русского народа прямо пропорционально зависит от мощи
русского пейзажа, сил природы. Оба текста — это идеологические до¬
кументы, имеющие целью донести политические истины до широкой
аудитории. И при этом оба — и в особенности фильм — несут инфор¬
мацию на нескольких уровнях, обращаясь к историческому контексту
и символическому репертуару, выходящим далеко за рамки текущего
советского периода. В «Сказании о земле сибирской» дискурс заво¬
евания идет параллельно с акцентом на сопротивлении завоеванию,
на безусловной «непознаваемости» территории, что, в свою очередь,
выполняет роль кода для более обобщенных загадок самой «русско¬
сти». Русское пространство становится символом невозможности на¬
родного и национального самоопределения. Оно необъятно, его нель¬
зя охватить, оно не поддается обобщению. В сущности, не получится
даже как следует обнести его границами. И, как и русская идентич¬
ность, оно открыто бесконечным манипуляциям, воображаемой пере¬
кройке в зависимости от меняющихся политических и социальных
императивов. В современной России в совершенно ином политиче¬
ском контексте эта перекройка пространства продолжается.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КОНТРАСТНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ: «МЫ» И «ОНИ»
Если в главах части первой мы начали с вопросов, «Когда мы?» и
«Где мы?», то часть вторая открывается вопросом «Кто мы?». Други¬
ми словами, фокус перемещается с идей о России на идеи о русских.
Конечно, не о конкретных русских индивидах как людях, а о русских
в собирательном значении, как о народе или вообще о массах, вос¬
принимаемых как определенный народ. Самоопределение может
быть как утвердительным, так и контрастным: мы это мы потому, что
есть это, и мы есть мы потому, что мы не это. Между образами «мы» и
образами «другие» существует тесная взаимосвязь, порой доходящая
до взаимозависимости.
Глава 4 начинается с широкого обзора русских идей XVIII в. и
последующего времени о «русскости». Это официальные элитарные
идеологии нации, разработанные и пропагандировавшиеся сверху
правителями и их агентами, писателями, критиками и интеллектуа¬
лами. Элиты были в состоянии разрабатывать радикально расходив¬
шиеся между собой концепции нации, говоря о воображаемом «наро¬
де». Но как, если вообще как-то, этот «народ» представляет себе или
видит это «русское»? Во второй части главы приводятся примеры,
взятые из «народной» культуры, вроде афиш, рекламы, почтовых от¬
крыток и народной музыки, из них видны иные измерения и динами¬
ка идей или идеалов «русскости».
Самоопределение обостряется через сопоставление с «другим», с
иностранцами. Стереотипы иностранцев столь же обычны, сколько
обычны и стереотипы «мы», но они не всегда так устойчивы, как это
может показаться. Например, в романе в стихах «Евгений Онегин»
(1824-1832) или в романе Александра Герцена (1812-1870) «Кто
виноват?» (1845-1846) немецкая система образования воспитывает
сентиментальный идеализм, а в 1859 г. в романе «Обломов» Ивана
Гончарова (1812-1891) мы уже видим полную противоположность:
она выступает как источник практичности и деловитости. Глава 5
прослеживает развитие отношения русских к иностранцам, в том
числе и в таких вопросах, как статус иностранцев в России, реакция
65
русских на описания иностранцами России и представление ино¬
странцев, отраженное в беллетристике. В качестве примера дается
обзор отношения русских к англичанам. Такое отношение часто было
сложным и парадоксальным, потому что желание подражать часто
соперничало с желанием быть непохожими. Вот почему сказанное
об англичанах часто читается как закодированное высказывание о
самих себе.
Глава 4
«МЫ»: РУССКИЕ О РУССКОМ
Хубертус Ф. Ян
Посредине Кавказских гор, неподалеку от северных склонов Кре¬
стового перевала, где Военно-Грузинская дорога поднимается до
своей самой высокой точки, путник оказывается в широкой высоко¬
горной долине, которая внезапно открывается глазам после длинной
череды хребтов, ущелий и пропастей. Ее пустынный пейзаж очень
типичен для этой части гор, зимой здесь бушуют метели и срываются
снежные лавины, а летом царствует раскаленное солнце. Но в сере¬
дине долины приютилась горстка домиков, это село Казбеги, где, не¬
смотря на суровые условия, удалось выстоять нескольким деревьям.
Они высятся в окружении каменистых берегов реки Терек и на их
фоне стоит памятник, который трудно было бы ожидать в этом ди¬
ком и неприветливом краю — памятник поэту Александру Пушкину
(1799-1837), изображенному сидящим на скамье (рис. 4.1).
В бывшем Советском Союзе было множество памятников Пушки¬
ну. Обычно их ставили на центральных площадях или на улицах, на-
Рис. 4.1. Памятник Пушкину, Казбеги
67
званных в честь великого поэта. Однако примечательный памятник в
глухом кавказском захолустье был установлен по особому поводу. Он
напоминает о путешествии Пушкина в Арзрум в восточной Турции
во время войны между Российской и Османской империями в 1829 г.
Во время этого путешествия поэт проехал по берегам Терека, пере¬
сек Кавказский хребет и впервые в жизни вступил на иностранную
землю. Несколько лет спустя в своем знаменитом дорожном очерке
«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» он признавался,
что когда покинул Россию и увидел чужую страну, у него появилось
«необъяснимое чувство». Особенно смутила его граница, он почув¬
ствовал в ней что-то очень таинственное. Дело в том, что, несмотря
на то, что он пересек русскую границу, он считал, что все равно оста¬
вался в России. В конце концов, эта территория была уже завоевана
царскими армиями1.
Софистические размышления Пушкина о том, где он находится,
его «необъяснимое чувство» на границе, которая, очевидно, означала
для него много больше, чем граница государства, выводят нас на ста¬
рую проблему русской истории: что значит быть русским? И что, сле¬
довательно, составляет содержание русского патриотизма? Природа
русской национальной идентичности? Вполне вероятно, что просто
невозможно, положа руку на сердце, ответить на этот вопрос с претен¬
зией на научную достоверность — национальных и других идентич¬
ностей столько же, сколько человеческих индивидов, а, может быть, и
больше. Тем не менее в этой главе мы, по крайней мере, попытаемся
подойти к данной проблеме, представив для начала общий обзор бо¬
лее или менее известных интеллектуальных споров о русской нацио¬
нальной идентичности, имевших место в XIX-XX столетиях. Затем
последует краткий и более конкретный разбор массовой культуры,
имеющий целью описать общее представление о русском.
1. Взгляд сверху
В своих путевых очерках 1834 г. Пушкин обращает внимание на
два представления о русской национальной идентичности. С одной
стороны, он открыто называл Россией Кавказ и только что завоеван¬
ные новые территории, т. е. он видел Россию многонациональной им¬
перией. С другой стороны, он постоянно писал о Кавказе, как о чужой
экзотической стране, несомненно принадлежащей к так называемому
Востоку. Поэтому живущие там народы он считал дикими и опас- 11 Подробный анализ впечатлений Пушкина см.: Monika Frenkel Green-
leaf. Pushkin's «Journey to Arzrum»: the Poet at the Boarder // Slavic Review.
50(1991). P. 940-953.
68
ными, хотя и благородными дикарями, цивилизация для которых
должна прийти из России в виде самовара и Евангелия. Подчеркивая
чужеродность и отсталость окружавшего его мира, Пушкин неволь¬
но раскрывал другое и совершенно непохожее понимание России.
Согласно его второму представлению, Россия означала только сла¬
вянские земли империи, православную нацию, достигшую высокой
степени культуры и населенную этническими русскими.
Два представления Пушкина о национальной идентичности, им¬
перское и этнокультурное, как можно было бы назвать их, имеют
свою собственную историю. Их корни уходят в XVIII в., и в первую
очередь к реформам Петра Великого (1689-1725). В то время в Рос¬
сии в массовом порядке внедрялись западноевропейские идеи, а так¬
же абсолютистские формы правления, вместе с ними пришли симво¬
лы и язык имперской власти в их западной классической форме. Петр
и его преемники, особенно Екатерина Великая (1762-1796), считали
себя абсолютными монархами. Их царствование характеризовалось,
прежде всего, военной славой, территориальными захватами и прав¬
лением, основанным на принципах хорошо организованного поли¬
цейского государства, а не на православном благочестии и византий¬
ских традициях, как это было в древней Московии. Не удивительно,
что образы их власти, или, как называл их Ричард Уортман, их «сце¬
нарии власти»2 имели сильный заряд, направленный на создание
имперского мифа, не имевшего почти ничего общего с Киевской или
Московской Русью, но много общего с древним Римом. Так, Петр
принял латинский титул императора и велел написать свой портрет
с лавровым венком на голове. Екатерина, в свою очередь, изобража¬
лась на аллегорических картинах и монетах в образе древней богини,
чья империя напоминала римскую и по этническому многообразию,
и по географическим размерам.
В Россию из Западной Европы импортировали не только госу¬
дарственные институты и классические имперские формы. Вместе
с ними проникали также идеи Просвещения, художественные сти¬
ли, культурные тенденции и европейский образ жизни и поведения.
Сначала их воспринял узкий круг образованных людей из элиты,
которые под влиянием этих новых и незнакомых теорий вскоре на¬
чали задумываться о себе и искать собственно русскую культуру и
идентичность. Появление в России национального сознания было
результатом западного влияния и вместе с тем протестом против за¬
падного влияния. Самое непосредственное отношение к этому имело
2 См.: Richard Wortman. Scenarios of Power: Myth and Ceremonies in Rus¬
sian Monarchy. 2 vols. Princeton, 1995, 2000.
69
появление национальной культуры. Эта национальная культура мало
чем отличалась от национальных культур Западной Европы. Иными
словами, как и в других странах, она во многом базировалась на слав¬
ном историческом прошлом и создании национального языка, лите¬
ратуры и музыки. Кроме того, под знаком сначала сентиментализма,
а затем романтизма образованные русские, точно так же, как другие
европейцы, верили, что могут найти особые национальные черты сво¬
ей собственной страны, обратившись к простому народу.
Например, в журналах и литературе екатерининской эпохи про¬
стая и непорочная сельская жизнь часто восхвалялась как добро¬
детельная и типично русская. Идеализированные деревни с их не¬
испорченными жителями противопоставлялись испорченности и
упадку — дурно копируемым французской моде и роскошному об¬
разу жизни оевропеившейся аристократии Санкт-Петербурга и Мо¬
сквы. Искренние критики, вроде журналиста и издателя Николая
Новикова (1744-1818) и писателя и публициста Александра Ради¬
щева (1749-1802), выступая с осуждением крепостничества, всегда
подчеркивали достоинства и добродетели простых людей. Особую
известность получило радищевское «Путешествие из Петербурга
в Москву» 1790 г., где автор в самых ярких тонах описывает людей
низших сословий. Крестьянская девушка Анюта, например, показана
как архетип деревенской скромности и нравственности в противо¬
вес купающимся в роскоши петербургским барыням. Точно так же
слепой старик-нищий, поющий в Клину за подаяние, превозносится
за ту простую добродетельную жизнь, которую он ведет, а его песня
кажется во много раз прекраснее песен, что поют певцы столичной
итальянской оперы.
Если сентиментально настроенные интеллектуалы видели в кре¬
стьянах типических носителей русских добродетелей и достоинств,
то другие члены высших классов, по-видимому, имели совершенно
иные представления о национальном характере. Для них он ассоции¬
ровался просто с пасторальными идиллиями и фольклорным китчем,
как это назвали бы сегодня. Так, подруга Екатерины Великой, кня¬
гиня Екатерина Дашкова (1744-1810) однажды принимая гостью
англичанку, устроила типичный сельский праздник. Для того, чтобы
показать иностранке «настоящую Россию», как она ее понимала, она
велела построить в одном из своих поместий целую деревню и по¬
селить в ней принадлежавших ей крепостных. Крестьянам велели
одеться по-воскресному, петь и танцевать на траве, «как это принято
у русских». На угощение подавали русские блюда и напитки, и рас¬
сказывали, что иностранная гостья была в восторге от национального
колорита и красивых платьев не меньше, чем от живописных групп
70
танцоров и певцов3. Ясно, что это действо с участием счастливых рус¬
ских крестьян не было связано ни с какой социальной или мораль¬
ной критикой. По меньшей мере, можно посчитать его прообразом
балалаечных ансамблей, народных хоров и богато костюмированных
танцевальных групп, ставших стандартной принадлежностью массо¬
вых развлечений в конце XIX столетия и продолжающих собирать
большие аудитории в России и за рубежом и по сей день.
Если крестьян считали олицетворением высоких моральных стан¬
дартов и носителями подлинно национального характера, то в их пес¬
нях и сказаниях видели воплощение самой сути русского и откры¬
тые двери в душу народа4, Volksseele, как назвал это Йохан Готфрид
Гердер (1744-1803). Соответственно, они привлекали к себе интерес
разных собирателей. Например, в 1826 г. в докладе гнусного Третьего
отделения, тайной полиции Николая Первого (1825-1855), с удив¬
лением отмечалось, что Александра Пушкина, находившегося в то
время в ссылке в деревне, видели в деревнях и на ярмарках одетым
в крестьянскую одежду и посчитали, что он собирал сказки, песни и
поговорки. Возможно, он был самым известным собирателем такого
рода произведений искусства. Однако народную музыку уже собира¬
ли более или менее систематически с середины XVIII в. и опублико¬
вали в нескольких антологиях. Наибольшую известность получила
антология Николая Львова (1751-1803) и Яна Прача (ум. 1818). Она
вышла в 1790 г. и оказала заметное влияние на композиторов серьез¬
ной музыки, среди которых были такие иностранные знаменитости,
как Россини и Бетховен. К концу XVIII в. народные мелодии и кре¬
стьяне вышли на русскую оперную сцену и стали очень популярны.
Крестьянские и народные хоры являются главным элементом многих
русских опер, и неудивительно, что героем до мозга костей русской
оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки (1804-1857) стал крестья¬
нин по имени Иван Сусанин. Сюжет оперы возник не случайно, в
основу либретто легло реальное событие — спасение молодого царя
Михаила Романова (1613-1645). Это произошло в период, который
позже был интерпретирован, как один из ключевых моментов рус¬
ской государственности — когда в начале XVII в., в «Смутное время»,
были изгнаны польские захватчики и возведена на трон династия
Романовых.
Однако опера Глинки, премьера которой состоялась в 1836 году,
не была первой, в которой использовалась история знаменитого
крестьянина-патриота. В 1815 г. находившийся на российской служ¬
3 Hans Rogger. National Consciousness in Eighteenth-Century Russia. Cam¬
bridge, Mass., 1960. P. 158.
4 См. главу 7.
71
бе венецианский композитор Каттерино Кавос (1775-1840) уже со¬
чинил оперу и назвал ее «Иван Сусанин». Оперу хвалили за исто¬
рическую правду и использование народных мелодий. Опера Кавоса
была написана на волне другого вторжения — наполеоновской Вели¬
кой армии в 1812 г. Разразившаяся тогда война, по праву названная
«Отечественной», резко изменила качество национального сознания
в России. Она, действительно, во многом была выиграна силой про¬
стых людей. Хотя мало известно о том патриотизме, который мотиви¬
ровал простых русских вроде Ивана Сусанина бороться с захватчика¬
ми, тем не менее остается историческим фактом, что они это сделали
и что именно они изгнали Наполеона и его армию из России. Все это
произошло после того, как царь Александр Первый (1801-1825) сам
обратился к населению России за помощью в защите страны. Передав
оборону в руки народа, хотя и ненадолго, Александр волей-неволей
нанес удар по созданному его предшественниками мифу о всемогу¬
ществе и святости императора и признал политическую роль наро¬
да, что, конечно, его не устраивало. Поэтому сразу после войны он
объявил победу России и изгнание Наполеона из центральной Евро¬
пы актом божественного провидения, избравшим его, всемогущего
православного царя своим орудием. Но все равно парадокс никуда
не делся: его обращение помогло вызвать призрак национального су¬
веренитета. В результате 1812 год дал толчок разгоревшимся спорам
по поводу русской национальной идентичности. От одержимости на¬
циональной душой в литературе и культуре они перешли во все воз¬
растающее политическое поле.
Этот процесс был дополнен и ускорен еще одним в буквальном
смысле открытием народа. Это тоже произошло во время войны
1812 года, когда множество молодых дворян-гвардейцев медленно
отступали со своими частями от западных границ России по Смо¬
ленской дороге к Москве. Обстановка заставляла офицеров и солдат
входить в очень близкий контакт — выживание требовало полагаться
друг на друга, и временами они должны были делить одну крышу над
головой. Благодаря этому молодые офицеры получили возможность
из первых рук узнать о том, как живут и с какими жизненными про¬
блемами сталкиваются простые русские люди. Наступление Наполе¬
она развивалось не очень быстро, и у них было время поразмышлять,
Beef и дневники, писать письма, посещать друзей в других армейских
naefnx и беседовать с ними об увиденном и пережитом. Эти разго¬
воры вращались в первую очередь вокруг судьбы России вообще и
ее угнетенного народа в особенности. Тогда-то в России и появилось
новое поколение «людей 1812 года», как их назвал Юрий Лотман.
Эти люди вскоре погнали Наполеона назад во Францию. По пути их
приветствовали в салонах Варшавы, Берлина, Парижа и многих дру¬
72
гих городов, где они знакомились с новейшими философскими идея¬
ми и политическими теориями Западной Европы. Вернувшись в Рос¬
сию в 1815 г., они с неизбежностью принялись сравнивать эти идеи
и свой личный опыт, приобретенный на дорогах войны, с реалиями
собственной страны. Трудно представить более кричащий контраст.
В то время, как вся Европа обсуждала права человека, праздновала
свободу наций и проводила конституционные реформы, Россия оста¬
валась самодержавной монархией, славилась полицейским произво¬
лом, жестокой цензурой, институтом крепостничества и царем, все
более впадавшим в мрачный мистицизм.
Если бы несколько лет спустя кто-нибудь поинтересовался у воз¬
вращающихся гвардейских офицеров, что для них значило быть рус¬
ским, они скорее всего ответили бы, что стыдятся существующих в
их стране порядков, но при этом тут же заговорили о патриотическом
долге изменить их. Момент для таких перемен, казалось, наступил в
декабре 1825 г., когда молодые дворяне и офицеры императорской
гвардии воспользовались непредвиденным династическим кризисом
в связи со смертью Александра Первого и организовали мятеж на
Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Мятеж провалился, и дека¬
бристы, как назвали восставших, были приговорены к смертной каз¬
ни или отправлены в Сибирь. Тем не менее они считали, и в этом их
поддерживали многие образованные русские, что они действовали из
чисто патриотических побуждений. Для этих людей патриотизм, оче¬
видно, был чем-то совершенно определенным. Конечно, он не имел
ничего общего с официальным представлением о патриотизме, кото¬
рое проповедовало поддерживавшийся монархией классический миф
об империи. Он также отличался от чисто культурного открытия глу¬
боко укоренившейся в народе национальной души. Напротив, в нем
читался скрытый филантропический подтекст, и он проецировался
на современную русскую нацию, которая должна была состоять из
свободных граждан и отличаться господством права. Конкретные ха¬
рактеристики такой нации и особенно ее конституции обсуждались за
несколько лет до 1825 г. в ряде тайных обществ и литературных круж¬
ков. Им были посвящены многочисленные трактаты и стихотворные
сочинения, в конце концов их записали в двух основных проектах
конституции. Любопытно, что в обоих проектах нашли отражение
Две главные концепции национальной идентичности — многонаци¬
онального государства и этнически русского государства. Однако в
Центре многих из этих сочинений в качестве главных национальных
Целей стояли отмена крепостного права и освобождение народа. Но
были там также и упоминания о других патриотических традициях
в русской истории, которые шли вразрез с официальным имперским
Мифом — традициях свободы и народного правления, которые сло¬
73
жились в свое время в институтах средневекового города-республики
Новгорода. Наконец, в этих документах присутствовала добрая доля
обыкновенной неприязни к царю Александру Первому, который не¬
сколько раз уязвлял патриотические чувства и национальную гор¬
дость офицеров и который часто выезжал за границу, за что Пушкин
назвал его «кочующим деспотом»5.
Некоторые из декабристов в годы, предшествовавшие 1825-му,
не только обсуждали судьбу России, но и пытались изменить по¬
вседневную жизнь, т. е. примерить на себя идентичность простого
русского народа и жить по правилам, которые считали типичной
русской традицией. Каждый понедельник, например, поэт Кондратий
Рылеев (1795-1826) приглашал своих друзей-единомышленников
на так называемый русский ужин. На этих ужинах обращало на себя
внимание то, что не подавались дорогие блюда и напитки, которыми
было принято потчевать гостей в великосветских домах Петербурга.
Вместо них на столе стояли кислая капуста, ржаной хлеб и графин
водки. Гости угощались всем этим и таким образом как бы пытались
русифицироваться, но после ужина закуривали сигару, по-видимому,
не замечая, что поддаются типичной западной привычке, с которой
едва ли были знакомы и вряд ли отдавали ей дань русские крестьяне.
Этот пример наглядно показывает, насколько были европеизированы
сторонники современной нации и народного суверенитета и насколь¬
ко европейским, а потому элитарным, было явление патриотизма в
России начала XIX в.
Человек, которому через несколько лет после восстания декабри¬
стов поручили разработать новую официальную национальную идео¬
логию для империи, даже не считал для себя обязательным писать
по-русски, не говоря уже о том, чтобы есть капусту и черный хлеб.
Сергей Уваров (1785-1855), министр народного просвещения при
Николае Первом, презирал русскую культуру и общался преимуще¬
ственно по-немецки или по-французски. Тем не менее в 1833 г. он
придумал «имперский национализм», который фактически заменил
классический имперский миф предшествующих десятилетий. Это
было запоздалым признанием угрозы, таившейся в либеральной
версии патриотизма декабристов, и одновременно уступкой рево¬
люционному Zeitgeist Западной Европы, который, невзирая на все
усилия цензуры и тайной полиции и на ограничения на загранич¬
ные путешествия, все-таки проникал в Россию. Однако уваровские
потуги вставить национальный элемент в идеологию, состряпан¬
ную главным образом для спасения и консолидации династической
5 Цит. в: Hans Lemberg. Die nationale Gedankenwelt der Dekabristen. Кб1п,
Graz, 1963. P. 60.
74
легитимности императора, дали жизнь весьма странному гибриду,
формула «православие, самодержавие, народность» скоро сделалась
главной идеологической основой российской государственности. Но
она сразу же вызвала недоумение у современников. Если первые две
составляющие были понятными, то третья вызывала серьезные со¬
мнения. Общепринятым считалось, что судьба России остается, как
всегда, тесно связанной с православной церковью и монархией, но
совсем не было понятно, что на самом деле означает термин народ¬
ность. Корень этого слова — «народ». Но нужно ли это слово интер¬
претировать в имперском смысле, т. е., должно ли оно подчеркивать
более тесную связь между монархией и народами всех многочислен¬
ных национальностей, которые входят в империю? Или народность
относится к этническому русскому национальному сознанию и таким
образом обосновывает русскую гегемонию в империи? С самого на¬
чала обе интерпретации попали под огонь критики и даже вызвали
серьезный раскол в высших кругах государственной бюрократии. Не
удивительно, что был в некотором замешательстве и Пушкин, когда
писал «Путешествие в Арзрум», колеблясь между двумя представле¬
ниями о национальной идентичности — многонациональной и этно¬
культурной. Кстати, и это, возможно, не было совпадением; в то же
самое время, как он писал свои путевые заметки, Уваров обнародовал
свою невнятную идеологию.
Эти две противоположные концепции национальной идентич¬
ности продолжали в разных формах жить на протяжении всего XIX
и XX вв. К концу 1830-х гг. их, однако, оттеснил другой вопрос, за¬
трагивавший самое сердце русской национальной идентичности. Его
подняло первое «Философическое письмо» Петра Чаадаева (1794—
1856), видного мыслителя, высоко оцененного Пушкиным и тесно
связанного с декабристами. В письме, которое появилось с некоторой
задержкой в 1836 г., автор утверждал, что Россия не сделала ника¬
кого важного вклада в историю человечества. По его словам, Россия
не принадлежит ни к Востоку, ни к Западу, за ней не стоит ника¬
кой исторической преемственности и у нее отсутствует какая-либо
нравственная индивидуальность. Ее культура целиком и полностью
основывалась на заимствовании и подражании, а ее народ походил на
незаконнорожденных детей или кочевников, которые явились в мир
без наследства и без связи с всеобщими идеями. В особенности им не
знакома преобладающая на римско-католическом Западе моральная
атмосфера с ее идеями долга, справедливости, права и порядка.
Не успел этот приговор национальному характеру России увидеть
°вет, а уже зазвучал, как сигнал к побудке, в интеллектуальных кру¬
гах. Чаадаева стали зазывать в литературные салоны, а царь Николай
Первый велел объявить его помешанным и установить за ним меди¬
цинское наблюдение. Особенно жаркие дебаты вызвал поднятый в
письме вопрос об отношении России к Западу и ее роли в истории,
что привело к возникновению двух противостоящих групп мыслите¬
лей — славянофилов и западников. Обе группы состояли из высоко¬
образованных людей, имевших глубокие корни в европейской куль¬
туре и находившихся под влиянием немецкого идеализма. И тех, и
других занимало будущее России, поэтому они широко обращались
к историческому прошлому страны. Споры вращались вокруг во¬
проса, какой должна быть Россия, как Россия должна развиваться.
В поисках идеальной России они вновь обратились к народу. Славя¬
нофилы считали, что большинство российских проблем началось с
имперским государством, созданным Петром Великим, когда европе¬
изированная элита потеряла контакт с древнерусскими традициями
и стала жертвой западных представлений о рационализме, римского
права и частной собственности. По их мнению, однако, настоящая,
допетровская Россия сохранилась в соборных принципах православ¬
ной религии, которые они видели в традициях и институтах народа,
особенно в патриархальной семье и деревенской общине. Русские, в
целом, должны вернуться к этим принципам и как бы заново руси¬
фицироваться и стать больше похожими на народ. Один из лидеров
славянофилов, Константин Аксаков (1817-1860), воспринимал это
совершенно буквально и одевался так, как он думал одеваются кре¬
стьяне; в результате те самые люди, которых он имитировал, приняли
его за перса.
По мысли западников, народ играл совершенно иную роль. Они
хотели, чтобы Россия пошла по пути, начатому Петром Великим,
подражая западноевропейским социальным и политическим моде¬
лям. Соответственно среди западников ходили самые разные идеи и
имели место разные точки зрения. Со временем они стали колебать¬
ся между либерализмом, социализмом и анархизмом. Несмотря на
такую разницу в политических взглядах, все эти идеологии объеди¬
нял педагогический импульс. Образованное общество и элиты не
должны подражать народу, как проповедовали славянофилы, нужно
поднимать народ из примитивного и допотопного состояния с помо¬
щью знания, просвещения, а в конце столетия появились и призы¬
вы к революционному действию. По этой логике крестьяне должны
превратиться в граждан, народ должен стать нацией, национальная
идентичность должна основываться на политическом сознании, а не
на мрачных традициях общины.
В XIX в. идеи славянофилов и западников принимали много раз¬
ных форм и в модифицированном состоянии все еще присутствуют в
дискуссиях о роли постсоветской России как нации. В том же XIX в.
они стали влиять на официальные представления о национальной
76
идентичности. Когда ряд влиятельных издателей и политиков в
1860-1870-е гг. начли выводить славянофильские концепции общи¬
ны на международный уровень, чтобы поддержать роль России как
защитника и покровителя всех славянских народов против предпо¬
лагаемых германских и других угроз, правительство вскоре эти идеи
подхватило. Хотя «панславизм» не стал серьезной силой во внешней
политике, тем не менее он способствовал изменению значения терми¬
на народность в старой уваровской формуле. Вместо этнически ней¬
трального популизма монархии это слово теперь обозначало чисто
русский национализм с имперскими амбициями. В реальности такое
приравнивание империи к России как таковой вылилось в полити¬
ку русификации Александра III (1881-1894), что по иронии судьбы
затронуло не только балтийских немцев, евреев и финнов, но еще и
братьев-славян, таких, как поляки и украинцы.
Русификация не ограничивалась нерусскими национальностями
империи. Она затронула саму монархию, которая охотно ее воспри¬
няла. Александр III был ярым русским националистом и до всту¬
пления на престол был энергичным сторонником панславизма; во
время войны с Турцией в 1877-1878 гг. он даже пошел на то, что¬
бы изменить свою внешность и отрастил бороду. Как известно, бо¬
роды сбривал Петр Великий, и буквально, и метафорически, так
как они считались признаком русской отсталости и нецивилизован¬
ное™. Однако во время войны с Турцией, возможно из практиче¬
ских соображений, солдатам позволили не бриться. Для того чтобы
продемонстрировать солидарность с солдатами, но еще и для того,
чтобы походить на средневекового русского богатыря, Александр
тоже перестал бриться. Его бороду скоро стали считать символом
национальной силы и древнерусской мужественности и власти.
С восшествием Александра III на престол в том же духе изменились
и внешние атрибуты царской власти. Прошло время, когда в них пре¬
обладали классические и западноевропейские имперские формы. На
их месте произошло в буквальном смысле возрождение Московии,
строились многочисленные церкви, вернулось самодержавное прав¬
ление. Николай II (1894-1917) продолжал множить московские тра¬
диции. Он и его жена-немка любили наряжаться в костюмы времен
Царя Алексея Михайловича (1645-1676) и искренне верили в старый
миф о священном единении царя и народа. Отсюда их пристрастие
к народной музыке и фольклорным вечерам, отсюда их склонность
окружать себя мнимыми простыми русскими людьми, вроде печаль¬
но известного Григория Распутина (1871-1916).
После большевистской революции 1917 г. простые люди стали
объектом пропаганды официальной идентичности, только теперь
без ссылок на прошлое Московии. Как было провозглашено в Ком¬
77
мунистическом манифесте, у рабочих нет отечества, пролетарский
интернационализм должен заменить им национальные и этнические
узы. В царской империи вплоть до ее кончины в результате политики
русификации вокруг этих ценностей шла непрерывно накалявшаяся
борьба, которая только усилилась во время Гражданской войны в на¬
чале 1920-х гг. Для большевиков имела значение не национальная,
а классовая принадлежность. Однако с приходом к власти Иосифа
Сталина (1879-1953), отказавшегося от революционного экспери-
ментализма, консервативные ценности, в том числе национальные,
в начале 1930-х гг. снова заняли центральное место среди государ¬
ственных приоритетов. Это не означает, что в Советском Союзе на¬
ционализм стали поощрять у множества национальных меньшинств.
Совсем нет, национальные чаяния подавлялись до реформ Михаила
Горбачева в 1980-е гг., и это сыграло важнейшую роль в распаде Со¬
ветского Союза. Наоборот, в 1934 г. в связи с успешным спасением
советских моряков-полярников с гибнущего в Арктике корабля была
начата пропаганда советского патриотизма. К «полярным летчи¬
кам» вскоре присоединились другие герои, вроде ударника Алексея
Стаханова (1906-1977), а также выдающиеся свершения советской
власти, такие, как Московское метро. Сложился пантеон патриоти¬
ческих мотивов, который включал всех советских граждан, невзирая
на их национальность. Контролируемые государством средства мас¬
совой информации и внедряемый сверху принцип социалистическо¬
го реализма пропагандировали образ Советского Союза как страна
изобилия и счастья, ведомой всеведущим и великодушным вождем
и населенной полными энтузиазма заводскими рабочими и жиз¬
нерадостными колхозниками. Точно так же, как за сто лет до этого
уваровская концепция официальной народности, идея советского
патриотизма предлагала для многонациональной империи гибрид
национальной идентичности без особых исторических традиций или
определенного этнического аспекта.
Нападение Германии на Советский Союз в 1941 г. в корне изме¬
нило характер советского патриотизма. Едва ли не за ночь русская
история стала главным предметом ссылок националистической
пропаганды. Русский народ рисовался старшим братом других со¬
ветских национальностей, сражаться с врагом призывались герои-
воины и святые Киевской Руси, Московского государства и царской
империи6, как это уже происходило во время Первой мировой войны.
Казалось, будто эта новая «Великая Отечественная война», как ее
назвали по примеру войны 1812 года, была войной не между множе¬
6 Перемены не были совсем неподготовленными: см. главу 6 о фильме
«Александр Невский» (1938).
78
ством национальностей Советского Союза и нацистским режимом, а
решительной схваткой между русскими и немцами. Такого рода эт¬
нически русский национализм продолжал определять советскую на¬
циональную идентичность весь послевоенный период и вполне мог
быть причиной подмены термина «советский» термином «русский»,
которым широко пользовались на Западе во время холодной войны.
Конец СССР не только принес независимость многим советским
национальностям, но и позволил России отказаться от советского на¬
следия. В сегодняшней капиталистической России повсюду наблюда¬
ется процесс создания идентичности. Возрождение и возрастающая
популярность православной церкви свидетельствуют о широком вос¬
становлении особой русской религиозной идентичности, процессе,
ограничиваемом разве что одновременным зарождением бесчислен¬
ных сект и эзотерических групп. На политическом уровне Министер¬
ство образования и Министерство обороны в 2001 г. объявили еди¬
ную пятилетнюю программу, направленную на «поднятие у русских
чувства гордости за свою страну, расширив прорусские программы
на телевидении и продажу патриотических сувениров»7. Программа
должна была использовать память о Великой Отечественной войне
и славянский фольклор. Этот тип официального неославянофиль¬
ства уравновешивался тогда иностранной политикой президента
Владимира Путина, имевшей целью представить Россию западной
страной и частью общего европейского наследия. А на улицах рос¬
сийских городов многочисленные группы готовы дать вам ответ на
вопрос, что такое Россия и чем она должна быть. Каких только ва¬
риантов не услышишь, от анархии до монархии и правой диктатуры.
Многие города сами переживают беспрецедентный рост местной са¬
мооценки и в некоторых случаях даже урбанистическое перерожде¬
ние. Поскольку отсутствует ясное и вразумительное представление о
национальной идентичности, региональный патриотизм в городах и
районах Российской Федерации проявляется, в частности, в широко
распространяющемся стремлении изучить местную историю, восста¬
новить старые здания и церкви, а также в сепаратистских действиях
отдельных губернаторов. Наконец, рядовые русские люди в эти пере¬
ходные времена все чаще проявляют интерес к собственной идентич¬
ности, личной, национальной или иной другой. Некоторые архивы
начинают оказывать исследовательские услуги тем, кто изучает исто¬
рию своей семьи, а правозащитная организация «Мемориал» собрала
огромное количество ценных источников, касающихся жизни и стра¬
даний людей в сталинский период.
7 Simon Saradzhyan. Russia to Educate More Patriots // The St. Petersburg
Times. 13 March 2001. № 652.
79
3. Взгляд снизу
В 1878 г. сразу после окончания войны с Турцией в Апракси-
ном переулке, в Санкт-Петербурге, известном своими трущобами
и грязными трактирами, несколько русских, очевидно, крестьяне
близлежащих деревень, пристали к трем дворникам татарского про¬
исхождения. Стычка быстро переросла в серьезную драку, в которой
участвовала толпа в несколько сотен человек, в большинстве своем
пьяных. Когда на место происшествия прибыл полицейский началь¬
ник, ему сказали: «Ваше благородие, турки наших ребят не жалели,
так вот теперь мы хотим перерезать глотки этим татарам»8.
Невозможно с какой-либо степенью определенности установить,
действительно ли драка произошла по патриотическим мотивам, были
или не были татары приняты за турок, походили ли на них внешне
или акцентом или затеявшие драку просто придумали себе удобное
оправдание. И все же этот эпизод нападения на «иностранцев» под¬
нимает гораздо более широкий вопрос, до недавнего времени не при¬
влекавший к себе большого внимания историков-исследователей,
но имеющий важное значение для интерпретации русской истории
XIX-XX вв. Как на деле представители низших сословий видели
себя в царской империи, Советском Союзе и постсоветской России?
Имелось ли у них какое-нибудь национальное самосознание, чувство
патриотизма? Или их привязанность носила чисто местный или со¬
циальный характер? Скажем, к малой родине, деревне, например? Го¬
родскому кварталу? Отдельному заводу? Или рабочему классу?
До сих пор в этой главе внимание концентрировалось на представ¬
лениях о национальной идентичности в среде поэтов и композито¬
ров, царей и министров, философов и интеллектуалов. В значитель¬
ной мере это объясняется просто обилием письменных источников,
оставленных этими людьми или о них. Впечатления Пушкина о ди¬
ком кавказском крае, имперские опусы Екатерины, патриотические
идеи декабристов или славянофилов, уваровские национальные док¬
трины, принципы советского патриотизма — ко всему этому доступ
совершенно свободен, и они давно уже стали стандартным набором
тем русской истории. Но могут ли эти источники объяснить, каким
образом в 1812 г. вспыхнул своего рода всенародный патриотизм?
Могут Ли они помочь понять, почему среди русского крестьянства
в XIX й. наблюдался спад преклонения перед царем-самодержцем?
Могут ли они пролить свет на появление среднего класса в провин¬
циальном городе, жители которого, может быть, почувствовали себя
8 Уличное положение в Петербурге // Неделя. 11 июня 1878. № 24.
С. 798-800.
80
российскими гражданами, городскими жителями или просто частью
определенного окружения или среды? Наконец, можно ли на осно¬
ве этих источников оценить патриотизм, на который ссылались де¬
боширы в Апраксином переулке, как на оправдание их преступного
поведения?
За последние годы подобные вопросы навели историков-славистов
на мысль обратиться к новым или мало использовавшимся типам
источников и изучить такие материалы, как плакаты, афиши, попу¬
лярная литература, школьные учебники, ярмарочная культура, кино¬
фильмы и таблоидная пресса. Все эти материалы передают значения
в широком смысле и, будучи частью быстро растущей, регулируе¬
мой рынком потребительской культуры, могут интерпретироваться
как отражение мечтаний, идей и представлений людей. Несмотря на
то что такой анализ не может дать ясных ответов на уровне истори¬
ческих причинных связей, тем не менее, он показывает, насколько
сложнее был мир низших классов в России, чем думали раньше, на¬
сколько высокой была социальная мобильность и культурная адап¬
тация, насколько разнообразной была верность и преданность и на¬
сколько многослойнее была идентичность, чем ее характеризовали
официальные категории (сословие и национальность) или идеологи¬
ческие концепции (народ и класс).
Что касается развития национальной идентичности среди про¬
стых русских, то можно спокойно признать, что в этом плане условия
здесь такие же, как в других странах. Как показал Юджин Вебер для
Франции, эти условия заключались, прежде всего, в растущих тем¬
пах урбанизации, а также охватившем всю страну распространении
школ, государственных институтов, транспорта, связи и особенно
средств массовой информации9. В случае России особую роль играли
визуальные средства массовой информации, преимущественно сце¬
нические жанры, т. к. подавляющее большинство населения к концу
XIX в. еще было неграмотным. Самыми популярными из этих средств
были печатные картинки, так называемые лубки и ярмарочные пред¬
ставления, вроде петрушки или кукольного театра, и раек — ящик
с передвижными картинками. Эти жанры давали развлекательную
альтернативу религиозным образам православной церкви, а также
распространяли идеи о том, что значит быть русским и чем русские
отличаются от других народов, в первую очередь немцев. Очень
часто это были простые личностные характеристики, например,
храбрость, открытость, крестьянская смекалка в противовес немец¬
кой педантичности, мелочности и ограниченности. Но со временем
9 Eugen Weber. Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural
France, 1879-1914. London, 1979.
81
прибавились еще и исторические, географические и этнографические
особенности.
Особенно большой след в создании массовой патриотической
иконографии оставил раек. Лубки вставляли в ящик с увеличитель¬
ным стеклом, которое подсвечивалось свечой или керосиновой лам¬
почкой. А потом раешник, который вел аттракцион, комментировал
картинку, добавляя сенсационные подробности (рис. 4.2). Получи¬
лось так, что многие раешники были ветеранами войны 1812 г. и «по¬
видали мир», как они с гордостью говорили о себе, когда принимались
Рис. 4.2. «Раек», потешная панорама
82
просвещать соотечественников. Этих людей можно было бы назвать
«народной версией» элитарного поколения 1812 г. Среди классиче¬
ских картинок, которые демонстрировали раешники, был, например,
«вид огромного города Парижа», с русскими войсками или без них
на улицах, или «Переправа наполеоновских войск через Березину».
Были там и виды Константинополя, города с легендарным прошлым,
за который, может быть, придется воевать, города, таившего в себе
столько же очарования для простого россиянина, сколько и для пе¬
тербургских политиков и панславистских идеологов. Очень популяр¬
ными были виды московского Кремля, т. к., видимо, для большин¬
ства простых людей сердцем страны оставалась старая, а не новая
столица.
Жанры русской народной культуры стали множиться особенно
во второй половине XIX столетия, когда еще цензура была снисхо¬
дительнее. С появлением новой печатной технологии лубки начали
издаваться в цвете и огромными тиражами. На рынке появились
коммерческие и благотворительные плакаты, почтовые открытки, а
также иллюстрированные журналы. Расширяющаяся сеть железно¬
дорожных путей сообщения помогала распространять эти средства
массовой информации по всей стране, одновременно привлекая все
больше людей в быстро развивающиеся города. Там они находили
много новых, типично городских видов развлечений, от спортивной
борьбы до народных театров, от музыкальных залов и кинотеатров
до общественных развлекательных парков и катков. Скопив немного
денег, они могли даже купить граммофон или музыкальный ящик и
слушать запись оперы Глинки «Жизнь за царя».
Произведения элитарной культуры уже некоторое время популя¬
ризировались, и люди из низших классов получали возможность при¬
общаться к национальному наследию, что ставило под вопрос тради¬
ционные представления о резком разграничении между элитарной и
народной культурами. «Последний день Помпеи», например, самую
знаменитую картину Карла Брюллова (1799-1852), который поз¬
же стал профессором Санкт-Петербургской Академии художеств, в
1834 г., всего через год после первого показа на выставке, переделали
в лубок. Начиная с 1870-х гг., стали печататься в популярных издани¬
ях классики русской литературы, и это способствовало повышению
грамотности и утверждению определенных представлений, которые
перебрасывали мостик через социальное разделение. Точно так же
популяризировалась история, став стандартным элементом торговой
рекламы. Один из таких примеров — плакат с изображением знаме¬
нитого покорителя Сибири XVI в. Ермака (ум. 1585) в окружении
сельскохозяйственных машин (рис. 4.3). Этот плакат был выпущен в
83
Рис. 4.3. Ермак: рекламный плакат компании Рендруп в Омске (1909)
тот момент, когда набирала силу кампания колонизации Сибири. Его
содержание абсолютно недвусмысленно — Ермак стоит в девствен¬
ном лесу и указывает на плуг, явно давая понять, что его нужно ку¬
пить и с его помощью поднимать целину. Такого рода реклама снова
стала популярной в сегодняшней России. Вряд ли вы найдете стра¬
ховую компанию или инвестиционный фонд, рекламирующие свои
услуги или продукт по телевидению без помощи бояр или былинных
героев10.
О появлении у все большего числа русских общего чувства нацио¬
нальной идентичности в последних десятилетиях XIX в. свидетель¬
ствует очень существенная доля деревенских тем в народной культу¬
ре. Это явление можно было бы назвать открытием народа простыми
людьми, как это было несколькими десятилетиями ранее с элитой.
Крестьяне с интересом разглядывали «огромный город Париж» или
московский Кремль в глазок райка, но вряд ли их привлекал лубок с
изображением деревенских плясок или пастуха-дудочника (рис. 4.4).
теревенскАЯ пъсня
налужокъ 1 Выгоняйте ы скотин*
i’b., ( Не широкою долин*
раетт» | Гомт'ьдодкчпштъ 6ал5ы
О Гонлтт» нвлыя ребята
1ит. И. Голыше* L Въ Гсиыиовк v. ::
1 Выгоняли нал жокъ
Становили я вгз кр*жс
н дгъзка. Весела
Рис. 4.4. «Деревенская песня», лубок, литография студии Ефима Яковлева, 1871
10 См. также главу 10.
85
вндьы типы сшей Москвы товарищ. ЭЙНЕМЪ, «осква.
86
Рис. 4.5. «Сцены из русской жизни». Неизвестный художник.
Рекламная открытка шоколадной фабрики
Такого рода материалы скорее всего распродавались в городе, где не¬
давно перебравшиеся из деревни люди испытывали ностальгию и бо¬
ролись за новую идентичность в совсем другом и враждебном окру¬
жении. Этот процесс состоял из двух элементов: самоопределения и
определения других. Отсюда увлечение всевозможных популярных
средств массовой информации классификацией людей и наделением
их социальным окружением согласно типам и определенным стандар¬
там поведения. Такая стереотипизация со всей очевидностью прояв¬
лялась в популярной литературе и грошовой прессе. Это же стало не¬
пременным элементом рекламы. Например, московская шоколадная
фабрика Эйнем выпустила две серии рекламных листовок: «Виды и
типы старой Москвы» и «Сцены из русской жизни» (рис. 4.5). Ясно,
что на них не показывалась подлинная ситуация и никакой конкрет¬
ной политической идеи они не выражали. Вернее сказать, они соз¬
давали идеальный образ русского, сентиментальную картинку реаль¬
ности, что-то вроде созданной княгиней Дашковой в XVIII столетии
показной деревни. Важной частью изображения были счастливые
танцующие и поющие крестьяне. К концу XIX в. эту роль выполня¬
ли многочисленные народные музыкальные ансамбли. Например,
пользовались огромным успехом и привлекали на свои концерты
представителей всех слоев городского населения крестьянский хор
Митрофана Пятницкого (1864-1927) и «Великорусский» балалаеч¬
ный оркестр «музыканта-патриота» Василия Андреева (1861-1918).
И тот, и другой существуют в другом составе до сих пор и сделались
экспортным хитом русской народной культуры во всем мире. Есте¬
ственно, репертуар этих двух ансамблей имеет больше общего с фоль¬
клором, чем с настоящей деревенской музыкой. Таким образом, если
определять самый распространенный национальный самостереотип,
самый сильный патриотический мотив русской народной культуры,
то, конечно, нужно говорить о какой-то «обработанной» сельской
идиллии.
Самоопределение играло важную роль в формировании нацио¬
нальной идентичности. Не меньшее значение имело определение
категории «другие». Если давним привычным врагом были немцы,
которому русские себя противопоставляли, то ко второй полови¬
не XIX в. и во многих отношениях до настоящего времени врагами
стали «азиаты» и «восточники». Особое место в этой ситуации за¬
нимают кавказцы, что видно, например, на ярмарочной панораме,
изображающей войны с мятежными горцами под предводительством
имама Шамиля (1797-1871). Они были злодеями и героями много¬
численных популярных приключенческих романов, жанр которых
только начал зарождаться и имел прямое отношение к росту грамот¬
87
ности среди горожан. В кавказских горах «мы» и «они» для рядового
русского читателя переплетались, имперская гордость и этническое
самосознание шли рука об руку. Большинство русских никогда не
бывало на Кавказе, тем не менее Кавказ противостоял им своими гра¬
ницами, хотя мысленно границы были чем-то большим, нежели госу¬
дарственными пределами. Он противостоял им с их идентичностью
как русских, стоило им только «пересечь быструю и грозную реку
Терек», как писалось в одном из романов11. Там, посреди скал и гор,
на берегах Терека началась эта глава. Там же, у памятника Пушкину,
она и заканчивается.
I 1111 Jeffrey Brooks. When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Litera¬
ture, 1861-1917. Princeton, 1985. P. 241.
Глава 5
«ОНИ»: РУССКИЕ ОБ ИНОСТРАНЦАХ
Энтони Кросс
1
Греки, как всегда, придумали для этого, в данном случае для «них»,
особое слово. Это слово — «барбарос», означавшее человека, который
не говорит по-гречески или, идя дальше, неспособен пользоваться
благами греческой культуры и цивилизации. Римляне, многое пере¬
нявшие от греков, взяли от них и это слово, по аналогии означавшее
людей, не говорящих по-латыни и погрязших в невежестве. Вопло¬
щением тех самых варваров стали напавшие с севера гунны и готы,
которые учинили страшное опустошение в самом эпицентре циви¬
лизованного мира. Впоследствии это слово утратило свое нейтраль¬
ное лингвистическое значение и приобрело, применительно к сфере
культуры, значение отрицательное. В мире, пришедшем на смену
Средневековью, страны соревновались, придумывая для других пре¬
небрежительные названия, чаще всего употребляя при этом слово
«варварская». Особенно отличались французы, клеймя этим словом
всех и каждого, кто не склонял голову перед ореолом французской
цивилизации и, соответственно, перед величием французского язы¬
ка. Ни на минуту не задумываясь, они называли варварами англичан
за их римское наследие и за германские корни английского языка, на¬
ходя потрясающее обвинение для «варваров англичан» в том, что «их
страшные топоры секут головы королям и хвосты лошадям»1. Однако
к XVIII в. Англия, Франция, Германия, Голландия и Италия, как бы
они ни старались унизить друг друга в прошлом и как бы ни продол¬
жали делать это sotto voce, оказались на одной стороне, во всяком слу¬
чае, по отношению к странам, расположенным к северу, или, по мере
всеобщего перекраивания карт, к востоку, видя в них погруженные
во мрак и населенные варварами земли, изнемогающие в ожидании,
когда к ним дотянутся солнечные лучи Просвещения. Они были, в
общем, готовы также признать, что Великая Россия, нравилось ей это
или нет, нашла в Петре Первом своего собственного короля-солнце
(т. е. его варварский вариант).
К петровскому периоду сами русские уже давно обзавелись сло¬
варем для обращения с теми, кого считали варварами, чужеземцами
и т. п. Варвары, которых называли барбары, барберяне, барбарины, 11 Слова Луи-Себастьяна Мерсьера, процитированные Полем Лэнгфор¬
дом (Paul Langford. Englishness Identified: Manners and Character 1650-1850.
Oxford, 2000. P. 138).
89
но чаще всего именно варвары, появляются в различных источниках
начиная с XII в., но особенно часто в XVII, и слово это обязательно
приобретало такие же ассоциации, что и в других языках, хотя с са¬
мого начала главной его окраской была религиозная, обозначавшая
язычников, нехристей, людей другой веры. Чаще всего так называ¬
ли монголов — «безбожный и безжалостный царь Батый, варварин
злой», — а страну, которую они населяли, в одном источнике XVII в.
нарекали «Варварией»: «Варвария, то есть, страна, где живут татары2,
и вера и язык у них басурманские». Варварами иногда называли ино¬
странцев вообще, но были слова, которыми пользовались много шире,
вроде иностранец, иностранниКу иноземец, и все они подразумевали
принадлежность к иной вере (что буквально выражалось словом ино¬
верец). Однако чаще всего по отношению к иностранцам западноев¬
ропейского происхождения в тот же период употреблялось слово не¬
мец. Как и греческое барбарос это слово указывало на неспособность
«немых» говорить на языке страны пребывания, но до XVIII в. так
называли, преимущественно, но отнюдь не исключительно, людей из
германских земель. Немец употреблялось в весьма забавных по ны¬
нешним меркам сочетаниях: «приезжие немцы разных государств»;
«отец был скотских немцев, держал веру немецкую» или «Италия —
страна латинская, близь Рима, а живут в ней мудрые немцы»3.
Иностранцы были вечной проблемой для русских, речь шла не
просто о том, как их называть, а о том, как с ними обходиться4. Для
патриарха, писавшего в конце XVII в., все было очень просто:
«Наши правители не должны дозволять никаким православным хри¬
стианам в своем государстве поддерживать близкие дружественные
отношения с еретиками и отступниками — латинянами, лютерана¬
ми, кальвинистами и безбожными татарами (к которым питает от¬
вращение наш Господь, а Божья церковь проклинает за безбожное
вероломство), их должно избегать, как врагов господа и поносителей
церкви»5.
2 Земля татарская — татары были одним из монгольских племен. В дан¬
ной книге мы обычно пользуемся словом «монголы», когда говорим о тех,
кто властвовал над Русью с 1237 по 1480 г., и «татары» для более поздних
периодов.
3 Все примеры взяты из «Словаря русского языка XI-XVII веков». М.,
1975. Т. 1, С. 73; Т. II. С. 17-18; Т. VI (1979). С. 243-245. О «латинском» в
смысле «католическом» см. ниже, главу 6.
4 См. очерк Линдси Хьюз (Lindsey Hughes. Attitudes Towards Foreig-ners
in Early Modern Russia // Russia and the Wider World in Historical Perspective:
Essays for Paul Dukes / Cathryn Brennan and Murray Frame (eds.). London, 2000.
P. 1-23). Несколько последующих цитат взяты из этого исследования.
5 Цит. по: George Vernadsky (ed.). A Source Book for Russian History from
Early Times to 1917. New Haven, 1972. Vol. II. P. 362.
90
Те, кто придерживался православной веры, были «мы», те, кто не
придерживался, были «они». Россия, правильнее Московия, ничем
не отличалась от других ранних обществ, находя свою идентичность
в религии. Религия всегда вставала бастионом на пути захватчиков,
и захватчик, приходивший не с мечом, а с миром, все равно оставался
коварной опасностью. Однако иностранцы присутствовали на Руси
с самого начала, еще до появления религии. «Повесть временных
лет» рассказывает, что в 862 г. в Новгород были приглашены варя¬
ги (т. е. скандинавские русы) «править и властвовать», т. к. местное
население не могло само разобраться в своих делах, и даже религия
пришла к ним со стороны, когда князь Владимир увидел свет в гла¬
зах своей невесты Анны, сестры византийского императора. Но как
только православие было принято, именно оно создало московита и
заставило его воспринимать в качестве «мы» тех, кто исповедовал ту
же веру, и с некоторой долей сомнения тех, кто перешел в его веру,
но он или его правители не могли обойтись без еретиков, особенно
пришедших с Запада. Это осталось центральной дилеммой, если не
сказать парадоксом, русского государства во всех его трансформаци¬
ях на протяжении столетий. Однако, по-видимому, Киевская Русь не
имела тех проблем, с какими сталкивалась Московия, поскольку у
нее складывались более спокойные и множественные контакты с со¬
седями, какие были и у Новгорода в его золотой век. Проблема ино¬
странцев приобрела актуальность, которая так и сохранялась в после¬
дующие времена, после того, как было сброшено «монгольское иго»
и на свет появилось независимое государство Московия. Выступив в
самозваной роли Нового Рима и Нового Константинополя6, Москва
могла списывать на монголов все прошлые напасти, выпавшие на
долю страны, не признавая за ними при этом никакого культурного
влияния и поглядывая сверху вниз на турок и на Запад в надежде со¬
хранить свою идеологическую чистоту и непорочность.
И тем не менее XVI-XVII вв. привели «Запад» на исконно мо¬
сковскую землю. Первое германское или иностранное поселение
(Немецкая слобода) в Москве было основано в царствование Ивана
Грозного (1547-1584), а в 2003 г. отмечалось 450-летие англо-русских
контактов, начавшихся после так называемого английского «откры¬
тия» России в 1553 г., за которым последовали учреждение Москов¬
ской компании и наплыв английских купцов. Во время нашествий
периода «Смутного времени» Московия пострадала от еретиков-
поляков, что послужило толчком к абсолютно предсказуемому ро¬
сту враждебности к иностранцам вообще. В XVII в. мы видим, как в
Московии увеличивается присутствие иностранцев, это были солда¬
6 См. ранее главу 2.
91
ты удачи, эксперты во всех видах ратного дела, всевозможные специ¬
алисты, в первую очередь врачи и торговцы. В 1652 г. была основана
новая Немецкая слобода и еще, возможно на удивление всем, в са¬
мой Москве и за ее пределами были построены протестантские церк¬
ви. Это вызвало со стороны церковников еще большее возмущение
«злом», которое якобы принесли с собой иностранцы. Раздававшие¬
ся в последние десятилетия XVII в. протесты против влияния ино¬
странцев вряд ли объясняются какой-то врожденной ксенофобией
московитов, которые в XVII в. были воском в руках идеологических
рупоров власти, т. е. духовенства. Иностранные гости, по большей
части дипломаты, естественно, в своих, как правило, ругательных
описаниях России, подчеркивали антипатию московитов к иностран¬
цам, но существовало и множество свидетельств официальных, т. е.
церковных и правительственных, о мерах, направленных против пья¬
ного зелья (табака), одежды, бритья бороды, музыки и танцев и дру¬
гих дьявольских развлечений.
После «варварской» казни короля Карла (напомним приводив¬
шееся выше французское высказывание) особой целью таких на¬
падок стали английские купцы, «английские немцы», и они были
изгнаны из Москвы в далекий Архангельск. Несколько лет спустя
иностранцы, как, наверное, и православное духовенство, были без¬
мерно обрадованы, когда всех «немцев» отделили от города стенами
Немецкой слободы. Московиты, однако, не всегда были защищены от
неожиданностей:
«С чего бы нам подражать такой странной и чрезмерной чистоте немцев,
которые только и делают, что моют полы в своем доме, где гостю ни сплю¬
нуть, ни сблевать на пол. А коли такое вдруг случится, тут же подбегает
слуга и принимается вытирать. Такие люди с их изнеженностью и плот¬
ской одержимостью чистотой пытаются превратить обыкновенный зем¬
ной дом в райские кущи»7.
Или, как в ином контексте выражался ведущий старообрядец,
протопоп Аввакум (1620/1 — 1682): «Ох, ох, бедныя! Русь, чего-то
тебе захотелося немецких поступков и обычаев!»8
Человеком, который не только желал порядков проклятых ино¬
странцев, но и ввел многие из них, был Петр Великий. Четыре стены
не обязательно тюрьма, за ними часто кроется hortus inclusus, тайный
сад райских наслаждений, и юный Петр отведал в Немецкой слобо¬
де бездну наслаждений, влияние которых оказалось длительным и
7 Слова хорвата Юрия Крижанича, цит. по: Anthony Cross. Russia Under
Western Eyes, 1517-1825. London, 1971. P. 23.
8 Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочине¬
ния / ред. Н. К. Гудзий. М., 1960. С. 136.
92
стойким. Споры по поводу того, был ли Петр реформатором или
революционером, продолжаются нескончаемо, но несомненно, что с
точки зрения привития западных взглядов народу страны, который
нередко бунтовал против них, он был, как говорится, человеком, не
знавшим, что такое дорога назад. Петр наведывался не только в Не¬
мецкую слободу, но и в зарубежные страны — и не в качестве главы
своего «Великого посольства» (1698-1699), а простым членом по¬
сольской свиты, чтобы собственными глазами все видеть и самому
поучиться у иностранцев. В отличие от его царственных предше¬
ственников, которые демонстративно мыли руки после контакта с
посетившими их послами, Петру нравилось непосредственное обще¬
ние с иностранцами любого положения, а если вспомнить лондон¬
скую актрису Летицию Кросс, то даже очень непосредственное. Отец
Петра, Алексей, в 1675 г. издал указ, что «стольникам и стряпчим, и
дворянам Московским... сказать, чтобы они иноземских немецких и
иных обычаев не перенимали, волосов у себя на голове не подстри¬
гали, тако ж и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не
носили»9. Петр же и приказами, и личным примером, и «мягкими»
уговорами поощрял совсем противоположное. Еще он приглашал
на русскую службу несметное число специалистов из всех стран Ев¬
ропы, чтобы построить новый флот, обучить армию и командовать
ею, преподавать математику и навигацию, сооружать каналы и доки,
возвести новый город Санкт-Петербург. Он вывел иностранцев из за¬
крытых кварталов Немецкой слободы и позволил им работать и тор¬
говать по всей России.
Его народ приводило в недоумение и раздражало то, что, находясь,
например, в Лондоне, царь наблюдал в Ламберт-Паласе за интрони¬
зацией англиканского священника Кристофера Кларка и присутство¬
вал на встрече квакеров, а в 1702 г. объявил, что «каждому христиа¬
нину предоставляется на его ответственность пещись о блаженстве
души своей»10. Последние слова звучали зловеще, и в том же году пре¬
подобный Джон Урмстон, священник английской конгрегации в Ар¬
хангельске, выразивший свое невысокое мнение о русских, сказав, что
«русские считают себя христианами, но они вполне достойны харак¬
теристик, которые дают им многие наши соотечественники, называя
их отбросами христианства, они претендуют быть частью греческой
Церкви, но, как это ни странно, невежественны и фанатичны», опасал¬
ся, что если «Его Величество умрет, пока его сын не достиг совершен¬
9 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 1, № 607
(6 августа 1675).
10 Там же. Т. IV, № 1910 (16 апреля 1702).
93
нолетия, а ему всего четырнадцать лет, следует ожидать, что нас всех
перебьют»11 из-за очевидной ненависти русских к иностранцам.
Ксенофобия всегда была неотъемлемой частью всех народных
протестов, начиная от стрелецких бунтов 1682, 1698 гг., восста¬
ния Кондратия Булавина 1708 г. до восстания Емельяна Пугачева
1773-1774 гг. при императрице Екатерине Великой. Петра, в глазах
Запада героя Просвещения, самого считали иностранцем, которым
немцы подменили настоящего царя, человеком, предавшим свою ре¬
лигию и свой народ, Антихристом, а его немецкие чулки и ботинки
принимали за коровьи копыта. Не приходится удивляться, что на го¬
род, созданный Петром в северо-западном углу страны, вдалеке от ее
сердца, если не сказать, души Матери-России, смотрели, как на оби¬
талище сатаны с его прислужниками-иностранцами. Петербург, его
история и его мифы формируют очень важную часть истории слож¬
ного отношения русских к иностранцам, истории любви и ненави¬
сти. Ненависть проявилась, когда через несколько лет после смерти
Петра в недолгое правление Петра II (1727-1730) столицу вернули в
Москву, но императрица Анна Иоанновна (1730-1740) возвратила
двор в Санкт-Петербург, и там он оставался до большевистской ре¬
волюции 1917 г.
Анна, дочь единокровного брата Петра Ивана и до этого гер¬
цогиня Курляндская, привезла с собой из Балтики советников и
друзей-немцев и установила режим, который вошел в историю как
иностранное правление или бироновщина (по имени императорско¬
го фаворита Эрнста Бюре или Бирона). После ее смерти к власти
пришла собственная дочь Петра (не считая кратковременного прав¬
ления Ивана VI), и наступило так называемое восстановление рус¬
ского правления. Любопытно, что теперь Петр Великий в народном
сознании воспроизводился как истинно русский герой, и Екатерина
Великая, выбрав для фальконетовского памятника («Медный Всад¬
ник») посвящение «Петру Первому Екатерина Вторая», хотела под¬
черкнуть преемственность и скрыть свое немецкое происхождение
под видом показной русскости. Однако вполне возможен и иной,
противоположный смысл в прочтении этой надписи — признание
того, что «водворение немцев во дворец» дело рук Петра, и началось
оно с женитьбы царевича Алексея на принцессе Шарлотте Брунсуик-
Вульфецбюттельской в 1711 г. Известны слова Петра Великого, что
«нам Европа будет нужна несколько десятков лет, а потом мы к ней
повернемся задом», но, конечно, так не получилось. И при Петре, и
при Елизавете (1741-1762) иностранцы занимали, возможно, столь- 1111 United Society for the Propagation of the Gospel. London. Correspondence.
A 1/138.
94
ко же важных постов в правительстве и войсках, сколько при Анне,
но взгляд русских на эту ситуацию менялся в зависимости от обста¬
новки. Тем не менее Екатерина Великая была во многих отношениях
более русской, чем сами русские, демонстративно отдавая предпочте¬
ние русским нарядам, предоставляя посты русским и поощряя рус¬
скую культуру, но при этом открыто заявляя в «Наказе» Уложенной
комиссии, что Россия «европейская страна».
Россия разделяла или пыталась разделять космополитизм свое¬
го века, и результаты были поразительными и непредсказуемыми.
Санкт-Петербург в царствование Екатерины представлял собой
странный город, не в последнюю очередь из-за смешения разных на¬
ций и характеров. Англичанин, побывавший в 1789 г. в Петербурге,
писал:
«Я чувствовал себя как будто в другом мире, одежда, манеры, обычаи лю¬
дей так сильно отличаются от других стран в Европе.
Помимо разных национальностей, которые составляют Российскую
империю, во время пребывания в городе я встречал англичан, датчан,
французов, шведов, итальянцев, испанцев, португальцев, венецианцев,
поляков, немцев, персов и турок, последние попали сюда как пленные с
Очакова. Это сборище настоящий естественный маскарад, и нет другого
города на Земле, который был бы столь же совершенно занятен в этом от¬
ношении, как Петербург. В других великих городах разнообразие чужих
людей не столь разительное, как здесь, благодаря стремлению не отли¬
чаться от принятой в стране, где они живут или пребывают, одежды и не
привлекать к себе внимание толпы.
В Петербурге нет нужды приспосабливаться, пусть иностранцы оде¬
ваются как угодно странно, повсюду подданные Русской империи смо¬
трят на них спокойно. Она смешивает здесь толпы из разных уголков
страны от снежных гор Камчатки до плодородных равнин Украины — с
пространства в 4000 миль! Сибиряки, тунгусы, калмыки и бесконечное
число татарских народов, финны, казаки т. д. Петербург странный город,
даже для русских — он каждый день растет приезжими со всех концов
Империи»12.
С самого начала Петербург был многонациональным и интерна¬
циональным. Районы молодого города, слободы, получали названия
по преобладающему населению. Так появились Греческая, Финская,
Французская, Немецкая, Татарская слободы и по названиям улиц
можно было определить присутствие голландцев, шведов и англи¬
чан. Английская набережная официально так называется с начала
XIX в., поскольку на левом берегу Невы богатейшие члены англий¬
ской диаспоры владели великолепными домами или арендовали
12 Andrew Swinton. Travels into Norway, Denmark, and Russia, in the Years
1788,1789,1790 and 1791. London. 1792. P. 229-230.
95
дома с 1740-х гг. Город также славился религиозной терпимостью,
и со времен царствования Екатерины Невский проспект получил
известность, как улица толерантности — здесь, между Адмиралтей¬
ством и Екатерининским каналом были построены величественные
здания лютеранской, армянской и православной церквей. Импера¬
трица также учредила «обеды веротерпимости», на которых пред¬
полагалось присутствие священников разных церквей, что не очень
приходилось по душе православным. Однако признания не получи¬
ли татары-мусульмане, первая мечеть в Петербурге была построена
только между 1910 и 1920 г.
Раз уж мы упомянули татар, то нужно напомнить, что если тата¬
ры из Астрахани и Казани (областей, завоеванных русскими еще в
XVI в.), многих из которых склонили принять крещение, были сре¬
ди первых рабочих, собранных в огромных количествах для нача¬
ла строительства Санкт-Петербурга, то в царствование Екатерины
произошло присоединение Крыма и включение в состав империи
еще одного татарского народа, потомков Орды, к которым импера¬
трица относилась с большим предубеждением, считая их варварами и
«другими». В эпоху Екатерины произошло дальнейшее усугубление
проблемы «мы» — «они» и не только по причине огромного расши¬
рения имперских завоеваний, но также из-за попыток увеличить на¬
селение с помощью привлечения колонистов. Иностранцы хлынули
изо всех европейских и средиземноморских стран. В результате, на¬
пример, образовались немецкие колонии в Поволжье и происходило
заселение самого Крыма. Между прочим было предложение высы¬
лать английских каторжников, но их вместо этого стали вывозить в
Ботани-Бей. Таким образом, екатерининская Россия была огромным
плавильным котлом национальностей, в котором из «они» выплав¬
лялись «мы» (и, конечно, в этом отношении Россия ничем не отли¬
чалась от других имперских стран или от «новых» стран). Наполеону
приписывают знаменитые слова: «Поскребите русского, и вы найдете
татарина», но с большей вероятностью можно было бы найти шот¬
ландца, финна или немца, потому что иммигранты и русские вступа¬
ли в смешанные браки.
И все-таки XIX в., как никогда до этого, поляризовал нации —
подняли голову государственность, национализм и еще некоторые
другие дурно пахнущие «-измы», и паспорта стали нормой. Войны,
по крайней мере, прямо указывали, кто твой внешний враг, и русские,
подобно всем другим воюющим нациям побуждались государством и
церковью воевать за правое дело. Внутреннего же врага часто иска¬
ли тогда и среди «других», когда требовался козел отпущения. Анти¬
германские демонстрации в Петербурге (вскоре его славянизировали
в Петроград) перед Первой мировой войной касались обрусевших
96
немцев нескольких поколений. Но такие демонстрации бледнеют пе¬
ред фантастическими вариациями, разыгрывавшимися в советский
период против врагов народа внутри страны и вне ее, вредителей,
предателей и шпионов. А вот что сказал президент Путин:
«Духовное возрождение нашей страны немыслимо без понимания того,
что русская культура это соединение традиций всех народов, которые
столетиями жили в России. Каждый человек и каждая этническая группа
добавляла цвета своих собственных открытий, энергии и таланта палитре
нашей общей культуры»13.
Эти слова он произнес сразу после поджога синагоги в Марьи¬
ной роще в сентябре 2000 г. В 1989 г. депутату Михаилу Толстому,
бывшему тогда председателем подкомитета по культурным связям с
зарубежными странам, задал вопрос журналист «Московских ново¬
стей» (по поводу предстоящего важного Международного конгрес¬
са «соотечественников»): «Кого вы считаете соотечественниками?
Не только русских, но также евреев, немцев, армян, уехавших или
уезжающих из России?» Толстой ответил: «Правильно, и на мрамор¬
ной доске в Георгиевском зале Кремля каждый четвертый француз,
немец, итальянец... Славу русской истории принесли также те люди,
которые по своим паспортам не являются русскими»14. С сентября
1997 г. Российская Федерация начала наконец выдавать паспорта, в
которых гражданство и национальность не являются разными кате¬
гориями15: все являются россиянами в гражданском смысле (гражда¬
нами Российской Федерации), вне зависимости от того, считают ли
они себя русскими в этнокультурном отношении или нет.
2
Возможно, у русских никогда не было сильной веры в культур¬
ные и социальные институты страны, общего чувства превосходства,
которым в особенности отличались англичане и французы и которое
обычно, если не всегда, создавало у них иммунитет к иностранному
мнению. Они — и тут я имею в виду, прежде всего их правительство,
хранителя образа России — всегда очень болезненно реагировали на
то, что иностранцы пишут об их стране, их правителях, народе, рели¬
гии и обычаях. Однако, как ни странно, обеспокоенность по поводу
книги Джайлса Флетчера «О русском государстве» («Of the Russe
13 New York Times. 19 September 2000. P. A3.
14 В Россию с любовью // Московские новости. 7 сентября 1989.
15 Хотя в заграничном паспорте слово гражданство почему-то перево¬
дится на английский как «nationality».
97
Commonwealth») проявили не русские, а английские купцы Москов¬
ской компании, выступившие в Лондоне с требованием отозвать все
экземпляры первого издания 1591 г., ибо книга могла «вызвать у рус¬
ского царя большое неудовольствие Компанией», и книга была ото¬
звана. И торговцам было из-за чего беспокоится, потому что Флетчер,
ярый протестант, не выбирая слова напал на царя, духовенство и рус¬
ский национальный характер и жаловался на то, что русские всеми
силами не хотят пускать иностранцев «во внутренние части царства,
так как боятся заразы лучших манер и качеств, чем их собственные»16.
Вряд ли царь Федор (1584-1598) вообще что-то знал о существо¬
вании флетчеровской книги, но когда двести пятьдесят лет спустя,
в 1848 г. русский ученый попробовал опубликовать ее перевод, ми¬
нистр народного просвещения С. С. Уваров (1786-1855) тут же до¬
ложил царю Николаю Первому о злобных нападках Флетчера на ари¬
стократию и церковь, журнал конфисковали и заменили страницы.
XVIII в. продемонстрировал чувствительность русских к западной
критике. Петр Великий приказал своим представителям за границей
сделать все возможное и скупить экземпляры книги секретаря ав¬
стрийской миссии Йоганна-Георга Корба, в которой тот с ужасающи¬
ми подробностями описывал стрелецкую казнь и садизм, с которым
в ней принимал участие сам Петр. В царствование Анны Иоанновны
итальянский авантюрист Франческо Локателли выразил разочарова¬
ние пребыванием в России и излил свое негодование в «Московских
письмах» («Lettres moscovites», 1736). Русский посол в Англии Анти¬
ох Кантемир (1709-1744) счел нужным не только заказать немецкую
версию сочинения и с построчным опровержением автора, но и на¬
нять людей, чтобы избить несчастного итальянца, когда тот объявил¬
ся в Англии в 1738 г. — эта стратегия пришлась по душе и другому по¬
слу, который хотел разобраться с такой же проблемой в царствование
Екатерины Великой.
Целый ряд проблем с доставлявшими хлопоты иностранцами воз¬
ник в первые годы правления Екатерины. В одном известном случае
она прибегла к услугам Вольтера, Дидро и мадам Жоффрин, чтобы
помешать изданию книги Клода Карломана де Рельера «Рассказы
о русской революции в 1762 году» («Anecdotes sur la revolution de
Russia en Гаппёе 1762»), которая ходила по рукам в рукописи в 1763 г.,
но была напечатана только в 1797 г., после смерти императрицы.
В другом случае она пустила в ход перо и под псевдонимом «Люби¬
тель правды» написала опровержение на путевые заметки француз¬
16 Giles Fletcher. Of the Russe Commonwealth // Rude and Barbarous King¬
dom: Russia in the Accounts of Sixteen-Century English Voyagers / eds. Lloyd
T. Berry and Rovbert O. Crummy. Madison, 1968. P. 172.
98
ского астронома Жана Шапп д'Отроша «Путешествие в Сибирь»
(«Voyage en Siberie», 1768).
Не лучше обстояло дело при Александре Первом (1801-1825).
Когда Роберт Льял, врач-шотландец на русской службе, посвятил им¬
ператору свой монументальный труд «Характер русских и подробная
история Москвы («Character of the Russians, and a Detailed History of
Moscow», 1823), реакция русских была незамедлительной и жесткой.
Русский вице-консул в Лондоне написал в «Таймс» письмо с проте¬
стом, что посвящение не было согласованным, и вскоре газеты напе¬
чатали информацию об императорском указе, согласно которому:
«Никакому иностранному писателю не будет дозволено посвящать Его
Величеству любой труд, не получив предварительного разрешения Ми¬
нистерства иностранных дел через русского посла, аккредитованного в
стране проживания автора. Запрет был вызван непонятной дерзостью
англичанина, который с наглостью посвятил Его Величеству книгу, на¬
писанную против его правительства и всей русской нации».
За этим последовали обвинения в адрес английских путешествен¬
ников и высылка «слепого шпиона, методиста и квакера»17. Льял,
слепой Джеймс Холман, который написал «Путешествия по России,
Сибири, Польше...» («Travels through Russia, Siberia, Poland», 1825),
и многие другие авторы десятилетиями вызывали у русских гнев за
описание ссылки, тюрем, мятежей, зверств или за неблагожелатель¬
ные отзывы об аморальном поведении или отсталости русских и,
несомненно, пользовались плодами скандала, добавлявшего их про¬
изведениям больше известности, чем заслужили. Примеры можно
множить, но достаточно одного. Перед Первой мировой войной рос¬
сийский посол в Лондоне пытался добиться запрета на фарс Джорджа
Бернарда Шоу «Великая Катерина», которую посчитал нападками
на достоинство русской аристократии. Правительственная цензура,
по-видимому, порекомендовала тогда, «чтобы Потемкин появился в
пьесе как простой капитан и трезвенник, а Екатерина как сторонница
единобрачия, чтобы избежать оскорбления русского великого князя
Владимира, друга английской королевской семьи».
Русские, конечно, не оставались в долгу. Во все увеличивающих¬
ся количествах — особенно после 1762 г., когда? дворяне были осво¬
бождены от обязательной государственной службы и получили воз¬
можность больше путешествовать — русские узнавали Европу на
собственном опыте, многое там не нравилось, и они писали очерки,
17 Процитировано Льяллом в приложении к его путевым заметкам
(Lyall. Travels in Russia, the Krimea, the Caucasus, and Georgia. London, 1825.
Vol.II. P.519, 520).
99
служившие контробвинениями в отношении того, что иностранцы
писали о России. Письма Дениса Фонвизина конца XVIII в. и «Зим¬
ние заметки о летних впечатлениях» Федора Достоевского (1862) —
вот два примечательных примера из значительного числа такого рода
литературных произведений, написанных до большевистской рево¬
люции, после которой ругательные описания капиталистического
мира делались по заказу.
Другим и, в сущности, еще более успешным методом влияния на
представления соотечественников об иностранцах, которым умело
пользовались Фонвизин и Достоевский, было создание литератур¬
ных персонажей, чьи имена сделались нарицательными для описа¬
ния качеств, чаще всего отрицательных, иностранцев. Самый старый
текст такого рода находим в сатирическом сочинении, называющем¬
ся «Лечебник, выдан от русских людей, как лечить иноземцев и их
земель людей», в котором враждебность к иностранцам, о которой мы
говорили выше, выражается в предложении издевательских рецептов
для лечения болезней, т. е. таких, от которых болезни усиливаются18.
Однако только в XVIII в. в одном произведении встречались одно¬
временно персонажи, испорченные иностранцами, и сами иностран¬
цы, испортившие русских. От сатир Антиоха Кантемира первых де¬
сятилетий века до сатирических журналов, комедий и комических
опер периода царствования императрицы Екатерины без конца вы¬
смеивались офранцузившиеся мартышки. В комедии Фонвизина
«Бригадир» (1770) юный Иванушка демонстрирует свое невежество
заявлениями вроде «тело мое родилось в России, это правда, однако
мой дух принадлежал короне французской»19. А в журнале Николая
Новикова «Трутень» (1769) в разделе новости было помещено шу¬
точное сообщение про «молодого российского поросенка, который
ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который,
объездив с пользою, возвратился совершенно свиньей, желающие
смотреть могут видеть его безденежно по многим улицам сего
города»20. Особой популярностью у русских юмористов пользо¬
вались учителя-иностранцы. Екатерина Великая в своей комедии
«Обманщик» (1785) вывела учителя-француза Роти, который до
получения этого места «год подрабатывал в тавернах», и глупую
французскую гувернантку мадам Грибуж, а Фонвизин красноречи¬
во назвал учителя-немца Вральманом в своем «Недоросле» (1781)
18 См.: Адрианова-Перетц В. П. Очерки по истории русской сатириче¬
ской литературы XVII века. М.; Л., 1937. С. 239-251.
19 Фонвизин Д. И. Собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 72.
20 Сатирические журналы Н. И. Новикова / ред. П. Н. Берков. М.; Л.,
1951. С. 61.
100
и нелепого гувернера М. Пеликаном в неоконченной пьесе «Выбор
гувернера».
Но до 1820-х гг. иностранец не был частым персонажем русской
художественной литературы. У Пушкина была целая галерея типов
иностранцев. Они, как правило, мелькали в повествовании и, соот¬
ветственно, характеризовались несколькими словами. В «Пиковой
даме» (1833) присутствовавший на похоронах старой графини ан¬
гличанин удостоился пары слов: когда ему сказали, что Герман ее
незаконный сын, он «ответил сухим “О”?» В «Барышне-крестьянке»
дан прекрасный портрет английской гувернантки мисс Жаксон, «со¬
рокалетняя чопорная девица, которая белилась и сурмила себе брови,
два раза в год перечитывала “Памелу”... и умирала со скуки в этой
варварской России». Учитель/гувернер фигурирует и в других про¬
изведениях (например, Евгения Онегина препоручили в руки «месье
л'Абби, убогого француза»). После Пушкина список иностранцев в
русской литературе расширился, их мы встретим практически вез¬
де — начиная с сочинений русских писателей и поэтов до нападок на
иностранных вредителей и шпионов в официально одобренных со¬
ветских произведениях.
3
Для более подробного рассмотрения данной проблемы в пределах
нашей темы давайте вернемся к концу XVIII в. и англо-русским от¬
ношениям, которые позволяют проследить интересные варианты от¬
ношения русских к иностранцам, опять же в контексте литературы и
путешествий.
В последние десятилетия XVIII в. Россия (та Россия, о которой я
говорю, это узкий круг образованной элиты, даже небольшая часть,
и я не имею в виду массы, дремлющие или бунтующие) была охваче¬
на галломанией. Россия ни в коем случае не была одинока в бьющей
через край любви ко всему французскому, одежде и манерам, языку
и литературе. Все страны Европы в большей или меньшей степени
переболели этой эпидемией, однако в России она носила всеохваты¬
вающий характер и продержалась до первых десятилетий XIX сто¬
летия, может быть, из-за гегемонии французского языка. И так же,
как в остальной Европе, галломании в России находили действенное
противоядие в увлечении Англией, толчок чему, как это ни странно,
дали во Франции. В 1763 г. знаменитый английский историк Эдвард
Гиббон писал, что «наши мнения, наши моды, даже игры прижива¬
лись во Франции: луч национальной славы озарял каждого индиви¬
101
да, и в каждом англичанине видели патриота и философа»21. Через де¬
сять лет великий русский издатель, журналист и ярый масон Нико¬
лай Новиков в одном из своих журналов отмечал:
«Мы привыкли... перенимать с жадностью все от иностранцев, но, по не-
счастию нашему, к сожалению, перенимаем только их пороки; например,
когда у нас были в моде французы, то от обхождения с ними остались у
нас легковерность, непостоянство, вертопрашество, вольность в обхож¬
дении, превосходящая границы, благоразумием учрежденные, и многие
другие пороки. Французов сменили англичане: ныне женщины и мужчи¬
ны взапуски стараются перенимать что-нибудь от англичан, все англий¬
ское кажется нам теперь хорошо, прелестно, и все нас восхищает»22.
Слово «англоман» впервые появилось в русском словаре в 1803 г.,
где его определили следующим образом: «Кто удивляется и подра¬
жает с излишеством, смеха достойным, всему тому, что делается в
Англии»23. К этому времени имелось много примеров — в жизни,
если не в литературе, — литературные англоманы в общем начина¬
ют появляться в коротких рассказах Пушкина и его современников в
1830-х гг., но то, что можно было бы принять за пробуждение интере¬
са русских к Англии, в сущности, выражалось не столько в чрезмер¬
ном и бездумном копировании, сколько в выборочном, изучающем
отношении, которое правильнее было бы назвать «англофилией»,
чем «англоманией» и которое имело одинаковое отношение и к дис¬
курсам о русской идентичности, и к самой Англии.
Самое большое влияние на создание убедительного позитивного
образа Англии и англичан оказывает литература — историческая, опи¬
сательная и художественная. В царствование Екатерины развилась
мода на так называемый английский роман, чему способствовали не
только просто переводы (на русский и французский) произведений
Филдинга, Ричардсона, Смоллетта и Стерна, но еще и многочислен¬
ные французские и немецкие романы, стилизованные под «англий¬
ские сочинения» и с величайшим почтением рисовавшие англичан.
Николай Карамзин вспоминал:
«Было время, когда я, почти не видав англичан, восхищался ими, и во¬
ображал Англию самою приятнейшею для сердца моего землею, мне ка¬
залось, что быть храбрым значило быть англичанином, великодушным,
настоящим мужчиной... Романы, если не ошибаюсь, были главным осно¬
ванием такого мнения»24.
21 С. Hibbert. The Grand Tour. London, 1974. P. 25.
22 Сатирические журналы H. И. Новикова. С. 328-329.
23 Яновский Н. Новый словотолкователь. СПб., 1803. Т. I. С. 150. «Ан¬
гломан» — псевдоним М. И. Плещеева, писавшего за тридцать лет до этого в
«Опытах трудов Вольного Русского собрания» (1775. Т. II. С. 261).
24 Карамзин Н. М. Сочинения. СПб., 1848. Т. II. С. 773.
102
Издалека Англия представлялась с известной степенью идеализ¬
ма. Княгиня Екатерина Дашкова, которая считала себя одним из глав¬
ных зачинателей дворцового заговора, возведшего Екатерину на трон,
перед путешествием по Англии воскликнула: «Почему я не родилась
англичанкой? Как я восхищаюсь свободой и духом этой нации!»25
В 1789 г. Василий Малиновский попросил себе пост в лондонском
посольстве, «желая узнать государство, славное своей мудростью
и счастьем его правительств и народа»26. И Карамзин тоже писал о
стране, «которую в ребячестве своем любил я с таким жаром и ко¬
торая по характеру жителей и степени народного просвещения есть,
конечно, одно из первых государств Европы»27.
При ближайшем знакомстве Англия для многих русских только
подтверждала обещанное. В первую очередь бросались в глаза чисто¬
та и порядок, изобилие и довольство, великолепные дороги, предпри¬
имчивость и активность, аккуратные дома и садики, прекрасные заго¬
родные поместья, ломящиеся от товаров лавки, хорошо одетые люди
всех слоев, несмотря на массу проституткок и нищих. Лондон сам по
себе вызывал неизъяснимый восторг и изумление своей красотой и
тысячами достопримечательностей. Русские гости охотно развле¬
кались, но проявляли живой интерес и к более серьезным аспектам
английской жизни и управления. Главное внимание привлекало то,
как работает английская конституция и общая практика права. Рус¬
ские посещали парламент, наблюдали за выборами, присутствовали
на судебных заседаниях в Олд Бейли и в провинциальных судах при¬
сяжных. В хоре одобрительных слов только у Карамзина звучала нот¬
ка осторожности: «Законы хороши, но их надобно еще хорошо испол¬
нять, чтобы люди были щастливы». Эти наблюдения вызвали у него
соображения, что законы могут быть искажены или повернуты, но
просвещенные англичане всегда различат, где искать для себя выго¬
ду, а потому «не конституция, а просвещение англичан есть истинный
их Палладиум. Всякие гражданские учреждения должны быть сооб¬
ражены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно
в иной земле»28. Тем не менее возможная применимость различных
25 Цит. по: Н. М. Hyde. The Empress Catherine aixd the Princess Dashkov.
London, 1935. P. 107.
26 Архив князя Воронцова. СПб., 1893. Т. XXX. С. 391.
27 Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. II. С. 659. В этой редакции (1794) Карам¬
зин не выражает восхищения «политическим совершенством» Англии, ко¬
торое отчетливо просматривалось в одном из его сочинений, написанных до
отъезда в путешествие (Пустынник // Детское чтение для сердца и разума.
М., 1788. С. 41-42).
28 Там же. С. 778-779.
103
английских правовых институтов, которые привлекли их внимание,
была господствующей мыслью многих русских.
Сохранение семьи рассматривалось как основа английского
образа жизни, доказательство неоспоримого права англичанина счи¬
таться просвещенным. Русские с энтузиазмом описывали семейную
жизнь, особенно ту, какую видели на примере среднего класса и в де¬
ревне, а не в городе. Их приводила в восхищение роль хозяйки дома
и матери, декорум и гармония, которую, по их признанию, они виде¬
ли в семейных отношениях, их очаровывало английское воскресенье,
возвышающие проповеди, читавшиеся в сельских церквях. Кроме се¬
мьи, им представлялось достаточно доказательств в подтверждение
того, что англичане самая просвещенная нация в мире. Англичане
самых разных слоев общества оказывались очень осведомленными,
торговцы могли рассуждать о политике и истории, даже горничные
в домах читали последние романы. Англичане придавали большое
значение образованию. Николай Корсаков, инженер — строитель ка¬
налов, объездивший в 1770-х гг. всю Великобританию, считал, что в
Англии «больше гениев и знатоков, чем в любой другой европейской
стране»29. Он также высказал мысль, что рабочие классы, хотя и не
имеют формального образования, показывают большую умелость и
специализацию, отчего происходит превосходное мастерство. Он все
время говорил о том, что в России нет таких возможностей и усло¬
вий, и в одной из последних своих записей в дневнике за 1777 г., под
впечатлением от увиденного в Оксфорде и Шотландии, размышлял о
необходимости иметь в России больше университетов. Другие гости
много писали о частных школах и новых воскресных школах, кото¬
рые помогали распространять грамотность среди самых бедных слоев
населения. Высокую похвалу вызывали разные английские учрежде¬
ния: Британский музей, Королевское общество, почтовая служба, Ко¬
ролевское общество для поощрения искусств, госпиталь в Гринвиче.
Посетив в 1789 г. госпиталь, Карамзин заметил, что «в Англии много
хорошего, но всего лучше общественные заведения, которые доказы¬
вают благодетельную мудрость правления. Salus publica есть подлин¬
но девиз его. Англичане должны любить свое отечество»30.
Если похвалы английским заведениям, финансируемым госу¬
дарством или частными лицами, лились рекой, то реакция на самих
англичан была, понятно, далеко не одинаковой. Англичанками все
восхищались за красоту, элегантность, ум и за роль, которую они
играли в обществе и семье. Многих путешественников, у которых зло¬
29 Корсаков Н. Journal des voyages en Angleterre et en Ecosse // Россий¬
ская государственная библиотека. Фонд Корсаковы, папка 2, ед. хр. 12, п. 42.
30 Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. И. С. 723.
104
употребление косметикой русскими дамами вызывало отвращение,
приятно удивляло отсутствие красок и пудры на лицах англичанок.
Впрочем, английский рецензент писем Карамзина предположил, что
тот не различал разницы между естественным цветом и искусно на¬
ложенной краской31. Такого энтузиазма не вызывали англичане муж¬
чины. Чувствительный Василий Зиновьев, деверь русского посла в
Лондоне в 1770-х гг. жаловался, что англичанам противно говорить
своим женам о любви к ним, и добавлял: «Я высоко ставлю англичан
за умение пользоваться своим разумом, главным качеством души, но
мне не нравится отсутствие в их сердцах нежности»32. Именно холод¬
ность и эгоизм произвели на Карамзина отталкивающее впечатление:
«Теперь вижу англичан вблизи, отдаю им справедливость, хвалю
их — но похвала моя так же холодна, как они сами»33. У англичани¬
на были несомненные качества — он виделся честным и надежным
в бизнесе и частной жизни, хорошим другом, когда вы пробивались
сквозь его сдержанность, находчивым, изобретательным, независи¬
мым. Но самой интригующей оказалась темная сторона его натуры,
и Англию считали страной чудаков, безнадежных меланхоликов и
маньяков-самоубийц, побуждаемых к этому климатом (вечным ту¬
маном), однообразным питанием (ростбиф с кровью) и напитками
(портвейн и портер). Карамзин, по-видимому, повсюду видел пора¬
зительные характеры и предположил, что Филдингу достаточно было
только копировать, а не сочинять, чтобы заселять свои романы. Он
видел развратность на английских лицах и понял, что и Хоггарт тоже
просто «списывал с натуры»34. Возможно, Карамзин сделал больше
любого своего русского современника для пропаганды этих аспектов
английского характера в «Письмах русского путешественника» и в
многочисленных анекдотах, которые поместил в своих журналах в
период 1791-1803 гг. Но если его личные предпочтения склонялись
к французам, то другие были готовы видеть англичан, при всех их не¬
достатках, в роли своей «любимой нации».
До этого момента я, по преимуществу, говорил о русском отно¬
шении к Англии и англичанам, о том, что русские думали об одной
отдельно взятой зарубежной стране и в отдельно взятый период
времени (и раз упоминал вскользь, что коегчто из увиденного или
описанного, возможно, считалось применимым и к России). Однако
31 Annual Register, or General Depositary... for the Year 1803. London, 1804.
P. 302.
32 Русская старина. 1883. T. XXIII. С. 437.
33 Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. И. С. 773.
34 Там же. С.780-782, 674.
105
«мы» и «они» всего лишь две стороны одной медали, и теперь мне
хотелось бы перенести внимание на другие аспекты представлений,
бытовавших у русских в отношении англичан и составлявших основу
их (русских) представлений о себе или о том, какими они должны
быть, т. е. о своей идентичности.
Патриотизм был одной из характерных черт англичан, которая
неизменно отмечалась всеми. Ее часто видели в надменном утверж¬
дении превосходства и нескрываемой враждебности к иностранцам.
В 1770-х гг. один гость отмечал: «Не быть рожденным англичани¬
ном и быть честным человеком кажется им непостигаемым противо¬
речием. Думая таким образом, они холодно встречают иностранца,
смотрят на него с презрением, не скрывая нежелания знакомиться с
ним»35. Это очень напоминает то, что Карамзин писал об английском
отношении к иностранцам как к своего рода несовершенным, жалким
людям. «Не тронь его, — говорят здесь на улице, — это иностранец,
что значит: “это бедный человек или младенец”»36. Но русские гости
быстро разглядели положительные аспекты в поведении англичан.
«Во всей Европе только англичане превосходят нас в щедрости, но их
щедрость не ограничивается развлечениями, как у нас, она распро¬
страняется, прежде всего, на все, что служит общему добру»37. Ан¬
гличане гордились историей своей нации и своими великими людь¬
ми: Вестминстерское аббатство притягивало русских как магнит, на
них производили огромное впечатление памятники, воздвигнутые
благодарной нацией своим поэтам, ученым и государственным деяте¬
лям. Когда возникала угроза, англичане сплачивались под ее флагом.
В 1803 г., когда вот-вот могла разразиться война с Францией, и Ка¬
рамзин, и Малиновский, не сговариваясь, выразили свою обеспоко¬
енность и с восторгом заговорили об английском патриотизме. Ма¬
линовский писал:
«Живя в мире и безопасности, мы смотрим на государство Англии, но не с
безразличием! Англичане благодарный и великодушный народ, они чув¬
ствуют себя оставленными и отвергнутыми всеми, а потому еще больше
искренни в любви к своей родине»38.
35 Сочинения и переводы Петра Макарова. 2-е изд. М., 1817. Т. II.
С. 43-44. ,
36 Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. И. С. 780.
37 Россиянин в Англии // Приятное и полезное препровождение време¬
ни. 1796. Т. XIV. С. 262.
38 О войне // Осенние вечера. 1803, СПб. № 2-3. С. 24; репринт в: Мали¬
новский В. Ф. Избранные общественно-политические сочинения. М., 1958.
С. 103.
106
Еще более трогательно писал в своем влиятельном журнале «Вест¬
ник Европы» Карамзин:
«В Англии отечество есть не слово, а вещь, а любовь к нему не риториче¬
ская фигура, а чувство. Мы еще не знаем, что будет во Франции, но видим
уже давно, что есть в Англии, и должны желать щастия мира и потомства,
прогресса гражданской жизни и всего, что истинно человечное в людях,
чтобы гений Альбиона еще долго хранил благосостояние этого чудесного
острова» .
Карамзин и Малиновский писали это в то время, когда в русском
обществе разворачивалась дискуссия о патриотизме и о том, что та¬
кое «истинный сын отечества», и английский пример давал спорам
особый стимул.
В 1796 г. Малиновский начал анонимно, под заголовком «Россия¬
нин в Англии», публиковать выдержки из своих английских путевых
дневников. Почти все, что он видел в Англии, оставило в нем глубо¬
кий след, но тем не менее, признавался он, «живя между англичанами,
я думаю больше всего о русских»39 40. Он принялся за очерк «История»,
призывая к возрождению настоящей истории России, которая «вы¬
зывала бы любовь и уважение к нашему отечеству не только между
нами, но среди других наций». Ибо «из всех чувств, из всех страстей
любовь к стране самая благородная. Любовь к себе, заложенная во
всех людях, — главный источник любви к своей стране». Перечислив
несколько исторических событий и действующих лиц, способных
пробудить гордость в русских, он обратился к русским с «искрой па¬
триотизма в них» пожертвовать деньги на «должную» историю — то,
что, как он отмечал, было обычным делом для англичан41.
Карамзин, который своей «Историей государства Российского»
(1818-1829) в конце концов подарил русским ту историю, что хо¬
тел Малиновский, всю свою сознательную жизнь чувствовал связь
между историей и патриотизмом, и больше всего в первые годы цар¬
ствования Александра Первого, когда была издана впервые англий¬
ская часть его «Писем русского путешественника» и когда он редак¬
тировал влиятельный «Вестник Европы», где были помещены такие
очерки, как «О случаях и характерах в российской истории, которые
могут быть предметом художества» (1802) и «О любви к отечеству и
народной гордости» (1802). Он определял патриотизм, как «любовь к
достоинству и славе отечества и желание служить им во всех отноше¬
ниях. Это требует приложения сил — и потому не каждый способен
39 Вестник Европы. Т. IX. С. 74.
40 Россиянин в Англии. Т. XI. С. 257.
41 Там же. С. 257-264.
107
на это». Приблизительно в тех же выражениях, как и Малиновский,
он связывал любовь к себе с любовью к стране и, приводя греков и
римлян в качестве выдающихся примеров прошлых веков, сказал, что
«англичане, которые в недавнее время прославились своим патрио¬
тизмом больше, чем другие нации, больше других думают о себе»42.
Еще более близкую параллель между Англией и Россией провел
Николай Муравьев, в 1790-х гг. служивший в английском флоте и
в 1805 г. напечатавший «Опыт о Великобритании и последственные
размышления», который посвятил «Благодетельному отцу и истин¬
ным сынам отечества». В центре внимания Муравьева в первой по¬
ловине очерка был английский патриотизм, основывавшийся на вере
англичан в свое превосходство и решимость не утратить его. Пока¬
зав и заслуженные, и менее привлекательные причины английской
национальной гордости, Муравьев призывал русских подражать
англичанам:
«Я желаю, чтоб читатель, даже негодованием к обвиняемому высокоме¬
рию, грубости и невежеству Британца наклоняемый, удостоил взглянуть
на последующее размышление, справедливо ли обвинение сие, и не на¬
ложена ли, может быть, на нас самих священная обязанность, стараться
возродить в себе и передать поколениям нашим такую же отличитель¬
ную народную нравственность, каковая одушевляет благополучных
Вел и кобритан цев ? » 43
Однако Муравьев не столько превозносил то, что уже есть у рус¬
ских, сколько демонстрировал почти ко всему критический подход.
Он не пытался просто выразить гордость за прошлых героев России,
а представлял их стонущими от современного состояния России, где
помещики купались в привилегиях, где не поощрялось сельское хо¬
зяйство и искусство и где не были написаны соответствующие зако¬
ны. Нападая на власть всего иностранного в русском обществе, Му¬
равьев показывает ту смесь славянофильства с уважением к Англии,
которая была характерна для определенного типа русского человека
в тот период.
У английского патриотизма была еще одна составляющая, кото¬
рую представляли себе все упомянутые авторы. Отношение англичан
к родному языку выражалось в безусловной гордости за него и пол¬
ной уверенности в его богатстве и силе. Князь Александр Куракин,
посетивший Англию в 1772 г. с двумя другими молодыми аристокра¬
тами, одобрительно отзывался об англичанах, не больше, не меньше,
как за то, что «немногие из них говорят по-французски и даже когда
42 Карамзин Н. М. Т. II. С. 468.
43 Северный вестник. СПб., 1805. Т. V. С. 385.
108
понимают, предпочитают язык своей собственной страны»44. На обе¬
де в Лондоне Карамзин попробовал заговорить с соседкой по столу
по-французски, услышал в ответ «от» и два «поп», по поводу чего за¬
метил, что «все хорошо воспитанные англичане знают французский
язык, но не хотят говорить им»45. В следующем очерке он выразил
восхищение английским отношением к своему языку, т. к. «язык ва¬
жен для патриота, и я люблю англичан за тот факт, что они предпо¬
читают свистеть и шипеть со своими любимыми по-английски, а не
говорить на иностранном языке, который все они знают»46. Муравьев
писал, что «всякой британец тщеславится знанием словесности фран¬
цузской, немецкой и итальянской; почитает весьма нужным знание
языка, наипаче латинского и греческого, но на природном своем язы¬
ке представляет непременною обязанностью своею говорить ясно и
внятно, писать красно и правильно, и всегда говорить и писать на нем
в обращении с соотчичами своими»47. Такие соображения неизменно
сопровождались мыслями о том, что в России все совсем по-другому,
и обращениями к русским говорить на своем собственном языке.
«Какая разница с нами! — воскликнул Карамзин после того, как
описал положение в Англии. — У нас всякий, кто умеет только ска¬
зать: “comment vousportez-vous?” — коверкает французский язык толь¬
ко для того, чтобы с русским не говорить по-русски, а в нашем так
называемом хорошем обществе без французского языка будешь глух
и нем»48.
Было ли это настоящей окончательной деградацией? Сделавший¬
ся немым русский, без знания французского превращается в немца в
своей собственной стране. Решение подсказали другие иностранцы —
англичане. Нужно было посмотреть на «них», чтобы узнать, что зна¬
чит быть «нами». Карамзин, который всю свою жизнь любил играть в
парадоксы, в этом не сомневался.
44 Архив князя Ф. А. Куракина. Саратов, 1894. Т. V. С. 385.
45 Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. И. С. 684.
46 Там же. С. 475.
47 Северный вестник. СПб., 1805. Т. V. С. 248.
48 Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. II. С. 684.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«СУЩНОСТНЫЕ» ИДЕНТИЧНОСТИ
В этой книге мы применяем слово «сущностное» к идее о том, что
национальная идентичность — категория врожденная, безвременная
и внутренне присущая вековому характеру народа. И где, по пред¬
ставлению о сущностной природе идентичности, следует искать
признаки этой глубоко укоренившейся изначальной и совершенной
«русскости»? В самых основных и фундаментальных сферах чело¬
веческого выражения и деятельности, в песнях и словах, в духовных
верованиях народа, в привычках и моделях повседневной жизни.
Явно или подспудно многие типы дискурса о русской идентичности
базируются на таких сущностных предположениях. Каждая из четы¬
рех глав этой части книги — о религии, музыке, языке и повседнев¬
ной жизни — начинается с объяснения сущностной позиции, а затем
переходит к иллюстрации некоторых вопросов и проблем (в каждом
случае отдельных), которые возникают вокруг них.
Религиозная идентичность уже затрагивалась и будет затраги¬
ваться в нескольких главах. Говорят, что Россия христианская стра¬
на, православная земля. За обобщением могут скрываться в высшей
степени несовпадающие мнения: с предположения того, что русская
культура родилась в христианском контексте, из мрака которого она,
к счастью, выбралась только благодаря Просвещению, до идеи, что
«истинный» русский должен быть верующим, практикующим право¬
славие. В главе 6 рассматриваются отношения между христианской
идентичностью и господствующей культурой со времен Средневеко¬
вья до наших дней, а затем более подробно разбирается отдельный
вопрос: о конфликтах и примирениях между, с одной стороны, чув¬
ством религиозной идентичности — или, по крайней мере, восприя¬
тию религиозных эмблем как знаков национальной идентичности —
и, с другой, преимущественно «светскими» формами современной
культуры.
Музыка входит в дискурс о национальной идентичности в двух
видах. С одной стороны, музыкальные произведения могут созда¬
ваться специально в качестве эмблем идентичности. С другой сто¬
роны, музыка может рассматриваться как врожденное, спонтанное
110
выражение типичных для нации качеств. В главе 7 трактуются оба
аспекта темы: официальные звуки национальной идентичности, опо¬
средованные в композиции и подаче национальных гимнов, и роман¬
тическая идея, что русская народная музыка — это выражение духа
или души России. Главная цель этой главы — выявить и удалить на¬
слоения идеализации, показать, как было выборочно истолковано
«русское» звучание музыки и почему это не источник, а продукт дис¬
курсов о национальной идентичности.
Одним из этнокультурных определений русского может быть
лингвистическое: русские это люди, чей родной язык русский. Од¬
нако статус русского языка изменялся даже среди пользующихся им
и ни в коем случае не был главным маркером сообщества и его оцен¬
ки. Почти три четверти тысячелетия, до XVIII в., избранным язы¬
ком культуры был церковно-славянский и еще в первой половине
XIX в. вежливым языком светского общества был французский.
Вместе с романтизмом, однако, пришло представление, что характер
самого языка воплощает в себе характер его пользователей, — что
русскость формируется и кодируется в грамматике и/или в лексике
русского языка. Представление о языке как об отражении — или фак¬
торе создания — национальной идентичности остается весьма попу¬
лярным и в наши дни. Некоторыми тонкостями вопроса открывается
глава 8: хотя лингвистические формы не имеют врожденной природы
(отсюда чисто романтическая идея иллюзорна), они могут приобре¬
тать функциональное значение благодаря культурным и контексту¬
альным ассоциациям (отсюда представление, что они являются но¬
сителями определенного «характера»).
В Советском Союзе мало кто из русских не знал официально
принятого и пропагандируемого афоризма: «Бытие определяет со¬
знание». Это, конечно, полностью антисущностное утверждение:
идентичность не может быть врожденной, ее выковывает сама жизнь:
измени условия, и ты изменишь человека, условия жизни должны
быть самым важным фактором для определения или объяснения
идентичности. С одной стороны, этот лозунг был вызовом распро¬
страненному сущностному подходу к вопросу о русском характере:
идее, например, что русские необычайно стойко — даже безразлич¬
но — переносят трудности повседневной жизни. И, с другой стороны,
в нем заключалось оправдание социальной политике, имевшей целью
изменить условия жизни и тем самым создать новое и запрограмми¬
рованное сознание, советскую идентичность. Ни в том, ни в другом
случае, как показывает глава 9, уравнение не получалось таким про¬
стым, как того могли желать его поборники.
Глава 6
ИДЕНТИЧНОСТЬ И РЕЛИГИЯ
Саймон Франклин
«Россия немыслима без православия.
От Византии вознесся дух русский. Кон¬
стантинополь — царственный град... отдал
Москве честь столицы православного цар¬
ства... нам было завещано беречь это цар¬
ство как Божий дар, как преграду на пути
распространения зла во Вселенной».
Архиепископ Ювеналий
Курский и Рыльский1
Эта глава не о природе русской веры или русской духовности, или
«русской душе», ни даже о месте религии в русской культуре. Цель
намного уже. Нас интересует не вера, а идентичность (это скорее ве¬
рования или, по крайней мере, заявления о верованиях). Тема данной
главы даже не «подлинная» роль религии в русской национальной
идентичности, а просто те роли, которые ей приписывались, ее об¬
разы, будь они явные в идеологии, мышлении или пропаганде, или
подспудные в других формах культурной продукции. Мы начинаем с
широкого обзора периода, охватывающего тысячелетие, чтобы затем
более подробно остановиться на некоторых показательных примерах
того, как этот вопрос отражался в конкретных памятниках культуры.
1. Обзор:верования о верованиях
К концу X в., условно в 988 г., киевский князь Владимир Свято¬
славич «официально» обратил в христианство свой народ, русов
(«Русия» или «Руссия» первоначально была латинским словом,
которым обозначали Землю «русов», Русскую Землю). Несколько
предыдущих лет Владимир искал пути консолидировать и легити¬
мизировать свою власть над большой и в культурном отношении
пестрой территорией. Одна из его задач заключалась в религиозной
интеграции, нужно было заменить многочисленные местные языче¬
ские культы одним центром духовного авторитета, тесно ассоции¬
руемого с ним самим. В конце концов князь остановился на христи¬
анстве, в частности на византийском, или восточном, находившемся
под юрисдикцией константинопольского патриарха. Владимир за¬
1 Архиепископ Курский и Рыльский Ювеналий // Наш современник.
1996. № 1.С. 145.
112
нимался строительством государства, и христианство могло помочь
ему одновременно создать представление о нации. С позиций XXI в.
сама идея «официального» обращения целого народа представляется
весьма странной. А как насчет личного сознания и совести? Как мож¬
но официально сделать людей верующими? Или посчитать их таки¬
ми? Или убедить их согласиться с таким приказом? Наверняка речь
шла об обращении Владимира, а остальное было только принятие
желаемого за действительное? Оказывается, что не так. Были и до
Владимира случаи индивидуального обращения, христианкой стала
княгиня Ольга, бабушка Владимира, но это не повлияло на идентич¬
ность народа (по словам летописца, сын Ольги Святослав отказался
креститься, потому что не хотел, чтобы над ним смеялись его воины)2.
Выбор Владимира касался всех, хотели они того или нет. Все источ¬
ники в один голос утверждают, что «официальное» обращение про¬
ходило частично насильственно, как массовое крещение. Для того
чтобы сделаться христианином, нужно было креститься. Некоторые
приходили к вере по своему разумению, но если этого не происходи¬
ло, тогда такую же законную силу имело насильственное крещение
во славу Божию. Крещение определяло статус и идентичность, вера
могла прийти позже, как любовь в браке по расчету.
Христианство пришло во всеоружии, с полным набором необхо¬
димых инструментов. Говорили, что на посланников Владимира осо¬
бое впечатление произвели церковные ритуалы (попав в Софийский
собор в Константинополе, они «не могли понять, на земле они или
на небе»). У христианства за спиной был богатейший организацион¬
ный опыт и обученный персонал. Оно принесло с собой технологии
и умение трансформировать публичное пространство величествен¬
ными каменными храмами среди деревянных жилых домов; транс¬
формировать визуальное пространство религиозными образами;
трансформировать вербальное пространство применением своего ис¬
кусства письменности (информационной технологии, едва знакомой
на Руси), чтобы распространять свои тексты. Получив такую возмож¬
ность, оно стремилось также выйти за пределы церкви, за пределы
публичных дел, войти в дома и повседневную жизнь — регулировать
пищу и одежду, секс и брак, соблюдение правил от рождения до похо¬
рон. Церковь дала посредников (святых), которых можно было при¬
звать на помощь для исцеления больных, наказания виновных, на¬
несения поражения врагу. Крещение также меняло правовой статус
человека, потому что христиане и нехристиане получали разные пра¬
ва, привилегии и защиту. Конечно, одной из главных задач священ¬
нослужителей было также учить вере, но внутренний мир невидим
2 Библиотека литературы Древней Руси (БЛДР). СПб., 1997. Т. 1. С. 112.
113
и непознаваем, а обряды вполне реальны. Владимир и его преемни¬
ки, — ибо крещение было только началом, — принесли христианство
как «пакетное соглашение». От публичной площади до спальни, от
монастыря до поля боя, от кухни до кладбища церковь распространя¬
ла напоминания о себе по всему знакомому окружению, проникая и в
частную жизнь. Одна из ее функций в государстве — выполнять роль
инструмента культурной интеграции и социального единения, силы
и необходимого компонента национальной идентичности (наряду с
светскими властями, чью власть она помогала делать легитимной).
Христианство на Руси распространялось сверху вниз, оно было
публичной идентичностью прежде, чем стало широко ассимили¬
ровано как частная идентичность; общественное предшествовало
личному. Национальное измерение русского христианства, вырази¬
вшееся в «официальном» обращении, хорошо понималось первыми
идеологами. В сущности, это и составляет главный предмет некото¬
рых из самых древних местных произведений. Вполне допустимо,
что обращение было связано с политическими расчетами, личными
убеждениями, эстетическими наклонностями или коммерческими
соображениями, но помимо всего этого оно и давало обоснование
национальной идентичности. Благодаря обращению Русская Земля
нашла себе место во вселенской схеме, в Божественном провидении.
Благодаря обращению и будучи принята в лоно церкви, или став, так
сказать, членом «клуба», Русская Земля обрела свою истинную и
предназначенную ей идентичность. Быть — значит быть частью цело¬
го. «Как слепы были мы, — заявил киевский митрополит Иларион в
середине XI в., говоря о крещении, — претыкались мы на путях по¬
гибели, пребывали мы в подобии зверином и скотском» до того как
«вера христианская распростерлась по всей земле и достигла нашего
народа русского»3. Или, как объясняет составитель «Повести вре¬
менных лет», крещение показало, что Христос любит «новых людей,
Русскую Землю»4.
Что бы они ни говорили, но христианизация была процессом, а не
событием. Это был процесс, созревание которого заняло долгое время,
поскольку примерно в течение семи веков после Владимира церковь
обладала фактической монополией на публичное культурное про¬
странство. Четкие идеологические заявления уверяли религиозные
и политические элиты в значимости их собственных достижений, но
доходили они, вероятно, лишь до очень ограниченной аудитории. Бо¬
лее убедительные заявления о новой идентичности проявлялись в яв¬
3 БЛДР. 1. С. 40, 38; Simon Franklin. Sermons and Rhetoric of Kievan Rus\
Cambridge, Mass., 1991. P. 15, 14.
4 БЛДР. l.C. 162.
114
ных трансформациях знакомого окружения, сначала в городах, затем
медленно просачиваясь в деревню. Проследить в подробностях рас¬
пространение христианства по всем обширным территориям земель
Руси трудно, но, возможно, показательно то, что к началу XV столетия
христианская идентичность была заложена в язык самоопределения.
На изучающих современный русский язык производит впечатление
любопытная схожесть между словами «крестьянин» и «христиа¬
нин». Это не простое совпадение, ибо по происхождению оба слова
одно и то же: не два разных слова, а вариации одного и того же слова.
С пятнадцатого века мы начинаем находить документы, начинающи¬
еся словами: «Прошение господину X от крестьян/христиан деревни
Y...», причем вариантные формы употребляются взаимозаменяемо5.
В документах, написанных самими крестьянами или для крестьян,
«христианин» в данном контексте просто означал «крестьянин».
Часто достаточно было ярлыка «христианский». Это определяло
сообщество, которое и в географическом и в социальном отношении
находилось в поле возможного зрения большинства людей. Такое
определение подтверждало общую сущностную идентичность, ка¬
кими бы ни были различия в реальных верованиях или местных ри¬
туалах. И он подтверждал общую контрастную идентичность, будь
то в богословском контексте, против евреев библейского прошлого
(«и вот уже со всеми христианами и мы славим Святую троицу, а
Иудея молчит»)6 или против соседних степных язычников («по¬
ловцы держатся закона отцов: кровь проливают... едят мертвечину
и всякую нечистоту... Мы же, христиане всех стран... имеем единый
закон»)7. Это утверждение всеобъемлюще: «христиане всех стран».
Всеобъемлющее христианство не знает наций, оно многонациональ¬
но, где часть национальной идентичности — это широкое единение с
другими. Между собой, однако, «христиане всех стран» были далеко
не едины. Всеобъемлющее христианство сосуществовало с его исклю¬
чительными видами и часто оказывалось у них в тени. Во время офи¬
циального обращения Руси, в принципе, все еще существовала единая
вселенская церковь. Но по местной традиции и культуре, а также по
языку и по частностям богослужения римская (западная, латинская)
и константинопольская (восточная, византийская, греческая) ветви
уже разделились. Для Владимира выбор веры не был просто выбором
между христианством и другими религиями, а между христианством
5 Самым ранним примером является новгородская берестяная грамота
№ 94, об этом и др. грамотах см.: Зализняк А. А. Древненовгородский диа¬
лект. М., 1995. С. 626, 678.
6 БЛДР. 1. С. 38; Franklin. Sermons and Rhetoric. P. 14.
7 БЛДР. 1.C.72.
115
«латинян» и христианством «греков». Он выбрал «греков». В 1054 г.
патриарх (т. е. папа) римский и патриарх константинопольский от¬
лучили друг друга от церкви, и раскол так и оставался неразрешен¬
ным почти тысячу лет. В христианском мире поэтому определяющей
контрастной идентичностью было «грек» или «православный» в
противовес «латинскому». В священной истории Греческая империя
«Нового Рима» (Константинополя) унаследовала Латинскую импе¬
рию «Старого Рима», как после захвата Константинополя турками в
1453 г. ее саму унаследовала Москва («Третий Рим»). «Греческое» на¬
следие дало обоснование возвышению нации.
«Греческая» окраска древнерусского христианства была букваль¬
но «встроена» в здания, которые были спроектированы и возведены
с константинопольской помощью и сознательно копировали «гре¬
ческую» столицу. На мозаиках и фресках даже имелись надписи на
греческом языке. Константинополь был моделью, прототипом, ис¬
точником влияния на стиль и содержание. Визуальные христианские
атрибуты — церкви, серебряная церковная утварь, кресты, ткани,
переплеты книг, и, наверное, самое важное, иконы — все это пришло
из «греческой» традиции. В словесной культуре на протяжении семи
веков почти 90 % всех местных рукописных книг были переводами
с греческого или адаптациями и подражаниями. Эта эксклюзивная
(исключающая) версия христианской идентичности не только под¬
разумевалась, но также открыто излагалась с самого начала в идео¬
логических текстах, в летописных рассказах об обращении («не при¬
нимай же учения от латинян»)8 или в полемических антилатинских
трактатах ведущих представителей духовенства9. Ее нарративное
отражение можно увидеть, например, в «Житии» князя Алексан¬
дра Ярославича (середина XIII в.), известного также как Александр
Невский. Будучи еще князем Новгорода (позже он стал великим кня¬
зем Владимирским), Александр отразил нападения шведов и тевтон¬
ских рыцарей. Узнавший о доблести Александра папа римский послал
к нему пару кардиналов наставить его в истинной вере. Александр не
стал их слушать, сказав, что хорошо знает все от Адама до потопа, до
первого Вселенского собора и до Седьмого, «и от вас учения не при¬
мем»10. Так прославленный Александр, причисленный потом к лику
святых, отверг «латинян» и на поле боя, и в соперничестве христиан¬
ских идентичностей.
8 Там же. С. 158.
9 См.: Sophia Senyk. A History of the Church in Ukraine, to the End of the
Thirteenth Century. Roma, 1993. Vol. 1. P. 316, 318.
10 БЛДР. IV. C. 366, 368.
116
От всеобщего христианства к греческому христианству и к само¬
му узкому из существующих вариантов: славянскому христианству.
«Греки» все-таки говорили, писали и молились по-гречески, а древ¬
нерусский христианин (по уже установившейся в Болгарии тради¬
ции) говорил, писал и молился по-славянски. Церковная форма
славянского, «церковно-славянский», была разработана специально
для перевода христианских текстов с греческого. У Руси не было соб¬
ственной античности, которая могла бы подсказать альтернативные
модели культурной идентичности — ни разбросанных по пейзажу
древних развалин, ни классического образования, открывающего
прямой доступ к древнегреческой и древнеримской литературе или
философии. Церковь на Руси была и источником, и носителем об¬
разования. Христианская идентичность, византийский авторитет и
некая местная обособленность закладывались в самом языке11.
И так оставалось почти до конца XVII столетия. Более или менее.
Возможно более, чем менее. Конечно, культура меняется. Но здесь
имеет значение восприятие. Древнерусская культура не предполага¬
ла изменений, ее достоинством, ее гордостью и в важнейших сферах
даже теологическим императивом была неизменяемость. Культур¬
ные формы не рассматривались как продукты эстетической причуды,
или же как носители художественного самовыражения, еще меньше
новаторства. Православное «искусство», в сущности, совершенно не
было «искусством» в современном понимании этого слова. Физи¬
ческая церковь и образы в ней были средствами проявления боже¬
ственного в материальном. Образы — по-гречески eikones, отсюда
«икона» — принималась только, если были истинными, иначе почи¬
тание их было идолопоклонничеством. Большая часть главных типов
икон в теории восходили к описаниям очевидцев или к подлинным
видениям. Работа художника, производителя образа, состояла в вос¬
создании, а не в придумывании. Одно из следствий такого обострен¬
ного чувства жанра иконы заключается в том, что культурная иден¬
тичность становится очень сильно ассоциированной с определенной
культурной формой. Сохранение формы могло восприниматься как
один из существенных, отличительных признаков религиозной —
поэтому в данном контексте и национальной — идентичности. За¬
консервированная форма — не только схожесть с прототипом, но еще
и символ — своего рода самовыражение культурного сообщества, в
котором ее почитают.
Подведем итог сказанному. В Древней Руси приблизительно с
конца X в. вплоть до XVII вопрос о религии и национальной иден¬
11 О церковно-славянском языке и некоторых связанных с ним пробле¬
мах см. главу 8.
117
тичности, хотя к нему можно подходить и с сугубо теологических аб¬
страктных позиций, в своей сути очень прост. И вообще в этом нет
никакого вопроса. Христианство было введено отчасти как средство
ускорения и облегчения процесса формирования нации и государ¬
ства, чтобы придумать, выразить и обеспечить духовный фокус для
национальной идентичности. Предполагалось, что церковь станет —
и она стала — культурным органом государства. Она обладала абсо¬
лютной монополией на публичные культурные формы и выражения
во всех пространствах, которые мы теперь называем национальными.
И форма, и выражение были сутью. Христианский — православный —
элемент был просто задан, это был факт культурного окружения, яв¬
ный и подразумеваемый в самих формах, а не вопрос, не выбор, не
предмет обсуждения.
Крушение этого здания предположений, когда оно наконец прои¬
зошло, было быстрым, по крайней мере среди элиты. Пропасть между
двумя мирами можно оценить, если рассмотреть два типа реформ:
один — середины XVII в., второй — пятьюдесятью годами позже, на¬
чала XVIII в. В середине XVII в. патриарх Никон при поддержке царя
Алексея Михайловича (1645-1676) провел ряд практических ре¬
форм, нацеленных на очищение веры от привнесенных отступлений
и восстановление ее в изначальной чистоте. Реформы могут сегодня
показаться тривиальными: орфографические и фразеологические
детали, способ складывать пальцы, крестясь. В результате в церкви
произошел глубокий раскол между официальным православием и
«старообрядцами»12. Хотя методы и инструменты, к которым прибе¬
гали реформаторы, были в какой-то степени новыми, критическими,
вся полемика была еще пронизана духом воинствующего средневе¬
ковья: ни одна сторона не стояла за инновации и каждая доказывала,
что она консервативнее противной стороны. Где же были настоящие
традиции? В сохранении знакомой практики, доставшейся от отцов,
или в попытке восстановить и запустить незнакомые практики, давно
забытые и потерянные еще во времена их пра-пра-прадедов? Раскол
породил соперничающие версии о подлинной христианской «русско¬
сти», и каждая сторона старалась доказать, что за ней наиболее древ¬
нее начало. Раскол не ставил под сомнение существующую иденти¬
фикацию национальной культуры с культурой религиозной.
Более радикальные изменения пришли с культурными реформа¬
ми, связанными с Петром Великим. Петр положил конец церковному
господству в формах и содержании элитарной культуры. Писатели,
художники, печатники и строители теперь поощрялись, вернее, им
было приказано прикладывать свои таланты к светским проектам.
12 Дополнительные примеры реформ см. ниже главу 8.
118
Византийские образцы перестали быть эталонами, их место заня¬
ли западноевропейские. Активный интерес к западноевропейским
культурным моделям стал проявляться уже в последние десятилетия
предшествующего века — в изучении латыни и греческого и экспери¬
ментировании в литературных формах, в живописи, имитировавшей
западные гравюры, или в одном из вариантов барочной архитектуры
для гражданских зданий. Новая петровская столица, Санкт-Петер¬
бург, подняла инновации на новый уровень. Основание Санкт-
Петербурга означало не только стратегический разрыв с Москвой,
«окно в Европу» с прямым выходом к морю. Это было яркой куль¬
турной декларацией, продуманной сценой западного стиля для пе¬
тровской новой имперской драмы: величественные здания западного
образца, великолепные европейские парки и сады, а на этой сцене
актеры в европейской одежде, расставшиеся со своими русского об¬
разца бородами. Даже главный храм города — собор Петра и Павла
в одноименной крепости — был со своим шпилем вместо купола-
луковицы очевидным напоминанием о западном стиле. Санкт-
Петербург не был всей Россией, но был невероятно мощной декла¬
рацией о намерениях, и в конечном счете последствия петровских
культурных установлений были, возможно, столь же глубокими, как и
его дальнего киевского предшественника Владимира Святославича13.
Для многих такое сравнение покажется абсолютным контрастом:
Владимир христианизировал, Петр секуляризировал. Но было бы
неверно представлять петровские реформы секуляризацией. Петр
был православным христианином (или видел себя таковым) и не со¬
мневался, что православие — необходимый компонент русской на¬
циональной идентичности. Иностранцы могли жить и работать в его
империи и отправлять свои культы, или же могли перейти в право¬
славие и тем самым стать царскими подданными. Обращение непра¬
вославных народов империи (в известном смысле продолжение дела
Владимира) было частью его внутренней политики: свобода совести
или свобода вероисповедания (или свобода от вероисповедания) на
повестке дня не стояла, как не стояла на повестке дня ни у кого из
его преемников, все они считали свое собственное и своих подданных
православие данным или, во всяком случае, смотрели на правосла¬
вие как на необходимый компонент русскогога на обращение как на
часть процесса русификации. Любой, решившийся утверждать, что
бывшая германская принцесса Софи Ангальт-Цербстская не русская,
не православная и не защитница православия, встретил бы ледяное
непонимание после ее превращения в Екатерину Алексеевну, импе¬
ратрицу Екатерину II, иначе Екатерину Великую (1762-1796). При
13 См. главу 10.
119
внуке Екатерины Николае I (1825-1855) официальной доктриной
национальной идентичности были провозглашены «самодержавие,
православие, народность»14.
Петр и его преемники, таким образом, не имели намерений се¬
куляризировать русскую национальную идентичность — ни Петр с
его пристрастием к западной технике, ни Екатерина с ее страстью к
культуре Просвещения. Но очень легко получить впечатление, что
именно так и происходило, и связано это с тем, что церковь утратила
господствующее положение в области публичной престижной куль¬
туры, пространство церковной культуры ограничилось церковью.
Петр не секуляризировал Россию, но за пределами церкви легитими¬
зировал светскую культуру, создал для нее пространство и всячески
ее поощрял. Высокая культурная форма больше не ассоциировалась
автоматически с религиозным содержанием или идентичностью.
Старые формы высокой культуры импортировались и развивались
на основе христианства. Сами формы были эмблемами этого христи¬
анства, истинной схожестью — иконами — авторитетных православ¬
ных прообразов. Новые — тоже импортированные — формы высокой
культуры таких ассоциаций не вызывали. Они символизировали за¬
падноевропейскую светскую культуру, являлись истинной схожестью
авторитетных прообразов, которые не имели ничего общего ни с пра¬
вославием, ни с какой-нибудь унаследованной моделью «русскости».
Не устояла и сама религиозная культура, в которой была подорвана
традиционная иконность. Увенчанный шпилем собор в Петропав¬
ловской крепости не подбросил искры новой традиции, но церкви с
неоклассическими куполами, а не луковками стали довольно обыч¬
ным элементом пейзажа, а религиозная живопись, полностью копи¬
рующая западные модели даже заняла нишу рядом с традиционной
православной.
Резко порвалась автоматическая связь между культурной формой
и выражением религиозной идентичности. В постпетровской высо¬
кой культуре религиозная или православная идентичность больше
не была имманентной в форме или господствующей в функции. Ре¬
лигия перестала быть главным, перестала быть обязательной частью
смысла и цели культурного производства. Она превратилась просто в
одну из возможных тематических элементов. Для некоторых она, ко¬
нечно, оставалась исключительно важной темой и не только для ца¬
рей, их представителей или для ярых интеллигентов-славянофилов,
которые склонны были видеть в допетровской России «истинную»
Россию15. В данном контексте нам не приходится сомневаться в том,
14 См. главы 4 и 7.
15 См. главу 4.
120
что значительное число русских назвали бы себя православными.
Проблемой теперь была не вера в идентификацию, а культурное вы¬
ражение. Если принять формулу конца XX в., средство больше не
было содержанием. В постпетровской культуре образовался разрыв
между явными идеологическими или философскими формулиров¬
ками относительно места религии в русской национальной идентич¬
ности, с одной стороны, и подспудными, имплицитными выражения¬
ми темы в «творческих» ветвях культуры, с другой.
На самом общем уровне мы можем проследить это, даже бросив
самый беглый взгляд, например, на литературу XIX в. Некоторые пи¬
сатели, что, наверное, неудивительно, держались либо нейтральной
либо враждебной позиции в отношении представлений о религиоз¬
ном компоненте в национальной идентичности; у других литератур¬
ные интересы просто лежали в иных областях. Однако любопытно,
как внутренние переживания, иногда разрушительные, иногда по¬
разительно созидательные, воздействовали на писателей, глубоко
задумывавшихся над значением религии в личной и национальной
жизни. В центре проблемы лежал вопрос, как примирить или гармо¬
низировать два потенциально разных типа верности — художествен¬
ному средству и личным убеждениям.
Николай Гоголь (1809-1852) не только твердо верил в искупление
России через православие, но и хотел на примере показать, как это
может быть, в задуманном им трехтомном романе (поэме) «Мертвые
души». Опубликован был только один том, и на его основании многие
читатели сделали совершенно противоположный вывод: из сказанно¬
го Гоголем вытекали и им подразумевались политически и социально
радикальные мысли. После этого Гоголь написал ряд полемических
эссе («Избранные места из переписки с друзьями»), желая исправить
произведенное впечатление, но десять лет безуспешно трудился,
чтобы воплотить свой замысел в литературной форме. Гоголевская
«Русь» (в «Мертвых душах» он пользовался старым обозначением),
конечно, православная на уровне утверждения и предположения, но
даже по признанию автора изображать православность Руси ему не
удалось. У Льва Толстого (1828-1910) получилось создать в своих
крестьянских персонажах образы некоей идеальной религиозности и
тем самым навести на мысль о чистой христианской духовности с глу¬
бокими корнями в России, но в его произведениях это скорее признак
социального положения, чем национальной идентичности (крестья¬
не и дети обладают неиспорченным духовным сознанием, другие, в
общем, им не обладают). Кроме того, религиозность Толстого отлича¬
лась идеосинкретикой, его отлучили от православной церкви, и «тол¬
121
стовские» общины, возникшие под влиянием его учения, не имели
обязательного отношения ни к православию, ни к национальности.
Гоголь и Толстой были писателями совершенно разного характе¬
ра и стиля, тем не менее оба переживали разочарование в неспособно¬
сти форм их «светской» прозы передать желаемый ими религиозный
образ. Гоголь умер в мучительных переживаниях, Толстой оставил
форму и практически вернулся к досовременным жанрам (его по¬
следние рассказы напоминали расширенные притчи), не затронутым
множественными двусмысленностями «реалистического» стиля. Фе¬
дор Достоевский (1821-1881), совершенно напротив, с готовностью
воспринял такие двусмысленности. Некоторым образом он разделял
свойственное Гоголю разочарование, жаждал какой-то внутренней
и внешней гармонии, заложенной в вере. Но это не было разочаро¬
ванием в форме. Наоборот, немногие писатели столь безжалост¬
но развивали способность романа стремиться к открытости, отказу
от категоричности, выражению множественности противоречивых
перспектив, к «полифонии», применяя общепринятый термин из¬
вестного литературоведа Михаила Бахтина. Его православные герои
и герои-славянофилы не имеют исключительного доступа к одно¬
значному выражению истины, и не может быть и речи о сведении его
сложных романов к простому уравнению: православное — русское и
неправославное — нерусское.
Эти краткие обобщения, конечно, совершенно недостаточны для
характеристики произведений таких разных и тонких писателей, и
мы вернемся еще к литературе, чтобы дать более взвешенный ана¬
лиз. Однако стоит напомнить, что тема этого обзора не «религиоз¬
ные взгляды русских писателей», не «влияние религии на русскую
литературу (и искусство и т. д.)», а много уже, — трактовка религии в
отношении национальной идентичности.
Советский период (1917-1991) можно было бы считать логиче¬
ским продолжением петровской революции. Напряженность между
культурной формой и «официальной» идентичностью разрешилась,
потому что сама официальная идентичность наконец была секуляри¬
зирована. Таким образом теперь и речи быть не могло о самоиденти¬
фикации через религию; напротив, исторической судьбой и долгом
русского народа было сбросить с себя все остатки религии и двигать¬
ся к высшей истине. Это была эпоха, когда «научный атеизм» сде¬
лался обязательной частью учебных программ. Церкви, если не были
разрушены, могли быть превращены в музеи атеизма. Там, где они
сохранились, а золотые купола кремлевских церквей продолжали
сверкать рядом с красными звездами на его башнях — их статус стал
обозначаться как «архитектурные памятники», а не места отправле¬
ния культа, памятники наследия, отрезанные от настоящего. Однако,
122
хотя такое обобщение может быть в целом правильным, советская
культура также не лишена двусмысленности и при подходящих усло¬
виях ставила себе на службу старые религиозные и квазирелигиоз-
ные ассоциации форм и образов, если это служило существующим
целям: в особенности, если нужно было поднять патриотический дух.
Сам советский национальный гимн (принят в 1944 г.)16 прослав¬
лял роль не «России», а «Великой Руси», в чьем старинном благо¬
звучии слышится эхо допетровских времен: тут и князья в бобровых
шапках, и купола-луковицы, и монастыри за каменными стенами, и
торжественный церковно-славянский язык, а не современный марш
идеологического и технического прогресса. Вторая мировая война
(она же и Великая Отечественная война) особенно наглядно пока¬
зывает нам конкретный пример в этом отношении. Любые средства
были хороши, включая обращение к прошлым героическим сражени¬
ям против вторжения неверных, будь то наполеоновские французы,
татаро-монгольские орды Батыя или те древние «латинские» враги,
тевтонские рыцари, которым дал отпор Александр Невский. Поэзия,
кино, живопись в таких обстоятельствах получали разрешение поль¬
зоваться накопленным арсеналом образов, применять всю глубину
исторической идентичности и даже своего рода заигрывание с рели¬
гиозной идентичностью, чему нормальная советская риторика долж¬
на была бы противостоять.
Постсоветская эпоха стала свидетелем необычайно быстрого и
уверенного возвращения церкви в публичное пространство — как
церкви, не как музея. Процесс начался, по-видимому, в середине
80-х годов, когда реформы «гласности» и «перестройки» совпали с
подготовкой к празднованию тысячелетия крещения Руси, назна¬
ченному на 1988 г. В 1983 г. впервые один из крупных московских
монастырей (Данилов монастырь) был возвращен церкви и к 1988 г.
реставрирован в качестве действующего монастыря и резиденции
Патриарха Московского и Всея Руси. За несколько последующих
лет этот значительный, но ограниченный жест толерантности поблек
перед феноменальными масштабами реставрации и перестройки
церквей по всей стране (от Красной площади до отдаленных дере¬
вень), перед «демузеизацией» и реконструкцией, открытием закры¬
тых монастырей, фактически обязательным присутствием старших
священнослужителей на главных государственных и общественных
Церемониях, введением религиозной риторики в публичный дискурс,
пропагандой «возвращения» к религиозным ценностям, законода¬
тельством, которое фактически отводило православной церкви место
выше других конфессий в Российской Федерации — короче говоря,
16 См. главу 7.
123
перед целым потоком событий, которые, что бы ни гласила Консти¬
туция, в итоге вернули представление о православии как «офици¬
альной» религии, «признанной» церкви, визуально, осязаемо и вос¬
принимаемо на слух показывая, что православие — естественный,
традиционный и (для некоторых) необходимый компонент идентич¬
ности нации и государства.
Такие явления легко наблюдаются, на них легко реагируют, но
интерпретировать их с достоверностью трудно. Типичные примеры
постсоветского использования религиозных эмблем более подробно
рассматриваются в других местах этой книги17. Некоторым, конеч¬
но, хотелось бы увидеть в этом явлении стремление русских снова
обрести свободу быть самими собой. Другие видят в этом явлении
эстетически вульгарное опошление прошлого, парк с аттракционами,
модный сегодня Диснейленд для реконструкции воображаемой иден¬
тичности. Есть и такие, кто воспринимает это явление более серьезно
и считает его политически зловещим, не просто восславлением на¬
ционального, а утверждением националистического: эта установка
маскируется под описание сущного, несмотря на то, что миллионы
считают себя русскими в культурном и этническом отношении, но
отнюдь не православными, или относят себя к русским политически
(т. е. являясь гражданами Российской Федерации), но принадлежат
к другим вероисповеданиям или вообще не являются верующими.
Встречаются также придерживающиеся более плюралистического
подхода: не случайно сегодня центр Москвы украшают два новых
памятника — восстановленный храм Христа Спасителя (XIX в.) и
почти такой же огромный и такой же спорный монумент Петру Ве¬
ликому. Высокая риторика о православной национальности, исходя¬
щая от определенной группы газет и журналов — только часть всего
спектра. Православие — это нить в полотне сложного процесса воз¬
рождения наследия.
Здесь в какой-то мере опять возникает вопрос, который мы за¬
трагивали по поводу обращения Руси тысячу лет назад: соотношение
внешнего с внутренним, знака с верой, идентичности с убеждениями.
После Второй мировой войны в восстановление роскошных царских
дворцов под Ленинградом, т.е. в восстановление бывшего (и, как ока¬
залось, будущего) Санкт-Петербурга, были щедро вложены огромные
средства. Это был официальный государственный проект, обеспечи¬
вавшийся принципиально антицаристским режимом. Восстановле¬
ние такого рода зданий можно рассматривать в разных аспектах: как
залечивание ран, нанесенных войной, как демонстрацию того, что
Германия потерпела крушение, как показатель заботы о культурном
17 См. главы 2 и 10.
124
наследии и эстетических ценностях, как утверждение местной гордо¬
сти, как выражение скрытой ностальгии или, возможно, надежды на
будущее. Единственно, чего мы никак не можем утверждать, так это
то, что реставрация царских дворцов и символов указывает на под¬
держку или веру в царизм. Так же обстоит дело и с постсоветскими
трансформациями архитектурной среды: реставрация явно отражает
широко распространенное чувство, что физические напоминания о
православии были и должны быть, так сказать, частью меблировки
(компонентами в высшей степени эклектического убранства жили¬
ща) и в таком разрезе они отражают чувство идентичности. Где тут
сама вера и какова она — другой вопрос.
Здесь не место судить и оценивать. В контексте этого краткого об¬
зора нужно однозначно констатировать, что каково бы ни было наше
отношение или личная точка зрения относительно «реальной» или
«истинной» сущности русского, — отношение религии к националь¬
ной идентичности снова ворвалось в повестку дня постсоветских лет
как вопрос культуры, как предмет изображения, обсуждения культур¬
ной формы, материальной, визуальной и вербальной среды России.
2. Примеры: идентичность и проблема формы
Наш первый пример почерпнут из литературы XIX в. Мы уже го¬
ворили, что тема православия и национальной идентичности больше
поддавалась идеологической, нежели художественной подаче, и даже
писатели, в принципе интересовавшиеся этой темой, затруднялись в
выборе средств для убедительного преподнесения ее в литературной
форме. Здесь мы познакомимся с исключением, которое видится в
успешном художественном воплощении предмета в творчестве писа¬
теля, который не получил широкой известности в англо-говорящем
мире в качестве одного из первостепенных классиков, но в России
всегда ценился и продолжает цениться высоко. Этот писатель Нико¬
лай Семенович Лесков (1831-1895), а произведение, о котором идет
речь, — повесть «Очарованный странник» (1873).
В 1860 г. Лесков приехал в Петербург с намерением стать профес¬
сиональным писателем. Особенных перспектив у него не было. Де¬
дом его был сельский священник, отцом провинциальный чиновник,
ему было тридцать лет, никакой литературной карьеры за спиной, вся
жизнь прошла в провинции. Он работал канцелярским служителем в
орловской уголовной палате, потом чиновником Киевской казенной
палаты и, наконец, агентом крупной англо-русской фирмы. Зато Ле¬
сков попал в столицу в удачный для него момент. В 1860 г. провин¬
ция была в моде. В воздухе витали ожидания, что вот-вот произойдет
освобождение крепостных (1861), всякий интеллигент и салонный
125
оратор считал себя экспертом по положению крестьянства. Николай
Лесков знал провинцию по собственному опыту и был буквально
нарасхват.
Мода помогла Лескову положить начало карьере, которая в даль¬
нейшем развивалась благодаря его таланту. Оказалось, что у него
совсем не такие взгляды, каких ожидали от него его первые друзья-
реформаторы. Но он умел писать рассказы по-настоящему увлека¬
тельные, занятные, живые, динамичные, шокирующие, трогательные,
леденящие кровь. Для придания речи придуманного им рассказчика
внутренней убедительности он пользовался характерным стилисти¬
ческим приемом сказа, отчего его произведения часто отличались
идиосинкретическим нестандартным русским языком. У других
писателей такая стилизация выглядела нарочито, походила на кари¬
катуру, попахивала сентиментальностью. У Лескова все ощущалось
искренне и натурально — придуманные им малообразованные рас¬
сказчики не отдалялись от образованного читателя, а сохраняли чув¬
ство собственного достоинства.
Лесков был писателем многогранным, но через многие его про¬
изведения неизменно проходит линия создания особого типа лите¬
ратурного героя — по-русски, праведника. Лесковские праведники
не обязательно люди, то и дело совершающие праведные поступки
(образцы дидактики и педантичности), но в них заложена устремлен¬
ность к тому, что правильно. Лесков не пытается скрыть или замаски¬
ровать обычные трудности и неудачи, маленькие комедии и трагедии
человеческой жизни — «факты», которые у других могут выглядеть
удручающими, — но человеческая и душевная целостность праведни¬
ков окружает все доброжелательной жизнеутверждающей аурой.
В короткой, но густо насыщенной действием повести «Очарован¬
ный странник» ее герой Иван Северьянович Флягин рассказывает
историю своей жизни к вящему удовольствию кучки спутников на
пароходике, плывущем по Ладожскому озеру на севере России. Иван
человек необычный. Его приключения — порой смешные, порой
страшные, по большей части любопытные, но всегда занимательные,
говорят о том, что он способен на величайшую стойкость и самопо¬
жертвование, готов взять на себя чужие проблемы, но вместе с тем он
в равной степени может быть жестоким, упрямым и импульсивным.
Он знает, что такое боль и причинял боль другим, не задумываясь,
спасал жизни и столь же просто лишал жизни людей, он пылко любил
и оставил множество жен и детей. И, конечно, фантастически пил.
В своих скитаниях он исходил всю Россию. Он вырос крепостным,
десять лет прожил в степях с татарами, которые ценили его за умение
лечить лошадей и зашили ему конский волос в подошвы, чтобы он не
сбежал. Он был солдатом, играл беса в религиозных представлениях,
126
пьяница-гипнотизер спас его от пьянства. Что бы с ним не случалось,
он ни на чем не зацикливался и ни о чем не сожалел.
«Очарованный странник» может доставлять наслаждение одной
только силой и выразительностью повествования, но при этом пред¬
ставляет собой замечательную и достаточно радикальную попытку
решить проблему литературного изображения национальной право¬
славной идентичности. Само имя Иван Северьянович (Иван, сын Се¬
вера) Флягин (бражник) представляет его как образцового русского
обывателя. Он физически крупный мужчина, наделен необыкновен¬
но ярко выраженными качествами, постоянно занят драматичными
похождениями и приключениями — совсем как эпический герой
русского фольклора, богатырь, а потому глубоко национальный по
определению. И его очарованное существование (он «очарованный
странник») уходит корнями в его православность. Еще мальчиком
он случайно убил монаха, который потом явился ему во сне и ска¬
зал, что его мать обещала его Богу, предсказав: «Будешь ты много раз
погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая по¬
гибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь
в чернецы»18. Отсюда столько приключений, которые определенно
убили бы обыкновенного человека. А он-таки стал монахом. Его не¬
обычайные истории предопределены рамками жанра, требовавшими
исполнения предсказания.
Для Флягина православие воспринимается не как набор бого¬
словских или этических учений, а непосредственно — временами не¬
вероятно прямолинейно — как сама идентичность. Для обустройства
жизни татары дали ему жен («Наташек»), которые нарожали ему
кучу детишек («Колек»). Скучает ли он о них, жалеет ли, что рас¬
стался с ними?
- А я их за своих детей не почитал.
- Как же не почитали за своих? почему же это так..?
- Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны?
- А чувсгва-то ваши родительские?
- Что же такое-с?19
Мы словно бы переносимся назад в мир летописца XI в., где кре¬
щение было решающим фактором идентичности. Как и свидетель¬
ство принадлежности к наглядно зримому православному, привычно
русскому пространству. Когда Флягин мысленно представляет себе
бескрайнюю равнину русских степей, в его воображении возникают
видения:
18 Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. М., 1957. Т. IV. С. 400.
19 Там же. С. 433 - 434.
127
«Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмет¬
ся обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и
заплачешь»20.
Потому-то православие и русская национальная идентичность
плотно вплетаются в материю лесковского повествования как его
неотъемлемые темы. Отличает лесковскую повесть то, как она тема¬
тически перерастает в миф. «Очарованный странник» резонирует на
многих уровнях. Его можно читать как плутовской роман, собрание
эпизодов приключенческой беллетристики в традиции Дон-Кихота.
Русского читателя он возвращает к гоголевским «Мертвым душам»,
где Россия предстает в серии встреч путешествующего по стране ге¬
роя. С другой стороны, Флягин — Иванушка-Дурачок, очарованный
простачок русского фольклора. На повесть можно, как мы говорили,
посмотреть и с той точки зрения, что это современная переработка
русского народного эпоса, воспевающего подвиги богатыря. Или же
мы можем уловить эхо совершенно иного типа прототипического ге¬
роя, взятого из глубин христианской традиции. Странник это не толь¬
ко путешественник но и паломник, а повесть это своего рода «путеше¬
ствие пилигрима», благочестивое странствие. Мы можем прочитать
ее и как «хождение по мукам», «схождение в ад». Или еще усмотреть
в повести родовые признаки агиографии, «жития святого», человека,
еще с рождения избранного Богом и идущего своим тернистым, но
освященным свыше путем в монастырь.
Такое множество жанровых ассоциаций могло бы у иных писате¬
лей лишь отвлекать от ясного восприятия замысла, вести к «поли¬
фонической» дестабилизации любой интерпретации. Другое дело
Лесков. У него это помогает усилить резонансы, сгустить мифиче¬
скую ауру Флягина, но при этом не отдаляя его, подчинив любому
какому-нибудь одному жанровому прототипу. Флягин слишком
монолитная в своей идентичности фигура, чтобы ему могли подры-
вательски угрожать литературные или моральные приемы. Абсолют¬
ный отказ признавать, что какое-нибудь противоречие, парадокс или
двусмысленность могут создать проблему, было воистину решитель¬
ным качеством Лескова — особенно если вспомнить особенности рус¬
ской литературной жизни середины XIX в. А если не видеть пробле¬
мы, то нет нужды и искать ей решение. В известном смысле Лесков
переворачивает ожидаемую реакцию с ног на голову. То, что у дру¬
гих его современников могло бы послужить причиной для метаний
и болезненных душевных и интеллектуальных терзаний, у Лескова
просто констатация факта. Флягин, по Лескову, до мозга костей рус¬
20 Там же. С. 434.
128
ский человек, одновременно и великолепен, и страшен, причем стра¬
шен не менее, чем великолепен. Его спутники, демонстрирующие
«нормальную» реакцию на него современников, постоянно приходят
в удивление от того, что Флягину, видимо, невдомек, что рассказы¬
ваемые им истории и возникающие в связи с ними у слушателей во¬
просы кажутся странными: о его немыслимой аморальности, жесто¬
кости и непробиваемости, о невероятной масштабности его характера
и приключений. Спутники Флягина — персонажи в мире современ¬
ного им романа, где существует моральная двойственность, и в этой
двойственности нужно разобраться, исследовав ее, но во Флягине
соединяются нравственная безмятежность эпоса и убежденность
агиографии. В «Очарованном страннике» не ставится никаких «во¬
просов». Флягин есть то, что есть Флягин, и никаким самокопанием
даже не пахнет. «Вопросы» растворяются в торжестве всепоглощаю¬
щей и утверждающейся идентичности.
В этом исключительно индивидуальном сплаве литературно¬
го и мифологического, современного, фольклорного и церковного
Лесков намного больше других приблизился к выходу за пределы
послепетровской дилеммы в литературе о религии и национальной
идентичности.
Наш второй «текст» — это фильм «Александр Невский», создан¬
ный Сергеем Эйзенштейном (1898-1948) в 1938 г. с музыкой Сер¬
гея Прокофьева (1891-1953). Мы уже отмечали один аспект первых
выражений религиозной идентичности в средневековом «Житии»
Александра Невского, и очень интересно наблюдать, как повествова¬
ние об Александре мигрирует через жанры и столетия, от агиографии
XIII в. до сталинского кинематографа.
На Русь надвигается угроза немецкого нашествия. Тевтонские
рыцари вместе с Ливонским орденом меченосцев захватили северо-
западный город Псков и подвергают побежденное население неслы¬
ханному насилию. Следующим будет Новгород. Новгородские купцы
и монахи предлагают вступить в переговоры, но народ полон реши¬
мости сражаться. Ему нужен вождь, и посылают за прославленным
князем Александром Ярославичем, прозванным «Невским» после
его победы над шведами на реке Нева в 1240 г. Александр не думает
о войне и о Новгороде, его находят далеко на востоке, на Плещееве
озере, где он сетями ловит рыбу. Но услышав о нависшей опасности,
он соглашается вернуться в Новгород и защитить Русь от захватчи¬
ков. 5 апреля 1942 г. Александр с новгородцами в сражении на льду
Чудского озера разгромил могущественных немцев. Александр осво¬
бождает и Псков, романтическая побочная сюжетная линия находит
разрешение, и плененные воины (только не их господа) великодуш¬
но отпускаются на волю с посланием ко всему миру: «Кто с мечом к
129
нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская
земля».
В 1939 г., когда Советский Союз и Германия подписали договор о
ненападении, фильм временно был изъят из проката, но после немец¬
кого нападения на Советский Союз в июне 1941 г. вышел на экраны,
чтобы сыграть важную роль в качестве вдохновляющей и пророче¬
ской притчи о героических подвигах и патриотизме. В среднесовет¬
ский период это было классическое — возможно, самое классиче¬
ское — обращение к русской национальной идентичности.
«Александр Невский» — фильм не религиозный. В сущности, в не¬
скольких аспектах его можно считать антирелигиозным. Александр
сражается за свой народ и его землю, не за Господа. Он светский воин,
не святой. По сравнению со средневековыми повестями, например,
молебна перед началом битвы не было и не было благодарственно¬
го молебна после победы, не было никаких чудес и божественного
вмешательства. Войска Александра идут в бой под геральдическими
знаменами, икон нет. Епископы или священники не благословляют
воинов, князь с ними не советуется, и монах Ананий на стороне тор¬
говцев, выступающих за примирение, а не за патриотическую войну.
Злодеи немцы, наоборот, просто источают религиозность. В центре
их лагеря стоит шатер епископа. Они отправляют латинский обряд
и поют псалмы. У них повсюду кресты: на одежде, на знаменах. «На
небе только один бог, — произносит их епископ, когда поджигают
костер, чтобы бросить в него детей псковитян (рис. 6.1), — у него
Рис. 6.1. Захват Пскова: из фильма «Александр Невский»,
режиссер Сергей Эйзенштейн, 1938
130
на земле один представитель. Одно солнце согревает мир и переда¬
ет свой свет другим планетам. На земле должен править один Рим».
Поэтому, подобно средневековому «Житию Александра Невского»,
фильм откровенно антилатинский, но, в отличие от средневекового
«Жития», открыто противопоставляет воинственный католицизм
героизму исключительно светскому, а не героизму, освященному и
вдохновляемому православной святостью.
На фоне этого общего контраста между преданными богу набож¬
ными немцами и мужественными русскими, преданными Руси, осо¬
бенно любопытно, если присмотреться внимательнее, то, что основан¬
ные на религии признаки русской национальной идентичности, тем
не менее, пронизывают эйзенштейновский фильм на всех уровнях.
Несомненно, в известной мере они просматриваются уже в вы¬
боре предмета, какова бы ни была его реализация: всего через двад¬
цать лет после большевистской революции 1917 г. далеко не все за¬
были, что Александр был очень почитаемым национальным святым
(Невский проспект, самая знаменитая улица Санкт-Петербурга ве¬
дет к Александро-Невской лавре, группе самых важных церковных
святынь). Они присутствуют в визуальном ряду в эпизодах, когда
произносятся патриотические речи и оратор выступает на фоне осле¬
пительно белых стен главных городских церквей, перед которыми со¬
бираются горожане в час великой опасности (рис. 6.2). Они присут¬
ствуют, хотя и неприметно, в ритуале: после своей пламенной речи
на площади в освобожденном Пскове Александр, предшествуемый
Рис. 6.2. В Новгороде узнали о вторжении рыцарей:
из фильма «Александр Невский»
131
священниками с хоругвями, входит в собор. Они присутствуют в зву¬
ке, когда, празднуя освобождение, ударили в церковные колокола.
В эйзенштейновском сценарии, хотя и не в самом фильме, они даже
присутствуют в жестах: изменник Твердило в немецком стане дваж¬
ды путается между православным способом осенения себя крестом
и латинским (это поразительная деталь, определенно придуманная,
чтобы показать смешение идентичностей)21. И религиозные ассоциа¬
ции то и дело приметно мелькают в самом языке: в самой последней
сцене, когда Александр торжественно подводит итог всему проис¬
шедшему, он предупреждает народ никогда не забывать: «Забудете,
вторыми Иудами станете — Иудами земли Русской». «Иудами земли
Русской»? Это что, оговорка, просто фигура речи? Или предатель¬
ство Руси приравнивается к предательству Христа?
И эти религиозные эмблемы религиозной идентичности в ритуа¬
ле, звуке, жесте, фразе появляются в критические моменты. В фильме
о героическом патриотизме, где религия по большей части заметный
и совершенно отрицательный атрибут злейших врагов русских, такое
множество аллюзий, пусть даже сдержанных, к русской религиозной
идентичности особенно примечательно. Это, естественно, никак не
означает, что фильм Эйзенштейна был попыткой поддержать или
распространить православную веру. Эмблемы представляют иден¬
тичность, не веру, или, возможно, они представляют веру в идентич¬
ность. Это не утверждение прирожденного православия и вовсе не
призыв к русским стать православными. Однако это демонстрация
того, насколько глубоко визуальные, осязаемые и слуховые символы
православия могут быть заложены в изображение истинно русского.
«Александр Невский» Эйзенштейна и «Очарованный странник»
Лескова представляют собой попытки создания национального мифа,
попытки с помощью разных художественных средств создать идеаль¬
ного и узнаваемого национального героя. Наш последний текст имеет
также целью произвести ауру авторитетности, но в данном случае не
прибегая к помощи эпических и агиографических архетипов, а оста¬
ваясь на прочной почве убедительного жанра справочной литерату¬
ры. Текст современный, постсоветский. Ни в коем случае его нельзя
считать представителем всех постсоветских попыток возродить ре¬
лигиозную или национальную идентичность22, но он находится в на¬
глядном й в известной степени дополнительном противопоставлении
с другимй рассматриваемыми здесь текстами.
21 Sergei Eisenstein. “Battleship Potemkin”, “October” and “Alexander
Nevsky” / ed. Jay Leyda; transl. Diana Matias. London, Lorrimer Publishing,
1974. P. 110, 132.
22 Другие примеры приводятся в разных разделах настоящей книги.
«Святая Русь: Энциклопедический словарь русской цивилиза¬
ции» под редакцией О. А. Платонова был издан в Москве и 2000 г.23
Название книги уже содержит несколько странное сочетание. Пред¬
ставление об «Энциклопедическом справочнике» подразумевает
ученость, рациональность, объективность, сухость, но «Святая Русь»
настраивает на более лиричный и предвзятый подход. Тем не менее,
названия бывают чисто маркетинговыми приемами и не должны да¬
вать установку на то или иное восприятие содержания. Формат книги
усиливает первое из создавшихся впечатлений, идею энциклопедиче¬
ского словаря как репозитария солидной, авторитетной, основанной
на фактах информации: спокойная темно-малиновая обложка, боль¬
шой формат, более тысячи страниц текста в две колонки, набранного
мелким шрифтом, около пяти тысяч статей (по грубому подсчету),
большинство из них авторские, с подписью, множество черно-белых
карт, планов и вкладок с иллюстрациями, восемнадцать страниц
библиографии «основной литературы и источников». Многие статьи
действительно посвящены религиозным темам, как и следовало ожи¬
дать от справочной работы по «русской цивилизации», но прослежи¬
ваемые жанры говорят о стандартной академической модели, обыч¬
ной фактографической нейтральности, и поэтому наводят на мысль о
том, что другая часть названия («Святая Русь») должна видеться как
бы в кавычках.
Начинаем просматривать наугад. Раскрываем том на первых стра¬
ницах буквы «С». Наше первое впечатление радует нас рядом корот¬
ких деловых заметок: Семенов (город в Нижегородской области);
Семенов, Николай Николаевич (физик); Семенов-Тяньшанский,
Петр Петрович (географ XIX в.); семик (в православном календаре
седьмой вторник после Пасхи); Семипалатинск (город в Сибири);
Семиреченское казачье войско; Сенгилей (город на Средней Волге);
Сенин, Алексей Алексеевич (журналист, г. р. 1945). Эта последняя
заметка задерживает внимание: с какой стати тут вставлен живой
журналист? Чем он особенным отличился? «С 1991 года главный ре¬
дактор патриотической газеты “Русский вестник”, отстаивающей на¬
циональные интересы русского народа, противостоящего иудейско-
масонской идеологии Запада»24.
Непосвященному читателю понадобится два-три раза перечитать
эту заметку, чтобы уяснить, что же в ней на самом деле написано. Как
бы он ни относился к идеологии заметки, больше всего производит
впечатление явное несоответствие последней фразы с заявленным
23 «Святая Русь»: Энциклопедический словарь русской цивилизации /
Ред. О. А. Платонов. М., 2000.
24 Там же. С. 790-791.
133
жанровым окружением. Сложившееся поначалу впечатление о книге
рассыпается. По-видимому, та часть названия, которая читается, как
«Святая Русь», в общем, вовсе не подразумевает кавычек. Или, воз¬
можно, статья «Сенин» только обособленная аномалия, обманувшая
бдительность редактора? Нет. Любое сомнение развеивается доста¬
точно объемной статьей на само выражение «Святая Русь» («Святая
Русь»у статья, следующая после статьи «Своз»} средневековая про¬
цедура поиска бежавших крестьян). Святая Русь определяется, как
«особое, благодатное свойство русского народа, сделавшее его опло¬
том христианской веры во всем мире»25. Или «Православие» (через
одну страницу от «Поярков, Василий Данилович», русский в Сибири
XVII в.): «Христианское вероучение, сохранившее в неизменной чи¬
стоте заветы Христа и апостолов... В отличие от католицизма, омерт¬
вившего христианство и превратившего его в декоративную ширму
для греха и порока... с момента отделения западной церкви от Право¬
славия главным его хранителем становится Россия, Русская Право¬
славная Церковь»26.
Таким образом, «энциклопедический словарь» оказывается при¬
крытием (во всех смыслах) для узнаваемых высказываний тех, кто
в постсоветские годы вполне успешно присвоил себе использование
слова «патриотизм». Речь у нас идет не о том, насколько типичны эти
утверждения для постсоветского выражения русской религиозной
идентичности (некоторые так и считают, другие нет). Напомним, что
настоящий обзор посвящен не выяснению «истинной» идентичности,
а прежде всего ее выражению в формах культуры. В этом контексте
следует обратить внимание на формальный прием, использование
жанрового гибрида (в противоположность, скажем, прямой церков¬
ной проповеднической риторике, процитированной в эпиграфе к
этой главе). Здесь, невзирая на многие очевидные различия, этот об¬
разчик постсоветского «патриотического» продукта можно сопоста¬
вить с нашими предыдущими текстами, лесковским «Очарованным
странником» и эйзенштейновским «Александром Невским».
Все три текста, каждый по-своему, отражают парадоксы и дилем¬
мы культурного выражения религиозной национальной идентично¬
сти в постпетровскую эпоху, когда религиозная культура перестала
играть роль единственного, господствующего или самого автори¬
тетного проводника престижного выражения. Все три текста, в из¬
вестной мере, гибриды. Все три отражают способы воплощения или
встраивания знаков религиозной идентичности в светские культур¬
25 «Святая Русь»: Энциклопедический словарь русской цивилизации.
С. 764.
26 Там же. С. 687, 688.
134
ные формы или, по крайней мере, в формы, которые (в отличие от
средневековых) не передают автоматически какого-либо скрытого
религиозного подтекста. Лихая лесковская повесть соединяет свет¬
ские и религиозные архетипы в необычайно своеобразной форме
неидеализированного мифотворчества. Героический фильм Эйзен¬
штейна усиливает явно антирелигиозный посыл, используя (и на
лингвистическом уровне, возможно, даже ненамеренно) привычные
религиозные маркеры. «Энциклопедический словарь» заворачивает
свои крайне ангажированные идеи во множество слоев плотной за¬
имствованной обертки, которые создают видимость беспристрастия,
академичности, институализации, можно сказать, «светской» респек¬
табельности. Как бы мы ни определяли «настоящее» место религии в
русской национальной идентичности, современное ее культурное вы¬
ражение остается интригующей проблемой, источником напряжен¬
ности, охватывающей все культурное пространство от одной край¬
ности, инновационного и жизнеутверждающего искусства, до другой
крайности, нелепого абсурда.
Глава 7
МУЗЫКА РУССКОЙ ДУШИ?
Марина Фролова-Уокер
В конце 2000-го года возникли большие споры по поводу ново¬
го государственного гимна Российской Федерации — не по поводу
слов (этот вопрос еще не был решен), а по поводу музыки. Пришла
в движение не только Россия - средства массовой информации по
всему миру ухватились за эту новость, и возникло множество веб¬
сайтов, посвященных вопросу о российском гимне. Что же вызвало
такую бурю эмоций по поводу простой мелодии? В России об этом
писали много. Согласно одному, получившему широкое хождение
мнению, все началось с неожиданного провала российской футболь¬
ной команды на чемпионате мира 1998 г. Многие обратили внимание
на мрачные лица футболистов, когда они выстроились перед матчем
и слушали российский гимн. Впоследствии игроки жаловались, что
мелодия постсоветского гимна, принятого при президенте Ельцине,
была им непривычна, не имела привязанного к ней текста и никак не
могла вдохновить их на патриотический подвиг, который требовался
в таком предприятии. По сравнению с участниками чемпионата из
других стран, они чувствовали себя несправедливо обделенными.
Их жалоба не прошла мимо Кремля, и президент Путин понял, что
нужно действовать решительно: следует сдать в архив ельцинский
гимн и вернуть старую знакомую мелодию советского гимна. Какая
именно часть старого советского текста останется, можно было решить
потом, но главное, нужно было вернуть прежнюю мелодию, которая
ассоциировалась бы с гордой и могучей Россией, существовавшей до
того, как хаос и унижения 1990-х гг. подорвали уверенность нации в
своих силах (следует напомнить, что советский гимн играли в каче¬
стве российского до 1993-го года, — так же, как по инерции гражданам
независимой Российской Федерации продолжали выдавать паспорта
советского образца). Для многих старая советская мелодия была при¬
вычным символом сравнительно комфортного и стабильного про¬
шлого: тогда ее передавали по радио каждый день в шесть утра, когда
трудящимся было пора вставать на более или менее оплачиваемую
работу. К 1993 г. от уверенности в завтрашнем дне ничего не осталось,
и ельцинский гимн, появившийся в тяжелые времена, многих толь¬
ко раздражал. Но те, кто все еще верил в «перестройку», об исчезно¬
вении советского гимна совсем не жалели: для них он был навсегда
замаран сталинскими репрессиями и брежневским застоем. Однако
к тому времени, когда президентом стал Владимир Путин, прямого
возвращения в советское время можно было уже не опасаться, так
как демонтаж советской системы был налицо, а с другой стороны на¬
136
дежды на благополучное либерально-демократическое будущее тоже
потускнели. Итак, возвращение старого гимна оказалось возможным,
хотя и спорным: одни радовались, другие с неохотой смирились, а
третьи видели в этом дурное предзнаменование.
Такова символическая сила музыки, — сила, которая часто за¬
хватывает нас врасплох. В этой главе мы рассмотрим музыкальную
конструкцию русской национальной идентичности, начиная с конца
XVIII в., когда музыка впервые вплелась в национальный дискурс, до
президента Путина и начала XXI в. Мы вернемся к обсуждению гим¬
нов и другой церемониальной музыки государства. Затем посмотрим,
как композиторы использовали в националистических интересах на¬
родную и церковную музыку в операх и произведениях симфониче¬
ской и камерной музыки. И наконец, рассмотрим, как миф о русской
трагической душе основывался на очень предвзятом представлении
о русской народной музыке и как последующее развитие русской на¬
циональной музыки вошло в противоречие с этим мифом.
1. Церемониальная музыка: национальные гимны
Способность музыки возбуждать сильные эмоции была хорошо
известна еще в древности, и Платон утверждал, что некоторые фор¬
мы музыки следует запретить, чтобы не разжигать у толпы опасные
страсти. Столетиями в труде, боях и революциях надежно проверя¬
лась способность коллективной песни объединять и воодушевлять.
Поэтому не удивительно, что к началу XIX в. к помощи коллектив¬
ной песни стали прибегать для объединения масс вокруг идеи на¬
ционального государства, пробуждая у них «невольный энтузиазм»,
как в свое время выразился один комментатор. Первой была Англия
с песней «Боже, храни короля», ставшей гимном сопротивления ар¬
мии Карла Стюарта в 1745 г., хотя мелодия, возможно, была на сто
лет старше. Ни имени композитора, ни имени поэта не сохранилось,
и неизвестно даже, в какой стране она родилась. Для национальной
мифологии всегда удобно, когда происхождение таких вещей теряет¬
ся во мгле неизвестности. Официальное признание к песне пришло
позже, в 1821 г., когда ее исполнили во время коронации Георга IV.
К этому времени появилась «Марсельеза», ч^гобы недолгое время
пробыть французским национальным гимном, а «Боже, храни коро¬
ля» была уже принята в качестве гимна несколькими европейскими
государствами (с переводами стихов, которые были приспособлены к
ситуации каждой страны)1. 11 Percy A. Scholes. God Save the Queen! The History and Romance of the
World’s First National Anthem. London and N. Y., 1954.
137
Борьба с Наполеоном дала принципиальную мотивацию для по¬
явления этих гимнов, противопоставлявшихся «Марсельезе», одна¬
ко во время кампании 1812 г. никакого русского гимна не появилось.
Только во время Венского Конгресса Александр I со своими дипло¬
матами почувствовал, как недостает какой-нибудь церемониальной
песни, чтобы отметить его присутствие на переговорах, и в 1816 г.
пошел по стопам других и также принял английскую мелодию и пе¬
ревод стихов — «Боже, храни короля» превратилось в «Боже, царя
храни». К началу 1830-х гг. основная идея национализма — то, что
у каждой страны есть свой собственный национальный дух — по¬
лучила широкое хождение в среде писателей и художников и дошла
до двора преемника Александра, Николая I. Как известно, в 1833 г.
был провозглашен лозунг официального государственного нацио¬
нализма: «православие, самодержавие, народность», но что именно
понималось под народностью, было еще довольно смутно.2 Поэтому
неудивительно, что Николай обошел вопрос народности, когда в том
же году заявил, что нужен новый, незаимствованный гимн — он про¬
сто сказал, что «скучает слушать музыку Английскую, столько лет
употребляемую». Существующие стихи были в основном сохранены,
с добавлением упоминания о православии. Новую мелодию заказа¬
ли Алексею Львову (1798-1870), который подходил к своей задаче с
открыто националистических позиций. Он говорил, что «чувствовал
надобность написать гимн величественный, сильный, чувствитель¬
ный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности,
годный для церкви, годный для войск, годный для народа - от уче¬
ного до невежи»3. Это высказывание полно риторики национализма,
отсутствовавшей в словах самого гимна. Весьма характерно, что царь
отреагировал на французском: «Cest superbe». И критики дружным
хором поддержали львовский национализм:
«Честь великой империи требует, чтобы на пространстве, занимающем
седьмую часть земного шара, миллионы... выражали высокие чувства сво¬
ими, незаимствованными звуками, выливающимися из груди, проникну¬
тыми Русским духом!»4
Так «Боже, царя храни» стал первым национальным гимном. Бла¬
годаря тому, что он находился под запретом в советский период, ког¬
да даже Увертюра 1812 года Чайковского, в которой он цитируется,
не могла исполняться в оригинале, в постсоветское время он стал
привлекать особый интерес. Автор одного из западных вебсайтов, на¬
2 См. главу 4.
3 «Боже, царя храни». История первого российского гимна. М., 1992. С. 95.
4 Там же. С. 98.
138
пример, утверждает, что мелодия этого гимна взята из православной
литургии. Это совершенно не соответствует действительности, но
автору страстно хочется в это верить, т. к. это позволяет сказать, что
эта мелодия уникально «воплощает сердце и душу русского народа»,
и, значит, является подлинным национальным гимном, каков бы ни
был официальный выбор. Напомню, что речь идет о гимне, слова ко¬
торого почти полностью заимствованы из английского прототипа, а
мелодия Львова совсем не близка музыкальному стилю М. И. Глинки
(1804-1857) и «Могучей кучки» (см. ниже), который позже утвер¬
дился в качестве общепризнанного типично русского стиля.
Последующие изменения государственного гимна прямо отража¬
ли изменения в отношении государства к русскому национализму.
Советская республика заменила львовский гимн «Интернациона¬
лом», по сути отвергавшим саму идею национальных гимнов. Но ми¬
ровой революции не произошло: ожидавшиеся революции в Европе
задохнулись или были подавлены, и Сталин стал проводить полити¬
ку «социализма в одной отдельно взятой стране». «Интернационал»
сохранил свой статус до 1944 г., когда был создан наконец тот самый
знаменитый советский гимн, в котором снова возродился национа¬
лизм, перенесенный в советский контекст. В тексте гимна появились
слова «Великая Русь», что вполне гармонировало с новой тенденци¬
ей в послевоенных речах Сталина. Конфликт с Германией официаль¬
но назывался Великой Отечественной войной, в которой «великому
русскому народу» судьбой было предопределено быть самой героиче¬
ской, самой мужественной нацией в борьбе против фашизма. Новый
гимн соответственно был специально написан так, чтобы в музыке
слышалась русскость, и музыкальные критики со всех ног кинулись
доказывать, что его мелодия уходит корнями в музыку России
XIX в. — они даже ссылались на бескрайние русские просторы, ко¬
торые слышались им в длинных величавых фразах мелодии гимна.
Этот гимн прослужил до распада Советского Союза в конце 1991 г.,
когда большинство республик в знак своей независимости утверди¬
ли собственные гимны. Однако в России старый советский гимн по
инерции продержался еще два года. Теперь его русскость, настоль¬
ко важная в 1944 г., звучала пережитком советского времени. На его
место была выбрана мелодия, которая почти полтора столетия про¬
лежала невостребованной в черновиках Глинки, но в каком-то смыс¬
ле она и осталась только наброском гимна, так как к ней никогда не
были написаны слова. Режим Бориса Ельцина опасался, что какие бы
слова ни подставить, и какой бы национальный образ ни обозначить
в новом гимне, половина населения все равно его отвергнет. С прихо¬
дом президента Путина немой гимн Глинки отставили, и как мы уже
видели, восстановили советский гимн 1944 г.
139
Остановимся ненадолго и подумаем над тем, какая возможная
альтернатива не была выбрана Путиным. Дело в том, что у Глинки
была еще одна мелодия, намного более известная и считавшаяся
неофициальным вторым национальным гимном при последних че¬
тырех царях, затем, после того, как Сталин вернул ей жизнь, на про¬
тяжении управления шести советских вождей и, наконец, во время
управления Ельцина. Это была мелодия «Славься», финального хора
оперы Глинки «Жизнь за царя». Опера была написана в 1836 г., через
три года после провозглашения Николаем I официального национа¬
лизма, который опера прекрасно воплотила. Ее сюжет прославляет
воцарение династии Романовых, и потому она оказалась особенно
подходящей для торжественного открытия великолепного нового
здания Санкт-Петербургского императорского театра. Денег не жа¬
лели, и восхищенный Николай I пожаловал Глинке перстень со своей
руки, а затем и пост капельмейстера Придворной певческой капеллы.
Рядом с глинкинским «Славься», с его бодрым маршевым ритмом
и православной церковной распевностью, львовский национальный
гимн бледнел и оказывался несравненно менее сильным средством
побуждения подданных служить делу православия, самодержавия и
народности. Даже созвучия Глинки сильно напоминали гармониза¬
цию православных песнопений, принятую в бесчисленных провин¬
циальных церквях, в отличие от более европеизированной музыки
санкт-петербургских и московских соборов. Так музыка свела воеди¬
но православие и народность, а самодержавие воспевалось в словах.
Львовского гимна не поменяли, но «Славься» получила статус гимна
номер два, а опера «Жизнь за царя» стала неизменно исполняться в
первый вечер открытия сезона в Императорских театрах. Мелодия
«Славься» вышла из употребления в первые годы советской власти,
но ее снова вспомнили, когда опера вернулась на сцену в 1939 г. с
новым либретто, из которого изъяли всякое упоминание о царе (сло¬
ва заключительного хора также были соответствующим образом
переделаны). «Жизнь за царя» превратилась в «Ивана Сусанина» и
вновь стала исполняться в открытие сезона. Теперь Глинка мог при¬
соединиться к Пушкину и Толстому в пантеоне русских классиков,
в котором Сталин видел основу социалистического реализма и ко¬
торый обеспечивал преемственность между Российской империей и
Советским Союзом. В период перестройки при президенте Горбаче¬
ве (в конце 1980-х гг.) первоначальная версия оперы была реабили¬
тирована и даже улучшена, что выразилось в чисто стилистических
изменениях, внесенных в несколько ходульное либретто. Так хор
«Славься» вернулся со своим первоначальным текстом еще до рас¬
пада Советского Союза, но при всей своей популярности его музыка
не устраивала ни Ельцина, ни Путина. Когда в конце 1993 г. Ельцин
140
решил, что пора избавить новую Российскую Федерацию от старого
советского гимна, это происходило в условиях, когда он только не¬
сколько месяцев назад силой подавил своих соперников в парламен¬
те, и его режим столкнулся с серьезной враждебностью со стороны
населения. Вследствие этого было бы неразумно принимать любой
гимн, несший на себе какую-либо идеологическую нагрузку, и отсюда
возникла никому не известная мелодия без слов. Когда Путин, в свою
очередь, отказался от ельцинского гимна, политическая обстановка
заставляла его заигрывать с коммунистической партией с поддержи¬
вавшими ее массами разочарованных, обнищавших сторонников, и
мелодия «Славься» здесь не могла помочь — это можно было сделать
только с помощью знакомого советского гимна. Даже среди тех, кто
относился с пренебрежением к утратившей силу коммунистической
партии, многие хотели восстановления порядка и национального
достоинства, и в результате советский гимн перестал быть для них
анафемой.
2. Народная музыка деревни и города
Теперь обратимся к музыке крестьянства и горожан, сначала
взглянув на нее с точки зрения самих носителей традиции, а затем
рассмотрим, как эту музыку использовали композиторы, собиратели
песен и другие в целях поддержания националистической идеи. Само
представление о едином явлении, носящем название «русская на¬
родная песня», было детищем романтического национализма конца
XVIII в. Если отказаться от намерения непременно отыскать единую
русскую народную традицию, то мы увидим, что есть набор местных
традиций, часто ограниченных совсем небольшими районами, и лю¬
бая попытка выделить какое-то количество общих знаменателей озна¬
чала бы допущение многих музыкальных влияний извне собственно
России. Во всяком случае, различия слишком велики, даже если мы
ограничимся музыкой русских славян, живущих на территории к за¬
паду от Урала. Идея найти русскую идентичность в народной музыке
возникла в среде образованного дворянства — людей, которые име¬
ли весьма смутное представление о музыкальной практике крестьян,
встречаясь только с опосредованными образцами народной песни.
После целого столетия господства такой дворянской концепции на¬
родной музыки открытие настоящей крестьянской практики в ре¬
зультате новаторских фонографических записей поистине потрясло
тех, кто считал себя специалистом в области народной песни. Грубые
Необработанные голоса, выкрики, возгласы, гиканье, странная инто¬
нация — все это шло вразрез со сложившимися представлениями о
народной гармонии.
141
Сборники народной песенной поэзии начали появляться с
1770-х гг., но только по прошествии двадцати лет были опубликова¬
ны первые нотные альбомы песен. Это были сочинения для голоса с
фортепьяно. Вокальная мелодия была сильно отфильтрована в соот¬
ветствии с привычками аранжировщиков, учившихся западной музы¬
кальной теории, а фортепьянные гармонии не имели ничего общего
с народной полифонией, о которой аранжировщики ничего не знали,
и скорее походили на итальянскую оперу и французские романсы.
Собиратели песен довольствовались одноголосными вариантами
песен, услышанными от кучера или домашней прислуги; даже если
им и удавалось услышать оригинал песни в его многоголосном виде,
ухо не улавливало всего хитросплетения голосов. Следующим шагом
отхода от крестьянских источников стало вхождение в моду жанра
так называемой «русской песни»: эти песни мало или совсем не по¬
ходили на стиль мелодий, из сборников народных песен. Казалось,
достаточно было чуть стилизовать слова под сельский говор, что¬
бы превратить подражание французской песне в «русскую» песню.
И любая светская барышня могла во время званого вечера вообра¬
зить себя носительницей духа русского народа.
Этот приятный обман безмятежно продолжался до конца
1850-х гг., когда один из самых известных литераторов того времени
князь Владимир Одоевский (1803/4 — 1869) опубликовал серию эссе,
критиковавших современную практику обработки русских народных
песен и призывавших возвратиться к подлинно народным мелодиям,
бесценному кладезю, какого не найти среди наций Запада5. Фран¬
цузские и итальянские народные мелодии, говорил он, за века утра¬
тили всю свою первоначальную свежесть под напором сильной ци¬
вилизованной музыкальной культуры. Русские народные песни, со
своей стороны, передают все своеобразие древней традиции, все еще
сохранившейся в своей здоровой и живой естественности. При том,
что критические стрелы Одоевского летели в верном направлении,
его собственная концепция подлинной народной песни основыва¬
лась на националистической мистификации, а не на непосредствен¬
ном знакомстве с пением крестьян. Тем не менее, Одоевский выска¬
зал и более конкретное утверждение о подлинно народной русской
песне — он утверждал, что ее мелодии строятся на основе древнегре¬
ческих ладов. Это ошибочное утверждение усугублялось новыми не¬
5 Одоевский В. Ф. «Старинная песня» (1863), «Письмо кн. В. Ф. Одо¬
евского к издателю об исконной великорусской музыке» (1863), «Русская и
так называемая общая музыка» (1867); см.: Одоевский В. Ф. Музыкально¬
литературное наследие. М., 1956. С. 252-254, 276-286, 318-330.
142
верными предположениями, все больше искажая и греческую теорию
тональности, и подлинные мелодии русской крестьянской музыки,
устанавливая невероятные связи между культурами, далекими друг
от друга и во времени, и в пространстве, не утруждаясь представить в
подтверждение ни грана исторических доказательств. Для того чтобы
понять столь необычный поворот аргументации Одоевского, доста¬
точно определить его мотивы. Это не потребует больших розыскных
усилий, поскольку он сам рассказывает о том, чем руководствовался.
Установить связь с древнегреческой культурой, как ему думалось,
значило создать русской музыке престижную родословную, уходя¬
щую к самым корням Западной цивилизации, в то время как другие
западные национальные культуры потеряли связь со своими антич¬
ными корнями за многие века чужеродных наслоений.
В этой точке соображения Одоевского очень близко сходятся с
идеями славянофилов.6 Одоевский берет в расчет только те песни,
происхождение которых предположительно уходит в допетровский
период, т. к. после этого вся музыка, по утверждениям славянофилов,
была заражена западными влияниями. После Одоевского музыкаль¬
ный дискурс в России долгое время вращался, главным образом, во¬
круг поиска самой древней музыки и избавления от западных наслое¬
ний. Каждое последующее поколение старалось все более углубиться
в прошлое и найти ту самую твердую почву, на которой выросло
истинное русское начало. В 1840-х гг. думали, что Глинка уже очи¬
стил музыку предшествующих русских композиторов от западных
влияний. Двумя десятилетиями позже «Могучая кучка», несмотря
на самое большое уважение к Глинке как первопроходцу, увидела,
что он всего лишь ассимилировал городскую народную музыку; ком¬
позиторы же «Могучей кучки» впервые начали осваивать обрядовые
и эпические песни русского народа. Следующее поколение заявило,
что «Могучая кучка» лишь поверхностно изучила народную песню,
и, что еще хуже, адаптировала народные мелодии, подчиняя их инди¬
видуальным композиторским стилям. Это поколение уже обладало
большим преимуществом, т. к. могло пользоваться фонографом для
записи крестьянских песнопений. Один его представителей, А. Д. Ка¬
стальский (1856-1926) попытался систематизировать народную гар¬
монию, изучив многоголосные народные песни, но несмотря на то,
что он подходил к делу совершенно искренне, получившиеся у него
абстракции и обобщения оказались еще более далекими от своих ис¬
точников. Искусственный конечный продукт его усилий предпола¬
галось использовать в качестве замены западных образцов в препо¬
6 См. главу 4.
143
давании курса гармонии в русских консерваториях7. Политические
симпатии Кастальского позволили ему продолжить работу в этом
направлении и в первое десятилетие советского периода, уже много
лет спустя после того как большинство композиторов оставили на¬
ционализм, отдав предпочтение интернациональным тенденциям
модернизма.
3. Церковная музыка
Теперь посмотрим, как развивалась русская церковная музыка,
которая многим на Западе представляется самым сильным проявле¬
нием русского начала. Немногие могут остаться равнодушными при
вступлении в хор характерных низких басов, которые как бы вопло¬
щают в звуке погруженные в сумрак таинственные глубины сводов
православных церквей. Россия, конечно, получила основу православ¬
ного пения из Византии, но за столетия традиция эта развивалась
своими собственными путями. В XVII-XVIII вв. русская церковная
музыка восприняла целый ряд западных влияний. Эти заимствован¬
ные новшества, как правило, не вызывали нареканий; только старо¬
веры (считавшиеся раскольниками с середины XVII в.) сохранили
литургические службы в более или менее неизменном виде, не испы¬
тавшем влияния западных форм. Изменения носили далеко идущий
характер. Во-первых, западное полифоническое песнопение пришло
из католической Польши на Украину, а оттуда в Россию. Во-вторых,
в церковной практике перестал употребляться целый набор древних
распевов. Наконец, в-третьих, во второй половине XVIII в. вакуум
заполнил хоровой концерт, полностью западный жанр сложно устро¬
енной виртуозной музыки, в целом чуждый всему характеру тради¬
ционной русской литургии. Признанные мастера этого жанра Дми¬
трий Бортнянский (1751-1825) и Максим Березовский (1745-1777)
получили музыкальное образование в Италии. Реакция на широкую
вестернизацию церковной музыки проявилась только в середине
XIX в., и, так же, как и в случае с народной песней, против нее ополчи¬
лись славянофилы, отделявшие чисто русское начало допетровской
культуры от того, что наслоилось позже. То, что эти допетровские
традиции уже в значительной степени исчезли и настоящее их воз¬
рождение было невозможно, их не смущало, во всяком случае, жела¬
ния отказаться от полифонии и вернуться к древнему одноголосному
пению русской и византийской традиции у них не было. Такое обед¬
нение звучания было бы неприемлемо ни для клира, ни для мирян.
7 См.: Кастальский А. Д. Особенности народно-русской музыкальной си¬
стемы. М., 1961; он же. Основы народного многоголосия. М.; Л., 1948.
144
Намного лучше было изобрести что-либо согласное с существовав¬
шими вкусами, в том виде, как они сложились за два века вестерни¬
зации; поскольку получившийся вариант был достаточно отличен от
музыки последних лет, его можно было подавать как возрождение
древних традиций, возвращение к истинно русским началам. Таким
образом, заново открытые древние мелодии перекрашивали в новом
гармоническом стиле, иногда заимствуя идеи у Палестрины, итальян¬
ского мастера конца XVI столетия, иногда основываясь на циркули¬
ровавшей в то время ложной теории, которая исходила из того, что
русская народная песня и песнопения русской церкви базируются на
общих принципах. Хотя церковь и государственные чиновники при¬
ветствовали возрождение древних мелодий, новые методы гармони¬
зации часто плохо принимались дьяконами, в обязанности которых
входило вносить изменения в практику литургии — такие звуки ас¬
социировались у них с мирскими народными песнями, где подобная
гармонизация уже стала привычной. Кончилось тем, что национали¬
стическая реформа литургической музыки потерпела неудачу — не
по причине ненаучного подхода и надуманных претензий на истин¬
ность, но именно потому, что не устраивала никого с позиций нацио¬
нализма, ибо существовала только одна русская церковная музыка, с
которой идентифицировались все социальные слои и которая сложи¬
лась в процессе постпетровской вестернизации. Возможно, она боль¬
ше походила по звучанию на итальянскую оперу XVIII в., но к этому
звучанию привыкли все русские, и низы, и верхи, и она была связа¬
на для них с самыми важными моментами в их жизни. Короче, это и
была русская национальная музыка. Несмотря даже на то, что многие
были готовы принять претензии реформаторов литургии за чистую
монету, т. е. поверить, что новые гармонии были возвращением к ис¬
тинно русским традициям, они все равно не находили в новой цер¬
ковной музыки того качества, которое ценилось больше всего — уми¬
ления. Итальянская музыка Бортнянского сохранила свои позиции.
Новые гармонизации песнопений поначалу навязывались церквям
по всей стране, но со временем отступили на второстепенные пози¬
ции в церковном репертуаре. Это было поражением националистиче¬
ского теоретизирования, невзирая на поддержку самых влиятельных
лиц в церкви и государстве.
4. Неизбывная «трагическая душа»
Теперь перейдем к другому конфликту между различными му¬
зыкальными репрезентациями русского начала. В этом случае обе
репрезентации были созданы музыкантами и писателями, и в их со¬
перничестве художественная ценность оказалась более важной, чем
145
убедительность поддерживавших их теорий. Более ранняя репрезен¬
тация создавалась на протяжении первой половины XIX в. Соглас¬
но этой точке зрения, русская народная песня неизбежно печальна
и выражает бесконечную грусть, составляющую сущность каждого
русского. Из этого постулата после долгих литературных дебатов вы¬
рос миф о русской трагической душе. Новый контр-образ развился
из поздней музыки Глинки 1840-х гг. и из музыки «Могучей кучки»
(М. А. Балакирева (1837-1910), М. П. Мусоргского (1839-1881),
А. П. Бородина (1833-1887), Н. А. Римского-Корсакова (1844-1908)
и Ц. А. Кюи (1835-1918)), написанной в период с начала 1860-х гг. до
начала XX в. «Могучая кучка» как сплоченная группа существовала
с конца 1850-х до середины 1870-х гг. Это новое направление пред¬
ставляло радостный, праздничный аспект русской национальной
музыки, который начисто отвергали сторонники трагической души.
Профессиональная музыка до Глинки была большей частью вестер¬
низированной, чаще всего на итальянский лад. Музыка трагической
души была уделом любителей и, как правило, ограничивалась скром¬
ными песнями для голоса и фортепьяно. Теперь, наконец, с приходом
музыки «Могучей кучки» появились произведения, отвечавшие са¬
мым высоким требованиям и в то же время оригинальные по стилю и
сознательно основанные на глубоком понимании русской народной
песни. И все-таки, невзирая на музыкальный успех «Могучей кучки»,
миф о трагической русской душе по-прежнему владел воображением
русских литераторов и продолжал привлекать многих европейцев
как выражение сущности русского начала.
Разберем подробнее, как складывался миф о русской печали.
Первым писателем, обратившим серьезное внимание на связь меж¬
ду песнями, которые поет народ, и национальным характером был
А. Н. Радищев (1749-1802) в «Путешествии из Петербурга в
Москву» (1790):
«Лошади меня мчат; извозчик затянул песню, по обыкновению зауныв¬
ную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть
в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых пе¬
сен суть тону мягкого [в минорном ладу. — М. Ф.]. На сем музыкальном
расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В ней
найдешь образование души нашего народа»8.
На протяжении следующих ста лет описания этих чувств по¬
вторялись и развивались бесчисленными беллетристами, учеными,
путешественникам — и русскими, и иностранцами. В этот период в
8 Радищев А. Путешествие из Петербурга в Москву. М.: Правда, 1978.
Т. VI. С. 8.
146
качестве парадигмы для всей русской народной песни или даже для
сущности русского творческого начала и самой «русской души» был
взят единственный жанр народной песни — «протяжная». Великое
разнообразие музыки, исполнявшейся русскими крестьянами, оста¬
лось почти совершенно не известным городскому беллетристу: даже
те, кто проводил часть года в своем деревенском имении, вряд ли
присутствовали на крестьянской свадьбе или деревенском праздни¬
ке — это было бы сочтено неподобающим обеими сторонами. Русские
помещики, бывало, слушали пение отдельных своих дворовых или
кучеров, и это были почти всегда протяжные песни, потому именно,
что этот жанр не был связан с какой-либо работой или обрядом. Эти
длинные, неторопливые песни, отличавшиеся сложной мелодией,
начали пользоваться успехом среди дворянства, заинтересовавшего¬
ся «русским началом». Все слушатели отмечали общий меланхоли¬
ческий настрой песни, хотя едва ли интересовались содержанием и
медленным развитием сюжета каждой протяжной песни — для них
достаточно было уловить создаваемое музыкой настроение, чтобы их
фантазия подсказала смысл и причины зародившейся под влиянием
песни меланхолии. Так протяжная песня урбанизировалась и нача¬
ла оказывать влияние на русскую композиторскую песню — русский
романс (который в то время находился на ранней стадии развития).
Получилось, что романс, попав под влияние протяжной песни, об¬
разовал связующее звено, хотя и весьма тонкое, между галантным
франкоговорящим салоном русского дворянина и грубой, дурно пах¬
нущей избой русского крестьянина. Слыша звуки протяжной песни,
русский дворянин жалел и крестьянина и самого себя, и так предста¬
вители двух абсолютно разных классов сливались в его воображении
в единый русский народ.
Возвращаясь к Радищеву, через несколько страниц после при¬
веденной цитаты мы встречаем другую группу крестьян, девушек и
молодых женщин, весело пляшущих и распевающих песни, — в тек¬
сте упоминается хороводная песня «Во поле береза стояла». Но ради¬
щевский рассказчик не расположен к веселью:
«Не мог дойти до хоровода. Уши мои задернулись печалию, и радостный
глас нехитростного веселия до сердца моего не проник»9.
О чем это говорит? Через своего рассказчика Радищев готов при¬
знаться, что в музыке русского крестьянства веселье и печаль со¬
существуют бок-о-бок и что впечатление о всеобщей меланхолии
определяется предрасположенностью наблюдателя из дворян, а не
наблюдаемым объектом. Сорок лет спустя Пушкин написал пародию
9 Там же. С. 126.
147
на Радищева, «Путешествие из Москвы в Петербург», проехав перво¬
начальным путем путешествия Радищева в обратном направлении.
Пушкин высмеивает культ сентиментальности, процветавший в об¬
разованных кругах дворянства на рубеже XIX века. А виноватым он
во многом считает Иоганна Вольфганга Гёте с его слезливыми «Стра¬
даниями молодого Вертера» (1774), и, несомненно, художественные
достоинства этого произведения сыграли очень важную роль в укоре¬
нении сентиментализма. Пушкин считал Радищева последователем
этой школы и высказался об этой связи весьма саркастически:
«Слепой старик поет стих об Алексее, божием человеке. Крестьяне пла¬
чут; Радищев рыдает вслед за ямским собранием... имя Вертера, встречае¬
мое в начале главы, поясняет загадку»10 11.
Пушкин видел, что сентиментализм мог играть роль фильтра, на¬
кладывая на любое явление свой болезненный отпечаток. Он также за¬
метил, что пресловутая грусть русской народной песни удачно совпа¬
дает с сентиментальностью современных салонных стихов и романсов,
отсюда насмешливые строки в его поэме «Домик в Коломне» (1830):
Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло...11
Но если верить Гоголю, однажды даже Пушкина оставило его
необычайно развитое чувство иронической отстраненности. Гоголь
пишет, что после того, как он закончил читать Пушкину первые гла¬
вы своей поэмы «Мертвые души» (1842 г.), тот произнес: «Боже,
как грустна наша Россия!»12 Знаменитое гоголевское произведение
действительно было поворотным пунктом: никому не удалось с та¬
кой силой воплотить смутное романтическое философствование о
России, ее народе, ее судьбе в образах столь живых и столь высоко
поэтических. Образ России как мчащейся тройки стал краеугольным
камнем зарождающегося русского самоощущения и до наших дней
остается одним из самых любимых в России образов. Примечатель¬
но, что протяжная песня кучера становится одним из самых важных
составляющих замечательного гоголевского образа России, вместе с
тройкой и бесконечно длинной дорогой. Именно протяжная песня
придает этим лирическим отступлениям острое ощущение грусти;
она делается двойной метафорой: песня тянется и тянется и вместе с
ней растягиваются границы русской земли и русской души:
10 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: в 10 т. Л., 1977. Т. VI. С. 350.
11 Там же. Т. IV. С. 237.
12 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. Л., 1952. Т. VIII. С. 294.
148
«Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышит¬
ся и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая несущаяся по всей длине
и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что
зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и
стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь
от меня?»13
В позднейшем объяснении этих лирических отступлений, сделан¬
ном Гоголем в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1846),
его непосредственные впечатления от протяжной песни проявляются
еще отчетливее:
«Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков
нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским про¬
странствам... Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и
бесприютные пространства не чувствуется тоска... тот уже выполнил весь
долг, как следует или же он нерусский в душе... или у кого нет ничего от
России в душе...»14
Как мы видим, мысли Гоголя едва ли отличаются от радищевских.
Если рождение русской интеллигенции ассоциируется с первыми
угрызениями совести высших классов, испытываемыми ими при
виде незавидного положения низших классов, можно предположить,
что русская протяжная песня — важный элемент этого процесса.
Еще более красочный пример того же уравнивания протяжной
песни с русской душой находим в написанном в 1850 г. рассказе
И.С. Тургенева (1818-1881) «Певцы». В рассказе описывается неча¬
сто случающаяся встреча двух разных миров, когда богатый охотник
заходит в деревенский кабак выпить чаю. Он становится свидетелем
соревнования между двумя народными певцами, когда первый поет
плясовую, от которой слушатели пускаются в пляс, а второй испол¬
няет протяжную, и у них на глаза набегают слезы. О последнем он
говорит:
«Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и
звенел как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезнен¬
ным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила,
и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская,
правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, я так и хватала вас за
сердце, хватала прямо за его русские струны»15.
Простолюдины, пережив волну эмоций, продолжают, как ни в чем
не бывало, пить, вести беседу и плясать, но образованный охотник не
13 Там же. Т. VI. С. 220-221.
14 Там же. Т. VIII. С. 289.
15 Тургенев И. С. Поли. собр. соч.: в 30 т. М., 1979. С. 222.
149
в силах оставаться, боясь испортить впечатление — ему хочется со¬
хранить его изолированным от окружающей обстановки. Плясовая
первого соревнующегося и последовавшие за соревнованием пляски
забыты, остается только протяжная песня как кульминация рассказа.
Протяжная песня романтизирована и легко входит в представление
барина о русской душе, а пляски оказались отфильтрованными, что¬
бы сохранить в неприкосновенности и полноте его романтические
чувства.
Любопытно, что когда возникла необходимость найти название
для протяжной песни в рассказе, Тургенев заглянул в сборник народ¬
ной песни, составленный славянофилом Петром Киреевским (1808—
1856), и выбрал его наугад. Он исходил из того, что название должно
быть печальным — не подразумевалось ли, что народные песни долж¬
ны быть стоном трагической души России? Один из друзей Тургене¬
ва разбирался в песнях и сказал, что выбранная им песня была весе¬
лой плясовой. Чтобы не ошибиться во второй раз, Тургенев выбрал
название протяжной песни, которую уже знали все и которая, как он
был уверен, будет именно такой печальной, как он хотел16. Интересно
также, как Тургенев устроил инсценировку певческого соревнова¬
ния, описанного в рассказе. Очевидно, он надеялся испытать те же
переживания, какие приписал рассказчику, главному герою расска¬
за. Пригласил ли он крестьян? Нет, такая мысль ему даже и в голову
не пришла. Ему показалось более подходящим пригласить двух об¬
разованных знатоков русской песни, художника Кирилла Горбунова
(1822-1893) и писателя Льва Жемчужникова (1828-1912), и, вероят¬
но, они оказались отличными крестьянами на вечер17.
Как мы видели, протяжная песня в XIX в. воспринималась как
парадигма всей русской песни и романтическое средоточие всего
ценного в русской душе. Большевистская революция 1917 г. не оста¬
вила от этого образа камня на камне, и сталинская бюрократическая
машина, несмотря на ее стремление восстановить старые культурные
традиции, отнюдь не собиралась культивировать этот тип русскости:
культура, воспевавшая сверхпроизводительного шахтера Алексея
Стаханова как идеал для всех рабочих, не могла поддерживать рассла¬
бляющее томление и самосозерцание. Искусство социалистического
реализма (официальная советская догма с 1930-х гг.) призывало к по¬
вседневному героизму и требовало сильного, оптимистического фи¬
нала любого сюжета, будь то опера или роман. Только в позднесовет¬
ский период, начиная с 1960-1970-х гг., когда бюрократия ослабила
свою хватку, «трагическая душа» снова вошла в моду и с тех пор не
16 См. комментарий: Там же. Т. III. С. 492-493.
17 Там же.
150
утрачивала своей популярности. Более того, она оказалась ходовым
экспортным товаром: западная аудитория была готова заплатить хо¬
рошие деньги за вечер русской печали.
Наконец, вернемся к альтернативной музыкальной репрезентации
русского начала, нашедшей отражение в оперной, симфонической и
камерной музыке начиная с 1840-х гг. Вспомним, что композиторы
«Могучей кучки», подхватив пример, поданный их предшествен¬
ником Глинкой, решительно отвергли взгляд на русскую народную
культуру и русский национальный характер с позиций трагической
души. Вместе с влиятельным музыкальным критиком и писателем
Владимиром Стасовым (1824-1906) эта небольшая группа компо¬
зиторов поставила себя в общественном мнении как «Новая русская
школа» и сумела оставить след в русской музыке XIX и значительной
части XX в. — не только в дореволюционные, но и в послереволюци¬
онные десятилетия. Несмотря на то, что этим композиторам так и не
удалось познакомиться непосредственно с музыкальными традиция¬
ми русского крестьянства, они все-таки внесли важные коррективы
во взгляды своих предшественников на народную песню, которые
исходили из представлений о трагичности печальной протяжной
песни. Они существенно расширили разнообразие типов народной
песни, использовавшихся в опере и концертной музыке, включая
свадебные и другие обрядовые песни. В их глазах протяжная песня
казалась уже скомпрометированной сентиментальностью салонных
романсов предыдущего поколения, и по этой причине они старались
обходиться без нее. Используемые ими обрядовые и плясовые пес¬
ни обусловили отказ от печальных мелодий, которыми увлекались
до них. Соответственно их националистические оперы опирались на
эпические (богатырские) и сказочные сюжеты; им удалось вернуть¬
ся к пушкинским сказкам, проникнутым добрым юмором, которыми
пренебрегали их предшественники. Их сюжеты полнились героиче¬
скими образами и остроумными шутками, а для романтической печа¬
ли места почти не находилось. Среди знаменитых произведений, вы¬
ражавших этот новый подход к народной культуре, мы видим оперу
«Князь Игорь» и «Богатырскую симфонию» Бородина, «Богатырские
ворота» Мусоргского и множество опер-сказок Римского-Корсакова,
таких как «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане»7 «Кащей Бессмерт¬
ный» и «Золотой петушок». Все эти произведения конца XIX — нача¬
ла XX в. представляют Россию прежде всего красочной, праздничной
и героической.
Музыка не была изолированным явлением в пропаганде этого
нового образа русского начала. Ко времени, когда «Могучая кучка»
Утвердилась в общественной жизни страны, параллельный интерес
к орнаментализму и буйству красок развили художники известной
151
группы «Мир искусства». Гениальный импресарио Сергей Дягилев
(1872-1949), увидел экспортный потенциал в произведениях этих
музыкантов и художников и организовал серию концертов и вы¬
ставок в Париже. Кончилось тем, что он с оглушительным успехом
объединил и тех, и других в своих музыкальных проектах, самым
знаменитым из которых были Ballets Russes. Он искусно приспособил
свой репертуар к запросам французской публики, учитывая успех
или неуспех имевших место в прошлом концертов: от Чайковского,
например, следовало отказаться, т. к. парижане находили его музыку
слишком европейской по сравнению с экзотическими новшествами
«Могучей кучки», которую они уже привыкли ассоциировать с под¬
линно русским. Любовь парижан к экзотике предопределила шумный
успех «Половецких танцев» Бородина, «Жар-птицы» Стравинского
и новых балетов, основанных на музыке «Шехерезады» и «Золотого
петушка» Римского-Корсакова и «Тамары» Балакирева. Декорации
и костюмы были изготовлены по эскизам самых видных художников
группы «Мир искусства» и усиливали впечатление буйной красоч¬
ной экзотичности — успех был просто невероятным, настолько, что
даже модные дома Парижа были вынуждены приспосабливать свою
продукцию к стилю популярных костюмов из русских постановок.
Но в обстановке всеобщего увлечения восточной одеждой и разгово¬
ров о знаменитых русских у парижан не было времени внимательно
рассмотреть разницу между самой русской и подлинно азиатскими
культурами, существовавшими по окраинам Российской империи.
Все было свалено в одну кучу, так что в массовом сознании Россия
переместилась из Европы в Азию. У французской, а позже англий¬
ской и американской публики дягилевских Сезонов русская музыка
ассоциировалась с ее красочной упаковкой, а потому представлялась
яркой, декоративной, экзотической и полной фантастики. Никакой
трагической души в ней никто не видел18.
Цель настоящего обзора не просто показать, что основывающаяся
на идее «трагической души» версия русского начала укореняться в
первых десятилетиях XIX в. Даже если мы относимся к мифу о «тра¬
гической душе» скептически, он все равно может заслонить в наших
глазах важные культурные явления, находящиеся вне поля его при¬
тяжения. Обзор основных национальных традиций в сфере русской
музыкальной жизни показывает, что много творческой и теоретиче¬
ской энергии тратилось на совершенно другую картину русского на¬
чала, картину, которая базировалась на менее пристрастном, хотя все
18 Сергей Дягилев и русское искусство: статьи, открытые письма, ин¬
тервью, переписка, современники о Дягилеве / ред. И. С. Зильберштейн и
В. А. Самков. М., 1982. С. 420.
152
еще далеком от совершенства понимании крестьянской культуры.
Мы не хотим сказать, что заменяем одну версию русского националь¬
ного характера другой. Национальные характеры строятся внутри
культур, они не заданный фундамент культуры и даже самое точное
исследование крестьянской культурной практики не может каким-
либо образом представить доказательства «истинного» националь¬
ного характера. Как следует из нескольких глав настоящей книги, в
идеологическом вакууме, образовавшемся после распада Советского
Союза, многие русские снова занялись мифотворчеством: некоторые
вернулись к националистическим мифам XIX в., иные идеализируют
советскую жизнь, третьи обратились к православному христианству
или различным импортированным религиозным культам. Каждый
их этих мифов является реальностью для тех, кто его избрал, и не нам
решать, какому из русских мифов, самому колоритному ли или более
близкому нам политически, отдать предпочтение.
Глава 8
ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЯЗЫКЕ?
Борис Гаспаров
1. Подходы к идентичности в языке
С момента появления в начале XIX в. романтической филосо¬
фии языка идея связи между языком нации и ее самосознанием и
идентичностью занимала важное место в исследованиях культурной
истории. В русской культуре конфликт между двумя главными под¬
ходами к проблеме «язык и идентичность» — их с натяжкой можно
назвать лингвистическим «номинализмом» и «реализмом» — послед¬
ние два столетия играл существенную роль. С точки зрения «номина¬
листской», язык это инструмент, форма и развитие которого зависят
от изменения интеллектуальных и культурных потребностей, кото¬
рым он должен служить. Точка зрения «реализма» (приблизительно
схожая с подходом, который в другом месте книги назван «сущност¬
ным») считает, что сам национальный язык воплощает в себе коллек¬
тивную ментальность и культурную традицию говорящих. Таким об¬
разом, согласно «номиналистским» взглядам русский литературный
язык проявляется и развивается в серии ответов на конкретные куль¬
турные проблемы и влиянии со времени принятия церковнославян¬
ского языка вместе с Крещением Руси в конце X в. и его ассимиляци¬
ей местной (восточно-славянской) языковой практикой, адаптации
западноевропейских дискурсов и нарративных приемов в начале и
середине XIX в. до постсоветского наплыва американизмов. С точки
зрения «реалистической» (или «сущностной» или, возможно, «орга-
нистической), язык на всем протяжении своей истории, несмотря на
очевидные изменения, сохраняет фундаментальные черты, носящие
на себе отпечаток национального характера.
Эти две парадигмы столкнулись друг с другом в первой четвер¬
ти XIX в., что вылилось в полемику между Николаем Карамзиным
(1776-1826) и филологом-любителем, ставшим впоследствии мини¬
стром образования, Александром Шишковым (1754-1841). Карамзин
со своими сторонниками, среди которых были такие литературные
светила, как Василий Жуковский (1783-1852) и Пушкин, считали,
что русский язык должен быть открытым для всех возможных спосо¬
бов выражения, необходимых для того, чтобы удовлетворить идеоло¬
гические, интеллектуальные и эстетические потребности европейской
культуры времени. Шишков утверждал, что язык должен подойти к
этому состоянию органическим путем, развивая свой потенциал в
пределах собственных славянских традиций. Он исходил из того, что
154
только через рост славянских традиций может сохраниться и усилить¬
ся языковая (а значит, культурная и национальная) идентичность
России. Хотя карамзинская школа взяла верх, существенно воздей¬
ствовав на сам язык, ее оппоненты оказали очень большое влияние
на восприятие русского языка — в отношении к его западноевропей¬
ским соседям — последующими поколениями языковедов и теорети¬
ками культуры. Мы можем констатировать, что славянофилы встали
на позиции «реалистичности» или «сущностности», интерпретируя
фундаментальные структурные различия между русским и западно¬
европейскими языками (такие, как наличие в русском языке глаголь¬
ного вида и сокращенной системы глагольных времен или широкое
распространение безличных конструкций без грамматического под¬
лежащего), как признаки уникальности русского национального ха¬
рактера. Например, в свободном использовании глагольных времен в
типично русском дискурсе они усматривали языковый символ отказа
России от сверхрационального подхода к распределению всех собы¬
тий в прошлом, настоящем и будущем и в частом отсутствии грам¬
матического подлежащего видели способ выражения коллективной
или экзистенциальной тенденции русской духовности. Последние
русские исследования позднесоветского и постсоветского периодов
отражают возобновившийся интерес к «реалистическому» или «сущ¬
ностному» подходам. Отмечались многочисленные свежие попытки
прочитать русскую национальную «ментальность» непосредственно
в определенных чертах семантики и грамматики русского языка1.
У обеих сторон — и у «номиналистов», и у «реалистов» имелось
рациональное зерно, которое они не уставали эксплуатировать.
С одной стороны, язык, несомненно, претерпевает изменения, иногда
радикальные, реагируя на проблемы, возникающие в связи с интел¬
лектуальными и идеологическими потребностями. В равной степени
важно, что разные языки выражают мысли не одинаковыми спосо¬
бами, что с неизбежностью сказывается на форме и структуре этих
мыслей, если не на их логическом содержании. Настоящую главу
не следует рассматривать, как попытку вынести оценку этим под¬
ходам, ее цель продемонстрировать некоторые аспекты их динами¬
ческого взаимодействия, поскольку фактически процесс идет сразу в
обоих направлениях. Разные языки, действительно, каждый по-
1 См.: Anna Wierzbicka. Russian Language // Semantics, Culture and
Cognition. Oxford, 1992. P. 33-88; Яковлева E. С. Фрагменты русской языко¬
вой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994;
Булыгина Т. В. и Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на мате¬
риале русской грамматики). М., 1997; Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека.
М., 1998.
155
своему определяют значения и поэтому оставляют на характере
значения свой отпечаток. Это не оправдывает романтическое пред¬
ставление о языке как носителе национального характера и идентич¬
ности, закодированном в словаре и грамматике. Однако, рассмотрев
конкретные исторические условия, в которых развивались морфо¬
синтаксические, идиоматические и риторические особенности языка,
мы сможем выявить идеологические ценности и культурные цели,
которые мотивировали такое развитие, и, в свою очередь, эти моти¬
вации, определенным образом влияя на язык, придают форму его
индивидуальным чертам. Мы можем проследить известную после¬
довательность: сначала выбор языковых инструментов выражения в
конкретных исторических, культурных или идеологических услови¬
ях; затем, после того, как эти инструменты делаются установленными
фактами языка, их остаточное восприятие как носителей определен¬
ных идеологических ценностей.
Лучший пример этого двойного процесса — это то, как русский
язык адаптировался к церковнославянскому и ассимилировал его.
Церковнославянский был сакральным языком, развивавшимся на
базе югославянских (старомакедонского, староболгарского) диалек¬
тов, и был импортирован в Древнюю Русь с Балкан вместе с христи¬
анством. Целое тысячелетие он являлся одной из главных движущих
сил в развитии русского литературного языка. Тесная языковая бли¬
зость между церковнославянским и местными языками, на которых
говорили разные славянские народы, создавала в средневековых пра¬
вославных славянских землях культурную ситуацию, совершенно от¬
личную от ситуации в странах, чей сакральный или культурный язык
высокого статуса только отдаленно соотносился с национальным
языком или вообще отличался от него. Поэтому эту ситуацию нель¬
зя напрямую сравнивать с ситуацией, скажем, в североевропейских
католических странах, чье население говорило на германских, кель¬
тских или славянских языках, используя латынь в качестве основного
культурного носителя, или с ситуацией в неарабских мусульманских
странах. На Руси, однако, языковая ситуация в XI—XIII столетиях
в отношениях между местными восточнославянскими языками и
церковнославянским была приблизительно эквивалентна ситуации,
которая в то же самое время сложилась у говоривших на романских
языках с латынью.
Решительная разница между итальянцами, пользовавшимися
латынью, и восточными славянами, пользовавшимися церковносла¬
вянским, заключалась в масштабах и истории, а потому и характере
соответствующих языков. Латынь была представлена широкой и раз¬
нообразной литературной традицией, включавшей тексты разных
жанров и идеологического происхождения, светских и сакральных,
156
художественных и прагматичных; она была подробнейшим образом
объяснена грамматиками, филологами и риториками; изучалась по
стандартным учебникам грамматики и учебным текстам. Использо¬
вание церковнославянского, с другой стороны, редко выходило за
пределы ограниченного числа жанров, имевших отношение к литур¬
гическим службам и религиозному чтению, от Евангелий до Псалты¬
ря, проповедей, молитв и агиографии. Сам по себе язык, по крайней
мере, в первые несколько столетий своего существования не получал
какой-нибудь ясной кодификации: не сохранилось никаких древних
формальных грамматических описаний языка, не существует свиде¬
тельств, что таковые были когда-либо написаны. Первая грамматика
церковнославянского языка появилась на Балканах в XIV в., поч¬
ти через полтысячи лет после создания языка; на севере церковно-
славянская грамматика появилась много позже, в 1596 г.2 В XVI в.
Московия по западноевропейским стандартам, если брать наличие
ученых текстов (оригинальных или переводных) и учебных заведе¬
ний, все еще выглядела интеллектуально девственной страной.
Как же в таком случае удалось традиции церковнославянской
письменности пережить несколько веков, бывших свидетелями
огромных перемен на политической и культурной карте? Это прои¬
зошло в результате подспудных процессов, мнемоническим впиты¬
ванием больше, чем через открытое обучение, объяснение или коди¬
фикацию. Лингвистическая или культурная традиция, заложенная в
церковнославянских книгах, поддерживалась поколениями ее адеп¬
тов, от духовенства до образованных классов и простых людей, бла¬
годаря чтению, слушанию читаемых текстов, копированию и запоми¬
нанию ограниченного контингента книг, от основных литургических
текстов до несколько более разнообразного круга религиозных и ди¬
дактических сочинений. Эта традиция коллективной памяти служи¬
ла скрытым хранилищем знаний о языке и главным средством его из¬
учения; язык изучали не ознакомлением с его структурой и нормами,
а через практику чтения и копирования текстов, которые уже были
известны, более или менее точно, из прошлого опыта. Параллельно с
этим процессом и в то же время исподволь можно было впитать раз¬
нообразные знания, содержавшиеся в текстах: от богословских кон¬
цепций и метафизических проблем до теоретических инструментов и
нарративных способов выражения мысли.
Такая ситуация делала состояние языка зависимым от лингвисти¬
ческого сознания его пользователей. В отсутствие каких-либо явных
норм (помимо имеющихся прецедентов), приходилось выводить эти
2 Lavrentii Zizanii. Hrammatika slovenska. Wilna 1596 / ed. Gerd Friedhof.
Frankrfurt am Main, 1980.
157
нормы самим — фактически придумывать заново по каждому пово¬
ду, когда пользовались языком, будь это переписывание более старых
манускриптов или создание оригинального (хотя всегда производно¬
го) сочинения. Переписчику, писателю или читателю приходилось
маневрировать между, с одной стороны, своей языковой интуицией
(неизбежно навеянной разговорной практикой из-за ее близости к
культурному языку) и, с другой стороны, конкретными примера¬
ми, предлагавшимися более древними манускриптами, которые,
при всей их авторитетности, в отдельных пунктах могли выглядеть
расходящимися с подсказанной интуицией трактовкой — слишком
архаичными либо даже совершенно «иностранными». Ощущение
«иностранщины» могло возникнуть особенно в отношении книг
балканского происхождения или когда русские церковнославянские
книги подвергались исправлениям приглашенными греческими или
болгарскими учеными. Из такого сопоставления наличных преце¬
дентов и современной языковой чувствительности рождались новые
скрытые нормы, которые затем передавались через новые переписан¬
ные копии оригинальных сочинений последующим поколениям, ко¬
торые, в свою очередь, будут подходить к этим прецедентам со свои¬
ми интуитивными языковыми восприятиями.
Веками языковая традиция — и вся культурная традиция, которая
полностью зависит от нее, — передавалась, так сказать, по воздуху,
а не по твердой земле. Отрицательная сторона процесса стала оче¬
видной к XVI-XVII вв., т. е. ко времени, когда отсутствие достаточно
развитых и четко сформулированных норм привело к аккумуляции
недостатков в практике книжного производства, в то время как все
попытки скорректировать такие дефекты натыкались на существую¬
щую языковую восприимчивость, устойчивость которой объясня¬
лась ее скрытой, некодифицированной природой. Это противостоя¬
ние продолжалось приблизительно сто пятьдесят лет и завершилось
реформой литургических книг на Церковном Соборе в 1666/1667 гг.
Реформа привела к схизме, причина которой лежала в неспособности
значительной части паствы принимать даже малейшие изменения.
Столкнувшись с минимальной коррекцией церковнославянского
Символа веры — фразы «рожден, не сотворен» вместо традиционной
и привычной формулировки «рожден, а не сотворен», люди гото¬
вы были умереть за сохранение этого «а». Можно даже сказать, что
чем ничтожнее казались изменения для стороннего наблюдателя,
тем больший эффект они производили на тех, для которых измене¬
ния были вторжением в их мир памяти: исправленное выражение
вызывало чувство разлада, рождавшего подозрение, что это форма
дьявольских происков. Старообрядцы, как они называли себя, отка¬
зались от новых литургических книг, а заодно и от церквей, в кото¬
158
рых пользовались этими книгами для литургии. Они ушли из офи¬
циальной церкви, основали свои собственные общины по окраинам
государства, просуществовавшие несколько столетий и пережившие
Московию, Российскую империю и даже Советский Союз.
Это бескомпромиссное сопротивление любым изменениям в
священных книгах не означало, однако, отказ от всяких нововведе¬
ний. Наоборот, ненадежная подвижность мнемонической традиции
стимулировала, фактически делала необходимым творчество. Для
противников реформ 1667 г. было неприемлемым резкое введение
кодифицированных изменений. Тем не менее в те времена было об¬
щепринятой практикой заново пересоздавать язык, подчас абсолютно
радикально, под видом перефразирования запомнившихся прецеден¬
тов. Из-за интуитивного характера процесса отбора грамматических
форм, синтаксических моделей или особых форм фраз он был от¬
крыт символическим интерпретациям. Новое употребление извест¬
ных грамматических форм и производных моделей (появлявшихся в
результате согласования между старыми примерами и текущей язы¬
ковой восприимчивостью) приобретало вторичные символические
ценности, способные преобразовывать формы в главные носители
идей, идеологических тенденций и эстетических ценностей. В таких
условиях с самим языком обращались не просто как со средством вы¬
ражения основ веры или философских идей и этических принципов,
но как с самим воплощением этих идей и принципов.
Так «реалистический» (или «сущностный») взгляд на мир как во¬
площение концепции, которую он обозначает, — т. е., что форма яв¬
ляется не просто носителем, но воплощением значения, — которая в
западной схоластической традиции утвердилась как одно из главных
философских направлений, нашла на российской почве не менее пло¬
дотворное (хотя и не полностью ясно сформулированное) практиче¬
ское выражение в том, как использовался язык. Для культуры сред¬
невековой Руси типичным было обращаться к интеллектуальным и
идеологическим проблемам косвенно, через посредство подразумева¬
емых вторичных значений, подсказанных традицией определенных
моделей и структур языка. Для стороннего наблюдателя, который
ищет ясно выраженные признаки интеллектуальной и духовной жиз¬
ни, Древняя Русь вполне могла казаться интеллектуально скудной,
неспособной к развитию. Для того, кто смотрел на это изнутри и для
кого были привычными нюансы языкового поведения, Русь пред¬
ставлялась богатым и находящимся в постоянном движении полем
Духовных стимулов, которые казались еще более привлекательными
благодаря своему неуловимому и изменяющемуся характеру.
159
Такой подход к использованию языковых форм можно проиллю¬
стрировать несколькими примерами из культуры Древней Руси, взя¬
тыми из разных периодов шести веков ее развития до ее радикальной
трансформации во времена Петра Первого. Затем мы коротко взгля¬
нем на то, как аналогичное явление может быть осмыслено в более
современные периоды.
2. Языковая память и семантика формы
В последние годы жизни Владимир Мономах (киевский князь,
1113-1125) написал «Поучение», предположительно, для своих сы¬
новей, в котором рассказал об опыте своей жизни и дал этические
и политические советы о том, как должно вести себя князю. После
краткого вступления Мономах описывает драматический эпизод сво¬
ей жизни, когда он отказался от предложения двоюродных братьев
присоединиться к нападению на другую ветвь правящей династии:
это было исключительно трудное решение, т. к. оно разрушало важ¬
нейший союз с его родственниками. Отпустив послов, продолжает
Владимир,
И отрядивъ я, вземъ Псалтырю, в печали разгнухъ я, и то ми ся выня:
«Векую печалуеши, душе? Векую смущаеши мя?» и прочая. И потомь со-
брах словца си любая, и складохъ по ряду, и написах. Аще вы последняя
не люба, а передняя приимайте...3
Примечательно, как Мономах полагается на память читателей.
Ему не нужно цитировать псалом 43, из которого взята фраза. Боль¬
ше того, приведенный отрывок составляет не более чем верхушку
айсберга всего, что помнят или помнят частично Мономах и его чита¬
тели, — отсюда в конце «и прочее». То, что подразумевается под фра¬
зой «и прочее», не столько оставшийся текст псалма, сколько множе¬
ство выдержек из священных книг, которые можно найти в памяти по
ассоциации с процитированным текстом. В сущности, Мономах сам
ответил на свой призыв обратиться к памяти — его и его читателей.
Приведенная фраза открывает длинную цепочку отрывков из Псал¬
тыря, Евангелий, книг пророков; одна цитата тянет за собой другую
по ассоциации, и так продолжается, кажется, без конца, до тех пор,
пока через две страницы (в современном издании) автор не останав¬
ливается?, добавив еще раз: «и другие». После десятков цитат «дру¬
гие» остается расплывчатым и одновременно, что очевидно, столь же
неопределенным и все-таки понимаемым без труда, как после перво¬
начального упоминания.
3 Повесть временных лет: в 2 т. / под ред. Д. С. Лихачева и В. П. Адриа-
новой-Перетц. М.; Л., 1950. Т. I. С. 153.
160
В конечном счете, Мономах утверждает, что его собственное со¬
чинение есть не больше, чем перестановка «любимых слов» Священ¬
ного писания, «собранных» его памятью. Смиренная (и обычная для
таких случаев) поза Мономаха как того, кто всего лишь перефрази¬
ровал священный источник, на самом деле позволяет ему взять на
себя право поучения, на которое он, возможно, и не претендовал бы
в качестве автора оригинала (в современном понимании этого сло¬
ва). Признание им собственного несовершенства как писателя, чья
неопытность может не «понравиться» читателям, оборачивается его
самым большим достоинством, ибо он воспроизводит акт воплоще¬
ния священного слова в пределах мира. Если читателю не нравятся
«последние» слова (те, что вышли из-под пера самого Мономаха),
ему следует согласиться с «предыдущими» словами (Священным пи¬
санием, подразумеваемым источником сочинения Мономаха).
Разделяемая всеми память «предыдущих» слов также есть и разде¬
ляемая ими память, церковнославянского языка. Тесная связь между
языком, используемым писателем, и метафизической и этической
позицией, которую он занимает, может поддерживаться благодаря
особым отношениям между святыми книгами и языком, на котором
их получили православные славяне. Церковнославянский язык су¬
ществовал, по крайней мере, в теории, исключительно для передачи
священных текстов и их предполагаемых перефразировок в религи¬
озных и дидактических сочинениях. Представляя свое сочинение, ни
больше, ни меньше, как упражнение в использовании «священных
слов», автор одним только употреблением церковнославянского мог
облачиться в мантию духовности и благочестия.
Однако в то же время нормы церковнославянского оставались
настолько вольными, его слияние с повседневной разговорной прак¬
тикой настолько повсеместным и естественным, что такой авторитет
никогда не мог быть полным или исключительным. Каждый случай
творческого сочинения, от проповеди до повествовательной про¬
зы (вроде мономахова «Поучения») и частных писем, представляли
собой смесь в разных пропорциях церковнославянского и местного
(восточнославянского) языкового материала, от почти полного прева¬
лирования церковнославянского лексикона и грамматических форм
До его спорадического мелькания среди местного дискурса. Мирское
несовершенство всякой новой попытки сочинения могло лишь при¬
близиться к идеалу оригинального сакрального языка, причем идеал
языка оставался неуловимым и по большей части воображаемым, по¬
тому что нормативных текстов священных книг не существовало, не
говоря уже об их объяснении в какой-нибудь грамматике. Чем ближе
был определенный текст к представлению о чистом церковнославян¬
ском языке, тем сильнее окружающая его аура святости, духовности,
161
дидактичности. Точно так же, преобладание местного языкового
материала вытесняло его к сфере мирского, житейского материаль¬
ного. Так, первый писаный свод законов, «Русская правда», чьи пер¬
вые версии относятся к середине XI в.4, был написан простым, не¬
формальным языком и почти полностью лишен церковнославянских
форм — это был тот тип дискурса, который с позиций сегодняшнего
дня выглядит неожиданным для свода законов, однако согласно сред¬
невековой шкале ценностей исключение церковнославянского и бли¬
зость к местному языку вполне подходило для текстов, посвященных
вопросам светского права.
Церковнославянский язык как главный индикатор духовной на¬
строенности текста мог совмещаться с местным языком в бесчис¬
ленных комбинациях, в зависимости от жанра и темы текста. Всякое
увеличение использования церковнославянских форм немедленно
отзывалось повышением духовной температуры текста в интуи¬
тивном восприятии писателя и читателей, в то время как приток
местных форм тут же принижал его до самой земли, в мир практиче¬
ских дел.
Мономах демонстрирует большое искусство в использовании
символического потенциала языка, отнюдь не ограниченное прямым
цитированием Псалтыри. Непосредственно перед процитирован¬
ным выше отрывком Мономах рассказывает о встрече с послами от
братьев:
Усретоша бо мя слы от братья моея на Волзе, реша: «Потъснися к нам,
да выженемъ Ростиславича и волость ихъ отъимем; оже ли не поидеши с
нами, то мы собе будем, а ты собе». И рехъ: «Аще вы ся и гневаете, не могу
вы я ити, ни креста переступити».
Речь послов носит неформальный характер, граничащий с откро¬
венной грубостью. Она насыщена словами, чей морфемный состав
или фонетические особенности отражают их подлинно восточносла¬
вянское происхождение: формы для «поспеши» («постнися»), «давай
прогоним» («выжинем»), «земля / владение» («волость»), «если»
(«оже») напоминают о простых условных формулах «Русской прав¬
ды». В своем ответе Мономах полностью меняет языковый тон. Он
начинает с глагольной речи в простом прошедшем (аорист): «Я гово¬
рил» («рехъ»). Аорист использовался почти исключительно в текстах
формального характера. В неформальном дискурсе, вроде частных
писем, нормальной формой был перфект. Кроме того, в этом случае
Мономах выбрал даже не простой аорист, а его архаичную форму
(к временам Мономаха форма «рехь» уже уступила дорогу обычной
4 См. главу 2.
162
модернизированной версии: «рекохь»). Сам факт появления аориста
поднимает моральный и интеллектуальный уровень, на каком Моно¬
мах готов дать ответ, и эффект еще больше усиливается архаической
церемонностью конкретной формы. Чтобы подразумеваемый смысл
стал еще более понятным, за архаическим аористом тут же следует
церковнославянский условный союз («аще») в подчеркнутом кон¬
трасте с восточнославянским условным (оже») его оппонентов.
В синтаксисе Мономаха единственное отрицание — утонченный
прием, который отходит от спонтанной славянской модели двойно¬
го отрицания. Даже в самых древних церковнославянских текстах, в
которых действительно употреблялось заимствованное у греков оди¬
ночное отрицание, его никогда не использовали последовательно, в
отдельных случаях заменяя двойным отрицанием.
С практической точки зрения ответ Мономаха его двоюродным
братьям можно было бы посчитать неудачным. Вместо того, чтобы
попробовать в понятной форме объяснить собеседникам свою точку
зрения, приспособив свою речь к их речи, он прибегает к архаичным
и трудным формам, позаимствованным из редкой сферы языка в рез¬
кой противоположности к упрощенной речи его собеседников. Од¬
нако прагматическая непоследовательность диалога в данном случае
роли не играет, потому что языковое поведение Мономаха мотивиро¬
валось не прагматикой, а дидактикой. Используя разные дискурсы,
участники беседы ставят себя в разное положение на шкале соотнесе¬
ния духовных и мирских дел. Двоюродные братья Мономаха и их по¬
слы говорят о мирских делах, своим ответом высокого стиля Моно¬
мах переводит диалог в сферу моральных суждений и божественной
справедливости. Вся ситуация сразу превращается из политической
дилеммы в моральное испытание. Такое смещение производится не
столько тем, что сказал Мономах, сколько уровнем дискурса, кото¬
рым он воспользовался; даже до того, как он произнес эти слова, вво¬
дивший их глагол «рехь» уже все сказал читателю. Языковая ткань
сообщения становится решающим компонентом самого сообще¬
ния, поскольку создает ситуацию, при которой сообщение начинает
восприниматься. Если бы Мономах отказал двоюродным братьям
простым языком, содержание ситуации осталось бы тем же, но его
значение стало бы чисто прагматическим, т. е. политическим предло¬
жением и отказом от него. Его собственные слова настраивают Моно¬
маха на религиозную волну, и он обращается к Псалтыри за словами,
которые передадут настроение его ума.
Более пяти столетий позже, в середине 1670-х гг. протопоп Авва¬
кум, вдохновитель старообрядцев, написал «Житие протопопа Авва¬
кума, им самим написанное». Это произведение автобиографического
Жанра было создано в ожидании неизбежного конца света, в ситуации,
163
когда не приходилось ожидать, что какой-нибудь будущий агиограф
напишет последнюю главу священной истории, историю собственно
аввакумова мученичества. Описывая одно из своих столкновений с
властями во время ссылки, Аввакум пользуется, практически, тем же
стилистическим инструментом, что и Мономах за полтысячи лет до
него. Короткий разговор описывается следующим образом: «Он меня
лает, а я говорю [“рекл”] ему: “Благодать во устах твоих, Иван Родио¬
нович, да будет”»5. Аввакум вставил в свою речь тот же глагол, что
и Мономах: форму прошедшего времени глагола «рекоу», «говорю»,
хотя здесь он выбрал не просто прошедшее время, а перфект, потому
что к этому времени аорист сделался явно книжной формой, едва ли
подходящей даже для стилизованного диалога. Однако он выбирает
архаическую форму совершенного времени «рекл» вместо упрощен¬
ной «рек». Снова до того как начать говорить, самая форма вводного
глагола говорит о смещении от грубого мирского звучания к набож¬
ности. И собственная речь писателя полна церковнославянскими
выражениями: «благодать», витиеватая архаичная форма «устнех»
вместо более простой «устах», синтетическая формула увещевания
(«да будет»).
В повествовательных текстах альтернативное использование ао¬
риста и перфекта веками было средством направить дискурс по оси
между мирским и духовным. Во второй половине «Поучения» Вла¬
димир Мономах рассказывает о множестве приключений, которые
ему довелось испытать в жизни. Он описывает многие опасности, с
которыми он сталкивался на охоте, пользуясь для такого мирского
предмета, и нужно сказать, к месту, перфектом вместо аориста, — до
решающего момента, когда он завершает свой рассказ дидактическим
заключением, где снова появляется аорист:
«Два тура метали меня рогами вместе с конем (“метали” — перфект)...
олень меня один бодал (“бол” — перфект). А из двух лосей один лось нога¬
ми топтал меня (“топтал” — перфект), другой рогами бодал (“бол”); вепрь
у меня на бедре меч оторвал (“оттял” — перфект), медведь у колена пот¬
ник укусил (“укусил” — перфект), лютый зверь скочил (“скочил” — пер¬
фект) ко мне на бедры и конь со мной опрокинул (“поверже” — аорист). И
Бог сохранил меня (“сблюде” — аорист) невредимым»6.
Как показывает перевод, выбор аориста или совершенной формы
мало связан с временем действия. Он служит в качестве показателя
духовного стиля дискурса. Переход на аорист в последнем предложе¬
нии, где автор ссылается на божье провидение, вполне уместен. Одна¬
5 Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. С. 33.
6 Повесть временных лет. Т. I. С. 162. Перевод в: Medieval Russia: A Source
Book, 850-1700 and Tales/ed. Basil Dmyryshyn. N. Y., 1974. P. 401.
164
ко этот переход уже произошел в предыдущем предложении, по теме
и логике повествования относящееся к предшествующей последова¬
тельности событий, которые до этой точки передавались цепочкой
совершенного прошлого. Почему же в таком случае переход к аори¬
сту? Создается впечатление, что автор уже в этой точке предвосхи¬
щает будущий поворот истории к благочестивому стилю, и это пред¬
восхищение вызвало использование аориста в последнем «мирском»
сегменте, как своего рода предвестие предстоящего благочестивого
заключения. Весьма вероятно, что смена формы была ненамеренной
и подсказывалась внезапным приливом благочестивой настроенно¬
сти. В этом примере любопытна спонтанность, с какой переход автор¬
ской позиции мог быть переведен в выбор языковой формы.
Аввакум пользуется аористом совершенно так же, как Мономах,
несмотря на то, что к концу XVII столетия аорист еще дальше отошел
от спонтанной языковой практики, чем это было во времена Моно-
маха. Но все-таки к нему время от времени прибегали в секулярном
языке и употребляли в литургических текстах, и его значение как
признака священного дискурса продолжало остро чувствоваться —
до такой степени, что использование Аввакумом аориста оказывается
даже более соответствующим настрою повествования, чем у Моно-
маха. Вот как он начинает историю своей жизни:
«Отец ми бысть священник Петр, мати — Мария, инока Марфа. Отец же
мой прилежаше пития хмельнова; мати же моя постница и молитвенница
бысть, всегда учаше мя страху божию. Аз же некогда видев у соседа ско¬
тину умершу, и той нощи, восставше, пред образом плакався довольно о
душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по
вся нощи молитися. Потом мати моя овдовела, а я осиротел молод и от
своих соплеменник во изгнании быхом. Изволила мати меня женить. Аз
же пресвятей богородице молихся, да даст ми жену помощницу ко спасе¬
нию. И в том же селе девица, сиротина ж, беспрестанно обыкла ходить во
церковь, — имя ей Анастасия. Отец ея был кузнец, именем Марко, богат
гораздо; а егда умре, после ево вся истощилось»7.
Рассказывая об отце, Аввакум пользуется аористом глагола
«быть»: «бысть священник». Однако несколькими предложениями
ниже упоминается отец его невесты, и Аввакум использует в син¬
таксически идентичном предложении перфектнукгформу того же
глагола: «был кузнец». Смена одной формы на другую была, по всей
вероятности, чисто интуитивной: упоминание священника, даже
«увлекавшегося сильным питием», привлекает аорист, форму, ассо¬
циирующуюся с церковнославянским дискурсом, а кузнец требует
7 Житие протопопа Аввакума... С. 31. Перевод в: Medieval Russsia’s Epics,
Chronicles, and Tales / ed. Serge Zenkovsky. N. Y., 1974. P. 401.
165
выбора перфектной формы, типичной для разговорного языка. Даже
тот факт, что священник пьяница, передается высоким славянизиро¬
ванным выражением — «прилежаше пития хмельного», где использу¬
ется другая редкая форма простого прошедшего (имперфект) наряду
с абстрактным существительным в его церковнославянской версии
(разговорная форма была бы «питья»).
3. Риторика как ключ к знанию
Герой «Жития Святого Стефана, епископа Пермского» Епифания
Премудрого (ок. 1400) посвятил свою жизнь миссионерской работе
среди пермяков, отдаленного финно-угорского племени в районе Се¬
верного Урала. Он перевел Священное писание на пермяцкий язык,
создал буквы для его записи, крестил людей и проповедовал христи¬
анство на их родном языке. «Житие», написанное Епифанием, уче¬
ником святого, один из главных примеров орнаментального стиля,
известного как «плетение словес», его дискурс насыщен длинными
вплетенными в повествование периодами, многослойными паралле¬
лизмами, декоративными перифразами, густо повторяющимися зву¬
ками. Зародившись в предшествующем веке на Балканах, этот стиль
в конце концов стал популярным в Московии.
Предмет епифаниевского «Жития» был, наверное, очень вдох¬
новляющим для него самого и его читателей, т. к. святой подвиг Сте¬
фана повторил достижения «славянских апостолов» Константина
(Кирилла) и Мефодия, которые в IX в. перевели Священное писание
на славянский язык и записали его созданными ими буквами, это со¬
бытие возвестило начало церковнославянского языка и славянского
христианства. Ко времени Епифания первоначальный церковносла¬
вянский ушел в далекое и очень смутное время. От этого его роль как
главного источника духовного авторитета не изменилась. Для того
чтобы облачиться в мантию такой авторитетности, писатель должен
был изъясняться словами, будто бы исходящими из этого священно¬
го языкового источника, хранилища и гаранта святости и всеобъем¬
лющей мудрости. Такое влияние было, главным образом, символиче¬
ским, потому что подразумеваемые нормы, как они воспринимались
писателем XV-XVI вв., на деле были весьма далеки от церковно-
славянского IX-X вв. по фонетике, морфологии и даже лексикону.
Для того чтобы следовать идеалу архаической чистоты, нужно было
заново придумать предполагаемый идеал таким образом, чтобы со¬
чинение казалось трепетно подлинным в отношении оригинала и
в то же время в современном восприятии не вызывало ощущения
«отчужденности».
166
Епифанию удался очевидный парадокс: он создает впечатление
архаической торжественности с помощью поразительной инноваци¬
онности. Он создает множество неологизмов, зачастую очень смелых.
Например, оплакивая смерть святого, пермяки жалуются, что теперь
им «горопленным и волкохищным быти»8. Такие необычные сочета¬
ния больше напоминают гомеровы сложные эпитеты, чем что-либо
из того, что можно ожидать встретить в подлинно церковнославян¬
ских текстах. Синтаксис Епифания, хотя и следовал риторическим
образцам церковнославянского ораторского стиля (который, в свою
очередь, повторял образцы греческих оригиналов), но раздвигал их
рамки до того широко, что иногда текст, казалось, готов был рассы¬
паться под тяжестью нескончаемого изощренного украшательства.
Эта футуристическая переделка архаического подталкивала к сим¬
волическому использованию языка. Здесь тоже выбор определенного
выражения или грамматической формы кажется мотивированным не
столько языковыми нормами (какими бы нечеткими они ни были),
сколько восприятием символических обертонов языкового выбора.
Искусно манипулируя этими вторичными символическими значени¬
ями, автор выражал сложные метафизические и богословские идеи
не прямо, а посредством манипулирования языковыми средствами.
Сам религиозный текст выводит на сложные метафизические, богос¬
ловские, этические и даже научные концепции, воплощенные в ис¬
пользовании определенных риторических моделей. Перестав быть
лишь средством передачи концептуального знания, язык превратил¬
ся в это самое знание.
Для того чтобы пояснить это рассуждение, рассмотрим отрывок
из «Жития Стефана Пермского», в котором Епифаний превозносит
достижения святого в создании пермяцкой письменности:
Коль много лет мнози философи елиньстии сбирали и съставливали гра¬
моту греческую, и едва уставили мноземи труды и многими времены едва
сложили. А Пермьскую же грамоту единъ чернець сложилъ, единъ съста-
вилъ, единъ счинилъ, единъ калогеръ, единъ мних, единъ инок, Стефан
глаголю, приснопомнимыи епископъ, единъ во едино время и не по многа
времена и лета якоже и они, но единъ инокъ, единъ въ единеньи уеди¬
нялся, единъ единенъ, единъ единого Бога на помощь призывая, единъ
единому Богу моляся.9
В этом отрывке можно увидеть стандартный прием, которым
пользуются идеологи зарождающихся наций для того, чтобы придать
авторитет своей идентичности: «другие», возможно, явились раньше,
8 Епифаний Премудрый. Житие св. Стефана, епископа Пермского / ред.
В. Г. Дружинин. СПб., 1897 (репр. The Hague, 1959). С. 87.
9 Там же. С. 71-72.
167
чем мы, и потому им досталась вся слава, но фактически мы сделали
то же самое, но много лучше, хотя и позже. Однако тезис, что Стефан
«в одиночку» полностью достиг того, что удалось сделать «многим
эллинским философам» приблизительно, повторяется многократ¬
но; различные перефразированные выражения оказываются упо¬
требленными настолько густо (обыгрывая повтор «один» — «един»
и его производные), что внимание читателя неизбежно обращается к
противопоставлению «один против многих». Следуя этому противо¬
поставлению, проявляющемуся во множестве вариантов, мы замеча¬
ем, что его значение постепенно переходит от прямого утверждения
уникальности Стефана (по сравнению с эллинскими философами) к
одиночеству, в котором он в молитве взывает к богу о помощи, и в
конце концов к главной богословской идее одного Бога. Следуя это¬
му континууму символических обертонов, мы начинаем в множестве
«философов» воспринимать известную слабость, которая глубже, чем
лишь меньшая продуктивность в сравнении с достижениями одино¬
кого русского затворника. Так или иначе, в соответствии со следую¬
щей из ткани текста подспудной логикой, идея «многих» философов,
проведших «многие» годы и приложивших «много труда» для выпол¬
нения своей работы, уклоняется от идеала единого Бога; для дости¬
жения интимной близости с этим идеалом нужен «один затворник»,
укрывшийся в своем уединении. Попросту говоря (чего, конечно,
нельзя сказать о Епифании), множественность древних философов
отдает язычеством, каким бы святым делом они не занимались, а под¬
линная святость подвига Стефана доказывается тем фактом, что он
символически соответствует одиночеству бога в момент создания
мира.
Однако утверждение уникальности Стефана как признак тесной
близости к единственному богу составляет только часть значения,
исподволь заложенного в сообщении. Сложность богословской кон¬
цепции бога состояла в том, что абсолютное утверждение единствен¬
ности бога уравновешивалось приписыванием ему множества атри¬
бутов, ипостасей и имен. Сложная, даже парадоксальная природа
идеи единства бога, с наибольшей очевидностью проявлявшаяся в
Святой Троице, была центральной точкой, вокруг которой вращалось
все средневековое богословие и метафизика. Епифаний ни словом не
упоминает эту ученую традицию, хотя косвенно отсылает к ней в том,
как он рисует своего героя. Самая характерная черта Стефана Перм¬
ского, каким его описывает Епифаний, это то, что он объединяет в
одном человеке много разных ролей и функций, обычно распреде¬
ляющихся между разными людьми: роли и функции писателя, пере¬
водчика, каллиграфа, крестителя, проповедника, морального настав¬
ника и т. д. В отличие от коллективной множественности «эллинских
168
философов», его герой представляет интегрированное множество,
подобное множественности Бога. Разнообразие функций Стефана,
подобных атрибутам Бога, возникает из невыразимого абсолюта, це¬
лостного и уникального, и поэтому чем шире разнообразие, тем силь¬
нее идея конечного единства, которое из него следует.
Символический подтекст, указывающий, как Стефан совершал
свои подвиги «в одиночку», становится еще яснее благодаря обшир¬
ному постскриптуму, где автор в первом лице обращается непосред¬
ственно к читателю. Очевидным предметом его обращения являет¬
ся подразумеваемая неспособность автора найти достойные слова,
чтобы выразить величие субъекта, — типичный прием эпического
или ораторского дискурса. Епифаний использует этот элементар¬
ный риторический прием так, чтобы дискурс реверберировал с идеей
божественного единства во множественности. Он говорит, что не в
силах найти достойное имя для Стефана с учетом такого количества
подвигов:
«И я, многогрешный и неразумный, следуя словам восхвалений твоим,
слово плетя, и слово плодя, и словом почтить замышляя, и словесами вос¬
хваление собирая, и приобретая, и преплетая, скажу еще раз: как еще тебя
назвать? Вожаком ли заблудших, спасителем ли погибающих, наставни¬
ком ли ошибающихся, руководителем ли умопомраченных, очистите¬
лем ли оскверненных, заимодавцем ли разоренных, стражем ли воинов,
утешителем ли скорбящих, кормильцем ли голодных, подателем ли про¬
сящим, вразумителем ли несмышленых, помощником ли обиженных,
молителем усердным, ходатаем верным, язычников спасителем, бесов
проклинателем, кумиров погубителем, идолов разрушителем, богу слу¬
жителем, мудрости приверженцем, философии любителем, правды тво-
рителем, книг сказителем, пермской грамоты создателем? Много имен у
тебя, о епископ, много титулов стяжал ты, многих даров достоин, многи¬
ми добродетелями обогатился... О епископ, ты достоин многими благо¬
словениями обогатиться!»10
Этот необычайный перечень «имен» святого напоминает множе¬
ственность имен Бога в Библии; авторские жалобы на неспособность
найти одну-единственную формулу для своего предмета и состав¬
ленный им вместо этого перечень «имен» ставит его в метафизиче¬
скую позицию признания человеческой ограниченности творческих
способностей и языка, когда он имеет дело с трансцендентным и
абсолютным.
Такие богословские и философские концепции, как единство во
множественности, отношения между эмпирическим и трансцендент¬
ным или ограниченности языка как мирского воплощения абсолют -
10 Там же. С. 106; Medieval Russia’s Epics, Chronicles, and Tales. P. 262.
169
ного, в работе Епифания открыто не упоминаются. Но все-таки эти
проблемы не остаются незатронутыми, они звучат косвенно, и при¬
том весьма искусно, не прямо, а с помощью различных конфигура¬
ций самого языка. Стратегию обращения к кардинальным проблемам
бытия и веры, при которой избегается их прямое упоминание, а ис¬
пользуются перифразы и символические выражения, можно считать
одним из каналов для выражения «апофатической» веры в недоступ¬
ность бесконечного. Таким образом, еще раз сам выбор языковых
средств, а не прямые утверждения недвусмысленно подтверждают
важнейшие аспекты ценностей и идентичности автора.
Последствия статуса церковнославянского языка как языковой
основы русской культурной истории были двоякими. С одной сто¬
роны, восточные славяне получили богатый культурный язык, ко¬
торый мог проникать во все сферы коммуникации, от возвышенной
до повседневной, пропитывая их с различной степени. Церковносла¬
вянский одновременно был и близок, и далек от разговорного языка:
настолько близок, что невозможно было решительно разделить их, и
все-таки он явно стоял над ним как его высокое продолжение. Это
открывало бесконечное поле для возможностей играть с разными
степенями присутствия церковнославянского для создания символи¬
ческих эффектов. Выбор языка мог, таким образом, выступать в роли
главного средства выражения идеологических ценностей. С другой
стороны, однако, эта ситуация создавала культуру, преимуществен¬
но не видную для внешнего мира и имеющую к тому же тенденцию
считать это признаком ее священной уникальности. Погруженность
говорящих в мир скрытых значений, созданных постоянным сопри¬
сутствием в их языке возвышенного, была настолько глубокой, что не
было стимула искать иных языковых решений или смотреть на дру¬
гие языки. Отношение между церковнославянским языком и восточ¬
нославянской разговорной речью определяло и границу языкового
выражения, и ограничение смысла языковой идентичности.
Было бы опрометчиво проводить прямую аналогию между миром
средневековой Руси или Московии и сегодняшним днем. Начиная с
XVIII в. культурный язык больше не монополизируется закрытым
отношением между церковнославянским и разговорным языком, и,
как мы видели в начале главы, русский язык был открыт для гораздо
более широкого набора внешних стимулов. Но все-таки на протяже¬
нии всего этого периода в России и Советском Союзе средневековое
наследие ощущалось в самой интенсивности полемики вокруг языка.
Такая полемика разворачивалась не только по поводу более крупных
философских вопросов языковой специфичности России и ее иден¬
тичности, она переходила за их границы и затрагивала социальные
170
вопросы, вроде методов обучения языку, редакционной политики в
средствах массовой информации и прививаемого в обществе стили¬
стического вкуса. Невзирая на все изменения в самом языке и идео¬
логических ценностях, которые он должен был выражать, сам факт,
что такие вопросы языка остались спорными, помог сохраниться
ряду фундаментальных черт средневековой традиции. В особенности
это касается непрекращающихся споров по поводу разных уровней и
источников языка, сохраняющих для писателей потенциал использо¬
вания языковых форм как скрытой эмблемы значения для усиления
сообщения чисто стилистическими или риторическими средствами.
Такие возможности с течением времени отнюдь не уменьшились,
наоборот, в эпоху модернизма и последующую советскую эпоху они
расширились. Постсоветская разговорная практика добавила к этой
постоянно трансформирующейся, но стойкой традиции новый слой:
возможность пародировать фразы, построенные по советским кано¬
нам, что позволяет писателям передавать свое отношение и ценно¬
сти с помощью языковых форм, а не прямой формулировкой мысли.
Так в реальной культурной практике, несмотря на то, куда склоня¬
ется идеологическая мода, к «номинализму» или «реализму», рус¬
ская культура сохраняет устойчивую традицию распознавания самих
форм языка как носителей или маркеров идеологии и идентичности
и манипуляции ими.
Глава 9
БЫТ: ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
Катриона Келли
1. Название повседневной жизни
Русское слово быт означает что-то исключительно сущностное,
но не переводимое на другие европейские языки одним словом или
даже целой фразой. Повседневная жизнь, ежедневная жизнь, буд¬
ничное существование, материальная культура, частная жизнь, до¬
машняя жизнь — все эти разные оттенки значения сходятся в этом
термине. Иногда, но далеко не всегда, быт определяют как противо¬
поставление бытию, духовному существованию: в этом контексте
перевод слова быт был бы ближе к «земному существованию», а так¬
же «материальной жизни». Кроме того, быт иногда используется как
ценностное понятие — иносказание, вроде «скуки будничной жизни»,
передает возникающий привкус. В то же время быт часто используют
более ограниченно в значении «образ жизни» — как, например, в вы¬
ражении крестьянский быт («образ жизни русского крестьянина»).
Для аналитиков привычно переходить от языковых особенностей
к психологической определенности и говорить, что непереводимость
слова «быт» означает, что у русских иное, чем у западных европей¬
цев, отношение к обыденной жизни. Например, в недавней статье ли¬
тературного критика Игоря Шайтанова сказано: «Русское слово быт
имеет право на занесение в словари иностранных языков наравне с
“самоваром”, “интеллигенцией”, “борзой” и “спутником”. Дело в том,
что у других наций нет быта. Может показаться, что нигде еще не
существует такой тесной связи с повседневностью, балансирующей
на неустойчивой границе между ненавистью и сильным желанием
обладать и господствовать»1. Соображение Шайтанова необычно не
только потому, что допускает возможность двойственного отноше¬
ния русских к быту. Чаще всего утверждают, что враждебность или
безразличие к быту, особенно в смысле домашней жизни, устойчивая
отличительная характеристика русской идентичности. Эту интерпре¬
тацию поддерживают исторические свидетельства о православном
преклонении перед всем, что «не от мира сего» и свойственной пра¬
вославию подозрительности к мирской жизни, начиная от аскетиз¬
ма русских интеллектуалов в XIX в. до политических активистов и
художников-авангардистов советского периода. По словам Светланы
Бойм, «в борьбу с бытом были вовлечены все — и западники и славя¬
1 Шайтанов И. Бытовая история // Вопросы литературы. 2002. № 3-4.
172
нофилы девятнадцатого века, и романтики и модернисты, эстетики и
политические утописты, и большевики и монархисты»2.
Пишущие о России комментаторы, несомненно, по причине не¬
объятности, разнообразия и загадочности российского пространства
были склонны пытаться определить его, прибегая к обобщениям. На¬
пример, часто говорят, что у русских глубокая эмоциональная при¬
вязанность к авторитарному правлению, что чувство духовности
укоренилось в них глубже, чем на Западе, или что они в особенности
страстно привязаны к литературе. Идея, что у русских особые отно¬
шения с бытом, принадлежит к этому направлению упрощенчества
(в сущности, это оборотная сторона представления, что русские осо¬
бенно привязаны к духовному, что, естественно, потребовало бы от
них безразличия к материальному). Эти взгляды весьма популярны
среди иностранцев, как ввиду их прямолинейности («Россия в двух
словах»), так и потому, что это подчеркивает самобытность России.
Долгий период самоизоляции при советской власти и трудности со¬
вершения путешествия в Россию, связанные с бюрократическими
препонами и незнанием языка, породили убеждение, что повседнев¬
ная жизнь там должна быть непохожей на повседневную жизнь в дру¬
гих странах. Пабы можно считать типично английским явлением, но,
если подумать, немногие будут серьезно утверждать, что посещение
паба откроет глаза на сущность английской идентичности, или что
достаточно натянуть на себя тирольские кожаные штаны и выйти на
прогулку в Баварских Альпах, чтобы узнать о причинах возвышения
Третьего рейха. Но книги и статьи, пытающиеся сказать, что три часа,
проведенные за столом на русской кухне или в русской бане, позво¬
лят вам разобраться в сокровенных глубинах русского ума, почему-
то кажутся намного респектабельнее3. Надо признаться, что идею об
особом отношении русских к обыденной жизни нельзя считать чисто
западной. Русские авторы готовы ее поддержать вместе с западными
(сошлемся на Бойм и Шайтанова). По существу, идея будто русская
интеллектуальная культура находится в особенных отношениях с
бытом — характеризующихся прежде всего отталкиванием от него,
во второй половине XX в. стала одним из отличительных мифов этой
культуры.
Этот миф не становится слабее от того, что зиждется на шатких
исторических основах. Подобно всей христианской культуре, русское
православие всегда относилось к обмирщению неоднозначно. С одной
2 Svetlana Boym. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia.
Cambridge, MA, 1994. P. 1.
3 Недавний пример этого: Dale Pesmen. Russia and Soul: An Exploration.
Jthaca, 2000.
173
стороны, православие с особой строгостью следило за сексуальной
жизнью общества, с другой - русские монастыри, и мужские, и жен¬
ские, где именитым насельникам разрешалось иметь в своих кельях
собственную обстановку, были более мирскими, чем бенедиктинские
монастыри с их монахами, совершенно отрешенными от обыденных
забот домашней жизни. Если взять сферу светской жизни, то весьма
сомнительно, чтобы русские преподаватели стали бы терпеть прави¬
ла, установленные в Оксфордском и Кембриджском колледжах, где
до последних десятилетий XIX в. для преподавательского состава су¬
ществовал официальный запрет на брак и семью. И то, что русские
политики-радикалы и художники-модернисты не желали иметь дело
с обыденной жизнью было скорее типичным, а не исключительным
явлением конца XIX — начала XX в. По всей Европе и Америке сто¬
ронники авангарда проповедовали «здоровую жизнь», что означало
сведение домашней жизни к аскетическому минимализму, при кото¬
ром об отходах и суете домашнего существования говорить было не
принято, обычно обсуждению подлежали гигиенические и нехозяй¬
ственные характеристики человеческой деятельности в конкретном
жилье. Планирование домашней жизни было временным и простран¬
ственным — от отправления естественных надобностей по расписа¬
нию («регулярные привычки») до пунктуального режима приема
пищи, все по сложившейся за годы практике. Сентиментальный и
романтический культ «естественного» поведения уступил место духу
упорядочивания и урегулированности.
Нелюбовь к домашним делам не исключительное русское явле¬
ние, в русской культуре имело место и другое отношение к домашне¬
му. Вера в особое, русское, самозабвенное, аскетическое и стоическое
отношение к быту вообще и к жизненным трудностям в особенности
возобладала в период специфических исторических условий. Она
стала набирать силу в начале XX столетия, когда русский символизм
выразил свою неудовлетворенность обычным материальным миром,
отдавая предпочтение другой, более высокой реальности, существо¬
ванию в духовной плоскости сверкающего прекрасного. Поднятие
бытия (более абстрактной концепции) до положения желанного и
опорочивание быта шли рука об руку. В своих мемуарах («На рубе¬
же других столетий») поэт и писатель Андрей Белый (1880-1934) с
сожалением писал, что его отец был «пленником быта», в отличие от
сына, которого перенесенная им в возрасте двух лет скарлатина пре¬
вратила в преждевременного символиста.
Невзирая на приверженность советского режима к атеизму как
государственной идеологии, негативное отношение к быту пережи¬
ло большевистскую революцию 1917 г.: добровольный аскетизм стал
теперь способом украшения постоянного дефицита и неудобств, ко¬
174
торые должны были терпеть русские во время советской власти. Это
было особенно заметно среди интеллигенции, такой, как писатели,
находившиеся в оппозиции к советской власти: отвергнуть быт вы¬
глядело формой скрытого политического сопротивления, когда Ста¬
лин в 1934 г. объявил, что каждый советский гражданин имеет право
на «зажиточную жизнь». Чем больше советское правительство заве¬
ряло своих подданных, что процветание вполне законно, тем больше
противники советской власти презирали быт. Презрение к быту осо¬
бенно широко распространилось среди диссидентов в постсталин¬
ский период, когда советское правительство с еще большим напором
стало подтверждать право всякого гражданина на материальное бла¬
гополучие (обеспечение которого было провозглашено официальной
политикой Коммунистической партии на XXII съезде в 1961 г.), но не
сумело обеспечить производство и распределение товаров народного
потребления, а временами даже основных продовольственных това¬
ров, что было необходимо для поддержания мифа. Когда советские
журналы завели страницы потребителя и жалобы на дефицит стали
считаться законными, способность подняться над материальными
потребностями начала казаться знаком подлинного интеллектуаль¬
ного превосходства.
Впрочем, в другие периоды русской истории отношение к домаш¬
ним делам среди интеллектуалов было иным, менее аскетическим.
Конечно, не составляет труда проследить до XIX в. идею нацио¬
нальной идентичности, заложенной в сохранении неприятия быта,
и особенно в романтическом представлении о России, как «северной
стране», где искренность и прямота компенсируют недостаток лоска,
а выносливость — коварство. Но в самые патриотические периоды
русской истории идентичность всегда определялась намного много¬
образнее, чем просто в смысле «русское как противоположное ино¬
странному (западному), северное как противоположное южному».
Русские определяли свою идентичность с точки зрения отношения к
другим русским, а также к внешнему миру, и использование разных
определений быта было важным инструментом в этом процессе. Тер¬
мин быт в плане его значений и ассоциаций никогда не был абсолют¬
но неизменным и постоянно подвергался модуляциям. Это был еще и
термин, оказывавший влияние в социальном плане, им пользовались
социально и интеллектуально привилегированные слои общества для
Утверждения своей власти и формирования пространства, где могли
реализовать свою идентичность непривилегированные слои.
Обзор затрагивает оба аспекта истории быта, начиная с коротко¬
го экскурса в историю важных изменений в значении слова на про¬
тяжении XIX — начала XX в. Это предварительное рассмотрение
вопроса станет фоном для второй части главы, описания кампании
175
за изменение детского быта в 1920-х гг., особенно поучительного
примера того, как русская политическая и социальная элита данного
(раннесоветского) периода пыталась затушевать выражение русских
идентичностей (множественное число), чтобы выковать эффектив¬
ный миф национальной идентичности (единственное число), а также
того, какие трудности возникали при проведении этой кампании.
2. Использование «быта»: история термина
В конце XVIII — начале XIX столетия термином быт больше все¬
го пользовались в среде консервативных националистов, которые
прибегали к нему, чтобы возвращаться к дорогим их сердцу традици¬
ям русского дома: сохранению образа жизни большой патриархаль¬
ной семьи, а не распавшейся на небольшие домашние хозяйства, ти¬
пичные для современного города. Этим словом пользовался в конце
XVIII в. поэт Гаврила Державин (1743-1816) в «Похвале сельской
жизни» (1798), где рассказывалось о роли жены в ведении домашнего
хозяйства:
Как ею — русских честных жен
По древнему обыкновенью —
Весь быт, хозяйский снаряжен:
Дом тепл, чист, светл, и к возвращенью
С охоты мужа стол накрыт4.
В том же значении слово быт использовалось мыслителем-
славянофилом Иваном Киреевским (1806-1856) в его сочинении
1852 г. «О характере просвещения в Европе и его отношении к про¬
свещению в России». Когда слово «быт» использовалось в этногра¬
фических работах членов консервативных кругов, оно имело тот же
смысл. Как пишет Натаниэль Найт в пионерном исследовании Рус¬
ского географического общества:
«Концепция “быта” — совокупности материальных и культурных эле¬
ментов, составляющих определенный образ жизни — была уникальной
для русской этнографии. В отличие от представлений о цивилизации,
просвещении или культуре, которые господствовали в мышлении импе¬
риалистических этнографов как в России, так и на Западе, быт был не
иерархическим и не сопоставимым, у быта не существует уровней или
стадий. Сама этимология слова, происходящего от глагола “быть”, гово¬
рит б его сущности: быт значит быть»5.
4 Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1981. С. 37,139.
5 Nathaniel Knight. Science, Empire and Nationality: Ethnography in the
Russian Geographical Society. 1845-1855 // Imperial Russia: New Histories for
the Empire /ed. Jane Burbank and David L. Ransel. Bloomington, IN, 1999. P. 127.
176
Имеется много текстов, которые подтверждают утверждения
Найта. Среди них не только разные сочинения главного исследова¬
теля предмета этнографа Николая Надеждина, но и исследование
1842 г. «Записки о старом и новом русском быте» Екатерины Авдее¬
вой (1789-1865), также автора справочника о ведении хозяйства в
помощь проживающим в деревне русским, где объяснялось, как пре¬
творять идеал быта в жизнъ.
Тем не менее Найт ошибочно полагал, что для авторов такого рода
«у быта не существует уровней и стадий». Конечно, существовал не-
меняющийся идеал быта, в смысле уровня русской цивилизации как
образа жизни, еще не испорченного западными и городскими влияни¬
ями. Но быт мог меняться, разве что в худшую сторону: существовало
такое понятие, как «новый быт» наряду со «старым бытом». И этим
термином иногда пользовались в нейтральном релятивистском смыс¬
ле: даже консервативный лексикограф Владимир Даль (1801-1872),
составитель знаменитого «Толкового словаря живого великорусско¬
го языка» (впервые вышедшего в свет в 1861-1867 гг.) отдавал пред¬
почтение релятивистскому применению слова, вроде «помещичий
быт», «крестьянский быт» и вообще «английский/немецкий быт».
В каком-то смысле использование слова группами такого рода было
аналогичным непростому применению термина «культура» в поздне¬
советский период или того же термина в современных Англии или
Америке: оно означало одновременно образ жизни, в какой бы форме
он ни существовал, и идеал того, какой жизнью следовало жить.
Столь же неоднозначным был вопрос о том, как должно организо¬
вывать быт на практике, о чем писалось в более скромных источни¬
ках, вроде трактатов по домоводству, гигиене и другим аспектам обы¬
денной жизни, которые наводняли Россию середины XIX — начала
XX в. К началу XX в. образовалась настоящая пропасть между одним
типом поведенческой литературы, пропагандировавшим расплани¬
рованные и аскетические формы «рациональной жизни», и вторым,
с не меньшей страстностью превозносившим высокий уровень рас¬
ходов, а также изысканный декор. Именно в этот период ассоциация
между простым образом жизни и высоким уровнем мышления вышла
за пределы окраин интеллектуальной культуры и распространилась
в общественном сознании. К числу немногих видбЬ поведенческой
литературы, которая не подвергалась высмеиванию и пародирова¬
нию со стороны интеллектуалов начала XX в., относились книги по
здоровью и физической культуре; в то же время пристрастие нувори¬
шей к приобретению дорогих декоративных предметов безжалостно
выставлялось на посмешище в либеральных изданиях, вроде «Са¬
тирикона», авторы которого, отнюдь не по совпадению, в большин¬
стве своем были выходцами из семей интеллигенции. Эта неприязнь
177
к роскоши, излишествам и сибаритству перешла в советскую эпоху
отчасти из-за вкусов одного из самых могущественных интеллектуа¬
лов в российской истории — Владимира Ильича Ленина. Ленин был
фанатиком здорового образа жизни и физической культуры, его ра¬
ботоспособность, умение вести серьезные разговоры и нетерпимость
к курению поражали даже его близких сотрудников. Вернувшись в
1917 г. железной дорогой из Швейцарии в Россию, Ленин «потребо¬
вал, чтобы курение допускалось только в уборной» и ввел систему
пропусков, согласно которой те, кто хотел курить, получали пропуск
«второй категории» и должны были уступать очередь имеющим про¬
пуск «первой категории»6. Зародилась атмосфера поклонения гиги¬
ене и охране здоровья первых советских лет, не говоря уже про ту
одержимость справками, которая продолжала существовать в каче¬
стве призрака коммунизма надолго после распада СССР.
Тем не менее в первые советские годы в ходу было несколько ин¬
терпретаций быта. Влияние этнографического, релятивистского ис¬
пользования термина, чувствовалось, например, в создании «музеев
быта», исторических экспозиций, на которых демонстрировался об¬
раз жизни определенных слоев населения, — скажем, петербургских
купцов. Такое использование термина было также заметно в много¬
численных первых исследованиях рабочего быта, таких, как важное
издание о повседневной жизни московского рабочего Е. Кабо, вы¬
шедшее в 1928 г. С другой стороны, среди модернистских писателей
термин быт использовался как абсолютистский термин с оскорби¬
тельным оттенком для обозначения банального и ординарного су¬
ществования, которое эти неоромантики с презрением отвергали.
Третий вид использования термина быт, типичный для официаль¬
ной пропаганды (но не монополизированный ею), структурировал¬
ся вокруг парного противопоставления новый быт / старый быт и
лучше всего переводится как «новый порядок / старый порядок».
Лозунг «За новый быт!» емко выражал понимание того, что тради¬
ционная русская жизнь была «отсталой» и нуждалась в «модерниза¬
ции». Эта идея, как таковая, превратилась в клише еще во времена
Петра Великого, но одно нововведение раннего советского периода
явилось разделением двух процессов, которые до этого обычно ото¬
ждествлялись, «модернизации» и «европеизации». Создание «нового
быта» должно было основываться на приобретении западных мето¬
дов (например, «научного управления» в промышленности), но они,
как считалось, нуждаются в проверке в условиях советского обще¬
ства, коллективистского, эгалитарного и справедливого, в то время
как западные общества — индивидуалистические, эксплуататорские
6 Robert Service. Lenin: A Political Life. London, 1991. V. II. P. 153.
178
й бесчеловечные. Принципы «нового быта» должны были включать
не только трудолюбие, выдержку, трезвость, интеллектуальное само¬
совершенствование и преклонение перед научным прогрессом, все
это найдется и в западном капитализме, но еще и коммунальный быт
и атеизм, чего там не было.
Таким образом, быт может быть использован позитивно («новый
быт») и негативно («старый быт»). Но его вполне можно использо¬
вать и нейтрально (как это делается в этнографических исследова¬
ниях «рабочего быта»). Впрочем, нейтральное использование всегда
было маргинальным, даже до закрытия «музеев быта» и замены этно¬
графических исследований «рабочего быта» посредством фотопор¬
третов героев-тружеников в конце 1930-х гг. И вообще быт, особенно
в смысле личного, домашнего существования, непременно рассма¬
тривался как второстепенная сфера человеческой деятельности. Со¬
гласно официальной советской идеологии, погружение в быт было
равнозначно удалению от коллектива: советским идеалом был чело¬
век, который, по словам некролога героя-пионера Павлика Морозова
(1918-1932), прославившегося тем, что выдал своего отца советским
властям, «ставит интересы партии и рабочего класса выше личных
интересов»7. В последние годы третьего десятилетия наблюдался вы¬
сокий уровень согласия между официальным советским дискурсом и
дискурсом членов авангардистских групп писателей и художников.
Преувеличенная озабоченность бытом рассматривалась помехой на
пути в интеллектуальную жизнь, показателем отсталости и маркером
присоединения к мещанству и мелкой буржуазии.
3. Быт и социальная идентичность: расколотый эгалитаризм
Сами русские интеллектуалы понимали свою аскетическую не¬
терпимость как жест солидарности между интеллигенцией и рабочим
классом. По всей видимости, у этого взгляда были верные основания:
базирующаяся на самоограничении идеология действительно была
намного доступнее непривилегированным слоям населения, чем
основанная на безжалостном накоплении. В обиходной лексике куль¬
тивированного поведения в конце XIX — начале XX столетия звучала
и эгалитарная нотка. Вместо употреблявшихся ранее терминов (на¬
пример, породистости) термины культурность и интеллигентность
Делали культурное поведение свидетельством не происхождения,
а манеры поведения. В результате перед революцией одними из са¬
мых и после революции самыми красноречивыми выразителями ин¬
7 См.: Зверское убийство братьев Морозовых // Пионерская правда.
1932. № 102. С. 4.
179
теллигентского антибыта стали интеллигенты, выходцы из низших
слоев, собственными силами добившиеся положения в обществе, та¬
кие, как Антон Чехов (1860-1904), Максим Горький (1862-1936) и
Корней Чуковский (1882-1969). В своем знаменитом письме брату
Чехов определяет кредо интеллигентного поведения, в котором су¬
щественным условием интеллектуальной жизни считалось требова¬
тельное отношение к домашней жизни. Хорошо воспитанные люди
не должны спать в одежде, не обращать внимания на клопов, дышать
дурным воздухом, ступать на заплеванный пол или увлекаться поло¬
выми отношениями с женщинами. Они должны видеть в женщинах
«матерей, а не проституток», а их девизом должно быть mens Sana in
corpore sano8.
Как видно из чеховского высказывания о разном отношении к
женщинам, эгалитаризм интеллигентности никак нельзя было на¬
звать всесторонним и полным. Границы принятого подхода не отли¬
чались строгостью классового отбора, но в отношениях полов соблю¬
дались намного строже. Для того чтобы жить культурно, необходимо
следить за домом, но, тем не менее, тенденция погрязнуть в домаш¬
них делах оказывалась препятствием для приобретения культуры.
Из этого замкнутого круга нетрудно было выскользнуть мужчинам,
которые могли переложить домашние хлопоты на жен или прислу¬
гу9. Женщинам приходилось намного труднее, особенно после рево¬
люции, когда домашнее обслуживание не шло ни в какое сравнение с
тем, что было до 1917 г. Писательницы-модернистки, подобно своим
коллегам-мужчинам, с ужасом смотрели на быт, он им казался насто¬
ящим адом: теология поэмы Марины Цветаевой (1892-1941) «Лест¬
ница», в которой быт исчезает в очищающем пламени, имеет много
общего с поэмой Арсения Тарковского (1907-1989), где описывается
писательница XIX в. Елена Молоховец (1831-?), автор самой извест¬
ной русской кулинарной книги XIX века, и поэт видит ее постоянно,
даже после смерти, порабощенной чудовищным процессом приготов¬
ления пищи10. Разница заключалась в том, что для писательниц ад
8 Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. М., 1969-1978. Письма.
Т. I. С. 223-224.
9 Как сардонически замечает Джерри Смит в своей книге (G. S. Smith.
D. S. Mirsky: A Russian-English Life. Oxford, 2000. P. 19), «классический об¬
раз жизци русского мужчины-интеллигента имеет целью устранить какое
угодно унижающее его отношение к быту и нещадно эксплуатировать жену
и прислугу, чтобы свободно заниматься интеллектуальным или иным само¬
удовлетворением, оправдывая и рационализуя это с помощью разного рода
претенциозных моральных и этических уловок».
10 Цветаева М. Стихотворения и поэмы. Л., 1990. С. 555-568; Тарков¬
ский А. Избранное. М., 1982. С. 115.
180
был местом, куда им, как и другим женщинам, возможно, придется
переселиться.
То, что можно было бы назвать «дискриминационным эгалитариз¬
мом», заложенным в русском отношении к быту и идентичности, про¬
являлось и в советской пропаганде «нового быта». Самыми важными
целями пропаганды были социально подчиненные и социально мар¬
гинальные: рабочий класс и крестьянство, и в первую очередь жен¬
щины, которые относились к самым отсталым представителям этих
классов. Между миссионерскими попытками советских пропаганди¬
стов за «новый быт» и попытками дореволюционной радикальной
интеллигенции принести в русский народ образование и культуру
была определенная разница. Тот род интеллектуального популизма,
который вылился в движение «хождения в народ» 70-х годах XIX в.,
или в толстовство, желавшее найти общую почву между обычаем и
«современными» «гигиеническими» методами, в пропаганде и агита¬
ции первых лет советской власти места не нашел. Правильнее ска¬
зать, на народные обычаи ссылались исключительно в связи с при¬
зывами изменить их — например, кулинарную литературу, убеждая
крестьянок в преимуществах денатурата и примуса по сравнению с
традиционной деревенской печью.
4. Реформирование детской повседневной жизни:
изменение игры
Иерархия возрастов была столь же важной для «возрастного эга¬
литаризма», как «иерархия полов» для быта. Идеалом, к которому
призывала пропаганда здорового образа жизни, были не только муж¬
ские мускулы, но и юность, энергичность, ловкость, «закаленность
как сталь», для чего проводилась программа «зарядки» (гимнасти¬
ческие упражнения, поднятие тяжестей, тренировка). Если говорить
о пропаганде гигиены 1920-х гг., то настоящим бедствием считалась
старость, которую надо было всеми силами предотвращать, в том
числе с помощью техник искусственного омоложения, если другие
способы не помогали. Для того чтобы стать идеальным подданным
советской власти, не нужно было быть слишком старым, но также
не нужно было быть слишком молодым. Если старческое одряхле¬
ние определенно выходило за рамки дозволенного, то младенчество
пребывало где-то на границе с ним. Как показал в своем полном
безысходности романе «Мы» Евгений Замятин (1884-1937), в свер¬
кающих городах, созданных фантазией футуристов, не было места
Для родильных домов, в обыкновенных больницах, детских яслях и
Детских садах дети считались объектами «эмоциональной гигиены» и
санитарного контроля. Самый известный властитель дум 1920-х гг. по
181
охране материнства и младенчества. Георгий Сперанский писал, что
у ребенка с самого начала должна быть отдельная комната и «воспи¬
тание должно начинаться с первого дня его жизни»11. «Воспитания»
нужно добиваться не только средствами образования, но и транс¬
формацией повседневного существования ребенка. Были развернуты
пропагандистские кампании (с помощью дидактической литературы
для взрослых, а также колонок в журналах и газетах для детей, таких,
как «Пионерская правда») за внедрение гигиенических принципов: у
каждого ребенка должна быть собственная постель, полотенце и по¬
суда для приема пищи. Детей приучали серьезно относиться к школь¬
ным занятиям: в 1932 г., например, в дополнение к кампании «удар¬
ник труда» на советских заводах и фабриках проводилась кампания
«ударников-школьников».
Снова все это было «советским» больше на словах, чем в прин¬
ципах: в западных обществах данной эпохи детей точно так же счи¬
тали «будущим общества», и образование не сходило с повестки дня
политических дебатов. По всем западным странам проходили кам¬
пании за внимание к здоровью и гигиене, приезжавшие в Россию в
1920-х гг. иностранцы одобрительно отзывались о советских усилиях
в этом направлении, восхищаясь образцовыми родильными домами
и детскими садами, которые им показали. Более спорными и опре¬
деленно имеющими международный контекст были официальные
советские взгляды на детей как зарождающихся граждан в смысле
участия в политической борьбе. Детей не только поощряли к актив¬
ному участию в политических дискуссиях, но также и к перестрой¬
ке советского общества. Члены пионерского движения, юное крыло
комсомола (Союза коммунистической молодежи), помогали распро¬
странять предвыборные листовки, материалы о современных мето¬
дах ведения сельского хозяйства среди жителей сел и деревень, вы¬
ступали в роли курьеров, разнося книги от дома к дому, разъясняли
своим скептически, а иногда и просто презрительно настроенным ро¬
дителям и родственникам выгоды советской власти.
Такой подход к детям как преданным политическим активистам
не означал, что дети находились под полным контролем. Дети всегда
подчинялись старшим: пионерское движение на протяжении всего
своего существования было отделом Центрального комитета комсо¬
мола («детское бюро»), а не автономной организацией: пионерские
вожатые Должны были быть членами комсомола, а не старшими пио¬
нерами; учителей постоянно инструктировали не позволять детям
слишком большой самостоятельности и самоуправления. Как рас- 1111 Сперанский Г. Уход за ребенком раннего возраста. 4-е изд. М., 1929.
С. 117,107, 129.
182
сказывала Беатрис Кинг, английский специалист в области педаго¬
гики, близко знакомая с довоенным советским образованием, «дети
до двенадцати лет фактически участвуют только номинально в ру¬
ководстве школьной жизнью, которая, как считается, отдается под
их управление»12. В той же степени реформа их жизни вне школы
регулировалась взрослыми, дети же проводили мероприятия и рас¬
пространяли пропаганду, которые разрабатывались старшими. Как
это происходило, хорошо видно на примере кампании по распростра¬
нению новых детских игр, иначе говоря, по привитию детям соответ¬
ствующих способов проведения свободного времени.
Для многих ведущих фигур советского политического истеблиш¬
мента, вроде жены Ленина, Надежды Крупской (1869-1939), игра
была инструментальной деятельностью, ветвью «образования для
труда», с помощью которого дети приобретали навыки, которые при¬
годятся им в последующей жизни. Такой подход к детским играм имел
давнее происхождение, об этом писали еще такие западные теоретики
воспитания, как Локк и Фребель. А Руссо, несмотря на проповедова¬
ние свободного воспитания, тоже смотрел на игру, как на инструмент
нравственного образования: скажем, игры в темноте полезны, потому
что помогают детям преодолевать боязнь темноты: «Пусть он смеется,
когда входит в темноту; пусть смеется и перед выходом оттуда; пока
он там, пусть мысль об оставленных за дверью забавах и о тех, кто
его ожидает, отвлекает его от фантастичных представлений, которые
могли бы его там преследовать»13. К концу XIX в. начал развиваться
другой подход к детским играм: теперь их рассматривали как про¬
явление определенной детской психологии, отличие детей от взрос¬
лых. Итальянский психолог Джиованни Колоцца, работу которого о
воспитании детей перевели на русский в 1909 г., писал, что «игра это
свободное и очень важное выражение тех внутренних вещей, которые
нуждаются во внешнем выражении»14.
Было бы большим упрощением думать, будто подход к детской
игре в 1920-х гг. был поголовно рационалистическим. Особенно в
первой половине десятилетия игру понимали как свободное твор¬
ческое пространство, как его видел Колоцци (а также английские и
американские «педологи» 1890-х гг.). Несколько известных психо¬
логических и этнографических исследований подчеркивали значе¬
12 Beatrice King. Changing Man: the Education System of the USSR. Lon¬
don, 1936. P.99.
13 Ж.-Ж Руссо. Эмиль, книга 2. И, цит. по переводу Е. Н. Бируковой по
изданию: Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. М., 1961.
14 Дж. Колоцца (Giovanny Colozza). Детские игры: их психлогическое и
педагогическое значение. М., 1909.
183
ние игр, особенно лингвистических, как выражение специфических
черт детского менталитета. Первая экспериментальная станция Нар-
компроса, существовавшая с 1919 по 1932 г., проводила ценные ис¬
следования игры, как части своей новаторской работы по учебным
программам для детских садов и начальной школы. В детском саду
и классах начальной школы, работавших при станции, поощрялось
самовыражение детей.
Впрочем, с 1925 г. все большее значение стали придавать образо¬
вательному значению игр. Идеальные советские дети должны были
проводить досуг преимущественно в гармоничных благопристойных
группах, где имеются образовательные игрушки, вроде мячей, куби¬
ков, пирамид, игрушки в виде фигурок представителей разных на¬
родов (кукол в костюмах советских национальных меньшинств, что
должно было прививать интернационалистические отношения), если
они были еще маленькие. Дети постарше должны были принимать
участие в целевых ролевых играх15. Все это, конечно, игнорировало
потребности детей, которые с большим удовольствием носили бы
красивую одежду и букли, чем льняные халатики, получали бы боль¬
ше удовольствия от игры с куклами, чем с игрушечными грузович¬
ками и тракторами, и предпочли бы копаться в глине и делать песоч¬
ные куличи, а не строить миниатюрные конструктивистские здания
из деревянных кубиков. Но вопрос о том, чего хотят дети, интересо¬
вал педагогов меньше, чем то, чего они как будущие многообещаю¬
щие члены гармонического советского коллектива должны хотеть.
В результате многие игры, в которые дети на самом деле играли, в
нормативных источниках подавались крайне враждебно, как часть
«старого быта». Например, в «методических письмах», рассылав¬
шихся Наркомпросом в конце 1920-х гг. и в качестве рекомендаций
воспитателям детских садов по работе с детьми, проводилось строгое
различие между приемлемыми и неприемлемыми формами игр. Важ¬
но, говорилось в брошюре, чтобы такие проявления отсталости, как
«драки, пьянство, суеверия, грубость, неряшливость, лживость, лень,
трусость, обман и социальный изоляционизм» никак не отражались
в детской активности16. Воспитатель был обязан оставаться вблизи
детей, занятых игрой, время от времени вмешиваясь в игру, чтобы
исправить ситуацию, если казалось, что она принимает опасное на¬
правление, и чтобы настраивать детей на игры, в которых проводится
позитивное отношение к советской реальности. Если дети играли в
поезд и вспыхивала ссора, воспитатель должен был сказать: «А где
15 См.: Методические письма по дошкольному воспитанию: Игра и труд
дошкольника. М., 1927.
16 Там же. С. 16.
184
кондуктор?» или «А где машинист?» Детей, которых не взяли играть
в поезд, следовало организовать, сделав вид, будто они ремонтируют
другой поезд в депо, чтобы все дети занимались одним и тем же. По
мере того как дети росли, их следовало отвлекать от игр как таковых
и переключать на действия, которые будут намного ближе к рабо¬
те. Младшая группа может играть в «Огород дяди Якова», это была
игра, по-видимому, основанная на сказке Беатрис Поттер «Кролик
Питер», где группа «кроликов» пыталась украсть у дядюшки Якова
салат, а старшая группа должна была сделать свой огород и ухажи¬
вать за ним. Хотя какое-то пространство для творческих проявлений
детей оставлялось, но было очень важно, чтобы в играх отражался не
один только мир фантазий17.
Таким образом, предполагалось, что игра будет способствовать
быстрому и беспроблемному вхождению в рациональный взрослый
коллектив и происходить она должна была под наблюдением от¬
ветственных взрослых (не обязательно родителей). У этой медали
была обратная сторона — опасность неконтролируемой игры, того,
что оставленные без надзора дети разойдутся и начнут хулиганить.
В «Рассказе о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулига¬
не Ваське Табуреткине и злом коте Хаме» Алексея Толстого (1883—
1945), написанном в середине 1920-х гг. Васька, «неприятный юноша
с курносым носом, пожелтевшими от курева губами, выпяченными
глазами и челкой до бровей», который никогда ничего не делал, вы¬
могал деньги у своей матери и только и думал, что бы такое набедо¬
курить или как достать пятьдесят копеек на пиво и дорогие сигареты
«Самородок», противопоставляется Мите Стрельникову, который
все свое свободное время проводит за чтением поучительных рас¬
сказов о полярных исследователях. Конфликт Васька — Митя проис¬
ходит параллельно смертельной схватке между наводившим на всех
ужас котярой Хамом и Снежком, чистой и ухоженной домашней ко¬
шечкой из коммунальной квартиры Мити18.
В 1920 — начале 1930-х гг. игру без надзора со стороны взрослых
считали проявлением недостаточного надзора в более широком пла¬
не, как беспризорность. Беспризорность была не только широкомас¬
штабной социальной проблемой (в 1922 г. в советских детских до¬
мах пребывали не менее 600 000 детей, составлявших только часть
брошенных детей). Это была также идеологическая проблема — ско¬
рее проблема «родительской безответственности», а не «брошенных
Детей».
17 Там же. С. 15-16,22,25,20.
18 Толстой А. Н. Поли. собр. соч. М., 1948. Т. XII. С. 52.
185
Вот как в 1925 г. об этом писал детский журнал «Воробей»:
«В каждом квартале живут дети, предоставленные самим себе.
И никто не показывает им, как пользоваться свободным временем.
Они собираются во дворе, покрытом мусором, старым хламом и вся¬
кими отбросами. Там на мусорных кучах дворовые ребята проводят
время.
Они собираются каждое утро. “Что будем делать сегодня?”, — спра¬
шивают дети. Ответа нет — ответ дать некому. Вчера они распевали
песни, но спели все, что знают. Они бы поиграли, но нет никакой игры.
Они хотят куда-нибудь сходить, но рынок — единственное место, куда
они могут пойти. И так каждый день, день за днем...
Но потом у них кончились деньги. Стибрить у отца или пойти на
рынок и “купить” что-нибудь просто так, без денег, у торговца, который
засмотрелся в другую сторону? Один раз это сходит с рук, но второй
раз их ловят: и вот, пожалуйста, теперь у вас новый беспризорный»19.
Двор постоянно называют центром преступного поведения такого
рода: «Пионерская правда» в 1927 г. публиковала рассказы о маль¬
чишках, только и ищущих повода подраться, пишущих на стенах и за¬
борах, возящихся в грязи, мучающих птиц20. Но это не единственное
место, где процветала преступность. Опасной была улица вообще. Ра¬
бота Златы Лилиной «Родители, учитесь воспитывать своих детей»,
например, с тревогой ставит вопрос о ситуации в общежитии рабочих
Старо-Глуховской фабрики на реке Клязьме, неподалеку от Москвы.
Взрослые пьянствуют, «пиликают на гармошке», матерятся и устраи¬
вают драки, в коридоре стоит вонь, а дети предоставлены самим себе.
Они проводят время, валяясь на цементном полу, играют в карты на
деньги, стянутые у родителей в общежитии, пробираются в кино на
фильмы с Гарри Пилем, напиваются и громят «красный уголок», этот
храм культуры в общежитии, слоняются по улице или заражаются
венерическими болезнями21.
Как видно из сказанного, те, кто пропагандировал кампании за
«новый быт», не проводили различия между действиями, которые
действительно несли угрозу здоровью (вроде пьянства), отличались
жестокостью (вроде издевательства над птицами), носили преступ¬
ный характер (вроде воровства), и теми, что просто коробили эсте¬
тические взгляды заботившихся о здоровом образе жизни советских
взрослых (Например, картежные игры, надписи на стенах и заборах
19 Наш дневник: работа во дворе // Воробей. 1925. № 9. С. 29.
20 См.: Забыли организованных // Пионерская правда. 1927. № 19. С. 1. и
Шнайдер Л. Дом № 53 по Смоленскому бульвару // Указ. соч. С. 7.
21 Лилина 3. «Родители, учитесь воспитывать своих детей». М., 1929.
С. 5-9.
186
или просмотр западных фильмов). Точно так же места для прове¬
дения досуга детьми имели совершенно иное символическое звуча¬
ние — дворы, общие места коммунальных квартир или бараков, город¬
ские улицы, поля и улицы в сельской местности — все перемешалось
в одном общем плавильном чане девиантного поведения, того, что
юные пионеры в письме Сталину в октябре 1924 г. презрительно на¬
звали «обыкновенной детской жизнью, жизнью без цели»22.
Пионерское движение в том виде, в каком оно существовало в
1920-е гг., должно было являться воплощением целей борьбы за «но¬
вый быт» и средством насаждения их в детскую пропаганду вообще.
Главная обязанность пионеров заключалась в донесении до сверстни¬
ков мысли: «Кто умеет играть дружно, тот умеет и жить дружно»23.
Как пионерская пропаганда, так и пионерские агитационные инициа¬
тивы вели беспощадное наступление коммунистического коллектива
на не членов организации или «неорганизованных» детей, если поль¬
зоваться языком того времени. Это осуществлялось не только по¬
средством политического образования, как такового, но еще и через
систему рационального досуга. Как писалось в статье журнала «Пио¬
нер», традиционные развлечения детей заключались в том, что они
«слонялись по улице» и по двору. Один деревенский пионерский от¬
ряд в московской губернии в июле 1925 г. должен был организовать
пение хором, загорание на солнце и игры с «неорганизованными»
детьми, приглашая их вместе сходить за грибами и ягодами, вместе
искупаться, вместе почитать и обсудить детскую литературу. Предпо¬
лагалось, что это будет «противовесом случайным развлечениям»24.
План включал большую часть типов рационального досуга для де¬
тей: борьбу за гигиену, интеллектуальный досуг и организованный
спорт, — но, как это ни удивительно, в нем отсутствовали политиче¬
ски окрашенные «массовые игры», стандартный пункт рациональных
досуговых программ. Например, в 1924 г. пионеры рабочего района
Хамовники в Москве, обрядившись в белые капюшоны и халаты,
22 «До сих пор мы слонялись по улицам города и живем обычной детской
жизнью, совершенно бесцельной. Но 12 сентября для нас открылась новая
страница жизни. Мы стали коммунистическим коллективов» (Письмо ро¬
стовского городского отряда И. В. Сталину. 23 октября 1924 г. // Центр хра¬
нения документов молодежных организаций (ЦХДМО). Ф. 1. Оп. 23. Д. 458.
Л. 17).
23 Сурожский И. Пионер в жизни // Пионер. 1924. № 2. С. 8.
24 Центральный архив общественных движение Москвы (ЦАОДМ).
Ф. 1884. On. 1. Д. 52. Л. 20 (план Веневского уезда Московской губернии).
О такой же деятельности в городском дворе см.: Двор стал пионерским //
Пионерская правда. 1933. № 81. С. 4-5.
187
принимали участие в «фашистских похоронах», своего рода комму¬
нистическом аутодафе, где пользовались костюмами Ку-клукс-клана
(членов клана в советской прессе называли «американскими фаши¬
стами»), чтобы высмеивать фашистские ритуалы25.
Попытки трансформировать детскую игру в упорядоченную и це¬
ленаправленную деятельность были, таким образом, главной частью
советской кампании за «новый быт» начала советского периода. Эту
кампанию двигало желание освободить детей от бремени традиций и
от «обыкновенной детской жизни без цели». Остается задать вопрос,
насколько преуспели реформаторы в переделке детского быта и, со¬
ответственно, в формировании их идентичности. Предпринимавшие¬
ся с добрыми намерениями попытки улучшить условия жизни детей
рабочего класса часто спотыкались о практические трудности. В про¬
токолах встречи родителей и воспитателей Центрального детского
сада Первой экспериментальной станции Наркомпроса описывает¬
ся довольно трагическое столкновение идеалистических ожиданий
учителей с неисправимыми трудными условиями, в которых жили
семьи воспитанников. Одна мать сказала, что с радостью сделала
бы своим детям отдельные постели, но просто у нее нет на это де¬
нег. Другая женщина возражала, что если положить детей отдельно,
то зимой одному из них придется спать без одеяла26. Даже советские
детские дома, считавшиеся горнилами гигиенического коллективно¬
го воспитания, часто оказывались не в состоянии проводить в жизнь
идеалы: доклады, и открытые и секретные, полнились сведениями об
утопающих в грязи, плохо оборудованных учреждениях, не обеспе¬
чивающих воспитанников необходимым питанием27. Трудности та¬
кого рода часто преследовали реформу образования, спускавшимся
«сверху» изменениям мешала также позиция многих учителей, ко¬
торые либо не могли разобраться в новых методологиях, либо были
полны решимости не работать по ним. Из двух типов помех — фи¬
зических и психологических — самое большое значение в кампании
по революционизации детской игры имели психологические. Неко¬
торые типы рационального досуга требовали оборудования: невоз¬
25 Пионер. 1924. № 4. С. 15; о термине «американский фашист» см.: Пио¬
нер. 1924. №7. С. 17.
26 Российская Академия образования (бывшая Академия педагогиче¬
ских наук). Научный архив (РАО НА). Ф. 1. On. 1. Д. 145. Л. 59 (Собрание
19 марта 1924). По словам И. Шангиной (Русские дети и их игры. СПб., 2000.
С. 27), в русских деревнях одеяла были большой редкостью и имелись только
в богатых домах.
27 См., например: Белев. Забытый участок // Советская юстиция. 1932.
№ 13. С. 26.
188
можно было организовать футбольную игру или волейбол без мя¬
чей, но мячи были дефицитом до самого начала 1930-х гг. В то же
время многие ролевые массовые игры можно проводить вообще без
специального снаряжения или оборудования. А вот природа челове¬
ческого материала была много проблематичней. Пионерское движе¬
ние должно было стать осью активистской деятельности, но все-таки
все 1920-е и начало 1930-х гг. оно оставалось распыленным. Большая
часть его членов имела весьма смутное представление о том, в чем со¬
стояли цели движения. По словам недовольного таким положением
комсомольского активиста одного из районов Москвы, сказанным в
1924 г., «часто наши пионеры не знают, что значит слово “пионер”»28.
Другие дети были не столько невеждами, сколько озорниками, и на
страницах «Пионерской правды» то и дело появлялись карикатуры
и сатирические заметки, высмеивавшие плохое поведение на собра¬
ниях и показывавшие, что это случалось повсеместно. Но если не¬
которые пионеры и в самом деле не годились на роль организаторов
рационального досуга, то активным и политически грамотным вовсе
не обязательно было с энтузиазмом соглашаться, когда их запихива¬
ли в участники игр, как бы они ни были подкованы идеологически.
В ответ на вопрос иностранного гостя в 1932 г., почему она не носит
пионерского галстука, одна девочка ответила: «Мы не делаем ничего,
ради чего имело бы смысл вступить в пионеры». Девочку разочаровы¬
вало, что ее используют на каких-то пустяках, вроде сбора вырезок из
газет или написания письма немецким пионерам, за которое отвечал
ее отряд29. Если учесть, что некоторые пионеры не знали, как занять¬
ся серьезной политической работой, а другие изнывали от «детских»
заданий, то неудивительно, что присутствие пионеров в каком-либо
городском районе не всегда сказывалось на уменьшении нежелатель¬
ных форм детских игр30.
Имелись и другие проблемы. Мотивы, подталкивающие совет¬
скую власть изменить природу детской игры, были не просто связаны
с желанием превратить новые поколения в покорных граждан. Счи¬
талось, что каждый ребенок имеет право на более длительный срок
образования, свободу от необходимости наниматься на работу за
Деньги и получение воспитания, основанного на морали. До револю¬
ции такого рода «продленное детство» получали исключительно дети
из экономической и культурной элиты, и эти дети обычно играли в
садах при особняках родителей или вне их вместе с детьми того же
28 ЦАОДМ. Ф. 634. On. 1. Д. 35. Л. 82.
29 Ella Winter. Red Virtue:Human Relationships in the New Russia. London,
1933. P. 215.
30 См., например: Шнайдер. Дом № 53.
189
класса. Но попытка «цивилизовать» детство споткнулась о природу
городской среды, связанную с нехваткой пространства, подходящего
для «рационального детства». Детские площадки имелись, но их было
крайне мало, и они предназначались для детей дошкольного возрас¬
та; престижные дома культуры (а с 1936-1937 гг. и дворцы пионе¬
ров) и парки культуры и отдыха были местами для периодического
посещения, а не для ежедневного использования. Даже в последние
десятилетия советской власти двор или улица в сухую погоду и ко¬
ридор в коммунальной квартире или бараке, когда слишком мокро
или холодно, чтобы выходить из дома, оставались местами, где игра¬
ло большинство городских ребят.
Больше того, скученность вместе представителей разных социаль¬
ных слоев в результате «уплотнений», т. е. переселения жильцов из
рабочего класса в принадлежавшие прежде буржуазии квартиры для
одной семьи, также вела к «демократизации» пространства детских
игр. В целом в коридорах и квартирах тон задавали дети пролетар¬
ских семей. Во дворе дома Вадима Шефнера всеобщее восхищение
вызывал тринадцатилетний мальчишка по прозвищу Огурец, хва¬
ставшийся дружбой с Мотей Беспалым, одним их самых отъявленных
ленинградских хулиганов31. Точно так же одна бывшая ученица ле¬
нинградской школы 1920-х гг. вспоминала, как на школьной площад¬
ке заправляли банды «со своими собственными правилами этикета и
законами: у них ценились смелость, ловкость в играх и спорте, пре¬
зирались ленивость, жадность и ябедничество»32. И во дворах жилых
домов, и в школьном дворе «культурные» дети вовсе не выступали
лидерами среди «некультурных», часто «культурным» приходилось
подстраиваться под порядки, устанавливаемые «некультурными».
В результате часто расцветало то самое «хулиганское» поведение, с
которым должны были покончить «организованные игры».
Конечно, обычно дети сами видели границу между безудержной
игрой и преступным поведением. Как вспоминает о своей жизни
в 1920-х гг. Вадим Шефнер, восхищение типами, вроде Огурца, не
означало, что дети были привязаны к преступному миру. Правильнее
было бы сказать, что двор был чем-то вроде «буферной зоны между
домом и улицей», и у него были «собственные правила, совсем не
те, что семейные, школьные или даже уличные: как ни странно, бли¬
же всего они были к тем, которые царили в детских домах... Силой
восхищались, но в той же мере преклонялись и перед справедливо¬
31 Шефнер В. Имя для птицы, или чаепитие на желтой веранде. Лачуга
должника. СПб., 1995. С. 543-544.
32 См. мемуары: Ольга Николаевна // Clementine G. К. Creuziger. Child¬
hood in Russia: Representation and Reality. Lanham, MD, 1996. P. 40.
190
стью, и, как правило, ребята постарше не трогали младших»33. Игры,
в которые играли дети, не были мятежными, часто их темы подска¬
зывались самыми ортодоксальными веяниями дня. Одна такая игра
называлась «Обыск и реквизиция», и играли в нее во дворе дома на
окраине Москвы в первые годы после революции. Мальчики высту¬
пали в роли «красноармейцев», а девочки (обвязавшись подушками)
в роли «мошенниц» или «жирных буржуек». Для игры делали бумаж¬
ные кулечки с солью или другими припасами с маминой кухни, и это
использовалось как будто бы товар в лавке. Красноармейцы с шумом
врывались в помещение лавки и с руганью принимались колотить и
толкать своих жертв (вот для чего нужны были подушки). Реквизи¬
ровав, как положено, «товар», они с победным видом уходили, гово¬
ря, что «пошли на Сухаревку» (самый большой и самый известный
блошиный рынок в Москве)34.
В общем же, детская игра осталась неподдающейся реформе, и по¬
пытки взрослых контролировать ее часто заканчивались усилением
явления, для борьбы с которым она предназначалась прежде всего.
Детский быт был понятием не только расплывчатым в практиче¬
ском смысле, он был проблематичным в смысле теоретическом. Боль¬
шинство образованных советских граждан с готовностью поддер¬
живали вмешательство в повседневную жизнь на уровне кампании
против хулиганства, доставлявшего всем серьезное беспокойство с
самого конца XIX в. Однако политизация детства часто рассматрива¬
лась противниками советской власти как искажение «естественного»
процесса, а не как мера против девиантного поведения. Евгений За¬
мятин в рассказе, написанном вскоре после эмиграции во Францию в
1930 г., рисует типичного советского ребенка «восьмилетним взрос¬
лым человеком», превращенным в автомат политической индоктри-
нацией в школах. Для Замятина было очевидным и трагическим, что
влияние семьи проигрывает схватку со школой35. Но не нужно было
быть политическим диссидентом, чтобы считать детский активизм
проблематичным. В советских официальных кругах также имели ме¬
сто сомнения относительно пределов, в которых следует вовлекать
Детей в серьезную политику. Как бы его ни политизировали, детство
оставалось вне досягаемости для политиков. И, в свою очередь, дети
были тем объектом, которому обыденная жизнь могла показываться
более позитивно, чем она представлялась в официальном советском
Дискурсе. Хотя дети из советских мифов, вроде Павлика Морозова,
33 Шефнер В. Имя для птицы... С. 542.
34 РАО НА Ф. On. 1. Д. 49. Л. 313.
35 См.: Замятин Е. И. Советские дети, 1932 // Сочинения. Мюнхен, 1988.
Т- IV. С. 565.
191
могли поучать взрослых, не говоря уже о других детях, демонстри¬
руя преданность советской власти и презрение к быту, в то же вре¬
мя описания детства были единственной сферой автобиографии, где
считались допустимыми бытовые детали. Главная цель кампании
по изменению традиционной жизни, повседневная жизнь детей не
только избежала полной трансформации, но стала в воспоминаниях
пространством для воображения альтернативного физического про¬
странства, когда всплывала в памяти, в которой исчезали обычные
иерархические различия между «материальным» и «духовным» ми¬
рами, рьяно отстаивавшиеся и советскими реформаторами, и литера¬
турными модернистами.
Таким образом, повседневная жизнь детей иллюстрирует и силу, и
ограниченность советской идеологии «быта» в более широком плане.
В высшей степени иррациональное, как считалось, поведение малень¬
ких детей должно было контролироваться и подвергаться надзору;
дети постарше должны были поощряться в развитии рационального
поведения, чтобы игра стала еще одной ветвью «трудового и граж¬
данского воспитания», движущей силой детской социализации. Если
посмотреть на это шире, то эта трансформация особенно отсталого
сегмента общества поддержала бы трансформацию самого Советско¬
го Союза в новую динамическую страну. Речь не идет об идеологии,
навязываемой «сверху» встречавшему ее с недоверием населению.
На самом деле, идеалы рационального воспитания находили широ¬
кую поддержку. Корней Чуковский, чьи идеи были намного ближе к
взглядам Колоцца, чем к идеям Н. К. Крупской, тем не менее считал
изменения в жизни детей главным достижением режима:
«Ничто нам не служит явным свидетельством нашего нынешнего куль¬
турного роста, как то небывалое внимание к ребенку, которое пробуди¬
лось у нас за последние годы. Вдруг, сразу, одна за другою появилась
целая серия дотоле неслыханных книг... А музей игрушек! А Музей дет¬
ского творчества. А опытные станции Наркомпроса. А институт детского
чтения. А верхотурский детский городок. А Казанский педологический
кабинет по изучению чувашских детей... А специальные “театры юного
зрителя” в Москве, в Ленинграде, в провинции! А книги для детей — осо¬
бенно книги для маленьких! Никогда еще на протяжении двух столетий в
русской словесности не было столь пышного расцвета детских книг. Во¬
истину, в нашей стране наступила Эпоха Ребенка»36.
И всертаки, на фоне этих повсеместно одобряемых представле¬
ний о важности переделки детского существования, быт оставался
скользкой и противоречивой концепцией. Идеалы трудно претво¬
рялись в жизнь, что, в свою очередь, ставило под вопрос сами идеа¬
36 Чуковский К. От двух до пяти. Л., 1934. С. 79-80.
192
лы. Кроме того, концепции желаемой повседневной жизни были по
меньшей мере (даже до их проверки на практике) неустойчивыми и
противоречивыми. Таким образом, даже в эпоху, когда в обществе су¬
ществовал несомненный и небывалый консенсус по поводу того, что
такое быт (как область, требующая энергичного вмешательства для
осуществления перемен), существовала альтернативная точка зре¬
ния, представлявшая собой оппозицию государственной политике в
этой области, которая получала поддержку исходя из тех же самых
посылок.
Эта глава началась с обсуждения взглядов, согласно которым
у русских необычное, исключительное отношение к повседневной
жизни. Конечно, справедливости ради нужно сказать, что в опреде¬
ленные периоды русской истории вопрос о повседневной жизни, на¬
зывавшейся быт, вызывал много споров. Вопрос: «Как нам следует
жить?» — возникал периодически и часто, и использование термина
быт наводило на мысль, что повседневная жизнь занимает опреде¬
ленную сферу, границы которой могут меняться произвольно или
могут вообще быть стерты начисто. Фраза «жизнь без повседневной
жизни» (“Life without daily life”) на английском языке прозвучала
бы абсурдом; «жизнь без быта» — вполне нормально. В то же время
нельзя сказать, чтобы русская идентичность даже последние полто¬
раста лет, не говоря уже о более длительном периоде, определялась
единственным, простым и неизменным отношением к обыденной
жизни. В XIX-XX вв. русские были озабочены повседневной жиз¬
нью не больше и не меньше жителей любой части Европы; зато свою
озабоченность они выражали в самобытных, хотя и разнообразных и
переменчивых, формах.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
СИМВОЛЫ ИДЕНТИЧНОСТИ
До сих пор мы рассматривали вопросы, которые в принципе от¬
носятся к реальным «фактам» о коммунальных обстоятельствах,
атрибутах или деятельности: вопросы истории и географии, идеоло¬
гии и религии, языка, музыки и условий жизни. Однако в нескольких
случаях мы также видели, что в культурной практике дискурс на¬
циональной идентичности часто функционирует столько же посред¬
ством символов, сколько и через озвученное обсуждение «реального»
вопроса. Для подтверждения или оспаривания идентичности может
так же применяться разделяемый в данной социальной группе язык
знаков (флаги, картины, словесные лозунги, песни, имена, этикетки,
ярлыки и т. п.), как и «реальная» общепринятая практика или каче¬
ства. В последней части книги мы обращаемся к подобным знакам,
как таковым, а не в качестве приложения к тематическому обсужде¬
нию, хотя нужно сказать, что и предыдущих разделах подчеркива¬
лись именно поливалентность знаков, множественность их значений:
словно общая идентичность может поддерживаться постоянным ис¬
пользованием общепринятых маркеров, почти невзирая на то, что
они в каком-нибудь конкретном контексте могут обозначать.
Глава 10 посвящена публичным памятникам, которые приобрели
такого рода символический статус. Первый раздел главы представ¬
ляет собой отчасти исторический обзор и отчасти объяснение самой
идеи публичного памятника в России, опирающееся на данные та¬
ких сравнительно мало используемых источников, как туристские
путеводители. «Примеры» второго раздела главы иллюстрируют
культурное использование двух особенно значительных московских
памятников — необыкновенно нарядного собора XVI в. на Красной
площади, известного в народе под названием Собор Василия Бла¬
женного, и Статуи «Рабочий и колхозница», созданной в 1937 г скуль¬
птором Верой Мухиной — от их происхождения до массового воспро¬
изведения их образов в современных конструкциях «потребляемого
русского».
194
Наконец, Пушкин или, правильнее, «Пушкин»: не жизнь или
творчество поэта Александра Сергеевича Пушкина, а «миф о нацио¬
нальном поэте», что расцветает со дня его смерти в 1837 г. Ни один
русский не приходит впервые к Пушкину, будучи учащимся или
взрослым, просто из интереса к поэзии, как может случиться с ино¬
странцем. Пушкин — составная часть знакомой языковой и культур¬
ной среды, в которой русский находится с самого раннего детства. Со
своими произведениями для всех возрастов, от сказок до любовной
лирики и исторической драмы, Пушкин становится для русских по¬
истине спутником жизни. Даже Шекспир (в англофонной среде) не
может рассчитывать на такое всенародно признанное чувство близо¬
сти. В начале главы 11 описываются основные особенности пушкин¬
ского мифа, чтобы затем перейти к анализу празднования пушкин¬
ских памятных дат (на конкретном примере отмечавшегося в 1999 г.
двухсотлетия его рождения), когда «Пушкин» почитается и созерца¬
ется с особой интенсивностью и когда многомерность и адаптируе¬
мость мифа оказываются в центре всеобщего внимания.
Глава 10
ПАМЯТНИКИ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
Линдси Хьюз
В этой главе мы рассмотрим, как русские, а иногда и иностран¬
цы описывали и представляли некоторые ключевые произведения
русской живописи, архитектуры и скульптуры и изображали их.
«Памятники», о которых здесь пойдет речь, не относятся к тем, ко¬
торые Краткий оксфордский словарь английского языка определя¬
ет, как «конструкцию, здание или сооружение, предназначенное для
увековечения выдающегося человека, действия или события». Рус¬
ское слово памятник имеет два значения: узкое — монумент в память
кого-либо или чего-либо, и широкое — выдающийся или важнейший
образец визуальной, строительной или литературной культуры, что
выражается в таком словосочетании, как памятник культуры или па¬
мятник живописи. Эти культурные вехи могут существовать многие
века и широко почитаться, как почитается икона Владимирской Бо¬
жьей Матери, или они могут принадлежать к не столь отдаленным
временам и не быть предметом такого же широкого поклонения, но
все равно возводятся до уровня национальных символов, как «Ра¬
бочий и колхозница» Веры Мухиной (1937). Одни из них — офици¬
альные мемориальные монументы империи, вроде Собора Василия
Блаженного на Красной площади (1555-1561); другие небольшие,
камерные полотна, вроде «Грачи прилетели» Алексея Саврасова
(1871), которые, как писал советский искусствовед, связаны «в на¬
шем сознании с открытием и утверждением образов нашей родной
земли... как своего рода символ русского реалистического пейзажа.
Все знают их с детства»1. Статуя царя или мемориал Второй мировой
войны в провинциальном городе, хотя несомненно это «памятники»
в узком смысле, в данном контексте нас не интересуют. Для коллек¬
тивной памяти они служат связующим звеном между местами, распо¬
ложенными где-нибудь на периферии событий национального значе¬
ния, но сами объекты известны только в данной местности. Местные
идентичности интересны, но лежат за пределами нашего обзора, цель
которого — исследовать, как русская национальная идентичность
проецировалась на выдающиеся визуальные символы, представлен¬
ные широкому публичному обозрению.
Эти знаковые здания, статуи, картины, находящиеся по большей
части в Москве и Санкт-Петербурге, знакомы большинству русских и
некоторым иностранцам. Кажется, как будто они несут в себе особое
1 Петров В. А. А. Саврасов. Из собрания Государственной Третьяковской
галереи. М., 1986. Подробнее обо всех этих памятниках см. ниже.
196
значение и резонанс, иногда перенося свое изначальное местонахож¬
дение или материал на другие носители, чтобы они еще глубже отпе¬
чатались в коллективном сознании. Иногда они становятся вырази¬
телями своего рода «потребляемой русскости», мощными символами
Матери России или иных олицетворений национального образа, для
рекламы шоколада и сигарет, водки или туристских путевок. Пер¬
вая часть этой главы посвящена истории появления таких памятни¬
ков и вообще представлению о публичных памятниках в России. Во
второй части мы рассмотрим более подробно самые показательные
примеры и остановимся на некоторых особенностях их культурного
использования.
Одним из первых зданий в Москве, получивших статус «памятни¬
ка» и сохранивших его по сю пору, был Собор Успения Богородицы
(Успенский собор) в Кремле (рис. 10.1). Первоначально отстроенная
Москва Успенски Собора.
MOSCOU Cath6draJo d'Ai>eompbon.
Рис. 10.1. Успенский собор Московского Кремля. Открытка начала XX в.
197
церковь (1326), вероятно, имела сугубо местное значение — москов¬
ские князья были одним из нескольких кланов, соперничавших за
политическое лидерство на Руси. Сохранившееся в настоящее время
здание, перестроенное в 1475-1479 гг. для царя Ивана III (правил в
1462-1505) итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти,
претендовало быть матерью всех церквей на Руси. Конечно, в период
Московии, когда религиозная идентичность была намного сильнее,
такой «памятник» должен был восприниматься в контексте право¬
славного христианства. Собор являлся одним из свидетельств места
России в мировой истории, в том «масштабным видении времени»,
к которому русские привязывали «истории о нахождении своего
места и самообосновании во времени», опирающиеся на представле¬
ние, что после падения Константинополя в 1453 г. их страна стала
единственным независимым христианским государством, хранитель¬
ницей истинной веры2. Родословная московского собора уходит в
глубь веков: владимирская церковь Успения Богоматери XII в. (куда
царь Иван III посылал Фиораванти, чтобы тот ознакомился с ней);
церковь Успения XI в. в Киево-Печерской Лавре, образ которой, по
легенде, был явлен строителям самой Богоматерью; праздник Успе¬
ния Богородицы 15 августа, который был связан со столицей Визан¬
тии Константинополем.
Собор также являлся центральным элементом одного из мифов
о создании Московского царства, согласно которому в 1326 г. князь
Иван I и митрополит Петр сумели установить полную гармонию меж¬
ду государством и церковью, заложив основу московского величия.
На иконе Симона Ушакова 1668 г. изображены князь и митрополит,
сажающие и поливающие семейное древо московской правящей дина¬
стии и московских святых на фоне собора. Над ними одна из главных
святынь собора, «Владимирская» икона Божьей Матери, написанная
в начале XII в. в Константинополе и оттуда привезенная в Киев при¬
близительно в 1130 г. Из Киева икона попала во Владимир, и в 1395 г.
ее перевезли в Москву, где она и находится до сих пор (рис. 10.2).
Теориями о византийском происхождении иконы искусствоведы за¬
нялись только в последние сто лет. В первой половине XIX в. счита¬
лось, что у нее гораздо более древнее и драматичное происхождение,
что будто бы портрет был написан святым Лукой с самой Марии. Она
обещала, Ято образ дарует благословение ее и ее сына тем, кто обла¬
дает иконой, и это пророчество впоследствии применили к «избран¬
ному» русскому народу. Истории о чудесной помощи, которой икона
оказывала Москве в борьбе с татарами в XIV-XVI вв., подчеркивали
особые условия, которые привели к возвышению Москвы как цен-
2 См. главу 2.
198
Рис. 10.2. Владимирская Богоматерь. Икона XII в. Современная почтовая
открытка (с оригинала, хранящегося в Третьяковской галерее в Москве)
тра мировой (христианской) истории. Приписывавшиеся иконе чу¬
деса носили не местный, скромный характер, вроде восстановления
зрения или слуха, а характер национального спасения. Эта традиция
дожила до совсем недавнего времени. В августе 1991 г., когда после
попытки свергнуть Михаила Горбачева в Москве подвергся осаде
Белый дом (здание парламента), патриарх Московский якобы вынес
икону, надеясь на ее заступничество в разрешении конфликта.
Точно так же, как князь Владимир силой заставил Русь принять
христианство из Византии, Петр Великий (1682-1725) принудил
Россию улучшить свое положение в мире, переняв и освоив правила,
разработанные другими. С точки зрения поставленных в этом очерке
задач, это означало следование моделям ведущих европейских ху¬
дожников, архитекторов и писателей, которые они создали по образ¬
цам классиков древности. На первый взгляд, XVIII в. с его верой в не¬
пререкаемые достоинства этих образцов был не самым удачным для
укрепления национального сознания вообще и для развития русской
национальной идентичности в особенности. Исконно русские па¬
мятники были преданы забвению, когда Петр заменил Москву своей
новой, специально построенной столицей Санкт-Петербургом, осно¬
ванным в 1703 г. Династическая гордость была перенаправлена на но¬
вый ряд санкт-петербургских памятников, вроде нового мавзолея им¬
ператорской семьи, похожего на западный собора св. Петра и Павла
199
(1712-1734), построенного швейцарско-итальянским архитектором
Доменико Трезини. Про устремленный в небо шпиль Собора говори¬
ли, что он должен напоминать о новом «отечестве» Петра в противо¬
вес луковицам старых церквей Матушки России. Таким же образом
спроектированный иностранцами царский дворец в Петергофе (на¬
чало строительства в 1714 г.), собственная Петра копия Версаля с его
регулярными парками, фонтанами и скульптурой, представлял со¬
бой совершенно иной по сравнению с московскими дворцами идеал
публичного пространства и «монументальности».
Несмотря на появление новых национальных памятников, срав¬
нительно недавнее присоединение к «общему потоку» западной
культуры ударяло по русской национальной гордости. В XVIII в. об¬
разованные (значит, европеизированные) русские чуждались своих
собственных культурных памятников, их взгляды формировались
своеобразным развитием элитарной культуры, требовавшей отда¬
вать приоритет западным образцам и моделям и отодвигать русско-
византийское религиозное искусство на второстепенные позиции. По
стандартам Большого турне по Европе, которое предпринимали свет¬
ские модники, дабы придать блеск своим познаниям классической
цивилизации и Ренессанса в теплом южном климате, Россия была
чистым листом бумаги. У нее не было своих Старых мастеров (хотя
императоры и императрицы, начиная с Петра, покупали и ввозили
их работы в большом количестве), не было древних классических
достопримечательностей, не было величественных зданий эпохи Ре¬
нессанса. Перенос столицы и двора в Санкт-Петербург и упразднение
патриархии (1721) значительно снизили значение Москвы. В «Про¬
шении Москвы о забвении ее», написанном консерватором князем
Михаилом Щербатовым в 1780-е гг., олицетворенная Москва упре¬
кала монарха за то, что покинул ее: «Древние развалины мои имеют
некоторые приятности, смешанные еще с полезностью; приятны они
тем, что самую древность мою в Вашей Империи представляют; по¬
лезны тем, что воспоминают разные услуги, учиненные отечеству»3.
Это прошение о том, чтобы московские памятники рассматри¬
вались как значительное средоточие патриотической гордости, в
XVIII в. не нашло понимания. Самый первый русский путеводитель
по Москве (Рубан В. Описание императорского столичного горо¬
да Москвы. 1782) не отличалось красноречивостью. Это был крат¬
кий справочник, в котором невозможно было найти ничего, кроме
лаконичной информации, и никаких описаний исторических или
художественных достопримечательностей. Единственным местом,
3 Щербатов М. М. Прошение Москвы о забвении ее. Цит. по книге:
Москва-Петербург: Pro et contra. СПб. 2000. С. 85.
200
достойным внимания людей Просвещения был Санкт-Петербург.
В предисловии, адресованном императрице Елизавете (1741-1761),
автор первого петербургского путеводителя (1779, основанного на
путеводителе, написанном в 1749-1751 гг.) писал:
Ибо усердным Вашего Императорскаго Величества тщанием ныне столь
Град сей разпространен и новыми преславными зданиями украшен и воз¬
величен, так что пред многими славнейшими европейскими городами,
которые древностию своею славятся, имеет в том преимущество к не¬
описанной славе самаго Основателя, а особливо Вашего Императорскаго
Величества;.. Сей град тщанием Ее Величества так ныне красотою своею
на высоту славы превзошел, и еще более и более превосходить имеет, что
всяк очевидно без всякого сказания, аки на театре, славу и красоту благо¬
лепия его зрит; и не только те, иже в нем жительствуют и красотою славы
ее наслаждаются, но и те, которые в отдаленных странах пребывающие,
слыша о нем, удивляются. К нему же многие жажду свою имея, хотят его
очевидно зреть, и красоты его насладиться охотно желают4.
Автор подкрепил свое описание Санкт-Петербурга и его памят¬
ников, относя их в контекст древней истории, а также приравнивая
их к европейским центрам, которые в ту пору считались самыми
цивилизованными.
В этом смысле один памятник Санкт-Петербурга особенно симво¬
лизирует поворотный пункт в изменении восприятия памятных мест.
Конная статуя Петра Великого, созданная по проекту французского
скульптора Этьена Фальконе по заказу Екатерины II (1762 — 1796) и
открытая в 1782 г., приобрела жизнь и идентичность, далеко не толь¬
ко из-за потрясающего технического и художественного мастерства
художника, изобразившего вздыбившегося коня (рис. 10.3). Настоя¬
щий Петр Великий, статуя, и поэма Александра Пушкина «Медный
всадник» (1833) стали впоследствии неразрывно связаны в сознании
русских людей с «духом» Санкт-Петербурга. Однако еще до Пуш¬
кина от монумента исходило влияние на нескольких уровнях. Глав¬
ным образом, он выражал характерный для XVIII в. идеал великих
людей, являющих собой впечатляющий образец человеческой лич¬
ности. Русский ученый и поэт Михаил Ломоносов (1711-1765), сам
планировавший создать монумент Петру, говорил: «Оживляя металл
и камень, скульпторы представят образы русских героев и героинь
в благодарность их Отчизне и как пример и поощрение потомков к
Достоинствам дерзания»5. Примечательно, что памятник Петру был
первым построенным в России публичным монументом. В допетров-
4 Богданов А. И. Описание Санкт-Петербурга. СПб., 1997. С. 99, 371.
5 Цит. по: Мозговая Е. Б. Скульптурный класс Академии художеств в
XVIII веке. СПб., 1999. С. 24.
201
Рис. 10.3. Памятник Петру Первому («Медный всадник») Этьена Фальконе,
1782. Современный вид
скую эпоху враждебное отношение православного христианства к из¬
ваяниям в камне или металле исключало какую-нибудь скульптуру
вообще.
Это было настоящее ознаменование включения (или желаемого
включения) России в ряды «цивилизованных наций» в результате
петровских реформ и стараний его преемников: конь топчет копыта¬
ми змея варварства и невежества. Это, казалось, подчеркивало, что к
1782 г., после серии военных побед, Россия больше не ощущала себя
младшим партнером в мировой политике. История создания памят¬
ника характерна для целого ряда других памятников в России, кото¬
рые также вызывали ассоциации с подвигами, демонстрацией силы и
мужества. В данном случае речь идет о том, как упорно, дюйм за дюй¬
мом много месяцев тащили на выбранное место этот «Гром-камень»,
ставший постаментом памятника:
Колосс Родийский, свой смири прегордый вид.
И Нильских здания высоких пирамид,
Престаньте более казаться чудесами:
Вы смертных бренными содеяны руками!
Нёрукотворная здесь Росская гора,
В^яв гласу Божию из уст Екатерины,
Пришла во град Петров чрез Невские пучины,
И пала под стопы Великого Петра!6
6 Рубан В. Надписи к камню, назначенному для подножия статуи ими.
Петра Великого. СПб., 1770.
202
Стихи Василия Рубана, опубликованные в 1770 г. в момент, когда
камень был в пути, пылко выражали веру в то, что русский монумент
может заткнуть за пояс те, что создали другие цивилизации.
Взятие Москвы Наполеоном в 1812 г. и последующее сожжение
города, затем вступление русских войск в Париж в 1814 г., во мно¬
гих отношениях пробудили национальные чувства. Не на последнем
месте было ощущение необходимости хранить свою национальную
культуру. Некоторые члены русской элиты стали вновь говорить по-
русски, а не по-французски, одеваться по русской моде и по-новому
гордиться прошлым России. Давно заброшенные памятники получи¬
ли новую жизнь, поддержанные приливом патриотических чувств, и
были воздвигнуты новые памятники, вроде Александрийской колон¬
ны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге (1834), «одного из
величайших современных монументов, достойных изумления всего
цивилизованного мира»7.
Важнейшей работой в этом процессе стал путеводитель по Санкт-
Петербургу, напечатанный в 1816-1828 гг. Павлом Свиньиным
(1788-1839). Свиньин был одним из нескольких представителей сво¬
его поколения, кто выступал за провозглашение Санкт-Петербурга
городом, равным Парижу, и символом полноправного членства, даже
лидерства, России в Европе. Он описывал жалобы иностранцев на то,
что нет путеводителя по «достопамятностям» столицы «великого и
могучего русского народа», который привлек бы внимание и уважение
всего мира, в то время, как в других странах даже малые города имеют
подробное описание8. Свиньин не просто призывал русских читате¬
лей ценить национальные достижения и героев, но и эмоционально
реагировать на них. Его предполагаемым читателем был русский че¬
ловек, обладающий чувством и чуткостью, преображенный победами
России над Наполеоном и смотрящий на окружающее глазами, умом
и, наконец, сердцем патриота. Свиньин называет его «странником»,
гостем или жителем Санкт-Петербурга, предающимся цивилизован¬
ному занятию — прогулкам по городу. Интересные страницы посвя¬
щены первому домику Петра, безыскусность которого вызывает чув¬
ство благоговения, которое в прежние времена вызывали святыни и
реликвии. Свиньин обращает внимание путешественника на пейзаж
за домиком: «Достоинства предмета и бесподобные виды родили бы,
конечно, новые, щасл-ивые излияния чувств и воображения»9. Скром¬
7 Бурьянов В. Прогулка с детьми по С.-Петербургу. 3 части. СПб., 1838.
Ч.И. С. 41.
8 Свиньин П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей.
5 частей. СПб., 1816-1828. Ч. I. С. 1-2.
9 Там же. Ч. III. С. 44-51.
203
ный домик и его окружение оценивались через призму романтизма, в
котором особое значение придавалось индивидуальному восприятию
«живописного» объекта.
Работа Свиньина была его личной инициативой и находилась
под влиянием бытовавших тогда художественных и философских
тенденций. Начиная с 1830-х гг. официальные публикации безза¬
стенчиво манипулировали эмоциями русских «туристов» с помощью
лозунга «официальной народности» («православие, самодержавие,
народность»), которую поддерживал Николай I (1825-1855)10 11. Сын
Николая, будущий Александр И, накануне поездки за границу совер¬
шил патриотическую прогулку по Кремлю со специальным гидом,
«чтобы наполнить душу святой стариной и с такими впечатлениями
покинуть родную столицу»11. Различные памятники сыграли свою
роль в российской версии «изобретения традиции», с помощью кото¬
рой государство и его элиты отбирали и адаптировали элементы про¬
шлого, стремясь сплотить народ и получить поддержку проводимой
политике. Именно в этот период, а не в Средневековье, получил рас¬
пространение термин «Святая Русь». Этот процесс достиг апогея в
царствование Александра III (1881-1894) и Николая II (1894-1917),
подтолкнув к возрождению старые московские легенды о месте Рос¬
сии в мире.
Если в середине XIX в. многие русские не имели никакого пред¬
ставления о национальных памятниках, то в следующие несколько
десятилетий здания, статуи и другие произведении искусства, осо¬
бенно в столицах, отпечатались в сознании более широкой публики
в результате увеличившихся возможностей для поездок (благодаря
железным дорогам) и более широкого распространения репродуци¬
рованных образов в путеводителях, иллюстрированных журналах,
почтовых открытках и другой печатной продукции. Гравюра на дере¬
ве 1879 г. изображает Пантюшку и Сидорку, деревенских ребят, при¬
ехавших повидать столицу и глазеющих на достопримечательности
Москвы. Авторы путеводителей ставили себе целью превращение та¬
кого никчемного вытаращивания глаз в хорошо осведомленное, нази¬
дательное и — что важнее всего — патриотическое наблюдение. Как,
например, говорилось в путеводителе 1898 г., «Москва, ее святыни и
памятники» — это «колыбель» русской народности. Ни в одном дру¬
гом городе не было такого количества святых мест и объектов, в том
числе Успенский собор, который, как говорили, вызывал у истинно
русских людей особенно сердечные чувства. Путеводитель 1904 г. по
собору для заводских рабочих заявлял:
10 См. главу 4.
11 Путешествие по святым местам русским. СПб., 1846. Ч. I. С. 188.
204
«Неразрывные духовные связи объединяют русский народ с Господом, и
в сердце каждого православного человека живет чувство благоговения пе¬
ред святым Кремлем. Здесь верующие собираются со всех уголков Святой
Руси. Разве православный, посетивший Москву, не поклонится святым
кремлевским местам? Разве может русский человек оставаться безраз¬
личным к его историческому великолепию? Внутреннее убранство этого
величественного здания Успенского собора было свидетелем заботы рус¬
ских православных монархов и русского народа о красоте и сохранности
главного святого места столицы... Защищенный покровом святых вещей,
что хранятся в нем, наполненный благоуханием непрерывной молитвы,
свидетель всей многовековой исторической борьбы за создание единой,
мощной Руси, Успенский собор выражает собой всю историю, будучи в
то же время символом непоколебимой православной веры и непобедимо¬
сти государства Российского и благоговейно храня его заветы»12.
Имели место и другие подходы. Изданный в 1914 г. путеводитель
по Санкт-Петербургу дает сельским учителям советы, как подгото¬
вить свои классы к поездке в столицу. Для того чтобы помочь детям
понять разницу между «благопристойностью» города и «некультур¬
ностью деревни, учителям следовало организовать посещение со¬
временного жилого квартала, где их подопечные увидят водопровод,
дверные звонки, лифты, лестницы (если удастся заглянуть внутрь) и
опрятность, элегантность, комфорт, телефоны, освещение — резкий
контраст с их собственными грязными, тесными, пустыми «избами»13.
Учителям рекомендовали показывать почтовую открытку с изобра¬
жением петровского домика и обращать их внимание на его скром¬
ные размеры, а потом сравнить его с рисунком грандиозного Зимнего
Дворца. Эта маленькая книжечка проникнута современным духом: в
ней почти нет обращения к патриотическим эмоциям, никаких при¬
зывов «пасть ниц» перед святынями царизма.
Путеводители предреволюционного периода также направляли
гостей в художественные галереи. До второй половины XIX столе¬
тия русская светская живопись, пожалуй, за исключением портре¬
тов правителей, практически никак не представлялась широкой
публике. В галереях вроде Эрмитажа, выставлялись преимуществен¬
но иностранные работы. Единственное исключение — огромное по¬
лотно Карла Брюллова (1799-1852) «Последний день Помпеи»
(1833). Оно произвело фурор и в России, и за рубежом, хотя и не
было образом русского начала: написанная в Италии, картина изо¬
бражает людей, спасающихся от извергающегося вулкана Везувия в
12 Дорофеев И. Большой Успенский собор в Москве. Чтения для москов¬
ских фабрично-заводских рабочих. М., 1904. С. 16, 21,48.
13 Путеводитель по С.-Петербургу. (Экскурсии начальных школ). СПб.,
1914. С. 6.
205
79 г. н. э. Однако это был памятник русских достижений в широ¬
ком мире искусства. Известность русского искусства начала расти с
1870-х гг. благодаря группе художников-реалистов, которых назы¬
вали «передвижниками», создававших жанровые картины совре¬
менной им русской жизни, а московский купец Павел Третьяков
(1832-1898) начал собирать и выставлять их работы. Пейзажи та¬
ких художников, как Иван Шишкин (1832-1898), Алексей Саврасов
(1830-1897) и Исаак Левитан (1860-1900), стали восприниматься
как национальные символы, на них изображались такие известные
всем приметы России, как березы, церковные купола-луковицы, леса
и бесконечный горизонт. Однако ни один из передвижников, даже
самый выдающийся художник эпохи — Илья Репин (1844-1939),
не пользовался за границей славой, какой пользовался Брюллов. Их
«русскость» пришлось по душе главным образом русской публике и
спокойно перенеслось в советскую эпоху, когда репродукции их са¬
мых знаменитых полотен украшали стены классных комнат и крыш¬
ки шоколадных наборов.
В XIX столетии художники начали эксплуатировать русскую
историю и легенды, изучать средневековую архитектуру и иконы.
В этом отношении главной вехой были «Богатыри» (1898) Викто¬
ра Васнецова (1848-1926), которые и на самом деле были задуманы
их создателем, как патриотический «памятник» (рис. 10.4). Худож¬
ник говорил, что идею картины подсказали ему три огромных дуба в
Рис. 10.4. «Три богатыря». Папиросная коробка 1980-х гг.
С картины Виктора Васнецова, 1898
206
дбрамцеве к северу от Москвы: «Это наша Матушка Россия. Подоб¬
но этим дубам ее не взять голыми руками. Ей нипочем ни снежные
бураны и ураганы, ни течение времени»14. Могучие воины из легенды
были неразрывно связаны с тем, в чем Васнецов видел неистощимые
н мощные национальные силы. Критик Владимир Стасов (1824—
1906) сравнивал «Богатырей» с репинскими «Бурлаками на Волге»
(1873): «В обеих картинах видишь всю силу и мощь русского народа.
Только в репинской работе эта сила подавлена и все еще растоптана...
но здесь (на картине Васнецова) их сила победоносная, спокойная,
внушительная, никого не боящаяся и сама решающая, что совершить
по собственной воле для народа»15.
На рубеже XIX-XX вв. расчищенные и реставрированные иконы,
помимо их культовой функции, рассматривались как «национальное
наследие». Самым поразительным открытием была «Троица» Андрея
Рублева, написанная в начале XV в. (рис. 10.5). В отличие от иконы
Рис. 10.5. «Троица». Икона XV в. кисти Андрея Рублева. Современная почтовая
открытка (с оригинала, хранящегося в Третьяковской галерее в Москве)
Владимирской Божьей Матери, которая была образом для крест¬
ного хода и слава которой в средние века разносилась в рассказах и
легендах, придание иконе Троицы статуса памятника имело в виду
не столько место России в системе всеобщей истории, сколько след,
который она оставила в мировой культуре. В течение веков рублев¬
14 Варшавский А. «Богатыри» // Знание — сила. 1963. № 5. С. 62.
15 Цит. по: Галеркина О. Художник Виктор Васнецов. Л., 1957. С. 143.
207
ская икона скрывалась под металлическим окладом и была известна
главным образом по копиям, а в XVIII в. вместе со многими други¬
ми древними русскими иконами канула в полный мрак забвения.
В 1904-1905 гг. оклад сняли, и проявились ее контуры. Искусство¬
вед Николай Пунин описывал рублевскую «Троицу» как икону бо¬
жественно вдохновленной красоты, которая оставалась спрятанной
от мира. «Путь нашего искусства каменист, и венец нашего художе¬
ственного гения — тернистый венец. Если мы не уследили за нашим
сокровищем, если мы его утеряли и забыли, то мы все же помним до¬
лины, где некогда божественно-великие, мы обладали им. Не следу¬
ет ли нам искать в этих долинах своего утраченного величия, своего
гения, не следует ли нам возвратиться на эти поля, где даже воздух
напоен лучшими воспоминаниями... Искусство не родится в один
день, искусству нужна жизнь и нужно прошлое, никакое искусство
не живет без традиций. Где же наши традиции?»16 Процесс восстанов¬
ления этих традиций, определение ценности икон как произведений
искусства был поддержан публичными выставками других расчи¬
щенных икон в Санкт-Петербурге в 1911 г. (где в числе прочих их
видел Анри Матисс) и в Москве в 1913 г. в связи с трехсотлетием
Дома Романовых.
В 1917 г. зарождающееся представление о том, что такое «нацио¬
нальное наследие», рассыпалось. В результате большевистской ре¬
волюции многие памятники людям и событиям были разрушены, и
воздвигнуты новые — Новым Советским Мужчинам и Женщинам.
Некоторые памятники «буржуазному вкусу» были забракованы. Но
«революционное иконоборчество» соединилось с попытками из¬
менить представления о тех периодах прошлого, которые должны
были быть сохранены. Неожиданно появились выигравшие от это¬
го. Например, декретом Ленина «О монументальной пропаганде»
Андрея Рублева включили в список выдающихся деятелей, достой¬
ных памятника. В тот год его «Троицу» еще раз расчистили и выявили
более или менее те краски, которые мы видим сегодня. На выставке
реставрированных икон в Москве в 1920 г. «Троица» и «Владимир¬
ская Богоматерь» были впервые соединены, и получилось то, что поз¬
же один писатель назвал «миром древней красоты», освобожденной
советской властью17. После этого история жизни Рублева, о которой
не было почти ничего известно, и его художественное наследие были
восстановлены буквально с нуля.
В целом городские путеводители теперь начинались с достопри¬
мечательностей, вызывавших революционные ассоциации, вроде
16 Пунин Н. И. Андрей Рублев // Аполлон. 1916. № 2. С. 13-14, 23.
17 Кузьмин Н. Андрей Рублев // Новый мир. 1960. № 10. С. 206.
208
квартиры Ленина или современных жилищных и промышленных
комплексов. Типичным примером был «Путеводитель крестьянина
по Москве», напечатанный в 1928 г. специально для гостей Москвы —
крестьян. Рекомендации носили сугубо практический характер: как
благополучно сесть в трамвай (и выйти из него), где купить семена и
орудия, как попасть к президенту Калинину и другим официальным
лицам, но имелся раздел и по осмотру достопримечательностей, где
внимание читателя концентрировалось на таких объектах, как Музей
Ленина, Ленинский институт и Музей революции. При посещении
Кремля главными объектами показа стали теперь места, где рабо¬
тал Ленин. Единственным общим упоминанием о церквях и «других
исторических местах» было заверение, что все они находятся в пол¬
ной целостности и сохранности и охраняются государством.
Такие путеводители наводили на мысль о новой идеологической
шкале для достопримечательностей и музеев. Советские граждане
должны были иметь больше возможностей видеть и оценивать по¬
лучившие одобрение памятники, основываясь на идее слияния нау¬
ки и доступности. Художественные и архитектурные памятники
были теперь «достоянием народа». В 1918 г. была национализиро¬
вана Третьяковская галерея. По мнению Николая Мудрогеля, вете¬
рана галереи, советские граждане посещали свои памятники иначе,
чем иностранцы, которые интересовались только иконами и дальше
быстро пробегали по залам к выходу. «Наши советские люди не рас¬
сматривают экспозиции таким образом. Они обходят ее и серьезно
смотрят, разглядывают подробно, и всегда с экскурсоводом»18. Все
чаще экспонировавшиеся иконы сопровождались соответствующи¬
ми предупреждениями. В 1933 г. галерея выпустила путеводитель
для антирелигиозных экскурсий. «Идеалистически-мистическое ми¬
ровоззрение», — говорилось в нем, — враждебно пролетариату и его
борьбе с капиталистическим миром. Иконы «побуждают угнетенные
массы отказываться от классовой борьбы»19. В то же время радикаль¬
ные идеи 1920-х гг. относительно создания новых футуристических
городов уступили место взглядам, считавшим необходимым внести в
жизнь рабочих «буржуазную» изысканность. Архитектура 1930-х гг.
широко использовала при строительстве общественных зданий «ари¬
стократический» язык классицизма. Московское метро (само по себе
заслуживающее статус памятника) создавало для рабочих, направ¬
ляющихся на работу, дворцовую (разве что все более переполненную
18 Мудрогель Н. А. Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее. Л.,
1962. С. 118, 122.
19 Рогинская Ф. С., Быстрова Т. А. Антирелигиозная экскурсия по Тре¬
тьяковской галерее. М., 1933.
209
людьми) обстановку, украшенную колоннами и фризами, люстрами
и статуями. Жителей отдаленных областей приучали говорить о «на¬
шем» метро, которое, таким образом, западало в общее сознание.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. внесла некоторые по¬
правки в восприятие памятников. «Медный всадник», например, по-
видимому, разделял опасности войны с ленинградцами и вышел из
блокады целым и невредимым. В путеводителе 1944 г. написано: «Это
самое дорогое художественное сокровище России символизирует не¬
измеримые творческие силы, которые кроются в ней, величие госу¬
дарства, созданного русским народом и преобразованное Петром»20.
Уничтоженные памятники, такие, как Петергофский дворец, как сим¬
вол сопротивления и возрождения были после войны восстановлены.
Свою роль играла и живопись. Например, репинское историческое
полотно о казаках «Запорожцы» (1880-1891) известно тем, что было
одной из самых любимых картин Сталина. Оно было объявлено «ис¬
тинно народным», близким и понятным простому народу. В брошюре
1943 г. разбирался образ казаков XVII в., якобы защищавших грани¬
цы Московии в «годы, когда наш народ с неслыханным героизмом
отражает нашествие варваров-фашистов Нового века»21.
После окончания войны официальная линия отражала, с одной
стороны, уверенность Советского Союза в себе как мировой держа¬
ве, правящей собственным Восточным блоком, а, с другой, опасения
за безопасность вновь созданной конфигурации границ и по поводу
угрозы ядерной войны. Комментарии к васнецовским «Богатырям»
отражают обе эти линии. Как заявил один писатель, несмотря на то,
что полотно было создано в «период реакции», когда народ самодер¬
жавной России был бесправен и подвергался невыносимому угнете¬
нию, Васнецов «видел дремлющую гигантскую силу русского народа
и верил, что в не столь отдаленном будущем он проснется и покажет
себя во всей своей богатырской силе»22. Советские вооруженные
силы, «сражающиеся за мир во всем мире и бдительно охраняющие
границы Родины, особенно бережно хранят в памяти эти образы за¬
щитников русской земли, хранителей покоя нашего народа»23.
Оптимизм стал еще более явным с началом советской космиче¬
ской программы — запуском спутника в 1957 г., первой посылкой
человека в космос в 1961 г., — что дало жизнь новым памятникам, та¬
ким, как «Завоевание космоса» около Выставки достижений народ¬
20 Ромм А. Памятники Петру I в Ленинграде. М., 1944. С. 24.
21 Щекотов Н. «Запорожцы». Картина великого русского живописна
И. Е. Репина. М., 1943. С. 9.
22 Полищук Е. В. М. Васнецов. «Богатыри». М., 1950. С. 7.
23 Галеркина О. Художник. С. 155.
210
ного хозяйства в Москве. Совершенно не случайное совпадение, что в
I960 г. шестисотую годовщину рождения Андрея Рублева отмечали с
особенно широким размахом. Десятки писателей разразились празд¬
ничными панегириками, преисполненными веры в то, что рублевские
иконы, особенно «Троица», были «глубоко национальными» и «вер¬
ны глубоко народным художественным традициям», что доказывало,
что русские средневековые художники не плелись в хвосте своих ев¬
ропейских коллег.
Мы можем увидеть последующие изменения в концепции памят¬
ников, более подробно рассмотрев некоторые из них, приобретшие
символическое значение. Возможно, ничто так широко не восприни¬
мается в качестве воплощения русского начала, как церковь, извест¬
ная под названием Собор Василия Блаженного на Красной площади
в Москве (рис. 10.6). Построенный в 1555-1561 гг. и официально
посвященный Покрову Богоматери, он увековечивает взятие царем
Иваном IV казанской твердыни в 1552 г. Его общепринятое название
связано с тем, что в 1588 г. к собору был добавлен придел, где был за¬
хоронен Василий, святой юродивый «во Христе». Василий ходил по
Москве полуголым, в лохмотьях и железных веригах и прославился
своими предсказаниями. Посвященный ему придел, наверное, был
дополнительной задумкой архитекторов, но название прижилось в
широком языковом обиходе и отчасти скрыло первоначальную цель,
с которой строился собор, благодаря чему возникло расхождение
между официальным и обыденным представлением о национальной
святыне. Первоначальный девятиглавый собор (каждый придел со
15* ~ Ж
Рис. 10.6. Собор Василия Блаженного (Собор Покрова Богоматери), Москва.
Конверт для серии почтовых марок «Памятники истории», 1989
211
своим собственным алтарем и увенчанный собственным куполом)
представлял собой «текст», который должен был указывать на ме¬
сто России во всеобщей истории после падения Константинополя.
Центральный придел посвящен празднику Покрова 1-го октября
(1 октября была дата последнего штурма Казани русскими войсками.
Другие приделы были посвящены дням святых, которые совпадали
с основными этапами осады, а западный придел Входа Господня в
Иерусалим с выходом на Красную площадь символизировал три¬
умфальное возвращение Ивана IV из Казани в Москву. Параллели
между шествием Ивана и Христа усиливало празднование Вербного
Воскресенья на Красной площади, которое впервые описал Энтони
Дженкисон в 1558 г. и в котором царь и патриарх воспроизвели Вход
jb Иерусалим. На собор можно смотреть также и как на часть священ¬
ного пейзажа, где вся Красная площадь выглядит, как церковь, роль
алтаря в которой играет собор.
Этот средневековый символический пейзаж потерял свое значе¬
ние после того, как Петр I изменил положение России в мировом
времени. Храм Василия Блаженного теперь вызывал образ, который
европеизированная элита больше не признавала или не понимала,
даже считала отталкивающим. Не только его архитектура — смесь
«азиатчины» и «готики», как считали некоторые писатели, — но
также и исторические ассоциации вызывали отвращение у просве¬
щенных мыслителей. Юродивые были не в чести, а многие легенды,
связанные с собором, отдавали варварством. В известной истории
Иван IV спросил архитектора, может ли он построить что-нибудь
лучше и когда тот ответил утвердительно, Грозный велел ослепить
его: это была в полном смысле слова антитеза Просвещению.
В 1770-1780-е гг. Екатерина И, поклонница готики, выделила
средства на реконструкцию собора, но в дальнейшем ни один другой
русский правитель не проявлял к нему интереса. В 1814 г. во время
пребывания Александра I в Англии ему показали один из ранних ри¬
сунков с изображением собора, но без массы пристроек, возникших
вокруг него позже. Александр не узнал его и сказал: «Мне хотелось
бы иметь что-то подобное в Москве»24. Несмотря на то, что опасность
уничтожения Наполеоном (принявшим его за мечеть) подняла пре¬
стиж собора, как национального памятника, «Василий Блаженный»
никак не соответствовал предпочитавшемуся тогда представлению
русской элиты о самих себе. Он был наглядным напоминанием, что
Россия не совсем европейская страна, но в то же время говорил о
некой не поддающейся определению творческой силе. В 1830-х гг.
24 Музей «Собор Василия Блаженного». Л., 1928. С. 19.
212
один автор писал о том, как трудно вписывается собор в какой-
либо известный архитектурный стиль: «Он может служить приме¬
ром русской архитектуры, которая... не имеет оболочки, так сказать,
мечтательности, современной романтическому духу рыцарства, но в
своем начале показывает какой-то блеск пиитический народа, выхо¬
дящего из состояния варварства и начинающего чувствовать свою
самобытность»25.
«Василий Блаженный» был известен своими внешними формами,
появляясь на множестве почтовых открыток, которые широко про¬
давались с 1890-х гг., но, вероятно, мало кто вступал в тесноту его
интерьера. Впечатление о том, что он пребывал в заброшенном состо¬
янии, подтверждает страстное воззвание архитектора В. В. Суслова в
брошюре, опубликованной в 1912 г. Все в трещинах, сыро и влажно,
все разрушается, в подвале горы мусора и полуразвалившиеся печи
в звоннице, отчего усиливалась опасность пожара. «Было больно ви¬
деть всю эту неприглядность и гибельное состояние, в какое превра¬
тилось это бесценное историческое здание». Опровергая основанные
на неосведомленности теории о корнях происхождения церкви, на¬
пример, индийских, Суслов суммировал ее значение. Он писал, что
это был глубоко священный объект русского народа, исторический
памятник великой победы и великолепный пример народного искус¬
ства. Это был «своеобразный памятник русской жизни, соединявший
в себе все черты религиозной, повседневной и политической самои¬
дентификации страны». Суслов заканчивает страстным выступлени¬
ем против безразличия, которое явно противоречило официальной
поддержке исторических памятников:
«Где же самосознание российского общества, которое сейчас увещевает
нас принять участие во всем, что носит национальный характер? Где вера
в прочную структуру русской жизни, когда с наиболее очевидными следа¬
ми этой структуры обращаются с такой преступной небрежностью?.. Мы
не можем быть истинными гражданами нашего отечества, пока не станем
истинно ценить наследие наших предков»26.
В советскую эпоху Василий Блаженный остался своего рода проб¬
ным камнем отношения к национальной культуре, хотя некоторые
революционеры и некоторые художники-авангардисты желали по¬
кончить с прошлым. Несколько радикальных архитекторов пропо¬
ведовали уничтожение всего старше десяти лет, в том числе и всего
Кремля. Вот что писал поэт Сергей Третьяков (1892-1939):
25 Брюллов А. Энциклопедический лексикон Плюшара. СПб., 1935.
Ч. III. С. 275.
26 Суслов В. В. Церковь Василия Блаженного в Москве. СПб., 1912,
С. 17,21.
213
Артиллерия
Юнкеров нащупала,
Полетели перья
Успенского купола.
Пушки бьют с Воробьевки,
Кремля сшибая головки,
Белые, белые, троньте виски!
Гремит переулок Леонтьевский.
Не спастись ни иконой, ни вывеской.
Рвутся гранаты у Иверской27.
Но партийные вожди, вдохновленные Лениным, все же хотели
«сохранить лучшее из буржуазного наследия». После того, как во
время боев с большевиками в Москве в 1918 г. «Василий Блажен¬
ный» получил повреждения от артиллерийского огня, собор сохра¬
нили как один из первых памятников «национального и мирового
значения», объявив его охраняемым государством. Он открылся как
«культурно-исторический музей» в мае 1923 г. На картине Констан¬
тина Юона (1875-1958) «Парад Красной Армии» (1923) древний со¬
бор интегрирован с символами новой эпохи, включая марширующие
войска, революционные знамена и дирижабль. Сохранение «Василия
Блаженного» потребовало пересмотра его интерпретации как памят¬
ника светской культуры и «наследия», а также памятника Ивану IV,
одного из немногих сталинских героев российского прошлого. Об от¬
ношении Сталина к собору рассказывают разные истории, некоторые
говорят, что он хотел взорвать его, чтобы расширить пространство
для военных парадов, другие утверждают, что он спас его. Согласно
одной версии вопрос о сносе собора стоял на заседании Политбюро.
На столе стоял макет «Василия Блаженного», специально сделанный
разборным. В какой-то момент один из членов Политбюро, Лазарь
Каганович, попробовал незаметно убрать его со стола. «Поставь на
место» — прорычал Сталин28. Как бы то ни было, собор остался на ме¬
сте и стал одной из главных достопримечательностей СССР, когда
страна начала открываться для иностранных туристов в 1970-е гг.
В постсоветской России, подобно многим таким памятникам, «Ва¬
силий Блаженный» сделался объектом борьбы между светскими и
церковными властями, между коммерческими и духовными интере¬
сами. «Для православного сердца церковь не туристический объект, а
27 Новый Леф. 1927. № 10. С. 3. Цит. по: Bolshevik Culture: Experiment
and Order in the Russian Revolution / Abbott Gleason, Peter Kenez and Richard
Stites (eds.). Bloomington, Indiana, 1985. P. 12.
28 Мемуары Ивана Фомина. Цит. по: A.Tarkhanov, S. Kavtaradze. Stalinist
Architecture. London, 1992. P. 430.
214
святое место, — пишет автор статьи в националистической прессе. —
Это наше духовное сокровище, и оно дано нам, православным, Госпо¬
дом Богом, как дом молитвы, как памятник мертвым, как памятник
славных дней для всего христианского мира и нашей веры»29. Напро¬
тив, для новых предприятий бизнеса в России он представляет собой
«потребляемое русское», порой совершенно буквально, в качестве
популярного мотива для упаковки конфет и шоколада (рис. 10.7). Он
Рис. 10.7. Собор Василия Блаженного. «Купола Москвы».
Обертка шоколада, около 2000 г.
остается узнаваемым логотипом даже для иностранцев. Как сказано в
английском путеводителе: «Иностранцы всегда видели в нем ключ к
таинственной русской душе»30. Если для иностранцев «русская душа»
ассоциируется с несхожестью, «другостью», тогда нельзя представить
себе большего «другого», чем «Василий Блаженный» с его яркими
красками, луковицами куполов, неправильным силуэтом и в чем-то
зловещим лабиринтом внутренних переходов. Большинство ино¬
странных путеводителей по Москве выбирают его для первой страни¬
цы своей обложки, и он может сразу придать русский вид чему угод¬
но, от суперобложки шпионского романа до декорации кинофильма.
Даже путеводители по Санкт-Петербургу скорее проиллюстрируют
схожим с ним храмом Спаса на Крови, чем какой-нибудь более харак¬
29 Серебрякова Н. «Дом мой домом молитвой назовется» // Держава.
1996. № 7. С. 59.
30 Dan Richardson. Moscow: The Rough Guide. London, 1998. P. 73.
терной, но похожей на западную неоклассической приметой города.
Туристы обожают причудливое разнообразие, которое в изобилии
находят в «Василии Блаженном». Он остается фотографической за¬
ставкой, доказывающей, что вы были в России, о чем свидетельству¬
ют многочисленные снимки на веб-страницах.
Кажется, что «Василий Блаженный» постоянно приспосаблива¬
ется к меняющемуся времени, но наш следующий памятник оказы¬
вается не таким гибким. Практически никто в первые постсоветские
десятилетия не ездил фотографироваться перед монументальной
скульптурой «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной (1889-1953).
Возможно, самое известное в мире произведение советского искус¬
ства, она предназначалась для советского павильона на Всемирной
Парижской выставке 1937 г. (рис. 10.8). Возвышаясь над соседству¬
ющими с ней экспонатами в самом сердце старого мира, на фоне
Эйфелевой башни, павильон был воплощением советских достиже¬
ний. Соперничество между двумя мирами — вот что составляло су¬
щество события. Мухина подчеркивала, что Статую Свободы в Нью-
Йорке строили одиннадцать лет, а на строительство ее скульптуры
ушло полгода. Ее конструкция — девять тонн стали для создания
монумента высотой 24,5 м, двадцать восемь вагонов для перевозки
Рис. 10.8. Вера Мухина. «Рабочий и колхозница».
Советский павильон на Всемирной Парижской выставке 1937 г.
(с благодарностью профессору Е. Б. Мозговой)
216
ее в Париж — все это удалось сделать благодаря высококачественной
«ударной» работе. Сама Мухина писала: «Изумительная советская
гордость заставляла людей работать три-четыре смены без переры¬
ва, работать в метель, на покрытых льдом лесах». Она объясняла, что
стремилась придать своим фигурам «тот радостный и мощный им¬
пульс, который характеризует нашу страну». Придумывать пару ей
не пришлось: такие молодые люди были вокруг нее повсюду, смелые
и уверенные в своих задачах и своей победе31.
По возвращении в Москву статую установили у одного из входов
на Всесоюзную Сельскохозяйственную Выставку (с 1959 г. Выстав¬
ку Достижений Народного Хозяйства ВДНХ). Ее воспроизводили в
средствах массовой информации много чаще всех других произве¬
дений искусства советской эпохи, «как самое яркое достижение со¬
циалистического реализма в изобразительном искусстве»32. С 1947 г.
она стала заставкой кинофильмов студии «Мосфильм». Мухина, как
и Андрей Рублев, была отнесена к числу великих художников мира.
В петербургском Музее прикладного искусства им. Штиглица, на¬
пример, в 1950-х гг. установлен фриз, на котором барельеф Мухиной
соседствует со скульптурными портретами всемирно известных ма¬
стеров, вроде Микеланджело и Донателло.
В последние годы советской власти памятник начал терять свое
значение. Говорили о том, что его хотели переместить на более подхо¬
дящий постамент, но ничего сделано не было. В декабре 1988 г. газета
«Советская культура» напечатала письмо с жалобой на «катастрофи¬
ческое» состояние скульптуры. К концу 1990-х гг. она одиноко вы¬
силась рядом с автостоянкой, за поломанной оградой. Если подойти
к ней со стороны ВДНХ, создавалось впечатление, будто новая циви¬
лизация устанавливается на руинах другой, которая умерла и не оста¬
вила следов, если не считать принадлежавших ей надписей и симво¬
лов. Слова старого советского национального гимна были написаны
на основании центрального купола павильона, где теперь находятся
лавки аксессуаров для телевизоров и компьютеров. Золотые фонта¬
ны с фигурами героических рабочих и крестьян и представительниц
разных республик в национальных костюмах казались далекими и
архаичными, как статуи египетских богов, и скульптура Мухиной,
которая смотрелась от небольших ворот северного входа на ВДНХ,
выглядела как какие-то останки умершего фараона. И все же, невзи¬
рая на мрачные предсказания, статуя по-прежнему стоит на своем
31 Мухина В. Литературно-критическое наследие: в 3 т. М., 1960. Т. I.
С. 105-106, 111.
32 Ворхунова Н. «Символ нового мира». М., 1965, С. 64.
217
месте. Как представитель советского «китча», она продолжает снаб¬
жать материалом рекламу. Сыну Мухиной пришлось даже подавать в
суд за присвоение образа компаниями, выпускающими автомобили,
водку, пиво и сигареты и предоставляющими финансовые услуги.
В период написания настоящей работы шли разговоры о перенесении
статуи на более центральное место и поднятии ее на более высокий
пьедестал (проект был завершен в 2009 г. — Примем, ред.).
Что будет с другими нашими памятниками в будущем? Воз¬
можно, оснований для беспокойства нет, поскольку «наследие» и
«потребляемое русское» заявляют о себе в новом обличье. Третьяков¬
ская галерея, например, предлагает каталог репринтов под рамы, при¬
влекая внимание покупателей к «коллекции репродукций картин из
нашей собственной коллекции картин и графики. Мы делимся с вами
малой частью нашей собственности. Надеемся, что наши репродук¬
ции картин украсят ваш интерьер, проживут долгую жизнь и будут
доставлять вам удовольствие»33. С распространением современных
розничных рынков в крупных российских городах похожие на запад¬
ные представления о выборе в дизайне для интерьеров и об искус¬
стве как средстве украшения личного пространства, взяли верх над
установками, сформированными дефицитом и боязнью выделиться
из толпы. Аукционные дома, такие, как Сотбис и Кристис в Лондо¬
не, сообщают о большом спросе среди русских клиентов на таких
художников, как Борис Кустодиев (1878-1927), который фокусиро¬
вал свое внимание на красочных городских сценках, толпе, которая
вьется вокруг прилавков, ломящихся от товара, половых, разливаю¬
щих чай из веселых фарфоровых чайников, расписанных цветами.
Русское наследие используется в рекламе для противопоставления
господству на рынке западных брендов. Так, сигареты «Петр Вели¬
кий» противостоят «Мальборо», а шоколадные наборы «Купола Мо¬
сквы» и «Стрельцы» — «Сникерсам» и «Кэдбери». Можно есть замо¬
роженные «Боярские» пельмени из пакетов с изображенными на них
фигурами в нарядах XVII в. и русскую ветчину, украшенную купо¬
лами Успенского собора, запивая все «Богатырским» чаем. Русское
патриотическое потребительство, очевидно, предназначается как для
внутреннего рынка, так и для зарубежных туристов. В ход пошли но¬
вые западные маркетинговые методы, изготовляются качественные
почтовые открытки и сувениры, которые можно приобрести во все¬
возможных магазинах и лавочках. В советское время в таких лавках
33 «Каталог постеров произведений из собрания Государственной Тре¬
тьяковской галереи». М., 1997, С. 26.
218
часто нельзя было найти ничего, относящегося к памятникам, о кото¬
рых мы говорим.
Любопытный пример новой коммерциализации памятников —
московский храм Христа Спасителя. В его первом воплощении он
знаменовал патриотическое сопротивление Наполеону в 1812 г.
На его строительство ушло 44 года (1839-1883), прежде чем он на
пятьдесят лет занял господствующее место в городском силуэте
(рис. 10.9), но он исчез всего за несколько минут, когда коммунисты
Рис. 10.9. Собор Христа Спасителя, Москва, 1839-1883.
Почтовая открытка начала XX в.
взорвали его в 1931 г., чтобы расчистить место для здания Дворца Со¬
ветов, возвеличивающего новый строй. В статье 1937 г. писалось: «Это
действительно великая и почетная задача: построить на многие сотни
лет памятник величайшему гению человечества Владимиру Ильичу
Ленину, памятник сталинской эпохе победоносного социализма»34.
Но дворец так и не построили, и на его месте несколько десятков лет
находился плавательный бассейн. В 1997-2000 гг. собор был восста¬
новлен точной копией предшествующего здания, как памятник еще
одного строя (рис. 10.10), ельцинской эпохи торжества капитализма
и заодно возрождения Русской Православной Церкви.
Храм сделался центром обсуждения проблем «наследия» и вы¬
бора пути создания новых или возвращения старых националь-
34 Комсомольская правда. 14.04.1937. С. 1.
219
Рис. 10.10. Собор Христа Спасителя, Москва.
Вид на реконструированный собор, 2001
ных символов взамен дискредитировавших себя советских. Среди
москвичей он не пользуется всеобщей любовью. Кураторы и кон¬
сультанты, работающие в более древних, «настоящих» памятниках,
вроде «Василия Блаженного», считают восстановленный собор со¬
временной «подделкой», поглотившей средства, в которых отчаян¬
но нуждаются подлинные исторические памятники. Неверующие
смотрят на него, как на гротескную попытку навязать народу рели¬
гию. Храм стал мишенью бесчисленных анекдотов и шуток, его на¬
зывают Спасом-над-гаражом (в стиле традиционных названий церк¬
вей). В его сувенирном магазине, одном из лучших в Москве, можно
купить его модели из разных материалов, футболки, школьные тетра¬
ди с надписью «Храм Христа Спасителя» и т. п. Некоторые наблюда¬
тели считают, что он был гораздо эффектнее, когда был невидимым —
«церковью-мученицей», символизировавшей сталинское презрение
ко всему.
В это же время в Храме Святителя Николая при Третьяковской
галерее икона Владимирской Богоматери располагается теперь слева
от иконостаса в построенном специально для нее отдельном деревян¬
ном киоте со стеклянными стенками с обеих сторон, чтобы была вид¬
220
на до этого скрытая задняя сторона иконы. К ней приходят верую¬
щие, молятся. Приходской священник рассказывал, что в 1990-е годы
в связи с праздниками икону два-три раза в год изымали с привычно¬
го места в экспозиции, но ее ветхое состояние не позволяет больше
так делать, и икону переместили в храм-музей, где поддерживаются
необходимые атмосферные параметры. Ее продолжают называть экс¬
понатом, рядом с ней помещена табличка, на которой написано, что
с 1930 г. икона доступна публике для обозрения, что само по себе
является «величайшим чудом». В момент написания этих строк ру¬
блевская «Троица» находилась в помещении Галереи, где люди все
равно молятся перед ней. Как призналась одна из смотрителей музея,
«пожертвовав» Владимирской иконой, они не хотят, чтобы «Трои¬
цу» переместили в церковь, где, как они опасаются, она хуже будет
сохраняться.
Глава 11
«ПУШКИН» И ИДЕНТИЧНОСТЬ
Стефани Сандлер
«Любовь к Пушкину (непонятная для
иностранцев) — верный признак чело¬
века русской культуры. Любого другого
русского писателя можно любить или не
любить — это дело вкуса. Но Пушкин как
явление для нас обязателен. Пушкин -
стержень русской культуры, который дер¬
жит все предыдущее и все последующее.
Выньте стержень — связи распадутся»1.
Лидия Гинзбург
Юбилейная Пушкиниана, 1999: во¬
дочная бутылка, чайная чашка, грелка на
чайник, пластиковый пакет, книжная за¬
кладка, календарь, игральные карты, кон¬
фетные фантики, рекламные объявления,
брелок для ключей, значки1 2.
1. Пушкинский миф
Более двухсот лет после своего рождения Александр Пушкин
(1799-1837) возвышается над нами как недосягаемая эмблема рус¬
ской культуры, а не просто как памятник: пример его жизни и работы
подпитывает идентичность нации значением. Этот миф очень точ¬
но выразил консервативный критик Станислав Рассадин: «Мы, те,
кто, кажется, потерял все, что можно было потерять, — прежде всего,
нас самих, как нацию и как народ, — обладаем надеждой вспомнить
свое лицо и вдруг вновь обрести нашу душу, когда мы смотрим на
Пушкина»3. Когда русские «смотрят на Пушкина» в этом смысле, то
видят все, что надеются увидеть: символ целостности, творческого
начала, духовных ценностей и динамичного, свободолюбивого ума,
восстающего против всего, что ходульно или нетерпимо в их куль¬
1 Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 331.
2 Примеры предметов, изготовленных для юбилея 1999 г., и украшены
пушкинским профилем и/или строчками из стихов, и/или воспроизведени¬
ем его подписи.
3 Рассадин С. Без Пушкина, или начало и конец гармонии // Знамя. 1991.
№ 6. С. 220 (выделено в оригинале).
222
туре. Рассадин, сторонник национальных амбиций, о чем говорит
пробивающаяся в его словах ностальгия и пылкая привязанность
к прошлому русской культуры, напоминает своим читателям, что
говорит с ним в исторический момент разброда и шатаний (начало
1990-х гг.), но что надежды, которые он возлагает на Россию, не под¬
властны времени. Пушкин живет как бы вне времени, и размышления
о нем дают возможность вновь обрести душу, которая сама по себе
является вневременным представлением об идентичности и духе.
Место Пушкина в культуре по-другому определяется современ¬
ным санкт-петербургским поэтом Еленой Шварц, которая высту¬
пает с более маргинальных культурных позиций (принадлежала к
андеграунду в советский период). Она писала приблизительно в то
же время, что и Рассадин, в начале 1990-х гг., и говорила о смерти, а
не о жизни, и о сотворении мифов, а не о национальном самосозна¬
нии: «До определенных пределов все поэты мифологические фигуры.
В Пушкине или Баратынском нет ничего реального». «Реальный че¬
ловек умирает, остается один миф, — добавляет она, — чем более ве¬
лик поэт, тем более неизбежен миф»4. Шварц также видит Пушкина
вне определенных временных рамок из-за процессов, выходящих за
границы времени. Она ставит новый вопрос: как появляется на свет
миф. Она видит поэта подчиненным процессам мифотворчества и, в
отличие от Рассадина, не превозносит преимущества этого процесса
для самих русских. Значение имеет то, как момент, когда «реальный
человек умирает», присутствует в «неизбежном мифе» о поэте. Миф
так же неизбежен, как неизбежна человеческая смерть, и это делает
Пушкина смертным человеком, а не богоподобной фигурой, каким он
представлен у Рассадина. У Шварц миф начинается там, где кончает¬
ся жизнь, так что пушкинский миф берет свою энергию из посыла о
неизбежности его смерти.
Пушкин приковывал внимание всех поколений с 1837 г., года его
смерти из-за раны, полученной на дуэли. Смерть, «самое значитель¬
ное событие в его жизни»5, — подытоживает миф о национальном
поэте Шварц. Пушкин жив, но расцветает за пределами смерти, о ко¬
торой любили и любят задумываться русские. Он стал Пушкиным
только после того, как умер после дуэли, и те, кто верит, что «Пушкин
жив» никогда не переставали изучать обстоятельства и символиче¬
ские значения его смерти. Он представлялся и живым, и мертвым, и
4 Coldness and Rationality: Interview with Elena Shvarts / Valentina Po-
lukhina (ed.), Brodsky Through the Eyes of His Contemporaries / London, 1992,
P. 226.
5 Сурат И. «Да приступлю ко смерти смело...»: О гибели Пушкина». /
«Новый мир», № 2, 1999, С. 166.
одно из этих состояний поддерживает другое. Он оживает в настоя¬
щем, оплакивающем его отсутствие.
Кто же на самом деле создал его наследие? Это все равно, что
спросить, кто придумал представлять русскую идентичность через
Пушкина. Шварц проводит мысль, что это происходит с неизбеж¬
ностью и как будто анонимно. Для Рассадина миф создают зритель,
читатель и посетитель музея: всякий русский, кто заглядывает в свою
душу, размышляя о Пушкине, возобновляет миф. Изложенное здесь
расхождение между позициями Шварц и Рассадина имеет свою исто¬
рию и говорит о двух идентичностях Пушкина. Первая — Пушкин
как основатель культуры — возносит его как человека, принесшего
благо обществу, как человека, достижения которого можно изучать.
Вторая — Пушкин как любимый объект поклонения — представляет
его ближе и понятнее. Это личное, даже интимное. Оно делает воз¬
можной идентификацию и погружение в себя, в то время как дань
восхищения его культурному первенству исходит отнюдь не от инди¬
видуальных личностей, а от России, единой и неделимой, что типич¬
но для символических наций.
Спор между «мой» и «наш» Пушкин идет с момента, когда его
начали оплакивать: временами полемика возникала из-за недоволь¬
ства одной из сторон позицией другой, но часто стороны разделяли
общую позицию. Пушкин господствовал над русским культурным
воображением, т. к. казался «нашим» Пушкиным в той же мере, как
«моим». У Рассадина он преимущественно символ, разделяемый
всеми, хотя отдельные люди могут представлять себе мысли поэта с
сугубо индивидуальным благоговением. Шварц тоже исходит из по¬
сыла, что Пушкин — это публичная фигура, из которой сделали миф,
тем не менее, подобно некоторым в диссидентских кругах россий¬
ской интеллигенции, она признает полноправными только воззрения
индивидуума.
Часто идиосинкретическое восприятие выражалось как особая
форма любви. Поэт Федор Тютчев (1803-1873) писал: «Тебя ж, как
первую любовь, России сердце не забудет»6. Пушкин создал совре¬
менную русскую культуру не потому, что назвал вещи своими име¬
нами, как какой-нибудь славянский Адам, а потому, что сам остается
тем поэтом, о котором русским больше всего нравится размышлять.
Его произведения и то и дело возникающие легенды о его жизни
вдохновили других писать, создавать картины, скульптуры и филь¬
мы и развивать идеи национального звучания. Его индивидуальные,
специфические особенности приобрели огромное значение, но он
6 Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 140.
224
еще и символ поэта, в умах русских людей он олицетворял все, что
есть в поэзии.
На языке психоанализа, как это перефразировал Адам Филиппе,
фигура поэта «высоко ценимый внутренний объект, и его часто ас¬
социируют... с фантазиями свободы и независимости: поэт являет
собой апофеоз (по крайней мере, для некоторых людей) самостоя¬
тельности, индивидуальности, несхожести, доведенных до особого
уровня интенсивности посредством поэтического стиля»7. На это
символическое почетное место в данной культуре могут претендо¬
вать несколько человек, но Пушкин, как отмечает Лидия Гинзбург в
цитате, взятой в качестве эпиграфа, «обязателен». Отсюда тот значи¬
тельный эмоциональный вклад, который заложен в любом упомина¬
нии о поэте. У любви множество сложных комплексов, она может по¬
рождать ярость, чувство собственности, ослепление ума и проекцию.
Первая любовь часто оказывается источником смущения и ошибок.
Десятилетиями любовь к Пушкину выковывалась в преодолении не¬
приятия, пустых споров и желания отстраняться. Со всех сторон к
Пушкину тянулись, его произведения страстно поглощались и ста¬
новились проводниками пылкого самовыражения и решительного
изложения мысли. Эта эмоциональная индивидуальная реакция на
Пушкина повлияла на широкие интеллектуальные дискуссии о том,
что значит быть русским, какую роль судьба уготовила поэту сыграть
в драме национального самоопределения, и как все, кто живет после
смерти Пушкина, могут видеть себя русскими благодаря, или вопре¬
ки, уроку его жизни.
Этот процесс продолжается в России и поныне, публикуются дис¬
куссионные статьи относительно политического прочтения поэта,
как исключительно русского явления, разгораются споры о религи¬
озном значении его наследия, выдвигаются разные версии объясне¬
ний, почему в дни нынешних хаотических перемен он сохраняет свое
значение для русской культуры. Ни один другой сюжет не обещает
большего национального сближения, чем пушкинский сюжет, и со¬
хранившиеся остатки разделяемых всеми представлений о нацио¬
нальной самоидентификации не дают утихнуть бесконечным спорам
и диалогам.
Исключительность места, которое занимает пушкинский сюжет в
русской культуре, заставляет думать, что это миф. Термин достоин
того, чтобы его прояснить, т. к. им обозначают несколько понятий.
Первое, мифы, как мы знаем их со времен древних культур, это объ¬
ясняющие нарративы, истории, рассказывающие нам, как произошел
7 Phillips A. Promises, Promises: Essays on Psychoanalysis and Literature.
N. Y., 2001. P. 19.
225
мир, как действуют природные силы или как человеческие поступки
предопределяются богами. Мифы указывают на истоки, дают объяс¬
нения тому, как то или другое обрело существование. В этом смысле
пушкинский сюжет — миф, нарратив, в котором современная Россия
видит признаки своего начала. Например, он признается первым со¬
временным русским писателем, потому что работал в европейском,
а не только в чисто русском контексте и потому что был профессио¬
нальным писателем, зарабатывавшим на жизнь своими произведе¬
ниями. Эти стороны его жизни стали символическими ступенями в
переходе русской культуры в современность.
Истоки мифов это еще и священные истоки, что не уменьшается
нарративами о светских и национальных корнях. Антропологи отме¬
чали, что современные культуры создают «мифических существ», ко¬
торые «изъяты из обыденной жизни и переданы в пугающую смутную
сферу, к которой принадлежало все, что являлось объектом религи¬
озной веры»8. Легенды о богах и героях, населяющих эту другую сфе¬
ру, могут играть очень сильную роль в культурных установках совре¬
менных людей: они могут служить моделью установок, предпочтений
и соответствующих форм поведения. С 1837 г. Пушкин пребывает в
этой особой сфере для русских, но трудно определить, насколько это
следствие его собственного благочестия, православия или духовного
поиска. Споры по поводу широкой темы «Пушкин и христианство»
особенно разгорелись в 1990-х гг. (возрождая, но в менее утонченной
форме, полемику столетней давности), и это было симптомом огром¬
ной озабоченности русской культуры о том, как в постсоветскую эпо¬
ху вернуть собственные традиции православия9.
Мифы в современном мире предлагают и третье значение: система
объяснений, которая приводит к ложным заключениям. Миф может
быть ошибочным мнением, возможно, имеющим широкое хождение и
подкрепляемым официальной идеологией. Этот аспект пушкинского
сюжета усложняет элементарное вознесение его до квазисвященного
статуса, потому что Пушкин буквально оброс ложными про него и
его творчество историями. Иногда очередной культ Пушкина ведет к
вредному искажению его репутации. Однако граница между правдой
и ложью не всегда хорошо различима, и всевозможные выдумки за¬
ставляют преданных читателей докапываться до правды. Опасения,
что распространение получает ложный образ поэта, подпитывают
стремление познать «истинного» Пушкина, но это задача невыполни¬
ма, как достижение линии горизонта. За какие аспекты темы «Пуш¬
8 Reidar Th. Christiansen. Myth, Metaphor, and Smile // Myth: A Sympo¬
sium /ed. Thomas A. Sebeok. Bloomington, Indiana, 1955, repr. 1965. P. 65.
9 См. главу 6.
226
кин» стоит бороться, преодолевая набегающие изменения: для одних
центральный вопрос имеет политическую окраску, для других носит
характер религиозный, для кого-то это такой же земной вопрос, как
любил ли Пушкин свою жену и спал ли с сестрой жены или был ли он
отцом ребенка одной из его крепостных крестьянок.
Некоторые аспекты пушкинского мифа можно выделить и обо¬
значить, т. к. они держались десятилетиями после его смерти, повто¬
ряясь, переиначиваясь, вызывая возражения. Первый такой аспект —
это сравнение Пушкина с лучом света во мраке русской истории,
светлым пятном, обещающим осветить будущее, а вместе с ним и
прошлое. Пытаясь выразить самоощущение, русские нередко обра¬
щались к образу общенациональной трагедии и апокалипсической
риторике. Когда известные русские писатели, поэты и философы
брались за решение задачи определения своей нации, они начинали
говорить на языке пророчеств и оплакивали историю разрушений и
разорений страны. Отвергая такую позицию трагической самооцен¬
ки, некоторые из них (включая Рассадина, цитировавшегося выше)
говорят, что Пушкин дал России надежду. Он играл роль реставрато¬
ра, утешителя, источника духовного обогащения.
И все-таки среди русских, радостно улыбающихся при мысли, что
Пушкин когда-то жил и писал, найдется такой, кто видит в поэте ту
самую национальную трагедию, исцеление от которой ему приписы¬
вают. Трагическим историям про Пушкина нет числа. Многие из них
связаны с обстоятельствами его смерти, событием, по поводу которо¬
го русские объявляют себя объединенными общей печалью . Задним
числом даже в его собственных произведениях находили как будто
отзвуки подобных тем. Федор Достоевский блестяще использовал
романтическую поэму «Цыгане» (1824) и лирическое стихотворение
«Пророк» (1826) в своей знаменитой речи при открытии памятника
Пушкину в Москве в 1880 г.; другие находили трагические нюансы
в исторических произведениях Пушкина, в том числе и в его проти¬
воречивой и блестящей пьесе «Борис Годунов» (1825) и последней
повести «Капитанская дочка» (1836). Разнообразие творческих ин¬
тересов Пушкина говорит о том, что его серьезные или трагические
произведения всегда уравновешивались тем, что Виктор Эрлих на¬
звал «священной игривостью» Пушкина. Одновременно искавшие
политического обоснования своему преклонению перед Пушкиным,
могли сослаться на одни поэмы, стихи и рассказы, а интересовавшие¬
ся эстетическими сложностями его творчества имели возможность
говорить о важности других пушкинских работ10.
10 См.: Victor Erlich. The Double Image: Concepts of the Poet in Slavic Lit¬
eratures. Baltimore, 1964. P. 16-37.
227
Кроме этих абсолютно разных подходов к определению места
Пушкина в трагической самоидентификации России, есть и третья
позиция, отличающаяся отказом от трагедии вообще. Ее очень хоро¬
шо изложил тартуский ученый Юрий Лотман (1922-1993), который
отдавал должное удивительному свойству Пушкина адаптироваться
к репрессивным социальным механизмам. С его точки зрения, жизнь
и творчество Пушкина переплетаются друг с другом, наполняясь при
этом собственным самовыражением и интерпретируемым значением.
Лотман и его последователи видели также, что миф Пушкина пара¬
доксально повторял ряд гонений, с которыми боролся поэт. На обло¬
жке одного из альманахов авангардистской поэзии «Латинский квар¬
тал» (1990) была помещена фотография пушкинского монумента в
строительных лесах (рис. 11.1); этот непочтительный образ создавал
буквальную пародию распространенного тогда политического терми¬
на «перестройка», при этом участники альманаха позиционировали
себя реоснователями русской культуры. Как поэты, они хотели бы
спасти Пушкина от заточения в строительные леса и тем самым осво¬
бодить русскую культуру для будущей славы.
ЛАТИНСКИЙ
КВАРТАЛ
228
Рис. 11.1. Фотография на обложке поэтического альманаха
«Латинский квартал», 1990 (с разрешения редактора Виктора Кулле)
Такое разнообразие реакций на пушкинский миф подводит к от¬
вету на вопрос, почему именно Пушкин стал национальным поэтом
России. Важным моментом был фактор времени: Пушкин появился
в той точке начала XIX в., когда романтический национализм пост¬
наполеоновской эпохи наталкивал нации на поиски нового гения.
Единственным другим писателем и поэтом, который в то время мог
бы подойти на эту роль, был пушкинский младший современник,
проживший еще более короткую жизнь, Михаил Лермонтов (1814—
1841). Однако сыграло роль то, что Пушкин уверенно и отчетливо
работал во всех жанрах, и то, что он погиб на дуэли, окрашенной ро¬
мантической интригой, а не на дуэли из-за чисто мужского спора, на
которой был убит Лермонтов. Это делало Пушкина более притяга¬
тельной фигурой. Смерть Пушкина сама по себе была поэтическим
предметом, который вознес молодого Лермонтова на вершину славы,
благодаря сразу же получившему широкую известность стихотворе¬
нию «Смерть поэта» (1837).
Особенно сильно на процесс мифотворчества повлияли обстоя¬
тельства смерти Пушкина. Современники увидели в его смерти знак
к объединению, национальный отклик на трагедию сделался осново¬
полагающим моментом в мифах о Пушкине. Правительство Нико¬
лая I моментально осознало значение и опасность ответной реакции
общества: тело Пушкина под покровом ночи на телеге тайно вывезли
из Санкт-Петербурга, чтобы захоронить в отдаленном Святогорском
монастыре, неподалеку от фамильного имения семьи Пушкиных в
селе Михайловском. Исчезновение тела придало мифу Пушкина осо¬
бый духовный ореол, однако к скудному имуществу поэта отнеслись
с благоговением, несовместимым с идеей о полном отказе от матери¬
ального. Реликвии его жизни включали библиотеку, книги которой
Пушкин благословил прощальным предсмертным жестом, а также
обычные атрибуты смерти, с которыми можно ознакомиться в рус¬
ских музеях: посмертные маски, жилет с дыркой от пули, дуэльные
пистолеты, диван, на котором он лежал.
Вывоз тела и окружавшая его секретность объяснялись полити¬
ческими соображениями (царские агенты утверждали, что толпа
выйдет из-под контроля, и вообще, как можно было допустить даже
мысль, что такое внимание оказывается простому писателю, да еще
политически неблагонадежному), и поэтому сама смерть приобрела
политическое значение. Пушкин умер на дуэли, связанной с поддер¬
жанием фамильной чести, но вмешательство царя в организацию по¬
хорон напомнило друзьям поэта, что он вполне мог бы предотвратить
дуэль. Получившее широкое хождение стихотворение Лермонтова
229
возлагало вину на высший свет. По сравнению с другими элегиями на
смерть Пушкина лермонтовское стихотворение отличалось страст¬
ной бесплотностью, и оно положило начало восприятию Пушкина
как государственного мученика, для чего и нужно было такое отри¬
цание телесности. Сто лет спустя, в 1937 г. когда Сталин призывал
советских людей отметить столетие со дня смерти Пушкина, звучали
пылкие речи о мученичестве. Это происходило в самый разгар ста¬
линских чисток.
Памятники Пушкину часто возводили во время празднования го¬
довщин, связанных с его рождением и смертью, в том числе в 1937 и
1949 гг. Они выполняли роль, которую Пьер Нора назвал «lieux de
memoire» (памятными местами). Места и события, получившие на¬
звания в его честь, артефакты поддерживают жизнь в памяти, которая
без этого оказывается очень хрупкой. Нора удачно называет их мар¬
керами «мемориальной бдительности»11. Памятники Пушкину поя¬
вились повсюду, повторяя небольшое число иконографических поз,
изображавших поэта декламирующим стихи, отдыхающим на парко¬
вой скамейке или стоящим в задумчивой позе со склоненной головой.
Застывшие позы и схожесть памятников создают статичный, а не ди¬
намичный образ поэта, и в этом можно видеть своеобразную иронию:
в 1880 г. возведение памятника частному лицу в стране, где до этого
устанавливались памятники только вельможам, требовало недюжин¬
ной смелости. Советские памятники были созвучны с бесплотной
версией пушкинского мифа, где не было места историям о поэте и ле¬
гендам, где поэт рисовался энергичным и подвижным, в желаниях не¬
обузданным, эротически изобретательным, физически своеобразным.
Этот миф формировался долго, унаследованный канон пушкинских
произведений преобразовывался, из него выбрасывались письма, ли¬
рические стихи, а непристойные стихи, вроде «Гавриилиады» (1821),
почти не попадали в руки читателей11 12. Но как это бывает со всеми ми¬
фами, эти тоже вызвали неприятие. Среди противников были поэты
Владимир Маяковский (1893-1930) и Марина Цветаева (1892-1941)
и создатели популярных легенд и неисчислимых анекдотов. Лучшим
примером комического неприятия монументального Пушкина может
служить выражение: «А это кто будет делать? Пушкин?» — в этом
риторическом восклицании вместо местоимения «это» может встав¬
ляться какое-нибудь обыденное действие, вроде, подмести пол, вы-
11 Pierre Nora. Between Memory and History: Les Lieux de Мётойе // Rep¬
resentations 26. Spring 1989. P. 12.
12 «Гаврилиада» была издана в 1921 г., а потом переиздана только в
1991 г.
230
1 гршанеНОЧИ
Рис. 11.2. Обложка альманаха «Граждане ночи», 1990
мыть посуду, зашить дырку на рубашке. Еще один альманах времен
«перестройки» поместил на обложке воплощение этого выражения в
жизни, изобразив Пушкина с простодушным видом держащим в ру¬
ках метлу, приготовившимся подметать (рис. 11.2). Желание снять
Пушкина с пьедестала выражало сопротивление против бездумного
превознесения его в официальном дискурсе, одновременно это было
стремлением обновить и влить новые силы в любовь к поэту, не дать
образу умереть для новых поколений.
Живое представление о масштабах публичного образа Пушкина
получаешь, перебирая наиболее известные клише о нем. С самого на¬
чала он был «светлым именем», «счастливым именем» и «солнцем
русской поэзии». У этих имен одинаковые метафорические отсылки
к свету и радости, все они отражают большой оптимизм.-Полная све¬
та аура, окружающая Пушкина, освещает Россию, как солнце освеща¬
ет Землю, но вместе с тем она придает его образу характер хрупкости
и недолговечности: еще в 1837 г. смерть Пушкина сравнили с заходом
солнца13, и эта метафора перешла в эссе модернистского поэта Оси¬
па Мандельштама (1891-1938), который вспомнил «солнечное тело
13 Эта фраза стояла в заголовке некролога Пушкина в журнале «Литера¬
турное прибавление к русскому инвалиду» (30 января 1837 г. № 5. С. 48).
231
поэта» так что «ночью положили солнце в гроб»14. Мандельштамов-
ское «ночное солнце» напоминает нам о трагедии, затаившейся в
ярком свете официально-светлого признания (и о темных временах,
при которых жил сам Мандельштам).
В начале советской эпохи, казалось, больше подходило другое
клише о Пушкине: «Пушкин — это наше все»15. Упор на единстве
предполагает гигантский сосуд, способный вместить любое, общее
для всех русских, переживание. Важно и слово «наше», оно подчер¬
кивает, что Пушкин вобрал в себя все бытие России, ее духовность.
«Пушкин — это наше все» подразумевает выравнивание, при котором
у всех переживаний, которые могут уместиться в сосуде «Пушкин»,
равная ценность и равное значение. Заложенное в нем утверждение
поднимает Пушкина из истории прямо в абсолютное царство, где ге¬
рои не меняются и где нацию определяют герои. Ассоциация Пуш¬
кина со светом не исторична, потому что уходит в мир природы, а
вот ассоциация Пушкина со «всем» идет дальше, смазывая различия,
типа природа — культура, прошлое — настоящее. Она преподносит
его в эмоциональном, а не рациональном плане, со свойственной ей
склонностью к гиперболизации демонстрируя, что о Пушкине можно
говорить только в превосходной степени.
Эти вербальные формулы типичны для общего восприятия Пуш¬
кина как светлого и ясного, широко и глубоко русского. Благодаря
этим формулам Пушкин становится неизбежным, как солнечный
свет, всеобъемлющим как мир вокруг нас. Эти клише концентриру¬
ют ряд подразумеваемых мифов о Пушкине: национальный поэт, чьи
блестящие достижения демонстрируют величие нации, давшей ему
жизнь; многогранный писатель, в котором поколение за поколени¬
ем русские люди видели себя (и свои политические и эстетические
взгляды); ставший мучеником художник, ранняя смерть которого
помогла нации понять свою собственную трагическую судьбу и по¬
казала безжалостную власть безразличного государства, и, наконец,
преисполненный честности гениальный человек, вдохновляющий
пример для последующих поколений художников, мыслителей и
граждан. Теперь, по прошествии 150 лет после смерти Пушкина, труд¬
но при чтении любого из его произведений освободиться от влияния
интерпретационной деятельности посредников, от этих накопленных
мифов.
14 Мандельштам О. Собр. соч.: в 3 т. / ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппов.
Нью-Йорк, 1971. Т. II. С. 313-319.
15 Фраза принадлежит Аполлону Григорьеву: «Взгляд на русскую лите¬
ратуру со смерти Пушкина» (1859), репринт в: Светлое имя Пушкина / ред.
В. В. Кунин. М., 1988. С. 78.
232
2. Годовщины
В качестве примера того, как работает пушкинский миф, мы мо¬
жем посмотреть на культурную продукцию, выпускаемую в связи
с пушкинскими юбилеями, особенно к празднованию двухсот лет
со дня его рождения. Пушкинские годовщины отмечали несколь¬
ко раз — в 1880, 1899, 1921, 1924, 1937, 1949, 1987 и двухсотлетие в
1999 г. Почти все они отмечали «круглые» даты со дня его рожде¬
ния или смерти, и по их поводу установилась поразительно устойчи¬
вая традиция общественных празднований. Каждый раз ощущалась
внутренняя связь с предыдущими празднествами, так что создается
кумулятивный эффект; ритуал, повторяясь в ряде моментов, посто¬
янно претерпевал изменения, зависящие от давления политических и
культурных факторов. Таким образом, годовщины представляют со¬
бой абстрактную ценность, повествовательный прием, выстраиваю¬
щий тему «Пушкин» в русской культуре. Они сводят вместе большое
число разных реакций на Пушкина в один день или месяц, побуждая
писателей, мыслителей и общественных деятелей создавать тексты,
излагая в них свои мысли и впечатления. Эти тексты и образы, в
свою очередь, привлекают к Пушкину более активное внимание ши¬
роких масс населения. Годовщина не кажется надуманным поводом
для празднования, ибо выбор времени предопределяется историче¬
ским повторением события, годом или днем, когда 50, 100, 150 лет
назад произошло что-то важное. И все-таки в любом праздновании
годовщин есть что-то искусственное, особенно в условиях тщательно
скоординированных событий XX в. Этот парадокс естественной без¬
граничной любви, проявляющейся в централизованном празднова¬
нии, сам по себе составная часть пушкинского мифа в России.
Самое многообразное и значительное празднование, имевшее ме¬
сто в XX в., состоялось в 1937 г., когда централизованное руководство
юбилеем проходило в условиях террора. На его примере лучше всего
видно, насколько верно не признающая средних значений теория оце¬
нивает официальные празднования как фальшивые и не достойные
тех, кто «воистину» любит Пушкина: даже в 1937 г. в них участвова¬
ли выдающиеся личности и высказывались важные новые мысли о
Пушкине. Навязать всем сверху какой-нибудь определенный подход
никогда полностью не удавалось, и каждая годовщина ознаменовыва¬
лась появлением интересных столкновений подходов и взглядов. Как
правило, празднования включали большое количество мероприятий,
и среди их широкого разнообразия неожиданно вырисовываются
признаки не поддающейся времени способности Пушкина помогать
России снова и снова находить себя. В 1937, как и в 1999 г. переход¬
233
ное общество использовало публичный ритуал в целях культурной
ориентации и поиска стабильности.
В 1999 г. празднование должно было продемонстрировать, что
новая Россия может, попросту говоря, функционировать как состо¬
явшееся государство. Несмотря на значительные трудности, празд¬
ник оказался триумфальным и с точки зрения финансовой, и с точки
зрения идеологической. Москва затратила на него около 4 млн дол¬
ларов. Еще 5 млн было выделено на реставрацию трех пушкинских
музеев в Псковской области. Деньги, большие деньги, стали мерилом
уважения к Пушкину в двухсотлетие его рождения. Один из награж¬
денных юбилейной медалью надеялся (совершенно напрасно), что
будет денежная премия16. Несмотря на опасения, что разваливающая¬
ся российская экономика ни за что не сможет обеспечить достаточно
щедрое празднование, скоро стало ясно, что Пушкин, переживший
сталинский террор в юбилейном 1937 г., в период финансового де¬
фолта останется вполне благополучным17. Его образ находчиво ис¬
пользовался в коммерческих интересах, что запечатлелось в тексте
хорошо запоминающейся рекламы. Одна компания вещала: «Пуш¬
кин знал, как складывать слова в стихи. Мы знаем, как собрать пре¬
красный автомобиль». Другая прямо рассылала письма, начинавшие¬
ся словами: «Дорогие москвичи! Поздравляем Вас с двухсотлетней
годовщиной рождения Александра Сергеевича Пушкина! Если Вы
хотите снять домик в деревне, звоните, пожалуйста, нам»18. Реклама,
сравнивавшая реликвии Пушкина и Гёте (в 1999 г. отмечалось так¬
же двухсотпятидесятилетие со дня рождения великого националь¬
ного поэта Германии), дала повод постмодернистскому поэту Льву
Рубинштейну сочинить блестящую концертную реплику «Пушкин
как объект китча». Он заметил забавный контраст в символике, когда
Пушкина изображали на водочных этикетках, тогда как образом Гёте
пользовались для того, чтобы продавать коньяк; а увидев портрет
Гёте на упаковке дамских чулок, он очень пожалел, что для того же не
взяли имени Пушкина, ведь это Пушкин так замечательно прославил
дамские ножки в «Евгении Онегине»19.
16 Непомнящий В. Юбилейные обрывки // Искусство кино. 2000. № 1.
С. 61.
17 Радзишевский В. Орден для Пушкина // Литературная газета.
13.01.1999. № 1-2. С. 1.
18 И то, и другое цит. по: Бунимович Е. Колонка «Лучшая жизнь» // Ли¬
тературная газета. 1.06.1999. № 22 (5745). С. 13.
^ Рубинштейн Л. Пушкин как объект китча // Итоги. 27 апреля 1999.
9 • Здесь и далее отсутствие номера страницы означает, что информация
получена в Интернете на сайте Universal Database of Russian Newspapers.
234
Можно, не задумываясь, предсказать наверняка, что русские ком¬
ментарии относительно коммерциализации русского национального
поэта и создания вокруг его имени атмосферы шоу-бизнеса будут
самыми резкими. Раздавались голоса осуждения по поводу неподо¬
бающих названий книг, фильмов или экспонатов. Критик Валентин
Непомнящий разобрал английский фильм «Евгений Онегин» (ре¬
жиссера Марты Файнс), но преимущественно для того, чтобы по¬
вторить свои несколько избитые сравнения западного и русского ис¬
кусства. Это был пышный жест в духе традиций юбилея20. Некоторые
критики хвалили юбилей, называя его духовно очищающим, по их
мнению, жалобы людей на вульгарные события являлись признаком
того, что массы сохраняют инстинктивный такт и хороший вкус21.
Большинство публикаций говорило о том, что прошлые празднова¬
ния были лучше во всех отношениях и имели большее значение для
формирования отношения к Пушкину. Телеканал «Культура» по¬
казал новый документальный фильм «Медный Пушкин: семь юби¬
леев», посвященный предыдущим пушкинским юбилеям22. Носталь¬
гия по прошлым празднованиям скрасила явный цинизм некоторых
публикаций. Видный московский критик и редактор Наталья Ива¬
нова уехала в Санкт-Петербург, остающийся для многих русских
сказочным местом, где есть настоящая культура, и была обрадована,
увидев атмосферу счастливого праздника: «Как это ни удивительно,
все получилось»23.
Впрочем, все получилось (если согласиться что это было на самом
деле так) благодаря колоссальному сочетанию событий, публикаций,
обещаний и пророчеств. Отмена цензуры означала, что стало возмож¬
ным почти все, включая невероятную прорву ошибок, самая знаме¬
нитая из которых приписала Ельцину (еще остававшемуся в 1999 г.
президентом) авторство максимы XIX в. «Пушкин — это наше все».
По сравнению с предыдущими годовщинами, гораздо большую роль
играло телевидение, задававшее тон, передававшее информацию и
показывавшее образцы разных форм празднования. Оператор канала
ОРТ останавливал на улице людей и просил прочитать строчку из
«Евгения Онегина», каждый вечер разные голоса и лица зачитыва¬
20 Непомнящий В. Poor Boy Onegin // Искусство кино. 2000. № 2.
С. 65-67.
21 Непомнящий В. Юбилейные обрывки. С. 61.
22 Пушкин в меди(а) // Ex Libris NG. Июнь 1999. № 21 (93). С. 1.
23 Иванова Н. В Петербурге, с Пушкиным // Знамя. 1999. № 9. С. 239.
235
ли по строфе. Огромное количество откликов, в значительной мере
в форме традиционных выступлений рабочих и крестьян, деклами¬
рующих пушкинские стихи, создавали видимость демократического
«выравнивания» и широкого распространения высокой культуры в
массах, одновременно показывая в миниатюре, какое разнообразие
голосов можно было услышать в 1999 г.
В такой атмосфере прямо напрашивается карнавал и, как об этом
писал критик, настоящей мотивацией для крупных событий была по¬
требность праздновать что-нибудь, все что угодно24. Повсюду были
расклеены приглашения на балы, которые состоятся в Москве на
городских площадях и будут проходить под общим названием «Лю¬
бовь! Россия! Солнце! Пушкин!» На Манежной площади в Москве
Сергей Пенкин прогремел своей рок-н-рольной версией интимной
пушкинской лирики («Я вас любил»)25. Стали дурачиться и газеты.
Интеллигентная газета «Ех Libris» обходилась с Пушкиным, как с
современным писателем с соответствующим его положению неува¬
жением. Несколько пушкинских текстов были отрецензированы
так, словно их только что напечатало воображаемое московское из¬
дательство «Наше все», и рецензенты, как могли, сокрушались, что
бедному Пушкину не достался ни Букер, ни Анти-Букер того года.
Разным современным писателям газета задавала вопрос, почему они
не Пушкины, и, как всегда эпатирующий прозаик Эдуард Лимонов
отрезал: «Во-первых, я не хочу быть Пушкиным! Быть им — значит
быть поэтом календарей, поэтом градоначальников, речей... Я не хотел
бы быть этим монументом-монстром»26. Другое известное издание
напечатало пикантную историю, услышанную от Семена Гейченко,
степенного директора пушкинского музея в Михайловском (бывше¬
го пушкинского имения), о строфе из «Евгения Онегина», которую
поэт по ошибке употребил вместо туалетной бумаги27.
Такая ирония и такое непочтение были типичными для порази¬
тельного отхода от советских годовщин. Ведущая «Литературная га¬
зета» изо всех сил напоминала, что у нее прямая связь с пушкинской
24 Новиков А. Я устал от слова «культура»! О «Медном всаднике» как
главном герое пушкинского юбилея // Знамя. 1999. № 7. С. 208-212. Это
гневная диатриба одного члена Союза писателей и Московского союза
журналистов.
25 Абаулин Д. Он стерпел наше все / Литературная газета. 9.06.1999.
№ 23 (5746). С. 9.
26 Ex Libris NG. Июнь 1999. № 21 (93). С. 1-2. Цитата из Лимонова, с. 4.
27 Зорин А. Мой Пушкин // Неприкосновенный запас. 1999. № 2 (4).
С. 40.
236
традицией, и в первом разделе каждого номера помещала его знаме¬
нитый автопортрет в профиль прямо под «шапкой» во всю ширину
страницы, возвещавшей, что газета была основана в 1830 г. с участи¬
ем Пушкина и возобновлена изданием в 1929 г. В номере от 6 июня
1999 г., как и можно было ожидать, целая полоса была посвящена
юбилею, но на первой полосе следующего номера под самым профи¬
лем Пушкина в небольшой рамке стоял эпиграф, цитата из письма
Пушкина жене: «Все эти праздники просижу дома»28. Самой живой
смесью пиетета и словесной непочтительности был, наверное, сбор¬
ник «Шинель Пушкина» (2000), предварявшийся блестящим всту¬
плением критика и литератора Андрея Зорина, который описывал
Пушкина, как современное воплощение безопасного секса в России:
«Изысканное наслаждение гарантировано, а нежелательные послед¬
ствия полностью исключены»29. Зорин заключает, что причастность
Пушкина к русскому самоопределению была решительно доказа¬
на к торжествам 1999 г.: он в одинаковой степени был подходящим
героем и для царизма, и для Советов, и для одержимой коммерцией
постсоветской России.
Теперь, в отличие от предыдущих годовщин, меньшее место за¬
нимали новые стихотворные произведения, словно этот жанр был
слишком ретро, чтобы его возобновлять. Несколько поэтических
публикаций представляли собой возвращение к старому. Поэт Бел¬
ла Ахмадулина, получившая известность в 1960-е гг., собрала все
свои произведения на тему о Пушкине в сборнике «Зимняя зам¬
кнутость» (1999) с подзаголовком «Приношение к двухсотлетию
А. С. Пушкина», но ее книга не привлекла значительного внимания.
Более интересно выступил поэт-авангардист старшего поколения
Генрих Сапгир, продолживший фрагменты пушкинианы, написан¬
ные в 1985 г., опубликованные в 1992 г. но оставшиеся тогда неза¬
меченными и дошедшие до широкой публики в мае 1999 г. благодаря
журналу «Дружба народов». Сапгир выбрал малоизвестные пуш¬
кинские стихи и дописал их, а также включил знаменитую строчку
«И я бы мог...», которую Пушкин написал над наброском виселицы в
своей записной книжке и которая давно считалась его размышлением
о том, что и он мог бы разделить судьбу пяти повешенных в 1826 г.
заговорщиков-декабристов30. Сапгир написал три стихотворения,
28 Литературная газета. 9.06.1999. № 23 (5746). С. 1.
29 Зорин А. Безопасный секс // Шинель Пушкина: Сборник к
200-летнему юбилею А. С. Пушкина. М., СПб., 2000. С. 6.
30 Сапгир Г. Черновики Пушкина // Дружба народов. 1999. № 5.
С. 110-115.
237
основываясь на этой незаконченной строчке и сохранив хорошо из¬
вестный контекст виселиц, но дополнил его темой танца и разбавил
пушкинские интонации страха и сожаления нотками гордости. Эти
три стихотворения вибрируют тонким ощущением возможного наси¬
лия и создают сильный, хотя и совершенно неумышленный резонанс
с насилием в повседневной жизни России 1999 г.
Другой проект повторных публикаций связан с поэтом-
концептуалистом Дмитрием Александровичем Приговым, который
в 1992 г. переписал «Евгения Онегина»31. Его работа появилась в
1998 г., это было предполагаемое факсимиле единственного сохра¬
нившегося фрагмента всего проекта. В предисловии говорилось, что
это плод попыток Пригова создать копию «священного» текста рус¬
ской культуры. Пригов также заявлял, что его вдохновила легенда
последних советских лет о матери, сын которой хотел читать толь¬
ко самиздатовскую литературу, поэтому она скопировала для него
на пишущей машинке «Войну и мир» Льва Толстого. Пригов сделал
«Онегина» своим собственным произведением, заменив все эпитеты
на «безумный» или «неземной», отчего, по его словам, текст стал бо¬
лее лермонтовским32. Однако изменения гораздо интереснее: много¬
кратное использование слова «безумный» придало тексту таинствен¬
ное и похожее на бред звучание. В издании 1998 г. иллюстрации
Александра Фаворского добавляют странный оттенок (на нижнем
правом краю каждой страницы помещен штриховой рисунок Пуш¬
кина в цилиндре и с тростью, немного отличающийся от страницы
к странице, и если быстро перелистывать страницы, получается, что
Пушкин снимает шляпу). Поскольку страницы «факсимиле» из тон¬
кой бумаги имитируют машинописную рукопись самиздата, от кни¬
ги, несмотря на искусную верстку, веет ностальгией.
Годовщина 1999 г. также была отмечена фильмами о Пушкине,
некоторые из которых оказались довольно новаторскими. Докумен¬
тальные фильмы были, возможно, интереснее художественных, но,
к сожалению, они не привлекли внимания. Два небольших фильма
Андрея Кржановского показали крошечной аудитории на Сочинском
кинофестивале и на нескольких других фестивалях. Короткометраж¬
ки, каждая менее получаса, производят загадочное и чарующее впе¬
чатление, рсобенно второй «Давай, улетим!.. Пушкину взлет разре¬
31 Факсимильное воспроизведение самодельной книги Дмитрия Алек¬
сандровича Пригова «Евгений Онегин Пушкина». СПб., 1998.
32 Пригов Д. А. «Поп-герой». Интервью, взятое Сергеем Шаповалом //
NG — Фигуры и лица. 5.06.1999. № 11 (32).
238
шен». Название взято со скульптуры вертолета с высовывающимся
из переднего иллюминатора лицом Пушкина и с настоящего вертоле¬
та, который назвали «Пушкин».
«Давай, улетим...» построен на материалах открывшейся в ок¬
тябре 1998 г. выставки тринадцати пластических и кинетических
скульптур, созданных детьми. Фильм начинается кадрами с разве¬
вающимся по ветру российским флагом, перебиваемыми образами из
празднования 1999 г.: здания, задрапированные транспарантами с ли¬
цом или фигурой Пушкина; витрины магазинов с именем Пушкина
или его изображение на коробках конфет; пластиковые пакеты с над¬
писью «Пушкину 200 лет»; рекламные щиты со словами «страсть»,
«любовь», «красота» рядом с лицом Пушкина; коврики с изображе¬
нием Пушкина, на которых отчетливо проступает ценник. Фильм,
как таковой, представляет собой великолепную компиляционную
работу, использующую визуальные образы юбилея, и является пре¬
красной демонстрацией того, какой маркетинг был у Пушкина в но¬
вой России. Задерживая внимание на скульптурах с детской выстав¬
ки, «Давай, улетим...» предвосхитил циничные замечания по поводу
превращения Пушкина в товар, а именно, что его «образ» утратил
всю ценность (в самом названии детской выставки скульптур, «Пуш¬
кин, снова», пряталась насмешка). Показывая процесс изготовления
скульптур, Кржановский с увлечением раскручивает свою любимую
кинематографическую тему о том, как создается искусство. Мы ви¬
дим, как к лицу прилепляются губы, как к губам применяется крас¬
ная краска, как скотчем склеиваются отдельные части тела, чтобы не
отваливались, т. е. мы видим радость и усилия молодых творцов так
же живо и непосредственно, как видим их конечный продукт. Мон¬
таж и съемка лишают скульптуры естественности, используя очень
крупный план и ритмично повторяя кадры, отчего лица становятся
гротескными. Они и так уже в нескольких случаях гротескные, с не¬
пропорционально большими глазами или губами и аляповато раскра¬
шенными лицами. В первом эпизоде одну из скульптур невидимые
люди тащат по улицам, и здесь попеременная остановка кадра произ¬
водит очень интересный эффект. Создатели фильма показывают, как
Пушкин привидением бродит по улицам города, празднующего день
его рождения. В этой роли у Кржановского несколько Пушкиных —
произведений детского творчества, образы на рекламных щитах и в
витрине магазина и маленький памятник Пушкину, открываемый
в конце фильма, выглядящий так, словно сделан из воска и опреде¬
ленно руками ребенка. Все эти образы — совершенно отстраненный
Пушкин, — исключительный трюк для фильма, показывающего, на¬
239
сколько чрезмерно знакомым был его образ во время празднования
1999 г.
Перемещение скульптуры Пушкина по московским улицам соз¬
дает иллюзию, что он почти возвращается к жизни. Движение не на¬
туралистично: кукла остается марионеткой, которой манипулируют
создатель фильма и зрители. То же можно сказать и об экспонатах
на выставке «Пушкин, снова»: некоторых могли оживить посетители,
например, кресло в форме тела Пушкина (его руки — подлокотники,
в другие вставлен моторчик, например, вертолет. Одно матрацепо¬
добное лицо приглашает детей полежать на его щеках, отчего лицо
начинает двигаться. Зловеще красивая витая из провода скульпту¬
ра, читающаяся под несколькими углами, отбрасывает на стену тень.
Но реальное представление о движении в этих образах не просто че¬
ловеческое движение, а полет. Тот факт, что поэт никогда не выезжал
из России и что он пережил множество гонений и ограничений, вкупе
с образами Пушкина за перекладинами магазинной витрины играет
очень важную роль — фильм открывается словами Пушкина: «Сижу
за решеткой...» («Узник», 1822). Как освободить Пушкина? — спра¬
шивает фильм. Ответ невероятно романтичный — отдайте его в руки
детей, пусть образы будут гротескными и непочтительными, и пол¬
ными любви, пусть он воспарит, хотя бы в нашем воображении.
Чуть менее удачным был фильм «Три песни о Пушкине» (1999)
Павла Громова, но это ценный фильм с точки зрения исторической
ретроспективы и опоры на документальную основу. Подобно фильму
Дзиги Вертова «Три песни о Ленине» (1934), отсюда и название, гро-
мовские «Три песни о Пушкине» — компиляция, соединяющая кадры
документальной съемки с другими источниками, чтобы воссоздать
исторические моменты далекого прошлого. Он до предела дидакти¬
чен и безжалостно использует голос за кадром, чтобы вколачивать
в головы память о зле сталинского режима. Его первая «песня» по¬
дает юбилей 1937 г. как ужасающий праздник в отчаянные времена.
По мере продвижения фильма во времени, он пытается сказать то же
самое о режимах Никиты Хрущева и Леонида Брежнева с 1950-х до
начала 1980-х гг., и большая часть съемок 1960-х и 1970-х гг. показы¬
вает молодых поэтов, которые появились тогда на публичной сцене.
Последняя песня — это взгляд на развалины прошлого в современной
России. Показываются признаки коммерциализации, и самые впе¬
чатляющие среди них — ряды матрешек-Пушкиных, выстроившиеся
рядом с матрешками-Биллами Клинтонами, играющими на саксо¬
фоне. Людям на улице задают вопросы о Пушкине, и каждый новый
ответ еще большее клише. В конце фильма кадры первых эпизодов
240
фильма перебиваются современными уличными сценами, говорящи¬
ми, что прошлые Пушкины живут в настоящем, что должно означать,
что созданного в 1937 г. Пушкина заменить нельзя.
Если принять этот образ как остаточное явление времен насилия
и автократических эксцессов, тогда мысли Громова подтвержда¬
ет художественный фильм 1999 г., построенный на произведениях
Пушкина: эпическая картина «Русский бунт» режиссера Александра
Прошкина. Этот, названный авторами «высокобюджетным», фильм
отражает его создание во время «дикого» капитализма 1990-х гг., и
его не выпускали на экран в России вплоть до осени 2000 г. В резуль¬
тате фильм трудно смотреть, это эстетическая мешанина, где льется
больше крови, чем в пушкинской «Истории Пугачева» (1834), и в ко¬
тором гораздо больше романтики, чем в «Капитанской дочке» (1836),
если говорить о двух текстах, послуживших главными источниками
при написании сценария «Русского бунта». Подобно советским экра¬
низациям, превратившим сдержанные пушкинские произведения в
непомерно зрелищные спектакли, в «Русском бунте» есть хорошие
актерские работы, продуманные костюмы и декорации, но его отли¬
чает обилие постельных сцен и сцен насилия.
Насилие в фильме отвечает новому вкусу: во время штурма Бе¬
логорской крепости русским офицерам преподносят отрубленные
головы, тела только что повешенных извиваются в агонии смерти, и
камера задерживается на полученных в бою кровавых ранах и на ата¬
кующих крестьянах. Жену капитана, Василису Егоровну, заставля¬
ют видеть невероятно много крови, в том числе отрубленную голову,
нечаянно вывалившуюся из тряпки, в которую она была завернута.
Как это описывается в пушкинской повести, она находит своего мужа
повешенным, но Прошкин добавляет кадр с ее болтающейся грудью,
когда она поутру рвет на себе рубаху, прежде чем упасть после вы¬
стрела из пистолета. Сексуальные женские образы должны были
добавить фильму жизни, например в сцене, когда Маша Миронова
и молодой офицер Петр Гринев расположились в молотильном ам¬
баре, чтобы заняться сексом, при этом крупным планом показаны
сыплющиеся зерна, что довольно неискусно подчеркивает Машину
готовность отдаться. Нечего говорить, что такой эпизод, особенно по
Машиной инициативе, был бы совершенно немыслимым для героев,
созданных Пушкиным в «Капитанской дочке», эпиграф к которой го¬
ворит о сохранении чести. Определенный смысл можно признать за
кучей деталей о декадентности екатерининского двора, но у Пушкина
нет и намека на распущенность его молодых героев. Когда негодяй
Швабрин набрасывается на Машу, ее гордость и личное отвращение
241
одинаково помогают ей оказывать сопротивление. В ответ он разди¬
рает на ней рубашку, чтобы еще раз перед зрителем мелькнула жен¬
ская грудь.
Для кого выставляются на обозрение эти тела? «Русский бунт»
был рассчитан как на зарубежного зрителя, так и на внутреннего.
Одинаковый доход можно было в 1990-е гг. получить за один показ
фильма по европейскому телевидению, как за год проката на россий¬
ском рынке. Российские фильмы, произведенные в 1990-х гг., часто
были рассчитаны на зарубежную аудиторию и подстраивались под
ее вкусы и ожидания. На каждый кадр, идеализирующий красоту
сельских пейзажей, которые должны были тронуть сердца русских
людей, испытывающих ностальгию о пейзажах, уничтоженных со¬
ветскими экологическими катастрофами и ростом городов, в фильме
имеется аллегория «русской души», как она виделась на Западе. Ре¬
жиссер, возможно, предчувствуя критику за отклонение от историче¬
ской правды, пытался сделать фильм не столько о прошлом, сколько
о моральных последствиях прошлого, сказывающихся в настоящем.
Он утверждал, что ставил перед собой моральные цели, желая разо¬
блачить жестокость таких национальных героев, как Пугачев, и обра¬
щение с ними правительства. Прошкин сравнивал пугачевский бунт
с современной войной в Чечне: «Мы живем в обществе, где каждый
день нам показывают кровь и трупы по телевизору. Нас приучили к
виду смерти»33. Что ни думали о фильме, режиссер преследует тра¬
диции юбилея, пользуется материалами пушкинианы для коммен¬
тирования современных событий и для обсуждения таких крупных
вопросов, как природа добра и зла.
Во время юбилея посредством искусства обращались также и к
этическим проблемам. На выставке в престижной московской га¬
лерее Марата Гельмана художница Ира Вальдрон экспонировала
семь гобеленов под общим названием «Фак ю, Дантес» («Fuck you,
d’Anthes») — Дантес убил Пушкина. Образы столь же яркие, как и на¬
звание, смесь слов и животных и лиц. Вальдрон искусно перемежает
скандальные образы с гневными и грустными пушкинскими словами,
но вебсайт галереи привлекает наше внимание не просто к сочетанию
высокого и низкого, а к историческим моментам, когда все ценности
переоцениваются, когда Пушкин остается, возможно, единственным
общим национальным языком34. Конструктивист Юрий Аввакумов
33 Прошкин А. и Артюх А. «Это наша беда, что мы сделали из разбойни¬
ков национальных героев» // Искусство кино. 2000. № 5. С. 26.
34 См.: www/ guelman. ru/actions/dantes и дополнительно об Ире Валь¬
дрон см.: www/guelman.ru/artists/Waldron.html
242
выбрал более непосредственный индикатор своего интереса к вопро¬
су о ценностях, выставив 29 января 1999 г. (в день смерти Пушкина
по старому стилю) в Галерее XL серию экспонатов под названием
«Пушкин и деньги». Аввакумов использовал графические работы и
компьютерный голос за кадром, который произносил собственные
жалостливые просьбы Пушкина о деньгах35. Голос за кадром создавал
впечатление, что Пушкин находится в Галерее, но метод, к которому
прибегнул художник, никак нельзя назвать реалистическим. Графи¬
ческие работы были стилизованными, изменявшими почерк и под¬
пись, чтобы создать впечатление личного письма, отчаянной записки
и публичного объявления. Пушкин представлен как национальная
валюта, он чистое золото для тех, кто ценит его, но имеет только сто¬
имость обменного курса для его циничных очернителей. Аввакумов
говорит, что Пушкин был очень уязвим в денежном отношении, зато
он стал и предметом обмена, как будто сам сделан из монет.
В Москве открыли два новых памятника Пушкину, и оба вместе с
его женой. Это произошло впервые за все празднования его годовщин
и было одновременно верным признаком непрекращающимся живым
интересом к его женитьбе и снижения критики женщины, вышедшей
замуж за Пушкина. В Петербурге высказывалось предложение от¬
крыть часовню на месте дуэли Пушкина, но это предложение было
связано со странным желанием взорвать стоящий сейчас там обелиск.
В письме, подписанном руководителем Союза писателей России Ва¬
лерием Ганичевым, повторялась старая петербургская сплетня, что
обелиск, поставленный Советами в 1937 г. на Черной речке, был не¬
законно снят с какой-то другой могилы36.
Идее о том, что пушкинские памятники могут быть связаны с
какой-нибудь тайной или тайна может заключаться в них самих,
столько же лет, сколько произведениям Пушкина, в которых памят¬
ник (Петру Великому) оказывается обладающим ужасающей маги¬
ческой силой, если вспомнить поэму «Медный всадник» (1833). Ре¬
волюционный поэт Владимир Маяковский в 1924 г. в стихотворении
(«Юбилейное») к годовщине рождения Пушкина благоговейно ожи¬
вил пушкинский памятник. Изображения памятника сохранили свою
значимость сами по себе, как объекты, в чем можно было убедиться,
познакомившись с серией фотоснимков, опубликованных в номере
престижного московского литературного теоретического журнала за
35 См.: www.geocities.com/SoHo/8070/pushpics/htm
36 Кураев М. Ганичев и другие на фоне Пушкина // Литературная газета.
17.02.1999. Ко 7 (5733). С. 9.
243
1999 г.: четыре фотографии Льва Мелихова, снявшего пушкинский
памятник в стиле советской конструктивистской фотографии, когда
знакомое изображение искажалось с помощью слишком крупного
плана (пушкинской шляпы и складок его сюртука), непривычных
ракурсов съемки или, как в приведенном здесь примере, помещая
памятник как фон для головы, снятой с затылка самым крупным
планом (рис. 11.3). У человека на голове наушники, он смотрит на
экран телекамеры, почти не заметной для зрителя. Стоящая справа
от него женщина также смотрит на телекамеру. Здесь Пушкин по-
настоящему составляет фон, охраняя человека, погруженного в тех¬
нологическую новинку последних лет XX в., но в компоновке снимка
памятник кажется вырастающим из головы человека, как будто это
его идея, словно то, что он наблюдал на крошечном дисплее, тоже
имело отношение к Пушкину.
244
Рис. 11.3. Памятник Пушкину, Москва. Фото Льва Мелихова,
«Новое литературное обозрение», 1999
Пушкинские слова и мысли использовали в фильмах, рассказах,
стихах, рекламе, театральных спектаклях и популярных фестивалях
во время годовщин на протяжении всего XX в. Для русских вообще
статус и его слов и его образа все еще оставался неопровержимым.
Пушкинский сюжет преподносился «сверху» с определенной долей
напыщенности, но в 1999 г. ответные голоса отличались полифонич-
ностью, заговорили даже о его легкости: как выразился театральный
режиссер Камо Гинкас, Пушкин никогда не уходит из русского со¬
знания именно потому, что невыносимо легок37.
37 Седых М., Гинкас К. Играй, да не заигрывайся! //Литературная газета.
2.06.1999. №22 (5745). С. 12.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В опубликованном после его смерти эссе, получившем название
«Авторская исповедь», Николай Гоголь пишет о том, как, находясь за
границей во время написания «Мертвых душ», он «искал» Россию.
Писатель объясняет этот парадокс, возникший после двух путеше¬
ствий в 1839 и 1841 гг., следующим образом:
«Два раза я возвращался потом в Россию... Но, странное дело, среди Рос¬
сии я почти не увидал России. ...Я заметил, что почти у всякого образовы¬
валась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры...
Я не мог никак ее собрать в одно целое... Но как только я выезжал из нее,
она совокуплялась вновь в моих мыслях целой...»1
Гоголь почувствовал облегчение, когда Россия «совокуплялась
вновь» в его заграничных мыслях. Ему нужен был целостный образ
России, тот, что понятен, тот, что был... один. Ему нужны были единые
образы России, отвечающие его целям. Единые образы России обыч¬
но создавались как раз для того, чтобы они отвечали чьим-нибудь це¬
лям — политическим, социальным или моральным. Единые образы
России подразумевают предписание того, что люди должны думать,
и не описание того, что они на самом деле думают; того, чем люди
должны стать, а не того, что они сами чувствуют или во что верят.
Цели и подходы данной книги совершенно противоположные.
Хотя мы смотрим из-за границы, наша цель подчеркнуто не прийти
к целостной связанной картине того, что «есть» Россия или чем она
«была». В каком-то смысле Россия есть именно та самая множествен¬
ность воображаемых и часто соперничающих между собой Россий,
которая мешала Гоголю. Если попытаться разобраться в этом и, раз¬
решив все «бесконечные споры», определить, что такое «настоящая
Россия», то придется не только отказаться от обширных областей
культурного дискурса, такого же «настоящего», как и любой другой,
но и продемонстрировать непонимание главного, а именно того, как
1 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. Л., 1952. Т. VIII. С. 451-452.
246
складывается «идентичность». Наша цель поэтому состояла в том,
чтобы взглянуть на тему национальной идентичности в русском
культурном дискурсе под разными углами зрения, в нескольких из¬
мерениях, исследовать и проиллюстрировать несколько разнообраз¬
ных, контрастирующих, возможно противоречивых подходов к пред¬
ставлениям и образам России и «русскости». Отдельно взятые, они
могут казаться верными или неверными, но ни один из них не будет
адекватным. Более убедительное и более соответствующее реально¬
сти «целое», хотя такое утверждение звучит парадоксально, это то,
которое формируется «всеми» Россиями коллективно.
Мы, естественно, не затронули «все» России. Возможно множе¬
ство других. Как, например, мы написали целую книгу о России и
«русскости» и не упомянули щей, икры, блинов или самоваров? Или
не говорили о языке жестов и тела или манерах и манерности (всей
этой экспансивности)? Или молчали о погоде (ну и холод...)? Мы не
стремились к полноте деталей, но эти и многие подобные России мо¬
гут вполне уместиться в пределах базовой сетки координат. Кроме
того, включенные в сборник очерки уже достаточно четко иллюстри¬
руют возможную модель анализа тех тем, которые не нашли в нем
себе места: в особенности они показывают, что при более тщатель¬
ном рассмотрении простая очевидность общего для всех стереотипа
рассыпается, уступает место более нюансированной и в целом более
интересной картине.
Тем не менее цель этой книги не сводится только к утверждению
какого-нибудь одного подхода к вопросу о национальной идентич¬
ности. Примеры, зачастую в высшей степени специфическое прочте¬
ние культурных «текстов», оказываются столь же информативными,
как и широкие обзоры. Ибо эти «тексты» являют собой осязаемую,
зримую, слышимую реальность. Если бы они не обозначали ее, ника¬
кой России не существовало бы. Здесь любая претензия на полноту
была бы явно абсурдной, важно чувство широты и разнообразия. Как
только сетка координат становится привычной, она Начинает казать¬
ся готовой формулой, но мы надеемся, что в выборе материала, ил¬
люстрировавшегося от главы к главе, по мере того, как непрерывно
раздвигаются хронологические и жанровые горизонты, наблюдается
очень мало повторов. Наши «тексты» тянутся через целое тысячеле¬
тие, приблизительно с 1000 до 2000 г. В их числе романы, стихотво¬
рения и поэмы, фильмы и картины, здания и скульптуры, путеводи¬
тели, инструкции по уходу за детьми, путевые очерки и дневники,
247
почтовые марки и денежные купюры, слова и грамматические фор¬
мы, энциклопедии, жития святых, плакаты, журналистика, игры и
проведение досуга, телевидение, критические и философские эссе,
песни, оперы, конфетные фантики.
Эта книга не введение в русскую национальную идентичность
«как таковую» (что бы ни подразумевалось под этими словами). Это
введение в культурный дискурс русской национальной идентично¬
сти. А значит, это введение в способы «прочтения» одной темы в рус¬
ской культуре, и, следовательно, введение в разнообразие того, что
можно там конкретно «прочитать», и поэтому в конечном счете она
отражает разнообразие самой русской культуры.
ОБ АВТОРАХ
Эмма Уидцис — преподаватель факультета славистики Кем¬
бриджского университета, занимается советской культурой 1920-х и
1930-х гг. и, в первую очередь, кино. В числе ее публикаций: «Visions
of A New Land: Soviet Film from the Revolution to the Second World
War», 2003 (Образы новой страны: Советское кино от революции до
Второй мировой войны), и также книга о кинорежиссере Александре
Медведкине.
Саймон Франклин — профессор славяноведения Кембриджско¬
го университета, специалист по истории и культуре Древней Руси.
В числе его работ: с Дж. Шепардом «Начало Руси», 2000; «Письмен¬
ность, общество и культура в Древней Руси. 950-1300», 2010.
Борис Гаспаров — профессор славянского языкознания и русской
литературы Колумбийского университета, Нью-Йорк. Автор и редак¬
тор многочисленных книг и статей по философии языка, славянской
исторической лингвистике и русской культуре XIX-XX столетий.
Среди последних публикаций: «Язык и память», 1996; «Old Church
Slavonic», 2001 (Церковнославянский язык), «Five Operas and a Sym¬
phony: Words and Music in Russian Culture», 2005 (Пять опер и сим¬
фония: слова и музыка в русской культуре).
Катриона Келли — профессор русистики при Оксфордском уни¬
верситете, автор многих работ по истории русской литературы и
культуры, в их числе: «Товарищ Павлик: взлет и падение советского
героя-мальчика», 2009; с В. Безроговым «Городок в табакерке: рос¬
сийское детство от Николая II до Бориса Ельцина»? 2008; «Russian
Literature: A Very Short Introduction», 2001 (Русская литература:
очень краткое введение).
Энтони Кросс — почетный профессор славяноведения Кембридж¬
ского университета, автор или редактор свыше двадцати книг и более
200 статей о России XVIII в. и по вопросам англо-русских отноше¬
ний. Среди них: «By the Banks of the Thames: Russians in Eighteenth-
Century Britain» (1980; русский перевод издан в 2006), «By the Banks
249
of the Neva: Chapters from the Lives and Careers of the British in Eigh¬
teenth-Century Russia», 1996. Последняя работа была удостоена Ан-
циферовской премии 1998 г. за лучшую зарубежную книгу о Санкт-
Петербурге.
Стефани Сандлер — профессор славянских языков и литературы
Гарвардского университета. Ее последняя книга «Commemorating
Pushkin: Russia’s Myth of a National Poet» (Память Пушкина: русский
миф национального поэта) была опубликована в 2003. В настоящее
время занимается исследованием современной русской поэзии.
Марина Фролова-Уокер — музыковед, преподает историю и тео¬
рию музыки в Кембриджском университете. Основные сферы иссле¬
дований: немецкий романтизм, русская и советская музыка и нацио¬
нализм в музыке. Автор книги «Russian Music and Nationalism. From
Glinka to Stalin», 2007 (Русская музыка и национализм: от Глинки до
Сталина).
Линдси Хьюз (1949-2007) — профессор русской истории в Ин¬
ституте славянских и восточно-европейских исследований при
Лондонском университете, специалист по истории России в XVII-
XVIII вв. Среди ее книг «Russia in the Age of Peter the Great», 1998
(Россия в эпоху Петра Великого) и «The Romanovs: Ruling Russia,
1613-1917», 2008 (Романовы: правление Россией, 1613-1917).
Хубертус Ян — преподает русскую историю в Кембриджском
университете. В числе его книг «Patriotic Culture in Russia during
World War One» (Патриотическая культура в России во время Пер¬
вой мировой войны); «Armes Russland: Bettler und Notleidende in der
russischen Geschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwart», 2010.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Авраам - 36
Аввакум - 92, 163-165
Аввакумов Ю. - 243
Август, римский император - 26, 27,
29
Авдеева Е. - 177
Адам - 116, 224
Аксаков К. С. - 76
Александр I - 72-74, 99, 107, 138,
212
Александр II - 204
Александр III - 77, 204
Александр Великий (Македон¬
ский) - 23
Александр Ярославович Невский -
116, 123,129-132
Александров Г. - 55
Алексей Михайлович, царь - 77, 93,
118
Алексей, сын Петра Великого - 94
Андерсон Б. - 13
Андреев В. - 87
Анна Иоанновна - 94, 95, 98
Анна, принцесса - 91
Ахмадулина Б. - 237
Баба Хоми - 14
Балакирев М. А. - 146, 152
Баратынский Е. А. - 223
Батый, хан - 90,123
Бахтин М. М. - 122
Белый А. - 174
Беньямин В. - 44, 46
Березовский М. С. - 144
Беспалый Мотя - 190
Блок А. А. - 47, 58
Бойм С. - 172, 173
Борис и Глеб, святые - 27
Бородин А. П. - 146, 151, 152
Бортнянский Д. С. - 144
Брунсуик-Вульфенбюттель ILL - 94
Брежнев Л. И. - 240
Брюллов К. П. - 83, 205, 206
Булавин К. - 94
Бунин И. А. - 56
Бюре (Бирон) Э. - 94
Валдрон И. - 242
Василий (Блаженный), св. - 194,
196,211-216
Васнецов В. М. - 206, 207, 210
Вебер Ю. - 81
Вертов Д. - 47
Влад им ир Всеволодович (Мономах),
киевский князь - 160, 164
Владимир Святославович, киевский
князь - 35, 40-42, 52, 91, 99,
112-115,119,199
Володимир - см. Владимир
Вольтер - 98
Ганичев В. - 243
Гейченко С. - 236
Гельман М. - 242
Георг IV, король Англии - 137
Гердер И. Г. - 71
Герцен А. И. - 47,65
Гете И. В. - 148, 234
Гиббон Э. - 101
Гинкас К. - 245
Гинзбург Л. Я. - 222, 225
Глеб - см. Борис
Глинка М. И. - 71, 83, 139, 140, 143,
146, 151
Гоголь Н. В. - 56, 57, 121, 122, 148,
149, 246
Гончаров И. А. - 65
251
Горбачев М. С. - 36, 44, 45, 78, 140,
199
Горбунов К. - 150
Горький М. - 63,180
Григорий, писец - 35
Громов П. -240,241
Даль В. И. - 177
Дантес Ж. - 242
Дашкова Е. Р. - 70, 87,103
Державин Г. Р. - 176
Дженкисон Э. - 212
Дидро Д. -98
Достоевский Ф. М. - 100, 122, 227
Дунаевский И. О. - 55
Дягилев С. П. - 152
Екатерина II (Великая), российская
императрица - 51, 57, 69, 70, 80,
94-96,98-100,102,103,119,120,
201,202,212
Елизавета, российская императри¬
ца - 94, 201
Ельцин Б. Н. - 136,139, 140, 235
Епифаний (Премудрый) - 166-170
Ермак - 52,59, 60,83-85
Жемчужников Л. - 150
Жоффрин, мадам - 98
Замятин Е. И. - 181,191
Зиновьев В. - 105
Зорин А. - 236, 237
Иван I, великий князь - 198
Иван III, великий князь - 198
Иван IV (Грозный), царь - 23, 50,
91,211,212,214
Иван Алексеевич, брат Петра Пер¬
вого - 94
Иванова Н. - 235
Илларион, митрополит Киевский -
27, 114
Кабо Е. - 178
Кавос К. - 72
Каганович Л. М. - 214
Калинин М. И. - 209
Кантемир А. Д. - 98, 100
Карамзин Н. М. - 30, 102-109, 154
Карл I, король Англии - 92
Карл II Стюарт (Веселый
Чарли) - 137
Карломан де Рульер К. - 98
Кастальский А. Д. - 143,144
Кий, Щек и Хорив - 40
Кинг Б. - 183
Киреевский П. В. - 150
Кирилл и Мефодий, миссионеры -
35, 37, 166
Кларк К. - 93
Клинтон Б. - 240
Ключевский В. О. - 54-56
Колоцца Дж. - 183,192
Корб Й.-Г. - 98
Корсаков Н. И. - 104
Кржановский А. - 238, 239
Кросс Л. - 93
Крупская Н. К. - 183, 192
Куракин Александр - 108,109
Кустодиев Б. М. - 218
Кюи Ц. А. - 146
Кюстин, де - 54, 56
Лебедев-Кумач В. И. - 55
Левитан И. И. - 57
Ленин В. И. - 44, 178, 183, 208, 209,
214,219
Лермонтов М. Ю. - 58, 229
Лесков Н. С. - 125-129,132
Лилина 3. - 186
Лимонов Э. - 236
Лихачев Д. С. - 27, 48, 56, 160
Локателли Ф. - 98
Локк Дж. - 183
Ломоносов М. В. - 201
Лотман Ю. - 72, 228
Лука, евангелист - 27, 34, 36, 37,
198
Львов А. - 138, 139
Львов Н. - 71
Льял Р. - 99
Малиновский В. Ф. - 103, 106-108
Мандельштам О. Э. - 231, 232
Матисс А. - 208
252
Маяковский В. В. - 230, 243
Мелихов Л. - 244
Мефодий - см. Кирилл
Молоховец Е. И. - 180
Морозов П. - 179, 191
Мстиславец П. - 36
Мудрогель Н. А. - 209
Муравьев Н. - 108, 109
Мусоргский М. П. - 146, 151
Мухина В. И. - 194, 196, 216-218
Надеждин Н. И. - 177
Найт Н.-176,177
Наполеон Бонапарт, французский
император - 72, 96, 138, 203, 212,
219
Невский - см. Александр Ярославо¬
вич Невский
Непомнящий Валентин - 234, 235
Нестор, летописец - 27
Николай I, российский импера¬
тор -71,74,75,98, 120, 138, 140,
204, 229
Николай II, российский импера¬
тор - 77,204, 249
Никон, патриарх - 118
Новиков Н. И. - 70, 100, 102, 236
Нора П. - 230
Норман Г. - 12,13,15, 19
Одоевский В. Ф. - 142, 143
Ольга, киевская княгиня - ИЗ
Палестрина Дж. - 145
Пенкин С. - 236
Петр I (Великий), российский им¬
ператор - 29, 30, 50-52, 69, 76,
77, 89, 92-94, 98, 118-120, 124,
160,178,199-203,210,212,243
Петр И, российский император -
94
Петр, митрополит - 198
Пиль Г. - 186
Платон, философ - 137
Платонов О. А. - 133
Плещеев М. И. - 102
Потемкин Г. А. - 99
Поттер Б. - 185
Поярков В. Д. - 134
Прач Я. - 71
Пригов Д. А. - 238
Прокофьев С. С. - 129
Прошкин А. - 241, 242
Пугачев Е. - 94, 242
Пунин Н. И. - 208
Путин В. В.- 79, 97, 136, 137,
139-141
Пушкин А. С. - 20, 32, 67-69, 71, 74,
75, 80, 88, 101, 102, 140, 147, 148,
154,195, 201,214,222-245
Пырьев И. А. - 59, 60
Пятницкий М. Е. - 87
Радищев А. Н. - 70,146-148
Распутин Г. - 77
Рассадин С. - 222-224
Репин И. Е. - 206, 210
Римский-Корсаков Н. А. - 146, 151,
152
Ричардсон С. - 102
Романов Михаил, царь - 50, 71
Рубан В. - 200, 202, 203
Рубинштейн Л. С. - 234
Рублев А. - 36, 207, 208, 211, 217
Руссо Ж.-Ж.- 12,183
Рылеев К. Ф. - 74
Рюрик - 26, 29
Саврасов А. К. - 196, 206
Сапгир Г. - 237
Свиньин П. - 203, 204
Святослав, киевский князь - ИЗ
Семенов Н. Н. - 133
Семенов-Тяньшанский П. П. - 133
Сенин А. А. - 133
Сергий Радонежский, св. - 35, 37
Смоллетт Т. - 102
Сперанский Г. Н. - 182
Сталин И. В. - 63, 64, 78, 139, 140,
175, 187,210,214,230
Стасов В. В. - 151, 207
Стаханов А. - 78,150
Стерн Л. - 102
Стефан Пермский - 166-169
253
Стравинский И. Ф. - 152
Сусанин И. - 71, 72
Суслов В. В. - 213
Холман Дж. - 99
Хрущев Н. С. - 240
Цветаева М. И. - 180, 230
Тарковский А. А. - 180
Толстой А. Н. - 185
Толстой Л. Н. - 121,122,140, 238
Толстой М. - 97
Трезини Д. - 200
Третьяков П. - 206
Третьяков Сергей - 213
Тургенев И. С. - 149,150
Тютчев Ф. И. - 55, 224
Уваров С. С. - 74, 75, 98
Ушаков С. - 198
Фаворский А. - 238
Фальконе Э. - 201, 202
Федор, царь - 98
Федоров И. - 36
Филиппе А. - 225
Филдинг Г. - 102,105
Фиорованти А. - 198
Флетчер Ж. - 97, 98
Фонвизин Д. И. - 100
Фребель Ф. - 183
Хоггарт У. - 105
Чаадаев П. Я. - 30, 75
Чайковский П. И. - 138,152
Чехов А. П. - 180
Чуковский К. И. - 180, 192
Шайтанов И. - 172,173
Шамиль, имам - 87
Шапп д’Отрош Ж. - 90
Шварц Е. - 223, 224
Шефнер В. - 190,191
Шишкин И. И. - 206
Шишков А. С. - 154
Шоу Дж. Б. - 99
Щек - см. Кий
Щербатов М. М. - 200
Эйзенштейн С. М. - 129, 130,
135
Эрлих В. - 227
Юон К.-214
Ярослав Мудрый - 35
Научно-популярное издание
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Перевод с английского языка
Владимира Львовича Артемова
Ведущий редактор Е. Ю. Кандрашина
Редактор М. А. Айламазян
Художественный редактор А. К. Сорокин
Художественное оформление А. Ю. Никулин
Технический редактор М. М. Ветрова
Выпускающий редактор Н. Н. Доломанова
Компьютерная верстка Л. А. Кругова
Корректор Г. М. Соколова
ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 27.05.2014.
Формат 60x90/16. Уел. печ. л. 16,0.
Тираж 1000 экз. Заказ 3063
Издательство «Политическая энциклопедия»
127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1
Тел.: 8(499) 685-15-75 (общий, факс), 8(499)709-72-95 (отдел реализации)
Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru,
т/ф. 8(496)726-54-10
РОССПЗН
Что такое Россия? Кто они, рус¬
ские? Что такое «русское», «рус¬
скость»? Вопрос национальной
идентичности давно за¬
нимает умы в России, и
особенно остро в пост¬
советский период. Ты- у/ст
сячу лет эти вопросы
занимали центральное
место в работах русских
писателен художников, му¬
зыкантов, кинематографи¬
стов, критиков, политиче¬
ских деятелей и философов.
Вопросы национальной са¬
моидентификации прони-
зывают русское культурное
самовыражение.
Предлагаемый сборник -
это обширное исследование,
предназначенное для изу¬
чающих русскую культуру
от времен Средневековья
до наших дней. Включенные
в него материалы написаны
международной командой ученых
и представляют собой доходчи¬
во изложенное и разностороннее
введение в эту центральную про¬
блему русской культурной исто¬
рии. Книга представляет про¬
блему достаточно полно и сжато,
соединяя общий обзор с широким
набором конкретных примеров, позво¬
ляющих передать богатую текстуру ее
проявлений в разных формах русской
культуры.
щ
Библио-Г;
YO<5yC
«ос:
|Ш|Ш
11 785824И31fi377
ООО «Беркут»
" "" " Тел.(315)799-22-05.
0360
|9" 785824И316377
Национальная идентичность
Цена: 369.00