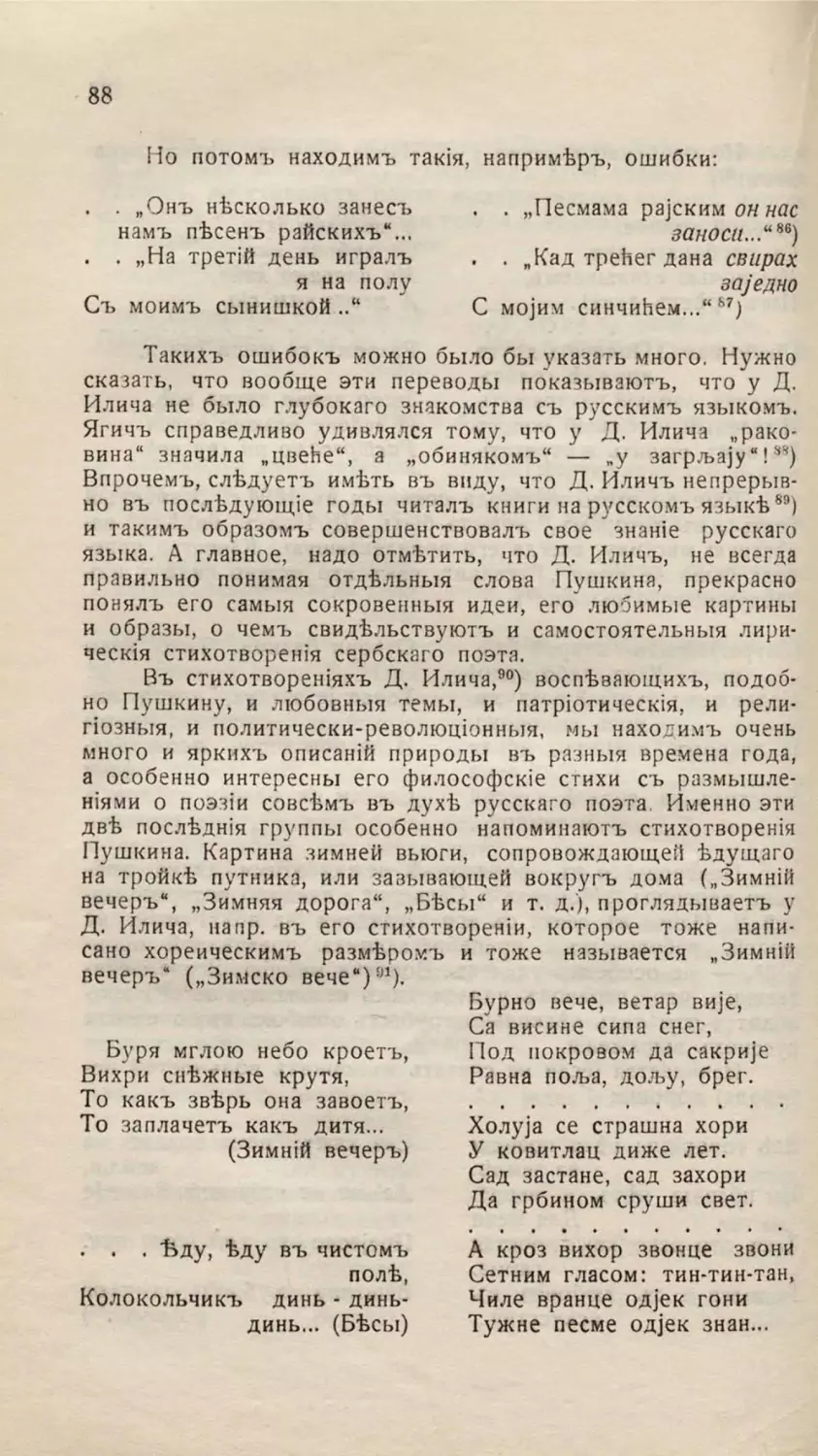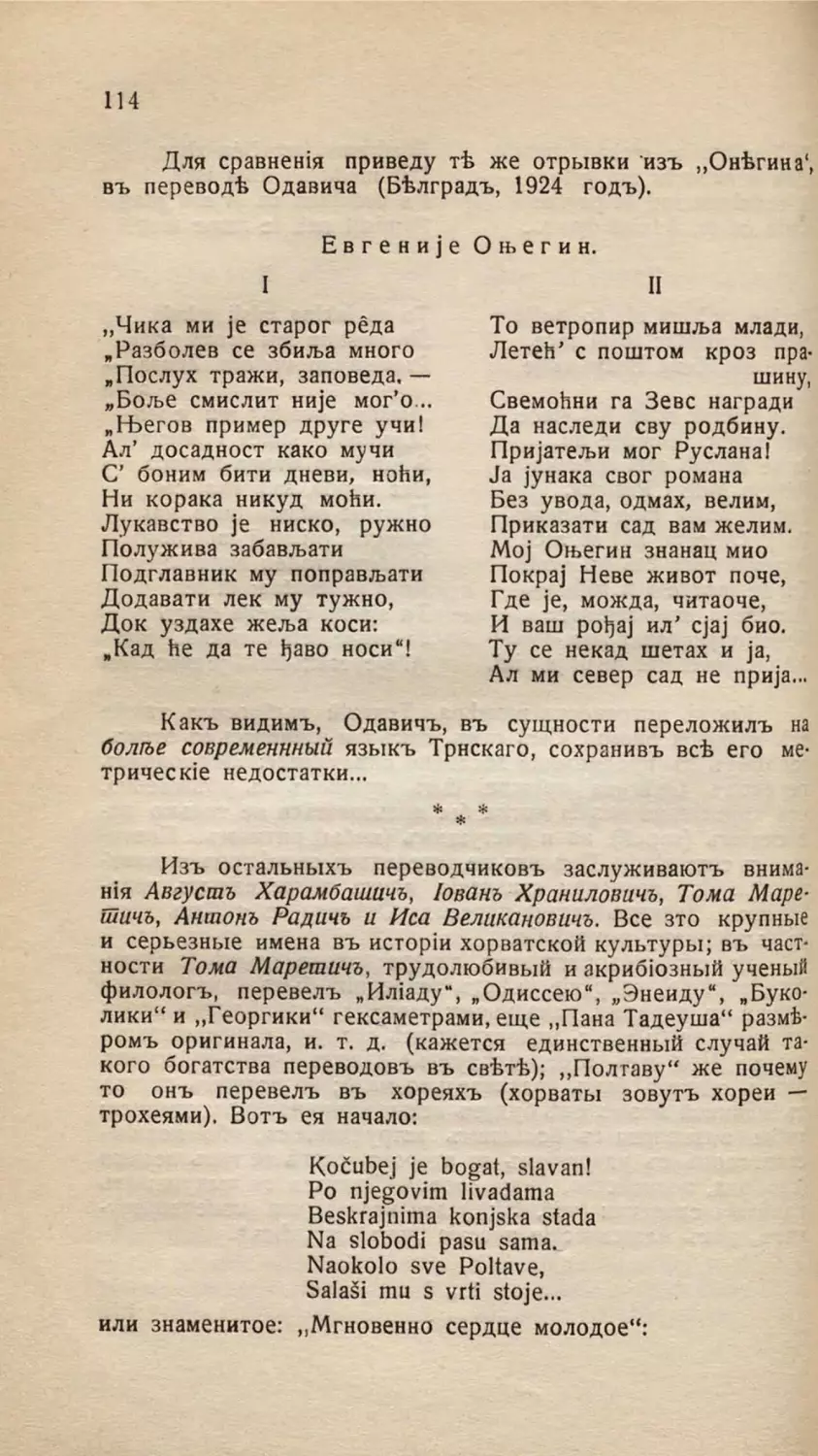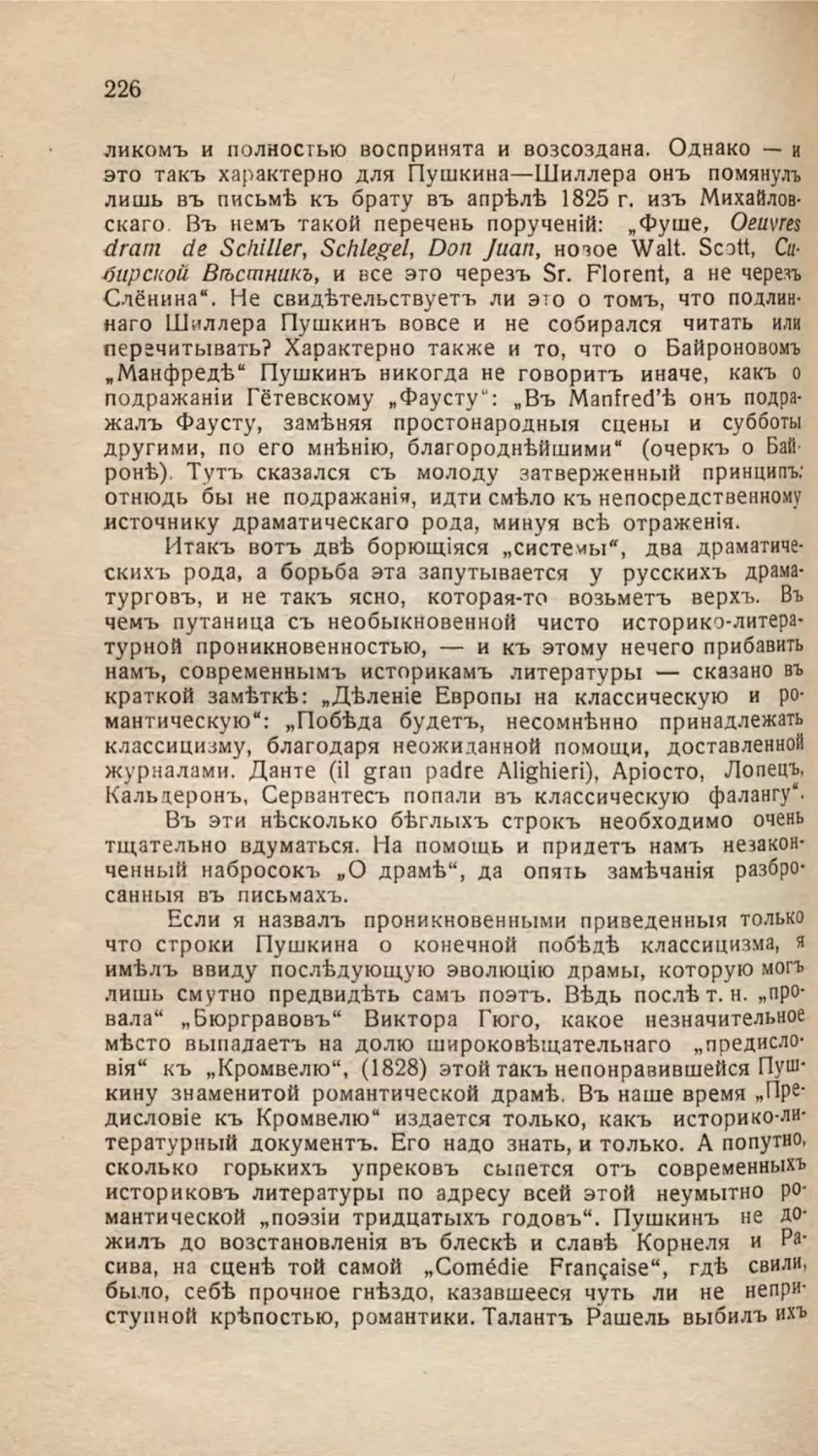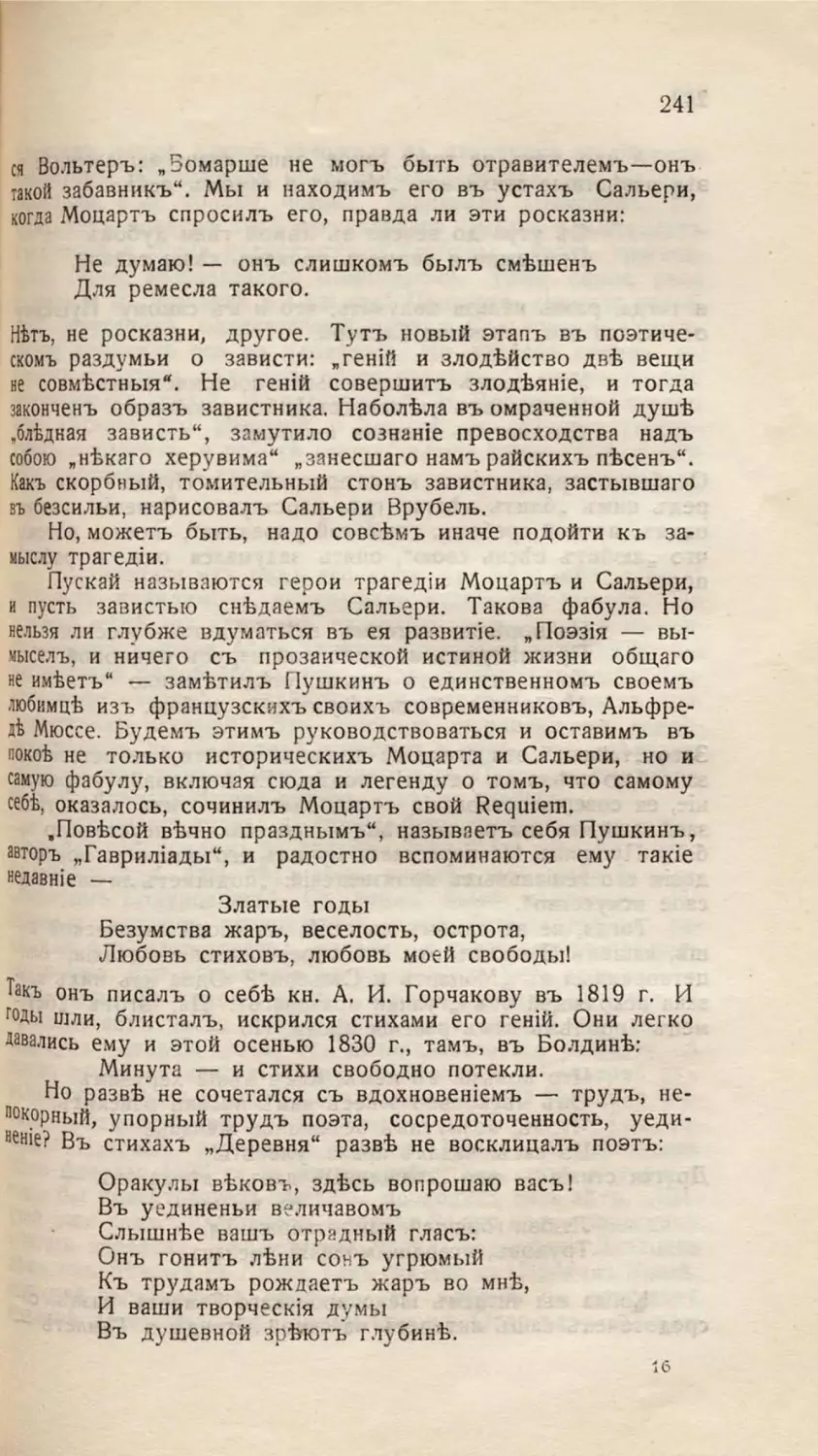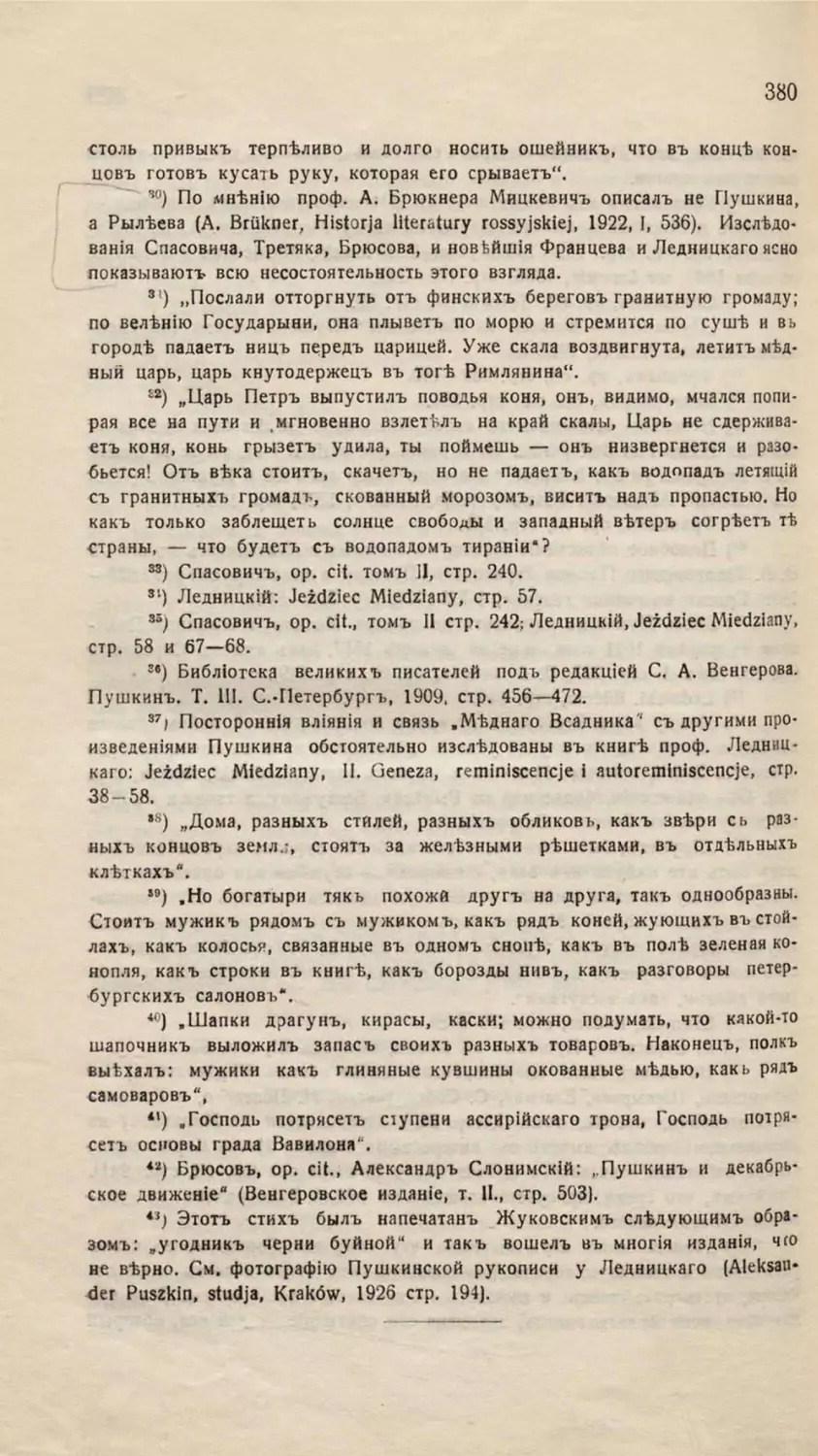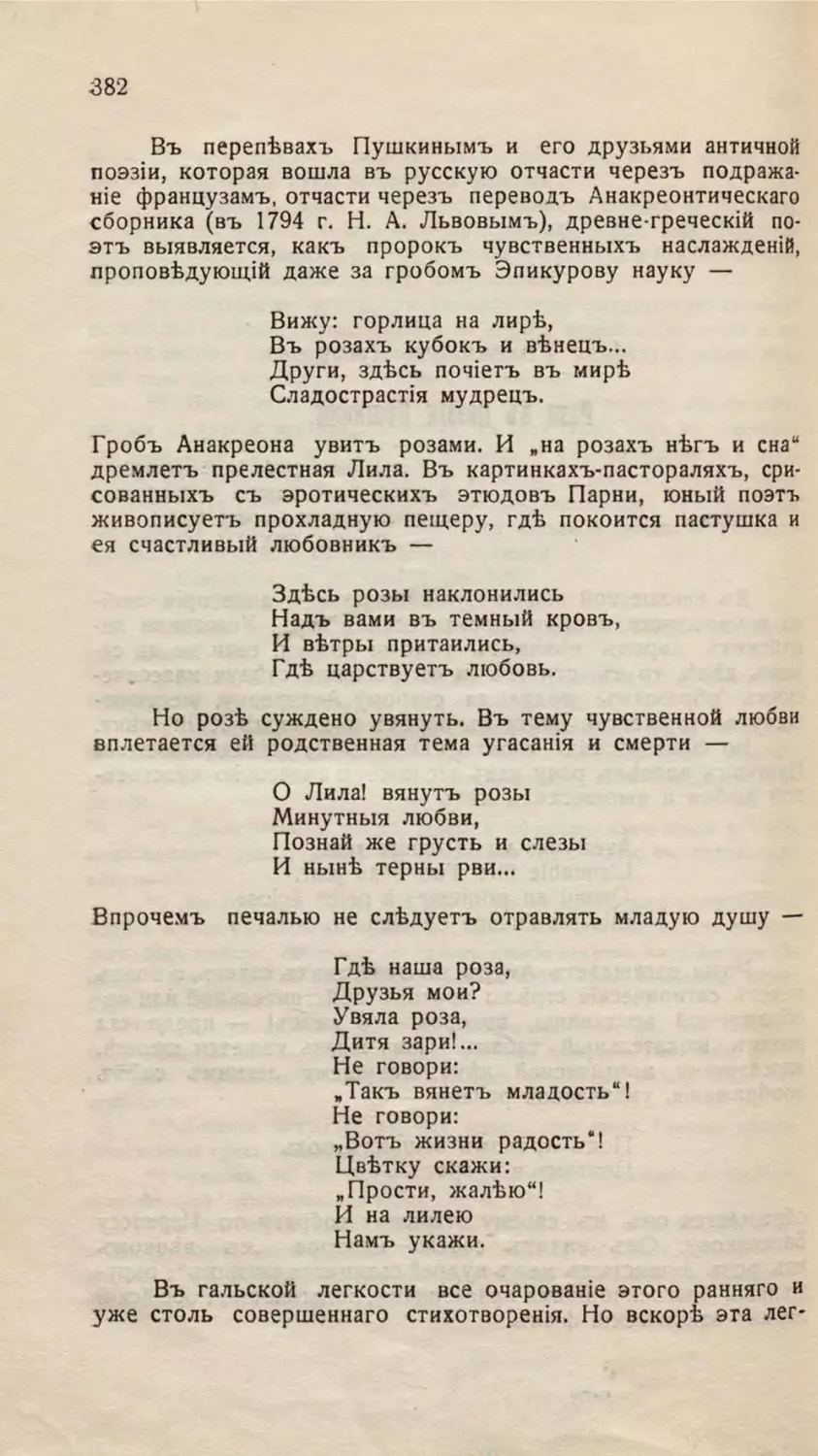Text
БѢЛГРАДСКІЙ
ПУШКИНСКІЙ
СБОРНИКЪ
ЬЬЛГРА Д2>
1937
Cf h
БѢЛГРАДСКІЙ
ПУШКИНСКІЙ СБОРНИКЪ
Съ предисловіемъ
АКАДЕМИКА А. И. БЕЛИЧА
Подъ редакціей
Е. В. АНИЧКОВА
ИЗДАНІЕ РУССКАГО ПУШКИНСКАГО КОМИТЕТА
ВЗ ЮГОСЛАВІИ.
ее
Библи о1 е к
БѢЛГРАДЪ
1937
Типографія „Слово", Неманьина ул, 20.
■Ml
2014322155
Л и с TOG
Выпуск
печатных
В перепл.
един, соедин
N-N- вып.
Иплюстр.
Карт
Таблиц
к
№№
to
а>
Ха.
Г?
UZ
d
200
списка и
порядковый
|
КНИГА ИМЕЕТ
Отъ Пушкинскаго Комитета.
Русскій Пушкинскій Комитетъ въ Югославіи, организо
ванный въ цѣляхъ ознаменованія 100-лѣтія со дни смерти
величайшаго русскаго генія, помимо устройства торжествен
наго засѣданія въ Бѣлградѣ, спектаклей и другихъ публич
ныхъ собраній въ память Пушкина, постановилъ отмѣтить
эту юбилейную дату также ù выпускомъ спеціальныхъ из
даній.
Къ юбилейнымъ днямъ Комитетомъ была издана на
сербохорватскомъ языкѣ спеціально написанная профессо
ромъ В. А. РОЗОВЫМЪ біографическая памятка „АЛЕК
САНДРЪ ПУШКИНЪ“. Изданная въ количествѣ 10 тысячъ
экземпляровъ, эта памятка, съ одобренія Министерства На
роднаго Просвѣщенія, раздавалась учащимся въ школахъ Юго
славіи и, такимъ образомъ, явилась скромнымъ, но сердечнымъ
подаркомъ русскихъ, нашедшихъ убѣжище въ Югославіи, юго
славянской молодежи.
Далѣе, Комитетъ ибсшановилъ издашь предлагаемый
сборникъ, составленный изъ оригинальныхъ статей, посвя
щенныхъ пушкиновѣдѣнію.
Несмотря на рядъ затрудненій, изданіе сборника не
только осуществилось, но онъ даже значительно превысилъ
первоначально намѣченные размѣры.
Осуществить это изданіе оказалось возможнымъ благо
даря тому сочувственному отношенію, которое оно встрѣ
тило со всѣхъ сторонъ. Комитетъ считаетъ своимъ пріят
нымъ долгомъ выразить глубокую признательность Предсѣ
дателю Совѣта Министровъ д-ру МИЛАНУ СТОЯДИНОБИЧУ за поддержку, оказанную имъ нашему главнѣйшему
литературному предпріятію. Мы желаемъ также выразить
нашу искреннѣйшую благодарность предсѣдателю Сербской
Королевской Академіи Наукъ и Державной Комиссіи ирофес.
сору А. И. БЕЛИЧУ, оказавшему неоцѣнимое содѣйствіе въ
осуществленіи какъ всѣхъ нашихъ пушкинскихъ начинаній,
такъ, въ особенности, въ дѣлѣ изданія настоящаго сборника,
а также должны сердечно поблагодарить Редакціонную Кол
легію съ ея предсѣдателемъ профессоромъ Е. В. АНИЧКО
ВЫМЪ во главѣ, равно какъ всѣхъ авторовъ Сборника помѣ
щенныхъ въ немъ статей, безплатно отдавшихъ свой трудъ
и, наконецъ, всѣхъ членовъ Комитета содѣйствовавшихъ вы
ходу въ свѣтъ предлагаемаго изданія.
Предсѣдатель Пушкинскаго Комитета
въ Югославіи
В. Н. ШТРАНДТМАНЪ.
Секретарь Комитета
Н. 3. РЫБИНСКІЙ.
Ноябрь 1937 г.
НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО.
Сто лѣтъ со времени Пушкина и преклоненіе передъ
его твореніями все возрастаетъ... Сто лѣтъ со времени, какъ
русская литература насильственно лишена своей центральной
личности, и всѣ напряженія науки не могли все еще раскрыть
тайны Пушкинскаго необыкновеннаго дарованія, такъ все
сторонне воспріявшаго многогранную природу русскаго чело
вѣка...
Русскіе ученые и ихъ друзья, находящіеся, по волѣ
ужаснаго рока, въ нашей странѣ или вообще за рубежемъ
Россіи, но понесшіе въ сердцахъ своихъ чудный образъ ве
ликаго поэта и накопившіеся еще на родинѣ, и истинные
факты, и небылицы около славнаго имени Его не могли от
стать отъ общаго влеченія, появившагося у всѣхъ, знаю
щихъ великаго поэта: объяснить Пушкина какъ можно луч
ше, въ сотую годовщину Его смерти, подоспѣвающимъ по
колѣніямъ русскихъ за рубежомъ и всѣмъ намъ другимъ...
И результатъ ихъ работы передъ нами...
А всетаки не все еще сказано. Бываютъ у народовъ
поэты, прекрасно содержащіе въ себѣ всѣ ихъ внутреннія
переживанія, въ которыхъ — какъ-бы — совокуплены всѣ
ихъ стремленія, и которые, какъ кажется, представляютъ
собой ихъ синтетическій образъ и что то еще сверхъ всего
этого... Каждая эпоха имѣетъ избранниковъ своихъ, кото
рыми она хорошо освѣщается. Но обыкновенно у нихъ
всѣхъ отпечатокъ той эпохи, въ какой они жили, какъ на
ногѣ у Гетевской птички, освободившейся изъ клѣтки, остался
всетаки клочекъ красной ниточки... Но Пушкинъ не то.
Онъ какъ-то жилъ во всѣхъ эпохахъ и сумѣлъ заключить
въ себѣ то непреходящее, что во всѣхъ нихъ, въ прошломъ,
настоящемъ и даже будущемъ. И точно такъ же, какъ онъ
пѣлъ про любовь:
VI
„Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу
Волненіямъ любви безумно предаваться!
Спокойствіе мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться“,
такъ онъ сумѣлъ сохранить спокойствіе свое и передъ пре
вратностями судьбы и передъ волненіями эпохи и сберечь
у себя то гармоническое чувство общечеловѣческаго и об
щерусскаго, которое должно бы было править судьбами
людей. Поэтому не вѣрно, если Его называютъ только по
этомъ будущаго, ибо Онъ всегда современенъ. Вѣдь онъ
поэтъ вѣчно и вездѣ существующихъ, но такъ рѣдко во
истину господствующихъ, — правды и добра... Онъ бы могъ
сказать еще про себя скорѣе то, что онъ говорилъ про дру
гихъ:
„Въ тревогѣ пестрой и безплодной
Большого свѣта и двора,
Я сохранила взглядъ холодный,
Простое сердце, умъ свободный
И правды пламень благородный,
И какъ дитя была добра,
Смѣялась надъ толпою вздорной,
Судила здраво и свѣтло“...
Совершенно естественно, что Пушкинъ, обладая такими
качествами и замѣчательной виртуозностью стиха, долженъ
былъ повліять и на представителей другихъ народовъ, кото
рые могли читать и понимать Его на Его родномъ языкѣ,
а между ними и на представителей сербской поэзіи. Воиславъ
Иличъ, самый выдающійся артистъ между сербскими поэта
ми, воспринявъ Его отношеніе къ людямъ и Его совершен
ство метрики, ввелъ Пушкина въ сербскую поэзію такъ изу
мительно просто и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ прочно, что Его
присутствіе въ ней чувствуется и по нынѣ...
Совершенно естественно также, что Пушкинъ, своимъ
чутьемъ общечеловѣческаго, даже и въ произвольной и ис
каженной передачѣ Мериме и въ, вѣроятно, недостаточно
понятныхъ для Него Собраніяхъ Народныхъ Пѣсенъ Карад
жича, почуялъ въ сербской національной поэзіи что-то кон
геніальное съ собой и попытался въ цѣломъ рядѣ прекрас-
Vil
ныхъ стихотвореній дать ясное доказательство объ этомъ.
Если бы Ему въ подлинникѣ были доступны лучшія произ
веденія этой поистинѣ поразительной устной народной лите
ратуры, Онъ бы, я въ этомъ глубоко убѣжденъ, прибавилъ
къ уже имѣющимся стихотвореніямъ что-то, что бы всѣхъ
еще больше удивило...
И въ настоящемъ Сборникѣ отклики всего этого...
Поэтому пусть онъ, этотъ Сборникъ, появляясь въ
Бѣлградѣ, городѣ Сербовъ и многовѣковыхъ страданій, объ
единитъ изслѣдователей сербскаго національнаго творчества,
сказывающагося въ сербской словесности, и русскихъ уче
ныхъ, посвящающихъ себя изученію'русской словесности, въ
одномъ стремленіи: .открыть общія черты славянскаго ге
нія, и показать, насколько онѣ отразились въ геніи Пушки
на... Вѣдь темы, вытекающія изъ того, чѣмъ мы обязаны
Пушкинскому творчеству, намѣтили также и этотъ общій
путь.
И въ этомъ еще разъ сказалась сила Пушкинскаго ду
ха. Возвышаясь все больше къ глубокому воспріятію обще
человѣческаго и въ русской дѣйствительности различныхъ
временъ, и въ русской душѣ, онъ сталъ способенъ входить
въ душу всѣхъ народовъ, а въ особенности всѣхъ Славянъ...
Поэтому Онъ уже сталъ любимымъ поэтомъ всѣхъ тѣхъ,
у которыхъ не высохло и не вырождено общечеловѣческое
чувство человѣческаго достоинства. И, въ дѣйствительности,
еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ онъ предвѣщалъ въ своихъ
пророческихъ стихахъ, слухъ о немъ, какъ о будителѣ доб
рыхъ чувствъ, прошелъ по всему міру, далеко за границами
Его родины.'Нынѣ, по поводу столѣтія несчастной кончины
Его, спѣшатъ поклониться Его духовному памятнику не
только народы Россіи, гордящіеся ея сыномъ, и всѣ осталь
ные Славяне, раздѣляющіе съ ними эту гордость, но и наро
ды всего міра...
А. Белинъ.
■ •
ОТДЪЛЗ ПЕРВЫЙ
ПУШКИНА И ЮГОСЛАВЯНЕ.
П. А. Митропанъ.
Ранніе отзывы о Пушкинѣ въ сербской печати.
Первыя извѣстія о Пушкинѣ появились въ Югославіи
•раньше, непосредственнаго ознакомленія съ его произведе
ніями. Это произошло еще при жизни поэта въ то время,
когда начался послѣ „Руслана и Людмилы“ буйный расцвѣтъ
его славы. Съ тѣхъ поръ его имя, —такъ же какъ и свѣдѣ
нія о его жизни и дѣятельности, — начинаютъ безпрестанно
проникать въ сербскую печать, то въ общихъ обзорахъ рус
ской литературы, гдѣ ему всегда отводится почетное мѣсто,
то въ связи съ его отдѣльными крупными произведеніями;
этотъ циклъ первоначальныхъ освѣдомленіи достигаетъ своей
высшей точки и, въ общемъ, заканчивается — около 1837
года, въ связи съ трагической смертью великаго поэта.
Условія, въ которыхъ развивалась молодая сербская
печать того времени, были таковы, что не могло быть и
рѣчи о постоянной культурной связи съ Россіей. Свѣдѣнія
обычно брались изъ иностранныхъ изданій, почти искючительно нѣмецкихъ, и, проходя большею частью черезъ тен
денціозныя руки, не были часто ни точны, ни полны, а глав
ное — рѣдко давали истинное представленіе о личности
Пушкина и его отношеніи къ обществу.
Разумѣется, мы здѣсь не имѣемъ въ виду книги или
статьи. Говоримъ о скромныхъ, коротенькихъ, едва пестрѣю
щихъ замѣткахъ въ журналахъ и газетахъ, чаще всего въ
нѣсколько строкъ. Но онѣ драгоцѣнны, т. к. въ нихъ всетаки упоминается имя А. С. Пушкина, — и надо признать,
довольно рано. Въ этомъ отношеніи самая большая и до
сихъ поръ еще не оцѣненная заслуга принадлежитъ старому
заслуженному журналу „Лѣтопись“, который издавался въ
Новомъ Саду, и на страницахъ котораго находимъ первыя
свѣдѣнія о Пушкинѣ, сравнительно частыя и для своего вре
мени довольно исчерпывающія. Этому сербскому журналу
принадлежитъ честь, еще въ 1825 г., раньше поляковъ, че
ховъ и болгаръ, познакомить югославскую читающую пу
блику съ поэтомъ Пушкинымъ. Редакторъ „Лѣтописи“ Г.
Магарашевичъ какъ разъ въ томъ году основалъ свой жур
налъ и, какъ сербскій патріотъ и хорошій славянинъ, поста
4
вилъ себѣ задачу — знакомить своихъ читателей со всѣми
народами славянскаго племени въ цѣломъ, отъ „Адріятског
до Леденог и од Балтичког до Црног мора вообште“. Уже
въ первыхъ номерахъ журнала „русскому колѣну“ дана со
отвѣтствующая роль въ міровой культурной жизни; здѣсь
видно стремленіе познакомить сербовъ не только съ оффи
ціальной Россіей, но и съ представителями культурной и ли
тературной жизни, при чемъ познакомить по возможности
непосредственно, изъ книгъ и журналовъ. Редакція въ ко
роткомъ обзорѣ перечисляетъ имена извѣстныхъ русскихъ
писателей того времени и ихъ предшественниковъ (Сумаро
ковъ, Димитріевъ, Карамзинъ, Озеровъ, Крыловъ, Батюшковъ,
Жуковскій и Пушкинъ). О нашемъ знаменитомъ поэтѣ въ
этой статьѣ находимъ короткія лексиконскія данныя: „А. С.
Пушкинъ, род. 1799, кол. секретар, писао е многа Лирическа
сочиненія, Руслан и Людмила, СПет. 1820“.’) Кромѣ русскихъ
источниковъ, какъ напр. „Исторія русской литературы“ Греча,
Магарашевичъ бралъ замѣтки для своего журнала, особенно
для отдѣла „Смѣсице“, изъ нѣмецкихъ изданій: „Allgem. Li
terat. Zeitung“, „Jarbücher der Literatur“, Wiener Jarbücher der
Literatur“ и др. Позднѣе на страницахъ „Лѣтописи“ чгсто
отмѣчаются важнѣйшія произведенія Пушкина, а кромѣ того
появляются статьи біографическаго характера, какъ напр.:
„А. Пушкинъ и царъ Никола“. Вообще, изъ большихъ свѣ
тилъ русской литературы первой половины XIX вѣка, Н. Ка
рамзинъ и А. Пушкинъ пользовались самой широкой симпа
тіей „Лѣтописи“, которая старалась дать своимъ читателямъ
картину русской культурной работы во всѣхъ областяхъ.
Въ 1826 году, на второй годъ выхода „Лѣтописи“, въ
отдѣлѣ „Смѣсице“, который, кстати сказать, составлялся
живо и интересно, — кромѣ другихъ матеріяловъ изъ обла
сти славистики (отзывъ о книгѣ П. И. Шафарика „Исторія
славянскихъ языковъ и литературы“, о „Даницѣ“ Вука Ка
раджича, о русскихъ альманахахъ и т. д.) — находимъ статью
безъ подписи, несомнѣнно редактора, „О поеты Руском Пу
шкину“, въ которой, хотя и наивнымъ тономъ и съ извѣст
ными неточностями, дана характеристика тѣхъ произведеній
Пушкина, которыя уже привлекли вниманіе міровой обще
ственности.
„Славный Поета Рускій Александеръ Пушкинъ (род.
1799. Мая 26.) издао е недавно едну истинна малу поему, но
коя по единогласномъ мнѣнію свію критіка сва нѣегова преИашня дѣла превосходи: она се зове: Источникъ Бакчисарая.
Г. Понамаревъ, Московскій кньигопродавацъ, плат'іо му е за
ню 3000. руб. а цѣло то дѣло состоисе само изъ 600. стіхова; дакле за свакій стіхъ 5. руб!! — Пушкинъ блиста сви’) Сербске Лѣтописи, I, 150.
5
ма оныма дарованіями, чрезъ коя поета до свое славе доспѣва. Онъ е на поетическу стазу наступіо заиста таковымъ
начиномь, каковымъ бы е многій окончати желіо. Онъ е 13,
свое године, бавейисе у Ліцеуму Царско Селскомъ, написао
свое дѣло: Опоминанія о Царскомъ селѣ; кое му е много
-славе принело; но кое га е спрама други наука немарльивымъ учинило. — До садъ е издао:
а) Русланъ и Людмила. Ова поема премѣшта читателя
у баснотворна времена Русіе, предъ златне торонѣ Кіевске.
Витежкій Владимиръ са своимъ великолѣпнымъ дворомъ,
раскошно накиѣеній боляри и пѣвцы оногъ времена излазе
намъ ту живопредставлѣніи предъ очи. Састоисе пакъ изъ
■6. пѣсама, коима се слави избавленіе Прі'нцезе Людмиле изъ
руку чародѣя Черномора, кои е ню отъ мужа нѣна Руслана
отео. Планъ овогъ сочиненія есть добро разположенъ, об
дѣланіе художественно, а повѣсть жива и пріатна.
б) Кавкаскій Гленникъ’); кратка поема, у коі'ой се описую обычаи и начинъ живота разбойника по Кавказу.
в) Источникъ Бакчисарая. Гирай, Канъ Крімскій, зароби
Польску Прінцесу Марію и бацы е у свой харемъ. Красота
ове Хрістіанке плѣни сердце дивѣга Кана, кои сада пренебрегне преНашню, коя му е наймилія была, наложницу За
рему, страстолюбиву Георгіанку. Ова истинна дозна, да Марі'а сва предложенія и обѣщанія Канова презире, да се она
ни нѣговомъ претньомъ, ни милошЬу у свомъ цѣломудрію
поколебати не да; но передъ свега тога науми она изъ великогъ соревнованія убити невинну Прінцесу; и што науми,
то и учини. Гирай зэогъ тога неутѣшимъ, осуди Георгіанку
на смерть, а вѣчномъ спомену прекрасне Маріе посвети источ
никъ, кои е у пустой части нѣговогъ вертограда извирао.
И данась се іошгь зове тай источникъ, источникъ суза:
Ладне каплѣ у мраморный валовъ падаюѣи опоминю свакогъ
на невиность Маріину и жалость Гираеву“*2).
Издатели „Лѣтописи“ и дальше въ информаціонныхъ
замѣткахъ, а часто и статьяхъ, даютъ обзоръ новѣйшихъ яв
леній въ русской литературѣ, говорятъ объ отдѣльныхъ пи
сателяхъ, о журналахъ и альманахахъ. Въ этомъ знакомствѣ
съ русскими дѣлами было несомнѣнное преимущество „Лѣто
писи“ передъ остальными сербскими, славянскими вообще,
и нѣмецкими журналами. Въ 1828 году напечатана въ „Смѣсицахъ“ на ряду съ другими замѣтками, посвященными Рос
сіи, короткая біографическая замѣтка о Пушкинѣ, въ кото’) Очевидная опечатка.
2) Въ „Русско-сербской библіографіи* А. Погодина эта замѣтка ука
зана, какъ первая о Пушкинѣ. Позднѣе («Лѣтопись* ХѴІП) находимъ ко
роткую замЬтку о выходѣ «трагедіе под титлом „Борис Годунов* от препрославленог поете Пушкина*.
6
рой онъ сравнивается съ Байрономъ. — Какъ извѣстно, въ1826 году Пушкинъ возвращенъ изъ изгнанія, и царь Нико
лай I выразилъ желаніе лично быть цензоромъ поэта. Этотъ
эпизодъ, о которомъ много писалось и говорилось, съ при
бавленіемъ нравоучительныхъ сентенцій, послужилъ темой
для сообщенія, въ которомъ Пушкинъ ошибочно названъ
даже „графомъ“. — „Руси имаю у Графу Александру Пушки
ну, таковогъ поету, кога и по орігіналітету, и по крѣпости,
и по живости — да и по іморалітету по правды сравниваю
съ Лордомъ Бырономъ. Онъ е збогъ свои иступленія отъ
Александра за казнь быо посланъ у Таурію. Но царь Нико
лай позове га таки съ почетна свога владѣнія натрагъ. Каже
се, да му е томъ приликомъ ово казао: „Вы притяжавагпе
велика дарованія. Слѣдуйте Вашемъ генію, и ако вамъ гдѣ
цензура на путъ стане, то доіщте къ мени“. Ако е ова анек
дота истина, то она выше Императору, нежели поеты чести,
приноси; ерь она показуе, да Монархъ мысли, да се само у
слободы крѣпость облагоро!]ава. Лако се вѣровати може,
да he се поета чрезъ то выше чувати, и пристойніе и честніе писати, него да е и садъ подъ Цензуромъ остао“1). —
Это все что — насколько намъ извѣстно — было напеча
тано о Пушкинѣ при его жизни.
Послѣ смерти Пушкина „Лѣтопись“ два раза въ 1839году отдаетъ дань его памяти. Въ первой статьѣ высоко
оцѣнивается творчество поэта и его значеніе („списанія нѣгова мораю русскомь и славенскомъ срцу неоценима быти“).
Какъ вождь русской литературы, Пушкинъ сравнивается съ.
Шекспиромъ. Изъ-за выспреннихъ тяжелыхъ фразъ откры
вается, въ общемъ, — если принять во вниманіе мѣсто и
время, — точная характеристика генія Пушкина и въ нѣ
сколькихъ словахъ обрисовывается реалистическій характеръ
его поэзіи:
„Руска Новелла у правомъ смыслу речи текъ важность
свою добія при спомену петъ нѣны Bolja, с’ коима се Руссіа
праведно дичити сме и може. Петъ, не више числи Руссіа.
прве классе списателя Новелла. Meljy ньима е првый, Пуш
кинъ кои се особито своіим’ простим’ поетическим’ начином’
писаня одликуе, пакъ како съ тимъ тако и природнимъ описиванемь самомъ се Шекспиру уподобити може, а поредъ
свію тіи лражестій кад се іошъ свуда и дубоко познаванъ
русски нравій и обичая саюжено види, мораю списанія нѣгова русскомь и славенскомь срцу неоценима быти. А такова су
сва нѣгова списанія, тимь су сва духомъ оживотворена, и
она су единствена у русскомь кньижеству. Поредъ простогъ
дражестногъ начина преповеданя безъ свакогъ вештачкогъ
китеня, съ мало прости речи пакъ опетъ тако силно дѣй’) „Сербске Лѣтописи", 1828, стр. 160.
7
ствіе у човеку породити само е Пушкину могуйно было;
нѣговомь стазомь ни еданъ не he пойи, еръ высокъ и опетъ
простъ быти, шальивостъ съ мудросйу саюзити само е нѣговъ великій духъ могао. Но — онъ е вейь престо писати,
и досадъ списана іоштъ само дѣла на русско срце дѣй
ствую“ 1).
Въ той же статьѣ прибавлено: „Измену живы найвише се Пушкину сме уподобити Гоголъ, младъ и живостанъ
човекъ“. — И дальше: „У колико су Пушкинове и Гоголове Новелле простоприродне у толико се Княза Одоевскогъ
и Н. Ф. Павлова філософическе могу назвати“2).
Отстаетъ отъ этой первой и, кажется намъ, уже запоз
далой по содержанію другая замѣтка, что становится понят
но, если принять во вниманіе, что она взята изъ статьи
д-ра Посарта „Исторія русскаго языка и литературы“ въ
книгѣ „Русское государство“.
„Алекс. Сергеевичъ Пушкинъ, pot], у Петрограду 26.
Мая 1790. умро 10. Феб. 1837. тайникъ колегія, найвейма
возлюблѣни руссіиски стихотворацъ, писо е лирическа сти
хотворенія, найособитіе дѣло му е изъ шестъ песама состоеЬесе стихотвореніе: Руссланъ и Лудмилла. За поздніе
стихотвореніе: кяукаскогъ брега робъ, или бунаръ бакчисарайски, кое се изъ 600 стихова состои, добио е одъ Москов
ское едногъ кньигопродавца 6000 рубльи (сравни „Новине,
за одличанъ, свешъ" № 231. до 240. 1825). Александеръ Бе
гущее3) о нѣму говори: Іоштъ у младо нѣгово доба чудило се
нѣговомъ мужескомъ штилу, а наступаюйемъ младиѣу отворишесе источницы матернѣгъ езыка, преклонишесе чароліе
Поезіе. Свако одъ нѣгови дѣла носи на себи печатъ свойствености, свако оставля у памятствованію и чувству свое
впечатлѣніе. Пушкинове су мисли пуне остроумія, дрзновене
и ватрене; езыкъ му е бистаръ и строго регулиратъ, благо
гласіе нѣгови стихова права музика“4).
Въ этой статьѣ бросается въ глаза неточность въ наз
ваніяхъ: „Кяукаскогъ брега робъ, или бунаръ бакчисарайски“,
тогда какъ это двѣ отдѣльныя поэмы. Бестужевъ названъ
Бетушевымъ и т. д.
На смѣну „Лѣтописи“, которая вынуждена въ 1834 го
ду временно прекратить свой выходъ (до 1836 года), — при
ходитъ въ 1835 году „Сербскій народный листъ“, которому
принадлежитъ большая заслуга въ области сербскаго наці
ональнаго просвѣщенія. Редакторъ этого журнала Теодоръ
Павловичъ, рядомъ съ патріотическими и славянскими иде’)
2)
’)
4)
Новый Сербскій Лѣтописъ, год. 1839, стр. 122.
ibid. стр. 123.
Бестужевъ.
Новый Сербскій Лѣтописъ — 1839, стр. 91—92.
8
ями, которыя распространялъ искренно и съ воодушевленіемъ, — даетъ мѣсто и русскому елементу: знакомитъ чита
телей съ литературными произведеніями въ переводѣ или
передѣлкѣ, а большею частью печатаетъ рядъ анекдотовъ,
біографическихъ и историческихъ разсказовъ на русскія темы,
которыя черпаетъ частью изъ русскихъ, а главнымъ обра
зомъ изъ нѣмецкихъ источниковъ.
Нужно однако признать, что „Лѣтопись“ располагала бо
лѣе критическими и лучшими свѣдѣніями въ области рус
ской литературы. Матеріалъ „Сербскаго народнаго листа“ не
всегда точенъ, а кромѣ того изобилуетъ анекдотическими
моментами. Это видно изъ обширной статьи, которую редак
ція посвятила Пушкину въ годовщину смерти поэта: — „Пу
шкинъ Рускій Стіхотворацъ“. Эта первая большая статья на
сербскомъ языкѣ — хотя и не безупречная по содержанію —
является попыткой дать біографію Пушкина, характеризовать
его главныя произведенія и оцѣнить его труды.
„Пушкинъ, кои в не давно у двобою погинуо, премда
као човекъ нимало овоме подобанъ, быо е кодъ Руса тако
народный човекъ, као кодъ насъ Доситей. Све што е Пу
шкинъ све реко, све и найманѣ што би онъ учиніо, тосе за
часъ по целой Русіи чакъ до Сибіріе и преко Кауказа раз
гласило. Он’ 6 своимъ особеностима и своимъ списаніяма
Еуропейскій мужъ давно постао, а насъ Славяна іоштъ се и
изближе тиче. Пушкинъ се родіо месеца мая 1799. г. одъ
старе едне о дому Романовомъ и овога на престолъ Русійскогъ царства возвишенію много заслужне Боярске породице;
али не одъ Графовске гране овогъ корена, с’ коіомъ е онъ
само издалека сроданъ быо. Ако бы се и хтело заборавити,
да Пушкинъ по матери одъ оногъ Арапина, Ханнібала, подрекло свое води, кога е Петаръ великій, као роба купіо, воспитао га, своимъ любимцемъ, а найпосле Адмираломъ свое
флотте учиніо, то е опетъ на ово подрекло цео изгледъ и
свако движеніе стіхотворца на ону Арапску крвь опоминяло,
коя е съ Ханнібаловомъ за некогъ Пушкина удатомъ кѣерю
у ову боярску породицу прешла, пакъ се ни у унуку іоште
сасвимъ изгубити ніе могла: да, іоште и смртно усиляванѣ
при последѣмъ после двобоя часу опоминѣ на люту Арапску
страсть, еръ Пушкинъ и кадъ е у перси танетомъ ударенъ,
пао, іошт’ се ніе съ противникомъ опростити хтео, него се
полумртавъ подигне, и, кои му е изъ дрктаюѣе руке двапутъ испао, пиштолѣмъ мишцу свогъ непріятеля раздроби.
У Лицеуму Петрсбургскомъ1), гди се Пушкинъ воспитавао,
ніе онъ башъ велике науке себи прибавіо, но с’ малымъ вѣжествама оде Воспитаніе нѣгово добыло е доцніе Француско
лице, пакъ и езыкъ францускій сасвимъ, као и Італіанскій
') Ошибочно, нужно: Царскосельскомъ.
9
себя присвой, а за тимъ стане Енглескій учити. Жила поэтіческа была е Пушкиновой породити свойствена, и отацъ
е нѣговъ француске и Італіянске доста недоступавне стіхове
правіо, а стрыцъ, Васнліе Пушкинъ као Русійскій Стіхотвотворацъ чести пуно име е себи заслужіо. — Младый Алек
сандеръ Пушкинъ своіомъ свагда веселомъ вольомъ и ду
хомъ неке чрезвычайне свободе пунымъ стіхотвореніяма, чакъ
се до цара Александра прогласи. Онъ се дотле у Стіхотвореніяиа такимъ са свободомъ ко дете съ ножемъ играо.докле пайпосле младостный жаръ дотле га не доведе, да е у
Стіхотвореніяма своима, тако реки, беснити почео, и у Стіховима подъ именемъ „Свобода“ — „Ножъ“ — и „Русланъ и
Людмила“ таке Робеспірско-Републіканске стіхове издавао,
какви се ни у самимъ Републіканскимъ Державама по про
стомъ народу разносити не смеду: зато Пушкинъ од Цара
Александра доста милостиво каштигованъ, онъ му сирѣчь
лепо званіе даде и у Безарабію као у заточеніе оправи. Теретъ заточенія, ту!]и люди и ту!)ъ предѣлъ, воспоминаніе
пре^ашньи времена све е то у Пушкину и трудолюбіе и поэтіческу фантазію све то веЬма побуі^авало. Онъ се трудіо
пренебрегнуто у наукама накнадити и прилежно е читао Стіхотворце. Чрезъ доцніе учинѣна путешествія преко Кауказа
и Крима, прибавіо е онъ себи познаніе предѣла и различить!
обычая и нрава кое е у после у своимъ поетическимъ сочи
неніями съ ползомъ употреблявао. Тако видимо у другомъ
нѣговомъ веѣемъ стіхотворенію: „Каукаюкій Сужанъ“ дивій
начинъ живота разбойнички на Кауказу... Пушкинъ у кньижеств)' Рускомъ као Народный Стіхотворацъ прво место заузима. (Он е Жуховскимъ започето бзикоизображеніе наставіо и распространю). Он означава степень высине поетическогъ стила, и у лепоти описанія и представленія нико се съ
ньимъ сравнити неможе; и онъ се меі^у садъ живеИе Еуропейске стіхотворце као найодареніи на прво место ставля;
онъ е Рускій Гете, Францускій Мериме, а као Хумористъ с
Немцем Хайне сравнява ce. — Пушкинъ е быо маленъ, и та
ко реЬи ружанъ. Нѣгово движеніе было е немирно и стра
стно: тако е исто брзо и свакій часъ пресецаюЬи говоріо.
Духъ е нѣгов’ сяян’, и высок’ а начин’ живота выше Францѵскій быо. Нѣгова е найвейа страсть была любовь, и онъ
е у браку съ лепомъ своіомъ Мадономъ са свимъ среѣанъ
быо. Коцке и карте быле су друга, а кадкадъ и прва страсть
нѣгова особито у мла^имъ годинама. Но мало he коцкаша
изворъ тако у самомъ себи као Пушкинъ имати. Пушкину
е сирѣчь нѣговъ кньигопродавацъ 5. рублій за свакій стіхъ
нѣговъ плайао, и то е тако извѣсно было, да е онъ, кадъ
бы му новаца нестало, или на карте изгубіо, често одъ стіхова свои изъ цепа вадіо и по врстама броеЬи колику е
хтео сумму на карте метати могао. Хіляду хітроумны Пушки-
10
новы изреченія по Народу разносило се, еръ што годъ е од.
Пушкина долазило, то е све од уста до уста ишло. На нѣговомъ гробу свако е оговаранѣ престало, и само he се о
слави тьеговой одъ садъ говорити. Онъ се збогъ жене са
Шуромъ своимъ') садъ недавно свади, овога на Двобой (уд
вой) иззове, и у овомъ у прей ранѣнъ животъ изгуби. Како
га цела Русиія оплакуе то е засведочіо самъ Царь, кои е
противника нѣговогь свію званія и отличія лишіо, а Пушки
ну у ономъ часу, кадъ се смртію боріо, своеручно писмо
написао, да христіански умре савѣтовао га; и другу му утѣ
ху на земльи дати незнаюйи, да he Матери2) нѣговой одъ
20.000 Рубля докъ живи пензію давати, увѣріо" 3).
Въ этой, несомнѣнно интересной и значительной статьѣ,
цѣнность которой не могутъ уменьшить ни мелкія ошибки
въ именахъ (Жуховскій вмѣсто Жуковскій), ни неправильное
раздѣленіе творчества Пушкина на періоды, ни дѣйствитель
ное незнаніе хронологіи его произведеній, — обращаетъ
вниманіе и тонъ, который съ одной стороны имѣетъ сенса
ціонно-газетный характеръ, а съ другой, въ политической
части, дидактическій, осуждающій свободоуміе и либера
лизмъ Пушкина. Все же за нимъ признается право на пер
вое мѣсто, такъ какъ его считаютъ „народнымъ стихотвор
цемъ“, и онъ, какъ наслѣдникъ Жуковскаго, ставится на
ряду съ міровыми писателями: Байрономъ, Гете и Гейне.
Эту статью вспоминаетъ въ своей работѣ и проф. Заболот
скій, но не приводитъ ее текстуально, а только передаетъ
ея содержаніе и въ концѣ совершенно справедливо замѣ
чаетъ, что она „проникнута консервативно-національной тен
денціей“ и что „анализъ этого, одного изъ первыхъ серб
скихъ болѣе или менѣе подробныхъ отзывовъ о Пушкинѣ
заставляетъ насъ придти къ заключенію, что и въ данномъ
случаѣ не обошлось дѣло безъ нѣмецкаго посредничества“4).
Въ этой статьѣ, наивной, но благосклонной, замѣтно любо
пытство къ частной жизни поэта, которая представлена въ
анекдотическомъ стилѣ, но проявляются все же симпатичное
отношеніе къ Пушкину, какъ человѣку, и высокая оцѣнка
его поэзіи.
Въ „Сербской новини или магазину за художество, кни
жество и моду“ за 1838 г., которая выходила въ Будапештѣ,
есть короткая замѣтка о потерѣ, постигшей русскую лите
ратуру. „Е кньижество Руссіиско ове године славна и велика
два мужа изгубило: Пушкина стихотворца и Марлинског проJj Ошибочно: поел h женитьбы на Е. Гончаровой Дантесъ сталъ зя
темъ Пушкина.
2) Ошибочно, нужно: женѣ.
") Сербскій Народный листъ, XXII, мая, 1837 год.
Очерки русскаго вліянія, стр. 227 — 228.
ir
заисту. Овога е Черкезъ нѣкій устреліо, а онай е у едномъ
удвою (duell) погинуо“1).
Въ 1846 году въ одномъ рукописномъ изданіи „Тужба
книжества српског“ также находимъ нѣсколько строкъ о
Пушкинѣ въ статьѣ, посвященной характеристикѣ Державина,
Крылова и Пушкина. „Славнее Россіа и стіхотворцы г. Державиномъ, Криловомъ и Пушкиномъ. Отъ ньихъ первый безъ
свакога препиранія звати се може Віргиліемъ Россійскимъ,
другій пакъ Тассомъ Россійскимъ, а третій Метастасіемъ Рос
сійскимъ“.
Затѣмъ констатируется преждевременная смерть Пушки
на, говорится, какъ она оплакивалась въ Россіи, подчерки
вается благонаклонность царя по отношенію къ этимъ писа
телямъ и т. д. Духъ благонамѣренной панегирической тен
денціозности вѣетъ всюду въ „Тужбѣ“.
Андричевъ календарь „Зимзелен“ помѣщаетъ въ 1846
году переведенную съ нѣмецкаго статью „Журналистика и
книжество у Аустріи и Русіи“, гдѣ говорится, что „и сам
Александер Пушкин, Hajeeha стихотворац у Русищ, кадкад
погрешио што je у cbojhm списанщама Биронску раздераност, цазташьаіуНе се стихще, и пренатегнут сентименталитет
излагао. ГЬегов „Евгенще Оіьегин“ jecT смеса од ДонЖуана
и руског купусичара. СреИом je код Пушкина прави вкус
MejAaH одржао и он je постао на}народнщи руски лесник“.
Бросается въ глаза, что въ этихъ замѣткахъ имя Пу
шкина почти всегда, какъ тѣнью, сопровождается именемъ
Байрона. Для этого было извѣстное основаніе. Мы знаемъ,
что русскій поэтъ во время пребыванія на югѣ былъ подъ
большимъ вліяніемъ своего англійскаго собрата. Хотя онъ и
останавливался больше на внѣшнихъ особенностяхъ байро
низма, хоть это и была временная и проходящая струя, ко
торая не отвѣчала внутреннимъ предрасположеніямъ харак
тера Пушкина — все же юношеское сводолюбивое увлеченіе
„Кавказскаго плѣнника“ и „Цыганъ“ всегда будетъ связано
съ именемъ и духомъ автора „Чайльдъ Гарольда“. — „Мо
лодая югославская литература приходила въ соприкосновеніе
съ современными идеями и литературными направленіями въ
западной Европѣ главнымъ образомъ черезъ нѣмецкую, а
также и черезъ русскую литературу, какъ самую крупную и
сильную изъ всѣхъ славянскихъ литературъ. Точно также и
съ первыми симптомами байронизма она соприкоснулась не
непосредственно, а посредственно, черезъ Пушкина и Лер
монтова, прежде всего и больше всего, и только позднѣе
черезъ Гейне и другихъ нѣмецкихъ романтиковъ“2). — По
видимому, въ югославской печати имя Байрона вспоминается’) Магазин за художество, кн>ижество и моду, 1838, 5.
") И. М. ПетровиЬ. Лорд BajpoH код Лугословена, стр. 119.
12
впервые какъ разъ въ связи съ Пушкинымъ, въ приведен
ной раньше замѣткѣ „Лѣтописи“ за 1828 годъ, черезъ че
тыре года послѣ смерти Байрона.
„Сербская лѣтопись“ за 1847 годъ помѣщаетъ про
странную статью о Жуковскомъ и романтизмѣ въ Россіи
изъ „Исторіи русской литературы“ д-ра И. Т. Іордана (съ
нѣмецкаго). Въ этой статьѣ, которая говоритъ о связи Жу
ковскаго съ европейской поэзіей и о его роли въ русскомъ
романтизмѣ, вспоминается нѣсколько разъ о Пушкинѣ, ко
торому приписывается очень большая роль въ исторіи рус
ской литературы. „Шго е у романтизму садашнѣ Европе ма
ло таме, а много свѣтлости разсуто, то долази одтуда, што
е Европа романтизамъ приживела и за собомъ оставила. И
исто у Пушкиновой поэзіи и више дубокогъ, разумногъ и
опредѣленогъ садржая налазимо, више богатства и мужевности мысли, него кодъ Жуковскогъ, то долази одтуда,
што е Жуковскій предъ Пушкиномъ ишао“ ’)
Въ этомъ же номерѣ въ отдѣлѣ „Смѣсице“ приводится
книга, изъ которой взята приведенная статья2). Это исторія
русской литературы „од почетна до Пушкина као младиЬа.
У овомъ дѣлу неналази се каталогъ изданы за то време
кньига, него се гледи, да се духъ русске литературе предло
жи и изясни. И зато се ту само о Ломоносову, Державину,
Жуковскомъ, БаЬушкову и Пушкину говори, као о онима
кои су у литератури русской епоху чинили“3).
Въ концѣ статьи „О романтизмѣ въ Россіи“, вспоминая
заслуги Жуковскаго и Батюшкова въ руской поэзіи, авторъ
говоритъ, что „при сеймъ овимъ уединѣнымъ заслугама ова
оба пѣсника, створенѣ савршено пѣсничкогъ и савршено художничкогъ стиха припада текъ Пушкину“4). И дальше:
„Жуковскій е морао нуждно велико утицанѣ у Пушкина
имати, али и обратно имао е Пушкинъ велико утицанѣ у
Жуковскогъ, и сва стихотворенія, коя е онъ послѣ друге
десетине овогъ столѣііа писао, одликуіу се несравнѣно больимъ езыкомъ и стиховима“. „Без Жуковскогъ найпослѣ небы
имали ни Пушкина“.
Къ этой же группѣ по своему содержанію, характеру,
тону и стилю принадлежитъ и статья неизвѣстнаго автора
въ земунской „Подунавци“ за 1856 годъ. Этотъ журналъ съ
самаго своего выхода даетъ обильный матеріалъ о русскихъ
царяхъ, полководцахъ, государстенныхъ людяхъ, и въ мень
шей мѣрѣ, о писателяхъ (А. Кантемирѣ, Г. Державинѣ и А.
’) С. Л., 1847, 1, стр. 75.
2J Geschichte der rus. Literatur, von dr. I. P. Iordan, Leipzig, 1846, erp.
.190.
a> Л. C., 1847, 1, стр. 153.
С. Л., 1817, 11. стр. 37-38.
13
Пушкинѣ). Статья „Пушкинъ, русскій списатель“, хотя и
позднѣйшаго происхожденія, мало отличается отъ приведен
ныхъ выше. Въ ней Пушкинъ представленъ, какъ „некій
муж, кои е све друге надвисіо и епоху развитка рускогъ
одпочео“, какъ „найславній стихотворацъ рускій“ Затѣмъ
слѣдуютъ біографическія и историко-литературныя данныя
о Пушкинѣ, который „съ поетичнимъ дѣлима "занимао и стихове правіо, но збогъ едне претерано слободне песме буде
изъ Петербурга удалѣнъ... За време петогодишнѣгъ бавленя у южной Русіи бавіо се непрестано с музама и учіо е
таліянскій, а од части и шпаньолскій езыкъ. Нѣгово воспитаванѣ у смотренію класичны наука было е пренебрегнуто,
али е онъ све то надокнадіо врло млогимъ читанѣмъ. Осимъ
страни списателя читао е и дѣла Жуковскова, кои е старославенску поэзію изра^ивао; али изметъ свію други найвеѣма га обузео лордъ Байронъ, овай му е духъ поетичный
распаліо, овай му е унутрашный строй поезіе и правацъ мислій дао; нѣму е Пушкинъ найвише подражавао; и у самомъ
нѣговомъ найзнаменитіемъ дѣлу „Онегинъ“ млого се налази,
кое е наликъ на Байроновогъ Дон-Жана. Он ніе тако бо
гатъ у мислима као Байронъ, неуздиже се тако високо, неспушта се у дубльину людска срдца; али е умереніи, има
више призреня на сгрой, природніе се изражава и често достизава Байрона, шта више и надвишава; еръ у нѣговомъ
дѣлу „Онегинъ“ толику е лакость, толико пространство
мислій, такавъ изредній стилъ показао, да се човекъ доиста
мора дивити како истый съ оде на епиграмъ и неприметно
подижуѣи се на приповедку и праву епопею долази...“ —
„Овай редкій мужъ, кои е сва срдца у Русіи дѣлима своима
обузео, быо е съ почетна врло Слободанъ, тако, да е на
силіе збогъ издайства обтуженъ быо. Царь Николай призове га къ себи и посаветуе, да се окане заблу^еня и да писанѣ продужи; меі)у осталимъ и ово му рекне: „Ако се цен
зуре плашишъ, то hy ти я самъ цензоръ быти“. Ове речи
тако су побудиле Пушкина, да е често пріятельима говоріо:
„Ахъ, како бы я волео цара мрзити, али шта hy — но зашто бы га мрзіо“. Одъ тогъ времена сасвимъ е друкчіи быо,
викао е на слободняке издавао уедльиве епиграме противъ
непріятеля. Изневери преі^ашнѣ пріятелѣ, кои су непрестано
нове планове противъ династіе ковали, и придружи се на
роду. Године 1837. завади се съ некимъ чиновникомъ у
Францускомъ посланству именомъ Данте ’), што е оваи чесhe посете жени нѣговой чиніо, збогъ тога позоае га на уд
вой, у комъ славный овай мужъ 10. фебруара погине. Це,
локупна дѣла нѣгова издао е Ажниковъ"*2).
’) Ж. Дантесъ былъ гвардейскій офицеръ.
2) П. В. Анненковъ. - „Подунавка" № 15. 1856 г., стр. 117.
14
Не смотря на всю наивность, ошибочность данныхъ,
оцѣнки и сужденій все же эта статья проникнута доброже
лательствомъ по отношенію къ личности Пушкина и въ ней
видно высокое мнѣніе о значеніи его поэзіи 1).
Изъ сербскихъ газетъ, журналовъ и альманаховъ, ко
торые хоть сколько нибудь занимались біографіей Пушкина,
.г. П. Заболотскій, кромѣ „Лѣтописи“, приводитъ „Србску
новину или магазинъ за художество, книжество и моду* А.
Арнота и „Любитель просвѣщенія. Сербско-далматинскій ма
газинъ“. Между тѣмъ, внѣ вниманія г. Заболотскаго остался
біографическій матеріялъ, который находится въ оффиціаль
ной газетѣ „Новине србске“ за 1837 годъ и который весь
посвященъ дуэли и смерти Пушкина2). Въ нѣсколькихъ но
мерахъ здѣсь постепенно излагается исторія, причины и по
слѣдствія дуэли. Свѣдѣнія, конечно, берутся изъ иностран
ныхъ источниковъ, а событія освѣщены въ томъ духѣ, въ
которомъ они передавались и объяснялись тогда въ Петро
градѣ 3).
Первая вѣсть о смерти Пушкина приходитъ сравнитель
но скоро. „Новине србске“ въ номерѣ 9 отъ 5 марта 1837
года, въ рубрикѣ „Иностранныя вѣсти — Россія“, даютъ ко
роткую замѣтку, перепечатанную изъ „Зрителя австриіскаго“
„Русско кньижество претрпило е знамениту штету догодившомсе смрѣу Стихотворца Александра Пушкина, кои е и у
иностраннимъ земляма найславніе познатъ, и кои се Ю гъ
Фебруариія после кратке тѣлесне болести у 38-ой години
живота свогъ преставіо“.
Въ связи съ упомянутымъ характеромъ русскихъ инфор
мацій, характерно, что здѣсь не упоминается ни дуэль, ни
настоящая причина смерти Пушкина (рана). Затѣмъ въ той
рубрикѣ печатается болѣе обширная замѣтка, въ которой
приводится „несчастная и проклятая“ дуэль, какъ причина
смерти, но все еще не извѣстно, съ кѣмъ и изъ за чего
дрался Пушкинъ „Изъ Ст. Петербурга одъ 22-гъ Февруарія
являсе о сообщеной веѣь смрти познатогъ русскогъ Списа’) Вь № 28 журнала „Подунавка" отъ 13 сентября 1856 год. напе
чатана на русскомъ языкѣ ода Державина „Богъ", причемъ редакція со
провождаетъ это стихотвореніе слѣдующимъ примѣчаніемъ: „Мы полага
емъ, что это будетъ пріятно нашимъ читателямъ, тѣмъ болѣе, что чистый
русскій языкъ, которымъ ода написана — при помощи объясненій, которыя
даны вь концѣ, - легко пойметъ каждый Сербъ*. Это не единственный
случай русскаго текста вь сербской печати: въ теченіе 19 віка то тамъ,
то здѣсь печатается и Пушкинъ на русскомъ языкЬ.
2) О немъ не упоминается и въ книгѣ А. Погодина „Русско-Серб
ская библіографія".
5) Сравнить: „Лугословенска штампа о Пушкинову двобоіу и смрти",
въ книгѣ П. Митропан: Руски писци, Ск. 1934.
15
теля Пушкина іоштъ и слѣдуюЬе: „Прославлѣный Стихотворацъ новога русскогъ кньижества, Александеръ Пушкинъ,
умрео е у недовршеной 37-ой ’) години живота, слѣдствомъ
несреѣнога и проклетогъ удвоя (дуела). Живеѣій іоштъ отацъ
нѣговъ и садъ е землѣдержацъ (спахія) у Плескавской *)
Губерніи, тамо су и тѣлесни остатцы почившегъ, пошто су
овде при торжественномъ великолѣпію церковный благо
словъ примили, однешени. Какво е свеобще участіе смерть
нѣгова, нарочно высокопрославлѣнымъ у кньижеству име
немъ нѣговымъ, кое е покойникъ у целой Русіи себи придобью, кодъ овдашнѣ Публике возбудила, виделосе у данъ
торжественогъ провода нѣговогъ. На той конацъ су се у
придворной церкви неброене гомиле людій изъ свію чинова
и струка народа сакупиле одъ кои га е веЬа часть само по
имену познавала, но ме!)у коима су и найотличнія лица, а
тако^е и млогіи иносграніи Дипломати были примѣйени. Ніе
се сумняти, да he намъ русске Новине скорымъ временемъ
обстоятелно описаніе живота нѣговогъ сообщити*. Beh у
овом кратком допису види се висока оцена Koja се да]е Пушкиновом ствараіьу у Срби]и. Интересантна je последіьа ре•ченица Koja потерне оскудност извора из Kojera се црпла
информацща. „Новине србске* од 10 априла 1837 у чланку
прештампаномъ из „Општих новина* први пут додиру]’у породичну драму лесника; ту се помижу и супарник и „безимени клеветникъ“. Права слика Пушкинове трагедиіе посте
лено добила свой облик. — „У держави, коя неоцѣниму ту
epehy има, да на престолу свомъ изряднога, найвеЬимъ владѣльскимъ добродѣтельима обдареногъ Монарха притяжава,
и сами жалостни догадай, кои свако чувствуюйе ерце ту
гомъ испуняваю, производе нѣко, на све народе нѣне благодѣтелно дѣиствуюИе слѣдство. Найвеѣій поетическій духъ
Руссіе, Пушкинъ ономадне е одъ царства, наука и обожавателя нѣговогъ высокогъ дара природе, топрвъ у 37 години,
стргнутъ. Супруга нѣгова, красна и млада Господа, чистогъ
и непорочногъ владаня, коя е мужа свогъ любила и нѣжно
одъ нѣга люблена была, добывала е одъ младогъ нѣногъ
Оффиціра царске гарде доказателства вниманія, коя су може быти одъ Пушкина примѣнена, но у повѣреню къ чи
стомъ ерцу супруге нѣгове и къ пристойномъ владаню Оф
фиціра, остала бы была неказнѣна, да нису безименна писма, пуна свакояки увреда и клевета, соревнивость и раздра
жено честолюбіе у нѣму возбудила. — Пошто младиЬъ овай
сестру Госпоже Пушкинове за жену свою узме, и сотимъ освѣДочи, да честь садашнѣгъ пашенога и свастике свое высоко
почитуе, држали су сви стваръ ову за окончану, алъ бези') Неправильно, нужно: на 38 году.
2) Т. е. — Псковской.
16
менна писма почну опетъ каково и далѣ подраньивати огор
ченіе и доведу найпосле до несрейногъ удвоя, у комъ е
Пушкинъ смртно ранѣнъ бью. Императоръ пошлѣ одма нѣкога овде у высокомъ почитанію стоейегъ мужа къ Пушки
ну, кои е наижешйе тѣлесне и душевне болѣ съ рѣдкомъ
ячиномъ духа и характера сносіо, съ тимъ опоминаніемъ, да
се на смрти своіой, као Христянинъ са свѣтомъ помири, кое
найтрогателніимъ н чиномъ и учинѣно буде. При томъ по
шлѣ му Императоръ увѣренѣ, да йе се за безпримѣрно несрейну жену нѣгову и четверо неяке дѣчице старати, кое е
доиста вейь съ познатымъ великодушіемъ овога Монарха и
учинѣно, и у исто време заповѣди Монарх ако бы се у спи
саніями овога умногъ Стихотворца, противу Владѣнія или
противу ма кога другогъ што нибудъ таково садржавало,
што бы имену и слави нѣговой вредоносно было, да се та
ково на ватри опали, и да се содержаніе то нигде и ни
предъ кимъ на свѣту не одкріе. — Опѣло е было величе
ственнымъ начиномъ торжествовано; сви присутствуюйи,
перви чиновници Двора и Державе — колико ій се годъ у
церкви смѣстити могло — странніи Посланицы и Дѣловодительи, были су силнымъ чувствованіемъ и тугомъ обузети.
— Свеобща ова жалость, у исто време дубоко презиранѣ
подлости безименногъ клеветника, а преко свега найусерднія благодарность къ Монарху и гордо внутренѣ увѣренѣ,
да у нѣму свака незаслужена несрейа оваковогъ помойника
и Оца налази, одушевляваю савъ Петербургъ, а доиста йе
овакова иста чувствованія произвести и у целой Руссіи кадъ
о овимъ дога1)аима вѣсть добые“ ’).
Въ этомъ очень характерномъ сообщеніи совершенно
точно указывается прямая и непосредственная причина ду
эли „безимена писма“, которыя дали поводъ Пушкину вы
звать Дантеса на дуэль. Приведенная статья очень типична,
какъ образецъ корреспонденцій, которыя посылались ино
страннымъ газетамъ изъ Петрограда и которыя выходили
изъ круговъ доброжелательныхъ по отношенію къ Пушки
ну. Тутъ видна симпатичная тенденція не опорочить честь
покойнаго поэта и его жены, подчеркнуть царскую милость
и вниманіе къ семьѣ, показать соучастіе и печаль русскаго
общества и иностранныхъ пословъ. Все событіе представ
лено въ трогательныхъ чертахъ, въ приподнятомъ тонѣ и
съ извѣстной долей идеализаціи. Почти въ томъ же духѣ,
какъ и извѣстное письмо Жуковскаго.
„Новине србске“ и дальше слѣдятъ за драматическимъ
развитіемъ этого событія. 17 апрѣля 1837 года читаемъ ко
роткое извѣстіе о результатѣ дуэли, вѣрнѣе о послѣдстві’) Новине Србске, № 11, 20 марта 1837 год.
•) Новине Србске, № 15, 17 ап^рЬля 1837 год.
17
яхъ ея для убійцы, Дантеса: „Лайтнантъ коняничке гардейне
регименте ГЬеногъ Величества Руске Императрице, Баронъ
Хекеренъ, сад е по изданой пресуди военногъ Суда, сбогъ
познатогъ удвоя (дуелла) свогъ са Каммер’юнкеромъ цар
ское Двора Александромъ Пушкиномъ, кои е слѣдствомъ
задобывене у свомъ дуеллу ране умрео, осушен да се оффицірскогъ степени свогъ и набавлѣногъ русскогъ благород
ства лиши, и іоштъ сувыше деградиратъ е на стеленъ про
стога солдата.“
Въ той же газетѣ отъ 1 мая 1837 г. перепечатана изъ
„Будимских новина" корреспонденція Леве Ваймара, напеча
танная раньше въ „Journal des Débats“, въ которой авторъ,
жившій въ Россіи и лично знавшій Пушкина, приводитъ нѣ
которые моменты изъ его біографіи и литературной дѣя
тельности.
„Новине србске“ отъ 15 мая печатаютъ цѣликомъ при
говоръ военнаго суда по дѣлу Хекерена, что является
въ то же время своего рода оффиціальнымъ сообщеніемъ
о событіи и его формальной ликвидаціей. Этой статьей за
канчивается печатаніе извѣстій о дуэли Пушкина въ упомя
нутой газетѣ. „Генеральный Аудиторіатъ, развидившій парнично дѣло Барона Хекерена, бывшег Лайтнанта у коньичкой гардейной регменти Нѣногъ Величества Императрице,
нашао га е за виновна и казни достойна зато што е проти
возаконнымъ начиномъ Александра Пушкина, Каммерюнкера
Нѣговог Императорскогъ Величества на удвой (дуеллъ) позвао, и смртну му рану задао, кои е дуеллъ сотимъ причинѣнъ быо, што е Пушкинъ, — раздраженъ бывшій поведе
ніемъ Барона Хеккерена, кои е Пушкиновъ домаѣій миръ
гледао да наруши, и продральивымъ се владанѣмъ према
супруги нѣговой отликовао — у магновенію найвеѣе ярости
Хеккереновомъ Оцу, повѣреноме овде кралѣвско-холландскомъ Посланику, Барону Хеккерену, написао писмо, коимъ
е честь и едногъ и другогъ укорнымъ рѣчма была повреtjena. Изъ призрѣнія дакле овя обстоятелства и у согласію
са 139-мъ членомъ военногъ закона, као и 352-мъ членомъ
26 свезке Законника, Генеральный Аудиторіатъ е тогъ мнѣ
нія, да Хеккеренъ зато што е Каммерюнкера Пушкина на
удвой позвао и у таковомъ га убио, свог степена и задобывеногъ у Руссіи благородства буде лишенъ, и да се као
простъ солдатъ по благоразсужденію военнаго Надзирателства у службу прими.“ — Кад е генеральный Аудиторіатъ
ову пресуду Императору предложио, придода овай слѣдуюhe собственоручно рѣшеніе: „Тако нек’ буде; но простой
солдатъ Хеккеренъ, да се као нерусскій подданикъ са пратеИимъ га служителемъ Полиціе преко границе пошлѣ, пошто му се найпре оффицірска свидѣтелства нѣгова одузму“.
о
18
Одма затимъ, као што е познато, Баронъ Хеккеренъ отиде
одавде. Супруга нѣгова слѣдовала е за ньимъ “
Какъ видно изъ этого сообщенія, „Новине србске“
зорко и внимательно слѣдили за всѣмъ, что относилось къ
дуэли и смерти Пушкина. Все теченіе событій, которыя
прервали жизнь лучшаго русскаго поэта — хоть и изъ ино
странныхъ газетъ — представлено съ симпатіей къ Пушки
ну и уваженіемъ къ его генію. Извѣстія коротки и даны въ
главныхъ чертахъ, но достаточно точно и объективно, если
принять во вниманіе сказанное раньше о положеніи, кото
рое вынуждена была занять русская печать, и о неясности
главныхъ источниковъ. ‘)
Этимъ можно было бы закончить характеристику пер
ваго ознакомленія и первыхъ извѣстій о Пушкинѣ въ Сер
біи въ первой половинѣ XIX вѣка, когда формировалась
сербская изящная словесность. До 80-ыхъ годовъ сербская
печать пользовалась обычно мало критической „легендой“ о
Пушкинѣ, которая въ свое время вытекла изъ односторон
няго политическаго и соціальнаго объясненія его роли въ
самодержавной дворянской Россіи начала XIX вѣка. Объяс
неніе жизни и дѣятельности Пушкина, — поскольку оно во
обще было еще возможно, — втиснуто въ идеологическую
схему, которая господствовала на протяженіи десятилѣтій.
Но отъ этого специфическаго духа, который властно навя
занъ сверху, еще долго не были вполнѣ свободны и рус
скія біографіи великаго поэта, чье полное научное жизне
описаніе и до нашихъ дней представляетъ все еще нерѣшен
ную задачу для русскихъ историковъ литературы.
Хотя и не полные, часто случайные отголоски жизни
и дѣятельности геніальнаго поэта, взятые въ цѣломъ, все
же представляютъ собою значительное число. Интересъ и
симпатіи къ защитницѣ славянъ — Россіи и ея литературѣ
обнаружились и въ вопросѣ, который здѣсь разсматриваемъ.
Конечно, съ нашей современной точки зрѣнія скудныя
біографическія данныя, которыя давала печать, были одно
сторонни и тенденціозно составлены. Вся печать въ началѣ
19 вѣка велась въ такомъ духѣ, оффиціальная въ самой Рос
сіи — больше всего. А Сербство было связано всѣми свои
ми нуждами и надеждами именно съ этимъ оффиціальнымъ
направленіемъ. Отсюда ясно, почему подчеркивалась добро
желательность къ Пушкину со стороны верховной власти и
почему съ такимъ одобреніемъ проводилась эволюція въ
направленіи „успокоенія“, которую пережилъ писатель въ сво
емъ развитіи. Консервативно-шовинистическій духъ, которымъ
проникнуты эти статьи и замѣтки, не только отвѣчалъ сход
нымъ принципамъ Сербства того времени, но былъ и въ со’) См. Н Лернеръ: Труды и дни Пушкина, СПБ. 1910, стр. 391—392.
19
-отвѣтствіи съ единственно допускаемой идеологіей, признан-н.ой и фаворизированной въ Россіи восхваленіемъ царя Николая
.1. Во всей этой работѣ, разсматриваемой въ исторической ре
троспективѣ, было много доброй воли, искренней симпатіи,
трогательнаго вниманія, — но нужно признать и односторон
нюю и недовольную освѣдомленность, специфичность освѣще
нія и удаленность отъ источника и оригинала. То міровоззрѣ
ніе и настроеніе, которымъ были проникнуты Пушкинъ и его
друзья — оппозиціонеры абсолутизму царя Николая I — не
•было допустимо въ сербскихъ изданіхъ 30-хъ годовъ, кото
рыя испытывали благоговѣніе къ мощнымъ русскимъ государямъ-покровителямъ. Въ связи съ этимъ у Пушкина под
черкивается то, что отвѣчало консервативнымъ принципамъ
оффиціальной сербской печати въ русскомъ вопросѣ.
Все же нужно цризнать, что въ пору пробужденія
національной мысли, старшее поколѣніе, какъ могло и умѣло,
отдало дань тѣни великаго русскаго поэта. Если же это дѣ
лалось по формѣ коротко, лаконически, оперируя только съ
■именами, датами и сжатыми оцѣнками; если въ сужденіяхъ
была поверхностность, натяжка и преувеличеніе — все же
имя Пушкина въ сознаніи сербскихъ интеллигентовъ подня
то на достойную высоту. А это пробуждало въ нихъ сла
вянскую гордость и призывало къ самостоятельной лите
ратурной дѣятельности. Такъ постепенно и непрерывно ши
рилось въ Сербіи знакомство съ русскими писателями и ли
тературными явленіями, пока не породило богатые плоды
въ слѣдующемъ поколѣніи. Но тогда Пушкинъ не былъ въ
модѣ ни въ Россіи, ни въ Сербіи; реализмъ провозгласилъ
-своимъ отцомъ его прославленнаго современника Гоголя.
Только позднѣе, въ концѣ XIX вѣка, послѣ Пушкинскихъ
дней началось возрожденіе автора „Евгенія Онѣгина“ и только
тогда — и въ Сербіи — его ликъ предсталъ въ настоящемъ,
истинномъ многостороннемъ освѣщеніи. Тогда были получе
ны новыя свѣдѣнія и измѣненъ ихъ характеръ. Они стали
точнѣе, полнѣе и основательнѣе. Если сравнить первыя со
общенія изъ 20 —40 ыхъ годовъ съ появившимися черезъ
его лѣтъ, въ наши дни, станетъ ясно, какъ выросъ и какой
путь прошелъ Пушкинъ въ Югославіи.
Изучая всесторонне русское вліяніе въ сербской лите
ратурѣ и журналистикѣ второй половины XIX вѣка и вни
мательно анализируя всѣ сколько-нибудь значительные статьи
по руссимъ вопросамъ, г. Заболотскій въ концѣ даетъ свое
критическое сужденіе о характерѣ и цѣнности біографиче
скаго и историко-литературнаго матеріала о Пушкинѣ въ
сербской печати 30-ыхъ годовъ. „Особенно много неточно
сти и грубыхъ ошибокъ наблюдаемъ мы въ біографическомъ
матеріалѣ о Пушкинѣ, который началъ появляться довольно
рано и въ значительномъ количествѣ; не говоря уже о томъ,
20
что нѣкоторыя изъ этихъ замѣтокъ отличаются чрезмѣрной'
лаконичностью“. Затѣмъ авторъ упомянутой книги, на ряду
въ вниманіемъ къ Пушкину со стороны сербской печати,
констатируетъ слабую освѣдомленность, одностороннее зна
ніе фактовъ и тенденціозность въ ихъ группировкѣ1). „При
изложеніи біографическаго матеріала подчеркивается добро
желательность Александра I и особенно Николая 1 по отно
шенію къ Пушкину, затѣмъ перемѣна въ консервативномъ,
духѣ, которая наступила въ Пушкинѣ въ періодъ расцвѣта
его творчества“. Словомъ, въ Пушкинѣ находили, въ об
щемъ то, что соотвѣтствовало желаніямъ сербства того вре
мени и тому представленію о Россіи, которое было обще
принято.
Тѣмъ же путемъ идетъ и г. А. Сиротининъ, который
почти буквально повторяетъ слова и выводы г. Заболотска
го. Въ статьѣ „Пушкинъ и славяне“, напечатанной въ его
книгѣ „Россія и славяне“; онъ пишетъ: „Годъ смерти Пуш
кина показалъ, насколько онъ близокъ былъ славянству.
Почти во всѣхъ дѣйствовавшихъ тогда славянскихъ литера
турахъ русская потеря нашла себѣ сочувственный откликъ.
Наиболѣе оффиціальный отзывъ находимъ въ литературѣ
сербской. Хотя сербы писали еще въ то время на такъ на
зываемомъ славяно-сербскомъ языкѣ, столь близкомъ къ
русскому, что произведенія Державина сходили въ перепе
чаткѣ за чисто сербскія, тѣмъ не менѣе Россія, кажется, не
столько интересовала ихъ своей литературой, сколько им
понировала имъ государственной мощью“ 2). „Несравненно
сердечнѣе, бесконечно глубже и вѣрнѣе былъ сочувственный
голосъ польскаго народа“, продолжаетъ г. А. Сиротинииъ.
И тотчасъ же добавляетъ: „Неудивительно: за Польшу го
ворилъ Мицкевичъ“ 8). Здѣсь г. А. Сиротининъ удаляется
отъ обычнаго мѣрила, такъ какъ нужно имѣть въ виду, что
А. Пушкинъ и А. Мицкевичъ когда то были связаны тѣсной
дружбой и что самъ А. Мицкевичъ былъ поэтъ, и поэтъ
съ европейскимъ именемъ. Въ этомъ случаѣ можно было
бы говорить лишь о голосѣ друга и поэта.
Если взять все это въ исторической перспективѣ, при
освѣщеніи новѣйшихъ изысканій, и если принять во внима
ніе очень сложныя обстоятельства — политическія и мораль
ныя, — при которыхъ въ Россіи давались свѣдѣнія о Пуш
кинѣ въ рамкахъ единственно возможной шовинистички-бюрократической идеологіи и суровой цензуры Николая I, то намъ
кажется, что она дала очень цѣнное, и что г. Заболотскій въ сво
емъ строгомъ сужденіи о ея роли упускаетъ изъ виду трудно’) Очерки, стр. 389—390.
2) Андрей Сиротининъ, Россія и Славяне. Петербургъ, 1913, стр. 7.
’) Ibid стр. 8.
21
<стия которыя и при наилучшемъ желаніи нельзя было пре
одолѣть. Онъ признаетъ интересъ, который сербская пе
чать проявляла къ Пушкину, не отрицаетъ симпатію, съ ко
торой писалось о немъ при жизни и особенно послѣ смер
ти, — но постоянно подчеркиваетъ неосвѣдомленность, ошиб
ки, тенденціозность. Между тѣмъ, какъ же можно требовать
полную точность и объективность освѣдомленности, когда
ея не было и въ скудныхъ и мутныхъ главныхъ рус
скихъ источникахъ того времени. Что же касается лаконич
ности, односторонности и тенденціозности, которыя конста
тируетъ г. Заболотскій, то, поскольку онѣ есть, онѣ выте
каютъ изъ той атмосферы, которая даже въ Россіи не до
пускала, чтобы событія получили свое настоящее освѣщеніе
въ печати. Естественно, что молодая печать княжества Сер
біи, которая еще даже не имѣла ни своего дипломатическа
го представителя, ни газетнаго корреспондента въ Петро
градѣ, должна была пользоваться извѣстіями иностранныхъ,
преимущественно нѣмецкихъ газетъ, но, конечно, по своему
выбору и усмотрѣнію.
Прибавивъ къ матеріалу, который добросовѣстно изу
чилъ г. Заболотскій, приведенныя выше статьи изъ „Нови
на сербскихъ“, относящіяся къ дуэли и смерти Пушкина,
пр иходимъ къ слѣдующимъ выводамъ. Пушкину въ серб
ской печати 30 — 40-ыхъ годовъ было посвящено боль
шое и искреннее вниманіе, которое особенно усилила его
трагическая смерть. Сербство, въ лицѣ своихъ лучшихъ
интеллигентовъ уже въ то время, въ общемъ, сознавало ве
ликость генія Пушкина и его значеніе въ исторіи русской
литературы, такъ же какъ и привлекательность его лич
ныхъ качествъ. Но, сербы, какъ и русскіе, вполнѣ естествен
но, не могли смотрѣть на Пушкина въ исторической пер
спективѣ, а только какъ на своего великаго современника.
Картина семейной трагедіи Пушкина, смерть, дуэль и
ея послѣдствія предствлены ла іидарно, но, въ общемъ, точ
но. Если были нѣкоторыя ошибки въ подростяхъ біографіи,
то это объясняется тѣмъ, что въ то время не было крити
ческой и обстоятельной біографіи Пушкина, такъ что свѣдѣ
нія о немъ часто черпались изъ вторыхъ рукъ, въ Сер
біи главнымъ образомъ изъ иностранныхъ источниковъ, но
вся его личность, особенно послѣ дуэли и смерти, всетаки
была окружена ореоломъ необычайности и романтической
яркости.
Количественно же число замѣтокъ и статей, посвящен
ныхъ жизни и творчеству Пушкина въ сербскихъ газетахъ
и журналахъ 30 — 40 ыхъ годовъ, достаточно велико, осо
бенно если принять во вниманіе соотвѣтствующее число
статей на ту же тему въ русской и западно-европейской
печати и недостачное развитіе сербской печати того времени.
Владиславъ Ходасевичъ.
Аврора Шшвпль.
Въ двадцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія выборгскимъ
губернаторомъ состоялъ Карлъ-Іоганнъ Шернваль, у кото
раго было двѣ дочери и два сына. Семья была небогатая,
но высоко порядочная. Барышни, умныя отъ природы, полу
чили хорошее образованіе. Обѣ онѣ къ тому же отличались
замѣчательной красотой. Одну изъ нихъ звали Эмиліей, дру
гую Авророй. Въ 1824 году молодой поэтъ Евгеній Абрамо
вичъ Боратынскій, отбывавшій въ Финляндіи солдатчину,
посвятилъ ей стихи — одни изъ прекраснѣйшихъ въ рус
ской поэзіи:
ДѢВУШКѢ, КОТОРОЙ ИМЯ БЫЛО: АВРОРА.
Выдь, дохни намъ упоеньемъ,
Соименница зари!
Всѣхъ румянымъ появленьемъ
Оживи и озари!
Пылкій юноша не сводитъ
Взоровъ съ милой и порой
Мыслитъ съ тихою тоской:
Для кого она выводитъ
Солнце счастья за собой?
„Пылкій юноша“, о которомъ здѣсь говорится, — лицо,
можетъ быть, воображаемое. Однако, болѣе вѣроятно, что
это — другъ Боратынскаго Александръ Алексѣевичъ Суха
новъ, въ ту пору — корнетъ уланскаго полка, адъютантъ
финляндскаго генералъ-губернатора гр. А. А. Закревскаго,
образованный молодой человѣкъ, не чуждый литературѣ.
Такое предположеніе подтверждается тѣмъ, что годъ спустя,
покинувъ Финляндію, Боратынскій, интересуясь сердечными
дѣлами пріятеля, послалъ ему слѣдующій стихотворный „За
просъ“:
Что скажетъ другу своему
Любовникъ пламенной Авроры?
Сіяли ль счастіемъ ему
Ея застѣнчивые взоры?
24
Любви заботою полна,
Огнемъ очей, ланитъ пыланьемъ
И персей томныхъ волнованьемъ
Была ль прямой зарей она
Иль только сѣвернымъ сіяньемъ?
Въ печатныхъ источникахъ до сихъ поръ указывалось,
что Аврора Шернваль родилась 28 іюля 1813 года. Изъ этого
приходилось заключать, что въ стихахъ Боратынскаго рѣчь
шла о дѣвочкѣ одиннадцати — двѣнадцати лѣтъ и что лю
бовныя чувства Муханова были обращены почти къ ребенку.
На основаніи сообщенія, которымъ мы обязаны одному изъ
родственниковъ семьи Шернвалей, мы можемъ исправить
ошибку: въ дѣйствительности Аврора Карловна родилась не
въ 1813, а въ 1808 году и была не младшей, а старшей изъ
двухъ сестеръ. Когда и по какой причинѣ ошибка произо
шла, установить мы не можемъ, но несомнѣнно, что послѣ
того, какъ о іа исправлена, чувства Муханова и вызванные
ими стихи Боратынскаго пріобрѣтаютъ естественность, кото
рой имъ недоставало.
Позднѣйшія событія показали, что любовь Муханова не
была мимолетной. Однако, послѣ полученія „Запроса“ отъ
Боратынскаго, ему оставалось не долго пробыть на сѣверѣ.
Въ іюнѣ 1825 года онъ былъ переведенъ въ 29-й Егерьскій
полкъ въ чинѣ поручика и покинулъ Финляндію. На нѣко
торое время Аврора Шернваль исчезла съ его горизонта.
Ея младшая сестра Эмилія Карловна, такая же краса
вица, только собой бѣлокурая, (Аврора была смугла, и во
лосы у нея были черные), лѣтомъ 1828 года вышла замужъ
за графа Владиміра Алексѣевича Мусина-Пушкина, мецената
и богача, нѣкогда служившаго въ Измай ювскомъ полку. За
прикосновенность къ дѣлу декабристовъ гр. Мусинъ-Пушкинъ
былъ переведенъ въ армію, въ Петрозскій полкъ, а затѣмъ,
въ 1829 г., — на Кавказъ, въ Тифлисскій пѣхотный полкъ.
Въ Новочеркасскѣ онъ съѣхался съ Пушкинымъ (см. первую
главу „Путешествія въ Арзерумъ“). Они согласились вмѣстѣ
ѣхать до Тифлиса. Съ ними же ѣхалъ Эмилій Карловичъ
Шернваль, братъ Эмиліи и Авроры. Недоѣзжая до Ларса,
всѣ трое любовались Терекомъ, при чемъ Шернваль съ Му
синымъ-Пушкинымъ вспоминали Иматру и отдавали ей пред
почтеніе.
Въ самомъ концѣ 1829 г. Паскевичъ уволилъ МусинаПушкина въ отпускъ въ Москву для раздѣла имѣнія послѣ
смерти его матери, а еще два года спустя графъ вышелъ
въ отставку, при чемъ ему было приказано жить въ Москвѣ
и не выѣзжать за-границу. Вскорѣ послѣ того Аврора Шерн
валь стала невѣстою, но ея женихъ, котораго имя до насъ
не сохранилось, умеръ незадолго до свадьбы.
25
Потрясенная горемъ, Аврора покинула Финляндію и
уѣхала къ сестрѣ въ Москву. Здѣсь она была замѣчена цѣ
нителями и знатоками. Кн. П. А. Вяземскій въ эго время пи
салъ одному изъ своихъ пріятелей: „Въ Москвѣ все по ста
рому, кромѣ двухъ новыхъ финляндскихъ звѣздъ: Пушкиной
и ея сестры Авроры, воспѣтой Боратынскимъ и мною. Ска
зываютъ что всѣ свѣтила поблѣднѣли передъ ними, и москов
скій Ришелье Норовъ все такъ и норовитъ, чтобы быть при
нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, онѣ замѣчательно милы, внутренно
и внѣшно“.
Въ первой половинѣ 1832 г. Эмилія Карловна ѣздила
въ Петербургъ и брала съ собою сестру. Такимъ образомъ
состоялось появленіе Авроры Карловны на горизонтѣ петер
бургскаго свѣта, отмѣченное въ запискахъ А. О. Смирновой.
Можно предполагать, что именно въ это время она позна
комилась съ Пушкинымъ, который 24 іюня обѣдалъ у Эми
ліи Карловны вмѣстѣ съ кн. П. А. Вяземскимъ, гр. А. П.
Толстымъ и др. Осенью того же года мы вновь застаемъ
обѣихъ сестеръ въ Москвѣ. Въ концѣ сентября онѣ присут
ствовали на балѣ у кн. В. Ф. Вяземской, гдѣ быль и Пу
шкинъ. Другихъ подробностей о московской жизни Авроры
Карловны у насъ нѣтъ, но извѣстно, что къ этому времени
относится второе трагическое событіе въ ея жизни. Въ Мо
сквѣ ей суждено было вновь встрѣтиться съ Мухановымъ.
Послѣ турецкой кампаніи 1828 — 1829 г. г. онъ оставилъ во
енную службу въ чинѣ полковника и, въ званіи камергера,
состоялъ при московскомъ главномъ Архивѣ министерства
иностранныхъ дѣлъ. Старое чувство къ Аврорѣ въ немъ
пробудилось, онъ просилъ ея руки и получилъ согласіе. Но
пророчество Боратынскаго не сбылось; „солнца счастія“ Авро
ра за собою не выводила. Ея второй женихъ, какъ и пер
вый, скончался до свадьбы, 2 августа 1834 г., не доживъ
двухъ мѣсяцевъ до тридцати четырехъ лѣтъ.
Въ томъ же году гр. В. А. Мусинъ-Пушкинъ былъ, на
конецъ, освобожденъ отъ надзора и получилъ разрѣшеніе
жить гдѣ угодно. Значительную часть времени семья стала
проводить въ Петербургѣ. Тамъ же Аврора Карловна позна
комилась съ богачемъ и благотворителемъ Павломъ Никола
евичемъ Демидовымъ. Въ 1836 году она стала его женою.
Въ тѣ годы свѣтская жизнь еще тѣсно соприкасалась
съ литературною. Наиболѣе видные литераторы въ большин
ствѣ принадлежали къ высшему обществу. Литературные са
лоны были въ то же время и великосвѣтскими. Графиня
Эмилія Карловна Мусина-Пушкина и Аврора Карловна Деми
дова блистали въ тѣхъ же гостиныхъ, гдѣ и Дарья Федо
ровна Фикельмонъ, супруга австрійскаго посла, и Наталія
Николаевна Пушкина. Впрочемъ, расцвѣтъ ихъ петербургской
26
славы пришелся уже на тѣ годы, когда Пушкина не было
въ живыхъ.
Въ концѣ тридцатыхъ годовъ обѣихъ сестеръ можно
было встрѣтить въ самыхъ изысканныхъ собраніяхъ. Онѣ
бывали у Карамзиныхъ, у гр. В. А. Соллогуба, автора „Та
рантаса“, у В. Ф. Одоевскаго, у поэтессы Е. П. Ростопчиной.
Мемуаристы единогласно восхищаются ихъ красотой и умомъ.
„Аврора Карловна Демидова, финляндская уроженка, счита
лась и была на самомъ дѣлѣ одной изъ красивѣйшихъ жен
щинъ въ Петербургѣ, — разсказываетъ Соллогубъ: — мно
гіе предпочитали ей ея сестру, графиню Мусину-Пушкину,,
ту графиню Эмилію, о которой влюбленный въ нее Лермон
товъ написалъ стихотвореніе:
Графиня Эмилія
Бѣлѣе, чѣмъ лилія,
Стройнѣй ея таліи
На свѣтѣ не встрѣтится,
И небо Италіи
Въ глазахъ ея свѣтится;
Но сердце Эмиліи
Подобно Бастиліи.
Трудно было рѣшить, кому изъ обѣихъ сестеръ слѣ
довало отдать пальму первенства“.
Стихи Лермонтова были написаны въ 1839 году. Не
сомнѣнно, въ нихъ есть шутливый оттѣнокъ. Вопреки мнѣ
нію Соллогуба можно предположить, что Лермонтовъ лишь
ухаживалъ за графиней Эмиліей, отдавая дань ея прелести,
но не питая глубокаго чувства. Случайный, но зоркій свидѣ
тель, кажется, вѣрнѣй угадалъ истинный характеръ отноше
ній между Лермонтовымъ и ею. И. С. Тургеневъ на святкахъ
1839 г. впервые увидѣлъ Лермонтова въ домѣ кн. Шахов
ской и долго наблюдалъ за нимъ издали: „Онъ помѣстился
на низкомъ табуретѣ передъ диваномъ, на которомъ, одѣтая
въ черное платье, сидѣла одна изъ тогдашнихъ столичныхъ
красавицъ — бѣлокурая графиня Мусина Пушкина — рано
поіибшее, дѣйствительно прелестное созданіе. На Лермонто
вѣ былъ мундиръ лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка; онъ не
снялъ ни сабли, ни перчатокъ — и, сгорбившись и насупив
шись, угрюмо посматривалъ на графиню. Она мало съ нимъ
разговаривала и чаще обращалась къ сидѣвшему рядомъ съ
нимъ графу Ш-ву, тоже гусару... Помнится, графъ Ш. и его
собесѣдница внезапно засмѣялись чему то и смѣялись долго;
Лермонтовъ также засмѣялся, но въ то же время съ какимъ
то обиднымъ удивленіемъ оглядывалъ ихъ обоихъ. Несмо
тря на это, мнѣ все-таки казалось, что и графа Ш. онъ лю
билъ, какъ товарища, — и къ графинѣ питалъ чувство дру-
ЧТ
желюбное. Не было сомнѣнія, что онъ, слѣдуя тогдашней
модѣ, напускалъ на себя извѣстнаго рода байроновскій жанръ“...
Огромное богатство и широчайшая благотворительность
позволили Демидовымъ занять видное положеніе при дворѣ
и въ обществѣ. Впрочемъ, Аврора Карловна держалась съ
простотой и достоинствомъ. На большихъ балахъ являлась
она въ гладкомъ одноцвѣтномъ платьѣ, съ одною лишь то
ненькою цѣпочкой на шеѣ — правда, на этой цѣпочкѣ висѣлъ знаменитый демидовскій брилліантъ-солитеръ, за кото
рый было уплачено милліонъ рублей ассигнаціями. Какъ ум
ная женщина и настоящая аристократка, Аврора Карловна
была лишена всякаго жеманства. Однажды въ осеннія су
мерки вышла она пройтись. Уличный ловеласъ къ ней при
сталъ, прося разрѣшенія проводить до дому. Аврора Кар
ловна согласилась и довела его до своего дворца. Увидѣвъзалитый свѣтомъ подъѣздъ и слугъ, вышедшихъ на встрѣчу
хозяйкѣ, неизвѣстный понялъ свою ошибку и хотѣлъ рети
роваться.
— Куда же вы? — сказала Аврора Карловна, — я хочу
познакомить васъ съ моимъ мужемъ.
Незнакомецъ, разумѣется, предпочелъ избѣжать знаком
ства и тотчасъ исчезъ во мракѣ.
9 октября 1839 г. у Авроры Карловны родился сынъ —
Павелъ. Однако, ея семейной жизни не суждено было быть
продолжительной: 25 марта 1840 г., въ Майнцѣ, скончался
ея мужъ. По этому поводу Владиміръ Мухановъ, братъ ея
покойнаго жениха, писалъ въ своемъ дневникѣ: „Тяжело со
знавать, что достаточно соединить свою судьбу съ другимъ,
чтобы увидѣть его похищеннымъ. Эта женщина совершен
ство: она, кажется, обладаетъ всѣмъ для счастья: умна, до
бра. чиста сердцемъ, красива, богата. Дай Богъ ей со всѣми
этими преимуществами найти человѣка, достойнаго ея и ко
торый сдѣлалъ бы ее счастливой; она этого вполнѣ заслу
живаетъ“.
Аврора Карловна, однако же, въ первое время не по
мышляла о новомъ бракѣ. Она посвятила себя воспитанію
сына; ребенокъ былъ очень хорошъ собой и обнаруживалъ
большія способности. Мать въ немъ души не чаяла, хотя и
держал I въ разумной строгости.
Наконецъ, время взяло свое. Аврора Карловна полюби
ла и — что вовсе не удивительно — встрѣтила взаимность.
Избранникомъ ея сердца на этотъ разъ былъ Андрей Нико
лаевичъ Карамзинъ, сынъ покойнаго исторіографа. Поэтъ
Тютчевъ былъ, кажется, покровителемъ этой любви, встрѣ
тившей нѣкоторыя препятствія со стороны окружающихъ.
Въ семействѣ Карамзиныхъ давно оцѣнили Аврору Карловну
и ничего не имѣли противъ женитьбы на ней Андрея Нико
лаевича. Но родственники Авроры Карловны были недоволь-
28
ны: Андрей Карамзинъ былъ небогатъ и не имѣлъ положе
нія при дворѣ. Городская молва присоединилась къ этому
мнѣнію. Указывали также, будто женихъ чуть ли не десятью
годами моложе невѣсты, что было не точно: Карамзинъ былъ
моложе Авроры Карловны всего на шесть лѣтъ. Тѣмъ не
менѣе, можно допустить, что именно въ ту пору, въ связи
съ этими непріятными толками, пущенъ былъ слухъ, что
Аврора Карловна родилась въ 1813, а не въ 1808 году.
Свадьба, наконецъ, все-таки состоялась. Лѣтомъ 1846 г.
Вяземскій сообщилъ Жуковскому, что Аврора Демидова
идетъ за Андрея Карамзина. „Любовь восторжествовала надъ
супротивною силою“, прибавлялъ онъ, замѣчая, что Аврора
Карловна „была и будетъ примѣрной женой“.
Казалось, она обрѣла ту полноту счастія, которой,
быть можетъ, до тѣхъ поръ не знала. Однако, трагическія
утраты были ей суждены. Въ концѣ 1846 г. умерла ея се
стра — всего 36 лѣтъ отъ роду: потому-то и называлъ ее
Тургеневъ рано погибшимъ созданіемъ. Въ 1854 г. началась
война съ турками, и Андрей Николаевичъ отправился въ
дѣйствующую армію. Вяземскій написалъ ему напутственные
стихи, въ которыхъ говорилъ, обращаясь къ Аврорѣ Кар
ловнѣ:
А ты, ему зарею беззакатной
Блеснувшая на жизненномъ пути,
Не унывай — вѣрь въ Промыслъ благодатный
И скорбь свою надеждой просвѣти...
Ты друга жди! Прійдетъ онъ, и для встрѣчи
Ему цвѣ;ы и пѣсни приготовь...
Но поэтическое предсказаніе не оправдалось вновь. 23
мая 1854 года Андрей Карамзинъ былъ убитъ въ дунайской
арміи. Суевѣрные люди, когда-то шептавшіе, что Аврора
приноситъ несчастіе своммъ избранникамъ, оказались правы.
Тютчевъ писалъ съ ужасомъ: „Можно представить, что
этотъ несчастный Андрей Карамзинъ долженъ былъ испы
тать... Вѣроятно, въ эту рѣшительную минуту, на незнако
мой землѣ, среди отвратительной толпы, готовой его изру
бить, въ его памяти пронеслась, какъ молнія, вся та жизнь,
которую онъ терялъ: жена, сестра, вся эта жизнь, такая
пріятная, богатая, полная ласки.“
Новый ударъ судьбы Аврора приняла по внѣшности
спокойно. Она какъ бы окаменѣла, и съ этихъ поръ мы о
ней почти ничего не знаемъ, хотя ей предстояла еще дол
гая жизнь.
Братъ ея перваго мужа, Анатолій Николаевичъ Деми
довъ, знаменитый богачъ и оригиналъ, былъ, какъ извѣстно,
женатъ на принцессѣ Матильдѣ, племянницѣ Наполеона I.
29
Пріобрѣтя въ Папской области небольшое княжество СанъДонато, къ своему имени присоединилъ онъ княжескій ти
тулъ. Однако, онъ умеръ бездѣтнымъ, и съ соизволенія им
ператора Александра П титулъ князя Санъ Донато перешелъ
къ его племяннику, единственному сыну Авроры Карловны
(отъ Карамзина у нея дѣтей не было). Его дочь, Аврора
Павловна, вышла за князя Карагеоргіевича и была матерью
нынѣшняго Князя-Намѣстника Югославіи, названнаго Павломъ,
вѣроятно, въ память дѣда и прадѣда.
Павелъ Павловичъ Демидовъ Санъ-Донато скончался
въ 1885 году. Это была послѣдняя тяжелая утрата Авроры
Карловны. Послѣ смерти сына ей суждено было прожить
еще цѣлыхъ семнадцать лѣтъ. До глубокой старости сохра
нила она величественную осанку и слѣды былой красоты.
Родившись при Александрѣ I, въ 1898 году императоромъ
Николаемъ II она была пожалована въ статсъ-дамы къ импе
ратрицамъ. Наконецъ, 30 апрѣля (12 мая) 1902 г., не доживъ
трехъ мѣсяцевъ до девяноста четырехъ лѣтъ, она умерла
въ родной своей Финляндіи, въ Гельсингфорсѣ, гдѣ нѣкогда
воспѣвалъ ее Боратынскій. Тамъ же она и погребена. Въ
годъ ея смерти Князю-Намѣстнику Югославіи было девять
лѣтъ. Онъ могъ еще видѣть свою прабабушку, которую лю
били и знали четыре величайшихъ русскихъ поэта: Пуш
кинъ, Лермонтовъ, Боратынскій, Тютчевъ. Ея обаятельный
и печальный образъ неразрывно связанъ съ золотымъ вѣ
комъ нашей поэзіи.
Кн. И. С. Трубецкой
Къ вопросу о стихѣ „пѣсенъ западныхъ славянъ** Пушкина
„Пѣсни Западныхъ Славянъ“ А. С. Пушкина включаютъ
въ себя всего семнадцать стихотвореній, изъ коихъ один
надцать переведены съ французскаго (изъ пресловутаго сбор
ника Мериме „La Guzla, ou choix de Poésies Illyriques“), три
съ сербскаго (изъ сборника Вука Ст. Караджича), а три
(„Пѣсня о Георгіи Черномъ“, Воевода Милошъ“ и „Янышъ
Королевичъ“), повидимому, сочинены самимъ Пушкинымъ
(во всякомъ случаѣ, ихъ иностранные оригиналы не указаны
и до сихъ поръ не найдены). Небольшая часть „Пѣсенъ“
(„Похоронная Пѣсня“, „Соловей“, „Бонапартъ и Черногорцы“
и „Конь“) написаны обыкновеннымъ четырехстопнымъ хо
реемъ, а остальныя — особымъ размѣромъ, которымъ
кромѣ этихъ пѣсенъ, Пушкинъ написалъ еще „Сказку о Ры
бакѣ и Рыбкѣ“ и нѣсколько мелкихъ, частью неоконченныхъ
стихотвореній.
Объ этомъ особомъ стихотворномъ размѣрѣ, извѣст
номъ подъ именемъ „стиха Пѣсенъ Западныхъ Славянъ“ су
ществуетъ цѣлая литература. О немъ писали въ свое время
А. Потебня {Рус. Фил. ВгьсШ. XI, 1884 г. стр. 21) и Ф. Е.
Коршъ {Изв. II го Оійд. И ни. Ак. Н. т. Ill 1898 г. стр. 737
сл.; Сбор. Ошд. Русс. Яз. и Слов. Ими. Ак. И. т. LXVII, № 9,
1901 г. стр. 32 сл. прим. 25), позднѣе — Сергѣй Бобровъ
(„Новое о стихосложеніи Пушкина“, Москва 1915), Георгій
Шенгели („Трактатъ о русскомъ стихѣ“, часть I, изд. 2-е
1923, стр. 104 сл.), Б. А. Томашевскій („О стихѣ Пѣсенъ За
падныхъ Славянъ“, Аполлонъ 1916 и „Генезисъ Пѣсенъ За
падныхъ Славянъ“, Ашеней 1926, — обѣ статьи перепечатаны
въ книгѣ Б. А. Томашевскаго „О стихѣ“ 1929 стр. 63—93) и
Б. И. Ярхо („Свободныя звуковыя формы у Пушкина“, Сборн.
„Ars Poetica“ 1928 г. стр. 176 сл.).
Б. ф Томашевскій выяснилъ, что размѣръ, о которомъ
идетъ рѣчь, впервые былъ примѣненъ въ переводахъ серб
скихъ эпическихъ пѣсенъ не Пушкинымъ, а извѣстнымъ
славистомъ А. Востоковымъ, что Пушкинъ находился подъ
вліяніемъ теорій Востокова о метрикѣ народной поэзіи, и что
пробовать примѣнять вышеупомянутый размѣръ въ произве
32
деніяхъ фольклорнаго характера Пушкинъ началъ задолго
до „Пѣсенъ Западныхъ Славянъ“, при томъ несомнѣнно въ
связи съ востоковскими теоріями. Къ этому надо добавить,
что Востоковъ не самъ изобрѣлъ этотъ размѣръ, что раз
мѣръ этотъ и раньше примѣнялся въ русской литературѣ.
Между прочимъ, этимъ размѣромъ написана извѣстная сати
ра Сумарокова „Другой хоръ ко превратному свѣту“ 1). Яв
ляется-ли Сумароковъ и изобрѣтателемъ этого размѣра (что
при его вкусѣ къ метрическимъ экспериментамъ, отмѣчен
номъ Гуковскимъ, вполнѣ возможно), — объ этомъ пусть
судятъ знатоки русской поэзіи ХѴШ-го вѣка. Пока же можно
условно назвать интересующій насъ размѣръ „сумароковсковостоковскимъ вольнымъ стихомъ“, — чтобы не называть
его „стихомъ Пѣсенъ Западныхъ Славянъ“, ввиду двусмы
сленности и неточности этого термина.
Выясненію подлежитъ прежде всего природа интересу
ющаго насъ размѣра, а затѣмъ и вопросъ о томъ, почему
онъ былъ избранъ Востоковымъ и Пушкинымъ для пере
дачи (мнимыхъ или настоящихъ) сербскихъ эпическихъ пѣ
сенъ.
II
Опредѣленіе природы нашего размѣра зависитъ, конеч
но, отъ общихъ взглядовъ на русское стихосложеніе. Пред
лагавшіяся до сихъ поръ теоріи русской метрики подлежатъ
пересмотру съ точки зрѣнія современной структуральной
лингвистики, т. к. всѣ онѣ несвободны отъ нѣкоторыхъ
весьма существенныхъ методологическихъ недостатковъ. Од
нимъ изъ наиболѣе существенныхъ недостатковъ почти всѣхъ
этихъ теорій является недостаточно четкое разграниченіе ме
жду теоріей стихосложенія и теоріей стихопроизнесенія. Между
тѣмъ, стихосложеніе есть фактъ языка (langue, Sprachgebilde,
language), а стихопроизнесеніе — фактъ ргьчи (parole, Sprech
handlung, speech), — современная-же структуральная лингви
стика строжайшимъ образомъ разграничиваетъ языкъ и рѣчь.
Далѣе, въ большинствѣ теорій русскаго стихосложенія упу
скается изъ виду та весьма существенная особенность основ
ныхъ языковыхъ противопоставленій, надъ выясненіемъ ко
торой особенно потрудились современные „фонологи“, — а
именно привативный характеръ этихъ противопостав
леній.
Подъ привативнымъ противопоставленіемъ въ самомъ
общемъ смыслѣ мы разумѣемъ противопоставленіе присут
ствія какого нибудь признака отсутствію этого признака. Въ
извѣстныхъ отдѣлахъ языка (напр. въ морфологіи) господ') На это обратилъ наше вниманіе Р. О. Якобсонъ.
33
ствуетъ особый видъ привативныхъ противопоставленій: обя
зательность признака противопоставляется его необязатель
ности ’)• И вотъ этотъ-то видъ привативныхъ противопостав
леній играетъ рѣшающую роль въ метрикѣ (въ частности въ
русской). Утвержденіе, что „русское стихосложеніе основано
на чередованіи ударяемыхъ и безударныхъ слоговъ" — не
вполнѣ точно. На самомъ дѣлѣ, чередуются либо „обяза
тельно ударяемые“ слоги съ „необязательно ударяемыми“,
либо — „обязательно-безударные“ съ „необязательно безу
дарными“. Такъ напр. въ ямбѣ всѣ нечетные слоги обяза
тельно безударны, но четные слоги вовсе не непремѣнно
ударяемы: они лишь не обязательно безударны, т. е. могутъ
быть ударяемыми, но могутъ быть и неударяемыми.
Съ этой точки зрѣнія всѣ русскіе размѣры, примѣняв
шіеся въ началѣ ХІХ-го вѣка можно въ отношеніи стопного
строенія раздѣлить на три типа. Къ первому типу принад
лежатъ размѣры „двудольные“, въ которыхъ обязательно
безударные слоги повторяются черезъ промежутки въ одинъ
необязательно-безударный слогъ („ямбъ“, „хорей“). Ко вто
рому типу относятся размѣры „трехдольные“, въ которыхъ
обязательно-удяряглше слоги повторяются черезъ промежут
ки въ два необязательно-ударяемыхъ слога („дактиль“, „ана
пестъ“, „амфибрахій“). Наконецъ, къ третьему типу принад
лежатъ размѣры „вольные“, гдѣ промежутки между повто
ряющимися обязательно-ударяелшлш слогами заполняются не
постояннымъ числомъ необязательно-ударяемыхъ слоговъ.
Наиболѣе извѣстнымъ вольнымъ стихомъ начала ХІХ-го вѣка
былъ „гекзаметръ“, гдѣ, однако, между обязательно-ударяе
мыми слогами допускалось не меньше одного и не больше
двухъ необязательно-ударяемыхъ слоговъ, а между пред
послѣднимъ и послѣднимъ обязательно-ударяемыми слогами
непремѣнно должны были стоять два неударяемыхъ, — т. ч.
весь размѣръ сбивался на правильный „дактиль“. Но къ той
же группѣ вольныхъ размѣровъ принадлежалъ и интересую
щій насъ сумароковско-всстоковскій стихъ, гдѣ „вольность“
не была такъ сильно ограничена, какъ въ гекзаметрѣ: у Пу
шкина въ этомъ размѣрѣ число необязательно-ударяелшхь
слоговъ въ промежуткахъ между обязательно-удцряелшлщ
слогами колеблется отъ нуля до четырехъ, и только передъ
первымъ-обязательно-ударяемымъ слогомъ допускается отъ
нуля до двухъ необязательно-ударяемыхъ.
’) О привативныхъ противопоставленіяхъ см. нашу статью „Essai
d'une théorie des oppositions phonologiques ' въ Journal de PjycMo/og/eXXXlII;
примѣненіе этого понятія кь русской грамматикЬ см. статьи Р. О. Якоб
сона „Zur Struktur des russischen Verbums" въ Charisteria Guilelmo Mathesio
oblata (Praha 1932) и „Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre" въ Travaux du
Cercle Linguistique de Prague, t. V.
3
34
Кромѣ стопного строенія русскіе стихи характеризуются
концовкой, состоящей всегда изъ одного обязательно-ударяе
маго слога, за которымъ могутъ еще слѣдовать одинъ или
два обязательно-безударныхъ слога. Такимъ образомъ, въ
отношеніи концовки, русскіе стихи ХІХ-го вѣка могутъ быть
раздѣлены на три типа — на стихи съ односложной, съ дву
сложной и съ трехсложной концовкой (т. е. съ „мужскими“,
„женскими“ и „дактилическими“ окончаніями). Это дѣленіе
не имѣетъ ничего общаго съ дѣленіемъ размѣровъ на дву
дольные, трехдольные и вольные, т. к. тотъ или иной типъ
концовки не связанъ съ тѣмъ или инымъ типомъ стопнаго
строенія стиха: напр. двудольный размѣръ можетъ сочетаться
съ трехсложной концовкой („Въ минуту жизни трудную“),
трехдольный — съ односложной („По небу полуночи ангелъ
летѣлъ“) и т. д. Важно только, чтобы обязательно-ударяе
мый слогъ концовки совпадалъ съ послѣднимъ обязательно
ударяемымъ или необязательно-безударнымъ слогомъ дан
наго стиха. — Въ отношеніи концовки сумароковско-востоковскій вольный стихъ принадлежитъ къ типу стиховъ съ
двусложной концовкой.
Наконецъ, третьимъ признакомъ, важнымъ для класси
фикаціи русскихъ размѣровъ ХІХ-го вѣка является число
„стопъ“, т. е. число повторяемыхъ обязательныхъ ритмиче
скихъ величинъ. Въ этомъ отношеніи размѣры дѣлятся на
двухъ, — трехъ, — четырехъ, — пяти, — и шестистопные.
При этомъ надо имѣть въ виду именно только обязательноповторяемые величины. Такъ, четырехстопный ямбъ вовсе
не есть стихъ о четырехъ удареніяхъ, ибо обязательно-повто
ряемой величиной въ русскомъ ямбѣ является не ударяемый,
а безударный слогъ. Поэтому, въ четырехстопномъ ямбѣ
должно быть не меньше четырехъ безуданныхъ слоговъ, —
но можетъ быть и больше, т. к. нѣкоторые изъ необяза
тельно-безударныхъ слоговъ, заполняющихъ промежутки ме
жду обязательно-безударными, могутъ быть сами безудар
ными. Въ этомъ смыслѣ сумароковско-востоковскій вольный
стихъ является трехстопнымъ.
Итакъ, съ точки зрѣнія русской метрики ХІХ-го вѣка
стихъ „Пѣсенъ Западныхъ Славянъ“ и „Сказки о рыбакѣ и
рыбкѣ“ слѣдуетъ опредѣлить, какъ трехстопный вольный
сшихъ съ двусложной концовкой.
Ill
Правда, Б. fi. Томашевскій сомнѣвается въ трехстопности нашего размѣра, ссылаясь на стихи вродѣ „Сынъ бѣ
гомъ въ пещеру воротился“ или „Какъ услышала то моло
дая Павлиха“, въ которыхъ не три, а четыре ударенія. Но
сомнѣнія эти неосновательны, ибо промежутки между тремя
35
’обязательно-ударяемыми слогами согласно нашей схемѣ за
полняются не одними безударными, а лишь необязательно ударяемыми слогами, среди которыхъ могутъ быть и факти
чески ударяемые. Требовать, чтобы въ стихѣ „Пѣсенъ За
падныхъ Славянъ“ было не болгье трехъ удареній, методо
логически также неправильно, какъ требовать, чтобы въ че
тырехстопномъ ямбѣ было не болѣе четырехъ неударяемыхъ
слоговъ.
Методологически неправильными являются также и по
пытки нѣкоторыхъ изслѣдователей свести „стихъ Пѣсенъ
Западныхъ Славянъ“ къ хорею или анапесту. Такъ, Георгій
Шенгели, установивъ, что 63% всѣхъ стиховъ „Пѣсенъ“
имѣютъ десять слоговъ, разсуждаетъ слѣдующимъ образомъ:
„Десятисложный стихъ съ женскимъ окончаніемъ можетъ
быть построенъ въ видѣ, либо пятистопнаго хорея, либо
трехстопнаго анапеста. Одинъ изъ этихъ размѣровъ долженъ
быть доминантой. Ввиду того, что постоянный метръ произ
веденій сербска о э.юса есть стихъ весьма близкій къ пяти
стопному русскому хорею (?), а priori предполагаемъ, что
именно послѣдній и являетса доминантой“ (Георгій Шенгели
„Трактатъ о русскомъ стихѣ“1 ч. I изд. 2-е стр. 105). Послѣ
этого „апріорнаго“ умозаключенія, авторъ указываетъ разные
пріемы чтенія, при помощи которыхъ разные „неправильные“
стихи „Пѣсенъ Западныхъ Славянъ“ создаютъ акустическую
иллюзію пятистопнаго хорея. Методологически ошибочно
здѣсь, во-первыхъ, совершенно неосновательное предубѣжде
ніе, будто всякій „вольный“ размѣръ непремѣнно долженъ
имѣть какую то „доминанту“, т. е. долженъ быть лишь ва
ріаціей одного изъ опредѣленныхъ размѣровъ, а во-вторыхъ,
— перенесеніе центра тяжести проблемы изъ области стихо
сложенія въ область стихопроизнесенія. Тѣ же двѣ методо
логическія ошибки приходится отмѣтить въ ранней статьѣ
Б. Ö- Томашевскаго „О стихѣ Пѣсенъ Западныхъ Славянъ“
(Аполлонъ 1916 = „О стихѣ“ стр. 53—76) и въ разсужде
ніяхъ Сергѣя Боброва о „Трехдольномъ паузникѣ у Пушкина“.
Стихосложеніе и стихопроизнесеніе — двѣ вещи разныя.
„Паузы“, „тріоли“ и „квинтоли“ существуютъ въ музыкѣ;
съ извѣстной натяжкой ихъ можно найти и въ рѣчи (pa
role), но въ языкѣ (langue) ихъ нѣтъ. А метръ состоитъ
только изъ элементовъ языка. Сущность всякаго „свобод
наго“ метра, — поскольку онъ существуетъ наряду съ „не
свободными" метрами, — заключается именно въ его несо
впаденіи ни съ однимъ изъ опредѣленныхъ (несвободныхъ)
метровъ, въ сознательномъ отталкиваніи отъ этихъ ме
тровъ. Стараться путемъ разныхъ „леймъ“, „паузъ“, „тріо
лей“ и „квинтолей“ втиснуть свободный метръ въ рамки не
свободнаго, отожествить его съ однимъ изъ двудольныхъ
или трехдо тьныхъ размѣровъ, — значитъ не понимать ни
36
его эстетической функціи, ни художественнаго намѣренія:
пользующагося этимъ метромъ поэта.
Для Пушкина вольный сумароковско востоковскій раз
мѣръ имѣлъ, конечно, прелесть именно, какъ контрастъ съ
обычными двухдольными и трехдольными размѣрами. Въ томъ
процессѣ, который Б. М. Эйхенбаумъ такъ удачно обозна
чилъ „Путь Пушкина къ прозѣ“ (Пушкинский Зборник па
мяти профессора С. А. Венгерова, 1923 стр. 59 — 74), проти
вопоставленіе вольнаго стиха ямбу и хорею является вполнѣ
естественнымъ. И не случайно, что при этомъ выборъ Пуш
кина остановился не на гекзаметрѣ, а наиболѣе „вольномъ“
изъ всѣхъ вольныхъ размѣровъ русской поэзіи его времени.
Но, въ то же время, вольный сумароковско-востоковскій
стихъ, повидимому заинтересовалъ Пушкина и какъ чисто
техническая проблема. Отъ поэта требовалось извѣстное
искусство, чтобы этотъ стихъ, сохраняя всю свою „воль
ность“, въ то же время все же оставался стихомъ, а не ста
новился прозой.
Какъ Пушкинъ разрѣшилъ эту техническую задачу, —
показываетъ предпринятое Б. И. Ярхо сопоставленіе его сти
ха „Пѣсенъ Западныхъ Славянъ“ со стихами востоковскихъ
переводовъ сербскихъ пѣсенъ. „Такъ какъ ритмическое чутье
у Пушкина было, очевидно, острѣе, чѣмъ у Востокова, то
онъ, даже не зная сербскаго текста, понялъ, что стихи Во
стокова слишкомъ прозаичны, что и при проведеніи нерав
номѣрнаго распредѣленія удареній, необходима была болѣе
прочная силлабическая сдержка“ (Б. И. Ярхо „Свободные
звуковые формы у Пушкина“, Ars Poetica, сборникъ статей
подъ ред. М. А. Петровскаго и Б. И. Ярхо 1928, стр. 179).
Въ результатѣ, хотя общее число слоговъ въ стихѣ, какъ въ
„Пѣсняхъ Западныхъ Славянъ“ Пушкина, такъ и въ
переводахъ Востокова, колеблется между 8 и 13, но у Пуш
кина десятисложные стихи составляютъ 62,8°/0, тогда какъ
у Востокова они составляютъ лишь 42,1% 1).
Въ то же время, принципъ неравномѣрности распредѣ
ленія удареній внутри стиха былъ нетолько сохраненъ Пуш
кинымъ, но и нарочито подчеркнутъ. Сознавая, что русскій
читатель, привыкшій въ огромномъ большинствѣ стихотво
реній встрѣчать однообразные двудольные или трехдольные
метры, невольно ищетъ такого однообразія во всякомъ но’) Къ этимъ цифрамъ, приводимымъ Б. И. Ярхо любопытно доба
вить статистическія данныя о томъ же метрѣ въ стихотвореніи Сумарокова
.Другой хоръ къ превратному свѣту*. Амплитуда колебанія числа слоговъ
у Сумарокова гораздо меньше, чѣмъ у Востокова и у Пушкина: имѣются
стихи только восьмисложные (18,7 '/0), дев писложные (41,7%) и десятислож
ные (39,6%). Колебаніе въ распредѣленіи удареній тоже менѣе значительно
чѣмъ у Пушкина.
37
вомъ стихотвореніи, Пушкинъ въ своихъ „Пѣсняхъ Запад
ныхъ Славянъ“ нарочно „сбиваетъ“ читателя, подавая ему
то правильные двудольные, то правильно трехдольные раз
мѣры въ перемежку со стихами совершенно „неправильны
ми“. Такимъ образомъ, ощущеніе стиха все время поддер
живается, но ритмической инерціи не образуется. Въ этомъ
то, повидимому, и заключалась цѣль Пушкина.
IV
Перехожу къ вопросу о томъ, почему Пушкиъ вслѣдъ
за Востоковымъ выбралъ для перевода (настоящихъ или
мнимыхъ) сербскихъ пѣсенъ и для подражанія имъ именно
вышеуказанный вольный размѣръ.
Какъ извѣстно, Востоковъ въ предисловіи къ своимъ
переводамъ сербскихъ эпическихъ пѣсенъ („Сѣверные Цвѣ
ты“ 1825 стр. 337) писалъ: „Въ сербскомъ подлинникѣ раз
мѣръ хореическій пятистопный съ пересѣченіемъ на второй
стопѣ. Чтобы сохранить силу подлинника, переводчикъ не
счелъ за нужное рабски подражать сему размѣру, неупотре
бительному у насъ и для русскаго слуха можетъ быть нѣ
сколько утомительному. Онъ предпочелъ русскій размѣръ о
трехъ удареніяхъ съ хореическимъ окончаніемъ“ (не имѣя
подъ рукой „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“ цитирую по Б.
Тома
шевскому). Такимъ образомъ, Востоковымъ руководили два
стремленія: сохранить „силу подлинника“ и замѣнить не
обычный для русскаго слуха размѣръ чисто русскимъ.
Подъ „силой подлинника“, очевидно, слѣдуетъ пони
мать общее акустическое впечатлѣніе, производимое серб
скимъ эпическимъ размѣромъ („мужскимъ десетерцемъ“) на
русскаго читателя. Впечатлѣніе это, дѣйствительно, суще
ственно разнится отъ впечатлѣнія правильнаго пятистопнаго
хорея. Дѣло въ томъ, что сербскій размѣръ можетъ быть
названъ хореемъ лишь съ большими оговорками. На самомъ
дѣлѣ это — чисто силлабическій десятисложный стихъ съ
цезурой послѣ 4 го слога. За исключеніемъ 4-го и 10-го
слоговъ, которые всегда безударны (такъ какъ сербскій
языкъ не терпитъ ударенія на послѣднемъ слогѣ слова), всѣ
прочіе слоги могутъ быть и ударяемы, и безударны, и толь
ко статистика показываетъ, что на нечетные слоги удареніе
падаетъ чаще, чѣмъ на четные (ср. R. Jakobson „Zum Vers
bau der serbokroatischen Volksepos“ въ Archives Néerlandaises
de Phonétique Experimentale VIIIIX, 1933). Русскій слухъ съ
трудомъ улавливаетъ эту тенденцію, тѣмъ болѣе, что въ серб
скомъ языкѣ есть два вида ударенія, — восходящее и нис
ходящее, — изъ которыхъ одно (именно восходящее) для
русскаго слуха мало ощутимо, т. ч. русскій часто затрудня
ется сказать, является ли данный слогъ сербскаго слова уда
38
ряемымъ или безударнымъ. Все это осложняется еще тѣмъобстоятельствомъ, что русскіе привыкли къ растягиванію
ударяемыхъ гласныхъ, т. ч. всякій ударяемый слогъ для
русскаго долженъ быть нетолько громче, но и длиннѣе вся
каго неударяемаго. Въ сербскомъ же языкѣ длина гласныхъ
совершенно независима отъ ихъ ударяемости или безудар
ности; наряду съ долгими ударяемыми слогами встрѣчаются
и краткіе ударяемые и, — что для русскаго особенно не
привычно, — долгіе („растянутые“) неударяемыя гласныя.
Такимъ образомъ, когда русскому приходится слушать серб
скій эпическій стихъ въ произношеніи настоящаго серба, онъ
никакого „хорея“ не воспринимаетъ, а слышитъ лишь совер
шенно произвольное или безпорядочное распредѣленіе уда
реній.
Востоковъ, несомнѣнно, слышалъ эпическій десетерацъ
въ призношеніи природныхъ сербовъ. Вполнѣ возможно, что
и Пушкинъ тоже. Но, даже еслибы Пушкинъ никогда не
слыхалъ, какъ настоящіе сербы произносятъ свои эпическіе
стихи, — онъ все же долженъ былъ бы воспринимать серб
скій десетерацъ, какъ безпорядочное чередованіе ударяемыхъ
и неударяемыхъ слоговъ: ибо при чтеніи сербскихъ эпическихъ
пѣсенъ съ „русскимъ“ удареніемъ, нельзя получить никако
го правильнаго „размѣра“. Но въ то же время, и при на
стоящемъ „сербскомъ“ чтеніи, и при чтеніи съ русскимъ
удареніемъ, сербскіе эпическія пѣсни все же производятъ
на русскаго слушателя какое то ритмическое впечатлѣніе. И
вотъ это то сочетаніе впечатлѣнія ритмичности съ впечатлѣ
ніемъ безпорядочнаго распредѣленія удареній и было той
„силой подлинника“, которую Востоковъ (а за нимъ и Пуш
кинъ), хотѣлъ сохранить въ переводѣ.
Для человѣка, воспитаннаго въ русской стиховой куль
турѣ конца ХѴШ-го и начала ХІХ-го вѣка, стихъ представ
лялся, какъ какое то чередованіе обязательно-безударныхъ
съ необязательно-безударными. При такихъ условіяхъ серб
скій эпическій стихъ могъ быть истолкованъ, только какъ
стихъ, въ которомъ промежутки между обязательно уда
ряемыми слогами были заполнены неодинаковымъ числомъ
необязательно-ударяемыхъ слоговъ. Что же касается до окон
чанія стиха, то въ этомъ отношеніи непремѣнно должно
быть проведено извѣстное однообразіе, ибо русскій начала
ХІХ-го вѣка вообще не могъ себѣ представить стиха безъ
опредѣленной концовки. А такъ какъ сербскій языкъ не до
пускаетъ ударенія на послѣднемъ слогѣ слова, то русскіе
стихи съ односложной концовкой (т. е. съ „мужскимъ“ окон
чаніемъ) очевидно не годились для передачи сербскаго эпи
ческаго размѣра. Оставалось выбирать между стихами съ
двусложной и стихами трехсложной концовкой. Но длинныя
стихотворенія съ исключительно трехсложными концовками
39
въ русской поэзіи начала ХІХ-го вѣка не были популярны. Къ
тому же, Востоковъ считалъ сербскій эпическій стихъ хоре
емъ, а Пушкинъ въ этомъ вопросѣ, разумѣется, долженъ
былъ принимать на вѣру сужденіе такого авторитета, какъ
Востоковъ. Поэтому, совершенно естественно, что для пе
редачи сербскаго эпическаго стиха былъ выбранъ именно
вольный стихъ съ „хореическимъ“ (или „женскимъ“) окон
чаніемъ, — т. е. съ двусложной концовкой. Размѣръ этотъ
лучше всего передавалъ общее впечатлѣніе, производимое
сербскимъ десетерцемъ на русскій слухъ.
V
Что такое стремленіе передать акустическое впечатлѣ
ніе, производимое сербскимъ стихомъ, у Пушкина, дѣйстви
тельно, существовало, явствуетъ изъ сличенія текста пуш
кинской пѣсни „Братья и Сестра“ съ ея сербскимъ ориги
наломъ (Вук Ст. Караций „Српске народне щесме“ И № 5).
Стихъ 96 сербской пѣсни заключаетъ въ себѣ внутреннюю
рифму:
Очи пщу, у траву се крщу
Пушкинъ перевелъ этотъ стихъ неточно, но тоже съ внутрен
ней рифмой:
Пьетъ ей очи, самъ уходитъ къ ночи.
Первые стихи сербской пѣсни гласятъ:
Два су бора напоредо расла
меіэу гьима танковерха )ела.
Слово „боръ“ по сербски значитъ „сосна“, и по русски не
удобно было бы перевести его точно, такъ какъ важно бы
ло противоставить два дерева мужского рода одному жен
скому. Пушкинъ замѣнилъ сосны дубами:
Два дубочка выростали рядомъ,
но при этомъ сохранилъ послѣдовательность гласныхъ а-у 6 а
(два дубочка) сербскаго оригинала (два су бора), да при
томъ еще такъ, что передъ ударяемыъ о, какъ и въ серб
скомъ оригиналѣ, оказалось о. Въ сербскихъ пѣсняхъ очень
часто встрѣчаются аллитераціи. Въ частности въ пѣснѣ, по
служившей оригиналомъ для пушкинской „Братья и Сестра“
одна четверть всѣхъ стиховъ заключаетъ въ себѣ аллитера
цію. При переводѣ Пушкинъ въ цѣломъ рядѣ случаевъ сох
ранилъ эту особенность. Въ нѣкорыхъ изъ такихъ случаевъ
можно объяснить это случайностью:
40
Караджичъ-. Hajnoc.iHje ноже оковане
Пушкинъ-. Напослѣдокъ ей ножъ подарили
Караджичъ-. Завидила CBojoj заовици
Пушкинъ-. На золовку стало ей завидно
Караджичъ: Те заклала сивога сокола
Пушкинъ: Сивога сокола тамъ заколола
Караджичъ: Ъе je од іье каіьъа крви пала
Пушкинъ: Гдѣ попала капля ея крови
Караджичъ: Кад су били близу б^еле цркве
Пушкинъ: И какъ были они уже близко
Караджичъ: То je Павле лубу послушао
Пушкинъ: Своей любы послушался Павелъ
Караджичъ: Па говори своме господару
Пушкинъ: Говоритъ она своему господину.
Здѣсь всюду русскіе слова просто соотвѣтствуютъ сербскимъ
по значенію и по звуку. Но есть случаи, когда Пушкинъ
выбралъ русскіе слова, несозвучные со сербскими, и тѣмъ
не менѣе ввелъ въ свой стихъ аллитерацію:
Караджичъ: И мене су брака миловала
Пушкинъ: И меня братья мои любили
Караджичъ: Па говори своме господару
Пушкинъ: И сказала своему господину
Караджичъ: То не била два бора зелена
Пушкинъ: Не два дуба рядомъ выростали
Караджичъ: Она оде коіьима на ливада ’)
Пушкинъ: Вотъ пошла Павлиха къ водопою
Караджичъ: Она оде nohy у градину
Пушкинъ: Вотъ пошла Павлиха въ садъ зеленый
Караджичъ: Она оде вече по вечеру
Пушкинъ: Вотъ Павлиха по вечеру поздо
Караджичъ: Ал join сестра у душеку спава
Пушкинъ: На перинѣ Елица почивала
Караджичъ: Па их одби низ пол>е широко
Пушкинъ: И погналъ ихъ по чистому полю
Караджичъ: На колевци соко тица сива
Пушкинъ: На той люлькѣ сидитъ соколъ птица.
Если значительная часть аллитерацій сербскаго оригинала не
’) Не зная сербскаго языка и переводя сербскіе слова лишь по соз
вучію съ русскими, Пушкинъ не понялъ снова .ливада" (кот. по-сербски
значитъ „лугъ“) и рѣшилъ, что о.чо означаетъ мѣсто, гдѣ лошадямъ на
ливаютъ воду для питья, т. е. водопой.
41
нашла себѣ отраженія въ пушкинскомъ переводѣ, то съ дру
гой стороны въ этомъ переводѣ есть цѣлый рядъ стиховъ
съ аллитераціей не имѣющихъ соотвѣтствія въ сербскомъ
оригиналѣ:
Сестру братья любили всѣмъ
сердцемъ.
И въ саду сокола заколола.
Не знаешь-ли ты зелія такого.
Да за что ты зарѣзала ре
бенка.
Я не знаю зелія такого.
Разорвутъ на четыре части.
Самъ себѣ на зло сестру ты
любишь.
Прошло мало послѣ того
время.
Въ ту пору братъ сестрѣ по
вѣрилъ.
За конемъ золоченая люль
ка.
И въ ту пору братъ сестрѣ
повѣрилъ.
Лежитъ вт> люлькѣ малень
кій мальчикъ.
Въ ту пору братъ сестрѣ не
повѣрилъ.
Коли-жъ ты не вѣришь моей
клятвѣ.
Въ результатѣ процентъ стиховъ съ аллитераціей въ пуш
кинскомъ переводѣ даже нѣсколько больше (31%) чѣмъ въ
сербскомъ оригиналѣ’).
Все это указываетъ на то, что передача общаго впе
чатлѣнія, производимаго на русскій слухъ сербскимъ эпиче
скимъ стихомъ, несомнѣнно, входила въ намѣренія Пушки
на. И эго то и поб/дилэ его избрать для большинства „Пѣсенъ Западныхъ Славянъ“ описанный выше вольный раз
мѣръ, рекомендованный Востоковымъ.
’) Сстявлгемъ въ сторонѣ тѣ случаи, гдѣ аллитераціи сербскаго ори
гинала въ пушкинскомъ переводѣ соогвѣтствуеть звуковой повторъ, не
связанный съ началом:, слова (Ije je она сама собом пала — Гдѣ осталось
ея бѣлое тѣло). Русскій слухъ реагируетъ на звуковые повторы иначе,
чѣмъ сербскій. Въ сербскомъ язык b начало слова играетъ гораздо бол be
важную роль, чѣмъ въ русскомъ, и потому повторъ въ началѣ слова (т.
е. аллитерація) по сербски гораздо ошутительні е, чѣмъ въ русскомъ. На
оборотъ въ русскомъ языкѣ звуковые повторы особенно ощутимы въ не
посредствен юй близости кь ударенію, — что сербскому языку совершен
но чуждо.
42
VI
Но, помимо этой причины, была и другая. Какъ Восто
ковъ, такъ и Пушкинъ, считали описанный выше размѣръ
русскимъ народнымъ размѣромъ и полагали, что сербскую
народную поэзію слѣдуетъ переводить средствами русской
народной же поэзіи.
Пушкинъ не имѣлъ вполнѣ отчетливаго представленія
о степени различія отдѣльныхъ славянскихъ поэзій. Народ
ныя поэзіи разныхъ славянскихъ народовъ представлялись
ему, какъ разновидности одной поэзіи. Индивидуальные раз
личія этихъ поэзій казались ему незначительными, а такъ
какъ изъ всѣхъ славянскихъ народныхъ поэзій онъ хорошо
зналъ одну лишь великорусскую, то всѣ прочія „сливались“
для него въ одномъ „русскомъ морѣ“. НеѴолько въ пере
водахъ изъ Мериме и въ самостоятельныхъ стихотворені
яхъ вродѣ „Яныша Королевича“ (гдѣ „чешская королевна
Любуса“ уживается съ сербской „Вилой“), но и въ перево
дахъ съ сербскаго Пушкинъ широко пользовался привыч
ными оборотами русской народной поэзіи, вводилъ тради
ціонные русскіе эпитеты тамъ, гдѣ по сербски эпитетовъ
вовсе не было („садъ зеленый“, „коней борзыхъ“, „бѣлое
тѣло’) или замѣнялъ сербскій традиціонный эпитетъ рус
скимъ („чистое поле“ вмѣсто серб, „широко поле“).
Какъ далеко Пушкинъ шелъ въ этомъ направленіи, по
казываетъ сличеніе его „Соловья“ съ сербскимъ оригина
ломъ, — съ пѣснью въ сборникѣ Караджича (Српске народне njecMe, ч. I № 542). Въ прозаическомъ переводѣ эта
сербская пѣснь гласитъ такъ: „Соловей, маленькая птичка,
всѣмъ дала покой, а во мнѣ, молодцѣ, вызвала три печали:
первая печаль въ моемъ сердечкѣ, — что мать меня моло
дого не женила; вторая печаль въ моемъ сердечкѣ. — что
мой вороной конекъ подо мной не пляшетъ; третья печаль,
ахъ! у меня на сердцѣ, — что моя дорогая на меня прогнѣ
валась. — Копайте мнѣ могилу въ широкомъ полѣ, (могилу)
въ три копья шириною, въ четыре длиною; въ головахъ у
меня посадите розу, въ ногахъ у меня проведите воду: прой
детъ кто-нибудь молодой, — пусть украситъ себя розой,
пройдетъ кто нибудь старый, — пусть утолитъ свою жаж
ду“. Пушкинъ-же перевелъ эту пѣснь такъ:
Соловей мой, соловейко!
Птица малая лѣсная!
У тебя-ль у малой птицы,
Неизмѣнныя три пѣсни;
У меня-ли у молодца,
Три великія заботы.
Какъ ужъ первая забота —
43
Рано молодца женили;
А вторая-то забота —
Воронъ конь мой притомился;
Какъ ужъ третья то забота —
Красну дѣвицу со мною
Разлучили злые люди.
Выкопайте мнѣ могилу
Во полѣ, полѣ широкомъ,
Въ головахъ мнѣ посадите
Алы цвѣтики — цвѣточки,
А въ ногахъ мнѣ проведите
Чисту воду ключевую.
Пройдутъ мимо красны дѣвки
Такъ сплетутъ себѣ вѣночки,
Пройдутъ мимо стары люди,
Такъ воды себѣ зачерпнутъ.
Эго не просто перезодъ, а полная русификація серб
ской пѣсни. Несмотря на сохраненіе нѣкоторыхъ традиціон
ныхъ эпитетовъ сербской поэзіи („вороной конь“ вм. русск.
„добрый конь“, „широкое поле“ вм. русск. „чистое поле“),
сербскій колоритъ пѣсни совершенно утраченъ, и, если-бы
не подзаголовокъ „Изъ Вука Стефановича“, можно-бы поду
мать, что это стихотвореніе есть подражаніе русской народ
ной пѣснѣ. Народный русскій колоритъ для Пушкина замѣ
щалъ собою всякій „славянскій“ колоритъ. „Сказку о ры
бакѣ и рыбкѣ“ мы воспринимаемъ, какъ русскую народную
„по духу“ (несмотря на то, что, какъ показало изслѣдованіе
М. Азадовскаго, содержаніе ея взято вовсе не изъ русскаго
фольклора); но самъ Пушкинъ первоначально намѣревался,
повидимому, включить ее въ „Пѣсни Западныхъ Славянъ“, и
въ рукописи она носила заголовокъ „ХѴПі-я пѣсня сербская“.
При такихъ условіяхъ, не подлежитъ сомнѣнію, что въ
намѣренія Пушкина могъ входить переводъ сербскихъ пѣсенъ русскимъ народнымъ размѣромъ. А что на вышеопи
санный сумароковско востоковскій гольный стихъ Пушкинъ
смотрѣлъ именно, какъ на размѣръ русской народной поэзіи,
— объ этомъ свидѣтельствуютъ тѣ стихотворные отрывки,
которые онъ написалъ этимъ размѣромъ, и перечень кото
рыхъ данъ Б.
Томашевскимъ въ статьѣ „Генезисъ Пѣсенъ
Западныхъ Славянъ“ (Айіеней 1926= „О стихѣ“ стр. 77 слл.).
Всѣ они и по формѣ, и по содержанію являются подраженіямн
русской народней поэзіи. Одинъ изъ нихъ включенъ былъ
Пушкинымъ въ число „Пѣсенъ о Стенькѣ Разинѣ“, другой
находится среди пѣсенъ, переданныхъ Пушкинымъ Кирѣев
скому съ замѣчаніемъ „разберите-ка, которыя поетъ народъ,
44
и которыя смастерилъ я самъ“х). Представленіе о „народ
ности“ трехстопнаго вольнаго стиха съ неопредѣленнымъ
числомъ слоговъ и съ двусложной концовкой восходитъ къ
тому-же Востокову, взгляды котораго на русскую народную
метоику были приняты Пушкинымъ, какъ на это указалъ
Б. & Томашевскій*
2).
‘подводя итогъ, можно сказать, что выборъ вольнаго сумароковско-востоковскаго стиха для передачи ра шѣра сербскихъ
эпическихъ пѣсенъ опредѣляется двумя обстоятельствами:
тѣмъ, что сербскій эпическій размѣръ русскимъ слухомъ вос
принимался, какъ стихъ, въ которомъ промежутки между
ударяемыми слогами заполнены неодинаковымъ числомъ бе
зударныхъ слоговъ; и тѣмъ, что сумароковско-востоковскій
вольный стихъ, обладавшій тѣмъ-же признакомъ неодинако
вости числа безударныхъ слоговъ, считался „русскимъ на
роднымъ повѣствовательнымъ стихомъ“.
Вѣна.
’) Къ перечню Б
Томашевскаго можетъ быть сьѣдуетъ прибавить
еще два стиха, помѣщенные въ видЬ эпиграфа къ 5-й главѣ .Капитанской
Дочки*:
Буде лучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, воспомянешь,
если только эти стихи не взяты дѣйствительно изъ народной пѣсни. Ср. Ф.
Е. Коршъ „О русскомъ народномъ стихосложеніи* Сборн. Отд. Рус.
Я з. и С л о в. И м п. А к. Н. 67, № 9 стр. 34.
2) Вопросъ о томъ, насколько взгляды Востокова и Пушкина на рус
скую народную метрику были правильны, выходитъ за предѣлы настоящей
статьи.
А. В. Соловьевъ.
Югославянскія темы въ произведеніяхъ Пушкина.
Интересъ Пушкина къ славянамъ проснулся не сразу,
онъ развивался постепенно, но все углубляясь и усиливаясь.
Юные годы Пушкина совпадаютъ съ началомъ русскаго
славяновѣдѣнія. Вспомнимъ вызовъ славянскихъ ученыхъ въ
Харьковѣ въ 1804 г., славянскія путешествія Тургенева и Кай
сарова въ 1805, записки Броневскаго о походѣ въ Далмацію
и о Черногоріи (написанныя въ 1806 г.), знакомство адми
рала Шишкова съ аббатомъ Добровскимъ въ Прагѣ въ 1813
г., связи Россійской Академіи и кружка графа Н. П. Румян
цева съ чешскими славистами, руссофильство польскихъ уче
ныхъ И. Раковецкаго, В. Мацѣёвскаго и 3. Ходаковскаго.
Все это звенья одного и того же сильнаго движенія,
питавшагося различными источниками — и патріотическимъ
изученіемъ русскаго и славянскаго прошлаго, и общимъ ро
мантическимъ подъемомъ національнаго чувства въ Европѣ,
и побѣдами и походами русскихъ войскъ заграницей, вызвав
шими у западныхъ и южныхъ славянъ чувство кровнаго
единства съ великой Россіей.
Но не слѣдуетъ преувеличивать вліяній этого движенія
на юнаго Пушкина. Царскосельскій лицеистъ, затѣмъ петер
бургскій юный либералъ, былъ достаточно далекъ отъ него.
Воспитанный въ духѣ вольтеріанства и французскаго либе
рализма, Пушкинъ даже отталкивался отъ тогдашнихъ „сла
вянофиловъ“ ’), поскольку имѣлъ съ ними дѣло на почвѣ
русской литературы. Тогдашніе славянолюбы группировались
въ Петроградѣ около адмирала А. С. Шишкова, въ Москвѣ
около канцлера Н. П. Румянцова. Съ московскимъ кружкомъ
молодой Пушкинъ не имѣлъ никакихъ связей, а въ Петер
бургѣ Шишковъ былъ для него прежде всего смѣшнымъ и
вреднымъ самоучкой-филологомъ, не понимавшимъ разницы
между церковно-славянскимъ и русскимъ языкомъ. И адми
ралъ Шишковъ и его „Бесѣда любителей россійской сло’) Кн. II. А. Вяземскій утверждаетъ, что слово „славянофилъ“, какъ
насмѣшливая кличка, „на смѣхъ было пущено“ въ оборотъ острословомъ
Вас. Л. Пушкинымъ, дядею поэта, въ шуточной поэмѣ „Опасный сосѣдъ"-
46
весности“ и ихъ „славянофильство“ — служили мишенью
для насмѣшекъ Пушкина1) и передового кружка „Арзамасъ“.
Можно лишь отчасти согласиться съ мнѣніемъ Пл. Кулаковскаго, считавшаго, что на юнаго Пушкина могли подѣй
ствовать въ слыслѣ пробужденія симпатій къ сербамъ и прі
ѣздъ Карагеоргія въ Петербургъ въ 1816 г. и пріѣздъ Вука
Караджича въ Россію въ 18192*). Доказательствъ для этого
нѣтъ; можетъ быть, эти пріѣзды прошли безслѣдно для Пу
шкина, охваченнаго иными настроеніями и иными темами.
Впрочемъ, извѣстія о сербахъ приходили и въ стѣны
Царскосельскаго Лицея. Можемъ отмѣтить, что другъ Пу
шкина, Илличевскій написалъ въ Лицеѣ стихотвореніе на тему
„Освобожденіе Бѣлграда“, сохранившееся до насъ съ от
мѣтками и поправками профессора II. Ѳ. Кошанскаго.
Карагеоргій былъ очень популяренъ въ Россіи. Барте
невъ свидѣтельствуетъ, что первыя мысли о славянахъ и ихъ
освобожденіи были внушены мальчику-Хомякову лубоч
ными портретами сербскаго вождя Георгія Чернаго, которые
попадались на каждой станціи на пути семейства Хомяко
выхъ изъ смоленской деревни въ Петербургъ въ началѣ
1815 года 8).
Но конечно пріѣздъ Вука Караджича, бывшаго го
стемъ адм. Шишкова, не могъ вызвать особаго интереса въ
юномъ авторѣ „Руслана и Людмилы“, — по крайней мѣрѣ
нѣтъ никакихъ данныхъ для того, чтобы это утверждать.
Несомнѣно однако, что переѣздъ Пушкина въ Кишиневъ
столкнулъ его впервые съ живыми представителями славян
ства — именно съ сербами и болгарами.
16 мая 1820 Пушкинъ прибылъ въ Екатеринославъ подъ
начальство г-л. И. Н. Инзова. Черезъ нѣсколько дней онъ
отправился въ долговременное путешествіе съ Раевскими по
Кавказу и Крыму, провелъ въ немъ четыре мѣсяца и только
21 сентября пріѣхалъ въ Кишиневъ, на службу въ „Попечи
тельный комитетъ о колонистахъ южнаго края“, къ Инзову,
назначенному намѣстникомъ Бессарабской области.
Извѣстно разноплеменное населеніе Бессарабіи. Кромѣ
коренныхъ жителей-молдаванъ и малороссовъ, въ ней посе
лено было множество разнообразныхъ колонистовъ, особен') „Но кто глупѣй изъ тройки злой? Шишковъ, Шихматовъ, Шахов
ской" (Эпиграмма Пушкина 1815 года).
2) „Еще въ Лицеѣ и въ родительскомь домѣ Пушкинъ могъ слышать
-плѣняющіе разсказы о героической борьбѣ Сербовъ, о подвигѣ суроваго
гайдука Карагеоргія, пріѣзжавшаго въ 1816 г. въ Петербургъ“. П. Кулаковскій, Славянскіе мотивы въ творчествѣ Пушкина. „Русскій Филол. Вѣст
никъ" XLII (1899), стр. 2.
8) А. С. Хомяковъ. Стихотворенія. Прага 1934, вступ. статья В. А.
Францева, стр. XV.
47
но болгаръ, оставались отъ турецкаго времени греки и ар
мяне, кочевали цыгане. Очень замѣтною была и группа эмигрантовъ-сербовъ. Послѣ катастрофы, постигшей Карагеоргія
въ 1813, и онъ самъ съ семьей и много сербскихъ главарей
и воиновъ переселились въ Бессарабію, гдѣ жили на ижди
веніи русскаго правительства. Въ распоряженіе Карагеоргія
былъ предоставленъ цѣлый дворецъ въ г. Хотинѣ.
Появленіе у власти Милоша Обреновича не могло при
звать этихъ эмигрантовъ въ Сербію. Гнусное убійство Кара
георгія въ 1817 г. агентами Милоша, посылка его головы
Милошемъ султану въ Царьградъ — вызвали въ средѣ этихъ
вѣрныхъ сторонниковъ храбраго Карагеоргія чувство злобы
и вражды къ хитрому Милошу, достигавшему власти не от
крытой борьбой, а подкупами, лестью и униженіемъ передъ
султаномъ.
Жизнь сербскихъ эмигрантовъ въ Бессарабіи не была
предметомъ изслѣдованія. Мы можемъ указать, что среди
нихъ были выдающіяся личности. Во-первыхъ^вся семья Ка
рагеоргія: его вдова Елена, его три дочери и два сына:
Алексѣй и Александръ. Они жили въ Хотинѣ. Въ Кишиневѣ
проживали (еще въ 1826 г.) бывшій бѣлградскій митрополитъ
Леонтій, архимандритъ Спир. Филиповичъ, полковникъ Я. Н.
Радичъ, подполк. П. Ф. Добрняцъ, бывшій комендантъ гор.
Шабца, Л Лазаревичъ, б. главный секретарь Карагеоргія, I.
Джюричъ, быв. комендантъ г. Смедерева В. Иличъ, б. вое
вода вальевскій Е. Ненадовичъ, вся семья наслѣдствен
наго старовлашскаго князя 1. Рашковича и цѣлый рядъ дру
гихъ сербовъ, изъ которыхъ нѣкоторые были на русской
службѣ1). Наконецъ въ» Кишиневѣ же съ 1819 по 182ожилъ
сербскій поэтъ Сима Милутиновичъ, писавшій въ это время
цѣлый рядъ историческихъ пѣсенъ изъ временъ сербскаго
возстанія, которыя онъ издалъ въ 1826 г. подъ общимъ име
немъ „Сербіанки“ (сперва онъ хотѣлъ ее назвать „Сербіадой“).
Въ этотъ городъ, полный выдающихся сербскихъ эми
грантовъ, пріѣхалъ Пушкинъ, чиновникъ „Попечительнаго
Комитета о колонистахъ“. И, по своимъ симпатіямъ къ осво
бодительнымъ движеніямъ, и прямо по службѣ, онъ долженъ
былъ встрѣчаться съ эмигрантами греками, сербами и болга
рами, изъ которыхъ многіе получали денежную помощь отъ
„Попечительнаго Комитета“ 2).
’) Заимствуемъ эти данныя изъ любопытнаго списка подписчиковъ
на „Сербіанку“ Милутиновича. Въ одномъ только Кишиневѣ сербы подпи
сались впередъ на 126 экземпляровъ этой книги, въ Аккерманѣ, Хотинѣ и
Измаилѣ — еще на 44 экз.
2) Мы видѣли офиціальную бумагу Бессарабскаго намЬсничества „Его
Превосходительству I'. Георгію Петровичу Черному“ сь извіщеніемъ, что
ему препровождается ежегодное пособіе въ 1000 голландскихъ червонцевъ,
а состоящимъ при немъ главарямъ ежегодное пособіе въ 52300 рублей. '
48
Сербскіе выходцы, имѣвшіе столько эпическихъ тради
цій, столько разсказовъ и пѣсенъ о борьбѣ Карагеоргія про
тивъ турокъ, особенно его привлекли. Къ сожалѣнію, мы
мало знаемъ о Кишиневской жизни Пушкина. Но въ запис
кахъ И. П. Липранди есть знаменательное показаніе: „Пу
шкинъ у меня часто встрѣчался съ сербскими воеводами,
жившими въ Кишиневѣ: Вучичемъ, Ненадовичемъ, Живковичемъ, съ двумя братьями Македонцами и другими, которые
доставляли мнѣ матеріалъ. Не помню, но какъ будто Пу
шкинъ бралъ нѣкоторыя замѣтки у меня. Отъ упомянутыхъ
воеводъ онъ собиралъ пѣсни и часто ихъ спрашивалъ при
мнѣ, что значатъ отдѣльныя слова, ради перевода. Короткое
время находился тутъ и Стойковичъ, профессоръ Харьков
скаго Университета, а онъ былъ сербъ. Съ Пушкинымъ онъ
видѣлся всего два раза, но ему ненпонравился“ ’).
Эти данныя указываютъ на частое общеніе Пушкина
съ сербскими выходцами въ 1820—1823. Конечно, оно могло
начаться не сразу, уже послѣ знакомства съ Липранди. Но
обратимъ вниманіе на слѣдующій фактъ. 21 сентября 1820 г.
Пушкинъ пріѣхалъ въ Кишиневъ, еще полный впечатлѣній
отъ Крыма и Кавказа, начатыхъ поэмъ, а 5 октября онъ пи
шетъ стихи „Дочери Чернаго Георга“ 2). Черезъ двѣ недѣли
послѣ пребыванія въ Кишиневѣ, его первое датированное
стихотвореніе посвящено не Раевской, не Крыму, не гречан
кѣ, не молдаванкѣ, а именно сербкѣ — дочери Карагеоргія.
Это фактъ знаменательный. Постараемся установить,
кто была эта дочь 3). Въ родословныхъ таблицахъ проф. Ал.
Ивича у вождя сербскаго народа Георгія Петровича (КараГеоргія) указаны жена Елена (| 1842), три дочери и два сына.
Старшая дочь Савка (f 1847) была съ 1807 года замужемъ
за Ант. Ристичемъ-Плякичемъ, умершимъ въ 1832 г. въ Бес
сарабіи; слѣдующая дочь Сарка (| 1852) была съ 1810 года
замужемъ за воеводой Николаемъ Карамарковичемъ, умер
шимъ въ 1816 г. въ Хотинѣ; у обѣихъ были сыновья, став
шіе въ 1842 г. адъютантами князя Александра Карагеоргіевича, послѣ его возвращенія изъ Бессарабіи на сербскій пре’) И. П. Липранди, впослѣдствіи писатель по военнымъ и историче
скимъ вопросамъ, былъ въ Кишиневѣ подполк. Якутскаго пѣх. полка. За
писки его напечатаны въ „Русскомъ Архивѣ“ за 1866 г.
=) Н. Лернеръ, А. С. Пушкинъ. Труды и дни. М. 1903, стр. 20.
£) Этого вопроса, кажется, никто не касался. Въ большомъ изданіи
соч. Пушкина Брокгауза-Ефрона (см. Il, стр. 553) въ примѣчаніи къ этому
стихотворенію П. Морозовъ говоритъ: „Семья сербскаго вождя долго еше
жила въ Хотинѣ, недалеко отъ Кишинева, но, какъ увѣряютъ И. П. Лип
ранди и А. Ф. Вельтманъ (Рус. Арх. 1866, стр. 1265 и Майковъ, Пушкинъ.
133) дочери Кара Георгія Пушкинъ никогда не видалъ“.
49
столъ1). Младшая дочь Стаменка (скончавшаяся въ 1875 г.)
была замужемъ за Димитріемъ Ристичемъ (ум. въ 1834 г.) и
вторымъ бракомъ за Ильей Чарапичемъ (f 1844). Затѣмъ уже
идутъ сыновья: Алексгъй, род. въ 1801 и умершій въ Киши
невѣ въ 1830 г. и Александръ, родившійся въ 1806 и бывшій
владѣтельнымъ сербскимъ княземъ въ 1842—1858; онъ же
нился въ 1830 г. въ Хотинѣ на Персидѣ, дочери Еврема Ненадовича 2). Годы рожденія дочерей къ сожалѣнію неизвѣстны.
Но по всему тону стихотворенія, оно должно было быть
обращено къ младшей изъ нихъ. Старшей дочери Карагеоргія въ 1820 г. было не меньше 30 лѣтъ, она была уже 13
лѣтъ замужемъ, у нея были дѣти; вторая дочь была вдовой
съ дѣтьми; только третья дочь Стаменка вѣроятно еще не
была замужемъ. Въ день встрѣчи съ Пушкинымъ ей было
20 лѣтъ или немного больше 3).
Судя по стихамъ, Пушкинъ обращается къ юному „сми
ренному, прекрасному“ существу. Дѣтство дочери Карагеоргія протекло во время военныхъ событій. „Онъ надъ твоей
невинной колыбелью убійства новаго обдумывалъ ударъ“.
„Тебя младенца онъ ласкалъ на пламенной груди окровавлен
ной“. Эти стихи должны относиться именно къ младшей до
чери Карагеоргія, бывшей еще ребенкомъ во время крова
вой борьбы съ турками 1804—1813 года.
Приведенныя нами данныя доказываютъ, какъ недосто
вѣрно показаніе Липранди: „Пушкинъ дочери Карагеоргія не
видалъ, да и въ это время она была еще малолѣтняя (!)“.
Липранди не былъ еще знакомъ съ Пушкинымъ въ первыя
двѣ недѣли его пріѣзда въ Кишиневъ. Что касается мало
лѣтства, то мы выяснили, что въ Бессарабіи было три до
чери Карагеоргія и всѣ онѣ были взрослыя (въ возрастѣ
отъ 20 до 30 лѣтъ).
Повторяемъ, стихи „дочери Чернаго Георга“—первые,
написанные въ Кишиневѣ По всему тону стихотворенія, оно
вызвано неожиданной встрѣчей, поразившей поэта, — съ
юной дѣвушкой, красавицей, дочерью недавно трагически по
гибшаго вождя сербскаго народа. Стихи: „А ты, прекрасная,
ты бурный вѣкъ отца смиренной жизнію предъ небомъ иску
пила“, указываютъ на живое впечатлѣніе отъ встрѣчи.
’) Была еще третья по старшинству дочь Пола, вышедшая замужъ за
воеводу I. Милановича и скончавшаяся въ 1812 году. Поэтому БантышъКаменскій совершенно правильно говоритъ: „У Чернаго Георга четыре до
чери, изъ которыхъ одна замужемъ за однймъ сербскимъ чиновникомъ, и
два сына“. Путешествіе ві> Молдавію, Валахію и Сербію. М. 1810, стр. 128.
2) Алекса Ивиѣ, Родословие таблице српских династиіа и властеле.
2-го изд. Београд 1922, табл. 14.
s) Ея младшій братъ Алексій родился въ 1801 году, слѣдовательно
она родилась въ 1800 году или нѣсколько раньше.
4
50
Гдѣ встрѣтился съ нею Пушкинъ? Очень можетъ быть, что
она пріѣхала съ матерью изъ Хотина въ Кишиневъ, можетъ
быть, по дѣламъ къ ген. Инзову1). Изъ стихотворенія вид
но, что Пушкинъ уже достаточно слыхалъ о Карагеоргіи, и
мимолетная встрѣча со смиренной красавицей, быв ней вѣро
ятно въ богатомъ восточномъ нарядѣ2), настолько поразила
егз, что не Раевскимъ, а ей посвятилъ онъ первое киши
невское стихотвореніе.
Изъ стихотворенія видно, что на Пушкина, начитавша
гося Байрона, задумавшаго „Кавказскаго плѣнника“ и „Бахчи
сарайскій фонтанъ“, произвела сильное впечатлѣніе юная дѣ
вушка, дочь борца за свободу, кругомъ котораго сплелись
■самыя мрачныя легенды. „Гроза луны, свободы воинъ“ Геор
гій Черный плѣнилъ Пушкина именно какъ байроническій
герой. Пушкинъ вѣроятно читалъ строки, посвященныя КараГеоргію въ путешествіи Н. Д. Бантыша-Каменскаго3), могъ
читать и замѣтку Свиньина въ „Отечественныхъ Запискахъ“
1818 г. Его особенно поразила легенда о томъ, что Карагеоргій, принесъ въ жертву своему патріотическому долгу
жизнь отца и брата4). Недаромъ этотъ высочайшій траги
ческій конфликтъ вдохновилъ Пушкина написать позднѣе
цѣлую пѣсню о Георгіи Черномъ, а затѣмъ (въ обратномъ
построеніи) составилъ центръ самаго романтическаго произ
веденія Гоголя —- „Тараса Бульбы“.
Итакъ, въ первыя же недѣли пребыванія въ Кишиневѣ
Пушкинъ проявилъ живой интересъ къ трагедіи сербскаго
возстанія и имѣлъ уже законченное представленіе о его ве
ликомъ вождѣ „сумрачномъ, ужасномъ до конца“. Поэтому
’) Приписка не-русской рукой „Kapa-Георуб“ надъ заглавіемъ
этихъ стиховъ въ черновикѣ знаменательна: она скорѣе всего сдѣлана мол
даваниномъ, не грекомъ (судя по неправильной орѳографіи). Можетъ-быть,
Пушкинъ встрѣтился съ красавицей у одного изъ румынскихъ бояръ.
2) Зажиточныя сербки всѣ одѣвались „довольно богато, по турецки,
вь шароварахъ и въ серебріныхъ поясахъ. На нихъ на всѣхъ висѣло мно
жество червонцевъ и левовъ“. Бантышъ-Каменскій, стр. 103. Нечего гово
рить о томъ, какой скромностью отличались сербскія дѣвушки, смиренно
опускавшія взоры при встрѣчахъ сь мужчинами.
’) Что Пушкинъ пользовался именно „Путешествіемъ“ Бантыша-Ка
менскаго, видно изъ заглавія: „Дочери Черного Георга“. Именно у БанT.іша всюду говорится о „Черномъ Георгѣ" (стр. 99, 119-128), а не о Ге
оргіи Черномъ или Кара-Георгіи.
*) Оба (недостовѣрныхъ) разсказа находятся у Бантыша-Каменскаго,
стр. 121 и 126. Авторъ говоритъ: „Не знаю, должно ли мнѣ осуждать Чер
наго Георга или жалѣть только о немъ. Но не намъ судить о дѣлахъ по
добныхъ себѣ“... и дальше: „Если поступокъ сей и служитъ обвиненіемъ
ему въ несоблюденіи правъ родства, то не менѣе оправдываетъ его въ точ
номъ исполненій правосудія".
51
шамъ нѣтъ необходимости предполагать, что на позднѣйшую
Пушкинскую „Пѣснь о Георгіи Черномъ“ могла повліять до
статочно бездарная „Сербіанка“ Милутиновича. Эго мнѣніе
было высказано въ 1899 г. хорватскимъ писателемъ Шрепелемъ’) и основывалось на слѣдующемъ: между пѣснью Пуш
кина и соотвѣтственной пѣснью Милутиновича „Рожденіе и
неке черте вождова нрава“ есть нѣкоторое сходство въ раз
витіи дѣйствія. Книга Милутиновича появилась въ свѣтъ въ
1826 году; „Пѣсни Западныхъ Славянъ“ въ 1835 г.; слѣдо
вательно, Пушкинъ читалъ и передѣлывалъ Милутиновича.
Этотъ выводъ, основанный на принципѣ: post hoc, ergo prop
ter hoc, неубѣдителенъ. Нѣтъ никакихъ доказательствъ, что
бы Пушкинъ читалъ стихи Милутиновича: они были напеча
таны въ Лейпцигѣ въ 1826 г., когда Пушкинъ давно поки
нулъ югъ, и въ библіотекѣ его они не находились. Сербскій
поэтъ жилъ въ Кишиневѣ съ 1819 по 1825 годъ, но нѣтъ
никакихъ указаній, чтобы онъ встрѣчался съ Пушкинымъ.
Полагаю, что если бы онъ встрѣчался, то не преминулъ бы
•объ этомъ упомянуть такъ же, какъ онъ гордился своей
встрѣчей съ Гете въ 1826 году*2).
Изъ разбора перваго кишиневскаго стихотворенія мы
видимъ, что у Пушкина было уже готовое мнѣніе о Карагеоргіи, какъ трагическомъ героѣ; онъ могъ его почерпнуть
изъ Каменскаго и изъ устныхъ разсказовъ. Между тѣмъ,
изслѣдованіе проф. М. Вукичевича убѣдительно показало,
что эта легенда недостовѣрна. Жертвой патріоти ;ма палъ не
отецъ Георгія Петро, а его отчимъ Петроній3). И именно у
Милутиновича, хорошо знавшаго подлинныя событія, точно
разсказывается, какъ сперва умеръ отецъ Георгія Чернаго, и
какъ затѣмъ его отчимъ („очух“) хотѣлъ его выдать тур
камъ и палъ жертвой трагической необходимости. Между
ткмъ разсказъ Пушкина ближе къ тексту Бантыша-Камен
скаго. Наконецъ, вирши Милутиновича стиль многословны,
бездарны, написаны столь запутаннымъ и неяснымъ языкомъ,
что трудно себѣ представить, чтобы Пушкинъ могъ ихъ чи
тать4). Темой для „Пѣсни о Георгіи Черномъ“ скорѣе всего
’) D-r Milivoj Srepel. PuSkin i hrvatska knjiievnost . Ljetopis Jugoslavenske Akademije za god. 1898 sv. XIII. Zagreb 1899 стр. 128 сл. Это предпо
ложеніе повторяютъ напр. А. И. Яцимирскій въ III темѣ соч. Пушкина (изд.
Брокгаузъ-Ефрона 1909), стр. 398 и С. В. Штейнъ „Руски Архив“ XVI—XVII
(Београд 1932), стр. 101.
2) Стеван Павловой, Сима Милутиновий Capajanja, живот, кіьижевна
радіьа и слика му. Нови Сад 1893.
’) Миленко Вукийевий. Kapal)opl)e, кн>. I. Београд 1907.
‘) „Сербіанка“ издана въ 4 частяхъ. Пѣсня „Рожденіе и неке черте
■вождова нрава“ занимаетъ 24 страницы І1-й части. Сербианка Симеоном Ми•лутиновийем Сараілиом сочиніена. У Липисци 1826, il, стр. 10—32. Намъ
52
послужилъ краткій живой устный разсказъ, слышанный въ
Кишиневѣ.
Въ Кишиневѣ Пушкинъ особенно живо слѣдилъ за ге
роическими попытками греческой гетеріи. А въ планы гете
ріи входило, какъ извѣстно, и освобожденіе сербовъ и бол
гаръ. Карагеоргій былъ членомъ гетеріи и другомъ Ипси
ланти; въ масонской ложѣ „Овидій“, куда Пушкинъ былъ
принятъ 4 мая 1821 г., были не только русскіе и греки, но
и славяне. Вспомнимъ разсказъ о томъ, какъ болгарскаго
архимандрита Ефрема принимали въ масонскую ложу. Это
случилось именно при Пушкинѣ, въ этомъ кругу русскій
поэтъ могъ уточнить свои свѣдѣнія о балканскихъ славянахъ
и объ ихъ стремленіяхъ.
И въ Одессѣ Пушкинъ продолжалъ встрѣчаться съ
южными славянами1). Они играли тамъ видную роль въ обще
ствѣ; это были главнымъ образомъ торговцы и моряки изъ
Далмаціи. Достаточно указать, что городскимъ головой, съ
которымъ Пушкинъ часто игралъ въ карты, былъ далмати
нецъ Филиппъ Лучичъ; въ лицеѣ былъ профессоромъ Пла
тонъ Симоновичъ, родомъ изъ Фрушкогорья. Извѣстно имя
„неожиданно для себя попавшаго въ исторію русской лите
ратуры“ Ивана Ристича, комерціи совѣтника, въ домѣ кото
раго Пушкинъ бывалъ часто. Здѣсь поэтъ могъ встрѣчать
и брата его Георгія Ристича, и другихъ далматинцевъ Ивана
и Марка Квекича, Дим. Раіовича, Дим. Скулича и другихъ2).
II
Итакъ, когда Пушкинъ познакомился съ Мицкевичемъ въ
Москвѣ въ 1826 году, у него были достаточно яркія наблю
денія надъ цѣлымъ рядомъ южныхъ народностей: онъ до
статочно встрѣчался съ живыми представителями: грековъ,
пріятно, что наше мнѣніе о томъ, что Милутиновичъ не вліялъ на Пушки
на, высказано и проф. В. Іовановичемъ (въ газ. „Политика“ 9 марта 1937);
но намъ не кажется убѣдительной его гипотеза о томъ, что тема для пѣ
сни о Георгіи Черномь взята изъ нѣмецкой книги Л. фонъ Геце „Serbische
Lieder“ СПБ. 1827. Хотя эта книга и была въ библіотекѣ Пушкина (вѣро
ятно jподнесена почитателемъ), нѣтъ доказательствъ, чтобы Пушкин ь ее изу
чалъ (нѣмецкаго языка онъ не любилъ'; а главное, В. Іовановичъ не при
нялъ во вниманіе, что уже въ 1820 г. Пушкинъ зналъ о Карагеоргій, до
статочно, чтобы тогда же набросать свою пѣсню.
’) Сава Текели утверждалъ въ 1811 г., что на улицахъ и въ кофей
няхъ Одессы больше всего слышенъ сербскій языкъ, затѣмъ итальянскій,
греческій и наконецъ русскій. К. КостиЬ, Споменик Акад. 66 (1926), стр. 166.
2) Пользуемся опять спискомъ подписчиковъ на „Сербіанку“. Гор.
голова Лучичъ подписался на 30 экземпляровъ, Ризничъ съ братомъ на 30,
Ив. Квекичъ на 25, Симоновичъ и Скуличъ — по 5. Слѣдуетъ отмѣтить
это патріотическое меценатство одесскихъ славянъ.
53
■сербовъ, „далматовъ“, черногорцевъ, болгаръ, румынъ, на
ряжался въ ихъ костюмы ’), интересовался ихъ стремленіями,
бытомъ и народными пѣснями. Липранди сохранилъ вѣдь
краткое указаніе, что Пушкинъ пробовалъ записывать съ го
лоса сербскія пѣсни.
Это слѣдуетъ отмѣтить, потому что недавно А. К. Ви
ноградовъ въ своей книгѣ о Меримѣ высказалъ мнѣніе, что
Мицкевичъ могъ повліять на Пушкина въ смыслѣ пробужде
нія симпатій къ славянству*
23
). Виноградовъ слишкомъ въ
серьезъ принялъ Пушкинскія слова: „поэтъ Мицкевичъ, кри
тикъ зоркій и тонкій и знашокъ въ славянской, поэзіи, не усумнился въ подлинности сихъ пѣсенъ“. Но этотъ комплиментъ
былъ написанъ въ 1834 г., когда Пушкину хотѣлось оправ
даться передъ читателями въ своей довѣрчивости ссылкою
на авторитетъ.
Между тѣмъ, новѣйшее изслѣдованіе польскаго исто
рика Батовскаго объективно доказываетъ, что въ моментъ
знакомства двухъ великихъ поэтовъ Пушкинъ гораздо боль
ше зналъ о славянствѣ. Мицкевичъ не зналъ ни польскаго
ни литовскаго фольклора; больше всего у него было знаній
въ области родного ему бѣлорусскаго фольклора, позднѣе
отразившагося въ „Дзядахъ“. Но и имъ онъ увлекался го
раздо меньше, чѣмъ его виленскіе друзья, чѣмъ напр. Чечотъ,
охотно писавшій по бѣлорусски. Что же касается южныхъ
славянъ, то въ перепискѣ Мицкевича объ нихъ нѣтъ упоминаній
до 1826 года8).
Къ этому времени Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ
глубоко погрузился въ народную стихію, въ русскую исто
рію, записывалъ сказки отъ няни, записывалъ по селамъ
разбойничьи и свадебныя пѣсни и посылалъ ихъ П. В. Кирѣ
евскому. Въ Москву Пушкинъ пріѣхалъ, какъ настоящій ро
мантикъ-народникъ. А изученіе славянства въ это время уси
ливалось въ Россіи, создавая почву для славянофильства
тридцатыхъ годовъ.
Въ 1820 г. въ „Вѣстникѣ Европы“ появилась статья Каченовскаго о первомъ изданіи сербскихъ пѣсенъ, собранныхъ
Караджичемъ4*). Въ 1823 г. въ Лейпцигѣ стало выходить го
раздо болѣе полное второе изданіе этихъ пѣсенъ: первый
томъ его (женскія пѣсни) былъ „съ благоговѣніемъ“ посвя’) Вь Кишиневѣ „покажется на гуляньи, наряженный сербомъ, мол
даваниномъ, евреемъ“. Липранди, Русскій Архивъ 1866.
2) А. К. Виноградов. Мериме в письмах к Соболевскому. Москва
1928, стр. 247.
3) Henryk Batowski. Micklewicz а Slowianie do roku 1836. Lwôw 1936,
<лр. 159 и сл.
4) Проф. Каченовскій (родомъ изъ грековъ Качіонй) живо слѣдилъ
за балканскими и славянскими дѣлами.
54
іценъ вел. кн. Маріи Павловнѣ, герцогинѣ Саксенъ-Веймарской, второй томъ (юнацкія пѣсни) — „славенскому меценету“ графу Н. П. Румянцеву „с на]веИим високопочитаіьем и
благодарности“. Это изданіе, выходившее при щедрой рус
ской поддержкѣ1), сейчасъ же нашло откликъ въ русской
печати. Объ немъ была помѣщена статья въ „Сынѣ Отечества“
за 1824 г. (съ цитатами), а извѣстный молодой славистъ А.
X. Востоковъ началъ переводить отдѣльныя сербскія пѣсни
на русскій языкъ. Онъ перевелъ пѣсни „о Маркѣ Кралевичѣ“2*)
„Братья Якшичи“, „Смерть любовниковъ“, „Свадебный по
ѣздъ“ 8), „Строеніе Скадра“4), „Яни Мизеница“, „Сестра де
вяти братьевъ“, „Дѣвица и Солнце“, „Асанъ-агиница“ 5). Эти
переводы, появившіеся почти вс b въ Дельвиговскихъ аль
манахахъ, конечно привлекли вниманіе Пушкина. Въ это же
время, въ 1826 году „Московскій Телеграфъ“ Н. Полевого
помѣстилъ статью Кеппена о чешской литературѣ, а „Вѣст
никъ Европы“ перевелъ съ польскаго восторженное пись
мо Бродзинскаго о славянской поэзіи и далъ статью Вука
Караджича о сербскихъ суевѣріяхъ. Въ это время Пушкинъ
познакомился съ Мицкевичемъ. Какъ говоритъ Батовскій
„конечно, не сразу начали оба поэта вести разговоры о сла
вянствѣ и о народной поэзіи южныхъ славянъ. Было много
другихъ и болѣе важныхъ темъ. Но раньше или позже въ
этой филославянской атмосферѣ они должны были прійти
и къ славянскимъ темамъ. Для Мицкевича это имѣло боль
шое значеніе. Онъ нашелъ въ Пушкинѣ компетентнаго ин
форматора, имѣвшаго въ своей библіотекѣ между прочимъ
собранія сербскихъ пѣсенъ, знавшаго языкъ и обычаи сер
бовъ, съ которыми „пророкъ русскаго народа“ встрѣчался
въ Бессарабіи“. „Насколько позже (особенно къ 1840-мъ го
дамъ) Мицкевичъ превзошелъ Пушкина въ знаніи славянства,
настолько въ 1826 и слѣдующхъ годахъ онъ зналъ обо всемъ
этомъ несомнѣнно меньше Пушкина. Оба поэта вѣроятно не
разъ вели разговоры о славянской поэзіи. Они должны бы
ли чаще возвращаться къ этой темѣ въ теченіе своего бо
лѣе чѣмъ трехлѣтняго знакомства“ 6).
Народное творчество все болѣе занимало литературные
круги. Пріятель Мицкевича, Н. Полевой уже въ 1827 зани
мается русскими былинами; онъ же пишетъ восторженную ре
цензію о собраніи Вука Караджича и выражаетъ желаніе,
1) Четвертый томъ пѣсенъ посвящен ь В. Караджичемъ русскому по
слу въ Вѣнѣ Д. П. Татищеву, давшему средства на окончаніе издані’.
2) „Труда Вольнаго Общ. любит. Росс, слов." 1825, стр. 169-176.
s) „Сѣверные Цвѣты на 1825 годъ“, стр. 331-337.
4) „Сѣверные Цвѣты на 1823 годъ", стр. 43—52.
Е) „Сѣв. Цвѣіы на 1827 годъ“, стр. 267—278.
‘) H. Batowski, Mickiewicz а Slowianie. стр. 166.
55
чтобы кто-нибудь изъ русскихъ занялся переводомъ всѣхъ
сербскихъ пѣсенъ1). Въ томъ же году Шевыревъ привѣт
ствуетъ появленіе перваго сборника малорусскихъ думъ М.
Максимовича.
Въ томъ же знаменательномъ 1827 году появилась въ
свѣтъ въ Парижѣ безымянная „Гусля“ 2), интересное собраніе
„иллирскихъ пѣсенъ, собранныхъ въ Далмаціи, Босніи, Хор
ватіи и Герцеговинѣ“, сыгравшее такую роль въ творчествѣ
Пушкина. Оно сразу попало въ руки Мицкевича и Пушкина
въ годы ихъ дружбы. Это видно изъ того, что уже въ на
чалѣ 1828 года Мицкевичъ перевелъ изъ „Гусли“ балладу
„Влахъ въ Венеціи“, вѣроятно отвѣчавшую его интимнымъ
настроеніямъ въ русскихъ столицахъ 8).
Любопытно, что Мицкевичъ на своемъ переводѣ отмѣ
тилъ, что онъ сдѣланъ „съ сербскаго“ (хотя онъ переводилъ
съ французскаго). Г, Батовскій правильно замѣчаетъ, что во
французскомъ сборникѣ всюду говорится объ „иллирійскомъ“
языкѣ; о томъ, что это есть именно сербскій языкъ, Миц
кевичъ могъ прежде всего узнать отъ Пушкина. Что оба
поэта вмѣстѣ читали и обсуждали французскій сборникъ,
подтверждается приведенными выше словами Пушкина: „Миц
кевичъ не усумнился въ подлинности этихъ пѣсенъ“. Это вос
поминаніе отъ личной бесѣды съ Мицкевичемъ, потому что
послѣ отъѣзда послѣдняго изъ Россіи въ 1829 г. оба поэта
не переписывались. Итакъ, оба поэта въ 1827 и 1828 стали
читать французскій сборникъ. Надо сказать, что при всемъ
ихъ интересѣ къ славянству, и Пушкину, и Мицкевичу го
раздо легче было понимать французскій „переводъ“, чѣмъ
подлинныя сербскія пѣсни.
111
Исторія пресловутой мистификаціи Проспера Мериме
достаточно выяснена, особенно послѣ объемистой моногра
фіи сербскаго ученаго Воислава Іовановича4). „Гусля“ обя
зана своимъ появленіемъ съ одной стороны характеру Ме
риме, склоннаго къ мистификаціямъ, съ другой стороны об
щему интересу къ экзотическому народному творчеству, уси
лившемуся въ 1820-хъ годахъ и на Западѣ.
') „Московскій Телеграфъ“ 1827, стр. 137—150.
2J La Guzla ou choix de poésies illyriques, recueillies dans la Dalmatle,
la Bosnie, la Croatie et l'Herzegowine. A Paris, chez F. G. Lerault. 1827, p.
Х1Ц-257.
3) Цензурное разрѣшеніе на „Morlacha u Weneciji“ дано въ С. Петер
бургѣ 28 апрѣля 1828 года. Batowski, о. с.
‘) Voyslav Yovanovitch. La Guzla de Prosper Merimée. Essai d’histoire
romantique. Paris 1911. P. XVI f 566.
56
Мы теперь знаемъ, что Просперъ Мериме никогда не
былъ въ Далмаціи, даже въ дѣтствѣ ’), что страсть къ ми
стификаціямъ проявилась въ немъ очень рано. Въ 1825 онъ,
не поэызазъ еще въ Испаніи, сочиняетъ отъ имени испан
ской актрисы сборникъ пьесъ „Le Théâtre de Clara Gazul“.
Странная фамилія Gazul есть анаграмма слова Guzla, какъ это
давно замѣна іо. На эгомъ основаніи многіе французы счи
тати, что слозо Guzla вырумано Просперомъ Мериме въ
подражаніе первому удачному названію2). Но слѣдуетъ сдѣ
лать другой выводъ: уже во время писанія своихъ испан
скихъ пьесъ Мериме думалъ о славянскомъ фольклорѣ и
слово „guzla — гусли“ звучало въ его ушахъ; изъ него онъ
придумалъ и испанскую фамилію.
Что привело его къ мысли о славянскихъ пѣсняхъ? Лучшій
изслѣдователь французскаго романтизма, проф. Трааръ ука
зываетъ три причины: литературный экзотизмъ, процвѣтав
шій въ это время, фольклоризмъ и успѣхъ сербской народ
ной пѣсни, и, наконецъ, интересъ самого Мериме къ прими
тивнымъ народамъ3). Собственно говоря, эти причины труд
но разграничить, ибо „интересъ Мериме къ примитивнымъ
народамъ“ и есть проявленіе „литературнаго экзотизма“,
Вспомнимъ, что уже со второй половины XVIII вѣка,
со времени появленія знаменитыхъ пѣсенъ Оссіана наступа
етъ тотъ поворотъ къ народному творчеству, къ героиче
скимъ и лирическимъ пѣснямъ простыхъ народовъ, который
есть одна изъ движущихъ силъ романтизма. А вѣдь пресло
вутое открытіе Макферсона было талантливой мистифика
ціею!
Огецъ нѣмецкаго романгиша, Гердеръ, включилъ въ
свои „Голоса народовъ“ въ 1774 г. уже и югославянскія пѣ
сни, въ томъ числѣ знаменитую „Асан-Агиницу“, взятую изъ
интереснаго путешествія по Далмаціи аббата Фортиса. Фор’) До сихъ поръ повторяютъ легенду о томъ, что отецъ Мериме слу
жилъ в> Далмаціи при маршалѣ Мармонтѣ и что мальчикъ могъ тамъ слы
шать ил тирскій языкъ и иллирскія пѣсни. На это невѣрно: Леоноръ Ме
риме, послѣ годовъ проведенныхъ въ Италіи (1780 -88), поселился въ ПарижЬ, гд'т и родился его сынъ, Просперъ, 27 сентября 1803. Когда маршалъ
Мармонъ двинулся въ Далмацію, Л. Мериме получилъ 24 января 1807 пре
красное мѣсто — постояннаго секретаря Школы Из іщныхъ Искусствъ
(Ecole des Beaux Arts), на котором > и оставался до смерти (1836) и изъ Па
рижа не трогался. Просперъ Мериме все свое дѣтство и юность провелъ
въ Парижѣ.
а) Это утверждалъ Мишле въ письмѣ къ Мицкевцчу 24 дек. 1840.
Z. Zaleski. А travers une amitié franco-polonaise. Le Monde Slave III (1926),
p. 245.
3) Pierre Trahard, La jeunesse de Prosper Merimée. T. I, Paris 1925,
p. 267 s.
57
тисъ въ свою очередь пользовался замѣчательнымъ сборни
комъ католич. монаха Качича-Миошича: „Разговор угодни
народа словинскаго“ 1756, который имѣлъ большое значеніе
въ исторіи югославянскаго романтизма. Какъ и Макферсонъ,
далматинскій монахъ является съ одной стороны собирате
лемъ живого народнаго эпоса, но съ другой стороны и онъ
самъ свободно подражаетъ народному творчеству, излагаетъ
въ формѣ былинъ любое историческое преданіе или даже
прочтенную имъ средневѣковую грамоту. Отличіе его отъ
Макферсона лишь въ томъ, что Качичъ не имѣетъ цѣли ми
стифицировать. Нѣтъ, выросши въ странѣ, гдѣ народное твор
чество не изсякло, гдѣ гусляры ежедневно сочиняютъ эпи
ческія пѣсни, монахъ Качичъ считаетъ вполнѣ законнымъ и
для себя сочинять пѣсни о тѣхъ событіяхъ, которыя оста
лись не отмѣчены народными рапсодами.
Путешествіе Фортиса, переведенное съ итальянскаго
на нѣмецкій, французскій и англійскій, пробудило интересъ
литературныхъ круговъ къ воинственному, патріархальному
и пѣвческому народу „иллировъ“, открывшемуся для ро
мантическихъ увлеченій. Въ 1788 появляется въ Венеціи зна
менитый романъ „Les Morlaques“, посвященный Екатеринѣ
Великой. Его авторъ, графиня Розенбергъ-Орсини описыва
етъ патріархальные нравы крестьянъ Адріатическаго побе
режья и вставляетъ въ романъ 10 эпическихъ пѣсенъ, сочи
ненныхъ ею въ духѣ сборника Качича.
Къ началу XIX вѣка интересъ ко всякому народному
творчеству все расширяется и въ Германіи, и во Франціи.
Достаточно вспомнить, что пресловутый виконтъ де-Парни
былъ не только авторомъ легкихъ, не всегда пристойныхъ
стиховъ очаровавшихъ въ лицейскіе годы юнаго Пушки
на, но выпустилъ и сборникъ мадагаскарскихъ лирическихъ
пѣсенъ1). Поэтъ Фабръ д’Оливе напечаталъ въ 1803 сбор
никъ пѣсенъ провансальскихъ трубадуровъ.
Въ этомъ интересѣ къ народному творчеству южные
славяне занимаютъ все большее мѣсто. Два обстоятельства
повліяли на эго: Наполеоновское управленіе въ Иллиріи и
нѣмецкія связи Вука Караджича. „Иллирія“ становится объ
ектомъ французской политики въ 1807—1814 г.; талантливый
романтикъ Ш. Нодье былъ издателемъ ея оффиціальнаго
вѣстника: „Moniteur“. Вернувшись въ Парижъ, Нодье сталъ
сочинять жестокіе романы о храбрыхъ славянскихъ разбой
никахъ („Jean Sbogar“) и о вампирахъ („Smarra“ 1821) и вста
влять въ нихъ иллирскія пѣсни. Нодье, конечно сильно повлі
ялъ на Мериме.
') Evariste-Désiré de Parny, „Chints madégasqucs“. Парни родился на о.
Бурбонѣ въ 1753 г. и провелъ юность на Индѣйскомъ океанѣ. Революція
сдѣлала его академикомъ.
58
Между тѣмъ въ 1814 появился первый сборникъ под
линныхъ сербскихъ пѣсенъ Вука Караджича. Его другъ и
совѣтчикъ, австрійскій цензоръ Копитаръ перевелъ 19 пѣ
сенъ на нѣмецкій языкъ и вручилъ ихъ Якову Гримму для
напечатанія въ его „Sängerfahrt“ 1818 г. Слава сербскихъ
пѣсенъ ростетъ. Въ 1819 г. Вукъ пріѣзжаетъ въ Россію и
получаетъ поддержку отъ Н. П. Румянцева, въ 1823 г. Онъ
въ Веймарѣ побывалъ у самого Гете и ведетъ съ нимъ раз
говоры. Въ это время сербскія пѣсни переводятся усилен
но на русскій, на нѣмецкій (Тереза фонъ Якобъ = Talvj
„Serbische Lieder 1825—1826), даже на англійскій12*) и фран
цузскій языкъ.
Молодой ученый романтикъ Форіель, получивъ два то
ма сербскихъ пѣсенъ (должно быть въ 1826 г ), показалъ ихъ
Мериме и сказалъ ему: .учитесь по-сербски“ '-'). Однако Мериме своеобразно послѣдовалъ этому совѣту. Онъ рѣшилъ,
что можно переводить съ сербскаго, не учась по сербски.
Въ это время Ближній Востокъ особенно въ модѣ.
Скитанія Байрона и Шатобріана и греческое возстаніе вызва
ли горячій интересъ къ грекамъ, туркамъ, албанцамъ и сла
вянамъ. Въ 1825 г. Форіель издаетъ прекрасный сборникъ
греческихъ пѣсенъ; одновременно выходятъ „Героическія
пѣсни греческихъ горцевъ и моряковъ“ Лемерсье, „Эллин
скія пѣсни“ Гирара8). Какъ говоритъ французскій писатель,
„воздухъ насыщенъ оріентализмомъ и эллинизмомъ“4). Съ
другой стороны, сѣверный эпосъ не переставалъ вліять на
Францію: послѣ балладъ Вальтеръ-Скотта („Mélanges poéti
ques“) въ 1825 появился сборникъ переводовъ шотландскихъ
балладъ — Леви-Веймарса.
Вотъ та атмосфера романтическаго экзотизма и фоль
клора, въ которую вступилъ молодой, талантливый и начи
танный Мериме. Въ 1825 онъ выступилъ съ удачной мисти
фикаціей въ испанскомъ духѣ, въ 1827 онъ печатаетъ свою
анонимную иллирскую „Гуслю“.
Почему Мериме обратился именно къ славянамъ, послѣ
испанцевъ? Вѣроятно потому, что южные славяне были во
Франціи извѣстны гораздо меньше чѣмъ греки. Кромѣ Ш.
') Полякъ Ляхъ-Ширма напечаталъ въ 1823 г. въ Англіи переводъ
„Соловья“; съ 1826 г. сербскія пѣсни переводитъ Джонъ Боуриигъ. Съ 1824
г. появляются отдѣльные переводы во французскомъ журналѣ „Globe“.
2) „C’est lui (J.-J. Ampère) qui me fit faire la connaissance de Fauriel,
lequel me dit la première fois qu'il me vit: „Voici deux volumes de poésies
serbes qu’on m’envoie; apprenez le serbe" (письмо Мериме къ Сенть-Беву
1868 г.). P. Trahard. l a jeunesse de Prosper Merimée. 1 (1925), p. 257.
•) Въ 1822 г. В. Гюго печатаетъ свои „Odes et ballades“, въ 1828
„Orientales“.
4) P. Tr.ihard. La jeunesse I, 267.
59
Нодье, объ нихъ почти никто не писалъ. Между тѣмъ Мериме уже слышалъ, что у нихъ есть замѣчательное народ
ное творчество. Кромѣ того, у Мериме были уже русскіе
связи; онъ познакомился въ Парижѣ съ кн. Зин. Волкон
ской, съ Н. Мельгуновымъ. Съ помощью одного изъ своихъ
русскихъ знакомыхъ1) онъ началъ переводить (ъ сербскаго
„Асанъ-Агиницу“, найденную въ „Путешествіи“ Фортиса. Это
путешествіе по Далмаціи его заинтересовало. Романы Нодье
показали ему, сколько романтическихъ темъ можно извлечь
изъ Далмаціи. Обстоятельное, хотя и сухое сочиненіе Шометта де-Фоссе, французскаго консула въ Босніи, дало ему
цѣлый рядъ точныхъ данныхъ: историческихъ, географиче
скихъ, бытовыхъ и статистическихъ, для знакомства съ Бо
сніей 2). Вотъ главные источники для славянскихъ студій Ме
риме. Изъ этихъ сочиненій онъ бралъ канву и мѣстный ко
лоритъ для своихъ пѣсенъ3). Но образецъ для поэтическаго
вдохновенія и художественныхъ пріемовъ Мериме нашелъ
въ вышеуказанныхъ сборникахъ греческихъ народныхъ пѣ
сенъ Форіеля и особенно Лемерсье. Проф. Трааръ отлично
показалъ сходство съ греческими пѣснями нѣсколькихъ
„иллирскихъ пѣсенъ“, переведенныхъ Пушкинымъ. Такъ,
пѣс^я о смерти Кристо Миліониса дала Мериме тему для
его „Braves Heydnques“ (у Пушкина „Гайдукъ Хризичъ“).Греческая пѣсі я о Манолѣ и янычарѣ отразилась въ
„Прекрасной Еленѣ“ Мериме (у Пушкина „Ѳеодоръ и Елена“).
Наконецъ и говорящій конь (Le cheval de Thomas II —
y Пушкина „Конь“) тоже имѣетъ источникъ въ греческихъ
пѣсняхъ, собранныхъ Лемерсье: тамъ есть двѣ такихъ пѣсни:
„Vevros ét son cheval“ и „Liakos“. 4) Однако многія темы
созданы Мериме довольно свободно, иногда подъ вліяніемъ
самыхъ отдаленныхъ литературныхъ воспоминаній. Эти темы
сводятся къ двумъ главнымъ романтическимъ кругамъ. Вопервыхъ, преувеличенная жестокость и воинственность пер
вобытныхъ героевъ. По подсчету Траара, на 28 пѣсенъ
„Гусли“ приходится 28 убійствъ, 4 похищенія женщинъ и 7
сценъ пытокъ и казней. Въ этихъ жестокихъ сценахъ иногда
’) Не былъ ли этимъ русскимъ Н. А. Мельгуновъ (1804—1867) „1е
don Juan de la rue Caumartin“? см. H. Mongault, Meriniée et Pouchkine. Le Monde
Slave 1930, IV, 26 и сл.
Amédée Chaumette-des-Fossés. Voyage en Bosnie dans les années
180/ et 1808. Это сочиненіе вышло вь трехъ изданіяхъ (1812,1816 и 1821) —
еще доказательство интереса къ Ближнему Востоку во Франціи этихъ го
довъ.
8) В. Ловановичъ нашелъ у Мериме 22 заимствованія изъ Фортиса,
Трааръ нашелъ ихъ 6'*. Trahard, І.а jeunesse 1, 277 и 11, Appendice.
‘) Даже такая подробность, какъ „des fers argentés sous des clousd'oi“
(Lemercier I, 71 Guzl.r, 295). Trahard, La jeunesse I, 273 - 275.
60
отражается даже Данте. Такъ В. Оовановичъ убѣдительно
указалъ сходство между многими подробностями „Гайдука
Хризича“ и разсказа Уголино въ Дантовомъ „Адѣ“.1)
Съ другой стороны, чрезмѣрное богатство суевѣрій и
особенно вампирическихъ темъ, собственно говоря, несвой
ственныхъ настоящимъ народнымъ пѣснямъ. Въ пѣсняхъ изъ
28 говорится о вампирахъ и привидѣніяхъ: это уже черта
литературнаго
романтизма, особенно близкая самому
Мериме.2)
Извѣстно, какъ страшныя повѣрья о вампирахъ появи
лись въ Европѣ еще въ первой половинѣ XVIII вѣка, когда
австрійскія власти и доктора встрѣтились съ ними въ окку
пированной съ 1719 года Сербіи.3) Изъ псевдо-ученыхъ дис
сертацій (донъ-Кальмета 1749 и др.) эти повѣрья перешли
въ концѣ XVIII вѣка въ литературу, повліяли на Гофмана, на
Нодье, на самого Гете („Коринѳская невѣста“), вызвали по
явленіе романа „Вампиръ“, долго приписывавшагося Байрону.
И Фортисъ, и Ш меттъ разсказываютъ о вѣрѣ въ вампировъ
у югославянъ. Это вдохновило Мериме: онъ перечиталъ
диссертацію аббата Кальмета и съ ея помощью сочинилъ
цѣлый рядъ своихъ иллирскихъ пѣсенъ.4)
Такимъ образомъ создалась любопытная мистификація,
которую Мериме обставилъ самымъ серьезнымъ образомъ.
Какъ въ указанныхъ сборникахъ греческихъ пѣсенъ Лемерсье
и Форіеля. авторъ далъ только прозаическіе переводы пѣ
сенъ, снабдилъ ихъ кое-гдѣ примѣчаніями, иногда съ цита
тами на иллирскомъ языкѣ (взятыми изъ Фортиса); нѣкото
рыя пѣсни переведены только въ отрывкахъ, какъ будто
начало или конецъ ихъ изгладились изъ памяти пѣвца. Сбор
нику приложенъ разсказъ о народныхъ славянскихъ суевѣ
ріяхъ и предпослано предисловіе собирателя и остроумное
жизнеописаніе гусляра Іакинѳа Маглановича даже съ его
портретомъ.
Въ предисловіи анонимный переводчикъ серьезно раз
сказываетъ о себѣ, о томъ, что онъ итальянецъ, родившійся
въ Далмаціи. Мать его была славянкой (une Morlaque) изъ
*) V. Yovanovitch, о. с. erp. 309—325.
г) Разсказы о вампирахъ и другихъ суевѣріяхъ держатся въ области
сказокъ й повѣрій, но почти не попадаютъ ни въ народный эпосъ, ни въ ли
рику. Это замѣтили еще Пушкинъ съ Мицкевичем:. „Cette remarque ex
cita nos soupçons, l e célèbre poète russe Pouschkine fit alors écrire à l’au
teur français pour lui demander des renseignements sur sa découvèrte". A.
Mickiewicz. Les S’aves I, p. 333.
s) V. Yovanovitch, La Cuzla. стр. 445—461.
4) Dissertation sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les
revenans de Hongrie, de Moravie... par le R. P. Augustin Calmet. 1749. Trah.rrd, Il Арр. указываетъ цѣлый рядъ заимствованій Мериме у Кальмета.
61
Спалато и въ дѣтствѣ онъ говорилъ по иллирійски больше,
чѣмъ по итальянски. Политическія событія привели его во
Францію и, уступая просьбамъ своихъ друзей, онъ рѣшился
напечатать переводы этихъ пѣсенъ, записанныхъ имъ отъ
гусляра Маглгновича во время поѣздки по Далмаціи въ
1816 году.
Хорошо законспирированный сборникъ пѣсенъ имѣлъ
нѣкоторый успѣхъ. Имъ повѣрилъ нѣмецкій тайный совѣт
никъ Вильгельмъ Гергардъ, переведя ихъ стихотворнымъ ил
лирійскимъ размѣромъ въ своемъ большомъ сборникѣ серб
скихъ народныхъ пѣсенъ1). Джонъ Боурингъ началъ ихъ пе
реводить на англійскій языкъ23). Наконецъ лучшій сербскій
литературный журналъ написалъ про нихъ: „Песме су заиста
народне, и нису р^аве, ал’ би имъ се права цѣна тек из орігинала опредѣлити могла“.8)
Поэтому неудивительно, что Пушкинъ съ Мицкевичемъ
повѣрили этому сборнику и начали изъ него переводить:
Мицкевичъ перевелъ самую элегическую изъ всѣхъ пѣсенъ(навѣянную идилліей Ѳеокрита), отвѣчавшую его настроеніямъ;
Пушкинъ постепенно перевелъ И пѣсенъ изъ этого сбор
ника, главнымъ образомъ героическихъ. До сихъ поръ оста
ется неяснымъ, когда именно Пушкинъ перевелъ эти пѣсни
и почему онъ ихъ такъ поздно напечаталъ. Мы видѣли, что
Пушкинъ съ Мицкевичемъ познакомились съ „Гуслею“ вѣро
ятно еще въ 1827, во всякомъ случаѣ не позже апрѣля 1828
года. Между тѣмъ первый изъ Пушкинскихъ переводовъ
(вѣрнѣе передѣлокъ) „Конь“ былъ напечатанъ въ „Библіотекѣ
для чтенія“ въ 1835 году во ІІ-й книгѣ, остальныя „Пѣсни
Западныхъ Славянъ“ тамъ же въ III ей книгѣ за 1835 годъ,
причемъ въ ихъ изданіи на нихъ помѣта самого Пушкина:
1832-1833 годъ.
А. И. Яцимирскій, считая, что переводы были сдѣланы
именно въ этихъ годахъ, объяснялъ позднее ихъ напечатаніе
тѣмъ, что „Пушкинъ внутренне колебался въ вопросѣ о под
линности“.4*) Недавно А. К. Виноградовъ высказалъ рядъ ин
тересныхъ соображеній. Онъ считаетъ, что почеркъ серб
скихъ записей Пушкина несомнѣнно конца 20-ыхъ годовъ, и
объясняетъ это такъ: „Въ 1833 году Соболевскій привезъ
свѣдѣнія о Мицкевичѣ, всколыхнувшія Пушкина. Пушкинъ
') W. Gerhard „Wil.i. Serbische Volkslieder und Heldenmärchen“ II. 1828.
2) V. Yovanovitch, Guzla p. 445-461.
3) „Сербске Лѣтописи“ за год. 1828, первая частица, стр. 154. Странно,
что рецензентъ говоритъ, что въ этой книгЬ „око сто пѣсама". Онъ замѣ
чаетъ: „Примѣчанія е достойно, што е гусла, мѣсто гусле, овдѣ напечата
но; но далматінски рѣчницы имаю гусле и у единственномъ числу!“
*) А. И. Яцимирскій, Пѣсни Западныхъ Славянъ, соч. Пушкина, издБрокгаузъ-Ефрона т. 111 (1909), стр. 380.
=62
перерываетъ старыя тетради славянскихъ пѣсенъ 1828 года,
готовитъ ихъ къ печати, споритъ съ Соболевскимъ о под
линности иллирійскихъ пѣсенъ „Гусли“ и въ то же время
готовитъ отвѣтъ Мицкевичу — новую поэму „Мѣдный Всад
никъ“. Мнѣ кажется справедливымъ предположить, что одной
изъ самыхъ близкихъ темъ общенія Мицкевича и Пушкина
были совмѣстныя занятія славянскими пѣснями. Слова Пуш
кине о томъ, что поэтъ Мицкевичъ критикъ зоркій и топ
кій знатокъ въ славянской поэзіи, „не усумнился въ подлин
ности сихъ пѣсенъ“, показываютъ на впечатлѣніе отъ дли
тельнаго личнаго общенія“.1)
„Слѣдовательно, занятіе славянскими пѣснями у Пушкина
сопровождалось постояннымъ общеніемъ и разговорами на
эту тему съ Мицкевичемъ. Изъ этого мы дѣлаемъ выводъ,
что уже въ 1827 г. и во всякомъ случаѣ въ 1828 году Пуш
кинъ занимался книжкой Мериме вмѣстѣ съ Мицкевичемъ.
Это соображеніе, передвигающее обычную датировку „Сла
вянскихъ пѣсенъ“ Пушкина съ 1833-1836 (?) на конецъ 20-хъ,
я бы сказалъ прямо на 1828 годъ, блестяще потверждается
статьей Б. В. Томашевскаго („Атеней“ 1925), опредѣляющей
генезисъ славянскихъ пѣсенъ Пушкина съ завидною прони
цательностью на основаніи чисто метрологическаго анализа.
Б. В. Томашевскій съ изумительнымъ пониманіемъ и тон
костью опредѣлилъ хронологію фольклорнаго увлеченія Пуш
кина и .гнѣздо“ творческихъ опытовъ въ области свобод
наго не-книжнаго стопосложенія, которые онъ усматриваетъ
въ Востоковскихъ опытахъ, которымъ Пушкинъ послѣдо
валъ въ 1828 году“2).
Все это гипотезы, которыя трудно разрѣшить безъ
внимательнаго изученія рукописей. Однако, Виноградовскому
предположенію мѣшаетъ слѣдующее. Если бы Пушкинъ на
чалъ работу надъ „Пѣснями Западныхъ Славянъ“ въ 1828
году и затѣмъ отложилъ ее въ сторону до „всколыхнувшаго
его“ возвращенія Соболевскаго изъ-за границы, то почему
на его изданіи поставленъ 1832—1833 годъ?
Вѣдь Соболевскій вернулся въ Россію только 22 іюля
1833; остается непонятнымъ, почему Пушкинъ вернулся
къ давно заброшеннымъ пѣснямъ до возвращенія Соболев
скаго.
Слѣдовательно, не пріѣздъ Соболевскаго вызвалъ въ
Пушкинѣ новый интересъ къ пѣснямъ Мериме 3). Мы дума*) А. К. Виноградов. Мериме в письмах к Соболевскому. 239 -240.
2) Дѣйствительно, можно предположить, что Пушкинскій переводъ
,,Влаха въ Венеціи“ возникъ одновременно съ Мицкевичевскимъ переводомъ
той же пьесы въ 1828 году. На это намекаетъ X. Батовскій, говоря о „сво
его рода поэтическомъ сотрудничествѣ“ обоихъ поэтовъ, о. с. 166.
’) Виноградовъ фантазируетъ: „Уединившись въ БолдинЬ съ 1 октя-
63
емъ иначе. Если и предположимъ, что первые наброски пе
реводовъ были сдѣланы въ 1827—28 г. въ эпоху совмѣст
наго съ Мицкевичемъ чтенія „Гусли“, то возвращеніе къ
этой работѣ въ 1832 году могло быть вызвано усиленіемъ
славянофильскихъ настроеній въ самомъ Пушкинѣ. Вѣдь въ
1832 году былъ написанъ знаменитый „Орелъ“ Хомякова.
А записки Смирновой (при всей ихъ недостовѣрности) приво
дятъ любопытное краткое сообщеніе: „Пушкинъ влюбился
въ пѣсни Западныхъ Славянъ. Эту страсть внушаетъ ему
Хомяковъ“1). Въ 1832 Пушкинъ, дѣйствительно, встрѣчался и
съ А. О. Россетъ Смирновой и съ А. С. Хомяковымъ, бы
валъ въ Москвѣ2); тогда онъ и могъ взяться за переводы
иллирскихъ и сербскихъ пѣсенъ. Пріѣздъ Соболевскаго въ
серединѣ 1833 и его разсказъ объ авторствѣ Мериме скорѣе
только могъ охладить Пушкина къ этой работѣ. Полагаемъ,
что послѣ разоблаченія (которое Соболевскій вѣроятно сдѣ
лалъ), Пушкинъ уже пересталъ переводить изъ „Гусли“. Но,
колеблясь внутренно, нѣсколько раздосадованный, онъ вѣро
ятно рѣшилъ не печатать своихъ переводовъ, пока не полу
читъ отъ Мериме точнаго разъясненія условій появленія
„Гусли“. Соболевскій по просьбѣ Пушкина написалъ объ
этомъ Мериме; отвѣтъ Мериме пришелъ очень поздно (онъ
помѣченъ Парижемъ 18 января 1835 года). Получивъ его и
не имѣя больше сомнѣній, Пушкинъ рѣшился тогда же все
таки напечатать свои переводы, предпославъ имъ и письмо
Мериме и свое объясненіе.
Какъ извѣстно, въ „Пѣсни Западныхъ Славянъ“ входитъ
16 пѣсенъ; большая часть ихъ, именно 11, заимствованы изъ
Мериме.
I. Видѣнія короля = La vision de Thomas II, roi de Bosnie.
II. Янко Марковичъ — La flamme de Perrusich.
III Битва y Зеницы Великой = Le combat de Zenitza-Velika.
IV. Федоръ и Елена = La belle Hélène.
V. Влахъ въ Венеціи = Le. Morlaque à Venise.
VI. Гайдукъ Хризичъ-Les braves Heydnques.
VII. Похоронная пѣсня = Chant de mort.
VIII. Марко Якубовичъ Constantin Jacoubovitch.
6ря 1833 г., Пушкинъ горячо и творчески переживаетъ сообщенія Соболевскаго. Просматривая старыя записи славянскихъ пѣсенъ, онъ видитъ передъ
собою неожиданный образъ Мериме, слышитъ фразы, сказанныя о немъ
Соболевскимъ“, о. с. 254.
') Записки А. О. Смирновой. М. 1895, стр. 220.
Въ 1832 г. А. С. Хомяковъ сильно увлекся фрейлиной А. И. РосСет_ъ’ пишетъ ей стихи: „Она лукаво улыбалась“, „Вокругъ нея очарова2ЬІ , „О.дѣва-роза", бывалъ въ Петербургѣ, гдѣ писалъ стихи въ алібомъ С.
• Карамзиной. Въ этомъ обществѣ онъ часто встрѣчался сь Пушкинымъ.
64
IX. Бонапартъ и Черногорцы = Les Monténégrins.
XIII. Вурдалакъ = Jean not.
XVI. Конъ = Le cheval de Thomas II.
Но кромѣ того есть пѣсни и изъ другихъ источниковъ;
X. Соловей взята непосредственно изъ сборника Вука Ка
раджича (т. 1, изд. 1824 г.), что доказывается и ея серб
скою записью рукою Пушкина.
XI. Пѣсня о Георгіи Черномъ сочинена самимъ Пушкинымъ;
XII. Воевода Милошъ тоже сочинена Пушкинымъ.
XIV. Сестра и братья взята изъ сборника Вука Караджича
(т. I, № 405).
XV. Янышъ Королевичъ опять-таки сочиненъ самимъ Пушки
нымъ на мотивъ, близкій къ столь занимавшей его „Русал
кѣ“. Она навѣяна чтеніемъ чешскихъ или словацкихъ пѣ
сенъ; главный герой ея носитъ западно-славянское имя Янышъ,
онъ вздумалъ жениться на Любусѣ, чешской королевнѣ.
Вѣроятно, именно потому—что послѣдняя пѣсня помѣ
щена въ чешской обстановкѣ, Пушкинъ далъ своему сбор
нику названіе „Пѣсни Западныхъ Славянъ“ (а не Южныхъ).
Подъ этимъ заглавіемъ ему легче было объединить рядъ
пѣсенъ на сербскія, боснійскія, далматинскія и чешскія темы.
Уже по самому расположенію сборника видно, что Пуш
кинъ началъ именно со сборника Мериме, но перевелъ изъ
него гораздо меньше половины. Чѣмъ объясняется его вы
боръ? А. И. Яцимирскій отмѣтилъ, что Пушкинъ „выбралъ
для перевода не только лучшія въ художественномъ отно
шеніи пѣсни, но и такія, гдѣ меньше фальши противъ эпоса
вообще и славянскаго въ частности“. Дѣйствительно, Пуш
кинъ исключилъ почти всѣ пѣсни о вампирахъ; онъ взялъ
лишь пѣсню о Маркѣ Якубовичѣ и шутливую „о вурдалакѣ“ ’)■
Изъ двухъ пѣсенъ о смерти короля Босніи Пушкинъ
взялъ лишь одну, поразившую его величественной картиной
ночного видѣнія въ церкви12) и своимъ этическимъ содер
жаніемъ — раскаяніемъ отцеубійцы.
Пѣсня о Янкѣ Марнавичѣ трогательна своимъ лириз
момъ — смертною тоскою бея, нечаянно убившаго побратима.
Битва у Зеницы-Великой воспѣваетъ типичное сраженіе
немногихъ героевъ противъ турецкихъ полчищъ и ихъ през
рѣніе къ смерти.
Такая же героическая борьба изображена со страшной
силой въ „Гайдукѣ Хризичѣ“.
1) Намекъ на вампировъ находится и въ пѣснѣ о „Гайдукѣ Хризичѣ“.
2) В. Іовановичъ указываетъ, что эта пѣсня была сочинена Мериме
подъ вліяніемъ сказанія о видѣніи шведскаго короля Карла XI.
65
„Бонапартъ и Черногорцы“ описываетъ такую же борь
бу за свободу немногочисленныхъ героевъ, въ живой и шут
ливой формѣ.
Въ пѣснѣ „Влахъ въ Венеціи“ любовь къ родинѣ вы
ражена въ особенно трогательной формѣ.
Лирическимъ характеромъ отличается и прекрасный
„Конь“ съ его вѣрностью хозяину, съ отзвуками суровой
борьбы противъ невѣрныхъ.
Наконецъ, „Вурдалакъ“ заинтересовалъ Пушкина сво
имъ шутливымъ содержаніемъ, насмѣшкой надъ чрезмѣрно
романтическими упырями *).
Въ подробномъ разборѣ А. И. Яцимирскій отлично от
мѣтилъ а), какъ Пушкинъ обращался съ подлинниками Ме
риме. Поэтъ измѣнялъ отдѣльныя слова и цѣлыя выраженія,
кое гдѣ мѣнялъ тонъ, выбрасывалъ неудачныя картины, обо
роты, образы, часто выбрасывалъ собственныя имена и на
званія, отдѣльныя фактическія подробности, вообще отно
сился къ формѣ подлинника вполнѣ самостоятельно, но съ
содержаніемъ обходился довольно бережно.
Яцимирскій приводитъ убѣдительные примѣры того,
какъ Пушкинъ выпускаетъ всякія разъясненія, неумѣстныя
въ эпосѣ. Мериме иногда входитъ въ психологію героевъ и
излагаетъ ихъ ощущенія; Пушкинъ избѣгаетъ этого и изла
гаетъ самые факты. Мериме вноситъ и свои субъективныя
впечатлѣнія, Пушкинъ ихъ опускаетъ. Мериме злоупотребля
етъ прямой рѣчью, діалогами — у Пушкина ихъ гораздо
меньше. Рядъ излишнихъ подробностей описательнаго ха
рактера Пушкинъ опускаетъ, но часто вставляетъ отъ себя
эпическіе эпитеты, близкіе духу народнаго творчества; за
мѣняетъ неудачные эпитеты болѣе подходящими. Мериме
злоупотребляетъ вычурными собственными и географически
ми именами; Пушкинъ сплошь и рядомъ ихъ выпускаетъ,
сообщая повѣствованію характеръ эпической неопредѣлен
ности, Конечно, Пушкинъ приближалъ свои переводы къ ду
ху народнаго творчества, но именно русскаго, а не югосла
вянскаго. Объясняется это прежде всего тѣмъ, что Пушкинъ
югославянскую поэзію зналъ мало, а можетъ быть (по до
гадкѣ Яцимирскаго) и тѣмъ что, сомнѣваясь въ подлинности
пѣсенъ, Пушкинъ не хотѣлъ впадать въ ошибку путемъ
искусственнаго приближенія своихъ переводовъ къ мнимому
первоисточнику.
’) Недавно С. В. Штейнъ весьма субъективно объяснилъ выборъ
Пушкинымъ темъ изъ Мериме, въ связи со своей теоріей о мистическихъ
предчувствіяхъ у Пушкина. С. Ште)'н. Пушкин, Мериме, и песме западних Словена. Руски Архив XVI (Б. 1932), стр. 109. Полагаемъ, что ближе
къ истинѣ старый взглядъ П. Кулаковскаго, Р. Ф. В. 1899, стр. 11 -13.
2) Въ Ill томѣ изд. Брокгаузъ-Ефрона, стр. 375—402.
5
66
Такимъ образомъ Пушкинъ далъ русскимъ читателямъ
рядъ пѣсенъ, хотя и не настоящихъ югославянскихъ, но та
кихъ, которыя могли заинтересовать ихъ своимъ содержа
ніемъ и возбудить сочувствіе къ славянскимъ братьямъ. Онъ
развернулъ передъ русскими читателями картины неизвѣст
ной имъ героической исторіи южныхъ славянъ, изобразилъ
пламенный патріотизмъ, эпическій героизмъ, вѣрность долгу,
трогательныя чувства побратимства и супружеской вѣрности,
спокойнаго отношенія къ смерти и патріархальнаго быта. Не
будучи „славянофиломъ“, Пушкинъ своими „пѣснями Запад
ныхъ Славянъ“ сдѣлалъ очень много для того, чтобы уси
лить интересъ къ славянству въ русскомъ обществѣ.
V
Интересъ Пушкина къ славянскимъ темамъ не ограни
чился изданіемъ „Пѣсенъ Западныхъ Славянъ“. Кишиневскія
впечатлѣнія ярко остались въ его памяти. Въ 1834 году онъ
написалъ повѣсть „Кирджали“. Героемъ этого живого раз
сказа является Кирджали (на турецкомъ языкѣ значитъ: ви
тязь, удалецъ), родомъ „булгаръ“, одинъ изъ участниковъ
храбраго и безумнаго освободительнаго похода Александра
Ипсиланти и Георгія Кантакузина.
Наконецъ, уже послѣ смерти Пушкина въ его чернови
кахъ были найдены наброски пѣсенъ на югославянскія темы.
Первымъ изъ нихъ сталъ извѣстенъ неоконченный пе
реводъ „Асанъ-агиницы“. Первыя 17 строкъ его были опубли
кованы Анненковымъ въ 1855, слѣдующія — лишь въ 1903 г.
Шляпкинымъ. Этотъ переводъ, по мнѣнію А. С. Яцимирскаго,
является „въ полномъ смыслѣ шедевромъ. Онъ выдѣляется
изъ переводовъ Пушкина и особеннымъ размѣромъ, и вы
держанностью стиля, и болѣе подходящими къ духу серб
ской пѣсни выраженіями“1).
Еще одна передѣлка сербской народной пѣсни Пушки
нымъ недавно появилась въ печати2). Она взята тоже изъ
1 тома сборника Вука Караджича (I, № 374).
Oj дево)ко душо мо]а,
Леси л’ вид’ла коіьа мога?
Нит’ сам гл’ала ни видела;
Синоѣ сам му звеку чуда,
Седлом би)е у jasopje,
А копитомъ о MpaMopje;
Не видѣла-ли, дѣвица
Коня (ты) моего?
Я видала, витязь,
Коня твоего.
Куда, красна дѣвица,
Мой конь пробѣжалъ?
’) А. С. Яиимирскій, цит. ст. 395—396.
z) Н. Лернеръ вь сб. „Звенья" 1935, кн. V; А. Погодин, Српски Кн>и
жевни Гласная 1 окт. 1936, стр. 222—223.
67
Коіьиц ти се расрдио,
Што ти ъубиш две девоне
Оливеру и Тодору;
Оливера сина роди,
А Тодора сузе рони.
Твой конь пробѣжалъ
На Дунай-рѣку.
Бѣжа твой конь
Тебя проклиналъ,
Тебя проклиналъ.
Въ отличіе отъ точнаго перевода „Асанъ-агиницы“, это
свободная передѣлка данной темы. Какъ говоритъ Н. О. Лер
неръ, Пушкинъ желалъ дать своей пѣснѣ вполнѣ русскій
характеръ, поэтому исключилъ сербскія собственныя имена,
прибавилъ отъ себя эпическую „Дунай-рѣку“, внесъ эпитетъ
„красна дѣвица“. Намъ кажется, что написаніе этой пѣсни
можно поставить въ связь съ написаніемъ „Русалки“, т. е.
отнести къ тому же 1832 году, году встрѣчъ съ Хомяко
вымъ и А. О. Смирновой *).
Въ прошломъ году въ бумагахъ Пушкина найденъ еще
отрывокъ самостоятельной пѣсни на сербскую тему, напи
санный въ 1836 г.2). Въ ней видно отличное знаніе сербской
исторіи и сербскаго народнаго стиха.
Осердился Георгій Петровичъ,
Засверкали черныя очи,
Нахмурились черныя брови —
Янко Вуичъ грамоту пишетъ
Георгію, своему побратиму:
„Берегися, Черный Георгій,
Надъ тобой подымается туча —
Лютый врагъ извести тебя хочетъ,
Недругъ хитрый, Милошъ Обреновичъ —
Онъ въ Хотинъ подослалъ...
Янка младшаго...
Знаменательно, что незадолго до смерти Пушкинъ въ третій
разъ возвращается къ образу Чернаго Георгія, плѣнившаго
его въ дни юности, и не переводитъ, а сочиняетъ отъ себя
пѣсню въ духѣ народнаго эпоса, съ прекрасными паралле
лизмами: „Засверкали черныя очи, нахмурились черныя бро
ви... берегися, Черный Георгій“.
Слѣдуетъ отмѣтить, что Пушкинъ къ концу жизни все
серьезнѣе интересовался сербами и всѣми другими славянами.
Въ библіотекѣ Пушкина находились слѣдующія книги: первые
три тома сербскихъ народныхъ пѣсенъ Вука Караджича
’) Ср. въ „Русалкѣ" (возникшей въ 1832 г.) въ пѣснѣ па свадьбѣ го
ворящія рыбки и послѣдніе стихи: „дѣвица утопилась, утопая мила друга
проклинала". Есть внутреннее сродство между этой пѣснью и передѣлкой
сербской пѣсни.
) А С. Пушкин, Сочинения. Ленинград 1936, стр. 897—898.
68
(изд. 1822—24 г.), Караджичевъ словарь сербскаго народнаго
языка, Новый Завѣтъ въ сербскомъ переводѣ проф. Аѳан,
Стойковича, сборникъ сербскихъ пѣсенъ въ нѣмецкомъ пе
реводѣ Терезы А. Л. фонъ-Якобъ (псевд. Talvj) 1826—27 г,
нѣмецкая книга П. ф. Гетце „Serbische Volkslieder“ СПБ. 1827,
пресловутый сборникъ иллирійскихъ пѣсенъ „La Guzla“ 1827 г.,
затѣмъ „Жизнь и подвиги князя Милоша Обреновича верхов
наго вождя и предводителя сербскаго народа“ СГГБ. 1825,
книга Отто ф. Пирха „Reise im Spätherbst 1829“ Berlin 1830,
и путешествіе по Далмаціи аббата Фортиса во французскомъ
переводѣ 1774 года.
Вотъ девять (вѣрнѣе, 12) книгъ, связанныхъ съ югосла
вянами, въ библіотекѣ Пушкина.
Кромѣ того, у Пушкина было много книгъ по польской
исторіи, грамматики и словари польскаго языка (напр. капи
тальный 4 хтомный словарь Линде), чешскія книги и грам
матики, сборникъ словацкихъ пѣсенъ (изд. 1832), даже грам
матика сербо лужицкаго языка1).
Славянофильство Пушкина развивалось постепенно, все
расширяясь. Преждевременная смерть Пушкина была тяже
лымъ ударомъ не только для Россіи, но и для всего Сла
вянства.
Мартъ 1937 г.
’) Б. Модзалевскій. Библіотека А. С. Пушкина. Петроградъ 1910, pas
sim. См. статью С. В. Штейна, Пушкинове словенске студиіе. Руски Архив,
кн. XIV—XV (Београд 1931), стр 94—104, и П. Митропана, Пушкиново ивтересован>е за српство. Српски Кншжевни Гласник, Б. 16 фебр. 1937 г.
69
ПРИЛОЖЕНІЕ
LE CHEVAL DE THOMAS II
XVI. конь
Pourquoi pleures-tu,
mon beau cheval blanc?
pourquoi hennis-tu
douloureusement?
N’est-tu pas harnaché
assez richement
à ton gré? n’as tu pas de fers
d’argent avec des clous d’or?
n’as-tu pas des sonnettes
d’argent à ton cou,
et ne portes-tu pas le roi
de la fertile Bosnie?
Что ты ржешь, мой конь ре
тивой,
Что ты шею опустилъ?
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своихъ удилъ?
Али я тебя не холю?
Али ѣшь овса не въ волю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?
— Je pleure, mon maître,
parce que l’infidèle
m’ôtera mes
fers d’argent,
et mes clous d’or
et mes sonnettes
d’argent.
Et je hennis,
mon maître,
parce que
avec la peau
du roi de Bosnie
le mécréant doit
me faire une selle.
Отвѣчаетъ конь печальной:
„Оттого я присмирѣлъ,
Что я слышу топотъ даль
ной,
Трубный звукъ и пѣнье
стрѣлъ;
Оттого я ржу, что въ полѣ
Ужъ недолго мнѣ гулять,
Проживать въ красѣ и волѣ,
Свѣтлой сбруей щеголять;
Что ужъ скоро врагъ суро
вый
Сбрую всю мою возьметъ
И серебряны подковы
Съ легкихъ ногъ моихъ
сдеретъ;
Оттого мой духъ и ноетъ,
Что на мѣсто чепрака
Кожей онъ твоей покроетъ
Мнѣ вспотѣвшіе бока.
'J Вь дополненіе къ нашей статьѣ мы хотимъ показать,
кинъ свободно переводилъ изъ Мериме и Вука Караджича.
какъ
Пуш
70
ТРИ HAJBEFiE ТУГЕ ’)■
Славу] птица мала сваком
noKoj далз
А мени іунаку три туте за
дала:
Прва ми je туга на срдашцу
моме,
Што ме ни]е ма]ка оженила
млада;
Друга ми je туга на срдаш
цу моме,
Што Moj вранац козьиц пода
ином не игра;
Треѣа ми je туга, ах! на
срцу моме,
Што ce Moja драга на ме расрдила.
KonajTe ми раку у пол>у широку,
Два копл>а широку, четири
дугачку;
Више Moje главе ружу уса
дите,
Сниже Mojnx ногу воду из
ведите:
Koje мало npolje, нек се
ружом кити,
Koje л' старо про^е, нека
же!)у гаси.
X. СОЛОВЕЙ
Соловей мой, соловейко!
Птица малая лѣсная!
У тебя ль, у малой птицы
Неизмѣнныя три пѣсни;
У меня ли, у молодца
Три великія заботы!
Какъ ужъ первая забота —
Рано молодца женили;
А вторая то забота —
Воронъ конь мой прито
мился;
Какъ ужъ третья-то забота—
Красну дѣвицу со мною
Разлучили злые люди.
Выкопайте мнѣ могилу
Въ полѣ, полѣ широкомъ,
Въ головахъ мнѣ посадите
Алы цвѣтики цвѣточки,
А въ ногахъ мнѣ проведите
Чисту воду ключевую.
Пройдутъ мимо красны
дѣвки,
Такъ сплетутъ себѣ вѣночки;
Пройдутъ мимо стары люди,
Такъ воды себѣ зачерпнутъ.
Любопытно слѣдующее: П. О. Морозовъ въ 1887 ука
зываетъ по поводу „Соловья“, что въ рукописи этой пѣснѣ
предшествуютъ четыре сербскіе стиха:
Славі} птица мала сваком noKoj дала
А мени jyHany туге je задала:
Прва ми je туга на срдашцу моме,
Што мене je Majna оженила млада2).
Между тѣмъ въ автографѣ Пушкина, напечатанномъ
А. К. Виноградовымъ, мы читаемъ правильный текстъ:
') Букъ Стеф. КарациЬ. Народне српске njec-ме. Кн>. 1. У Линией»
1824, стр. 192—193 (№ 273).
2) Сочиненія А. С. Пушкина. Изданіе о-ва для пособія нуждающимся
литераторамъ подъ ред. П. О. Морозова. Т. J1Î, СПБ. 1887, стр. 498.
71
Славі] птица мала сваном noKoj дала
А мени ]’унаку три туте задала.
Прва ми je туга на срдашцу моме
Што ме Huje ма]ка оженила млада.
Надо думать, что это два разныхъ автографа. Хотя въ
обоихъ есть та же описка: славу вмѣсто славу], однако раз
ночтеніе во 2-мъ и 4-мъ стихѣ слишкомъ велики, чтобы до
пустить возможность невѣрнаго чтенія Морозовымъ’).
’) А. Виноградовъ говоритъ: „Не касаясь пока вопроса о тетради
Публичной Библіотеки, я привожу эти примѣры изъ № 2375 Румянц. Му
зея. Это Болдинская тетрадь, стр. 18 и 35“, назв. соч. 239 прим. 1. Подчерк
нуты Пушкинымъ два слова, которыя не были ему сразу понятны: с в а ком (^всякому) и ни je (=не есть). Не понявъ этого отрицанія, Пуш
кинъ далъ утвердительную фразу: „Рано молодца женили".
Пушкинъ въ Югославянской литературъ.
1. Всеволодъ Прокофьевъ и Димитрій Атряскинъ.
Къ вопросу объ отношеніи сербскихъ поэтовъ XIX
вѣка къ Пушкину.
Отношеніе сербскихъ поэтовъ къ Пушкину очень мало
изслѣдовано. Характерно, что при составленіи объемистаго
труда о Пушкинѣ въ южно-славянскихъ литературахъ В.Ягичъ,
Ив. Шишмановъ, М. Шрепель и И. Пріятель смогли къ празд
нованію столѣтія рожденія Пушкина дать лишь обзоръ отно
шенія болгарской, хорватской и словенской литературы къ
Пушкину; связь же сербской литературы съ великимъ рус
скимъ поэтомъ не была разсмотрѣна '). Вполнѣ понятно, что
русскій ученый (А. Степовичъ), выпуская въ тотъ же юбилей
ный годъ свою популярную „Исторію сербохорватской лите
ратуры", ограничился краткимъ замѣчаніемъ, сказавъ только
объ одномъ сербскомъ поэтѣ, что онъ „напоминаетъ нѣ
сколько нашего великаго Пушкина“2). И послѣ пушкинскаго
юбилея 1899 года, когда указанный пробѣлъ, казалось, ясно
былъ замѣченъ, положеніе мало измѣнилось: сербскіе уче
ные послѣдующихъ годовъ очень мало удѣляли вниманія
вопросу вліянія Пушкина на сербскую литературу. Не пра
виломъ, а исключеніемъ явилась маленькая, но очень содер
жательная книжка В. Чоровича, нынѣ профессора и акаде
мика, который въ 1906 году выяснилъ вліяніе Пушкина на
выдающагося поэта Воислава Илича3). Къ сожалѣнію, не
только не послѣдовало подобныхъ изслѣдованій и о дру
гихъ сербскихъ поэтахъ, но напротивъ — чрезвычайно до
кументированный очеркъ В. Чоровича даже вызвалъ неудо
вольствіе брата тогда уже покойнаго В. Илича, очень обра
зованнаго и талантливаго писателя и поэта Драгутина Или
ча: онъ нашелъ обидной эту книгу и заявилъ въ печати,
что можно говорить не о вліяніи Пушкина, а лишь о „род
ственныхъ душахъ“ русскаго и сербскаго поэта4).
Вслѣдствіе недостаточности изученія пушкинскаго влі
янія на сербскую литературу, Др. Р. Казимировичъ, напи
савшій въ 1925 году статью о Пушкинѣ у сербовъ, хорва
74
товъ и словенцевъ5), не могъ дать почти ничего новаго по
сравненію съ книгой Ягича и его сотрудниковъ. И въ по
слѣднее десятилѣтіе не находимъ почти ничего по интере
сующему насъ вопросу: самые основательные сербскіе жур
налы, какъ напр.: „Српски Кгьижевни Гласник“, „Летопис
Матице Српске“, „Мисао“, „Лужни Преглед“, не одержатъ
за эти годы ни одной статьи о вліяніи Пушкина на сербскую
литературу.
Проблема вліянія мало освѣщена и въ недавно напеча
танной книгѣ П. А. Мигропана („Пушкин код Срба“, Скопле,
1937 г., стр. 117—131) и совсѣмъ не затронута въ очеркѣ
М. М. Пешича („Пушкин“, Београд, 1937 г.). Надо полагать,
что празднуемый нынѣ юбилей Пушкина побудитъ ученыхъ
къ изученію этой проблемы. Въ данный же моментъ можно
дать лишь краткій общій обзоръ отношенія сербскихъ по
этовъ къ Пушкину. (Для этой цѣли цѣннѣйшимъ библіогра
фическимъ пособіемъ служитъ трудъ проф. А. Л. Погодина,
изданный Сербской Королевской Академіей Наукъ въ двухъ
томахъ) °). Не имѣя возможности, по размѣрамъ статьи,
довести этотъ обзоръ до нашихъ дней, мы ограничим
ся XIX вѣкомъ. Цѣлью статьи является показать, какъ
до конца шестидесятыхъ годовъ постепенно возрасталъ
интересъ сербскихъ поэтовъ къ Пушкину, какъ въ семиде
сятые годы вдругъ произошелъ перерывъ и стало казаться,
что, напротивъ, всякій интересъ къ русскому поэту исчез
нетъ, и какъ однако съ начала восьмидесятыхъ годовъ ин
тересъ вновь вспыхнулъ и перешелъ въ увлеченіе Пушки
нымъ. Главное вниманіе, разумѣется, будетъ обращено на
этотъ послѣдній моментъ, важнѣйшій вообще въ историче
ской эволюціи сербской литературы.
I.
Въ первыя десятилѣтія XIX вѣка сербы освобождаются
отъ турецкаго ига. Добившись при помощи Россіи автоно
міи, Сербское Княжество въ теченіе сороковыхъ годовъ стря
хиваетъ съ себя турецкій налетъ и быстро начинаетъ евро
пеизироваться, создавая бюрократическую администрацію, за
конодательство, судъ, просвѣщеніе. Въ этой лихорадочной
культурной работѣ значительную роль играютъ сербы изъ
тогдашней южной Венгріи, которые приносятъ въ Сербію
традицію классицизма, сразу охватившую просвѣщеніе7).
Сербская поэзія первой половины XIX вѣка дышала псев
доклассическимъ духомъ. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ
царила школа „объективной лирики“, съ которой связаны
имена Л. Мушицкаго, С. Милутиновича, 1. Стеріи — Попо
вича и I. Илича. Впрочемъ, въ ихъ классическое спокой
ствіе переживаній врывается волна трепетнаго національнаго
чувства8), которая нѣкоторыхъ изъ нихъ подчиняетъ влія
75
нію народной поэзіи, обращавшей тогда на себя всеобщее
вниманіе благодаря дѣятельности Вука Караджича9). Вліяніе
псевдоклассической струи, идущей отъ сербовъ южной Вен
гріи, и національнаго чувства, особенно сильнаго у сербовъ
освобожденнаго Княжества, сказывается на отношеніи серб
скихъ поэтовъ той эпохи къ русской литературѣ. Л. Мушицкій увлекается русскими псевдоклассиками Ломоносовымъ и
Державинымъ, котораго любитъ и которому подражаетъ и
П. Петровичъ-Нѣгошъ10). Іованъ Иличъ ставитъ Ломоносова
рядомъ съ Гегелемъ и Кантомъ, а Державина считаетъ луч
шимъ русскимъ поэтомъ11). И Пушкинъ, благословленный
Державинымъ, вызываетъ интересъ сербскихъ поэтовъ, но
интересъ, подогрѣваемый преимущественно національнымъ
чувствомъ.
Въ 1831 году появляется прозаическій переводъ „Пол
тавы“, рисующей событіе, столь тѣсно связанное съ первы
ми политическими взаимоотношеніями Россіи съ сербами въ
эпоху Пру скаго похода1-). Но особенно привлекаютъ вни
маніе сербовъ тѣ произведенія Пушкина, въ которыхъ за
трагивается героическая пора сербскаго возстанія подъ
предводительствомъ Карагеоргія. Такъ печатаются, сперва
прямо по русски, „Пѣсня о Георгіи Черномъ“, „Бонапартъ
и Черногорцы“ 13), а затѣмъ въ сербскомъ переводѣ указан
ная „Пѣсня о Георгіи Черномъ“ и „Дочери Карагеоргія“.
Въ 1840 году Ѳ. Петрановичъ14), который издавалъ „Србско-Далматински Магазинъ“, перевелъ первое изъ названныхъ
стихотвореній довольно удачно, хотя въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ свободно и съ потерей красиваго отрицательнаго срав
ненія въ началѣ !8).
Не два волка въ оврагѣ гры
зутся —
— Отецъ съ сыномъ въ пе
щерѣ бранятся.
Старый Петро сына укоря
етъ:
„Бунтовщикъ ты, злодѣй
проклятый!
Не боишься тыГоспода Бога!
Гдѣ тебѣ съ султаномъ тя
гаться,
Воевать съ бѣлградскимъ
пашою!.
Два се вука у яма колю,
Отацъ и синъ у пеЬини псую.
Стари Петро сина укорава:
„Бунтовниче, злодѣю
проклети.
Не боиш’ ли се Господа Бога,
Где е за те с Султаномъ сваIjaTce,
Съ београдскимъ воевати
Пашомъ! ..
Нѣсколько лѣтъ спустя появился и переводъ „Дочери
Карагеоргія“. Журналистъ и второстепенный поэтъ Милошъ
Поповичъ (1820—1879) издалъ въ Бѣлградѣ сборникъ сво
ихъ стиховъ „Мачъ и перо“ (1846). На этой книгѣ замѣтны
76
значительные слѣды интереса къ Пушкину. Эпиграфомъ ко
всей книгѣ служатъ пушкинскія слова: „Стократъ священъ
союзъ меча и лиры“... Весь сборникъ, въ духѣ этихъ словъ,
проникнутъ воинственнымъ націонализмомъ. Стихи „Прошлость Славяна“ съ эпиграфомъ опять изъ Пушкина („Не
властны мы въ помѣстіяхъ своихъ“) напоминаютъ о былой
славѣ славянъ и выражаютъ надежду на ея возвращеніе 16).
Понятна въ связи съ этимъ любовь Поповича къ Карагеоргію, которая побудила его перевести пушкинское стихотво
реніе „Дочери Карагеоргія“ 17).
Гроза Луны, свободы воинъ,
Покрытый кровію святой,
Чудесный твой отецъ, пре
ступникъ и герой
И ужаса людей, и славы
былъ достоинъ...
Страхъ мѣсеца, слободе борацъ,
Светомъ крвлю обоянъ,
Преступникъ и юнакъ, чу
десный твой отацъ,
И ужаса людска и славы е
достоянъ...
Но Поповичъ выбиралъ изъ Пушкина не только то,
что соотвѣтствовало духѵ воинственнаго націонализма. Ему
понравилось игриво-любовное стихотвореніе „Ты и вы“, и
онъ его не перевелъ, а передѣлалъ по сербски, утаивъ, впро
чемъ, о своемъ источникѣ ’8).
Пустое вы сердечнымъ ты
Она, обмолвясь, замѣнила,
И всѣ счастливыя мечты
Въ душѣ влюбленной воз
будила.
Кадъ ми се окану
Вы говорит’ драга,
Cpehe ми ограну
Зорица преблага...
Продолжая далѣе уже не совсѣмъ въ духѣ Пушкина ’9),
Поповичъ кончаетъ подобно своему образцу:
...И говорю ей: какъ вы
милы!
И мыслю: какъ тебя люблю!
...И говори гласно:
„Драга сте вы мени!“
„Я те любимъ страсно!“
Мышля а у себи.
Къ сожалѣнію, въ произведеніяхъ этого второстепеннаго
поэта можно найти больше слѣдовъ интереса къ Пушкину,
чѣмъ у лучшихъ поэтовъ данной эпохи, которые, однако,
тоже отдали дань вниманія Пушкину. Къ второстепеннымъ
же поэтамъ надо отнести и Стефана Поповича, автора дра
мы „Смрт цара Николе“ (1859 г). Въ ней въ духѣ обычной
въ началѣ XIX в. идеализаціи Николая Павловича главнымъ
дѣйствующимъ лицомъ и выведенъ императоръ. Однако, не
77
позабытъ и Пушкинъ, которому, правда, дана лишь незна
чительная роль20).
Однако П. Петровичъ — Нѣгошъ (1813—1851), знамени
тый авторъ „Горнаго Вѣнца“, бывшій дважды въ Петрогра
дѣ въ 1833 г, и 1837 г., съ чувствомъ глубокаго благоговѣ
нія посвятилъ въ 1845 г. памяти Пушкина стихи, въ кото
рыхъ говорилъ о приходѣ генія его съ небесныхъ высотъ.
Над зв)езданим многостручним сводом,
Над домаком умнога погледа,
Под врховним небосклоном неба
Тамо ce je tboj reiinj зачео
И щеваіьа миром помазао...21)
Это глубокое уваженіе къ Пушкину дѣлаетъ весьма
вѣроятнымъ предположеніе, что Нѣгошъ въ своемъ творче
ствѣ испыталъ нѣкоторое вліяніе Пушкина и подъ впеча
тлѣніемъ „Бориса Годунова“ создалъ свою драму „Шйепан
— Мали“ (1851)22), рисующую появленіе самозванца въ Чер
ногоріи во второй половинѣ XVIII вѣка. Впрочемъ, нужно
отмѣтить, что психологической проблемы „Бориса Годуно
ва“ Нѣгошъ не заимствовалъ. Подобно Нѣгошу интересо
вался Пушкинымъ и Іованъ Иличъ (1824—1901), тоже боль
шой славянофилъ и руссофилъ28). Любя русскую литерату
ру, Іованъ Иличъ особенно цѣнилъ Державина, а послѣ него
ставилъ Пушкина, въ которомъ прежде всего видѣлъ „ху
дожника“21). Но, подобно всѣмъ своимъ современникамъ,
Іованъ Иличъ живо интересовался и національно-воинствен
ными элементами пушкинской поэзіи. Стихи „Клеветникамъ
Россіи“, которые нѣсколько разъ переводились въ сербской
и вообще югославянской литературѣ25), произвели сильное
впечатлѣніе на Илича. Когда въ моментъ европейскихъ ре
волюцій 1848 года Франкфуртскій Сеймъ рѣшилъ, что Че
хія будетъ составной частью Германіи, возмущенный Іованъ
Иличъ вдохновляясь пушкинскими стихами и беря изъ нихъ
эпиграфомъ гордыя слова — „Вы грозны на словахъ, по
пробуйте на дѣлѣ“, съ рѣзкимъ обвиненіемъ обрушился на
нѣмцевъ:
...Куда тако наглите слщепо?
Неситости вашо] гд]е je Kpaj?...26)
Какъ видно изъ сказаннаго, въ первой половинѣ XIX
вѣка сербскіе поэты интересовались почти исключительно
„героическими“ темами пушкинской поэзіи, главнымъ обра
зомъ тѣмъ, что могло быть пріятно чисто-сербскому или бо
лѣе широкому славянскому патріотизму той эпохи. Между
78
тѣмъ это настроеніе вполнѣ соотвѣтствовало политическому
моменту сербской исторіи, какъ и исторіи хорватовъ и сло
венцевъ27). И въ послѣдующія десятилѣтія оно еще болѣе
усилилось.
Революціонное движеніе 1848 года, когда Сербія ясно
почувствовала себя „Піемонтомъ Югославянства“28) смѣни
лось общеевропейской реакціей пятидесятыхъ годовъ, кото
рая лишь усилила придавленныя національно-революціонныя
тенденціи, ярко прорвавшіяся потомъ въ шестидесятые годы.
Духовная жизнь сербовъ въ эти годы вся пропитана кипучей
дѣятельностью новаго поколѣнія, создавшаго въ 1866 году
общество „Объединенной Сербской Молодежи“-9). Предста
вители этого движенія проникнуты духомъ національнаго
романтизма и романтическаго бунтарства. Сербскій литера
турный романтизмъ, развивающійся подъ нѣмецкимъ вліяні
емъ и достигающій въ шестидесятые годы апогея, носитъ
почти исключительно націоналистическій характеръ, не имѣя
въ себѣ религіозныхъ и философскихъ элементовъ, прису
щихъ этому движенію въ другихъ европейскихъ странахъ20).
Кумиръ романтиковъ — Байронъ — интересуетъ главнымъ
образомъ своей позой защитника униженныхъ и оскорблен
ныхъ. Чувство свободы и независимости достигаетъ силь
нѣйшей остроты3’).
Байронизмъ проникъ въ сербскую литературу не толь
ко черезъ посредство нѣмецкихъ, но и русскихъ поэтовъ,
главнымъ образомъ Пушкина и Лермонтова32). Уже въ кон
цѣ тридцатыхъ годовъ въ сербской печати появлялись за
мѣтки о вліяніи Байрона на Пушкина. Иногда къ напечатан
нымъ пушкинскимъ стихотвореніямъ дѣлалось примѣчаніе,
что они выбраны именно для того, чтобы познакомить серб
скую публику съ Байрономъ83). Подъ сильнымъ вліяніемъ
англійскаго поэта былъ основатель сербскаго романтизма
Бранко Радичевичъ, писавшій въ концѣ сороковыхъ и въ
началѣ пятидесятыхъ годовъ, и самый типичный романтикъ
сербской поэзіи Джюра Якшичъ, выдвинувшійся въ шести
десятые годы34). Въ эти же годы два второстепенныхъ по
эта, охваченные общимъ настроеніемъ молодежи, заинтере
совались самой байронической поэмой Пушкина „Кавказскій
Плѣнникъ“.
Одинъ изъ видныхъ представителей „Объединенной
Сербской Молодежи“, Стоянъ Новаковичъ (1842 1915) на
ціоналистъ и либералъ, начавшій какъ поэтъ, а впослѣдствіи
выдвинувшійся на первое мѣсто, какъ политикъ, историкъ и
филологъ, выпустилъ въ 1862 году сборникъ своихъ сти
ховъ („Певанща“, Београд, 1862). Здѣсь можно найти рядъ
стихотвореній,полныхъ романтической разочарованности (напр.
„Свете, свете“, „Не тужи“, „Вени, вени"), и также много
ярко патріотическихъ стиховъ (напр. „Сава“, „Латагану“, „Са-
79
іьаш робе /ьути“). Очень возможно, что именно это соеди
неніе свободолюбія и разочарованія привело его къ перево
ду „Кавказскаго Плѣнника“ въ народномъ эпическомъ раз
мѣрѣ и порой слишкомъ свободно35).
Текутъ бесѣды въ тишинѣ,
Луна плыветъ въ ночномъ
туманѣ ..
И вдругъ предъ ними на
конѣ
Черкесъ. Онъ быстро на
орканѣ
Младого плѣнника влачилъ.
„Вотъ русскій!“ хищникъ
возопилъ...
Све je тихо, ту се збори
зборе,
Нойном маглом блщед Mjeсец плови.
Ал ев' пред них Черкез изненада
Води собом роба свезанога
„Ево Руса!“ — ]унак про’говара...86)
Въ 1865 году Ст. Новаковичъ началъ издавать журналъ
„Вила“. Въ первомъ же номерѣ находимъ сдѣланный имъ
тоже очень свободный переводъ романтически скорбнаго
стихотворенія Пушкина „Что въ имени тебѣ моемъ?“37).
Что въ имени тебѣ моемъ?
Оно умретъ, какъ шумъ пе
чальный
Волны, плеснувшей въ бе
регъ дальный,
Какъ звукъ ночной въ лѣсу
глухомъ.
Что въ немъ? Забытое давно
Въ волненьяхъ новыхъ и мя
тежныхъ,
Твоей душѣ не дастъ оно
Воспоминаній чистыхъ нѣж
ныхъ...
Што тако мариш ти за име
Moje?
ТЬега he нестат’ као шушке
сетне
Кад талас груне о обалу
хладну
Ил' проз нок тихи гласак
тихо летне.
Што заіьга мариш? У метему силном
Сад и одавно минуло je
веке,
Нщедан спомен оно Teojoj
души
Чистки, нежни)’ веру) кренут’ неИе!...
Одновременно съ Новаковичемъ заинтересовался Пушки
нымъ другой второразрядный поэтъ, учитель Петръ Деспотозичъ (1847 — 1917), свободолюбивый націоналистъ, призы
вавшій въ своихъ стихахъ къ борьбѣ (напр. „Милена 6paho“,
„Роду“)18). На него большое впечатлѣніе произвели поэмы
Пушкина „Цыгане“ и „Кавказскій Плѣнникъ“, обѣ, вѣроят
но, тоже романтической любовью къ свободѣ. Въ 1866 г.
онъ перевелъ (очень свободно) отрывокъ изъ „Цыганъ“39).
80
Птичка Божія не знаетъ
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свиваетъ
Долговѣчнаго гнѣзда;
Въ долгу ночь на вѣткѣ
дремлетъ;
Солнце красное взойдетъ—
Птичка гласу Бога внемлетъ,
Встрепенется и поетъ...
Ни работе, нити труда
Тица мала нема,
Вече до^е — она мирно
У свом ггьезду дрема.
Hoh cnoKOjHO сву проспава,
А кад зора сване,
Тад се тица мала дигке,
Па nojaTH стане...
Нѣсколько лѣтъ позже Деспотовичъ перевелъ и „Кав
казскаго Плѣнника“, который также страдаетъ вольностями
перевода40).
...Черкесъ. Онъ быстро на
арканѣ
Младого плѣнника влачилъ.
„Вотъ русскій“, хищникъ во
зопилъ.
Аулъ на крикъ его сбѣ
жался
Ожесточенною толпой...
...Черкез ]’едан роба тера;
Роб je вез ан у ланцима.
Ево Руса, ево звера!...
На maj глас се све yapyja,
К’о да наста бес, холу/а.У)
Свободолюбіе, которое заставило Деспотовича заняться
этими поэмами Пушкина, сказалось и въ его интересѣ къ
„Іоанну Дамаскину“ А. Толстого, переведенному имъ въ 1867
году42).
Одновременно съ переводами Ст. Новаковича и П. Дес
потовича появились переводы самаго крупнаго поэта этой
эпохи, Іована Іовановича—Змая (1833—1904). Чрезвычайно
разносторонній и необычайно плодовитый Змай много пере
велъ изъ иностранныхъ литературъ — венгерской, нѣмецкой,
русской и др. Въ 1862 году онъ напечаталъ „Шотландскую
пѣсню“48). Это не переводъ, а очень свободное переложеніе
Пушкина.
..Воронъ ворону въ отвѣтъ:
Знаю, будетъ намъ обѣдъ:
Въ чистомъ полѣ, подъ ра
китой,
Богатырь лежитъ убитый...
...Знам ja ране, друг му вели,
Колико ти срце жели,
Под планином крвав, бледан,
Мртав лежи коіьик )едан...
Въ слѣдующемъ году Змай перевелъ „Демона“ Лер
монтова44), а въ 1867 г. отрывокъ изъ „Полтавы“ Пушкина.
Нужно сказать, что и здѣсь нѣтъ простого перевода. Змай
очень свободно передѣлывалъ пушкинскіе стихи, давая кра
сивый и легкій сербскій текстъ, но весьма далекій отъ рус
скаго оригинала.
81
Богатъ и славенъ Кочубей.
Его луга необозримы,
Тамъ табуны его коней
Пасутся вольны.нехранимы...
Кочубе] ти много вреди,
Jep je богат, па на гласу:
Нэиве су му недогледне,
Грдне паше и поъане,
Де ергеле небро]ане
У слободи пасу...
Или дальше:
Была та смутная пора,
Когда Россія молодая,
Въ бореньяхъ силы напрягая,
Мужала съ геніемъ Петра...
То je мутно доба било,
Доба борбе, доба рада,
Кад се оно Руска млада
Опируй’ се против сила
CboJhm Петром соколила45),..
Помимо слишкомъ свободнаго обращенія съ пушкин
скимъ текстомъ, нельзя не отмѣтить, что Змай количественно
перевелъ изъ Пушкина въ шестидесятые годы меньше, чѣмъ
второстепенные поэты, Ст. Новаковичъ и П. Деспотовичъ.
Повторилось то явленіе, которое уже было отмѣчено нами
при упоминаніи предшествующаго'періода исторіи сербской
литературы: крупные поэты проявляли къ Пушкину меньше
интереса, чѣмъ незначительные. Сравнивая же интересъ данна
го періода къ Пушкину съ предыдущимъ, нельзя не отмѣтить
возрастаніе этого интереса. Романтизмъ заставилъ сербскихъ
поэтовъ познакомиться съ байроническими поэмами Пушкина,
войти глубже въ цѣлый періодъ пушкинскаго творчества.
Можно было ожидать, что наконецъ послѣдуетъ знакомство
съ самыми характерными произведеніями Пушкина, съ тво
реніями художественнаго реализма... Но въ эти годы въ серб
скую духовную жизнь ворвалась новая струя, которая поро
дила сразу рѣзкій психологическій поворотъ, подъ вліяніемъ
котораго едва не заглохъ всякій интересъ къ творчеству
великаго русскаго поэта.
II
Съ конца шестидесятыхъ годовъ въ Сербіи, рядомъ съ
сильнымъ національнымъ подъемомъ, устремленнымъ къ
борьбѣ съ турками, ясно проявляется и гражданская идея,
желаніе внутри своего государства добиться политическихъ
правъ. И когда въ результатѣ войны съ турками 1876—78 г.
турецкая верховная власть была навсегда свергнута, Сербія
стала ареной ожесточенной борьбы за парламентаризмъ, боръб
82
бы, непрерывно продолжающейся до начала ХХ-аго вѣка 46).
Эпоха національно-романтической борьбы противъ турецкаго
суверенитета смѣнилась періодомъ политически-реалистической борьбы за суверенитетъ народный. Духовнымъ отцомъ
этого новаго движенія былъ Свѣтозаръ Марковичъ, который
съ 1866 по 1869 годъ жилъ въ Россіи, будучи студентомъ
„Института Инженеровъ Путей Сообщенія“. Въ Петроградѣ
онъ сошелся съ русскими радикальными кружками и увлекся
идеями Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева Побывавъ
послѣ Россіи въ Швейцаріи и сблизившись съ русскими со
ціалистами въ эмиграціи, онъ вернулся въ Сербію убѣжден
нымъ соціалистомъ и провозгласилъ новые принципы: въ
политикѣ — уничтоженіе бюрократіи и осуществленіе идей
соціализма, въ литературѣ — отрицаніе чистаго искус
ства и введеніе соціально-обличительнаго реалистическаго
направленія. Бъ качествѣ пламеннаго послѣдователя Черны
шевскаго, онъ вдохновлялся, какъ „Эстетическими отноше
ніями искусства къ дѣйствительности“, такъ въ особенности
„Очерками Гоголевскаго періода“. Значитъ, ему представля
лось несомнѣннымъ, что „разумный“ реализмъ введенъ въ
русскую литературу I оголемъ; Пушкинъ же оказался отне
сеннымъ въ станъ осуждаемыхъ и признанныхъ изжитыми
поэтовъ чистаго искусства. Марковичъ и призывалъ серб
скихъ писателей слѣдовать за Гоголемъ, въ которомъ цѣ
нилъ лишь его обличеніе бюрократіи и помѣщиковъ47). Еще
изъ Россіи въ 1868 г. Марковичъ прислалъ въ новосадскій
журналъ „Матица“ статью „о поэтическомъ творчествѣ и
мышленьи“, въ которой доказывалъ, что поэтъ долженъ слу
жить обществу, а не мнить себя высшимъ существомъ, воз
вышающимся надъ толпой48). Два года спустя въ томъ же
журналѣ онъ писалъ „о реальности въ поэзіи“, напоминая,
что не время заниматься поэзіей, когда западно-европейскій
пролетаріатъ борется за свободу, и радуясь, что „лиризмъ
исчезаетъ все болѣе, а вмѣсто него является критическое
изслѣдованіе современнаго общества со всѣми его нуж
дами“49). Идеи Марковича нашли широкій откликъ въ серб
скомъ обществѣ семидесятыхъ годовъ; сербскіе писатели и
поэты пошли за нимъ. Ихъ интересъ къ русской литературѣ
теперь развивался и направлялся по указкѣ Марковича.
Русская литература, вмѣщавшая въ себѣ два направ
ленія — „пушкинское“ и „гоголевское“50), переживала въ
шестидесятые годы сильное давленіе именно „гоголевской“
струи, которая, въ ея отношеніи къ поэтамъ, скорѣе могла
бы быть названа „некрасовской“. Поэты — служители чи
стой красоты, творившіе „во имя прекраснаго“, должны
были вмѣстѣ съ А. Толстымъ идти „противъ теченія“. Рус
ское „гоголевское“ направленіе, сгущенное радикализмомъ
Писарева, породило черезъ посредство Св. Марковича цѣ-
83
лую струю въ сербской литературѣ. Вліяніе Гоголя на
сербскихъ писателей семидесятыхъ годовъ стало очень
сильнымъ51). Пушкинъ, какъ поэтъ, напротивъ, словно во
все потерялъ свое обаяніе: въ теченіе семидесятыхъ го
довъ не переведено ни одного лирическаго стихотворенія
Пушкина; ни поэмы, ни драмы не интересовали читающую
публику; лишь пушкинская проза („Пиковая Дама“, „Вы
стрѣлъ“ и „Барышня Крестьянка“) переводилась въ эти го
ды52). Стоянъ Новаковичъ, въ самомъ началѣ пропаганды
Св. Марковича, сталъ знакомить сербскихъ писателей съ Пи
саревымъ; Іованъ Іовановичъ-Змай, по своему духу близкій
къ Некрасову53), теперь переводитъ Д. Д. Минаева и До
бролюбова54).
Свѣтозаръ Марковичъ, очень рано скончавшійся (въ 1875
г.), оставилъ много вѣрныхъ послѣдователей, но не всѣмъ
удалось успѣшно осуществить завѣты своего учителя. Сре
ди писателей даже такой прямолинейный ученикъ Марко
вича, какъ Милованъ Глишичъ, несмотря на свою тенден
ціозность, создалъ рядъ художественныхъ произведеній. Съ
поэзіей дѣло обстояло иначе: подъ вліяніемъ Марковича въ
поэзіи Джюры Якшича повѣяло соціализмомъ; Змай напи
салъ „На могилѣ разстрѣлянныхъ коммунистовъ“55). Осно
ватель соціалистической поэзіи Яша Томичъ, подобно Мар
ковичу, очень цѣнившій Змая за его обличительную поэзію56),
сталъ въ своихъ стихахъ громить деспотовъ, „проливающихъ
потоки крови“ своихъ подданныхъ57). Сторонникъ Маркови
ча, поэтъ Владимиръ Іованозичъ писалъ о тоскѣ сапожни
ка, который бѣденъ и „вѣчно работаетъ на другихъ“58). На
конецъ, ушедшій далѣе всѣхъ послѣдователей Марковича,
очень талантливый поэтъ Коста Абрашевичъ, подражавшій
нъ нѣкоторыхъ стихахъ Якшичу, сталъ въ девяностыхъ го
дахъ призывать рабочихъ „пить кровь тиранозъ“, грозя „угне
тателямъ“ „красной местью“59). Такое узко-тенденціозное на
правленіе сербской поэзіи, значительно ушедшее отъ русскаго
некрасовскаго и надсоновскаго стиля, вызвало реакцію. Если
уже среди писателей въ концѣ семидесятыхъ годовъ ока
зался отщепенецъ, талантливый Лаза Лазаревичъ, превратив
шійся изъ матеріалиста въ идеалиста,изъ обличителя въ чистаго
художника60), то тѣмъ болѣе и среди поэтовъ нашлись недо
вольные крайностями идей Марковича. Оплотомъ оппозиціи его
направленію сталъ домъ поэта Іована Илича и его четырехъ сы
новей, поэтовъ. Здѣсь возникъ очагъ идеи чистой поэзіи, здѣсь
возродилось и увлеченіе Пушкинымъ. Такъ въ сербской ли
тературѣ возникло двѣ рѣзко различныя струи поэзіи, кото
рыя въ то же самое время и подъ тѣми же самыми русски
ми вліяніями появились и въ болгарской литературѣ, гдѣ Л.
Каравеловъ и Хр. Ботевъ шли за болѣе сильной „гоголев
ской“, а П. Славейковъ и И. Вазовъ за „пушкинской“ струей61).
84
Іованъ Иличъ, который въ сороковые и пятидесятые
годы принадлежалъ къ псевдоклассической „школѣ объек
тивной лирики“, а въ послѣдующія десятилѣтія сталъ ро
мантикомъ, не захотѣлъ подчиниться въ семидесятые го
ды вліянію идей Св. Марковича. Его романтизмъ какъ-то
умѣрялся псевдоклассическими традиціями, его творчество
отличалось психологической уравновѣшенностью, его возвы
шенный взглядъ на поэзію никогда не мѣнялся62). Тогда
какъ Змай считалъ, что поэзія должна облегчать горе и стра
даніе63), Іованъ Иличъ думалъ, что поэзія — „это ожерелье
на бѣлой шеѣ молодой дѣвушки“, „вино, которое опьяняетъ
душу тѣмъ, что красиво и хорошо“64). Свое идеалистическое
пониманіе искусства, свой идеалъ чистой красоты Іованъ
Иличъ передалъ своимъ четыремъ сыновьямъ, на которыхъ
вліяніе отца было рѣшающимъ65).
Старшій Милутинъ Иличъ (1856—1892), авторъ стиховъ,
разсказовъ и комедій, высмѣивалъ радикально настроенныхъ
соціалистовъ въ комедіи „Новое Время“ и въ нѣкоторыхъ
стихахъ (напр. „Господство Разсудка“), а въ одномъ стихо
твореніи въ прозѣ противопоставилъ „идеалистку — розу“,
наслаждающуюся пѣніемъ соловья, „реалисткѣ-крапивѣ“, счи
тающей себя полезной обществу своими ядовитыми каче
ствами66).
Второй и самый любимый сынъ Іована Илича — Драгутинъ Иличъ (1858 — 1926) былъ самымъ плодовитымъ изъ
всѣхъ Иличей. Онъ написалъ драмы, эпическія произведенія,
лирическіе стихи, разсказы, романы и множество критиче
скихъ статей67). Ягичъ считалъ его „даровитѣйшимъ серб
скимъ поэтомъ“ той эпохи68). Драгутинъ Иличъ сталъ печа
тать стихи уже во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ,
а особенно активно сталъ работать на литературномъ по
прищѣ съ 1880 г., когда возобновилось издательство журна
ла „Отацбина“ (Отечество) подъ редакціей Владана Джор
джевича. Этотъ журналъ, въ которомъ сотрудничали всѣ
братья Иличи, приступилъ къ рѣшительной борьбѣ съ иде
ями матеріализма69). Драгутинъ Иличъ находилъ въ теоріи
Марковича узкій утилитаризмъ, съ горечью отмѣчалъ пере
мѣну въ творчествѣ Якшича и Змая, считалъ, что въ произве
деніяхъ Яши Томича и Владимира Іовановича вообще нѣтъ
искусства, т. к. тамъ нѣтъ „поэзіи для поэзіи“, и возмущался
тѣмъ, что „полуобразованная молодежь“ восторгалась Мар
ковичемъ, который осмѣлился не признать поэзіи ІованаИлича — „представителя художественной красоты и возвы
шенныхъ идеаловъ“70).
Поэтическіе взгляды Драгутина Илича складывались не
только подъ вліяніемъ отца, но и въ связи съ непереставав
шимъ чтеніемъ русскихъ поэтовъ, особенно Пушкина и Лер
монтова, отъ которыхъ онъ принялъ идею о поэтѣ, какъ
85
высшемъ существѣ71). Несомнѣнно было вліяніе и Жуков
скаго, мысль котораго проскальзываетъ въ выраженіи Д.
Илича — „поэзія въ извѣстной степени подобна религіи“ 7S).
Но изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ Д. Иличъ вдохновлялся
больше всего Пушкинымъ. Осуждая современныхъ поэтовъ,
которые „гоняются то за Надсономъ, то за Пушкинымъ“,
онъ подчеркивалъ, что истинная поэзія имѣетъ уже много
крупныхъ авторитетовъ и, называя рядъ сербскихъ и ино
странныхъ поэтовъ, изъ русскихъ указывалъ только на Пуш
кина78). Переводя немного изъ Державина, Лермонтова и
Шевченко, Д. Иличъ изъ Пушкина выбралъ для перевода
цѣлый рядъ произведеній — лирическихъ, эпическихъ и дра
матическихъ.
Среди переводовъ Д. Илича изъ Пушкина мы находимъ
и лирику мысли („Телѣга жизни“) и лирику чувства („Испан
скій романсъ“), причемъ послѣднее больше удалось ему.
ТЕЛѢГА ЖИЗНИ
ТАЛ.ИГЕ ЖИВОТА
. . . Съ утра садимся мы въ
телѣгу,
Мы погоняемъ съ ямщикомъ
И. презирая лѣнь и нѣгу,
Кричимъ: валяй по всѣмъ по
тремъ!..
Но въ полдень нѣтъ ужъ той
отваги—
Порастрясло насъ, намъ
страшнѣй
И косогоры и овраги,
Кричимъ: полегче, дуралей!..
. . . Лутром седа]уѣ’ у брзе
та.ъиге
Гонимо бесно, тек што ире,
Презируѣ’ лешост и ѣене
бриге,
Вичемо: „Напред, гази све!“
Ал’ подне вей je, ми смо сустали,
Растресло нам се тело сво,
Помало смо се страшити
стали,
Вичемо: „Лакше будало!..“74).
Какъ видно, пушкинскій ямбъ совершенно не сохраненъ,
а переводъ не вездѣ точенъ. Меньше отступленій отъ ори
гинала въ подборѣ словъ и частью даже въ хореическомъ
размѣрѣ (хотя ямбъ не переданъ) находимъ при разсмотрѣніи
»Испанскаго романса“.75)
Ночной зефиръ
Струитъ эфиръ.
Шумитъ,
Бѣжитъ
Г вадалквивиръ.
Вотъ взошла луна златая,
іише... чу... гитары звонъ...
Вотъ испанка молодая
'Оперлася на балконъ...
Тихи зефир
Стру]и етир,
Шуми,
Лети
Гвадалкивир.
Месечина трепти cjajna,
Тише! 4yj, гитаре звон!
Шпан>олкин>а, ено, ба]на,
Наслаіьа се на балкон...
85
Изъ эпическихъ произведеній Пушкина Д. Иличъ взялся
за „Руслана и Людмилу“. Переводъ этой поэмы довольно
удаченъ, но страдаетъ плохо выдержаннымъ ямбомъ, иногда
излишней свободой передачи текста и нѣсколькими ошибками
въ пониманіи русскаго языка:
Напримѣръ:
Тамъ ступа съ бабою-Ягой
Идетъ-бредетъ сама съ со
бой...
Ту ступа са Баба JaroM
Иде и оротьа(!) са собом...76)
Но рядъ другихъ мѣстъ переведенъ довольно удачно:
У лукоморья дубъ зеленый,
Kpaj морске луке дуб зелени,
Златая цѣпь на дубѣ томъ;
Златан je ланац на дубу том.
И днемъ и ночью котъ уче
Дан и Hoh мачак ту учени
ный
Все ходитъ по цѣпи кругомъ:
Шета по ланцу силетеном.
Идетъ направо—пѣснь заво
У десно — песму он изводи,
дитъ,
Налѣво—сказку говоритъ...
У лево — 6ajKy наводи... ”)
Больше всего Д. Иличъ переводилъ драматическія про
изведенія. Самъ авторъ двѣнадцати драмъ, Д. Иличъ счита
ется нѣкоторыми сербскими учеными „величайшимъ драма
тическимъ писателемъ, даннымъ Сербіей“78). Изъ пушкин
скихъ драмъ онъ остановился на „Русалкѣ“, „Каменномъ
Гостѣ“ и „Мсцартѣ и Сальери“. Всѣ эти переводы, изъ ко
торыхъ лишь „Русалка“ очень подробно разобрана Ягичемъ79),
обладаютъ тѣми же недостатками, что и „Русланъ и
Людмила“, но подобно этой поэмѣ и драмы мѣстами пере
ведены точно, легко и красиво. „Русалку“ Д. Иличъ напеча
талъ въ 1896 г. Увлекаясь темами, касающимися древней,
сказочной поры славянъ, Д. Иличъ такъ заинтересовался
этимъ произведеніемъ Пушкина, что первоначально намѣре
вался даже дополнить и окончить его80). Не плохо вышелъ
у него переводъ напр. словъ дочери мельника „Ахъ, нако
нецъ ты вспомнилъ обо мнѣ“81).
Ахъ, наконецъ ты вспомнилъ
обо мнѣ!
Не стыдно ли тебѣ такъ дол
го мучить
Меня пустымъ, жестокимъ
ожиданьемъ?
Чего мнѣ въ голову не при
ходило?
Какимъ себя я страхомъ не
пугала?..
Ах, ]едва )едном и ja на умуГ
Зар се не стидиш тако без
душно,
Да мориш срце пустим че'
каіьем?
И шта ми HHje на ум падало?
Каква ме страва HHje хва
тала?..
87
Но особенно хорошо у Д. Илича звучатъ пѣсни русаЛОКЪ. -)
Веселой толпою
Съ глубокаго дна,
Мы ночью всплываемъ,
Насъ грѣетъ луна!..
У веселом jaiy,
Са дубока дна,
Ми иловимо HOhy,
А месец нам cja.
(Любо намъ) Подавать другъ
дружкѣ голосъ,
Воздухъ звонкій раздражать,
И зеленый, влажный волосъ
Въ немъ сушить и отряхать.
Разлежу се наши гласи,
JacHO звони тамна ной,
И зелене влажне власи
Расшресамо ио сву ной.
Еще до этого перевода появился въ 1894 г. „Каменный
Гость“, въ которомъ, можетъ-быть, Д. Иличъ видѣлъ из
вѣстную мистику, всегда его привлекавшую. Качество пере
вода было не ниже „Русалки“, какъ это можно видѣть изъ
слѣдующаго отрывка:83)
(Лаура:) Приди—открой бал
конъ. Какъ небо тихо!
Недвижимъ теплый воздухъ,
ночь лимономъ
И лавромъ пахнетъ, яркая
луна
Блеститъ на синевѣ густой
и темной...
Отвори балкон. Тихо како
je!
Топал je ваздух, а ной лимуном
И лавром мири, месец бле
вани
Светли на плавну густом и
тамном...
Появившійся въ промежуткѣ между этими двумя дра
мами переводъ „Моцарта и Сальери“, навѣрно интересовав
шій Д. Илича въ связи съ его взглядами на поэта-генія, на
людей, „избранныхъ,... пренебрегающихъ презрѣнной поль
зой“, — не особенно удаченъ. Вопреки мнѣнію Ягича. счи
тавшаго, что „переводъ удался, какъ нельзя лучше“,84) при
ходится отмѣтить нѣсколько грубыхъ ошибокъ въ пониманіи
русскихъ выраженій.
Начинается (если не считать излишнихъ вольностей пе
ревода) хорошо:
Всѣ говорятъ: нѣтъ правды
на землѣ.
Но правды нѣтъ и выше.
Для меня
Такъ это ясно, какъ простая
гамма.
Родился я съ любовію къ
искусству...
нема правде на
зем.ъи,
Ал’ ни на небу Huje. За ме je
Сви кажу:
npejacuo ово као jacHii дан.
Вештину
л>убл>ах од свог
роіуеіьа ,.85)
88
Но потомъ находимъ такія, напримѣръ, ошибки:
. „Онъ нѣсколько занесъ
намъ пѣсенъ райскихъ“...
. . „На третій день игралъ
я на полу
Съ моимъ сынишкой ..“
.
. „Песмама ра)скимоннйс
заноси...и 86)
. . „Кад треНег дана сварах
заjeдно
С MojHM синчиИем...“87)
.
Такихъ ошибокъ можно было бы указать много. Нужно
сказать, что вообще эти переводы показываютъ, что у Д.
Илича не было глубокаго знакомства съ русскимъ языкомъ.
Ягичъ справедливо удивлялся тому, что у Д. Илича „рако
вина“ значила „цвейе“, а „обинякомъ“ — „у загрл>а]у“!ss)
Впрочемъ, слѣдуетъ имѣть въ виду, что Д. Иличъ непрерыв
но въ послѣдующіе годы читалъ книги на русскомъ языкѣ89)
и такимъ образомъ совершенствовалъ свое знаніе русскаго
языка. А главное, надо отмѣтить, что Д. Иличъ, не всегда
правильно понимая отдѣльныя слова Пушкина, прекрасно
понялъ его самыя сокровенныя идеи, его любимые картины
и образы, о чемъ свидѣльствуютъ и самостоятельныя лири
ческія стихотворенія сербскаго поэта.
Въ стихотвореніяхъ Д. Илича,90) воспѣвающихъ, подоб
но Пушкину, и любовныя темы, и патріотическія, и рели
гіозныя, и политически-революціонныя, мы находимъ очень
много и яркихъ описаній природы въ разныя времена года,
а особенно интересны его философскіе стихи съ размышле
ніями о поэзіи совсѣмъ въ духѣ русскаго поэта Именно эти
двѣ послѣднія группы особенно напоминаютъ стихотворенія
Пушкина. Картина зимней вьюги, сопровождающей ѣдущаго
на тройкѣ путника, или завывающей вокругъ дома („Зимній
вечеръ“, „Зимняя дорога“, „Бѣсы“ и т. д.), проглядываетъ у
Д. Илича, напр. въ его стихотвореніи, которое тоже напи
сано хореическимъ размѣромъ и тоже называется „Зимній
вечеръ“ („Зимско вече“)01).
Бурно вече, ветар вще,
Са висине сипа снег,
Буря мглою небо кроетъ,
Под покровом да сакрще
Вихри снѣжные крутя,
Равна полна, до.ъу, брег.
То какъ звѣрь она завоетъ,
То заплачетъ какъ дитя...
Холуіа се страшна хори
(Зимній вечеръ)
У ковитлац диже лет.
Сад застане, сад захори
Да грбином сруши свет.
. Ъду, ѣду въ чистомъ
полѣ,
Колокольчикъ динь - диньдинь... (Бѣсы)
.
.
А кроз вихор звонце звони
Сетним гласом: тин-тин-тан,
Чиле вранце од)ек гони
Тужне песме од]ек знак...
89
Въ философскихъ стихотвореніяхъ Д. Илича бросается
въ глаза сходство между его „Избранникомъ“ и пушкин
скимъ „Пророкомъ“92). Поэтъ, по мнѣнію Д. Илича, это
избранникъ Божій, который открываетъ міру небесныя исти
ны Онъ говоритъ, что „открылъ свое сердце передъ ли
цомъ вѣчной славы“, что, „пламя Правды озарило черную
бездну (души)“, изъ которой тогда исчезъ мрачный духъ.
„А Вѣчный сказалъ мнѣ: „Теперь иди, Избранный,
Предъ обнаженнымъ мечомъ пусть падаетъ не
вѣрный!“
И называя его „Пророкомъ“, Богъ посылаетъ его къ
людямъ „возглашать правду“, говоря что невѣрному слова
проповѣди . копьемъ вырѣжетъ на сердцѣ“.
Подобные примѣры могли бы быть умножены, но под
робное разсмотрѣніе вліянія Пушкина на одного только Д.
Илича должно быть предметомъ особой статьи98). Въ рав
ной мѣрѣ многое можно было бы сказать о вліяніи другихъ
русскихъ поэтовъ, напримѣръ Лермонтова на Д. Илича94).
Ограничиваясь, однако, по необходимости, сказаннымъ, мы
можемъ сдѣлать опредѣленный выводъ: Драгугинъ Иличъ,
по своей психологіи, сложившейся главнымъ образомъ подъ
вліяніемъ отца, оказался очень воспріимчивымъ къ пушкин
скому творчеству. Высоко ставя Пушкина, Д. Иличъ пере
водилъ много его произведеній — лирическихъ, эпическихъ
и драматическихъ — и въ своемъ творчествѣ обнаружилъ
ясные слѣды пушкинскихъ образовъ, чувствъ и идей. Драгутинъ Иличъ самъ это хорошо сознавалъ и потому съ
чувствомъ глубокаго благоговѣнія посвятилъ Пушкину одно
изъ своихъ стихотвореній — „Вѣткѣ съ пушкинскаго кипа
риса“ (1887 г.). Все проходитъ, все исчезаетъ, писалъ
онъ; подъ сѣнью этого кипариса творилъ когда-то „сѣвер
ный геній — „любимецъ музъ“, безвременно погибшій. Все
проходитъ... и кипарисъ этотъ падетъ когда-нибудь, но
слава великаго поэта, „слава, витавшая здѣсь подъ сѣнью
кипариса“, не умретъ никогда и будетъ безконечно сіять
«во мракѣ вѣчности“...
...И он95) he пасти, али слава она
Под овом сенком што се некад вила,
Кроз вечност мрачну треперийе зраком
И силно CBoja уздизаги крила96).
Если уже Драгутинъ Иличъ проявилъ довольно силь
ное увлеченіе Пушкинымъ, то его младшій братъ Воиславъ
Иличъ подпалъ подъ еще большее вліяніе русскаго по
эта. Это выяснено самими сербскими учеными. Воиславъ
Иличъ (1862—1894), болѣзненный отъ рожденія, былъ об-
90
реченъ долгое время на безвыходное сидѣніе дома (до пят
надцати лѣтъ вообще не выходилъ изъ дому). Подобно Драгутину, и онъ былъ подъ большимъ вліяніемъ отца, и онъ
увлекался чтеніемъ русскихъ поэтовъ, особенно Пушкина и
Жуковскаго97). Когда ему было 24 года, онъ вспоминалъ,
что въ юношествѣ на него произвелъ огромное впечатлѣніе
Пушкинъ, съ произведеніями котораго въ рукахъ онъ „по
цѣлымъ ночамъ мечталъ о чарахъ женской красоты“ въ сти
лѣ „блѣдной Татьяны“. Чувствуя любовь къ этому пушкин
скому образу, В. Иличъ испытывалъ какой-то страхъ пе
редъ Онѣгинымъ. Романтичный Ленскій ему больше нра
вился98). При наличіи такого восторженнаго чтенія понятно,
что въ поэзіи Илича очень замѣтно отраженіе „пушкинскихъ
мотивовъ, стихотворнаго размѣра, формы и выраженій''99),
что Пушкинъ обнаруживается „въ тонѣ и въ темахъ“ сти
хотвореній сербскаго поэта100).
В. Иличъ, въ отличіе отъ брата Драгутина, не перево
дилъ изъ Пушкина, но нѣсколько его стихотвореній настоль
ко близки къ пушкинскимъ образцамъ, что часто кажутся
передѣлкой русскаго текста. В. Чоровичъ указалъ на „Грусть
старика“ и „Испанскій обычай“, Скерличъ на „Вакха и Купи
дона“ и „Овидія“101). Дѣйствительно, нѣкоторыя фразы цѣ
ликомъ взяты у Пушкина, не говоря уже объ общемъ за
мыслѣ и сюжетѣ. Вотъ отрывокъ изъ „Грусти старика“:
Подъ бурями
судьбы же
стокой
Увялъ цвѣтущій мой вѣнецъ!
Живу печальный одинокій
И жду: придешь ли мой ко
нецъ?
Ах, нигде песме веселе
У царству вечног сна!
И руже вей су увеле,
Ко што сам свео ja.
Све Ьути ту. И седи век
Суморни снева сан,
У прошло) среИи тражи лек
И чека смрши дан...'0 ).
Несомнѣнно и общій элегическій духъ и сходство об
разовъ („увялъ... вѣнецъ“ — „руже веИ су увеле“) доказыва
ютъ здѣсь зависимость отъ Пушкина. Очень близкой пере
дѣлкой является и „Вакхъ и Купидонъ“. 103)
Откуда чудный шумъ, не
истовые клики?
Кого, куда зовутъ и бубны,
и тимпанъ?
Откуда jeuu звук флауте
и тимпана?
Што грми весео клик у рав
ном тивскоме по.ъу?
Вотъ онъ, вотъ Вакхъ! О,
часъ отрадный!
Усред пола тог од ма)ског,
мирисног цвейа,
91
Державный ширсъ въ его ру
кахъ-,
Вгънецъ желтѣетъ виноград
ный
Въ чернокудрявыхъ воло
сахъ...
Бахов се диже трон.
На іьему весеъа бог, иод
венцем мирисних ружа,
Држеіиі ширзов шшаи, ве
селее и гозбу гряди...
Кругомъ лейіяшъ эроты, иг
ры—
И гимны въ честь ему по
ютъ.
За нимъ тѣснится козлоно
гій
И фавновъ, и сашировъ рой....
А по пол>у, ко лсишири,
Лепе цуре и саШири
По шареном, росном цвеИу„
Поскакуіу и увлеку...
Оба стихотворенія почти тождественны въ этой первой
части. Однако, далѣе В. Иличъ отступаетъ отъ Пушкина,
выводя на сцену Купидона/04)
Также и стихи В. Илича объ „Овидіи“ созданы подъ
вліяніемъ пушкинскаго обращенія „Къ Овидію“.
Хотя Скерличъ и писалъ, что В. Иличъ, жившій одно
время въ 1892 году въ эмиграціи (въ Румыніи), испытывалъ
то же, что и Овидій, однако не этимъ, а несомнѣнно Пушки
нымъ навѣяно упомянутое стихотвореніе, написанное до
эмиграціи, еще въ 1888 году105).
Вліяніе Пушкина замѣтно и въ другихъ стихахъ В. Или
ча. Лирика В. Илича, подобно Драгутину, отличается боль
шимъ разнообразіемъ темъ. И у него мы находимъ и испо
вѣдь сердца, и патріотизмъ, и религіозность106), и револю
ціонныя рѣчи. Но опять особенно поражаетъ съ интересую
щей насъ точки зрѣнія необычайно яркая и красочная изо
бразительность явленій природы и лирика мысли въ духѣ
Пушкина. Описаніе осени, какъ „гордой и сказочной царицы“,
заставляетъ насъ вспомнить о любви Пушкина къ этой по
рѣ, которая была для него — „очей очарованье“.
„Ко горда царица и ба)на, са снопом златнога клас)а,
На пол>у jecen ctojh. Са щене дражесне главе
Лиснатих врежа сплет чаробно спушта се доле,
До саме мирисне траве,.“107).
Поэтическая идеологія В. Илича аналогична пушкин
ской. Въ своихъ стихахъ „Два поэта“ онъ изобразилъ анта
гонизмъ между двумя пѣвцами, изъ которыхъ одинъ „зву
ками лиры пробуждалъ жалкаго раба“, а другой горѣлъ
жаждой „вѣчной правды“ 108). Сочувствуя несомнѣнно этому
послѣднему, В. Иличъ полагалъ, что поэтъ — это особое
существо, пророкъ, который не можетъ не говорить объ
92
этой вѣчной правдѣ. Поэта, какъ и художника, влечетъ
„вѣчный идеалъ“, который „владѣетъ его существомъ безъ
его согласія“109). Поэтъ не можетъ не говорить о вѣчной кра
сотѣ, о небѣ, цвѣтахъ, о тайнахъ глубинъ морскихъ, о „ду
хѣ Господа, который все оживляетъ“ 110). Въ стихотвореніи
„Даніилъ“ и1), подобномъ „Пророку“ Пушкина, В. Иличъ
восклицаетъ:
„Рѣчь того, кого избралъ Іегова, пусть гремитъ смѣло,
Какъ пламенныя, пророческія слова отрока Даніила“!
Увлеченіе В. Илича Пушкинымъ было сильно и созна
тельно. В. Иличъ называлъ себя „ученикомъ Жуковскаго и
Пушкину“, считая при этомъ Пушкина „эпохальнымъ поэ
томъ новой русской литературы“. Восторженное почитаніе
Пушкина и заимствованіе у него внѣшнихъ формъ и идей
наго внутренняго содержанія привело сербскихъ ученыхъ къ
выводу, что „поэзія Пушкина сообщила главный тонъ ли
рикѣ В. Илича“, и что „вліяніе Пушкина на него было все
стороннимъ“ 112). Намъ кажется только, что здѣсь нужно
сдѣлать одну оговорку: разносторонность настроеній Пуш
кина, а особенно черты его жизнерадостности оказались чуж
дыми нат\ рѣ В. Илича, въ переживаніяхъ котораго преобла
даетъ меланхолія; недаромъ онъ интересовался поэзіей Пле
щеева, нѣсколько стихотвореній котораго даже перевелъ 1,в).
Воиславъ Иличъ, самый талантливый изъ всѣхъ Иличей,
въ своемъ творчествѣ шелъ рука объ руку со своими стар
шими братьями Милутиномъ и Драгутиномъ. За ними слѣ
довалъ и самый младшій Жарко Иличъ (1862—1907), обла
давшій тоже поэтическимъ талантомъ и переводившій Жу
ковскаго и Батюшкова 114).
Семейство Иличей, а особенно Драгутинъ и Воиславъ,
своей творческой дѣятельностью измѣнили направленіе серб
ской поэзіи, которая потекла было по руслу идей Свѣтозара
Марковича. Современникамъ было ясно, что необычайно раз
носторонняя и кипучая творческая работа Драгутина Илича
произвела въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ рѣзкую пере
мѣну литературнаго направленія, вырвала литературу изъ тис
ковъ матеріализма и направила ее „къ культу чистой поэзіи“115).
1. Скерличъ, ничего не говорящій о Драгутинѣ, призна
етъ, что Воиславъ Иличъ, „научившійся художественности
у эстетически хорошо сформировавшагося Пушкина“, пре
образовалъ сербскую поэзію. „Какъ Пушкинъ въ русскую,
такъ онъ въ сербскую литературу внесъ чистое искусство“116).
Иличи увлекли за собой многихъ молодыхъ талантли
выхъ поэтовъ, которые въ своемъ творчествѣ провозгласили
„своимъ девизомъ преданность культу самаго чистаго искус
ства“ ]17). Въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ эти поэты
подражали самому талантливому изъ Иличей — Воиславу и
создали струю „воиславизма“ въ сербской поэзіи, связанную
93
съ именами М. Митровича, Милеты Якшича (племянника Джюрь’ Якшича), а въ началѣ творчества также А. Шантича и
I. Дучича’18). Отъ Воислава Илича усвоили они и любовь
къ Пушкину. Особенно восторженнымъ поклонникомъ Пуш
кина является Милета Якшичъ, хотя и онъ, подобно В. Йличу и подъ его вліяніемъ, увлекается преимущественно эле
гическимъ тономъ пушкинскихъ стихотвореній „Романтиче
скій Ленскій“ и для него особенно интересный образъ. Въ
началѣ своего литературнаго творчества (въ девяностые го
ды) Милета Якшичъ подписывается подъ своими стихами
псевдонимомъ: „Ленскій“119). Вѣрнымъ „воиславистомъ“ былъ
и М. Митровичъ переводившій „Деревню“ Пушкина и „Анге
ла" Лермонтова120). Воиславу Иличу подражалъ въ началѣ
своего творчества и самый видный поэтъ нашего вре
мени I. Дучичъ, который далъ (главнымъ образомъ въ на
чалѣ девятисотыхъ годовъ) рядъ переводовъ изъ Пушкина:
„Бахчисарайскій фонтанъ“, „Галубъ“, „Цыгане“, „Кавказскій
Плѣнникъ“, и пр.
Поэты Иличи и поэты „воислависты" оказались очень
опасными соперниками для послѣдователей Св. Марковича.
Въ восьмидесятые и девяностые годы вѣяніе духа чистаго
искусства побѣждаетъ. Змай, склонившійся было временно
къ новому направленію семидесятыхъ годовъ, не могъ долго
заставлять свою лиру служить исключительно гражданскимъ
мотивамъ. Его широкая натура и событія его личной жизни
(смерть жены) толкали его на путь субъективнаго лиризма121),
съ середины восьмидесятыхъ годовъ онъ вновь переводитъ
Пушкина. Въ его переводѣ появляются: „Черная шаль“, „Я
пережилъ свои желанія“, „Медлительно влекутся дни мои“,
.Бѣсы“, „Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ“122). Владимиръ Іовановичъ, убѣжденный послѣдователь Св. Марковича, въ 1889году даетъ рядъ хорошихъ переводовъ пушкинскихъ стихотво
реній („Пророкъ", „Десятая Заповѣдь“, „Ты и вы“ итд.)128).
Литературн.- я струя чистаго искусства одолѣваетъ направле
ніе гражданской сатиры. Яша Томичъ, основатель соціалисти
ческой поэзіи, видя тріумфъ ученика Пушкина, съ нѣкото
рымъ почтительнымъ соболѣзнованіемъ писалъ, что у Вои
слава Илича, дѣйствительно, есть „поэтическій даръ“... „Но
что бы вышло изъ него, добавляетъ Томичъ, если бы его
Душу не давило правило: „красота существуетъ только для
красоты, искусство — только для искусства“. А ему мѣшалъ
этотъ лозунгъ. Онъ даже въ своихъ стихахъ отстаивалъ это
заблужденіе! ,..“124).
Сербская поэзія эпохи реализма, пережившая въ семи
десятыхъ годахъ сильное давленіе идей Св. Марковича и
едва не охладѣвшая совсѣмъ къ Пушкину, въ восьмидеся
тыхъ и девяностыхъ годахъ выдвинула рядъ крупныхъ та
лантовъ въ защиту чистой красоты, ибо такъ продолжаютъ
94
понимать поэзію Пушкина. Два главныхъ творца этого сдвига
Драгутинъ и Воиславъ Иличъ дѣйствовали подъ вліяніемъ
Пушкина и тѣмъ самымъ опредѣлили значеніе великаго рус
скаго поэта въ исторіи сербской литературы. Іованъ Скерличъ, высшій сербскій авторитетъ въ литературной критикѣ,
будучи восторженнымъ поклонникомъ Св. Марковича125) и
отстаивая необходимость „демократизаціи искусства“І26) въ
пику „эгоистической и пустой теоріи искусства для искус
ства“127), могъ исключить изъ своей исторіи литературы го
рячаго защитника этой идеологіи менѣе талантливаго Драгутина Илича, но далъ въ ней почетное мѣсто ученику Пуш
кина— Воиславу Иличу и не могъ отрицать того, что „по
пытки основать чисто реалистическую поэзію въ томъ видѣ,
какъ ее представляла себѣ публицистическая критика семи
десятыхъ годовъ, за недостаткомъ настоящихъ поэтическихъ
талантовъ, не удались“128). Яша Томичъ и Коста Абрашевичъ въ его исторію литературы не вошли.
Сербскіе поэты XIX вѣка съ сороковыхъ годовъ про
являли значительный интересъ къ Пушкину. Сперва ихъ вни
маніе сосредотачивалось на тѣхъ моментахъ пушкинскаго
творчества, въ которыхъ они находили удовлетвореніе сво
его національнаго чувства героической эпохи сербской исто
ріи. Затѣмъ въ періодъ торжества романтизма шестидеся
тыхъ годовъ они съ возрастающимъ интересомъ стали зна
комиться съ байронической стороной Пушкина. Наконецъ,
въ восьмидесятыхъ годахъ они проникли въ самую сущность
пушкинскаго творчества, увлеклись его поэтической идеоло
гіей и высшей художественностью его образовъ и выраже
ній. И если раньше большій интересъ проявляли подчасъ вто
ростепенные поэты, то теперь въ эпоху сербскаго реализма
наибольшее увлеченіе Пушкинымъ испыталъ величайшій серб
скій поэтъ этой эпохи. Поэзія Пушкина съ каждымъ десяти
лѣтіемъ все глубже вростала въ исторію сербской литера
туры, прибавляя еще одно моральное звено къ цѣпи глубо
кихъ историческихъ связей русскаго и сербскаго народа.
') И. Ягичъ, А. С. Пушкинъ въ южно-славянскихь литературахъ.
Сборникъ отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Акаде
міи Наукъ, т. 70, СПБ. 1902, стр. 1—404.
2) А. Степовичъ, Очерки исторіи сербохорватской литературы, Кі
евъ 1899, стр. 315.
’) В. Тюровиѣ, Во)ислав ИлиЬ, Мостар 1906, стр. 1—52.
4) Д. ИлиИ, Гдеко]’а о Во)иславу, „Бранково Коло“ XII!, 1907, стр. 183.
’) Др. Р. Казимировнѣ, Пушкин у Срба, Хрвата и Словенаца, „Венац“ 1925, стр. 36 — 43.
6) Др. А. Погодин, Руско-Српска библнографи)'а 1800—1925, I, 1,
Београд, 1932, стр. 160—174: I, 2, Београд, 1936, стр. 250—262.
95
7) В. ТаоровиЬ, Историка .Іугославиіе, Београд, 1933, erp. 478. Сл. JoвановиЬ, Уставобраннтел>и и ншхова влада, Београд, 1933, стр. 3—5, 65. J.
СкерлиЬ, Историіа Нове Српске Кіьижевности, 2 изд. Београд 1921, стр.
134-135, 172.
■' ) Напр.: Л Мушицкій, Стіхотворенія, I, Пешга, 1838, стр. 59. С. Милутинов.іЬ — Capaj-tHja, Лирске Песме, Срп. К. Задр. 1899, стр. 69. J. Сте
рла — ПоповиЬ, Даворіе, Срп. Кн>. Задр., 111, 1893, стр. 4
9; J. СкерлиЬ, „Школа обіективне лирике“, Годишіьица Н. ЧупнЬа,
XXIX. 1910, стр. 197, 202, 219, 229.
|0; J. СкерлиЬ, Историіа Нове Српске Кіьижевности, стр. 139, 179.
”) J. ИлійН, Пѣсме, Београд 1854, стр. 47. Д. ИлпЬ, „Брзнково Ко
ло". ХШ, 1907, ст. 182.
’2) Др. А. Погодин, Руско-Српска библиографи]’а, 1, 2, стр. 254.
”) „Грлица' , 1839, стр. 126.
’•*; Н е Петровичъ, какъ ошибочно указано въ Библіографія А.
Л. Погодина. (I, 1, стр. 171).
') „Србско-Далматински Магазинъ“, V, Задар, 1840, стр. 143 -144.
”) М. ПоповиЬ, „Мач и перо“, 1846, стр. 42.
”) Ibidem, стр. 73—74.
”) Ibidem, 85—6 (эта передѣлка не отмѣчена въ библіографіи проф.
А. Л. Погодина и не замѣчена П. А. Митропаномъ, ор. cil. 84).
,s)
...„У мысли задублѣнъ
Држа ю на крилу,
Од срца полюбленъ
Загрли ю мялу“...
-°) П. А. Заболотскій, Очерки русскаго вліянія въ славянских:, лите
ратурах s Новаго Времени, I, 1, Варшава, 1908, стр. 346. Митро .ан op. cit.135).
-1) Ц)елокупна Діела Петра II ПетровиЬа ГЬегоша у ред. I г. Данила
ВушовиЬа, друго изданіе, Београд, 1936, стр. 563.
22 СкерлиЬ, Историіа Нове Српске Кіьижевности, стр. 181.
-’) „Целокупна Дела Joeana ИлиЬа“, изд. , Народне Просвете“, стр.
ХХ111 22-23, 475.
2‘) „Бранково Коло“, XII1, 1907, стр. 182.
23) Ягичъ, op. cit. 57, Заболотскій op. cit. 166. Др. Jobsh Максимовнѣ,
.Песнички Зборник", Мостар, 1900, стр. 88.
2С) Леван ИлійЬ, Пѣсме, 1854, сгр. 13, Целокупна Дела, стр. 44 — 45.
”) Заболотскій, op. cit. 397, М. Шрепель, Пушкинъ въ хорватской
литературѣ (Сборникъ Ягича, стр. 54) И. Пріятель, Пушкинъ у Словѣнцевъ
(ibid. 370-371).
8) Др. Драг. СтраіьаковиЬ, Влада Уставобранител>а, Београд, 1932,
”Р. 96, 271—272, 298.
s9) В. ТюровиЬ, Историіа Лугославиіе, 1933, стр. 502—504, 516. J.
СкерлиИ, Историіа нове српске кшижевности, стр. 213, 218 222.
*°) J. СкерлиЬ, Омладина я іьена кіьижевност. Београд 1925, стр. 161.
287-293, 315-316.
м) И ПетровиЬ, Баірочизам Ъуре ЛакшиЬа, „Српски Кшижевви Гласник“ XXVII, 1929, стр, 586 588.
’■’) И. ПетровиЬ, Лорд BajpoH код Зугословена, I, стр. 128, 132. J.
96
Petrovié, [ yron and the Jugoslavs, „Slavonic Review“, VIII, 1929, стр. 149.
3 ) Заболотскій, op. cit. 207, 389, 391.
3<) J. СкерлиЬ, Омладина и н>ена кіьижевност, стр. 287, 340, 385—381,
*5) Ягичъ, op. cit. стр. 178—187.
36) А. Пушкин, Кавкаски роб, превео Ст. РоваковиЬ, Београд 1863 г.
3,J „Вила", 1, 1865, стр. 392.
38) „Даница" Vil, 1866, стр. 390, 520.
39) „Даница", VII. 1866, сто. 471.
40) „Даница", XI, 1870, стр. 324 и дальше Ягичъ, op. cit., стр. 192-200,
41) „Даница", XI, стр. 324.
42) Др. А. Погодин, Руско-Српска Библиографи)а, I, 1, стр. 196.
<s) „JaBop“, 1862 г., стр. 225.
4:) Др. А. Погодин, op. cit. I, стр. 102.
45) Матица, II, 1867, стр. 583, 586.
46) В. ТюровиЬ, HcTopuja .)угослави]е, 533 535. Ст. Стано]'еви1і, Истоpuja Срлскога Народа, 3 изд., Београд, 1926, 377—395.
4’) Сл. ЗовановиЬ, Светозар МарковиЬ, „Политичке и правке расправе“,
1. Београд, 1932, стр. 61—83, 104, 132, 138. J. СкерлиЬ, Светозар МарковиЬ.
Београд 1922, 2 изд., стр. 22—39, 58—59, 127, 132, 191, 195.
4В) Св. МарковиЬ „Целокупна Дела", Ѵ1І1, Београд, 1893, стр. 61-65.
„Матица", V, Н. Сад, 1870, стр. 344, 347.
50) Пыпинъ, Исторія русской литературы, т, IV, 1899 г. стр, 388, 474,
555. Овсянико-Куликовскій, Гоголь, 1902, стр. 4 11.
51) J. СкерлиЬ, Омладина и іьена кншжевност, стр, 228.
s2j Др. А. Погодин, Руско-Српска библиографифі, 1, стр. 162,166- 167.
г’3) J. ПродановиЬ. Змаі Дован ЗовановиЬ,као политички лесник, „Српскн Кшижевни Гласник", ХХѴ1І1, 1929, стр 197.
В4) Др. А. Погодин, op. cit. I, стр. 64, 116.
5') J. СкерлиЬ, Светозар МарковиЬ, стр. 194—195, 198.
£‘; Св. МарковиЬ, Целокупна Дела, VIII, 1893, Београд, стр. 70. J.
ТомиЬ, Лепа кіьижевност и уметност. II. Сад, 1918, стр. 16, 23.
61) J. ТомиЬ, Песме, Н. Сад, 1896, стр. 29—30.
ів) Вл. ЛовановиЬ, Цртице из самачког живота, Београд, 1890, стр. 14 -18.
S9) К. АбрашевиЬ, Песме, Београд, 1920, стр. 16, 36. J. СкерлиЬ, Jeдан соци]’алистички лесник, „Писци и кіьиге" IX. 1926, стр. 113 118,
і:0) J. СкерлиЬ, HcTopHja нове српске кіьижевности, стр. 381.
61) Ив. Шишмановъ, „Русское вліяніе и Пушкинъ въ болгарской ли
тературѣ" Сборники Ягича, стр. 28—29, 31- 32. Е. Damiani, Tentativo d una
caratteristica generale della letteratura bulgara, „Rivista di letterature Slave“,
1931, стр. 58- 60.
62) Целокупна Дела Joeana ИлиЬа, изд. Народне Просвете, стр. XXXVI
- ХХХѴПІ.
и) „Певани]а", изд. Народног Дела, 1935, I, стр. 4.
С1) J, СкерлиЬ, „Омладина и іьена кіьижевност", стр. 361.
м) Д. ИлиЬ, „Бранково Коло", XIII, 1907, стр. 182.
66) „Ново доба“. Н. Сад, 1887, стр. 20. „Нада", VI, 1900, стр. 262—
263. „Отацбина", XVI, 1887, стр. 449—450.
G1) Рел>а 3. ПоповиЬ, Драгутин J. ИлиЬ, Београд, 1931. стр. 7, 14.
6S) Ягичъ, op. cit. 167.
97
и) Д. Илий, HoBHje песништво у Срба, „Нада" VI, 1900, стр. 262.
7!<) Д. Илий, Дах материализма у cpncKoj кн>ижевности, „Бранково
Коло“, 3896, стр. 1073, 1076—1079. Д. ИлиЬ, Кншжевна Дела, „Бранково
Коло" 1896, стр. 1288—1289. Д. Илий, Нов тип у нашо] кіьижевности, „Бран
ково Коло" 1896, стр. 1103.
7 ) Ре.ъа 3. Поповий, Драгутин J. Илий, Београд, 1931, стр. 18—19.
”) Д. ИлиЬ, Кнзижевна Писма, „Бранково Коло", III, 1897, стр, 1200.
,3) Д. ИлиЬ, Ктьижевна Писма, „Бранково Коло", II, 1896, стр. 1249.
Песништво и стихотворство, „Нада1. VI, 1900, стр. 74.
’*) Драг. J. Илий, Песме, I, Београд, 1884, стр. 15—16.
7S) „Звезда", 1, 1894, стр. 194.
’8) „Дело-, 1904, т. 31, стр. 342.
:7) „Дело*, 1904, т. 31, стр. 342,
п) Рел>а 3. Поповий, ор. сП. 26.
”) Ягичъ. op. clt. 167—173.
80) „Босанска Вила', XI, 1896, стр. 6.
Ь1) „Босанска Вила', стр. 7.
м) „Босанска Вила-, стр. 272, ср. Ягйчъ, 172.
83) „Звезда", 1, 1894, стр. 196.
8<) Ягичъ, op. cif. стр. 124-125.
85) „Бранково Коло-, I, 1895, стр. 710.
88) „Бранково Коло", 1, 1895, стр. 713.
8 j „Бранково Коло“, I, 1895, стр. 714.
88) Ягичъ, op. clt. 168, 170.
и) Релла 3. Поповий, ор. сП. 16.
s"j Драг. J. Илий, Песме, I, 1884, Ср. М. Савий, Летопис Матице Срп.
ске, т. 142, 1885, стр. 123. Второго сборника не вышло. Множество сти
хотвореній разбросано по журналамъ.
”) Д. Илий, Песме, I, стр. 44—45.
92) „Бранково Коло", I, 1895, стр. 289. Ср. Рел»а 3. Поповий, op. сП. 19.
93) Интереснымъ является и вопросъ объ отношеній драмы Д. Илийа
„Король Вукашинъ“ къ „Борису Годунову". Д. Иличъ изображаетъ серб
скаго магната XIV вѣка, достигшаго власти путемъ убійства. Добившись
высшей власти, этотъ магнатъ — король Вукашинъ — испытываетъ страш
ныя мученія совѣсти, которая приводитъ его даже къ галлицюнаціям. („Ко
роль Вукашинъ", 1882, стр. 146 157—160). Впрочемъ, здѣсь можно говорить
лишь о частичномъ вліяніи Пушкина, т. к. несомнѣнно Д. Илича вліялъ
Шекспиръ. Сербскій переводъ „Ричарда III“ какъ разъ въ тѣ годы былъ
У него рукахъ. („Бранково Коло" IV, 1898, стр. 1556—1557).
9‘) „Думу" Лермонтова очень напоминаетъ стихотвореніе Д. Илича:
„Горко па : и душа, дах у срцу ста)е,
Кад последам ово бедно поколете...-
„Бранково Коло“, XIII, 1907 стр. 1475.
î8) Кипарись.
’8) „Отацбина", XVII, Београд, 1887, стр. 506—506.
9’) Д. Илий, Гдеко]'а о Воиславу, „Бранково Коло", XIII, 1907, стр.
181-182. J. Скерлий, „Историка нове српске кгьижевности", стр. 409.
7
98
,1Я) В. Илий, „Целокупна Дела", Београл, 1923, I, стр. 94. В. ТюровиН
„Воислав Илий“, стр. 10.
'♦) В. Тюровий, op. cit. стр. 19.
,0°) J. Скерлий, Воіислав J. Илий, „Писци и кіьиге“, IX, стр. 75.
’01) В. Тюровий, „В. Илий“, стр. 14 — 15, 29 — 30. В. ТюровиН
Jom гдеко)а о Воіиславу, „Бранково Коло", XIII, 1907, стр. 400—412. J. Скер
лий, „В. Илий", стр. 75—76.
І04) В. Илий, Целокупна Дела, I, стр. 37, В. Тюровий, „В. Илий“, стр.
14-15.
10’) В. Илий, op. cit. I, стр. 138, В. Ъоровий, op. cit. стр. 29 —30.
В. Илий, op. cit. 1, стр. 181-183.
,05) В. Илий, op. cit. 1, стр. 163—175. J. Скерлий, „В. Илий“, сгр. 43,
75. В. Тюровий, op. cit. стр. 21.
,06) Напр. „На Голготи“, „У осами", „Обуйар и тьегов син" (Цело
купна Дела I, 1923, 112-114, 132, 226-227).
10т) „Одабране Песме“, 1930, стр. 9. („В. Илий", стр. 53).
,с>) „Два Лесника", Целокупна Дела, 1923, II, стр. 74—76.
10®) „Мраморни убина", ibid., I, 244.
,10) „Лесник", ibid. II, стр. 248—249. Ср. М. Ъурчин, „Фр. Халм и
Во)ислав" „Српски Ктьижевни Гласник", XVI, 1906, стр. 853.
п1) „Дани)ел", Целокупна Дела, I, 164.
”2) Целокупна Дела, I, 263, J. Скерлий, Истори)а Нове Српске Кн>ижевности, стр. 409. В. Тюровий, „В. Илий", 10-11, 24.
,,s) Целокупна Дела, I, 301—303.
*“) „Бранково Коло', II, 1896, стр. 1366—1370, 1393—1397. „Нови
Дневни Лист", XVII, 1899, №№ 228, 229, 231.
”s) О. У. — Драг. J. Илий, — „Бранково Коло", XIII, 1907, стр. 322
И6) J. Скерлий, Историка Нове Српске Кн>ижевности, 413.
”7) В. Тюровий, „Воіислав Илий", 52.
J. Скерлий, „Воіислав Илий", 80.
1”) „Народна Енциклопеди)а" II, 120.
1!0) „Дело", 1899, XXII, 434. „Голуб", 1900, стр. 24.
1г1) П. Поповий, О Змаіу, „Српски Кіьижевни Глазник", XXVIII, 1929
стр. 195.
,и) Др. А. Погодин, Руско-Српска Библиографиіа, I, 1, стр. 161, 163,
168. I, 2, стр. 255.
12’) Ягичъ, op. cit. 82-83, 91, 105, 107, 116.
’**) Jama Томий, Лепа кіьйжевност и уметност. Н. Сад, 1918, стр. 18.
,2S J. Скерлий, „Уништен>е естетике", „Писци и кіьиге“, VIII, 1926,
стр. 119. J. Скерлий, Омладина й іьена кіьйжевност, стр. 377.
I26) J. Скерлий, Историіа српсме кіьижевности, стр. 365.
99
2. Константинъ Римаричъ-Волынскііі.
Пушкинъ въ хорватской литературѣ.
...И гордый внукъ Славянъ...
„Памятникъ*.
Исторія культурнаго возрожденія хорватъ представля
етъ собою совершенно опредѣленное явленіе, обусловленное
«хъ вѣковою связанностью съ средне-европейскими культур
ными центрами, среди которыхъ играли главную роль Вѣна
въ смыслѣ политическомъ, Римъ — въ области религіозной
и славянская Прага — въ области литературно-просвѣти
тельной. Девятнадцатый вѣкъ прошелъ у хорватъ подъ со
вершенно другими ауспиціями, лозунгами и вліяніями, чѣмъ
у сербовъ и, въ связи съ этимъ, ихъ литература отъ „воз
рожденія“ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ до сегодняш
няго дня представляетъ собою нѣкоторое замкнутое въ се
бѣ цѣлое, во всякомъ случаѣ заслуживающее серьезнаго вни
манія. Однако же, разсматривая вопросъ о вліяніи Пушкина
на литературное творчество хорватъ, выражающееся, какъ
мы сейчасъ увидимъ, главнымъ образомъ въ переводахъ,
мы никоимъ образомъ не имѣемъ возможности не дѣлать
ссылокъ на сербскую литературу (а также, до нѣкоторой
степени, и на литературу словенцевъ); это исключительно
потому что, во первыхъ языкъ сербовъ и хорватъ одинъ и
тотъ-же, и трудности, преодолѣнныя одними, всегда долж
ны были уже съ большей легкостью быть преодолѣваемы
другими. Въ противномъ случаѣ было бы „открытіе уже
-открытыхъ Америкъ“. Что касается словенцевъ — ихъ языкъ
метрически совершенно иначе звучитъ, чѣмъ сербско-хорват
скій и большинства упомянутыхъ трудностей вообще не
встрѣчаетъ. Во вторыхъ потому, что девятнадцатый вѣкъ
создалъ движеніе, цѣль котораго объединеніе обѣихъ (серб
ской и хорватской) литературъ въ одно цѣлое и въ связи
съ этимъ мы замѣчаемъ постоянное вліяніе одной на другую.
Тема о Пушкинѣ у хорватъ естественнымъ образомъ
100
распадается на двѣ, болѣе ограниченныя: о вліяніи Пушкина,
на хорватскую литературу и отношеніи выдающихся хорват
скихъ писателей и другихъ культурныхъ дѣятелей къ Пуш
кину (во первыхъ) и о переводахъ Пушкина на хорватскій
языкъ въ связи вообще съ вопросомъ о способности или
лучше сказать, о приспособленности сербохорватскаго язы
ка для успѣшнаго выполненія этбй важной культурной за
дачи (во вторыхъ). Послѣдній войросъ, кстати сказать, инте
ресенъ и независимо отъ темы о Пушкинѣ и о русской по
этической литературѣ, такъ какъ и переводы съ нѣмецкаго
на хорватскій встрѣчаютъ тѣ же затрудненія и натыкаются
на тѣ же, часто очень непріятныя поблемы, ставящія часто
въ тупикъ людей, сознающихъ необходимость обогащенія
хорватской и сербской литературы этими переводами и же
лающихъ достиженія на этомъ пути возможнаго совершен
ства.
Что касается вліянія Пушкина, роковую роль, мнѣ ка
жется, сыграло стихотвореніе „Чернь“.
Тотъ ликъ Пушкина, который выявляется въ „Черни“,
въ сонетѣ „Поэту“, въ личности Чарскаго изъ Египетскихъ
ночей и еще въ нѣкоторыхъ его фразахъ — былъ мало
пріятенъ молодой хорватской интеллигенціи тридцатыхъ, со
роковыхъ, пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ... Поче
му? Хочется объяснить это безъ надоѣвшей терминологіи,
безъ условныхъ фразъ..
Россія была великой уже отъ Петра. Русскій патріо
тизмъ, какъ правильно выразился Милюковъ, заключался „не
въ борьбѣ за существованіе, а въ борьбѣ за достойное су
ществованіе“. Россія могла себѣ позволить роскошь разно
мыслія. Въ понятіе „достойнаго существованія“ входитъ,
кромѣ вопроса о политической свободѣ и вопросъ о „лите
ратурѣ достойнаго народа“. Проблема литературная стояла
и стоитъ у русскихъ особнякомъ, имѣя цѣнность „an und
für Sich“. Это свидѣтельствуетъ, можетъ быть, о извѣст
номъ, трагическомъ въ конечномъ своемъ аспектѣ, разры
вѣ „верховъ“ съ „массами“, но доказываетъ также, что ге
ній націи прежде всего нашелъ адэкватное выраженіе въ
книгѣ, не найдя его и до сего дня въ области общественно
государственной... Пушкинъ былъ поэтъ; слѣдовательно,
съ русской точки зрѣнія, ошибочно было бы подходить къ
нему съ узкой мѣркой „пользы народу“, ибо уже то, что
онъ геній — есть польза для народа, въ которомъ онъ ро
дился, есть утвержденіе цѣнности этого народа на вѣсахъ
общечеловѣчности.
Это во первыхъ. Во вторыхъ, теорія „искусства для
искусства“ въ „Черни“ вовсе не является единственнымъ
ликомъ поэта. Самъ Пушкинъ больше гордился титуломъ.
„пѣвца свободы и милости“, чего не слѣдуетъ забывать.
foi
Его работы въ области исторической и журнальная его
дѣятельность доказываютъ, что онъ, въ концѣ концовъ, не
былъ чуждъ точкѣ зрѣнія, высказанной „чернью“... Мы это
знаемъ... Не удивительно, что хорватскіе молодые интел
лигенты сороковыхъ годовъ этого знать не могли.
Они выросли въ атмосферѣ борьбы за голое суще
ствованіе хорватъ, какъ народа, которому грозила опасное .ь
совершенно потерять свою верхушку, голову (аристократія
и интеллигенція уже и изъ устъ матерей слышали нѣмецкій
языкъ, а угрожалъ еще и венгерскій). Бѣдный, безграмот
ный, связанный разными пережитками „кметства“ (хорват
ская форма крѣпостничества) или муштровкой „военныхъ
поселеній“ (Militärgrenze) — простой народъ былъ единствен
ной опорой и надеждой націи, потерявшей „головку“... Это
была одна сторона. Если „хорватское возрожденіе“ и нача
лось въ (относительныхъ) верхахъ, оно всю надежду возла
гала на будущіе „низы“...
Это одна сторона вопроса. Другая заключается въ томъ,
что „хорватское возрожденіе“ въ своихъ истокахъ связано
съ чешкимъ возрожденіемъ, съ именами Коллара, Шафарика, Палацкаго, а чехи переживали въ то время парок
сизмъ „народолюбія“ и „народничества“; вся чешская ин
теллигенція была, по русской мѣркѣ—„разночинцами“. При
дя въ русскую литературу въ 50-хъ и 60 хъ годахъ такъ
называемый „разночинецъ“, отвернулся отъ Пушкина. Что
же удивительнаго, что хорватскіе „разночинцы“ не могли
его понять?
Они боролись за пользу народа и только за пользу на
рода. Для нихъ, по собственному признанію, литература бы
ла только средствомъ „утвержденія“ націи въ области культорной и политической.
Вотъ почему у хорватъ преобладало поучительно-ди
дактическое направленіе
*),
которое царствовало въ Россіи
въ Екатерининскую эпоху.
Пушкинъ же чуждъ всякой раціоналистической „по
учительности“, „педагогіи“ или „дидактикѣ“. Inde ira.
Приведу двѣ цитаты изъ отзыва Миливоя Шрепеля
изъ предисловія „избраннымъ сочиненіямъ Пушкина“, изд.
1899, (Матица Хрватска въ Загребѣ).
Вотъ что онъ говоритъ объ отношеніи „Иллирцевъ“
(дѣятелей „Иллиризма“, движенія, направленнаго къ возрож
денію хорватъ и славянскаго юга) — къ Пушкину: „Влія
*) Характерно, что большинство хорватскихъ писателей—учитель
скаго званія, въ то время, какъ въ Россіи почти нѣтъ писатедей-пе•Дагоговъ. Причина этому экономическая: у хорватъ и сербовь человѣкъ
не можетъ жить литературой, благодаря малочисленности читающей
части націи.
102
ніе самого Пушкина на Иллирцевъ не было велико; вѣро
ятно главной причиной тому было то обстоятельство, что
муза Пушкина гордая аристократка, презирающая чернь, въ
то время, какъ поэзія Иллирцевъ демократична. Учителемъ
Гая былъ Колларъ; его ясный оптимизмъ больше пришелся
по душѣ иллирской молодежи, чѣмъ мрачный пессимизмъ
пушкинской музы. Въ связи съ этимъ и то обстоятельство,
что и самый байронизмъ имѣлъ мало отзвука у иллирскихъ
поэтовъ, которымъ было много милѣй направленія Уланда...
Это замѣтно особенно у Станка Враза, бывшаго главнымъ
поэтическимъ герольдомъ иллиризма. Патріотическая идея
овладѣла всѣми душами, желаніе согласія всѣхъ иллирскихъ
племенъ было сильнѣе всѣхъ личныхъ моментовъ, и поэто
му не удивительно, что и самая „личная“ изъ „личныхъ“
лирика иллирцевъ выглядитъ, какъ то натянутой и боязли
вой... Чрезмѣрный субъективизмъ не могъ имѣть мѣста въ
поэзіи главнымъ образомъ патріотической“.
Какъ видимъ, уже тогда выдвинуто было это противо
рѣчіе (патріотическаго и національнаго) коллектива и „лич
ныхъ рельсъ“, которое въ наши дни стало козыремъ со
вѣтскихъ критиковъ...
Въ той же статьѣ находимъ и слѣдующую фразу: „Тамъ,
гдѣ Пушкинъ поднимается на наивысшую высоту, онъ, къ
удивленію, показываетъ дивный талантъ великаго художни
ка, создавая здоровое, хотя самъ боленъ“, и немного даль
ше: „какъ свободный человѣкъ Пушкинъ остается позади
Байрона, который, хотя и былъ изнѣженъ, все же жилъ и
умеръ за свободу, въ то время, какъ Пушкинъ въ зрѣлые
годы отрекся отъ своего юношескаго слободоумія“. На
конецъ въ оцѣнкѣ „Черни“ встрѣчаемъ такія строчки „без
смысленный народъ не заслужилъ такого осужденія, ибо
обращался къ поэту со скромной и нисколько не безсмыс
ленной просьбой:
„Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ —
...Сердца собратьевъ исправляй и т. д.“...
Честный и вдумчивый Шрепель былъ дитя своего вѣ
ка. Приведенные нами его „кислосладкіе“ отзывы о Пуш
кинѣ, какъ ни непріятно дѣйствуютъ на насъ теперь, въ осо
бенности, когда читаешь абсурдное утвержденіе, что Пуш
кинъ былъ, будто бы боленъ—съ какой точки зрѣнія и по
чему онъ самый ясный и здоровый геній всей русской литера
туры! — все же, принявъ во вниманіе все выше приведен
ное, удивленію не должно быть мѣста. Одинъ изъ узкихъ
и слишкомъ послѣдовательныхъ „шее іи десятниковъ“ про
должалъ свое непониманіе поэзіи въ Хорватіи, и можетъбыть и до сего дня еще не изжиты эти чувства окончательно.
103
Однако, у самого Враза находимъ слѣдующее пожела
ніе: „Ne mo2emo ino, nego svoj onoj naäoj gospodi koja pisu
pripovijesti, preporuciti, da äitaju pripovijesti Puskinove i Gogolieve, pa da nastoje te budu za nas Hire u nasem dubu ono
sto su reCena dva pisaoca u ruskom za bracu Ruse“. Враза
больше всего привлекаетъ въ творчествѣ Пушкина народ
ная стихія. Шпиро Димитровичъ, первый переводчикъ „Ев
генія Онѣгина“, посвящаетъ Музѣ Пушкина слѣдующія
строки:,
Srodnim glasom опа
Narodnosti drzite se
Iz nje sjeme velièine
Ona lomi pute tame
*
паша klièe,
svete,
niée,
klete.
♦
Нѣсколько иначе обстояло дѣло у Сербовъ до-Вуковской генераціи и это необходимо отмѣтить. Воспитанные на
риторической „славяносербщинѣ “, въ которой хотѣли ви
дѣть свой сербскій языкъ и которая такъ ясно отдаетъ Ло
моносовскимъ „высокимъ штилемъ“, въ такой же мѣрѣ
чуждымъ языку русскому, какъ и сербскому — сербскіе
благочестивые писатели правда предпочитали Ломоносова и
Державина, чѣмъ „фривольнаго“ новатора Пушкина; а вѣдь
и самое, заблужденіе о сущности русскаго и сербскаго язы
ка было препятствіемъ переводамъ... Однако сербская „Летопис“ 1838 года и черногорскій календарь „Грлица“ (ІДетинье, 1839 г.) просто печатаютъ стихи Пушкина въ ориги
налѣ, а знаменитый авторъ „Горнаго Вѣнка“ (Горски Bnjeнац), черногорскій владыка Петръ Петровичъ Нѣгошъ по
свящаетъ въ 1845 году Пушкину слѣдующія благочестивыя
рѣчи:
Под зв]езданим многостручним сводом
Над домахом умнога погледа.
Под врховним небосклоном неба,
Гд]е се млада непрестано сунца
Искресана руком магическом
Општег Творца сипл>у pojeBHMa:
Тамо се тво] Гени] започео
И njeeama миром аомазао
Од куд зора сине над природой
Одонуд je к нама долетио.
Сретни пи]евче великог народа,
Твоме праху земном свештеноме
Собраѣе ти витешки подвизи
Пред дивни]ем crynajy олтаром.
104
Такъ всеже создалась традиція признанія Пушкина и
сказалась на такихъ писателяхъ, какъ Миливой Шрепель,
хотя принадлежавшемъ уже къ иной эпохѣ. Отдадимъ долж
ное любви къ Россіи, и хорватовъ. Она принуждала ихъ
„простить“ и Пушкину его грѣхи, главнымъ образомъ пото
му, что онъ былъ всетаки „Русъ“...
* * *
Мало по малу однако предразсудки разсѣивались, если
не разсѣялись еще и сегодня окончательно...
И вотъ краткій обзоръ вліянія Пушкина на творчество
крупнѣйшихъ хорватскихъ поэтовъ. Первый хорватскій жур
налъ „Даница“ (Гая) еще въ 1837 году напечатала статейку
о Пушкинѣ. Изъ „Иллирцевъ“ Пушкинымъ, кажется, больше
всего увлекался Сшанко Вразъ, стихи котораго, впрочемъ,
имѣютъ цѣнность главнымъ образомъ историческую. Балла
да Враза „Фредрикъ и Вероника“ беретъ мотивъ изъ „Бах
чисарайскаго фонтана“. ДимиШрій ДемеШеръ, „хорватскій
байронистъ“ и „отецъ хорватскаго театра" былъ хорошо
знакомъ съ музой Пушкина, и тема о вліяніи „Бориса Году
нова“ на его драму „Тэута“ представляла бы интересъ для
особаго изслѣдованія. Внѣ всякаго сомнѣнія связь „Гробнич
наго поля“ съ „Бахчисарайскимъ фонтаномъ“: пѣсня татарокъ
кажется прямо перепѣвомъ... Есть и вліяніе „Цыганъ“. Иванъ
вишязь Тряскій, переводчикъ Онѣгина, еще больше увле
кался Пушкиномъ, стараясь приблизить хорватскій стихъ къ
русскому...
Изъ позднѣйшихъ хорватскихъ поэтовъ 77. Прерадовичъ,
воспитанный на нѣмецкой поэзіиріе носитъ на себѣ слѣдовъ
вліянія Пушкина. „Онѣгина“ довольно рѣзко осудилъ, когда
прочелъ его въ переводѣ Трнскаго, опять съ той-же, уже
приведенной выше, точки зрѣнія... Иванъ Мажураничъ, во
сполнившій недостающія „пѣсни“ „Османа“ Гундулича и соз
давшій столь характерный для южнаго славянства эпическій
образъ „Смайлъ Аги Ченгича“ — едвфіи былъ подъ непо
средственнымъ вліяніемъ русскаго гені4. Но, вольно или не
вольно, какъ то чувствуются въ „Смайлъ Агѣ“ отзвуки „Бах
чисарайскаго фонтана“*) и „Кавкащкаго плѣнника“. Эти
крупные хорватскіе поэты XIX вѣка, впрочемъ, кажется, во
обще не были достаточно знакомы съ русской литературой и
языкомъ.
Изъ позднѣйшихъ, даровитый и плодовитый — Августъ
Шеноа, который былъ „самымъ хорватскимъ изъ хорват
скихъ писателей“, и культъ котораго среди хорватъ въ наши
*) Сравни начало обѣихъ поэмъ и особенно часть ІѴ-ую, гдѣ Смайлъ
ага сидитъ подъ шатромъ.
105
дни превозносится больше, чѣмъ культъ какого бы то ни бы
ло другого писателя и поэта, прямо ни въ чемъ отъ Пуш
кина не зависитъ.
Его прекрасные стихи, только недавно полностью пе
реизданные, свидѣтельствуетъ о разныхъ перекрестныхъ
вліяніяхъ. Утверждать что либо объ особомъ вліяніи русской
литературы на него — не приходится. Онъ, кажется, соз
дался подъ вліяніемъ чеховъ... Однако, читая паралельно
романъ „Seljaäka buna“ и „Капитанскую Дочку“ — видимъ
нѣкоторыя аналогіи (и притомъ не только въ темѣ); хотя
Шеноа много дальше стоитъ отъ реализма, чѣмъ Пушкинъ.
Я бы сказалъ, что романы Шеноа находятся гдѣ-то между
Загоскинымъ и „Войной и Миромъ“ Толстого, (тамъ же, гдѣ
и романы Данилевскаго и Мордовцева), такъ, что Пушкинъ и
его творчество оказались на какой то другой паралельной
дорогѣ, и „пересѣченія рельсъ“ не оказалось...
Сильвій. Кранъчевичъ, поэтъ пессимизма, много, кажется,
интересовался Россіей. Но и онъ ее понималъ уже скорѣй
по Достоевскому и прислушивался къ голосамъ революці
онеровъ и къ тому же горѣлъ симпатіей къ Польшѣ (см.
его стихотвореніе на открытіе памятника Мицкевича). Весь
ма характерно, что у Шеноа, впослѣдствіи у Краньчевича, у
Матоша и у другихъ „температура славянофильства“ понижа
ется. Начинаетъ преобладать нѣсколько подозрительное от
ношеніе къ Россіи, конечно, въ связи съ судьбой Поляковъ
и въ связи съ разными историческими аналогіями...
Въ эти годы (начиная съ семидесятыхъ), въ Хорватіи
особенно развивается вліяніе „странки права1)“, съ А. Старчевичемъ въ качествѣ идеолога и лидера. Неудачное палом
ничество Евгенія Кватерича въ Петербургъ, возстаніе въ Раковицѣ и гибель его (1871), въ связи съ какой то неопре
дѣленной по отношенію къ Россіи позиціей Штроссмайера—хо
тѣлъ ли онъ повести „хорватскую народную мысль“ въ Кі
евскую Каноссу или стремился окончательно привлечь рус
скую мысль въ лицѣ Вл. Соловьева въ свой Ожаковскій
Римъ?.. — все это, кажется, привлекло симпатіи большин
ства хорватъ (во всякомъ случаѣ самой активной части об
щества) къ неславянской (или: а-славянской) идеологіи Старчевича, во всякомъ случаѣ болѣе прямолинейной. Все это къ
нашей темѣ имѣетъ только то отношеніе, что подобное на
строеніе хорватъ не способствовало интересу къ Россіи и
ея литературѣ. Но на этомъ надобно остановиться. Другая
часть общественнаго мнѣнія, „югославянская“ и „либераль
ная“ какъ бы колебалась между симпатіей къ Россіи, какъ
политической силѣ, долженствующей уничтожить имперію
Габсбурговъ и объединить южное славянство — и антипа'J Партіи.
106
тіей къ ней, какъ къ носительницѣ духа нелиберальнаго и
„отсталаго“. Не надо забывать, что масонство все большее и
большее пріобрѣтало вліяніе въ этихъ кругахъ. Эта часть об
щества, формально взирая на Россію съ надеждой, хотѣла
опять таки „утверждать южное славянство на его собствен
ной почвѣ“, а это исключало чужіе образцы (кромѣ обще
либеральныхъ и „културкампферскихъ“) въ частности, и въ
поэзіи, которая, согласно взгляду Вука Караджича, должна
продолжать традицію и языкъ народныхъ пѣсенъ. Изъ со
временныхъ хорватскихъ поэтовъ — самый сильный— Исшріецъ Владиміръ Назоръ, а онъ въ своемъ творчествѣ уже
выказываетъ нѣкоторыя чисто пушкинскія черты. Къ сожа
лѣнію. культурно онъ выросъ больше изъ итальянскихъ и
кажется, англійскихъ вліяній (его „Утва Златокрила“ такъ
близка „Королевѣ Мабъ“ Шелли) и русскаго языка не зна
етъ... Русская поэтическая литература—и Пушкинъ въ част
ности — ждетъ еще своего интерпретатора1).
♦
*
*
Такова картина вліянія Пушкина на хорватъ... Для „hap
py end'a приведу трогательное стихотвореніе, написанное
/. Храниловичемъ и напечатанное въ 1899 г., въ годъ столѣ
тія рожденія нашего поэта въ загребскомъ „Вѣнцѣ“ (№ 23);
вотъ оно:
„S j е п і Aleksandri P u s к і п а“
Veliüajna sjeni ruskog velikana, Sve Slavenstvo danas poCast ti odaje,
A Rusija tvoja slavom obasjana,
Veliêajué tebe, sebe velicaje.
Veleum tvoj sjajni orlovskim je letom
Nad Slavenstva morem velebno se vio,
Sve dubine sjetne slavenske nam duse
U biserje svojih pjesama je slio.
Nikad prije tebe ruski nije pjesnik
Narodnomu srcu tako zborit znao;
Kad proplaka tvoja golubinja dus>a,
Sav je ruski narod s njome zajecao.
Koliko bi joster tvoja umna snaga
Zamislila misli, velikih i sjajnih,
Koliko dubinâ и Ijudskoj bi dusi
’) Сознательно умалчиваю о писателяхъ (Козарацъ, Кумичнчъ, Ямаль
скій, В. Новак ь), которые находятся подъ вліяніемъ (отчасти или вполнѣ
другихъ русскихъ величинъ (Тургенева, Достоевскаго, Гоголя). Это въ нашу
тему не входитъ.
107
Tvoj veleum joste obasjao tajnih!
Al prerano zgasnu lue Zivota tvoga,
Tudjinska ju ruka kleta utrnula,
Tuga sveg Slovenstva nad odrom je tvojim
Za osvetom vapec, do neba se àula.
Iz cvjetane divne pjesnicke ti duSe
I u naäe kraje miris dopirao,
I hrvatski narod nad tvojim je odrom
Kô nejaki bratac tuZno proplakao.
Evo nas i sada, da se poklonimo
S bratskim ruskim rodom slavnom duhu tvomu,
Velika ti dusa znati ée razabrat
I naä glas u sloZnom spjevu slavenskomu.
Sto yed prodje Ijeta od tvog narodjenja —
Slavenska plemena svietom rasijana,
Jedni druge traZe, nade punih dusa —
MoZda na osvitku Ijepsih svojih dana.
* * *
У Словенцевъ въ Пушкинскую эпоху жилъ Ф. Прешеренъ (1801—1849), который въ своихъ стихахъ много въ
чемъ созвученъ Пушкину. Этотъ первый поэтъ словенцевъ
положилъ основаніе поэзіи своего народа и при томъ взялъ
для этой поэзіи метрическую форму вполнѣ идентичную рус
ской и нѣмецкой. Нѣкоторыя черты жизни Прешерна тоже
напоминаютъ Пушкина и вообще его лирическая муза рѣзко
отличается своей „личной“ тематикой отъ современныхъ ему
Хорватъ и Сербовъ. Впослѣдствіи Словенцы много и удачно
переводили Пушкина (переводъ „Онѣгина“, сдѣланный Прія
телемъ почти идеаленъ)... Упоминаю обо всемъ этомъ для
того, чтобы дальнѣйшія аналогіи и заключенія были яснѣе...
Перейдемъ же теперь къ болѣе конкретной темѣ: къ
переводамъ. Мы увидимъ, что какъ бы остался Пушкинъ
чуждъ Хорватамъ, стихи его все таки проникали и къ нимъ.
Первый переводъ изъ Пушкина былъ напечатанъ въ жур
налѣ „Kolo“, издаваемомъ Ст. Вразомъ, въ 1842 году. Это
была „Пиковая Дама“, переведенная М. Поповичемъ. Такъ
какъ это была вещь прозаическая — никакихъ особыхътрудностей въ связи съ этимъ не было и никакіе особенные
вопросы не возникали.
Въ 1845 году Ст. Вразъ перевелъ „Зимній вечеръ“ для
своей книги „Gusle і tambura“. Это — первый переводъ Пу
шкинскихъ стиховъ у Хорватовъ. Переводъ тяжелый и въ
настоящее время совершенно устарѣвшій.
108
Тотъ же Вразъ переводитъ и „Птичку Божію“ (изъ „Цы
ганъ“), „Черную шаль“, „Бородинскую годовщину“, „Клевеѵтникамъ Россіи“ и, главное, „Бахчисарайскій фонтанъ“:
„Cesma Bahdisarajska“. Вотъ начало перевода поэмы (парал
лельно съ оригиналомъ:
Гирей сидѣлъ потупя взоръ,
Namräteno kan sjedjase,
Янтарь въ устахъ его дымил
U ustima èibuk dimni,
ся
Безмолвно раболѣпный
Do njeg ropski age i pase’),
дворъ
Вкругъхана грознаго тѣснил
Pazed njegov pogled zimni.
ся.
Все было тихо во дворцѣ;
Svatko muci sav u strahu,
Благоговѣя всѣ читали
Citajuci mradne pruge
Примѣты гнѣва и печали
Kruta gnjeva, tajne tuge
На сумрачномъ его лицѣ.
Na kanovu lieu plahu.
Но повелитель горделивой
Ole, oholi vladar stane,
Махнулърукой нетерпѣливой
Zapovjednom rukom mane,
И всѣ, склонившись, идутъ
I svi odu, rijed ne zbore...
вонъ.
Мы видимъ, что 1) четырехстопный ямбъ замѣненъ че
тырехстопнымъ хореемъ; 2) число строкъ соблюдено точна,
3) риѳмы чередуются правильно, но всѣ мужскія риѳмы за
мѣнены женскими. Въ результатѣ довольно медленный на
пѣвъ стиха обращается въ быстрый и исчезаетъ прекрасная
„ударность“ (пуантированье), зависимая отъ мужскихъ риѳмъ.
Вообще же переводъ кажется намъ сравнительно удо
влетворительнымъ, уже хотя бы потому, что нѣтъ „отсебя
тинъ“ и фантазіи.
Хорватская критика считаетъ Враза талантомъ лириче
скимъ и, поэтому не мудрено, что „Фонтанъ“ вышелъ много
лучше, чѣмъ реторика „Клеветникамъ Россіи“.
Вотъ начало перевода „Клеветникамъ Россіи“:
Sto vièete, ѵі narodni govordZije?
Sto anatemu bacate prot Rusije?
Sto razdraäi vas, sto? Litvanske bune tiek?
Okanite se: to je spor Slavena medju soborn
Domadi stari spor ved rodjen davnom dobom,
Pitanje, koje ne cete vi riesiti viek.
Ta ved se davno mrazno krve
Med sobom te dvije slavskijeh gran’,
I desto klonu dobe prve
•j Интересная подробность: Вразъ, какъ и старый Гундуличъ употреб
ляетъ, по итальянскому образцу .Сліяніе* гласныхъ: Do njeg ropski age i
paäe = do njeg ropski ag' i paäa.
109
Sad poljska, a sad ruska stran.
A tko ce najzad past od итога,
Da Г vjerni Rus, il gordi Lja?
Da Г slavski ée se vrutci slit sred ruskog тога,
Il ono ée usahnut? — Tko to zna?
Здѣсь почти все неудовлетворительно: размѣръ неулавленъ. Нѣкоторыя строки (напр. шестая — „Pitanje“ і t d.)
совсѣмъ прозаичны. Риѳма очень слаба. Особенно странно
для русскаго уха — зрительное воспріятіе риѳмы, встрѣчаю
щееся, впрочемъ, и у самого Пушкина1). „Умора“ имѣетъ
удареніе на „у“, а „мора“ на „о“. Это то же самое если бы
кто нибудь по русски сриѳмовалъ „школа“ и „около“. Къ
сожалѣнію эта ошибка культивируется и до нашихъ дней.
Кромѣ того и самое произвольное сокращеніе (апострофированіе) словъ дѣйствуетъ отрицательно. Но опять таки нужно
признать, что Вразъ свято блюдетъ число строкъ и поря
докъ мысли, желая дать Пушкина, а не отсебятину. Спасибо
и на томъ.
Дмитрій Деметеръ, о которомъ мы уже упоминали, пе
ревелъ въ 1846 и 1847 годахъ въ той же „Даницѣ Илирской“
„Воеводу“ и „Черную шаль“:
Кб bezuman gledam emu koprenu
I peCal mi kida duäu studenu
Dok sam joste bio lakouman, mlad,
Grkinju sam neku ljubio vama tad... i t. d.
Великолѣпные амфибрахіи замѣнены здѣсь какимъ то
неопредѣленнымъ суррогатомъ. Впрочемъ, взятый въ цѣломъ,
переводъ не изъ худшихъ и до нѣкоторой степени и мы мо
жемъ раздѣлить сожалѣніе М. Шрепеля, что Деметеръ мало
переводилъ изъ Пушкина.
Вмѣсто „Даницы“ въ эпоху Баха („абсолютизма“) вы
ходитъ чисто литературный журналъ „Neven“ („невянущій
цвѣтокъ“). Въ немъ работаетъ упомянутый уже „хорватскій
пушкинистъ“ Иванъ Трнскій. Онъ, кромѣ новаго перевода
»Бахчисарайскаго Фонтана“ (подъ заглавіемъ „Bahäisarajski
Vodomet“), переводитъ „Кавказскаго Плѣнника“, а кромѣ то
го (изъ прозы) — „Барышню Крестьянку“. (1856 г.). „Ду
бровскій“ тоже переведенъ въ эти годы (1853 г.), но ано
нимно, въ томъ же „Невенѣ“). Въ 1854 году Трнскій пишетъ
’) Скажемъ, изъ „Руслана":
Другой — Фарлафъ, крикунъ надменный
Въ пирахъ никѣмъ не побѣжденный.
Или будемъ читать „надмённый", или „побуждённый“. Не знаю что лучше?
110
большой очеркъ о Пушкинѣ, первую солидную работу о на
шемъ поэтѣ у Хорватъ.
„Евгенія Онѣгина“ Трнскій началъ переводить въ 50-тыхъ
годахъ, а въ 1862 году въ журналѣ „Glasonoëa“, въ Карловцѣ, т. к. Трнскій былъ пограничнымъ офицеромъ и долго
жилъ въ Глинѣ, на Восточной Границѣ (Militärgrenze); тамъ,
въ Глинѣ онъ работалъ надъ Онѣгиномъ и напечаталъ строфы
первой главы „Онѣгина“, хотя, какъ мы уже знаемъ, и осу
дилъ, какъ вещь легкомысленную. Въ 1874 году Трнскій со
вершенно передѣлалъ свой переводъ, согласно принципамъ
метрики, имъ утвержденнымъ. Этотъ новый переводъ вы
шелъ въ 1881 году въ Загребѣ. Послѣ этого Трнскій пере
водилъ еще кое что изъ Пушкина („Поэту“ — 1898 г. „Чер
ная Шаль“, а въ 1899 г. „Русалку“ (не пьеса). Нужно
къ этому еще прибавить, что „Онѣгина“ еще въ 1860 году
перевелъ и издалъ Шпиро Димитровичъ Которанинъ, пе
реведшій и „Руслана и Людмилу“ (1859), „Полтаву“, „Братьевъ-разбойниковъ“ и „Цыганъ“ (все въ 1860-мъ же году)!
Вотъ, что пишетъ Шрепель объ этихъ переводахъ: „Онъ
переводилъ много, (для театра, между прочимъ, перевелъ
около ста разныхъ пьесъ), но его переводы — безъ вдохно
венія и безъ достаточной подготовки. Рожденный въ обла
сти, гдѣ сохранился прекрасный языкъ, хорошо зналъ про
стонародную фразеологію, но это обстоятельство часто за
водило его на ложный путь, именно, пользовался простона
родными обычаями тамъ, гдѣ они неумѣстны... Онъ былъ
офицеръ, и въ его переводахъ чувствуется военщина; неуди
вительно, что въ „Полтавѣ“ ему больше всего удались „бо
евыя* картины. Онъ перевелъ Пушкина народнымъ „десетерцемъ“ [ —'ѵ—'ѵ—'ѵ—'ѵ—'ѵ ], безъ риѳмъ; это еще кое
какъ подходило къ содержанію „Руслана и Людмилы“ (это
и былъ лучшій переводъ Шпиры), но никакимъ образомъ къ
„Онѣгину“; главная бѣда въ томъ, что Димитровичъ не
зналъ вполнѣ русскаго языка. Хуже всего обошлось у него
съ „Евгеніемъ Онѣгинымъ“, въ которомъ показалъ полное
отсутствіе литературнаго образованія. Трудно въ этомъ пе
реводѣ узнать байроническую геніальность и салонное изя
щество подлинника, который для русскихъ то же, что нѣм
цамъ Фаустъ. Все же, если эти переводы не точны, покрайнѣй мѣрѣ понятны. А и это кое что значитъ въ переводахъ“ ')■
’) Переводъ .Онѣгина" размѣромъ Сербскихъ народныхъ пѣсенъ «е
будетъ казаться столь страннымъ, если вспомнимъ, что, прежде чѣмъ Гнѣ
дичъ перевелъ Иліаду гексаметромъ, была попытка перевести Гомера сти
хомъ русскихъ былинъ. Кстати сказать, французскій переводъ Энеиды Делилля, который недавно былъ у меня въ рукахъ (александрійскій стихъ съ
риѳмами!) столь же мало подходитъ къ Вергилію, какъ и сербскій стихъ къ Пушкину. Очень жалѣю, что не удалось сейчасъ достать образецъ изъ
этого перевода.
Ill
Но насъ Димитровичъ отвлекъ отъ главной темы —
т. е. о Трнскомъ. Его переводы уже потому заслуживаютъ
вниманія, что, во первыхъ, онъ, какъ уже сказано, былъ,
такъ сказать, „пушкинистъ“, и работалъ надъ Пушкинымъ
серьезно; во вторыхъ — потому что Трнскій въ 1874 году
написалъ цѣлый этюдъ о хорватской метрикѣ. Онъ отстаи
валъ нѣмецкое или русское стихосложеніе, доказывая, что
и ямбы возможны въ сербско-хорватскомъ стихѣ; слѣдова
тельно, работы Трнскаго, поэта съ дарованіемъ и теоритика поэзіи заслуживаютъ особаго вниманія. Приведу нѣ
сколько примѣровъ:
Черкесская пѣсня
(Кавк, плѣнникъ)
Въ рѣкѣ бѣжитъ гремучій
валъ,
Въ горахъ безмолвіе ночное.
Казакъ усталый задремалъ,
Склонясь на копіе стальное.
Не спи казакъ, во тьмѣ ноч
ной
Чеченецъ ходитъ за рѣкой:
Cerkeska pjesma.
Rieka tece, talas sumi
Noé se smrkla strahovito;
Kozak trudan snom se kumi
Nà koplje se boèi vito
Oj, ne dremaj, moj kozaäe,
Ceâenjanin kroz mrak skaèe.
Опять видимъ, какъ у Враза, ямбъ замѣненный хореемъ,
что совершенно мѣняетъ напѣвъ. Особенно въ „пѣснѣ“, ко
торая положена и на музыку, это невыносимо. Самъ текстъ
переведенъ довольно вольно, но съ точки зрѣнія хорватской
метрики идеально. Откуда это: „snom se kumi?“ Или чече
нецъ, который не ходитъ, а скачетъ? и т. д.
Еще примѣръ:
Русалка.
Надъ озеромъ, въ глухихъ
дубровахъ
Спасался нѣкогда монахъ
Всегда въ занятіяхъ суровыхъ
Въ постѣ, молитвѣ и трудахъ.
Уже лопатою смиренный
Себѣ могилу старецъ рылъ.
И лишь о смерти вожделѣн
ной
Святыхъугодниковъ молилъ.
R u s а 1 к а.
U lug tamni do jezera
Kaludjer se negda skloni
Postit, molit; sviest ga tjera
Da se trapi, suze roni.
Lopatom je drugda pako
Starac i grob sâm si kopô,
Ne bi li ga skonèaj kako
Ugodnika bo2jeg dopô.
Ta же картина съ ритмической точки зрѣнія. Дался Трнскому этотъ веселый хорей для всѣхъ обстоятельствъ! Кромѣ
того, кажется, послѣдняя строка невѣрно понята: монахъ мо
лился святымъ угодникамъ, а не просилъ „смерти святого“,
112
какъ получается у Тряскаго... Дальнѣйшія строки въ томъ
же родѣ.
Много лучше, чѣмъ предыдущія пьесы —
„Талисманъ“.
„Z apis“.
Тамъ, гдѣ море вѣчно пле
щетъ
На туманныя скалы,
Гдѣ луна теплѣе блещетъ
Въ сладкій часъ вечерней
мглы,
Гдѣ, въ гаремахъ наслажда
ясь,
Дни проводитъ мусульманъ,
Тамъ волшебница, ласкаясь
Мнѣ вручила талисманъ, итд.
Gdje od vieka more pljeska
O peéinu lomec тоб,
I mjesec se divno Ijeska
Kroz maglenu toplu noc;
Po haremu gdje se mami
1 uziva Тигбіп raj,
Tamo mila milo dâ mi
Grleci me, zapis taj. itd.
И кончается: ,,od izdajstva, zaboravi èuvat ce te zapis taj“, что
невѣрно, ибо Пушкинъ говоритъ о женской измѣнѣ, т. е. по
хорватски „od nevjere“... Ритмически „Талисманъ“ удался;
конечно потому, что это и въ оригиналѣ хорей, столь ми
лый хорватскому поэту.
„Евгеній Онгьгинъ“ переведенъ Трнскимъ въ хореяхъ, а
въ остальномъ вполнѣ добросовѣстно .. Вотъ начало (парал
лельно съ попыткой пишущаго эти строки въ ямбахъ).
Evgenij Onjegin.
(пер. Трнски)
Pjev prvi
Evgenij Onegin
(пер. К. B.)
Glava prva
I 2ivljeti iuri
i éutjeti brza
K. Vjazemski
I
Strie mi bio posten covjek,
Kad ga smota sila bolje
Navro biti paZen dovjek
Sto da bolan cini bolje?
Primjerom je. Drugi sliede
Ali, Bo2e, teske biede.
Danju, noéju uza nj bdjeti
Ostavit ga nije smjeti
Pretvarat se valja vrlo
Stara groba razgovarat
I
Moj strie je covjek kakvih treba,
Oboljeti kad zbilja znao:
Tim di£e ugled si do neba,
Niât boljeg nebi nitko dao!
Bud drugim njegov primer —
nauk,
No, Bo2e pravi, kakav bauk...
Uz njega biti noc i dan
1 ne smjet nikad ici van!
Zar podvala to nije niska
Zabavljat poluZivi stvor.
из
Za log mu se mekan starat
Liek u suho lit mu grlo <
A uzdahnut rad bi pravo:
Kada de te, odniet djavo...
Pospremit jastudida zbor,
Dat medicinu koju iska,
I s uzdahom uz svjesti prag
Pomislit nek te uzme vrag?t
II
II
Prased poätom niz to polje
Mlad prokletac to si rede,
S ne shvacene BoZje volje
To su fakina misli mlada
5to poätom leti kroza prah
Previänjom voljom Zeusa —
sada
„Bastinit svojtu“ mu je tah.
„Ljudmile“ stiode i „Ruslana“
S junakom ovoga romana
Bez uvoda, sad, ovaj das
Upoznat odmah hodu Vas:
Onegin, prijatelj moj blagi
Uz Neve roden mutni bjeg,
Ko i vi, moZda; ili tek
Tu sjaste, ditatelju dragi?
Ja ondje setah nekad... jao!
АГ sjever skoditmi je znao... itd
Liep imetak mlad joä stede.
Mili znanci, znanice mi,
Ja se namah redi spremih
Priljem Mile i Ruslana,
Tko je junak mog romana:
To j’ Onjegin, koj se zade
Ponevju nam bas pri vodi
Tuj se moZda i ti rodi,
Mladideva, moj zemljade;
Poboravljah tamo i ja,
Al’ misjever ljut ne prija... itd.
Кромѣ неточности размѣра, Тряскій выбросилъ также
всѣ мужскія риѳмы. Онъ самъ, какъ бы извиняясь въ этомъ,
говоритъ въ предисловіи дословно слѣдующее: „Я окончилъ
переводъ Онѣгина прежде, чѣмъ пришелъ къ убѣжденію,
что хорватская поэзія могла бы пользоваться не только па
дающимъ (хорей), но и растущимъ (ямбы) ритмомъ... Поэто
му, къ сожалѣнію, Онѣгинъ не переведенъ размѣромъ подлин
ника“... Это ясно при сравненіи двухъ приведенныхъ пере
водовъ.., Значитъ задача перевода Онѣгина въ ямбахъ дает
ся нынѣшнему поколѣнію.
Въ сербскохорватскомъ литературномъ языкѣ (штокавское нарѣчіе) удареніе имѣетъ тенденцію быть какъ можно
ближе къ первому, начальному слогу. На послѣднемъ слогѣ
удареніе не бываетъ никогда, кромѣ, конечно, односложныхъ
словъ. Что изъ этого слѣдуетъ? А вотъ, что— мужскихъ
риѳмъ можетъ быть сравнительно мало; во всякомъ случаѣ
въ длинной поэмѣ онѣ будутъ невыносимо повторяющимися;
ямбы возможны съ большимъ затрудненіемъ, ибо количе
ство словъ съ удареніемъ на второмъ слогѣ не такъ велико
(слобода, познанство, будуЬност...). Приходится выдумывать
короткія словечки (vec, dak...) для начала, что. конечно, зву
читъ, какъ классическіе русскіе „ужъ“ и „вѣдь“.
* * *
8
114
Для сравненія приведу тѣ же отрывки изъ „Онѣгина1,
въ переводѣ Одавича (Бѣлградъ, 1924 годъ).
Евгенике Оіьегин.
I
II
„Чика ми je старог рёда
„Разболев се збил>а много
„Послух тражи, заповеда. —
„Бол>е смислит нще мог’о...
„ГЬегов пример друге учи!
Ал’ досадност како мучи
С’ боним бити дневи, ноЬи,
Ни корака никуд моѣи.
Лукавство je ниско, ружно
Полужива забав/ьати
Подглавник му поправд>ати
Додавати лек му тужно,
Док уздахе жел>а коси:
„Кад he да те ijaso носи“!
То ветропир миш/ьа млади,
ДетеЬ’ с поштом кроз пра
шину,
СвемоЬни га Зевс награди
Да наследи сву родбину.
Прщате.ъи мог Руслана!
Ja (унака свог романа
Без увода, одмах, велим,
Приказати сад вам желим.
Moj Оіьегин знанац мио
HoKpaj Неве живот поче,
Где je, можда, читаоче,
И ваш poljaj ил’ cjaj био.
Ту се некад шетах и ja,
Ал ми север сад не npnja...
Какъ видимъ, Одавичъ, въ сущности переложилъ на
болгье современнный языкъ Трнскаго, сохранивъ всѣ его ме
трическіе недостатки...
* * *
Изъ остальныхъ переводчиковъ заслуживаютъ внима
нія Августъ Харамбатичъ, Іованъ Храниловичъ, Тома Марешичъ, Антонъ Радичъ и Иса Великановичъ. Все зто крупные
и серьезные имена въ исторіи хорватской культуры; въ част
ности Тома Маретичъ, трудолюбивый и акрибіозный ученый
филологъ, перевелъ „Иліаду“, „Одиссею“, „Энеиду“, „Буко
лики“ и „Георгики“ гексаметрами, еще „Пана Тадеуша“ размѣ
ромъ оригинала, и. т. д. (кажется единственный случай та
кого богатства переводовъ въ свѣтѣ); „Полтаву“ же почему
то онъ перевелъ въ хореяхъ (хорваты зовутъ хореи —
трохеями). Вотъ ея начало:
Kocubej je bogat, slavan!
Po njegovim livadama
Beskrajnima konjska stada
Na slobodi pasu sama.
Naokolo sve Poltave,
Salasi mu s vrti stoje...
или знаменитое: „Мгновенно сердце молодое“:
115
„Srce mlado u cas plane
I zgasi se; ljubav dugo
Ne traje mu, dodje-prodje,
Drugi dan je äuvstvo drugo.
Nije tako gibko srce
U starisa...
Все это насъ можетъ, конечно, удовлетворить только весьма
частично... Иса Великановичъ въ общемъ очень удовлетвори
тельно, даже хорошо, перевелъ „Бориса Годунова“ (не было
затрудненій съ риѳмами); знаменитый создатель „крестьян
ской идеологіи“, авторъ „Основы“ и братъ еще болѣе слав
наго, покойнаго Степана Радича, Антэ Радичъ перевелъ впол
нѣ хорошо „Капитанскую дочку“ и удовлетворительно —
„Сцену изъ Фауста“.
Харамбашичъ (иногда подписывается по русски: Гет
мановъ). Далъ нѣсколько удачныхъ переводовъ; напримѣръ,
изъ „19 октября“:
„Vec zelen ures suma gubit mora
„I mraz srebreni povenuto polje,
„A dan proviri, kao preko volje,
„I sakrije se iza bliänjih gora“...
и далѣе, гдѣ поэтъ говоритъ о Царскомъ Селѣ:
„1 kudgod zla nas bacila sudbina,
1 kudgod sretno 2iée nas povelo,
Mi viek smo isti: sviet nam je tudjina,
A pravi dom nam Carskoje je Selo“.
Храниловичъ далъ тоже нѣсколько переводовъ; напри
мѣръ, „Я помню чудное мгновенье“:
— О, jos se sjeéam onog ëudnog ôasa,
Kad preda mnom se prvi put pojavi,
Kô mimoletno kakvo prividjenje,
Ljepote ciste kano genij pravi...
Зачѣмъ только прибавилъ лишній слогъ? Конецъ неудаченъ,
благодаря зрительной риѳмѣ:
А srce moje opojeno bije,
Zivota svoga uzkrs kô da slävi,—
1 eto, opet zanosa i boZtva
I eto, opet suza i Ijübavi.
116
♦♦ *
Мы такимъ образомъ разсмотрѣли главныхъ хорват
скихъ переводчиковъ Пушкина. Миливой Шрепель въ своей
уже нѣсколько разъ упомянутой статьѣ приводитъ списокъ
всѣхъ, до 1899 года переведенныхъ на хорватскій языкъ про
изведеній Пушкина.
Главное достиженіе въ 1899 году безъ всякаго сомнѣ
нія,—это изданіе „Избраннныхъ сочиненій Пушкина“ въ раз
ныхъ переводахъ, подъ редакціей М. Шрепеля. Издала его
„Матица Хрватска“.
Книга издана со вниманіемъ, данъ портретъ поэта н
біографическій очеркъ радактора. Все-же это не было до
статочно для правильнаго изученія Пушкина и для его по
ниманія. Но quod potui, feci, faciant meliora potentes, могъ
сказать Шрепель.
Въ 1904 году вышла антологія славянскихъ поэтовъ,
составленная Трнскимъ. (Iz slavenske rodbine“. Prev. I. Trnski, Zagr. „Mat. Hrv.“). Тамъ изъ Пушкина переведены: „Angjeo“, „Skotska pjesma“, „Pjesniku“, „Jadika“ (Анчаръ, очень
недурно), „Zapis“ (Талисманъ), „Cast u Petra Velikoga“, „Spanjolska romanca“ „Rusalka“, „Kavkaski zarobljenik“ и „Baköisarajski vodomet“.
Полную библіографію хорватскихъ произведеній Пуш
кина составилъ Іосипъ Бадаличъ:
Dr Josip Badalic: PuSkin u hrvatskoj knjiievnosti, Za
greb, 1937, стр. 39—45.
Для новыхъ изданій Пушкина на сербо-хорватскомъ язы
кѣ нужно, разумѣется, составить сводъ всѣхъ переводовъ,
выбравъ изъ нихъ всѣ, болѣе или менѣе удовлетворительные,
и по возможности организовать переводную работу для еще
непереведенныхъ произведеній. Эта часть является самой
трудной, но и самой благодарной и, въ сущности, необходимой
задачей. Своды должны заключать всѣ сербскіе и всѣ хор
ватскіе переводы изъ Пушкина. Нужно во всякомъ случаѣ
также упомянуть, что нѣкоторые изъ пишущихъ русскихъ
пытались переводить Пушкина. Такъ, въ журналѣ „Лешоиис
Машице Српске" (Н. Садъ) вышелъ очень удачный переводъ
„Моцарта и Сальери“ (г. Ь. Захарова). Въ Загребскихъ из
даніяхъ пишущій эти строки перевелъ „Узника“ (1932, „15
сент“), „Памятникъ“ („Лучъ“ 1932), „Мірская Власть“ („Омладина“ 1933). Подготовилъ еще оду „Вольность“, „Бѣднаго
Рыцаря“, „Дочери Карагеоргія“, „Посланіе въ Сибирь“, „Аріонъ“ и отрывки изъ „Онѣгина* въ ямбахъ. Подготовляю
„Скупого Рыцаря“ и „Пиръ во время чумы“.
Закончу, какъ иллюстраціей и послѣднимъ аккордомъ
117
одновременно, „Памятникомъ“ въ двухъ параллельныхъ пе
реводахъ, Брлековича изъ 1876 г. и пишущаго эти строки
изъ 1932 года:
Spomenik’)
Spomenik digoh sebi, al ne rukotvoran
I ne de k njemu zarast put naroda moga
Uzvinuo se vise glavom nepokoran
Od slavoluka Bonapartinoga.
Ne umrjeh posve, ne. Uz zavjetnu mi liru
Vjekovati de prah mi propasti bez hude.
1 slava de me stizat dok na tom na svemiru
Éivovat barem jedan pjesnik bude.
Olas о meni de cijelom Rusijom nam puci
I spominjat de mene u njoj jezik svaki:
1 gordi unuk Slaven i Fin i jos ljudi
Tunguz i Kalmuk, stepe sinak laki
I narodu du dugo biti mio s toga
Sa lirom sto sam dobra duvstva probudivö
Ugadao mu sto sam miljem stiha svoga
I sto sam palim milost izazivö.
Oj, vilo moja, slusaj Bo2ju rijed poslusno
1 ne plaäi se ruga, ne dezni za slavom,
I klevetu i hvalu primaj ravnodusno
I nemoj s ludom prepirat se glavom.
Spomenik2)
Ja digoh spomenik, sto nije rukom zidan:
Do njega nece ved zarasti staza skup;
Prkosno glavu si on di£e, viäe vidan,
Neg’ onaj, Aleksandrov, stup.
Sav mrjeti nedu, ne! U zavjetnoj mi liri
Moj duh de Zivjet joä; nadZivjet de moj prah
I bit du svima znan, dok mjesec zrake siri,
Poete zadnjeg dok je dah!
О meni glas de prod svim silnim poljem Ruskim,
1 mene nazvat de svak rod i jezik svak.
Slavena gordi puk i Finac; s okom uskim
'1 Напеч. „Vienac“ Zagreb 1876, № 3.
!J Напеч. „Luä-, Zagreb, 1932 № 6—7.
118
Tunguzac; stepski Kalmuk èak...
I trajno bit cu drag ja cjelom svome rodu
Jer stalno buditi tek dobra öuvstva znah;
Jer kroz moj grozni vjek velidah ja slobodu
1 samilost za pale zvah!
Boiansku naredbu, о Muzo, vrsi zdusno,
Ne boj se uvrjeda; sve pustaj: vijenac, sud —
Kleveta, hvala val — sve primaj ravnodusno
1 äuti s onim, tko je lud.
119
3. Н. Преображенскій
Пушкинъ у словенцевъ *).
Пушкинъ былъ горячимъ сторонникомъ идеальнаго сла'-^
вянскаго сближенія, но въ Россіи едва начинали разбираться
тогда въ этихъ вопросахъ. Въ 1821-мъ конгрессномъ году
въ Люблянѣ рѣшались судьбы Европы, и пять мѣсяцевъ, съ
начала января до половины мая, жилъ тамъ императоръ^
Александръ Павловичъ. Въ связи съ этимъ Любляна вошла
въ Пушкинскую біографію. Статсъ секретарь графъ Каподистрія оффиціально запрашивалъ оттуда Инзова о поведеніи
Пушкина. (Письмо отъ 13 апрѣля 1821 г.) Инзовъ послалъ
28 апрѣля въ Любляну же одобрительный отзывъ о его по
веденіи, и просилъ назначить Пушкину содержаніе по 700
рублей въ годъ. Пушкинъ тѣмъ болѣе могъ встрѣтить въ
Кишиневскіе годы описаніе Любляны въ парижскихъ газе
тахъ или „Сынѣ отечества“’). Позднѣе ему могла разсказы
вать о Люблянѣ блиставшая на конгрессныхъ балахъ Елиза
вета Михайловна Хитрово.2) Въ Люблянѣ покончили съ воз*) По крайней мѣрѣ половина этого очерка или заимствована изъ ра
зысканій проф. Ивана Пріятеля, или относится къ его переводам!. Прошу
его принять глубокую благодарность сь пожеланіемь исполненія его сер
дечнаго желанія: возвратиться снова къ Пушкину и „Онѣгину.
Профессора Францъ Кйдричъ, Райко Нахтигаль и Францъ Рамовшъ
любезно дали мнѣ отдѣльныя ниже упомянутыя филологическія и литера
турно-историческія указанія. Директору университеской библіотеки проф.
др. Янко Шлебингеру и ассистенту славянскаго института люблянскаго уни
верситета, Звонко Бизьяку.я очень обязанъ за многочисленныя библіографи
ческія справки и поиски.
Любляна, 14-го января 1937.
Статья сокращена ввиду недостатка мѣста.
Считаемъ грустнымъ долгомъ сообщить о смерти проф. Пріятеля,
послѣдовавшей въ маѣ сего 1937 года, когда настоящій сборникъ, къ ко
торому онъ отнесся съ такимъ участіемъ, уже находился въ наборѣ.
Ред.
120
станіемъ Ипсиланти, печальный исходъ котораго разочаро
валъ Пушкина въ политикѣ Священнаго союза.3) Конгрессъ
постановилъ отправить для подавленія неаполитанскаго воз
станія русскій корпусъ въ девяносто тысячъ человѣкъ подъ
начальствомъ Ермолова. Это извѣстіе огорчило предназна
ченную по совѣту командира гвардейскаго Корпуса И. В. Ва
сильчикова, (чтобы „охладить молодыя головы“) къ участію
въ походѣ гвардейскую молодежь.4) Въ Люблянѣ же былъ
подписанъ указъ объ отставкѣ пріѣхавшаго съ извѣстіями о
безпорядкахъ въ Семеновскомъ полку и обиженнаго раздра
женнымъ государемъ Чаадаева.5) Значитъ не могли словенцы
не интересовать Пушкина.
Однако приходится отмѣтить, что словенскія книги,
(если не считать лужицко-сербской грамматики) оказываются
самыми малочисленными въ славянскомъ отдѣлѣ библіотеки
Пушкина. Сербскихъ, чешскихъ и особенно польскихъ было
несравненно больше. Дошедшій до насъ списокъ пушкин
скихъ книгъ упоминаетъ только три словенскихъ изданія:
слав, нѣм и нѣм. слав, словарь 1833 г. и слов, грамматику
для нѣмцевъ 1832 г. Мурка.6) Первое изъ нихъ является,
какъ установилъ проф. И. Пріятель, несомнѣннымъ источ
никомъ выписанной Пушкинымъ въ „Замѣчаніяхъ на Пѣснь
о полку Игоревѣ“ 1834 г. словенской исторической посло
вицы:
„Кмети под трубами повити“. Г-нъ Вельтманъ7)...
„Иметь“ значитъ вообще крестьянинъ, мужикъ. Kar gospöda
stori krivo, kmeti môrjo plàzhat shivo.8)“
Важнѣе, что на словенской почвѣ возникъ еще упоми
наемый въ „Онѣгинѣ“, (глава третья, XII) „Таинственный Сбогаръ“, отзвукомъ котораго П. Б. Струве считаетъ „Дубров
скаго“.9) Мы не особенно освѣдомлены, что и какъ читалъ
Пушкинъ, но онъ, очевидно, запомнилъ этого героя. Третья
глава „Онѣгина“ написана въ 1824 г., а въ 1830-мъ мы снова
встѣчаемъ то же имя въ „Барышнѣ-крестьянкѣ“.10) Повтореніе можетъ быть случайнымъ, но слѣдуетъ отмѣтить, что
литературный успѣхъ романа Нодье неотдѣлимъ отъ глубоко
захватившей Пушкина наполеоновской легенды. Прочитавъ и
похваливъ „Сбогара“ на сз. Еленѣ, плѣнный кесарь11) пріоб
рѣлъ ему французскихъ читателей, которые иначе врядъ ли
бы заинтересовались далекой, навсегда потерянной Иллиріей.
Шарль Нодье (1780-1844), авторъ романа и вышеупомянутаго
описанія Любляны извѣстенъ у насъ по письму Проспера
Мериме Соболевскому въ предисловіи къ „Пѣснямъ запад
ныхъ славянъ“, изданія 1835 года. Югославянскія воспомина
нія въ его творчествѣ восходятъ къ восьмимѣсячному пре
быванію въ Люблянѣ, гдѣ онъ былъ завѣдывающимъ пуб
личной, такъ называемой лицейской, а теперь университет
ской библіотекой и редакторомъ правительственнаго ор-
121
гана: „Télégraphe officiel“, пока франпузы не очистили въ
августѣ 1813 г. городъ. Историческая обстановка, въ которой
происходитъ дѣйствіе романа, связана съ стремленіемъ фран
цузскихъ властей искоренить размножившихся въ неспокой
ные годы разбойниковъ. Первымъ генералъ-губернаторомъ
Иллиріи сталъ популярный маршалъ Мармонъ, герцогъ Рагузскій, бывшій позже французскимъ посломъ въ Петер
бургѣ.12) Ему удалось вскорѣ успокоить бѣжавшихъ въ лѣса
отъ „безбожныхъ якобинцевъ“ крестьянъ, которые оставляли
разбойниковъ и расходились по домамъ. Но одновременно
работали карательные отряды, повѣсившіе въ 1810 году въ
теченій трехъ недѣль семдесятъ грабителей, которыхъ было
запрѣіцено, для острастки, по нѣскольку мѣсяцевъ снимать съ
висѣлицъ. Потомъ наступилъ порядокъ, но отдѣльныя шайки
бунтовали и позднѣе.
Люблянскій „Телеграфъ“ распубликовалъ 20 января
1813 г. приговоръ по дѣлу пяти разбойниковъ, въ числѣ ко
торыхъ было двое по имени Збогарь. Нодье, повидимому, имя
героя заимствовалъ отсюда.13) „Довольно фантастическая“,14)
по характеристикѣ проф. Пріятеля, фабула романа не всегда
считается съ исторической дѣйствительностью. Подлинный
Звогарь наврядъ ли такъ разбирался въ политикѣ и фило
софіи какъ Нодье, увѣряющій, что „еретическія“, (fort hété
rodoxes) мысли разбойника записаны имъ avec une scrupu
leuse littéralité.15) Главнымъ авторскимъ заданіемъ остается
роковая влюбленность несчастной француженки Антоніи Монліонъ въ обожаемаго венеціанцами благодѣтеля бѣдныхъ ве
ликолѣпнаго Лотаріо. Антонія сходитъ съ ума и умираетъ,
неожиданно убѣдившись, что Лотаріо ни кто иной, какъ
„гроза Трста и Истры“, ужасный Збогарь. Самъ таинствен
ный Збогарь, рожденный въ Сплитѣ-потомокъ албанскихъ
принцевъ, принявшій участіе въ сербскомъ возстаніи и, ли
шенный наслѣдства, напрасно спасавшійся отъ ложной евро
пейской культуры въ дѣвственной Черногоріи, (aux mon
tagnes Clémentines, гл. XII), попавшій въ плѣнъ къ туркамъ,
бѣжавшій и пренебрегшій престоломъ валашскаго господаря,
(гл. IV) чтобы мстить тиранамъ въ качествѣ атамана „Брат
ства обшей пользы“, (chef des Frères du bien commun, гл. III),
скрытый то подъ маской армянскаго монаха, то венеціан
скаго патриція и владѣющій по суевѣрнымъ слухамъ тайной
вѣчной молодости, (гл. VI) онъ интересенъ, какъ воплощеніе ав
торской вольнолюбивой мечты.
Скудныя справки о случайныхъ соприкосновеніяхъ Пуш
кина со словенцами приходится закончить исторически неиз
бѣжнымъ указаніемъ на то, что его интересъ къ южнымъ
славянамъ касался прежде всего православной Сербіи. Объ
этомъ говорятъ въ хронологическомъ порядкѣ: стихи, посвя
щенные сербскому возстанію, („Дочери Карагеоргія“ 1820)
122
кишиневскія встрѣчи съ сербскими воеводами и восходящія
не только къ Мериме, но и къ подлинникамъ изъ сборника
Караджича „Пѣсни западныхъ славянъ“. Зато не подле
житъ сомнѣнію, что Пушкинъ, переводившій Мицкевича „въ
изъявленіе своей дружбы къ нему“,16) ничего не слыхалъ о
Прешернѣ, третьемъ великомъ поэтѣ славянскаго возрожде
нія. Прешеренъ,17) (1800—1849) только на годъ моложе Пуш
кина, можетъ считаться его ровесникомъ, былъ вскормленъ
той же свободолюбивой романтикой Байрона и „Lizova
strelci“ т. е. Lützow’s Wilde Jagd Теодора Кёрнера1”)Онъ имѣлъ то же національное значеніе: онъ вывелъ
родную литературу изъ тѣснаго закоулка, (Zwergliteratut) на
всечеловѣческую дорогу. Немѣцкое стихотвореніе Прешерна
Sängersklage, (сонетъ первый 1833 года) съ эпиграфомъ: Et
Getico scripsi sermone libellum и стихомъ: „Er lernte fremdes
Wort im fremden Lande“, напоминаетъ пушкинское посланіе
„Овидію“ (1821). Эпиграмма на извѣстнаго цензора и сла
виста Копитара, „Apel in cevljar“ (1831) съ подзаголовкомъ
„Po Plinijevi pravljici“ и стихомъ „Le ëevlje sodi naj Kopitar!“
кажется переводомъ пушкинскаго: „Суди, дружокъ, не свыше
сапога“ („Притча“ 1829). Но несмотря на эти совпаденія оста
ется, какъ установилъ проф. Пріятель, неизвѣстнымъ, „зналъ
ли Прешеренъ что нибудь о Пушкинѣ?“19) Въ спйскѣ книгъ
друга и ментора Прешерна, основоположника словенской
исторіи литературы М. Чопа, (1797—1835) значатся вывезен
ныя вѣроятно изъ Львова, гдѣ онъ преподавалъ нѣсколько
лѣтъ въ гимназіи и университетѣ, пять произведеній Пушки
на: „Кавказскій плѣнникъ“, „Бахчисарайскій фонтанъ“ и др.£0)
Но современники безъ сомнѣнія не умолчали бы о знаком
ствѣ Прешерна съ Пушкинымъ, а намъ исвѣстно только, чіо
Прешернъ читалъ въ подлинникахъ „Дочь славы“ Коллара
и, (съ сосланнымъ въ Любляну подъ надзоръ полиціи поль
скимъ этнографомъ Эмилемъ Корытко)—Мицкевича.21) Пре
шернъ умеръ въ 1849 г., но у насъ нѣтъ никакихъ данныхъ
о его знакомствѣ съ русской литературой и въ дальнѣйшемъ,
хотя за это время появились „Мертвыя души", „Герой на
шего времени“, „Бѣлыя ночи“ и поэмы Тургенева. Изслѣдо
ватели не рѣшаются приписывать Прешерну и первый напе
чатанный въ Люблянѣ (нѣмецкій) переводъ изъ Пушкина
(Deli-Bascha. Aus dem Russischen des Puschkin въ „lllir. Blatt“,
№43 отъ 27 окт. 1828.)22)
Первый словенскій переводъ изъ Пушкина разыскалъ
проф. Ф. Илешичъ. Это: „Ribar in riba. Po A. S. Puäkinu“ въ
гимназической хрестоматіи Миклошича 1853 г.23) Переводъ,
(бѣлыми стихами, но не размѣромъ подлинника, а въ видѣ
баллады, какія писалъ у насъ Жуковскій) довольно точенъ,
хотя нѣсколько натянутъ и сентименталенъ. Бъ немъ слиш
комъ много восклицательныхъ знаковъ и ласкательныхъ
125
формъ '(напр. vbogi dobri starcek—59, ribacek—61). Выписы
ваю начало сказки:
Nekdaj 2ivel je s svojo staro zeno
Ribar pri kraju morja sivega;
Zivela sta v ubogi svoji bajti
Ze polnih trideset in leta tri.
Lovil je v morju ribe sivi starcek,
In zena predla v bajti noë in dan.
Неизвѣстно, кто является авторомъ перевода. Проф.
Илешичъ склоненъ приписывать его самому Миклошичу.
Проф. Пріятель, признавая, что въ пользу этого мнѣнія го
ворятъ свойственныя Миклошичу штирійскія особенности
словаря и ударенія, все же находитъ страннымъ, что пере
водчикъ не сохранилъ безъ сомнѣнія извѣстный Миклошичу
ритмъ русскаго народнаго стиха.24) Во всякомъ случаѣ пер
вый, помѣщенный въ вышедшемъ черезъ пятнадцать лѣтъ
изъ употребленія учебникѣ25) переводъ „Сказки о рыбакѣ и
рыбкѣ“ былъ скоро забытъ. Главнымъ очагомъ словенскаго
возрожденія оставалась Любляна. Поэтому первымъ словен
скимъ переводомъ изъ Пушкина обычно считаются „Misli in
2elja“, азторъ которыхъ, Антонъ Жакель, принадлежалъкъ младшему, второму поколѣнію сотрудниковъ альманаха
„Краинская пчела“, (Kranjska bëelica, Любляна, 1830—1833 и
1848) возглавляемаго Чопомъ и Прешерномъ.
А. Жакель, (1816—1868) писавшій подъ псевдонимомъ
Rodoljub Ledinski, вышелъ изъ славянофильскаго кружка
люблянскихъ семинаристовъ 1841 года и познакомился ст»
русскимъ языкомъ еще на гимназической скамьѣ въ хорват
скомъ Карловцѣ. Его переводъ появился въ 1855 г. въ люб
лянскихъ „Новицахъ“ („Kmetijske in rocodelske Novice“ подъ
ред. др. Янеза Блейвейса, № 81.) Подъ заглавіемъ „Misli in
zelja“, (Predëuvstvije snirti)26) скрыты „Стансы“ 1829 года,
(Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ.) Первенецъ Лединскаго остается трогательнымъ доказательствомъ пламеннаго
всеславянскаго романтизма учениковъ филолога Р. Метелка,
неудачно пытавшагося ввести въ латинскую азбуку для сло
венцевъ отдѣльныхъ буквъ кириллицы, (Lehrgebäude der Slo
wenischen Sprache, 1825). Но языкъ Лединскаго давно уста
рѣлъ. Ив. Веселъ, составлявшій полвѣка спустя „Русскую
антологію“ не рѣшился помѣстить въ ней „Misli in zelja“.
Переводъ былъ вскорѣ основательно позабытъ. Только проф.
К. Штрекель вспомнилъ въ 1901 году, что Жакель первый
познакомилъ словенцевъ съ Пушкинымъ. Эта честь обычно
приписывалась выступившему десятью годами позже Бе
седу.27)
Глазную причину сравнительно поздняго появленія пе
124
реводовъ Пушкина приходится видѣть въ состояніи словен
скаго литературнаго языка. Конечно, можно утверждать, бро
сивъ ретроспективный взглядъ на его развитіе, что Родолюбъ Лединскій обладалъ самымъ лучшимъ послѣ Прешерна
слогомъ.28) Но Прешеренъ былъ и остается единственнымъ
геніальнымъ исключеніемъ. Второстепенный поэтъ-перевод
чикъ не обладалъ мощностью его фразы, безсмертнаго со
держанія которой до сихъ поръ не въ состояніи затемнить
ветшающая оболочка. „Новицы“ 1855 года недаромъ жало
вались, что переводчики „рабски повторяютъ слово за сло
вомъ подлинникъ и строятъ предложеніе точно такъ же,
какъ иностранный писатель“.29) Идеальный панславизмъ стар
шихъ поколѣній словенскихъ новыхъ писателей до шести
десятыхъ годовъ приводилъ къ неудачнымъ поискамъ но
ваго языка. Искоренявшіе германизмъ реформаторы выши
бали клинъ клиномъ. Заимствованія изъ другихъ славянскихъ
языковъ создавали искуственный слогъ съ роковымъ отда
леніемъ отъ завѣтовъ Прешерна и собственныхъ словен
скихъ основъ. Патріархъ словенскихъ руссофиловъ, лучшій
знатокъ народной души, отшельникъ и мудрецъ Янезъ Трдина, (1830—1906) разсказываетъ въ воспоминаніяхъ о невѣро
ятномъ энтузіазмѣ, который возбуждалъ въ молодежи хо
дульный пафосъ теперь давно отзвучавшаго камеральнаго,
(податного) совѣтника Іована Весела-Косескаго, (1798—1884).
(Его псевдонимъ Косескій—производное отъ названія родной
деревни Косезъ подъ Любляной.) Трдина пишетъ: „Его стихи
казались мнѣ много лучше Прешерновыхъ. Мы считали его
небывалый, (nenavaden) слогъ идеальнымъ образцомъ сло
венскаго языка и достойнымъ подражанія примѣромъ... Я до
сихъ поръ убѣжденъ, что Косескому принадлежитъ мѣсто
среди первыхъ словенскихъ поэтовъ“.30) Между тѣмъ проф.
Пріятель выражаетъ сожалѣніе о томъ, что Косескій оста
вилъ самое большое число переводовъ изъ Пушкина, до че
тырехъ съ половиной тысячъ стиховъ.81) Сказки, (Ribiö in
zlata riba, Mertva carevna in sedmero vitezov, Car Saltan in
knez Gvidon) пострадали больше всего. Косескій не пони
маетъ безискуственной прелести народнаго эпоса, но вѣренъ
своему призыву „очищать языкъ“ (Jezik oèistite peg!) Онъ
злоупотребляетъ архаизмами, произвольными усѣченіями и
мертворожденными новообразованіями.
Этотъ второй громоздкій переводъ „Сказки о рыбакѣ
и рыбкѣ“, по замѣчанію проф. Илешича, много хуже перваго
въ хрестоматіи Миклошича. Онъ не только далекъ отъ под
линника, но и почти непонятенъ современному словенскому
читателю.
Не лучше и переводы двухъ поэмъ. Правописаніе на
глядно показываетъ, что Косескій переводилъ съ нѣмецкаго
не только Шиллера, Уланда, Шамиссо, но и Пушкина. Со-
125
временники знали объ этой слабости. Сохранилось четверо
стишіе о коробейникѣ Косескомъ, который еле тянетъ тяже
лую коробушку изъ нѣмецкихъ земель, но не любитъ ста
вить чужое клеймо на товаръ. Тѣмъ не менѣе интеллигенція
дружно восхищалась Косескимъ, и только необразованные
крестьяне вздыхали, читая его стихи въ „Новицахъ“: — Kaj
nam podajate pesmi, ki jih nihäe ne razume? —32)
Все же словенскимъ шестидесятникамъ удалось достаточно
познакомить съ Пушкинымъ. Іосипъ Юрчичъ, (1844—1881}
отецъ словенскаго романа, („Десятый братъ“ 1866) перевелъ въ
1870 г. „Дубровскаго“ правда не особенно точно, но такъ
гладко, что его читали съ наслажденіемъ.33) По безвремен
ной смерти Юрчича литературнымъ вождемъ сталъ созда
тель новой прозы, (сказка „Мартинъ Крпанъ“ 1850) поэтъ,
филологъ и критикъ Франъ Левстикъ (1831—1887). Онъ
былъ только на годъ моложе Трдины, но, воскрешая высо
кія стремленія непонятаго современниками Прешерна, сра
жаясь съ безвкусицей и устарѣлымъ слогомъ, уже въ 1854
году развѣнчалъ Косескаго, написавъ сатиру о поѣздкѣ че
столюбиваго Ословскаго на Парнасъ.84) Какъ Трдина и дру
гіе современники, Левстикъ мечталъ о славянскомъ литера
турномъ единствѣ по образцу итальянскаго и нѣмецкаго,
когда „у русскаго будутъ лежать на столѣ рядомъ съ Пуш
кинымъ и Карамзинымъ Прешеренъ и Колларъ“.85) Напеча
танная впервые въ собраніи сочиненій 1881 г. ода „Утѣше
ніе“ (ТоІаЗЬа) показательна для высокой оцѣнки пушкинскаго
авторитета. Левстикъ призываетъ славянство воспрянуть
изъ унынія. Пусть подвиги нашихъ дѣдовъ легли съ ними
въ могилу, и у насъ нѣтъ царя нашей крови, (nam zlato Zezlo
ni poslano.) за Дономъ еще зеленѣетъ мощная липа. Тамъ
еще стоятъ алтари Славы, и это домъ нашихъ братьевъ.
Угнетеніе не будетъ вѣчнымъ. Гдѣ теперь татары, подъ
игомъ которыхъ стонала Россія? У славянъ есть свои идеалы
и будущее:
Tudi pesem. Kraljevida Marka
veënosti podala je rokö;
I Preserna venàal je Petrarka,
Puskin V solnce mocil je perö.
Забѣгая впередъ, (къ Ивану Веселу-Веснину, я по изло
женнымъ ниже соображеніямъ вернусь позже) надо отмѣтить,
что Левстику принадлежитъ образцовый, по характеристикѣ
преф. Пріятеля, переводъ .Шотландской пѣсни“, (Dva ѵгапа):86}
К vranu ärni vran leti,
Vranu erni vran kriöi:
— Vran! Kje najdeva kosilo?
Kje kosilo in gostilo?
126
Левстику, знатоку родного языка, удалось найти, до ли
тературныхъ реформъ и не прибѣгая къ искуственнымъ но
вообразованіямъ — достойную подлинника, но чисто словен
скую форму. Немногіе изъ современниковъ были бы спо
собны на такой подвигъ. Единственнымъ недостаткомъ пере
вода является, по моему, замѣна „богатыря“ простымъ „хо
зяиномъ“ (ѵ 6istem polju pri rakiti—gospodar ubit le2i ti) въ
ущербъ эпическому элементу баллады. Но одна ласточка не
дѣлаетъ весны. До созданія новаго литерурнаго языка было
еще далеко. Для пониманія пылавшей тогда борьбы нужно
добавить, что филологическій водораздѣлъ не всегда совпа
далъ съ политическимъ. Правда, враждебные Левстику „ста
рословенскіе“ столбы общества стояли, изъ соображеній полическаго утилитаризма, подъ стягомъ высокопарной патріо
тической поэзіи Косескаго, пренебрежительно относясь къ
Прешерну, который „былъ вольнодумцемъ“ и писалъ „слиш
комъ простымъ, каждому невѣждѣ понятнымъ языкомъ“.
Но увлекавшійся въ борьбѣ съ германизмами церковно-сла
вянскимъ спасительнымъ противоядіемъ и постоянно справ
лявшійся съ словаремъ Миклошича, Левстикъ впадалъ въ
крайности и не могъ окончательно опредѣлить свои взгляды,
Систематическую работу надъ языкомъ началъ писатель и
политикъ Лука Светецъ, (1826 — 1921) бывшій постояннымъ
сотрудникомъ старословенскихъ „Новицъ“. Онъ выполнилъ
то, что по совѣту Станка Враза началъ дѣлать уже Прешеренъ: превратилъ люблянскій, (Краинскій) литературный языкъ
въ общесловенскій, обогативъ его хорутанскими и штирійсками формами.
Францъ Левецъ (1846—1916), другъ Левстика, подвелъ
итоги реформы. „Pravopis“ вызвалъ сначала много возраже
ній, но положилъ конецъ прежнему безначалію. Журналъ
„Ljubljanski zvon“ подъ редакціей Левца, (1881 —1894) облекъ
въ плоть и кровь новыя литературныя требованія.39) Изму
ченный безнадежной борьбой Левстикъ не дожилъ до этого
проясненія. Онъ напрасно предавался всеславянскимъ мечта
ніямъ, доказывая, что „нѣмецкое или итальянское море не
поглотитъ лишь тѣхъ славянъ, которые овладѣютъ русскимъ
языкомъ“.40) Старословенцы поспѣшили предупредить въ се
мидесятыхъ годахъ о его неблагонадежности протоіерея М. Ѳ.
Раевскаго, священника при русскомъ посольствѣ въ Вѣнѣ,
завѣдывавшаго славянскими стипендіатами.41)
Переходя къ литературной дѣятельности этихъ послѣд
нихъ, отмѣтимъ ея значеніе для ознакомленія словенцевъ съ
русскимъ языкомъ и културой. Стипендіаты много писали и
переводили. Самый видный изъ нихъ, философъ и писатель
Франъ Целестинъ, (1843—1895, въ Россіи былъ въ 1869 г.) позже
профессоръ загребскаго университета, напечаталъ первую
основательную біографію Пушкина, „поэта чистаго искусства,
127
создателя вѣчночеловѣческихъ образовъ“ (1884)42), оставилъ
въ рукописи исторію русской литературы48) и началъ свою
книгу о Россіи характеристикой національнаго значенія пу
шкинской поэзіи44). Даворинъ Хостникъ, (род. 1855, выѣхалъ
въ Россію 1880, судьба съ 1914 г. неизвѣстна) составитель
первыхъ русско-словенскаго и слов -русск. словарей и грам
матикъ45), откликнулся тепло написанной статьей на пятиде
сятилѣтіе смерти Пушкина въ 1887 г.45). Если упомянуть
еще какъ всегда темпераментный докладъ о Пушкинѣ, ста
раго друга Россіи сенатора Ив. Хриваря 47), то надо будетъ
признать, что по заслугѣ такихъ, читавшихъ Пушкина въ
подлинникѣ словенцевъ стали невозможны прежнія, говорив
шія о незнаніи языка ошибки. (Юристъ Янко Бабникъ, ав
торъ первой по времени словенской біографіи Пушкина, от
крылъ напримѣръ въ 1880 году „Pesem о belern "Olegu“ ко
нечно потому, что читалъ не „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ“, а
ея нѣмецкій переводъ: „Das Lied vom weisen Oleg“ и про
челъ “weissen“48). Но старое стремленіе обогатить словен
скій синтаксисъ и словарь русскими заимствованіями попрежнему вело къ срывамъ, недопустимымъ послѣ установлен
ныхъ въ шестидесятыхъ годахъ стилистическихъ требованій.
Такъ переводилъ Пушкина судья Богданъ Терновецъ, (1843—
1913, псевдонимы: Matvej Andrejevid и Lamnrski) ученикъ
Трдины по гимназіи въ Рѣкѣ, (Фіуме) и заслуженный націо
нальный дѣятель49). Онъ, увы, однако былъ лишенъ всякаго
поэтическаго дарованія и прибѣгалъ къ Пушкину только для
пропаганды собственныхъ корнесловія и фантастической ки
риллицы. Его переводы — образецъ непонятнаго и, несмотря
на всѣ благія намѣренія, вреднаго для словенско русскаго
сближенія нарѣчія. Вотъ — какъ выглядитъ у него „Черная
шаль“:
Гладим ко брезумный на чрнж тж шал
ин хладнж ми душж разяда печал.
Стихъ „И кроткая жалость молчала во мнѣ“ переведенъ,
(обращаюсь къ теперешнему правописанію): „па ustnah mi
plaval je Zalosti stok“ (жалостный стонъ) т. e. совершенно
произвольно50). Остальные разобранные проф. Пріятелемъ,
переводы не лучше. Это: Rusalka, (баллада) Sotlandska pesem,
(неудачное подражаніе Левстику) Kavkaski vjetnik и, отдѣль
но, Cerkeska pesem изъ той же поэмы. Всѣ они появились
въ журналѣ „Slovanski svet“, выходившемъ въ Трстѣ. (1892).
•'•амурскій напечаталъ подъ старость еще переводъ поэмы
»Цыгане“. (Ternovec М. А. Mickiewiczeva „GraZina“ in Puskinovi „Cigani“ V slovenskem prevodu. Gorica, A. Dabrscek, 1909
съ приложеніемъ вступительнаго очерка о Пушкинѣ и Миц
кевичѣ). Переводъ, какъ и всѣ прежніе, написанъ плохимъ
стихомъ, неточенъ, а иногда просто непонятенъ. Перевод
чикъ остался вѣренъ своему странному „всеславянскому.
128
языку, злоупотребляетъ неестественными словами въ духѣ
Косескаго, (stranà съ удареніемъ на концѣ, „konjina se pase“
вмѣсто „пасутся кони“, цыганское (?) „babajka“ вмѣсто пу
шкинскаго „отецъ“), пишетъ вмѣсто слов, sator—шатеръ то
safer, то satra женск. р. или просто переписываетъ русскія
выраженія: городъ, неволя, непогода, печаль, причина, сожа
лѣніе и пр. Критика жестоко высмѣяла Ламурскаго, проспав
шаго все развитіе литературнаго языка, начиная съЛевстика,
и заявила издателю, что не слѣдовало бы печатать такіе
„словенскіе“ переводы, такъ какъ читатели охотнѣе будутъ
пользоваться нѣмецкими: „изъ 1660 стиховъ этой книги
сколько нибудь пріемлема едва десятая часть“ S1j.
Даже словенскіе стипендіаты не могли забыть примѣра
Косескаго, выдумавшаго въ свое время по обрасцу русск,
„искусства“ слово „izkust“,вмѣсто слов, выраженія umetnost58).
Сравненіе двухъ первыхъ переводовъ „Барышни Кресть
янки“ слав, стипендіата Ф. М. Штифтаря, (Franc Stiftar, род.
1836, ум. 1-913 въ Калугѣ) и И. Пинтаря58) показываетъ,
какъ мало были знакомы словенцы съ русскимъ бытомъ.
Первый, очень добросовѣстный переводчикъ, безпомощно
повторялъ русскій синтаксисъ и оставлялъ безъ перевода
непонятныя словенцамъ выраженія: mednik, krasavica, vstreöa,
razsejani. Второй писалъ на спѣхъ сухимъ канцелярскимъ
слогомъ, пропуская слова и даже эпизоды. Оба перевод
чика не поняли, что „отпустивъ усы на всякій случай“ отно
силось къ отцовскому разрѣшенію поступить въ гусары. —
Пинтарь напечаталъ въ томъ же 1883 году въ той же газетѣ
„Слов, народъ“ еще „Выстрѣлъ“, (Strel, № 1—4, см. ниже)
и „Дубровскаго“, (№. 250—276) вышедшаго потомъ отдѣль
нымъ изданіемъ. (Разворъ см. Prijat. 75).
Добросовѣстный переводъ „Исторіи Пугачевскаго бунта“,
появившійся въ 1890 г. въ томъ же „Слов, народѣ“, (подпи
санъ: о.) принадлежитъ, по указанію проф. Пріятеля, небезизвѣстному въ свое время предсѣдателю Русскаго кружка
въ Люблянѣ доктору Людевиту Енко, (Jenko)84). Онъ отли
чается той же чрезмѣрной зависимостью отъ синтаксиса и
фразеологіи подлинника.
Пять лѣтъ спустя, впервые выступилъ въ томъ же из
дательствѣ съ „Капитанской дочкой“ гимназистъ седьмого
класса и будущій проф. Пріятель, (род. 1876) подписавшійся
„Семенъ Семеновичъ“. Этотъ, второй по времени переводъ “ )
несравненно лучше перваго въ „Слов, народѣ“ 1883 года,
(№№ 84—119). Неизвѣстный его переводчикъ, подписался — ч„Kapitanova hCi“ Семена Семеновича и три года спустя его
же переводъ стихотворенія „Три ключа“ 86) являются вѣхой,
отмѣчающей выступленіе т. наз. „Модерны“, основополож
ницы современной словенской литературы. До этого момента
доведено и служившее мнѣ пока главнымъ источникомъ, на-
129
писанное проф. Пріятелемъ къ столѣтію рожденія обозрѣніе.
Раньше чѣмъ обратиться къ „Модернѣ“, литератур
нымъ вождемъ которой было суждено стать проф. Пріяте
лю, намъ надо однако разсмотрѣть незамѣнимую до сихъ поръ
„Русскую антологію“ Весела и Ашкерца 1910 г. Ея значеніе
тогда станетъ понятнѣе. Юная „Модерна“ встрѣтилась на ея
страницахъ съ угасавшимъ идеалистическимъ реализмомъ
старшаго поколѣнія, и въ установленіи этой связи — исто
рическая заслуга антологіи. Но отдѣльныя части сборника
возникли гораздо раньше и были далеко не равноцѣнны.
Въ антологію не вошли и потому упоминаются здѣсь
отдѣльно два добросовѣстныхъ, но блѣдныхъ перевода лек
сикографа М. Плетершника: „Телѣга жизни“, (Voz Zivljenja)
и „Возрожденіе“, (Prerojenje) въ журналѣ „Zora“ 1874, стр.
209. (Подписано — s — См. Пріят. 384).
F. G., повидимому, педагогъ Франъ Говекарь, старый
сотрудникъ „Новицъ“, (1840—1890) перевелъ въ журналѣ
„Slovan“ 1886 г. довольно точно, но безпомощно „Я пережилъ
свои желанья“. Стр. 213. Pesem А. S. Puêkina. Elegija Ср.
Prijat. 78).
Иванъ Веселъ, (псевдонимъ Веснинъ, 1840—1910) „пер
вый открывшій словенцамъ Пушкина“, (Пріят. 379) вышелъ
изъ той же среды пламенно преданныхъ славянской идеѣ
католическихъ богослововъ, какъ раньше Лединскій, потомъ
исключенный за епиграммы изъ Люблянской и за „богохуль
ные стихи“ изъ Оломуцкой семинаріи Левстикъ и, наконецъ,
сложившій санъ Ашкерцъ. Священство было обычной доро
гой стремившихся къ образованію сыновей небогатыхъ кресть
янскихъ семей. А. Сиротининъ, собиравшій до войны дан
ныя о Пушкинѣ въ славянскихъ литературахъ, даже обра
тилъ вниманіе русскихъ читателей на непривычные словен
скіе порядки, (Ксендзъ — насадитель русской культуры!) оче
видно считаясь съ обычными представленіями, сложившими
ся подъ вліяніемъ Гоголя и Шевченка00). Первый переводъ
Весела изъ Пушкина, (Кавказъ) появился уже въ 1865 г.,
т. е. всего десять лѣтъ по выступленіи Лединскаго. Веселъ
довольно долго считался даже „открывшимъ Пушкина Ко
лумбомъ“, пока проф. К. Штрекель и проф. И. Пріятель не
вспомнили про Лединскаго и Косескаго. (Русск. ант. 451,
Пріят. 375). Веселъ посвятилъ своимъ переводамъ всю жизнь,
отказавшись для нихъ отъ самостоятельнаго творчества.
Смерть застала о. декана, (благочиннаго) за той же неизмѣн
ной работой надъ антологіей, для которой онъ переводилъ
чуть ли не всѣхъ русскихъ классиковъ отъ Крылова до
Кольцова. Его сотрудникъ и собратъ по сану Симонъ Грегорчичъ откликнулся на смерть Весела стихотвореніемъ:
Ішеі ni hcere in imel ni sina —
a
130
раб, paö! saj tu njegova je rodbina61),
tu poino krasnih ruskih mu otrok.
Я позволю себѣ разсмотрѣть заполнившее жизнь о.
Весела заданіе цѣликомъ, въ хронологическомъ порядкѣ вы
ступленій отдѣльныхъ сотрудниковъ, но не разбивая стихи
по годамъ. На стр. 423—426 антологіи среди собранныхъ
Ашкерцемъ біографическихъ примѣчаній имѣется и замѣтка
о Пушкинѣ съ ссылками на Бѣлинскаго и заключеніемъ: Пуш
кинъ — геніальный художникъ, ноне принадлежитъ къ тѣмъ
возвѣщающимъ будущее пророкамъ, которыхъ мы встрѣча
емъ среди современныхъ русскихъ писателей. У Пушкина
чисто русскій, мощный, но мелодическій языкъ, суровый
какъ сѣверная буря, когда онъ бичуетъ, но мягкій и нѣж
ный, когда поетъ любовныя пѣсни. (Помѣчено 1910 годомъ).
Въ антологіи помѣщены въ хронологическомъ порядкѣ пе
реводы 35 стихотвореній Пушкина, (стр. 26—72). Они зани
маютъ 56 страницъ т. е. одну восьмую всѣхъ 400 стр. тек
ста переводовъ. (Ср. примѣчаніе Ашкерца 460).
Самый старшій изъ сотрудниковъ антологіи — Янезъ
Менцингеръ, (1838—1912) адвокатъ, романистъ и сатирикъ
съ псевдонимомъ — анаграммой Nejaz Nemcigren. Характер
ное для его поколѣнія руссофильство, (Левстикъ утверждалъ,
что словенцамъ остается одно изъ двухъ: Ali bomo Rusi, ali
Prusi79) отразилось на его языкѣ. Менцингеръ успѣшно вы
смѣивалъ Косескаго, (пародія въ стилѣ Косескаго на „Не
тлѣнное сердце — Neiztrohnjeno srce Прешерна вошла въ
исторію словенской литературы), но часто напоминаетъ его
слогъ. Пристрастіе къ русскимъ заимствованіямъ, неупотре
бительнымъ архаизмамъ и искусственнымъ новообразовані
ямъ отразилось на качествѣ его переводовъ, добросовѣст
ныхъ, иногда удачныхъ, но въ общемъ растянутыхъ и тя
желыхъ. Адвокатъ Разлагъ, у котораго начиналъ практику
Менцингеръ, напечаталъ первые изъ нихъ безъ его вѣдома
въ 1873 г. Ср. Pesmarica. V drugië in pomnoZeno na sv tlo
dal Dr. S. R. Razlag, odvetnik v Ljubljani. V Mariboru 1872,
стр. 240. Чешскія и хорватскія, (иллирскія) стихотворенія
перемѣшаны въ этомъ „пѣсенникѣ“ съ словенскими, и серб
скія, болгарскія, польскія и русскія выдѣлены въ особые
отдѣлы. Русскій содержитъ между прочимъ напечатанные
въ подлинникахъ съ неизбѣжными опечатками балладу
„Русалка“, (187) и „Клеветникамъ Россіи“, (191) почему то
безъ указанія автора, (хотя напримѣръ вездѣ указаны чеш
скіе поэты). Пушкинъ не упомянутъ и въ оглавленіи. Сей
часъ же послѣ подлинника помѣщенъ переводъ Менцингера
„Klevetnikom Rusije“ (197). Въ антологіи напечатано десять,
повидимому позднѣйшихъ (Prijat. 88) переводовъ Менцин
гера. Оставляя пока въ сторонѣ „Клеветникамъ Россіи“,
131
какъ самый ранній и не во иедшій въ антологію, надо при
знать наиболѣе удачными юношескія пушкинскія „Истину“,
(Resnica, 26) и „Соловья“ (Slavec, 43), хотя буквальные пере
воды: „но роза милая не чувствуетъ, не внемлетъ“, (а года
miljena ne âuje, se ne vnemlje т. e. „не слышитъ и не пыла
етъ“) не отвѣчаютъ смыслу подлинника, (Prijat. 108). Осталь
ная пушкинская лирика пострадала еще болѣе. Такъ же пе
реведены: Посланія въ Сибирь, (Poslanica ѵ Sibirijo, 44) упо
минавшіеся выше „Три Ключа“, „Золото и булатъ“, (Zlato in jeklo, 45, съ неудачнымъ созвучіемъ: zvabimvse! zlato je гекіот e.
„сманю“, zgrabitn vse! dejalo jeklo „Анчаръ“, (51) „Эхо“, (Jek, 62,
гдѣ поэтъ рифмуется съ русск. odvet) и „Когда за городомъ
задумчивъ я брожу“, (Pokopalièàe, 63) гдѣ „кладбище родо
вое“ понято, какъ „крестьянское: ѵ vaséh sprehajam se ро
näroda grobisöu, „Чернь“, (Glota, 52) въ связи съ ея отвле
ченнымъ содержаніемъ вышла самымъ неудачнымъ перево
домъ.
Почти половина всѣхъ переводовъ, 17 стихотвореній,
принадлежитъ самому Веселу62). Они глаже, чѣмъ у Менцингера. Пейзажъ всего лучше удается Веселу, но все же
переводъ „Кавказа“ служитъ показателемъ полной зависимости
переводчика отъ русск. синтаксиса и его небрежности къ
риѳмѣ.
Слѣдующій переводчикъ Симонъ Грегорчичъ, (1844—
1906) принадлежитъ, какъ и Веселъ, къ эпигонамъ романти
ческаго идеализма. Отдѣльныя сентиментальныя стихо
творенія Грегорича стали народными пѣснями. Ему при
надлежитъ только три, „красивыхъ и легкихъ“ пере
вода, (Prijat. 89). Первый — А. P. Kernovi, (V spominu hraniin hip divoten, 38 — Я помню чудное мгновенье). Второй
и самый лучшій — Обвалъ, (Snezeni plaz, 56).
Антонъ Ашкерцъ, (1856—1912) закончившій по смерти
Весела Русскую антологію, (Pogovor, 457) и „s pravim koza§*ІШ fanatizmom“ учившійся русскому языку63), былъ чело
вѣкъ другого склада. Его разрывъ съ сентиментальнымъ
патріотизмомъ Грегорчича открылъ новый періодъ граждан
скаго реализма. Его любовь къ эпосу создала „прекрасный“,
по характеристикѣ проф. Пріятеля, переводъ „Сказки о ры
бакѣ и рыбкѣ", (Bajka о ribiäu in ribici, сразу ставшей излюб
леннымъ народнымъ чтеніемъ и вошедшей въ школьныя
хрестоматіи64). Какъ знатокъ словенской народной сказки,
Ашкерцъ сумѣлъ пересадить русскій мотивъ на новую почву,
не впадая въ искусственность своихъ предшественниковъ.
Отзвукомъ поѣздки Ашкерца въ Россію является навѣ
янное царскосельскимъ памятникомъ Пушкину-лицеисту сти
хотвореніе 1903 года: „Туда, туда въ зеленый темный паркъ“.
(Von, von V zeleni in cvetoöi park). Оно изображаетъ бѣжав-
132
шаго ночью на уединенную скамью и до разсвѣта погружен
наго въ творческія мечты юношу поэта:
Сквозь тьму вѣтвей пробился солнца лучъ,
и точно геній, съ высоты слетѣвшій,
чело твое привѣтливо цѣлуетъ.
Его ты чуешь ласковый привѣтъ,
ты чувствуешь, надъ Русью утро встало65).
Въ юбилейной замѣткѣ Stoletnica Puskinovega rojstva, (Lj.
zvon, 1899, стр. 387) Ашкерцъ, упомянувъ о существующихъ
словенскихъ переводахъ, выразилъ убѣжденіе, что словенцы
должны читать Пушкина по русски: Vsak izobraZen Slovenec
pa bi ga itak moral znati uzivati v izvirniku.
Ашкерцъ, не связанный литературной традиціей священникъ-самоучка, на голову переросъ свое поколѣніе, и сталъ,
по отношенію къ русской литературѣ, единственнымъ свя
зующимъ звеномъ между старшими реалистами „80—90-хъ
годовъ и юнымъ поколѣніемъ“ Модерны. Русскій психоло
гическій романъ оказывался не по плечу остальнымъ пред
ставителямъ идеалистическаго реализма. Иванъ Тавчаръ,
классикъ бытовой и исторической повѣсти, (1851 —1923) и
насадитель поверхностнаго обличительнаго натурализма „въ
духѣ Зола“ и Франъ Говекаръ, (род. 1871) не были въ состоя
ніи дочитать до конца книгъ Достоевскаго 66). Влюбленность
въ новыя широкія дали, которыя открывала русская лите
ратура, сблизили съ молодежью Ашкерца, восклицавшаго:
Saj ruska knjiZevnost je tudi naäa knjiZevnost, in ruski pesniki
so tudi naäi pesniki“, (Русск. ант., 463). Вся „Модерна“ вы
ступила подъ русскими псевдонимами. Создатель новой сло
венской прозы, Иванъ Цанкаръ, (1876—1918) подписывался
Ив. Савельевъ, лирикъ Драготинъ Кетте, (1876—1899) Мих.
Михайловъ, самый крупный изъ современныхъ словенскихъ
поэтовъ Отонъ Жупанчичъ — Алексѣй Николаевъ67)- Аль
манахъ „Na rastanku“, который напечатало это содружество,
разставаясь съ гимназіей, заканчивается статьей Франца Гривца, (теперь профессора Католическаго Богословскаго факуль
тета въ Люблянѣ) о русскомъ реализмѣ. Этотъ историческій
очеркъ, (отъ Бѣлинскаго и Гоголя до Гаршина и Михайлов
скаго) доказываетъ необходимость возникновенія „умѣреннаго
и трезваго ярко-словенскаго реализма“ подъ русскимъ глу
бокимъ, (resnim), а не французскимъ вліяніемъ: словенская
литература должна сохранить національный и славянскій ха
рактеръ вД Поэтъ Іосипъ Мурнъ (псевдонимъ Александровъ,
1879—1901), завѣщавшій Жупанчичу на смертномъ одрѣ „Ѳому
Гордѣева“ и „Стихотворенія Пушкина“69), помѣстилъ въ
этомъ альманахѣ собраніе стихотвореній „Mlade pesmi“. По
слѣднее изъ нихъ, „KnjigotrZec in poét“, (стр. 33—44, безъ
133
ссылки на Пушкина) несомнѣнно навѣяно „Разговоромъ кни
гопродавца съ поэтомъ“, хотя много длиннѣе и повторяетъ
только отдѣльные пушкинскіе стихи, (39. Knjigotr2ec: — Так
je poet! Jaz ljubim sumno vaäo strast. — Ср. люблю вашъ
гнѣвъ. Таковъ поэтъ — и 43. Na sveti, ëisti moj oltar — ni
kdar ne pride gnjusni dar! — Ср. И музы сладостныхъ да
ровъ — не унижалъ постыднымъ торгомъ). Правда, Ашкерцъ
скоро разошелся съ Модерной, не выносившей его „граждан
ской поэзіи“ съ предпочтеніемъ содержанія формѣ9'). На
совѣтъ Ашкерца избѣгать „романскихъ стѣсненныхъ размѣ
ровъ вродѣ сонета, только подрѣзающихъ крылья свобод
ному вдохновенію“, Кетте отвѣтилъ великолѣпными сонета
ми, убѣдившими самого Ашкерца, что мужскія рифмы со
ставляютъ особенность, которой можетъ гордиться наряду
съ русскимъ изъ всѣхъ славянскихъ только словенскій языкъ.
Въ ,1900 г. „Модерна“ даже бойкотировала „Люблянскій
звонъ“ подъ редакціей „филистра Ашкерца“. Тѣмъ не менѣе
Ив. Пріятель прислалъ Ашкерцу позднимъ лѣтомъ 1901 г.
переводы, свои и своихъ друзей, для помѣщенія въ антоло
гіи, (Русск. ант. 457). Пушкинскій „Цвѣтокъ“, (Ашкерцъ по
чему то поставилъ мн. чис. Cvetke, 46) въ переводѣ Кетте
„нисколько не уступаетъ образцовому переводу „Шотланд
ской пѣсни“ Левстика“, (Prijat. 89) хотя въ передпослѣднемъ
стихѣ стоитъ „очаровательный“, (ljubezniva cvetka) вмѣсто
„невѣдомый цвѣтокъ“:
Usehla cvetka tu se skriva
V spominski knjigi pred menoj,
in glej, Ze fantazija Ziva
prevzela vsa pogled je moj.
Разставаясь съ Русской антологіей необходимо отмѣтить,
что она до сихъ поръ остается главнымъ источникомъ для
ознакомленія съ Пушкинымъ въ словенскихъ переводахъ.
Но едва ли случайно то обстоятельство, что Ашкерцъ, вы
полнившій для нея, по подсчету Сиротинина, 170 переводовъ,
ограничился одной пушкинской вещью, „Сказкой о рыбакѣ
и рыбкѣ“. Недаромъ его любимымъ русскимъ писателемъ
былъ „исполненный горечи и злобы философъ“ СалтыковъЩедринъ. Боровшаяся за новое и независимое національное
творчество „Модерна“ чтила Пушкина, но тоже искала другихъ,
новѣйшихъ, отвѣчавшихъ ея соціально-культурной устрем
ленности русскихъ образцовъ. Просмотръ Русской антологіи
Доказываетъ, что Ив. Пріятеля, Мурна-Александрова, Кетте
и тѣсно связаннаго послѣ съ Россіей Радивоя Петерлина—
Петрушку, (род. 1879, въ Россіи 1902—1917, вернулся на ро
дину въ 1919 г.) больше всего интересовали Лермонтовъ, Коль
цовъ и Надсонъ (Русск. ант. 168, 193 и 283.). Петрушка мнѣ
134
сообщилъ, что, кажется, около 1901 г. былъ напечатанъ era
переводъ „Молитвы“ (Отцы пустынники и жены непорочны)
но не могъ вспомнить, гдѣ? Переводчикамъ не хватало на
дежнаго текста. Проф. Ф. Кидричъ, (род. 1880,1 принесъ на
пушкинскую выставку въ люблянскомъ университетѣ свой
юношескій переводъ стихотворенія „Блаженъ, кто могъ на
лонѣ ночи, тебя руками обогнуть“. Послѣднее дѣйствительно
помѣщено на стр. 476 того лейпцигскаго изданія „Стихотво
реній А. С. Пушкина“ (3-ье полное народное изданіе съ
портретомъ автора. Wolfgang Gerbhardt, безъ обозначенія
года), которымъ пользовался переводчикъ, но принадлежитъ
не Пушкину, а Бенедиктову.
Журналъ „Словенка“ напечаталъ въ слѣдующемъ за по
явленіемъ Русской антологіи году растянувшійся почти на
все лѣто переводъ „Бориса Годунова“.37) Переводчикъ Эдвичъ, (псевдонимъ извѣстнаго намъ Ив. Мерхара, по указа
нію лично его знавшаго проф. И. Пріятеля) добросовѣстно
отнесся къ нелегкой задачѣ и далъ почти полный текстъ
трагедіи.
При оцѣнкѣ перевода надо принять во вниманіе, что
трагедія является чуть ли не самымъ труднымъ для ино
странца пушкинскимъ текстомъ. Отъ переводчика требуется
знаніе не только новаго, но и стараго русскаго языка, церк.
слав, выраженій и исторіи смуты. Съ этими оговорками
нужно отдать должное добросовѣстности переводчика.
Слѣдующумъ литературнымъ событіемъ былъ переводъ
„Евг. Онѣгина“, (Jevgenij Onjegin. Roman ѵ verzih. Poslovenii
Dr. Ivan Prijatelj. Ljublana, Matica Slovenska 1909). Напѣвность
и нѣкоторая ироничность языка проф. Пріятеля создали очень
бзизкое къ подлиннику воспроизведеніе. Ср. напр. портретъ
Ольги, („Всегда скромна, всегда послушна“, гл. II, строфа 23):
PoniZna vedno in poslusna,
Kot jutro radostna vsekdar,
Kot nrav poeta prostodusna,
Vsa kot poljub, ljubezni dar;
Oèi kot nebes sinjemodri,
Smehljaj, lanenovoljni kodri,
Gibanje, glas in vitki stan,
Vse na nji... eh, kar kak roman
Vzemite in dobite verno
Podobo njo, lepö brez mej.
Jaz sam sem ljubil jo poprej,
О zdaj preseda mi brezmerno.
Преподаваніе въ университетѣ и работа надъ изданіемъ
славянскихъ классиковъ отвлекли послѣ войны проф. Прія
теля отъ Пушкина. Все же онъ успѣлъ издать въ 1921 году
135
монографію „Предшественники и основоположники русскаго
реализма“ (Гоголь, Бѣлинскій, славянофилы и западники,
Герценъ). Посвященныя Пушкину 6—И страницы вступи
тельной главы: „Поэзія, романъ и драма до Гоголя“ закан
чиваются слѣдующей характеристикой: „По своей идеально
уразновѣшенной и прозрачной архитектоникѣ, по очарова
тельной звучности и нѣжности языка, героическому величію
созданныхъ имъ образовъ и жизнерадостной мудрости міро
созерцанія, Пушкинъ является прирожденнымъ классикомъ
(стр. 11). Въ качествѣ геніальнаго родоначальника русскаго
литературнаго искусства, Пушкинъ гармонически соединялъ
въ себѣ всѣ составныя части русскаго духа и природы,
предсказавъ—какъ нашъ Прешеренъ словенскія, но въ еще
большей степени — всѣ позднѣйшія русскія литературныя
исканія (7—8“). Въ 1Г35 г. появилась окончательная редакція
восходящей къ докторской диссертаціи 1902 года работы:
„Характеристики дѣятелей словенскаго возрожденія“ съ Прешерномъ и Чопомъ, какъ главными героями широкой праг
матической картины эпохи72). Здѣсь тоже нѣсколько разъ
упоминается Пушкинъ. Проф. Пріятель противулолагаетъ
романтикѣ міровой скорби, съ Байрономъ во главѣ, другую
школу, относя къ послѣдней почти всѣхъ славянскихъ по
этовъ, хотя бы и находившихся первоначально подъ влія
ніемъ байронизма. Эти писатели: Пушкинъ, Мицкевичъ и
др., созрѣвая, болѣе или менѣе отходили отъ міровой скор
би и отдавались ближайшимъ задачамъ національнаго воз
рожденія, углубляясь въ народное творчество и увлекаясь
преданіями отечественной старины (131).
Возвращаясь къ хронологіи дальнѣйшихъ переводовъ98),
надо замѣтить, что они въ большинствѣ разсѣяны по повре
меннымъ изданіямъ и трудно доступны.
Въ заключеніе — переводъ „Къ клеветникамъ Россіи“
Ив. Хрибара (родился въ 1851 году). Это уже третій.
Привожу его съ любезнаго разрѣшенія господина ми
нистра полностью, такъ какъ онъ не появлялся въ печати,
а былъ только прочитанъ на пушкинскомъ утрѣ Люблянск.
университета И февр. с. г.
Obrekovalcem Rusije.
Сети, govorniki narodov, le kriäite?
Сети s prokletstvom Rusiji grozite?
Kaj vas je razsrdilo? — Litovski upor?
Odnebajte: to je Slovanov medsebojni spor,
domac in star prepir, ki Ze v usodi koreni,
vprasanje, ki resili ga ne boste vi.
Od davnih dob med sabo le
v sovrastvu so plemena ta,
136
ne enkrat sred nevihte te
zdaj njih, zdaj naâa stvar po zlu je sla.
Gibaio V neenakem sporu tem je poizkus
kdo obstoji: de Leh osabni, ce iskreni Rus,
de V rusko morje pobrzi slovanskih vod sumljanje,
de ono posusi se — to je tu vprasanje.
Pustite nas! Vi niste brali,
kar mi s krvjo smo napisali.
Vam nepojmljivo, tuje je
rodbinsko to sovrastvo vse.
Vi gluhi za svarilni Kremlja ste in Präge glas.
Nesmiselno slepi vas um
obupnoborbeni pogum
in zasovraZili ste nas.
Сети se vsajate? Povejte, mar vas to mrzi,
ker na sipinah Moskve mi poZgane
priznali nismo volje neugnane
tegà, pred kterim ste se tresli vi?
Zato morda, ker v brezdno zavalili
smo vzpenjajodo nad cezarstvi se poâast,
s krvjo ker svojo odkupili
Evropi smo svobodo, mir in dast?
Vi, grozni jezikadi, lotite se dejanja!
Mar stari korenjak ob casu podivanja
ne bo nataknil v sili izmailski svoj bodak?
Mar zmagovati se odvadil ruski je vojak?
Mar carja ruskega beseda nima ved modi?
Mar naj nas spor z Evropo spet se ponovi?
Kaj nas je malo? Mar od Permja do Tavride,
od finskih hladnih skal tje do razbeljene Kolhide,
Od tresljajev navajenega Kremlja
do negibljivega Kitaja sten,
blesdeda ko scetinast seit jeklen,
ne bo se vzdignila vsa ruska zemlja?
No torej, gobezdadi, poâiljajte
nam dete svojih ozlovoljenih sinov:
na poljih Rusije je zanje, znajte,
prostora sredi znanih jim grobov.
Словенская литература „а протяженіи восьмидесяти
лѣтъ (1853 — lôj37) своего пріобщенія къ міровому творчеству
неоднократно обращалась къ Пушкину. Можно говорить о
его иногда болѣе, иногда менѣе замѣтномъ, но постоянномъ
вліяніи. Если оно оказывается не столь глубокимъ, какъ слѣдовіло бы ожидать, то въ этомъ виноваты неблагопріятныя
внѣшнія условія, восходящія къ позднему и медленному на-
137
чалу словенско-русской взаимности. Проф. Ив. Пріятель жа
ловался въ связи съ столѣтіемъ рожденія Пушкина на пло
хое качество большинства переводовъ. Оно вытекало изъ
общихъ недостатковъ литературной работы: непониманія
требованій словенскаго и незнанія русскаго языка. Времена
патріархальнаго панславизма прошли. Янезъ Трдина мечталъ
когда то о нарядныхъ русскихъ избахъ съ рѣзными ставня
ми и крылечками въ словенскихъ Альпахъ, о русскомъ ква
сѣ, который замѣнитъ ставшее проклятіемъ для словенцевъ
вино73). Ашкерцъ воспѣвалъ не только величественный рус
скій языкъ, владыку міра и вѣстника свободы, но даже доб
раго генія русской семьи — самоваръ74). Съ тѣхъ поръ
утекло много воды. Вокругъ новаго юбилея поднимаются,
какъ вездѣ и на словенской почвѣ, слишкомъ злободневные
споры. Все же столѣтіе смерти Пушкина застаетъ насъ въ
измѣнившихся къ лучшему условіяхъ. Съ одной стороны,
упорядочены словенское правописаніе и стилистика, съ дру
гой — значительно возросли пониманіе русскаго языка и
вниманіе къ Россіи. Относящійся къ недавнему прошлому
безотрадный выводъ проф. Пріятеля о полномъ отсутствіи
пушкинской традиціи на словенской почвѣ („Пушкинъ остал
ся у словенцевъ совершенно безъ вліянія)75) не отвѣчаетъ
больше дѣйствительности, прежде всего по заслугѣ самого
проф. Пріятеля. Тѣмъ не менѣе словенская переводная лите
ратура до сихъ поръ не могла изжить неблагопріятныхъ по
слѣдствій своего слишкомъ поздняго знакомства съ Пушки
нымъ. Молодое поколѣніе, переводившее его для „Русской
антологіи“, увлекалось уже Чеховымъ, Леонидомъ Андре
евымъ, Горькимъ. Теперь, когда переводчики, спѣша запол
нить пробѣлы, выпускаютъ одновременно съ „Мертвыми
душами“, „Войной и миромъ“, „Обломовымъ“ — „Города и
годы“ Федина, „Петра I“ А. Н. Толстого и прочее, Пушкинъ
снова остается внѣ поля ихъ вниманія. Никто не сомнѣвает
ся въ томъ, что давно пора сдѣлать Пушкина доступнымъ
словенскимъ читателямъ. Хорватское изданіе „Избранныхъ
сочиненій“ появилось уже въ 1899 году77) Между тѣмъ, сло
венскій Пушкинъ разбросанъ, трудно доступенъ, нуждается
въ пополненіи и обновленіи. Б. Борко установилъ, что у
словенскихъ книготорговцевъ имѣются въ настоящее время
только второе изданіе „Капитанской дочки“ въ переводѣ
Ив. Пріятеля и „Пиковая дама“ въ переводѣ Вл. Борштника’,s). Это немного. Но первое словенское изданіе „Избран
ныхъ сочиненій“, если мы его дождемся, не должно быть
только перепечаткой небрежныхъ или давно устарѣвшихъ
переводовъ.
138
’) Переписка Каподистріи сь Низовымъ о Пушкинѣ напечатана въ
„Русск. старинѣ* 1887, №, 1. Ср. Гротъ Я. К. Хронологическая канва для
биографіи Пушкина. Изданіе второе съ дополнен ями С. И. Пономарева, на
стр. 6. (Сборникъ отдѣленія русск. яз. и словесности академіи наукъ. Томъ
44, №. I. СПБ 1888.) — Вь „Сынѣ отечества“ за 1821 годъ напечатано „Пи
сьмо изъ Любляны“ возвращавшагося черезъ нее въ 1810 году морского
офицера, повидимому В. Броневскаго. (Его „Путешевствіе оть Тріеста до Пе
тербурга въ 1810 году“ вышло въ 1828 г.) Уменя нѣтъ русскаго^подлинника.
Я видѣлъ только нѣмецкій перевода этого письма, напечатанный въ №. 31
отъ 3. авг. 1821 люблянскаго еженедѣльника „Illyrisches Blatt zum Nutzen
und Vergnügen“. Тамъ же въ №. 24 отъ 15 іюня 1821 переводъ описанія
Любляны Ш. Нодье изъ парижскихъ газетъ.— О подпискѣ на „Сына отече
ства" см. письмо Пушкина брату изъ Кишинева, авг.--септ. 1822 г. (Сочи
ненія А. С. Пушкина въ одномъ томѣ. Редакція А. Скабичевскаго. Второе
изданіе Р. Павленкова, СПБ 1889, столбецъ 1413. Ссылки ниже вездѣ по
тому же изданію.)
г) Aus Metternichs nachgelassenen Papieren, Вѣна 1880-1884. Ссылка на
его люблянскій дневникъ, (III. 426) въ примѣчаньяхъ проф. Ив. Пріятеля къ
историческому роману „Во дни конгресса", (Iz za kongresa. Dr Ivana Tavéarja
zbrani spisi, V. Ljubljana, Tiskovna zadruga 1924. Urednikove opombe, на стр
540, примѣчаніе къ стр. 3 0 романа. — Изъ позднѣйшихъ „Писемъ Пуш
кина къ Е. М. Хитрово (1827—1832)* Труды Пушкинскаго дома, вып. XLIII,
1927, видно, что они постоянно обсуждали политическіе вопросы. Пушкинъ
получалъ отъ Е. М. свѣжія иностранныя газеты.
’) Ср. стихи 1823 года: „Возстань, о Греція" и „Сѣятель" и разговоръ
съ греческимъ посломъ кн. Суццо, (Отрывокъ изъ дневника отъ 24 янв.
1833. Соч. 1200.1
‘) Запись Меттерниха отъ 15 марта 1821. (О. Hegeman. Aus den Tagen
des Laibacher Kongresses. Любляна, изданіе автора 1914, на стр. 31Л Приказъ
омобилизаціи у Шлиманна, (Th. Schiemann. Geschichte Russlands unter Nikolaus,
I. Band I. Alexander I. Berlin, G. Reimer l?04, на стр. 306.) Слова Васильчи
кова у П. Милюкова, Роль декабристовъ въ связи поколѣній, на стр. 51.
(Галосъ минувшаго А7. 2/ХѴ, Парижъ 1926.)
5) Дату см. Ch. Quénet. Tchaadaev. Библіотека франц, института въ
Ленинградѣ. Парижъ 1931.Герценъ ошибочно пишетъ, что „государь находился
тогда, помнится, въ Веронѣ или Ахенѣ на конгрессѣ“ (Былое и думы, II.
295. Берлинъ, „Слого“ 1921.)
6) Модзалевскій. Каталогъ пушкинской библіотеки въ ІХ-Х выпускахъ
академическаго изданія „Пушкинъ и его современники“. Книги на иностран
ныхъ языкахъ; стр. 296—297.
’) Алексі й Ѳомичъ Вельтманъ, авторъ перевода „Слова о полку Игоревѣ“.
8) Соч. 1310—1311. Ср. J. Р. PuSkin in sloven;ki jezik (Veda. Dvomeseinik
za znanost in kulturo, I, Gorica 1911 на стр. 94.) Проф. Пріятель разсказы
ваетъ, что его еще въ гимназическіе годы занималъ вопросъ, откуда взялась
словенская цитата у Пушкина? По описанію Модзалевскаго не видать, чтобы
Пушкинъ особо часто пользовался двумя послѣдними книгами. Зато въ пер
вой сохранилось тринадцать пушкинскихъ закладокъ въ видѣ листочковъ
139
обыкновенной бвлой бумаги. Ими отмѣчены страницы 92—93, 132—133164-165, 168-169, 220-221, 232-233, 316-317, 5С8-509, 632-633, 636—
637, 644—645, 676—677 и 688—689. На нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣются пуш
кинскія замѣтки карандашемъ. ІЯнѣ неизвѣстно ихъ содержаніе, у меня
нѣтъ даже книги Модзалевскаго. Но вторая закладка, (между столбцовъ
132—133) какъ указываетъ и проф. Пріятель, конечно относится къ слову
Knut. Ср. SIovensko-Némshki in Némshko-Slovenski Rözhni Besédnik. Sloshil
Anton Janez Murko. SIovensko-Némshki Del. V’ Grâdzi 1833 стлбецъ 133: Kmèt
auch kmét m., der Bauer: Kar gcspôda stori krivo, kmfti môrjo plâzhat’ shivoi
was die Herrschaft Unrecht thut, zahlt der Bauer durch sein Blut: Сравненіе,
съ подлинникомъ обнаруживаетъ въ этомъ предложеніи пять (корректор
скихъ?) ошибокъ.
9) Въ Павленковскомъ однотомномъ изданіи, (Примѣчанія Пушкина къ
„Евг. Онѣгину“, №. II, Соч. 335) и въ Иллюстрированой пушкинской би
бліотекѣ того же издательства, (JM?. 14. Евгеній Онѣгинъ 9-ое изданіе СПБ.
1908, стр. 255) стоитъ опечатка: „Leon Sbogar — извѣстный романъ Карла
Нодье". Эгогъ историческій романъ
въ дѣйствительности озогловленъ
Jean Sbogar.
10) Ни этотъ разъ въ качествѣ собачьей клички при описаніи первой
встрѣчи Алексѣя съ Лизой, („Въ то же время раздался голосъ: tout beau
Sbogar, ici“) и при свиданіи на другой день, („Не давъ себѣ времени заря дить ружье, вышелъ онъ въ поле съ вѣрнымъ своимъ Сбогаромъ“,) Соч.
752 и 754.
п) Romans de Charles Nodier. Jean Sbogar. Préliminaires. Paris, Charpen
tier 1810, стр. 81.
’2) На балу y него въ день возвращенія Пушкина изъ ссылки въ 1826
императоръ Николай Павловичъ сказалъ Блудову; „Я нынче долго гово
рилъ съ умнѣйшимъ человѣкомъ въ Россіи“ и на вопросительное недоумѣ
ніе Блудова назвалъ Пушкина. (П. Бартеневъ въ „Русск. архивѣ“ 1865 у
Вересаева, Пушкин ь въ жизни, Москва, „Нѣдра" 1926, II, 53.
”) Збогарь, имя собств., теперь рѣдкое и неяснаго, (по любезному
указанію проф. Нахтигаля и преф. Рамовша. можетъ быть, фурланскаго
происхожденія, произносится читающими романъ словенцами сь начальнымъ
з и удареніемъ на первомъ слог!. (Ср. Ivan Zbogar въ историческомъ очеркѣ
„Pred sto leti“ въ любл. газетѣ „Slovenski narod“ отъ 23 іюня 1909.) Оно,
повидимому, не имѣетъ ничего общаго сь малоупотребляемымъ глаголомъ
zbogati — помирить, успокоить и возвр. zbog.iti se сь кѣмъ, versöhnen въ
Слов,—нѣм, словарѣ Плетершника 1895 г. Проф. Пріятель сохранилъ въ
переводѣ „Онѣгина“ пушкинскую рифму и 4 ранцузское удареніе: Vnema ji
sree Korsar in pa skrivnostni Jean Sbogar“, („Jevg. Onjegin", Ljubljana, Matica
Slovenska, 1909, на стр. 54.)Есть два неполныхъ словенскихъ перевода романа:
Ivan Zbogar, poslovnie I. Kriftënik, Любл. 1886 и Janez Zbogar, poslcvenil Fr.
Robar, „Sigma“, Горина 1932. Послѣднее правописаніе, (Жбогарь) въ отли
чіе отъ общепринятаго соотвѣтствуетъ мѣстному приморскому произношенію.
Я встрѣтилъ 17. марта с. г. въ Новомъ Мѣстѣ двухъ бѣженцевъ изъ Горицы съ фамиліей Жбогарь, (изъ Канала и Баньшицы), которые даже не
были родственниками. — Историческія данныя у Нодье, (Jean Sbogar, Pré
liminaires, стр. 85 и сл.) и Dr. J. Mal. Zgodovina slovenskega naroda. Najno*
140
vejäa doba Celje, Druiba sv. Mohorja, 1928, на crp. 70.
’*) Onjegin, 194.
15j Jean Sbogar, Préliminaires, 87.
’f) Ср. издательское примѣчаніе изъ „La vie de Ch-.rles Nodier' M.
Francis Wey-a (I844): Mme de Staël popular sa moins que Nodier le goût de
Burger et de Schiller. (Jean Sbogar, 93).
17) Нодье уважалъ Руссо какъ человѣка, но не разд?-ляль его фило
софіи. Ср. J. Prijatelj. Euäevni prolili slovensklh preporoditdjcv. Любл на
1935, на стр. 65.
“) Мицкевичъ. Біографическое и литературное извѣстіе о Пушкинѣ,
Le Globe, 25 мат 1837, у Вере.аева, Пушкинъ въ жизни, II, 138.
,9) Не читалъ ли ее и Лермонтовъ? „Сбогаръ", напечатанный впер
вые въ Парижѣ безъ обозначенія автора въ 1818 г„ переиздавался въ 1820,
1832 и 1840 г. (Издательское примѣчаніе на стр. 93). Въ 1820 г. вышель и
англ, переводъ Percival Gordon-,а (Préliminaires, 90). Лермонтовъ писалъ 15
февр. 1838 г. М. А. Лопухиной: „Pour la conclusion de ma lettre je vous
envoie une pièce de vers, que j’ai trouvée par hasard dans mes paperasses de
voyage et qui m'a plu assez, vu que j’ai oublié, mais cela ne prouve rien du
tout". Слѣдуетъ текстъ „Молитвы странника“ (Я, Матерь Божія, нынѣ съ
молитвою)... С.м. Письма, стр. 232 въ Поли. собр. соч. М. Ю. Лермонтова.
Томъ IV подъ ред. проф. Д. И. Абрамовича. Изданіе Академіи наукъ, СПБ.
1911. Не знаю, обратилъ ли уже кто нибудь вниманіе на нѣкоторое сход
ство „Молитвы странника“ съ озаглавленнымъ „Prière du voyageur", эпи
графомъ къ V главѣ „Сбогора"? Выписываю ее полностью, (стр. 117 фран
цузскаго изданія):
„О mon Dieu! vous ne confondrez pas d ins les rigeurs de votre justice
l'innocent avec le coupable! Frappez, frappez cette tête depuis longtemps con
damnée! eLe se dévoue à Vos jugements; mais épargnez cette femme et cet
enfant que voilà seuls au milieu des voies difficiles et périlleuses du monde,
N'est-il point parmi ces pures intelligences, premier ouvrage de vos mains, quel
que ange bienviellant, favorable à l'innocence et à la foiblesse, qui daigne
s’attacher à leur pas, sous la forme du pèlerin, pour les préserver des tempêtes
de la mer, et détourner de leur coeur le fer acéré des brigands". Ср. y Лер
монтова: ,He за свою молю душу пустынную. Но я вручить хочу дѣву
невинную. Дай ей сопутниковъ, полныхъ вниманія. Ты воспріять
пошли лучшаго ангела“. У меня нѣтъ статьи С. Шувалова „Вліяніе на
творчество Лермонтова русской и европейской поэзіи“ въ сборникѣ „Вѣ
нокъ М. Ю. Лермонтову", Москва, изд. Думнова 1914 и франц, диссертаціи
Е. Luchesne. Michel J. Lermontov. Sa vie et ses oeuvres, Парижъ 1910, (есть
русскій переводь главы „Поэзія Лермонтова въ ея отношеніи къ русск. и
зап.-европ. литературѣ", Казань, изд. Голубева 1914). Но пользовавшійся
послѣднимь источникомъ М. Ортхаберъ не упоминаетъ Нодье въ спискѣ
повліівшихъ на Лермонтова франц, поэтовъ. (М. Ортхаберъ. Утица) Xajiiea
на Лермонтова, Ужице 1936. Ср. перечень на стр. 11 Шатобріан.ъ Гюго
Виньи, Мюссе, Барбье, Шенье).
2|) Записки Кс. А. Полевого у Вересаева, Пушкинъ въ жизни, II, 98.
21) Академикъ Ѳ. Коршъ писалъ: Преширнъ. (Стихотворенія Франца
141
Преширна. Со словенскаго и нѣмецкаго подлинниковъ перевелъ Коршъ,
Москва, 1901). Но теперь установилось правописаніе Pre5eren,-rna.
&) Lr. Franceta PreSerna poezije. Uredil L. Pintir. II. natisk. Ljubljana,
Kleinmayr in Bamberg 1908, на стр. 200 и 203. Ср. А. Zigon. PreSernova біtanka. Prva knjiga. DruÈba sv. Mchorja, Prevalje 1922, на стр. 135 и 138. —
Пушкинъ зналъ .Паризину“ чуть ли не наизусть. Ср. письмо брату изъ
Одессы, янв. 1824. Соч. 1429. Стихи Кернера декламировалъ передъ смертью
Зандъ, прославленіе котораго было причиной ссылки Пушкина на югъ.
23) 1. Пріятель. А. С. Пушкинъ у Словенцевъ, на стр. 372. (А. С,
Пушкинъ въ южнославянскихъ литературахъ. Сборникъ подъ ред. Ягича,
ХП. Въ Сборникѣ отд. русск. яз. и слов. Ими. Академіи наукъ. Томъ LXX,
СПБ. 1901). Ссылки ниже помѣчены „Пріят.".
2‘) По любезному указанію проф. Ф. Кидрича. Рукопись принадле
житъ частному лицу.
2Г) Fr. Kidriê. Paberki о Korytku in dobi njegovega delovanja v Ljub
ljana (ljublj. zvon 1910, 434) и Fr. JieSiC. PreSeren in slovanstvo. Ljubljana,
L. Schwentner 1900. Ср. отзывъ цроф. Пріятеля Archiv für Slav. Phil. 1901,
294.
;e) По указанію проф. Ф. Кидрича. Ср. Пріят. 372.
Slovensko berilo za peti gimnazijalni razred. Izdal Dr. Fr. MikloSiö.
Na Dunaju. V zalogi c. Kr. bukev za Sole 1853. На стр. 59—64. Ср. Fr. IleSi6. К kronologiji slov. prevodov iz ruScine, (Lj. zvon 1901, 722).
-8) Стр. 56 расширенной словенской редакціи выше упомянутой русск.
статьи въ сборникѣ Ягича: I. Prijatelj. PuSkin v slovenskih prevodih. (Zbornik Matice Slovenske III. Любляна 1901, стр. 52—89). Ниже сокращается
Prijat.
2 ) Учебники Миклошича для четырехъ старшихъ классовъ гимназіи
переиздалъ, правда, въ 1881 г. извѣстный патріотъ Навратилъ, но съ 1868
г., по паденіи консервативнаго кабинета Баха, ихь замѣнили въ слов, шко
лахъ книги Янежича ,.Cvetje slovenske slovesnosti“. (В. Merhar. BeleSke k
zgodov ni slov. Solstva. „Lj. zvon“ 1934, 42.
S1) Slovenski biografski leksikon, Ljubljana 1932, (Ledinski).
3I) Статья I. S. (Novice 1885, стр. 75. См. Prijat. 57).
3;) F. Derganc. Janez Trdina. Avtobiografska pisma. (Lj. zvon 1905, str.
590).
•3) Prijat. 67.
3I) 1. Prijatelj. Janko Kersnik, njega delo in doba. Ljublj. L. Schwentner
1910. См. I, 102 и на стр. 105 четверостишіе (Ф. Левстика).
Dubrovski, slobodno prevel LJ, (Jurëic). Въ газетѣ „ Slovenski narod“, Maribor, № 84 и сл. Ср. Пріят. 382.
3;) „Je2a na Parnas*. — Юбилейный „Levstikov zbornik“, (Ljublj. Slavistiäni klub 1933) упоминаетъ слѣдующія русск. изданія, (ср. бйбліографію
въ концѣ книги): Н. Бергь. Ф. Левстикъ (въ книгѣ В. Гербель. Поэзія сла
вянъ, СПБ. 1871 на стр. 326). А. Пыпинъ и В. Спасовичъ. Исторія славян
скихъ литературъ, 2 изданія, СПБ. 1879, томъ I, стр. 293—295. — И. Прія
тель. Словенцы и ихь литература. Глава V. Новелла, (Слав, извѣстія СПБ.
1905, № 8). — Стихи Левстика „Dekle in ptica“ въ переводѣ Берга, Lj. zvon
1881, стр. 740, (Ivan Hribar. PreSiren in Levstik v Rusih) —M. Хостникъ. Пре
142
дисловіе о Девстикѣ къ книжкѣ: Мартинъ Керпанъ. Народный разсказъ.
Переводъ съ словенскаго. (Очерки и разсказы совр. слав, писателей. СПБ.
Изданіе журнала «Пантеонъ литературы“ 1888. — Тотъ же переводъ былъ
перепечатанъ 1891 въ журналѣ „Slovenski svet‘, Терстъ и вышелъ патомъ
тамъ же отд. изданіемъ.
3‘) А. Ocvirk. Levstikov duäevni obraz. (Levst. zbornik, 98).
’■) Нріят. 387. Подписанный псевдонимомъ Kalopèr, переводъ напеча
танъ въ видѣ исключенія въ „Любл. звонѣ" 1883, стр. 544 съ примѣчаніемъ:
„Kako je sloveniti ruske pesmi, kaie naslednja, dovräeno iz PuSkina preloiena
balada“. Журналъ печаталъ иначе, чтобы содѣйствовать лит. развитію, исклю
чительно оригинальные словенскіе стихи и разсказы.
39) 1. Prijatelj. Janko Kersnik, I, <62. — Breznik. Razvoj novejäe slovenske pisave in Levöev pravopis. f,.Dom in svet“, Ljubij. 1913'.
<0) Вѣнскія письма 1871. (J. Logar. Levstik v boju s prvaki. Levst. zbor
nik, 254).
#
*’) I. Prijatelj. J?nko Kersnik I, 136. — J. Logar. Levst. zbornik, 251. —
О „политическихъ дѣлахъ о. Раевскаго между славянской молодежью“ иро
нически упоминаетъ Лѣсковъ въ „Мелочахъ архіерейской жизни", (Поли,
собр. соч. СПБ. Марксъ 1903. Томъ XXXV, 132). Но И. С. Аксаковъ по
святилъ Раевскому прочувствованный некрологъ, («Русь“ 15 мая 1884).
;:) Dr. F. Celestin. А. S. Puäkin, („Slovan“. Politiöni in leposlovni list.
Izdavatelj Iv. Hribar. I, Ljubij. 1884, №№ 29—41), Въ текстѣ имѣются пере
воды отрывковъ: „На смерть Пушкина“ Лермонтова (253) ,,Кь морю“, „Кто
знаетъ край, гдѣ небо блещетъ“, „Зимній вечеръ* (268) „Чернь“, „Клевет
никамъ Россіи“, „Наполеонъ“ (276) „Даръ напрасный“ (302), нѣсколько сти
ховъ изъ „Онѣгин і“ (317) и „Бор. Годунова“ (284). — Prijat. 61. — В. Ѵосnjak. Na razsvitu. Ruske ätudije. Ljubij. L. Sshwentner 1906, на стр. 20.
43) Siov. biogr. leksikon.
“) Dr. Fr. I. Celestin. Russland seit Aulhebung der Leibeigenschaft. Lai
bach, Kleinmayr und Bamberg 1875, См. стр. 16—20 и заключеніе: „Die Ent
wicklung des rus.-. Volkes werde im nationalen Geiste, Geiste der Friedenslieb :
und des Humanismus vor sich gehen“, (388).
**) M. Hostnik. Roäni rus. siov. slovar in kratka slovnica rus. jezika.
Gorica, GabrSéek 1897. — Siov. ruski slovar и Грамматика словенск. яз.
1900—1901. (Prof. St. Stanojevié. Narodna enciklopedija srb.-hrv.-slov. Zagreb,
Bibliogr. zavod). Заслугой X. является также первый по времени, неизбѣжно
неючный списокъ слов, переводовъ изъ Пушкина за 1865—1899 годы. (Въ
отзыв b о пушк. переводной библіографіи П. Драганова. См. Lj. zvon 1899,
стр. 327, M. Hostnik. Puäkin v petdesetih jezikih). Prijat. 86. — Престарѣлый
Ф. Ц'укле, вь качествѣ представителя „эластической“ австрофильской по
литики не одобрявшій успѣхи о. Раевскаго среди словенцевъ, упрекаетъ
даже Хостника въ ненависти къ католичеству и въ православной пропа
гандѣ. (Fr. Suklje. Iz mojih spominov, I, Ljubij. Jugoslov. knjigarna 1929, на
стр. 149). Хосникъ снабжалъ русскіе кружки въ Словеніи полученными
отъ Слав, благотвор. общества книгами. Проф. Пріятель, тогда еще гимна
зистъ, получйль такимъ образомъ къ столѣтію рожденія Пушкина Собраніе
сочиненій въ изданій Суворина. Ср. Iv. Hriba-. Moji spomini, I: 1853-1910.
Ljubij. 1928 и M. Hostnik. PuSkin v 50 jezikih, (Lj. Zvon 1899, str. 327).
143
■6) К 50-letnici PuäKina, („Slovan 1887, стр. 55—59). Подписано псевдо
нимомъ Крутороговъ, Ср. Пріят. 394.
4?) А. S. Puäkin in njegove poezije. Predavanje 1. Hribarja. („Slov. паrod', Ljublj. 1882, №№ 94—99). Cp. Prijat. 60: „Въ связи съ вліяніемъ Бай
рона Пушкинымъ овладѣла міровая скорбь и никогда не покидавшее Бай
рона мучительное безпокойство. А Байронъ не зналъ той безграничной
любви къ родинѣ, которая свойственна только славянамъ“.
48) J. Babnik. Ruski pesnik Puäkin. („Slov. narod“ 1880, №.Nä 127—131).
Prijat. 59.
4 ) Album slov. knjiievnikov. Uredil Dr. J. Slebinger. Ljublj., Tiskovna
zadruga 1928. — K. Glaser. Zgcdovlna slov. slovstva, IV, 62, Ljublj, Matica
Slovenska 1898.
50 ) Чрна шал. (M. Ламурскій. Китица повѣстиц. Терст, Доленц 1891)
и раньше въ журналѣ „Slov. svet", тамъ же 1891. Это второй переводъ
Ламурскаго. Первый, (по хорв. переводу Враза) вышелъ въ журналѣ Zora,
Мариборъ 1877. (Lj. лѵоп 1899, str. 327).
51) 1. А. Glonar, (Lj. zvon 1909, str. 633) Prijat. 83—85.
K) Levst. Zbornik 89.
‘3) Fr. Stifter. Gospica-kmetica, (Slov. narod 1875, № 65 и сл.), I. Pin
tar. Bojarska hci hot kmetsko dekle, (тамъ же 1885, № 5 и сл.).
5<) Zgodovlna Pugacovljovega punta. Prelosil — о. „Slov. narod“ 1890,
w. 55—79.
О его дѣятельности въ концѣ 90-хъ гг. см. 1ѵ. Hribar. Moji spomini,
I. Ljublj. 1928.
5S) A. S. Pusbin. Kapitanova hci. Zgodovinsha novela. Poslovenil S. S.
Gorica, A. Gabrscek 1896.
6‘) A. S. Pushin. Kapetanovà hci. Prelozil Dr. .1. Prijatelj. Ljubljana,
Tiskovna Zadruga 1924.
5T) Въ слов, расширенной редакціи, (Puskin ѵ slov. prevodih)28) этотъ
русскій текстъ носить другое заглавіе: „Пушкинъ въ словенской литературѣ“
(Prijat. 88).
Е|) Stoletnica Puskina. (Dom i svet, 1899, str. 406 — по любезной
сцравкѣ проф. Я. Шлебингера.
°9) Novice gospodarske, obrtnicke in nârodnc. Ljubljana, J. Blasnikovi
nasledniki, 1898, list 37—58. Povesti pokojnega Iv. Petr. Belkina. Ruski spisal Puskin, poslovenil Z.
•’) А. Сиротинъ. Пушкинъ и славяне. (Истории, вѣстникъ, СПБ. 1909
Февр. 591).
61) Переводь: У старца не было ни сыновей, ни дочерей, и все же
осталась семья, многочисленные красавцы — его дѣти. Его кругозоръ былъ
широкъ какъ родина русскихъ поэтовъ. Онъ понялъ величіе русск. духа и
открылъ намъ этотъ чудесный міръ и т. д. См. Русск. ант. 456, гдѣ стихоівореніе помѣщено полностью.
12) Первые переводы Весела (Obrekovalcem Ruske, Prorok, Morju,
Gvadalkvivir, Grusinska pesem, Elegija) появились подъ заглавіемъ „Severn!
cveti* бъ 1870 г. (Letopis Matice Slovenske, стр. 165—168). Заглавіе во
сходитъ къ альманаху „Сѣверные цвѣты на 1832 г.“, (откуда Лединскій пе
ревелъ въ 1852 г. „Угрозу", (Prokletje) стихи бар. Е. Т. Розена, что удо
144
стовѣряется припиской 1. Весела на обложкѣ. Альманахъ находится въ
любл. лицейской библіотекѣ).
*’) Его письмо Ф. Левцу 1881 г. (іѵ. Prijatelj. Askerceva citanka
2-е изданіе. Любляна, Omladina, 1920, па стр. 24.
м) Первоначально напечатана въ католической народной библіотекѣ
Slovenske vecernice, (Drusba sv. Mohorija, Celovec, 1889, на стр. 66)
подъ заглавіемъ: О ribicu in slati ribici. Перепечатки въ школьныхъ кни
гахъ см. подъ №№ 36—40 въ библіографіи: Marja Borsnikova. Askerceva
bibliografija. (Casopis sa sgodovino in narodopisje, Maribor 1935, snopic
4). — Prijat. 81.
6S) A. Askerc. Cetrti sbornik poesij. Ljubljana, Kleinmavr in Bamberg
1904, II. Is popotnega dnevnika, str. 33. Spomenlk mladega Puskina. (Car
skoje selo). — Русск. переводъ, (А. Сиротинина) появилсі въ Слав. изв.
СПБ. 1907, № 5 и перепечатанъ въ Ист. вѣсти. 1909, февр.77) Ашкерцъ
помѣстилъ замѣтку объ этой статьѣ вь журналѣ Slovan. Mesecnik sa knjisevnost, umetnost in prosveto. Uredil Er. Govekar. Lastnina in tisk Drag.
Hribarja. Ljubljana, leto VII, 1909. (Puskin in Slavjanje", стр. 226). (и еще
Askerc. Dva isleta na Rusko. Ljubljana, L. Schwentner 1905, гдѣ, (стр, 53)
приведенъ анекдотъ о грузинѣ, прогнавшем ь было въ Душетѣ Пушкина
изъ дому.
6j) Askerceva citanka, 24—25.
С7) Drag. Kette.JPoesije. Druga isdaja. Uredil Askerc. Ljublj. L. Schwent
ner 1907, на стр. XXII.
,s) Na rastanku. Spisali slovenski osmosolci. Gorica, A. Gabrscek
1898. На стр. 372: Fraucisek Grivec. Ruski realisem in njega glavni sastopniki.
и) Josipa Murna Aleksandrova isbrani spisi. Uredila Trdina Silva.
Ljublj. Tiskovna Zadruga 1933. См. предисловіе редактора.
■°) Slovenka, Trst 1902, №№ 3—12, (стр. 72, 107, 150, 173, 201, S£0.
268 h 511). Boris Godunov. (A. Puskin). Prcvel Edvic.
71) Dr. Ivan Prijatelj. Predhodniki in idejni utemeljitelji ruskega realistna. Ljublj. Tiskovna Zadruga 1921, стр. (4)+ 418.
72) Ivan Prijatelj. Dusevni profili slovenskih preporoditeljev. Ljublj.
Isdali Prijateljevi ucenci. 1935, стр. XVL-f-172 съ портретомъ автора 8°”) Rasodetje, (написано Ьъ 1875 году). Janesa Trdine sbrani spisi,
V, на стр. 85. Ljublj. L. Schwentner 1908.
7<) Askerc. Cetrti Zbornik poesij. Ljublj. Kleinmavr in Bamberg, 1904.
(1= popotnega dnevnika). Стр. 59. — На Воробьевыхъ горахъ, (NaVrabcijih
hribih), гдѣ самоваръ поетъ: „Jas dobri duh sem ruske hise', — Ruskj jcsik,
стр. 59.
73) Пріят. 575 и Prijat. 75: Puskin je ostal pri nas popolnoma bres
vtiska in vpliva.
7e) Ср. сборникъ: Ruska modcrna. Novele in crtice. Prevela Minka
Govékarjeva. Ljubljana, Kleinmavr in Bamberg 1906. — Марья Боршникъ
разсказываетъ о молодости приморской писательницы Маріи Бартоль, (род18:9). Въ русскомъ кружкѣ молодыхъ сотрудниковъ „Словенки“, (Терстъ,
около 1895) увлекались „Анной Карениной" и особенно Тургеневымъ. Д°‘
стоевскій слишкомъ раздражалъ нервы. Горькій не пользовался особой лю-
145
бовью: „всѣ мы были тогда еще слишкомъ поэтичны“. Но русскіе стихи не
встрѣчали особаго воодушевленія „за исключеніемъ, быть можетъ, Пушкина".
(Pogovor z Marico, „Zenshi svet“ мартъ 1937, на стр. 51).
77) Pusbinova izabrana djela u hrvatsboj hnjisi. O stogodtënjici pjesnihova rodjenja izdala Matica Hrvatsba. Zagreb 1899. Редакція и введеніе
проф. М. Шрепеля. Содержитъ лирику, эпиграммы, поэмы: Кавказскій плѣнвикъ, Бахчисарайскій фонтанъ и Полтаву, трагедію Борисъ Годуновъ и ро
манъ Капитанская дочка.
78 Katere Pusbinove spise dobis na nasem bnjiznem trgu. (Jutro,
10-11-1937, на стр. 7).
Списокъ словенскихъ переводовъ изъ Пушкина, по
явившихся въ печати до 5 апрѣля 1937 г.
Аракчееву, см. На А. А. Аракчеева.
1. Ангелъ — S. Vesel, Русск. ант. 1901.
2. Анчаръ — J. Menzinger, Русск. ант.
3. Барышня-крестьянка:
Oospica kmetica. F. Stiftar. Slov. narod 1875.
Bojarska kài kot kmetske dekle. J. Pintar. Slov. narod.
1883.
Akulina. R. R. Slov. kmeèki koledar 1910.
4. Бахчисарайскій фонтанъ — Bakäisarajski vodomet. Kose
ski. Razne delà 1870.
5. Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье — S. Vesel. Elegija.
Letopis Mat. Slov. 1870.
6. Борисъ Годуновъ — Edvià (J. Merhar), Slovenka 1902.
7. Бѣсы — J. Vesel, Zora 1873.
8. Всегда такъ будетъ — Tako bilo je... M. Klopdié, Lj.
zvon 1937.
9. Возрожденіе (Художникъ варваръ) — Prerojenje, — s> —
(M. Pletersnik) Zora 1874.
Ю. Выстрѣлъ:
Strel. J. P, (Pintar) Slov. narod 1883.
Strel. Z. Novice 1898.
И. Гробовщикъ:
Rakovar. J. K—j (Kogej) Gorica. Gabrâcek 1894.
Pogrebnik. P. Donat. Modra ptica 1937.
Даръ напрасный см. Мая 26-го 1828 г.
12. Девятнадцатаго октября 1831 г. (Чѣмъ чаще празднуетъ
Лицей) — Zdravica. В. Vodusek. Modra ptica 1937.
13. Дубровскій:
Svobodno prevel J. J. (Jurcic) Slov. narod 1870.
J. P. (Pintar) Slov. narod 1883.
14. Евгеній Онѣгинъ — J. Prijatelj. Mat. Slov. 1909.
15. Зимнее утро — Zimsko jutro. S. Gregorâié. Русск. ант.
*o. Зимній вечеръ Zimski vecer. — J. Vesel, Zora 1873.
10
146
17. Золото и булатъ — Zlato in jeklo. J. Mencinger. Русск.
ант.
18. Испанскій романсъ — Gvadalkvivir. I. Vesel. Letopis. Mat
Slov. 1870.
19. Истина — Resnica, J. Mencinger. Русск. ант.
20. Исторія Пугачевскаго бунта — Zgodovina Pugadovljovega
punta, —о (L. Jenko). Slov. narod 1890.
21. Кавказъ — I. Vesel, Slov. glasnik 1865.
22. Кавказскій плѣнникъ:
Kavkazki vjetnik. Koseski 1870.
Kavkaski vjetnik. Lamurski. Slov. svet 1892.
23. Къ П. Я. Чаадаеву — M. Klopäö. Lj. zvon 1937.
24. Капитанская дочка:
Stotnikova hä. — г. Slov. narod 1883.
Kapitanova hei. Semen Semenovià (I. Prijatelj) Gorica,
Gabrsöek 1896.
Kapetanova héi. I. Prijatelj. Ljubl. Tirk. zadruga 1924.
25. Кернъ А. П. (Я помню чудное мгновенье) — А. Кегпэѵі,
S. GregorèiC, Русск. ант.
26. Кирджали — F. К. P. Slovenec 1910.
27. Клеветникамъ Россіи:
Obrekovalcem Ruske. I. Vesel. Letopis Mat. Slov. 1870.
Klevetnikam Rusije. J. Mencinger. Pesmarica dr. Razlaga
1873.
28. Къ морю — Morju. 1. Vesel. Letopis Mat. Slov. 1870.
29. Когда бъ писать ты началъ — Zaäii s pisanjem. M. KlopCiè. Lj. zvon 1937.
30. Когда за городомъ задумчивъ я брожу — Pokopalisàu.
J. Mencinger, Русск. ант.
31. Метель:
MeteZ. Z. Novice 1898.
Metez. Narodni list 1910.
SneZni mefeZ. F. K. P. Slovenec 1912.
32. Мая 26-го 1828 г.:
I. Vesel. Русск. ант.
А. V. Sodobnost 1937.
М. Klopää Lj. zvon 1937.
33. Моцартъ и Сальери — J. Vidmar. Lj, zvon. 1924.
34. На А. А. Аракчеева. (Полонъ злобы) — M. Кіорбіб, Lj.
zvon 1937.
35. Не пой, красавица — Gruzinska pesem. I. Vesel. Letopis
Mat. Slov. 1870.
36. Николаю I (Едва царемъ онъ сталъ) — М. Кіорбіб, Lj.
zvon 1937.
37. Обвалъ — Snezeni plaz. S. Gregorää Русск. ант.
38. Овидію — 1. Vesel, Русск. ант.
39. Пиковая дама:
Pikova dama. J. H. Edinost 1888.
147
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
50.
Pik dama. Z. D. (Dokler). Slov. narod 1891.
Pikova dama. V. Borftnik, Ljubl. Zvezna tiskarna 1921.
Повѣсти Бѣлкина см. отдѣльные разсказы.
Погасло дневное свѣтило — Uganilo dneva je svetilo. J.
J. Mencinger. Русск. ант.
Посланіе въ Сибирь — Poslanica v Sibirijo. J. Mencinger.
Русск. ант.
Пророкъ — Prerok. I. Vesel. Letopis Mat. Slov. 1870.
Птичка — M. Klopftft Lj. zvon 1937.
Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ — Pesem о veäcem Olegu. M.
Hostnik. Slov. svet 1895.
Разсудокъ и любовь — Razum in ljubezen. M. Klopfte.
Umetnost 1937.
Русалка (баллада) — Lamurski. Slov. svet 1892.
Сказали разъ царю — M. Klopftft Lj. zvon 1937.
Сказка о золотомъ пѣтушкѣ — Pravljica о zlatem petelinu. F. Fomië. Jugoslovan 15. III. 1931. Сокращено для
дѣтей и въ прозѣ.
Сказка о мертвой царевнѣ — Mrtva carevna in sedmero
vitezov. Koseski. 1870.
Скавка о рыбакѣ и рыбкѣ:
Ribar in riba. Slov. berilo za 5 gimn. razred. Вѣна 1853.
Ribaë in zlata riba. Koseski 1870.
О ribiCu in zlati ribici. A. Askerc. Slov. veCernice 1889.
(Въ Русск. ант. — Bajka о ribiöu in ribici.).
Сказка о царѣ Салтанѣ — Car Saltan in knez Gvidon.
Koseski 1870).
Сказки (Noël) — Bajke. M. Klopfte. Lj. zvon 1937.
Скажи, что новаго — No, koj je novega? M. Klopftft Lj.
zvon 1937.
Соловей (Въ безмолвіи садовъ) — Slavec. J. Mencinger.
Русск. ант.
Стансы (Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ):
Misli in zelja. Rodoljub Ledinski. Novice 1855.
Stanse. M. Klopftft Lj. zvon 1937.
Стансы Толстому см. Толстому Я. Н.
Станціонный смотритель. — Postajni upravitelj. Glas naroda. Чикаго 1909.
Талисманъ — A. Medved. Slovenka 1898.
Телѣга жизни — Voz ftvljenja. —s—. (M. Pletersnik) Zora
1874.
Voz ftvljenja. M, Klopftft Lj. zvon 1937.
Толстому Я. H. (Философъ ранній) — Stance T — mu. J.
Vesel. Русск. ант.
Три ключа:
Trije viri. Mencinger. Русск. ант.
Trije vrelci. Semen Semenoviä (1. Prijatelj) Slovenka
1899.
148
61. Туча — Crna megla. I. Vesel. Zora 1873.
62. У Клариссы денегъ мало — Reva опа. М. Klopää. Lj.
zvona 1937.
63. Утопленникъ — Utopljenec. J. Vesel. Русск. ант.
64. Цвѣтокъ — Cvetka. D. Kette. Русск. ант.
65. Цыгане (поэма) — Cigani, Тегпоѵес — Lamurski. Gorica,
Gabrädek 1909.
Чаадаеву П. Я. см. Къ Чаадаеву.
66. Черная шаль:
Çrna sal. Po S. Vrazu. Lamurski. Zora 1877.
Çrna sal. Lamurski. Slov. svet 1891.
Crni sal. A. Medved. Slovenska 1898.
67. Чернь — Glota. J. Mencinger. Русск. ант.
Чѣмъ чаще празднуетъ лицей см. 19 оятября 1831 г.
68. Шотландская пѣсня:
Krokarja. I. Vesel. Zora 1873.
Dva vrana. Kaliper (Levstik) Lj. zvon 1883.
Sotlandska pesem. Lamurski. Slov. svet. 1892.
69. Эпитафія. (Покойникъ Клитъ въ раю не будетъ) —
Naä rajnki Klit. М. KlopciC. Lj. zvon 1937.
70. Эхо — Jek. J. Mencinger. Русск. ант.
71. Я васъ любилъ — Ljubil sam vas. M. Klopèiè. Lj. zvon 1937.
72. Я памятникъ себѣ воздвигъ — Spomenik. 1. Vesel. Русск.
ант.
73. Я пережилъ свои желанья:
Elegija. (PreZivel svoja kopernenja) F. G. Slovan 1886PreZivel svoje sam Zelenje. 1. Vesel. Русск. ант.
ОТДЪЛЗ ВТОРОЙ
ИНЫЯ СТАТЬИ ПО
ПУШКИНОВѢДѢНІЮ.
С. Л. Франкъ.
О задачахъ познанія Пушкина.
Постановка вопроса о задачахъ познанія Пушкина мо
жетъ показаться странной. Болѣе трехъ четвертей вѣка суще
ствуетъ цѣлая отрасль научныхъ изысканій, именуемая „пуш
киновѣдѣніемъ“ (считая съ выхода основоположной книги
П. В. Анненкова „Матеріалы къ біографіи Пушкина“ 1855 г.).
Начиная съ конца 19 го вѣка (считая съ приступа къ акаде
мическому изданію сочиненій Пушкина и съ сборника Л. Н.
Майкова „Пушкинъ“ 1899 г.), „пушкиновѣдѣніе“ сложилось
въ цѣлую науку съ почти необозримой литературой и съ
уже довольно прочными традиціями методовъ научнаго изу
ченія. Въ отношеніи самого Пушкина, казалось бы, не оправ
дались его слова: „мы лѣнивы и нелюбопытны“, осуждаю
щія обычное отношеніе русскаго общества къ великимъ рус
скимъ людямъ. „Пушкиновѣды“ во всякомъ случаѣ заслу
живаютъ, наоборотъ, похвалы за свое неутомимое прилежа
ніе и напряженную любознательность. Едва ли не каждая
строка рукописей Пушкина, каждое устное его слово, пере
данное современниками, каждый день его жизни изучены съ
основательностью, довольно рѣдкой въ другихъ областяхъ
русской науки. Конечно, и здѣсь, какъ вообще во всѣхъ об
ластяхъ человѣческаго знанія, существуетъ еще много не
разрѣшенныхъ загадокъ (вродѣ напр. того, къ кому отно
сится посвященіе „Полтавы“ или кто была „сѣверная лю
бовь“ Пушкина); но, кажется, болѣе, чѣмъ гдѣ либо, „не
разрѣшенное“ начинаетъ здѣсь уже приближаться къ области
»неразрѣшимаго“. Быть можетъ, позволительно думать, что
»пушкиновѣдѣніе“ въ общепринятомъ его смыслѣ близится
къ своему завершенію.
Но уже само это состояніе „пушкиновѣдѣнія“ даетъ
основаніе задуматься и оглянуться, чтобы „изъ за деревьевъ
не потерять лѣса“,—основаніе тѣмъ большее, что сами пуш
киновѣды совсѣмъ не склонны признать такое состояніе сво
ей науки, а видятъ передъ собой еще безконечное количе
ство темъ и проблемъ, подлежащихъ разсмотрѣнію и рѣше
нію. И въ самомъ дѣлѣ, формально и внѣшне „пушкиновѣ
дѣніе“, какъ и всякая другая отрасль знанія, неисчерпаемо.
152
Достаточно указать на особенно излюбленную тему изслѣ
дованій „Пушкинъ и....“ Отъ всякой точки бытія идутъ нити,
соединяющія ее, непосредственно или косвенно, въ про
странствѣ и времени съ безчисленнымъ количествомъ дру
гихъ точекъ бытія—въ конечномъ счетѣ, со всей неизмѣри
мой и неисчерпаемой полнотой бытія, какъ всеединства.
Идутъ эти нити, слѣдовательно, и отъ Пушкина. Мы имѣемъ
теперь не только біографіи едва ли не всѣхъ современни
ковъ Пушкина, съ которыми онъ имѣлъ какую-либо духов
ную связь или какъ либо соприкасался, не только біографіи
всѣхъ женщинъ, въ которыхъ онъ былъ, хотя бы кратко
временно, болѣе или менѣе серьезно влюбленъ—мы имѣемъ
уже ученое жизнеописаніе Оленьки Масонъ, петербургской
кокотки, къ которой относится стихотвореніе „Ольга, крест
ница Киприды“; есть изслѣдованія о домахъ и гостиницахъ,
въ которыхъ жилъ Пушкинъ, и ресторанахъ, въ которыхъ
онъ обѣдалъ (напр. изслѣдованія и даже ученая полемика
по вопросу о томъ, въ какомъ именно домѣ жилъ Пушкинъ
во время своей трехдневной остановки въ Казани). Для из
слѣдованій такого рода нѣтъ никакихъ границъ; если можно
изучить біографіи знакомыхъ Пушкина, то отчего не изу
чить біографіи всѣхъ слугъ, бывшихъ когда-либо у Пушкина,
крестьянъ его имѣній, и пр.? Можно изучить исторію улицъ
и домовъ, въ которыхъ онъ жилъ, или магазиновъ, въ ко
торыхъ онъ что-либо покупалъ, портныхъ, которые шили
ему платья и пр.? Конечно, не только „каждая строчка ве
ликаго писателя становится драгоцѣнной для потомства“,
какъ замѣтилъ самъ Пушкинъ, но каждый шагъ его жизни.
Но не угрожаетъ ли и тутъ опасность потонуть въ какойто безмѣрности, раствориться въ „дурной безконечности“?!
Не надлежитъ ли въ поискахъ новыхъ матеріаловъ все же
не забывать мысли о томъ, для чего собственно они нужны?
Не слѣдуетъ ли и въ „пушкиновѣдѣніи“ различать между
плодотворнымъ развитіемъ и безмѣрнымъ и безцѣльнымъ
распуханіемъ? Матеріалы фактическаго порядка суть вѣдь
все же только матеріалы и собираніе ихъ должно быть оп
равдано ихъ необходимостью для построенія какого-то синшешичеснаго цѣлаго.
Но оставляя даже совершенно въ сторонѣ этотъ во
просъ: не находится ли само „пушкиновѣдѣніе“ въ извѣст
номъ смыслѣ въ критическомъ состояніи, требующемъ нѣкаго раздумья и провѣрки? — и предоставляя ему свободу
безконечно пополняться и итти впередъ на избранномъ имъ
пути, надо отчетливо осознать, что „пушкиновѣдѣніе“ сов
сѣмъ не совпадаетъ съ познаніемъ Пушкина, а есть лишь
подсобная для послѣдняго область знанія—примѣрно такъ
же, какъ „ариродовѣдѣніе" есть подсобный или подготови
тельный путь къ „естествознанію". Въ самомъ дѣлѣ, въ
153
чемъ собственно заключается то, что называется „пушкино
вѣдѣніемъ“? По меньшей мѣрѣ на три четверти оно состоитъ
изъ изслѣдованій біографическаго, текстологическаго и биб
ліографическаго содержанія. Уже гораздо меньшая доля при
ходится на изслѣдованія историко- литературныя. Критико
эстетическія изслѣдованія поэзіи Пушкина (если оставить въ
сторонѣ мало цѣнную популярную и учебную литературу въ
этой области), можно сказать, уже почти тонутъ въ океанѣ
остального пушкиновѣдѣнія и во всякомъ случаѣ далеко от
стали отъ другихъ отраслей послѣдняго. И, наконецъ, из
слѣдованіе духовнаго содержанія творчества и личности Пуш
кина, и его значенія, какъ въ перспективѣ общечеловѣческой
духовной жизни, такъ и въ русскомъ самосознаніи существу
етъ вообще лишь въ первыхъ, естественно еще несовер
шенныхъ зачаткахъ; можно сказать, что оно только едва
началось и что къ нему еще совсѣмъ не замѣчается серь
езнаго интереса въ русской мысли.
Въ этомъ послѣднемъ фактѣ надо отдать себѣ полный
и ясный отчетъ и оцѣнить все его значеніе: несмотря на бо
гатое развитіе „пушкиновѣдѣнія“, несмотря на всеобщее при
знаніе Пушкина величайшимъ, несравненнымъ русскимъ ге
ніемъ, въ русскомъ сознаніи господствуетъ доселѣ каксе-то
равнодушное, отчасти даже пренебрежительное отношеніе
къ Пушкину. Настоящіе цѣнители Пушкина, люди, постоянно
перечитывающіе его творенія, знающіе его письма и дошед
шія до насъ сужденія — люди, для которыхъ Пушкинъ есть
- употребляя терминъ Мережковскаго — „вѣчный спут
никъ“, источникъ жизненной мудрости — суть въ русскомъ
обществѣ доселѣ лишь какіе-то чудаки и одиночки. Выска-*
занное безъ малаго 40 лѣтъ тому назадъ сужденіе Мереж
ковскаго сохраняетъ свою силу и доселѣ: тѣнь писаревскаго
отношенія къ Пушкину еще продолжаетъ витать въ рус
скомъ общественномъ сознаніи. Всѣ охотно готовы нести
дешевую, условную дань уваженія геніальности Пушкина,
какъ „чистаго поэта“, и этимъ откупаются отъ необходимо
сти познавать-его и интересоваться имъ’). Отчасти въ этомъ,
конечно, сказывается роковая судьба всѣхъ геніевъ, получив
шихъ всеобщее признаніе: они постепенно становятся „клас’) Пушкинъ, полушутя,
будущую судьбу:
полусерьезно самъ предсказывалъ эту свою
Быть можетъ (лестная надежда!),
Укажетъ будущій невѣжда
На мой прославленный портретъ
И молвитъ: то-то былъ поэтъ.
И овъ иронически благодаритъ того будущаго читателя, „чья благосклонная
РУка потреплетъ лавры старика“.
154
сиками“ въ дурномъ, школьномъ смыслѣ слова—творенія ихъ
становятся предметомъ обязательнаго школьнаго обученія,
ихъ безсознательно и безотчетно „зубрятъ“ наизустъ, ими,
какъ однажды выразился Блокъ, „мучаютъ ни въ чемъ не
повинныхъ ребятъ“; они легко набиваютъ оскомину, и имен
но поэтому въ зрѣломъ возрастѣ трудно возстановить непо
средственное и внимательное отношеніе къ нимъ. Но отчасти
это есть все же своеобразная судьба именно одного Пуш
кина. Не касаясь здѣсь болѣе глубокихъ духовныхъ при
чинъ этого невниманія къ Пушкину, достаточно указать на
одну его причину, лежащую въ самомъ характерѣ поэтиче
скаго и духовнаго творчества Пушкина. Духъ и мысль Пуш
кина находятъ въ его поэзіи и въ его поэтическихъ сужде
ніяхъ такую наивно-непосредственную, простодушную, непри
тязательную форму, которая легко скользитъ по нашему со
знанію и лишь съ трудомъ проникаетъ въ его глубь. Это
связано съ глубоко національнымъ характеромъ пушкинскаго
генія. Муза Пушкина — не только муза его поэзіи, но и
„муза“ его мысли и духовной жизни — есть настоящая рус
ская муза: ея истинная духовная глубина, ея великая и серь
езная жизненная мудрость проникнута той простотой, безъ
искусственностью, непосредственностью, которая образуетъ
невыразимое своеобразіе русскаго духа. Она очаровываетъ,
обвараживаетъ своею эстетической прелестью,своей нравствен
ной правдивостью, но именно поэтому мы какъ-то не склон
ны брать ее всерьезъ. И особенно не склоненъ оцѣнить по
достоинству эту простушку тотъ другой, весьма распростра
ненный, типъ русскаго духа, который, переобремененный
„проблемами міросозерцанія“, отличается, напротивъ, какойто угрюмой серьезностью, тяжеловѣсностью, духовной нанапряженностью и угловатостью. Этотъ „семинарскій“ рус
скій духъ, столь типичный для русскихъ нигилистовъ и „прин
ципіальныхъ“ людей второй половины 19-го вѣка, образую
щій въ извѣстномъ смыслѣ самое существо русскаго „ин
теллигента“, живъ еще доселѣ среди насъ—существенно из
мѣнилось, быть можетъ, его содержаніе, кругъ его идей, но
самая духовная форма осталась въ общемъ прежней, и эта
форма прямо противоположна той „благородной простотѣ“,
которую Пушкинъ не только проповѣдывалъ, но и вопло
щалъ въ своемъ творчествѣ и въ своей духовной личности.
Какъ бы то ни было, если мы не только на сло
вахъ, но и на дѣлѣ признаемъ Пушкина величайшимъ рус
скимъ геніемъ, величайшимъ представителемъ русскаго духа,
то пора, наконецъ, приступить къ серьезному и вниматель• ному познанію духовнаго міра этого генія. Это есть прежде
всего просто задача русскаго національнаго самосознанія:ибо
геній есть, конечно, наилучшій, наиболѣе здэкватный выра
зитель самой субстанціи національнаго духа. И, съ другой
155
стороны, такъ какъ цѣнность національнаго начала въ томъ
и заключается, что оно есть прирожденная намъ, естествен
ная и непосредственная для насъ, своеобразная форма обще
человѣческой духовной жизни, общечеловѣческихъ и вѣч
ныхъ началъ духовнаго бытія, — то познаніе Пушкина,
сверхъ его цѣнности для національнаго самопознанія, нужно
для познанія самой правды, для углубленія и просвѣтлѣнія
основъ нашей духовной жизни. Пушкинъ есть, коротко го
воря, нашъ ближайшій и естественный учишель мудрости.
Это провозгласилъ впервые Достоевскій, въ своей знамени
той пушкинской рѣчи болѣе полвѣка тому назадъ, эту мысль
настойчиво развивалъ Мережковскій въ своей статьѣ о Пуш
кинѣ въ „Вѣчныхъ спутникахъ“, которая есть, быть можетъ,
доселѣ самое значительное изъ всего, что сказано о Пушки
нѣ, и этотъ же призывъ повторилъ еще сравнительно не
давно Гершензонъ въ статьѣ „Мудрость Пушкина“, которая,
несмотря на почти невыносимую искусственность и нарочи
тость положительной конструкціи, цѣнна своимъ любовно
внимательнымъ отношеніемъ къ духовной сокровищницѣ
пушкинскаго творчества. И это приходится повторять и
теперь.
Общая задача познанія Пушкина есть, такимъ образомъ,
отличная отъ основныхъ, господствующихъ темъ пушкино
вѣдѣнія, задача познанія духовнаго міра Пушкина, во всей
широтѣ, сложности и проблематикѣ этого предмета. Пред
лагаемый этюдъ не ставитъ своей задачей не только исчер
пать, но и намѣтить основное содержаніе этого духовнаго
міра. Мы хотимъ лишь высказать нѣкоторыя общія сообра
женія о путяхъ и задачахъ „познанія Пушкина“ въ указан
номъ смыслѣ, представить методологическія вступительныя
указанія, необходимыя для дальнѣйшихъ изслѣдованій по
существу.
I.
Пушкинъ — не только величайшій русскій поэтъ, но и
истинно великій мыслитель. Отрицать этотъ фактъ (который
былъ очевиденъ наиболѣе чуткимъ современникамъ Пушкина)
теперь, когда наслѣдіе пушкинскаго творчества болѣе или
менѣе приведено въ извѣстность, можно только при указан
номъ выше пренебрежительномъ, невнимательномъ отноше
ніи къ его творчеству. Если бы до насъ не дошло ни одно
поэтическое произведеніе Пушкина, и мы могли судить о
Пушкинѣ только по его письмамъ, прозаическимъ работамъ
И наброскамъ и по достовѣрно переданнымъ намъ устнымъ
156
высказываніямъ, то этого матеріала, при внимательномъ от
ношеніи къ нему, было бы достаточно, чтобы признать Пуш
кина самымъ замѣчательнымъ русскимъ умомъ 19-го вѣка и
подтвердить сужденіе Николая I о немъ, какъ объ „умнѣй
шемъ человѣкѣ Россіи“. Въ центрѣ его размышленій стоитъ,
конечно, эстетика и поэтика, литературная критика и исто
рія литературы, къ которымъ примыкаютъ идеи въ области
филологіи и лингвистики. Эта область его умственнаго твор
чества достаточно извѣстна — хотя и она отнюдь не доста
точно изучена. Но Пушкинъ, не будучи ни въ какомъ отно
шеніи типомъ ученаго „спеціалиста“, не ограничивался и по
знаніемъ области словеснаго творчества. Пушкинъ былъ од
новременно изумительнымъ по силѣ и проницательности
историческимъ и политическимъ мыслителемъ, и даже „со
ціологомъ“. Достаточно напомнить объ его мысляхъ по рус
ской и западной исторіи, объ его совершенно своеобразныхъ
и проницательныхъ политическихъ воззрѣніяхъ, объ его кри
тикѣ исторіософской концепціи Чаадаева, объ его позиціи
въ (предвосхищенномъ имъ) спорѣ между западниками и
славянофилами, объ его идеяхъ въ области общихъ законо
мѣрностей общественно политической жизни. Врядъ ли кто
рѣшится утверждать, что эти общественно-политическія, исто
рическія и исторіософскія идеи Пушкина изучены достаточно
внимательно и основательно; доселѣ русскіе мыслители го
раздо меньшаго масштаба привлекали къ себѣ гораздо боль
ше вниманіе изслѣдователей русской духовной культуры,
чѣмъ Пушкинъ. Здѣсь испытываешь потребность сразу же
высказать оцѣночное сужденіе: исторія русскихъ иллюзій и
фантазій, русскихъ заблужденій, изучена гораздо болѣе вни! мательно и основательно, чѣмъ исторія русской здравой мыс
ли, воплощенной прежде всего въ Пушкинѣ.
Но и этимъ не только не исчерпана, но даже не выра
жена сколько нибудь адэкватно сфера умственнаго творче
ства Пушкина, не обрисована физіономія его, какъ мыслителя.
Истинная сфера его мысли есть въ общемъ смыслѣ слова
духовная жизнь человѣка, а истинное существо его мысли
ближайшимъ образомъ выражается въ томъ, что онъ — не
мыслитель, какъ мастеръ отвлеченнаго познанія, а мысли
тель - мудрецъ. Основное свойство его мысли заключается
въ ея жизненной проницательности. Его историческія, поли
тическія и исторіософскія мысли и обобщенія укладываются
непосредственно въ общія рамки его жизненной, мудрости,
примыкаютъ къ его наблюденіямъ надъ человѣкомъ и его
судьбой вообще. Его замѣчанія на основныя, вѣчныя темы
человѣческой жизни — мысли о женщинахъ, о любви, бракѣ
и семьѣ, о дружбѣ, объ уединеніи и общеніи, его этическія
размышленія, его глубоко своеобразныя и прочувствованныя
религіозныя идеи образуютъ почти неисчерпаемую сокро-
157
вищницу исключительно цѣнныхъ, геніально умныхъ идей..
И притомъ эти мысли, выраженныя всегда лаконически кратко,
часто лишь бѣгло намѣченныя, всегда изумительно просты
живы, конкретны и трезвы. Этотъ умъ — по основной своей
природѣ, конечно, чистый поэтъ, который въ качествѣ поэта,
дерзалъ утверждать, что „тьмы низкихъ истинъ намъ до
роже насъ возвышающій обманъ“, — въ своихъ „прозаиче
скихъ“ сужденіяхъ о дѣйствительности чуждъ и слѣда обыч
ной безпомощности, или наивности поэта и мечтателя. На
противъ, его мысль всегда остра, проницательна и трезва,
полна истинно-русскаго здраваго смысла, въ простомъ, „про
заическомъ“ смыслѣ правдива и мѣтка обладаетъ всѣми ка
чествами добросовѣстно-строгаго, Никакими предрасположе
ніями незамутненнаго эмпирическаго познанія. „Мой милый,
— пишетъ онъ однажды (1825) Бестужеву въ спорѣ съ
нимъ о положеніи писателей въ Россіи — ты поэтъ, и я
поэтъ, но я сужу прозаически, и чуть ли не отъ этого болѣе
правъ“.
Именнно, въ силу этой трезвости и жизненной мудрости
своей мысли, Пушкинъ ни въ малѣйшей мѣрѣ не есть „си
стематическій мыслитель“, „теоретикъ“. Всякое „философ
ствованіе“, всякое оторванное отъ конкретности „умозрѣніе“
ему чуждо и ненавистно. О немъ можно было бы сказать
то же, что Гёте сказалъ о самомъ себѣ, именно, что онъ
былъ лишенъ особаго органа для „философіи“ — и притомъ
на томъ же основаніи: на основаніи прирожденнаго, инстинк
тивнаго сознанія, что всякая теорія „сѣра“ по сравненію съ
„златымъ древомъ жизни“. „Видитъ Богъ, какъ я ненавижу
и презираю нѣмецкую метафизику“, пишетъ онъ Дельвигу
изъ Москвы въ отвѣтъ на упрекъ, что онъ сблизился съ
московскими „любомудрами“; и Погодинъ отмѣчаетъ въ то
же время въ своемъ дневникѣ, что „Пушкинъ декламиро
валъ противъ философіи“. Съ тонкой и убійственной ироніей
надъ раціонализмомъ философскаго склада ума онъ дѣлаетъ
запись: „Все, что превышаетъ геометрію, превышаетъ насъ“,
сказалъ Паскаль — и вслѣдствіе того написалъ свои фило
софическія мысли“ 1).
') Замѣчательно притомъ и характерно для Пушкина, что даже и это
отрицаніе отвлеченнаго, философскаго мышленія не превращается у него
какъ это часто бываетъ у другихъ умовъ — въ узкую „теорію“. Не только
онъ съ большой проницательностью утверждаетъ одновременно, что „скеп
тицизмъ — лишь первый шагъ'умствованія“, но онъ понимаетъ и жизнен
ную цѣнность духовнаго направленія, лежащаго въ основѣ презираемой
имъ „нѣмецкой метафизики“. Онъ соединяется съ чуждыми ему по идеямъ
московскими любомудрами потому, что чувствуетъ въ нихъ живое, твор-
158
Идеи Пушкина — всегда простыя фиксаціи интуицій,
жизненныхъ узрѣній, какъ бы отдѣльныя молніи мысли, вне
запно озаряющія отдѣльныя области, стороны реальности.
При характеристикѣ мысли Пушкина невольно навязывается
и здѣсь одинъ терминъ Гёте: терминъ „предметнаго мышле
нія". Подъ нимъ, какъ извѣстно, подразумѣвается мышленіе,
которое никогда не удаляется отъ конкретной полноты ре
альности, никогда не поддается искушенію подмѣнить ее
отвлеченными, упрощающими схемами и систематически-логическими связями.
Вслѣдствіе этой простоты, жизненности и непритяза
тельности своихъ мыслей, Пушкинъ имѣетъ возможность
включить ихъ въ свою поэзію, безъ всякаго ущерба для ея
чистой художественности, безъ опасенія — обременить ее тя
желовѣснымъ легкомысліемъ. Странная вещь! Казалось бы,
содержаніе поэзіи Пушкина достаточно хорошо всѣмъ намъ
извѣстно, и здѣсь нѣтъ ни надобности, ни возможности от
крывать новыя „Америки“. А между тѣмъ, если высказыва
ешь утвержденіе, что поэзія Пушкина насквозь насыщена
мыслями, что она для насъ — не только источникъ худо
жественнаго наслажденія, но и истинная сокровищница жиз
ненной мудрости, то это утвержденіе (уже настойчиво и
убѣдительно неоднократно высказанное — и Тургеневымъ,
и Достоевскимъ, и Мережковскимъ, и Гершензономъ) и по
нынѣ звучитъ парадоксомъ и встрѣчаетъ недовѣріе. Пуш
кину слишкомъ на слово повѣрили въ его утвержденія, что
„поэзія, прости Господи, должна быть глуповатой“. Въ этомъ
сужденіи выражено, однако, лишь эстетическое отрицаніе
тяжеловѣснаго дидактизма въ поэзіи, переобременности поэ
зіи педантическими разсужденіями. „Разсужденій“ и „теорій“
въ поэзіи Пушкина дѣйствительно не найти; но размышленій,
интуитивныхъ мыслей — во всѣхъ психологическихъ оттѣн
кахъ, начиная отъ отдѣльныхъ блестокъ остроумія и кон
чая глубокимъ и тихимъ раздумьемъ, нравственнымъ и ре
лигіознымъ, — въ поэзіи Пушкина безконечно много. Въ
ней, конечно, нѣтъ ни тяжеловѣсно-угрюмой философской
рефлексіи Боратынскаго, ни напряженной страстности мета
физическихъ умозрѣній Тютчева. Пушкинъ мыслитъ на свой
ладъ — такъ просто, трезво и непритязательно, настолько
жизненно-имманентно, какъ бы изъ нутра самой жизни, и по
тому и настолько поэтично, что глубина и цѣнность его мы
сли легко ускользаютъ отъ вниманія.
ческое начало. Въ томъ же письмѣ къ Дельвигу тотчасъ вслѣдъ за приве
денными словами о презрѣніи къ метафизикѣ слѣдуетъ лаконичная, истинно
пушкинская оговорка: „да что подѣлаешь! Собрались ребята теплые, упря
мые — попъ свое, а чортъ свое“.
159
Нетрудно показать на основаніи собственныхъ признаній
Пушкина, что поэзія и мысль для него составляли неразрыв
ное единство.
Онъ не любилъ „Думъ“ Рылѣева за ихъ непоэтическій
дидактизмъ, за то, что онѣ „цѣлятъ, да все невпопадъ“ и
иронически производилъ слово „думы“ отъ нѣмецкаго слова
dumm. Но онъ исключительно высоко — можетъ быть, да
же чрезмѣрно высоко! — цѣнилъ стихи Боратынскаго, и
именно потому, что Боратынскій „всегда мыслитъ“. Онъ не
можетъ понять „премудраго нѣмца Клопштока", ненавидитъ
всѣхъ, „которые на свѣтѣ писали слишкомъ мудрено, то есть
и хладно и темно, что очень стыдно и грѣшно“, но онъ во
схищается Шекспиромъ и почитаетъ Гёте, и съ презрѣніемъ
говоритъ о „стихѣ безъ мысли въ пѣснѣ модной“. Въ юно
шескомъ посланіи къ Жуковскому онъ говоритъ о „сладо
страстьѣ высокихъ мыслей и стиховъ“. О своемъ поэтиче
скомъ вдохновеніи онъ говоритъ: „и сладостно мнѣ было
жаркихъ думъ уединенное волненье“. Въ другомъ, болѣе по
дробномъ описаніи поэтическаго вдохновенія („Осень“) гово
рится, что „лирическое волненіе“ творческой души, ищущей,
„какъ во снѣ“, „излиться наконецъ свободнымъ проявленіемъ“
разрѣшается встрѣчей между мыслями и риѳмами: „мысливъ
головгъ волнуются въ отвагѣ, и риѳмы легкія навстрѣчу имъ
бѣгутъ“. Его завѣтъ поэту — дорогою свободною итти, куда
влечетъ его свободный умъ, „усовершенствуя плоды высо
кихъ думъ“, и смыслъ его собственной жизни среди печали,
труда и горя — „жить, чтобы мыслить и страдать“. И точ
но такъ же поэтъ заставляетъ Онѣгина въ его „альбомѣ“
сѣтовать на то, что въ русской поэзіи нельзя найти „позна
ній“ и „мыслей“ и ставить реторическій вопросъ: „дорожитъ
одними ль звуками піитъ?“
Съ этими поэтическими признаніями о связи поэзіи и
мысли согласуется извѣстное разсужденіе о „вдохновеніи“,
которое, въ отличіе отъ „восторга“, сближается съ умствен
нымъ творчествомъ: „Вдохновеніе есть расположеніе души
къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій,
слѣдственно и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ гео
метріи, какъ и бъ поэзіи... Восторгъ не предполагаетъ силы
Ума, располагающаго частями въ отношеніи цѣлаго“. Если
Пушкинъ самъ опредѣляетъ поэму „Евгеній Онѣгинъ“, какъ
плодъ „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ за
мѣтъ“, то это опредѣленіе примѣнимо вообще къ преобла
дающему большинству его поэтическихъ произведеній. Можно
смѣло сказать, что для Пушкина поэзія не только согласима
съ мыслью и даже требуетъ мысли, но и органически свя
зана съ мыслью и образуетъ съ ней неразрывное первичное
единство.
Отсюда возникаетъ одна изъ основныхъ задачъ изуче
160
нія и познанія Пушкина, доселѣ систематически и основа
тельно еще не осуществленная: на основаніи „ума холодныхъ
наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ“, съ безмѣрнымъ
богатствомъ разсѣянныхъ какъ въ прозаическихъ произве
деніяхъ Пушкина, его письмахъ, дневникахъ, замѣткахъ и
устныхъ высказываніяхъ, такъ и въ его поэзіи — адэкватно
и безпристрастно обрисовать то, что можно назвать жизнен
ной мудростью, или жизнепониманіемъ Пушкина. Оставляя
пока въ сторонѣ сложный философски-эстетическій вопросъ
объ отношеніи между „формой“ и „содержаніемъ“ поэтиче
скаго произведенія и относительнаго значенія обоихъ этихъ
моментовъ для опредѣленія его истиннаго „смысла“ (къ об
сужденію этого вопроса мы перейдемъ тотчасъ же ниже), —
мы не боимся высказать здѣсь съ полной опредѣленностью
наше старомодное и съ точки зрѣнія господствующаго эсте
тизма еретическое убѣжденіе: выраженныя въ поэтическомъ
творчествѣ мысли образуютъ, правда, не единственное и не
исчерпывающее, но все же весьма существенное содержаніе
этого творчества. И эти мысли, правда, умаленныя въ своей
значительности и полновѣсности, сохраняютъ все же свое
значеніе и въ отвлеченіи отъ своей поэтической формы. Было
бы, конечно, варварствомъ пренебрегать поэтической формой,
какъ чѣмъ-то „внѣшнимъ“ и „несущественнымъ“, и интере
соваться только сухимъ, отвлеченнымъ осадкомъ мыслей,
какъ содержанія поэзіи — уже глубина и интимность связи
между мыслью и словомъ убѣждаетъ въ неадэкватности та
кого примитивнаго отношенія. Но да позволено будетъ утвер
ждать, что не меньшее варварство лежитъ въ эстетизирую
щемъ пренебреженіи къ умственному содержанію поэзіи, въ
формалистическомъ отношеніи къ содержанію, какъ тоже
лишь чисто формальному элементу поэзіи.
Но здѣсь мы наталкиваемся на проблему, недавно по
ставленную и съ большой страстностью обсуждавшуюся въ
„пушкиновѣдѣніи“ — на проблему такъ паз. „автобіогра
физма“ поэзіи Пушкина. Для насъ здѣсь вопросъ идетъ о
томъ, въ какой мѣрѣ можно и должно „брать всерьезъ“ на
строенія, мысли и признанія Пушкина, выраженныя въ его
поэзіи, видѣть въ нихъ свидѣтельства его подлинныхъ убѣ
жденій, его реальнаго жизненнаго опыта и міросозерцанія.
Въ извѣстной мѣрѣ вопросъ этотъ сводится къ общему во
просу объ отношеніи поэтическаго творчества къ подлинной
личной жизни творца. Обычный средній читатель склоненъ
здѣсь впадать въ одну изъ двухъ крайностей: либо грубо,
по-сыщицки, искать въ мотивахъ поэтическаго творенія при
знаній объ обстоятельствахъ интимно-личной жизни поэта,
либо, напротивъ видѣть въ поэтическомъ твореніи лишь
красивый вымыселъ, фантазіи, не имѣющія никакого отно
шенія къ подлинной, серьезной духовной жизни поэта. Самъ
161
Пушкинъ пророчествовалъ противъ этихъ двухъ отношеній
(съ особенной горечью — противъ послѣдняго). Если въ
„Онѣгинѣ“ на подозрѣніе, что онъ изображаетъ въ героѣ
поэмы самого себя, онъ отвѣчаетъ: „какъ будто намъ ужъ
невозможно писать поэмы о другомъ, какъ только о себѣ
самомъ“, то въ „отвѣтѣ Анониму“ онъ жалуется напротивъ:
Холодная толпа взираетъ на поэта,
Какъ на заѣзжаго фигляра: если онъ
Глубоко выразитъ сердечный, тяжкій стонъ,
И выстраданный стихъ, пронзительно-унылый
Ударитъ по сердцамъ съ невѣдомою силой, —
Она въ ладони бьетъ и хвалитъ, иль порой
Неблагосклонною киваетъ головой.
Но замѣчательно, чю это послѣднее, заранѣе недовѣр
чивое отношеніе читателя къ правдивости и жизненной серь
езности мотивовъ поэтическаго творчества играетъ особен
ную роль въ господствующемъ взглядѣ на творчество имен
но Пушкина. Средній русскій читатель не сомнѣвается въ
правдивости трагическихъ признаній Лермонтова, Блока или
Есенина, но склоненъ видѣть одно лишь т. наз. „чистое искус
ство“, т. е. искусство безъ правдиваго жизненнаго содержа
нія, въ лирикѣ Пушкина. Это объясняется, по крайней мѣрѣ
до извѣстной степени, дѣйствіемъ на насъ художественнаго
совершенства твореній Пушкина. Магическая сила художе
ственнаго преображенія являетъ намъ его творенія, какъ пре
красныя, пластическія созданія, какъ бы обладающія соб
ственнымъ бытіемъ и значимостью, внѣ связи съ горячей
кровью ихъ творца, отрѣшенныя отъ личной духовной глу
бины, изъ которой они возникли. Но теперь 100 лѣтъ послѣ
смерти Пушкина, при накопленіи достаточнаго біографиче
скаго и историко-литературнаго матеріала о немъ, пора, ка
залось бы, болѣе глубоко и вдумчиво уяснить себѣ это со
отношеніе и болѣе внимательно отнестись къ духовной
жизни и личности Пушкина.
Высказанныя недавно въ литературѣ о Пушкинѣ два
крайнихъ взгляда на тему объ „автобіографизмѣ“ его поэ
зіи, — болѣе или менѣе соотвѣтствующія указаннымъ выше
Двумъ обывательскимъ мнѣніямъ объ автобіографическомъ
значеніи вообще поэтическихъ произведеній,—кажутся намъ
оба несостоятельными. Въ то время какъ, напр., Ходасевичъ
считаетъ возможнымъ по фабулѣ „Русалки“ возсоздавать истоР'ю деревенскаго романа Пушкина и даже отъ судьбы „мель
ника“ умозаключать къ судьбѣ отца соблазненной Пушки
нымъ крестьянской дѣвушки или въ то время, какъ Гершен
зонъ доводитъ свое признаніе автобіографизма поэзіи Пуш
кина до того, что по фразѣ посвященнаго Гнѣдичу стихо
11
162
творенія „и свѣтелъ ты сошелъ съ таинственныхъ высотъ*
склоняется къ предположенію, что Гнѣдичъ жилъ въ верх
немъ эй/ажгъ Публичной Библіотеки,—Валерій Брюсовъ счи
таетъ самыя, казалось бы, глубоко-интимныя темы пушкин
ской лирики безразличными мотивами для упражненія поэти
ческаго мастерства, а заслуженный авторъ книги „Пушкинъ
въ жизни“, В. Вересаевъ—прямо-таки вопреки имъ же со
бранному біографическому матеріалу!—отказывается видѣть
серьезныя и искреннія признанія даже въ самыхъ глубокихъ
и прочувствованныхъ стихахъ Пушкина на моральныя и ре
лигіозныя темы.
Оба мнѣнія, повторяю, представляются явно несостоя
тельными; однако, первое изъ нихъ, при всѣхъ его очевид
ныхъ преувеличеніяхъ и крайностяхъ, все же несомнѣнно
ближе къ истинѣ, чѣмъ послѣднее, — ближе къ цѣлостному
воспріятію духовной личности Пушкина.
Надо условиться, что надлежитъ разумѣть подъ .авто
біографизмомъ“ поэзіи вообще. Поэту нѣтъ, по общему пра
вилу, никакой надобности воспроизводить въ своемъ твор
чествѣ внѣшнія подробности своей эмпирической личной
жизни, и даръ поэтическаго воображенія прямо предпола
гаетъ, что поэтъ обладаетъ способностью „выдумки“, т. е.—
смотря на дѣло глубже—способенъ духовно-эстетически пе
реживать и воплощать мотивы, которыхъ онъ конкретно не
переживалъ въ своей эмпирической судьбѣ. Никто не будетъ
предполагать, что Шекспиръ долженъ былъ самъ быть пре
ступнымъ честолюбцемъ по образцу Макбета, самъ пере
жить любовь Ромео къ Джульетѣ. пострадать отъ неблаго
дарныхъ дочерей, какъ король Лиръ, или совершить зло
дѣйства Ричарда III Однако, въ болѣе глубокомъ смыс
лѣ всякая истинная поэзія остается все же тѣмъ, что Гёте
называлъ „Gelegenheitsdichtung“. При всемъ различіи между
эмпирической жизнью поэта и его поэтическимъ творче
ствомъ, духовная личносшъ его остается все же единой, и
его творенія такъ же рождаются изъ глубины этой лично
сти, какъ и его личная жизнь и его воззрѣнія, какъ чело
вѣка. Въ основѣ художественнаго творчества лежитъ, прав
да, не личный эмпирическій опытъ творца, но все же все
гда его духовный оаышъ.
Въ этомъ болѣе глубокомъ и широкомъ смыслѣ авто
біографизмъ, въ частности, поэзіи Пушкина не подлежитъ
ни малѣйшему сомнѣнію. Можно смѣло утверждать, что всѣ
основные мотивы его лирики выражаютъ то, что было
„всерьезъ“, глубоко и жизненно прочувствовано и продума
но для себя самого Пушкинымъ, и что большинство моти
вовъ и идей его поэмъ, драмъ и повѣстей стоитъ въ непо
средственной связи съ личнымъ духовнымъ міромъ поэта.
Въ болѣе глубокомъ смыслѣ слова Гершензонъ безусловно
163
правъ, утверждая правдивость Пушкина-поэта. „Выдумы
вать“ мысли и чувства, которыхъ онъ самъ не пережилъ,
которыя были чужды его духовному опыту, онъ просто не
могъ — это есть дѣло мастеровъ стихотворнаго искусства,
а не великаго истинно-геніальнаго поэта, который, по убѣж
денію Пушкина, всегда „простодушенъ“.
По образцу „поэтическаго хозяйства“ Пушкина, недавно
такъ интересно прослѣженнаго Ходасевичемъ, можно и должно поэтому — это есть одна изъ основныхъ, доселѣ не
осуществленныхъ задачъ познанія Пушкина — изслѣдовать
то, что можно было бы назвать его .духовнымъ хозяй
ствомъ“. Въ творчествѣ Пушкина мы находимъ рядъ основ
ныхъ, излюбленныхъ духовныхъ темъ и идей, которыя про
ходятъ черезъ всю его поэзію и одновременно нахо
дятъ себѣ подтвержденіе въ біографическихъ и автобіогра
фическихъ матеріалахъ и въ его прозаическихъ размышле
ніяхъ и сужденіяхъ. Укажемъ только для примѣра немногія,
наудачу выбранныя изъ множества такихъ типично пушкин
скихъ идей, каждую изъ которыхъ можно подтвердить цѣ
лымъ рядомъ ихъ выраженій какъ въ поэзіи Пушкина, такъ
и въ прозаическихъ работахъ, автобіографическихъ призна
ніяхъ и біографическихъ матеріалахъ (нижеприводимыя со
поставленія отнюдь не имѣютъ исчерпывающаго характера).
Идея равнодушія природы къ человѣческой судьбѣ и
ея трагизму, „равнодушная природа“, сіяющая своей „вѣч
ной красой“ „у гробового входа“ (стансы); „брось одно
го меня въ безчувственной природѣ“ (Элегія 1816). „Блаженъ,
кто понялъ голосъ строгій необходимости земной“ (Варіантъ
изъ Евгенія Онѣгина); „отъ судебъ спасенья нѣтъ“ (Цыга
ны); „...иль вся наша и жизнь ничто, какъ сонъ пустой, на
смѣшка Рока надъ землей“ (Мѣдн. Всадникъ). Послѣ навод
ненья „утра лучъ... не нашелъ уже слѣдовъ бѣды вчераш
ней; багряницей уже прикрыто было зло“, и съ этимъ безчувствіемъ природы сближается „безчувствіе холодное'■“ народа, въ силу котораго все быстро вошло „въ порядокъ
прежній“ (тамъ же). Изъ писемъ: „Судьба не перестаетъ съ
тооою проказить. Не сердись на нее — не вѣдаетъ бо, что
творитъ. Представь себѣ ее огромной обезьяной, которой
Дана полная воля. Кто посадитъ ее на цѣпь? Ни ты, ни я,
”“кто. Дѣлать нечего, такъ и говорить нечего“. (Вяземскому
1826), - пп еренеси мужественно перемѣну судьбы твоей,
т° есть, по одеждѣ тяни ножки, все перемелется, будетъ
мУка“ (Соболевскому 1828). — Къ этому мотиву близко пуш
кинское убѣжденіе въ невозможности счастія (je suis athée
п bonheur, je n’en crois pas“—письмо къ Осиповой 1830),—
"ысль, которую можно прослѣдить черезъ все его поэтиче
ское творчество („на свѣтѣ счастья нѣтъ“ — одно изъ по
слѣднихъ стихотвореній 1836, какъ и въ лицейскихъ сти
164
хахъ — „страдать есть смертнаго удѣлъ“, „дышать унынь
емъ—мой удѣлъ“) и черезъ всѣ автобіографическія данныя.
Мысль о привлекательности, заманчивости, опасности,
риска жизнью: „упоеніе въ бою и бездны мрачной на краю'
(Пиръ во время чумы). „Передъ собой кто смерти не ви
далъ, тотъ полнаго веселья не вкушалъ и милыхъ женъ
лобзаній не достоинъ“ („Мнѣ бой знакомъ...“ 1820). „Пуш
кинъ всегда восхищался подвигомъ, въ которомъ жизнь
ставилась, какъ онъ выражался, на карту (курс, подл) Онъ
съ особеннымъ вниманіемъ слушалъ разсказы о военныхъ
эпизодахъ; лицо его краснѣло и изображало радость узнать
какой-либо особенный случай самоотверженія; глаза его бли
стали, и вдругъ часто онъ задумывался“ (Восп. Липранди,
Вересаевъ, Пушкинъ въ жизни I ПО). „Готовъ былъ радо
ваться чумгъ“ — письмо къ невѣстѣ 1830. То же въ „За
мѣткахъ о холерѣ“ (сравненіе ея съ поединкомъ). „Пушкинъ
говорилъ Нащокину, что ему хотѣлось написать стихотво
реніе или поэму, гдѣ выразить это непонятное желаніе че
ловѣка, когда онъ стоитъ на высотѣ, броситься внизъ. Это
его занимало“ (Разсказы о П—нѣ, зап. Бартеневымъ, М. 1925,
с. 44). Ср. эпизодъ въ „Выстрѣлѣ“ — безпечная ѣда мерешень подъ пистолетомъ противника,— имѣющій, какъ из
вѣстно, автобіографическое значеніе, и исторію множества
дуэлей Пушкина и вообще его безумной храбрости. По
свидѣтельству Булгакова, Пушкинъ „всю жизнь искалъ
смерти“.
Идея „пенатовъ“, культа домашняго очага, семьи, до
машняго уединенія, какъ основъ духовной жизни: „Домо
вому“ (1819): „Помѣстья мирнаго незримый покровитель“ etc.
Гимнъ пенатамъ (1829). Трудъ — другъ „пенатовъ святыхъ'
(„Мигъ вожделѣнный насталъ“). „Любовь къ родному пепе
лищу...“ („Два чувства равно близки намъ“). „Вновь я посѣ
тилъ“ (1835). „Пора, мой другъ, пора...“ (1936). Ср. автобіо
графическую запись: „Скоро ли перенесу свои пенаты въ
деревню etc.“ (1836). „Безъ семейственной неприкосновенно
сти (жить) невозможно. Каторга не въ примѣръ лучше“ (пись
мо къ женѣ 1834) и мн. др.
Скептическое отношеніе къ духовной жизни женщины:
Отрывокъ „Женщины“ изъ „Евгенія Онѣгина („...какъ буд
то требовать возможно отъ мотыльковъ иль отъ лилеіі и
чувствъ глубокихъ, и страстей“). „Легкая, вѣтреная душа
женщинъ, „нечисто въ нихъ воображенье, не понимаетъ
насъ оно, и, признакъ Бога, вдохновенье, для нихъ и чужд0
и смѣшно...“ (Разгов. книгопрод. съ поэтомъ). Ср. „Соловей
и роза“. „Ихъ (читательницъ) нѣтъ и не будетъ на русской
землѣ, да и жалѣть нечего“ (письмо Бестужеву 1823). От
рывокъ изъ писемъ, мыслей и замѣчаній: „Женщины вездѣ
тѣ же. Природа, одаривъ ихъ тонкимъ умомъ и чувств«'
165
дельностью самой раздражительной, едва ли не отказала
имъ въ чувствѣ изящнаго... etc“. А. ГІ. Кернъ въ своихъ вос
поминаніяхъ (Л. Майковъ. Пушкинъ) говоритъ, что Пушкинъ
былъ „невысокаго мнѣнія о женщинахъ“.
Къ такимъ, проходяшимъ черезъ все творчество и всю
жизнь Пушкина идеямъ относятся, напр.: идея просвѣтлѣнія
черезъ страданія, тихой радости на днѣ скорби, — воспоми
нанія дѣтства, какъ основа жизни и отсюда неколебимая
вѣрность мѣсту, гдѣ протекло дѣтство, друзьямъ дѣтства и
отрочества — связь эротической любви съ религіознымъ со
знаніемъ — особая значительность осени, какъ космическаго
состоянія, близкаго трагизму человѣческой жизни — указан
ная уже выше связь поэтическаго творчества съ мыслью,
познаніемъ, чтеніемъ мудрецовъ — безплодіе прошлыхъ на
слажденій и нарастаніе въ теченіе жизни печали—ничтожество
славы и религіозное призваніе поэта—мотивъ покаянія и нрав
ственнаго очищенія — мотивъ „благоволенія“ къ людямъ —
и многое другое. (Въ этомъ примѣрномъ перечнѣ мы созна
тельно не упоминаемъ болѣе общеизвѣстныхъ мотивовъ,
какъ идея самоцѣнности поэзіи, презрѣніе къ толпѣ, любовь
къ простотѣ сельскаго быта, культъ героевъ и творцовъ и
т. п.).
Подводя итоги, можно сказать: тема „Пушкинъ — мыс
литель и мудрецъ“, — иначе говоря, тема „жизненная муд
рость Пушкина“, какъ она выражена въ его размышленіяхъ
о закономѣрностяхъ въ личной духовной жизни человѣка —
можетъ и должна быть разработана, прежде всего, въ отвле
ченіи отъ поэтической формы его творчества. Изъ совокуп
ности литературныхъ произведеній Пушкина, его писемъ и
біографическихъ матеріаловъ о немъ можетъ и долженъ
быть извлеченъ чисто „прозаическій“ осадокъ его мыслей.-,
„умственное хозяйство“ Пушкина должно быть, наконецъ,
инвентаризовано и систематизировано. Въ существующей
критической литературѣ о Пушкинѣ можно, конечно, найти
иногда очень цѣнный подготовительный матеріалъ для этой
задачи (напоминаемъ снова здѣсь о классической статьѣ Ме
режковскаго). Но все, доселѣ сдѣланное, носитъ, во-перныхѣ, характеръ первыхъ дилетантскихъ, не методическихъ,
не претендующихъ на полноту набросковъ и aperçus, къ тоМУ же обычно соединяющихъ указанную нами задачу съ соввршенно иной задачей эстетической критики и, во вторыхъ,
®се же безмѣрно мало по сравненію съ полнотой содержапушкинской мудрости (къ другому методологическому
де^ екту большинства этихъ попытокъ мы еще вернемся).
Несмотря на почти необозримое обиліе литературы „пушки
новѣдѣнія“ не сдѣланы даже необходимыя подготовитель
ныя работы: не существуетъ полнаго собранія устныхъ вы
сказываній Пушкина (по образцу, напр. „Gespräche mit Goethe“
166
Biederman’a)’); не существуетъ даже собранія „афоризмовъ
*
Пушкина.
11.
Но, конечно, мы далеки отъ мысли, что такимъ осад
комъ отвлеченно выраженныхъ мыслей Пушкина исчерпы
вается его духовный міръ Если бы это было такъ, Пушкинъ
не былъ бы поэтомъ. Поэтому наряду съ указанной выше
задачей сохраняетъ свое значеніе и задача изслѣдованія цѣ
лостнаго духа аоэта Пушкина. Познаніе этого цѣлостнаго
духа одно лишь въ состояніи дать намъ адэкватное пред
ставленіе о духовномъ мірѣ Пушкина, о конкретной полно
тѣ и „стилѣ“ его „мудрости“. Эта задача собственно и есть
задача до конца осознавшей свое назначеніе эстетической
критики. Съ перваго взгляда могло бы показаться, что въ
этомъ отношеніи въ русской критической литературѣ о Пуш
кинѣ сдѣлано уже — если не достаточно, то во всякомъ слу
чаѣ много. Не даромъ же литературная критика втеченіе
всего 19 го вѣка и отчасти до нашего времени была излюб
ленной и господствующей формой русской мысли вообще.
Мы отнюдь не склонны огуломъ отвергать эту литературу и
относиться къ ней съ пренебреженіемъ. У Кирѣевскаго, Бѣ
линскаго, Аполлона Григорьева, Страхова, Вл. Соловьева,
Мережковскаго есть много цѣнныхъ мыслей о поэзіи Пуш
кина. Мы не можемъ, однако, теперь съ другой стороны не
признать, что русская литературная критика, на низкій уро
вень которой въ свое время такъ горько жаловался самъ
Пушкинъ, даже у лучшихъ своихъ представителей всегда
была въ томъ или другомъ направленіи тенденціозна, стра
дала предвзятостью въ своихъ методическихъ предпосыл
кахъ, въ пониманіи своего назначенія. Преобладающее на
правленіе искало, вопреки ясному указанію самого Пушкина,
въ его поэзіи „тенденыю“, „нравоученіе“, игнорируя поэти
ческую форму и, тѣмъ самымъ, подлинный поэтическій
смыслъ его твореній (даже критика Вл. Соловьева, напр., на
нашъ нынѣшній вкусъ страдаетъ явнымъ раціонализмомъ и
утилитаризмомъ). Противоположное направленіе восхищалось
Пушкинымъ, какъ „чистымъ поэтомъ“, т. е. ограничивалось
эстетической въ узкомъ смыслгъ оцѣнкой формы его поэзіи
въ ея отвлеченіи отъ содержанія и отъ цѣлостнаго духов*) „Разговоры Пушкина", собранные С. Гессеномъ и Л, Модзалевскимъ (М, 1929), преслѣдуютъ совсѣмъ иную цѣль и совершенно не Удо
влетворяютъ указанному назначенію.
167
наго міра ея творца, къ тому же часто исчерпывалось чисто
диллетантскимъ изъясненіемъ своего преклоненія передъ со
вершенствомъ формы. Въ послѣднее время оно смѣнилось
серьезнымъ „формалистическимъ направленіемъ, давшимъ
уже цѣнные итоги тонкаго и солиднаго изученія формы по
эзіи Пушкина. Но это формалистическое направленіе раздѣ
ляетъ съ прежнимъ дилетантскимъ эстетизмомъ убѣжденіе
въ несущественности “содержанія“ поэзіи вообще и пушкин
ской поэзіи въ частности и потому совсѣмъ не занимается
изученіемъ формы поэзіи Пушкина въ ея значеніи для поз
нанія его духовнаго міра. Одинъ изъ самыхъ заслуженныхъ
представителей этого формалистическаго направленія не такъ
давно высказалъ утвержденіе, которое мы не можемъ наз
вать иначе, какъ чудовищнымъ, что, со стороны содержа
нія, отвлеченнаго отъ формы, поэзія Пушкина вообще не мо
жетъ быть познана и не отличается отъ поэзіи Надсона. Его
собственная попытка опредѣлить своеобразіе духовнаго міра
Пушкина черезъ анализъ поэтической формы свелась къ,
можетъ быть, вѣрному, но явно ничтожному результату: къ
открытію „динамизма“ образовъ Пушкина1).
Ясно, что въ литературной критикѣ о Пушкинѣ что то
основное доселѣ не въ порядкѣ. Это основное есть пони
маніе подлиннаго отношенія между „формой“ и „содержа
ніемъ“ поэзіи, на которомъ одномъ лишь можетъ быть ос
новано раскрытіе цѣлостного духовнаго міра поэта. Мы дол
жны поэтому здѣсь вкратцѣ остановиться на этомъ общемъ
вопросѣ 2)
Обычно представляютъ себѣ дѣло такъ, что поэтиче
ское произведеніе имѣетъ „содержаніе“—мысли, тему, сю
жеты, въ немъ выражаемыя— и „форму“, въ которой это
содержаніе выдержано—образы, слова, звуки, ритмъ и пр.;
и споръ какъ будто сводится къ тому, который изъ этихъ
двухъ элементовъ поэзіи имѣетъ въ ней болѣе существен
ное или единственно существенное значеніе. Однако всякій
эстетически воспріимчивый человѣкъ непосредственно ощу
щаетъ, что такая постановка вопроса по меньшей мѣрѣ чрез
вычайно топорна, неадэкватна самому существу поэзіи (какъ
и искусства вообще). (Сознаетъ это въ извѣстной мѣрѣ и
господствующій нынѣ „формализмъ“, хотя и не дѣлаетъ от
сюда всѣхъ надлежащихъ выводовъ). Всякое поэтическое
твореніе выражаетъ нѣкоторое цѣлостное міросознаніе или
!) П. Бицилли. Этюды о русской поэзіи. Прага 1925.
’) Въ дальнѣйшемъ мы отчасти используемъ мысли, уже высказан
ныя намъ въ статьѣ „Космическое чувство въ лирикѣ Тютчева" (С. Франкъ,
Живое знаніе. Берлинъ 1923).
168
жизнечувствіе, которое изливается изъ души поэта и воспри
нимается нами, какъ органическое цѣлое, какъ неразъедини
мое единство воспріятія реальности въ мысляхъ, образахъ
и чувствахъ съ словами, ритмикой, созвучьями. Что и какъ
поэтическаго творчества, его тема и его стиль лишь въ
своемъ единствѣ образуетъ его „сущность“, его „идею“ или
„смыслъ“. Этотъ конкретный „смыслъ“ поэтическаго творе
нія поэтому не можетъ быть адэкватно выраженъ въ отвле
ченіи отъ „формы“, въ „прозаическомъ“ выраженіи его „со
держанія“ въ системѣ отвлеченныхъ мыслей. Въ этомъ от
ношеніи „формалисты“, конечно, совершенно правы. Но
этимъ соотношеніе отнюдь не исчерпывается. Нераздѣли
мость „содержанія“ и „формы“ означаетъ не только то, что
оба элемента лишь совмѣстно образуютъ сущность или
смыслъ поэтическаго творенія. Она означаетъ, что обѣ эти
категоріи связаны между собой настолько интимно, что вза
имно пронизываютъ одна другую; гармонія между „содер
жаніемъ“ и „стилемъ“ художественнаго произведенія и ихъ
нераздѣльное единство состоитъ въ томъ, что въ истинно
художественномъ твореніи все сразу есть и „стиль“, и „со
держаніе“. „Стиль“ художественнаго творенія, его „какъ“—
напр. въ поэзіи отвлеченно невыразимые оттѣнки впечатлѣ
ній, данныя въ подборѣ словъ, ритмикѣ, созвучіяхъ—само
принадлежитъ къ смыслу творенія, къ тому, что оно хо
четъ сказать Но, съ другой стороны, „что" поэтическаго
творенія, то, что въ узкомъ смыслѣ противопоставляется его
формѣ, какъ „содержаніе“ —его тема, мысли, воспріятія ре
альности—должно быть такъ подобрано и соединено, чтобы
давать впечатлѣніе нѣкого „какъ“—чтобы имѣть стиль или,
точнѣе, чтобы само бытъ стилемъ.
Другими словами: само различеніе между „содержа
ніемъ“ и „формой“, въ сущности, неадэкватно су
ществу художественнаго произведенія. Это различеніе мо
жетъ имѣть отчетливый смыслъ только въ отношеніи про
заическаго сознанія. Въ научномъ произведеніи, напр., можно
осмысленно и отчетливо различать между его содержаніемъ
—отчетомъобъ егоизвѣстномъобъективномъ, предметномъ со
ставѣ — и его словесной формой. И это сужденіе мо
жетъ быть обращено: всюду, гдѣ такое различеніе возможно,
мы уже не имѣемъ дѣла съ художественнымъ твореніемъ.
Это основано, въ конечномъ счетѣ, на томъ, что художе
ственное твореніе не имѣетъ предмета внѣ себя, на которое
оно направлялось бы и которое оно должно было бы опи
сать. Художественное твореніе есть не выраженіе внѣшней
реальное іи въ комплексѣ мыслей о ней, а самооткровеніе
нѣкой цѣ лостной реальности, которое возвышается надъ про
тивоположностью между познающимъ субъектомъ и позна
ваемымъ объектомъ. Имѣетъ ли оно своей ближайшей види-
169
мой задачей выраженіе чувствъ и настроеній поэта, или опи
саніе внѣшняго міра,—его истинное существо есть всегда
откровеніе духовнаго міра. Поэтому его смыслъ конечно,
нельзя не только исчерпать, но даже вобще уловить въ его
т. наз. „содержаніи“, т. е. въ совокупности „прозаическихъ“,
холодныхъ мыслей объ объективной реальности (что отнюдь
не противорѣчитъ указанной выше задачѣ извлечь изъ него
осадокъ этихъ мыслей); но, съ другой стороны, его также
нельзя уловить и въ его т. наз. „чистой формѣ“, въ субъ
ективно-эмоціональныхъ формахъ реагированія поэта на бы
тіе и обработки въ его изображеніи. Если можно, по авто
ритетному свидѣтельству Пушкина, различать въ поэтиче
скомъ вдохновеніи между „мыслями“, которыя „въ головѣ
волнуются отважно“, и „рифмами“, которыя „легко навстрѣчу
имъ бѣгутъ“, то то и другое вѣдь, по его же изображенію,
лишь плодъ, итогъ „лирическаго волненія“ души, которое
„изливается свободнымъ проявленіемъ“; и „душа“ означаетъ
здѣсь не психологическій субъектъ, а духовный міръ, раскры
вающійся въ его глубинахъ.
Поэтому истинный предметъ литературной критики,
эстетическаго разбора поэтическаго произведенія, есть не
отвлеченное „содержаніе“, тема, мысль его, но и не „чистая“,
внѣшняя его форма, а то, что можно было бы назвать его
формосодержаніемъ, какъ цѣлостнымъ выраженіемъ духов
наго міра, живого знанія поэта или—что то же самое—осоз
нанной имъ жизни. Приведемъ лишь два примѣра изъ пуш
кинской поэзіи. Образъ „Мѣднаго Всадника“, неподвижнаго,
застывшаго воплощенія творческаго порыва (порыва направ
леннаго въ свою очередь на то, чтобы „надъ самой бездной“
»Россію вздернуть на дыбы“), и образъ бушующей Невы,
заключенной въ „береговой гранитъ“, и вся тема поэмы—
сверхчеловѣчески-суровая воля „чудотворнаго строителя“,
создавшаго на мѣстѣ „топи блатъ“ „громады стройныя“
дворцовъ и башень, и столкновеніе этой воли и съ непобѣ
димымъ буйствомъ „божіей стихіи“, и съ неутолимой тоской
человѣческаго сердца по простому счастію,—и наконецъ, не
изъяснимый колоритъ самыхъ словъ поэмы, въ которыхъ
гранитная твердость сочетается съ бушеваніемъ стихій— все
вміъсгшъ есть смыслъ поэмы „Мѣдный Всадникъ“. И этотъ
смыслъ не есть какая либо „мысль", „идея“—ни политиче
ская (вродѣ напр. „славянофильства“ или „западничества“),
ни моральная, а есть откровеніе имманентной, трагедіи ду°внаго міра — неразрывнаго единства въ ней стихійной не
обузданности и творчески формирующей воли,—трагедіи, какъ
она конкретно воплощена въ стихіи Петербурга и его творца.
Другой примѣръ (заимствуемъ его изъ тонкаго указанія Ме
режковскаго въ его неразъ уже поминавшейся статьѣ о Пущ
инѣ въ „Вѣчныхъ Спутникахъ“): извѣстныя всякому рус
170
скому ребенку, дѣтскія по своей простотѣ и непритязатель
ности стихи о беззаботности „птички Божіей“ —и въ мысли,
и въ подборѣ словъ, и въ ритмикѣ, и въ краткости стиха—
сразу и нераздѣльно выражаютъ евангельское или франци
сканское религіозное жизнечувствіе беззаботности, свободы
и довѣрія къ Творцу; и это жизнечувствіе не есть ни „мысль“,
ни „субъективное настроеніе“, ни мастерски выдержанный
„стиль“, а есть все это вмѣстѣ—и потому какъ бы мгно
венное откровеніе глубочайшей религіозной основы мірового
и человѣческаго бытія.
Истинная поэзія—а, стало быть, поэзія Пушкина—всегда
символична. Чтобы быть символичной, поэзіи нѣтъ никакой
надобности въ мудреномъ, замысловатомъ, нарочитомъ „сим
волизмѣ“. Напротивъ, чѣмъ она проще и менѣе притяза
тельна, чѣмъ болѣе наивно она описываетъ самое простое,
эмпирическую дѣйствительность міра или личный душевный
опытъ поэта—тѣмъ болѣе эффективна невыразимая магія
искусства, превращающая простыя, общеизвѣстныя явленія
въ символы глубочайшихъ новыхъ откровеній, и тѣмъ пол
нѣе и убѣдительнѣе символическій смыслъ поэтическаго тво
ренія. Такого рода неумышленный, геніально-наивный симво
лизмъ присущъ поэзіи Пушкина,—и, можетъ быть, не было
на свѣтѣ поэта, который въ этомъ отношеніи превосходилъ
бы Пушкина или равнялся ему. Какъ ему нѣтъ надобности
„искать вдохновенія“ („искать вдохновенія всегда казалось
мнѣ смѣшной и нелѣпой причудой“—говоритъ онъ), такъ ему
нѣтъ надобности самому задумываться надъ „смысломъ“ сво
его творенія („вотъ на! Цѣль поэзіи—поэзія“). Онъ не ищетъ
и не даетъ „міросозерцанія“: онъ занятъ въ поэзіи простымъ
міронаблюденіемъ или простой исповѣдью своей духовной
жизни; онъ есть чистое „эхо“ мірового бытія, внѣшняго и
внутренняго. Но такъ какъ это есть откликъ поэтическій,
то простое описаніе и простое признаніе становится мудрымъ
откровеніемъ.
Отсюда ясно, что приведенныя выше общія соображе
нія объ отношеніи между „формой“ и „содержаніемъ“ и о
„смыслѣ“, который можно и нужно искать въ поэзіи, имѣютъ
особо существенное значеніе именно въ отношеніи поэ-іи
Пушкина. Въ отношеніи поэтовъ меньшей силы и полноты
намѣченная выше проблематика соотношенія между формой
и содержаніемъ практически не столь существенна. Поэты,
такъ сказать, односторонніе имѣютъ свою тему, которую—
при всѣхъ оговоркахъ о неразрывности и взаимопронизанности формы и содержанія—не трудно все же непосред
ственно уловить. Не распространяясь здѣсь с бъ индивиду
альной тематикѣ отдѣльныхъ поэтовъ, укажемъ лишь на два
общихъ типа поэтовъ субъективныхъ и объективныхъ-, у пер
выхъ (въ русской литературѣ, напр., у Лермонтова, Блока и
171
Есенина) поэзія есть преимущественно исповѣданіе личныхъ
душевныхъ переживаніи поэта, у послѣднихъ (напр. Бора
тынскаго и Тютчева) - раскрытіе объективныхъ тайнъ бытія
(то и другое, конечно, имѣетъ силу лишь cum grano salis,
именно съ оговоркой „преимущественно“, такъ какъ въ ос
новѣ всякой поэзіи всегда есть единство переживанія и вѣ
дѣнія, единство субъективнаго и объективнаго). Лермонтовъ,
напр., обладая могучимъ даромъ поэтическаго слова, умѣетъ
выразить свою тоску, свой трагизмъ, и заразить ими чита
теля—но настолько ’субъективенъ, что въ сущности не въ
силахъ повѣдать намъ (и самому себѣ), чѣмъ собственно и
отчего онъ страдаетъ. Блокъ пытается это сдѣлать въ му
дреныхъ замысловатыхъ идеяхъ, но тоже остается безпо
мощнымъ. Тѣмъ легче читателю и эстетическому критику
уловить „содержаніе“ ихъ поэзіи, которое есть чистое „на
строеніе“. Еще легче это сдѣлать въ отношеніи другого ти
па поэтовъ—поэтовъ „объективныхъ“. Боратынскій и Тют
чевъ суть поэты-философы, каждый на свой ладъ, и не
трудно воспроизвести ихъ „міросозерцаніе“, ихъ „философ
скую систему“ — пессимистическую философію безсмыслія
жизни и обреченности человѣческаго духа у Боратынскаго,
и дуалистически-пантеистическую натурфилософію борьбы
между хаосомъ и свѣтомъ, страстями и Христомъ, у Тютчева.
Уже нѣсколько болѣе проблематичной была бы характери
стика въ этомъ отношеніи Фета: лирика его, по существу
прежде всего чисто субъективная, вмѣстѣ съ тѣмъ „фило
софична“, сосредоточивалась на томъ неизъяснимомъ, пер
вичномъ слоѣ переживаній, который находится какъ бы на
порогѣ между субъективнымъ настроеніемъ и объективнымъ
воспріятіемъ, въ таинственной первобытной сферѣ, предше
ствующей этой дифференціаціи.
Совсѣмъ иное дѣло—Пушкинъ. Будучи чистымъ поэтомъ,
абсолютнымъ образцомъ поэтической натуры (по вѣрному,
но обычно ложно понимаемому опредѣленію, которое впер
вые далъ Гоголь), онъ не „философъ“ и не поэтъ своихъ
„настроеній“. Онъ всегда и во всемъ—наивный мудрецъ—вѣ
датель жизни. Его познаніе объективнаго бытія никогда не
стремится открыть тайную основу реальности, „вещь въ себѣ“
позади явленій; оно всегда имманентно явленіямъ жизни,
просто ихъ воспроизводитъ, но именно поэтому, рисуя пол
новѣснымъ словомъ картину жизни, пронизываетъ ее соками
духовной жизни и открываетъ конкретное существо явленій
полнѣе и глубже всякаго философа. И его исповѣданіе лич
ной жизни и судьбы никогда не есть простое субъективное
признаніе, какъ бы престо словесный вздохъ или возгласъ,
а всегда преображено мудростью, слито съ познаніемъ объ
ективной закономѣрности жизни, выступаетъ, какъ пластич
ный образъ гѣкаго отрѣзка или нѣкой стороны общечело
172
вѣческаго духовнаго бытія (отсюда—тотъ, уже отмѣченный
выше фактъ, что глубокій трагизмъ и пессимизмъ Пушкин
скаго жизнечувствія, пронизывающій всю его поэзію, не за
ражаетъ средняго читателя такъ непосредственно, какъ при
знанія субъективныхъ поэтовъ, и часто совсѣмъ не замѣ
чается).
Сказаннымъ уясняется особая трудность — но и особая
важность—познанія „мудрости Пушкина“ въ ея адэкватномъ
и полномъ, именно поэтическомъ существѣ. Она, какъ ука
зано, никогда не есть ни только субъективное настроеніе,
ни только объективная теорія бытія. Она, въ качествѣ истин
ной, совершенной поэзіи, есть откровеніе бытія — сама ре
альность, обрѣтшая голосъ и повѣствующая о самой себѣ.
Она есть то послѣднее живое знаніе или знаніе-жизнь, въ
которомъ не субъективное сознаніе данной личности что нибудь знаетъ и сообщаетъ намъ о жизни, а сама жизнь въ
стихіи слова сознаетъ себя и являетъ намъ себя осознанной
и опознанной. Это живое вѣдѣніе или, вѣрнѣе, эта самопоз
навшая себя жизнь не исчерпывается никакими „мыслями“,
или „идеями“. Ея идеальное содержаніе выразимо лишь въ
комплексѣ противоборствующихъ и взаимно уравновѣшиваю
щихъ другъ друга идей—есть „соединеніе противоборству
ющаго и гармонія разнороднаго“, какъ опредѣлялъ самое
жизнь древній Гераклитъ. Но, будучи реальностью, она не
исчерпывается и этой полнотой своего идеальнаго „содержа
нія“-, она не есіь даже самая сложная и полная „система“1).
Будучи реальностью, она вообще не есть идея или ком
плексъ идей, а есть конкретность жизни; она живетъ, пи
таясь стихіей слова, этого откровенія духовной жизни.
Осмыслена ли, постигнута ли поэзія Пушкина въ этомъ
своемъ идеально реальномъ, мыслительно-жизненномъ суще
ствѣ? Повторяемъ: не будетъ пренебреженіемъ къ заслугамъ
многихъ почтенныхъ критиковъ и истолкователей признаніе,
что въ этомъ отношеніи мы имѣемъ лишь первыя, несовер
шенныя попытки. Изслѣдователи идейнаго содержанія, мы
слей поэзіи Пушкина должны понять, что здѣсь дѣло идетъ
о чемъ то большемъ, чѣмь мысли и идеи, что даже самая
богатая система идей есть—такъ же, какъ въ отношеніи ре
лигіи—лишь схематическая, упрощающая и какъ бы замора
живающая, сковывающая жизнь транскрипція живого духа
этой поэзіи. И изслѣдователи формы, словъ и звуковъ по
эзіи Пушкина должны понять, что по собственному призна
нію поэта, онъ дорожитъ не „одними звуками“, что тщатель’) Что получается при попыткѣ .мудрость Пушкина* изложить, какъ
„систему міросозерцанія* —устрашающій примѣръ тому далъ Гершензонъ
въ своей упомянутой статьѣ .Мудрость Пушкина*.
173
ное, утонченное изученіе формы есть постиженіе полно
вѣсной тайны слова, какъ откровенія духовной жизни, какъ
раскрытія, въ глубинѣ духа, самой реальности жизни. Свое
образіе и прелесть поэтическаго языка Пушкина есть свое
образіе и прелесть его духовнаго міра. ^Достаточно вспом
нить хотя бы о великомъ показательномъ значеніи иросшошы
его рѣчи!).
Одинъ примѣръ вмѣсто возможнаго ихъ безчисленнаго
множества! Въ одномъ стихотворномъ отрывкѣ Пушкинъ
выражаетъ требованіе, чтобы его душа всегда была „чисша,
печальна и покойна11. Какая магія мысли и жизни заключена
въ этихъ трелъ простыхъ, легко произносимыхъ словахъ,
связанныхъ между собой какимъ то успокоительно-медли
тельнымъ ритмомъ! Со стороны идейнаго содержанія это
есть идеальный образецъ глубочайшей, просто и адэкватно
выраженной мудрости, стоющей многихъ томовъ философ
скихъ трактатовъ по этикѣ. Въ поэзіи Пушкина сюда при
мыкаетъ и „свѣтлая печаль“ любящей и горящей души въ
элегіи „На холмахъ Грузіи“, и ласковое утѣшеніе „не пе
чалься, не сердись... все мгновенно, все пройдетъ,—что прой
детъ, то будетъ мило“, и вѣра въ тихое наслажденіе среди
жизни, подверженной „труду и горю“ и посвященной мысли
и страданію (элегія „Безумныхъ лѣтъ...“), и мудрый, чистый,
непритязательный, русско-христіанскій аскетизмъ разбитаго
сердца Тани (заключительная сцена Онѣгина), и преображеніе
мятежной любви въ умиленную безкорыстную нѣжность („Я
васъ любилъ“ и „Каковъ я прежде былъ...“), и умиротво
ряющая ласка вѣтерка послѣ промчавшейся бури („Туча“,
„Аквилонъ“)—и многое другое. Въ прозѣ и автобіографиче
скихъ свидѣтельствахъ Пушкина сюда же относятся, напр.,
мысли о евангеліи и о христіанскомъ идеалѣ въ рецензіи на
книгу Сильвіо Пеллико, и афоризмъ „нѣтъ истины, гдѣ нѣтъ
любви“ (А. Радищевъ), и тихая мудрость извѣстнаго письма
къ Плетневу („вздоръ, душа моя; не хандри... — были бы мы
живы, когда нибудь будемъ и веселы“) и т. п. Но это есть
не только этическая мысль и не только исповѣдь о настро
еніи. Будучи тѣмъ и другимъ сразу, оформленныя ритмомъ
и гармоніей звуковъ, эти три слова суть сама живая реаль
ность, самообнаруженіе нѣкой глубочайшей первоосновы духа,
откровеніе общечеловѣческой духовной реальности,въ которой,
какъ въ зернѣ, заключена и вся трагическая судьба, и вся
творчески-очищающая сила человѣческаго духа.
Этого одного примѣра, быть можетъ, достаточно, что
бы дать почувствовать читателю, какъ много живой муд
рости и мудрой жизни заключено въ поэзіи Пушкина, и
какъ относительно мало еще сдѣлано въ ея познаніи.
174
III.
Съ развитымъ выше тѣсно связана еще одна сторона
поэтическаго духовнаго міра Пушкина, уясненіе которой ме
тодологически чрезвычайно существенно для всякаго опыта
познанія его живой мудрости. Мы имѣемъ въ виду общеиз
вѣстный универсализмъ пушкинскаго духа и его поэзіи. Подъ
универсализмомъ мы разумѣемъ не только и не столько фор
мально-художественный универсализмъ, о которомъ говорилъ
Достоевскій — способность перевоплощенія, сочувственнаго
воспріятія чужихъ и прошедшихъ культуръ. Универсализмъ
этото рода, конечно, тоже присущъ поэзіи Пушкина, однако,
думается, совсѣмъ не такъ характеренъ для нея, какъ это
пытается доказать Достоевскій. А главное: утвержденіе уни
версализма въ эшомъ смыслѣ либо опять возвращаетъ насъ
къ ложному представленію о „чистомъ“ поэтѣ, лишенномъ
собственнаго оформленнаго содержанія и именно потому
способнаго „перевоплощаться“ во всякія формы, либо же
само предполагаетъ признаніе внутренняго, существеннаго
универсализма духовнаго міра самого Пушкина. Лишь уни
версализмъ въ этомъ послѣднемъ смыслѣ мы имѣемъ здѣсь
въ виду,—почти безграничную широшу его духа. Кому недо
статочно въ этомъ отношеніи свидѣтельства поэзіи Пушкина,
имѣетъ свидѣтельства біографическія: „Пушкинъ ...выше
всего ставилъ въ человѣкѣ качество благоволенія ко всѣмъ“
(Плетневъ); „натура Пушкина болѣе была открыта къ со
чувствіямъ нежели къ отвращеніямъ; въ немъ было болѣе
любви, нежели негодованія“ (Вяземскій). „Пушкинъ мнѣ го
ворилъ: „у всякаго есть умъ, мнѣ не скучно ни съ кѣмъ,
начиная съ будочника и до Царя“ (А. Смирнова по записи
Я. Полонскаго). Это качество благоволенія и сочувствія вы
текаетъ изъ широты его духа, изъ факта, что его духъ дѣй
ствительно (а не только формально-художественно) охваты
ваетъ всю неизмѣримую сферу человѣческой духовности, что
ему по истинѣ не чуждо ничто человѣческое Поэтому онъ
по своему существу въ глубочайшемъ смыслѣ слова сверх
партіенъ; онъ не замыкается ни въ какомъ „міросозерцаніи“,
ни въ какомъ духовномъ направленіи, ни въ какой односто
ронней теоріи. Онъ могъ бы повторить слова Гёте, что ре
альность укладывается въ любую теорію лишь на тотъ ладъ,
на какой живое тѣло подходитъ ко всякому кресту, на ко
торомъ оно распинается. „Мысль отдѣльно никогда ничего
новаго не представляетъ; мысли же могутъ быть разнооб
разны до безконечности“ (рецензія на книгу Сильвіо Пеллико).
При чтеніи Пушкина мы имѣемъ всегда впечатлѣніе какой
то безконечной широты духовнаго горизонта. Душа его ра
скрыта для всего—для радостей жизни и для мрачнаго уны
175
нія и тоски, для гармоніи и для дисгармоніи въ жизни, для
дикихъ, безумныхъ страстей и мудраго стоическаго спокой
ствія, для одиночества и для общенія, для аристократиче
ское утонченности и для простоты народной жизни, для эпи
куреизма и жертвеннаго героизма, для квіетизма и для твор
ческой энергіи, для гордости и для смиренія, для непреклон
наго отстаиванія свободы и для мудраго пониманія смысла
власти и подчиненія. Послѣ декабрьскаго возстанія, онъ
шлетъ привѣтъ всѣмъ своимъ друзьямъ — и тѣмъ, кто про
водитъ жизнь „на службѣ царской“, въ „пирахъ разгульной
дружбы“ и въ „сладкихъ таинствахъ любви“, и тѣмъ, чья
жи;нь проходитъ „въ буряхъ и въ житейскомъ горѣ“ и кто
толпится „въ мрачныхъ пропастяхъ земли“. По поводу того
же событія онъ пишетъ Дельвигу: „Не будемъ ни суевѣрны,
ни односторонний, какъ францускіе трагики; но взглянемъ
на трагедію взглядомъ Шекспира“.
Такъ какъ мысль Пушкина всегда предметна, направ
лена на всю полноту и цѣлостность бытія и жизни — болѣе
того, есть, какъ указано, какъ бы самооткровеніе самой кон
кретной жизни, то его жизненная мудрость построена на
принципѣ совпаденія противоположностей (coincidentia орроsitorum), единства разнородныхъ и противоборствующихъ
потенцій бытія. Поэтому всѣ попытки приписать Пушкину
какое либо однозначное, отвлеченно-опредѣленное отноше
ніе къ проблемамъ жизни, отыскать у него „міросозерцаніе“,
основанное на какомъ либо одномъ принципѣ, заранѣе без
надежны и методологически превратны. Эти попытки по
стоянно повторяются въ литературѣ о Пушкинѣ: даже такой
человѣкъ, какъ Достоевскій, не удержался отъ соблазна —
какъ ядовито замѣчаетъ Конст. Леонтьевъ—„превратить ге
роическаго, чувственнаго, языческаго Пушкина въ смирен
наго христіанина“ (причемъ не нужно забывать, что эта про
тивоположная характеристика Леонтьева такъ же односто
роння).
Въ этомъ заключается одна изъ основныхъ методоло
гическихъ трудностей въ истолкованіи—и даже въ простомъ
воспріятіи—духовнаго міра Пушкина. Средній русскій чита
тель—не говоря уже объ иностранцахъ, для которыхъ не
только Достоевскій, но и Максимъ Горькій „интереснѣе“
Пушкина — склоненъ прилагать къ Пушкину французскую
поговорку: qui trop embrasse, mal étreint. Кто даетъ все, тотъ,
какъ будто, не даетъ ничего опредѣленнаго. Его духовный
М1РЪ становится расплывчатымъ и неопредѣленнымъ; онъ
кажется безличнымъ, какъ эхо, которому самъ Пушкинъ уполооляетъ поэта, какъ безразличный, индивидуально неофор
мленный сочувственный откликъ на все существующее.
Въ дѣйствительности, однако, духовный міръ Пушкина,
несмотря на его изумительную широту и универсализмъ, все
176
же есть вполнѣ опредѣленная, строго оформленная реаль
ность; своеобразный „духъ Пушкина“ незримо, но ощути
тельно вѣетъ во всѣхъ его твореніяхъ и мысляхъ какъ и въ
его языкѣ. Достаточно ощутить невыразимое своеобразіе
русской стихіи, разлитой въ его поэзіи, достаточно почув
ствовать, съ другой стороны, явное отличіе этого духа отъ
духа Гоголя, Лермонтова, Достоевскаго и Толстого, чтобы
имѣть хотя и неопредѣленное, но ясное сознаніе строго
оформленнаго, индивидуальнаго своеобразія духовнаго міра
Пушкина. Безконечно сложная и богатая гармонія этого міра
составлена все же изъ опредѣленнаго сочетанія въ ней опре
дѣленныхъ господствующихъ мотивовъ. Этотъ духъ есть
огромный лабиринтъ, въ которомъ легко заплутаться и ко
торый кажется необъятнымъ и неупорядоченнымъ — такъ
много въ немъ комнатъ и переходовъ—, но который все же
построенъ по опредѣленному стройному плану.
Духовный міръ Пушкина многослоенъ; онъ слагается изъ
цѣлаго ряда отдѣльныхъ слоевъ духовности, которые рас
полагаются въ порядкѣ ихъ относительной глубины — отъ
поверхности духовной жизни въ глубь. Каждый изъ этихъ
слоевъ самъ по себѣ уже, конечно, содержитъ многообра
зіе различныхъ моментовъ. Изъ качественнаго состава от
дѣльныхъ слоевъ и ихъ расположенія по вертикальному из
мѣренію вглубь и, тѣмъ самымъ изъ ихъ іерархическаго
строя слагается качественная общая опредѣленность этого
безконечно богатаго духовнаго міра. Познаніе его должно
поэтому вестись въ порядкѣ фиксированія и опредѣленія от
дѣльныхъ его слоевъ и затѣмъ состоять въ усмотрѣніи
единства и общей структуры цѣлаго. Намѣтивъ здѣсь
вкратцѣ—опять таки только въ видѣ программатически-примѣрной схемы, безъ притязанія на полноту и совершенную
точность, лишь для предварительной оріентировки—эти от
дѣльные слои и соотношенія между ними, попытаемся дать
какъ бы нѣкій краткій реестръ духовнаго хозяйства Пушкина,
или набросокъ „феноменальности“ пушкинскаго духа.
На поверхности, почти совпадая съ сферой физіологи
чески опредѣленной душевности (темперамента) стоитъ духовный слой, который можно обозначить общимъ именемъ
жизнерадостности. Однимъ изъ символовъ этого духовнаго
слоя является у Пушкина вино (особенно „шипучее“ —шам
панское). Этотъ слой находитъ свое выраженіе въ упоеніи
виномъ, восторгами чувственной любви, музыкой (всѣ три
начала лютерова „Wein, Weib und Gesang“ прямо отожде
ствляются въ описаніи музыки Россини въ „путешествіи Онѣ
гина“). Сюда же относится веселость Пушкина, его шутли
вость и его (по свидѣтельству Хомякова) „чарующій" смѣхъ,
сюда относится, съ другой стороны, его любезность къ лю
дямъ, простодушіе, ребячливость и дѣтская привязчивость.
177
Это есть „вѣчно дѣтское“ въ духѣ Пушкина. Этотъ слой
самъ слагается изъ двухъ противоборствующихъ началъ:
душевной гармоничности и бунтарства. Съ одной стороны—
ласковое, любовное пріятіе всего, готовность любовно идти
всему на встрѣчу, всѣмъ интересоваться и наслаждаться —
и, съ другой стороны, потребность излить избытокъ жиз
ненныхъ силъ въ буйствѣ, въ постоянномъ возстаніи противъ
всего стѣсняющаго жизнь,—анархическое умонастроеніе.
Но непосредственно подъ этимъ слоемъ лежитъ другой,
прямо ему противоположный, психологически выражающійся
въ настроеніяхъ тоски, хандры (Пушкинъ самъ называетъ
себя „хандрливымъ“), унынія и скуки. Въ силѣ и глубинѣ
этого духовного состоянія Пушкинъ (что часто упускается
изъ виду) не уступаетъ самымъ яркимъ представителямъ
тоски и унынія въ русской литературѣ и самъ сознаетъ себя
именно въ этой своей чертѣ глубоко національнымъ („отъ
ямщика до перваго поэта — мы всѣ поемъ уныло“). Какъ и
все остальное въ его духовномъ мірѣ, это не остается у него
чисто субъективнымъ настроеніемъ; въ силу его дара мысли,
оно является основой для цѣлой пессимистической философіи
жизни, которую нетрудно извлечь изъ Пушкина (не исчер
павъ этимъ, однако, его духовнаго міра). Въ этомъ песси
мизмѣ раскрывается вѣчная трагическая противоположность
между духомъ и „равнодушной природой“ (причемъ къ при
родѣ относится и безчувственная толпа, и общій укладъ со
ціальной жизни). Отсюда культъ гордаго одиночества, бѣг
ство изъ города въ деревню, и общее состояніе разрыва и
противоборства между духовной жизнью и эмпирической ре
альностью. Въ этомъ слоѣ пессимизма чисто эмпирическое
буйство темперамента, анархизмъ отъ избытка жизненныхъ
силъ, превращается въ демонизмъ, въ жажду опасности и
гибели, въ влеченіе къ безумію, въ культъ анархическаго
начала въ бытіи („вѣтру и орлу и сердцу дѣвы нѣтъ за
кона; гордись, таковъ и ты, поэтъ—и для тебя закона нѣтъ!“
-мотивъ, отмѣченный Мережковскимъ и Гершензономъ).
Отсюда—глубокое вѣдѣніе мрачныхъ демоническихъ стра
стей, въ которомъ Пушкинъ не уступаетъ Достоевскому
(Мазепа, Германъ въ „Пиковой Дамѣ“, „Скупой рыцарь“,
»Пиръ во время чумы“, „Египетскія ночи“ и пр.)
Въ этомъ слоѣ открывается впервые — въ порядкѣ
того, что Гегель называетъ „несчастнымъ“ и „разорваннымъ
сознаніемъ“ — сфера чистаго духа въ его отличіи отъ эм
пиріи жизни. Полный богатаго духовнаго содержанія пере
ходъ ведетъ отсюда въ третій слой примиряющей, по су
ществу уже религіозной духовности. Прежде всего, въ со
ставъ пессимизма входитъ и трагедія нравственнаго созна
нія — муки совѣсти, въ которыхъ открывается нравственное,
очищающее сознаніе („Борисъ Годуновъ“, „Мазепа“, „Воспо
19
178
минаніе“ и пр.). Кажется, доселѣ еще недостаточно усмо
трѣно, что въ художественномъ изображеніи нравственнаго
начала Пушкинъ не имѣетъ себѣ соперниковъ — даже въ
лицѣ Достоевскаго, у котораго чисто нравственный моментъ
духа все же поглощается отчасти сферой инстинктивныхъ
реакцій, отчасти — началомъ религіознымъ. Нравственное
страданіе — муки совѣсти — ведетъ дальше къ радости и
успокоенію нравственнаго очищенія, духовнаго катарсиса (те
ма возрожденія, очищенія отъ страстей и заблужденій, ду
ховнаго преображенія). Параллельно этому пути нравствен
наго очищенія идетъ путь черезъ моментъ духовнаго шворчесшва. Опять-таки, думается, недостаточно замѣчено, что
Пушкинъ есть единственный въ русской литературѣ поэтъ
творческаго начала духа. Этотъ моментъ творчества онъ пе
реживаетъ и изображаетъ прежде всего на примѣрѣ соб
ственнаго, поэтическаго творчества, художественнаго вдох
новенія, связаннаго съ упорнымъ трудомъ, съ напряженной
работой познающей мысли, — причемъ процессъ художе
ственнаго вдохновенія и творчества есть всегда вмѣстѣ съ
тѣмъ процессъ общаго духовнаго очищенія и облагороже
нія, преображенія — и воспринимаетъ его и въ общей фор
мѣ творчества въ широкомъ смыслѣ (образъ Петра Велика
го, чутье къ государственному и культурному творчеству!).
Эти пути ведутъ, какъ указано, въ третій, самый глу
бокій слой духовности — въ область религіознаго примире
нія и просвѣтлѣнія. Прежде всего, самый пессимизмъ Пуш
кина многослоенъ, имѣетъ множество оттѣнковъ и какъ бы
іерархическихъ ступеней, отъ мрачнаго озлобленія и безна
дежнаго унынія до спокойной стоической резиньяціи и бла
гостно мудраго аскетизма. Въ концѣ этого пути лежитъ чи
стая, простодушная благостность. О ней свидѣтельствуетъ
галлерея правдивыхъ изображеній добрыхъ, благородныхъ,
чистыхъ сердцемъ русскихъ людей (тоже—величайшая рѣд
кость въ русской литературѣ!). Но главнымъ ея выражені
емъ является сила просвѣтлѣнія, гармонизаціи, преображенія,
которою владѣетъ духъ Пушкина и которая сіяетъ въ его
твореніяхъ (въ ихъ содержаніи и формѣ). Эту силу можно
надлежащимъ образомъ понять и оцѣнить только при уче
тѣ той сферы дисгармонической, бунтующей духовности, ко
торую она преодолѣваетъ и преображаетъ (тогда какъ обыч
но „гармоничность“ Пушкина топорно противопоставляютъ
мнимо „болѣе глубокому“ трагизму другихъ великихъ пред
ставителей русскаго духа).
Въ этой сферѣ раскрывается глубокое, истинно РУС'
ско-христіанское по основнымъ своимъ чертамъ и вмѣстѣ съ
тѣмъ ярко-оригинальное религіозное начало Пушкинскаго
духа. Какъ все у Пушкина, оно отличается богатствомъ раз
нородныхъ оттѣнковъ, какъ бы догматической полнотой.
179
Его непосредственные корни лежатъ въ религіозномъ опы
тѣ, который ему даютъ поэтическое вдохновеніе, воспріятіе
красоты природы и женщины, и эротическія переживанія.
Оно объемлетъ моменты и языческой религіозности (культъ
пенатовъ, „хвалебный гимнъ Творцу міровъ“, слышимый въ
морскомъ прибоѣ, паническій трепетъ передъ устрашающей
красотой идоловъ), и ветхозавѣтной („Юдифь“, „Пѣснь пѣс
ней“), и магометанской („Подражанія Корану“ — всемогуще
ство Божіе н ничтожество „дрожащей твари“). Оно сочета
етъ чувство имманентнаго присутствія божественнаго начала
въ природѣ и человѣческой душѣ съ острымъ чувствомъ
трансцендентности, потусторонности (это сочетаніе особенно
ярко въ смѣлости эротической религіозности — ожиданіе
загробнаго „поцѣлуя свиданія“— „Заклинаніе“, „Бѣдный ры
царь"). Оно достигаетъ адэкватнаго христіанскаго своего вы
раженія въ такихъ стихахъ, какъ „Отцы пустынники“ и
,Странникъ“. И его общій и основной итогъ — благостное
примиреніе съ жизнью черезъ внутреннее преображеніе лич
ности, преображающее міръ и дающее ощутить его божест
венность — есть самое адэкватное выраженіе русскаго ре
лигіознаго духа.
Всѣ эти многообразные слои духовнаго міра Пушкина,
во всемъ богатствѣ каждаго изъ нихъ и въ ихъ сочетаніи,
подлежатъ еще обстоятельному и внимательному обслѣдо
ванію, доселѣ едва лишь начатому. Въ виду полновѣсности
пушкинскаго слова и его опредѣляющаго значенія, какъ вы
раженія полноты и глубины его духовности, это изслѣдова
ніе должно было бы также опираться и на тщательное изу
ченіе пушкинскаго словаря. Подъ послѣднимъ мы разумѣ
емъ не столько полный механическій перечень всѣхъ отдѣль
ныхъ словъ пушкинскаго языка (попытки къ которому уже
неоднократно предпринимались) — перечень, который мо
жетъ дать развѣ только съ трудомъ обозримый сырой ма
теріалъ — сколько толковый „философскій“ словарь от
дѣльныхъ, излюбленныхъ и значительныхъ по смыслу тер
миновъ пушкинскаго языка *) Сюда относятся, примѣрно,
такія слова, какъ „мятежный“, „пламя" и „пламенный“, „уны
ніе“, „умиленіе“, „благоговѣніе“, „святыня“ и т. п. Съ этой
задачей соприкасается также задача изслѣдованія символи
ческаго смысла понятій, выражающихъ воспріятія явленій
природы: „утро“, „заря“, „златые дни“, „весна“ и „осень“,
»лунный свѣтъ“, „завыванія вѣтра“, „мятель“, „море“, „гоРЬІ“ и т. п. Болѣе внимательное изученіе показало бы, что
эти понятія, будучи точнымъ, правдивымъ, непритязатель') Единственная, намъ извѣстная, попытка въ этомъ направленіи есть
т°нк й, богатый мыслями этюдъ П. Б. Струве: „Неизъяснимый" и „непо■етижимый ', въ пражскомъ „Пушкинскомъ сборникѣ* 1926.
180
нымъ описаніемъ явленій эмпиричесюго міра, одновременна
имѣютъ у Пушкина и глубокій символическій смыслъ и рас
крываютъ намъ богатство моментовъ, изъ которыхъ слага
ется его духовный міръ.
Думается, что въ нашу эпоху упадка духовной жизни,
гоненія на нее и ея кажущейся гибели нѣтъ болѣе благо
дарной и настоятельно нужной задачи, какъ заняться при
стальнымъ и непредвзятымъ изученіемъ самаго богатаго в
адэкватнаго выраженія русской духовности и ея вѣчной прав
ды въ духовномъ мірѣ, Пушкина.
И. И. Лапишнъ.
Трагическое въ произведеніяхъ Пушкина.
(Свѣтлой памяти проф. Ф. В. Тарановскаго).
Глава I.
Трагическое въ жизни и трагическое въ искус
ствѣ (Лирика)
§ 1. Трагическое въ свѣтѣ общаго міровоззрѣнія Пушкина. §2. Отноошеніе Пушкина къ міровому злу. § 3. Рокъ, «противорѣчія страстей*
и свобода воли. § 4. Отщепенство, дружба и любовь, смерть.
Глава II. Виды трагическаго у Пушкина
§ 5. Трагика невинныхъ. § 6. Трагика виновныхъ. § 7. Обаяніе зла.
Глава III. Техника Пушкинской трагедіи
§ 8. I) Отталкивающія формы 'трагики, отвергаемыя Пушкинымъ.
II) Его отношеніе къ натурализму III) и фантастикѣ въ
трагедіи. § 9. IV) Вѣщіе сны, иллюзіи и галлюцинаціи у Пушкина.
§ 10. V) Кумуляція мотивовъ. § И. VI) Совмѣщеніе трагическаго съ
комическимъ. VII) Пушкинская драма—драма характеровъ. VIII) Прин
ципъ наименьшей мѣры силъ, въ прймѣненіи къ трагедіи.
§ 12. Пушкинъ о своихъ предшественникахъ въ исторіи русской тра
гедіи. „Г о ф о л і я" и «Борисъ Годуновъ“. Пушкинъ о роман
тической трагедіи («К ромвель“ В. Гюго), Историческая ин
туиція Пушкина и изученіе источниковъ.
Глава IV. Трагедія транссцендентная и трагедія имманентная.
§ 13. Транссцендентное начало въ индійской и греческой трагедіи.
§ 14. Транссцендентное начало у Расина и Кальдерона. Морализмъ
Вольтера. § 15. Имманентная трагедія у Шекспира и Пушкина.
I.
Трагическое въ жизни и трагическое въ искусствѣ
(лирика).
Мы называемъ въ жизни трагическимъ то, что потря
сетъ насъ въ судьбѣ человѣка и человѣчества, испытывая
ужасъ или жалость при зрѣлищѣ тяжкихъ несчастій или ги-
182
бели не только великихъ людей съ благороднымъ характе
ромъ, не только среднихъ людей, какихъ такъ много на свѣтѣ,
частью добродѣтельныхъ, частью грѣшныхъ, но и преступ
никовъ, обладающихъ сильнымъ характеромъ и таящихъ въ
себѣ неосуществленныя возможности великихъ достиженій,
Тѣмъ не менѣе въ установкѣ объема понятія трагическаго
могутъ быть у людей существенныя различія, и эти разли
чія обусловлены различіями въ общемъ взглядѣ на міръ. По
добныя различія замѣчаются и у художниковъ и вносятъ су
щественныя расхожденія въ пониманіе ими трагическаго въ
искусствѣ. Возьмемъ для примѣра отношеніе къ смерти, не
къ процессу умиранія, а именно къ смерти. Сопоставьте
„Три смерти“ Л. Толстого съ „Приговоромъ“ Достоевскаго,
и вы сразу почувствуете, что трагизмъ смерти обоими ху
дожниками расцѣнивается весьма различно. Толстой съ эпи
ческимъ спокойствіемъ живописуетъ смерть дерева, мужика
и барыни, смерть барыни даже не безъ легкаго юмора; Тол
стой не вѣритъ въ личное безсмертіе и пріемлетъ міръ, въ
квторомъ нѣтъ безсмертія. Это, конечно, не мѣшаетъ ему
геніально изображать картину умиранія (Смерть Ивана Иль
ича, А. Болконскаго, Н. Левина, Хозяина), но онъ не бун
туетъ противъ Бога, какъ герой „Приговора“, который до
казываетъ, что жизнь безъ безсмертія души есть лишь „дья
воловъ водевиль“ и не утверждаетъ, что потерявшій вѣру въ
безсмертіе, чтобы быть послѣдовательнымъ, долженъ по
кончить съ собою.
Для насъ интересно уяснить себѣ отношеніе поэта къ
понятіямъ рока, случая, свободы воли, и необходимости, къ
идеямъ совѣсти, преступленія, эстетизма въ его отношеніи
къ морали и т. д. Для великаго поэта необязательно про
думанное философское міровозрѣніе, которымъ располагаетъ
мыслитель, но у него всегда имѣются извѣстные отвѣты на
основные запросы жизни. Онъ долженъ „съ высоты взи
рать на жизнь“. Его отношеніе къ міру есть въ большей
части не интеллектуальное, а эмоціональное познаніе, —„eine
Erkenntnis besonderer Art“, какъ говорилъ Шопенгауэръ, даю
щее въ цѣломъ извѣстное общее мірочувствіе— у пантеиста
и теиста, детерминиста и индетерминиста, оптимиста и пес
симиста, подобныя мірочувствія бываютъ различны.
Обращаясь къ Пушкину, прежде всего посмотримъ, какъ
онъ относится къ міровому злу. Анчаръ, антиарисъ, малай
ское древо яда, служитъ у Пушкина символомъ мірового зла.
— „Анчаръ, какъ вѣрный часовой, стоитъ одинъ во всей все
ленной“. Это древо—антиподъ древу Животворящаго Креста
Господня, которое у Кальдерона является символомъ всеспасающей вѣры въ Христа. Пушкинъ, вовсе не склоненъ при
писывать происхожденіе зла грѣху человѣка, — жертвою зла
могутъ быть совершенно невинные люди (Евангеліе отъ Луки,
183
XIII, 4). Но человѣкъ виновенъ въ томъ, что преступно ис
пользовалъ разрушительныя силы природы для братоубій
ственныхъ цѣлей. Къ духовно-академическимъ доказатель
ствамъ совершенства міра Пушкинъ относился критически.
Его очень развеселилъ однажды разсказъ И. А. Крылова объ
одномъ батюшкѣ, который въ своей проповѣди доказывалъ,
что все выходитъ совершеннымъ изъ рукъ Творца. Послѣ
проповѣди къ священнику подошелъ горбунъ и сказалъ ему:
.Батюшка, ваша проповѣдь была издѣвательствомъ надъ мо
имъ несчастьемъ, что же вы полагаете, что и я созданъ быть
совершеннымъ?“—-Священникъ не смутился и сказалъ: „Да,
и ты въ своемъ родѣ совершенный горбунъ“.
Пушкинъ относился къ проблемѣ мірового зла со всей
серьезностью, которой она заслуживаетъ По словамъ И. А.
Киреевскаго, Пушкинъ одно время такъ былъ увлеченъ ве
ликой книгой Іова, что предполагалъ учиться еврейскому
языку, чтобы почерпнуть изъ нея источники поэтическаго
вдохновенія.
Пушкина, какъ художника, отталкивало зло въ его
отвратительныхъ, уродливыхъ, кровавыхъ проявленіяхъ. Въ
его трагедіяхъ нѣтъ сценъ кровавой бойни, какія нерѣдко
встрѣчаются въ пьесахъ Расина.
„Какой отвратительный предметъ,—писалъ Пушкинъ по
поводу Мазепы, — ни одного добраго, благосклоннаго чув
ства, ни одной утѣшительной черты. Соблазнъ, вражда, из
мѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость. Сильный характеръ
и глубокая трагическая тѣнь, наброшенная га эти ужасы,—
вотъ, что увлекло меня. „Полтаву“ написалъ я въ нѣсколько
дней, долѣе не сталъ бы ею заниматься и бросилъ бы все“
(см. книгу проф. Н. А. Котляревскаго: „Пушкинъ, какъ исто
рическая личносіь", 1923, стр. 256).
Пушкина особо поражала та форма зла, которая ка
жется обаятельной, „цвѣты зла“, какъ предметъ художе
ственная изображенія. Въ разговорѣ съ Александромъ Тур
геневымъ по поводу библейскаго и байроновскаго духа тьмы
Пушкинъ замѣтилъ: „Все дѣло въ нашей душѣ, въ нашей со
вѣсти и въ обаяніи зла. Это обаяніе было бы необъяснимо,
еслибы зло не было одарено прекрасной и пріятной внѣш
ностью. Я вѣрю Библіи во всемъ, что касается Сатаны въ
сценахъ о Падшемъ Духѣ“. (См. Дареній: „Маленькія драмы
Пушкина“).
Пушкинъ весьма далекъ отъ того, чтобы взвалить вину
за міровое зло на человѣка, онъ пріемлетъ міръ, каковъ онъ
есть, со страданіемъ невинныхъ дѣтей, которое побуждаетъ
Достоевскаго — Ивана Карамазова — возвратить Богу билетъ
на право существованія. Такой моментъ возмущенія противъ
страданія невинныхъ, правда, былъ и у Пушкина въ 1827 г.,
к°гда онъ готовъ былъ по поводу подобныхъ страданій при-
184
равнять міроправителя жестокой и своевольной обезьянъ. Но
потомъ, съ 1829 года, въ міровоззрѣніи Пушкина начинаетъ
преобладать оптимизмъ, а незадолго до смерти въ беседѣ
съ Плетневымъ онъ выражалъ чувства примиренности съ
міромъ, несмотря на наличность въ немъ безсмысленнаго зла,
онъ склоненъ вѣрить въ Промыселъ, т. е. въ этическій смыслъ
исторіи, и благостно взирать на міръ. Однако, это не было
обращеніемъ въ смыслѣ рабскаго подчиненія церковному
традиціонализму, такъ какъ съ богословской догматикой его
міровоззрѣніе, мнѣ думается, расходится въ существенныхъ
пунктахъ. Это не мѣшало Пушкину, какъ извѣстно, высоко цѣ
нить огромную моральную и культурную силу христіанства, и въ
частности восточнаго христіанства,—въ письмѣ къ Чаадаеву
онъ возражаетъ своему другу на его нападки на православіе,
указывая на великую положительную роль, которую оно сы
грало въ моральномъ развитіи русскаго народа (см. письмо
отъ 9 окт. 1834 г.).
Посмотримъ теперь, какъ относился Пушкинъ къ идеѣ
рока, судьбы и связаннаго съ ними случая. Онъ называетъ
неоднократно судьбу тайной (1819: „Давно ли тайными
судьбами намъ чаша жизни подана“, „Даръ напрасный“ —
„зачѣмъ судьбою тайной ты на казнь осуждена“, Въ то же вре
мя поэтъ порой былъ очень суевѣренъ и готовъ былъ вѣ
рить въ предсказанія и примѣты. Извѣстно было, какъ онъ
всю жизнь боялся встрѣчи съ блондиномъ (Weisskopf), ги
бель отъ котораго ему въ юности предсказала гадалканѣмка.
Въ „Капитанской дочкѣ“, однако, онъ самъ устами Гри
нева признаетъ наклонность къ суевѣрію слабостью. Въ ро
кѣ Пушкинъ не усматривалъ какой-то непремѣнно мститель
ной, враждебной или благосклонной человѣку силы. На слу
чай онъ, повидимому, смотрѣлъ какъ на событіе, подчинен
ное закону причинности, но по множественности причинъ
не поддающееся каузальному объясненію. Пушкинъ, вѣро
ятно, въ связи съ наклонностью къ азартной игрѣ, читалъ,
„Essai philosophique sur les probabilités“ Лапласа — эта книга
имѣлась въ его библіотекѣ.
Въ человѣкѣ, какъ въ психофизическомъ субъектѣ, въ
его трагической судьбѣ значительную роль играетъ душевная
дисгармонія— ее Пушкинъ обозначаетъ терминами прошивочувствія, противорѣчія страстей („Къ бюсту Александра I“).
въ посвященіи къ „Кавказскому Плѣннику“:
„Ты здѣсь найдешь воспоминанья,
Быть можетъ, милыхъ сердцу дней,
Противорѣчія страстей,
Мечты знакомыя, знакомыя страданья,
И темный гласъ души моей“.
185
Пушкина всегда особенно привлекали сложныя натуры,
въ которыхъ происходитъ противоборство страстей, зло са
мымъ причудливымъ образомъ сплетается съ добромъ. Не
избѣжнымъ слѣдствіемъ такой внутренней борьбы является
нерѣдко грѣхъ. Пушкинъ вовсе не склоненъ съ Янсенцемъ
и Паскалемъ считать человѣческую душу отъ рожденія
оскверненною первороднымъ грѣхомъ — первоначальные дни
души онъ считаетъ чистыми (Возрожденіе), но онъ такъ же
мало расположенъ à la Rousseau идеализировать первобыт
ныхъ, нецивилизованныхъ людей:
„Но счастья нѣтъ и между
вами,
Природы бѣдные сыны,
И подъ издранными шатрами
Живутъ мучительные сны;
„И ваши сѣни кочевыя
Въ пустыняхъ не спаслись
отъ бѣдъ,
И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты нѣтъ“.
Пушкинъ, какъ уже замѣчено, особенно оттѣняетъ со
блазнительность грѣха. Неподкупный, суровый Анджело, во
площеніе прямолинейнаго тупого моральнаго формализма,
влюбленный въ Изабеллу, говоритъ:
„По ней груститъ умильно
Душа. Или когда святого уловить
Захочетъ бѣсъ, тогда приманкою святою,
И манитъ онъ его на крюкъ. Нескромной красотой
Я не былъ отъ роду къ соблазнамъ увлеченъ,
А чистою дѣвою теперь я побѣжденъ“.
Противорѣчія страстей, наталкивающія на грѣхъ, или
непоправимую ошибку, были хорошо знакомы Пушкину. Ви
ной тому было то обстоятельство, что типичной формой
волевой рѣшимости у Пушкина была импульсивная, поры
вистая рѣшимость. Эта импульсивность не разъ въ жизни
приводила его на край гибели, которой ему едва удавалось
избѣгнуть. Таковъ порывъ, побудившій его написать „Гавриліаду“.
Поѣхавъ къ Рылѣеву, онъ внезапно вернулся до
мой, испуганный нѣкоторыми примѣтами; еслибы заяцъ не
перебѣжалъ ему дважды дороги, то его могла бы легко по
стигнуть трагическая судьба.
Геніальное поэтическое выраженіе угрызеній совѣсти
представляетъ стихотвореніе „Когда для смертнаго умолкнетъ
шумный день“. Съ потрясающей силой здѣсь выражено чув
ство неотмѣнимое™ прошлаго (remords), но не раскаянія (re
pentirs), когда человѣкъ хочетъ покаяніемъ какъ-то испра
вить прошлое („Я трепещу и проклинаю,... и горько слезы
лью, но строкъ печальныхъ не смываю“) Въ стихотвореніи
186
„Въ началѣ жизни школу помню я“ Пушкинъ показываетъ
въ подросткѣ зарожденіе грѣховныхъ чувствъ подъ вліяніемъ
эстетическихъ впечатлѣній. Наряду съ величественными из
ваяніями древнихъ поэтовъ и мудрецовъ, вдохновлявшихъ
подростка,
„Другія два чудесныя творенья
Влекли меня волшебной красотой;
То были двухъ бѣсовъ изображенья,
Одинъ былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ, лживый, но прекрасный.“
Если принять во вниманіе, что внѣшній рокъ и внутрен
нее рабство человѣка въ борьбѣ съ противочувствіями
можетъ преодолѣваться лишь стремленіемъ къ свободѣ,
то является вопросъ, какъ понималъ Пушкинъ „свободу
воли“. Какъ уже было замѣчено выше, онъ былъ рѣши
тельнымъ детерминистомъ, и даже самый терминъ свобода
воли въ его сочиненіяхъ я не встрѣчалъ. Между тѣмъ, Пуш
кинъ былъ пѣвцомъ свободы ио преимуществу, прославля сво
боду политическую, общественную, личную, и свободу ре
лигіозную, моральную, признавая и безусловность нравствен
ной отвѣтственности человѣка. Слѣдовательно, у него была
идея свободы воли, но такая,которая исключала допущеніе без
причиннаго произвола и которую можно было бы назвать Шранссцендентальной свободой. Свободной волей по Пушкину яв
ляется такая воля, которая обладаетъ тремя признаками:
1. разумностью; 2. душевнымъ самообладаніемъ (compos sui),
душевнымъ равновѣсіемъ, душевной гармоніей; 3. направ
ленностью на благія цѣли, творческія достиженія. „Свободы
сѣятель пустыннный, я вышелъ рано, до зари“; „въ мой же
стокій вѣкъ возславилъ я свободу“; „услышишь судъ глупца
и смѣхъ толпы холодной, но ты останься твердъ, спокоенъ^
угрюмъ .. дорогою свободной иди, куда влечетъ тебя свобод
ный умъ“; „нѣтъ счастья на землѣ, но есть покой и воля“.
Въ рядѣ яркихъ типовъ и трагическихъ ситуацій ПуШ'
кинъ убѣдительно показываетъ передъ нами силу человѣче
скаго духа въ борьбѣ со зломъ и насиліемъ. Вспомнимъ раз
говоръ Миронова съ Пугачевымъ.
Пушкинъ создалъ рядъ творчески продуктивныхъ ти
повъ, каковы Моцартъ въ области искусства, Петръ Великій
въ области государственной, Б. Шварцъ, изобрѣтатель по
роха, въ области научно-технической, Пименъ — въ области
морально-религіозной; по замыслу Пушкина, Шварцъ (въ не
187
оконченныхъ сценахъ изъ рыцарскихъ временъ) долженъ,
былъ уйти изъ тюрьмы на свободу, взорвавъ стѣну казе
мата.
Пушкинъ придавалъ очень большое значеніе дѣйствен
ной роли личности въ исшоріи, и въ этомъ отношеніи ближе
стоитъ ко взглядамъ Карлейля („Герои и героическое въ
исторіи“, 1841), чѣмъ къ Л. Толстому („Война и миръ“ 186468). Шеллингъ видѣлъ сущность трагическаго въ борьбѣ
между необходимостью и свободой, Бергсонъ видитъ въ томъ
же сущность комического. Пушкинское пониманіе трагиче
скаго и комическаго шире этихъ опредѣленій, которыя, од
нако, несомнѣнно заключаютъ въ себѣ значительную долю
правды. Я говорю „шире“, потому что у Пушкина мы встрѣ
чаемъ трагическую гибель отъ внѣшней случайности, совер
шенно невинныхъ людей — гибель, въ которой нѣтъ никакой
борьбы между необходимостью и свободой, а лишь безсмы
сленное внѣшнее посягательство на свободу. Мало того, въ
трагическомъ искусствѣ Пушкина важную роль играетъ, какъ
мы увидимъ, такой случай, когда трагическій герой во имя
de facto мнимой свободы сознательно возстаетъ противъ de
facto мнимаго гнета моральной необходимости (Вальсингамъ,
Донъ Жуанъ).
Намъ остается разсмотрѣть еще три источника чувства
трагическаго въ жизни и творчествѣ Пушкина: 1. отщепенсшво; 2. любовь и дружба и 3. смерть.
1. Пушкинъ не могъ пожаловаться на недостатокъ со
ціальнаго признанія его генія въ теченіе большей части сво
ей жизни. Съ раннихъ лѣтъ онъ пріобрѣлъ громкую всерос
сійскую славу, какъ поэтъ, до самой смерти его окружали
вѣрные друзья, изъ которыхъ одни сами были великими
людьми, другіе—людьми высокой интеллектуальной и мораль
ной культуры. Однако, отщепенство Пушкина въ послѣдніе
годы его жизни было одной изъ причинъ страшной ката
строфы. Это отщепенство проявлялось въ трехъ направле
ніяхъ — общественно-политическомъ, художественномъ и се
мейномъ. Не будучи по внутреннему существу своей натуры
ни революціонеромъ, ни консерваторомъ, Пушкинъ своими
великолѣпными революціонными стихотвореніями въ юности
и своими поэтическими и моральными симпатіями къ царю
въ зрѣломъ возрастѣ далъ поводъ однимъ считать его за
революціонера, а другимъ,—за реакціонера, между тѣмъ какъ
онъ по существу былъ сторонникомъ широкой и пол
ной политической свободы, но полагалъ, что она достижима
лишь_иутемъ реформъ, и въ первую голову освобожденія
кресшьянъ. Какъ поэтъ, Пушкинъ въ послѣдніе годы пере
росъ своихъ читателей-, отсюда то упорное и трагическиоезнадежное стремленіе его стать въ совершенно независиМое положеніе отъ среды въ творчествѣ, хотя бы цѣной не
188
признанія (Чарскій, »Изъ Пиендемонте“, „Чернь“, „Поэтъ не
дорожи...“)
Наконецъ, Пушкинъ не встрѣтилъ у своей жены, ко
торую онъ такъ боготворилъ, и сотой доли симпатическаго
отзвучія его поэтическому генію. Это укрѣпляло въ немъ
его прежнія нелестныя сужденія о неспособности женщинъ
понимать поэзію. Я вспоминаю по этому поводу слѣдующую
сцену въ „Маленькомъ Эйольфѣ“ Ибсена:
Жена говоритъ мужу: Риша, „Въ концѣ концовъ мы
же только люди“. Альмерс: Но мы сродни также немного
небу и морю! Риша: Ты, пожалуй, я — нѣтъ!“
„Природа, — писалъ Пушкинъ еще въ 1827 году, —
•одаривъ женщинъ умомъ и чувствительностью самой раз
дражительной, едва ли не отказала имъ въ чувствѣ изящнаго.
Поэзія скользишь ио слуху ихъ, не задѣвая ихъ души, онѣ
безчувственны къ ея гармоніи“... Чувство изолированности.
поэта выражено Пушкинымъ съ необычайной силой въ цѣ
ломъ рядѣ тѣхъ его стихотвореній, которыя раскрываюъ
передъ нами внутренній міръ непонятаго поэта („О, муза
пламенной сатиры“ и упомянутыя выше.)
И. Дружба и любовь. Пушкинъ обладалъ сердцемъ,
крѣпко привязчивымъ въ дружбѣ, его симпатическія чувства
отличались и глубиною, и широтою, и устойчивостью. Сила
его дружескихъ привязанностей измѣряется силой тѣхъ стра
даній, которыя онъ испытывалъ, когда терялъ друга. Ши
рота его симпатій была исключительна, кромѣ тѣснаго круга
избранныхъ друзей у него было множество дружески распо
ложенныхъ и любимыхъ имъ людей изъ различныхъ клас
совъ обіцества — няня, цыганка-пѣвица, мужики, солдаты,
даже попъ, котораго онъ огорчалъ своимъ вольнодумствомъ,
но къ которому самъ пріѣзжалъ потомъ „мириться“. Въ пе
репискѣ съ женой и съ друзьями обоего пола рисуется
намъ милая обаятельная сторона Пушкинскаго духовнаго
міра. Постоянство въ его дружескихъ привязанностяхъ сви
дѣтельствовало о томъ, какой серьезный нравственный смыслъ
имѣла для него дружба. Любовь къ женщинамъ у Пушкина
имѣла огромное положительное значеніе и въ его жизни, и
въ творчествѣ, но въ любовныхъ отношеніяхъ у Пушкина
нерѣдко преобладалъ эстетическій моментъ надъ моральнымъ:
для Пушкина, какъ и для Глинки (см. статью А. Н. Римска
го-Корсакова: „Глинка и женщины“, Музыкальная лѣтопись,
1925 г. № 3), женщина являлась прежде всего источникомъ
поэтическаго вдохновенія, и метода Мефистофеля, какъ вы
ражался о Пушкинѣ Вульфъ, въ ухаживаніи за женщинами
превращала его порой въ его любимаго героя Донъ-Жуана
съ его mille et très. Но именно односторонняя эстетизація
эротики путемъ художественнаго катарзиса преодолена имъ
въ безподобныхъ трагедіяхъ, о которыхъ рѣчь будетъ ниже.
189
Трагично у Пушкина изображеніе ревности („Ненастный деньпотухъ“, „Алеко“, „Бахчисарайскій фонтанъ“). У Пушкина
имѣются высокіе образцы любовной лирики самой чистой,
возвышенной, безкорыстной, какъ стихотворенія ГЯ васъ лю
билъ“, „Все въ ней. гармонія, все диво,“ „Ужель не можно
мнгъ, „Вы расцвѣли“ и др. (См. Г. Я. Трошинъ, Пушкинъ,
1937, стр. 129).
Особенной силы и высокой одухотворенности дости
гаетъ его трагическая любовная лирика въ геніальныхъ сти
хотвореніяхъ: „Заклинаніе“ и „Для береговъ отчизны даль
ней“, въ которыхъ поэтъ, одушевленный любовью, какъ бы
магической силой вдохновенія хочетъ воскресить умершую
какимъ-то волшебствомъ поэтической некромантіи. Мнѣ вспо
минается по поводу этихъ двухъ стихотвореній картина Уотса
„Love and death“, на которой Любовь, пытаеся воспрепят
ствовать Смерти проникнуть въ домъ умирающей.
Хотя Пушкинъ сомнѣвался, подобно Шопенгауеру, въ
томъ, чтобы у женщинъ, несмотря на наличность ума и тон
кой эмоціональной впечатлительности существовалъ харак
теръ, онъ далъ Татьяны милый идеалъ и такіе мужествен
ные образы, какъ Марія изъ „Полтавы“, Марина изъ „Бо
риса Годунова“. Кромѣ того, имъ были задуманы героически
настроенная Полина („Рославлевъ”) и интересный характеръ
лже- папы Іоанна XXII въ образѣ необычайно умной и энер
гичной дѣвушки (программа).
III. Намъ нужно еще остановиться на отношеніи Пуш
кина къ смерти. Къ мысли о смерти онъ обращается во
многихъ стихотвореніяхъ; стихотворенія эти образуютъ из
вѣстное психологическое и философское единство. Если ихъ
прочитать въ хронологическомъ порядкѣ, то они даютъ намъ
всестороннее освѣщеніе трагики смерти, какъ ее понималъ
Пушкинъ въ жизни, и какъ изображалъ въ искусствѣ. Начи
нается эта серія съ подражательной элегіи 1816 г.: „Я ви
дѣлъ смерть“. Въ стихотвореніи 1817 года онъ пишетъ:
„Мой другъ, неславный я поэтъ,
Хоть христіанинъ православный,
Душа безсмертна, слова нѣтъ;
Моимъ стихамъ удѣлъ неравный:
И пѣсни Музы своенравной,
Забавы рѣзвыхъ, юныхъ лѣтъ,
Погибнутъ смертію забавной —
И насъ не тронетъ здѣшній свѣтъ.
Ахъ, вѣдаетъ мой добрый Геній,
Что предпочелъ бы я скорѣй —
Безсмертіе-ль души моей,
Безсмертіе-ль своихъ твореній?“
190
Къ 1819 году относится отрывокъ, который такъ на
чинается:
„Давно ли тайными судьбами
Намъ чаша жизни подана?
Еще для насъ она полна,
Къ ея краямъ, прильнувъ устами,
Мы пьемъ восторги и любовь“.
Жажда всеполноты жизненнаго бытія, находящая себѣ
выраженіе въ этомъ отрывкѣ, какъ и во множествѣ произ
веденій Пушкина, образуетъ разительный кажущійся кон
трастъ съ жаждою подвига и безстрашіемъ ио отношенію
къ смерти, столь же характернымъ для Пушкина.
„Мнѣ бой знакомъ; люблю я звукъ мечей,
Отъ первыхъ лѣтъ поклонникъ бранной славы,
Люблю войны кровавыя забавы
И смерти мысль мила душѣ моей.
Во цвѣтѣ лѣтъ свободы вѣрный воинъ
Передъ собой кто смерти не видалъ,
Тотъ полнаго веселья не вкушалъ
И милыхъ женъ лобзаній не достоинъ“.
Этотъ же мотивъ мы встрѣчаемъ въ „Пирѣ во время
чумы“ и въ „Египетскихъ Ночахъ“. Въ 1821 г. въ стихотво
реніи „Умолкну скоро я“ у Пушкина впервые появляется
сознаніе возможносши ранней кончины.
Къ 1822 году относится геніальный набросокъ къ сти
хотворенію „Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный“, въ кото
ромъ Пушкинъ съ трагическою силой выра-каетъ горестныя
сомнѣнія въ личномъ безсмертіи. Для Пушкина наступило
время личныхъ душевныхъ кризисовъ, которые прекращаются
только въ 1829 г.
Въ „Телѣгѣ жизни“, написанной, можетъ быть, не безъ
вліянія Гёте, есть умышленно непристойная ругань по ад
ресу везущаго, ругань, выдающая глубокую тоску поэта. Къ
1825 году относится трагическая предсмертная лирика, вло
женная Пушкинымъ въ уста Андрея Шенье. Къ 1827 году
относятся „Три ключа“, а также письмо къ Вяземскому (см.
выше). Далѣе къ 1828 году — „Даръ напрасный“ и „Анчаръ“.
Эти три стихотворенія составляютъ вмѣстѣ съ письмомъ къ
Вяземскому акме трагики въ Пушкинскихъ пѣсняхъ о смерти,
такъ какъ въ двухъ первыхъ подчеркнута, наряду съ без
смысленностью и неизбѣжностью смерти, вмѣстѣ и безсмы
сленность самой жизни, а въ третьемъ оттѣнена роль чело
вѣка, какъ распространителя смерти среди людей. Начиная
съ 1829 года, мы находимъ у Пушкина уже иное отношеніе
191
и къ жизни, и къ смерти, онъ цѣнишь жизнь и примиряется
со смертью.
Стихотвореніе „Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ“
заканчивается словами:
„И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять“.
Бѣло бы ошибкой видѣть здѣсь какое-либо подобіе
эстетическаго пантеизма Гёте (Weltall), или романтиковъ. Въ
стихотвореніи нѣтъ никакихъ признаковъ мистическаго слі
янія съ природой, столь характернаго для пантеистовъ-романтиковъ. Оно гораздо ближе къ деизму Вольтера. У послѣд
няго есть діалогъ философа съ природой, въ которомъ фи
лософъ пытается вывѣдать отъ природы ея таинственную
сущность. Въ этомъ діалогѣ подчеркнута, съ одной сто
роны, вѣчная красота природы, съ другой — ея полное
равнодушіе ко всѣмъ живымъ существамъ, въ томъ числѣ и
къ человѣку. Философъ удивляется, какъ Природа можетъ
быть искусствомъ. Природа же поясняетъ ему: „Ne vois-tu
pas qu’il y a un art infini dans ces mers, dans ces montagnes
que tu trouves si brutes... si tu considères seulement la forma
tion d’un insecte, d’un épi de blé, de l’or, du cuivre, tout te pa
raîtra merveille de l'art“. Далѣе философъ вопрошаетъ При
роду:
„Le néant vaudrait-il mieux que cette multitude d’éxistences
faites pour être continuellement dissoutes, cette foule d’animaux
nés et reproduits pour en dévorer d’autres et pour être dévorés;
cette foule d’êtres sensibles formés pour tant de sensations, dou
loureuses et cette autre foule d’intelligences qui si rarement en
tendent la raison. A quoi bon tout cela, Nature?“
„On demande celui qui m’a faite“,
(cM.jJeuvres complètes de Voltaire, v. XX, 114-115, статью „Nature“ изъ „Философскаго Словаря“).
Но Пушкинъ мужественно и спокойно примиряется съ
прекрасною, но равнодушною природой и видитъ смыслъ жизни
въ ея продолженіи („и пусть у гробового входа младая будетъ
жизнь играть“), не чувствуя никакого желанія возвращать би
летъ Господу Богу à Іа Иванъ Карамазовъ.
Въ томъ же году онъ пишетъ:
„О, нѣтъ, мнѣ жизнь не надоѣла,
Я жизнь люблю, я жить хочу“.
Къ слѣдующему году относится геніальная элегія „Бе
зумныхъ лѣтъ угасшее веселье“, гдѣ смыслъ жизни усматри-
192
вается поэтомъ въ поэтическомъ творчествѣ и любви. Весь
этотъ рядъ стихотвореній завершается снова пріятіемъ жизни
въ симпатическомъ вчувсшвованіи въ жизнь грядущихъ поко
лѣній и надеждѣ въ свою очередь на симпатическія созву
чія въ сердцахъ молодыхъ поколѣній („Вновь я посѣтилъ'):
„...Здравствуй, племя
Молодое, незнакомое; не я
Увижу твой могучій поздній возрастъ,
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ
Услышитъ вашъ призывный шумъ, когда
Съ пріятельской бесѣды возвращаясь,
Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полонъ,
Пройдетъ онъ мимо васъ во мракѣ ночи
И обо мнѣ вспомянетъ“.
Но какъ мы видимъ, для Пушкина самой трагической
стороной въ смерти была потеря близкихъ, потеря друзей,
потеря любимыхъ женщинъ. Жажду личнаго безсмертія въ
немъ порождаетъ любовь. Въ своихъ стихотвореніяхъ, по
священныхъ 19 окшября, онъ съ глубокимъ чувствомъ по
минаетъ своихъ лицейскихъ друзей, а въ стихотвореніяхъ
„Для береговъ отчизны дальней“ и „Заклинаніе“ онъ въ та
кой духовно просвѣтленной формѣ выражаетъ трагику люб
ви передъ лицомъ смерти и съ такой волшебной силой не
кромантіи какъ бы вызываетъ къ жизни своихъ возлюблен
ныхъ, что эти два стихотворенія по глубинѣ чувства имѣютъ
немного равныхъ въ міровой литературѣ.
Всѣ стихотворенія, касающіяся смерти, завершаются про
изведеніемъ, въ которомъ Пушкинъ сопоставляетъ город
ское кладбище съ деревенскимъ („Когда за городомъ за
думчивъ я брожу“, 24 авг. 1836 г.). Видъ городского кладаища, гдѣ тѣснятся на выгонѣ могилы — парадныя гра
ницы, подъ коими лежатъ всѣ мертвецы столицы, въ бо
лотѣ кое-какъ стѣсненные кругомъ, какъ гости жадные за
нищенскимъ столомъ. Здѣсь жалкія усилія людей въ о«3'
вкусной формѣ увѣковѣчить память объ умершихъ, пошлое
человѣческое, слишкомъ человѣческое въ отношеніи къ тайнъ
смерти (описаніе напоминаетъ „Бобокъ“ Достоевскаго) —все
это рисуетъ смерть въ самой отталкивающей формѣ.
„Такія смутныя все мысли мнѣ наводитъ,
Что злое на меня уныніе находитъ —
Хоть плюнуть, да бѣжать“.
И эта жалкая, жуткая, смѣшная и отталкивающая каР
193
тина смѣняется величественнымъ, спокойнымъ, примиряю
щимъ со смертью образомъ деревенскаго кладбища. Стихо
твореніе, какъ могучая органная токката Баха во второй
своей половинѣ звучитъ величавымъ мажоромъ:
Но какъ же любо мнѣ
Осеннею порой въ вечерней тишинѣ
Въ деревнѣ посѣщать кладбище родовое,
Гдѣ дремлютъ мертвые въ торжественномъ покосъ.
Тамъ неукрашеннымъ могиламъ есть просторъ,
Къ нимъ ночью темною не лѣзетъ блѣдный воръ,
Близъ камней вѣковыхъ, покрытыхъ желтымъ
мохомъ,
Проходитъ селянинъ съ молитвой и со вздохомъ.
На мѣсто праздныхъ урнъ и мелкихъ пирамидъ,
Безносыхъ геніевъ, растрепанныхъ Харитъ,
Стоитъ іиирокій дубъ надъ важными гробами,
Колеблясь и шумя".
Пушкинъ примиряется съ трагедіей смерти тогда, когда
представляетъ ее, какъ пріобщеніе человѣка къ жизни безко
нечной, всеобъемлющей, прекрасной и вѣчной Природы (вѣ
ковые Камни и широкій дубъ'.
Помыслы о тайнахъ вѣчности и гроба волновали Пуш
кина до самой смерти.
II.
Виды трагическаго въ произведеніяхъ Пушкина.
(Эпосъ
и
драма.)
Я полагаю, что трагическое у Пушкина (включая и ли
рику, о которой уже была рѣчь), можетъ быть раздѣлено
для удобства обозрѣнія на шестъ видовъ:
1) Къ первому относятся такіе случаи трагическаго,
когда герой падаетъ жертвой чисто внѣшней случайности
безъ какой-либо моральной вины со своей стороны. Таковъ
Олегъ въ народной легендѣ, воспѣтый Пушкинымъ:
„И синяго моря обманчивый валъ
Въ часы роковой непогоды,
И пращъ, и стрѣла, и лукавый кинжалъ
Щадятъ побѣдителя годы“.
И тѣмъ не менѣе вдохновенный кудесникъ, видя его
будущее въ магической интуиціи, предрѣкаетъ ему гибель,
13
194
которая оказывается неустранимой и является совершенной
случайностью въ рядѣ событій въ жизни Олега. Подобная
же случайность въ связи со стихійнымъ бѣдствіемъ—чумою
—губитъ веселаго, добраго, жизнерадостнаго „Предсѣдателя“
Джонсона въ „Пирѣ во время чумы“. Подобнымъ же обра
зомъ несчастье обрушивается на голову Евгенія Езерскагогибель его невѣсты Параши и ея матери есть безсмысленная
случайность, связанная со стихійнымъ бѣдствіемъ и соціаль
нымъ переворотомъ Петра, основавшаго Санктъ-Питербурхъ
возлѣ моря. Евгеній именно въ немъ видитъ виновника свого несчастья. Евгеній, конечно, является выразителемъ тра
гики многихъ невинныхъ людей, въ судьбѣ которыхъ какъ
бы чуется „насмѣшка рока надъ землей“. Именно трагиче
ская безсмысленность гибели многихъ невинныхъ людей по
служила темой для поэмы Вольтера „Sur le désastre de Lis
bonne“, но вниманіе Пушкина въ „Мѣдномъ Всадникѣ“ при
влечено страданіемъ невинныхъ при соціальныхъ перево
ротахъ.
2) Другимъ видомъ трагики невинныхъ является тотъ
случай, когда герой терпитъ бѣдствіе или погибаетъ не безъ
участія собственной воли, но безъ всякой моральной вины —
его несчастье отчасти обусловлено имъ самимъ, но не мо
рально, а причинно. Такова трагика Ленскаго и Татьяны.
3) Третьимъ видомъ является героическая борьба про
тивъ зла, связанная съ высокимъ сознаніемъ нравственнаго
долга и самоотверженной любовью къ людямъ. Таковы Пуш
кинскіе герои Мироновъ и его жена, Савельичъ, Гриневъ,
Кочубей и Изабелла въ „Анджело“, готовая пожертвовать
жизнью, чтобы спасти брата, осужденнаго на казнь. Такимъ
является и самъ Пушкинъ, героически погибшій отъ интриги
въ борьбѣ съ грязной лужей, какъ онъ называлъ придвор
ную камарилью; онъ пожертвовалъ жизнью за честь жены и
за свое человѣческое достоинство.
Особое мѣсто въ этой группѣ занимаетъ типъ Галуба,
подростка, одареннаго отъ природы этической геніальностью,
за которую отецъ, стоящій вмѣстѣ со всею средою горцевъ
на гораздо болѣе низкомъ моральномъ уровнѣ, выгоняетъ
его изъ дому. Галубу отъ природы присущи справедливость,
милосердіе къ слабымъ, являющіяся презрѣнными свойствами
въ глазахъ отца, горнаго расбойника, преисполненнаго хищ
ныхъ и мстительныхъ чувствъ.
Четвертый, пятый и шестой виды трагическаго, — это
трагика согрѣшившаго героя.
4) Къ четвертой группѣ относятся люди, совершившіе
преступленіе, но чувствующіе угрызенія совѣсти. Таковы: мо
лодой разбойникъ въ „Братьяхъ разбойникахъ“, Борисъ,
князь и Мельникъ въ „Русалкѣ“, Марія Кочубей въ „Полтавѣ“.
Въ „Братьяхъ разбойникахъ“ младшій братъ въ бреду,
195
больной, переживалъ ужасы угрызеній совѣсти,
братъ говоритъ о немъ:
Старшій
„. . . Снова разгорались въ немъ
Докучной совѣсти мученья.
Предъ нимъ толпились привидѣнья,
Грозя перстомъ издалека.
Всѣхъ чаще образъ старика,
Давно зарѣзаннаго нами.
Больной, зажавъ глаза руками,
За старца такъ меня молилъ:
„Братъ, сжалься надъ его слезами,
Не рѣжь его подъ старость лѣтъ,
Мнѣ старый крикъ его ужасенъ,
Пусти его, — онъ не опасенъ,
Въ немъ крови капли теплой нѣтъ.
Не смѣйся, братъ, надъ сѣдинами,
Не мучь его, авось мольбами
Смягчитъ за насъ онъ Божій гнѣвъ“.
Больной не отдаетъ себѣ отчета въ томъ, что старикъ
уже зарѣзанъ, и что прошлаго, какъ говоритъ Горацій, не
могутъ измѣнить и сами боги. Эта неотвратимость, неиспра
вимость прошлаго, ярко выражена въ монологѣ Бориса, гдѣ
также описано зарожденіе и губительное разростаніе пре
ступнаго влеченія:
„Я чувствую, ничто не можетъ насъ
Среди мірскихъ печалей успокоить.
Ничто, ничто; едино развѣ совѣсть.
Такъ, здравая, она восторжествуетъ
Надъ злобою, надъ темной клеветой,
Но если въ ней единое пятно,
Единое, случайно, завелось,
Тогда—бѣда—какъ язва моровая,
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ, стучитъ въ ушахъ упрекомъ,
И все тошнитъ, и голова кружится,
И мальчики кровавые въ глазахъ...
И радъ бѣжать, да некуда, ужасно.
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста".
Князь въ „Русалкѣ*4 говоритъ о мельникѣ:
„Видъ его во мнѣ раскаянья всѣ муки растравилъ“,
а «ельникъ, мучимый угрызеніями совѣсти, сходитъ съ ума.
Муки позднихъ угрызеній совѣсти ярко изображены въ
196
„Полтавѣ“. Въ сознаніи Маріи Кочубей сталкиваются самымі
ужаснымъ образомъ два влеченія и два долга — по отношь
нію къ родителямъ и по отношенію къ Мазепѣ. Это —ті
форма трагизма, которую Гегель почиталъ за самую сущность
трагическаго,—противоборство двухъ обязанностей, Doppel
pflichten, подъ гнетомъ этого мучительнаго противоборств!
героиня погибаетъ—сходитъ съ ума. Въ „Скупомъ рыцарѣ*,
котораго слѣдуетъ отнести къ шестой группѣ, угрызенія со
вѣсти, и очень сильныя, были когда-то, однако, они оказа
лись въ немъ недѣйственны, они притупились, при посте
пенномъ его погруженіи въ преступную дѣятельность:
„Иль скажетъ сынъ,
Что сердце у меня обросло мохомъ,
Что я не зналъ желаній, что меня
И совѣсть никогда не грызла,—совѣсть,
Когтистый звѣрь, скребущій сердце,—совѣсть,
Незваный гость, докучный собесѣдникъ,
Заимодавецъ грубый; эта вѣдьма,
Отъ коей меркнетъ мѣсяцъ,и могилы
Смущаются и мертвыхъ высылаютъ“.
5) Пятый видъ трагическаго представляетъ судьба ге
роевъ. которые не проявляютъ раскаянія въ совершенномъ
преступленіи, по крайней мѣрѣ въ рамкахъ Пушкинскаго по
вѣствованія. Это—жертвы противорѣчія страстей, какъ, на
примѣръ, Алеко и Сальери. Алеко говоритъ Земфирѣ:
........... „Когда бъ ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ,
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой,
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главу предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей“.
Однако, этотъ проповѣдникъ „свободы“, врагъ всякихъ
„идоловъ“, цѣпей, приговора предразсужденій, проявляетъ
вмѣсто уваженія къ свободѣ и привольной цыганской жизни,
только грубый произволъ и жестокость.
Въ такія же противорѣчія страстей впадаетъ и СальериОнъ, преклоняясь передъ геніемъ Моцарта, въ то же время
въ порывѣ зависти проникается безумной idée fixe, будто
высокая миссія его, Сальери, заключается въ томъ, чтобы
убить этого генія:
197
„Нѣтъ, не могу противиться я долѣ
Судьбѣ моей: я избранъ, чтобъ его
Остановить. . .
Извѣстно, какими жалкими софизмами онъ якобы под
крѣпляетъ эту мысль. Когда онъ уже отравилъ Моцарта и,
слушая его реквіемъ, плачетъ, онъ говоритъ:
„Эти слезы
Впервые лью: и больно, и пріятно,
Какъ будто тяжкій совершилъ я долгъ...
Какъ будто ножъ цѣлебный мнѣ отсѣкъ
Страдавшій членъ. Другъ, Моцартъ, эти
слезы...
Не замѣчай ихъ. Продолжай, спѣши
Еще наполнить звуками мнѣ душу“.
Сальери переживаетъ смѣшанныя чувства наслажденія
въ страданіи. Въ это мгновенье ему кажется, что желанная
цѣль достигнута, и потому это — еще не слезы бѣшенной за
висти, какія приписываетъ Вольтеръ своему врагу Руссо,
сидящему на представленіи Вольтеровской пьесы Zaïre:
„Le spectateur content qu’un beau trait vient saisir
Laisse couler ses pleurs enfants de son plaisir.
Rufus désespéré que ce plaisir outrage
Pleure aussi dans un coin, mais ses pleurs sont de rage“.
Сальери, быть можетъ, тоже плакалъ слезами безсиль
наго бѣшенства, но немного позднѣе по уходѣ Моцарта, ко
гда убійцу озаряетъ внезапно ужасное сомнѣніе:
.... „Ты заснешь
Надолго, Моцартъ... Но ужель онъ правъ,
И я не геній? Геній и злодѣйство
Двѣ вещи несовмѣстныя. Неправда.
А Бонаротти?... Или это сказка,
Тупой, безсмысленной толпы — и не былъ
Убійцею создатель Ватикана?“
6) Шестой видъ трагическаго у Пушкина представляетъ
особенный интересъ. Это трагика грѣшниковъ, которые соз
нательно идутъ противъ нравственного закона. Эта антимоРальная воля находитъ себѣ великолѣпное выраженіе у Бод
лера въ его стихотвореніи „La Rebelle“ („Fleurs du mal“,CXLV):
„Un ange furieux fond du ciel comme un aigle
Du mécréant saisit à plein poing les cheveux
Et dit le secouant: „tu connaitras la règle
198
Quand je suis ton bon ange: entends-tu? Je le veux.
Sache qu’il faut aimer sans faire la grimace
Le pauvre, le méchant, le tordu, l’hébété,
Pour que tu puisse faire à Jésus quand il passe
Un tapis triomphal avec la charité,
Tel est l’amour. Avant que ton coeur ne se blase
A la gloire de Dieu rallume ton exstase,
C’est la volupté vraie aux durables appas“.
Et l’ange châtiant autant, ma foi qu’il aime
De sa poigne de géant torture, l’anathème.
Mais le damné répond toujours: „Je ne veux pas“.
Еслибы герой Бодлера своимъ „я не хочу“ хотѣлъ за
щищать права автономной, этики противъ гетерономной,
хотя бы она претендовала на титулъ теономной, то стихо
твореніе Бодлера можно было бы расшифровать словами
русскаго поэта:
„Не влѣзешь силой въ совѣсть никому,
И никого не вгонишь въ рай дубиной“.
Такому сознательному критическому, а не рабьему от
ношенію даже къ божескому закону можно и должно со
чувствовать. Борьба Іакова съ Богомъ является, мнѣ ка
жется, великимъ символомъ такого огражденія человѣческа
го достоинства отъ морали рабовъ (кн. Бытія, гл. ХХХП-я,
стихъ 2.).
Но герой Бодлера, повидимому, умышленно и созна
тельно отвергаетъ добро и тяготѣетъ ко злу. Примѣры та
кого умышленнаго влеченія ко злу и даетъ Пушкинъ въ сво
ихъ четырехъ пьесахъ: „Скупой рыцарь“, „Пиръ во время
чумы“, „Каменный Гость“ и „Сцены изъ Фауста“.
Скупой рыцарь — эиикуреецъ воображенія — онъ пи
таетъ его пышными картинами безграничной мощи. Укоры
совѣсти, какъ они ни были когда-то сильны, давно заглохла.
Самое преступленіе, связанное съ накопленіемъ богатства
цѣной человѣческихъ бѣдствій, является для него источни
комъ утонченнаго садическаго наслажденія:
............ „сердце мнѣ тѣснитъ
Какое-то невѣдомое чувство...
Насъ увѣряютъ медики: есть люди,
Въ убійствѣ находящіе пріятность.
Когда я ключъ въ замокъ влагаю, тоже
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая въ жертву ножъ: пріятно
И страшно вмѣстѣ.“
199
Вальсингамъ, поетъ гротескный гимнъ чуміъ — какъ бы
олицетворенію безсмысленнаго мірового зла — въ дни об
щественнаго бѣдствія и ужасовъ. Если Скупого рыцаря соб
лазняетъ эстетизмъ огромной потенціальной мощи, то Вальсингама плѣняетъ эстетизмъ дерзости, красивый вызовъ
смерти, которой онъ будто бы противопоставляетъ всю пол
ноту радостного жизнеощущенія. Предъ лицомъ смерти онъ
устраиваетъ безумный аиръ. Когда онъ воспѣваетъ безумное
дерзаніе безсмертья, можетъ быть, залогъ — то онъ видитъ
въ этомъ дерзаніи не высокій актъ самопожертвованія ради
другихъ, для него такое самопожертвованіе не является, какъ
для Шопенгауера, высокимъ морально-метафизическимъ экс
периментомъ; то безсмертье, о которомъ онъ говоритъ,
есть именно безсмертье, которымъ бредилъ герой „Бѣсовъ“
Кирилловъ, воображавшій, будто, совершивъ самоубійство,
онъ тотчасъ же станетъ безсмертнымъ богомъ. И онъ со
знаетъ свою неправоту. Онъ, какъ и Кирилловъ, пришелъ
къ дерзкому замыслу съ отчаянія,— онъ потерялъ любимую
мать:
„............ я здѣсь удержанъ
Отчаяньемъ, воспоминаньемъ страшнымъ,
Сознаньемъ беззаконья моего“.
Слова священника произвели на него сильное впечат
лѣніе, но злая и конвульсивная воля заставляетъ его упор
ствовать, и онъ даже готовъ проклясть священника за его же
ланіе образумить безумствующихъ.
У Пушкина въ „Капитанской дочкѣ“ есть потрясающая
сцена, въ которой преступленіе является для самихъ пре
ступниковъ опоэтизированнымъ въ пѣснѣ.
„Невозможно сказать, какое дѣйствіе производила на
меня эта простая народная пѣсня про висѣлицу, — распѣвае
мая обреченными на висѣлицу. Ихъ грозныя лица и строй
ные голоса, унылое выраженіе, которое придавали они сло
вамъ, и безъ того выразительнымъ, — все потрясало меня
какимъ-то „паническимъ ужасомъ“. (Капитанская дочка,
VIII глава).
Ошибочно понимать трагедію Донъ-Жуана, какъ простой
нравственно поучительный варіантъ средневѣковой легенды
0 «развратномъ безсовѣстномъ и безбожномъ Донъ-Жуанѣ“,
подвергающемся за свои преступленія достойному небесному
возмездію. Столь же ошибочно было бы видѣть въ ДонъЖуанѣ лишь восхитительнаго генія любви, ни въ чемъ не
повиннаго, который своей гибелью, совершенно немотивиро
ванной, вызываетъ въ насъ лишь глубокое сожалѣніе.
Пушкинъ изображаетъ Донъ-Жуана съ большой лю
бовью, надѣляя его рядомъ привлекательныхъ чертъ: онъ
отнюдь не золъ и не преступенъ по природѣ, уменъ, ло
200
вокъ, очарователенъ въ обращеніи, находчивъ, непосред
ственъ въ проявленіи чувствъ, онъ высокоодаренный поэтъ.
Онъ преисполненъ стремленія къ высшему женскому идеалу,
онъ храбръ и готовъ во имя любви пожертвовать жизнью.
И тѣмъ не менѣе, онъ до конца въ обращеніи съ женщина
ми культивируетъ методу Мефистофеля. Ему кажется, что
онъ подъ вліяніемъ любви къ Доннѣ-Аннѣ (въ который разъ)
переродился, но въ томъ то и трагедія его, что онъ не мо
жетъ переродиться:
„Я убилъ
Супруга твоего; и не жалѣю
О томъ—-и нѣтъ раскаянья во мнѣи.
Передъ командоромъ онъ безстрашенъ:
Командоръ: „Дрожишь ты, Донъ-Жуанъ?
Донъ-Жуанъ: „Я? нѣтъ... Я «валъ тебя и радъ, что
вижу“.
Донъ-Жуанъ и въ аду долженъ остаться такимъ же
мужественнымъ, спокойнымъ, но нераскаяннымъ преступни
комъ. Такимъ намъ его очень вѣрно изобразилъ Бодлеръ въ
стихотвореніи: „Don Juan aux enfers“:
„Quand Don Juan descendit vers l’onde souterraine,
Et lorsqu’il eût donné son obole à Charon,
Un sombre mendiant, l’oeuil fier comme Anthisthènes,
D’un bras vengeur et fort saisit chaque aviron,
Montrant leurs reins pendants et leures ouvertes robes
Des femmes se tordaient sous le noir firmament,
Et comme un grand troupeau de victimes offertes
Derrière lui traînaient un long mugissement,
Frissonnant sous son deuil la chaste et maigre Elvire
Près de l’époux perfide et qui fut son amant
Semblait lui réclamer un suprême sourire
Où brillait la douceur de son premier serment.
Tout droit dans son armure un grand homme de pierre
Se tenait à la barre et coupant le flot noir,
Mais le calme héros courbé sur sa rapière
Regardait le sillage et ne daignait rien voir“.
Цинизмъ Мефистофеля въ „Сценахъ изъ Фауста“, ра
стравляя въ скучающей душѣ Фауста воспоминанія о прош
ломъ, не вызываетъ въ немъ иного душевнаго движенія,
кромѣ порыва отчаянія и конвульсивнаго устремленія ко
всеразрушенію.
По поводу „Сцены изъ Фауста“ Пушкина, въ которой
201
Мефистофель доводитъ Фауста до отчаянія и порыва злоб
наго всеразрушенія, мнѣ вспоминается по контрасту сцена
азъ „Фауста“ Ленау, въ которой Фаустъ, проѣзжая верхомъ
ночью по лѣсу, внезапно встрѣчается съ процессіей монахинь;
ихъ пѣніе вызываетъ въ немъ угрызенія совѣсти и слезы
сожалѣній при воспоминаніи о невозвратимомъ счастіи „пер
воначальныхъ чистыхъ дней“. (На это „Ночное шествіе“ Листъ
написалъ геніальную музыку).
Мотивъ трагики, проистекающей изъ соблазнительной,
но ложной эстетизаціи порока, мы находимъ въ „Египет
скихъ ночахъ“. Поэтъ Чарскій, пресыщенный жизнью и живо
чувствующій свое отчужденіе отъ высшаго общества, въ ко
торомъ онъ жилъ, предлагаетъ свѣтской красавицѣ, въ ко
торую влюбленъ, повторить испытаніе „Египетскихъ ночей“
въ Петербургѣ. Она соглашается осчастливить его бурной
страстью, онъ же покончитъ съ собой послѣ ночи любви,
(amour diabolique)- Героиня исполняетъ его желаніе и передъ
разставаньемъ даетъ ему бокалъ отравленнаго вина... но онъ
не умираетъ. Пробудившись отъ долгаго забытья, онъ убѣж
дается, что его возлюбленная вмѣсто яду дала ему соннаго
порошка. Но онъ остается вѣренъ обѣщанію и кончаетъ съ
собой. (См. М. Гофманнъ: „Египетскія ночи“, 1935). Чарскій
подмѣниваетъ мораль эстетизмомъ, мало того, онъ при
нимаетъ за любовь кратковременную вспышку чувственной
страсти, очевидно, раздѣляя взглядъ Мирабо, что „dans
l’amour il n’y a que le physique, qui est bon, et le reste ne
vaut rien“.
На крюкъ святой приманки попадаютъ и стоикъ Андже
ло, и эпикуреецъ Донъ-Жуанъ, и благочестивый бѣдный
рыцарь. Донъ-Жуанъ говоритъ Доннѣ Аннѣ, когда она пред
лагаетъ ему помолиться вмѣстѣ съ нею:
„...мнѣ молиться съ вами, Донна-Анна?
Я не достоинъ участи такой.
Я не дерзну порочными устами
Мольбу святую вашу повторять;
Я только издали съ благоговѣньемъ
Смотрю на васъ, когда, склонившись тихо,
Вы черные власы на мраморъ блѣдный
Разсыплете — и мнится мнѣ, что тайно
Гробницу эту ангелъ посѣтилъ“...
Изъ чернового наброска къ „Рыцарю бѣдному“ мы ви
димъ, что бѣсъ вызвалъ въ немъ чувство земной любви къ
Мадоннѣ, но что Пречистая простила его и оцѣнила его ге
роизмъ. Мнѣ вспоминается по этому поводу сообщенный проф.
Буслаевымъ эпизодъ изъ автобіографіи св. Мартирія, насто
ятеля Зеленой Пустыни (f 1603), которому однажды показа-
202
лось, что бѣсъ внушаетъ ему соблазнительные помыслы о
красотѣ Мадонны, что привело его сначала въ ужасъ, но по
томъ онъ убѣдился, что внѣшность Богоматери, красотой
которой онъ былъ такъ пораженъ во снѣ, вполнѣ совпа
даетъ съ чертами образа Пречистой, висѣвшаго у него въ
кельѣ, и, слѣдовательно, ночное видѣніе исходило не отъ бѣ
са, а было подлиннымъ явленіемъ ему Богородицы.
Пушкинъ, какъ мы видимъ, часто обращается въ сво
ихъ произведеніяхъ къ мотиву эстетическаго обаянія зла, и
не какъ докучный моралистъ, а какъ великій знатокъ чело
вѣческаго сердца и взыскательный художникъ, онъ показы
ваетъ съ полной психологической убѣдительностью, къ ка
кимъ трагическимъ послѣдствіямъ ведетъ его героевъ смѣ
шеніе „святыни красоты" съ „волшебной красотой“ демона,
лживаго, но прекраснаго.
III.
Техника пушкинской трагедіи.
1) Не все трагическое въ жизни пригодно для траги
ческаго изображенія въ искусствѣ, и не в.е пригодное для
трагическаго изображенія въ искусствѣ пригодно для разра
ботки въ формѣ трагедіи. Смерть Ивана Ильича, повѣсть,
въ которой геніально описывается умираніе самаго обыкно
веннаго средняго человѣка, не можетъ быть темою трагедіи,
такъ какъ въ этой повѣсти нѣтъ никакого пригоднаго для
сцены дгойствія. Ужасы, кровавыя пытки и казни, которыми
пользуется, какъ извѣстно théâtre guignol, бесконечно далеки
отъ трагедіи, ибо трагедія потрясаетъ насъ ужасомъ и жа
лостью, поскольку она задѣваетъ глубину нашего моральнаго
существа; въ этомъ ея очистительное дѣйствіе, а не силою
нервнаго потрясенія при видѣ пытокъ, крови и т. подобнаго.
Еслибы въ наслажденіи, которое намъ даетъ трагическое
искусство, играло главную роль мучительство, то трагедія,
какъ искусство, по словамъ Липпса („Streit über die Tragödie“,
1895), напоминала бы тотъ радостный танецъ, который индіанцы начинаютъ исполнять въ ту минуту, когда услышатъ
крики, стоны и мольбы о пощадѣ жертвы. „Народъ требуетъ
сильныхъ ощущеній (для нею и казнь — зрѣлище). Трагедія
преимущественно передъ нимъ выводитъ тяжкія злодѣянія,
страданія сверхъестественныя, даже физическія (Филоктетъ,
Эдипъ, Лиръ). Но привычка притупляетъ ощущенія, вооораженіе привыкаетъ къ убійствамъ и казнямъ, смотритъ на
нихъ уже равнодушно, изображеніе же страстей души чело
вѣческой для него всегда занимательно, велико и поучитель
но („О драмѣ“) Изъ Пушкинскихъ пьесъ происходитъ только
205
въ одной, — именно въ „Каменномъ Гостѣ“ — одно мгно
венное убійство на сценѣ — Донъ-Карлоса, — это первая
особенность Пушкинскихъ драмъ — кровавый сюжетъ, какъ
предметъ художественнаго изображенія, отталкиваетъ его —
это отличаетъ его и отъ Расина, и отъ Шекспира, — выры
ваніе глаза на сценѣ, предъ публикой, —немыслимая вещь
въ пьесѣ Пушкина.
2) Пушкинъ высоко цѣнилъ и французскую трагедію
Корнеля и Расина, и испанскую Кальдерона, но особенно
близокъ онъ по духу къ Шекспиру. Его привлекаетъ
въ Шекспирѣ художественный реализмъ, правдоподобіе
сыростей, характеровъ и положеній. Но мелочной точ
ности сценическаго изображенія, натурализму бытовому и
археологическому, онъ, какъ и Вольтеръ, не сочувствовалъ.
Ни Пушкинъ, ни Вольтеръ, за которымъ онъ въ данномъ
случаѣ слѣдуетъ, не могли бы одобрить то, что теперь на
зывается по имени извѣстной нѣмецкой труппы „мейнингенсшвомъ“. Вольтеръ пишетъ: „Я видѣлъ въ Лондонѣ пьесу,,
въ которой представлялась коронація англійскаго короля,
„dans toute l’exactitude possible“. „Славную оперу мы видѣли,
проѣзжали до 200 лошадей гвардіи“, но „четыре прекрас
ныхъ стиха въ пьесѣ стоятъ больше, чѣмъ цѣлый полкъ ка
валеріи“. (См. Oeuvres complètes, ѵ. Ill, p. 500).
3) Фантастика допускается Пушкинымъ въ трагедіи
лишь въ крайне рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ — ко
нецъ „Русалки" и конецъ „Каменнаго Госшя“, причемъ, оче
видно, и здѣсь по слѣдамъ Вольтера Пушкинъ руководится
правильнымъ соображеніемъ, что фантастика здѣсь допустима
лишь при томъ условіи, если она въ сжатой формѣ симво
лически выражаетъ душевное состояніе въ полномъ соотвѣт
ствіи съ психологическимъ правдоподобіемъ.
4) Уже въ древней трагедіи часто героевъ посѣщали
вѣщія сновидѣнія, которыя оказывали существеннее вліяніе
на самый ходъ драмы, — такимъ образомъ, начало потусто
роннее, — судьба, боги, — вторгалось въ ходъ дѣйствія и
измѣняло его. Пушкинъ никогда не прибѣгаетъ къ такимъ
вѣщимъ сновидѣніямъ, какъ факторамъ, вліяющимъ на ходъ
самой драмъѵ, она естественно развивается совершенно неза
висимо отъ нихъ, но онъ весьма часто пользуется вѣщими
снами, изображая ихъ съ полной естественностью, дабы под
черкнутъ въ сознаніи зрителя неизбѣжный детерминизмъ (от
нюдь не фатализмъ) событій. Вѣщее предсказаніе, прогно
стическій сонъ, прогностическая иллюзія или галлюцинація,
вообще играютъ большую роль въ творчествѣ Пушкина.
Завѣтовъ грядущего вѣстникъ говоритъ Олегу:
„Грядущіе годы таятся во мглѣ,
Но вижу твой жребій на свѣтломъ челѣ“.
204
Въ своей юношеской поэмѣ „Вадимъ“ Пушкинъ описы
ваетъ вѣщій сонъ Вадима:
„Онъ видитъ Новгородъ Великій,
Знакомый теремъ съ давнихъ поръ,
Но тынъ обросъ крапивой дикой,
Обвиты окна павиликой, —
Въ травѣ заглохъ широкій дворъ.
Онъ быстро храминъ опустѣлыхъ
Проходитъ молчаливый рядъ:
Все мертво — нѣтъ гостей веселыхъ,
Застольны чаши не гремятъ.
И вотъ веселая свѣтлица,
Въ немъ сердце бьется: здѣсь иль нѣтъ
Любовь очей, душа-дѣвица?
Цвѣтетъ ли здѣсь мой милый цвѣтъ?
Онъ входитъ — что же? — страшный видъ:
Въ постели хладной подъ покровомъ
Дѣвица мертвая лежитъ.
Въ немъ замеръ духъ и взволновался.
Покровъ приподнимаетъ онъ,
Глядитъ — и слабый стонъ
Сквозь тяжкій сонъ его раздался,
Она, Она! ея черты!
На персяхъ рану обнажаетъ.
Она погибла! восклицаетъ —
Кто могъ? — и слышитъ голосъ: ты.“
Въ „Онѣгинѣ* Татьяна въ вѣщемъ снѣ видитъ гибель
Ленскаго. Въ „Пиковой дамѣ“ вся фабула основана на вѣ
щемъ снѣ. Въ драматическихъ произведеніяхъ Пушкинъ
пользуется этимъ пріемомъ съ величайшей осторожностью.
Предчувствія, иллюзіи, галлюцинаціи никогда не выходятъ изъ
рамокъ психологическаго правдоподобія. Въ „Русалкѣ* пред
чувствіемъ катастрофы является пѣсня неизвѣстной дѣвушки:
„По камушкамъ, по желтому песочку*, въ „Борисѣ* Григорій
трижды видитъ зловѣщій сонъ, пророчащій ему страшную
гибель, которая выходитъ изъ рамокъ самой трагедіи. Въ
„Моцартѣ и Сальери* Моцартъ сообщаетъ о навязчивой гал
люцинаціи — ему все мерещится черный человѣкъ, заказав
шій Реквіемъ. Въ „Каменномъ Гостѣ* зловѣщее киваніе го
ловой Командора могло быть иллюзіей, вызванной самовну
шеніемъ и внушеніемъ. Замѣчательно, что описаніе вѣщаго
сна Гринева, поразительное по своему правдоподобію, Гри
невъ-Пушкинъ предваряетъ слѣдующими словами: „Мнѣ при
снился сонъ, который я никогда не могъ позабыть, и въ ко
торомъ я до сихъ поръ вижу нѣчто пророческое, когда со
ображаю съ нимъ страшныя обстоятельства моей жизни.
205
Читатель извинитъ меня, ибо, вѣроятно, знаешь ио опыту,
какъ сродни человѣку предаваться суевѣріямъ, несмотря на
все возможное презрѣніе къ предразсудкамъ.11 Эта слабость
была, какъ извѣстно, весьма свойственна самому Пушкину въ
жизни, но онъ самъ смотрѣлъ на подобныя суевѣрія, какъ
на слабость, и отнюдь не пытался дать суевѣрію какое нибудь мистическое толкованіе въ духѣ модныхъ въ его время
толкованій нѣмецкихъ поэтовъ, романтиковъ и философовъ
(Шлегель, Шеллингъ, Шопенгауэръ и др.).
5) Пушкинъ въ своихъ трагедіяхъ, особенно „Моцартъ
и Сальери“, „Борисъ“ и „Каменный Гостъ“, примѣняетъ прі
емъ, который можно назвать кумуляціей мотивовъ: онъ под
водитъ зрителя къ конечной катастрофѣ, постигающей героя,
раскрывая передъ нимъ шагъ за шагомъ внутренніе психо
логическіе мотивы, ведущіе къ конечной развязкѣ. Такъ, на
примѣръ, Сальери въ своемъ первомъ монологѣ, разсказывая
о развитіи своего таланта, говоритъ: „Нѣтъ, никогда я за
висти не зналъ“. Но вотъ при встрѣчѣ съ гулякой празднымъ,
какимъ ему кажется Моцартъ, впервые ее почувствовалъ:
„Я завидую; глубоко, мучительно завидую“. И вотъ въ даль
нѣйшемъ, послѣ появленія Моцарта его зависть непрестанна
питается новыми импульсами, отъ которыхъ она все раз
растается. Моцартъ оказывается способнымъ забавляться
жалкой пародіей на свое великое произведеніе. Онъ творитъ
съ необычайной легкостью, немедленно набрасывая на бумагу
то, что ему пришло въ голову ночью: въ его пьесѣ ему ме
рещится видѣнье гробовое на слова Сальери: „ты, Моцартъ,
богъ, и самъ того не знаешь,“ онъ отвѣчаетъ простодушной
шуткой: „божество мое проголодалось“. Извѣстіе о томъ,
что Моцартъ сочинилъ Реквіемъ, глубоко поражаетъ Сальери,
чувствующаго себя призваннымъ Высшей силой погубить Мо
царта, а разсказъ о черномъ человѣкѣ кажется ему тоже вѣ
щимъ. А тутъ вдругъ Моцартъ спрашиваетъ Сальери:
„Ахъ, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравилъ?“
И Сальери, скрючившись, замѣчаетъ:
„Не думаю, онъ слишкомъ былъ смѣшонъ
Для ремесла такого“.
И наконецъ, въ довершенье ярости Сальери Моцартъ,
какъ нарочно, замѣчаетъ:
„Онъ же геній,
Какъ ты, да я. А геній и злодѣйство
Двѣ вещи несовмѣстныя...“
206
И опять попадаетъ не въ бровь, а прямо въ глазъ. От
равленный Моцартъ уходитъ и на его „Прощай же“ —
Сальери отвѣчаетъ лживымъ: „До свиданья*.
Во всѣхъ выступленіяхъ Бориса Годунова въ восьми
явленіяхъ, въ которыхъ онъ участвуетъ, зритель, живо ощу
щаетъ двойственность его натуры: благородство, семействен
ность, политическую мудрость, величіе, и въ то же время
чувство вины, сознаніе непоправимости совершеннаго грѣха,
начиная съ перваго явленія:
„Скорбитъ душа, какой-то страхъ невольный
Зловѣщимъ предчувствіемъ томитъ мнѣ сердце“
и кончая послѣднимъ монологомъ, въ которомъ онъ ради
предсмертнаго наставленія сына пренебрегаетъ покаяніемъ, и
выражаетъ готовность потерять душу ради сына. Донъ-Жу
анъ въ своемъ ухаживаніи за Донной-Анной проявляетъ ге
ніальную непосредственность поэта „импровизатора любовной
пѣсни“, и въ то же время пользуется тактикой соблазнителя
„по методѣ Мефистофеля“. Уже добившись расположенія Дон
ны-Анны, онъ послѣ ряда искусныхъ подготовительныхъ ма
невровъ, признается ей, что онъ — Донъ Жуанъ, убійца ея
мужа, — онъ говоритъ уже прямо:
„Я убилъ супруга твоего; и не жалѣю
О томъ — и нѣтъ раскаянья во мнѣ“.
Когда же послѣ обморока она говоритъ:
И я повѣрю,
Чтобъ Донъ-Жуанъ влюбился въ первый разъ,
Чтобъ не искалъ во мнѣ онъ жертвы новой?“
Онъ приводитъ послѣдній, рѣшающій доводъ:
Когда-бъ я васъ обманывать хотѣлъ,
Признался-ль я, сказалъ бы я то имя,
Котораго не можете вы слышать?
Гдѣ-жъ видны тутъ обдуманность, коварство?“
А въ то же время онъ искрененъ, когда говоритъ:
„За сладкій мигъ свиданья
Безропотно отдамъ я жизнь“
и мужественно встрѣчаетъ командору:
„Я звалъ тебя и радъ, что вижу“.
207
6) Пушкинъ находилъ искусственнымъ рѣзкое обособ
леніе въ искусствѣ начала трагическаго и начала комическа
го, обособленіе, свойственное древнимъ и Расину, но не свой
ственное ни Кальдерону, ни Шекспиру. Вѣроятно, во слѣдъ
Шекспиру и Шелли (см. его статью „The defense of poetry“
1824), Пушкинъ стремится объединить оба начала въ выс
шемъ синтезѣ: „Смѣхъ, жалость и ужасъ суть три струны
нашего воображенія, потрясаемые волшебствомъ драмы“ (см.
изд. Суворина, т. VIII, стр. 306). Поэтому у Пушкина во
вѣхъ его драмахъ безъ исключенія комическое привходитъ
въ теченіе драмы не только въ видѣ мелкихъ забавныхъ
деталей, но и въ видѣ центральныхъ фигуръ пьесы — Лепорелло, Мельникъ, Варлаамъ, не только въ формѣ юмора,
к я жуткаго гротеска (гимнъ Чумѣ въ „Пирѣ во время чу
мы“ иронія Мефистофеля въ „Сценахъ изъ Фауста“), или па
родіи (карикатурное исполненіе мелодіи Моцарта слѣпымъ
нищимъ). Въ драмахъ Пушкина, какъ и въ жизни, живо чув
ствуется смѣшеніе обоихъ началъ, и ихъ контрастное сопо
ставленіе еще усиливаетъ общее сценическое впечатлѣніе.
7) Пушкинская трагедія есть, главнымъ образомъ, трагедія характеровъ, наличность въ нихъ противочувствія,
противорѣчія страстей. Эту сложность Пушкинъ раскрыва
етъ намъ въ монологахъ (монологъ Скупого рыцаря, три
монолога Сальери, 1-я картина Каменнаго Гос/т/я,'(являющаяся
какъ бы прологомъ, въ которомъ уже раскрыта сложность
натуры Донъ-Жуана), или въ пѣснѣ и монологѣ (Вальсингамъ въ „Пирѣ во время чумы“ — пѣсня, изобрѣтеніе Пуш
кина, ее нѣтъ у Вильсона, какъ и контрастирующей съ нею
пѣсни Мэри). Въ „Пирѣ во время чумы“ всего двѣ ситуаціи,
ВЪ «Моцартѣ и Сальери“ ихъ также двѣ, въ „Скупомъ ры
царѣ“ — четыре, въ „Каменномъ Гостѣ“ — девять. Ника
кихъ побочныхъ эпизодовъ нѣтъ.
8) Бросается въ глаза необычайная сжатость изложенія
въ драмахъ Пушкина (я имѣю въ виду маленькія драмы). Шек
спировское построеніе трагедіи можно было бы уподобить раз
витію математическаго доказательста по синтетическому споС06У- Мы исходимъ отъ извѣстнаго и постепенно шагъ за
шагомъ добираемся до окончательного вывода. Передъ нами
на протяженіи пяти актовъ происходитъ постепенное cres
cendo, которое завершается fortissimo — трагической развяз
кой. Мы слѣдимъ на протяженіи четырехъ актовъ за разви
тіемъ щедрости Тимона, скептическаго безволія Гамлета,
ревности Отелло, чтобы лишь въ пятомъ актѣ увидѣть и
услышать, къ чему привело это развитіе. Пушкинъ начинаетъ
Драму близко къ развязкѣ (по примѣру Расина) и по аналоІІН съ аналитическимъ способомъ рѣшенія задачи, какъ бы
Рсдполагаетъ иксъ извѣстнымъ, — онъ раскрываетъ его
тчасти въ монологахъ (Сальери, Скупой рыцарь), и въ бы
208
стромъ ходѣ дѣйствія приводитъ насъ къ окончательной раз
вязкѣ, пользуясь принципомъ наименьшей траты силъ. Уже
Аристотель въ своей „Поэтикѣ“ поднималъ вопросъ о томъ,
какова должна быть длина драмы. Она должна быть такова,
чтобы, выражаясь языкомъ Канта, давать максимумъ unaptгенсіи и максимумъ комирегенсіи, т. е. она должна быть та
кова, чтобы вниманіе зрителя могло безъ труда охватить еа
единство, не теряя притомъ изъ виду ни одной цѣнной под
робности. Этотъ крайній лаконизмъ Пушкинскихъ маленькихъ
трагедій въ связи съ музыкальностью языка былъ причиной
того, что онѣ оказались идеальными либретто, давшими по
водъ къ созданію такихъ изумительныхъ оперъ, какъ „Ка
менный Гость“ Даргомыжскаго, „Моцартъ и Сальери“ Рим
ского-Корсакова и „Скупой рыцарь“ Рахманинова.
Дени Дидро высказывалъ мысль, что трагедія должна
быть кореннымъ способомъ преобразована. Пушкинъ, поль
зуясь примѣрами и указаніями Вольтера, Расина, Шекспира»
Гёте, сдѣлалъ попытку такого преобразованія техники тра
гедіи, и тѣмъ положилъ начало подлинной трагедіи въ рус
ской литературѣ въ своеобразномъ, одному ему свойствен
номъ стилѣ. О своихъ предшественникахъ въ этой области
онъ писалъ въ статьѣ „О драмѣ“ слѣдующее: „Что привле
каетъ вниманіе просвѣщеннаго зрителя, какъ не изображеніе
великихъ историческихъ происшествій? Драма никогда не
была у насъ потребностью народною. Сумароковъ — жал
чайшій изъ подражателей. Его вялыя трагедіи — произведе
нія, не могшія имѣть никакого вліянія на народное пристра
стіе. Озеровъ это чувствовалъ. Онъ пытался дать намъ тра
гедію народную и вообразилъ, что для этого довольно бу
детъ, если выберетъ предметъ изъ народной исторіи. Послѣ
„Димитрія Донского“, послѣ „Пожарскаго“ (произведеніене
зрѣлаго таланта) мы все не имѣли трагедіи. „Андромаха*
Катенина, можетъ быть, лучшее произведеніе нашей драмы
по силѣ истинныхъ чувствъ и по духу истинно трагическому,
не разбудило нашу сцену. Трагедія наша образовалась по
примѣру трагедіи Расина“. Шекспиръ гораздо болѣе, чѣмъ
Расинъ, оказалъ вліяніе на Пушкина. Проф. Ф. Д. Батюшковъ
въ интересной статьѣ „Пушкинъ и Расинъ“ указываетъ на
другое обстоятельство, на существованіе въ сюжетѣ „Гофоліи“ и „Бориса“ того, что французы называютъ „similitudes
spontanées“ — на нѣкоторыя аналогіи въ самомъ сюжетъ,
проистекающія не изъ подражанія, а просто изъ того факта,
что въ силу общности психофизическихъ свойствъ человіМ
могутъ самопроизвольно возникать въ разныя времена и У
разныхъ народовъ аналогіи въ чертахъ характера и въ ситу
аціяхъ (Орестъ — у древнихъ и Гамлетъ — у Шекспира)Въ заключеніе слѣдуетъ еще отмѣтить, что къ новой
франпузской романтической драмѣ В. Гюго Пушкинъ отн°’
209
сился отрицательно. Одобряя „Hemani“, онъ отзывался са
мымъ суровымъ образомъ о „Кромвелѣ“, драмѣ, появившейся
въ томъ же 1830 году, какъ и маленькія драмы Пушкина,
предисловіе къ „Кромвелю“ представляло какъ бы profession
de foi романтическаго искусства:
„В. Гюго нашелъ нужнымъ сразу уничтожить всѣ законы,
всѣ преданія французской драмы, царствовавшіе изъ-за клас
сическихъ кулисъ. Единство мѣста, времени, величавое одно
образіе стихосложенія Расина, — все было имъ опровергну
то. Однако, справедливость требуетъ замѣтить, что единство
дѣйствія (и единство занимательности — interet—) имъ не за
тронуто. Въ его трагедіи нѣтъ никакого единства дѣйствія,
и еще менѣе занимательности“. (См. Письма Пушкина, т. III,
стр. 150 151, 1935 г.)
Нужно добавить, что, рѣзко расходясь съ романтиками
въ пониманіи сущности трагедіи, Пушкинъ и съ Расиномъ,
и съ Шиллеромъ въ его „Димитріи Самозванцѣ“, рѣзко рас
ходился еще въ одномъ отношеніи.
Расину и Шиллеру въ упомянутой пьесѣ чужда исто
рическая интуиція Пушкина, проявляющаяся такъ ярко осо
бенно въ „Борисѣ'1 и „Моцартѣ и Сальери". Пушкинъ не
считалъ для поэта обязательнымъ быть строго вѣрнымъ
исторіи, но онъ стремился вчувствоваться въ эпоху и въ ду
ховный складъ изображаемыхъ историческихъ личностей.
Изъ замѣчательной работы академика профессора В. А. Фран
цева („Къ творческой исторіи Моцарта и Сальери“ „Slavia“, 1931,
П) мы узнаемъ, какъ внимательно изучилъ Пушкинъ мате
ріалы, касающіеся біографіи Моцарта и его отношеній къ
Сальери, Проф. И. Н. Ждановъ въ превосходномъ изслѣдо
ваніи „О драмѣ А. С. Пушкина „Борисъ Годуновъ“, 1892,
вводитъ насъ въ творческую лабораторію Пушкина, поэтаисторика. Онъ съ замѣчательнымъ мастерствомъ показываетъ
намъ, что Пушкинъ не слѣдовалъ слѣпо за Карамзинымъ,
какъ думали долгое время всѣ, начиная съ Бѣлинскаго, но
путемъ самостоятельнаго изученія источниковъ, пытался воз
создать образы Бориса, Марины, Самозванца и другихъ дѣй
ствующихъ лицъ, существенно расходясь съ Карамзинымъ.
Интересно было бы знать, существуютъ ли работы англій
скихъ историковъ литературы, въ которыхъ изслѣдовалось
сьі отношеніе Шекспира къ хроникамъ, коими онъ поль
зовался, творя свои историческія драмы — навѣрное такія
Работы имѣются, но мнѣ онѣ неизвѣстны.
14
210
IV.
Трагедія транссцендентная и трагедія имманентная.
Трагедія представляетъ высшую форму искусства не
только потому, что она является синтетической формой по
эзіи, ибо моменты лирическіе и эпическіе могутъ входить въ
нее, вплетаясь въ непрерывный ходъ дѣйствія (пѣсня, крат
кое повѣствованіе), не только потому, что она уже у древ
нихъ являлась попыткой синтеза искусствъ (пластика, хорео
графія, музыка, поэзія и драматическое искусство актера), но
главнымъ образомъ потому, что въ ней освѣщается сѵдьба
человѣка, смыслъ жизни, великія историческія событія. Со
зерцаніе трагическаго зрѣлища заставляетъ насъ „съ высоты
взирать на жизнь“ и патетически сопереживать душевныя
волненія героевъ. Вотъ почему произведенія великихъ тра
гиковъ. индійскихъ драматурговъ, Эсхила, Софокла, Эврипи
да, Расина, Кальдерона, Шекспира суть философскія траге
діи — Weltanschauungstragödien, какъ говорятъ нѣмцы.
Однако, это обстоятельство, сообщающее трагедіи ея высо
кую значительность, можетъ въ то же время быть и источ
никомъ ея недостатковъ. Трагедія есть произведеніе искус
ства, которое должно воздѣйствовать прежде всего и послѣ
всего на наше эстетическое чувство. Событія въ ней долж
ны развиваться такъ, чтобы получалось впечатлѣніе наивыс
шаго психологическаго правдоподобія, трагедія должна быть
имманентна міру, „человѣческаго, слишкомъ человѣческаго“.
Между тѣмъ, авторъ, драматургъ, который живописуетъ пе
редъ нами самопроизвольное развитіе человѣческихъ страс
тей, можетъ помимо воли привнести въ ходъ драматическаго
дгъйствія такіе факторы, которые связаны съ его метафизи
ческими взглядами, транссцендентны, выходятъ за предѣлы
опыта, каковы Карма у индусовъ, боги (Гераклъ въ „Филоктетѣ“, Діана и Рокъ въ „Ифигеніи“, Moîpct, тѵхі), у грече
скихъ трагиковъ, Прбѵоіа. Провидѣніе въ христіанскихъ ми
стеріяхъ, роковая воля, внутренній фатализмъ у янсенистовъ,
безпричинная свобода воли, какъ абсолютный произволъ, у
іезуитовъ, моралистическая тенденція, какъ у Вольтера и
Шиллера, въ новѣйшее время у Ибсена, и такъ далѣе. Зна
менитый русскій индологъ Ф. И. ІЦербатскій въ замѣчатель
ной статьѣ „Объ индійской поэтикѣ“ VIII в. (послѣ P. X.)
(Журналъ Мин. Нар. Просвѣщенія, 1902) сообщаетъ, что, по
мнѣнію индусовъ, полиперсонализмъ актеровъ, ихъ способ
ность перевоплощаться въ злодѣевъ, весельчаковъ, святыхъ
и т. д., указываетъ на то, что они ранѣе въ процессѣ пере
селенія душъ были злодѣями, весельчаками, святыми и т. Д-,
а этимъ переселеніемъ душъ управляетъ высшее метафизи
ческое начало, начало возмездія — Карма. Понятно, что та
211
кой взглядъ долженъ наложить на развитіе трагедіи свой
неизбѣжный отпечатокъ, который можетъ нарушить процессъ
естественной мотиваціи въ поступкахъ героевъ, въ видѣ ка
кого-то тренссцендентнаго Deus ex machina. Именно такимъ
Deo ex machina являются въ греческой трагедіи боги, если
ихъ дѣятельность разрубаетъ запутавшійся ходъ человѣче
скихъ дѣяній механически своимъ вмѣшательствомъ. Еще
большую роль антихудожественнаго фактора въ древней
трагедіи игралъ Рокъ. Рокъ разсматривался древними, какъ
нѣкоторая высшая Необходимость, которой должны подчи
няться сами боги („Законы“ Платона). Можетъ быть, это
была смутная антиципація идеи необходимости закона при
чинности, но Рокъ неизбѣжно носилъ въ себѣ нѣчто иное—
начало личное, карающее или милующее не только людей,
но и боговъ. Вотъ какъ проявляется воля судьбы еще у
Гомера', рѣчь идетъ о томъ, кому побѣдить, Гектору или
Ахиллесу:
„Зевсъ распростеръ, Промыслитель, вѣсы золотые, на
нихъ онъ
Бросилъ два жребія Смерти въ сонъ погружающей дол
гій,
Жребій — одинъ Ахиллеса, другой Пріамова сына
Взялъ посрединѣ и поднялъ; поникнулъ Гектора жребій
Тяжкій къ Аиду упалъ“ (Иліада, XXII, 209, 5).
Вершительница судебъ—Мойра, Парка — пряха съ дву
мя помощницами.
Вь трагедіяхъ Эсхила большею частью Зевсъ поглоща
етъ судьбу. Однако, еслибы герои греческой трагедіи были
игралищемъ судьбы, маріонетками, то древняя трагедія не
имѣла бы художественной цѣны. Къ счастью, у Эсхила дѣй
ствующія лица нерѣдко „разговариваютъ такъ, какъ будто
бы ими управляетъ Судьба, но могутъ сдѣлать все“ (Бартельми).
Мищенко въ превосходной статьѣ о Рокѣ у древнихъ (Словарь
Брокгауза Ефрона, 1-е изданіе) указываетъ, что и въ древности
нелѣпость олицетворенія Рока въ грозную силу осознавалась,
какъ жалкое заблужденіе; однако, отъ этого представленія
не могли вполнѣ отдѣлаться тѣ, которые сознавали его не
состоятельность, напримѣръ, историкъ Полибій, который писалъ: „Тѣ люди, которые по природной ли ограниченности,
или по невѣжеству, или по легкомыслію не въ состояніи по
стигнуть въ какомъ-нибудь событіи всѣхъ случайностей, при
чинъ и отношеній, почитаютъ боговъ и судьбу виновниками
того, что было достигнуто проницательностью, расчетомъ и
предусмотрительностью“ (X, V, 8). (Мищенко, тамъ же).
Изъ древнихъ трагиковъ Пушкинъ особенно цѣнилъ
Зсхила и Софокла; но онъ не распространяется о нихъ.
§ 14. Теперь мы пересмотримъ, какіе метафизическіе
212
факторы играли вредную роль въ драматичесэомъ творче
ствѣ двухъ великихъ мастеровъ сцены, Расина и Кальдерона,
которыхъ Пушкинъ такъ высоко цѣнилъ. Одною изъ завѣ
домо неразрѣшимыхъ проблемъ богословія, нѣчто въ родѣ
мето физической квадратуры круга, была проблема, какъ при
мирить божественное предвидѣніе и предопредѣленіе со сво
бодой воли въ видѣ безпричиннаго произвола человѣка.
Проблема эта, какъ невозможное заданіе, никогда не могла
быть рѣшена, но въ попыткахъ ея рѣшенія одни, напримѣръ
янсенисты, налегали на идею предопредѣленія, (не отрицая и
свободы воли, но теоретически отводя ей подчиненное мѣсто,
а фактически сводя ее почти къ нулю). Ихъ міровоззрѣніе,
такимъ образомъ, получало отпечатокъ мрачнаго пессими
стическаго фатализма, связаннаго съ постоянными мученіями
по поводу вопроса о томъ, осужденъ ли я отъ вѣка Богомъ,
или нѣтъ. Съ другой стороны, іезуиты не отрицаютъ пред
опредѣленія, но при помощи хитроумныхъ паралогизмовъ
стремятся согласовать его съ существованіемъ безпричинной
свободы воли. Такъ какъ Христосъ напередъ искупилъ своей
смертью всѣ грѣхи міра, то возможно грѣшнику спастись,
какъ бы онъ ни грѣшилъ, при условіи, если онъ актомъ
свободной, абсолютно произвольной воли проявитъ истинную
вѣру въ Христа и въ силу покаянія. Примиреніе идеи пред
опредѣленія съ идеей безпричиннаго акта воли осуществляется
при помощи посредствующаго понятія Божіей благодати.
Расинъ былъ янсенистомъ, у него въ мотиваціи чело
вѣческихъ поступковъ рѣшающую роль играетъ идея пред
опредѣленія, многіе его герои-злодѣи фатально катятся въ
преисподнюю. На этотъ внутренній фатализмъ, мрачный и од
носторонній, въ расиновскихъ драмахъ указываютъ француз
скіе историки литературы. Такъ, Лансонъ въ своихъ амери
канскихъ лекціяхъ по исторіи французской трагедіи замѣ
чаетъ, что у Расина нерѣдко чувствуется тайное вліяніе янсенистскаго фатализма на построеніе его трагедіи, а именно
въ „Орестѣ“, въ „Неронѣ“, въ „Митридатѣ“ и въ „Федря>‘Th. Maulnier въ своей книгѣ „Racine“ въ главѣ „L’évo
lution de la fatalité“ (p. 219) сообщаетъ, что первая трагедія
Расина начинается словами:
„Nous voici, hélas, à ce jour détestable...“ (Thébaîde)
Драма сразу начинается съ величайшаго напряженія раз
нузданныхъ страстей, съ точки кипѣнія. Надъ человѣкомъ
властвуютъ высшія силы, вынуждающія его и въ то же время
не прощающія его, какъ говоритъ Іокаста. Эта черта ха
рактерна для трагедій Расина. Великій знатокъ человѣческаго
сердца, онъ все же нерѣдко представляетъ развитіе страстей
односторонне и искусственно, благодаря привнесенію въ ихъ
развитіе начала предопредѣленія, которое у него является
какъ бы Рокомъ, перенесенномъ въ глубину человѣческой души-
213
Этимъ порой нарушается психологическое правдоподобіе въ
угоду метафизической доктринѣ.
Рѣшительный детерминизмъ Лютера въ его „De servo
arbitrio“ вызвалъ среди католическихъ богослововъ, особенно
іезуитовъ, реакцію въ сторону индетерминизма. Особенно
замѣчательна въ этомъ отношеніи попытка Молины („Liberi
arbitrii cum gratiae divinae donis concordia“, 1588). Молина
устанавливаетъ три формы божественнаго предвидѣнія: Вопервыхъ, Богъ мысленно, логически охватываетъ въ своемъ
духѣ все, что мыслимо, что возможно; во вторыхъ, онъ про
видитъ все, что необходимо случалось, случается и произой
детъ въ дѣйствительности-, въ третьихъ, же, онъ распола
гаетъ еще тѣмъ, что Молина называетъ среднее знаніе, scientia media. — это знаніе о томъ, что должно необходимо
случиться, но при наличности извѣстнаго добавочнаго усло
вія. Такъ, въ книгѣ Царствъ разсказывается, какъ одинъ
царь, осаждая вражескій городъ, узналъ отъ первосвящен
ника, что Богъ предрекаетъ ему побѣду, если онъ немед
ленно попробуетъ взять осажденный городъ приступомъ.
Но царь не рѣшился на приступъ, и городъ не былъ взятъ.
Такимъ образомъ, Молина ввелъ понятіе чего-то средняго
между мысленно возможнымъ и дѣйствительно необходи
мымъ. Такое понятіе-буферъ, давало ему возможность якобы
примирить безпричинный произволъ свободы воли съ Боже
ственнымъ Провидѣніемъ.
Суарецъ (1620) углубилъ далѣе эту теорію при помощи
такъ называемаго конгруизма. По его мнѣнію, дѣйственная
благодать (gratia efficiens) ниспосылается Богомъ человѣку
именно тогда, когда онъ актомъ свободной воли стремится
къ добру, но эти два акта, божескій и человѣческій, лишь
совпадаютъ всегда и неизмѣнно, но божественный актъ при
этомъ не вынуждаетъ у человѣка поступка, но послѣдній
паралельно въ силу якобы предустановленной гармоніи, сов
падаетъ со свободнымъ волевымъ рѣшеніемъ человѣка. Іезу
итская теорія весьма оптимистична, — она внушаетъ самому
страшному грѣшнику мысль, что вѣра въ божественность
Христа и готовность покаяться, проявляемыя актомъ свооодной воли, могутъ спасти его, благодаря совпаденію та
кого акта съ ниспосланіемъ дѣйственной благодати.
Въ духѣ іезуитскаго оптимизма написана трагедія Каль
дерона „Поклоненіе святому Кресту11. Въ основу ея поло
жена мысль, что самый страшный грѣшникъ, свободная воля
котораго постоянно направлена ко злу, а не къ добру, мо
жетъ спастись при условіи, если его свободная воля въ то
же время есть воля къ вѣрѣ въ силу святого Креста. Герой
упомянутой трагедіи, Эусебіо, сынъ неизвѣстныхъ родитееи, былъ найденъ у подножія святого Креста. Пастухи взяли
воспитали его. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ онъ проявилъ
214
неудержимое сознательное влеченіе свободной воли къ зло
дѣйству и въ то же время къ вѣрѣ въ спасительную силу
Креста. Первымъ событіемъ его жизни былъ звѣрскій по
ступокъ съ кормилицей: онъ ей прокусилъ грудь такъ, что
причинилъ глубокую рану. Отъ боли и ярости она бросила
его въ колодезь. Съ этого момента трансцендентное начало
— сила Креста — начинаетъ вторгаться въ его жизнь в
всегда выручаетъ его, несмотря на творимыя имъ злодѣянія.
1) Когда онъ упалъ въ колодезь, онъ сложилъ пальчи
ки правой ручки наподобіе крестнаго знаменія и сталъ съ
веселымъ смѣхомъ плавать въ водѣ; его смѣхъ услышал»
проходящіе и вытащили его. 2) Онъ горѣлъ въ огнѣ при
пожарѣ, но, благодаря кресту, не сгорѣлъ. 3) Онъ тонулъ
въ морѣ, но его спасла доска, имѣвшая форму креста. 4)
Молнія убила окружающихъ — его не тронула — онъ сто
ялъ близко къ кресту. 5) Разбойники истребили его товари
щей — онъ остался невредимъ — пуля увязла въ крестѣ
на его груди. Сдѣлавшись бандитомъ, онъ убивалъ множе
ство людей, но каждому убитому вырывалъ могилу, надъ
которой ставилъ крестъ. Влюбившись въ нѣкую Юлію (онъ
не зналъ, что она была его сестрой), которую отецъ Курсіо
насильно постригъ въ монахини и заключилъ въ монастырь,
онъ проникаетъ въ ея келью и собирается похитить ее, но
(въ 6-ыхъ), замѣчаетъ у нея на груди родимое пятнышко
въ видѣ креста и, несмотря на страстную любовь къ ней,
покидаетъ ее; она же сама бѣжитъ изъ монастыря и дѣла
ется страшной разбойницей. 7) Совершивъ массу злодѣяній,
Эусебіо, смертельно раненый, умираетъ, не успѣвши пока
яться, но тогда его трупъ кладутъ къ подножію Креста,
онъ воскресаетъ, чтобы покаяться, и затѣмъ ужъ оконча
тельно умираетъ. Въ теченіе трагедіи транссцендентное на
чало, помощь Креста, непрестанно и безъ мотиваціи вторга
ется въ дѣйствіе. Когда мы, какъ говорится, чудомъ избѣ
гаемъ опасности, мы говоримъ, что Богъ или Провидѣніе
спасло насъ, но это не бываетъ ежедневно. Вторженіе транс
цендентнаго начала въ этой пьесѣ является, несмотря на ея
большія достоинства въ другихъ отношеніяхъ (обрисовкаха
рактеровъ), съ психологической точки зрѣнія неправдоподоб
нымъ, съ художественной — натянутымъ, а съ моральнойсоблазнительнымъ. Оно содѣйствуетъ не укрѣпленію вѣры въ
Провидѣніе у зрителя, а, наоборотъ, колеблетъ ее. Вспоми
наются слова Вл. Соловьева: „Если вы скажете, что вамъ
ночью во снѣ ангелъ принесъ золотое пальто съ брилліан
товыми пуговицами, то никто вамъ не повѣритъ“. Мораль
ная преступность слѣпо вѣрующаго въ Крестъ человѣка
превращаетъ этотъ крестъ въ талисманъ, въ фетишъ, и У
зрителя возникаетъ соблазнительная мысль, что „на том
свѣтѣ все окупится“. Каждый актъ свободной воли къ вѣръ
215
связанъ здѣсь какой-то предустановленной гармоніей съ ак
томъ божественной дѣйственной благодати, и эта gratia efliciens и оказывается въ концѣ концовъ тѣмъ deus ex machina,
который управляетъ ходомъ событій. У Кальдерона она иг
раетъ свѣтлую роль, у Расина подобный же deus ex machina
- предопредѣленіе — играетъ мрачную роль, но въ обоихъ
случаяхъ естественное развитіе человѣческихъ событій нару
шается вторженіемъ потусторонняго начала.
Кощунственное пониманіе идеи всеспасающей силы
креста изображено въ пьесѣ Виктора Гюго „Торквемада“,
(гдѣ играетъ роль крестъ, понимаемый, какъ фетишъ, въ
который слѣпо вѣритъ человѣкъ, не согрѣтый никакой лю
бовью къ людямъ), оно приводитъ Торквемаду къ ужасному
преступленію.
Пушкинская точка зрѣнія, какъ и Шекспировская, одина
ково чужда и фатализма янсенистовъ, и „контингентизма“
іезуитовъ, она ни предвзято пессимистична, ни предвзято оп
тимистична. Рокъ, какъ мы видимъ у Пушкина, не есть пер
сонифицированная сущность. Онъ былъ рѣшительнымъ де
терминистомъ всю жизнь, начиная съ 14-лѣтняго возраста,
когда онъ разсказывалъ товарищамъ, по словамъ Анненкова,
сказку „Фагпьма“, сущность которой заключалась въ томъ,
что нѣкоторые родители были недовольны существующимъ
въ природѣ порядкомъ вещей — ея законами, и Фортуна
послала имъ сына, который сталъ развираться въ обратномъ
порядкѣ, — онъ родился взрослымъ, съ усами и бородой,
и мало по малу изъ взрослаго дѣлался подросткомъ, изъ
подростка отрокомъ, изъ отрока — слабоумнымъ младен
цемъ, и, наконецъ, совершенно исчезъ. Повидимому, основа
ніемъ для сочиненія этой сказки Пушкину послужило одно мѣ
сто изъ „Политика“ Платона, но я не знаю, какъ познакомился
юный Пушкинъ съ этимъ діалогомъ, во всякомъ случаѣ не
черезъ Вольтера, въ сочиненіяхъ котораго объ этомъ діалогѣ
нѣтъ никакого упоминанія. Очевидно, юный Пушкинъ откудато узналъ, что Платонъ въ своей „Политикѣ“ сообщаетъ
миѳъ, согласно которому во вселенной въ связи съ trope-періодическимъ измѣненіемъ направленія въ движеніи свѣтилъ, про
исходитъ періодическое измѣненіе необходимаго закономѣр
наго хода природы въ обратную сторону — старики начи
наютъ молодѣть, юноши превращаются въ младенцевъ и т.д.
Самъ Пушкинъ имѣлъ въ виду использовать эту сказку,
какъ выраженіе осужденія того недовольства, которое люди
выражаютъ противъ необходимыхъ законовъ природы, и
прежде всего необратимости хода времени. „Довольствуйся
Даннымъ міромъ“ (Фейербахъ). (Миѳъ приведенъ у Платона
270 стр. франц, изд. полнаго собранія соч. Платона съ пере
водомъ, ч. IX, отд I, переводъ Auguste, Diès 1935).
Съ другой стороны, какъ мы видѣли, идея свободы
216
воли въ смыслѣ безпричиннаго произвола, какъ ее понима
ютъ сторонники контингентизма, была Пушкину совершен
но чужда. Мотивацію человѣческихъ дѣйствій онъ понималъ,
какъ процессъ строго закономѣрный, а потому онъ и при
мѣняетъ въ своихъ трагедіяхъ тотъ принципъ, который я
назвалъ принципомъ кумуляція мотивовъ — онъ озабоченъ,
какъ художникъ, тѣмъ, чтобы сдѣлать для зрителя психо
логически понятнымъ постепенное наростаніе той или дру
гой страсти, ведущее къ трагической развязкѣ. У Пушкина
не было и другого недостатка въ его трагедіяхъ, недостат
ка умышленной морализаціи, связанной съ извѣстнымъ ме
тафизическимъ допущеніемъ. Вольтеръ относится скептиче
ски къ божественнымъ силамъ, игравшимъ такую видную
роль въ трагедіяхъ стараго и новаго времени, но онъ нахо
дитъ введеніе dei ex machina педагогически полезнымъ для
средняго зрителя. Онъ говоритъ въ своей „Sémiramis“:
„Apprenez tous du moins
Que les crimes secrets ont les dieux pour témoins“.
Вотъ пушкинское опредѣленіе природы драматическаго
писателя: „Что развивается въ трагедіи? Какая цѣль ея? Че
ловѣкъ и народъ, судьба человѣческая, судьба народная.
Вотъ почему Расинъ великъ, несмотря на узкую форму сво
ей трагедіи. Вотъ почему Шекспиръ великъ, несмотря на
неравенство, небрежность, уродливость отдѣлки. Что нужно
драматическому писателю? Философія, безстрастіе, государ
ственныя мысли историка, догадливость, живость воображе
нія, никакихъ предразсудковъ, никакихъ любимыхъ мыслей“.
„Драматическій писателъ долженъ быть безпристрастенъ,
какъ судьба“, ужъ, конечно, не въ смыслѣ древ іяго Рока.
ревниваго къ человѣку, а въ смыслѣ законовъ равнодушной
природы. Дѣло не въ томъ, имѣется ли у автора то или
другое метафизическое убѣжденіе, а дѣло въ томъ, чтобы
онъ былъ искрененъ и добросовѣстенъ въ художественномъ
изображеніи человѣческой судьбы, какъ таковой. „Дорогою
свободной иди, куда ведетъ тебя свободный умъ“, — это
основная предпосылка имманентной трагедіи, каковою и
была трагедія Пушкина.
Евгеній Аничковъ.
Пушкинъ и театръ
(Къ „Моцарту и Сальери“)
Театръ занимаетъ совсѣмъ особое мѣсто въ творчествѣ
и жизни Пушкина.
Почему-то именно связанные съ театромъ его поэтиче
скіе замыслы и увлеченія однако вовсе не привлекли къ
себѣ вниманія изслѣдователей. Чѣмъ былъ для Пушкина те
атръ, какъ понималъ онъ драму, это особое и сложное про
явленіе поэзіи, которому онъ отдалъ дань и дань генія —
зга проблема остается открытой. Сами по себѣ изучались
сюжеты, ихъ поэтическія разработки, своеобразіе героевъ,
но они изучались совсѣмъ независимо отъ законовъ доамы.
Что такъ обстоитъ дѣло и относительно „Моцарта и Салье
ри', нечего и говорить. Почему эго Пушкинъ упорно назы
валъ свои драматическія произведенія, и въ частности и „Мо
царта и Сальери“, сценами? И что за странный сюжетъ: За
висть, какъ названа первоначально пьеса? Она опутана какамъ-то особымъ туманомъ. О немъ молчалъ самъ Пушкинъ.
Куда же была направлена творческая воля поэта? Чего онъ
хотѣлъ, чего добивался?
Тутъ возникаетъ одинъ изъ самыхъ острыхъ вопросовъ
литературной критики.
Легко сказать: поэтъ хотѣлъ изобразить или хотѣлъ
выразить то то и то-то Но вѣдь, если о современныхъ намъ
поэтахъ, не переставая, звучитъ и не умолкаетъ самая про
тиворѣчивая разноголосица, и это даже среди тѣхъ, кто лич
но и близко зналъ поэта, то какъ же можетъ это быть
иначе, когда рѣчь идетъ о поэтическихъ замыслахъ и ихъ
осуществленіяхъ, возникшихъ много поколѣній до насъ Сто
лѣтъ отдѣляетъ насъ отъ смерти Пушкина. Только одни мы,
подошедшіе къ предѣлу человѣческой жизни, старики, знали
хотя бы третье за Пушкинымъ поколѣніе. Да, лишь третье
поколѣніе. Но оно цѣликомъ принадлежало къ совсѣмъ иной,
новой, только памятовавшей о Пушкинѣ эпохѣ. Совсѣмъ
иначе по новому было это третье поколѣніе воспитано, и
иначе воспринимало не только окружавшее его бытіе, но и
218
самыя традиціи прошлаго, по новому, хранимыя согласно
своимъ собственнымъ запросамъ и стремленіямъ. А чего же
ждать тогда отъ современной критики? Критика свободна
въ своихъ сужденіяхъ. Она тоже исходитъ изъ порывовъ
творчества. Она законна и желательна. Въ ней тоже перели
вается и свѣтитъ талантъ И почему не геній! Черезъ нуж
ное и важное творческое истолкованіе воспринимается поэ
зія. И исполать. Но можно ли тогда, сохраняя твердость ума
и памяти, повторять, и повторять точно нѣкую непрелож
ную истину: поэтъ хотѣлъ то-то изобразить или выразить?!
А особенно свободна критика, когда передъ нею творенія писа
теля давно минувшихъ столѣтій. Созданія поэзіи вѣдь на
много вѣковъ переживаютъ ихъ авторовъ. Мало этого, они
живутъ дальше. Въ каждомъ поколѣніи они возрождаются,
и перерождаетъ ихъ сознаніе свойственное грядущимъ ихъ
цѣнителямъ. Не довольно ли назвать,—если говорить только
о драмѣ —Расина и Корнеля, Шекспира, испанскихъ драма
турговъ, Кальдерона и Тирео де Молина, чтобы стало такъ
ясна недоступность раскрытія ихъ собственныхъ, имъ когдато присущихъ творческихъ стремленій, а что и говорить объ
Эсхилѣ и Софоклѣ. Они наши; они не сходятъ со сцены и
до нашихъ дней; они чаруютъ и вызываютъ раздумье, но
каждая эпоха понимаетъ ихъ по своему и г.о своему цѣнитъ,
по своему ими восторгается.
Да, это такъ. Но совсѣмъ иначе представляется дѣло,
когда всетаки мучаетъ мозгъ эта мысль, ставшая въ наше
время настоятельнымъ запросомъ, что-же на самомъ то дѣлѣ,
хотѣлъ изобразить или выразить геній того или иного поэта?
Этимъ вѣдаетъ исторія литературы. И современный чело
вѣкъ въ той или иной степени привыкъ съ ней считаться.
Вошло въ обиходъ, что нельзя безъ этой области знанія. Не
надо отрывать произведенія поэзіи отъ породившей его эпо
хи, народности, среды. Такъ думаютъ режисеры, создающіе
свои постановки, и актеры, изучающіе роли. Такъ думаетъ и
критика и даже святотатствомъ представляется, если дѣло
идетъ о великомъ писателѣ, какъ можно не употребить
всѣхъ стараній, чтобы сжиться съ нимъ, вызвавъ изъ небы
тія и ту обстановку, въ которой онъ жилъ, и его заботы,
переживанія, высокія заданія. Однако можно ли тогда, хоть
на единую минуту позабыть о тѣхъ совершенно неизбѣж
ныхъ усиліяхъ, какія необходимы, чтобы отрѣшиться отъ
навязчиваго стремленія приписать поэту свои собственныя
состоянія сознанія? Вѣдь они кажутся такими убѣдительны
ми, даже непреложными. Развѣ они не самъ здравый смыслъ?
И вотъ тутъ различіе между критикой и исторіей литера
туры. Его надо твердо памятовать. Историкъ литературы "
кропотливый изслѣдователь. Пусть блеститъ и красуется
талантомъ критикъ. За черной работой, усидчиво и скромно
219>
углубляется въ рѣшеніе своей задачи историкъ литературы,
передъ нимъ такое поле умственной работы, которое мы
привыкли обозначать терминомъ: наука, и борется знаніе съ
полетами таланта.
Критика — искусство. Критика отзывается на запросы
современной оцѣнки и современнаго любованія поэзіей. Исто
рія литературы возвращаетъ поэта вспять въ его среду, въ.
его народность, въ его эпоху.
Часто смѣшивается то и другое. Но даже недостаточ
ное разграниченіе исторіи литературы и критики вызвало ивызываетъ столько заблужденій.
Мнѣ предстоитъ вернуть Пушкина къ тому театру, ка
кой онъ зналъ, какимъ увлекался, испробовавъ и въ этой'
отрасли поэзіи свои грёзы и душевные запросы. И для исто
рика литературы стоитъ лишь подойти поближе къ этимъ
грёзамъ и запросамъ, чтобы увидѣть, насколько очевидно
въ этой области поэтической дѣятельности Пушкина сказы
ваются его исканія. Оттого и занимаетъ театръ особое мѣсто
въ творчествѣ поэта.
îfj
îfj
Всего три раза въ жизни, и каждый разъ на короткое
время, приближался Пушкинъ къ театру и задачамъ драмы.
И то къ театру лишь въ ранней молодости, то ько что вы
пущенный изъ Царскосельскаго Лицея, пока въ началѣ мая
1820 года не былъ онъ высланъ на югъ. Въ 1825 году, въ
уединеніи Михайловскаго, поэтъ пишетъ „Б:риса Годунова“.
А еще черезъ пять лѣтъ, и тоже въ деревенскомъ одиноче
ствѣ осенью 1830 года въ Болдинѣ сразу возникли „Скупой
Рыцарь“, „Донъ Жуанъ“, „Моцартъ и Сальери“, „Пиръ во
время чумы“ и „Русалка“.
Три года, пока уже прославившійся „лицейскій свер
чокъ“ слылъ завсегдатаемъ театра, какъ будто могли бы и
не идти въ счетъ. Театръ въ тѣ годы для Пушкина легко
мысленная свѣтская забава. Она даже на границѣ полусвѣта.
Въ своемъ наброскѣ „Мои замѣчанія объ русскомъ театрѣ“
(1819 г) онъ дѣлитъ театральную публику на три отдѣла:
въ первыхъ абонированныхъ рядахъ „почтенное украшеніе
Большого Каменнаго театра“, „сіи всегдашніе передовые зри
тели, носящіе на лицѣ своемъ однообразную печать скуки,
спѣси, заботъ и глупости“, „внимательны“ только въ однихъ
балетахъ; что проку отъ нихъ для театра? Раекъ, который
отъ „рёва“ трагика „приходитъ въ изступленіе“, тотъ хоть
заставляетъ театръ „трепетать отъ рукоплесаній“. Развѣ по
срединѣ въ заднихъ креслахъ и въ партерѣ искать художе
ственныхъ оцѣнокъ и впечатлѣній? Тутъ на такъ наз. въ тѣ
годы „лѣвомъ флангѣ“, т. е. съ лѣвой стороны креселъ, си
дѣли театралы изъ „Зеленой Лампы“, и среди нихъ самъ.
220
Пушкинъ. Тутъ Катенинъ, Грибоѣдовъ, Жандръ, тутъ же и
Гнѣдичъ, которому обязана своими успѣхами сама Семенова,
Но тутъ же Всеволожскій, у кого пировали по субботамъ
молодые театралы, въ обществѣ актрисъ и ихъ гвардейскихъ
и штадтскихъ поклонниковъ, тѣхъ самыхъ своихъ пріятелей,
такихъ же театраловъ, какъ онъ самъ, которыхъ вспомина
етъ Пушкинъ въ письмѣ отъ 26 сентября 1822 г. изъ Киши
нева къ Я. П. Толстому: Мансурова, Баркова, Завадовскаго,
ввидѣ „почетныхъ гражданъ кулисъ“; ихъ имѣетъ ввиду
Пушкинъ въ своей знаменитой характеристикѣ: „Передъ на
чаломъ оперы, трагедіи, балета молодой человѣкъ гуляетъ
по всѣмъ десяти рядамъ креселъ, ходитъ по всѣмъ ногамъ,
разговариваетъ со всѣми знакомыми и незнакомыми. „Отку
да ты?“—„Отъ Семеновой, отъ Сосницкаго, отъ Колосовой,
отъ Истоминой“ — „Какъ ты счастливъ“ — „Сегодня она
поетъ — она танцуетъ — похлопаемъ ей — вызовемъ ее! Она
такъ мила, у ней такіе глаза! такія ножки!“
И такое интимное завязалось препирательство между
почти мальчикомъ, недавнимъ „царско-сельскимъ сверчкомъ“,
а теперь признаннымъ поэтомъ, Пушкинымъ, и Колосовой,
младшей. Два стихотворенія запечатлѣли эту ссору, закон
чившуюся примиреніемъ. Что-то злое сказала Колосова о на
ружности Пушкина. И вскипѣла месть. Въ эпиграммѣ: „Все
плѣняетъ насъ въ Эсѳирѣ“ Колосову больно, увѣряла она,
задѣли эти слова: „размалеванныя брови“, но не еще ли
больнѣе слѣдующія: „И широкая нога“. Однако не прошло
и двухъ лѣтъ, вспоминая въ своемъ Кишиневскомъ изгнаніи
веселые петербургскіе годы, словно раскаялся Пушкинъ.
Отсюда посланные Катенину стихи: „Кто мнѣ пришлетъ ея
портретъ“, правда, такъ и недошедшіе до него, но зато на
печатанные еще въ собраніи стихотвореній 1826 года. Еще
черезъ годъ произошла завершившая ихъ ссору дружеская
встрѣча поэта со знаменитой актрисой.
Въ угарѣ свѣтскихъ забавъ и полусвѣта протекли годы
увлеченія театромъ. Но они не только оставили за собой
важный слѣдъ. Глубоко запалъ въ поэтическое сознаніе
Пушкина этотъ кратковременный и, пусть, оплетенный легко
мысліемъ опытъ молодого театрала.
На сценѣ проходили, чередуясь, трагедіи и комедіи, воде
вили, балеты и оперы Водевили кн. Шаховского промелькнули
для Пушкина совсѣмъ не замѣтно, хоть онъ и былъ съ нимъ
знакомъ, бывалъ у него на дому; извѣстенъ пренебрежитель
ный отзывъ о прославленномъ мастерѣ водевилей: „Мои
мысли о Шаховскомъ“. Его водевили „холодны и скучны“,
и не можетъ Пушкинъ простить ему ни „пасквиль на Карам
зина“ („Новый Стернъ“), ни „дерзкихъ стиховъ“ на Ломоно
сова. О комедіи Пушкинъ, было, заговорилъ въ „Замѣча
ніяхъ о русскомъ театрѣ“, но на этомъ и оборвалась статья.
221
Въ болѣе зрѣлой статьѣ „О драмѣ“ опять лишь вскользь о
комедіи. И то — „высокая комедія не основана единственно
на смѣхѣ, но на развитіи характеровъ“, отчего „она нерѣдко
близко подходитъ къ Трагедіи“. Правда, въ Кишиневѣ были
задуманы двѣ комедіи въ стихахъ. Отъ нихъ сохранились
отрывки. Всего черезъ годъ послѣ петербургскихъ увлеченій
театромъ молодой Пушкинъ еще полонъ ими. Набросокъ
.программы“ одной изъ комедій, еще и не названной, обоз
начаетъ предпологаемыхъ дйствующихъ лицъ именами ак
теровъ, которые, предполагалось, должны были ихъ играть.
И это все знакомые артисты петербургскаго театра. Вальборхова должна была явиться въ роли богатой великосвѣт
ской вдовы, Брянскій ея любовника, а Сосницкій играть глав
наго героя, ея брата, молодого прожигателя жизни, который
такъ же какъ самъ авторъ, въ тѣ памятные веселые годы,
всего какъ „съ годъ учиться пересталъ“. И сестра упрекаетъ
его, почему онъ совсѣмъ не ѣздитъ въ свѣтъ, а проводитъ
время съ офицерами. Пусть „казармы нравятся имъ больше
нашихъ залъ“, а онъ-то, штадтскій, почему тянется за ними?
И не забыты и менѣе знаменитые актеры: Величкинъ для
роли вѣрнаго слуги, котораго герой комедіи „гнетъ“ на карту
и проигрываетъ.
А непремѣнно надо отмѣтить, что именно необузданная
картежная игра, повидимому, составляла основной сюжетъ
комедіи. Это еще одна черта изъ нравовъ „лѣваго фланга“
креселъ. Не обходилось безъ картъ у Всеволожскаго. До
чиста проигрался у него разъ Пушкинъ и загнулъ на карту,,
если не крѣпостного человѣка, то нѣчто что, можно сказать,
по чезовѣчеству было тоже важно: рукопись своихъ стиховъ.
Мы узнаемъ объ этомъ эпизодѣ изъ письма поэта изъ Одес
сы въ іюнѣ 1824 г. Онъ проситъ Всеволожскаго эти стихи,
которые онъ „полу-продалъ, полу-проигралъ“ вернуть ему
обратно, по уплатѣ за нихъ 1000 рублей, и какъ мы узна
емъ изъ послѣдующей переписки Пушкина съ братомъ и
Плетневымъ, они оказались необходимы для изданія 1826
года. Перечитывая же письмо къ Всеволожскому, еще подроб
ность, которую не удержаться упомянуть, тѣмъ болѣе, что
она въ довольно необычномъ видѣ оговариваетъ церьковь
театральной Дирекціи. „Не могу повѣрить, — пишетъ Пуш
кинъ — чтобы ты позабылъ меня, милый Всеволожскій! Ты
помнишь Пушкина, проведшаго съ тобою (первые годы)
столько веселыхъ часовъ, Пушкина, котораго ты видѣлъ и
пьянаго, и влюбленнаго, не всегда вѣрнаго твоимъ субботамъ,
но неизмѣннаго товарища въ театрѣ, наперстника твоихъ ша
лостей (кулисныхъ страстей), того Пушкина, который отрез
вилъ тебя въ страстную пятницу и проводилъ тебя подъ
Руку въ церьковь театр. Дирекціи, да помолишься Господу
°ПГУ и насмотришься на госпожу Овошникову“.
:222
Однако лишь чуть пробрезжилъ комедійный замыселъ,
какъ отзвукъ петербургскихъ воспоминаній, пробрезжилъ и
погасъ, потому что дальше до самой смерти, — ни строчки о ко
медіи, развѣ такіе скорѣе холодные отзывы, какъ о Фонвизинѣ и
.Грибоѣдовѣ.
Пожалуй, глубже запечатлѣлся въ воображеніи поэта
■балетъ, котораго въ тѣ годы былъ чародѣемъ Дидло. Не
ужто не показательно, что такой же, какъ и самъ Пушкинъ,
завсегдатый театра, Онѣгинъ, только на послѣдней ступени
сгоей байронической хандры (мы бы сказали: на послѣдней
ступени своего фатовства) рѣшается оговориться, хотя,конечно
не сознаться, ибо поза не состояніе душевное, будто и ба
летъ пересталъ его тѣшить. Значитъ, больше и дольше всего
остального тѣшилъ именно — балетъ. Вѣдь во всѣхъ этихъ оча
ровательныхъ строфахъ „Евгенія Онѣгина“ всѣми нами съ дѣт
ства памятныхъ наизусть, царитъ русская Терпсихора, и нѣжнѣе
всего вспоминаетъ самъ Пушкинъ „душой исполненный по
летъ“ Истоминой; только его пресыщенный герой, усѣвшись
.въ кресло,
Раскланялся, потомъ на сцену
Въ большомъ разсѣяньи взглянулъ,
Отворотился и зѣвнулъ
И молвилъ: „всѣхъ пора на смѣну
Балеты долго я терпѣлъ,
Но и Дидло мнѣ надоѣлъ.“
А Дидло не позабылъ, когда уже не было его въ Петер
бургѣ, причуды фантазій Пушкина. Онъ пересоздалъ въ ба
леты „Кавказскаго Плѣнника“ и „Руслана и Людмилу“, о
чемъ узналъ поэтъ въ своемъ Кишиневскомъ изгнаніи. И онъ
напоминаетъ брату: „Пиши мнѣ о Дидло, объ ЧеркешенкѣИстоминой, за которой я когда-то волочился“. Истомина!
Вѣдь это она —
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружитъ
И вдругъ прыжокъ, и вдругъ летитъ
Летитъ, какъ пухъ отъ устъ Эола;
То станъ совьетъ, то разовьетъ
И быстрой ножкой ножку бьетъ.
О балетѣ „Русланъ и Людмила“ упоминаній у самого Пуш
кина какъ будто не сохранилось, зато вотъ нѣсколько строкъ
Грибоѣдова о плѣнившей его въ „Русланѣ и Людмилѣ“ мо
лодой ученицѣ Дидло — Телешевой:
О кто она? Любовь, Харита
223
Иль пери для страны иной
Эдемъ покинула родной,
Тончайшимъ облакомъ обвита?
Пронеслись мимо Пушкина созданія Дидло и, сладко за
сердце щемя, тѣшили въ тѣ его годы молодыхъ радостей.
Но вотъ совсѣмъ другое: трагедія. Нѣтъ, не комедія и ба
летъ заполонили поэтическое воображеніе Пушкина. И эта
неотразимая и навязчивая устремленнность поэта къ трагедіи
сказывается во всѣ три краткихъ періода его драматическихъ
исканій.
Какъ бы подводя итогъ, въ своихъ „Замѣчаніяхъ объ
русскомъ театрѣ“ (1819 г.), къ тѣмъ тремъ годамъ своей
близости къ чарамъ драмы, онъ говоритъ только о траги
кахъ. Запечатлѣлась игра именно трагическихъ актеровъ
Среди нихъ на первомъ мѣстѣ Семенова. Въ ея игрѣ его
плѣнили ея „порывы вдохновенія“, самостоятельность и не
зависимость ея артистическихъ созданій, въ которыхъ она
сумѣла преодолѣть несовершенства тѣхъ произведеній Озе
рова, Лобанова, Катенина, какія она воспроизводила на сце
нахъ. И важно запомнить, что оцѣнилъ въ ея игрѣ Пушкинъ
личный починъ. „Бездушная французская актриса Жоржъ и
вѣчно восторженный поэтъ, Гнѣдичъ, — записываетъ Пуш
кинъ — могли только ей намекнуть о тайнахъ искусства,
которое поняла она откровеніемъ души“. Когда она сошла
со сцены и уже, княгиней Гагариной, жила въ Москвѣ, увы,
напрасно было ждать отъ привлекательной Колосовой, что
она станетъ „надежной наслѣдницей“ Семеновой. Сходно суж
деніе и о „дикомъ, но пламенномъ“ Яковлевѣ. Его недостатки
не помѣшали ему всетаки оказаться трагикомъ по темпера
менту, всетаки истинно трагическимъ талантомъ. Напротивъ
холодность: „расшевелись, батюшка, развернись, разсердись“,
порицаетъ поэтъ въ Брянскомъ и Борецкомъ, но снисходи
тельнѣе онъ къ этому послѣднему именно за „порывы души“,
проявленные и имъ въ нѣкоторыхъ роляхъ.
Среди „шалостей“, картежной игры, въ похмѣльи свѣта
и полусвѣта, недавній „лицейскій сверчокъ“, ставшій теперь
признаннымъ поэтомъ, выносилъ въ своихъ творческихъ по
мыслахъ тоже „порывы души“, а эти порывы были прос
нувшимся въ тайникахъ генія трагизмомъ, какъ личнымъ,
такъ и творческимъ. Долго вынашивалъ его Пушкинъ и до
конца остался вѣренъ ему. Въ поздней статьѣ о драмѣ кате
горически сказано: „Истина страстей, правдоподобіе чувство
ваній въ предлагаемыхъ обтоятельствахъ — вотъ, чего тре
петъ нашъ умъ отъ драматическаго писателя“. А вѣдь было
замѣчено, что высокая комедія не основана единственно на
смѣхѣ, и что она „нерѣдко близко подходитъ къ Трагедіи“.
Фагедія завершеніе и самая высшая ступень, на какую по-
224
дымается поэзія, и сорвется у Пушкина: „кто не рожденъ
трагикомъ, тотъ просто не поэтъ“.
Вотъ списокъ ролей, которыя Семенова передавала Ко
лосовой, младшей. Онѣ краснорѣчиво говорятъ о смѣшан
ности репертуара 20-ыхъ годовъ. Чередуются трагедіи, сами
собою распредѣляемыя по тремъ различнымъ „системамъ",
какъ выражался Пушкинъ, или родамъ драмы:
Антигона („Эдипъ въ Аѳинахъ“)
Эсфирь („Эсфирь“)
Моина („Фингалъ“)
Пальмира („Магометъ“)
Поликсена („Поликсена“)
Едельмона („Отелло“)
Заира („Заира“)
Кора („Смерть Роллы“)
Офелія („Гамлетъ“) ’)
На ряду съ классическими трагедіями, какъ „Антигона",
Расинова „Эсфирь“, Вольтеровъ „Магометъ“, Шекспировскіе
„Отелло“ и „Гамлетъ“. Это признакъ эпохи. Скорѣе сосуще
ствуютъ, чѣмъ борятся два эти направленія. Оба признаны
и между ними какъ бы не дѣлается разницы. Если же я ска
залъ, что давались въ перемежку трагедіи не двухъ, а трехъ
родовъ, то потому, что я имѣю ввиду оригинальныя русскія
трагедіи или русскія передѣлки классическихъ и шекспиров
скихъ образцовъ, какъ третій обособленный родъ.
Среди авторовъ русскихъ трагедій въ тѣ годы выдаю
щееся мѣсто занималъ авторъ „Димитрія Донского“, Озеровъ.
Это видно изъ переписки Пушкина съ кн. Вяземскимъ. Вя
земскій въ очеркѣ объ Озеровѣ, приложенномъ къ изданію
его произведеній 1816 года, и переизданномъ въ 1828 г.,
назвалъ автора „Дмитрія Донского“ „преобразователемъ рус
ской трагедіи". Въ какомъ это смыслѣ? Въ тѣ времена каж
дая драма, если она не слѣдовала „правиламъ“ французской
теоріи единствъ, считалась „романтической“. Вяземскій скло
нялся причислить къ романтикамъ и Озерова. И вотъ на это
послѣдовала отповѣдь Пушкина въ письмѣ изъ Кишинева
6 февр. 1823 г. „Все что ты говоришь о романтической по
эзіи — пишетъ Пушкинъ — прелестно, ты хорошо сдѣлалъ,
что первый возвысилъ за нее голосъ — Французская бо
лѣзнь умертвила бы нашу отроческую словесность. У насъ
нѣтъ театра, опыты Озерова, ознаменованы поэтическимъ
’) Л. Гросманъ. Пушкинъ въ театр, креслахъ. 1826 г. стр. 83.
225
слогомъ — и то не точнымъ и заржавымъ; впрочемъ, гдѣ
онъ не слѣдовалъ жеманнымъ правиламъ фр. театра? Знаю
за что полагаешь его поэтомъ романтическимъ: за мечта
тельный монологъ Фингала — нѣшъ, пѣснямъ никогда над
гробнымъ я не вѣрю-, но вся трагедія написана по всѣмъ пра
виламъ парнасскаго православія, а романтическій трагикъ при
нимаетъ за правило одно вдохновеніе“. И на томъ же самомъ
настаиваетъ Пушкинъ и въ своихъ замѣткахъ на поляхъ вто
рого изданія того же очерка Вяземскаго. Вяземскій, превоз
нося Озерова, приписываетъ ему героическій подвигъ, какъ
преобразователя русской трагедіи, на что Пушкинъ отзыва
ется прежде всего возмущеніемъ: какъ это сравнивать Озе
рова съ Карамзинымъ; это ужъ никакъ не подобаетъ: „Ка
рамзинъ—великій писатель во всемъ смыслѣ этого слова, а
Озеровъ — очень посредственный. Озеровъ сдѣлалъ шагъ
въ слогѣ, но искусство чуть ли не отступило. Геркулесов
скаго въ немъ нѣтъ ничего“. Хотя — и тутъ тѣмъ не менѣе
приближается Пушкинъ къ Вяземскому, смягчая остроту
спора,— онъ готовъ признать: „Трагедіи Озерова... уже нѣ
сколько принадлежатъ къ новѣйшему драматическому роду
такъ-называемому романтическому, который принятъ нѣм
цами отъ испанцевъ и англичанъ“. Итакъ Озеровъ, а съ
нимъ и другіе русскіе драматурги уже на рубежѣ. Какъ буд
то даже покончено съ классицизмомъ. Въ такомъ именно
смыслѣ высказывается Пушкинъ въ письмѣ къ тому же Вя
земскому изъ Одессы въ апрѣлѣ слѣдующаго 1824 г.: клас
сицизмъ, „полно, существуетъ-ли у насъ? это еще вопросъ“.
Да, съ классицизмомъ будто покончено или должно
быть покончено. Взлелѣявшій въ своихъ еще непроявившихся
въ его творчествѣ грёзахъ, будущій трагическій драматургъ
становится поборникомъ того, что онъ зоветъ романтизмомъ.
Но надо сейчасъ же подставить этимъ туманнымъ, что
отлично сознавалъ Пушкинъ, выраженіямъ: классицизмъ и
романтизмъ, — а вѣдь туманными остались они и до нашихъ
Дней, — нѣчто вполнѣ опредѣленное: французскій класси
цизмъ своего славнаго разцвѣта съ одной стороны, т. е.
Корнель и Расинъ, а съ другой Шекспиръ, и только самъ
Шекспиръ. Такъ совершенно ясно высказывается Пушкинъ
въ болѣе позднемъ, уже совсѣмъ зрѣлыхъ лѣтъ, наброскѣ:
»0 драмѣ": для него существуетъ только двѣ системы: „си
стемы Расина и Шекспира“. О Вольтеровой трагедіи — ни
слова. Ни слова — и объ античной трагедіи. Только Корнель
и Расинъ. И тоже самое, посколько идетъ рѣчь о Шекспирѣ,
правда рядомъ съ нимъ упоминается Гёте, какъ создатель
»Фауста“, такъ что пожалуй можно было бы сказать, что
противополагаются Корнелю и Расину — трагедіи Шекспира
и „Фаустъ“ Гёте. Казалось бы, какъ было не упомянуть
Шиллефа? „Система“ Шекспира Шиллеромъ вѣдь была цѣ
15
226
ликомъ и полностью воспринята и возсоздана. Однако — и
это такъ характерно для Пушкина—Шиллера онъ помянулъ
лишь въ письмѣ къ брату въ апрѣлѣ 1825 г. изъ Михайлов
скаго. Въ немъ такой перечень порученій: „Фуше, Oeuvres
dram de Schiller, Schlegel, Don Juan, нозое Walt. Scott, Си
бирской Вѣстникъ, и все это черезъ Sr. Florent, а не черезъ
Слёнина“. Не свидѣтельствуетъ ли это о томъ, что подлин
наго Шиллера Пушкинъ вовсе и не собирался читать или
перечитывать? Характерно также и то, что о Байроновомъ
„Манфредѣ“ Пушкинъ никогда не говоритъ иначе, какъ о
подражаніи Гётевскому „Фаусту“: „Въ МапІгесГѢ онъ подра
жалъ Фаусту, замѣняя простонародныя сцены и субботы
другими, по его мнѣнію, благороднѣйшими“ (очеркъ о Бай
ронѣ). Тутъ сказался съ молоду затверженный принципъ:
отнюдь бы не подражанія, идти смѣло къ непосредственному
источнику драматическаго рода, минуя всѣ отраженія.
Итакъ вотъ двѣ борющіяся „системы", два драматиче
скихъ рода, а борьба эта запутывается у русскихъ драма
турговъ, и не такъ ясно, которая-то возьметъ верхъ. Въ
чемъ путаница съ необыкновенной чисто историко-литера
турной проникновенностью, — и къ этому нечего прибавить
намъ, современнымъ историкамъ литературы — сказано въ
краткой замѣткѣ: „Дѣленіе Европы на классическую и ро
мантическую“: „Побѣда будетъ, несомнѣнно принадлежать
классицизму, благодаря неожиданной помощи, доставленной
журналами. Данте (il gran padre Alighieri), Аріосто, Ловецъ,
Кальдеронъ, Сервантесъ попали въ классическую фалангу“.
Въ эти нѣсколько бѣглыхъ строкъ необходимо очень
тщательно вдуматься. На помощь и придетъ намъ незакон
ченный набросокъ „О драмѣ“, да опять замѣчанія разбро
санныя въ письмахъ.
Если я назвалъ проникновенными приведенныя только
что строки Пушкина о конечной побѣдѣ классицизма, я
имѣлъ ввиду послѣдующую эволюцію драмы, которую могъ
лишь смутно предвидѣть самъ поэтъ. Вѣдь послѣ т. н. „про
вала“ „Бюргравовъ“ Виктора Гюго, какое незначительное
мѣсто выпадаетъ на долю широковѣщательнаго „предисло
вія“ къ „Кромвелю“, (1828) этой такъ непонравившейся Пушкину знаменитой романтической драмѣ. Въ наше время „Пре
дисловіе къ Кромвелю“ издается только, какъ историко-ли
тературный документъ. Его надо знать, и только. А попутно,
сколько горькихъ упрековъ сыпется отъ современныхъ
историковъ литературы по адресу всей этой неумытно ро
мантической „поэзіи тридцатыхъ годовъ“. Пушкинъ не до
жилъ до возстановленія въ блескѣ и славѣ Корнеля и Расива, на сценѣ той самой „Comédie Française“, гдѣ свили,
было, себѣ прочное гнѣздо, казавшееся чуть ли не непри
ступной крѣпостью, романтики. Талантъ Рашель выбилъ ихъ
227
азъ нея, а временно имѣютъ успѣхъ и трагедіи Понсара.
Надо еще сказать и то, что Пушкинъ такъ ясно увидѣлъ,
насколько близокъ и вѣренъ оставался классицизму Кази
миръ де ля Винь: „Вѣкъ романтизма не насталъ еще для
■Франціи — Лавинь бьется въ старыхъ сѣтяхъ Аристотеля—
онъ ученикъ трагика Вольтера, а не природы“ — (черновое
письмо м. б. къ Вяземскому Одесса 5 іюля 1824 г.). Отрицаетъ
категорически всякій романтизмъ Пушкинъ и у Шенье, не
взирая на противный взглядъ на этотъ счетъ Сентъ-Бёва,
главнаго руководителя тогдашней французской критикой (тамъ
же и замѣтка: „О Шенье, какъ классикъ“). Слишкомъ при
выкъ Пушкинъ такъ высоко чуть не съ дѣтства цѣнить
Шатобріана и г-жу де Сталь, чтобы при первыхъ шумныхъ
успѣхахъ французскихъ неофитовъ романтики, ему могло бы
повѣриться, будто нанесенъ этими послѣдними такой рѣши
тельный, чуть что не смертельный ударъ завѣтному фран
цузскому классицизму. Отсюда проницательность Пушкина.
Нѣтъ, не такъ-то легко преодолѣть „золотой вѣкъ“.
Но какъ же тогда обстоитъ дѣло съ „системой“ Шек
спира? Въ нашей ученой пушкинской критикѣ считается уста
новленнымъ, что Пушкинъ былъ ея приверженцемъ. Такъ
ли это? Не установилось ли такое, какъ будто бы непре
ложное мнѣніе оттого, что никогда не пересмотрѣлъ вопросъ
объ отношеніи Пушкина къ Шекспиру никто изъ нашихъ
шекспирологовъ.
Въ тѣ времена, что касается Шекспира, еще не былъ
изжитъ, — и его придерживались и миогіе образованные
люди, — взглядъ на Шекспира Вольтера. Шекспира уже пе
рестали считать первымъ по времени драматургомъ. Что-то
уже было извѣстно о какихъ.то народныхъ „мистеріяхъ“.
Но о томъ великомъ множествѣ драматурговъ, которыхъ въ
наше время принято называть „предшественниками Шекспи
ра“ и которые заполнили бы разстояніе между „мистеріями“
и Шекспиромъ, царило даже въ самой Англіи лишь самое
смутное представленіе. Такъ надо понимать эту фразу два
раза повторенную Пушкинымъ въ его наброскѣ „О драмѣ“,
съ которой онъ начинается: „Драматическое искусство ро
дилось на площади“. А изъ дальнѣйшаго контекста видно,
что эта родившаяся на площади первобытная драма, если и
не тождественна, то, во всякомъ случаѣ, весьма схожа съ
»системой“ Шекспира. Однако появляется и другая „система“:
«Съ площадей, ярморки (вольность мистеріи) Расинъ пере
носитъ ее во дворъ“. Повидимому предполагалось еще чтото сказать и о Корнелѣ и объ испанцахъ; они лаконически
упомянуты, но именно Расинъ, придворный поэтъ при Лю
довикѣ XIV былъ особенно нуженъ Пушкину, и онъ тутъ
еЧе разъ выказалъ свою удивительную проницательность
тенія. Читая характеристику придворной французской драмы,
228
какую набрасываетъ Пушкинъ, нельзя не подумать о знаме
нитой статьѣ о Расинѣ Ипполита Тэна: „Система Расина“ придворная система. Пушкину нужна была такая характери
стика „системы“ Расина, т. е. какъ отображающая ея прид
ворный характеръ, чтобы перейти къ русской драмѣ, ибо во
всякомъ случаѣ, что касается трагедіи, эта послѣдняя поя
вилась у насъ „образованная по примѣру тра(гедіи) Рас[ина]'
И тутъ мы опять подошли къ самому важному въ вопросѣ
о двухъ борющихся у насъ „системахъ“.
„Драма — замѣчаетъ Пушкинъ — никогда не была у
насъ потребностью народной“. И „мистеріи [Дмитрія] Ростов
скаго“ и „трагедіи царевны С[офьи] Алекс[ѣевны]“, и Вол
ковъ, и Сумароковъ, этотъ „нещастнѣйшій изъ подражате
лей“, котораго трагедіи „писанныя варварскимъ изнѣжен
нымъ языкомъ, нравились двору Елизаветы, какъ новость,
какъ подражаніе Парижскимъ увеселеніямъ“, все это было
„необыкновеннымъ празднествомъ“. „[Театръ оставался чуж
дымъ нашимъ обычаямъ]“. Однако какъ же? А „Большой
Каменный театръ“, играющій такую роль — мы это знаемъ
— въ свѣтской жизни Петербурга, да еще и съ его райкомъ;
значитъ уже какъ-то вошелъ же театръ въ обычаи; онъ
пересталъ быть имъ чуждымъ? Тутъ-то еще разъ мы воз
вращаемся къ Озерову, т. е. къ тому, что я выдѣлилъ въ
третью систему. Пушкинъ, нѣсколько ранѣе, уже записалъ
въ своемъ наброскѣ: „Драма оставила площадь и перене
слась въ чертоги образованнаго, избраннаго общества, пере
неслась ко двору. Между тѣмъ [драма] остается вѣрною пер
воначальному своему назначенію дѣйствовать на толпу, зани
мать ея любопытсво. Но тутъ, — [что привлекаетъ вниманіе
образованнаго, просвѣщеннаго зрителя, какъ не изображеніе
великихъ Государственныхъ происшествій? Отселѣ исторія
перенеслась и на театръ; и народы, и Цари выведены пе
редъ нами драматическимъ поэтомъ]“. Такъ было тамъ, на
западѣ; такъ нѣсколко иначе, гораздо позднѣе, у насъ, хотя
у насъ такое значеніе имѣло простое подражаніе. Озеровъ и
„попытался [сдѣлать] дать намъ трагедію народную“. Онъ,
правда, ошибся; онъ „забылъ“, что вовсе не исключительно
въ этомъ дѣло; не одни „поэты Франціи брали всѣ пред
меты для своихъ тра[гедій] изъ Греческой, Римской и Евро
пейской исторіи“, но и „самыя народныя трагедіи Шекспи
ровъ)] заимствованы имъ изъ итальянскихъ новеллъ“. И мы
узнаемъ при этомъ, что „Андрамаха К[атенина] [можетъ быть
лучшее произведеніе нашей драмы]“. Но это не мѣняетъ дѣ
ла. Остается въ полной силѣ, что „исторія перенеслась на
театръ“. И неумолимо, какъ мы знаемъ, строгій къ Озерову>
Пушкинъ придаетъ рѣшающее значеніе трагедіямъ на историче
скіе сюжеты, если заканчиваетъ онъ свой набросокъ разбо
ромъ „Марѳы Посадницы“, которую хвалитъ за ея истори
229
ческій, вѣрный фактамъ исторіи замыслъ. Какъ могъ иначе
думать авторъ „Бориса Годунова“, а вѣдь имъ была задумана
еще драма изъ эпохи Царевны Софьи?!
Обѣ „системы драмы“, т. е. „системы Расина и Шекспира“
возникли въ силу неотвратимой необходимости и борьба ихъ
отнюдь не прихоть, не дѣло вкуса. Во всякомъ случаѣ на
чалась она до Пушкина. Которую же изъ нихъ ждетъ побѣ
да? Мы видѣли, что на западѣ вовсе не „систему“ Шекспи
ра. Побѣдитъ классицизмъ. А у насъ? Рядомъ историческихъ
вопросовъ оттѣняетъ Пушкинъ „препятствія“, какія лежатъ
на нашемъ пути, когда мы захотѣли придворную Сумароко[вскую] трагедію] низвести на площадь“, и эти „препят
ствія“ mutatis mutandis тѣ же самыя, что и тѣ, какія пред
видѣлъ Пушкинъ для запада, отчего и счелъ побѣду клас
сицизма несомнѣнной. Опять, какъ это я столько разъ уже
дѣлалъ, приведу подлинныя слова Пушкина. Задавши самъ
себѣ вопросъ: „гдѣ зрители, гдѣ публика?“, которая могла
бы оцѣнить не по Озерову, а по настоящему задуманное
.низведеніе“ драмы на площадь, какъ того требуетъ „систе
ма“ Шекспира. „Вмѣсто публики встрѣтитъ она тотъ же ма
лый, ограниченный кругъ и оскорбитъ надменныя его при
вычки (dédaigneux); вмѣсто созвучія, отголоска и рукопле
сканій услышитъ она мелочную, привязчивую критику (жур
наловъ).“ Нѣтъ, и у насъ вовсе не „систему“ Шекспира
ждетъ побѣда. Вовсе не побѣда системы Шекспира предви
дѣлась Пушкину и у насъ, а совсѣмъ другое. Вотъ еще од
на выписка изъ наброска „О театрѣ“. „Что нужно драмати
ческому писателю? Философія, безпристрастіе, Государствен
ныя мысли Историка, догадливость, живость воображенія,
никакого предразсудка, любимой мысли. Свобода“. При этомъ
слово: свобода, подчеркнуто. Въ немъ и заключается главная
и основная мысль Пушкина о будущемъ трагедіи. „Драма
тическаго писателя должно судить по законамъ, имъ самимъ
надъ собою признаннымъ“ — писалъ онъ Бестужеву въ
концѣ января 1825 г. изъ Михайловскаго, т. е. именно въ
годъ созданія „Бориса Годунова“. Въ уже упомянутомъ чер
новикѣ письма къ Вяземскому изъ Одессы, 5 іюня 1824 г.
онъ утверждаетъ тоже, ввидѣ пророчества для Франціи:
.Вспомни мое слово: первый Геній въ отечествѣ Расина и
Ьуало — ударится въ такую свободу, вь такой литератур
ный карбонаризмъ — что твои нѣмцы“. И какъ могло это
°ыть иначе? Мы всѣ знаемъ наизусть и любимъ, и чтимъ
это четверостишіе изъ сонета „Поэтъ“. Въ немъ вѣдь святая святыхъ его поэтическаго символа вѣры, столько разъ
и столько по разному выраженнаго:
Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
230
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородный.
Если Пушкинъ всегда высказывался не иначе какъ по
борникомъ романтизма, и отсюда похвала за похвалой по
адресу Шекспира, не взирая на то, что всетаки смотрѣлъ на
него глазами Вольтера и соотвѣтственно этому считалъ,
„грубымъ“, никогда не переставая упоминать о его „недо
статкахъ“, то это вытекаетъ изъ тоже Вольтеровскаго, пре
вознесеннаго нѣмецкими романтиками убѣжденія, что Шек
спиръ не руководился никакими правилами, что онъ „сво
бодно“ творилъ, отдаваясь одному только вдохновенію, а
мы уже знаемъ, что „романтическій трагикъ принимаетъ за
правило одно вдохновеніе“.
*
*
*
„Моцартъ и Сальери“ — единственное драматическое
произведеніе Пушкина, отвѣчающее главному и основному
требованію трагедіи: сосредоточенію на катастрофѣ. Эта ху
дожественная черта „Моцаріа и Сальери“ бросается въ гла
за всякому, кто хоть сколько нибудь вдумался въ теорію
драмы. Въ самомъ дѣлѣ. Сосредоточеніе на катастрофѣ до
стигается полнымъ отсутсвіемъ того, что въ теоріи драмы
называется повѣствовательнымъ началомъ. Назрѣла катастро
фа. Къ ней и стремится дѣйствіе. Обо всѣхъ событіяхъ, ка
кія когда-то произошли, зритель узнаетъ лишь походя, изъ
перекрестныхъ разговоровъ, между дѣйствующими лицами.
Событія не изображаются. Зритель при нихъ не присутствуетъ.
Въ двухъ сценахъ, на которыя раздѣлена маленькая
трагедія: „Моцартъ и Сальери“, зритель входитъ сразу in me
dias res. Задумано и даже рѣшено въ принципѣ убійство
Моцарта. Катастрофа уже опредѣлилась монологомъ Сальери,
которымъ и открывается пьеса. Когда и при какихъ усло
віяхъ узнали другъ друга и подружились оба композитора
— объ этомъ ни слова. Зрителя разсказъ или повѣсть объ
этомъ вовсе и не волнуетъ. Его любопытство совершенно
удовлетворено монологомъ Сальери. Вотъ почему, примѣнивъ
къ этому произведенію термины, установленные теоріей дра
мы, мы въ правѣ назвать ее одноактной трагедіей въ сти
хахъ. Мало этого, мы еще впраьѣ утверждать, что „Мо*
цартъ и Сальери“ Пушкина соблюдаетъ т. наз. псевдо-аР!1'
стотелевскія правила классическихъ трагедій. Соблюден»
единство героя, при чемъ т. к. гибнетъ Моцартъ можно лишь
сказать, что трагедія ея героя, т. е. Сальери, заключается въ
томъ, что это онъ совершаетъ злодѣяніе. И тогда для тео
ретика драмы можетъ, пожалуй, возникнуть сомнѣніе: когоже признать героемъ трагедіи. Единство мѣста отступаете
231
отъ правила, лишь въ томъ, что первая сцена въ комнатѣ
Сальери, а вторая въ трактирѣ. Зато нѣтъ никакихъ сомнѣ
ній относительно единства времени. Это слишкомъ ясно изъ
словъ Моцарта на предложеніе отобѣдать вмѣстѣ:
...дай, схожу домой, сказать
Женѣ, чтобы меня она къ обѣду
Не дожидалась.
Но „Моцартъ и Сальери“ по замыслу поэта не одно
актная трагедія, а сцены; чередованіе сценъ вмѣсто принцица
актовъ или какъ мы стали говорить: дѣйствій, а тѣмъ са
мымъ осуществляется вѣдь то, что Пушкинъ въ приведен
номъ выше отрывкѣ изъ письма Бестужеву въ январѣ 1825 г.
назвалъ: „законами имъ самимъ надъ собою признанными“.
Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, въ томъ же 1825 году возникъ
»Борисъ Годуновъ“. Для этого перваго геніальнаго драма
тическаго произведенія и былъ „признанъ“ поэтомъ надъ
самимъ собою принципъ чередующихся и при этомъ отнюдь
не сведенныхъ въ дѣйствія сценъ. 23 сцены изображающія
событія восьми лѣтъ съ каждый разъ мѣняющимся мѣстомъ
дѣйствія — вотъ строго проведенное поэтомъ построеніе
трагедіи. И „Борисъ Годуновъ“ очаровалъ своей смѣлостью.
Въ немъ сказалось геніальное новаторство. Тутъ осуществле
ны исканіе въ области драматической поэзіи. Сколько разъ
приводились откровенныя похвалы поэта своему произведе
нію даже раньше, чѣмъ оно было закончено, т. е. до ноября
1825 г. Въ письмѣ къ ближайшему другу, Вяземскому, 13-ого
іюля того же года, Пушкинъ назвалъ драму, надъ которой
работалъ „литературнымъ подвигомъ“. И такое возвышен
ное настроеніе всю осень поддерживаетъ творческую энер
гію поэта. Она доходитъ до высшей точки, когда октябрь
ское письмо тому же Вяземскому заканчивается этими во
сторженными строками: „Поздравляю тебя, моя радость, съ
романтичеслой трагедіей, въ ней же первая персона Борисъ
Годуновъ! Трагедія моя кончена, я перечелъ ее вслухъ,
одинъ, и билъ ладоши, и кричалъ: „ай-да Пушкинъ, ай да
сукинъ сынъ!““
Всю осень восторгъ этотъ раздѣляли и друзья Пушки
на, начиная съ Карамзина и Жуковскаго. А когда, вызванный
черезъ годъ Николаемъ Павловичемъ изъ своей ссылки,
Пушкинъ въ Москвѣ читалъ свою пьесу у Веневитинова,
близкому кругу своихъ единомышленниковъ, среди которыхъ
присутствовали Чаадаевъ, братья Кирѣевскіе, и Хомяковъ,
Баратынскій, Шевыревъ и Мицкевичъ, тогда Погодинъ ото
звался на это чтеніе въ такихъ выраженіяхъ, изъ которыхъ
ясно, какимъ поистинѣ художественнымъ откровеніемъ былъ
признанъ „Борисъ Годуновъ“. „Мы просто какъ будто обе-
232
зумѣли, — записалъ Погодинъ, — кого бросало въ жаръ,
кого въ ознобъ“. „Это — чудо, это — образецъ силы, ужаса,
высокаго и великаго. Русь ничего не имѣла подобнаго въ
драматическомъ родѣ“, — отозвался Воейковъ въ письмѣ
22 ноября. Мицкевичъ какъ будто вполнѣ точно опредѣлилъ
значеніе Пушкина, какъ драматурга: „Tu Shakespeare eris, si
fata sinant“. Романтическая трагедія перестала быть мечтой,
предметомъ еще не осуществленныхъ вожделѣній. Какъ буд
то готова была окончательно побѣдить „система“ Шекспира.
Такъ было понято. Не такъ ли понималъ значеніе своей дра
мы и самъ поэтъ? Вѣдь подъ вліяніемъ Шекспира онъ окон
чательно преодолѣлъ французскую классическую трагедію. Ни
о какихъ псевдо аристотелевскихъправилахъ единства не мог
ло быть и рѣчи. Рѣшающее значеніе придавалось тому, что оп
редѣлилъ Погодинъ въ томъ же отзывѣ о чтеніи Пушки
нымъ „Бориса Годунова“ у Веневитинова: „Вмѣсто высоко
парнаго языка боговъ, мы услышали простую ясную, обык
новенную и, между тѣмъ, поэтическую, увлекательную рѣчь“.
Вмѣсто александрійскаго стиха, пятистопный ямбъ, и какъ у
Шекспира бѣлые не риѳмованные стихи
Да, теперь опять „исторія перенеслась на театръ“, что
когда-то опредѣлило успѣхъ Озерова. По уши ушелъ Пуш
кинъ, пока писалъ „Бориса Годунова“, въ исторію. Онъ чи
талъ не одного Карамзина, которому и посвятилъ свою тра
гедію, но и лѣтописи. „Ты хочешь плана? — писалъ онъ изъ
Михайловскаго 13 сентября Вяземскому — возьми конецъ
Х-го и весь XI томъ, вотъ тебѣ и планъ“. Хроники Шекспира
— образецъ Пушкина, и какъ часто были указаны непосред
ственныя отраженія на „Борисѣ Годуновѣ“, „Генриха IV“,
„Ричарда III“, „Генриха V“.
Все это въ духѣ системы Шекспира.
Однако такъ ли это, при болѣе пристальномъ наблю
деніи? Вѣдь въ гла>а бросается особая строго проведенная
особенность формы. Да, какъ будто „система“ Шекспира А
чередованіе сценъ безъ малѣйшей попытки сводить ихъ
въ акты или дѣйствія? Этотъ именно пріемъ драмати
ческаго воспроизведенія, осуществленный Пушкинымъ въ
„Борисѣ Годуновѣ“, нельзя не признать самымъ своеобраз
нымъ изъ всѣхъ „законовъ имъ самимъ надъ собою приз
нанныхъ“. Изобрѣтенный въ 1825 г. во время упорной рабо
ты надъ „Борисомъ Годуновымъ“, именно этотъ „законъ“
составлялъ личный ему одному присущій драматическій прі
емъ. Это не преминули замѣтить немедленно по появленіи
еще въ рукописи въ Москвѣ 1826 г. и сейчасъ же по напе
чатанію, тѣ, кто отнеслись къ „Борису Годунову“ съ мень
шимъ увлеченіемъ, чѣмъ ближайшіе друзья поэта. Такъ тотъ
чиновникъ, которому Бенкендорфъ поручилъ дать отзывъ о
трагедіи Пушкина, когда она была представлена на судъ Ни-
233
колая Павловича, что было поставлено Пушкину непре
мѣннымъ условіемъ его писательской дѣятельности, этотъ
оставшійся неизвѣстнымъ критикъ, безъ обиняковъ ука
залъ на отрывочность чередующихся отдѣльныхъ сценъ:
„въ сей пьесѣ нѣтъ ничего цѣлаго: это отдѣльныя сце
ны или, лучше сказать, отрывки изъ X и XI тома
Исторіи Государства Россійскаго, соч. Карамзина, пере
дѣланные въ разгозоры и сцены“. И дальше: „Это не есть
подражаніе Шекспиру, Гёте, Шиллеру; ибо у сихъ поэтовъ,
въ сочиненіяхъ, составленныхъ изъ разныхъ эпохъ, всегда
находится связь и цѣлое въ пьесахъ. У Пушкина это — раз
говоры, припоминающіе разговоры Вальтера Скота.“ Отдѣль
ныя сцены, сцены и сцены — красной чертой проходить въ
отзывахъ современниковъ именно эта черта трагедіи. Не
только Катенинъ тотъ, какъ выразился Пушкинъ „изъ на
шихъ Шлегелей“, котораго поэтъ считаетъ единственно „зна
ющимъ свое дѣло“ (письмо Плетневу 7 ян. 1831 г.), носамъ
Вяземскій видитъ въ отрывочности сценъ что-то вызываю
щее недоумѣніе А вѣдь почувствовалъ это и самъ Пушкинъ.
Въ одномъ изъ сохранившихся отрывковъ, относящихся къ
„Борису Годунову“ сказано: „Не стану оправдывать правила,
коими я руководствовался въ составленіи сей трагедіи: духъ вѣ
ка требуетъ великихъ перемѣнъ и на сценѣ драматической; мо
жетъ быть, и онѣ обманутъ надежды преобразователей. По
этъ, живущій на высотахъ созданія, яснѣе видитъ, можетъ
быть, и недостатки привередливыхъ требованій, и то, что
скрывается отъ взоровъ волнуемой толпы, но напрасно было
бы ему бороться. Такимъ образомъ, Lope de Vega и Расинъ
уступили потоку“. Нельзя не обратить вниманіе на то, что
имена: Лопе де Вега и Расина, стоятъ рядомъ какъ будто
обѣ „системы“ представлены одинаково установленными и
И имъ противополагается еще одна, третья „система“.
А именно такъ и было на самомъ дѣлѣ. „Законъ имъ
самимъ надъ собою признанный“ Пушкинъ проводилъ, какъ
нѣкую свою собственную „систему“, и эта его собственная
•система“ и есть свободное чередованіе сценъ, не сведенныхъ
вовсе въ акты или дѣйствія.
Я уже не говорю о „Сценѣ изъ Фауста“, написанной въ
самый разгаръ обсужденія „Бориса Годунова“ въ 1826 году,
когда сойдясь съ московскими „любомудрыми“, подъ влія
ніемъ Веневитинова, Пушкинъ оказался подъ охватив
шимъ и его обаяніемъ Гёте. Черезъ четыре года въ оди
ночествѣ, въ эту проведенную въ Болдинѣ осень 1830 г.,
когда одна за другой вылились эти драмы, спутницы „Мд
Чарта и Сальери“, всѣ онѣ — ничто иное, какъ драматиче£кія „сцены“:
„Скупой рыцарь“........................ 3 сцены
„Моцартъ и Сальери“ ... 2 сцены
234
„Каменный Гость“........................ 4 сцены
„Пиръ во время чумы“ ... 1 сцена
„Русалка“....................................... 6 сценъ
Пушкинъ призналъ „систему“ Шекспира. „Я твердо
увѣренъ — записалъ онъ въ одномъ изъ отрывковъ, отно
сящихся къ „Борису Годунову“ — что нашему театру при
личны народные законы драмы Шекспировой, а не прид
ворный обычай трагедіи Расина“. Но его исканія драматурга
привели къ нѣкой еще особой „системѣ“. Можно ли не ви
дѣть этого?
Выраженіе: „системы Расина и Шекспира“ слишкомъ
близко напоминаетъ и заглавіе и самый смыслъ вышедшей
въ 1823 году книжки Beyle’a: „Racine et Shekespeare“, чтобы
само собою не представлялось болѣе, чѣмъ вѣроятнымъ зна
комство съ нею Пушкина, хотя онъ ни разу о ней не упо
минаетъ. Вотъ достаточно краснорѣчивое совпаденіе мыслей,
которое едва-ли можно счесть случайнымъ. Въ наброскѣ о
драмѣ Пушкинъ говоритъ: „Читая поэму, романъ, мы часто
можемъ забыться и полагать, что описываемое происшествіе
не есть вымыселъ, но истина, въ одѣ, въ элегіи можемъ
думать, что поэтъ изображалъ свои настоящія чувство
ванія въ настоящихъ обстоятельствахъ. Но (можетъ ли сей
обманъ существовать) въ зданіи, раздѣленномъ на двѣ части,
изъ коихъ одна наполнена зрителями“. Бэйль устанавливаетъ
различіе между полной и не полной иллюзіей." Полная иллю
зія возможна при чтеніи какого либо иного произведенія, а
не драмы. Тутъ иллюзія исчезаетъ.
Въ этомъ трактатѣ Бэйля между тѣмъ категорический
проводится положеніе ставшее основнымъ въ поэтикѣ Пуш
кина о „правилахъ имъ самимъ надъ собою признанныхъ".
Оно восходитъ еще къ Лессингу, а черезъ Лессинга его
можно возвести къ поэтикамъ эпохи возрожденіи, боров
шимся противъ тѣхъ горячихъ сторонниковъ Аристотеля,
которые и установили за нимъ спорный авторитетъ пресло
вутаго правила трехъ единствъ. Такъ Джордано Бруно
утверждалъ устами поэта Тансилло изъ своего діалога Де
егоісо furore“, что разъ дѣло идетъ о геніи, не могутъ быть
точно опредѣлены виды и роды поэзіи (quanlunque sienoceiti
genii, non possono perö essere determinate certe specie e modi
d’ingegni umani). Пушкинъ заострилъ исконную мысль против
никовъ сухого классицизма.
У Лессинга же въ заключительной главѣ „Драматургіи^
она приняла нѣсколько иное важное намъ обличье. Она по
ставлена въ связь съ чсемой во времена Лессинга, но вскорѣ
осуществленной Шиллеромъ и Гёте теоріей драмы, взявшей
за образецъ англійскую Елизаветинскую драму, въ частности
Шекспира. Появилась согласно Лессингу, англійская дримз.
235отличная огъ классической, и въ Германіи ясно увидѣли,
что трагедія можетъ быть осуществлена безъ соблюденія
французскихъ правилъ. Тогда-то было признано, что правила
единства ничто иное, какъ накладывающій узы на творче
ство генія педантизмъ. „Короче говоря — продолжаетъ Лес
сингъ — мы отбросили, какъ призраки прошлаго, почти всѣ
прежніе пріемы, настаивая иа томъ, что поэтъ самъ, въ силу
вставшихъ передъ нимъ заданій поэзіи всецѣло откроетъ
для самого себя свое искусство“. Значитъ романтическая
драма осуществляетъ свободу творчества. Но вѣдь изъ этого
разсужденія автора „Драматургіи“ вытекаетъ, что эту сво
боду творчества — и это-то намъ и надо было установить
— романтическая драма позаимствовала изъ уроковъ препо
данныхъ ей англійской Елизаветинской драмой. Разрушившая
правила свобода творчества — есть примѣненіе „системы
Шекспира“.
Въ 20-ыхъ годахъ различіе между „системами“ Шекспира
и Расина, что касается драматическаго уклада, различалась
противоположеніемъ правилъ единства и „свободы“. Тутъ
однако и сказывалось еще не изжитое наслѣдіе Вольтеров
скаго взгляда на Шекспира.
Красной нитью она проходитъ и черезъ вышедшія въ
Вѣнѣ въ 1809 г. по французски „Чтенія о драматическомъ
искусствѣ и литературѣ“ Августа Шлегеля. А именно эту-то
книгу и затребовалъ Пушкинъ въ Михайловское, пока рабо
талъ надъ „Борисомъ Годуновымъ“. Характерную особен
ность разсужденій Шлегеля составляетъ именно то, что, если
французская классическая драма восходитъ къ традиціи пред
ставленной трагедіями римскаго ритора Сенеки, англійская,
“народная“, какъ ее стали опредѣлять, Елизаветинская, Шек
спировская и до-Шекспировская драмы никакой традиціей не
ограничена. Она основана на свободѣ. Такъ и думалъ Пуш
кинъ. Таково было установившее мнѣніе Оттого въ наброскѣ
»0 драмѣ“ Пушкинъ и отмѣчаетъ: „вольность мистерій“. Я
напомню всю тираду, о которой начинается набросокъ: „Дра
матическое искусство родилось на площади — для народ
наго увеселенія. Что нравится народу, что поражаетъ его?
Какой языкъ ему понятенъ? Съ площадей ярморки (воль
ность мистерій) Расинъ переноситъ ее во дворъ“. Такъ ли
это было на самомъ дѣлѣ?
Да, „народную драму“; надо лишь прибавитьдо шекспировскую и вовсе не непремѣнно мистеріи, а „чудеса“ (mirac
les) и „страсти Господни“ (passions), можно счесть „вольной“.
Только откуда эта „вольность“? Чудеса святыхъ и страсти
[осподни изображала до-шекспировская драма и важно ей
было народу, „невѣгласямъ“ сообщить событія житій свя
тыхъ и Священнаго Писанія. Отсюда драма носила укладъ
строго повгьсшвовательнъш. Сцена за сценой изображались.
236
въ ней, и эти сцены и составляли главный интересъ. Но вотъ
церковная драма носитъ все болѣе свѣтскій характеръ. Пре
обладаютъ и въ концѣ концовъ вытѣсняютъ религіозные
сюжеты, сюжеты свѣтскіе. Тогда повѣствовательную тради
цію начинаетъ замѣнять иная, уже строго драматическая.
Настала эпоха Возрожденія. Гуманисты передѣлываютъ для
себя, согласно своимъ требованіямъ, унаслѣдованную отъ
церковныхъ дѣйствъ, народную и ставшую уже и простона
родной площадную теорію драмы. Эпоха Возрожденія завѣ
щала, какъ образецъ трагедіи Сенеки да комедіи Плавта и
Теренція. Далеко еще до временъ Расина. Вліяніе трагедій
Сенеки — а наиболѣе образованные гуманисты начинаютъ зна
комиться и съ древне-греческой трагедіей — сказывается и
на до-шекспировской драмѣ. Во второй половинѣ XVI в.
идетъ таже самая борьба двухъ традицій, что черезъ два
столѣтія, во второй половинѣ XVIII в. Это борьба противъ
правилъ трехъ единствъ, точнѣе борьба между аовѣствовательной традиціей, унаслѣдованной отъ народной драмы, и
строго драматической, сосредоточивающей дѣйствіе на ката
строфѣ, традиціей, которую гуманисты вычитали изъ „Поэ
тики“ Аристотеля и нашли уже строго проведенной въ тра
гедіяхъ Сенеки. Различіе между XVI и XVIII вѣками лишь въ
томъ, что традиціей отрицающей правила трехъ единствъ въ
XVIII вѣкѣ считается Елизаветинская драма, а до шекспиров
ская строго повѣствовательная позабыта и знаютъ о ней,
если вообще что иибудь знаютъ, лишь очень немногіе кни
гочій. А это-то различіе и подводитъ насъ къ драматической
поэтикѣ Пушкина
Въ томъ то и дѣло, что сама „система“ Шекспира во
все не была такой „вольностью“, какую приписывали ей
романтики; тутъ ничто иное какъ историко-литературное не
доразумѣніе, которое мнѣ было необходимо разсѣять. Правда
до-шекспировская и шекспировская, Елизаветинская англій
ская драма, обѣ въ концѣ концовъ отвергли правила единствъ
времени и мѣста. Относительно времени Елисаветинская дра
ма отвергла и выработанное испанской драмой правило пя
ти дней, по одному на актъ. Но нельзя забывать, что Шекс
пиръ еще примѣнялъ правило единства времени въ „Ко
медіи Ошибокъ“; все дѣйствіе занимаетъ тамъ одинъ день.
Въ „Ромео и Юліи“, какъ и первой версіи „Гамлета„ дѣйствію
отведено пять дней по испанской теоріи, приписанной Хуану
де Энсина. Навязанное классической драмѣ единство време
ни было лишь послѣ нѣкаго колебанія, въ концѣ концовъ
замѣнено самымъ строгимъ соблюденіемъ единства дѣйст
вія и единства героя; продолжается ли оно недѣлю, двѣ не
дѣли или какой иной срокъ — не принималось больше во
вниманіе. Въ „Зимней сказкѣ“ повѣствовательный принципъ
необходимый, чтобы сообщить содержаніе новеллы заста
237
вилъ растянуть дѣйствіе на многіе годы. Однако — и намъ
было необходимо, изъ за этого въ кратцѣ пробѣ
жать главныя событія возникновенія „системы Шекспира“,—
это установленный въ настоящее время фактъ, что Елизаве
тинской драмой разъ навсегда отъ классической драмы была
воспринята традиція дѣленія драмы на акты или дѣйствія.
Не очевидно ли, что этимъ была ограничена свобода твор
чества?
Пушкинъ отвергъ это ограниченіе. Пушкинъ, слѣдуя
„законамъ имъ самимъ надъ собою признаннымъ“, пошелъ
несравненно дальше въ осуществленіи „свободы“. Онъ былъ
болѣе смѣлымъ новаторомъ, чѣмъ не только романтики, но
и самъ, взятый ими за образецъ, Шекспиръ. На самомъ дѣ
лѣ, Пушкинъ выказалъ одинаковую независимость по отно
шенію къ обѣимъ „системамъ“, „системамъ Расина и Шек
спира“. Это мнѣ и было необходимо установить съ полной
ясностью.
Исканія молодого Пушкина, когда онъ задумалъ испро
бовать свой геній въ драматической поэзіи привели къ тому,
что онъ раздѣлилъ драму на ея составныя части, т. е. на
сцены. Отъ этой своей собственной системы онъ не отка
зался и до конца дней. Вотъ наиболѣе важный изъ „зако
новъ имь самихъ надъ сообю поставленныхъ“, а онъ требо
валъ, чтобы сообразно съ ними и создали о немъ какъ о
драматургѣ. И какъ тогда не привести эти стихи изъ пер
ваго монолога Сольери?
Труденъ первый шагъ
И скученъ первый путь. Преодолѣлъ
Я раннія невзгоды. Ремесло
Поставилъ я подножіемъ искусству.
Я сдѣлался ремесленникомъ: перстамъ
Придалъ послушную, сухую бѣглость
И вѣрность уху. Звуки умертвивъ,
Музыку я разъялъ, какъ шруиъ. Повѣрилъ
Я алгеброй гармоніею. Тогда
Уже дерзнулъ, въ наукѣ искушенный
Предаться нѣгѣ творческой мечты.
Я сталъ творить, но въ тишинѣ, но втайнѣ,
Не смѣя помышлять еще о славѣ.
Нерѣдко просидѣвъ въ безмолвной кельѣ
Два, три дня, позабывъ и сонъ, и пищу,
Вкусивъ восторгъ и слезы вдохновенья,
Я жегъ мой трудъ и холодно смотрѣлъ,
Какъ мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, съ легкимъ дымомъ исчезали!
Вѣдь, читая эти строки, какъ не подумать, что хотя такъ
238
непринужденно изливались его вдохновенія въ веселой бодро
сти его юныхъ стиховъ, еще и „царскосельскій свертокъ“ тру
долюбиво проработалъ свою стихотворную учобу. Это видно
по его сохранившимся рукописямъ, по недоконченнымъ на
броскамъ, когда не давались стихи. А въ уединеніи Михай
ловскаго, создавая „Бориса Годунова“, онъ въ самомъ дѣлѣ
сложный и трудный укладъ драматической поэзіи „разъялъ
какъ трупъ“.
*
*
*
Сцены „Моцартъ и Сальери“ были напечатаны въ „Сѣ
верныхъ цвѣтахъ“ въ 1832 г. и тогда же онѣ были съиграны, со старыми знакомцами поэта—Брянскимъ, въ роли Саль
ери, и Сосницкимъ въ роли Моцарта1).
Но странная постигла судьба это его единственное
драматическое произведеніе, увидѣвшее театральные под
мостки при жизни автора. Интересъ и обсужденія вызвалъ
только сюжетъ. Такъ повелось и до сего дня. Точно въ пол
ной силѣ осталось его первоначальное заглавіе: „Зависть“;
Въ Болдинѣ Пушкинъ ушелъ цѣликомъ въ художе
ственное раздумье надъ великими прегрѣшеніями, охватыва
ющими „дѣтей ничтожныхъ міра“. Скупой рыцарь, ДонъЖуанъ, князь-обольститель — вѣдь это все то, что принято
называть „типами“. Это проходящія на всѣхъ путяхъ худо
жественной литературы опоэтизированія великихъ пороковъ,
почти ихъ олицетворенія; и ждетъ этихъ грѣшниковъ суро
вое возмездіе, согласно установленному правилу христіанской
морали: sequitur poena, что называется въ теоріи драмы поэ
тической справедливостью. Я бы включилъ сюда же Пред
сѣдателя изъ „Пира во время чумы“, ибо онъ грѣшникъ,
впавшій въ великій грѣхъ — отчаянія. Онъ на пиру „удер
жанъ отчаяніемъ, воспоминаніемъ страшнымъ“, а отчаяніе —
тоже великій грѣхъ, и, увы, отдаются ему „дѣти ничтож
ные міра“ въ пору настигающихъ бѣдствій. Въ число этихъ
типовъ входитъ и „завистникъ“. А еще чуть ободренъ былъ
первый геніальный лепетъ „царскосельскаго сверчка“, какъ
уже въ стихахъ Жуковскому 1818 года, что были его пер
вымъ поэтическимъ исповѣданіемъ, привидилась Пушкину
мрачная зависть:
Подъ грозною Парнасскою скалою,
Какое зрѣлище открылось предо мною?
Въ ужасной темнотѣ пещерной глубины
Вражды и зависти угрюмые сыны^
Возвышенныхъ творцовъ зоилы записные,
Сидятъ безсмыслицы дружины боевыя
’) I. Л. Гросманъ. Ор. сД. сгр. 90 и 160..
239
Даже показалось, что самъ онъ сталъ предметомъ зависти.
Онъ тогда же писалъ Дельвигу:
Какъ рано зависти привлекъ я взоръ кровавый
И злобной клеветы невидимый кинжалъ!
И, правда, вѣдь, какъ не въ средѣ художниковъ и поэтовъ,
гдѣ передъ каждымъ, кто вступилъ въ эти зачарованныя,
объятыя туманомъ урочища искусства, маячитъ обманчивый
призракъ генія, станетъ просачиваться въ самолюбивыя
сердца ядъ зависти? Въ безпечной и смѣлой молодости она
не страшила. Казалось, пусть. Самъ Жуковскій —
Сокрытаго въ вѣкахъ священный судія,
Стражъ вѣрный прошлыхъ лѣтъ, наперстникъ музъ
любимый
И блѣдной зависти предметъ неколебимый
Привѣтливымъ меня вниманьемъ ободрилъ...
Значитъ и Жуковскаго коснулась „блѣдная зависть“. Но не
страшна она, потому что врагъ
Вотще бросается съ завистливымъ кинжаломъ:
Куплетомъ раненъ онъ, низверженъ въ прахъ
журналомъ.
А тогда сама мудрость въ зрѣлые годы продиктовала эти
слова: „Зависть сестра соревнованія — стало быть изъ хо
рошаго роду“.
Однако Пушкина влекло къ трагедіи. Значитъ, и „за
вистникъ“ долженъ былъ быть представленъ трагически.
Въ 1825 году семидесятипяти лѣтъ отъ роду умеръ
композиторъ Сальери, авторъ многихъ оперъ, пользовав
шійся самой широкой, обще-европейской извѣстностью. Его
музыкальная дѣятельность протекала въ Вѣнѣ при Лео
польдѣ II. Но передъ самой Великой Революціей три его
оперы имѣли шумный успѣхъ въ Парижѣ, а одна изъ нихъ,
.Tarare“, написана на слова Бомарше, съ корорымъ былъ
особенно близокъ Сальери. Понятно, что его кончина не
могла пройти незамѣтно. Не только въ музыкальной, но и
въ общей прессѣ появились некрологи, сначала по нѣмецки
~~ Сальери жилъ послѣдніе годы жизни опять въ Вѣнѣ, —
а сейчасъ же и по французски. Конецъ ХѴШ-го вѣка — это
вРемя Глюка, Пучини, Моцарта. Со всѣми ними связано было
имя плодовитаго Сальери. А о всѣхъ великихъ людяхъ сла
гаются легенды, и не забыты тогда и современники. Еще
при жизни нанизываются разсказъ за разсказомъ, и роятся
анекдоты. Сальери, на бѣду его доброму имени, особенно
посчастливилось въ этомъ отношеніи, и конечно, когда о
240
немъ вспоминали, прочтя его некрологи, тогда легенды о
немъ на всѣ лады повторялись и перетолковывались И какъ
могли они не переплетаться съ именами Глюка и Моцарта?
Вѣдь на самомъ дѣлѣ, какую важную роль съигралъ въ его
жизни Глюкъ. Не могли не знать образованные музыканты
всѣхъ странъ значенія Глюка въ музыкѣ Сальери. Не могли
они не знать и о близости Сальери и Моцарта, когда, въ
Вѣнѣ, возникала ихъ извѣстность. И вотъ, какая по истинѣ
трагическая легенда передавалась изъ устъ въ уста и изъ
газеты въ газету о сношеніяхъ Сальери и Моцарта. Пушкинъ
записалъ ее на клочкѣ бумаги, который дошелъ до насъ:
„Въ первое представленіе Донъ Жуана, въ то время, когда
весь театръ безмолвно упивался гармоніей Моцарта, раз
дался свистъ: всѣ обратились съ изумленіемъ и негодовані
емъ, и знаменитый Сальери вышелъ изъ залы въ бѣшенствѣ,
снѣдаемый завистью. — Сальери умеръ лѣтъ 8 тому назадъ,
Нѣкоторые нѣмецкіе журналы говорили, что на одрѣ смерти
признался онъ, будто бы, въ ужасномъ преступленіи, въ от
равленіи великаго Моцарта. Завистникъ, который могъ осви
стать Донъ-Жуана, могъ отрави,ь его творца“.
Завистникъ былъ найденъ. Онъ воплотился въ личность
знаменитаго композитора, Сальери, и жертва его—Моцартъ,
слава котораго послѣ его смерти затмила славу Сальери.
Да неужели Сальери отравилъ Моцарта? Не правда,не
вѣроятно! Какъ это можно! Нѣтъ доказательствъ. Это легенда,
злое празднословіе, клевета. Такъ и отозвались на маленькую
трагедію Пушкина, даже его ближайшіе друзья. Особенно
рѣзко высказывался Катенинъ. Значитъ, не само произведе
ніе поэзіи, не трагическій замыслъ, а фактъ біографіи, вѣр
ной или невѣроятной, остановилъ на себѣ вниманіе. До сихъ
поръ не могутъ оторваться пушкиновѣды, онъ историче
скихъ Сальери и Моцарта. Какъ-то забывается, что Іоанна
д’Аркъ, королева Елизавета и Марія Стюартъ, Ричардъ ІИ
Лукреція Борджія раздвоились разъ на всегда: ихъ поэтиче
скія воспроизведенія — одно, а къ чему пришли относи
тельно ихъ историческія изысканія—совсѣмъ другое. Даже
развѣ, что касается Бориса Годунова и Лжедимитрія, они не
живутъ у самаго Пушкина своей особой поэтической жизнью,
отличной отъ данныхъ исторіи. Всего страннѣе, какъ могло
прійти въ голову еще подставить Моцарту и Сальери, Дв3
тоже историческихъ лица: самаго Пушкина и Баратынскаго,
точно могъ самъ поэтъ задуматься о томъ, не дошелъ ли
бы въ своей предполагаемой зависти къ нему Баратынскій
до того, что подсыпалъ бы ему яду?
А легенды къ легендамъ. Вспоминается, что будто ули
цей былъ Микель Анджело; будто; говорили во времена
Вольтера также и о Бомарше, какъ объ отравителѣ обѣихъ
своихъ женъ. На это послѣднее острымъ словомъ отозвал-
241
ся Вольтеръ: „Бомарше не могъ быть отравителемъ—онъ
такой забавникъ“. Мы и находимъ его въ устахъ Сальери,
когда Моцартъ спросилъ его, правда ли эти росказни:
Не думаю! — онъ слишкомъ былъ смѣшенъ
Для ремесла такого.
Нѣтъ, не росказни, другое. Тутъ новый этапъ въ поэтиче
скомъ раздумьи о зависти: „геній и злодѣйство двѣ вещи
не совмѣстныя“. Не геній совершитъ злодѣяніе, и тогда
законченъ образъ завистника. Наболѣла въ омраченной душѣ
«блѣдная зависть“, замутило сознаніе превосходства надъ
собою „нѣкаго херувима“ „занесшаго намъ райскихъ пѣсенъ“.
Какъ скорбный, томительный стонъ завистника, застывшаго
зъ безсильи, нарисовалъ Сальери Врубель.
Но, можетъ быть, надо совсѣмъ иначе подойти къ за
мыслу трагедіи.
Пускай называются герои трагедіи Моцартъ и Сальери,
и пусть завистью снѣдаемъ Сальери. Такова фабула. Но
нельзя ли глубже вдуматься въ ея развитіе. „Поэзія — вы
мыселъ, и ничего съ прозаической истиной жизни общаго
не имѣетъ“ — замѣтилъ Пушкинъ о единственномъ своемъ
любимцѣ изъ французскихъ своихъ современниковъ, Альфре
дѣ Мюссе. Будемъ этимъ руководствоваться и оставимъ въ
покоѣ не только историческихъ Моцарта и Сальери, но и
самую фабулу, включая сюда и легенду о томъ, что самому
себѣ, оказалось, сочинилъ Моцартъ свой Requiem.
.Повѣсой вѣчно празднымъ“, называетъ себя Пушкинъ,
авторъ „Гавриліады“, и радостно вспоминаются ему такіе
недавніе —
Златые годы
Безумства жаръ, веселость, острота,
Любовь стиховъ, любовь моей свободы!
Такъ онъ писалъ о себѣ кн. А. И. Горчакову въ 1819 г. И
годы шли, блисталъ, искрился стихами его геній. Они легко
Давались ему и этой осенью 1830 г., тамъ, въ Болдинѣ:
Минута — и стихи свободно потекли.
Но развѣ не сочетался съ вдохновеніемъ — трудъ, не
покорный, упорный трудъ поэта, сосредоточенность, уеди
неніе? Въ стихахъ „Деревня“ развѣ не восклицалъ поэтъ:
Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ!
Въ уединеньи величавомъ
Слышнѣе вашъ отрадный гласъ:
Онъ гонитъ лѣни сонъ угрюмый
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,
И ваши творческія думы
Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.
16
242
А что, какъ не тоже самое, лишь иначе выраженное и
эти извѣстные стихи изъ „Музы“ о самомъ себѣ:
Съ утра до вечера въ нѣмой тѣни дубовъ
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной,
и тогда, развѣ нельзя подумать, что и къ самому Пушкину
относится это признаніе Сальери:
Усильнымъ напряженнымъ постоянствомъ
Я наконецъ въ искусствѣ безграничномъ
Достигнулъ степени высокой?
Особенно гораздо позже, когда пригрезилось Пушкину,
редъ нимъ „близъ мѣстъ, глѣ царствуетъ Венеція
одинъ, ночной гребецъ, гондолой управляя“, поетъ,
что „любитъ пѣснь свою“, опять задумался онъ о
поэта :
что пе
златая,
потому
работѣ
На морѣ жизненномъ, гдѣ бури такъ жестоко
Преслѣдуютъ во мглѣ мой парусъ одинокой,
Какъ онъ, безъ отзыва, утѣшно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю,
Зато „тайные“ эти стихи не должны пройти, не оставивши
за собою слѣда въ развитіи поэзіи. Ея передовое устремле
ніе, ея совершенствованіе — мы знаемъ это изъ всѣхъ тѣхъ
замѣчаній,что мы разсмотрѣли — составляли неустанную за
боту Пушкина. Не переставая мучилъ его вопросъ при соз
даніи его геніальныхъ произведеній: „подыметъ ли онъ тѣмъ
свое искусство“.
Тогда, не въ самомъ ли себѣ, въ своей творческой ду
шѣ, нашелъ Пушкинъ эти двѣ соревновавшіяся стихіи, оли
цетворенныя въ „Моцартѣ и Сальери“? Одна изъ нихъ наз
вана исходящей отъ „гуляки празднаго“. Да, этотъ „безу
мецъ“ пропѣлъ намъ райскія пѣсни. Но —
Что пользы въ немъ. Какъ нѣкій херувимъ
Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсень райскихъ,
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье
Въ насъ, чадахъ праха, улетѣть!
Другая стихія — это „священный даръ“, когда онъ —
въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ.
Когда мы читаемъ шекспировскаго Гамлета развѣ, со
средоточенъ нашъ интересъ на самой легендѣ о Гамлетѣ —
243
мстителѣ, такой, какою изложила ее, источникъ англійскихъ
Гамлетовъ, французская новелла Бельфореста? Всѣ ея под
робности, а не только остовъ, сохранилъ Шекспиръ. Но
блѣднѣетъ контуръ того легендарнаго Гамлета, а выступаетъ
въ блескѣ и сіяніи недостижимой глубины образъ трагиче
скаго героя, возсозданнаго Шекспиромъ. Тоже самое надо
сказать и о „Моцартѣ и Сальери“ Пушкина. Легенда леген
дой. Завистникъ, оклеветанный молвою Сальери, и зависть
будто доводитъ его до злодѣянія. Но въ себѣ самомъ въ
своемъ сознаніи великаго поэта увидѣлъ Пушкинъ борьбу
очерченныхъ стихій. И раздвоилось. И Моцартъ, и Сальери
оба дѣтища его раздумій о смыслѣ и задачахъ творче
скихъ порывовъ, о работѣ осуществленій поэзіи, т. е. о сво
емъ собственномъ геніи.
*
*
Вылившіяся изъ подъ его пера въ Болдинѣ „сцены“
Пушкинъ, повидимому, подумывалъ издать всѣ вмѣстѣ. По
крайней мѣрѣ мы находимъ на сохранившемся листѣ, съ изо
браженіемъ рыцаря, такія замѣтки, которыя подходили бы
къ заглавію подобнаго изданія: „Драматическія сцены“, „Дра
матическіе очерки“, „Драматическія изученія“, „Опытъ дра
матическихъ изученій“. Эти пробные заголовки не свидѣ
тельствуютъ ли съ полной ясностью о томъ, что, дѣйстви
тельно и при томъ вполнѣ сознательно, Пушкинъ смотрѣлъ
на свою драматическую поэзію, какъ на исканія.
Расчлененіе драмы на сцены, безъ принятія въ сообра
женіе ихъ распорядокъ въ дѣйствія, уже было усвоено, когда
въ 1825 г. т. е. пять лѣтъ тому назадъ, шла работа надъ
»Борисомъ Годуновымъ“. Съ этимъ было покончено. Но
оставался вопросъ, возникающій, даже безсознательно, на
столько онъ настоятеленъ, вопросъ о чисто драматическомъ
построеніи. Его завершеніе напрашивается. Безъ него нельзя.
Какъ быть? Въ самомъ дѣлѣ. Сосредоточеніе на катастрофѣ
превозмогаетъ чисто повѣствовательное начало въ драмѣ,
или тутъ—отличіе драмы оть драмагизованнаго разсказа. А
этимъ особенно ярко выдѣляется „Моцартъ и Сальери“ изъ
всѣхъ остальныхъ драматическихъ произведеній Пушкина. От
того особенно интересно сопоставленіе съ „Борисомъ Годуно
вымъ“. Избраніе Годунова на престолъ Московскій состоялось
20-го февраля 1598 г.; за этимъ событіемъ, при которомъ
инкъ бы присутствуетъ зритель, проходитъ пять лѣтъ. „Ше
стой ужъ годъ“, царствуетъ Борисъ. За это время ровесникъ
Убитаго царевича, Лжедимитрій, успѣлъ возмужать. Двадцати
лѣтъ онъ бѣжитъ въ Лцтву. Такъ сказано въ Царскомъ Указѣ,
который неграмотный приставъ въ корчмѣ на литовской
гРзницѢ даетъ прочесть самому Гришкѣ Отрепьеву. Дальше
244
еще одна точная историческая дата: 21 декабря 1664 года.
Это изображенная поэтомъ битва подъ Новгородъ-Сѣверскомъ. Но теперь дѣло идетъ уже быстро къ развязкѣ, т. е.
къ убійству дѣтей Годунова. Если бы трагедія открывалась
монологомъ Годунова, начинающимся этими словами: „До
стигъ я высшей власти“, можно было бы сказать, что и она
сосредоточена на катастрофѣ, какъ бы ни разнообразились
сцены, то въ Москвѣ, то при дворѣ польскаго короля, то
въ замкѣ Мнишека, то на поляхъ сраженіи, то опять въ Мо
сквѣ. Была бы нѣкоторая растянутость, чередовались бы
драматическія положенія, но дѣйствіе развивалось бы без
препятственно. Значитъ строго повѣствовательное и, въ сущ
ности, постороннее замыслу трагедіи избраніе Годунова на
царство, вотъ что помѣшало поэту, увлекшемуся поэтиче
скимъ изображеніемъ этого событія провести въ драмѣ со
средоточеніе на катастрофѣ, т. е. единство дѣйствія. Кромѣ
неоконченной „Русалки“ всѣ „сцены“ болдинскаго происхож
денія это единство, напротивъ, соблюдаютъ, при чемъ въ
„Моцартѣ и Сальери“ осуществлено и самое строгое един
ство времени: одинъ день.
Въ 1829 году вышла въ Парижѣ книжка, озаглавленная:
„The Poetical Works of Milman. Bowles, Wilson and Barry
Cornwall“. Отсюда почерпнулъ Пушкинъ сцену: „Пиръ во
время чумы". Это свободная адоптація пьесы „The city of
plague“ Вильсона. Между тѣмъ послѣдній изъ названныхъ
авторовъ, обозначенный псевдонимомъ: Гарри Корнуоль, —
его настоящее имя: Брайонъ Уоллеръ Проктеръ — еще въ
1815 году издалъ свои: „Dramatic scenes“. Эта книга тоже
была въ рукахъ Пушкина, и онъ придавалъ ей большое
значеніе; передъ самой смертью онъ посылалъ ее Ишимовой,
прося перевести. Естественно спрашивается, въ какомъ вза
имоотношеніи находятся эти книги съ усвоеннымъ поэтомъ
въ 1825 году принципомъ его драматической „системы“, т. е.
чередованіемъ отдѣльныхъ сценъ.
Такъ какъ о книжкѣ вышедшей въ 1829 говоря о томъ,
что происходило, когда Пушкинъ работалъ надъ „Борисомъ
Годуновымъ“, рѣчи быть не можетъ, то вопросъ сводится
лишь къ тому, зналъ ли Пушкинъ въ 1825 г. о книгѣ Гарри
Корнуоля, вышедшей на десять лѣтъ раньше. На это пря
мого отвѣта нѣтъ. Однако разъ никакого самаго бѣглаго
указанія на эту книгу не существуетъ, едва ли возможно
какое либо сомнѣніе въ томъ, что расчлененіе драмы только
на сцены, какъ первый этапъ „системы“ Пушкина — дѣло
его личнаго почина Другое дѣло послѣ 1825 г. Судя по зна
ченію, какое—мы это только что видѣли—придавалъ Пушкинъ
названнымъ выше англійскимъ поэтамъ, — и не надо про
пустить сказать, — поэтамъ весьма второстепеннымъ, нельзя
сомнѣваться въ большомъ впечатлѣніи, произведенномъ на
245
.него Корнуолевскими „драматическими сценами“. Тутъ ясно
схожденіе имъ уже усвоенной и осуществленной системы
съ принципами „драматическихъ сценъ“. Это было прежде
всего схожденіемъ. О вліяніи едва ли можетъ быть рѣчь. Но
„Драматическія сцены“ вносили новое, и вотъ это необхо
димо продумать и оцѣнить.
Что новое? „Сцена изъ Фауста“—эпизодъ. Эпизодомъ
можно назвать и „Пиръ во время чумы“. Совсѣмъ другое
дѣло „Скупой рыцарь“, „Каменный гость“ и въ особенности
„Моцартъ и Сальери“. Это трагедіи, а трагедія непремѣнно
предполагаетъ катастрофу. Чѣмъ короче трагедія, тѣмъ, по
самому существу дѣла, все дѣйствіе приблизится къ ката
строфѣ. Потребность такого приближенія Пушкинъ чувство
валъ искони. Это такъ ясно видно изъ разбора „Бориса Го
дунова“. Потверждаетъ этой недоконченная „Русалка“. Вѣдь
самая первая сцена сразу приближаетъ насъ къ катастрофѣ.
О связи князя съ дочерью мельника т. е. съ разсказомъ объ
обстоятельствахъ, обосновавшихъ катастрофическій или тра
гическій исходъ, мы узнаемъ изъ совѣтовъ мельника своей
дочери. Но дальше прекрасная сцена свадебнаго пира, а по
томъ — и это всего важнѣе, — тѣ нѣсколько лѣтъ, что от
дѣляютъ разрывъ князя съ дочерью мельника отъ обрыва
ющихъ „Русалку“ словъ князя: „Откуда ты, прекрасное ди
тя?“. Не одна, а двѣ катастрофы возникли въ воображеніи
поэта; одна — такъ быстро наступающая въ концѣ первой
сцены, когда покинутая дочь мельника „отчаянной и през
рѣнной дѣвченкой“, утопилась въ Днѣпрѣ. Другая, когда че
резъ нѣсколько лѣтъ покинутая скажетъ:
Русалкою холодной и могучей
Я каждый день о мщеньи помышляю
И нынѣ, кажется, мой часъ насталъ.
„Dramatic scenes“ остановили на себѣ вниманіе поэта,
потому что будили и осложняли, вели дальше его исканія.
Вся драматическая поэзія Пушкина — геніальныя исканія и
■какъ можемъ мы гадать о ихъ достиженіяхъ, если бы не
•прервались они за семь лѣтъ до смерти?
„Моцартъ и Сальери“ — высшее достиженіе этихъ
исканій. Только бы позабыть историческихъ Моцарта и Саль
ери. Только бы не вглядываться въ рисунокъ Врубеля, на
которомъ съ такой геніальной силой запечатлѣнъ завистникъ.
И жаль, что такъ трудно позабыть о „гармоніяхъ“ Моцарта.
.Зависть даже и не контуръ, унаслѣдованный отъ сюжета,
который долженъ поблѣднѣть, а нѣкая шероховатость мате
ріала. Пусть двоится. Пусть тогъ-же Пушкинъ видится въ
обоихъ герояхъ. И прежде всего великій подвигъ Пушкина,
значеніе котораго онъ ощутилъ тогда такъ ярко въ одино
246
чествѣ Болдина, подвигъ художника, опредѣленный имъ за
годъ до смерти, Когда, можетъ быть, уже зрѣлъ его „Па
мятникъ“ этимй простыми словами:
Иныя, лучшія мнѣ дороги права.
Тогда сознавалъ онъ высокую цѣну своего художественнаго
otium studiosum. Надо ему, надо —
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья —
Вотъ счастье! вотъ права!
А тогда — чуть вспомнится:
Въ безплодномъ вихрѣ суеты
О, много расточалъ сокровищъ я сердечныхъ
За недоступныя мечты,
чтобъ излились „пѣсни райскія“, а ради нихъ — благо онъ
въ обличьи Моцарта — память о немъ не стыдится сказать:
онъ „нѣкій херувимъ“, — тогда, разъ суждено улетѣть это
му изъ рая налетѣвшему „гулякѣ праздному“, пусть совер
шится:
Такъ улетай же! Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше.
Прошла его пора, не вернется молодость. Зрѣлый вхо
дитъ въ права свои неустанный трудъ.
Трагедія „Моцарта и Сальери“ — трагедія художества,
юношески восторженно провозглашающаго: heiter ist die
Kunst, пока въ душѣ еще не скоро родится Requiem. Вотъ по
чему завидуетъ зрѣлость вдохновеніямъ молодости.
Еще одинъ разъ, тоже осенью и въ томъ же Болдинѣ
въ 1830 году „стихи свободно потекли“, но за всѣ шесть
лѣтъ, что оставалось жить поэту — не переставая, упорный,
заботливый, неутомимый трудъ; то въ усидчивой онъ рабо
тѣ надъ указанными еще Востоковымъ особенностями серб
ской прозодіи, то надъ прозодіей русскихъ пѣсень, а позвала
еще проза, и мучаютъ общественныя и политическія раз
думья, и заботы, и горькое чувство его пророческаго том
ленія.
(Рѣчь на юбилейномъ засѣданіи Пушкинскаго Комитета).
П. Біщилли.
„Путешествіе въ Арзрумъ".
Существуютъ художественныя произведенія, представ
ляющія особый, специфическій интересъ съ точки зрѣнія
науки объ искусствѣ, — я бы сказалъ, своего рода худо
жественныя загадки. Разгадать каждую такую загадку зна
читъ сдѣлать шагъ впередъ къ уразумѣнію тайны искусства
и всей его проблематики, въ частности къ пониманію соот
ношенія отдѣльныхъ искусствъ между собою. Загадочность
такихъ произведеній въ томъ, что ихъ очарованіе не подле
житъ сомнѣнію, но мы не знаемъ, въ чемъ оно состоитъ —
и это именно въ силу ихъ абсолютнаго художественнаго
единства. Въ нихъ нельзя выдѣлить элементовъ, которые
бы сами по себѣ намъ о чемъ-нибудь говорили. Формаль
ный анализъ въ данномъ случаѣ не содѣйствуетъ—и не мо
жетъ содѣйствовать—„истолкованію“ произведенія, ибо оно,
такъ сказать, совершенно „непереводимо“, „неизъяснимо“:
онъ только помогаетъ лучше, отчетливѣе увидгъшь его, уви
дѣть безусловную необходимость всѣхъ его элементовъ и
порядка ихъ сочетанія, — увидѣть его внутреннюю форму.
Къ этой категоріи принадлежитъ „Путешествіе въ Ар
зрумъ“. Первое впечатлѣніе отъ этой вещи — впечатлѣніе
несоотвѣтствія того, что мы тамъ находимъ, съ тѣмъ, что
ожидаемъ найти. Блѣдными и черезчуръ бѣглыми кажутся
описанія горной природы по сравненію хотя бы съ тѣми,
какія читаемъ, напр., въ письмахъ Пушкина къ брату (24
сент. 1820) и къ Дельвигу (дек. 1824). Или еще: сравнимъ
разсказъ въ „Путешествіи“ о томъ, какъ онъ увидѣлъ Ара
ратъ, съ разсказомъ о томъ же Грибоѣдова въ письмѣ къ
Бѣгичеву отъ 4 февр. 1819.
„Путешествіе“: Казаки разбудили меня на зарѣ... Я вы
шелъ изъ палатки на свѣжій утренній воздухъ. Солнце всхо
дило. На ясномъ небѣ бѣлѣла снѣговая, двуглавая гора. —
Что за гора? спросилъ я, потягиваясь, и услышалъ въ от
вѣтъ: это Араратъ. Какъ сильно дѣйствіе звуковъ! Жадно
глядѣлъ я на библейскую гору, видѣлъ ковчегъ, причалив
шій къ ея вершинѣ съ надеждой обновленія и жизни — и
врана и голубицу излетающихъ, символы казни и прими
ренія.
248
Письмо Грибоѣдова: Въѣхавши на одинъ пригорокъ,
надъ мглою, которая носилась по необозримой долинѣ,
вдругъ предстали передъ нами въ отдаленіи двѣ горы, —
первая, сюда ближе, необычайной вышины... Это двухолмный Араратъ, въ семидесяти верстахъ отъ того мѣста, гдѣ
въ первый разъ является такимъ величественнымъ. Еще на
канунѣ синѣлись верхи его. Кромѣ воспоминаній, которыя
трепетомъ наполняютъ душу всякаго, кто благоговѣетъ пе
редъ священными преданіями, одинъ видъ этой древней го
ры сражаетъ неизъяснимымъ удивленіемъ. Я долго стоялъ
неподвиженъ...
Эго письмо — часть „путевого журнала“ Грибоѣдова.
Какъ извѣстно, такіе „журналы“ писались тогда, подверга
ясь тщательной литературной обработкѣ и, если и не изда
вались, то все же получали распространеніе въ кругу дру
зей и знакомыхъ автора. Весьма возможно, что Пушкинъ
читалъ грибоѣдовскій „журналъ“. Сходство обоихъ отрыв
ковъ очевидно. Но Пушкинъ не говоритъ ни слова о гран
діозности горы, а славянизмы тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о свя
занныхъ съ Араратомъ воспоминаніяхъ о библейскомъ пре
даніи, отдаютъ слегка ироніей. ’)
Ходасевичъ удачно сравнилъ Пушкина съ расчетливымъ
хозяиномъ, у котораго ничто не лежитъ втунѣ. Образы пла
вающаго монастыря и ковчега въ обоихъ сейчасъ приведен
ныхъ отрывкахъ использованы въ стихотвореніи „Монастырь
на Кавказѣ“. Въ первой главѣ „Путешествія“ есть описаніе
Дарьяльскаго ущелья: „Скалы съ обѣихъ сторонъ стоятъ
параллельными стѣнами...“ Это мѣсто дало начало наброску,
дальше первой строки котораго Пушкинъ не пошелъ: „Межъ
горныхъ стѣнъ несется шумный Терекъ“... Въ той же главѣ
описаніе обвала получило поэтическую переработку въ сти
хотвореніи „Обвалъ“. Насколько здѣсь все показано ярче,
грандіознѣе, чѣмъ въ „Путешествіи“! Равнымъ образомъ
впечатлѣніе величія кавказской природы Пушкинъ выразилъ
въ стихотвореніи „Кавказъ“, гдѣ также использованы обра
зы, намѣченные въ „Путешествіи“2). Въ „Монастырѣ на Кав
казѣ“ онъ свободно говоритъ о навѣянныхъ кавказскими
впечатлѣніями своихъ религіозныхъ переживаніяхъ, о томъ,
чего — мы видѣли это — онъ лишь слегка, и притомъ съ
оттѣнкомъ ироніи, коснулся въ „Путешествіи“.
А между тѣмъ по своей внѣшней формѣ „Путешествіе“
можетъ быть опредѣлено, какъ поэма въ прозѣ. Рѣчь дви
жется такъ, что въ „абзацахъ“ легко узнать сшрофъѵ. каж
дый абіацъ открывается предложеніемъ, выражающимъ на
чало чего-то, и завершается предложеніемъ, что-то резюми
рующимъ (всего чаще абзацы соотвѣтствуютъ дорожнымъ
этапамъ). Болѣе того: нерѣдко завершающая абзацъ фраза
обладаетъ ясно слышимой ритмической каденціей: ...знако-
249
мыя вамъ II по прекраснымъ рисункамъ Орловскаго; ...и по
ѣхалъ отъ степной Цирцеи; ...вездѣ порядокъ, чистота, красизость; и наконецъ исчезъ во мракѣ; ...оставлены хищнымъ
внукомъ II на память хищнаго предка; ...но я ни съ чѣмъ не
могъ сравнить і мнѣ предстоящаго зрѣлища; ...онѣ облѣпле
ны саклями мирныхъ осетинцевъ || какъ-будто гнѣздами лас
точекъ; ...но многое угадано и выражено вѣрно; ...онъ въ
это время былъ совершенно сухъ || и громокъ однимъ сво
имъ именемъ... — т. д. Обратимъ вниманіе, во-первыхъ, на
то, что въ большинствѣ случаевъ въ каденціи соблюденъ
метръ сказа, во-вторыхъ, что такія метрическія каденціи
встрѣчаются преимущественно въ первой главѣ; въ дальнѣй
шихъ же попадаются лишь въ видѣ исключенія. Въ чемъ
тутъ дѣло — станетъ ясно впослѣдствіи.
Строфическое строеніе было общимъ для тогдашнихъ
„чувствительныхъ“, „живописныхъ“ (voyage pittoresque) и т.
под. путешествій, и это опредѣлялось формой подлиннаго „до
рожнаго дневника“, для котораго она была вполнѣ есте
ственна. Извѣстно, что каждый путникъ тогда слѣдовалъ
обычаю вести изо дня въ день запись тому, что онъ видѣлъ
и что съ нимъ случилось въ дорогѣ; средній размѣръ запи
си опредѣлялся среднимъ запасомъ накопленныхъ за день
впечатлѣній. Начиналась запись съ того, чѣмъ открывался
день: такого-то числа я выѣхалъ оттуда-то туда-то... Далѣе
слѣдовало описаніе дороги, чередовавшееся съ „размышле
ніями“ и „сердечными изліяніями“, а въ концѣ записи отмѣ
чалось, куда прибылъ путникъ на ночлегъ. Все эго въ силу
необходимости записывалось по возможности кратко, отры
вочными, самостоятельными фразами, „протокольно“. Срав
нимъ „Пут. въ Арзрумъ“ съ другими современными ему па
мятниками той же, вышедшей изъ „дорожнаго дневника“ лите
ратуры, напр. съ Itinéraire de Paris à Jérusalem Шагобріана, съ
его же Voyage en Amérique, или съ описаніями прогулокъ и
экскурсій у Руссо, напр., разсказъ St. Preux о его прогулкѣ
по Женевскому озеру вмѣстѣ съ Julie (Nouv. Héloïse, IV), и
убѣдимся, что всѣ эти произведенія построены по одной
схемѣ.
Къ Шатобріану, кажется мнѣ, Пушкинъ всего ближе.
Сравнимъ любое мѣсто изъ Itinéraire, Voyage en Amérique,
Voyage en Italie, „Путешествія въ Арзрумъ, съ записями ро
доначальника „чувствительныхъ путниковъ“, напр., съ слѣ
дующимъ отрывкомъ изъ Nouvelle Héloïse (I, 23):
Je gravissais lentement et à pied des sentiers assez rudes...
Tantôt d’immenses rochers pendaient en ruines au-dessus de ma
tête. Tantôt de hautes et bruyantes cascades m’inondaient de
leur épais brouillard. Tantôt un torrent éternel ouvrait à mes
côtes un abîme dont les yeux n’osaient sonder la profondeur.
Quelquefois je me perdais dans l’obscurité d’un bois touffu.
25Ö
Quelquefois une agréable prairie réjouissait tout-à-coup mes
regards...
Ce n’était pas seulement le travail des hommes qui rendait
ces pays étranges si bizarrement contrastés: la nature semblait
encore prendre plaisir à s’y mettre en opposition avec elle-même:
tant on la trouvait différente en un même lieu sous divers aspects!
Au levant les fleurs du printemps, au midi lés fruits de l’autom
ne, au nord les glaces de l’hiver: elle réunissait toutes les sai
sons dans le même instant, tous les climats dans le même lieu,
des terrains contraires sur le même sol... Ajbùter à tout cela les
illusions de l’optique,... le clair-obscur du soleil et des ombres...;
v-us aurez quelque idée des scènes continufelles... qui semblaient
m'être offertes en un vrai théâtre-, car la perspective des monts,
étant verticale, frappe les yeux tout-à-lafois et bien plus puis
samment que celle des plaines, qui ne se voit qu’obliquement,
ën fuyant, et dont chaque objet vous en cache un autre.
Мѣсто это какъ нельзя болѣе характерно для пониманія
метода Руссо. Онъ въ буквальномъ смыслѣ старается на
рисовать словами картину увидѣннаго имъ, представить то,
что онъ обозрѣлъ въ извѣстной послѣдовательности, въ
одномъ планѣ. Живопись для него, такъ сказать, нормальное
искусство, къ которому должно тяготѣть искусство словес
наго живописанія. Разсказать о чемъ-либо значитъ показать
это. Такова сущность поэтики Ренессанса. Руссо, одинъ изъ
созидателей романтизма, стоитъ въ этомъ отношеніи все erne
на старой почвѣ.
Не таковъ методъ Шатобріана и Пушкина. „Promeneur
solitaire“ останавливается, чтобы обозрѣть пейзажъ и за
тѣмъ зафиксировать то, что онъ увидѣлъ. Пушкинъ, правда,
говоритъ въ одномъ мѣстѣ „Путешествія“: „Я шелъ пѣш
комъ и поминутно останавливался, пораженный мрачною
прелестью природы“. Но все же, когда мы читаемъ „Путе
шествіе“, мы словно движемся вмѣстѣ съ авторомъ: образы,
формы проходятъ мимо насъ. И когда въ цитированномъ
мѣстѣ „Путешествія“ онъ заключаетъ абзацъ словами: „...я
ни съ чѣмъ не могъ сравнить мнѣ предстоящаго зрѣлища“,
онъ подразумѣваетъ совокупность впечатлѣній, которыхъ
онъ не можетъ передать иначе какъ въ символахъ, связан
ныхъ съ представленіями движенія: „Пушка оставила насъ.
Мы отправились съ пѣхотой и казаками. Кавказъ насъ при
нялъ въ свое святилище. Мы услышали глухой шумъ и уви
дѣли Терекъ (NB. послѣдовательность воспріятій), разливаю
щійся по разнымъ направленіямъ. Мы поѣхали по его лѣво
му' берегу. Шумныя волны его приводятъ въ движеніе ко
леса... мельницъ... Чѣмъ далѣе ѵглублялись мы въ горы,
тѣмъ уже становилось ущелье. Стѣсненный Терекъ съ ре
вомъ бросаетъ свои мутныя волны черезъ утесы, преграж
дающіе ему путь. Ущелье извивается вдоль его теченія. Ка
251
ленныя подошвы горъ обточейы его волнами... Погода была
пасмурная; облака тяжело тянулись около черныхъ вер
шинъ...“
Шатобріаново видѣніе міра столь же динамично. Вотъ
отрывокъ изъ Voyage en Italie, гдѣ описывается, какъ у Пуш
кина, вступленіе въ горную область: Les monts des deux cô
tés se dressent; leurs flancs deviennent perpendiculaires, leurs
sommets stériles commencent à présenter quelques glaciers; des
torrents se précipitent de toutes parts, vont grossir l’Arche qui
coule follement. Au milieu de ce tumulte des eaux, l’ai remarqué
une cascade légère et silencieuse, qui tombe avec une grâce
infinie sous un rideau de saules. Cette draperie humide captée
par le vent, aurait pu représenter aux poètes la robe ondoyante
de la Naïade assise sur une roche éleveé... Bientôt le paysage
atteint toute sa grandeur; les forêts de pins, jusqu’alors jeunes,
vieillissent, le chemin s’escarpe, se plie et se replie sur des abî
mes; des ponts de bois servent à traverser des gouffres où vous
voyez bouillonner l’onde, où vous l’entendez mugir3).
Динамическое міровоспріятіе выразилось въ прозѣ Пуш
кина въ такой же мѣрѣ, какъ и въ его стихахъ. Въ обѣихъ
областяхъ та-же символика, тотъ-же словесный матеріалъ —
и та-же свобода въ обращеніи съ нимъ. „Прозаизмы“, въ
употребленіи которыхъ онъ, иронизируя надъ поэтическими
условностями, извиняется передъ читателемъ (...таковъ мой
организмъ, извольте мнѣ простить ненужный прозаизмъ...),
чередуются смѣло съ „фигурами“. Въ на первый взглядъ
„сухую“ и „безцвѣтную“ рѣчь Путешествія вдругъ врывает
ся метафора: „Жатва струилась, ожидая серпа“4). Функція
ея здѣсь ясна: словесное внушеніе, соотвѣтствующее впечат
лѣнію динамики жизни.
Въ полномъ согласіи съ лексикой стоитъ композиція
„Путешествія". Отдѣльные пассажи шатобріановыхъ путе
шествій нашли себѣ мѣсто въ „pages choisies“. Изъ „Путе
шествія въ Арзрумъ“ нельзя выкроить ни одного куска для
антологіи. Прозаическая строфа, величина по своему проис
хожденію „случайная“, у Пушкина получила свое художе
ственное осмысленіе. Каждая такая строфа требуетъ здѣсь
„антистрофы“, и всѣ онѣ лишь „моменты“ одной діалекти
ческой цѣпи, — такъ же, какъ въ Евгеніи Онѣгинѣ и — въ
еще большей степени — въ Домикѣ въ Коломнѣ. Каждая —
„предложеніе“, вътакомъ-же смыслѣ, какъ въ музыкѣ „Satz“.
Изъ противопоставленія отдѣльныхъ „Sätze“ слагается здѣсь,
какъ въ Сонатѣ Моцарта и Бетховена, ритмъ цѣлаго, стано
вящійся ощутимымъ лишь тогда, когда произведеніе уже
отзвучало, завершилось. Сначала намѣчается тематика первой
части. Посѣщеніе Ермолова, томящагося оставшись не у дѣлъ:
„онъ повидимому нетерпѣливо сноситъ свое бездѣйствіе“.
Его портретъ: „Лицо круглое, огненные сѣрые глаза, сѣрые
252
волосы дыбомъ. Голова тигра на Геркулесовомъ торсѣ“.
Здѣсь уже подсказана тема Терека, о которомъ говорится
въ терминахъ, вызывающихъ въ сознаніи образъ хищнаго
звѣря: „Стѣсненный Терекъ съ ревомъ бросаетъ свои мутныя
волны...“; „...огромныя скалы, между которыми хлещетъ Те
рекъ съ яростью неизъяснимой...“ Мечущійся яростно Терекъ
(ср. „Обвалъ“: ...и Терекъ злой подъ ними бѣжалъ...“, и
„Кавказъ“, гдѣ этотъ образъ раскрытъ до конца: Терекъ
здѣсь „играетъ и воетъ, какъ звѣрь молодой, завидѣвшій
пищу изъ клѣтки желѣзной...“) символизируетъ „демона нетерпѣнія“ 5), который „овладѣлъ“ авторомъ (Пут. II Ср. ib. I:
„Нетерпѣніе доѣхать до Тифлиса исключительно овладѣло
мною“). О своемъ нетерпѣніи онъ говоритъ нѣсколько разъ.
Такъ сплетеніе двухъ темъ, „демона нетерпѣнія“ и его
символа — „звѣря Терека“, подготовляетъ внутренній ритмъ
первой части Путешествія. Поэтъ рвется къ цѣли — поско
рѣе достигнуть границы, вырваться куда-то на свободу; онъ
поддается обманамъ чувствъ; слыша лай собакъ и вой, во
ображаетъ, что достигъ Тифлиса и тѣмъ закончилъ первый
этапъ; убѣдившись въ ошибкѣ, „проклинаетъ свое нетерпѣ
ніе“. Вмѣстѣ съ тѣмъ его вниманіе отвлекается дикими кра
сотами Кавказа. Однако, менѣе всего „чувствительный путе
шественникъ“, онъ не задерживается на любованіи ими; онѣ
не долго влекутъ его къ себѣ: „Скоро притупляются впе
чатлѣнія. Едва прошли сутки и уже ревъ Терека и его безо
бразные водопады, утесы и пропасти не привлекали моего
вниманія. Нетерпѣніе доѣхать до Тифлиса исключительно
овладѣло мною“.
Другимъ факторомъ образованія ритма „Путешествія“
является несоотвѣтствіе между внутреннимъ impetus поэта и
реальнымъ темпомъ его продвиженія съ этапа на этапъ.
Этотъ мотивъ даетъ начало „противотемѣ“, постоянно воз
вращающейся и получающей подробную разработку: „Съ
Екатеринограда начинается военная грузинская дорога... Почта
отправляется два раза въ недѣлю и проѣзжіе присоединяются
къ ней .. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой
день, и на третье утро въ 9 часовъ мы были готовы отпра
виться въ путь. На сборномъ мѣстѣ соединился весь кара
ванъ, состоявшій изъ пятисотъ человѣкъ или около. Пробили
въ барабанъ. Мы тронулись. Впередъ поѣхала пушка, окру
женная пѣхотными солдатами. За нею потянулись коляски,
брички, кибитки солдатокъ, переѣзжающихъ изъ одной крѣ
пости въ другую; за ними заскрипѣлъ обозъ двухколесныхъ
арбъ. По сторонамъ бѣжали конскіе табуны и стада воловъ.
Около нихъ скакали ногайскіе проводники въ буркахъ и съ
арканами. Все это сначала мнѣ очень нравилось, но скоро
надоѣло (ср. отмѣченное выше мѣсто: „Скоро притупляются
впечатлѣнія...“). Пушка ѣхала шагомъ, фитиль курился исол-
253
даты раскуривали имъ свои трубки. Медленность нашего по
хода..., несносная жара.., безпокойные ночлеги, наконецъ без
прерывный скрипъ ногайскихъ аробъ выводили меня изъ
терпѣнія“ 6).
Пушкинъ самъ подсказываетъ, гдѣ слѣдуетъ искать
параллель этому отрывку, когда въ І-ой главѣ „Путешествія“,
назвалъ Рембрандта7). Мотивъ приведеннаго мѣста тотъ-же,
что и Ночного Дозора: un arrangement en train de se désagré
ger, какъ его геніально формулируетъ P. Claudel въ своей
Introduction à la peinture hollandaise (p. 96), — мотивъ распа
да стройнаго цѣлаго. Художественный методъ Пушкина по
существу тождественъ методу величайшаго живописца Вагоссо, чье изобразительное искусство — „искусство про
странства“ — тяготѣетъ къ основному „искусству времени“,
музыкѣ. „Музыкальносіь“ пушкинскаго творенія сказалась и
въ томъ, что схема, по которой построенъ этотъ отрывокъ,
использована еще разъ для разработки другой темы, въ III ей
главѣ, — наступленія противъ Турокъ: „18 іюня лагерь пе
редвинулся на другое мѣсто. 19-го, едва пушка разбудила
насъ, все въ лагерѣ пришло въ движеніе. Генералы поѣхали
къ своимъ постамъ. Полки строились, офицеры станови
лись у своихъ взводовъ“ и т. д.... — и слѣдующій абзацъ:
„Сраженіе утихло...“8).
„Моменты“, изъ которыхъ слагается первая часть „Пу
тешествія“, группируются въ двѣ основныхъ массы: путь
изъ Россіи до Тифлиса, затѣмъ — отъ Тифлиса до Карса.
„Демоническое“ настроеніе поэта сперва, мы видѣли это, под
крѣплено его движеніемъ бокъ-о-бокъ со „Злымъ Терекомъ“.
Пушкинъ стремится скорѣе попасть на театръ военныхъ дѣй
ствій, быть участникомъ разыгрывающейся тамъ эпопеи. Съ
этимъ, надо думать, и связаны свойственныя „сказу“ каден
ціи строфъ, вызывающія въ сознаніи образы и темы народ
наго эпоса. Напряженное состояніе смѣняется настроеніемъ
успокоенія при „восхитительномъ“ переходѣ „отъ грознаго
Кавказа къ миловидной Грузіи“. „Демонъ нетерпѣнія“ не по
кидаетъ поэта, но все-же рѣже тревожитъ его и не отвле
каетъ его вниманія отъ житейскихъ мелочей. Тѣмъ сильнѣе
дѣйствіе эпизода встрѣчи съ тѣломъ Грибоѣдова. Поэта охва
тываетъ трагическое настроеніе — и это сказывается въ
томъ, что въ рѣчи снова появляется метрическій элементъ:
но только теперь проза соскальзываетъ въ шести — и пяти
стопный ямбъ, размѣры свойственные какъ разъ трагедіи:
»Пріѣхавъ въ Грузію, женился онъ на той, которую лю
билъ“; „она (смерть Грибоѣдова) была мгновенна и прекрасна“.
Наконецъ, цѣль достигнута. Онъ прибываетъ въ Карсъ
и какъ разъ во-время: „въ тотъ же день войско получило
повелѣніе идти впередъ“. Въ предисловіи къ Путешествію,
Цитируя „Voyage en Orient“ Fontanier, гдѣ авторъ упомина-
254
етъ о немъ — „М. Pouchkine qui avait quitté la capitale pour
«hanter les exploits de ses compatriotes“ — Пушкинъ писалъ:
„...Эти строки... были мнѣ гораздо досаднѣе, нежели брань
русскихъ журналовъ. Искать вдохновенія всегда казалось
мнѣ смѣшной и нелѣпой причудою; вдохновенія не сыщешь:
оно само должно найти поэта. Пріѣхать на войну съ тѣмъ,
чтобы воспѣвать будущіе подвиги, было-бы для меня съ
-одной стороны слишкомъ самолюбиво, а съ другой слиш
комъ непристойно. Я не вмѣшиваюсь въ военныя сужденія.
Это не мое дѣло...“ Что цѣлью его поѣздки не было „искать
вдохновенія“ съ тѣмъ, чтобы „воспѣть“ славу русскаго ору
жія, — это врядъ ли нуждается въ доказательствахъ. Все-же,
читая первыя главы „Путешествія“, получаешь впечатлѣніе,
что Пушкинъ ожидалъ въ районѣ военныхъ дѣйствій боль
шаго, чѣмъ онъ тамъ нашелъ. Кавказская эпопея увидѣна и
разсказана такъ, какъ въ „La Chartreuse de Panne“ наполео
новская9). Черезъ главы, посвященныя ей, проходитъ все таже тема — „нетерпѣнія“, но только транспонированная и пе
реработанная на иной ладъ. Теперь онъ уже ждетъ одного:
отдѣлаться отъ участія въ походѣ: ...24 Іюня утромъ пошли
мы къ Гассанъ Кале, древней крѣпости, наканунѣ занятой
кн. Бековичемъ... Длинные переходы утомили меня. Я надѣ
ялся отдохнуть, но вышло иначе...“ „26 Іюня мы стали въ
горахъ... Близость Арзрума и увѣренность въ окончаніи по
хода утѣшали насъ...“ 19 Іюля онъ узналъ о возобновленіи
военныхъ дѣйствій: „Графъ (Паскевичъ) предлагалъ мнѣ быть
свидѣтелемъ дальнѣйшихъ предпріятій, но я спѣшилъ въ
Россію“... Путешествіе кончено. Во Владикавказѣ онъ возвра
щается къ прежней жизни, находитъ русскіе журналы и въ
одномъ изъ нихъ критическую статью, гдѣ „всячески брани
ли (его) и (его) стихи“. Этимъ „первымъ привѣтствіемъ въ
любезномъ отечествѣ“ замыкается циклъ событій.
Здѣсь своеобразно пародируется и переосмысливается
шаблонная заключительная тема тогдашнихъ „путешествій“.
Путникъ, обогащенный впечатлѣніями отъ посѣщенныхъ имъ
краевъ, рвется въ любезное отечество, въ объятія друзей:
какъ ни прекрасно на чужбинѣ, на родинѣ еще лучше. „Ка
кія минуты наслажденія могутъ сравниться съ первымъ же
ланнымъ мигомъ свиданія съ отчизною, когда простираетъ
она гостепріимныя объятія усталому путнику...“, восклица
етъ, въ концѣ своего „Путешествія къ св. Мѣстамъ“, А. Н.
Муравьевъ,0). „Путешествіе по Саксоніи, Австріи и Италіи“ п)
отличается отъ прочихъ тѣмъ, что тамъ не повѣствуется о
возвращеніи домой. Тѣмъ показательнѣе, что традиціонное
заключеніе и здѣсь имѣется. Послѣднее „письмо“ писано изъ
Венеціи, откуда авторъ собирается уѣхать въ Россію на слѣ
дующій день. Вотъ заключительныя строки: „Не изъ тѣхъ я
пристрастныхъ людей, для коихъ и дымъ отчизны пріятенъ:
255
никакой дымъ не пахнетъ для меня розою. Но то справед
ливо, что Россіянинъ, прошедши многія земли, все-же дол
женъ признаться, что лучше въ Россіи. О! если бы могъ я
возвратиться въ любезное свое отечество съ такою же ско
ростію, съ какою мысли мои непрестанно туда возвращаются“!
(111, 284).
Теперь становится ясенъ истинный смыслъ основной
темы. Эта тема самой Жизни, ея субстанціальной основы,
понятой такъ-же, какъ у Шопенгауэра, не знающей отдыха
воли, ведущей ко все новымъ и новымъ— разочарованіямъ І2).
„Грузинскія деревни издали казались мнѣ прекрасными са
дами, но подъѣзжая къ нимъ, видѣлъ я нѣсколько бѣдныхъ
сакель, осѣненныхъ пыльными тополями“. Главное, что ма
нило его, было — „вырваться изъ предѣловъ необъятной
Россіи“. Но турецкій берегъ Арпачая оказывается уже заво
еваннымъ, когда онъ прибылъ туда: „я все еще находился
въ Россіи“. Арзрумъ приноситъ ему новое разочарованіе.
Въ „экзотикѣ“ не находилъ онъ ничего привлекательнаго:
„Не знаю выраженія, которое было-бы безсмысленнѣе словъ:
азіатская роскошь... Нынѣ можно сказать: азіатская бѣдность,
азіатское свинство и проч.“ Бетужевъ-Марлинскій увидѣлъ
въ Арзрумѣ „стройные минареты мечетей“, которые, „свер
кая золочеными маковками, казались огромными свѣчами,
теплющимися предъ лицомъ Аллы“ (Красное Покрывало).
Пушкинъ замѣчаетъ только: „мечети низки и темны“.
„Путешествіе въ Арзрумъ“ — аллегорія, какъ знамени
тое письмо Петрарки, описывающее восхожденіе на MontVeiitoux13). Поразительно, какъ разработка основной темы
приводитъ обоихъ поэтовъ къ аналогіямъ въ символикѣ. Въ
одномъ мѣстѣ письма Петрарка разсказываетъ, какъ его
братъ Герардо двинулся прямикомъ, тогда какъ самъ онъ,
боясь утомиться, шелъ извилистыми тропинками. Въ резуль
татѣ, онъ выбился изъ силъ и когда добрался до вершины,
нашелъ тамъ брата уже давно отдыхающаго. Нельзя не со
поставить съ этимъ эпизода изъ Путешествія, гдѣ поэтъ
разсказываетъ, какъ на горѣ Коби онъ рѣшилъ разстаться
со своимъ спутникомъ, графомъ Пушкинымъ, надѣясь ско
рѣе его достигнуть Тифлиса, двигаясь не въ коляскѣ, а вер
хомъ на конѣ. Дорога оказалась трудной, послѣдній пере
ходъ до Душета пришлось сдѣлать пѣшкомъ, по крутому
И скользкому подъему; въ Душетъ онъ прибылъ ночью, но
отдохнуть ему не пришлось вслѣдствіи нападенія блохъ.
»Поутру появился ко мнѣ человѣкъ и объявилъ, что графъ
Пушкинъ благополучно переправился на волахъ черезъ снѣ
говыя горы и прибылъ въ Душетъ. Нужно было мнѣ торо
питься“! „Мораль“ письма Петрарки — тщета и суетность
людскихъ стремленій. Онъ предпринялъ экскурсію, влекомый
желаніемъ увидѣть знаменитую гору и то, что открывается
256
взору съ вершины ея. Но добравшись до верху, онъ выни
маетъ Confessiones Августина, раскрываетъ на удачу и по
падаетъ на мѣсто: „И ходятъ люди дивиться на высокія го
ры и на волны безбрежныхъ морей, а о самихъ себѣ сбы
ваютъ"; — послѣ чего уже у него пропадаетъ охота любо
ваться на красоты природы. Мнѣ нѣтъ нужды повторять то,
что было мною уже высказано (въ названной работѣ) отно
сительно ошибочности мнѣнія, согласно которому этотъ эпи
зодъ письма яко-бы свидѣтельствуетъ о „раздвоеніи лично
сти“ Петрарки, о его душевномъ конфликтѣ „новаго чело
вѣка“ съ его эстетизмомъ и „средневѣковаго“, находящагося
во власти аскетическихъ представленій. Письмо это отража
етъ не двойственность міросозерцанія Петрарки, а все его
умонастроеніе не находящаго душевнаго покоя романтика,
Въ этомъ отношеніи Петрарка, дѣйствительно, „новый че
ловѣкъ“.
Но романтизмъ Ренесанса еще не нашелъ своей формы.
Письмо Петрарки построено, пользуясь терминологіей Wölfflin’a14), по принципу „замкнутой формы“. Его композиціон
ная схема взята изъ области тогдашня: о изобразительнаго
искусства, тяготѣвшаго къ первому “полярному“ искусству,
архитектурѣ. Оно по-троено геометрически. Отдѣльные
эпизоды объединяются около центральнаго — пребыванія
на вершинѣ Mont-Ventoux. И у Петрарки отчетливо отмѣчены
начало и конецъ эпизода. Сперва говорится о томъ, какъ
онъ затѣялъ свою экскурсію, какъ снарядился, подыскалъ
спутника, какъ двинулся. Кончается письмо разсказомъ, какъ
онъ, спустившись, остановился на постояломъ дворѣ и тамъ
— принялся писать его. Пушкинъ сразу вводитъ читателя
in medias res. Описаніе перваго перегона сдѣлано такъ, что
онъ кажется продолженіемъ чего-то заходящаго за рамки
повѣствованія: „Изъ Москвы поѣхалъ я на Калугу, Бѣлевъ
и Орелъ и сдѣлалъ такимъ образомъ двѣсти верстъ лиш
нихъ“... О моментѣ перехода отъ повседневнаго образа жизни
къ „путешествію“ — ни слова. Ироническая заключительная
фраза о „первомъ привѣтствіи въ любезномъ отечествѣ“ так
же, въ сущности, ничего, что-бы относилось къ самому „пу
тешествію“, не „заключаетъ“. Напротивъ: она открываетъ
перспективу въ дальнѣйшую жизнь поэта, т. е. опять-таки
выводитъ за рамки „Путешествія“. „Путешествіе“ построено
т. о., по принципу „открытой формы“. Въ соотвѣтствіи съ
этимъ въ немъ нѣтъ и центра“, неподвижной кульминаціон
ной точки — и ея отсутствіе ощущается тѣмъ острѣе, что
Пушкинъ геніально подготовляетъ насъ къ тому, чтобы ожи
дать ея. Послѣ коротенькаго andante, поѣздки по Грузіи,
основная тема возвращается и развивается въ грандіозномъ
crescendo, напоминающемъ по неистощимости средствъ, вы
ражающихъ все возрастающую напряженность, бетховенскія:
257
встрѣча съ тѣломъ Грибоѣдова, Араратъ, Арпачай; страхъ,
что онъ попадетъ въ Карсъ слишкомъ поздно, и не заста
нетъ тамъ арміи („ ..не могу описать моего отчаянія: мысль,
что мнѣ должно возвратиться въ Тифлисъ, измучась пона
прасну въ пустынной Арменіи, совершенно убивала меня ..“);
достигнуть во время Карса становится для него какъ-бы
цѣлью жизни — „Вскорѣ увидѣлъ я Карсъ... Турокъ мой
указывалъ мнѣ на него и пускалъ вскачь свою лошадь; я
слѣдовалъ за нимъ, мучась безпокойствомъ: участь моя дол
жна была рѣшиться въ Карсѣ“-, — наконецъ, онъ въ Карсѣ
а вотъ, все разрѣшается — ничѣмъ. Первою его заботою по
прибытіи въ Карсъ является — найти мѣсто для ночлега,
отдохнуть. Объ этомъ онъ говоритъ подробно. Дальнѣйшее
уже извѣстно. Несравненное его мастерство сказывается въ
томъ, что онъ ни слова не говоритъ о своихъ первыхъ впе
чатлѣніяхъ въ ставкѣ и никакъ не объясняетъ, почему и какъ
съ нимъ случилось то, что „демонъ нетерпѣнія“ теперь, когда
„участь его рѣшилась“, сталъ влечь его изъ арміи домой.
Жизнь есть безостановочное движеніе, и „моментъ“ лишь
точка пересѣченія прошедшаго и наступающаго, такъ ска
зать, атомъ времени, лишь post factum могущій быть осо
знаннымъ. Намеками, словесными внушеніями, констатирован
ными нами въ первой части Путешествія, Пушкинъ подго
товляетъ насъ къ тому, что должно было наступить тогда,
когда, казалось-бы, поставленная имъ себѣ цѣль была достигнута. Разъ будучи достигнута, „цѣль“ перестаетъ быть
тѣмъ, чѣмъ она раньше была въ сознаніи, просто — исче
заетъ изъ поля зрѣнія, вытѣсненная другими помыслами, за
ботами, интересами, о которыхъ до того человѣкъ и не по
дозрѣвалъ.
Таковъ подлинный смыслъ „Путешествія“, раскрываю
щійся постепенно въ процессѣ чтенія. Въ свѣтѣ его высту
паетъ отчетливо внутренняя форма. „Путешествіе“ — чистая
лирика, въ буквальномъ смыслѣ. Поэзія здѣсь окончательно
порываетъ съ плас.ическими искусствами и являетъ въ чи
стотѣ свою изначальную природу мусическаго искусства, тя
готѣющаго къ своей первоосновѣ, первому „полярному"
искусству — музыкѣ. Колебательное движеніе искусствъ
между двумя полюсами, двумя точками притяженія, архитек
турой и музыкой, — такова ритмика исторіи искусства’5),
соотвѣтствующая ритмикѣ жизни вообще. Иногда бываетъ,
что даже одно изъ двухъ „полярныхъ“ искусствъ само на
чинаетъ тянуться къ другому. Такъ въ пору Готики „нор
мальнымъ“ искусствомъ была архитектура, въ эпоху роман
тизма имъ стала музыка. Съ этой точки зрѣнія „Путешествіе
въ Арзрумъ“ представляется самымъ характернымъ образ
цомъ романтической поэзіи, свободнымъ отъ вторичныхъ,
производныхъ чертъ романтики — „ослѣпительно сверкаю
258
щія краски“, „неистовство страстей“, самоуслажденіе „не
нормальностью“ и проч., — и тѣмъ самымъ позволяющимъ
лучше уразумѣть ея сущность.
Ut pictura poesis. Это положеніе стало догматомъ, до
сихъ поръ еще не преодолѣннымъ окончательно. Поэзія
должна непремѣнно что-то „показывать“, „рисовать“, при
знакъ поэтичности рѣчи — ея „образность“, „колоритность“.
Блѣдность красокъ, „сѣрость“, отсутствіе образовъ въ пуш
кинскихъ повѣстяхъ и разсказахъ Гершензонъ считалъ „не
достаткомъ“ пушкинской прозы, не замѣчая, что безкрасочность характерна въ неменьшей степени и для пушкинскихъ
стиховъ. Изслѣдователи не поняли, что эта черта пушкин
ской рѣчи органически связана съ музыкальностью его поэ
зіи — въ подлинномъ смыслѣ этого слова, его стиховъ,
какъ и его прозы.
„Путешествіе въ Арзрумъ“ крайнее выраженіе художе
ственныхъ тенденцій Пушкина. Отходъ Пушкина отъ писанія
стиховъ, его обращеніе къ „смиренной прозѣ“ совсѣмъ не
были переходомъ отъ „романтизма“ къ „реализму“, отъ „мі
ра фантазіи и грезъ“ къ „дѣйствительной жизни“ — объ
этомъ, правда, говорилъ и самъ Пушкинъ, но „пушкинисты“
не замѣтили его ироніи, — въ этомъ проявились его иска
нія отдѣлаться отъ поэтическихъ условностей, обрѣсти свою,
отвѣчающую всецѣло его видѣнію міра, поэтическую форму.
„Путешествіе въ Арзрумъ“ проливаетъ, такимъ обра
зомъ, свѣтъ на всю природу пушкинскаго творчества и вмѣ
стѣ съ тѣмъ, поскольку Пушкинъ — одинъ изъ величай
шихъ, совершеннѣйшихъ художниковъ, какіе только извѣст
ны въ исторіи человѣчества, заставляетъ, думается мнѣ,
взглянуть по новому на основную проблему искусствовѣдѣ
нія, проблему художественнаго совершенства. Современные
теоретики искусства считаютъ основными понятіями своей
дисциплины понятія Классицизма и Романтизма. Классицизмъ
— стремленіе къ совершенству, Романтизмъ — влеченіе къ
Безконечному. Эти двѣ тенденціи, мало того, что „полярны“,
онѣ взаимно исключаютъ одна другую Ихъ борьбою, ихъ
чередованіемъ опредѣляется ритмика исторіи искусства, во
обще — человѣческаго духа. Вся исторія культуры можетъ
быть представлена какъ чередованіе „классическихъ“ и „ро
мантическихъ“ моментовъ. Какъ, съ этой точки зрѣнія, опре
дѣлить творчество Пушкина? Выше я постарался показать
„романтическую“ природу „Путешествія въ Арзрумъ“. Въ
названной уже работѣ С. Штейна, путемъ солостав тенія Пуш
кина съ Гофманомъ16) устанавливается наличность цѣлаго
ряда „романтическихъ“ элементовъ во множествѣ пушкин
скихъ твореній. Элементы эти относятся къ различнымъ ка
тегоріямъ: сюжета, настроеній, символики. Основной недо
статокъ изслѣдованія С. Штейна въ томъ, что авторъ, пере
259
числяя эти отдѣльныя „романтическія“ черты у Пушкина,
считаетъ какъ бы заранѣе разрѣшеннымъ вопросъ о томъ,,
насколько онѣ характерны для самой природы его творче
ства, насколько онѣ обусловлены присущей ему, опредѣляю
щей его творческую индивидуальность интуиціей жизни и
міра. Между тѣмъ „содержаніе“, въ ходячемъ смыслѣ этого
слова, „сюжетъ“, „интрига“ и т. под., могутъ служить для
художника только въ качествѣ машеріала. Важно, что онъ
изъ этого матеріала сдѣлалъ, какъ онъ его обработалъ, пре
творилъ. У Тиціана есть картины на евангельскіе сюжеты.
Можно ли, однако, счесть его искусство проникнутымъ ду
хомъ св. Писанія? Для пониманія художника необходимо уви
дѣть то постоянное, неизмѣнно въ его созданіяхъ присут
ствующее, что лежитъ за „фабулой“, „сюжетомъ“, „мане
рой“, за всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ платитъ дань своему време
ни. Обратимся снова къ „Путешествію въ Арзрумъ“, гдѣ эти
верхніе покровы „художественности“ отсутствуютъ, и уви
димъ, что въ этомъ произведеніи, которое какъ художе
ственное, просто не было даже замѣченнымъ ни въ свое
время, ни, говоря вообще, впослѣдствіи, на лицо какъ разъ
тѣ двѣ черты, которыя присутствуютъ во всгьхъ Пушкин
скихъ вещахъ, сколь бы онѣ ни были, въ рядѣ отношеній,
несхожи между собою. Это то, что Ю. Тыняновъ, въ своей
превосходной статьѣ о творчествѣ Пушкина17), называетъ
„двупланностью“ (точнѣе было бы сказать „двухтемность“),
которая внутренно связана съ динамичностью18). Замѣча
тельно, какъ много у Пушкина вещей, называемыхъ „отрыв
ками“ и тѣмъ не менѣе воспринимаемыхъ, каждая, какъ за
конченное художественное цѣлое. На самомъ дѣлѣ, ихъ внѣш
няя незаконченность есть лишь крайнее выраженіе самой при
роды „открытой формы“. Такой „отрывокъ“, какъ „Октябрь
ужъ наступилъ“, и долженъ быть „отрывкомъ“, поскольку
въ концѣ этого стихотворенія открывается перспектива за
„рамки“ его „сюжета“.
Игра быстро чередующихся „плановъ“ или „темъ“, ра
дости и мысли о смерти — „...вдругъ, видѣнье гробовое,
незапный мракъ..,“, свѣта и тѣни, опредѣляющая ритмъ
произведенія, таково подлинное содержаніе пушкинскихъ ве
щей. Произведеніе искусства вообще и поэзіи въ частности
принято дѣлить по признакамъ значительности и совершен
ства, — причемъ обычно понятія эти противопоставляются
одно другому. Въ дѣйствительности такое противопоставле
ніе абсурдно. Ограничиваясь предѣлами искусства слова, на
добно уяснить себѣ смыслъ сказаннаго Достоевскимъ: вся
кая идея есть чья-либо идея, т.-е. требуетъ своего собствен
наго, индивидуальнаго, неповторимаго, „непереводимаго",
выраженія. „Пиръ“ и „Федонъ“, „Разсужденіе о методѣ“,
„Міръ какъ воля и представленіе“ — такая же поэзія, какъ
260
и „Евгеній Онѣгинъ“. Если мы воспринимаемъ идею, выска
занную кѣмъ-либо, какъ его идею, т. е. какъ его самого, то
это служитъ ручательствомъ совершенства сказаннаго. Кри
терій совершенства и значительности имѣютъ, стало быть,
иной смыслъ. Есть творенія поэтическаго, т. е. выразитель
наго слова, гдѣ форма, сама по себѣ, для насъ какъ бы не
существуетъ: она является лишь средствомъ, выполняетъ
функцію посредника, медіума, между воспринимающимъ субъ
ектомъ и предметомъ высказыванія. Есть другія созданія,
гдѣ отношеніе между „формой“ и „содержаніемъ“, предме
томъ высказыванія, обратное. Здѣсь „медіумъ“ — содержа
ніе; то, что посредствомъ него воспринимается нами, есть
„форма“, т. е. само это произведеніе, какъ законченное, за
вершенное, совершенное, довлѣющее себѣ, цѣлое, какъ нѣ
кая, внѣ плана эмпирической жизни существующая реаль
ность, какъ, слѣдовательно, абсолютное бытіе. Такова по
эзія Пушкина. Ей соотвѣтствуетъ живопись Веръ-Меера и
музыка Моцарта. Какъ у этихъ двухъ, у Пушкина незначи
тельность — съ обывательской точки зрѣнія — содержанія
облегчаетъ воспріятіе значительности формы. Мало того:
динамичность, пронизанность ритмикой, „отрывочность“, вы
ражающія самую сущность жизни, заставляютъ, по контрас
ту, тѣмъ острѣе переживать абсолютную завершенность, т. е.
внгъвременность, той формы, въ которую художникъ заклю
чилъ „содержаніе“ и которая, тѣмъ самымъ, является сама
„содержаніемъ“, выражая собою недоступную нашему разу
му идею абсолютнаго бытія, Бога.
Всякая идея, будучи ли выражена въ формулахъ отвле
ченнаго сужденія, или воплощена въ художественныхъ об
разахъ, или въ живомъ лицѣ, требуетъ „противоидеи“. Про
сперо „требуетъ“ Калибана, Гамлетъ „требуетъ“ Донъ-Кихо
та, какъ Платонъ „требуетъ“ Аристотеля и Достоевскій —
Толстого. Но произведеніе искусства, если оно воспринима
ется нами какъ преимущественно художественное цѣлое, мо
жетъ сочетаться въ нашемъ сознаніи съ другими, сродными
ему, произведеніями, однако, такъ, что мы ничего не проти
вопоставляемъ ему, ничѣмъ не дополняемъ его. Оно для
насъ — замкнутый кругъ, за которымъ нѣтъ ничего.-„...Какъ
нѣкій херувимъ, онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ рай
скихъ...“ То, что Пушкинъ сказалъ о Моцартѣ, онъ могъ бы
сказать о себѣ. У Пушкина каждое слово вѣситъ „Райскія“
его пѣсни тѣмъ, что онѣ переносятъ насъ въ міръ внѣвре
менныхъ, чистыхъ идей Херувимы удостоены лицезрѣнія
Совершенства божія. „...Ты, Моцартъ, Богъ и самъ того не
знаешь...“ Художникъ можетъ и не догадываться о томъ,
что его слуха коснулся „божественный глаголъ“ — все рав
но: его искусство укоренено въ духовномъ опытѣ, въ кото
ромъ ему открылась нѣкая реальность и послѣ котораго
261
все данное въ мірѣ эмпирическаго бытія воспринимается имъ
какъ совокупность ея символовъ. „Путешествіе въ Арзрумъ“
— повѣствованіе о, собственно говоря, незначительномъ въ
жизни поэта эпизодѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ „Путешествіе въ
Арзрумъ“ — молийіва, въ томъ смыслѣ, въ какомъ Пушкинъ
примѣнялъ это слово къ произведеніямъ поэзіи вообще.
Сейчасъ уже говорятъ рѣже о „безсодержательности“,
„поверхностности“ Пушкина. Напротивъ, выдвигается его
„мистицизмъ“, подъ чѣмъ понимается, между прочимъ, его
суевѣріе, вѣра въ гадалокъ, въ талисманы, его страхъ смер
ти и т. под.19) Но склонность къ суевѣріямъ и мистицизмъ
(никогда, кстати сказать, это слово не бывало такъ опош
ляемо, какъ въ наше время: чего стоятъ хотя бы газетные
clichés вродѣ „мистика фашизма“, „мистика большевизма“ и
т. под.!) далеко не одно и то же и не находятся въ непре
мѣнной взаимной связи. Если бы Пушкинъ былъ лишенъ
способности религіознаго жизневоспріятія, онъ былъ бы, мо
жетъ быть, ловкимъ стихотворцемъ, но не былъ бы поэшомъ.
Искусство есть результатъ усилія побѣдить жизнь и смерть.
Если бы у Человѣка не было хотя бы ■смутнаго пережива
нія реальности иного плана бытія, то люди бы не плясали,
а кувыркались, какъ собаки и кошки, не пѣли бы, а чири
кали. Степень геніальности художника, т. е. его способности
творческаго преображенія „дѣйствительности“, есть мѣра
глубины и цѣнности его духовнаго опыта. Пушкинъ не бо
лѣе мистиченъ, нежели всецѣло, казалось бы, „посюсторон
ній“ Шекспиръ, и не менѣе мистиченъ, чѣмъ посѣтившій за
гробныя селенія Данте. Кто не пережилъ того, что Пуш
кинъ показалъ въ „Пророкѣ“ и въ балладѣ о бѣдномъ ры
царѣ, тотъ не художникъ. Разница лишь въ избранномъ пу
ти, творческомъ мешодгъ. Пушкина манилъ путь Пророка.
Но онъ не пошелъ имъ. Онъ не жегъ глаголомъ сердца
людей — подобна Достоевскому или Данте. Въ своемъ
,безполезномъ“, „безсодержательномъ“ искусствѣ онъ явилъ
людямъ образъ того, что открылось бѣдному Рыцарю —
видѣнье непостижное уму.
’) Вотъ еще одна параллель. „Путеш.* гл. V. Утромъ, проѣзжая мимо
Казбека, увидѣлъ я чудное зр Клише: бѣлыя, оборванныя тучи перетягива
лись черезъ вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами
солнца, казалось, плавалъ въ воздухѣ несомый облаками. Грибоѣдовъ
(отъ 31 янв.): Дорого бы я далъ за живописца: никакими словами нельзя
изобразить вчерашнихъ паровъ, которые все утро кругъ горы стлались,
солнце ихъ позлащало, и они тогда, какъ кипящее огненное маре... (про
пускъ въ текстѣ) потомъ свились въ облака и улеглись у подножія даль
нихъ горъ. Между ними черная скала Пеписъ плавала въ видѣ башни ..
2) Напр : ... И ползаютъ овцы по злачнымъ стремнинамъ... Ср.
262
.Пут." I: Горы тянулись надъ нами. На ихъ вершинахъ ползали чуть
видимыя стада... И нищій наѣздникъ таится въ ущельи, гдѣ Терекъ игра
етъ въ свирѣпомъ весельи... Пут. (ib ): ... огромныя скалы, между
которыми хлещетъ Терекъ съ яростью неизъяснимой. Ср. еще въ
„Обвалѣ,: И Терекъ злой надъ нимъ бѣжалъ...
Oeuvres, éd. de 1838, III, 501. Кромѣ абзаца „Пушка оставила
насъ"... съ этимъ мѣстомъ слѣдуетъ сопоставить абзацъ изъ описанія той
же части пути: .Въ семи верстахъ отъ Ларса находится даріальскій постъ.
Ущелье носитъ то-же имя. Скалы съ обѣихъ сторонъ стоятъ параллельными
стѣнами... Клочекъ неба, какъ лента, синѣетъ надъ вашей головою. Ручьи,
падающіе съ горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоми
нали мнѣ похищеніе Ганимеда, странную картину Рембрандта. Къ тому же
и ущелье освѣщено совершенно въ его вкусѣ. Въ иныхъ мѣстахъ Терекь
подмываетъ самую подошву скалъ.. Недалеко отъ поста мостикъ смѣло
переброс енъ черезъ рѣку‘‘... Эти мѣста у обоихъ поэтовъ воспринимаются
какъ варі шіи на одну и ту же тему. Вопросъ о вліяніи Шатобріяна на Пуш
кина въ .Путешествіи“ можно было бы разрѣшить только обнаруживъ всѣ
источники этой вещи. Извѣстно, какъ много у Пушкина и намѣренныхъ
.цитатъ* и безсознательныхъ реминисценцій и сколь разнообразенъ былъ
литературный матеріалъ, которымъ онъ пользовался. Къ сожалѣнію очень
многое изъ того, что могло послужить Пушкину при его работѣ надъ
.Путешествіемъ“, было мнѣ недоступно. Приведу только нѣкоторые при
мѣры. Гершензонъ установилъ, что, при переработкѣ первоначальной редакціи„Путешествія“, Пушкинъ включилъ въ него немало мѣстъ, заимствован
ныхъ изъ книги „Записки во время поѣздки изъ Астрахани на Кавказъ
и вь Грузію въ 1827 году Н... Н...*, М. 1829 (Статьи о Пушкинѣ, 1926,
стр. 55—59). Этотъ Н... Н... и есть тотъ .одинъ путешественникъ, котораго
Пушкинъ цитируетъ въ 1-й главѣ. Въ 111-ей гл. читаемъ: .Природа около
насъ была угрюма. Воздухъ былъ холоденъ, горы покрыты печальными
соснами. Снѣгъ лежалъ въ оврагахъ... Nec Armeniis in cris, | amice Valgl,
Stat glacies iners | menses per omnes...“ Эту же цитату изъ оды Горація
(Lib. II, IX) находимъ у James Morier, The Adventures of Hajji Baba
(1824), Introductory Epistle: „...I passed at the foot of The venerable Mount
Ararat, and was fortunate enough to meet with a favourable moment for tra
versing the cold regions of Armenia, nec Armeniis in oris stat glacies iners
menses per omnes-”* Хотя, какъ мы видимъ, Пушкинь цитируетъ Горація
точнѣе, врядь ли здѣсь — только случайное совпаденіе. Пушкинъ былъ
знакомъ съ сочиненіемъ Могіега: въ Ѵ-ой гл. онъ говорить, что раньше
онъ зналъ объ Арзрумѣ .только то, что здѣсь, по свидѣтельству ГаджиБабы, поднесены были персидскому послу, въ удовлеівореніе какой-то оби
ды, телячьи уши вмѣсто человѣчьихъ". Соотвѣтствующій эпизодъ нахо
дятся во П-ой части „Приключеній" (The adventures of Hajji Baba in En
gland, 1828), гдѣ разсказывается о поіздкѣ англійской миссіи вмѣстѣ съ
персидской изъ Персіи, черезъ Арзрумъ—Константинополь, въ Англію.
Возможно, что Пушкинъ читалъ и отчетъ Morier о его пребываніи въ
Персіи (у меня подъ руками французскій переводъ, Voyage en Perse....
fait dans les années 1808 et 1809, P., 1813). Тонъ холодной ироніи, когда ан
глійскій дипломатъ говоритъ объ „экзотикѣ", очень похожъ на пушкинскій
263
въ „Путеш. въ Арзрумъ". (Оговариваюсь, что мнѣ было недос.уино вы
шедшее недавно изданіе „Путешествія" подъ редакціей и съ примѣчаніями
М. Гофмана. Выпущенное, если нс ошибаюсь, въ числѣ всего 50 экземпля
ровъ, оно стало т. о сразу библіографической рѣдкостью. М. б. тамъ на
шлись бы указанія на источники „Путешествія“).
*) Это слово у Пушкина не рѣдкость: ...И завѣсъ рощицы струит
ся... (Поел, кь Юдину, 1815 г.): ...И молнійной струей душа къ возвы
шенной душѣ твоей летѣла... (къ Жуковскому, 1818); Ночной Зефиръ
струитъ эфиръ...: ...воздухъ утренній струился (Gonzago); ...вотъ по
рохъ струйкой сѣроватой на полку сыплется. (Евг. Он.). Здѣсь этотъ
образъ струящейся жатвы, быть можетъ, былъ ему подсказанъ однимъ мѣ
стомъ изъ „Писемъ изъ Болгаріи“ В. Теплякова, автора Ѳракійскихъ Элегій:
,,У ногъ ихъ (скалъ) мелькаютъ Праводы (поселокъ подъ Варной), разсы
панные по ковру зеленой долины, коей злакъ зыблется издали, подобно
струямъ живого изумруднаго источника* (Письмд изъ Болгаріи, писаны
во время кампаніи 1829 г. Викторомъ Тепляковымъ, Москва, 1833, стр, 175).
Вотъ еще одна параллель, сама по себѣ, впрочемъ, незначительная: „Чѣмъ
дальше подвигались мы впередъ, тѣмъ круче и тѣснѣе становилась дорога".
(Письма, 173) Ср. Путешествіе, I: „Чѣмъ далѣе углублялись мы въ горы,
тімъ уже становилось ущелье".
5) Ср. въ Пик. Дамѣ: Германъ трепеталъ какъ тигръ.
е) Ср. письмо къ Л. С. Пушкину во время первой поѣздки на Кав
казъ (24 сент. 1820): ...Вокругъ насъ ѣхали 60 казаковъ, за нами тащи
лась заряженная пушка съ зажженнымъ фитилемъ"...
7) Въ своемъ весьма тщательномъ изслѣдованіи „Пушкинъ и Гофманъ“
(Acta et commentationes Univ. Tartuensis. В. XIII. 1928), С. Штейнъ перечи
сляетъ иностранныхъ художниковъ, упоминаемыхъ у Пушкина (стр. 26).
Имя Рембрандта опущено, хотя Пушкинъ наз ываетъ его дважды — въ
„Путешествіи" и въ „Дом. въ Коломнѣ": „Старушка (я стократъ видалъ
точь въ точь въ картинах ь Рембрандта такія лица) носила чепчикъ и очки“...
(стр. XXVJ1). Между тѣмъ авторъ придаетъ значеніе этимъ упоминаніямъ
живописцевъ у Пушкина, поскольку они важны ему для выясненія вопроса,
что могло быть общаго у Пушкина сь Гофманомъ и въ какой мѣрѣ и въ
чемъ послѣдній могъ повліять на Пушкина. Гофманъ же какъ разъ, какъ
указываетъ авторъ (стр. 25), называетъ вь одномъ изъ своихъ произведеній
Рембрандта.
8) Отмѣчу кстати и здѣсь характерный у Пушкина пріемъ усугубле
нія впечатлѣніч посредствомъ повторенія однихъ и тѣхъ-же словъ: „Поми
нутно лошадь моя могла упасть, и тогда... уланскій полкъ переѣхалъ-бы
черезъ меня. Однако Богъ вынесъ. ...Турки бѣжали, казаки ...неслись
мимо“...
9) Пушкинъ высоко цѣнилъ Стендаля. Отъ „Le Rouge et le Noir“ онъ
былъ „въ восторгѣ". См. его письма къ Е. М. Хитрово отъ 1831 г.
10) Цит. по 3-ьему изд. 1835 г., II, 316.
1’) Спб. 1805, анонимно. Авторъ — Лубяновскій.
’2) Мотивъ разочарованія тоже не новъ. У А. Муравьева онъ напр.
повторяется неоднократно. Въ Александріи онъ „воображалъ себѣ развали
ны и нашелъ только прахъ" (1, 101). Когда онъ приблизился къ пирами-
264
дамъ, „очарованіе на время исчезло, и онѣ представились совершенно обыкно
венными зданіями“... (I, 135). Даже въ Іерусалимѣ онъ пережилъ это чув
ство. „Кто выразитъ век чувства волнующія грудь при внезапномъ появле
ніи Св. Града?" .... я стоялъ въ безмолвномъ восторгѣ..." Но сейчасъ-же
вслѣдъ за тѣмъ: „я въѣхалъ въ городъ, взглянулъ окрестъ себя, и очаро
ваніе исчезло“ (227). Смѣна „восторговъ“ и „разочарованій" была для „чув
ствительнаго путешественника“ обязательной. Все дѣло въ способѣ трак
товки извѣстныхъ мотивовъ. Для Пушкина характерно то, что ни на во
сторгахъ, ни на разочарованіяхъ онъ не задерживается.
’•) Familiäres, IV, 1. Аллегорическій смыслъ этого письма я постарал
ся выяснить въ моей работѣ Мѣсто Ренессанса въ исторіи культуры. Годйшникъ на Софийския Унив., 1933, стр. 16 сл.
и) Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 1921; см. такъ же Renaissance
und Baroch, 1908.
’•1) Ср. Fritz Medicus, Das Problem einer vergleichenden Geschichte der
Künste (вь сборн. Philosophie der Literat irwissenschaft, подъ ред. Ermatinger,
1930), стр. 234—239. Въ „Eupalinos“ и въ „Pièces sur l’Art“ Поля Валери
прекрасно выражено сродство „основныхъ“ искусствъ, архитектуры и му
зыки, но совершенно не отмЬчена ихъ „полярность“.
,6) Работу, начатую С. Штейномъ, слѣдовало бы продолжить въ из
бранномъ имъ направленіи, т. е. сдѣла.ь сопоставленіе Пушкина не только
съ Гофманомъ, какь у автора, или съ Байрономъ, какъ у А. Жирмун .-каго,
но со сЬми выдающимися поэтами эпохи романтизма вообще. Пользуюсь
случаемъ, чтобы сознаться въ томъ, что объ изслѣдованіи С. Штейна я
узналъ и могъ познакомиться съ нимъ лишь недавно. И вотъ, читая эту
работу, вышедшую уже въ 1928 г., я нашелъ въ ней тѣ же самыя наблю
денія о роли числа т р и въ построеніи „Пиковой Дамы“ (стр. 279), какія
сдѣланы были мною въ статьѣ „Замѣтки о Пушкинѣ“, напечатанной въ
Slavia въ 1930 г.
'■) Въ энциклопедическомъ словарѣ Граната, 7 ое перераб. изд.
IS) Позволю себѣ отослать къ моей работѣ „Этюды о Русской Поэзіи ‘
гдѣ праведен .і примѣры этой послѣдней особенности творчества Пушкина,
насколько она отразилась на его рѣчи и на композиціи его вещей.
п) Такъ въ работѣ С. Штейна. Въ 1931 г. вышло извлеченіе изъ этой
работы подъ заглавіемъ „Пушкинъ-Мистикъ‘. Характерно, что на стр. 75
авторъ констатируетъ у Пушкина-М истика отсутствіе религіознаго
ч у в с т в а (!)
П. Б. Струве.
Духъ и Слово Пушкина1).
Съ приложеніемъ матеріаловъ къ историческому толковому
словарю языка Пушкина.
Посвящается памяти внука великаго
поэта Сергѣя Александровича (Сережи)
Пушкина, которому, какъ ученику III
класса Третьей СПБ гимназіи, я, въ
роли репетитора, „вдалбливалъ1' ла
тинскую, греческую и русскую грам
матику.
I. Духъ и Душа Пушкина.
Духъ не есть Душа. Не только въ новѣйшемъ, столь
модномъ въ созременной Германіи, смыслѣ Людвига Клаггса,
который создалъ хитроумное ученіе о духѣ, какъ коварномъ
антагонистѣ души2), но и въ томъ болѣе простомъ и болѣе
правдивомъ смыслѣ, который былъ заложенъ греческой фило
софіей пвѳагорейцевъ и философіей Сократа-Платона и окон
чательно утвержденъ христіанской философіей апостола Павла
и его истолкователей. Первоначально душа и духъ (дыханіе)
наивно-матеріалистически (космологически) отождествляются.
Такъ въ знаменитомъ афоризмѣ Анаксимена душа (фѵуі]) ото
ждествляется съ воздухомъ (<хі]р), а духъ (лѵебр.а) характери
зуется какъ дыханіе міра 3). Дальше философская мысль все
’) Главы 11 -V составили содержаніе рѣчи, произнесенной на торжествен
номъ собраніи въ Русскомъ Домѣ имени Императора Николая II въ Бѣлградѣ
10 февраля 1937 года, организованномъ Югославянскимъ Отдѣломъ Зару
бежнаго Пушкинскаго Комитета. Съ неизъяснимой отрадой, соединенной
съ глубокой скорбью, я вспоминаю, что внимательнымъ слушателемъ этой
рѣчи былъ почившій Св. Патріархъ Варнава.
-') Ludwig К la g es, Der Geist als Widersacher des Lebens. L.-ipzig
1929 (S. A. Barth, 2 тома въ 830 страницъ).
3) ôïov i)
.... f) Трегера àqp oûda биукрагеі f]p.âç, каі
ôkov tôv KÔdpov Tïveôp.a каі àî]p nepiéyei. Цитировано по изданію
Piels Die Fragmente der V< rsokratiker. Vierte Auflage Berl n 1922. S. 26.
266
яснѣе и яснѣе отличаетъ и отмежевываетъ духъ отъ души, и
это различеніе ихъ, какъ двухъ силъ или, вѣрнѣе, двухъ
слоевъ, или пластовъ человѣческаго бытія, окончательно тор
жествуетъ въ философіи апостола Павла. Вы помните: „Сѣ
ется тѣло душевное, возстаетъ тѣло духовное“ (I Корине.
XV, 44), ибо „тлѣнному... надлежитъ облечься въ нетлѣніе
и смертное... облечется въ безсмертіе“. Эти слова великаго
первоучителя христіанства вдохновили величайшаго его церков
наго витію Іоанна Златоуста, и черезъ него каждый годъ въ
Свѣтлую Христову ночь укрѣпляютъ и утѣшаютъ православ
ныхъ христіанъ Іо, воистину, — не только вѣіція, но и свя
щенныя слова, и изъ всѣхъ великихъ творцовъ Слова, они
всего полнѣе оправдываются на величайшемъ геніи русскаго
Слова и Духа, когда мы любовно изучаемъ Слово и изъ Сло
ва постигаемъ Духъ Пушкина.
Именно Духъ. Не мятущуюся душу, преданную стра
стямъ, не душу, всецѣло не только подвластную „душев
ному“ или „животному“ тѣлу, но и составляющую съ нимъ
нѣчто единое, а духъ ясный, простой и тихій, смиренно скло
няющійся передъ неизъяснимымъ и неизреченнымъ.
Слово у нашего Пушкина таинственно-неразрывно свя
зано съ Духомъ. Неслучайно и недаромъ, вѣдь, этотъ не
сравненный художникъ русскаго Слова, самый могучій его
творецъ и служитель, называлъ себя „тинственнымъ пѣв
цомъ“ (Аріонъ). Чрезъ тайну Слова Пушкинъ обрѣлъ Духъ,
и этотъ Духъ онъ воплотилъ въ Слово.
Поэтому, говоря о Цухгь Пушкина, нѣтъ надобности
распространяться объ его жизни, съ ея страстями и ошибка
ми, съ ея грѣхами и паденіями. Эту жизнь нужно уз
нать, ' чтобы познать Духъ Пушкина. Этой жизнью, ко
нечно, жила, въ ней и ею наслаждалась и страдала, упива
лась и изнывала его душа. Но эту жизнь преодолѣвалъ его
Духъ. Преодолѣніе себя, своей Души въ Словѣ и обрѣ
теніе черезъ Слово своего Духа есть самое таинственное и
самое могущественное, самое волшебное и чарующее, самое
ясное и непререкаемое въ явленіи: Пушкинъ.
Это не есть громкая фраза, не есть безотвѣтственное
провозглашеніе общихъ мѣстъ. Когда я ощутилъ эту тайну,
эту таинственную связь Слова и Духа въ личности и твор
чествѣ Пушкина, я далъ обѣтъ довести для себя и для дру
гихъ эту связь до полной ясности, до непререкаемой отчет
ливости, до себя самое объясняющей простоты. Обрѣтши
эту тайну непсредственнымъ видѣніемъ, я рѣшилъ оправдать
свое видѣніе кропотливымъ изученіемъ, выводы и утвержде
нія котораго могли бы быть схвачены и провѣрены всякимъ.
Ключъ къ Духу Пушкина въ его Словѣ. Конечно, и
душа Пушкина отразилась въ его словахъ и стихахъ Душа
человѣка, о которомъ директоръ Царскосельскаго Лицея
267
сказалъ, когда Пушкину не было еще 20 лѣтъ: „если бы
бездѣльникъ этотъ захотѣлъ учиться, онъ былъ бы человѣ
комъ, выдающимся въ нашей литературѣ“; о которомъ его
товарищъ и другъ, декабристъ Пущинъ, обмолвился мѣткой
характеристикой: „странное смѣшеніе въ этомъ великолѣп
номъ созданіи“.
Но, вѣдь, самымъ страннымъ смѣшеніемъ въ этомъ соз
даніи было именно сожительство души, которая „жадно, бѣше
но предавалась наслажденіямъ“ {Левъ Пушкинъ'), „неистовымъ
пирамъ“ и „безумству гибельной свободы“, тому, что чест
ный и мудрый Александръ Тургеневъ мѣтко съ ласковой,
почти отеческой, тревогой за „Сверчка“ въ 1817 г. назвалъ
„площаднымъ волокитствомъ“ и „также площаднымъ воль
нодумствомъ“, сожительство этой души съ совершенно дру
гой стихіей. Съ Духомъ, подымавшимся на такую высь, на
которой этому Духу было доступно подлинное ясновидѣніе
и Боговидѣніе, и онъ въ ясной тишинѣ и тихой ясно
сти, художественно преображая этотъ міръ, касался міровъ
иныхъ и приближался къ Божеству.
Въ свѣтѣ этой мысли о сожительствѣ въ Пушкинѣ не
истово-страстной и жадно-безумной души съ яснымъ и трез
вымъ, мѣрнымъ и простымъ Духомъ становятся совершенно
понятными и пріобрѣтаютъ огромный не только психологи
ческій, но и подлинно религіозный смыслъ такія произведе
нія, какъ „Поэтъ“ („Пока не требуетъ поэта“), какъ „Въ
часы забавъ иль праздной скуки“, какъ „Воспоминаніе4).
Духъ Пушкина подымался на высоту и погружался въ
глубину5). Но душа его мучительно тосковала и подлинно
4) Этотъ человѣчески естественный и въ то же время религіозно столь
значительный фактъ далъ поводъ В. В. Вересаеву утверждать, что Пуш
кин ь жиль въ „двухъ планахъ". Ср. его статью „Въ двухъ планахъ. (О
творчествѣ Пушкина)“, въ журналѣ .Красная Новь", кн. 2-я за 1929 г. стр.
200—221. Но развѣ Пушкинская „двухпланность" не есть по существу нѣ
что неизбывное и характерное для человѣка вообще? Вересаевъ подмѣтилъ
фактъ, но по своей религіозной слѣпотЬ не могъ его истолковать.
?) Надлежитъ отмѣтить, что на слово и понятіе .Духъ'- въ русскомъ
и вообще славянскихъ языкахъ обратилъ вниманіе въ своихъ замѣчатель
ныхъ французскихъ лекціяхъ о русской литературѣ Адамъ Мицкевичъ.
Съ точки зрѣнія исторической и сравнительно-лексической его замѣчаніе
конечно, не выдерживаютъ критики, но всетаки въ основѣ ихъ лежйтъ глу
бокое пониманіе проблемы духа въ христіанскомъ смыслѣ.Любопытно и неслу
чайно, что именно глубоко религіозный Мицкевичъ дѣлаетъ эти замѣчанія „
Ипритомъ по поводу произведеній Державина, самаго духовнаго и хри
стіанскаго изъ великихъ русскихъ поэтовъ: „Duch signifie ... non pas Г. sPrit mens) tel qu'il est compris par ia plupart des philosophes, non pas
lesprit suivan l’acception vulgaire du mot, mais i h mme spirituel, l’homme inime, qui anime le corps, le Spiritus dins le sens biblique... Nulle part on ne
268
трепетала въ этихъ таинственныхъ восхожденіяхъ и нисхож
деніяхъ, пока, наконецъ, сливаясь съ Духомъ, она не обрѣ
тала мѣрности въ „восторгѣ пламенномъ и ясномъ“, не сми
рялась предъ Богомъ въ „ясной тишинѣ“.
Это давалось нашему великому поэту въ какомъ-то от
ношеніи, какъ человѣку страстному, нелегко. Онъ самъ, какъ
человѣкъ, былъ всю жизнь раздираемъ тѣмъ, что онъ на
звалъ чудесно-мѣткимъ, имъ вычеканеннымъ, словомъ: „про
тивочувствія“. Но была и въ его страстной и подчасъ не
истовой душѣ струна, которая была органически созвучна
ясности и тишинѣ духа. То была его человѣческая
доброта. Пушкинъ могъ быть и злымъ и даже, какъ
сказалъ однажды кн. П. А. Вяземскій, злопамятнымъ. Но
злоба и злопамятность въ немъ какъ бы взрывалась и
такими взрывами истощалась въ его душѣ. А въ этой ду
шѣ въ то же время былъ неизсякаемый источникъ до
броты и простоты. Эта душевная доброта Пушкина была
созвучна его духовной ясности, и она въ его поэтическомъ
творчествѣ водворяла ту гармонію противоположностей, о
которой говорили нѣкогда пиѳагорейцы и Николай Кузанскій.
О добротѣ Пушкина мы имѣемъ много свидѣтельствъ. Но
всѣ они получаютъ то значеніе, о которомъ я говорю, лишь
въ сопоставленіи съ драгоцѣнными воспоминаніями о Пуш
кинѣ умнаго и честнаго П. А. Плетнева: „Любимый со мною
разговоръ его, за нѣсколько недѣль до его смерти, все обра
щенъ былъ на слова: „Слава въ вышнихъ Богу, и на землѣ
миръ, и въ человѣцѣхъ благоволеніе“. По его мнѣнію, я
много хранилъ въ душѣ моей благоволенія къ людямъ“ 6) и
далѣе: „Написать записки о моей жизни мнѣ завѣщалъ Пуш
кинъ у Обухова моста во время прогулки за нѣсколько дней
до своей смерти. У него тогда было какое то высоко-рели
гіозное настроеніе. Онъ говорилъ со мною о судьбахъ Про
мысла, выше всего ставилъ въ человѣкѣ качество благово
ленія ко всѣмъ, видѣлъ это качество во мнѣ, завидовалъ
моей жизни“ 7).
trou е cette idée profondément slave aussi bien exprimée que dans ces strophes
de Dieriivin “. (.Безсмертіе души“, 1797, ср. критическое изданіе Я. К Г p flта, у котораго цитированы замѣчательны і разсужденія Мицкевича, т. II,
СПБ. 1865, стр. 2-4).
6J П. А. Плетневъ — Я. К. Гроту. Переписка Грота съ Плетневыми
II, 731. Цит. по Вересаеву „Пушкинъ вь жизни“, вып. IV, стр. 87.
7і П. А. Плетневъ — Я. К. Гроту, 24 февраля 1842 г. Переписка Гро
та съ Плетневымъ, т. I, СПБ. 1896, стр. 495. Цит. по Вересаеву „Пушкинъ
въ жизни“, вып. IV, стр. 97.
269
II. Слово и слова Пушкина.
Художникъ и мастеръ слова говоритъ словами. Какія
же слова, полныя не условнаго, а существеннаго, душевнаго
и духовнаго, смысла, всего чаще встрѣчаются въ твореніяхъ
Пушкина, особливо въ чисто художественныхъ?
Когда я непосредственнымъ видѣніемъ, интуиціей уло
вилъ и позналъ духъ Пушкина, присущую ему чудесную гар
монію пламеннаго восторга и ясной тишины, я эту гармонію
— употребляя пушкинское выраженіе— „повѣрилъ“, правда
не „алгеброй“, а простымъ счисленіемъ, довольно точнымъ
счетомъ. И что же получилось?
Самыми любимыми словами, т. е. обозначеніями и при
знаками вещей, событій и людей, у Пушкина оказались при
лагательныя: ясный и тихій и всѣ производныя отъ
этихъ или имъ родственныя слова.
Еще раньше я въ спеціальномъ этюдѣ установилъ зна
ченіе для Духа, т. е. для мысли и чувства Пушкина, другого
понятія: неизъяснимый8). Понятіе это полярно понятію
ясный, какъ его отрицаніе. Ясный духъ Пушкина смиренно
склонялся передъ Неизъяснимымъ въ мірѣ, т. е. передъ Бо
гомъ, и въ этомъ смиреніи яснаго человѣческаго духа передъ
Неизъяснимымъ Божественнымъ Бытіемъ и Міровымъ Смыс
ломъ и состоитъ своеобразная религіозность великаго „таин
ственнаго пѣвца“ Земли Русской.
Но, установивъ это, естественно было и надлежало пойти
дальше. На всемъ пространствѣ Пушкинскаго творчества съ
его юношескихъ и до самыхъ зрѣлыхъ произведеній слова:
ясный и неизъяснимый, тихій и тишина сопровождаютъ его
мысль и чувство.
Какъ мыслили и чувствовали предшественники Пуш
кина? Вотъ что обнаружилось при историческомъ изслѣдо
ваніи пушкинскаго слова. Исторически оно восходитъ по
своему основному смыслу и стилю къ В. К. Тредьяковско
му и къ М. В. Ломоносову. Эпитеты „ясный“ и „тихій“ и
производныя отъ этихъ прилагательныхъ слова встрѣчаются
особенно часто у Ломоносова. И у него же мы встрѣчаемъ со
четаніе существительныхъ „ясность“ и „тихость“ (хотя чаще
У Ломоносова существительное „тишина“; „тихость“ у Пуш
кина совсѣмъ не встрѣчается). У него же впервые —
.ясная тишина“. Принимая во вниманіе, что Пушкинъ пре
восходно зналъ русскихъ поэтовъ XVIII вѣка, въ част
ности и въ особенности Ломоносова, и не только его
стихотворныя произведенія, но и его „Реторику“, мы
здѣсь — въ отношеніи пушкинскаго словоупотребленія —
8) „Неизъяснимый“ и „непостижный“.
скаго Института въ Прагѣ. Прага, 1929.
Пушкинскій Сборникъ Рус
270
должны усматривать, конечно, не заимствованія, а просто
естественную преемственность словесной традиціи. И это не
могло быть иначе! Пушкинъ, какъ одинъ изъ творцовъ рус
скаго слова, стоитъ всецѣло на плечахъ ХѴШ вѣка, продол
жая двѣ его традиціи или два его подвига, одинаково важ
ные: усвоеніе книжному русскому языку элементовъ языка
церковно славянскаго и впитываніе элементовъ и богатствъ
народнаго языка въ языкъ книжный. Первое есть дѣло боль
ше всего словеснаго мастерства Ломоносова. Второе — дѣло
Державина и, въ особенности, издателей народныхъ или став
шихъ народными пѣсенъ, больше всего—Новикова и Чулкова.
Пушкинъ продолжалъ оба эти дѣла и онъ оба названныхъ
элемента русскаго литературнаго языка окончательно спаялъ
въ нѣкое органическое единство.
Это есть величайшій подвигъ въ исторіи русскаго язы
ка, подвигъ, въ которомъ Пушкинъ проявилъ и весь свой
геній художника слова, и всю силу своего проникнутаго му
дрымъ историзмомъ духа. Въ этомъ подвигѣ Пушкина у нъ
го было два ближайшихъ предшественника: Державинъ и
Жуковскій, которые въ этомъ духовномъ смыслѣ еще
ближе, еще родственнѣе Пушкину, чѣмъ Ломоносовъ
III. Судьба и ростъ Пушкина какъ культурнаго явленія.
Пушкинъ — величайшее явленіе русской культуры, зна
ченіе котораго въ исторіи не умаляется, а непрерывно возростаетъ въ Россіи и для Россіи.
Еще при жизни Пушкинъ былъ любимѣйшимъ, самымъ
понятнымъ и самымъ дорогимъ для русскаго сердца изъ
всѣхъ писателей. Онъ при жизни сталъ народнымъ, хотя ря
домъ съ нимъ жили и дѣйствовали писатели, языкъ, мысли,
слова, реченія которыхъ не меньше, а больше пушкинскихъ
вошли въ народный обиходъ: назову Крылова и Грибоѣдо
ва. Затѣмъ наступила смерть Пушкина, съ ея всѣмъ доступ
нымъ и всѣхъ до глубины души взволновавшимъ трагиз
момъ. „Погибъ поэтъ, невольникъ чести“...
А потомъ настала эпоха какого-то, быть можетъ, лишь
видимаго и даже мнимаго потускнѣнія лучезарнаго образа
Пушкина въ русскихъ умахъ: 60-ые и 70-ые годы. Но это
потускнѣніе было мнимымъ, и когда въ 1880 году былъ от
крытъ на рѣдкость удачный, благородный въ своей просто
тѣ памятникъ Пушкина въ Москвѣ, Россія геніальнымъ и
пророческимъ взоромъ вновь открыла Пушкина и онъ рас
крылся передъ нею Это открытіе и раскрытіе Пушкина че
резъ вѣщее слово Досшоевскаго есть для меня, который былъ
въ это время ребенкомъ, первое сильное, чисто духовное,
чисто культурное переживаніе, потрясеніе и откровеніе.
271
Затѣмъ 1887 годъ — истекаетъ срокъ авторскаго пра
ва на сочиненія Пушкина, и въ милліонахъ экземпляровъ его
творенія растекаются по необъятной русской землѣ. Если
смерть Пушкина была первымъ раскрытіемъ его величаваго
образа, а чествованіе его памяти въ связи съ освященіемъ
памятника было такимъ вторымъ раскрытіемъ, то 1887 годъ
знаменуетъ цѣлую эпоху въ томъ процессѣ, которымъ Пуш
кинъ становился подлинно народнымъ.
Откуда и въ чемъ это величіе Пушкина, какъ культур
наго явленія?
Какъ всѣ великія явленія такого рода, какъ всѣ геніи,
Пушкинъ органически выросъ. Онъ больше своихъ предше
ственниковъ, онъ на много выше своихъ современниковъ,
но онъ неразрывно съ ними связанъ. Есть какое-то неизъ
яснимое наслажденіе — я нарочно употребляю это чисто
пушкинское слово, заимствованное имъ у Державина и Ка
рамзина, — слѣдить за тѣмъ, какъ Пушкинъ подготовляет
ся, т.-е. органически выростаетъ изъ всего предшествующа
го развитія, какъ къ нему ведетъ и духовная, точнѣе, ду
ховно-языковая сокровищница Церкви и богослуженія, ве
детъ и творчество Ломоносова и Сумарокова, и Фонвизина
и Озерова, и Державина и Карамзина, и Хемницера и Кры
лова, и Жуковскаго и Батюшкова, и, наконецъ, та широкая
волна подлинной народной поэзіи, которая, вмѣстѣ съ зна
менитыми сборниками народныхъ пѣсенъ Чулкова и Новико
ва, проникаетъ въ русскую образованность и органически
въ ней претворяется.
Въ лицѣ Пушкина, быть можетъ, даже не вполнѣ замѣтно
и ощутимо для него самого, исторія подвела итогъ огромной
культурно національной работѣ, произведенной въ великое
пятидесятилѣтіе, гранями котораго являются 1765 годъ, одинъ
изъ первыхъ годовъ славнаго Екатерининскаго царствованія,
и 18І4 годъ, годъ рожденія Пушкина, не какъ физическаго
лица, а какъ великаго русскаго поэта.
IV. Величіе Пушкина.
Итакъ, Пушкинъ — геній, пожавшій обильную истори
ческую жатву и въ то же время непрерывно выроставшій
при жизни и послѣ смерти.
Въ чемъ же величіе Пушкина, въ чемъ разгадка не
уклоннаго роста его значенія для Россіи и русской культуры?
Пушкинъ — самый объемлющій и въ то же вре
мя самый гармоническій духъ, который выдвинутъ
былъ русской культурой. Не въ томъ только дѣло, что
Пушкинъ не элементаренъ, а многосоставенъ и въ лучшемъ
смыслѣ многоликъ.
272
Пушкинъ — самый ясный русскій духъ.
Пушкинъ ясенъ во всемъ многообразномъ смыслѣ это
го прекраснаго русскаго слова. Онъ — ясный день и онъ—
ясный соколъ. Онъ — живой образъ творческой гармоніи,
онъ — красота и мѣра. Есть что-то для русской культуры
пророчески-ободряющее, что именно Пушкинъ, этотъ спо
койный великанъ, стоитъ въ началѣ русской подлинно на
ціональной, самобытной литературы.
Вспомнимъ его собственныя геніальныя слова:
Въ мѣрный кругъ
Твой бѣгъ направлю
Укороченной уздой...
Пушкинъ въ этой мѣрности художнически переживалъ
и духовно утверждалъ — ясную тишину, какъ нѣкое впол
нѣ доступное человѣку, ему естественное религіозное на
чало.
Вотъ чѣмъ — въ томъ его окончательномъ и оконча
тельно зрѣломъ образѣ, который онъ завѣщалъ Россіи и
русскому народу — дорогъ намъ Пушкинъ, вотъ чѣмъ онъ
учителенъ и водителенъ для нашего времени.
Пушкинъ не отрицался національной силы и государ
ственной мощи. Онъ ее, наоборотъ, любилъ и воспѣвалъ.
Недаромъ онъ былъ пѣвцомъ Петра Великаго.
И въ то же время Пушкинъ, этотъ ясный и трезвый
умъ, этотъ выразитель и цѣнитель земной силы и человѣ
ческой мощи, за доступной и естественной человѣку ясной
тишиной духовно прозрѣвалъ неизъяснимую тайну Божью,
превышающую все земное и человѣческое, и передъ этой
тайной Божьей смиренно и почтительно склонялся. Да, его
припаданіе къ Тайнѣ Божіей было дѣйствіемъ, можно ска
зать, стыдливымъ. Религіозности Пушкина было чуждо все
показное и крикливое, все назойливое и чрезмѣрное.
Пушкинъ зналъ, что всякая земная сила, всякая чело
вѣческая мощь сильна мѣрой и въ мѣру собственнаго само
ограниченія и самообузданія. Ему чужда была нездоровая,
разслабленная чувствительность, ему претила пьяная чрез
мѣрность, тотъ прославленный въ настоящее время „макси
мализмъ“, который родится въ угарѣ и изсякаетъ въ по
хмѣльѣ.
Пушкинъ почиталъ преданіе и любилъ „генеалогію“Глядя „впередъ безъ боязни“, презирая въ будущее,
онъ спокойно и любовно озиралъ прошлое и въ него
погружался.
И въ то же время онъ ощущалъ и переживалъ —
Тайну.
Вотъ почему Пушкинъ первый и главный учитель Д-пя
273
нашего времени, того времени, въ которомъ одни сами еще
больны угаромъ и чрезмѣрностью, а другіе являются жерт
вами и попутчиками чужого пьянства и похмѣлья.
Эпоха русскаго Возрожденія, духовнаго, соціальнаго и
государственнаго, должна начаться подъ знакомъ Силы и
Ясности, Мѣры и Мѣрности, подъ знакомъ Петра Великаго,
просвѣтленнаго художническимъ геніемъ величайшаго пѣвца
Россіи и Петра, геніемъ ясной трезвости и ясной тишины,
за которой высится и чуется таинственная Правда Божья.
V. Ясная тишина.
Итакъ, основной тонъ Пушкинскаго духа, та душевнодуховно-космическая стихія, къ которой онъ тянулся, какъ
творецъ-художникъ и какъ духовная личность, можно выра
зить словосочетаніемъ: „ясная тишина". У самого Пушкина
это словосочетаніе не встрѣчается, но по смысловой сути
принадлежитъ ему, есть его духовное достояніе. Историче
ски, какъ я сказалъ, оно явственно восходитъ къ Ломоносо
ву, который въ одномъ письмѣ говоритъ объ „ясности и ти
хости“, а въ одной надписи и прямо употребляетъ словосо
четаніе „ясная Шишина" (ср. ниже въ матеріалахъ къ толко
вому словарю языка Пушкина). Еще явственнѣе духовный
смыслъ сочетанія ясности и тишины у Державина и Жуков
скаго, которые въ этомъ отношеніи родные старшіе братья
Пушкина (см. ниже въ нашихъ матеріалахъ). Жуковскій, по
видимому, независимо отъ Ломоносова вновь пустилъ въ ходъ
самое это словосочетаніе, которое у него, оцѣнивая и обсуждая
Пушкина, заимствовалъ кн. 77. А. Вяземскій (см. тамъ же). .
Прилагательныя „тихій“ и „ясный“, какъ всѣ отвлечен
ныя понятія, имѣющія длинную и подлинную исторію, пред
ставляютъ сочетаніе двухъ видѣній: видѣнія Плоти и видѣ
нія Духа, т. е. въ этихъ словахъ выражаются воспріятія
плотскія, тѣлесныя, вещественныя, и душевныя, духовныя,
сверхчувственныя. И въ то же время, какъ всегда, тутъ,
въ этомъ противоборствѣ тѣлеснаго и душевнаго, плотско
го и духовнаго, чувственнаго и умопостигаемаго (интеллиги
бельнаго) есть и ощущается неизъяснимая прелесть какого-то
непостижимаго, сверхопытнаго родства и единства идей и
словъ, при осязательномъ и даже дразнящемъ ихъ противо
борствѣ. Это противоборство можетъ быть преодолѣно и
преодолѣваетса только таинственнымъ религіознымъ един
ствомъ, и начало душевное есть объективно и субъективно
связующее звено между началами плошскимъ и духовнымъ.
Соотвѣтственно двойному и двойственному смыслу и
Цвѣту этихъ словъ: „тихій“ и „ясный“, ихъ поэтическое упо
требленіе, конечно, многообразно и являетъ множество от
.8
274
тѣнковъ Съ объективной двойственностью матеріальнаго
(вещественнаго и тѣлеснаго) и психическаго (душевнаго и
духовнаго) смысла сочетается, въ отношеніи понятія „тихо
сти“ или „тишины“, другая двойственность, субъективная
или оцѣночная: утвержденія или отрицанія, пріятія или от
верженія.
У Достоевскаго и Ліъскова эпитетъ „тихій“ встрѣчается
съ нарочито душевно-духовной религіозной окраской (см.
приведенныя ниже въ матеріалахъ мѣста). У обоихъ этихъ
писателей не только явственно проступаетъ ломоносовскодержавинско-жуковско-пушкинская смысловая традиція, но
осязателенъ и прямой возвратъ къ религіозному смыслу на
шего эпитета въ Священномъ Писаніи и церковномъ бого
служеніи, возвратъ, у Достоевскаго осложненный мотивами
и тяжелой народной мистики, и его собственнаго, совсѣмъ
неиушкинскаго, мистицизма. Тутъ передъ нами развертыва
ется, и раскрывается многозначительный и знаменательный
ходъ или процессъ жизни и развитія — въ національномъ
словесномъ, не только литературномъ творчествѣ — идей, и
словъ.
Двойственное оцѣночное отношеніе къ ясности непо
средственно чуждо, конечно, эпохѣ Державина, Жуковскаго,
Пушкина. Но въ прилагательномъ „неизъяснимый“, которое,
впрочемъ, именно у Пушкина имѣетъ всеобъемлющее смыс
ловое значеніе, уже заключается нѣкоторый намекъ на чтото высокое и высочайшее, лежащее за предѣлами ясности,
ее превышающее. Отсюда — возможность отрицатель
ной оцѣнки нѣкоторыхъ видовъ ясности. Но этого шага еще
не дѣлаетъ ясный и трезвый духъ Пушкина. Это ясно выра
женное оцѣночное непріятіе ясности съ разными окрасками
мы находимъ лишь у ДосШоевскаго и у Нишцше. Поэтому у
Пушкина и его предшественниковъ мы иногда находимъ
„тихій“ и „тишину“ съ отрицательнымъ (пейоративнымъ)
смысловымъ значеніемъ, но никогда не встрѣчаемъ „ясный“
и „ясность“ съ такимъ смысловымъ оттѣнкомъ („оскорби
тельная ясность“). Съ другой стороны, для опредѣленной
эпохи Достоевскаго характерно ироническое употребленіе
пушкинскаго слова „неизъяснимый“ (и, замѣтимъ кстати, от
части, въ извѣстномъ смыслѣ и слова „общечеловѣкъ“, или
„всечеловѣкъ“). Однако подъ конецъ жизни Достоевскій
не только пріемлетъ, но и окончательно усвояетъ и то, и
другое понятіе. Это значитъ: Достоевскій приходитъ къ
Пушкину и склоняется передъ нимъ.
275
Приложеніе
Матеріалы къ историческому толковому словарю
языка Пушкина.
1. НИСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХЪ ЗАМѢЧАНІЙ
Предлагаемые ниже матеріалы къ толковому словарю
языка Пушкина имѣютъ цѣлью историческое раскрытіе ду
ховнаго содержанія пушкинскаго творчества изъ его слова.
Эта задача не требуетъ въ точномъ смыслѣ статистической
разработки словоупотребленія, но она всетаки предполага
етъ основанное на исчерпывающей, въ принципѣ или иде
алѣ, регистраціи „случаевъ“ словоупотребленія смысловое
истолкованіе словъ. Выполненіе этой задачи въ нѣкоторыхъ
отношеніяхъ труднѣе и во всякомъ случаѣ сложнѣе той чи
сто статистической разработки, которая въ новѣйшее время
получила такое значеніе для разрѣшенія вопросовъ подлин
ности приписываемыхъ Платону діалоговъ1). Наша задача
въ отношеніи Пушкина приближается къ той, которую для
текста Новаго Завѣта ставили себѣ сперва Кремеръ и Ке
гель-), а затѣмъ сейчасъ съ образцовымъ тщаніемъ выпол
няютъ Киттель и его сотрудники.3) Литература о словоупо
требленіи отдѣльныхъ писателей разныхъ народовъ и эпохъ
необозрима. Но въ общемъ она страдаетъ и недостаточнымъ
проникновеніемъ въ то, что можно назвать духовной пробле
матикой словоупотребленія, и недостаточной историчностью.
Пишущій эти строки подходилъ къ этимъ проблемамъ въ
другихъ своихъ историческихъ работахъ: въ историческомъ
отдѣлѣ первой части книги „Хозяйство и цѣна“ (СПБ.—Мо
сква 1913), гдѣ авторъ занимался „исторической феномено
логіей цѣны“ (стр. 101—314) и въ спеціальномъ этюдѣ о на
именованіи „крестьянинъ“ 4).
2. ЦЕРКОВНОЕ (БОГОСЛУЖЕБНОЕ) СЛОВОУПОТРЕБЛЕНІЕ.
„Тихій“, „тихость“, „тишина“ и всѣ связанныя съ этими
') С а m р b е 11, D і 11 е n b е г g е г, Lutoslavski, Arnim. N аt°rр, Konstantin Ritter. Ср. Ueberweg, Grundriss I Teil. llAufl.
(t Praechter SS. 229-239 и 83*—85*.
2) Hermann Cremer и Julius Kögel. Theologisches Wörterbuch zum
Neuen Testament.
’) Gerhard Kittel. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament.
Stuttgart (W. Kohlhammer) 1933 u. if.
l) Этюдъ II изъ двухъ напечатанныхъ подъ общимъ заголовкомъ
■Наблюденія и йзслѣдоваяія изъ области хозяйственной жизни и права
Древней Руси“ въ „Сборникѣ Русскаго Института въ Прагѣ“. Прага 1929,
сгр. 78—86.
276
понятіями глагольныя и иныя образованія въ душевно-ду
ховномъ смыслѣ въ русскомъ литературномъ языкѣ восхо
дятъ къ церковно славянскому словоупо;ребленію, которое
въ свою очередь въ литературно-языковомъ, т. е. въ смыс
ловомъ, отношеніи примыкаетъ непосредственно къ слово
употребленію греческому. Основныя греческія слова, имѣющія
этотъ смыслъ, qpep.oç и fjdvxoç (resp. рбоуюс) Второе прилага
тельное или, вѣрнѣе, производный отъ него глаголъ f)dvx<x£u>
породилъ въ Византіи даже обозначеніе цѣлаго церковно
религіознаго направленія,56
) а еще раньше у Пиндара г)бѵх'а
олицетворялась, какъ нѣкое божество. Съ синонимическими
обозначеніями qpep.oç и fjôuxoç въ смысловомъ отношеніи
соприкасаются, но не тождественны обозначенія npâoç (npavç)
и ènieiKqç, а также Taixetvôç. Это послѣднее обозначеніе, а
также yakqvôg имѣютъ явно болѣе вещественный смыслъ,
но и они получили переносное, духовное значеніе. Такимъ
образомъ мы видимъ въ греческомъ языкѣ нѣсколько словъ
для обозначенія душевно-духовнаго смысла церковно-славян
скаго и русскаго „тихій“. Но и на этихъ языкахъ съ „тихій“
соприкасаются „кроткій“ и „смиренный“: „яко кротокъ есмъ
и смиренъ сердцемъ“ (ôri Ttpaûç еірл. каі raiteivôç tfj карбіа,
Матѳ. XI, 29).
„Тихій“, „тишина“ — понятія религіозно-церковныя, до
рогія христіанскому благочестію и излюбленныя въ христіан
ской мистикѣ, какъ на Востокѣ, такъ и на Западѣ. Quietus,
quies Августина! Requies Ѳомы Кемпійскаго! Quietas Фран
циска Ассизскаго! Отсюда — превознесеніе молчанія предъ
Богомъ, молчаливой молитвы (colloque de silence Франциска
de Sales). ®)
Въ отношеніи обозначенія „тихій“ основное значеніе
имѣетъ текстъ изъ перваго посланія Апостола Павла къ
5) О „исихастахъ“ см. Krumbacher-Ehrhard-Gelz er. Ge
schichte d. byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des Oströ
mischen Reich. 2-te Aufl. München 1897, S. 100 u ff., а также изъ новѣйшей
литетатуры: Г. А. Острогорскій. Аѳонскіе исихасты и ихъ противники
(Записки Русскаго Научнаго Института въ Бѣлградѣ, вып. V, стр. 349 —370)
и Монахъ Василій (Кривошеинъ) Аскетическое и богословское
ученіе Св. Григорія Паламы (Seminaiium Kondakovianum. Racueil etc. ѴПіПрага 1936, стр. 99—154).
6) Ср. въ клас-ическомъ трудѣ о молитвѣ: Heiler. Der Gebet. 5
Aufl. München 1923, S. 389: Uralt ist der Gedanke, dass das Schweigen das
wahre Befenies der echte Gottesdienst est; er findet sich schon in der spätägypti
schen Religion und in den synkretistischen Mysterien und erlangt im Neupythagoreismus und Neup atonismus normative Bedeutung; er kehrt immer wieder
in der christlichen uud islamischen Mystik“ Ср. тамъ же S. 528. Въ квіэтизмѣ
этотъ культъ молчанія доходитъ до куль а умерщвленія и изсушенія (siccitas), до sainte indifference (amour désintéressé). См. тамъ же SS. 341-343.
277
Тимоѳею, 11, 2: „... творити молитвы... за вся человѣки, за
царя и за всѣхъ иже во власти суть, да тихое и без
молвное житіе поживемъ7) во всякомъ благоче
стіи и чистотѣ: сіе бо добро и пріятно предъ Спасителемъ
нашимъ Богомъ“. Тутъ слово „тихій“ имѣетъ душевно-ду
ховное и притомъ положительное значеніе, и это есть основ
ной его смыслъ для церковно-славянскаго и, въ особенно
сти, для русскаго языка. Это необычайно явственно видно
изъ слѣдующихъ переводныхъ богослужебныхъ текстовъ.
На вечернѣ, твореніе Софронія, патріарха Іерусалимска
го: 8) Свѣте тихій, святыя славы безсмертнаго, Отца небес
наго, святаго, блаженнаго, Іисусе Христе...
Въ канонѣ молебномъ ко Пресвятѣй Богородицѣ, тво
реніе Ѳеокширисша монаха9): умири, Отроковице, тишиною
Сына и Бога Твоего... (Пѣснь 1). Ты бо, Богоневѣстная, на
чальника тишины Христа родила еси. (Пѣснь 3). Бурю
утиши моихъ прегрѣшеній, Богоневѣстная... (Пѣснь 4).
Въ канонѣ молебномъ Ангелу Хранителю, твореніе Іоан
на, монаха Черноножнаго'0): Тишина, Ты. Владычице, и при
станище обуреваемымъ въ пучинѣ грѣховнѣй (Пѣснь 1, Богородиченъ). Близъ мене стани тогда тихъ и радостенъ...
(Пѣснь 8). Да узрю тя... свѣтла и тиха, заступника и пред
стателя моего... (Пѣснь 9).
Въ канонѣ 6-го гласа, ирмосъ 6-й пѣсни: Житейское
море воздвигаемое зря напастей бурею, къ тихому приста
нищу Твоему притекъ, вопію Ти. .
Въ стихирѣ на перенесеніе мощей Святителя Николая
(9-го мая): кто бо слыша безмѣрное твое смиреніе, и терпѣ
нію не удивися, яже къ нищымъ тихости, къ скорбящимъ
утѣшенію... (Этотъ текстъ, по всей вѣроятности, не перевод
ный).
У Кошошихина, Тредьяковскаго, Ломоносова связь съ
церковнымъ словоупотребленіемъ вполнѣ осязательна. Дер
жавинъ въ этомъ отношеніи заслуживаетъ особаго вниманія:
онъ церковную поэзію не только хорошо зналъ, но и созна
тельно отчетливо ввелъ въ свою поэтику.
3. Г. к. КОГОШИХИНЪ (f 1667).
Изъ писателей XVII вѣка надлежитъ особливо отмѣтить
Котошихина. И по содержанію, и по языку онъ является
едва ли не самымъ крупнымъ и интереснымъ русскимъ
свѣтскимъ писателемъ XVII вѣка. Его „великорусскій“, или
7) 7ѵа і'ірб|іоѵ каі j)66yiov ßiov Siaycop.ev = ut quietam et tran•quiliam vitam agamus.
*) î 638. О немъ см. Krumbacher-Ehrhard 1. c. S. 188—190. Имѣется
У Migne’H.
9i Половина IX вѣка. Ср. Krumbacher-Ehrhard, S. 197.
’°) Половина XI в^ка. Ср Krumbacher-Ehrhard. SS 171 172, 677—
<678 и 740—741. Имеется y Migne я.
278
„московскій“ языкъ носитъ на себѣ черты и западнаго и за
паднорусскаго вліянія и предваряетъ этимъ „великорусскій“
языкъ такихъ писателей XVIII вѣка, какъ, напр., Тредьяков
скій. Котошихина произведеніе было открыто въ шведскомъ
переводѣ въ годъ смерти Пушкина, а въ русскомъ оригина
лѣ годомъ позже. Такимъ образомъ словоупотребленіе са
мого Котошихина не могло быть ни въ какой мѣрѣ извѣст
но Пушкину. Но Котошихинъ интересенъ въ занимающей
насъ связи самъ по себѣ. Этотъ .эмигрантъ-вольнодумецъ,
отступникъ отъ православія, порвавшій по существу и фор
мально съ русской церковной и политической традиціей, въ
языкгъ своемъ всетаки слѣдовалъ національной традиціи,
давъ замѣчательный образецъ только еще слагавшейся внѣ
языка актовъ (какъ частныхъ, такъ и офиціальныхъ), но
подъ его вліяніемъ русской книжной рѣчи:
„Царю жъ і великому князю Михайлу Ѳеодоровичю отъ
кроворазлитія христіянского успокоівшуся, правивше го
сударство свое тихои благополучно... Бысть же у того
царя два сына: царевичь Алексѣй Михайловичь, и той бѣ
зело тихъ былъ въ возрасте своемъ, какъ и отецъ; вто
рый же Димитриі, съ младенческихъ лѣтъ, велми былъ же
стокъ, уродился нравомъ прадѣда своего, первого Москов
ского царя“ (стр. 4 — Изд. 4 ое, СПБ. 1906).
„И какъ тѣ люді пришли, и били челом царю о сыску из
мѣнниковъ, и просили у него тѣхъ бояръ на убиение: и царь
ихъ уговаривалъ тихимъ обычаемъ, чтобъ они возврати
лись и шли назадъ къ Москве...“ (стр. 102).
„А нынѣшняго царя обрали на царство, а писма онъ на
себя не далъ никакого, что прежние цари давывалі, и не
спрашивалі, потому что разумѣли его гораздо тихимъ, и
потому наівышшее пишетца .самодержцемъ“ и государство
свое правитъ по своей волі...“ (стр. 126).
Тутъ примѣчательно противоположеніе „тихій — жесто
кій“, которое повторяется въ формахъ существительныхъ
„тихость — жестокость“ у Тредьяковскаго. Послѣдній, такъ
же какъ Пушкинъ, текста Котошихина не зналъ и не могъ
знать ”).
Сюда же относится прозваніе „тишайшаго“, вообще
укоренившееся за Царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ Ср. из
вѣстную его характеристику, данную В. О. Ключевскимъ.
5. указъ объ Единонаслѣдіи і7і4 г.
Особый психологическій и въ то же время объектив
но-соціологическій смыслъ эпитетъ „ясный“ — въ сравни
тельной и превосходной степеняхъ: „яснѣйшій“ и „наияснѣй”) Цитаты изъ Котошихина не имѣют:, можетъ быть, исчерпываю
щаго характера.
279
шій“ — получилъ въ латинскомъ языкѣ въ прилагательномъ
clarus, sup. clarissimus, которому въ этомъ значеніи въ грече
скомъ языкѣ соотвѣтствуетъ всего болѣе прилагательное
Xcqircpôç. Отсюда польское 12) и западнорусское словоупотре
бленіе („наияснѣйшій“ и „ясновельможный“), вліявшее и на
великорусское (московское) оффиціальное словоупотребле
ніе, но оставшееся чуждымъ великорусскому неоффиціаль
ному, бытовому и литературному языку. Въ русскій оффи
ціально-юридическій языкъ указанное латинско-польское зна
ченіе проникло не только въ титулатуры, какъ, напримѣръ,
въ собственноручной запискѣ Кошошихина польскому коро
лю, написанной смѣсью языка великорусскаго съ западно
русскимъ („наяснѣйшій“)13), но и въ другихъ болѣе серьез
ныхъ и, такъ сказать, существенныхъ случаяхъ. Объ этомъ
свидѣтельствуетъ примѣчательное употребленіе этого слова
въ знаменитомъ Петровскомъ указѣ объ единонаслѣдіи 18
(23) марта 1714 г.14):
I. Напримѣръ ежели кто имѣлъ тысячу дворовъ и пять
сыновъ, имѣлъ домъ довольный, трапезу славную, обхожде
ніе съ людьми ясное (подчеркнуто мною. П. С,).
III. Фамиліи не будутъ и упадать, но въ своей ясно
сти (подчеркнуто мною. П. С.) непоколебимы будутъ чрезъ
славные и великіе домы.
5. В. К. ТРЕДЬЯКОВСКІЙ (1703- 1769).
Значеніе Тредьяковскаго въ исторіи русскаго литератур
наго языка весьма велико, но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ
не изучено и не разъяснено какъ слѣдуетъ. Во всякомъ слу
чаѣ, при необычайной неуклюжести синтаксиса, Тредь
яковскій — и какъ стихотворецъ, и какъ прозаикъ — распо
лагалъ изумительно богатымъ словаремъ. Этимъ объясняется
и то, что онъ явился подлиннымъ творцомъ русской фило
софской терминологіи, на что я уже однажды указалъ и что
я постараюсь развить въ спеціальномъ этюдѣ. Извѣстно вы
сокое мнѣніе Пушкина о Тредьяковскомъ: Пушкинъ считалъ
Тредьяковскаго „понимающимъ свое дѣло“ и за него борю
щимся, хотя и не могъ не отмѣтить его явной „бездарности“,
какъ главной помѣхи его литературному вліянію 15):
„Тредьяковскій былъ, конечно, почтенный и порядоч
ный человѣкъ. Его филологическія и грамматическія изъясне
нія очень замѣчательны. Онъ имѣлъ о русскомъ стихосло,!) Ср. Linde. Slownik. Wydanie drugie, t. II Lwow 1855, Sub voce.
Напечатана въ предисловіи ко 2 му изданію 1859 г., перепечатан
ному и въ 4-мъ изданіи 1906 г.
1-ое П. С. 3. № 2789.
,:) О русской литературѣ сь очеркомъ французской. 1834 г.
280
женіи обширнѣйшее понятіе, нежели Ломоносовъ и Сумаро
ковъ. Любовь его къ Фенелонову эпосу дѣлаетъ ему честь,
а мысль перевести его стихами и самый выборъ стиха до
казываютъ необыкновенное чувство изящнаго. Въ Тилемахидѣ находится много хорошихъ стиховъ и счастливыхъ
оборотовъ. Радищевъ написалъ о нихъ цѣлую статью (см.
Собраніе сочиненій А. Радищева). Дельвигъ приводилъ часто
слѣдующій стихъ въ примѣръ прекраснаго гекзаметра:
..... Корабль Одисеевъ бѣгомъ волны дѣля, изъ очей
ушелъ и сокрылся.
Вообще изученіе Тредьяковскаго приноситъ болѣе поль
зы, нежели изученіе прочихъ нашихъ старыхъ писателей.
Сумароковъ и Херасковъ вѣрно не стоятъ Тредьяковскаго—
habent sua fata libelli“16).
Ниже цитируемое мѣсто изъ „предъизъясненія“ къ
„Тилемахидѣ" о воображеніи („образованіи“) и „огненномъ во
сторгѣ“ натолкнуло — мнѣ думается — Пушкина на его зна
менитое разсужденіе 1824 г. о вдохновеніи и восторгѣ. Здѣсь
мысль Пушкина явно движется въ руслѣ, уже проложен
номъ авторомъ „Тилемахиды“. Въ связи съ этимъ поучи
тельно, что въ приводимомъ мѣстѣ „предъизъясненія“ Тредь
яковскій пользуется именно тѣмъ понятіемъ „тишина“, кото
рое станетъ излюбленнымъ понятіемъ Пушкина (самъ Пуш
кинъ, говоря въ 1824 г. о вдохновеніи и восторгѣ, синони
мически употребляетъ однако слово „спокойствіе )17).
Тихій:
Вѣтръ возмущаетъ тишину; темнѣетъ свѣтлость отъ
ненастья... (О непостоянствѣ міра)
...Да и верьхь сихъ (добродѣтелей) и вѣнецъ, въ участи
своей полное б л а г от и ш і е... (Слозэ о премудрости, благо
разуміи и добродѣтели).
Въ приказахъ отдаваемыхъ имъ (слугамъ) должно хра
нить праведное посредство между тихостію, очень сла
бою, и жестокостію непомѣрною... (О безпорочности и пріят
ности деревенскія жизни).
Тамъ караводы, въ тишь погодъ, плясаніемъ своимъ
красятся... (Вешнее тепло. Ода).
Должно образованію,8) претерпѣвать нѣкоторый Родъ
,fc) Мысли на дорогѣ. 11!. Ломоносовъ. Цііт. по изд. „Слова“, т. VI,
стр. 225—226.
,7> Для цитатъ изъ Тредьяковскаго я пол зовался Смирдинскимь из
даніемъ. Цитаты мои не имѣютъ исчерпывающаго текстовой матеріала ха
рактера, но онѣ достаточно для моихъ цѣлей обильны.
’•) .Образованіе“ у Тредьяковскаго означаетъ в о о б р а ж е н і е, ima
ginativ.
281
огненнаго Восторга, а Разуму, пребывающему въ Тишинѣ,
воздерживать оное и обращаться по своему изволенію... Сіи
чистые идеи наполняютъ Разумъ тихимъ свѣтомъ... (Тилемахіда. Предизъясненіе объ ироіческой піимѣ).
Тихо журча текли Ручьи по Полямъ цвѣтоноснымъ...
Море... гладкое въ тихость... Тихость и твердость, въ Мен
торѣ сущи, меня усладили... Благозраченъ, тихъ, и полнъ
величія дивна... Голосъ тихъ у него... Благовонный духъ отъ
Зефировъ, вѣющихъ тихо... Мирнымъ спокойствіемъ и тиши
ною изволь наслаждаться... Гребцы разсѣкаютъ тихіе волны...
И межъ ними бъ Союзство, Миръ, съ Тишиною и РадостьКаждый... мнитъ себя награжденна Тихимъ въ ceo h житіемъ,
и порядочнымъ, и благосторойнымъ... Благо большое сіе у
Критянъ: Здравіе, Сила, Мужество, Миръ, Тишина... Въ боль
шее разумъ ихъ Совершенство всегда приводила Тихость
покойна сердецъ... Способенъ весьма къ правленію тихому
въ Мирѣ .. Предпочитаетъ тому ихъ. что Просто, Тихо и
Твердо... И да видѣть попустятъ вамъ въ тишинѣ Одиссея...
Плытіе спѣшно намъ обѣщалъ, и ещежъ то тихо, да и без
вредно... Менторъ не токмо бодръ и крѣпокъ, но тихъ и
спокоенъ... Вѣтръ, наконецъ, ужъ сталъ утихать... И что за
Тихость и Скромность... Будетъ внутрь земли сея... Миръ,
Тишина, и Слава, и Честь, и Обиліе всяко... Разговаривалъ
тихо .. Несторъ и Філоктитъ удивлялись, зря Тилемаха став
шаго тиха толь. Идутъ Лакедемонцы тихо... Се сталъ быть
и тихъ, и склоненъ, и жалостенъ вкупѣ... Тихая, и проница
тельна сила жизни внѣдрялась... Счастливъ простымъ состо
яніемъ, кто и тихимъ доволенъ .. Чистый и тихій свѣтъ раз
ливается... Источники... Мира и Тишины... Гдѣ и жилъ до
конца ужъ покойно, тихо и смирно... Былъ онъ тихъ, спо
коенъ и терпѣливъ... Мужество мѣрно и тихо... Тихъ толико
то онъ и умѣренъ въ себѣ пребываетъ... Возобнови Тишину,
и Правду, и Добрую Вѣрность... Слово простое твое... такъ
удобно и тихо втекало въ слышавшихъ сердце... Его Зло
нѣсколь утихло... Онъ позналъ наслаждаться счастіемъ Ти
хія жизни... То умноженіе, тихое толь и спокойное тако,
болѣе Царства предѣлы нежъ разширяетъ Побѣда. Все есть
тихо, чисто все, и прелюбезно... Сперва признала всю ту его
справедливу Опалу; а потомъ утишила ея... Нѣкакъ тихо
вдохнула въ него Справедливость и жалость... И не тишае
сердитые Волны всѣ укрощаетъ... Иль мнишь, что и Царямъ
тотчасъ насильствовать можно..... не оказавшимъ ни Тихо
сти, и ни Людскости прежде... Да приведетъ... въ отишіе
буйный вихри... молвятъ само о тоиъ всемъ въ тихости
твердой.. Посідонъ своимъ утишаетъ волны Трезубцемъ...
Буйный вѣтры затихли... время... отишное... Не можетъ ни
какъ найти онъ тихаго Мира. Гласъ ея (Паллады) тихъ, мѣ
ренъ, но проразисто ярокъ .. (Тилемахида).
282
Ясный:
Тотъ обоюдный гласъ ясняе не означенъ... (Наука о сти
хотвореніи и поэзіи).
...всегда уясняемо солнцемъ (дерево)... (Стихи изъАргеніды. Дактіло-Хореіческіи).
...и отъ самаго краткаго сего изъясненія, можно имѣть
довольное понятіе... (О безпорочности и пріятности деревен
скія жизни).
Льготна теплота ліется ясными лучами... (Вешнее тепло)Отъ сего изряднаго и яснаго понятія раждаются Зако
ны Естества и Народовъ... Сему (Стіху) вообще надлежитъ
имѣть смѣлый Узоры реченій и цѣлыхъ Рѣчей, быть благолѣпну, и различну образами: ясну, пламенну, стремительну,
сильну, сразмѣрну чувственностямъ изображаемымъ, тоесть
съ скорымъ дѣйствомъ вещей спѣшну, а съ медленнымъ
косну... Когда уже Истина зрится ясно....... какъ то уже изъ
яснено выше... (Тилемахіда. Предъ изъясненіе)...
Чтобъ изъяснить, Одиссъ колико блаженствовалъ съ
оной....... Дало мнѣ способъ такъ изъясниться моими словами...
Ясный уже очей его жаръ всѣ усмотрили... Ясны очи ея не
поены были слезами... ясный день возвѣстила... Ясно
го видѣлъ Менторъ... Въ словахъ простыхъ и ясныхъ... Такъ
ему изъяснялъ.,. Ясный очи свои слезами всегда наводняла...
Чтобъ увидѣлъ онъ ясно... Приказы точны и ясны... Не го
не ряжъ ни слова ясно себя разумѣли... Повѣренность ...друж
бу... ты мнѣ явилъ здѣсь толь оказаніемъ яснымъ... Которы
(правила) тобою всѣ изъясняемы были... Представляются яс
но въ немъ (въ умѣ моемъ)... (Тилемахіда).
6. М. В. ЛОМОНОСОВЪ [1711-1765).
Мѣсто Ломоносова въ исторіи русскаго языка опредѣ
ляется тѣмъ, что онъ, будучи геніальнымъ ученымъ въ об
ласти естествознанія, во-первыхъ, своими трудами по грам
матикѣ и реторикѣ далеко подвинулъ впередъ начатое Тредь
яковскимъ осознаніе, изученіе и упорядоченіе русской язы
ковой стихіи въ двухъ ея основныхъ элементахъ, церковно
славянскомъ и русско-бытовомъ, и, во-вторыхъ, какъ талант
ливый писатель, далъ для своего времени замѣчательные
образцы русской поэзіи и прозы. Пушкинъ, на мой
взглядъ, слишкомъ строго оцѣнилъ и исторически неспра
ведливо охарактеризовалъ эти опыты Ломоносова, но зато
въ своихъ возраженіяхъ Радищеву именно Пушкинъ первый
геніально угадалъ то, что новѣйшее историческое изученіе
научнаго развитія непререкаемо доказало, а именно, что Ло
285
моносовъ былъ прежде всего великій естествоиспытатель. 19)
Какъ бы то ни было, въ занимающемъ насъ въ данный мо
ментъ спеціальномъ словарномъ вопросѣ несомнѣнно, что
Ломоносовъ подхватываетъ ту же церковную традицію въ
отношеніи эпитета „тихій“, которую мы наблюли у Кошошихина и Тредьяковскаго, а затѣмъ придаетъ эпитету „ясный“
пожалуй, еще болѣе духовно-обобщающій смыслъ, чѣмъ это
прилагательное имѣло у Тредьяковскаго. 20)
Тихій.
Владѣетъ тишина полями... (На прибытіе изъ Голштиніи
и на день рожденія вел. кн. Петра Ѳеодоровича. 1742). Въ
первой редакціи той же оды: Владѣетъ тишина водами...)
Корабль, что въ тихій портъ плыветъ... (На прибытіе
Имп. Елисаветы Петровны... 1742).
По мягкимъ тихихъ рѣкъ брегамъ... Тихій понтъ... (На
день брачнаго сочетанія в. кн. Петра Ѳеодоровича и в. кн.
Екатерины Алексѣевны. 1745).
Царей и царствъ земныхъ отрада, возлюбленная тиши
на, блаженство селъ, градовъ ограда, коль ты полезна и
красна. (На день восшествія на престолъ Имп—цы Елисаве
ты Петровны 1746).
Отверзла двери наукамъ, счастью, тишинѣ... (На рожде
ніе в. кн. Павла Петровича. 1754).
Въ глубокой были тишинѣ.. (На день рожд. Имп —цы
Елисаветы Петровны. 1757).
Какъ солнце тихихъ дней вѣнецъ... Велика божествомъ
природнымъ восходитъ выше тишиной... (На день тезоиме
нитства Имп—цы Елисаветы Петровны. 1759).
Владѣть хочу зефира тише... въ нѣдрахъ мягкой тиши
ны... И правда тишину лобзаетъ... (На день восшествія на
престолъ Имп—цы Елисаветы Петровны. 1761).
Ты, буря, тамъ, здѣсь тишина... (На день восшествія на
престолъ Ймп—цы Елисаветы Петровны. 1762).
Россійска тишина предѣлы превосходитъ... (Надпись на
иллюминацію 1748).
Отъ тихихъ восточныхъ водъ до береговъ балтійскихъ...
(Надпись Имп—цѣ Елисаветѣ Петровнѣ на маскарады 1751 г.)*'j Въ тѣхъ же цитированныхъ „Мысляхъ на дорогѣ“ 1833-34 г.
“) На исчерпывающую полноту этотъ текстовой матеріалъ не притя3 етъ. Я пользовался изданіемъ Введенскаго (приложеніе къ .,Нивѣ“г
СПБ 1893) въ основу котораго положенъ текстъ академическаго изданія
Сухомлинова.
284
Когда ты тишину Европѣ всей даешь... (Надпись ей же,
на тезоименитство. 1751).
Отраду въ тишинѣ съ довольствомъ подаетъ... (Над
пись на иллюминацію. 1752).
Въ любезной тишинѣ... (На иллюминацію на новый 1753
годъ).
Въ ясной шииіингь (подчеркнуто мною П. С.) возлюблен
наго мира... Поставлена чужимъ тобою тишина... (Надпись
на день тезоименитства Имп—цы Елисаветы 1753). Съ этимъ
мѣстомъ поучительно сопоставить чисто физическій, плот
ской (метеорологическій) смыслъ сочетанія тѣхъ же понятій
и словъ: ...А чтобы въ оныхъ дняхъ ясность и ти
хость (подчеркнуто мною П. С.) еще показались вамъ прі
ятнѣе... (Письмо къ гр. И. И. Шувалову отъ 8-Ѵ-1751 г. Цит.
по Смирдинскому изданію 1847 г., т. I, стр. 657)
Свобода съ тишиной и въ селахъ, и въ градахъ... (Над
пись на иллюминацію 1754).
Отъ нашей тишины отъѣздомъ не спѣшатъ... (Надпись
на новый 1755 г.).
Что воздухъ тихъ стоитъ по толь бурливыхъ дняхъ.
(Надпись на отъѣздъ Е. В. 1752).
Пріятна тиха трель... у тихой рѣчки... (Надпись на из
обрѣтеніе роговой музыки. 1764).
Тихій Днѣпръ... Тихи вѣтры.. (Полидоръ. 1750).
Любитель тишины... (Просительные стихи къ Имп —цѣ
Елисаветѣ. 1761).
Живете въ тишинѣ... (Тамира и Селимъ. 1750),
И Венеринъ взоръ прелестный съ тихимъ пламенемъ
вложи... (Разговоръ съ Анакреонтомъ. 1764).
Ясный.
Что зыблетъ ясный ночью лучъ. (Вечернее размышленіе
о Божіемъ Величествѣ. 1743).
Чудяся яснымъ толь лучамъ... (Утреннее размышленіе
■о Божіемъ величествѣ. 1743).
Откуда зритъ въ Россіи ясно Монарха въ лавровыхъ
вѣнцахъ... (Первые трофеи императора Іоанна VI, 1741).
Здѣсь въ ясномъ я стою свѣту... (На восшествіе на пре
столъ Имп—цы Елисаветы. 1741).
Яснымъ солнцемъ освѣщенны... (На прибытіе изъ Гол
штиніи... вел. кн. Петра Ѳеод. 1742).
Ясный солнца лучъ.. (Вѣнчанная надежда Россійскія
имперіи. 1742).
285
Какая красота яснѣетъ. (На прибытіе Имп—цы Елиса
веты. 1742).
Ясный день сіяетъ... И отвращаетъ ясну ночь...(тамъ же).
Ясный вождь свѣтилъ... Туманы въ ясны дни растайте...
(На день тезоименитства в. кн. Петра Ѳеод. 1743).
Нарциссъ надъ ясною водою... день ясный... Въ ночи
горятъ коль звѣзды ясно... (На день брачнаго сочетанія в.
кн. Петра Ѳеод. и в. кн. Екатерины Алексѣевны. 1745).
Ясный свѣтъ... (На день восшествія на престолъ Имп—
цы Елисаветы. 1746).
Ясно солнце возсіяло... (На день рожденія Имп—цы
Елисаветы. 1746).
Яснѣе дня Елисаветъ... (На день восшествія на престолъ
Имп—цы Елисаветы. 1748).
Созвѣздіемъ являться яснымъ достойно Царское Село...
(На монаршую милость, оказанную въ Царскомъ Селѣ. 1750).
Мы ясность солнечну находимъ... Чего языкъ не изъ
ясняетъ... (На день восшествія на престолъ Имп—цы Ели
саветы. 1752).
Коль ясенъ былъ твой свѣтъ очей... (На рожденіе в.
кн. Павла Петр. 1754).
Небесъ безмрачныхъ образъ ясный.. (На день тезоиме
нитства Имп—цы Елисаветы. 1759).
Яснѣйшій прочихъ духъ Петровъ... Небесной ясности
лазурь... (Имп. Петру Ѳеодоровичу на восшествіе на пре
столъ. 1752).
На ясность радостныхъ временъ... Но больше тѣмъ ея
щедроты, чѣмъ выше и яснѣе лучъ... По ясныхъ знанія вос
ходахъ... (На новый 1764 г. Имп—цѣ Екатеринѣ Второй).
Въ ясной шишиніъ возлюбленнаго мира.. (Надпись на
день тезоименитства Имп—цы Елисаветы. 1753).
Безъ грому молнія изъ ясности блистая... (Надпись на
день восшествія на престолъ Имп—цы Елизаветы. 1753).
Ясная заря... (На день рожденія Имп—цы Елисаветы.
1753).
Тамъ вѣки ясностью ученій просвѣщенны... Зримъ ясно,
отчего премѣна таковая... (Надпись на новый 1754 г.).
Солнцу ясному... Ясна ночь... (Письмо о пользѣ стекла.
1752).
Ясный день... (Въ честь Имп—цы Елисаветы. 1753).
И ясный свѣтъ на нихъ спустили небеса... (Тамира и
Селимъ. 1750).
И радость изъяснить недостаетъ имъ словъ... Толь яс
ныя слова не смѣю толковать... (Демофонтъ. 1751 —1752).
^286
Отрады ясность по челу... (Разговоръ съ Анакреонтомъ.
1764).
7. Г. Р. ДЕРЖАВИНЪ (1743-1816).
Какъ достаточно извѣстно, Державинъ оказалъ и по
средственно (черезъ Карамзина), и непосредственно весьма
большое вліяніе на Пушкина въ эпоху его юности. Однако,
еще въ блестяще-забавномъ стихотвореніи „Тѣнь Фонвизи
на“ 16-лѣтній Пушкинъ съ какой-то скорбной издѣвкой го
воритъ объ еще живомъ Державинѣ: „Полнощный лавръ
отцвѣлъ... огонь поэта охладѣлъ...“ Тутъ Пушкинъ даетъ въ
десяти строчкахъ пародію-перифразъ тяжеловѣсно напыщен
наго, но въ то же время блещущаго словеснымъ богатствомъ
и поэтически искрящагося державинскаго „Гимна лиро-эпи
ческаго на изгнаніе французовъ изъ отечества“ (1812), по по
воду котораго влагаетъ въ уста Фонвизину сужденіе: „Ого!
насмѣшникъ мой воскликнулъ, что лучше этакихъ стиховъ?!
Въ нихъ смысла самъ бы не проникнулъ покойный госпо
динъ Бобровъ!“ „Что сдѣлалось съ тобой, Державинъ. И
ты судьбой Невтону равенъ, ты — Богъ, ты — червь, ты —
свѣтъ, ты—ночь...“ „На Пиндѣ славный Ломоносовъ съ до
садой нѣкогда узрѣлъ, что звучной лирой въ сонмѣ россовъ
татаринъ бритый возгремѣлъ, и гнѣвомъ Пиндаръ Холмого
ра и тайной завистью горѣлъ, но Фебъ услышалъ гласъ уко
ра, его спокоить захотѣлъ, и спотыкнулся мой Державинъ
Апокалипсисъ преложить. — Денисъ! Онъ вѣчно будетъ
славенъ, но, ахъ, почто такъ долго жить?“ И впослѣдствіи,
уже въ эпоху зрѣлости, Пушкинъ часто отзывался весьма
критически о своемъ великомъ предшественникѣ, который,
„въ гробъ сходя“, его „благословилъ“. Онъ пишетъ въ на
чалѣ іюня 1825 г. изъ Михайловскаго Дельвигу:
„По твоемъ отъѣздѣ перечелъ я Державина всего и
вотъ мое окончательное мнѣніе. Этотъ чудакъ не зналъ ни
Русской грамоты, ни духа Русскаго языка (вотъ почему онъ
и ниже Ломоносова) — онъ не имѣлъ понятія ни о слогѣ,
ни о гармоніи — ни даже о правилахъ стихосложенія. Вотъ
почему онъ и долженъ бѣсить всякое разборчивое ухо. Онъ
не только не выдерживаетъ О д ы, но не можетъ выдер
жать и сгрофы (исключая чего знаешь). Чтожъ въ немъ:
мысли, картины и движенія, истинно поэти
ческія; читая его, кажется, читаешь дурной, вольной пе
реводъ съ какого-то чудеснаго подлинника. Ей Богу, его
геній думалъ по татарски — а русской грамоты не зналъ за
недосугомъ. Державинъ, со временемъ переведенный, изу
митъ Европу, а мы изъ гордости народной не скажемъ все
го, что мы знаемъ объ немъ (не говоря ужъ о его Мини
стерствѣ). У Державина должно сохранить будетъ одъ во-
287
семь да нѣсколько отрывковъ, а прочее сжечь. Геній его
можно сравнить съ Геніемъ Суворова — жаль что нашъ по
этъ слишкомъ часто кричалъ пѣтухомъ...“ 21).
Это очень умное сужденіе всетаки есть бутада. Оно
заключаетъ въ себѣ преувеличенія, которыхъ нельзя въ на
стоящее время серьезно поддерживать, что показываетъ, въ
какой мѣрѣ нелѣпо и опасно „канонизировать“ отдѣльныя вы
сказыванія Пушкина. И мы можемъ тутъ сослаться на другую
иодновременно (въ томъ же году и въ томъ же мѣ
сяцѣ) сдѣланную Пушкинымъ оцѣнку Державина въ
письмѣ къ А. А. Бестужеву, оцѣнку, гораздо болѣе близкую
къ истинѣ и справедливости:
„Кумиръ Державина (полу) ’/4 золотой (полу) ®/4 свин
цовой доселѣ еще не оцѣненъ. Ода къ Фелицѣ стоитъ на
ряду съ Вельможей, ода Богъ съ одой на См. Мещ. Ода къ
Зубову недавно открыта... Отъ чего у насъ нѣтъ
Геніевъ и мало талантовъ? Во первыхъ у насъ
Державинъ и Крыловъ—во вторыхъ гдѣ же бываетъ м н ого талантовъ?“ 22)
Дѣйствительно въ стихотворчествѣ Державина очень
много, выражаясь по-пушкински, „свинца“, т. е. непоэти
ческаго груза. Но абсолютно и очень много настоящаго по
этическаго „золота“. Именно, какъ творецъ въ области язы
ка, какъ кузнецъ словъ, Державинъ былъ не „чудакъ“,
а просто чудотворецъ. Можно смѣло утвержда ь.
что Державинъ въ смыслѣ творчества словъ — самое круп
ное, непревзойденное и, вѣроятно, непревосходимое явленіе
на всемъ пространствѣ исторіи русскаго литературнаго язы
ка. Словесное въ этомъ смыслѣ творчество Державина гиб
ко и причудливо: оно отмѣчено необъятнымъ захватомъ
(сколько у Державина чисто народныхъ и даже „областныхъ“
выраженій!) и изумительной переливчатостью, достигаемой,
между прочимъ, виртуознымъ сочетаніемъ прилагательныхъ.
Державинъ — геній и словонахожденія, и словоизобрѣтенія.
Онъ въ этомъ отношеніи какъ бы въ одномъ лицѣ, совмѣ
щаетъ, усиливая ихъ, Тредьяковскаго съ Ломоносовымъ и
предвосхищаетъ и Пушкина, и Языкова, и Тютчева, и Не
красова, и Фета, и Бальмонта, и Брюсова, и Блока, и Вяче
слава Иванова 23). Въ то же время Державинъ — настоящій
21) Пушкинъ. Письма, изд. Б. Л. Модзалевскаго, томь I. (M. П.
19 6) стр. 137.
•2) Тамъ же, стр. 135.
2|) Свою словесную виртуозность Державин ь хорошо сознавалъ и
прямо таки культивировалъ. См. его предисловіе къ „Анакреонтическимъ
пѣснямъ“ 1804 г., гдѣ онъ говоритъ объ „изобиліи“ и „гибкости“ русскаго
языка. Ср. также вступительныя слова къ „Разсужденію о лирической
поэзіи“.
288
поэтъ не только съ единичными проблесками, но и съ
подлинными наитіями геніальности. Державинъ въ области
словеснаго творчества въ полномъ смыслѣ не только твор
ецъ, но и расточитель24), и въ этомъ послѣднемъ ка
чествѣ главное и разительное отличіе Державина отъ Пуш
кина съ его мѣрой и мѣрностью, съ его собранностью и
сжатостью. Въ осмѣянномъ Пушкинымъ „Гимнѣ лиро эпиче
скомъ“ 1812 г. и въ позднѣйшей одѣ „На отбытіе великихъ
князей Николая и Михаила Павловичей въ армію“ 1814 г.
среди поэтическаго „свинца“ есть строфы, которыя нѣкими
„реминисценціями“ всплывутъ въ поэтическомъ „золотѣ“ са
мого Пушкина, какъ творца „Полтавы“: „И грянулъ боро
динскій громъ“, „Птенцы, спорхнувшіе съ гнѣзда полсвѣтнаго Петрова дома“. Изъ болѣе ранняго произведенія „На
переходъ Альпійскихъ горъ" (1799) державинское „и тихимъ
маніемъ руки“ появляется въ „Полтавѣ“ лишь въ слегка из
мѣненномъ видѣ: „и слабымъ маніемъ руки". Принято из
давна (со времени Мерзлякова) относиться скептически и да
же презрительно къ драматическимъ произведеніямъ Дер •
жавина. Но какое и въ нихъ заключено огромное словесно е
богатство !
Въ спеціально интересующемъ насъ отношеніи Державинъ,
прямо примыкая къ словесной традиціи церкви, Тредьяковскаго
и Ломоносова, поэтически уточняетъ и утончаетъ ее. У него,
такъ же, какъ у Ломоносова, идея тишины (тихости) полна
религіознаго смысла и религіозно сопрягается съ идеей яс
ности. Вѣдь Державинъ, внѣ всякаго сомнѣнія, самый круп
ный русскій религіозный поэтъ. Какъ таковой, онъ вѣренъ
церковной традиціи, вліяніе которой ощутимо на немъ не
меньше, а даже больше, чѣмъ на Тредьяковскомъ и Ломо
носовѣ. Но, на ряду съ православнымъ церковнымъ вліяніемъ,
у Державина даетъ себя знать и вліяніе западной мистики и
слагавшейся, отчасти подъ вліяніемъ этой мистики, какой то
новой религіозной „чувствительности“. Въ Державинѣ уже чув
ствуется, что онъ младшій современникъ Жана-Жака Руссо
(1712—1778) и старшій современникъ Шаійобріана (1768—1848),
который былъ только на два года моложе ученика Держави
на, Н. М. Карамзина. Религіозность Державина выливается
въ православно-торжественные звуки, она полна церковной
истовости, но есть въ ней и какой-то „сентиментальный“ ун
тертонъ, который подхватитъ и разовьетъ Жуковскій.
Надлежитъ отмѣтить еіце вотъ что. Понятіе „тихій
(„тишина“) у Державина является не только понятіемъ об
ще-психическимъ, имѣющимъ, согласно церковной традиціи,
2 ) Впрочемъ, теоретически онъ понималъ, что словесная расточи
тельность антихудожественна, и высказалъ это вь „Разсужденіи о лири
ческой поэзіи“.
289
религіозно-этическій и религіозно-космическій смыслъ, но и
становится категоріей его эстетики, т. е. поэти
ки25). Въ ней мы находимъ понятіе „тихаго** вдохновенія
рядомъ съ вдохновеніемъ „грознымъ“, „гнѣвнымъ“, „торже
ственнымъ“, „радостнымъ“, „спокойнымъ“ (почему-то Дер
жавинъ отдѣляетъ его отъ „тихаго“), „страстнымъ“, „нѣж
нымъ“, „пріятнымъ“, „умилительнымъ“, „унылымъ“, „пе
чальнымъ“, „утѣшительнымъ“, „забавнымъ“, „шутливымъ“.
Подобному же расчлененію поэтика Державина подвергаетъ
.приступъ“ или „вступленіе“, отмѣчая какъ его виды: „гром
кое“ („смѣлый приступъ“), „тихое“ и „тихое и вдругъ воз
вышающееся“. Здѣсь не мѣсто ни излагать, ни комментиро
вать державинскую поэтику, опровергающую довольно рас
пространенное мнѣніе о низкомъ культурномъ уровнѣ, о
бѣдности духовнаго содержанія Державина, какъ поэта. Со
всѣмъ наоборотъ: державинское „Разсужденіе о лирической
поэзіи“ есть свидѣтельство о высокомъ культурномъ уров
нѣ и о разнообразіи духовныхъ интересовъ, какъ его само
го, такъ и всего его поколѣнія—особливо тутъ нужно отмѣ
тить плодотворное вліяніе нѣмецкаго почти ровесника Дер
жавина Гердера (вообще Державинъ изъ иностранныхъ влія
ній по настоящему испыталъ только нѣмецкое).
Подчеркнемъ лишь еще вотъ что. Во-первыхъ, —
то важное мѣсто, которое Державинъ въ своей поэтикѣ
удѣляетъ церковной лирикѣ, какъ „новому роду пѣснослов
ной поэзіи“, отмѣченному „краткой“ и „сильной“ „живо
творной выразительностью“ и „высокостью мыслей“ въ
изображеніи Божества и „духовныхъ ощущеній“, изображе
ніи, съ которымъ не могутъ сравняться „ни Орфеевы, ни
Омировы, ни Пиндаровы, ни Гораціевы имны“. Во-вторыхъ, ,
если я высказалъ выше предположеніе, что разсужденіе Тре
дьяковскаго въ „Предъизъясненіи“ натолкнуло Пушкина на
его мысли 1824 г. о восторгѣ и вдохновеніи, то, наоборотъ,
эти же пушкинскія мысли являются какъ бы скрытой поле
микой съ почти полнымъ отождествленіемъ восторга и вдо
хновенія въ поэтикѣ Державина. Въ-третьихъ, въ этой по
этикѣ замѣчательна та степень вниманія, которую классиче
скій одописецъ удѣляетъ народной поэзіи и, въ частности,
Дакъ называемымъ цыганскимъ пѣснямъ“ — ихъ онъ сбли
жаетъ съ вакхическими дифирамбами и тутъ какъ бы пред
восхищаетъ общую антитезу аполлоновскаго и діонисовскато началъ у Нитцше. Это же вниманіе къ народной поэзіи
обострило и соціологическое зрѣніе Державина: онъ въ
’5) Разсужденіе о лирической поэзіи или объ одѣ — впервые напечатано въ Чтеніяхъ БесЬды Любителей Русскаго Слова за 1813 г. Полевой
"Равильно замѣтилъ, что „такія замѣтки генія драгоцѣнні-.е многихъ кур
совъ словесности“.
19
290
этомъ отношеніи предвосхищаетъ въ общей формѣ нѣкото
рыя мысли Карла Бюхера, какъ автора „Arbeit und
Rhythmus“.
Т и X і й.2в)
Затихла тише тишина... (Тоска души. 1810).
Свѣтъ тихій Божескія славы. (Христосъ. 1814).
Тихія зари въ вѣнцѣ... Снеслись зефиръ и тишина...
Любезно, тихо, постоянно (солнце). (Гимнъ солнцу. 1802).
Я тихой дорожу .молвой .. (Слава. 1810)
Что, солнце, тихо, такъ уныло ты сходишь... (Предвѣс
тіе. 1810).
Коль сердцемъ кротокъ, тихъ, благолюбивъ душею...
(Проблескъ. 1810).
По малу, тихо вознесенно... (Облако. 1806).
Утихло дуновенье бурно... (Громъ. 1806).
Тиху, важну, благородну (поступь)... „Да будетъ тиши
на“, сказала, — и къ намъ бы тишина пришла... Сіяньемъ
тихимъ звѣздъ въ вѣнцѣ... утишала стонъ вдовицъ... (Изо
браженіе Фелицы. 1789).
Природа въ тишину глубоку... погруженна... Мой тихій
голосъ... Исподтишка драгіе дары... шлютъ... (Видѣніе мур
зы. 1783).
Дремлетъ тишина въ лѣсахъ... (На отсутствіе Ея Вели
чества въ Бѣлоруссію. 1780).
Какъ вешне утро тихій понтъ... (На пріобрѣтеніе Кры
ма. 1784).
О Ангелъ нашихъ тихихъ дней... И украшалась тиши
ной... (На шведскій миръ. 1790).
По браняхъ царствуй, тишина. . (Хоры на шведскій
миръ. 1790).
Во мрачной, страшной тишинѣ... Война, какъ сѣверно
сіянье, лишь удивляетъ чернь одну: какъ свѣтлой радуги
блистанье, всякъ мудрый любитъ тишину. (На взятіе Изма
ила. 1790).
Тихимъ воздуха дыханьемъ... (Анакреонъ въ собраніи.
1791).
2 ) Эти цитаты изъ стихотворныхъ произведеній Державина отнюдь
не претендуютъ на исчерпывающую полноту (державинская проза оставле
на въ сторонѣ). По случайнымъ причинамъ наши цитаты изъ Ломоносова
и Державина размѣщены не въ хронологическомъ порядкѣ, что въ данномъ
случаѣ не имѣетъ существеннаго значенія. Датировка для Державина—по
Гроту; произведенія, напечатанныя только у Грота, отмѣчены ссыл
кой на его изданіе.
291
Тихое пѣнье... Въ райской тиши (На кончину вел. княж
ны Ольги Павловны. 1795).
Тихострунный хоръ... Я вижу въ тишинѣ полсвѣта... (На
взятіе Варшавы. 1794).
Съ протяжнымъ, тихимъ тономъ... (Хариты. 1795).
Но плачъ, и тьма, и тишина. (На смерть Нарышкина,
1799).
Какъ гусли тихи... звенятъ ихъ гласи съ облаковъ.
(Къ музѣ. 1797).
Тише, тише, вѣтры, вѣйте... Божій тихій гласъ перун
ной... (Пришествіе Феба. На возвращеніе Имп. Павла изъ
Москвы. 1797).
Тихій, умиленный хоръ... тихій гамъ... Процвѣтайте въ
тишинѣ... (Праздникъ воспитанницъ Дѣвичьяго монастыря.
1797) .
Но тотъ блаженнѣе, кто въ тихомъ заливѣ совѣсти по
чивъ, не загруженъ добромъ, ни лихомъ, страстей вѣтрила
опустивъ, ума на якорѣ глубокомъ сталъ въ челнѣ и спо
койнымъ окомъ на суету мірскую зритъ... (На новый 1798 г).
Въ благоговѣйной тишинѣ.. (На Мальтійскій Орденъ.
1798) .
И тихимъ маніемъ руки... (На переходъ Альпійскихъ
горъ. 1799).
Войну обнимешь тишиной... Тихія рѣки .. (На восшествіе
на престолъ Императора Александра I. 1801).
Тихимъ... сіяньемъ. (Явленіе Аполлона и Дафны на Нев
скомъ берегу. 1801),
Речетъ — и тихнетъ шумъ морей... (Гласъ Санктпетербургскаго общества. 1805).
Тихій день... (Молитва по Высочайшемъ отсутствіи въ
Армію Его Императорскаго Величества. 1807).
Тамъ тихій раздается стонъ (Эродій надъ гробомъ пра
ведницы. 1806).
Шумъ тварей тише становится... Какъ тихо тянется за
лебедемъ бразда... Свой тише, тише гласъ какъ бы степенно
ниспускаетъ... Подъ арфой тихострунной... Тихонько на уш
ко... (Обитель Добрады. 1808).
Тихій нравъ... (Шествіе по Волхову россійской Амфи
триты. 1810).
Какъ солнце, ясенъ взглядъ и тихъ... (На освященіе
храма Казанскія Богородицы въ СПБ. 1811).
Не возлюбилъ онъ (Наполеонъ) тишины.., Евксинъ и
Бельтъ шумятъ мнѣ тише... Ты въ счастьѣ тихъ... (Гимнъ
лиро-эпическій на прогнаніе французовъ изъ отечества. 1812)
292
Ужъ двадцать лѣтъ изображаешь щедроту, кротость,,
тишину... (На высочайшее отбытіе Государыни Ими. Елиса
веты Алексѣевны. 1813).
О, Ангелъ тихихъ дней! (На возвращеніе Государыни
Имп. Елисаветы Алексѣевны. 1815).
Блескъ тихихъ водъ... Пріятельница тихихъ Музъ...
(Гимнъ кротости. 1801).
Тихій нравъ въ крови (Явленіе. 1810; въ изданіи 1813 г.:
и тихій нравъ, текущій во крови).
Глубокъ, и быстръ, и тихъ, и смѣтливъ... (Рѣшемыслу.
1783).
Былъ въ мрачной бурѣ тихъ, спокоенъ, горѣла молнія
въ очахъ. (Аѳинейскому Витязю, гр. А. Г. Орлову. 1796).
Тихонько осмѣлился въ ушко сказать... (На рожденіе
Царицы Гремиславы. — Л. А. Нарышкину. 1796).
Гласъ тихострунный твой... (Къ лирѣ. — П. А. Зубо
ву. 1794).
Утихъ шумъ рощъ, умолкъ ревъ водный; лишь стонутъ
въ тишинѣ часы... (На выздоровленіе мецената И. И. Шува
лова. 1781).
Конь тихъ, не нравенъ... (Атаману и Войску Донскому..
1807).
Во сумракѣ и тишинѣ... Ему казались рощи сельны и
окрестъ бури — тишиной... (На домовую церковь кн. А. Н.
Голицына. 1813).
Въ мглѣ шепчетъ съ тишиной... (Эхо. 1811).
Буди сонъ мертвой тишины... (Цыганская пляска. 1805\
И тихихъ пѣсенъ голосами восхитили мой духъ во снѣ.
(Виша. 1799).
И рощи дремлютъ въ тишинѣ. (Ключъ. М. М. Хераско
ву. 1779).
Се вѣтеръ помавалъ крылами тихо слуху. (Прогулка въ
Царскомъ селѣ. Н. М. Карамзину. 1791).
Онъ тихій голосъ издаетъ... (Волховъ Кубрѣ. 1804).
Съ улыбкой, тихими стопами проходятъ міръ... (Олени
ну. 1804).
Потихоньку привязали къ красотѣ его своей... (Спящій
Эротъ. 1795).
Тихій свѣтъ и огнь живой проницаетъ тверды горы:
такъ, Варюша, образъ твой... (Портретъ Варюши. В. М. Ба
куниной. 1798).
На гитарѣ тихострунной... (Лизѣ. Похвала Розѣ. Е. НЛьвовой. 1802).
;293
Проводитъ въ тишинѣ благословенны дни. (Блаженство
-супруги. 1807).
Ея (арфы) волшебный звукъ... согласьемъ тихострун
нымъ, какъ эхо мнѣ вдали щекочетъ нѣжно слухъ... (Арфа
П. М. Бакуниной. 1798).
Волны тихо льются... И тихимъ позабылся сномъ... На
лоно мрачной тишины... Волнистой облака грядой тихонько
мимо пробѣгали. И тихій шорохъ вкругъ безплотныхъ... И
тихимъ въ далекѣ журчаньемъ потомство привлекать съ вни
маньемъ... То тихое твое теченье, гдѣ ты сама себѣ равна
(Суна)... (Водопадъ. 1791).
Зрю невечерне солнце ново! Гармоньи тихой внемлю
слово... (Тлѣніе и нетлѣніе. На кончину Кутузова. 1813).
Но плачъ, и тьма, и тишина... (На смерть Л. А. Нарышшина. 1799).
Такъ съ тихимъ вздохомъ, взоромъ яснымъ она оста
вила сей свѣтъ. Въ семействѣ тихомъ, безмятежномъ... Ру
мянцевъ молньи дхнетъ сугубы, Екатерина — тишину... (На
смерть гр. Румянцевой. 1788).
Такъ, красны струи Невски, средь тихихъ вашихъ
нѣдръ... (Въ память Давыдова и Хвостова. 1809).
Тишина и черна ночь скутали мой домъ въ запоны...
(Поминки. 1807).
Возставши, тихо поклонялась, и всѣхъ къ себѣ влекла
сердца... (Развалины. 1797).
Къ чувствамъ кроткимъ, тихимъ, безмятежнымъ... Жи
лище богини Фригги. 1812).
Будто солнце свѣтлолица, будто тихая весна... Тихо
вѣтерки порхали... (Царь-дѣвица. 1812).
И настала тишина... (Рожденіе красоты. 1797).
Подъ кровомъ тихой майской нощи... И арфы съ ти
хими струнами. (Соловей, 1795).
Самецъ... тихохонько глядитъ... (Чечотка. 1805).
Тихимъ лучемъ... (Радуга. 1806).
Но озеро сткляно, утихнувъ отъ бурь, какъ тихо и
важно, чуть кажетъ лазурь... (Четыре возраста. 1805).
Здѣсь тихій токъ съ ревомъ роетъ волна... (Осень.
1805).
Въ святилище прохладъ, спокойства, тишины... (Пол
день. 1815).
Гремитъ органъ на стогнѣ трубный, пронзаетъ нощь и
тишину... (Фонарь. 1804).
И, подкравшись, тихо крали все вокругъ богатыря...
(Геркулесъ 1798).
294
Въ полночь, самой той порою, какъ заснула тишина..
Лель... тихо въ бокъ толкнулъ крыломъ... Тихой выступкой
такою, мнилъ онъ, лучше дичь найти... (Фалконетовъ Купи
донъ. 1804).
Тихое листовъ шептанье... (Свобода. 1803).
Эротъ, смотря тихонько... (Вниманіе. 1804).
Не сожигай меня, Пламида, ты тихимъ голубымъ огнемъ...
(Пламидѣ. 1770).
Но желалъ бы я тихонько, безъ огласки отъ людей,
зеркаломъ въ уборной только быть у Любушки моей... (Лю
бушкѣ. 1802).
Тихо руки, взоръ поводятъ (Русскія дѣвушки. 1799).
Арфы громкіе и тихозвучны тоны волшебствомъ нѣка
кимъ обворожаютъ слухъ... Двугласну тихо пѣснь вознесъ...
Божій духъ искони до вѣковъ въ тихой тьмѣ возносился...
Скорбь Царску утиши... Свой тихо свершаешь кругъ
(луна)... О коль сей дивенъ тихогромъ27)... Се тише отчасу,
все тише (крикъ). И тихій на пѣвцовъ кидаетъ съ вздохомъ
взглядъ... Арфы тихія пріятный сердцу звукъ... Подъ тихія
вечерни сѣни идетъ къ нему покой съ небесъ... Тише, о
пѣсни. (Цѣленіе Саула. 1809).
Ужъ тихой арфы тихи звуки... (Срѣтеніе Орфеемъ солн
ца. 1811).
Лежала на холмахъ вкругъ нощи тишина... (Утро. 1800).
Домъ полнъ его довольствомъ, свободой, тишиной, спо
койствіемъ... (Аристиппова баня. 1811).
Бряцаньемъ тихимъ утомленный... (Первая пѣсня Пин
дара пиѳическая. 1800).
Звѣздъ не ищи, свѣтозарнѣе тихихъ солнца полдневна
лучей теплотворныхъ... (Первая пѣснь Пиндарова Олимпическая. 1805).
И тихій внемлю токъ журчащаго ручья... (Къ Калліопѣ.
1811).
Церберъ... зрѣлъ тебя тихо... (Къ Бахусу. 1811).
Прострись вкругъ тишина священна. Сонъ сладостный
не презираетъ... ни низменныхъ, ни тихихъ странъ... (Объ
удовольствіи. Подражаніе Горацію. 1898).
О, коль мнѣ твой пріятный любезенъ тихій видъ...
Взоръ тихъ, какъ голубинъ... (Соломонъ и Суламита. Изъ
Вольтера. 1807).
Тихій милый вѣтерочекъ... Тихо вѣткой грудь ей ще
кочи.. (Скромность. Изъ Метастазія. 1791).
2‘) Фортепіано на языкѣ Державина.
295
Тихой нѣкогда слезой... (Мой истуканъ. 1794).
Во мракѣ тишины... (Призываніе и явленіе Плѣниры.
1794).
Протяжные и тихи звуки... (Сафѣ. На смерть супруги.
1794).
Тихъ, привѣтливъ и пріятенъ... (Бесѣда съ геніемъ.
1801).
Я пою, — Пиндъ стала Званка; совоплещутъ Музы
мнѣ; возгремѣла балалайка, и я славенъ въ тишинѣ. (Заклю
чительная строфа стихотворенія Т и ш и н а. 1801).
Возможно ли сравнять что съ вольностью златой, съ
уединеніемъ и тишиной на Званкѣ.. Звѣзды зря, бѣгущи въ
тишинѣ по синю волнъ стремленью... Тихіе, отлогіе брега...
Здѣсь тихогрома съ струнъ смягченны, плавны тоны...
Тихій громъ... (Евгенію. Жизнь Званская. 1807).
Громами тихо гремя... (Полигимніи. 1816).
Но днесь тебѣ (Волгѣ) тещи пристойно съ тишиною...
(1767. Гротъ III 239).
Природу тихъ лелѣетъ сонъ... (1773. Гротъ, III, 226).
Вы, вѣтры, нынѣ вѣйте тише! Священный почиваетъ
прахъ. (1774. Гротъ, III, 301).
Поступь тихая, павлиная... И тихій какъ зари восходъ,
да русскій такъ цвѣтетъ народъ... Въ одну тишайшу ночь...
И тихо проходя ряды красавицъ нѣжныхъ... Но свѣтъ луны
ясно освѣтилъ ихъ лица въ тишинѣ... Въ жилки голубыя
увидя розову текущу тихо кровь... И вышелъ тотчасъ вонъ
изъ спальни крадучись и тихими стопами... Потщуся утишить
печаль и безпокойство и въ градѣ сохраню порядокъ, ти
шину... Не тихіе вѣтры попархиваютъ... (Добрыня. 1804.
Гротъ IV)
Мечами о мечи въ слухъ тихо ударяйте... (Прологъ на
рожденіе порфиророднаго отрока. 1799. Гротъ IV)
Отъ Бѣлыхъ водъ до Черныхъ, отъ тихихъ до средин
ныхъ бѣгутъ толпы угрюмыхъ тучъ... (Прологъ на открытіе
въ Тамбовѣ театра и народныхъ училищъ. 1786. Гротъ IV)
Высокое... драматическое содержится въ тихомъ и спо
койномъ дѣйствіи души великой, которая... показываетъ въ
немъ высокое существо и заставляетъ разумъ почитать его
или благоговѣть передъ нимъ. Кратко, прямая высокость
состоитъ въ силѣ духа или въ истинѣ, обитающей въ Богѣ...
Тихозвенящая свирѣль... Пѣсня имѣетъ слогъ простой, тон
кій, тихій, сладкій, легкій, чистый. (Разсужденіе о лирической
поэзіи“. 1813). Выше уже указано, что въ этомъ „Разсужде
ніи“ слова „тихій“, „тишина“ и т. п. занимаютъ очень важ-
296
ное мѣсто какъ въ собственномъ текстѣ Державина, такъ и
въ его цитатахъ. Особенно интересны, въ занимающемъ
насъ отношеніи, цитаты изъ М. В. Ломоносова иВ. П.
Петрова. (1736—1799).
Ясный.
Не ставь въ вину, что изъяснить Тебя я тщился! (Хри
стосъ. 1814)
Какъ ясный Божій лучъ... (Проблескъ. 1810)
Но днесь иль завтра прояснится безсмертной правды
солнца лучъ... (Облако. 1806J
Небесно-голубые взоры... блистали бы какъ ясный
день... (Изображеніе Фелицы. 1789)
Утрення, ясна, тѣнь золотая! (На кончину Вел. Княжны
Ольги Павловны. 1795)
Ясна заря—и вечеръ свѣтлъ... (На кончин}’ Императрицы
Екатерины II, и восшествіе на престолъ Императора Павла I.
1796).
Ты... внушишь яснѣе міру, что и при бурныхъ дняхъ
Ты Музамъ Аполлонъ! (Посвященіе Императору Александру.
1807)
Небесъ зерцало, въ коемъ ясный мы видимъ отблескъ
Божества... (Гласъ Санктпетербургскато общества. 1805)
Какъ солнце, ясенъ взглядъ и тихъ... (На освяще.-ііе
храма Казанскія Богородицы въ СПБ. 1811)
И ясно все твое мнѣ мановенье... (Явленіе. 1810)
Въ день ясный не сердились, зря на небѣ пятно... (Аѳинейскому Витязю. Гр. А. Г. Орлову. 1796)
Тамъ пасмурны, тамъ ясны дни... Ясною порою... Какъ
въ ясный день, какъ въ бурѣ Суворовъ твердъ, великъ
всегда... (На возвращеніе гр. Зубова изъ Персіи. 1797)
Въ часъ ясныя погоды... Свѣтъ ясный, пурпуровый...
(Прогулка въ Царскомъ Селѣ. Н. М. Карамзину. 1791)
Розы на грудяхъ лилейныхъ ясны, любы Лелю для
утѣхъ. (Лизѣ. 1802)
Онъ (водопадъ)... великолѣпенъ, свѣтлъ, прекрасенъ,
чудесенъ, силенъ, громокъ, ясенъ... Въ ясный день... (Водо
падъ. На кончину Потемкина. 1791)
(Смерть) какъ умолкающій органъ, какъ лучъ послѣд
ній солнца ясна, блистаетъ, тонетъ въ океанъ... (Урна. На
кончину И. И. Шувалова. 1787).
Гражданъ отвсюду въ ясный день, какъ птицъ, сзывали
для витанья. (На смерть Л. А. Нарышкина. 1799)
297
Такъ съ тихимъ вздохомъ, взоромъ яснымъ она оста
вила сей свѣтъ... (На смерть графини Румянцевой. 1787)
Какая громкость, живость, ясность въ созвучномъ пѣ
ніи твоемъ... (Соловей. 1795)
И не Бразильски звѣзды, ясны... (Вельможа. 1774—1794)
Весны и лѣта ясны дни... (Срѣтеніе Орфеемъ солнца.
1811)
Вздувъ въ ясномъ napycà лазурѣ, умѣй ихъ не сронить
и въ бурѣ! (На умѣренность. 1792)
Облакъ ясный... (Объ удовольствіи. 1798)
Лицемъ, какъ мѣсяцъ ясенъ... (Соломонъ и Суламита.
1807)
Ясный, ведреный денечекъ... (Скромность. Изъ Метастазія. 1791)
Ясный день... Дни ясны... (Одна на день рожденія Ея
Величества. 1774)
Туча ясная... (1773, Гротъ, III, 268)
Какъ утренней зари блескъ ясный... (Прологъ на рожде
ніе порфиророднаго отрока. 1799. Гротъ IV)
Струя, что свѣчка, блещетъ ясна... Но свѣтъ луны... ясно
освѣтилъ ихъ лица въ тишинѣ... Ясный соколъ... Да разска
жи яснѣй о страстной вѣсти сей... (Добрыня. 1804. Гротъ IV)
Опредѣлить его (вкусъ) съ ясностью для всѣхъ понят
ною, едва ли кто возьмется... Естественно, ясно и сладко
звучно... (Разсужденіе о лирической поэзій. 1813).
Неизъяснимый
и
непостижный.
Неизъяснимый, Непостижный! (Богъ. 1784)
Позволь себя назвать, Владиміръ, непостижнымъ... (До
брыня. 1804. Гротъ IV)
И то уже высоко, Непостижимаго любить. (Истина. 1810).
О вѣчный, Трисвятый и непостижный Сый... О знаме
ніе непостижно... Мой духъ сквозь недостижим сферы...
(На освященіи храма Казанскія Богородицы въ Санктпетер
бургѣ. 1811)
Вкусъ ничего не терпитъ несвойственнаго природѣ: отъ
развратнаго бѣжитъ, отъ гнуснаго отвращается; но бываетъ
иногда такимъ волшебникомъ, который страннымъ и дикимъ
существамъ придаетъ неизъяснимую прелесть. (Разсужденіе
о лирической поэзіи. 1813).
298
8. В. А. ЖУКОВСКІЙ (1783-1852)
Въ своей краткой поэтической автобіографіи, въ вось
мой главѣ „Евгенія Онѣгина“, Пушкинъ изобразилъ оказан
ное на него Жуковскимъ вліяніе:
И ты, глубоко вдохновенный,
Всего прекраснаго пѣвецъ,
Ты, идолъ дѣвственныхъ сердецъ,
Не ты ль, пристрастьемъ увлеченный,
Не ты ль мнѣ руку подавалъ
И къ славѣ чистой призывалъ?
Безъ проникновенія въ Жуковскаго нельзя исторически
знать и понимать Пушкина, который тамъ же, связывая свою
музу съ Ленорой, какъ музой Жуковскаго, говоритъ:
Какъ часто по скаламъ Кавказа
Она Ленорой при лунѣ
Со мной скакала на конѣ.
Она меня во мглѣ ночной
Водила слушать шумъ морской,
Немолчный шопотъ Нереиды,
Глубокій вѣчный хоръ валовъ,
Хвалебный гимнъ Отцу міровъ.
„Я не слѣдствіе, а точно ученикъ его (Жуковскаго)...
Никто не имѣлъ и не будетъ имѣть слога, равнаго въ
могуществѣ и разнообразіи слогу его.“ И тутъ, въ этомъ
письмѣ 25 марта 1825 г., Пушкинъ повторяетъ эпиграммати
ческую характеристику, данную Вяземскимъ Жуковскому:
„въ бореньяхъ съ трудностью силачъ необычайный".
Запасъ идей, образовъ, словъ Жуковскаго былъ усво
енъ и освоенъ Пушкинымъ въ такой мѣрѣ, въ какой этого
нельзя сказать ни о Державинѣ, ни о Карамзинѣ. Именно не
только усвоенъ, но и освоен ъ.28) Это съ полной очевид
ностью и осязательностью обнаруживается и на занимающихъ
насъ здѣсь реченіяхъ.
Жуковскій самъ восходитъ, какъ поэтъ, къ Карамзину
и черезъ него къ Державину. И въ то же время въ міро
ощущеніи Жуковскаго есть нѣчто свое и новое. Онъ такъ
же религіозенъ, какъ Державинъ; онъ такъ же чувствите“) Кто не знаетъ Пушкинскаго „Геній чистой красоты" („Я помню
чудное мгновенье", 1825). Это словосочетаніе цѣликомъ взято у Жуковска
го, у котораго оно относится къ великой княгинѣ (потомъ Императрицѣ)
Александрѣ Ѳедоровнѣ, супругѣ Николая I. См. стихотворенія „Лалла Рукъ"
1821 г. и „Я музу юную" 1823 г, (посвященіе къ изданію 1824 г.) Тутъ
усвоеніе и даже присвоеніе. Но гораздо важнѣе — освоеніе
299>
ленъ, какъ Карамзинъ. Но въ религіозности Жуковскаго чув
ствуется могущественный притокъ новой стахіи, того новаго
космическаго ощущенія единства человѣка съ Міромъ, а че
резъ Міръ и съ Богомъ, которое составляетъ одинъ изъ
основныхъ элементовъ романтизма, какъ онъ родился изъ
своеобразнаго сочетанія культа античности съ чувствитель
ностью, или сентиментализмомъ XVIII вѣка, изъ того сочетанія,
скажемъ, Винкельмана съ Руссо, которое всего полнѣе во
плотилъ собою Гете, отецъ романтизма, въ самомъ себѣ его
какъ „направленіе“, „теорію“, „школу“ и какъ „болѣзнь“
вполнѣ преодолѣвшій. Въ этомъ смыслѣ романтизмъ и сен
тиментализмъ реально и исторически неотдѣлимы. И въ
этомъ смыслѣ романтизмъ искони религіозенъ. Эта, соединя
ющая космическое чувство съ тягой къ личному Богу, эсте
тическая религіозность, философскимъ манифестомъ которой
явились „Рѣчи о религіи“ Шлейермахера, (1799), есть то мі
роощущеніе, которому Жуковскій съ юности и до старости
оставался вѣренъ. Изъ этой эстетической религіозности рож
дается и культъ и изученіе Среднихъ Вѣковъ, словомъ, вся
гамма тѣхъ ощущеній и идей, которыя образуютъ то, что
можно назвать историческимъ составомъ ро
мантизма.
Если бы мы не имѣли передъ нашими „духовными гла
зами“ ясной тихости и даже ясной тишины, съ ея
религіознымъ содержаніемъ и смысломъ, уже у Ломоносова
и, по существу, даже у Тредьяковскаго, мы могли бы впасть,
въ соблазнъ ясную тишину Жуковскаго признать заим
ствованіемъ изъ духовной сокровищницы западнаго и, въ
частности, нѣмецкаго романтизма въ выше обозначенномъ
широкомъ смыслѣ. Можно было бы въ подтвержденіе этого
предположенія привести интересный рядъ нѣмецкихъ поэти
ческихъ текстовъ именно эпохи подготовки и расцвѣта ро
мантизма. Въ особенности въ этомъ отношеніи показателенъ
и поучителенъ Гете. Возьмите „Zueignung* („Посвященіе“)
1784-89, эту бесѣду поэта съ музою и его поэтическую
исповѣдь. Она вся „соткана“ изъ какого-то нѣжнаго сліянія
тишины съ ясностью:
So sagte sie (муза!), ich hör’ sie ewig sprechen —
Empfange hier, was ich dir lang bestimmt!
Dem Glücklichen kann es an Nichts gebrechen,
Der dies Geschenk mit stiller Seele nimmt:
Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit,
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit
(подчеркнуто мною. П. С.). Въ 1776 г. Гете въ стихотворе
ніи „Einschränkung“, превознося „настоящую мѣру“ (das re
chte Mass', хочетъ „въ тишинѣ настоящаго уповать
300
на будущее“ (in stiller Gegenwart die Zukunft zu erhoffen).
Ср. еще стихотвореніе „Verschwiegenheit“ 1816 г., первая стро
фа котораго оканчивается словами:
Leise, leise! Stille, stille!
Das ist erst das wahre Glück.
Это настроеніе ясной тишины прямо таки характерно для
Гете, и у него оно, конечно, имѣетъ свой и своеобразный
религіозный смыслъ и источникъ.
Но указаніе на вліяніе—възанимающемъ насъ отношеніи—
нѣмецкихъ поэтовъ на Жуковскаго заранѣе опорочено и осуж
дено тѣми русскими текстами, которые въ представленномъ
выше подборѣ изображаютъ подлинную исторію нашихъ об
разовъ, понятій и реченій въ русскомъ поэтическомъ языкѣ.
И потому мы можемъ только установить, что родство об
разовъ, понятій и словъ въ нашемъ случаѣ объясняется той
общей религіозно-космической темой, которая объединяетъ не
только романтика-сентименталиста Жуковскаго, но и романтиковъ-пантеистовъ Гете и Гелъдерлина-9) съ Ломоносовымъ,
Державинымъ и Пушкинымъ. Изъ русскихъ поэтовъ всего
ближе къ Гельдерлину Ѳ. И. Тютчевъ (1803— 1873), который,
однако, по силѣ и собранности философской мысли, непо
средственно превращающейся въ поэтическое видѣніе, далеко
превосходитъ нѣмецкаго поэта-безумца. Но и у Тютчева нель
зя наблюсти слѣдовъ настоящаго знакомства съ поздно оцѣ
неннымъ Гельдерлиномъ. Съ Тютчевымъ можно сближать
еще другого великана нѣмецкаго романтизма, „божественна
го юношу“ Гарденберга-Новалиса (1772—1801), но и Новалисъ
въ области чистой поэзіи всетаки уступаетъ нашему Тютче
ву. Тютчевъ посвятилъ смерти Жуковскаго стихотвореніе,
замѣчательное глубокой характеристикой душевнаго строя и
духовной личности друга-учителя Пушкина. Начинаясь сло
вами: „я видѣлъ вечеръ твой“, эго стихотвореніе изобража
етъ „вечеръ“ Жуковскаго классической для Жуковскаго и
для Пушкина формулой: „и тихъ, и ясенъ“. Тишина была
&) Поразительно, въ какой мѣрѣ часто не только Гете, но и Гель
дерлинъ (177Û— 1843>, такъ же, какъ и нашъ Батюшковъ, кончившій не
излѣчимымъ безуміемъ, въ произведеніяхъ своей зрѣлой эпохи относител •
наго здоровья употребляетъ въ религіозно-космическомъ и религіозно-эти
ческомъ смыслѣ понятіе и слово still и дѣлаетъ это сь той подлинной и
нынѣ общепризнанной Sprachgewalt, которая ему свойственна. Но произве
денія Гельдерлина Жуковскій, если и зналь вообще, то во всякомъ случаѣ
не оцѣнивалъ такъ высоко, какъ потомство. Впрочемъ они (лирическія
были впервые собраны лишь въ 1826 г., т. е. когда Жуковскій уже быль
законченнымъ мастеромъ „слога“, несравненнымъ „геніемъ перевода“ (под
линное выраженіе Пушкина).
301
на самомъ дѣлѣ сродни душѣ и духу Тютчева. Но нельзя
того же сказать о ясности, хотя онъ и говоритъ однажды о
„лазурной ясности“ поэзіи; душа Тютчева, обвѣянная „тихой
полумглой“ и „вѣщей дремотой“, въ „пророчески неясномъ
снѣ“ дѣйствительно билась „на порогѣ какъ бы двойного
бытія“. Такая раздвоенность была чужда и Жуковскому, и
Пушкину. О ней повѣдать было дано только Тютчеву. Ему
была дѣйствительно сродни та „божественная темная яс
ность“ (Gottes dunkle Klarheit), о которой говоритъ нѣмецкій
мистикъ-реформатъ XVIII вѣка Gerhard Tersteegen (1697—
1769)80).
Тихій 81).
Откуда тишина златая въ блаженной сѣверной странѣ...
Рѣки въ долахъ тихо льются, такъ счастья льются въ ней
струи... И милліоны погрузились въ восторгъ, въ забвенье,
въ тишину... Молчитъ все, тихо... Какъ тихій дождь... такъ
онъ струитъ токъ благотворный въ сердца, приверженны
къ нему... Онѣ ликуютъ въ тишинѣ... (Благоденствіе Россіи,
устрояемое великимъ ея самодержцемъ Павломъ Петрови
чемъ. 1797).
Подъ звѣзднымъ кровомъ тихой ночи... (Добродѣтель.
1798).
Тамъ въ кроткой, мирной тишинѣ... (Могущество, слава
и благоденствіе Россіи. 1799).
Поешь ли тишину — громъ Зевса потухаетъ... Блажен
ство тишины... Тамъ въ селахъ царствуетъ довольство съ
тишиною... Будь героемъ, — героемъ въ тишинѣ, не въ кро
волитномъ боѣ... На персяхъ тишины, въ спокойствіи бла
женномъ... (Миръ. 1800).
Я въ кущѣ тихой, безмятежной... (Герой. 1800)."
Могила — тихій сонъ... (Человѣкъ. 1801).
Подъ кровомъ тишины... Въ тихомъ пѣніи... Повсюду
тишина... Денницы тихій гласъ... (Сельское кладбище. 1801).
Его сокровище свобода! Бесѣда — тишина и Богъ!
Природой, тишиной плѣнялся... Подъ сѣнью тишины твоей...
Тихой уголъ... (Изъ „Донъ-Кихота“. 1804).
’°) Ср. Heiler 1. с. S. 224.
8Ij Наши цитаты изъ Жуковскаго отнюдь не имѣютъ исчерпываю
щаго характера, но онѣ для нашей цѣли достаточны и доказательны, ибо
относятся къ Жуковскому прежде всего какъ къ оригинальному поэту-л иРв к у, который былъ, какъ писатель, оригиналенъ и въ своихъ перево
дахъ. Цитаты и даты по изданію А. С. Архангельскаго. (Приложеніе къ
-Нив
СПБ. 1902.
302
О, прелесть тихая, души очарованье — поэзія. (Къ по
эзіи. 1805).
Все тихо, все мертво... Лишь тихій вдалекѣ звонковъ
овечьихъ звонъ... Тихій стонъ... Вѣнчаетъ въ старости без
печной тишиной... (Опустѣвшая деревня. 1805).
Гдѣ вѣра въ тишинѣ святыя слезы льетъ... (Посланіе
Элоизы къ Абеляру. 1806).
Повсюду тишина! Нигдѣ покоя нѣтъ! (Отрывокъ пере
вода элегіи Парни. 1806).
Свирѣли тихій звукъ... (Идиллія. 1806).
О, сладость тихая, о, сердца восхищенье! (Прощаніе
старика. 1806).
Какъ тихая твоя гармонія пріятна... Все тихо: рощи
спятъ... Какъ сладко въ тишинѣ у брега струй плесканье,
какъ тихо вѣянье зефира по водамъ... О, тихое небесъ за
думчивыхъ свѣтило... Въ тихій часъ утра... Надъ тихой юно
ши могилой... (Вечеръ. 1806).
Нарушитъ тишину, мой другъ, души твоей... (Къ Эд
вину. 1806).
Ползкомъ и тихомолкомъ... Чтобъ тамъ потише были...
(Эпиграммы. 1806).
Тихія источника струи... (Амина и Эндиміонъ. 1806).
Безпеченъ, веселъ, тихъ... (Младенецъ. 1806).
На тихомъ небѣ... (Стихи, сочиненные для альбома М.
В. П. 1808).
Ночи... тихій часъ... Подъ тихой сѣнью лѣса... Предъ
Нимъ утихни, долъ... И тихій отъ холма возстанетъ рогъ
луны... Найду ли тишину подъ отческою сѣнью... Конца и
тишины желанный возвѣститель... (Гимнъ. 1808).
Тихій, страшный хоръ завылъ... (Людмила. 1808).
И тихій вздохъ, и сладкая скорбь... Могущество ти
хихъ, таинственныхъ словъ... Съ послѣдней лаской утихнетъ
мой гласъ... Я въ образѣ тихой, небесной надежды... И въ
тихій, священный моленія часъ... Исполнишься тихимъ, уны
лымъ мечтаньемъ... И въ весельѣ, и въ тихой тоскѣ... (Къ
Нинѣ. 1808).
Унылость тихая... (Къ Филарету. 1808).
Гдѣ рыскалъ въ тишинѣ убійца сокровенный... (На
смерть гр. Каменскаго. 1908).
Тихій, легкій шопотъ... Все утихло... Дверь... тихо рас
творилась. Тихо вѣя... (Свѣтлана. 1808—12).
303
А все, вѣдь, тихомолкомъ... (Коловратно-курьезная сцена.
Исподтишка... И въ тишинѣ таясь... („Мой милой другъ“.
1811).
И въ тихомъ вѣтерка вдоль рощи трепетаньи... И ти
хо вѣютъ... Движеній тишина... Въ тотъ часъ, какъ тишиною
земля облечена... Тихихъ рощей сѣни... Тихое свѣтило... (Къ
Батюшкову. 1812).
Полжизни я истратилъ въ тишинѣ... (Къ А. Н. Арбеневой. 1812).
Въ сей тишинѣ величественъ и ясенъ... Мною дана имъ
тишина... (Вождю побѣдителей. 1812).
Лишь гибели приманкой тишина... (Посланіе къ Плеще
еву. 1813).
Съ тихою тоскою... (Тургеневу. 1813).
Сей тихій, скромный видъ... (Къ Ив. Ив. Дмитріеву.
1813).
На дружественномъ лонѣ подруги-тишины... Вчера —
воспоминанье, и нынѣ ■— тишина, и завтра — упованье...
(Уединеніе. 1814).
На лонѣ тишины... („Когда-бъ родиться въ свѣтъ...“
1814) .
Въ тиши уютнаго уединенья... (Къ кн. Вяземскому и В.
Л. Пушкину. 1814).
Въ тихій часъ... (Къ Вяземскому. 1814).
Тихо все... Тихъ его печальный гласъ... (Ахиллъ. 1814).
Сумраченъ, тихъ, одинокъ... (Аббадона. 1814).
Въ прорицающей паденье тишинѣ... (Императору Але
ксандру. 1814).
Я, баранъ, жилъ тихомолкомъ... („Предъ судилище Миноса“... 1815).
Я вспомянулъ... о ясной тишинѣ... Тихое вечернее сі
янье... Свой здѣшній путь окончить въ тишинѣ... (Старцу
Эверсу. 1815). ,
У
іоі Славянка тихая... Сводъ неба тихъ и чистъ. (Славянка.
1815) .
Въ каждомъ зернышкѣ тихо и смирно спитъ невидим
кой малютка-зародышъ... (Овсяный кисель. 1816).
Легкій, легкій вѣтерокъ, что такъ сладко, тихо вѣешь?
(Весеннее чувство. 1816).
304
Онъ мнѣ душу растворилъ сладкой тишиной... И минув
шаго привѣтъ слышу въ тишинѣ... (Къ мѣсяцу. 1816).
;
Въ тихій долъ лицомъ склонилась, ангелъ тишины...
Рыцарь Тогенбургъ. 1818).
По небу тихому... (Невыразимое. 1818).
И тихо миртъ и гордо лавръ стоитъ... (Миньона. Изъ
Вильгельма Мейстера Гете. 1818. Точный переводъ нѣмецка
го стиха: Die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht.)
Въ величіи покорной тишины, она (душа) молчитъ
предъ грознымъ испытаньемъ... (На кончину Е. В. Королевы
Виртембергской. 1819).
И тихо шепчущій тростникъ... И въ свѣтозарной тиши
нѣ... Тамъ тихо волны плещутъ... Тихой вѣры сладость...
Сверкаетъ тихая рѣка... И по лазури тихо рѣя... Тихое уеди
ненье... Не измѣняйся, день прекрасный! Будь долго радостью
очесъ и, вѣчно тихій, вѣчно ясный, не покидай родныхъ не
бесъ!.. Какъ сладостно средь тишины... на насъ глядятъ ми
нувши годы... (Государынѣ Имп—цѣ Маріи Ѳеодоровнѣ.
1819).
И въ тихомъ блескѣ потекла (луна)... (Гр. С. А. Самой
ловой. 1819).
Цвѣла въ тиши... И свѣжая на землю тишина, какъ яс
ное предчувствіе, сходила... Сей тихій блескъ заката... И обо
дрялъ на благо тихій гласъ... (Цвѣтъ завѣта. 1819).
Этотъ тихій уголокъ... (Къ гр. Шуваловой. 1819).
Тихою надеждою... (Къ мимопролетѣвшему знакомому
генію. 1819).
Засыпала въ тишинѣ... Прежней вѣры тишина... (Жизнь.
1819) .
О, тихій мой младенецъ. (Праматерь внуку. 1819).
Тихо закурился туманный дымъ... (Утро на горѣ. 1819).
Благослови Господь тебя, младая мать, и тихаго мла
денца... Какъ тихо дышетъ онъ... (Путешественникъ и посе
лянка. 1819. Изъ Гете: Der Wandrer 1772. Въ нѣмецкомъ
оригиналѣ слова still вовсе нѣтъ. П. С.').
На небѣ тишина... Чаруя, оживляя ночную тишину(Близость весны. 1819).
Прекрасное лицо (скульптора Христіана Даніэля Рауха,
1777—1857); глубокость, благородство; что-то тихое и жи
вое; простота истиннаго артиста. (Отрывокъ изъ дневниковъ.
1820) .
305
Вы съ тихой твердостью взглянули... (Къ гр. Шувало
вой. 1820).
(Вѣтерокъ)... тихо вѣялъ... Что-то тишину смутило... И
было тихо все въ природѣ... Въ тиши уединенья... Тихо зыб
лясь (луна)... Тихимъ вечеромъ... Луна... плыла, тиха и оди
нока... И сердцу тихо возвращаютъ надежду, вѣру и покой.
(Подробный отчетъ о лунѣ. 1820).
Въ тиши... И мыслью вѣрною свѣтила, не ослѣпляя, въ
тишинѣ... (Къ кн. А. Ю. Оболенской. 1820).
Пери... стояла въ грустной тишинѣ... И тихо плакала
она... Все тихо. Вѣя тихо... Печально тихая султана... И ти
хими слезами она заплакала... И Пери тихо принимаетъ про
щальный вздохъ ея души... Покойтесь, вѣрные, въ тиши...
Среди окрестной тишины... Игралъ малютка тихо... Солнце
тихо за границы земли зашло... И съ тихостью предъ небе
сами... промолвилъ имя Божества... (Пери и Ангелъ. Изъ
Мур а. 1821).
Съ безмятежной тишиной... (Лалла Рукъ. 1821).
Въ темницѣ мертвыхъ сонъ не тихъ... Въ тиши онъ
гасъ... нѣжно-тихъ... Я руку тихую поднялъ... (Шильонскій
узникъ. 1821).
Тихомолкомъ подкрался я къ ней... Безмятежная ночь...
и тиха, и темна... Молодая жена — и тиха, и блѣдна... (За
мокъ Смальгольмъ... 1822).
Свѣтлыхъ взоровъ тихій пламень... (Побѣдитель. Изъ
Ул ан да. 1822).
Сладостный блескъ возвращенныхъ небесъ не вовсе
тебѣ (морю) тишину возвращаетъ... (Море. 1823).
Ты предо мною стояла тихо... Тихій ангелъ... Тихая
НОЧЬ... (19-го марта 1823 г.).
Тихой прелестью... Въ тиши... (Ангелъ и пѣвецъ. 1823).
Стояли тихія дружины, сомкнувшись, зрѣлись въ тиши
нѣ... Въ ужасно-тихомъ отступленьѣ... Тихонько имъ пусти
лись вслѣдъ... (Поѣздка на маневры. 1824).
Тихій стонъ... (Торжество побѣдителей. 1828).
Какъ покорность небу, тихъ... (Видѣніе. 1828).
Тихо на небо взойдешь... (Солнце и Борей. 1828).
Тихо съ жизнію прощался.., (Умирающій лебедь. 1828).
Могу быть страшенъ, тихъ, пріятенъ и глубокъ... (1828).
При тихомъ сіяніи мѣсяца... (Стремленіе. 1828).
20
306
Надъ бездной утихло... Все тише и тише на днѣ ея во
етъ... (Кубокъ. 1831).
Тихое лоно... Тихохонько двери свои отворило... Тамъ
тихо. По лугу тихо пройдетъ... Воскресенье тихонько под
няло за авѣсъ... Торжественно-тихій праздникъ... Тихое слы
шится пѣніе... (Воскресное утро въ деревнѣ. 1831).
Тихо смотрѣла, какъ гробъ засыпали... (Неожиданное
свиданіе. 1831).
Недоступенъ адъ и тихъ... (Жалоба Цереры. 1831).
Былъ вечеръ тихъ... И услаждались тишиной... Надъ
тихою равниной водъ... Тихій голосъ... И стала сумрачно-тиха
(Доника)... (Доника. 1831).
Легкій скокъ коня въ тиши раздался... Прохладный, ти
хій, темный... И звонъ утихъ... (Ленора. 1831).
Былъ вечеръ прекрасенъ и тихъ, и душистъ... Торже
ственно все утихло... И тихой земли усыпленьемъ святымъ,
и звѣздныхъ небесъ тишиною... И тихо сказалъ онъ... И ти
хо дымились кадилы... (Покаяніе. 1831).
Они за ходомъ тихонько ѣдутъ... И тихо часъ полноч
ный наступалъ... Съ тихимъ пѣньемъ... (Королева Урака и
пять мучениковъ. 1831).
Жатва — какъ тихое море... И въ тихую ночь тамъ не
тихо... Все стало попрежнему тихо... Тихая, темная ночь...
Лошади... тихо ступаютъ... (Двѣ были и еще одна. 1831).
Въ тѣни ихъ тишина... (Дѣтскій островъ. 1831).
Пери тихо слезы льетъ... (Пери. 1831).
Она... тиха въ обращеньи была... Въ церкви пусто и
тихо... Тихо молитву творя... (Судъ Божій. 1831).
Тиха любовь къ тебѣ моя... (Я на тебя съ тоской гля
жу. 1831).
И окрестъ благоговѣнья распростерлась тишина... (Бра
тоубійца. 1832).
Крылами тихо вѣя... Она товарища тихонько крыломъ
толкнула... (Орелъ н голубка. 1833).
Тихо помогла мнѣ жизнь получить. (Голосъ младенца
изъ гроба. 1837).
Тихо другая покрыла меня... Голову тихо склоня, долго
стоялъ я надъ нимъ. (Покойному А. С. Пушкину. 1837, обѣ
пьесы изъ альбома, подареннаго гр. Ростопчиной).
Пушкина нѣтъ на свѣтѣ... онъ кончилъ жизнь тихо,
безъ страданія, точно угаснулъ, (Изъ письма къ Наслѣднику
Цесаревичу 29. I, 1837).
307
Тише вѣтеръ, тише волны! Лигъ на море ташина! (По
свящается нашему капитану „Геркулеса“. 1838).
Тихій жребій вашъ... Въ немъ образъ вижу я сердечной
чистоты, невинной прелести и счастья съ тишиною... (Пред
сказаніе. 1838).
Съ тихимъ блеяньемъ бредетъ чрезъ поле усталое ста
до ,. Воздухъ наполненъ весь тишиною торжественною...
Предъ тихой луной... Они тихомолкомъ шли по тропинкѣ
своей... Изъ тихихъ могилъ... (Сельское кладбище. 1839).
А теперь ихъ тишина, небомъ полная, объемлетъ... (Бо
родинская годовщина. 1839).
Тихонько поднявши руку... (Маттео Фальконе. 1843).
Былъ вечеръ тихъ... Тихо по водамъ... И нынѣ тихо,
безъ волненья, льется потокъ моей уединенной жизни... Я
чувствую глубоко тотъ покой, котораго такъ жадно здѣсь
мы ищемъ, не находя нигдѣ и слышу голосъ, земныя всѣ
смиряющій тревоги... И въ тихій мой пріютъ... (Посвященіе
къ „Наль и Дамаянти“ Е. И. В. великой княжнѣ Александрѣ
Николаевнѣ. 1843).
Больного Робертъ тихонько приподнялъ... Тихимъ го
лосомъ... Шепнулъ тихонько... И тихо голова легла сама со
бою на подушку. (Капитанъ Боппъ. 1843).
Стой среди всевозмущенья недоступенъ, тихъ, одинъ...
(Къ русскому великану. 1848).
Въ небѣ, повторенномъ тихими водами... Съ вѣкомъ
Александра тихо устарѣлъ ты... (Царскосельскій Лебедь.
1849).
Въ узахъ, въ терновомъ вѣнцѣ, Онъ стоялъ предъ на
родомъ, смиренный, тихій, но полный величія... (Странствую
щій Жидъ, 1831; впервые напечатано посмертно въ 1857 г.,
вмѣстѣ съ другими частями, написанными въ 1851—1852 гг.).
Ясный.
Въ ней воздухъ свѣтелъ, небо ясно... (Благоденствіе
Россіи. 1797).
Нашъ вѣкъ, какъ ясный день, пройдетъ... (Стихи, со
чиненные въ день моего рожденья. 1803).
Другъ Феба, съ ясною душой... (Къ поэзіи. 1805).
Послѣдній памятникъ столь ясныхъ жизни лѣтъ... (Эльмина къ портрету матери своей... 1806).
Ясный ручей... (Пѣсня. 1808).
308
Присутствіе Бога, безсмертья награду... яснѣе постиг
нешь... Манящаго ясной улыбкой тебя... (Къ Нинѣ. 1808).
Въ душѣ ея, какъ утро, ясной... (На смерть семнадца
тилѣтней Эрминіи. 1808—09).
Въ ней душа — какъ ясный день.. (Свѣтлана. 1808—12).
Я это докажу яснѣе вамъ сравненьемъ... или вамъ яс
нѣй растолковать.. (Коловратно-курьезная сцена,.. 1811).
Но пламень сей лишь въ ясной душѣ неугасимъ... Кто
любитъ, готъ душой, какъ день весенній, ясенъ... (Къ Ба
тюшкову. 1812).
Токъ твоихъ преклонныхъ лѣтъ въ сей тишинѣ вели
чественъ и ясенъ... (Вождю побѣдителей. 1812).
Хорошо, что ваше письмо коротко, но то дурно, что
оно не ясно; почему и не могу я сказать вамъ: коротко да
ясно. (1812).
Сей взоръ пріятный, ясный... (Къ Ив. Ив. Дмитріеву..
1813).
Въ душѣ твоей непорочной, ясной... (Свѣтланѣ. 1813).
Тамъ зрится отдыхъ ясный... (Уединеніе 1814).
Богаты ясностью души... (Къ кн. Вяземскому и В. Л.
Пушкину. 1814).
Съ ясною твоею, другъ, душой, чтобъ ни случилось
здѣсь, все будетъ путь твой ясенъ... (Въ альбомъ бар. П .И.
Черкасову. 1814).
Молящій ясныхъ дней сынамъ... (Пѣвецъ въ Кремлѣ.
1814-16).
Чтобъ было ясно все на небѣ и въ стихахъ... (Къ кн.
Вяземскому. 1815).
Я вспомянулъ... о ясной тишинѣ... (Къ старцу Эверсу
1815).
Тамъ небеса и воды ясны.., (1816).
Одна лишь Кассандра (Д. Н. Блудовъ. П. С.) тихо и
ясно, какъ пень благородный съ своимъ протоколомъ, ушки
сжавши и рыльце поднявъ къ милосердному небу, въ крес
лахъ сидѣла. (Протоколъ двадцатаго арзамасскаго засѣданія.
1817. Здѣсь сочетаніе признаковъ „тихо“ и „ясно“ пріоб
рѣтаетъ уже значеніе какъ бы ходячей въ извѣстномъ
кружкѣ характерологической формулы - кли
ше и вмѣстѣ съ тѣмъ получаетъ ироническое, впро
чемъ, еще лишь добродушно-насмѣшливое примѣненіе.
И то, и другое свидѣтельствуетъ о той необычайной попу
лярности, которая, съ легкой руки Жуковскаго, досталась
309
этой формулѣ. Для всякаго „высокаго“ эпитета или оборота
всегда возникаетъ возможность или опасность такого пере
мѣщенія изъ „возвышенной“ тональнотти въ менѣе возвы
шенную, просто обыденную и даже пошловатую или прямо
смѣхотворную. См. ниже примѣры изъ Достоевскаго.
У Жуковскаго въ нашемъ случаѣ это перемѣщеніе лишь
слегка намѣчено, находится какъ бы въ зародышевомъ со
стояніи. П. С.).
Сіяло ль утро ясно... (Рыцарь Тогенбургъ. 1818).
Все для души... въ сихъ двухъ словахъ открылъ намъ
ясно онъ (Н. М. Карамзинъ), и тайну бытія... ( Въ альбомъ
Е. Н. Карамзиной. 1818).
Ты видишь день ея прекрасной, восходящій прелестію
ясной... И, вѣчно тихій, вѣчно ясный, не покидай (день) род
ныхъ небесъ... (Государынѣ Имп-цѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. 1819).
Какъ ясное предчувствіе... (Цвѣтъ заката. 1819).
Гдѣ воды свѣтло-ясны... (Къ мимопролетѣвшему знако
мому генію. 1819).
Было время — былъ день ясный... Улыбнулся, взоромъ
яснымъ подарилъ... (Жизнь. 1819).
Будь жизни ей утѣшный изъяснитель... (Праматерь вну
кѣ. 1819).
Отъ ясной младости... (Къ гр. Шуваловой. 1820).
Подъ небомъ яснымъ... И ясенъ посреди небесъ (мѣ
сяцъ)... Съ такой же ясною луной... У ясной младости... И
прежнихъ темныхъ, ясныхъ лѣтъ одинъ для нихъ примѣт
ный слѣдъ... (Подробный отчетъ о лунѣ. (1820).
На ясномъ утрѣ... (Къ кн. А. Ю. Оболенской. 1820).
Третьева дни довольно ясно я Санхѣ моему сказалъ...
(Письмо къ А. Г. Хомутовой. 1820).
Съ душой невинною и ясной... Разсудокъ ясный и на
дежный... Умомъ бы яснымъ и живымъ... (Къ кн. А. Ю. Обо
ленской. 1820).
И это все, что сердцу ясно, а выраженью неподвластно...
Сей ясный взоръ... (Василію Алексѣевичу Перовскому. 1820).
Въ день сухой и ясный... (Письмо къ А. Л. Наршкину.
1820).
И онъ намъ изъяснитель судьбы земныя былъ. (Про
щальная пѣснь воспитанницъ Института при выпускѣ. 1820).
Яснымъ почивали сномъ... (Пери и ангелъ. 1821).
Убѣдительно и ясно онъ съ душою говоритъ... (Лалла
Рукъ. 1821).
310
Съ своей улыбкой ясной... (Явленіе поэзіи въ видѣ
Лалла Рукъ. 1821).
Онъ озаренъ былъ яснымъ днемъ... При ясномъ днѣ...
(Шильонскій узникъ Байрона. 1821).
Ясное небо... (Море. 1822).
Гдѣ безъ зноя небо ясно... (Ангелъ и пѣвецъ. 1823).
Все что отъ милыхъ, темныхъ, ясныхъ, минувшихъ
дней я сохранилъ... („Я музу юную“... 1823).
(Покровъ) для небесъ лазурно-ясный... (Таинственный
посѣтитель. 1824).
Съ востока яснаго... (Мотылекъ и цвѣты. 1824).
Взоръ его былъ грустно-ясенъ... (Видѣніе. 1828).
Проясни омраченное сердце... (Утѣшеніе. 1823).
Къ озерамъ отечества яснымъ... (Покаяніе. 1831).
День былъ ясенъ и тепелъ... Вечеръ ясный... Теперь
прояснилась совѣсть моя... Какъ въ ясный полдень свѣтло...
(Двѣ были и еще одна. 1831).
Тамъ звѣзды ясной ночи... (Островъ. 1831).
Сердце будетъ ясно... (Пѣсня. 1831).
И Юнона, съ окомъ яснымъ... (Элевзинскій праздникъ
Шиллера. 1833).
Слава на небѣ ясному мѣсяцу... (Народныя пѣсни. IL
1834).
Тамъ ясны цѣлый годъ небесъ лазоревые своды... Спо'
койно-ясный умъ... (Поэту Ленепсу. 1839).
Такъ же ясно, какъ всходило (дневное свѣтило) въ
чудный день Бородина... (Бородинская годовщина. 1839).
Съ ея душою сходенъ ясной... (1-ое іюля 1842 г.).
Неизъяснимый.
Среди красотъ неизъяснимыхъ... (Герой. 1800).
Молчишь — мнѣ взоръ понятенъ твой, для всѣхъ дру
гихъ неизъяснимый... (Пѣсня. 1808).
За смыслъ неизъяснимыхъ словъ... (Въ Комитетъ, учре
жденный по случаю похоронъ павловской векши или бѣлки
отъ депутата Жуковскаго. 1820).
Ея душа полна была неизъяснимымъ ожиданьемъ... (Пер»
и ангелъ. 1821).
311
Неизъяснимый смертный часъ... (У гроба Государыни
Императрицы Маріи Ѳеодоровны. 1828).
9. А. С. ПУШКИНЪ (1799—1837).
Если читатель внимательно разсмотритъ приводимые
ниже примѣры изъ Пушкина, которые мы для его творче
ства и въ стихахъ, и въ прозѣ постарались представить съ
исчерпывающей полнотой82), то онъ увидитъ, что Пушкинъ
дѣйствительно и подлинно побѣдоносно продолжаетъ въ за
нимающемъ насъ отношеніи словесно-смысловую традицію
церковной книжности, Тредьяковскаго, Ломоносова, Держа
вина, Жуковскаго. Значеніе слова „тихій“ и близкихъ къ не
му реченій представляетъ у Пушкина какъ бы цѣлую гамму
отъ смысла, чисто психофизіологическаго (психомоторнаго:
тихонько, тихохонько), до смысла, утонченно душевнаго и тон
чайше духовнаго. Тоже—съ соотвѣтственными измѣненіями—
приложимо и къ слову „ясный“ съ его производными и
даже къ любимому пушкинскому реченію „неизъяснимый“.
Въ этой широтѣ Пушкинскаго словеснаго захвата, создаю
щей въ языкѣ этого генія мѣрной силы исключительное соеди
неніе разнообразія, или богатства съ мѣрностью и точностью,
или отчетливостью, изумительную слитность отвлеченной стро
гости съ яркой образностью и разительной выпуклостью,—пре
восходство Пушкинскаго слова надъ языкомъ всѣхъ его пред
шественниковъ, которымъ, какъ творцамъ и мастерамъ рус
скаго слова, онъ такъ много обязанъ. Пушкинъ почти такъ
же богатъ, какъ Державинъ, но онъ совсѣмъ не расточи
тель словъ, а мудрый ихъ стяжатель и хозяинъ. Пушкинъ
такъ же тонокъ, какъ Жуковскій, но онъ, въ отличіе
отъ женственнаго и мягкаго автора „Свѣтланы“ и „Людми
лы“ (она же „Ленора“), какъ творецъ-поэтъ, мужественъ и
крѣпокъ; онъ, пользуясь его же собственнымъ словомъ о
Жуковскомъ, въ поэзіи гораздо болѣе его — „силачъ
необычайный“: у Пушкина, говоря классическими сло
вами французскаго романтика, не только rêve flottant, но и
art robuste. (L’art — Теофиля Готье въ Émaux et Ca
mées).
Слово „тихій“ у Пушкина, когда оно не служитъ про
сто для внѣшней звуковой характеристики, носитъ почти
исключительно положительную душевную или духовную
t2) Я пользовался зарубежнымъ изданіемъ „Слова“, провѣряя и до
полняя его текстъ по другимъ изданіямъ. Въ послѣдній моментъ я исполь
зовалъ для стихотворныхъ текстовъ изданіе подъ редакціей М. А.
Цявловскаго (перв:,е два тома Полнаго Собранія Сочиненій, Москва.
1936).
312
окраску. „Дружбы тихій взглядъ“, „тихій дружбы свѣтъ“;
„вѣра тихая“; „и тихой ясною душой“; „тихій ангелъ утѣ
шенья, да будетъ ясенъ жребій твой“; „мудро и тихо“; „твоя
весна тиха, ясна“ — вотъ лищь нѣсколько показательныхъ
примѣровъ изъ нашихъ текстовъ. Такова же окраска и наибо
лѣе содержательныхъ эпитетовъ, сопровождающихъ у Пуш
кина существительное „тишина“. Какъ психологически тонко
и въ то же время выразительно употребленіе слова „тихій“
въ характеристикѣ образа замужней Татьяны, когда Онѣгинъ
„попалъ, какъ Чацкій, съ корабля на балъ“. „Все тихо, про
сто было въ ней“, „дѣвицы проходили тише передъ ней
по залѣ“. „Былъ также тихъ ея поклонъ“. А затѣмъ послѣ
полученія письма Онѣгина: „и тихо слезы льетъ рѣкой.....
и тихо, наконецъ, она: довольно; встаньте!“. Здѣсь именно
мѣрное повтореніе одного признака „тихо“, обнаруживаетъ
передъ нами величайшее словесное мастерство въ обрисо
вкѣ той „благородной стройности въ обращеніи“, о которой
поэтъ говоритъ въ одномъ прозаическомъ отрывкѣ 1829 г. и
которую тамъ же характеризуетъ также и эпитетомъ „тихая“.
Какая тонкая и въ то же время могущественная живопись,
въ которой сочетается острѣйшее физическое видѣніе
съ душевнымъ и духовнымъ проникновеніемъ, — въ изобра
женіи тѣіа убіеннаго царевича Дмитрія („Борисъ Годуновъ“)!
„Вокругъ него тринадцать тѣлъ лежало, растерзанныхъ на
родомъ, и „по нимъ ужъ тлѣніе примѣтно проступало, но
дѣтскій ликъ Царевича былъ ясенъ, и свѣжъ, и тихъ,
какъ будто усыпленный“. Здѣсь эти два маленькихъ слова
„ясенъ“ и „тихъ“ дѣлаютъ насъ участниками нѣкаго подлин
наго ясновидѣнія и плоти, и духа. Здѣсь видѣніе доходитъ
до осязанія и осязаніе возвышается до видѣнія, какъ о томъ
въ гораздо менѣе духовномъ, скорѣе чисто чувственномъ,
смыслѣ говоритъ Гете въ знаменитой пятой „Римской эле
гіи“: sehe mit fühlendem Äug’, fühle mit sehender Hand
ТИХІЙ. 3S)
А. ПРОИЗВЕДЕНІЯ ВЪ СТИХАХЪ.
1812 (1814—1816?)
Подъ сѣнью потаенной дубравной тишины. (Пѣсня).
1813.
Ужъ въ городахъ утихъ вседневный шумъ.. Тебя за
край тихонько поднимаетъ... (Монахъ).
3 ) Всего у насъ приведено 537 случаевъ.
313
1814.
Тишина окрестъ жилища нѣжной Кольны. (Кольна).
Здѣсь тихій гласъ пѣвцамъ передавала... Задумчивый
пѣвецъ взоръ тихій обратилъ... И тихо за порогъ выходитъ
онъ въ молчаньи... Побѣгли вспять враги — и тихій миръ
герою. И тихо все вокругъ могильнаго холма. (Осгаръ).
Колеблясь тихимъ вѣтеркомъ... Тихо дышитъ снѣжна
грудь... Тише струйки говорливы... Все въ прелестной ти
шинѣ... Открыла тихій взоръ... (Леда).
Въ темну сѣнь прохладной рощи, сладко спящей въ ти
шинѣ... Звукъ исчезъ свирѣли тихой; смолкъ пѣвецъ — и
тишина воцарилась въ рощѣ дикой... Тихо вѣющій зефиръ...
(Блаженство).
Все тихо, все въ покоѣ... Гитары тихимъ звономъ...
(Пирующіе студенты).
Все было тихо... Дѣтства тихихъ дней... Тихо положила
младенца на порогъ чужой... (Романсъ).
Съ угрюмой тишиной... Все тихо въ мрачной кельѣ...
(Къ сестрѣ).
Проводитъ тихій вѣкъ безъ горя, безъ заботы... (Къ
другу-стихотворцу).
И тихимъ шопотомъ любви... Волшебной внемля тиши
нѣ... Клитъ былъ добрый человѣкъ, тихонько проводилъ
свой вѣкъ, своимъ домкомъ тихонько правилъ... (Къ Ба
тюшкову).
Надежну пристань тишины... Укромной хаты въ тиши
нѣ .. (Къ Н. Г. Ломоносову).
Скоро... старостью согнуты, будемъ тихо мы бродить.
(Къ Наташѣ. Первая редакція).
И въ тишинѣ святой... И тихо забываясь... И тихо дрем
лютъ рощи .. И я въ тиши ночной... Тихонько постѵчись и
въ тишинѣ прелестной съ любимцемъ обнимись... Надъ ти
хою рѣкой... (Городокъ).
Въ безмолвной тишинѣ .. Тихая луна... Тамъ въ тихомъ
озерѣ.. (Россія), цвѣтя подъ кровомъ тишины... И въ тихомъ
восхищеньи духъ... (Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ).
1815.
Ѣхалъ тихо надъ рѣкою удалой казакъ... Конь тихонько
къ лѣву, къ лѣву .. (Казакъ).
Въ отрадной тишинѣ... (Воспоминаніе. Пущину).
314
Вечерней тишиной... Подъ сѣнью тихихъ крылъ... Онъ
любитъ тишину... (Къ Галичу).
На тихій берегъ водъ забвенья... До тихаго лучей раз
свѣта... На тихій праздникъ погребенья... (Мое завѣщаніе).
Отрадой тихою, восторгомъ упивался... (К. П. Бакуниной).
И пошла тихонько въ дѣвичью... И тихохонько про
молвила... Воздыхая тихо, Зоинька... (Бова).
Вечерняя тихо потухла заря... (Сраженный рыцарь).
Надъ мрачной Эльбою носилась тишина. Сквозь тучи
блѣдныя тихонько пробѣгала туманная луна... И спящихъ
водъ прорвется тишина... И тихо все кругомъ... Простерлась
тишина надъ бездною сѣдою... (Наполеонъ на Эльбѣ).
Въ тишинѣ глубокой... Какая тихая погода!.. (Тѣнь Фон
визина).
Утихла брань племенъ... Я тихо расцвѣталъ безпечный,
безмятежный .. Вселенну осѣни желанной тишиной... (На воз
вращеніе Государя Императора изъ Парижа въ 1815 г.)
И тихій гласъ простой свирѣли... И вѣкъ мой тихъ, какъ
ясный день... Вошли, прервали тишину... Съ дыханьемъ ти
химъ вѣтерка... Вечерней тихою порой... Все тихо... Подъ
тихо спящею волной... Въ отрадной музамъ тишинѣ... (Къ
Юдину).
Пастушку несчастну съ сучка тихо снялъ.. (Вишня,
принадлежность Пушкину сомнительна).
И въ рощѣ тихой... (Вода и вино).
На воды пала тишина... И тихъ полетъ полнощи... И
тихій, тихій льется гласъ... Въ тихій часъ... Прелестна сердцу
тишина... И тихъ мой будетъ поздній часъ... (Мечтатель).
Дремлетъ въ сладкой тишинѣ... (Гробъ Анакреона).
1816.
Лишь волнъ мятежный ропотъ разносится въ тиши
ночной... Его настигнетъ тишина... (Наѣздники).
Утихло все... (Къ принцу Оранскому).
Хранители священной тишины... (Осеннее утро).
Дружбы тихій взглядъ... (Разлука).
Тихонько вѣрный ключъ отворитъ дверь его прекрас
ной... („Счастливъ, кто въ страсти ..“).
И тихо тмится небосводъ... (Окно).
Стихи любви тихонько воздыхайте... Родится жаръ, и
тихо стынетъ онъ... („Любовь одна“...).
31&
Гдѣ вѣра тихая меня не утѣшала... И тихій духъ ум
ретъ въ изнеможеньи... (Подражаніе).
Я видѣлъ смерть; она сидѣла у тихаго порога моего....
(другая редакція того же стихотворенія).
Тихій взоръ... Тихій гласъ... (Пѣвецъ).
Въ невѣрной тишинѣ... („Я думалъ, что любовь...“).
Тихій сонъ... И тихою тоскою... И тихая денница румя
нитъ небеса... И страсти тихимъ стономъ прервалась тиши
на... Ты плачешь въ тишинѣ... (Фавнъ и пастушки).
Качая тихо головою... Его (усъ) тихонько обвернешь...
(Усы).
Близъ тихихъ водъ... (Слово милой).
Скажи, что такъ утихнулъ? (Фіалъ Анакреона).
Мой голосъ тихъ... И научу, какъ должно въ тишинѣ
покоиться въ пріятномъ, крѣпкомъ снѣ... Все тихо здѣсь...
Въ ночной тиши... Долины тишина... Въ тиши полей... Ти
ною рукою... При позднемъ, тихомъ свѣтѣ... Все тихо вкругъ...
И тихо, наконецъ, томленье сна на очи упадало... Но сонъ
мой тихъ... Въ ночной тиши... (Сонъ).
И тихо въ скромной тьмѣ для нѣги пробужденья близъ
милой засыпать... (Къ ней).
Тихій вѣтерочекъ... (Къ Дельвигу).
Дай Богъ, чтобы во всей вселеннной воскресли миръ и
тишина... (Изъ письма В. Л. Пушкину).
Потише, господа! (Ноэль на лейбъ-гусарскій полкъ).
Въ безмолвной тишинѣ ночной... (Къ сну. Первая ре
дакція).
1817.
Въ тишинѣ семьи... Ты ночь могильную ей тихо освѣ
щаешь... Лишь вѣра въ тишинѣ отрадою своей живитъ уны
лый духъ... Надежды тихаго не внемлетъ онъ привѣта... Ве
черней тишиной... Все тихо... Съ досадой тихому внимаетъ
онъ моленью... Въ смиренной тишинѣ... (Безвѣріе).
Слышу я твой тихій стонъ... Тихой ночью громъ не
грянетъ... (Къ молодой вдовѣ).
Брожу ль надъ тихими водами... Объ немъ тихонько
пожалѣвъ... (Моему Аристарху).
Въ тиши парнасской сѣни... Въ тихой Летѣ онъ пото
нетъ молчаливо... (Къ Жуковскому).
316
Лишь благосклонный мракъ раскинетъ надъ нами ти
хій свой покровъ... Въ счастливой тишинѣ природы... (Пись
мо къ Лидѣ).
И съ тихими тоски слезами ты вспомни первую лю
бовь... (Въ альбомъ Ив. Ив. Пущину).
Въ тиши уединенья... И дни твои полетомъ сновидѣнья
да пролетятъ въ счастливой тишинѣ... (Разлука).
Подъ сѣнью тишины... На лирѣ счастливой я тихо во
спѣвалъ... (Къ ней).
У тихихъ алтарей любви... (Фрагментъ).
Русланъ и Людмила (1817—1820).
Въ грозной тишинѣ... И снова теремъ пусгъ и тихъ...
Одинъ въ пустынной тишинѣ... Тихій край отцовъ... И тиха
го полета ночи въ глубокой думѣ не слыхалъ... Обѣдалъ въ
мирной тишинѣ... Все тихо въ полѣ... Ступай тихохонько на
задъ... Угрюмыхъ горъ вершины... дремлютъ въ вѣчной ти
шинѣ... И въ тишинѣ изъ-за вѣтвей незрима арфа заиграла...
Попрежнему все тихо стало... И тихо на холмахъ почила
(мгла)... И тихо притворили дверь... Шепчетъ тишина... Бро
дя близъ тихихъ береговъ... Ничто безмолвной тишины пу
стыни сей не возмущаетъ, и солнце съ ясной вышины до
лину смерти озаряетъ... Тихій гробъ Руслановъ... И тихо
мечъ онъ опускаетъ... Въ глубокой тишинѣ... И почивайте
въ тишинѣ... И сердцемъ тронутымъ любили ихъ тихій сонъ,
ихъ тихій плѣнъ... Тихонько проѣзжалъ... И дѣвы пѣснь едва
слышна долины въ тишинѣ глубокой... Въ глубокой тиши
нѣ... Сіяетъ тихій небосклонъ. Все ясно... Русалки, тихо на
вѣтвяхъ качаясь... Сидѣла тихо близъ окна... Небесный громъ
на злобу грянетъ, и воцарится тишина... И тихо съ ношей
драгоцѣнной онъ оставляетъ вышину... Какъ часто тихое ли
цо мгновенной розою пылаетъ... И тамъ, казалось, тишина
съ начала міра воцарилась... Все было тихо, безмятежно...
Надъ тихоструйною рѣкой.. Тихій взоръ очей .. Долина ти
хая дремала... Изъ тихой бездны вылетаетъ... Долина въ
мертвой тишинѣ... Тихонько обн іжаегъ мечъ... Съ Людмилой,
тихо усыпленной... Кругомъ все тихо, вѣтры спятъ... На стог
нахъ тишина боязни... На лонѣ праздной тишины... Богиня
тихихъ пѣснопѣній...
1818.
Тихій дружбы свѣтъ... („И я слыхалъ“...)
И тихо улыбнемся оба...г(Въ альбомъМ. А.Щербинину)И тихимъ сладостнымъ укоромъ... (Прелестницѣ).
И въ сердцѣ тихое уныніе таить... (Мечтателю).
317
1819.
И красный мѣсяцъ въ облакахъ тихонько по небу ка
тился... (Русалка).
Любви, надежды, тихой славы не долго нѣжилъ насъ
обманъ... (Къ Чаадаеву; въ первоначальной редакціи: гордой
славы).
На тишину полей... (Деревня).
Къ тихой Летѣ убѣгутъ... (Н. И. Кривцову).
И гонитъ тихою рукой... (Платоническая любовь).
Тихонько плачетъ подъ окномъ... (Н. В. Всеволожскому).
Близъ ложа тихаго любви (Фрагментъ).
На тихій скатъ холмовъ... И въ тихомъ (озерѣ)... Я —
скромно возлюбилъ природы тишину... (Царское Село).
1820.
Дубравы, гдѣ въ тиши свободы... (***).
И тихой, ясною душою... (Элегія. „Увы! — зачѣмъ она
блистаетъ“...).
Но въ сердцѣ, бурями смиренномъ, теперь и лѣнь и
тишина... (Чаадаеву).
Минуты умиленья, младыхъ надеждъ, сердечной тиши
ны.., („Мнѣ васъ не жаль...“).
1821.
И дикій геній вдохновенья таится въ тишинѣ глухой...
Текутъ бесѣды въ тишинѣ... Къ его устамъ кумысъ прохлад
ный подноситъ тихою рукой... Простите, вольныя станицы,
и домъ огцовъ, и тихій Донъ... Черкесъ не крался въ ти
шинѣ ночной... Снѣдая слезы въ тишинѣ... И плѣнникъ, ти
хою рукою поднявъ несчастную... Утихъ аулъ... Сошли ко
брегу въ тишинѣ... Курганы, тихія гробницы... Вкушаешь
праздный ты покой и тишину домашнихъ доловъ... (Кавказ
скій плѣнникъ).
Затихло все... И согласились въ тишинѣ исполнить дав
нее желанье... (Братья-разбойники).
Печальные стихи твердила въ тишинѣ... (Элегія. Къ М.
А. Голицыной).
Все тихо... (Изъ неоконченной сатиры).
Гдѣ миртъ шумитъ надъ тихой урной... Утихнутъ ли
волненья жизни бурной... (Желаніе).
•318
На лонѣ тихихъ водъ... (Примѣты).
Зефиръ скользитъ и тихо вѣетъ... А я въ надежной ти
шинѣ... (Земля и море).
Въ вечерней тишинѣ... И ты его тихонько посѣтила...
(„Наперсница волшебной старины“...).
Поэта тихій домъ... (Къ моей чернильницѣ).
Для сердца новую вкушаю тишину.,. Позналъ и тихій
трудъ... (Чаадаеву).
Твой тихій умъ... (Къ ***).
Близъ тихихъ береговъ... (Овидію).
Другой богиней, тихой дружбой я славы замѣнилъ ку
миръ... (Бар. А. А. Дельвигу).
Тихонько молвить слово... Въ объятіяхъ лѣнивой тиши
ны... Все тихо... Въ своемъ углу Марія въ тишинѣ... Она зо
ветъ тихонько... Время сѣдиною мою главу тишкомъ посе
ребритъ.. (Гавриліада).
Народы тишины хотятъ... (В. Л. Давыдову).
(Повсюду) сонъ и тишина.,. И раздается въ тишинѣ...
(Отрывокъ).
1822.
Все было тихо во дворцѣ... Жены робкія Гирея... цвѣ
тутъ въ унылой тишинѣ... И тихій вздохъ, и ропотъ томный...
Ступая тихо по коврамъ... Въ тишинѣ гарема.. Все въ ней
плѣняло: тихій нравъ... Въ тишинѣ души своей... Въ неволѣ
тихой увядая... Тамъ упованье въ тишинѣ съ смиренной вѣ
рой обитаетъ... Подъ тихой лавровъ сѣнью... Въ тиши гаре
мовъ безопасныхъ... все полно тайнъ и тишины... Прервали
дѣвы тихій стонъ... Я въ безмятежной тишинѣ въ тѣни га
рема расцвѣтала... Кругомъ все тихо, все уныло... (Бахчиса
райскій фонтанъ).
Его тихонько увлекаетъ къ заливу свѣтлая рѣка... Все
тихо... (Вадимъ).
Страсти мои утихаютъ, тишина царитъ въ душѣ моей...
Въ душѣ утихло мрачныхъ думъ однообразное волненье...
(Таврида).
На тихихъ берегахъ Москвы... (Отрывокъ).
Твоя весна тиха, ясна... (Адели).
И тихо, и грустно въ темницѣ... (Узникъ. Варіантъ).
319
Евгеній Онѣгинъ (1822—1831).
Давать уроки въ тишинѣ... Все было тихо... Журчанье
тихаго ручья... Я былъ рожденъ... для деревенской тишины...
Провелъ... въ тиши мои счастливѣйшіе дни... Въ лоно тиши
ны... Когда прибѣгнемъ мы подъ знамя — благоразумной ти
шины... Онъ... полюбилъ... уединенье, тишину... И тихо край
земли свѣтлѣетъ... Въ праздной тишинѣ... Татьяна въ тиши
нѣ лѣсовъ... Все тихо... Ты говорилъ со мной въ тиши...
Приникнулъ тихо къ изголовью... Дверь тихонько отпирая...
Пошли тихонько внука... Чтобъ трепетъ сердца въ ней за
тихъ... Внимая въ шумѣ и въ тиши... Но тише... Уединенье,
тишина... Иль тихій раздѣлить досугъ... Свѣтилъ небесныхъ
дивный хоръ течетъ такъ тихо, такъ согласно... Тихонько
приказала... Утихло все... Онѣгинъ тихо Татьяну увлекаетъ
въ уголъ... Она два слова сквозь зубы молвила тишкомъ...
Тихонько Ленскій задремалъ... Они другъ другу въ тишинѣ
готовятъ гибель хладнокровно... Два врага, походкой твердой,
тихо, ровно четыре перешли шага... Свой пистолетъ тогда
Евгеній сталъ первый тихо подымать... На грудь кладетъ
тихонько руку и падаетъ... Все въ немъ и тихо, и темно... И
тихо цѣлить въ блѣдный лобъ... Среди тревогъ и въ тиши
нѣ... На лонѣ сельской тишины... Воды струились тихо.., Мѣ
няю милый, тихій свѣтъ на шумъ блистательныхъ суетъ...
Гдѣ Талія тихонько дремлетъ... Близъ водъ, сіявшихъ въ ти
шинѣ... Вотъ сѣла тихо и глядитъ... Все тихо, просто было
въ ней (Татьянѣ)... Дѣвицы проходили тише передъ ней (Тать
яной)... Былъ такъ же тихъ ея (Татьяны) поклонъ.,. И тихо
слезы льетъ рѣкой (Татьяна)... И тихо, наконецъ, она (Тать
яна)...
Предъ ней я таялъ въ тишинѣ... и тихо руку протя
нула... Близъ водъ текущихъ въ тишинѣ... (Строфы, не во
шедшія въ „Евгеній Онѣгинъ“).
Мятежный колоколъ утихъ... Тихо спитъ Одесса... Мы
разсмѣялися тишкомъ... (Путешествіе Онѣгина, 1827—1830).
Порой одно воспоминанье... грызетъ мнѣ сердце въ ти
шинѣ. (Альбомъ Онѣгина).
1823.
И міру тихую неволю въ даръ несли... И нѣкій духъ
повѣялъ невидимо, повѣялъ и затихъ... („Недвижный стражъ
Дремалъ..,“).
Давно ли тишины вкусилъ отрадный мигъ?.. („Завидую
тебѣ“...).
1824.
Въ тишинѣ степной... Тихій таборъ... Старикъ тихонько
320
бродитъ... Въ шатрѣ и тихо, и темно... Какъ ласкала его я
въ ночной тишинѣ... Все тихо... (дважды!). Въ пустынной ти
шинѣ... (Цыганы).
Бродилъ я тихій и туманный... И тишину въ вечерній
часъ... (Къ морю).
Блюститель тишины... (Первое посланіе къ цензору).
И тихо зыблется тростникъ... (Аквилонъ).
Иль шопотъ рѣчки тихоструйной... Таилъ я слезы въ
тишинѣ... (Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ).
Подъ сладкой тѣнью тишины... (Подражанія Корану. II)
Ты — тихій ангелъ утѣшенья, да будетъ ясенъ жребій
твой... (Младенцу).
Гдѣ дни мои прошли въ тиши... („Презрѣвъ и шопо
томъ укоризны“...).
Но въ тихіе часы томительной разлуки... („Пускай увѣн
чанный любовью красоты...“).
1825.
Въ тихій часъ досуга... (Изъ Аріостова Orlando Furioso).
И ею (дракой) тихо занялась... Тихонько графу руку
жметъ... Дверь тихо-тихо уступаетъ... (Графъ Нулинъ).
Въ глухой тюрьмѣ тихонько бъ задавили... Мой старый
сонъ не тихъ и не безгрѣшенъ... И въ тихую обитель затво
риться... Задумчивъ, тихъ сидѣлъ межъ нами Грозный... И
тихо онъ бесѣду съ нами велъ... Но дѣтскій ликъ царевича
былъ ясенъ, и свѣжъ и тихъ, какъ будто усыпленный... Уе
диненъ и тихъ (Курбскій)... Все тихо тамъ теперь... Подъ
сѣнью тихой ночи... Ты тихо ждешь... Я тихую молитву со
творилъ... Все, слава Богу, тихо... (Борисъ Годуновъ).
Оплачьте, милые, мой жребій въ тишинѣ... Мнѣ вѣрному
любви, стихамъ и тишинѣ... Лампады тихій свѣтъ... (Андрей
Шенье).
Онъ тихо спитъ... Ты геній свой воспитывалъ въ тиши...
(19 Октября 1825 г.)
Какъ синица тихо за моремъ жила... (Зимній вечеръ).
И руку на главу мнѣ тихо положивъ... Гласу вѣрному
внимая въ тишинѣ... (Желаніе славы).
Дѣва... приближалась въ тишинѣ... (Съ португальскаго
Gonzago).
И сельской музѣ въ тишинѣ душой безпечной преда
ваться... (П. А. Осиповой).
321
И тише звукъ похвалъ твой слухъ обворожаетъ... („Я
былъ свидѣтелемъ“,..).
Тянулись тихо дни мои... (А. П. Кернъ).
Подъ бурями и въ тишинѣ... (Фрагментъ Кюхельбекеру).
Въ тишинѣ (небесъ)... Тихій вѣтерокъ... Все тихо—тамъ...
(Фрагменты).
1826.
Одинъ въ тиши пустыхъ полей... (Къ ***).
Изъ тихихъ волнъ... („Какъ счастливъ я“...).
1827.
Конь не тихъ... Потихоньку вороного сѣдлаетъ... (До
мовой).
Утихъ и шумъ, и крикъ торговый... („Какая ночь! Мо
розъ трескучій...“).
Гдѣ море теплою волной вокругъ развалинъ тихо пле
щетъ../(„Кто знаетъ край“...).
Въ эфирной тишинѣ небесъ... (Е. Н. Карамзиной),
И тихой музы полнъ... („Близъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ
Венеція златая“...)
Тихо по рощѣ густой онъ (ручей) віется... („Въ рощахъ
карійскихъ“...).
1828.
Зачѣмъ такъ тихо за столомъ она лишь гетману вни
мала?.. Давно въ глубокой тишинѣ уже доносъ онъ грозный
копитъ... Въ тиши ночной... Своими тихими рѣчами въ тебѣ
онъ совѣсть усыпилъ... Въ страшной тишинѣ, въ ту ночь,
какъ стала я твоею... Тиха украинская ночь... (дважды). И
тихо, тихо все кругомъ... Мазепа тихій и угрюмый... На ти
хомъ ложѣ какъ сладокъ юности покой... Мазепа... тихо про
бираясь... И тополи... качая тихо головой... Въ грозной ти
шинѣ... Съ нимъ Искра тихій, равнодушный... Свѣтлица ти
хая пуста... Затихнувъ, челядь трепетала... Онъ (Карлъ) въ
луму тихо погрузился... И въ тишинѣ ведутъ бесѣду... Ти
хонько кто-то наклонился... И мнѣ тихонько показала сѣдую
голову... (Полтава).
Для меня влачатся въ тишинѣ часы томительнаго бдѣнья...
И тихо предо мною встаютъ два призрака... (Воспоминаніе).
Снова тучи надо мною собралися въ тишинѣ... Тихо
молви мнѣ: прости... (Предчувствіе).
21
322
Въ тихой рощѣ Геликона... („Риѳма—звонкая подруга“...).
Въ тиши полей... (Цвѣтокъ1.
1829.
Тихіе волы... Ты въ горло сталь ему воткнулъ и трижды
тихо повернулъ? (Галубъ).
Мечтанью вѣчному въ тиши такъ предаемся мы, поэты...
(Примѣты. А. А. Олениной).
На устахъ начатый стихъ недочитанный затихъ... Тамъ,
гдѣ тихо развивался я давнишнею порой.. („Зорю бьютъ“...).
Рѣки знаютъ тихій Донъ... (Донъ).
Утихла ли метель... („Зима. Что дѣлать намъ въ де
ревнѣ?“)
Въ тишинѣ, на руль склонясь... (Аріонъ).
Отъ вашихъ жертвъ и тихихъ возліяній... Тамъ миръ и
тишина... („Еще одной высокой важной пѣсни...“).
Но въ день печали, въ тишинѣ произнеси его тоскуя...
(Въ альбомъ).
Изнывая въ тишинѣ... (Изъ альбома Е. Н. Ушаковой).
Тихо слезы лья рѣкой... („Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣд
ный...“).
Но тише Терекъ злой стремится... (Фрагментъ).
1830.
И въ тишинѣ рисуется ему мечта... (Медокъ).
Я сталъ творить, но въ тишинѣ... (Моцартъ и Сальери).
А голосъ у ней былъ тихъ и слабъ... Какъ небо тихо.
Я только что пріѣхалъ и то тихонько... Склонившись тихо...
(Каменный Гость).
Тихо все... Вы... ругаетесь надъ мрачной тишиной... Сму
щаютъ тишину гробовъ... (Пиръ во время чумы).
Благосклонствуешь ты музамъ въ тишинѣ... (Къ вель
можѣ).
Въ часъ вечерней тишины... Позабылъ для сельской
нѣги и домашней тишины... (Цыганы).
Но мнѣ она (осень) мила... красою тихой... И въ слад
кой тишинѣ я сладко усыпленъ... (Осень).
Пустѣютъ тихія могилы... (Заклинаніе).
Тихо заперъ я двери... („Пью за здравіе Мери“...).
323
Ночь надъ мирною Коломной тиха отмѣнно... Но она
молилась Богу тихо и прилежно... Сонъ ее клонилъ ти
хонько... Параша тихо къ ней вошла... (Домикъ въ Коломнѣ).
1831.
Дверь тихонько заскрипѣла... Чтсжъ ты тихъ, какъ
день ненастный? (трижды). Усмѣхнувшись исподтиха... (Сказка
о царѣ Салтанѣ).
И тихъ твоей могилы бранной невозмутимый, вѣчный
сонъ... (Къ тѣни полководца).
Но тише, тише раздавайся... (Бородинская годовщина).
И въ тишинѣ благословлять ее... („Нѣтъ, нѣтъ не дол
женъ я“...).
1832.
Въ тишинѣ стоитъ, бѣлѣясь, Ветилуя... (Юдиѳь).
Дѣло обошлось довольно тихо... (Русалка).
Въ жизни много тихихъ дней... (Въ альбомъ).
Пѣсни западныхъ Славянъ (1832-33).
Все внезапно утихло, померкло... (I). И тихонько сталъ
читать молитву... (II). И опять сталъ тихонько молиться (II).
1833.
Но царевна молодая, тихомолкомъ расцвѣтая... И ти
хонько улеглась... Тихо молвила она... Потихоньку удали
лась... Дверь тихонько заперла... Потихоньку прокусила и
кусочекъ проглотила... И тиха недвижна стала... Такъ тиха,
свѣжа лежала... Тамъ за рѣчкой тихоструйной... (Сказка о
мертвой царевнѣ и семи богатыряхъ).
Кумушка моя съ печи тихохонько спрыгнула... (Гусаръ).
Тихонько сталъ водить очами... Лицо тихонько обра
щалось... (Мѣдный Всадникъ).
Онъ тихо ей сказалъ .. Сказалъ онъ тихо ей... Въ по
лунощной тиши... Онъ тихо въ дверь вошелъ... Марьяна...
тихо плакала... (Анджело).
Но слава гостю, который за чашей бесѣдуетъ мудро и
тихо. (Изъ Ксенофана Колофонскаго).
Я здѣсь остался бъ — наслажденье вкушать въ невѣ
домой тиши... (Олениной).
Подъ конецъ ихъ жизни тихой... (Черновой набросокъ).
324
1835.
И никнутъ въ тишинѣ... (Полководецъ).
Тихія слезы лія... („Юношу, горько рыдая“...)
И дней моихъ потокъ... теперь утихъ дремотою минут
ной... И тихо грудь ея дышала.— (Черновые наброски).
Усталое мнѣ сердце ободряли отрадой тихой... („Вновь
я посѣтилъ“... — черновая редакція).
1836.
Въ вечерней тишинѣ... („Когда за городомъ“...)
Онъ (разгульный праздникъ нашъ) присмирѣлъ, утихъ,
остепенился... (19 Октября 1836 г.).
Б. ПРОЗА.
1827.
Провожали ихъ тихонько до порогу... И въ его домѣ
всо стало тихо и печально... (Арапъ Петра Великаго).
1829.
Эта тихая, благородная стройность въ обращеніи —
главная прелесть высшаго петербургскаго общества... (От
рывки изъ романа въ письмахъ).
Вечерній воздухъ былъ тихъ и тепелъ... Тихое, потаен
ное сокровище... Луна сіяла; все было тихо... Сраженіе
утихло... Разговаривая о тишинѣ мусульманскаго города...
(Путешествіе въ Арзрумъ. 1829—35).
1830.
Хотя я нрава отъ природы тихаго... Каждый день ти
хонько ходилъ я въ театръ... (Исторія села Горюхина).
Тихонько взялъ рукопись изъ шкатулки Мандарина... (Ки
тайскій анекдотъ. Замѣтка).
Потемкинъ... босой прошелъ въ переднюю тихонько,
чтобы не разбудить молодого офицера. (Анекдоты. 1830 ■—
1836).
Сказалъ онъ тихо... Я не преставалъ тихонько возды
хать... (Выстрѣлъ).
Тихую дѣвическую жизнь... Онъ казался нрава тихаго и
скромнаго... Отвѣчалъ онъ ей тихо... (Метель).
325
При ней утихаетъ... (Станціонный смотритель).
Лиза тихонько нарядилась крестьянкой... Лиза пошла
тише... Веселость ея притихла... (Барышня-крестьянка).
1831.
Въ теченіе тихой семейственной жизни... (Рославлевъ).
(Дѣвушка) тихо вошла въ комнату... (Отрывокъ ***).
Уже онъ не отвергаетъ отчаянно утѣшеній религіи, но
только тихо сомнѣвается... (Замѣтка о стихотвореніяхъ Де
лорма и Сентъ-Бева).
1832.
Тихое теченіе ручья... Оба тихо сошли съ крыльца...
Тише — прервалъ Дубровскій. Выслать тихонько въ другое
помѣстье... Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо...
Тихій шорохъ пробѣгалъ по всему саду... Онъ тихо обнялъ
стройный ея станъ и тихо привлекъ ее къ своему сердцу...
Она тихонько вручила письмо князю Верейскому... (Дубров
скій).
Передъ утромъ онъ утихъ... (Марья Шонингъ).
1833.
О, пусть эти очи, тихія, какъ у газели, то ясно смѣлыя,
то прекрасно стыдливыя... (Переводъ изъ посвященія „Child
Harold“ Байрона).
1834.
Отвѣчала тихо барышня... Очень тихо-съ. (про погоду).
Оставя тихонько скучную и пышную гостинную... Ска
залъ онъ внятнымъ и тихимъ голосомъ... (Пиковая Дама).
Мой тихій образъ жизни... (Мысли на дорогѣ).
Вечеромъ огонь утихъ... Мало-по-малу смятеніе утихло...
Тихо подвигаясь... (Исторія Пугачевскаго бунта).
1835.
Ваше тихое одобреніе... Эти слова были произнесены
тихимъ голосомъ, но въ залѣ царствовала такая тишина, что
всѣ ихъ услышали... Пиръ утихъ... (Египетскія ночи).
1836.
Убаюканный пѣніемъ бури и качкою тихой ѣзды... Я
326
тихонько подхожу къ постели... Все было уже тихо... Тихо
разговаривали между собой... Тихій и скромный молодой че
ловѣкъ... Погода была тихая... Сказалъ ему тихо нѣсколько
словъ... Тихо взявъ меня за руку... (Капитанская дочка).
Письма.34)
..уединенье въ самомъ дѣлѣ вещь очень глупая, на зло
всѣмъ философамъ и поэтамъ, которые притворяются будто
бы живали въ деревняхъ и влюблены въ безмолвіе и тиши
ну... (Кн. П. А. Вяземскому. 27. III. 1816).
Предпріими постоянный трудъ, пиши въ тишинѣ само
властія, образуй нашъ метафизическій языкъ, зарожденный
въ твоихъ письмахъ... (Кн. П. А. Вяземскому. I. IX. 1822).
Гнѣдичъ въ тишинѣ кабинета совершаетъ свой под
вигъ... (А. А. Бестужеву. Начало іюня 1825).
Сіи безымянныя хроники, вдохновенныя въ тишинѣ35)
монастырей, безмятежной Инокамъ... (Н. Н. Раевскому. Мартъ
—апрѣль 1827. Черновое).
Мать принесла имъ изюму и черносливу и думала ти
хонько отъ нихъ убраться. (Барону А. А. Дельвину. Сере
дина ноября 1828).
Въ Парижѣ тихо. (Кн. П. А. Вяземскому. 1813. I. 1831).
Я ждалъ отъ тебя грозы, ибо по моему расчету прежде
воскресенія ты письма отъ меня не получила; а ты такъ ти
ха, такъ снисходительна, такъ забавна, что чудо. (Н. Н. Пуш
киной. Между 28 и 30. IX. 1832).
Ясный 36).
А. ПОЭЗІЯ.
1814.
Потемнѣютъ взоры ясны... (Опытность).
Будешь такъ же чистъ и ясенъ.,. (Блаженство).
S4J Цитаты изъ писемъ Пушкина приведены по изданію Пушкинскаго'
Дома подъ редакціей и съ примѣчаніями Б. Л. М о д з а ;і е в с к а г о.
Томъ I. 1815—1825 (1926). томъ 11 - 1826-1830 (1928), т. III 1831-1833
(1935'. Соотвѣтственно этому, цитаты изъ писемъ не могутъ считаться исчер
пывающими текстовой матеріала.
’в) Передѣлано изъ „вліянія тишины“.
с к а г о.
s6) Всего у насъ приведено 152 случая.
Примѣчаніе
Модзалев-
327
Какъ ясный вешній день... (Къ сестрѣ).
Подъ яснымъ небосклономъ... (Городокъ).
1815.
Потупила очи ясныя... (Бова).
И вѣкъ мой тихъ, какъ ясный день... Въ невинной ясно"
сти сердечной... (Къ Юдину).
Уже сокрылся ясный день... (Тѣнь Фонвизина).
1816.
Въ вечеръ ясный... (Осеннее утро).
Вѣкъ свободный и прекрасный, какъ вѣкъ весны про
мчался ясной. („Я думалъ, что любовь“...).
Ужель лишь мнѣ не вѣдать ясныхъ дней... (Къ кн. А. М.
Горчакову).
Улетаютъ ясны дни... (Къ Наташѣ).
Русланъ и Людмила (1817—20).
И тридцать витязей прекрасныхъ чредой изъ водъ вы
ходятъ ясныхъ... Ясный видъ, спокойный взоръ... Ясны очи
дремотой легкой не смыкалъ... И солнце съ ясной вышины
долину смерти озаряетъ... Вдругъ холмъ... яснѣетъ... Все
ясно... На ясный день очами жадными взираетъ... На отума
ненномъ востокѣ яснѣли холмы и лѣса... Какой-то сонъ ее
томилъ мечтой неясной...
1818.
Восторгомъ пламеннымъ и яснымъ... (Жуковскому).
1819.
Твои неясныя мечты... (Платоническая любовь).
1820.
И тихой, ясною душою страдальца душу услаждать...
(„Увы! — зачѣмъ она блистаетъ“...).
Души неясный идеалъ... (Фонтану Бахчисарайскаго
Дворца).
Надъ ясной влагою... (Нереида).
328
1821.
Съ неясной рѣчію сливаетъ очей и знаковъ разговоръ..,
Брега яснѣли... (Кавказскій плѣнникъ).
Мѣсяцъ ясный... (Братья-разбойники).
Надъ ясными водами.,.:;(Гробъ юноши).
Какъ въ ясный день... И ясныя, какъ радость, небеса...
(Желаніе).
Съ восторгомъ изъясняетъ онъ неясныхъ, темныхъ ожи
даній обманчивый, но сладкій сонъ... (Н. С. Алексѣеву).
Свѣтла, какъ ясный день... (Къ ***).
Здѣсь солнце ясное катилось надо мною... (Овидію).
Открыли ей неясную мечту, проснулися неясныя же
ланья... Часъ отъ часу неясное начало опасныхъ думъ каза
лось ей яснѣй... (Гавриліада).
1822.
Какъ рыба въ ясной глубинѣ... Яснѣе дня, чернѣе ночи...
Дочери любимой доля была, какъ вешній день, ясна... (Бах
чисарайскій фонтанъ).
Воскресли чувства, ясенъ умъ... (Таврида).
Твоя весна тиха, ясна... (Адели).
„Уставъ наѣздника“ читалъ и даже ясно понималъ его
искусные доводы... (Отрывокъ. Д. В. Давыдову).
Евгеній Онѣгинъ (1822—31).
Онъ по французски совершенно могъ изъясняться...
Поэзіи живой и ясной... Увидѣлъ ясно онъ... И тѣнь его
(Ленскаго) была ясна... И прояснился темный умъ... Долина
сквозь паръ яснѣетъ. Морозна ночь, все небо ясно... Учтиво,
съ ясностью холодной звалъ друга Ленскій на дуэль...
Предъ этой ясностію взгляда. Съ ясною душою... Улыбкой
ясною природа... Татьяна начинаетъ понимать... теперь яснѣе ..
Яснымъ утромъ... Донынѣ дамская любовь не изъяснялася
по русски... На судъ взыскательному свѣту представитъ яс
ныя черты... И даль свободнаго романа я сквозь магическій
кристаллъ еще неясно различалъ...
Тамъ долго ясны небеса... (Путешествіе Онѣгина).
1824.
Небо ясно... (Цыганы).
329
Солнца ясный ликъ... (Аквилонъ).
Стихи неясные мои... (Разговоръ книгопродавца съ по
этомъ).
Да будетъ ясенъ жребій твой... (Младенцу).
1825.
Предъ яснымъ восходомъ зари... (Вакхическая пѣсня).
Когда померкнетъ ясный день... (П. А. Осиповой).
И легче и яснѣе державный трудъ ты будешь пости
гать... Но дѣтскій ликъ царевича былъ ясенъ... Узрѣть твои
царевы ясны очи... Народъ увидитъ ясно... (Борисъ Годуновъ).
1826.
Кажись, это ясно... (Кн. П. А. Вяземскому).
Да озаритъ онъ заточенье лучомъ лицейскихъ ясныхъ
дней... (Ив. Ив. Пущину).
1827.
Ясны воды... („Кто знаетъ край...“).
1828.
Въ рѣчахъ неясныхъ намекалъ... Пируетъ Петръ. И гордъ,
и ясенъ, и славы полонъ взоръ его... (Полтава).
Блеститъ какъ солнце въ ясны дни... (Эгельстрому).
Но не вотще меня знакомитъ съ могилой ясная Мечта...
(„Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ“... Первоначальная ре
дакція).
1830.
Это ясно, какъ простая гамма... (Моцартъ и Сальери).
И сторожа кричатъ протяжно, ясно... (Каменный Гость)»
Гдѣ небо вѣчно ясно... Свой долгій, ясный вѣкъ... (Къ
вельможѣ).
Надо мной въ лазури ясной... (Фрагментъ).
1833.
Ясный мѣсяцъ... (Сказка о мертвой царевнѣ и семи бо
гатыряхъ).
Свѣтитъ мѣсяцъ, ночь ясна... (Пѣсни западныхъ Сла
вянъ, VII — дважды).
Соколъ ясный... („Другъ мой милый“...).
330
И ясны спящія громады... Прояснились въ немъ страшно
мысли... (Мѣдный Всадникъ).
Ясно видѣлъ онъ... Я проще изъяснюсь... Молящій, яс
ный взоръ... Изъяснись... (Анджело).
Мѣсяцъ ясный свѣтитъ хладно... („Въ полѣ чистомъ се
ребрится“...).
1835.
Одна ты несешься по ясной лазури... (Туча).
И съ видомъ яснымъ говоритъ... Смѣла ихъ поступь,
ясны очи... (Египетскія ночи).
Б. ПРОЗА.
1829.
Молодой мѣсяцъ показался на ясномъ небѣ... Я изъяс
нился кое-какъ... На ясномъ небѣ бѣлѣла снѣговая двуглавая
гора... Изъясняясь на довольно чистомъ русскомъ языкѣ...
(Путешествіе въ Арзрумъ. 1829—35).
И такъ не ясно-ль, что ты съ ногъ до головы аристо
кратка? (Отрывки изъ романа въ письмахъ. 1829—30).
1830.
Ясное небо... Въ одно ясное, холодное утро... Въ пер
вый разъ видѣлъ онъ ясно... (Барышня-крестьянка).
Погода ясная... (Исторія села Горюхина).
Въ ясномъ и вѣрномъ изображеніи событій... Было яс
но изложено Карамзинымъ... (Рецензія на Исторію русскаго
народа И. Полевого).
Грамматика не предписываетъ законовъ языку, но изъ
ясняетъ и утверждаетъ его обычаи... Въ первомъ случаѣ
глупость его выразилась яснѣе для человѣка мыслящаго...
(Мелкія замѣтки).
Эстетика со временъ Канта и Лессинга развита съ
такой ясностью и обширностью... Князья свободно и ясно
понимаютъ его дѣйствія, предвидятъ и изъясняютъ высокіе
замыслы... Онъ его понимаетъ ясно, вѣрно, знаетъ коротко...
(Замѣтка о драмѣ).
Вѣрность ума, чувства, точность выраженія, вкусъ,
ясность и стройность менѣе дѣйствуютъ па толпу, нежели
преувеличеніе... (Замѣтка о Баратынскомъ. 1830—31. Тамъ же
331
цитата изъ „Эды“ Баратынскаго: Веселость ясная сіяла въ
ея младенческихъ очахъ...)
1831.
Полинѣ онъ понравился тѣмъ, что первый могъ ясно
ей истолковать военныя дѣйствія.. (Рославлевъ).
Изъ нихъ (сочиненій Булгарина) мы ясно узнаемъ, сколь
не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной
игрѣ и тому под... (Торжество дружбы).
Съ восхищеніемъ глядѣлъ онъ на ясное, блѣдное небо...
(Отрывокъ. 1831—32).
1832.
День былъ ясный и холодный... (Дубровскій).
1833.
О, пусть эти очи, тихія какъ у газели, то ясно смѣлыя,
то прекрасно стыдливыя .. (Переводъ изъ посвященія Child
Harold Байрона).
1834.
Наши критики не согласились еще въ ясномъ различіи
между родами классическимъ и романтическимъ. (Мысли на
дорогѣ. Прибавленія. II).
1835.
Тщетно я самъ захотѣлъ бы это изъяснить... Италья
нецъ, изъясняясь на плохомъ французскомъ языкѣ... Если
угодно ей будетъ изъясниться... (Египетскія ночи).
Путникъ въ ясный день отдыхаетъ подъ тѣнію дуба...
(Первый подготовительный отрывокъ къ Египетскимъ Но
чамъ).
Я могу дать ясный отчетъ о себѣ... (Русскій Пеламъ).
Въ характерѣ Байрона ясно отразились и достоинства,,
и пороки многихъ изъ его предковъ .. (Лордъ Байронъ).
Недостатокъ фактовъ, точныхъ извѣстій и яснаго изло
женія происшествій... (Объ Исторіи Пугачевскаго бунта).
1836.
Я кое-какъ сталъ изъяснять ему должность секунданта...
Мало-по-малу мысли мои прояснились... Генералъ изложилъ
весьма ясно и пространно... Не могу изъяснить то, что я чув
ствовалъ... Небо было ясно... Изъясните мнѣ, въ чемъ со
332
стоитъ ваша просьба... Такъ откровенно изъяснялась она..
(Капитанская дочка).
Различіе обстоятельствъ изъясняетъ и различіе чувствъ...
Подъ словомъ критики я разумѣю глубокое изученіе досто
вѣрныхъ событій и ясное, остроумное изложеніе ихъ истин
ныхъ причинъ и послѣдствій. (Собраніе сочиненій Георгія
Конисскаго).
Это называется издавать; слово ясно... (Вастола или
Желанія).
Ясно было, что раненый не могъ жить... (Джонъ Тен
неръ).
Прочли умилительныя размышленія, исполненныя яснаго
спокойствія, любви и доброжелательства. (Объ обязанно
стяхъ человѣка. Сочиненіе Сильвіо Пеллико).
Самъ Вольтеръ, опровергнувъ всѣ сіи мнѣнія съ ясно
стью критики, ему свойственной.. (Желѣзная Маска).
Поэтъ, живущій на высотахъ созданія, яснѣе видитъ...
(Мелкія замѣтки. 1825—31).
ПИСЬМА.
Я въ немъ (Раевскомъ) любилъ человѣка съ яснымъ
умомъ... (П. А. Чаадаеву. 1820).
Стихъ столь слабый и неясный... (П. А. Катенину. 19.
VII. 1822).
Я бы могъ оправдаться передъ тобой сильнѣе и яснѣе ...
(Кн. П. А. Вяземскому. I. IX. 1822).
Мнѣніе свое о его (Рылѣева) думахъ я сказалъ вслухъ
и ясно... (А. А. Бестужеву. 24. 111. 1825).
Причина ясна... Но за чѣмъ-же ясно не обнаружить сво
его мнѣнія? (А. А. Бестужеву. Май—іюнь 1825).
Твой слогъ живой и оригинальной тутъ еще живѣе и ори
гинальнѣе. Ты хорошо сдѣлалъ, что заступился явно за галли
цизмъ. Когда-нибудь должно же въ слухъ сказать что Русской
метафизической языкъ находится у насъ еще въ дикомъ со
стояніи. Дай Богъ ему когда нибудь образоваться на подо
біе французскаго, яснаго точнаго я'ыка прозы — т. е. языка
мыслей37)- (Кн. П. А. Вяземскому. 13. VII. 1825. Для ясности
*-') Эта пушкинская оцѣнка французскаго языка восходитъ къ став
шему къ концу ХѴШ и къ началу XIX вѣка общимъ мѣстомъ сужденію
333
мысли я въ этой цитатѣ нѣсколько подновляю пунктуацію
и правописаніе оригинала. Выраженіе „метафизическій“ озна
чаетъ тутъ у Пушкина „философскій“ или даже просто „от
влеченный“. Ср. Модза левскій въ примѣчаніи къ вышецитированному письму. П. С.).
Письмо моей матери ясно... (Барону А. А. Дельвигу
23. VII. 1825).
Не яснѣе-ли, и не живѣе-ли (впрочемъ, это придирка):
Ты не пріемлешь ихъ лазури etc. (Кн. П. А. Вяземскому
14. VIII. 1825).
Неизъяснимый 38).
А. ПОЭТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.
Невольно предавался умъ неизъяснимому волненью...
(Бахчисарайскій фонтанъ. 1822).
Татьяна., съ неизъяснимою отрадой невольно думала
о томъ... Съ неизъяснимою красой онъ видитъ Ольгу предъ
собой... (Евгеній Онѣгинъ. 1822—31).
Тамъ долѣ яркія видѣнья, съ неизъяснимою красой, ви
лись, летали надо мной, въ часы ночного вдохновенья. (Раз
говоръ книгопродавца съ поэтомъ. 1824).
Кто знаетъ край, гдѣ небо блещетъ неизъяснимой сине
вой.. (1827).
Р и в а р о л я, какъ автора увѣнчаннаго наградой Берлинской Академіи На
укъ трактата „De l’universalité de la langue française“ (1784). По Риваролю
Французскій языкъ отмѣченъ „особымъ геніемъ“ (propre génie), выражаю
щимся въ порядкѣ словъ и въ построеніи фразы. „La synaxe française est
incorruptible. C’est de la que résuite cette admirable clarté, base éternelle de
notre langue. Ce qui n'est pas clair nest pas françai s“. Это из
реченіе, подчеркнутое y самого Ривароля, стало крылатымъ словомъ, и
многіе французы уже не знаютъ, кому оно принадлежитъ. Цит. по изда
нію Rivarol. Oeuvres. Paris 1852 (Eugène Didier). Осознаніе ясности,
пакъ отличительной особенности французскаго языка (la clarté française),
психологически и гносеологически несомнѣнно восходитъ къ Декарту
(1596—1650), какъ писателю на французскомъ языкѣ (значительная часть
произведеній Д карта написана была по латыни). Ср. въ особенности Dis
cours de la méthode (1637) и Meditations métaphysiques, на латинскомъ язы
кѣ появившіяся въ 1641 г. и черезъ шесть лѣтъ вышедшія по французски,
въ переводѣ герцога де Л ю и н ь, проредактированномъ самимъ Декаргомъ. Какъ бы ни оцѣнивать Декарта, какъ писателя и стилиста, несомнѣнчо, что идея, или признакъ ясности и отчетливости играетъ рѣшающую
роль и въ его философіи, и въ его языкѣ.
:s) Всего нами замѣчено 27 случаевъ.
334
Часы неизъяснимыхъ наслажденій .. („Еще одной высо
кой важной пѣсни...“ 1829).
Все, все что гибелью грозитъ, для сердца смертнаго
таитъ неизъяснимы наслажденья — безсмертья, можетъ быть,
залогъ! (Пиръ во время чумы. 1830).
В. ПРОЗА.
Съ неизъяснимымъ неудовольствіемъ услышалъ, что
лошадей нѣтъ... (Отрывокъ 1825).
Хлещетъ' Терекъ съ яростію неизъяснимой... Ощуще
ніе неизъяснимое: горячее мыло обливаетъ васъ какъ воз
духъ... Арапчай! наша граница! Это стоило Арарата! Я по
скакалъ къ рѣкѣ съ чувствомъ неизъяснимымъ... Я оттолк
нулъ нищаго съ чувствомъ отвращенія неизъяснимаго... (Пу
тешествіе въ Арзрумъ. 1829 — 1835).
Съ неизъяснимымъ нетерпѣніемъ ожидалъ я моего про
тивника... (Выстрѣлъ. 1830)
И она летѣла стремглавъ съ неизъяснимымъ замирані
емъ сердца... (Метель. 1830).
Возразилъ смотритель съ неизъяснимымъ движеніемъ
сердца... (Станціонный смотритель. 1830).
Нравственныя его (Карамзина) размышленія... даютъ его
повѣствованію всю неизъяснимую прелесть древней лѣтопи
си. (Рецензія на Исторію Русскаго Народа Полевого. 1830).
Потому ли, что изображеніе старины, даже слабое и
невѣрное, имѣетъ неизъяснимую прелесть для воображенія ...
(Рецензія на Юрія Милославскаго М. Загоскина. 1830).
Съ восхищеніемъ глядѣлъ онъ на ясное, блѣдное небо,
на величавую Неву, озаренную свѣтомъ неизъяснимымъ, и
на окрестныя дачи, рисующіяся въ прозрачномъ сумракѣ
(Отрывокъ. 1831—32).
Лизавета Ивановна испугалась самане зная чего, и сѣла
въ карету съ трепетомъ неизъяснимымъ... Вдругъ это мерт
вое лицо измѣнилось неизъяснимо... (Пиковая дама. 1834).
Всякій талантъ неизъяснимъ... (Египетскія ночи. 1835).
Спросилъ я съ неизъяснимымъ волненіемъ... Носъ безъ
ноздрей и красноватыя пятна на лбу и на щекахъ придавали
его рябому, широкому лицу выраженіе неизъяснимое... (про
Хлопушу). Голубые глаза и легкая улыбка имѣли прелесть
неизъяснимую... (про Екатерину Великую). (Капитанская доч
ка. 1836).
Неужели его (Сильвіо Пеллико) книга, вся исполненная
335
сердечной теплоты, прелести неизъяснимой, гармоническаго
краснорѣчія... (Сильвіо Пеллико. 1836).
Письма.
Пріѣхалъ въ Кишиневъ на нѣсколько дней, провелъ
ихъ неизъяснимо элегически... (Л. С. Пушкину. 25-ѴШ-1823).
Растолкуй мнѣ теперь: почему полуденный берегъ и
Бахчисарай имѣютъ для меня прелесть неизъяснимую? (Ба
рону А. А. Дельвигу. Декабрь. 1824)39).
10. КН. П. А, ВЯЗЕМСКІЙ (1792-1878).
Кн. П. А. Вяземскій старше Пушкина. Но его словесное
творчество, въ занимающемъ здѣсь насъ смыслѣ нахожде
нія и изобрѣтенія словъ, всецѣло восходитъ къ тѣмъ
же источникамъ, что и пушкинское. Вяземскій вліялъ въ
этомъ отношеніи на Пушкина и самъ еще больше испыты
валъ его вліяніе. Пушкинъ указалъ, что дарованіе Вяземска
го было „эпиграмматическое“ — въ точномъ смы
слѣ умѣнія въ немногихъ обобщающихъ словахъ, въ эпи
граммахъ, т. е. въ умышленно въ той или иной связи на
писанныхъ или непосредственно вылившихся изреченіяхъ,
улавливать и смыслъ вещей (въ широчайшемъ значеніи
слова „вещь“) и схватывать ихъ образы, т. е. очертанія,
цвѣта, запахи. Это дарованіе предопредѣляло Вяземскаго къ
тому, чтобы любовно, съ исключительной зоркостью, и под
хватывать чужія реченія и изреченія, и съ такой же мѣтко
стью ковать свои собственныя. Надлежитъ отмѣтить, что
Вяземскій, изъ всѣхъ русскихъ писателей первой половины
XIX вѣка, былъ авторомъ, самымъ начитаннымъ въ русской
литературѣ ХѴІП вѣка — онъ даже самъ однажды обмол
вился, что изучалъ ее съ „бенедиктинскимъ“ тщаніемъ. Не
даромъ Вяземскій, какъ авторъ классической монографіи о
Фонвизинѣ, начатой еще въ 1819 г., но опубликованной
почти тридцать лѣтъ спустя, въ 1818 г., является подлин
нымъ основателемъ научнаго изученія исторіи русской лите
ратуры послѣпетровской эпохи.
Часть найденныхъ или созданныхъ Вяземскимъ реченій
и оборотовъ пошла ко дну, часть, наоборотъ, навсегда вошла
въ сокровищницу русскаго слова. Въ исторіи этого слова
мѣсто Вяземскаго — въ томъ же славномъ ряду, въ кото
30) Въ выше приведенной (дважды!) цитатѣ изъ „Евгенія Онѣгина'«
(на стр. 312 и 319 ) вкралась опечатка. Слѣдуетъ читать
Дѣвицы прохо
дили тише предъ ней по залѣ... (а не: передъ ней...).
336
ромъ стоятъ Ломоносовъ, Фонвизинъ, Державинъ, Карамзинъ,
Крыловъ, Жуковскій, Грибоѣдовъ, Пушкинъ (этотъ списокъ
можно бы, конечно, продолжить, но я сейчасъ его обрываю
именно на самомъ Вяземскомъ).
Для поясненія этой общей оцѣнки Вяземскаго приведу
только нѣсколько весьма показательныхъ примѣровъ, на ко
торые, сколько я знаю, не обращали до сихъ поръ вниманія.
Ѳ. М. Достоевскій приписывалъ себѣ нахожденіе
и введеніе въ русскій литературный языкъ глагола „стуше
ваться". Но онъ не зналъ, что впервые въ русской печат
ной рѣчи это слово употребилъ еще кн. П. А. Вяземскій
въ статьѣ, напечатанной въ 1827 г. (т. е. когда Достоевско
му было шесть или пять лѣтъ!) и спеціально посвященной
словоупотребленію (подъ заглавіемъ „о злоупотребленіи
словъ“). Эта статья заканчивается словами:
„Въ разговорахъ и книгахъ по большей части словами
играютъ, какъ шашками, которыя игрокъ переставляетъ на
удачу или по прихоти съ мѣста на мѣсто. Вотъ отъ чего
споръ о мнѣніи можетъ часто стушеваться споромъ о
словахъ. Въ первомъ случаѣ есть еще надежда согласить и
склонить на мировую спорщиковъ; въ послѣднемъ нѣтъ ни
какой надежды. Дѣло въ томъ, что о мнѣніяхъ спорятъ лю
ди умные и образованные; о словахъ упрямые невѣжды,
или, какъ злоупотребленіе иногда величаетъ ихъ, ученые“40).
Мы теперь (послѣ Достоевскаго) за глаголомъ „стушеваться“
поставили бы предлогъ „передъ“ (впрочемъ, можетъ быть,
тутъ въ текстѣ Вяземскаго описка или опечатка). Но во вся
комъ случаѣ: самый глаголъ найденъ и употребленъ впер
вые не Достоевскимъ, а Вяземскимъ.
Повидимому, Вяземскому принадлежитъ также, если не
изобрѣтеніе, то введеніе въ русскій языкъ словъ „з а м а шк а“ и „посредственност ь“. Вяземскому, къ сожалѣнію,
не удалось ввести въ русскій языкъ превосходное слово
„б у дит ель“, которое онъ употреблялъ не разъ и о кото
ромъ теперь настолько забыли, что оно снова входитъ въ
русскій зарубежный языкъ, какъ якобы заимствованіе
изъчешскаго.
Поэзія кн. П. А. Вяземскаго родственна по духовному
стилю въ одно и то же время поэзіи и Пушкина, и Тютчева.
Духъ Вяземскаго былъ близокъ и тому, и другому. Съ Пуш
кинымъ его объединяла ясность и отчетливость мысли и
эпиграмматическая мѣткость слова; съ Тютчевымъ — нѣкое
необоримое тяготѣніе къ тайнѣ, или мистическое влеченіе,
шедшее гораздо дальше той стыдливой религіозности, кото
рою былъ отмѣченъ духъ зрѣлаго Пушкина. Сопоставленіе
<0) Полное собраніе сочиненій. Иза. гр. С. Д. Шереметева. СПБ. 1878
т. I., стр. 280 — 281.
337
jio духовному содержанію поэта Вяземскаго, въ эпоху его
зрѣлости и старости, съ поэтомъ Тютчевымъ представляетъ
интересную и благодарную задачу, разрѣшеніе которой, мнѣ
думается, откроетъ нѣчто новое и неожиданное, на что из
вѣстный свѣтъ уже отчасти проливаетъ ихъ словоупотребленіе.
Переходя теперь къ занимающимъ насъ спеціально сло
вамъ, прежде всего приведу то замѣчательное мѣсто изъ Вя
земскаго, въ которомъ у него при обсужденіи пушкинскихъ
.Цыганъ“ появляется словосочетаніе:
ясная тишина.
„Легкомысленная, своевольная Земфира; отецъ ея, без
страстный, равнодушный зритель игры страстей, охлажден
ный лѣтами и опытами жизни трудной. Алеко, непокорный
данникъ гражданскихъ обязанностей, но и не безкорыстный
въ любви къ независимости, которой предался онъ не послѣ
обдуманнаго выбора, не въ ясной т и ш и нѣ м ы с л е й и
чувствъ, а также въ порывѣ и раздраженіи страстей, всѣ
они выведены поэтомъ въ подобающемъ имъ очертаніи и
свѣтѣ, съ свойственными каждому мнѣніями, рѣчами, движе
ніями“. (Цыганы. Поэма Пушкина. 1827. Полное собр. соч. 1,
стр. 317).
Съ этимъ мѣстомъ надлежитъ сопоставить сравнитель
ную характеристику Пушкина и Лермонтова, данную въ
1847 г.
„Лермонтовъ имѣлъ великое дарованіе, но онъ не
успѣлъ, а можетъ быть и не умѣлъ вполнѣ обозначить себя...
Пушкинъ могъ иногда увлекаться суетными побужденіями,
страстями, болѣе привитыми, чѣмъ, такъ сказать, самород
ными, но умъ его, въ нормальномъ положеніи, былъ чрез
вычайно ясенъ, трезвъ и здравъ. При всѣхъ своихъ укло
неніяхъ, онъ хорошо понималъ истину и выражалъ ее. Съ
этой точки зрѣнія онъ могъ уподобляться тѣмъ днямъ, въ
которые, при сильныхъ порывахъ вѣтра и при волненіи въ
нижнихъ слояхъ атмосферы, безоблачное небо остается спо
койнымъ и свѣтлымъ. Въ Лермонтовѣ не было, или еще не
было, этой невозмутимой ясности, которая способствуетъ
поэту вѣрно воспринимать внѣшнія впечатлѣнія и также вѣрно
отражать ихъ на другихъ. Бури Пушкина были бури внутрен
нія, бури Лермонтова болѣе внѣшн я, театральныя, заимство
ванныя и такъ-сказать заказныя, то-есть онъ самъ заказы
валъ ихъ себѣ. Въ природѣ Лермонтова не было всеобъем
лемости и разнообразія природы Пушкина. Въ томъ и дру
гомъ была въ высшей степени развита поэтическая впечат
лительность, воспріимчивость и раздражительность, доходя
щая до болѣзненности; можетъ быть, сближались они и въ
высокомъ художественномъ чувствѣ. Но въ одномъ изъ нихъ
22
338
не было той творческой силы, того глубокаго и проница
тельнаго взгляда, безстрастія и равновѣсія, которые такъ
сильно выказывались въ нѣкоторыхъ изъ твореній другого
поэта“. (Взглядъ на литературу нашу послѣ смерти Пушкина.
Поли. Собр. Соч., II, стр. 385—359).
Эта глубокая и мѣткая характеристика Пушкина есть
въ то же время замѣчательное свидѣтельство о немъ
одного изъ самыхъ близкихъ и едва ли не самаго созвучна
го ему современника.
Неудивительно, что употребленіе словъ „тихій“ и
„ясный“ въ поэтическомъ языкѣ Вяземскаго всецѣло пуш
кинское — и притомъ и до Пушкина, и послѣ Пушкина. До
статочно привести нѣсколько примѣровъ.
Тихій и ясный.
Карамзинъ любовно характеризуется какъ „тишины
любитель“. (Къ подругѣ. 1815, т. III, 98).
Въ твой тихій кабинетъ, гдѣ міръ желанный вашъ, гдѣ
мудрость ясная — любви и счастья стражъ, не вхожъ ни
гласъ молвы, ни свѣта гласъ мятежный..... Отъ подвига по
чить на лонѣ тишины. (Относится также къ Карамзину. От
рывокъ изъ стихотворенія „Деревня“. 1817 г. Ill, 144).
Отъ юныхъ дней цѣнитель тихихъ благъ. (Прощаніе съ
халатомъ. 1817. 111, 152).
Когда слетаетъ тихій геній на ложе свѣжей тишины...
(Къ мнимой счастливицѣ. 1826. III, 419).
Скажу тебѣ: тотъ жилъ не даромъ, къ кому слезою
взоръ свѣтлѣлъ, кто сердце ближней тихимъ жаромъ свя
щенной дружбы разогрѣлъ. (Слезы прощанія. 1817. III, 438).
И въ ясный день ей вѣренъ мой обѣтъ.. (Отрывки изъ
журнала исповѣди. 1833. IV, 158).
Прохожій гость земли, отвергни страхъ напрасный: или
по бурномъ днѣ насъ сонъ постигнетъ ясный, иль бурной
ночи вслѣдъ проглянетъ ясный день. (Жизнь и смерть. 1833.
IV, 172).
Вяземскому принадлежитъ выраженіе „тихія радос т и“, получившее впослѣдствіи ироническій привкусъ:
Какъ много чистыхъ сновъ дѣвической души и нѣж
ныхъ ссоръ любви, и примиреній нѣжныхъ, и тихихъ радо
стей, и сладостно мятежныхъ — при пламени его украдкою
зажглось и съ облакомъ паровъ незримо разнеслось. (Само
варъ. 1839. IV, 228).
339
Неизъяснимый.
Это слово, именно какъ слово, занимало начинающаго
Вяземскаго:
„Да и что за слово несказанная. У насъ для вы
раженія подобной мысли есть слово несравненно лучшее
неизъяснимая. Разсуди самъ, вѣдь, неизъяснимое то, что
изъяснить нельзя, несказанное только то, что не сказано, а
не то. что сказать не можно“. (Письмо къ К. Н. Батюшко
ву. 1810. I, 7).
Иль тайныхъ чувствъ сердецъ удачный толкователь —
неизъяснимое стихами изъяснять... (Къ Е. С. Огаревой. 1816.
III, 113).
11. Ѳ. М. ДОСТОЕВСКІЙ (1821—1861', Н. Е. ЛѢСКОВЪ (1831—1895),
Л. Ѳ. ПИСЕМСКІЙ (1820-1881).
Достоевскій.
Когда-нибудь, въ первой молодости, это исхудавшее
лицо могло быть и недурнымъ; но тихіе, ласковые, сѣ
рые глаза ея были и теперь еще замѣчательны; что-то меч
тательное и искреннее свѣтилось въ ея тихомъ, почти, ра
достномъ взглядѣ. Эта тихая спокойная радость, выражав
шаяся и въ улыбкѣ ея, удивила меня... („Бѣсы“, ч. 1, гл. IV).
1872—1873). Слезы тихо текли по ея (хромоножки) набѣлен
нымъ щекамъ... (Тамъ же). — Не смущайтесь, моя тихая,
моя христіанка! воскликнулъ онъ (Степанъ Трофимовичъ)
Софьѣ Матвѣевнѣ... (Тамъ же, ч. III, гл. VII. Все набранное
здѣсь и далѣе разрядкой, конечно, подчеркнуто мною. П. С.).
Лѣсковъ.
Сестра Ѳеоктиста говоритъ Лизѣ Бахаревой и Женѣ
Гловацкой: — Такъ привыкла, потому что здѣсь вѣдь хо
рошо. — Чѣмъ же хорошо? — Тихо такъ, хорошо. („Не
куда“ 1864).
Ср. слѣдующую главу, прямо такъ и озаглавленную „Въ
ночной т и шинѣ“:
„Мать Агнія тихо вышла въ комнату, гдѣ спали ма
ленькія дѣвочки, тихонько пріотворила дверь въ свою
спальню...“ Ивъ концѣ: „А мать Агнія тихо вошла,перекре
стила ихъ, поцѣловала въ головы, потомъ тихо перешла
за перегородку, упала на колѣни и начала читать положен
ную монастырскимъ уставомъ полунощницу“.
340
Писемскій.
Въ большой гостинной, передъ карселевой лампой, мир
нымъ и тихимъ свѣтомъ освѣщавшею стѣны, картины и
мебель... („Взбаламученное море“, 1863, ч. IV, гл. III). Тутъ,
прямо какъ у Державина, образъ церковнаго пѣснопѣнія:
„шихій СВГоШЪ“.
12. ИРОНИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ ПУШКИНСКИХЪ СЛОВЪ
У ДОСТОЕВСКАГО.
Въ началѣ 60 хъ г. г., когда Достоевскій, слѣдуя за А п о лл о номъ Григорьевымъ въ его культѣ Пушкина, во мно
гомъ уже предвосхищалъ свою рѣчь 1880 г., онъ не столько
критически, сколько прямо одинаково иронически относился
и къ западничеству, и къ славянофильству (какъ „московской
затѣѣ“). Для этой эпохи и для этого настроенія чистаго
„почвенничества“ Достоевскаго весьма характерно ирони
ческое употребленіе имъ такихъ любимыхъ словъ Жуков
скаго и Пушкина, какъ „тихій“ („тишина“) и, въ особенности,
„неизъяснимый“. Для иллюстраціи мы приводимъ ниже весьма
выразительные примѣры изъ статьи о Добролюбовѣ 1861 г.
и изъ „Зимнихъ замѣтокъ о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ" 1863 г.
Тутъ не можетъ быть рѣчи о случайномъ словоупотребленіи.
Оно нарочито и преднамѣренно. Оно продиктовано, я думаю,
между прочимъ, желаніемъ Достоевскаго рѣзко отмежевать
ся отъ того культа Пушкина, главными выразителями кото
раго въ эту эпоху были умѣренные и „буржуазные“ запад
ники А. В. Дружининъ и В. П. Боткинъ — самъ же
Достоевскій тогда былъ еще гораздо ближе къ западному
соціализму, чѣмъ онъ оказался черезъ 20 лѣтъ.
Въ статьѣ о Добролюбовѣ Достоевскій, пытаясь за
нять свою особую позицію между „утилитаристами“ и сторон
никами „искусства для искусства“, не безъ ироніи влагаетъ
въ уста послѣднимъ формулировку ихъ взглядовъ специфи
чески пушкинскими словами: „искусство должно дѣйствовать
тихо, ясно (подчеркнуто мною. П. С.), не торопясь, не
увлекаясь по сторонамъ, имѣя само себя цѣлью и вѣруя,
что всякая дѣятельность его отзовется со временемъ чело
вѣчеству несомнѣнной пользой...“ (Г. — бовъ и вопросъ объ
искусствѣ. „Время“ февраль 1861 г. Поля. собр. соч. изд.
Маркса, т. IX, СПБ. 1895, стр. 55).
Въ „Зимнихъ Замѣткахъ“ („Время“ за 1863 г. кн. II —Ш;
полн. собр. соч. изд. Маркса, т. III, ч. 2. СПБ. 1894, стр. 3—70) мы находимъ такія мѣста:
„Гюставъ... бѣжитъ къ Сесиль... и совокупившись закон
нымъ бракомъ, начинаетъ заводить дѣтей ,фланелевую фуфай
ку, bonnet de coton и прогуливаться съмабишью по вечерамъ
341
возлѣ благодѣтельныхъ фонтанчиковъ, которые тихимъ
плескомъ своихъ струй, разумѣется, напоминаютъ ему о
постоянствѣ, прочное и и тишинѣ его земного сча
стья...“ „Тихій
призывный шопотъ еще робкой краса
вицы“.. „Фонтанчикъ... однообразнымъ плескомъ струй на
поминаетъ вамъ о чемъ-то покойномъ, тихомъ, всегдаш
немъ, постоянномъ, гейдельбергскомъ“. „Курчавый адво
катъ въ мантіи и въ шапкѣ говорилъ рѣчь и сыпалъ пер
лами краснорѣчія. Президентъ, судьи, адвокаты, слушатели
плавали въ восторгѣ. Была благоговѣйная тишина: мы
вошли на цыпочкахъ“.
Еще показательнѣе и разительнѣе нарочитое, повторно
назойливое употребленіе въ томъ же произведеніи прилага
тельнаго неизъяснимый:
„Войдите въ магазинъ купить что-нибудь, и послѣдній
приказчикъ раздавитъ, просто раздавитъ васъ своимъ неизъяснимымъ благородствомъ“. „Но молодой чело
вѣкъ самой счастливой наружности и съ неизъяснимѣйшимъ
благородствомъ въ душѣ“... „Но несмотря на то буржуа до
страсти любитъ неизъяснимое благородство. На театрѣ
подавай ему непремѣнно безсребренниковъ, Гюставъ дол
женъ сіять только однимъ благородствомъ и буржуа пла
четъ отъ умиленія. Безь неизъяснимаго благородства
онъ и спать не можетъ спокойно“... „...не могъ.же я ру
чаться за всѣхъ французовъ. Конечно, такъ, я и не говорю
про всѣхъ. Вездѣ есть неизъяснимое благородство, а у
насъ’ можетъ быть, даже и гораздо хуже бывало“.
„Ему (буржуа) надо высокаго, надо неизъяснимаго бла
городства, надо чувствительности, а мелодрама все это въ
себѣ заключаетъ“. „По Гюставу всегда можно провѣрить все
то, что въ данную минуту брибри считаетъ идеаломъ н еизъяснимаго благородства“. ...„Гюставъ не приказчикъ,
а какой-нибудь загнанный, забитый сирота, но въ душѣ пол
ный самаго неизъяснимаго благородства“. „Теперь не
изъяснимое благородство чаще всего изображается или
въ военномъ офицерѣ, или въ военномъ инженерѣ, или что
нибудь въ этомъ родѣ, только чаще всего въ военномъ и
непремѣнно съ ленточкой Почетнаго Легіона, „купленной
своей кровью“. „...Но онъ добръ, честенъ, великодушенъ и
неизъяснимо благороденъ въ томъ актѣ, въ которомъ
онъ долженъ страдать отъ подозрѣнія, что мабишь ему не
вѣрна“. „Надо непремѣнно, чтобы Гюставъ ругался сквер
ными словами и плевалъ на милліонъ, иначе буржуа не про
ститъ ему: неизъяснимаго благородства будетъ мало,
пожалуйста, не подумайте, чтобъ буржуа противорѣчилъ
себѣ“, „...и чувствительности выходитъ много, и неизъяс
нимаго благородства съ три короба...“
Такое повторное ироническое употребленіе эпитета
342
всегда бываетъ сознательно и намѣренно. Достоевскій пре
восходно зналъ пушкинское словоупотребленіе и въ дан
номъ случаѣ онъ нарочито, примѣнительно къ французамъ —
а потому да будетъ позволено мнѣ французское выраженіе!—
его „персифлировалъ“, или вышучивалъ. Двадцать лѣтъ спу
стя онъ этого не сталъ бы дѣлать. Онъ тогда гораздо глуб
же и окончательно проникся пушкинскимъ духомъ.
Предлагаемыя цитаты въ ихъ совокупности составля
ютъ лишь малую долю собранныхъ мною матеріаловъ для исто
рическаго толковаго словаря какъ языка самого Пушкина,
такъ и всего русскаго книжнаго (по преимуществу) языка
отъ Соборнаго Уложенія Царя Алексѣя Михайловича 1649 г.
(конечно, со всѣми его рукописными и печатными предше
ственниками и источниками) до нашихъ дней.
Глѣбъ Струве.
Новые пушкинскіе матеріалы изъ Британскаго Музея.
Русскимъ изслѣдователямъ давно было извѣстно, что
значительная часть библіотеки С. А. Соболевскаго, друга
Пушкина и извѣстнаго библіофила, была пріобрѣтена послѣ
его смерти съ аукціона въ Лейпцигѣ (въ 1873 г.) Британ
скимъ Музеемъ. Помимо богатѣйшей литературы путешествій,
представлявшей главную цѣнность собранія Соболевскаго,
Британскій Музей пріобрѣлъ и многія русскія книги изъ его
библіотеки. А priori можно было предполагать, что среди
книгъ Соболевскаго, котораго личныя отношенія связывали
съ большинствомъ литераторовъ его времени, могутъ ока
заться интересные матеріалы, замѣтки на поляхъ, автографы
и т, п. Въ прежнее время попытокъ обслѣдовать фондъ
Соболевскаго въ Британскомъ Музеѣ, видимо, не дѣлалось.
В. Л. Бур цевъ въ своемъ описаніи русскихъ документовъ
въ Британскомъ Музеѣ ’) даже не упоминаетъ о книжномъ
собраніи Соболевскаго. Сравнительно недавно такая попытка,
исходившая изъ Совѣтской Россіи, была, повидимому, сдѣ
лана2), но результаты ея намъ неизвѣстны. Насколько мы
знаемъ, никакихъ слѣдовъ этого обслѣдованія, если оно и
было произведено, въ русской литературѣ пока не появи
лось. Трудность обслѣдованія заключается, однако, въ томъ,
что не сохранилось, видимо, никакого реестра покупки, по
которому можно было бы установить составъ русской би
бліотеки Соболевскаго, поступившей въ Британскій Музей.
Каталогъ аукціона библіотеки Соболевскаго, имѣющійся въ
Британскомъ Музеѣ3), содержитъ лишь отдѣльныя случайRussian Documents in the British Museum. London 1926. 17 pp. (Огл.
оттискъ изъ Slavonic Review).
=) Этимъ указаніемъ я обязанъ завѣдующему Славянскимъ Отдѣломъ
библіотеки Британскаго Музея, г-ну L. С. Wharton.
’) Catalogue de la collection précieuse de livres anciens et modernes for
mant a bibliothèque de feu M. Serge Sobolewski (de Moscou), dont la vente se
f ra Je Lundi 14 Juillet 1873 et jours suivants à Leipzig, dans l.i salie de vente
de MM. List et Francke, 15 rue de l'Université. Leipzig (1873). XVl-j-314 pp.
Какъ правило, русскія книги отсутствуютъ въ этомъ каталогѣ. Въ немъ есть
344
ныя названія русскихъ книгъ и тѣ книги, которыя намъ до
сихъ поръ удалось обнаружить, въ большинствѣ отсутству
ютъ въ означенномъ каталогѣ4). Возможно, что былъ от
дѣльный каталогъ русскихъ книгъ (или книгъ по русской
литературѣ), но намъ онъ неизвѣстенъ. Самое собраніе Со
болевскаго по поступленіи въ Британскій Музей было распы
лено. Приходится поэтому дѣйствовать ощупью. Дѣйствуя
такъ, намъ удалось напасть на цѣлый рядъ русскихъ книгъ
изъ библіотеки Соболевскаго, въ большинствѣ снабженныхъ
его ex-libris съ помѣткой его рукой чернилами въ графѣ
Division: „Rossica“. Нѣкоторыя непереплетенныя книги не
имѣютъ ex libris, но происхожденіе ихъ изъ библіотеки Со
болевскаго почти безспорно: всѣ онѣ носятъ тотъ же число
вой штемпель поступленія въ Британскій Музей: „9 Ос 73“
(таковы, напр., оттискъ писемъ Пушкина къ брату Льву изъ
„Библіографическихъ Записокъ“ и лейпцигское изданіе „Опас
наго сосѣда“ В. Л. Пушкина). Изъ книгъ съ автографами
нами обнаруженъ пока экземпляръ „Сумеркъ“ Боратын
скаго съ авторской надписью.
Особенный интересъ, конечно, представляло возможное
нахожденіе въ Британскомъ Музеѣ сочиненій Пушкина съ
автографами, помѣтами, исправленіями и т. д. Здѣсь, однако,
обслѣдователя ждало разочарованіе: ни одно изъ имѣющихся
въ Британскомъ Музеѣ прижизненныхъ изданій Пушкина не
носитъ слѣдовъ принадлежности Соболевскому. Совсѣмъ не
давно, однако, наше вниманіе было привлечено тѣмъ, что въ
каталогѣ Британскаго Музея противъ одного изъ экземпля
ровъ берлинскаго (т. н. Гербелевскаго) изданія (1861 г.) со
чиненій Пушкина, не вошедшихъ въ изданія Анненкова и
Геннади (Й с а к о в а) стоитъ помѣтка „Copious MS. additions“
(„обильныя рукописныя добавленія“)5). Какъ и почему на
это не обратили вниманіе тѣ, кто обслѣдовали русскіе до
кументы въ Британскомъ Музеѣ, остается загадочнымъ.
Экземпляръ берлинскаго изданія, о которомъ идетъ рѣчь,
принадлежалъ Соболевскому, такъ же какъ и имѣющійся
въ Британскомъ Музеѣ экземпляръ шест.ітомнаго изданія
указаніе на предстоящій выпускъ спеціальнаго русскаго каталога, но
послѣдняго въ библіотекѣ Британскаго Музея не имѣется. Мнѣ не удалось
выяснить, былъ ли онъ когда-либо выпущен;.
*) На всѣхъ книгахъ Соболевскаго въ Британском ъ Музеѣ стоитъ
одинъ и тотъ же числовой штемпель Музея: ,9 Ос 73“. По этой датѣ можно
въ нѣкоторыхъ случаяхъ установить и несомнѣнную принадлежность Собо
левскому нѣкоторыхъ книгъ и брошюръ, не носящихъ его ex libris.
•) Стихотворенія А. С. Пушкина, не вошедшія въ послѣднее собраніе
его сочиненій. Дополненіе къ 6 томамъ Петербургскаго изданія. Издаьіе Р.
Вагнера. Берлинъ 1861. XII-J-239 сер.
345
сочиненій Пушкина Геннади-Исакова 6). Экземпляръ изда
нія Гербеля переплетенъ вмѣстѣ съ „Приложеніями“
Геннади къ Исаковскому изданію7) и этотъ сводный томъ
переплетенъ одинаково съ самымъ Исаковскимъ изданіемъ
и является какъ бы дополненіемъ къ нему. Обильныя же
рукописныя добавленія, упомянутыя въ каталогѣ, заключаютъ
въ себѣ: 1) три вклеенныхъ въ началѣ тома документа, ка
сающихся цензуры Исаковскаго изданія, доселѣ, насколько
намъ удалось выяснить, неизвѣстныхъ, хотя подлинники ихъ
должны были бы находиться въ архивахъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія и Цензурнаго Комитета; 2) остав
шійся неизвѣстнымъ спеціалистамъ (см. работы Томашев
скаго и Ц я в л о в с к а г о)8) списокъ (правда, неполный)
„Гавріиліады“; и 3) варіантъ одной строки въ стихотвореніи
Пушкина „Сказки (Noël)“.
1. Цензурные документы
Документовъ этихъ три. Всѣ они относятся къ цензу
рѣ собранія сочиненій Пушкина, предпринятаго Я. А. Исако
вымъ (подъ редакціей Геннади) въ 1858 г. и всѣ представ
ляютъ собой канцелярскія копіи, сдѣланныя, очевидно, для
Соболевскаго. Первый документъ озаглавленъ „Выписка сти
хотвореній А. С. Пушкина, не бывшихъ въ изданіи Аннен
кова и предполагаемыхъ къ изданію въ предпринимаемомъ
нынѣ книгопродавцемъ Исаковымъ новомъ изданіи сочиненій
его же А. С. Пушкина“ и переписанъ писарской рукой на
двойномъ листѣ плотной отъ руки разграфленной бумаги.
Это, повидимому, та составленная цензоромъ Бекетовымъ
выписка, на которую есть ссылка въ одномъ изъ дальнѣй
шихъ документовъ. Текстъ этой „выписки“ занимаетъ двѣ
съ небольшимъ страницы. Вотъ его точное воспроизведеніе
съ соблюденіемъ пунктуаціи и описокъ.
6) Сочиненія А. С. Пушкина въ
СПБ. 1859.
6 томахъ.
Изданіе Я. А. Исакова
7) Приложенія къ сочиненіямъ А. С. Пушкина, изданнымъ Я. А. Иса
ковым;. Библіографическій списокъ всѣхъ произведеній А. С. Пушкина, до
полненія, черновые отрывки, невошедшіе въ текстъ, и примѣчанія. Соста
вилъ Григорій Геннади. СПБ. 1860. 171 стр.
8) А. С. Пушкинъ. Гавріиліада. Поэма. Редакція, примѣчанія и ком
ментарій Б. Томашевскаго. Труды Пушкинскаго Дома. П. 1922. 111 стр
— М. Пявловскій. Тексты .Гавріиліады“. По поводу книги Б. В. То
машевскаго, въ сборникѣ ..Пушкинъ*. Сборникъ первый. Редакція
Н. К. П и к с а н о в а. Гос. Изд-во. М. 1924, стр. 165 175.
346
Выписка стихотвореній А. С. Пушкина, не бывшихъ въ
изданіи Анненкова и предполагаемыхъ къ изданію въ пред
принимаемомъ нынѣ Книгопродавцемъ Исаковымъ новымъ
изданіи сочиненій его же А. С. Пушкина.
Ко Названіе и содержаніе стихотвореній
1814 года Къ сестрѣ стран. 4 по
Анненкову
окончаніе: Спѣши на новоселье и
проч, до конца.
2 1814 года: Къ другу стр. 7 по Ан
ненкову
у Анненкова сказано Исаковъ же
лаетъ
отшельникъ —
священникъ
какъ... васъ учу
какъ въ церк
ви васъ учу.
3 1815 года Городокъ стр. 39 по Ан
ненкову Здѣсь князь дрожитъ подъ
лавкой и далѣе до стиха Играютъ
въ Кубари (включительно).
4 1816 года Желаніе листъ 73 по Иса
кову Христосъ Воскресъ! и далѣе
до стиха Чтобъ въ Академіи по
чтенной.
5 1817 года Посланіе къ В. Л. Пуш
кину лис 56 по Исакову рукопис
ное Богъ издалъ для себя награ
ду (природу?) .... и счастіе глуп
цамъ.
6 1818 года М. Ѳ. Орлову листъ 91
по Исакову.
1
7
8
Были ли и гдѣ именно напечатаны или
нѣтъ?
Печаталось въ Библ.
Запискахъ 1858 г. ст.
309.
Печатано тамъ же и
рядомъ.
Печатано
стр. 311.
тамъ же
Печатано
стр. 346.
тамъ же
Печатано тамъ же
ст. 337.
Напечатано тамъ же
ст. 338.
Нигдѣ такъ не было
напечатано у Аннен
1818 года Чаадаеву на семъ же ли кова напечатано съ
измѣненіями на слѣ
стѣ обор.
дующей печатной
страницѣ.
1819 года Въ честь Императрицы
Елизаветы Алексѣевны листъ 104 Напечатано въ Библ.
по Исакову.
У Анненкова сказано Исаковъ же Запискахъ 1858 стр.
347.
лаетъ
Людей.
Царей.
347
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1821 года. Заповѣди листъ 128 по
Исакову рукописное. Добра чужо
го не желать и далѣе до конца на
другой страницѣ хотя оно зачерк
нуто красными чернилами.
Первое Посланіе къ Аристарху
листъ 160 по Исакову. А ты глу
пецъ и трусъ и далѣе до конца.
Воображенія минутныя цвѣты.
Второе посланіе къ Аристарху
листъ 161 по Исакову. Онъ съ на
ми сѣтовалъ когда... и далѣе до
копца (все что написано на особо
приклееномъ лоскуткѣ въ этомъ
же стихотвореніи выше приписано
Министра честнаго намъ добрый
Царь избралъ.
Нѣтъ я не дорожу и далѣе до кон
ца что написано листъ 320 по Ис.
Моя родословная листъ 235 по
Исакову.
1836 годъ листъ 270 по Исакову.
Когда великое свершалось торже
ство. Стихотвореніе это Исаковъ
желаетъ напечатать съ нѣкоторы
ми помѣщенными на печатномъ у
Анненкова рукописными прибавле
ніями.
1836 года. Изъ VI Пиндемонте
листъ 270 по Исакову. Стихотво
реніе это Исаковъ также желаетъ
напечатать какъ исправлено или
дополнено имъ.
Неизвѣстныхъ годовъ въ Альбомъ
Илличевскому листъ 282 по Иса
кову. Исаковъ желаетъ прибавить
выпущенный ио Анненковскому из
данію стихъ Безсмертіе души моей.
Сверх сего Исаковъ представилъ
въ особой тетрадкѣ шесть стихо
твореній въ рукописяхъ:
a) Я васъ бѣжалъ питомцы на
слажденья.
b) М... хвастунъ безстыдный.
c) Мнѣ бой знакомъ — люблю
языкъ мечей.
d) Посланіе къ Юрьеву.
e) Экспромтъ.
і) Сиротка.
Напечатано тамъ же
ст. 342.
Печатано
ст. 347.
тамъ
же
Печатано
ст. 348.
тамъ
же
Печатано тамъ же
ст. 203.
Какъ напечатано
тамъ же стр. 348.
Прибавленія эти ни
гдѣ доселѣ не печа
тались.
Печатано въ Библ.
Запискахъ 1858 ст.
349.
Нигдѣ не печатано.
Эти шесть стихотво
реній нигдѣ не напе
чатаны.
348
и
Стихотв. это у Ан
ненкова напечатано
g) Посланіе къ Всеволожскому во 2 томѣ стр. 253
Прости счастливый сынъ пи Исаковъ желаетъ пе
чатать съ перемѣна
ровъ и далѣе до конца.
ми, значущимися въ
рукописи.
Второй документъ представляетъ собой копію отноше
нія Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 9 марта 1859 г.
За подписями министра Е П. Ковалевскаго и директора кан
целяріи А. Берте къ Попечителю Петербургскаго Учебнаго
Округа. Текстъ занимаетъ первую и половину второй стра
ницы и гласитъ слѣдующее:
Канцелярія Министра
9 Марта 1859
№ 585
Господину Попечителю СПБ. Учебнаго
Округа
Главное правленіе Ценсуры, разсмотрѣвъ пред
ставленіе С. П. Б. Цензурнаго Комитета, отъ 23-го
Декабря 1858 года о предпринимаемомъ книгопро
давцемъ Я. Исаковымъ изданіи сочин. А. С. Пуш
кина и имѣя въ виду данное уже симъ Управле
ніемъ въ Январѣ 1858 г. предложенное С. П. 5.
Ценсурному Комитету бывшимъ товарищемъ Ми
нистра Народнаго Просвѣщенія, княземъ Вязем
скимъ, отъ і9 февраля 1858 г. за № 418 разрѣше
ніе одобрить къ новому изданію напечатанное Ан
ненковымъ, въ 1855—1857 годахъ, собраніе сочи
неній А. С. Пушкина, опредѣлило: предложить Ко
митету разсмотрѣть всѣ сочиненія Пушкина, пред
полагаемыя ко внесенію въ предпринимаемое нынѣ
Исаковымъ изданіе Сочиненій А. С. Пушкина, не
бывшіе въ изданіи Анненкова, съ тѣмъ, что если
какія либо изъ сихъ добавленій возбудятъ ценсурныя сомнѣнія, то представить о нихъ Главному
Правленію. При семъ Комитетъ долженъ исклю
чить всѣ мѣста въ сочиненіяхъ Пушкина, исключен
ныя по Высочайше утвержденному опредѣленію
Главнаго Управленія Ценсуры въ 1854 году, и по
опредѣленію сего же Управленія въ 1857 г. и так
же піесы и отрывки, напечатанные въ Библіогра
349
фическихъ Запискахъ 1858 года, возбудившіе замѣ
чанія со стороны Министерства Народнаго Про
свѣщенія.
О семъ опредѣленіи Главнаго Управленія Ценсуры, имѣю честь увѣдомить Ваше Превосходи
тельство. для предложенія С.П.Б. Ценсурному Ко
митету къ надлежащему исполненію. Къ сему счи
таю нужнымъ присовокупить что выше упомяну
тыя два опредѣленія Главнаго Управленія Ценсуры
сообщены предмѣстникамъ Вашимъ, Милостивый
Государь, предложеніями Министерства отъ 14 Ок
тября 1854 года за № 2037 и 28 Іюня 1857 г. за
№ 1125 съ приложеніемъ выписокъ мѣстъ, исклю
ченныхъ изъ сочиненій Пушкина, и требовавшихъ
особаго объясненія; а также, что въ 1858 г. сдѣ
ланы были мною и предмѣстникомъ моимъ стро
гое замѣчаніе бывшему Ценсору Московскаго Ценсурнаго Комитета Крузе и редактору журнала Би
бліографическія записки, Поручику Щепкину, и вы
говоръ первому, за напечатаніе въ семъ журналѣ
нѣкоторыхъ писемъ и стихотвореній Пушкина, признаное въ различныхъ отношеніяхъ неумѣстнымъ,
Стихотворенія сіи, помѣщенныя въ № 12 Библіо
графическихъ записокъ, есть слѣдующія: 1-е „Ахъ,
тетушка, ахъ Анна Львовна“, 2-е „Нашъ пріятель,
Пушкинъ Левъ“. 3-е „Къ Смирдину какъ ни зай
дёшь“. 4-е „На выздоровленіе Лукулла“. 5-е „Ты
прозаикъ, я поэтъ", и 6-е „Не то бѣда, что ты
Полякъ“. При томъ нужно имѣть въ виду пред
ложеніе С.П.Б. Ценсурному Комитету, отъ 26 Фев
раля 1858 года за № 448 О стихотвореніи „Иной
имѣлъ мою Аглаю“ и предложеніе отъ 18 Апрѣля
1858 года за № 796 о письмахъ А. С. Пушкина.
(Подписано) Министръ Народнаго Просвѣщенія
Е. Ковалевскій.
Директоръ А. Берте.
Третій документъ есть копія отношенія Министерства
Народнаго Просвѣщенія къ Помощнику Попечителя отъ 30-го
октября 1859 г. Текстъ его, занимающій три страницы, гла
ситъ:
350
Министерство Народнаго Просвѣщенія
Канцелярія Министерства
30 го Октября 1859 г.
№ 2217
Объ издаваемыхъ Книго
продавцемъ Исаковымъ
Сочиненіяхъ А. С. Пуш
кина.
Господину Помощнику Попечителя
С. Петербургскаго Учебнаго Округа
Главное Управленіе Ценсуры, въ засѣданіи
3 го текущаго Октября, по дѣлу о предпринятомъ
Книгопродавцемъ Исаковымъ изданіи Сочиненій А С.
Пушкина, въ которое желаетъ онъ включить нѣ
которыя стихотворенія и мѣста, не бывшіе въ из
даніи Анненкова, — разсмотрѣвъ представленіе С.
Петербургскаго Цензурою (sic!) Комитета отъ 13-го
Августа сего года за № 828, съ приложенною къ
оному, сдѣланною Ценсуромъ Статскимъ Совѣтни
комъ Бекетовымъ, выпискою мѣстъ признаваемыхъ
Комитетомъ дозволительными къ печати 1 го тома
Сочиненій А. С. Пушкина въ изданіи книгопродав
ца Исакова, исключить изъ мѣстъ, исчисленныхъ
въ вышеупомянутой выпискѣ, слѣдующія:
1) Въ стихотвореніи Къ сесійрѣ, на стр. 4,
окончаніе „Спѣша на новоселье“ до конца (какъ
исключенное по Высочайшему повелѣнію, объяв
ленному С. Петербургскому Ценсурному Комитету
14 Октября 1854 г. за № 2037).
2) Заповѣди, рукописный листъ 128. — „До
бра чужаго не желать“, и далѣе, до конца на дру
гой страницѣ.
3. Второе Посланіе къ Аристарху, въ листу
161-мъ присланный лоскутокъ ко [по?] Исакову,
„Онъ съ нами сѣтовалъ когда....“ до „Но самъ не
зная какъ, ты видно устоялъ“.
4. Когда великое свершалось торжество, листъ
270 ко [но?] Исакову, четыре послѣдніе стиха, отъ
„Иль опасаетесь — чтобъ чернь не оскорбила“ до
„Пускать не велѣно сюда простой народъ“.
По рукописной тетради.
351
5. Пять стиховъ: „Я васъ бѣжалъ, питомцы
наслажденій“ до „Покоемъ, славою, свободой и ду
шой“ (какъ исключенные вышеозначеннымъ Высо
чайшимъ повелѣніемъ объявленнымъ за № 2037.
6. Двѣнадцать стиховъ: „М... хвастунъ без
стыдный“ до „Твоей небесной красотѣ“.
7. Экспромтъ-. „Французъ дитя“.
8. Сверхъ исключеній этихъ семи мѣстъ, ни
жеслѣдующія стихотворенія и мѣста (числомъ то
же семь) напечатать въ томъ самомъ видѣ, въ ка
комъ оныя находятся въ изданіи Анненкова, не до
пуская предполагаемыхъ издателемъ Исаковымъ
въ сихъ мѣстахъ дополненій и измѣненій. —
1) Къ другу стр. 7 два стиха „Послушайте, ска
залъ отшельникъ мужикамъ“ — Какъ... васъ
учу, такъ вы и поступайте.
2) М. Ѳ. Орлову, листъ 91, по изданію Анненко
ва стр. 238—239.
3) П. Я. Чаадаеву, листъ тотъ же, по изданію
Анненкова стр. 239—240.
4) Въ честь Императрицы Елизаветы Алексѣевны,
листъ 104. стихъ „Я нерожденъ людей заба
вить“.
5) Моя родословная, Листъ 235.
6) Изъ VI Пиндемонте листъ 270.
7) Въ рукописной тетради Посланіе къ Всеволож
скому „Прости счастливый сынъ пировъ“ и
далѣе до конца.
За тѣмъ всѣ прочія мѣста, упомянутыя въ
выпискѣ Ценсора Бекетова, Главное Управленіе
Ценсуры признало возможнымъ допустить къ пе
чати.
При семъ Главное Управленіе Ценсуры воз
ложило на отвѣтственность С. Петербургскаго Ценсурнаго Комитета строго наблюсти, чтобы въ пред
принятое Книгопродавцемъ Исаковымъ изданіе со
чиненій Пушкина ни подъ какимъ видомъ не было
введено что-либо исключенное изъ изданія Аннен
кова вышеупомянутымъ Высочайшимъ повелѣні
емъ объявленнымъ Комитету за № 2037.
О семъ опредѣленіи Главное Управленіе (sic)
Ценсуры имѣю честь увѣдомить Ваше Сіятельство,
для предложенія СПБургскому Ценсурному Ко
митету къ надлежащему исполненію. Приложен-
352
ныя къ представленію Комитета за № 828 первый
томъ Сочиненій А. С. Пушкина съ дополненіями
при семъ возвращаются и препровождается копія
съ относящейся къ оному представленію выпиской
составленной Ценсоромъ Бекетовымъ.
Министръ Народнаго Просвѣщенія
Е. Ковалевскій.
Директоръ А. Берте 9).
2. Списокъ „Гавріиліады“.
Списокъ этотъ сдѣланъ на 14 листкахъ обыкновенной
почтовой бумаги блѣдными чернилами очень четкой рукой
переписчика съ явными описками тамъ и здѣсь и очевид
ной небрежностью въ пунктуаціи. Списокъ неполный, воспол
няющій стихи, недостающіе въ печатномъ текстѣ Гербелев
скаго изданія. Листки вплетены послѣ печатнаго текста (ме
жду стр. 42 и 43). Въ печатномъ текстѣ въ соотвѣтствую
щихъ мѣстахъ пропуска вставлены, какъ будто рукой Со
болевскаго, цифры, относящіяся къ рукописнымъ вставкамъ.
Каждая рукописная вставка начинается съ послѣдняго пред
шествующаго слова въ печатномъ текстѣ, выписаннаго въ
углу и подчеркнутаго, и кончается первымъ словомъ при
мыкающаго печатнаго текста. Рукопись даетъ стихи 13—20,
40—100, 121 — 157, 193-339, 357—371, 432—447 и 466-522.
Благодаря любезности В. Н. Глазберга, предоставившаго
въ наше распоряженіе работу Томашевскаго о „Гавріиліадѣ“,
которой не имѣется ни въ Британскомъ Музеѣ, ни въ дру
гихъ доступныхъ намъ книгохранилищахъ Лондона, мы про
извели работу тщательнаго сличенія списка Соболевскаго съ
даваемымъ Томашевскимъ своднымъ текстомъ и приводи
мыми имъ разночтеніями. Нами учтены не только словесныя,
но и основныя пунктуаціонныя различія, но оставлены безъ
вниманія нѣкоторыя явныя описки (напр. „молодая“ вмѣсто
„младая“ въ ст. 230, „красавица“ вмѣсто „красавицу“ въ ст.
151, „почестей“ вм. „почестьми“ въ ст. 309 и др.).
Вотъ глазныя словесныя разночтенія списка Соболев
скаго по сравненію со своднымъ текстомъ Томашевскаго.
9) Исторія опубликованія стихотвореній Пушкина въ .Библіографи
ческихъ Запискахъ* разсказана С. Переселенковымъ в . .Пушкинъ и его
современники', вып. VI, стр. 34-43.
353
Въ скобкахъ указано, въ какомъ текстѣ встрѣчается еще
данное чтеніе 10).
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст,
Ст.
14: Бровьчерная, двухъ дѣвственныхъ холмовъ (О,Е,В,Г).
40: Но, братіе, съ небесъ во время оно.
48: Уже поля ночная тѣнь объемлетъ.
54: Тамъ Ангелы волнуются, кишатъ (Е-в, В).
69: Готова будь къ невѣдомой святынѣ (О).
77. Ея къ себѣ внимательные взоры (Е-в, О, В).
80: Пернатый шлемъ, роскошные уборы (Е-в, О, В).
93: Царя небесъ она плѣнить хотѣла (Е-в, О).
98: Затянутый плѣняетъ Адъютантъ (Е-в, Я, О, В).
131: Творецъ любилъ восточный пышный слогъ (Е).
155: На небѣ самъ сидѣлъ въ уныньи сладкомъ (О).
208: Подумала и ухо приклонила.
217: Онъ важно пѣлъ и слушали его.
226: Чтобъ властвовать надъ легкими сердцами.
227: Улыбкою блаженство имъ дарить (Е-в, О, Я, Г, В).
231: Въ своемъ саду скромна, умна жила.
235: Въ спокойствіи вели свой тихій вѣкъ (Е-в, О, Я).
243: Еврейскій Богъ угрюмый и строптивый (О).
251: Съ Архангеломъ не смѣй и молвить слова:
254: И чтожъ потомъ за скуку и мученье (В).
255: Награда вся: дьячковъ охриплыхъ пѣнье.
273: Въ глубокій лѣсъ ушла чета моя... (Г).
276: Застѣнчивый, неловкій и нѣмой (О).
280: И закипѣлъ душой, теряясь въ немъ.
291: Какъ ихъ тогда украшенъ былъ досугъ (Е-в, В).
292: Ты знаешь, Богъ, успѣхи прерывая.
295: Гдѣ безъ трудовъ они столь сладко жили (Е-в, О, В).
315: И дѣйствія, и страстныя причины.
327: Другая мне:ъ простое полотно (О, В).
337 [ Закрылися блистательныя очи,
L
_
.
338 J Къ лукавому склонивъ на грудь главу. і(Е-в,О,12,В).
357: Отецъ грѣха, лукавый врагъ Маріи (Е, Г, О).
358: Ты есть и былъ предъ нею виноватъ (Е-в, О, В).
359: Тебѣ ея пріятенъ былъ развратъ.
367: Шумя паритъ Архангелъ окриленный.
370: Красавица лицо себѣ закрыла (О, Г2, В).
10) Буквы, которыми мы здЬсь пользуемся, обозначаютъ слѣдующіе
печатные тексты и списки: Е — Ефремовскій списокъ; Е-в—варіантъ она
го; Г — списокъ Гаевскаго; Я — списокъ, положенный Якушкинымъ въ
основу Академическаго изданія; О — Огаревское изданіе (Лондонъ 1861);
В — Венгеровское изданіе. Для сличенія разночтеній я пользовался тща
тельной работой Томашевскаго, такъ какъ рукописные тексты были мнѣ
недоступны.
23
354
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
432: О, какъ была Еврейка хороша!!! (Е в, О, В).
442: Онъ между тѣмъ ей руку нѣжно жалъ.
448 I
44g ! Эти стихи отсутствуютъ.
476:
484:
493:
498:
499:
500:
515:
522:
(Но Греціи на вѣкъ погасла вѣра,
Его любви готовитъ новый даръ,
И что же? вдругъ лохматый, бѣлокрылый
Надъ розою садится и дрожитъ.
Клюетъ ее, колышется, вертится,
И носикомъ, и ножками трудится (Е).
Всевышній Богъ, какъ видится, потомъ.
За что Господь и наградилъ его.
Изъ этого сопоставленія видно, что списокъ Соболев
скаго, по сравненію съ текстами, привлеченными Томашев
скимъ въ его капитальной работѣ, даетъ 21 (двадцать одно)
новое чтеніе, а именно въ стихахъ 40, 48, 208, 217, 226, 231,
251, 255, 280, 292, 315, 359, 367, 442, 476, 484, 493, 498, 499,
515, 522. Изъ нихъ, однако, нѣкоторые сразу же должны
быть отведены какъ болѣе чѣмъ вѣроятныя описки; такъ
напр. въ ст. 292 „успѣхи“ вм. обычнаго „утѣхи“; въ ст. 515
„какъ видится“ вм. „какъ водится“ (тамъ же „Богъ“ вмѣсто
„Царь“, какъ у Томашевскаго, встрѣчается въ другихъ спис
кахъ). Описка, по всей вѣроятности, и „страстныя“ вм. „стран
ныя“ въ ст. 315. Незначительныя разночтенія, перестановку
словъ и т. д. даютъ стихи 40 („братіе“ вм. „братія“), 208,
226, 280, 359, 442, 476 („погасла“ вм. „угасла“), 484, 499
(„колышется“ вм. „копошется“), 522 („За что“ вм. „За то“).
Болѣе существенныя разночтенія представляютъ стихи 48,
217, 231, 251, 255, 493, 498. Изъ нихъ, однако, три (217, 231
и 498) цѣликомъ совпадаютъ съ непривлеченнымъ Томашев
скимъ и обслѣдованнымъ М. А. Цявловскимъ спискомъ
Лонгинова, а ст. 498 также и съ печатнымъ текстомъ Ефре
мова, тоже не упоминаемымъ Томашевскимъ и использо
ваннымъ Цявловскимъ. Нельзя не согласиться съ Цявлов
скимъ, что чтеніе Лонгинова и печатнаго текста Е ф р е м ова {„Надъ розою садится и дрожитъ“), подтверждаемое нынѣ
найденнымъ нами спискомъ Соболевскаго, имѣетъ больше
смысла, чѣмъ принятое Томашевскимъ въ его сводномъ тек
стѣ. Совсѣмъ новыми оказываются такимъ образомъ стихи
48, 251, 255 и 493, которые и подлежатъ введенію въ обо
ротъ при „сравнительномъ изученіи текстовъ „Гавріиліады“.
(Въ спискѣ Лонгинова Цявловскимъ было обнаружено та
кихъ новыхъ стиховъ 13).
Любопытенъ, конечно, самый фактъ включенія Собо
левскимъ въ его экземпляръ берлинскаго изданія Пушкина
недостающихъ стиховъ „Гавріиліады“. Какъ извѣстно, Пуш
355
кинъ взялъ съ Соболевскаго честное слово, что тотъ „все
гда будетъ стараться истреблять экземпляры ея“. Сообщая
объ этомъ въ примѣчаніи къ своему списку Лонгиновъ до
бавляетъ: „что Соболевскій исполняетъ по возможности“.
Къ этому примѣчанію имѣется приписка рукою С. Д. Полто
рацкаго, библіофила и друга Соболевскаго: „исключая сего
екземпляра, который однакожъ былъ у него подъ носомъ“.
Какъ видимъ, Лонгиновскій списокъ не былъ единственнымъ,
не уничтоженнымъ Соболевскимъ.
Нѣсколько словъ надобно сказать о пунктуаціи списка
Соболевскаго. Во многомъ она расходится съ принятой въ
другихъ спискахъ, но слишкомъ явная небрежность перепис
чика и наклонность его къ отсебятинѣ (напр., три восклица
тельныхъ знака подрядъ въ нѣсколькихъ случаяхъ), не по
зволяетъ полагаться на его пунктацію. Наиболѣе существен
ныя отличія отъ пунктуаціи своднаго текста Томашевскаго
находимъ въ стихахъ 86 (восклицательный знакъ послѣ „Про
пало все“ и запятая послѣ „пени“; въ другихъ варіантахъ по
слѣ „пропало все“ — точка или точка и тире, вмѣсто запя
той, какъ у Томашевскаго; трактовка словъ „Пропало все“
какъ отдѣльной фразы и отнесеніе продолженія строки къ
слѣдующему далѣе сравненію во всякомъ случаѣ логичнѣе,
чѣмъ чтенія Томашевскаго), 263 (двоеточіе въ концѣ стиха
вмѣсто вопросительнаго знака) 265 (весь стихъ въ скобкахъ
— такъ же и въ печатномъ текстѣ Ефремова), 317 (тоже),
476 и 477 (оба стиха включены въ общія скобки), 364 (вос
клицательный знакъ послѣ „Спѣши ловить“), 366 (многоточіе
послѣ „Все тихо“).
Что касается орѳографіи, то въ двухъ стихахъ встрѣ
чается окончаніе прилагательныхъ „ова“ („молодова“ въ ст.
322 и „другова“ въ ст. 502; первое и у Томашевскаго). Съ
другой стороны окончанія „ой“ вездѣ измѣнены на „ый“, въ
отличіе, напримѣръ, отъ Лонгиновскаго списка. Но такъ же,
какъ и у Лонгинова, съ большой буквы написаны слова „Ге
нералъ“, „Адъютантъ“, „Церковь“, „Армянское“, „Ангелы“,
Дарь“. Какъ замѣчаетъ правильно Цявловскій, въ этомъ
можно видѣть орѳографію оригинала. (У Томашевскаго эта
особенность отсутствуетъ, что, конечно, не значитъ, что ея
нѣтъ въ использованныхъ имъ текстахъ). Встрѣчается напи
саніе „лѣтаютъ“ и „улѣтѣлъ“.
3.Варіантъ строки въ стихотвореніи „Сказки
(N о ё 1)“ и карандашныя поправки.
На стр. 12-ой Гербелевскаго изданія въ извѣстномъ сти
хотвореніи „Сказки (Noël)“ („Ура! въ Россію скачетъ“) въ
строкѣ „Запрыгало дитя“ чернилами зачеркнуто слово „за-
356
прыгало“ и надъ строкой рукой Соболевскаго надписано:
„Пити пустилъ“. Другія поправки ограничиваются тѣмъ, что на
стр. 74, въ стихотвореніи озаглавленномъ „Начало посланія
къ М. Ѳ. Орлову" карандашомъ перечеркнута буква „M“ и
карандашомъ же надъ нею надписано „A“ (исправленіе об
щепринятое). Кромѣ того карандашомъ вычеркнута слѣдую
щая за заглавіемъ въ скобкахъ строка („См. соч. Пушкина,
изд. 1859 г. томъ I, стр. 186“). Стоящая подъ стихами дата
„1818“ также вычеркнута, и надъ ней надписано каранда
шомъ „24“. Послѣднюю цифру не слѣдуетъ, однако, прини
мать за исправленіе года, ибо въ части того же стихотворе
нія, напечатанной въ Исаковскомъ изданіи 1859 г., на кото
рое ссылается подзаголовокъ (т. I, стр. 186—7) карандашомъ
перечеркнуты первыя восемь строкъ, передъ строкой „И
такъ, смиривъ свои желанья“ стоитъ цифра „25“, а передъ
слѣдующей „26“. Очевидно, эти цифры относятся къ нуме
раціи строкъ. Въ концѣ, тоже карандашомъ, поставлено что
то похожеее на римскую единицу.
Никакихъ другихъ исправленій и помѣтъ не имѣется.
Можетъ явиться соблазнъ истолковать этотъ фактъ, какъ
косвенное доказательство того, что Соболевскій признавалъ
принадлежащимъ Пушкину все напечатанное въ Гербелевскомъ изданіи. Какъ будто онъ не счелъ во всякомъ случаѣ
нужнымъ отрицать принадлежности Пушкину тѣхъ или
иныхъ сомнительныхъ эпиграммъ, изъ коихъ нѣкоторыя
иногда приписывались ему самому (напр. „Нашъ пріятель
Пушкинъ Лёвъ“). Обращаетъ на себя, однако, вниманіе тотъ
фактъ, что кромѣ вплетенныхъ въ книгу 14 листковъ съ
„Гавріиліадой" имѣются еще вплетенные бѣлые листы. Ли
сты эти вплетены въ разныхъ мѣстахъ, и возможно, что
мѣстоположеніе ихъ не случайно, что на нихъ Соболевскій
предполагалъ дать объясненія къ стихамъ, либо не принад
лежащимъ Пушкину, либо нуждающимся въ комментаріи.
Своего намѣренія онъ, однако, не осуществилъ. Кромѣ бѣ
лыхъ листовъ, перемежающихъ страницы предисловія, под
писаннаго „Русскій“ (авторомъ его былъ Гербель), а также
въ концѣ книги, такіе листы имѣются между слѣдующими
стихотвореніями: „Отъ всенощной, вечоръ, идя домой“ и
„Молитва лейбъ-гусарскихъ офицеровъ“ (стр. 6 и 7), „П. Я.
Чаадаеву“ и „Сказки“ (10 и И), внутри стихотворенія „Царь
Никита“ (32 и 33), послѣ „Гавріиліады“ (42 и 43), „Элегія на
кончину тетушки“ и „Встарь Голицынъ мудрость вѣсилъ“
(44 и 45), „Начало Посланія къ М. Ѳ. Орлову“ (74 и 75),
„Къ портрету П. Я. Чаадаева“ и „На воцареніе Александра Г
(90 и 91), „Къ памятнику Александру 1“ и „Николаю Первому
(92 и 93), „Желали правъ они...“ и „Въ Россіи нѣтъ закона“
(94 и 95), „Надпись къ Исакіевской церкви“ и „Къ портрету
Аракчеева“ (96 и 97), „Князю А. Н. Голицыну“ (£8), „Про-
357
себя“ и „Автору Исторіи Государства Россійскаго“ (102 и
103), „Сошлися школьники“ и „Жуковскому“ (104 и 105),
„Пародія на Тлѣнность Жуковскаго“ и „Сыны Отечества и
Вѣстники Европы“ (106 и 107), „Хоть участье не поможетъ“
и „А. Н. Муравьеву послѣ представленія трагедіи его Битва
при Тиверьядѣ“ (НО и 111), „П[олево]му“ и „Нѣтъ подлѣе
до Алтая“ (112 и 113), „Эпиграммы на Булгарина“ и „Тимковскій царствовалъ“ (116 и 117), „Льву Серг. Пушкину“ и
„Накажи святой угодникъ“ (120 и 121), „Не вѣрю чести игро
ка“ и „Гр. А. А. Орловой Чесменской“ (122 и 123), „Разго
воръ Фотія съ гр. Орловой“ и „Княжнѣ С. А. Урусовой“
(124 и 125), „Ты хочешь знать, о дѣва молодая“ и „Черна,
какъ галка“ (128 и 129). Обращаетъ на себя вниманіе то,
что среди наиболѣе безспорныхъ Пушкинскихъ стихотворе
ній прокладныхъ листовъ не имѣется.
Въ оглавленіи принадлежавшаго Соболевскому же пер
ваго тома Исаковскаго изданія противъ названія стихотворе
нія „Красавицѣ, которая нюхала табакъ“ карандашомъ, рукой
какъ будто Соболевскаго, приписано на поляхъ: „Кантакузиной, сестрѣ Горчакова“.
Кириллъ Тарановскій.
Пушкинъ и Мицкевичъ.
Для польскихъ ученыхъ отношенія Мицкевича и Пушкина,
по словамъ проф. В. Ледницкаго, долгое время были »един
ственной дорогой въ Россію“. Однимъ изъ первыхъ занялся
этой проблемой В. Д. Спасовичъ въ статьѣ: „Пушкинъ и Миц
кевичъ у памятника Петра Великаго“1). Ей посвящена боль
шая монографія краковскаго ученаго Іосифа Третяка: „Слѣ
ды вліянія Мицкевича въ поэзіи Пушкина“2). Писали по это
му вопросу Марьянъ Здеховскій, графъ Станиславъ Тарновскій, Калленбахъ, Брюкнеръ, Сиротининъ, Погодинъ, а въ
новѣйшее время Е. Ло Гатто, В. Ледницкій и В. А. Фран
цевъ 3).
Польскіе ученые до сихъ поръ не могутъ простить Пуш
кину его такъ называемую „антипольскую трилогію". Защищая
Пушкина, русскіе ученые нерѣдко въ свою очередь уклоня
лись отъ историческаго и безпристрастнаго сужденія.
Намъ кажется, что пришло время разсмотрѣть эти отношенія
sine ira. Такую попытку и представляетъ настоящая ста
тья 4).
Мицкевичъ и Пушкинъ познакомились въ Москвѣ, какъ
полагаетъ А. К. Виноградовъ, въ первой половинѣ октября
1826 года на квартирѣ у Соболевскаго5). Мицкевичъ до
вольно часто встрѣчался съ Пушкинымъ у общихъ знако
мыхъ: Соболевскаго, К. А. Собаньской, Дельвига, графа
И. С. Лаваля и др. Ихъ встрѣчи, съ перерывами, вызванны
ми частыми поѣздками Пушкина въ деревню, продолжались
до весны 1829 года, когда Пушкинъ отправился на Кавказъ,
въ армію Паскевича, чѣмъ сильно обезпокоилъ графа Бен
кендорфа. Мицкевичъ 15 мая 1829 отплылъ изъ Кронштадта
заграницу. Съ этого времени поэты больше не встрѣчались;
другія заботы вытѣсняли воспоминанія о ихъ дружбѣ, но они
все же сохранили сердечную память другъ о другѣ.
Ихъ отношенія не ограничились простымъ знакомствомъ;
они скоро подружились, какъ это подчеркиваетъ самъ Миц
кевичъ:
36
Znali siç z sob£ niedlugo, lecz wiele —
I od dni kilku juz sa pryjaciele.
Ich dusze, wyzsze nad ziemne przeszkody,
Jako dwie Alpöw spokrewnione skaiy,
Choé je na wieki rozerwal nurt wodv,
Ledwo szum slysz^ swej nieprzyjaciôlki,
Chyl^c ka sobie pedniebne wierzcholki6).
Эта дружба русскаго и польскаго поэта тѣмъ инте
реснѣе, что Мицкевичъ никогда не любилъ Россіи, а поз
же, заграницей, даже не скрывалъ своей ненависти. Пушкинъ
также никогда не любилъ поляковъ. Еще въ 1822 г. Пуш
кинъ писалъ въ „Историческихъ замѣчаніяхъ“: „Униженная
Швеція и уничтоженная Польша — вотъ великія права Ека
терины на благодарность русскаго народа“. Въ неокончен
номъ посланіи (1824 г.) графу Олизару, мало извѣстному
польскому поэту, влюбленному въ Марію Раевскую, замѣча
емъ тѣ же враждебныя настроенія, какъ и въ стихахъ напи
санныхъ въ 1831 году во время польско-русской войны:
Пѣвецъ! издревле межъ собою
Враждуютъ наши племена.
То наша стонетъ сторона,
То гибнетъ ваша подъ грозою...
И тотъ не нашъ, кто съ дѣвой вашей
Кольцомъ завѣтнымъ сопряженъ;
Не выпьемъ мы завѣтной чашей
Здоровье вашихъ красныхъ женъ.
(И наша дѣва молодая),
Привлекши сердце поляка,
Не приметъ гордою душою,
Любовь народнаго врага.
Но огнь поэзіи чудесный
Сердца враждебныя дружитъ —
При пѣсняхъ вдохновенья
Вражда... молчитъ,
И возстаютъ благословенья,
И (на сердца) нисходитъ миръ...
Что же привлекало другъ къ другу Пушкина и Мицке
вича эти двѣ альпійскія скалы, навсегда раздѣленныя враждеб
ной струей? Въ томъ же 1824 году Пушкинъ пишетъ Язы
кову, быть можетъ вспоминая стихи графу Олизару:
361
Издревле сладостный союзъ
Поэтовъ межъ собой связуетъ:
Они жрецы единыхъ Музъ,
Единый пламень ихъ волнуетъ.
Другъ другу чужды по судьбѣ,
Они родня по вдохновенью.
Сладостный союзъ поэтовъ, объединенныхъ чудеснымъ
огнемъ поэзіи, не есть ли завѣтная мысль Пушкина? Не
такъ ли слѣдуетъ понимать его строки, написанныя четыр
надцать лѣтъ спустя:
И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ піитъ.
Ту же мысль мы находимъ у Мицкевича въ пер
вой лекціи, прочитанной въ Парижѣ 22 декабря 1840 г.: „Ли
тература есть поле, куда всѣ славянскіе народы несутъ пло
ды своей моральной и умственной дѣятельности, не отталки
ваясь другъ отъ друга, безъ взаимнаго отвращенія. Дай Богъ,
чтобы эта мирная встрѣча на этомъ прекрасномъ поприщѣ
была символомъ ихъ объединенія въ другой области“ 7).
Пушкинъ былъ высокаго мнѣнія о поэзіи польскаго
поэта; Мицкевичъ также высоко цѣнилъ музу своего рус
скаго собрата. Они часто чрезвычайно похвально отзыва
лись другъ о другѣ, къ тому же переводы Пушкинымъ про
изведеній Мицкевича, и Мицкевичемъ стихотворенія Пушки
на свидѣтельствуютъ о взаимномъ признаніи двухъ великихъ
славянскихъ поэтовъ, тѣмъ болѣе, что они переводили только
то, что ихъ глубоко волновало.
Еще въ 1828 году Пушкинъ началъ переводить „Конра
да Валенрода“; поэма только что вышла изъ печати. Пуш
кинъ вспомнилъ это произведеніе Мицкевича еще разъ, ког
да писалъ Дубровскаго (1822—33), упоминая, что Марья Ки
рилловна „не путалась шелками подобно любовницѣ Конра
да, которая, въ любовной разсѣянности вышила розу зеле
нымъ шелкомъ“8).
Въ „Странствіи Онѣгина“ Пушкинъ первый разъ гово
ритъ о Мицкевичѣ:
Тамъ пѣлъ Мицкевичъ вдохновенный
И посреди прибрежныхъ скалъ
Свою Дитву воспоминалъ.
Въ февралѣ 1830 года, въ эпиграммѣ на Ѳ. В. Булга
рина, Пушкинъ упоминаетъ Мицкевича на ряду съ Костюш
кой, противопоставляя этихъ героическихъ поляковъ — ре
негату Булгарину. Въ томъ же году въ извѣстномъ сонетѣ
362
о сонетѣ имя Мицкевича приводится рядомъ съ именами
Данте, Петрарки, Камоенса и Шекспира:
Подъ сѣнью горъ Тавриды отдаленной
Пѣвецъ Литвы въ размѣръ его стѣсненный
Свои мечты мгновенно заключалъ.
Въ 1833 году Пушкинъ переводитъ двѣ баллады Миц
кевича: „Воевода“ („Czaty“) и „Будрысъ и его сыновья“
(„Trzech Budrysöw“). По всей вѣроятности въ то же время,
работая надъ „Мѣднымъ Всадникомъ“, Пушкинъ переписы
ваетъ по польски нѣкоторые стихи изъ „Отрывка изъ III
части Дѣдовъ“ (Dziadôw Czçsci III. Ustçp), 'a въ при
мѣчаніи къ стиху изъ „Мѣднаго Всадника“: „Нева всю
ночь...“ говоритъ: „Мицкевичъ прекрасными стихами описалъ
день предшествовавшій петербургскому наводненію. (Въ од
номъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній Oleszkiewicz). Жаль
только, что описаніе его неточно. Снѣгу не было. Нева не
была покрыта льдомъ. Наше описаніе вѣрнѣе, хотя въ немъ
нѣтъ яркихъ "красокъ польскаго поэта“. Наконецъ 10 сен
тября 1834 года Пушкинъ написалъ двадцать стиховъ, безъ
заглавія, внѣ всякаго сомнѣнія, посвященныхъ Мицкевичу:
Съ нимъ
Дѣлились мы и чистыми мечтами
И пѣснями (онъ вдохновенъ былъ свыше
И съ высоты взиралъ на жизнь)9).
Послѣдній разъ въ произведеніяхъ Пушкина имя Миц
кевича встрѣчаемъ въ „Пѣсняхъ западныхъ славянъ“, въ
предисловіи къ изданію 1835 г.: „Поэтъ Мицкевичъ, критикъ
зоркій, и тонкій знатокъ въ славянской поэзіи, не усумнился
въ подлинности сихъ пѣсенъ“.
Пушкинъ не только высоко цѣнилъ Мицкевича, но и
хорошо зналъ его произведенія. Въ библіотекѣ Пушкина на
ходились: Konrad Walenrod, петербургское изданіе 1828 г.,
Poezye Adama Mickiewicza, Petersburg 1829, и парижское че
тырехтомное изданіе произведеній Мицкевича (1832 г.), ко
торое Пушкину подарилъ Соболевскій, съ шуточнымъ по
священіемъ на внутренней сторонѣ обложки четвертаго тома:
„А. С. Пушкину за прилежаніе, успѣхи и благонравіе С. Со
болевскій“. Впрочемъ напомнимъ, что первые три тома оста
лись неразрѣзанными 10).
Мицкевичъ также высоко цѣнилъ Пушкина какъ поэта.
Еще въ 1828 году онъ перевелъ первую часть Пушкинскаго
„Воспоминанія“ (Когда для смертнаго умолкнетъ шумный
день) “). Въ „Памятникѣ Петра Великаго“, о которомъ бу
демъ говорить впослѣдствіи, Мицкевичъ описываетъ себя и
Пушкина:
363
Z wieczora na dzdzu stali dwaj mlodzierice
Pod jednym plaszczem, wzi^wszy siç za rçce:
Jeden, öw pielgrzym, przybylec z zachodu,
Nieznana carskiej ofiara przemocy —
Drugi by! wieszczem ruskiego narodu,
Slawny pieäniami po calej pöinocy12).
На томикѣ Байрона, который Мицкевичъ подарилъ Пуш
кину, польскій поэтъ написалъ: „Bajrona Puszkinowi poswieca
wielbiciel obödwöch“ (Байрона Пушкину посвящаетъ поклон
никъ обоихъ).
О произведеніяхъ Пушкина Мицкевичъ высказывался
неоднократно въ лекціяхъ въ Collège de France и въ некро
логѣ, напечатанномъ въ парижскомъ журналѣ Le Globe, 25
мая 1837 года за подписью: Un ami de Puszkin. Говоря о
байронизмѣ у Пушкина въ (Кавказскомъ Плѣнникѣ и въ Бах
чисарайскомъ Фонтанѣ), Мицкевичъ упоминаетъ, что Пуш
кинъ „не былъ фанатичнымъ байронистомъ, былъ онъ ско
рѣе, такъ сказать, байронствующимъ (byroniaque)“. Въ „Цы
ганахъ“ и „Мазепѣ“ (т. е. „Полтавѣ“) 13) Пушкинъ освобо
дился отъ вліянія Байрона: „Эти двѣ поэмы болѣе реали
стичны. Сюжетъ ихъ простъ, характеры дѣйствующихъ лицъ
лучше задуманы и обрисованы съ силой; ихъ стиль кажется
свободнымъ отъ всякой романтической неестественности. Къ
сожалѣнію, байроновская форма, какъ оружіе Саула, еще
стѣсняла движенія этого юнаго Давида. Однако, уже стало
замѣтно, что онъ готовъ избавиться отъ нея“. Наиболѣе кра
сивымъ, оригинальнымъ и народнымъ произведеніемъ Пуш
кина польскій поэтъ считаетъ „Евгенія Онѣгина“, которое
будетъ читаемо во всѣхъ славянскихъ земляхъ и навсегда
останется памятникомъ его эпохи. Онѣгину Мицкевичъ по
святилъ часть своей лекціи 7 іюня 1842 года; его разборъ
величайшаго произведенія Пушкина не представляетъ особа
го интереса. О „Борисѣ Годуновѣ“ Мицкевичъ говоритъ въ
некрологѣ, не раздѣляя мнѣнія тѣхъ русскихъ, которые ста
вятъ это произведеніе на ряду съ шекспировскими, но укло
няется отъ мотивировки своего сужденія: „Довольно будетъ
упомянуть, что Пушкинъ былъ еще слишкомъ молодъ для
созданія историческихъ личностей. Это была только попыт
ка, но она достаточно показала, чѣмъ онъ могъ стать со
временемъ. Et tu Shakespeare eris si fata sinant“. Мицкевичъ
особенно выдѣляетъ „оригинальную и грандіозную, един
ственную въ своемъ родѣ“, сцену въ кельѣ Чудова мона
стыря, называя ее прологомъ (хотя это пятая сцена) и пере
даетъ ее содержаніе, хотя совершенно невѣрно. По всей вѣ
роятности Мицкевичъ о „Борисѣ Годуновѣ“ писалъ только
по воспоминаніямъ, оставшимся отъ чтенія Пушкинымъ сво
ей трагедіи у Лаваля 16 мая 1828 года, на которомъ поль
364
скій поэтъ присутствовалъ. Въ лекціи 4 апрѣля 1843 г. Миц
кевичъ опять упоминаетъ Бориса Годунова, но трудно ска
зать, читалъ ли онъ его полностью, хотя мы знаемъ, что у
него было изданіе произведеній Пушкина 1838 года. Въ свсихъ лекціяхъ (20 декабря 1842 и 10 января 1843) Мицкевичъ
приводитъ и разбираетъ нѣкоторые стихи Пушкина, написан
ные еще до 1829 года. Особенно высоко Мицкевичъ ста
вилъ „Пророка“. Въ некрологѣ, послѣ „Бориса Годунова“,
Мицкевичъ упоминаетъ еще только о занятіяхъ Пушкина
народными сказками и пѣснями, а также русской исторіей:
„Онъ пересталъ даже писать стихи, напечаталъ только нѣ
сколько историческихъ трудовъ, которые можно считать
лишь подготовительной работой“. Все это даетъ намъ пра
во предположить, что польскій поэтъ не былъ знакомъ съ
большими произведеніями Пушкина, написанными послѣ отъ
ѣзда Мицкевича изъ Россіи.
Изъ всего, что Мицкевичъ писалъ о Пушкинѣ, самый
большой интересъ представляютъ тѣ мѣста, въ которыхъ
Мицкевичъ высказываетъ живое впечатлѣніе отъ встрѣчъ
съ Пушкинымъ и въ нѣсколькихъ фразахъ обрисовываетъ
обликъ русскаго поэта: „Казалось, что онъ навсегда по
кидаетъ чужіе края, вкореняется въ Россію и сростается съ
родной своей землей. Рѣчь его, въ которой можно было
замѣтить зародыши будущихъ его произведеній, станови
лась все болѣе и болѣе серьезною. Онъ любилъ разбирать
великіе религіозные и общественные вопросы, само суще
ствованіе которыхъ было, повидимому, неизвѣстно его со
отечественникамъ... — Пушкинъ... удивлялъ слушателей жи
востью, тонкостью и ясностью ума. Онъ обладалъ громад
ной памятью, вѣрнымъ сужденіемъ, изящнѣйшимъ вкусомъ.
Когда онъ разсуждалъ о политикѣ иностранной и внутрен
ней, казалось, что говоритъ посѣдѣлый человѣкъ, питающій
ся ежедневно чтеніемъ преній всѣхъ парламентовъ“.
Эти слова знаменательны не только потому, что Миц
кевичъ здѣсь ставитъ Пушкина выше всѣхъ его современни
ковъ, — мы узнаемъ изъ нихъ и темы ихъ разговоровъ:
они бесѣдовали о литературѣ, религіи, политикѣ14), Однаж
ды они разговаривали о Петрѣ Великомъ; Мицкевичъ жи
вописалъ этотъ разговоръ въ своемъ „Памятникѣ Петра
Великаго“. И у Пушкина находимъ подтвержденіе того, что вы
сокія темы ихъ разговоровъ не ограничивались литературой:
Нерѣдко
Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ,
Когда народы, распри позабывъ,
Въ великую семью соединятся.
Отношенія Россіи къ Польшѣ было уже въ то время
365для Мицкевича самымъ больнымъ вопросомъ, а Пушкинъ^
какъ намъ извѣстно, всегда не долюбливалъ поляковъ,
считая ихъ нашими врагами. „Если таково было посто
янное настроеніе Пушкина, пишетъ Спасовичъ, прямо
противное національнымъ идеаламъ и стремленіямъ Миц
кевича, то слѣдуетъ заключить, что наши поэты не до
шли до щекотливыхъ местъ и до болячекъ въ международ
номъ вопросѣ, что они не раскрылись другъ передъ дру
гомъ на распашку, не выложили другъ передъ другомъ сво
ихъ тайнъ, что и понятно. Люди ищутъ пріятныхъ впечат
лѣній и избѣгаютъ непріятныхъ. Люди, влекомые другъ къ
другу сочувствіемъ, не будутъ бесѣдовать о предметахъ, могу
щихъ ихъ поссорить и противныхъ обоюдному сближенію“’5).
Модзалевскій сообщилъ интересный фактъ для исто-'
ріи взаимоотношеній Пушкина и Мицкевича, изъ котораго
видно, что Пушкинъ интересовался судьбою польскаго по
эта, подвергая себя извѣстной опасности16). Въ бумагахъ
фонъ Фока, управлявшаго III Отдѣленіемъ, Модзалевскій на
шелъ записку Пушкина, помѣченную—7 января 1828 г. и на
писанную „не безъ дипломатической ловкости“. Пушкинъ въ
осторожныхъ выраженіяхъ ходатайствовалъ о разрѣшеніи
Мицкевичу вернуться на родину. Онъ, вѣроятно, передалъ
эту записку, для напоминанія, при личномъ ходатайствѣ.
Модзалевскій думаетъ, что просьба Пушкина помогла Миц
кевичу освободиться отъ службы, столь ему несвойственной,
въ гражданской канцеляріи московскаго генералъ-губернато
ра. И во время польскаго возстанія Пушкина интересуетъ
судьба польскаго поэта. 21 января 1831 г. Пушкинъ пишетъ
Е. М. Хитрово: „De tous les polonais il n’y a que Mickiewicz
qui m’intéresse. Il était à Rome au commencement de la révolte,
je crains qu’il ne soit venu à Varsovie, assister aux dernières
crises de sa patrie“.
Для отношенія Мицкевича къ Пушкину очень показательно
и характерно фантастическое извѣстіе, распространившееся
въ кругу друзей Пушкина послѣ его смерти. Хотя въ немъ
нѣтъ ни капли истины, самый фактъ, что друзья обоихъ
поэтовъ и люди хорошо ихъ знавшіе, ему повѣрили, показы
ваетъ сколь близка и сердечна была духовная связь вели
кихъ славянскихъ поэтовъ. Ходили слухи, что Мицкевичъ
вызвалъ Дантеса на дуэль и объявилъ о вызовѣ во француз
скихъ газетахъ. Со словъ А. И. Тургенева, В. А. Мухановъ
пишетъ о предполагаемой дуэли 13 марта 1837 года въ сво
емъ дневникѣ. Самъ Тургеневъ сообщилъ этотъ слухъ изъ
Петербурга 20 марта московскому почтъ-директору А. Я. Бул
гакову. Повѣрилъ слуху и Хомяковъ, написавъ объ этомъ
Языкову 14 апрѣля. А. А. Елагинъ передаетъ въ письмѣ къ
матери даже нѣкоторыя подробности вызова и утвержда
етъ, что убійца уже ѣдетъ въ Парижъ17).
366
Это приблизительно все, что въ литературѣ извѣстно
о личныхъ отношеніяхъ Пушкина и Мицкевича. Въ мартѣ
1829 года они разстались, никогда больше въ жизни не встрѣ
тились и даже не переписывались, но не забыли другъ друга.
Они „намагничиваютъ другъ друга издали, при чемъ дружба
пропитывается враждой и вражда до странности похожа на
дружбу и любовь“18). Это время между польской войной и
созданіемъ „Мѣднаго Всадника“, время своебразной литератур
ной полемики двухъ поэтовъ по вопросу, который они не
хотѣли затронуть при личномъ общеніи въ Москвѣ и Пе
тербургѣ. Поводъ къ этому спору далъ Пушкинъ своими
стихами 1831 года: „Клеветникамъ Россіи“ и „Бородинская
годовщина“. На эти стихи Мицкевичъ отвѣтилъ въ по
священіи „Отрывка изъ III части Дѣдовъ“. Всѣмъ этимъ об
виненіямъ Пушкинъ противопоставилъ геніальныя строки
„Мѣднаго Всадника“ и стихотвореніе „Мицкевичъ“.
Лирико-эпическая трилогія, посвященная польско-рус
ской войнѣ 1831 года, написана въ короткій промежутокъ
времени. Первое стихотвореніе „Къ тѣни полководца“, по
мнѣнію В. А. Францева, написано въ концѣ мая или въ на
чалѣ іюня 1831, „Клеветникамъ Россіи“ — 2 августа и “Бо
родинская годовщина“ — 5 сентября. Трилогія содержитъ
три мотива — страхъ за судьбу отечества, полемику съ ев
ропейскимъ общественнымъ мнѣніемъ и радость побѣдителя.
Изъ переписки Пушкина видно, что въ началѣ онъ
не считалъ польско-русскую войну большой опасностью
для Россіи. Только когда возстаніе приняло неожиданные
размѣры и когда появилась холера, въ Россіи почувствовали,
что нужно, скорѣе кончать войну, тѣмъ болѣе, что грозила
опасность отъ вмѣшательства европейскихъ державъ. Почув
ствовалъ это и Пушкинъ, обращаясь къ тѣни Кутузова съ
вопросомъ: кто наслѣдникъ великаго вождя?
Въ стихотвореніи „Клеветникамъ Россіи“ Пушкинъ по
лемизируетъ съ европейскимъ общественнымъ мнѣніемъ, въ
особенности съ ораторами французскаго парламента, бряцав
шими оружіемъ въ мартѣ 1831 года. Вообще все европей
ское общественное мнѣніе смотрѣло на Польшу, какъ на апtemurale christianitatis и европейской культуры. Въ Комитетѣ
помощи Польшѣ, подъ предсѣдательствомъ Лафаета, участво
вали поэты: Беранже, Гюго, Делавинь и другіе, служившіе
своею лирою борьбѣ противъ Россіи. Не признавая за Европой
право вмѣшаться въ споръ, Пушкинъ отрицаетъ, что
европейцы вообще могутъ понять въ чемъ его сущность:
Оставьте: это споръ славянъ между собою,
Домашній, старый споръ, ужъ взвѣшенный судьбою,
Вопросъ, котораго не разрѣшите вы.
367
Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ
Кичливый ляхъ, иль вѣрный россъ?
Славянскіе ль ручьи сольются въ русскомъ морѣ,
Оно ль изсякнетъ? вотъ вопросъ.
Въ „Бородинской годовщинѣ“, выражая радость, что
еще разъ отражено нашествіе съ Запада, предводимое Поль
шею, Пушкинъ снова обращается къ Европѣ:
Клеветники, враги Россіи,
Что взяли вы?...
Куда отдвинемъ строй твердынь?
За Бугъ, до Ворсклы, до Лимана?
За кѣмъ останется Волынь?
За кѣмъ наслѣдіе Богдана?
Признавъ мятежныя права,
Отъ насъ отторгнется ль Литва?
Нашъ Кіевъ дряхлый, златоглавый
Сей пращуръ русскихъ городовъ
Сроднитъ ли съ буйною Варшавой
Святыню всѣхъ своихъ гробовъ?
Этотъ вопросъ поставленъ только реторически; отвѣтъ
на него — само паденіе Варшавы. Но изъ этихъ стиховъ
точно видна сущность русско-польскаго спора, не достаточно
ясно выявленная въ стихотвореніи „Клеветникамъ Россіи“.
Это столкновеніе двухъ славянскихъ имперіализмовъ, а споръ
ихъ — споръ о границахъ. И война 1830—1831 велась глав
нымъ образомъ изъ-за польскихъ претензій на Литву и Бѣ
лую Русь, чье присоединеніе къ Царству Польскому было
предвидено проектомъ Александра I, который .нѣкоторые
польскіе круги хотѣли истолковать, какъ отказъ отъ исто
рическаго и національнаго права на эти земли. И если этотъ
споръ о границахъ можно рѣшить только цѣною уничтоже
нія Польши, Пушкинъ соглашается и на это19). Вотъ почему
Пушкинъ и отрицаетъ за Европой, имѣвшей лишь очень смут
ное представленіе о Славянахъ, право вмѣшиваться въ этотъ
споръ. Кто на Западѣ могъ разобраться, гдѣ польское, а гдѣ
русское историческое и національное право на тѣ или другія
земли? И намъ кажется, что именно выше приведенныя стро
ки изъ „Бородинской годовщины“ объясняютъ начало стихо
творенія „Клеветникамъ Россіи“:
Славянскіе ль ручьи сольются въ русскомъ морѣ?
Оно ль изсякнетъ? вотъ вопросъ.
Эти стихи обыкновенно истолковываются, какъ
пан-
368
славянская программа Пушкина. Прежде всего отмѣтимъ,
что Пушкинъ никогда не говорилъ о всеславянской задачѣ
Россіи. Еще въ 1822 году Пушкинъ писалъ въ своихъ „Исто
рическихъ замѣчаніяхъ“: „Дунай долженъ быть настоящею
границею между Турціею и Россіей", — такимъ образомъ
большая часть болгарскихъ и всѣ сербскія земли остались
бы какъ разъ въ Турціи; если бы Пушкинъ имѣлъ какія
либо всеславянскія стремленія, онъ бы не остановился на
Дунаѣ. М. П. Погодинъ въ 1871 году замѣчаетъ: „Самъ Пуш
кинъ, писавъ посланіе къ клеветникамъ Россіи, котораго про
исхожденіе или зарожденіе извѣстно мнѣ болѣе, нежели комунибудь другому, думалъ только о Польшѣ, которая тогда
возмутилась, и о которой раздавались неистовыя восклица-^
нія во французской палатѣ депутатовъ. О племенахъ сла
вянскихъ, ихъ исторіи и настоящемъ положеніи онъ имѣлъ
понятія очень темныя и, какъ поэтъ, видѣлъ только съ од
ной стороны неизмѣримое пространство Россіи съ безчислен
нымъ населеніемъ, а съ другой тѣсныя и малолюдныя сла
вянскія, и выразилъ, вдохновенный, свое впечатлѣніе сравне
ніемъ ихъ съ моремъ и ручьями, имѣя въ мысли все-таки
одинъ притокъ польскій“. Это свидѣтельство Погодина, какъ
современника, близко стоящаго къ Пушкину, представляетъ
для насъ цѣнность, посколько въ немъ такъ увѣренно вы
сказана мысль, что Пушкинъ думалъ только о Польшѣ.
Остальное лишь предположеніе Погодина, содержащее вну
треннее противорѣчіе (выходитъ, что Пушкинъ видѣлъ одно,
а имѣлъ въ мысляхъ другое); къ тому же свѣдѣнія Пушкина
о славянахъ были не столь темны, какъ предполагалъ его
другъ. Почему же все-таки Пушкинъ, утверждавшій, что
каждое выраженіе въ художественномъ произведеніи должно
быть точнымъ, думая только о Польшѣ употребилъ множе
ственное число: „славянскіе ручьи“? Не слѣдуетъ ли пред
положить, что поэтъ „славянскими ручьями“ назвалъ тѣ рус
скіе племена, малорусское и бѣлорусское, которые и сами
въ историческомъ развитіи колебались между Россіей и Поль
шей. Такимъ образомъ уясняется мысль, что безъ этихъ
ручьевъ можетъ изсякнуть русское море. Для Пушкина вста
етъ вопросъ: если Польша отниметъ у Россіи эти земли, не
будетъ ли это началомъ паденія великой Россійской Имперіи?
Наконецъ, въ пользу этого объясненія можемъ привести
чисто формальное соображеніе: развѣ Пушкинъ, столь чув
ствовавшій архитектонику художественнаго произведенія сдѣ
лалъ бы такое отступленіе и выдвинулъ бы, внѣ связи съ
основной темой, проблему о всеславянской роли Россіи, что
бы уже къ ней больше не возвращаться?
Такимъ образомъ мы полагаемъ, что проблема Пуш
кина не всеславянская, а всероссійская™). Пушкинъ этимъ и
ограничивается, въ немъ нѣтъ ненависти къ побѣжденнымъ,
— онъ призываетъ „милость къ падшимъ“:
369
Въ бореньѣ падшій невредимъ;
Враговъ мы въ прахѣ не топтали,
Мы не напомнимъ нынѣ имъ
Того, что старые скрижали
Хранятъ въ преданіяхъ нѣмыхъ;
Мы не сожжемъ Варшавы ихъ22);
Они народной Немезиды
Не узрятъ гнѣвнаго лица
И не услышатъ пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца.
„Клеветникамъ Россіи“ и „Бородинская годовщина“ пер
вый разъ были напечатаны вмѣстѣ съ однимъ стихотворе
ніемъ Жуковскаго въ брошюрѣ подъ заглавіемъ: „На взятіе
Варшавы“. Брошюра вышла въ началѣ сентября и сразу обра
тила на себя всеобщее вниманіе. Русская общественность во
взглядахъ на русско-польскую войну была раздѣлена на два
лагеря, поэтому она и восприняла двояко стихи Пушкина.
Одни его превозносили за великолѣпный антипольскій гимнъ,
другіе, стыдившіеся лукаваго тайнаго договора о раздѣлѣ
Польши, не могли понять патріотическихъ чувствъ поэта и
рѣзко его осудили. Между послѣдними были и друзья Пуш
кина, князь Вяземскій и братья Тургеневы. Нѣкоторые шли
еще дальше (какъ напр. Н. А. Мельгуновъ въ письмѣ С. П.
Шевыреву 21 декабря 1831), утверждая, что Пушкинъ про
дался и написалъ эти стихи для того, чтобы получить де
нежное вознагражденіе отъ Царя. Конечно это только злоб
ная сплетня—на этомъ сходятся всѣ изслѣдователи и поль
скіе и русскіе. „О томъ, что Пушкинъ продался, — пишетъ
проф. Ледницкій, — мнѣ кажется, не могло быть и рѣчи,
слѣдуетъ предполагать, что и въ 1831 году Пушкинъ могъ
бы повторить свои собственные стихи, написанные въ
1819 г.“ 28)На лирѣ скромной, благородной
Земныхъ боговъ я не хвалилъ;
И силѣ, въ гордости свободной,
Кадиломъ лести не кадилъ.
Я не рожденъ царей забавить
Стыдливой музою моей...
И неподкупный голосъ мой
Былъ эхо Русскаго народа.
Все же, въ то время многіе не такъ думали. Наоборотъ,
мнѣніе высказанное Мельгуновымъ, все больше и больше
распространялось. Какъ будто что то узналъ и Мицкевичъ.
24
370
Намъ не извѣстно держалъ ли польскій поэтъ въ рукахъ
брошюру „На взятіе Варшавы“, но во всякомъ случаѣ дол
женъ былъ кое что о ней слышать. Его посвященіе „Do
przyjaciöl Moskali“ содержитъ довольно прозрачный намекъ
на Пушкина и Жуковскаго. Обращаясь къ своимъ русскимъ
друзьямъ, „чьи чужеземныя лица имѣютъ право граждан
ства“ въ его мечтахъ, Мицкевичъ вспоминаетъ повѣшеннаго
Рылѣева, котораго онъ обнималъ какъ брата, и Бестужева,
поэта и воина, чья рука, протянутая ему когда-то, копаетъ
теперь руду въ шахтахъ, рядомъ съ польскою24). Даль
ше Мицкевичъ обращается къ друзьямъ, измѣнившимъ преж
нимъ идеямъ:
Innych moze dotknçta srozsza niebios kara:
Moze kto z was, urzçdem, orderem zhanbiony,
Duszç woln$ na wieki przedal w laskç сага
I dzis na progach jego wybija poklony...
Moze platnym jçzykiem tryumf jego slawi
I cieszy siç ze swoich przyjaeiöl mçczenstwa.
Moze w ojezyinie mojej moj? krwi^ siç krwawi
I przed carem, jak z zaslug, chlubi siç z przeklenstwa25).
Большинство изслѣдователей думаютъ, что Мицкевичъ
въ этихъ стихахъ мѣтилъ въ Пушкина и Жуковскаго. Проф.
Ледницкій полагаетъ, что Мицкевичъ навѣрно только что-то
слышалъ объ ихъ стихотвореніяхъ и даже высказываетъ
остроумное и весьма вѣроятное предположеніе объ источ
никѣ, изъ котораго Мицкевичъ почерпнулъ свои свѣдѣнія26).
Мы уже упомянули письмо Н. А. Мельгунова — С. П. Шевыреву 21 декабря 1831 г., гдѣ Мельгуновъ пишетъ: „Мнѣ
досадно, что ты хвалишь Пушкина за послѣдніе его вирши.
Онъ мнѣ такъ огадился, какъ человѣкъ, что я потерялъ къ
нему уваженіе даже какъ къ поэту... Теперешній Пушкинъ
есть человѣкъ, остановившійся на половинѣ своего поприща,
и который, вмѣсто того, чтобы смотрѣть прямо въ лицо
Аполлону, оглядывается по сторонамъ и ищетъ другихъ бо
жествъ, для принесенія имъ въ жертву своего дара. Упалъ,
упалъ Пушкинъ, и — признаюсь, мнѣ весьма жаль этого.
О, честолюбіе и златолюбіе!“27). Шевыревъ былъ однимъ
изъ ближайшихъ друзей княгини Зинаиды Волконской и въ
то время находился въ Женевѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ не
разъ разговаривалъ съ ней и спорилъ на эту тему, такъ
какъ она совершенно по иному относилась къ событіямъ
1831 года. Княгиня въ то время постоянно переписывалась
съ Мицкевичемъ и трудно повѣрить, чтобы она ничего не упо
мянула о Пушкинѣ, зная отношенія поэтовъ. Кромѣ того очень
скоро появился нѣмецкій переводъ стихотворенія „Клеветни
371
камъ Россіи“; съ нимъ Мицкевичъ могъ ознакомиться во
время пребыванія въ Дрезденѣ; точно такъ же онъ могъ полу
чить и французскіе переводы.
Послѣ этого намека на Пушкина и Жуковскаго поль
скій поэтъ желаетъ своимъ русскимъ друзьямъ, чтобы сло
ва его пѣсни возвѣстили имъ свободу, какъ журавли весну.
И русскіе узнаютъ голосъ польскаго поэта, ибо для нихъ
онъ имѣлъ голубиную простоту и имъ онъ открылъ свои
тайны. И вѣроятно вспомнивъ ту серебряную, вызолочен
ную стопку, которую ему подарили его русскіе друзья пе
редъ его отъѣздомъ изъ Москвы28), такъ заканчиваетъ свое
посвященіе:
Teraz па swiat wylewam ten kielich trucizny,
Zr^ca jest i pal^ica mojej gorycz mowy,
Gorycz, wyssana ze krwi i z lez mej ojczyzny.
Niech zrze i pali — nie was, lecz wasze okowy!
Kto z was podniesie skargç, dla mnie jego skarga
Bçdzie, jak psa szczekanie, ktory tak siç wdrozy
Do cierpliwie i dtugo noszonej obrozy,
Ze wkoiîcu gotöw k^sac rçkç co ja targa29).
Въ самомъ „Отрывкѣ“ Мицкевичъ говоритъ о Россіи,
стонущей подъ игомъ тираніи. Насъ здѣсь особенно интере
суетъ часть озоглавленная „Pomnik Piotra Wielkiego“, въ ко
торой Мицкевичъ описываетъ себя и Пушкина30) (мы уже
приводили первые стихи поэмы). Русскій поэтъ разсказыва
етъ пелегриму, углубленному въ свои думы, исторію созда
нія памятника:
Poslano wyrwac z finlandzkich nadbrzeSy
Wzgörek granitu; tek na pani slowo
Plynie po morzu i po l^dzie bieiy,
I w miescie pada na wznak przed carow^.
Ju2 wzgörek gotöw; leci car miedziany,
Car knutowladny w todze Rzymianina — 31).
Поэтъ вспоминаетъ памятникъ Марку Аврелію въ Римѣ;
тамъ конь ступаетъ спокойнымъ шагомъ, по ровному пути,
какъ бы чувствуя, что милліонамъ дѣтей несетъ отца, на
чьемъ челѣ сіяетъ мысль о счастьи государства. Не таковъ
Петръ:
Car Piotr wypuécil rumakowi wodze —
Widaé, ze leciat, tratuj^c po drodze;
Odrazu wskoczyl az na sam brzeg skaly.
Juz kon szalony wzniösl wgôrç kopyta —
Car do nie trzyma, kon wçdzidtem zgrzyta;
372
Zgadniesz, ze spadnie i prysnie w kawaly!
Od wieku stoi, skacze, lecz nie spada,
Jako lec^ca z granitöw kaskada,
Gdy sciçta mrozem, nad przepasci^ zwisnie;
Lecz, skoro slonce swobody zablysnie,
I wiatr zachodni ogrzeje te panstwa,
I côz siç stanie z kaskada tyranstwa?32).
Изслѣдователи прежде всего заинтересовались является
ли описанная въ этомъ отрывкѣ встрѣча Пушкина и Мицке
вича событіемъ истиннымъ или же она лишь поэтическій
вымыселъ. Нѣкоторые факты показываютъ, что Пушкинъ и
Мицкевичъ однажды разговаривали передъ памятникомъ, но
конечно было бы слишкомъ смѣло утверждать, какъ это
дѣлаетъ Хмѣлевскій, что поэты прикрылись отъ дождя тѣмъ
коричневымъ плащемъ, который Мицкевичъ купилъ въ
Одессѣ и потомъ подарилъ своему другу Э. Одинцу"3)..
Князь Вяземскій вспоминаетъ, что онъ, проходя мимо па
мятника съ Мицкевичемъ и Пушкинымъ, выразилъ мнѣніе,
что памятникъ символиченъ. Онъ полагалъ, что Петръ ско
рѣе заставилъ Россію встать на дыбы, чѣмъ ее погналъ впе
редъ34). Это свидѣтельство Вяземскаго подтверждаетъ, что
разговоръ въ дѣйствительности происходилъ, но не въ такой
романтической обстановкѣ, какую воспроизвелъ Мицкевичъ.
Можетъ быть именно Пушкинъ разсказалъ Мицкевичу
и о томъ, какъ Фалконету ставили въ примѣръ именно па
мятникъ Марка Аврелія и какъ французскому скульптору
съ трудомъ удалось отстоять и выполнить свой замыселъ.
Тогда же могъ Пушкинъ привести Мицкевичу и стихи од
ного мало извѣстнаго стихотворца и журналиста Рубана 36).
Нерукотворная здѣсь русская гора,
Внявъ гласу Божію изъ устъ Екатерины,
Прешла чрезъ Невскія пучины
И пала подъ стопы Великаго Петра.
Послѣднимъ стихомъ Мицкевичъ почти дословно во
спользовался. Въ примѣчаніи къ стиху „I w miescie pada...“
Мицкевичъ и самъ признается въ этомъ, однако пишетъ,
что не помнитъ имени поэта. Между тѣмъ Пушкинъ лучше
знаетъ откуда Мицкевичъ взялъ этотъ стихъ. Въ примѣчаніи
къ стиху изъ „Мѣднаго Всадника“: „Сидѣлъ на бронзовомъ
конѣ“, Пушкинъ пишетъ: „См. описаніе памятника въ Миц
кевичѣ. Оно заимствовано изъ Рубана, какъ замѣчаетъ самъ
Мицкевичъ“.
Наконецъ и къ выраженію „саг knutowladny“ можно
найти коментарій у Пушкина. Въ 1822 году въ „Историче
скихъ замѣчаніяхъ“ Пушкинъ писалъ: „Петръ I не страшиле®
373
народной свободы, неминуемаго слѣдствія просвѣщенія, ибо
довѣрялъ своему могуществу и презиралъ человѣчество, мо
жетъ быть болѣе чѣмъ Наполеонъ. (Исторія представляетъ
около него всеобщее рабство... всѣ состоянія, окованныя безъ
разбора, были равны предъ его дубинкою“).
Мы не можемъ все же провести точную границу между
тѣмъ, что Мицкевичъ слышалъ отъ Пушкина и его собствен
нымъ вымысломъ, ибо Мицкевичъ вообще не ставилъ себѣ
цѣлью точно воспроизвести слова Пушкина. Поэтому для
насъ важнѣе то, какъ Пушкинъ ему отвѣтилъ въ „Мѣдномъ
Всадникѣ“, т. к. несомнѣнно принялъ стихи Мицкевича на
свой счетъ: „поэтомъ русскаго народа, славнымъ пѣснями
по всему сѣверу“ былъ только онъ, Пушкинъ, и ни съ кѣмъ
не могъ раздѣлить это названіе.
Слѣдуетъ отмѣтить, что полемика въ „Мѣдномъ Всад
никѣ“ стоитъ на второмъ планѣ и не составляетъ сущности
этого произведенія. Еще въ одномъ изъ набросковъ „Вступ
ленія“ Пушкинъ говоритъ, что мысль о созданіи поэмы по
священной петербургскому наводненію 1824 года явилась у
него подъ впечатлѣніемъ разсказовъ о бѣдствіи:
Давно, когда я въ первый разъ
Услышалъ грустное преданье,
Сердца печальныя, для васъ
Тогда же далъ я обѣщанье
Стихамъ повѣрить свой разсказъ.
Валерій Брюсовъ въ своей замѣчательной статьѣ упо
мянулъ произведенія, повліявшія на созданіе „Мѣднаго Всадни
ка“ 86). Идея первыхъ стиховъ Вступленія заимствована изъ
статьи Батюшкова: „Прогулка въ Академію Художествъ“
(1814 годъ). Для описанія наводненія Пушкинъ пользовался
книгой В. Н. Верха: „Подробное историческое извѣстіе о
всѣхъ наводненіяхъ, бывшихъ въ С.-Петербургѣ“. Образъ
оживленной статуи могъ быть внушенъ Пушкину разсказомъ
М. Ю. Вьельгорскаго о снѣ майора Батурина въ 1812. Есть
еще и другія, менѣе значительныя вліянія37). Нельзя говорить
о прямомъ вліяніи Мицкевича; польскій поэтъ скорѣе далъ
Пушкину послѣдній толчокъ къ осуществленію его мысли о
поэмѣ посвященной Петербургу и наводненію 1824 года.
Вліяніе Мицкевича, какъ показалъ проф. Третякъ, прояви
лось главнымъ образомъ во „Вступленіи“, гдѣ Пушкинъ защи
щаетъ Петербургъ отъ нападокъ польскаго поэта и, слѣдуя
почти шагъ за шагомъ за образами Мицкевича, отвѣчаетъ
на его укоры апоѳеозомъ сѣверной столицы.
Мицкевичу Петербургъ представляется символомъ
побѣждающаго имперіализма, Петръ создалъ „не городъ лю
дямъ, а себѣ столицу. Царь показалъ всесиліе своей воли“
374
(„Nie miasto ludziom —lecz sobie stolicç; car tu wszechmocnosc
woli swej pokazal“). Какъ символъ имперіализма, восприни
маетъ и Пушкинъ Петербургъ въ „Мѣдномъ Всадникѣ“, но
иной смыслъ находитъ въ немъ русскій поэтъ:
Природой здѣсь намъ суждено
Въ Европу прорубить окно.
Характерно, что Пушкинъ отвѣчаетъ Мицкевичу въ той
же послѣдовательности образовъ. Мицкевичъ напримѣръ издѣ
вается надъ тѣмъ, что Петербургскіе дома стоятъ за желѣз
ными рѣшетками:
Röznych porz^dköw, röznych ksztaltöw domy,
Jako zwierzçta z röznych koncöw ziemi,
Za parkanami stoj$ zelaznemi,
W osobnych klatkach — 38)
Пушкинъ любитъ чугунный узоръ оградъ сѣверной Паль
миры. Въ части „Отрывка“, озаглавленной „Petersburg“ Миц
кевичъ осуждаетъ суровость Петербургской зимы; Пушкинъ
ему отвѣчаетъ:
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздухъ и морозъ.
Мицкевичъ высмѣиваетъ русскихъ женщинъ, бѣлыхъ какъ
снѣга, румяныхъ какъ раки (biale, jak éniegi, rumiane, jak raid);
Пушкинъ воспѣваетъ „дѣвичьи лица ярче розъ“. Стихи:
„Люблю воинственную живость потѣшныхъ Марсовыхъ по
лей* и сл. направленны противъ сатиры „Przegl^d wojska“.
Слѣдуетъ отмѣтить, что и здѣсь Пушкинъ придерживается
деталей Мицкевича. Воспѣтая Пушкинымъ „пѣхотныхъ ратей
и коней однообразная красивость“ у Мицкевича изображена
слѣдующимъ образомъ:
Lecz bohatery tak podobne sobie,
Так jednostajne! Stoji chtop przy chfopie,
Jako rz^d koni, zuj^cych przy ztobie,
Jak kfosy, w jednym uwiazane snopie,
Jako zielone na polu konopie,
Jak wiersze ksi^zki, jak skiby zagonöw,
Jak petersburskih rozmowy salonöw 89).
Иронію Мицкевича вызываютъ и головные уборы войскъ:
Dragonöw czapki, kirysy, koipaki;
Myélalbys, ze tu kapelusznik jaki
375
Rozlozyl sklady swych röznych towaröw.
Wkoricu puik wjechal: chlopy, gdyby hlaki,
Okute miedzi^, jak rz^d samowardw 40).
И тутъ ему возражаетъ Пушкинъ: Люблю —
Сіянье шапокъ этихъ мѣдныхъ,
Насквозь прострѣленныхъ въ бою.
Однимъ словомъ все, что осуждаетъ Мицкевичъ, Пуш
кинъ защищаетъ. И въ то время, какъ Мицкевичъ вклады
ваетъ въ уста польскаго художника Олешкевича страш
ное пророчество:
Pan wstrz^snie szczeble assurskiego tronu,
Pan wstrz^snie grunty miasta Babilonu 41);
Пушкинъ восклицаетъ:
Красуйся, Градъ Петровъ, и стой
Неколебимо, какъ Россія.
Но не только въ этомъ отвѣтъ Пушкина Мицкевичу.
Въ самой поэмѣ Петербургъ выглядитъ иначе чѣмъ въ
„Вступленіи“. Подъ мрачнымъ, облачнымъ небомъ, залитый
бѣшенымъ приступомъ волнъ, Петербургъ показываетъ свой
трагическій ликъ. И иначе выглядитъ Петръ, „кумиръ на
бронзовомъ конѣ“. И страшно становится отъ этого „тяжело
звонкаго скаканья по потрясенной мостовой“. Невольно со
здается двойственное впечатлѣніе.
Загадкѣ „Мѣднаго Всадника“ посвящена огромная лите
ратура. Но лучше всѣхъ вскрылъ тайный смыслъ геніальнаго
творенія Пушкина Валерій Брюсовъ въ проникновенной статьѣ,
посвященной „Мѣдному Всаднику“. Брюсовъ соглашается съ
мнѣніемъ тѣхъ критиковъ (въ первую очередь проф. Третяка), которые видѣли въ Петрѣ воплощеніе самодержавія,
а въ „злобномъ шопотѣ Евгенія“ — мятежъ противъ деспо
тизма. „Изъ всего, что сказано въ повѣсти о Петрѣ Великомъ,
— говоритъ Брюсовъ, — нельзя составить опредѣленнаго
облика; все расплывается во что-то громадное, безмѣрное,
„ужасное“. Нѣтъ облика и у „бѣднаго“ Евгенія, который
теряется въ сѣрой, безразличной массѣ ему подобныхъ „гра
жданъ столичныхъ“. Пріемы изображенія того и другого —
покорителя стихій и коломенскаго чиновника, — сближаются,
потому, что оба они — олицетворенія двухъ крайностей:
высшей человѣческой мощи и предѣльнаго человѣческаго
ничтожества“. Въ наши дни поэма пріобрѣтаетъ болѣе глу
бокій смыслъ. „Мѣдный Всадникъ“ становится символомъ
376
всесильнаго государства, торжествующаго надъ личностью.
И этотъ величайшій конфликтъ Пушкинъ изобразилъ съ без
пристрастной строгостью геніальнаго художника. И въ то
время какъ Мицкевичъ лишь односторонне ощущалъ это
столкновеніе, находя оправданіе только въ борьбѣ, Пушкинъ
показалъ внутреннюю правду обоихъ началъ. Къ этому
духовному опыту Пушкинъ пришелъ не сразу, ему пришлось
отказаться отъ многихъ вольнолюбивыхъ мечтаній. На про
блему свободы великій поэтъ сталъ смотрѣть не столько съ
политической, сколько съ философской точки зрѣнія. И онъ
понялъ, что свобода не можетъ быть достигнута насиль
ственнымъ путемъ, а только духовнымъ воспитаніемъ чело
вѣчества42). Брюсовъ считаетъ, что эти взгляды положены
въ основу „Мѣднаго Всадника“. Стихійная революція не
устрашила „державца полуміра“, онъ остался неподвиженъ
въ „неколебимой вышинѣ“. Но когда на него возсталъ сво
бодный духъ единичнаго человѣка, только тогда „грозный
царь“ покинулъ свою скалу, и, всю ночь преслѣдуя бѣднаго
безумца, тяжелымъ топотомъ заглушилъ мятежъ свободной
души.
Пушкинъ въ „Мѣдномъ Всадникѣ“ дѣйствительно отвѣ
тилъ Мицкевичу на упреки въ измѣнѣ прежнимъ идеаламъ.
Брюсовъ проникновенно возстанавливаетъ отвѣтъ русскаго
поэта: „Да, — какъ бы говоритъ Пушкинъ, — я не вѣрю
больше въ борьбу съ деспотизмомъ силами стихійнаго мя
тежа; я вижу всю его безплодность. Но я не измѣнилъ вьг
сокимъ идеаламъ свободы. Я, попрежнему, увѣренъ, что не
вѣченъ „кумиръ съ мѣдною главой“, какъ ни ужасенъ онъ
въ окрестной мглѣ, какъ ни вознесенъ онъ „въ неколебимой
вышинѣ“. Свобода возникнетъ въ глубинахъ человѣческаго
духа, и „огражденная скала" должна будетъ опустѣть“.
Отвѣтъ Пушкина Мицкевичу въ „Мѣдномъ Всадникѣ“
выдержанъ въ спокойномъ и величественномъ тонѣ; на лич
ныя обвиненія въ низкопоклончествѣ и златолюбіи, въ этой
поэмѣ Пушкинъ вообще не отвѣчаетъ. Но онъ къ нимъ вер
нулся еще разъ въ отрывкѣ, написанномъ 10 августа 1834
года, который проф. Ледницкій называетъ лирическимъ
постскриптумомъ къ „Мѣдному Всаднику“. Въ томъ же спо
койномъ тонѣ Пушкинъ отвѣчаетъ и на личну обиду, кото
рую глубоко принялъ къ сердцу:
Онъ
Ушелъ на Западъ — и благословеньемъ
Его мы проводили. Но теперь
Нашъ мирный гость намъ сталъ врагомъ и нынѣ
Въ своихъ стихахъ, въ угоду черни буйной43),
Поетъ онъ ненависть; издалека
Знакомый голосъ злобнаго поэта
377
Доходитъ къ намъ... О, Боже возврати
Твой миръ въ его озлобленную душу.
Ни эти стихи, ни „Мѣднаго Всадника“ Мицкевичъ, по
всей вѣроятности, никогда не прочелъ. Но въ некрологѣ
Пушкина Мицкевичъ отказался отъ обвиненій русскаго
поэта въ корыстолюбивыхъ разсчетахъ. (Непосредственно
передъ написаніемъ некролога Мицкевичъ встрѣчался съ Со
болевскимъ и навѣрно друзья долго разговаривали о Пуш
кинѣ; подъ его, Соболевскаго, вліяніемъ, можетъ быть, Миц
кевичъ и перемѣнилъ свое мнѣніе). Вотъ, что читаемъ у
Мицкевича о русскихъ литераторахъ: „Слѣдуетъ признать
ихъ стойкость и безкорыстность, примѣра чему было бы
трудно отыскать въ странахъ, болѣе свободныхъ и болѣе
цивилизованныхъ, чѣмъ ихъ страна... Я думаю, что для того,
чтобы у русскихъ, сколько нибудь значительныхъ писателей
купить хотя бы только одну сочувственную статью, какую
либо ничтожную похвалу, даже одно вѣжливое слово, не
хватило бы всей суммы денегъ, которую русскій кабинетъ
затрачиваетъ, покупая заграницей своихъ оффиціозныхъ за
щитниковъ“. Объ отношеніяхъ Пушкина и Николая I Миц
кевичъ пишетъ слѣдующее: „Либералы косо смотрѣли на
сближеніе между двумя властелинами. Пушкина начали об
винять въ предательствѣ дѣла патріотовъ; а такъ какъ и
возрастъ, и опытность начали побуждать Пушкина быть въ
своихъ словахъ болѣе умѣреннымъ и болѣе благоразумнымъ
въ своихъ поступкахъ, это измѣненіе въ поведеніи не за
медлили приписать его честолюбивымъ разсчетомъ“... О сти
хотвореніяхъ „Клеветникамъ Россіи“ и „Бородинская годов
щина“ ни въ некрологѣ, ни въ лекціяхъ, Мицкевичъ не упо
минаетъ. Такимъ образомъ, Мицкевичъ здѣсь какъ бы защи
щаетъ Пушкина отъ нападокъ тѣхъ русскихъ, выразите
лемъ чьихъ мнѣній былъ Мельгуновъ, авторъ приведеннаго
нами письма.
Въ наши дни, спустя столѣтіе, если спросимъ, кто изъ
нихъ правъ, Пушкинъ или Мицкевичъ, мы должны будемъ
отвѣтить, что правы были оба, ибо каждый изъ нихъ любилъ
свое отечество.
’) Сочиненія В. Д. Спасовича. Томъ II. СПБ. 1889.
2) Въ изданіи Краковской Академіи Наукъ 1889 года. См. критику
Спасовича: Пушкинъ въ польской новѣйшей литературной критикѣ (Соч.
Томъ VIII СПБ. 1896). Jozef Tretiak, Mickiewicz і Puszkin, Warszawa, 1906.
’) Ettore Lo Gatto: Studi di littérature slave I. Roma. 1925, Mickiewicz
e PuSkin, p. 1—47. — Waclaw Lednicki: Aleksander Puszkin, studja, Krakow,
1926; Poushkine et la Pologne, Paris, 1928, éd. É. Leroux, Jezdziec Miedziany,
opowiesd petersburska Aleksandra Puszkina, Przeklad Juljana Tuwima, studjum
378
Wacfawa Ledn ckiego, Warszawa, 1932; Puszkin—Mickiewicz, Przeglgd Wspolczesny, 1934 (въ этой статьѣ Ледницкій приводитъ наиболѣе полную библіо
графію по вопросу), Przyjaciele Moskale, Kraköw 1935; Poushkine et Mickie
wicz, Revue de Littérature comparée, Paris, Janvier—Mars, 1937. — В. А Фран
цевъ: Пушкинъ и польское возстаніе 1830 и 1831 г., Пушкинскій Сбор
никъ, Прага, 1929, стр. 65—208).
4) Въ Россіи Жилуновичъ подготовляетъ монографію на тему Пуш
кинъ-Мицкевичъ.
6) А. К. Виноградовъ: Мериме въ письмахъ Соболевскому, Москва,
1928, стр. 234.
с) „Знакомство ихъ продолжалось не долго, но они узнали другъ
друга глубоко и въ теченіи нѣсколькихъ дней стали друзьями. Души ихъ
возвышаются надъ земными препятствіями, какъ двѣ родственныя альпій
скія скалы, хоть ихъ и на вѣки раздѣлила струя воды; каждая едва слы
шитъ шумъ своей врагини, склоняя другъ къ другу поднебесную верши
ну“. (А. Mickiewicz. Pomnik Pietra Wielkiego).
7) См. Францевъ, op. cit. стр. 127—128.
8) П. О. Морозовъ усматриваетъ въ „Русалкѣ“ реминисценціи изъ
„Rybki“ и „éwitezianki“ Мицкевича. Третякъ находитъ также отголоски вліянія
Мицкевича въ „Полтавѣ“, „Путешествіи въ Арзрумъ" и „Галубѣ", но до
мыслы его не слишкомъ убѣдительны. Ледницкій высказалъ очень инте
ресное предположеніе, что импровизаторъ вь „Египетскихъ ночахъ“ напи
санъ съ Мицкевича.
э) Въ этихь стихахъ Пушкинъ еще разъ повторяетъ эпитетъ „вдох
новенный“, который, какъ замѣтилъ Ледницкій, Пушкин ь почелъ возмож
нымъ дать еще одному своему герою — Петру Великому (въ Полтавѣ).
Этотъ эпитетъ какъ бы установился за Мицкевичемъ у его русскихъ дру
зей, но еще до Пушкина Баратынскій пишетъ:
Когда тебя, Мицкевичъ вдохновенный,
Я застаю у Байроновыхъ ногъ.
11 ) Пушкинъ и его современники. Выпускъ IX Х,СПб. 1910, стр. 289.
”) Вліяніе Пушкина (эпиграмма на графа Воронцова) замѣтно въ эпи
граммѣ Мицкевича на „Jana Czynskiego“ (1832-34):
Wpôl jest zidem, wpôl Polakietn,
Wpôl jakubinem, wpôl zakiem,
Wpôl cywilnym, wpöl ioldakiem,
Lecz zato calym tajdakiem.
’2) „Вечеромъ подъ дождемъ стояли двое юношей, подъ однимъ плащемъ, взявшись за руки. Одинъ быль пелегримъ пришедшій съ Запада,
невѣдомая жертва царскаго могущества, другой былъ вѣщій пѣвецъ рус
скаго народа, славный своими пѣснями по всему сѣверу".
”) Мицкевичъ „Полтаву“ называетъ „Мазепа“. Интересный факт: за
писанъ у Ксенофонта Полевого: „ ... Пушкинъ объяснялъ планъ своей еше
неизданной тогда Полтавы, которая первоначально называлась Мазепа...
Мицкевичъ дѣлалъ ему нѣкоторыя возраженія о нравственномъ характерѣ
этого лица" (Виноградовъ, op. cit. стр. 283). Мицкевичъ запомнилъ это пер
379
вое названіе, хотя Пушкинъ подарилъ ему свою „Полтаву“, какъ только она
вышла изъ печати.
“) Какъ видно изъ предисловія къ „Пѣснямъ западныхъ славянъ“ —
Пушкинъ и Мицкевичъ вмѣстѣ обсуждали книгу Мериме. См. А. К. Вино
градовъ, op. et,. стр. 239-240 и Henryk Batowski, Mickiewicz a Slowianie
po roku 1840, we Lwowie, 1936, стр. 165—167.
,5) Спасовичъ, op. cit, Томъ ѴШ, стр. 82.
,6) „Пушкинъ — ходатай за Мицкевича“ (Пушкинъ и его современ
ники, выпускъ XXXVI, 1923 г.).
”) Францевъ, op. cit, стр. 139 — 140.
:8) Виноградовъ, op. cit., стр. 231.
19) Невольно вспоминаются слова Николая I: „si des deux nations et
des deux trônes l'un doit périr... car il parait que périr il faut, est-ce la Russie
ou la Pologne... puis-je balancer?“ Не сомнѣвался такъ-же и Пушкинъ (Wacfaw Lednicki: Aleksander Puszkin, studja, Krakdw, 1926, стр. 109).
-°) Францевъ, op. cit, стр. 181.
21) Подобное объясненіе близко къ мыслямъ высказаннымъ въ статьѣ
Ѳ. В. Тарановскаго (Теодор Тарановски, Пушкин и пол>ско-руски рат 1830—
1831. Српски кшижевни гласник, 1-Х11-1929, стр. 508—514).
sï) Здѣсь Пушкинъ намекаетъ на пожаръ Москвы, сожженной Поля
ками въ апрѣлѣ 1611 года, а не на пожаръ 1812, какъ думалъ Спгсовичъ
(op. cit, томъ 11, стр. 227; В. Францевъ, op. cit. стр. 149).
-s) Lednicki. ibidem, стр. 146.
-4) Между тѣмъ Бестужевъ во время польско-русской войны рвался
въ бой и сѣтовалъ, что ему не удастся „промѣнять пуль съ панами-добродзеями“... Этого, конечно, Мицкевичъ не могъ знать. (Lednicki, ibidem, стр.
135). Обь отношеніи Мицкевича къ Рылѣеву, Бестужеву, а также и къ Жу
ковскому писалъ Генрихъ Батовскій (op. cit).
23) .Другихъ, быть можетъ, постигла болѣе суровая кара небесъ: мо
жетъ быть кто нибудь изъ васъ, опозоренный службой или орденомъ, сво
бодную душу на вѣки продалъ за царскую милость и теперь бьетъ покло
ны на царскомъ порогѣ. Можетъ быть оплаченным ь языкомъ прославляетъ
тріумфъ царя и радуется мукамъ своихъ друзей, можетъ быть въ отече
ствѣ моемъ обогряется моею кровью и передъ царемъ похваляется прокля
тыми дѣлами, какъ заслугами“.
2e) Lednicki, ibidem, стр. 170 и сл.
2;) В. Вересаева, Пушкинъ въ жизни, выпускъ III, стр. 65.
2t) На стопкѣ были выгравированы имена обоихъ Кирѣевскихъ, Ба
ратынскаго, Шевырева, Елагина, С. Соболевскаго, Н. Полевого, и Рожалина. (Спасовичъ, op. cit., томъ II, стр. 239). Преподнесли ее Мицкевичу на
прощальномь обѣдѣ вмѣстѣ съ интересными стихами Ивана Кирѣевскаго,
теперь забытыми; ихъ тексть напечатанъ у Виноградова (op. et, стр. 241).
Отмѣтимъ, что среди присутствовавшихъ на обѣдѣ Виноградовъ не упо
минаетъ Баратынскаго.
„Теперь я на міръ выливаю эту чашу яда. Горечь моихъ словъ
разъѣдаетъ и сжигаетъ, горечь рождающаяся изъ крови и слезъ моей от
чизны, пусть разъѣдаетъ и сжигаетъ — не васъ, а ваши оковы. Если кто
изъ васъ меня будетъ винить, для меня его обвиненіе — лай пса, который
380
столь привыкъ терпѣливо и долго носить ошейникъ, что въ концѣ КОН
ЦОВЪ готовъ кусать руку, которая его срываетъ“.
30) По мнѣнію проф. А. Брюкнера Мицкевичъ описалъ не Пушкина,
а Рылѣева (А. Brükner, Historja literatury rossyjskiej, 1922, I, 536). Изслѣдо
ванія Спасовича, Третяка, Брюсова, и новѣйшія Францева и Ледницкаго ясно
показываютъ всю несостоятельность этого взгляда.
3|) „Послали отторгнуть отъ финскихъ береговъ гранитную громаду;
по велѣнію Государыни, она плыветъ по морю и стремится по сушѣ и вь
городѣ падаетъ ницъ передъ царицей. Уже скала воздвигнута, летитъ мѣд
ный царь, царь кнутодержецъ въ тогѣ Римлянина“.
52) „Царь Петръ выпустилъ поводья коня, онъ, видимо, мчался попи
рая все на пути и мгновенно взлетѣлъ на край скалы, Царь не сдержива
етъ коня, конь грызетъ удила, ты поймешь — онъ низвергнется и разо
бьется! Отъ вѣка стоитъ, скачетъ, но не падаетъ, какъ водопадъ летящій
съ гранитныхъ громадъ, скованный морозомъ, виситъ надъ пропастью. Но
какъ только заблещеть солнце свободы и западный вѣтеръ согрѣетъ тѣ
страны, — что будетъ съ водопадомъ тираніи*?
33) Спасовичъ, op. cit. томъ il, стр. 240.
31) Ледницкій: Jezdziec Miedziany, стр. 57.
35) Спасовичъ, op. cit., томъ II стр. 242; Ледницкій, Jezdziec Miedziany,
стр. 58 и 67—68.
3’) Библіотека великихъ писателей подъ редакціей С. А. Венгерова.
Пушкинъ. T. III. С.-Петербургъ, 1909, стр. 456—472.
37) Постороннія вліянія и связь .Мѣднаго Всадника'' съ другими про
изведеніями Пушкина обстоятельно изслѣдованы въ книгѣ проф. Леднііцкаго: Jezdziec Miedziany, il. Geneza, reminiscencje i autoreminiscencje, стр.
38-58.
,s) „Дома, разныхъ стилей, разныхъ обликовъ, какъ звѣри сь раз
ныхъ концовъ земл.;, стоятъ за желѣзными рѣшетками, въ отдѣльныхъ
клѣткахъ".
”) .Но богатыри тякъ похожи другъ на друга, такъ однообразны.
Стоитъ мужикъ рядомъ съ мужикомъ, какъ рядъ коней, жующихъ въ стой
лахъ, какъ колосья, связанные въ одномъ снопѣ, какъ въ полѣ зеленая ко
нопля, какъ строки въ книгѣ, какъ борозды нивъ, какъ разговоры петер
бургскихъ салоновъ".
“) .Шапки драгунъ, кирасы, каски; можно подумать, что какой-то
шапочникъ выложилъ запасъ своихъ разныхъ товаровъ. Наконецъ, полкъ
выѣхалъ: мужики какъ глиняные кувшины окованные мѣдью, какь рядъ
самоваровъ“,
*’) .Господь потрясетъ ступени ассирійскаго трона, Господь потря
сетъ основы града Вавилона".
43) Брюсовъ, op. cit., Александръ Слонимскій: „Пушкинъ и декабрь
ское движеніе" (Венгеровское изданіе, т. II., стр. 503).
Этотъ стихъ былъ напечатанъ Жуковскимъ слѣдующимъ обра
зомъ: „угодникъ черни буйной" и такъ вошелъ въ многія изданія, что
не вѣрно. См. фотографію Пушкинской рукописи у Ледницкаго (Aleksan
der Puszkin, studja, Kraköw, 1926 стр. 194).
Илья Голенищевъ-Кутузо въ.
Роза въ поззіи Пушкина.
Е se l’infimo grado in sè raccoglie
si grande lume, quant è la larghezza
di questa rosa ne l'esteme foglie!
Paradiso, XXX, 115-117.
Въ юношеской поэзіи Пушкина роза — аллегорія люб
ви и молодости, атрибутъ вакхическихъ игръ. Участники ли
цейскихъ пировъ вѣнчаютъ головы розами, если не на са
момъ дѣлѣ, то въ стихахъ и въ пѣсняхъ, слѣдуя классиче
скимъ 'образцамъ, подражая старому Анакреону, шествую
щему на торжествѣ Вакха въ парикѣ и камзолѣ ХѴПІ вѣка.
Во французскихъ своихъ стансахъ четырнадцатилѣтній
Пушкинъ воспѣлъ розу какъ несложную аллегорію чувствен
ной любви и юношескихъ лѣтъ —
Avez-vous vu la tendre rose,
L’aimable fille d’un beau jour,
Quand au printemps à peine éclose
Elle est l’image de l’amour.
Розы насаждаетъ Амуръ въ лицейскихъ садахъ, и поэтъ
мечетъ сатирическія стрѣлы противъ дѣйствительной или во
ображаемой красавицы, которая — о ужасъ! — предпочла
розамъ нюхательный табакъ. Сама жизнь кажется юношѣ,
жаждущему поэтической лѣни, живущему легкимъ сномъ
воображенія, увѣнчанной розами —
Подъ кровомъ вешнихъ розъ
Поэтомъ я возросъ...
обращается онъ къ своему старшему собрату по Парнассу
Батюшкову. Онъ видитъ своего ментора „съ вѣнкомъ
изъ розъ душистыхъ межъ кудрей вьющихся златыхъ“; окру
женный благосклонными красавицами, подымаетъ „Россійскій
парни“ вакхическій фіалъ.
382
Въ перепѣвахъ Пушкинымъ и его друзьями античной
поэзіи, которая вошла въ русскую отчасти черезъ подража
ніе французамъ, отчасти черезъ переводъ Анакреонтическаго
сборника (въ 1794 г. Н. А. Львовымъ), древне греческій по
этъ выявляется, какъ пророкъ чувственныхъ наслажденій,
проповѣдующій даже за гробомъ Эпикурову науку —
Вижу: горлица на лирѣ,
Въ розахъ кубокъ и вѣнецъ...
Други, здѣсь почіетъ въ мирѣ
Сладострастія мудрецъ.
Гробъ Анакреона увитъ розами. И „на розахъ нѣгъ и сна“
дремлетъ прелестная Лила. Въ картинкахъ-пастораляхъ, сри
сованныхъ съ эротическихъ этюдовъ Парни, юный поэтъ
живописуетъ прохладную пещеру, гдѣ покоится пастушка и
ея счастливый любовникъ —
Здѣсь розы наклонились
Надъ вами въ темный кровъ,
И вѣтры притаились,
Гдѣ царствуетъ любовь.
Но розѣ суждено увянуть. Въ тему чувственной любви
вплетается ей родственная тема угасанія и смерти —
О Лила! вянутъ розы
Минутныя любви,
Познай же грусть и слезы
И нынѣ терны рви...
Впрочемъ печалью не слѣдуетъ отравлять младую душу —
Гдѣ наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари!...
Не говори:
„Такъ вянетъ младость“!
Не говори:
„Вотъ жизни радость“!
Цвѣтку скажи:
„Прости, жалѣю“!
И на лилею
Намъ укажи.
Въ гальской легкости все очарованіе этого ранняго и
уже столь совершеннаго стихотворенія. Но вскорѣ эта лег-
383
кость лицейской поэзіи Пушкина переходитъ въ мелан
холическія медитаціи, предвозвѣщающія элегіи Ленскаго.
Раздумья эти навѣяны также французской лирикой XVIII вѣ
ка — Парни, Мильвуа, отчасти Вольтеръ. Поэтъ видитъ, какъ
склоняется роза надъ быстротекущей рѣкою временъ. Лю
бовныя утѣхи его обманули, какъ Фавна изъ пасторали —
Печально младость улетитъ
И съ ней увянутъ жизни розы,
Но я, любовью позабытъ,
Любви не позабуду-ль слезы!
Аллегорическая роза окрашивается въ цвѣтъ Меланхолі и
осыпается: —
Опали вы, листы вчерашней розы,
Не доцвѣли до завтрашнихъ лучей!
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы! Невольно льются слезы,
И вяну, я на темномъ утрѣ дней.
Напрасно вѣтеръ — „любовникъ рощицъ и луговъ ко
лышетъ розой полевою, летя съ тѣнистыхъ береговъ“ — ни
что уже не въ силахъ разсѣять грусть поэта. Въ стансахъ,
навѣянныхъ Вольтеромъ, Пушкинъ-лицеистъ жалуется на
то что мѣсто пламенной любви позналъ лишь ея прохладное
отображеніе — дружбу —
Она любви подобна милой
Въ одной лишь нѣжности была.
Я ей принесъ увядши розы
Веселыхъ юношества дней
И вслѣдъ пошелъ, но лилъ я слезы
Что могъ идти во слѣдъ лишь ей!
И трудно сказать, гдѣ кочается милая условность фран
цузской поэзіи конца XVIII и начала XIX вѣка, и гдѣ начи
нается подлинно-выстраданное чувство. Все мѣшается, гар
монизируется Аполлономъ. Всеже священный цвѣтокъ Афро
диты — алая роза — въ раннихъ стихахъ Пушкина ощуща
ется какъ аллегорія, чье содержаніе чувственно, несложно,
традиціонно.
Интересно отмѣтить что риѳма „розы“ въ лицейскихъ
стихахъ чаще всего вызываетъ „слезы“. Черезъ много лѣтъ
въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ прозвучитъ всѣмъ памятная шутка —
И вотъ уже трещатъ морозы
И серебрятся средь полей..
384
(Читатель ждетъ ужъ риѳмы-розы;
На вотъ возьми ее скорѣй).
Пушкинъ никогда не рифмовалъ „морозы“ и „розы“ до
и всего лишь три раза *) послѣ „Евгенія Онѣгина“. Сочета
ніемъ этимъ конечно грѣшили многіе его современники. Впро
чемъ, пародируя вдохновеніе Ленскаго и свои собственныя
юношескія элегіи, Пушкинъ возвращается къ излюбленной
своей лицейской рифмѣ — „розы—слезы“ — на всегда отъ
нея освобождаясь —
Онъ пѣлъ разлуку и печаль,
И нѣчто и туманну даль,
И романтическія роз ы;
Онъ пѣлъ тѣ дальнія страны,
Гдѣ долго въ лонѣ тишины
Лились его живыя слезы;
Онъ пѣлъ поблекль’й жизни цвѣтъ
Безъ малаги въ осьмнадцать лѣтъ.
„Роза“ въ риѳмѣ встрѣчается у Пушкина — по сколько
мой подсчетъ точенъ—двадцать одинъ разъ. Сочетаніе„розы—
слезы“ — семь разъ (пять разъ въ лицейскихъ стихахъ2),
въ стихотвореніи „Фонтану Бахчисарайскаго дворца“, напи
санному въ 1920 г., и пародійно въ „Евгеніи Онѣгинѣ“). Въ
лицейскихъ стихахъ встрѣчаются кромѣ того одинъ разъ
риѳмы: „розъ—возросъ“ („Батюшкову“), французскія: rose—
éclose („Stances“) и „роза“ сама съ собой (стихотвореніе
„Роза“)’ Послѣ лицейскаго періода Пушкинъ дважды риѳму’) Вотще Киѳеру и Паѳосъ
Мертвитъ дыханіе мороза —
Блеститъ между минутныхъ розъ
Неувядаема : р о з а...
(Есть роза дивна я..., 1827 г.).
Полезенъ русскому здоровью
Нашъ укрѣпительный морозъ,
Ланиты, ярче вешнихъ розъ,
Играютъ холодомъ и кровью.
(Какъ быстро въ полѣ,.., 1830
г.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздухъ и морозъ,
Бѣгъ санокъ вдоль Невы широкой,
Дѣвичьи лица ярче роз ъ...
(Мѣдный Всадникъ, 1833).
2) „Городокъ“, „Фавнъ и Пастушка, VIII“; „Элегія* (Опять я вашъ,
о юные друзья».); „Къ молодой вдовѣ*, „Стансы" (изъ Вольтера).
385
етъ „розы—лозы“ („Виноградъ“, 1820 г. и „Бахчисарайскій
Фонтанъ“, 1825 г.)1), трижды — въ посланіяхъ и альбом
ныхъ стихахъ — „„розы—прозы“ („Сѣтованіе. Д. В. Давы
дову“, 1821 г., „Ек. Ал. Тимашевой“, 1826 г.2), Близ. Ник.
Ушаковой, 1828 г.3) одинъ разъ „роза (Sancta Rosa)—угро
за“ („Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный“, 1830 г.), и одинъ
разъ „Паѳосъ—розъ“ („Есть роза дивная...“. 1827 г.)
И послѣ лицейскаго періода, въ стихахъ 1820—26 г.,
роза звучитъ иногда какъ ремисценція царскосельскаго чте
нія, какъ аллегорія Антологіи. Книгопродавецъ, обращаясь
къ поэту, употребляетъ общеизвѣстныя метафоры тогдаш
ней образованности —
Хвала для васъ докучный звонъ;
Но сердце женщинъ славы проситъ;
Для нихъ пишите, ихъ ушамъ
Пріятна лесть Анакреона:
Въ младыя лѣта розы намъ
Дороже лавровъ Геликона.
Классическія воспоминанія вызываютъ также стихи, по
священные тѣни Овидія:
Ты, съ юныхъ лѣтъ презрѣвъ волненье жизни ратной,
Привыкнувъ розами вѣнчать свои власы
И въ нѣгѣ проводить безпечные часы,
Ты будешь принужденъ взложить и шлемъ тяжелой
И грозный мечъ хранить близъ лиры оробѣлой.
Съ годами кругъ чтенія Пушкинъ безмѣрно расширился.
’) Не стану я жалѣть о розахъ
Увядшихъ съ легкою весной:
Мнѣ милъ и виноградъ на лозахъ
Вь кистяхъ созрѣвшій подъ горой...
Играютъ воды, рдѣють розы
И вьются виноградны лозы
И злато блещетъ на стѣнахъ...
£) Соперница Запретной Розы
Блаженъ безсмертный идеалъ...
Стократъ блаженъ, кто вамъ внушалъ
И много риѳмъ, и много прозы,
8) Вы сами знаете давно....
что ваши алыя уста,
Какъ гармоническая роза
И наши риѳмы, наша проза
Предъ вами — шумъ и суета...
25
386
Ужъ не одинъ Анакреонъ символизируетъ для него антич
ную поэзію. Онъ повстрѣчался съ Гомеромъ, Овидіемъ,
Мосхомъ, Теокритомъ. Въ 1829 г. Пушкинъ обращается съ
поэтической загадкой къ Дельвигу, посылая ему бронзоваго
сфинкса: —
Кто на снѣгахъ возростилъ Ѳеокритовы нѣжныя розы?
Розу въ этихъ стихахъ Пушкина сопровождаютъ или
упреждаютъ все чаще эпитеты: романтическая, гордая и
прекрасная запретная, Ѳеокритова нѣжная, Святая (Sancta)*
гармоническая, паѳосская, алая, Ѳеосская, неувядаемая. Эпи'
теты эти какъ бы выдѣляютъ нѣкую, необычную, розу, влива’
ютъ новую жизнь въ окаменѣвшій образъ условный поэтики.
Такъ въ новой русской лирикѣ Ахматова, глубоко чувству
ющая Пушкиновъ духъ, оживляетъ старый образъ новымъ и
уточненнымъ опредѣленіемъ. — „розы съ площадки круг
лой“.
„Романтическая роза“ могла, подобно анакреонтической,
воспринаматься какъ простая реальность или какъ метафорасравненіе. Въ стихахъ Пушкина, написанныхъ на югѣ Россіи,
когда поэтъ ближе познакомился съ музой Байрона и съ
романтизмомъ Запада, мы находимъ конечно обѣ вышеупо
мянутыя стилистическія возможности. Такъ въ „Подражаніи
турецкой пѣснѣ“ преобладаетъ условная метафора —
О дѣва-роза, я въ оковахъ;
Но не стыжусь твоихъ оковъ;
Такъ соловей въ кустахъ лавровыхъ,
Пернатый царь лѣсныхъ пѣвцовъ,
Близъ розы гордой и прекрасной
Въ неволѣ сладостной живетъ,
И нѣжно пѣсни ей поетъ
Во мракѣ ночи сладострастной.
Несложныя метафоры этого стихотворенія (красавица-роза,
поэтъ-соловей) заимствованы у Байрона и, косвенно, у вос
точной поэзіи’, фольклористичны, какъ и въ отрывкѣ 1825 г.,
’) „ Въ ютъ часъ, когда въ тѣни вѣтвей
Поетъ влюбленный соловей...“
Паризина (переводъ Н. Гербеля).
„Любовникъ розы, соловей
Прислалъ тебѣ цвѣтокъ свой милый,
Онъ станетъ пренію своей
Всю ночь плѣнять твой духъ унылый".
Невѣста Абидосская, часть I, 10.
Сравнить также вступительныя и заключительныя строфы поэмы, переве
денной И. Козловымъ и изданной въ 1826 г. Каченовскій перевелъ эту
387
озаглавленномъ „Съ португальскаго“ — „Тамъ звѣзда зари
взошла, пышно роза процвѣла“... Эти народно-романтическія
сравненія повліяли конечно и на портретъ Маріи въ „Пол
тавѣ“ (къ 1828) —
Вокругъ высокаго чела,
Какъ тучи локоны чернѣютъ;
Звѣздой блестятъ ея глаза;
Ея уста, какъ роза рдѣютъ.
Рдѣющія розы встрѣчаются еще и въ описаніи ханска
го дворца въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“ (1822—23): —
Еще понынѣ дышетъ нѣга
Въ пустыхъ покояхъ и садахъ;
Играютъ воды, рдѣютъ розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещетъ на стѣнахъ.
Въ поэтикѣ Пушкина „Подражаніе турецкой пѣснѣ“ и
портретъ Маріи („Полтава“), какъ и вышеприведенный от
рывокъ изъ „Бахчисарайскаго фонтана“, связаны съ этими
стихами изъ той-же поэмы:
Но тотъ блаженнѣй, о Зарема,
Кто, миръ и нѣгу возлюбя,
Какъ розу, въ тишинѣ гарема
Ласкаетъ, милая, тебя.
Одни фонтаны сладкозвучны
Изъ мраморной темницы бьютъ
И съ милой розой неразлучны
Во мракѣ соловьи поютъ.
„турецкую повѣсть“ Байрона еще въ 1821 г. въ „Вѣстникѣ Европы“ (про
заическій переводъ).
Прелестный край! Тамъ цѣлый годъ
Весна роскошная цвѣтетъ...
Султаншу розу тамъ поетъ —
И на скалахъ и межъ вѣтвей—
Въ нее влюбленный соловей,
И, нѣжной радости полна,
Подъ пѣснь его цвѣтетъ она.
Гяуръ (переводь А. Студитскаго).
„Гяуръ" также переведенъ въ 1821 г. Каченовскимъ („В'ьстникъ Европы").
388
Къ метафорамъ роза-дѣва, поэтъ-соловей, Пушкинъ
возвращается въ 1827 г. въ стихотвореніи „Соловей“ —
Въ безмолвіи садовъ, весною во мглѣ ночей
Поетъ надъ розою восточный соловей...
Напомнимъ также первую строфу стихотворенія „Фон
тану Бахчисарайскаго дворца“, написаннаго еще въ 1820
году —
Фонтанъ любви, фонтанъ живой!
Принесъ я въ даръ тебѣ двѣ розы,
Люблю немолчный говоръ твой
И поэтическія слезы.
„Слезы“ (рифмующіеся съ „розы“) подновлены эпитетомъ
„поэтическія“, розы же конкретизированы — двѣ.
Такимъ образомъ послѣ 1820 года въ поэзіи Пушкина
разцвѣтаютъ розы романтическія и фольклористическія ря
домъ съ розами пересаженными съ гроба стараго Анакреона.
Равно свободный отъ французскаго классицизма и отъ ро
мантизма какъ сентиментальнаго, такъ и народно-эпическаго,
Пушкинъ выбираетъ элементы ему нужные, сочетаетъ ста
рое и новое, конкретное и абстрактное, оставляя аллегоріи
стремиться къ реальному, и отъ реальнаго къ высшей симво
лической реальности.
Въ концѣ жизни (1835 г.) Пушкинъ какъ бы отрекается
отъ розъ классицизма для живой, мгновенной розы, разцвѣтаюшій на первомъ планѣ бытія —
Не розу паѳосскую
Я нынѣ пою;
Не розу Ѳеосскую,
Виномъ окропленную,
Стихами хвалю;
Но розу счастливую,
На персяхъ увядшую
Элины моей...
Въ этомъ удивительномъ отрывкѣ равно возвеличена и
пафосская роза, посвященная Кипридѣ, и роза малоазійскаго
Теоса (Téos — русское начертаніе Qeocb ошибочно), родины
Анакреона, центра Діонисова культа и театральныхъ празд
нествъ1). Всеже поэту милѣе всѣхъ розъ мгновенная роза
его возлюбленной, еще счастливая, но уже предвозвѣщающая
смерть —
’) Scheffler — De rebus Teiorum, Leipzig, 1882.
389
И Дѣвы-Розы пьемъ дыханья
Быть можетъ полное чумы!
(въ этихъ стихахъ образъ „Дѣва-Роза“ связанъ съ метафо
рами „Бахчисарайскаго Фонтана“ и „Подражанія турецкой
пѣснѣ“).
Пусть во французскомъ XVIII вѣкѣ зарождается легчай
шее и прелестное стихотвореніе „Лишь розы увядаютъ“...,
написанное въ 1825 году. Пушкинъ никогда не былъ „под
ражателемъ холоднымъ". Онъ геніально претворялъ стихи
западно-европейскихъ поэтовъ. Пустъ на рукописи рядомъ съ
его стихами читаемъ французскія строки: „Ses manes (embau
més) parfumés Vont charmer du Lettré les bords inanimés“ —
вся пьеса пропитана личнымъ, неповторимымъ вдохновеньемъ
поэта —
Лишь розы увядаютъ,
Амврозіей дыша,
Въ элизій улетаетъ
Ихъ легкая душа,
И тамъ, гдѣ волны сонны
Забвеніе несутъ
Ихъ тѣни благовонны
Надъ Летою цвѣтутъ.
Пушкинъ интуитивно проникаетъ въ душу міровыхъ
явленій, соединяется съ „эфирнымъ тѣломъ“ цвѣтовъ, воз
вращается въ міръ Праматерей, гдѣ надъ рѣкой забвенія,
близь бѣлаго тополя цвѣтутъ розы-идеи. Афродита земная
становится Афродитой небесной и земная роза — „на пер
сяхъ увядшая Элины моей“ — претворяется черезъ увяданіе
и развоплощеніе, черезъ отдѣленія ея „легкой души“, въ
розу потустороннюю, уже недоступною 2) тлѣну. Запредѣль
ную розу духовнаго міра Пушкинъ постигъ въ явленіяхъ это
го міра —
2) Въ „Путешествіи въ Арзрумъ" Пушкинъ приводитъ сказаніе о
душѣ-розѣ: „Голосъ пѣсенъ грузинскихъ пріятенъ: мнѣ перевели одну изъ
нихъ слово въ слово: она, кажется, сложена въ новѣйшее время; въ ней
есть какая-то восточная безсмыслица, имѣющая свое поэтическое достоин
ство. Вотъ вамъ она: „Душа, недавно рожденная въ раю: Душа, созданная
для моего счастія! Отъ тебя, безсмертная, ожидаю жизни... Горная роза,
освѣженная росою! избранная любимица природы! Тихое, потаенное сокро
вище! отъ тебя ожидаю жизни“. Любовный мистицизмъ Востока въ народ
ныхъ пѣсняхъ Грузіи привлекалъ и въ то же время отталкивалъ Пушкина:
„восточная безсмыслица, имѣющая свое поэтическое достоинство“! Замѣ
тимъ, что религіозное и мистическое воспріятіе у Пушкина всегда подчи
нено художественному, ночной Діонисъ — солнечному Аполлону.
390
Есть роза дивная: она
Предъ изумленною Киѳерой
Цвѣтетъ румяна и пышна *),
Благословенная Венерой.
Вотще Киѳеру и Паѳосъ
Мертвитъ дыханіе мороза —
Блеститъ между минутныхъ розъ
Неувядаемая роза...
Всѣ явленія земли преходящи. И розамъ, посвященнымъ
Афродитѣ въ храмахъ греко-фининійской Киѳеры и Кипрскаго
Паѳоса суждено увянуть, но изумленная богиня средь сти
хійныхъ бѣдствій, морозъ, чума, язвы?) провидитъ свое не
бесное совершенство — нетлѣнную розу. Ея тайну знаетъ
также Рыцарь Бѣдный, ей посвятившій всю жизнь —
Lumen Coeli Sancta Rosa!
Роза-символъ, въ себѣ заключающая всю осложненность об
разовъ и полноту чувствъ, узрѣлъ Данте въ концѣ своего
потусторонняго странствованія — „если низшая степень въ
себѣ содержитъ столь великій свѣтъ, какова должна быть
широта крайнихъ лепестковъ этой розы!“ {Рай, XXX).
Такъ отъ низшихъ, аллегорическихъ и чувственныхъ
степеней узрѣнія Пушкинъ восходилъ — всю жизнь — къ
реальному, конкретному, внимая — „журчанью пчелъ надъ
розой алой“, одушевлялъ и одухотворялъ свое видѣніе въ
томъ внутреннемъ творческомъ циклѣ, которому чужда и
точная хронологія и тщательная классификація досужихъ
критиковъ.
’) „Пышно роза процвѣла"... (Съ португальскаго.
Стихотвореніе „Есть роза дивная“... написано въ 1827 г.
1825 г.).
Вл. 1 опоръ-Рабчинскій.
Этическое сознаніе Пушкина.
I.
Пушкинъ сложенъ, въ извѣстной мѣрѣ загадоченъ, по
знаніе его не легко. Такой взглядъ не новъ — уже Досто
евскій говорилъ, что мы безъ Пушкина должны его тайну
разгадывать. Разгадалъ ли онъ самъ или, внеся много сво
его, лишь прикоснулся? Но съ конца 19 го вѣка, со статьи
о Пушкинѣ Д. Мережковскаго и по сегодняшній день, вся
кое приближеніе къ личности и духовному сознанію Пушки
на сопровождается словами о сложности, объ извѣстной
трудности его постиженія ’). Согласимся, что каждая эпоха
хочетъ видѣть въ Пушкинѣ свое, что изслѣдователю трудно
отрѣшиться отъ субъективизма, что „поэта вообще нельзя
никогда прочесть до конца“2), —но не подлежитъ сомнѣнію,
что въ самомъ Пушкинѣ,—и въ своеобразіи его личности и
въ затаенности его путей—лежитъ для насъ главное затруд
неніе. Въ области этическаго сознанія Пушкина наиболѣе
трудная задача — установить связь между этимъ сознаніемъ
и основными жизнеощущеніями Пушкина. Само же нрав
ственное сознаніе Пушкина довольно ясно. Оно покоится
прежде всего на интуиціи, на исповѣданіи незыблемаго на
чала совѣсти, на органически (а не только отъ внѣшнихъ
вліяній) присущемъ Пушкину исповѣданіи достоинства чело
вѣческой личности, и, очевидно, могло подлежать лишь вре
меннымъ колебаніямъ, по существу же не могло измѣняться.
Оно становится все болѣе отчетливымъ и углубленнымъ по
мѣрѣ того, какъ созерцатель — поэтъ созрѣвалъ, а человѣкъ
углублялся.
Что же являлъ собою Пушкинъ, какъ человѣкъ?
II.
Пушкинъ представляется намъ натурой экстраверсив’) Таковы сужденія о сложной углубленности Пушкина М. Гершен
зона, П. Щеголева, В. Ходасевича, В. Вересаева, С. Франка, К. Зайдспа.
с) Ю. Айхенвальдъ. Силуэты русскихъ писателей т. 1. Введеніе.
392
ной т. е. той, которая, вмѣсто сосредоточенности въ себѣ,
замкнутое I и въ себѣ, широко открыта внѣшнему міру, устре
млена на пріобрѣтеніе впечатлѣній изъ этого міра. Для на
туръ такого психологическаго типа характеренъ процессъ
ихъ „вчувствованія“ въ объектъ3). Въ нихъ живетъ тенден
ція къ пріятію міра4). Внѣшняя жизнь для личности экстраверсивной интересна, „богата“, жизнь внутренняя, не сжатая
къ центру, движется по широкому кругу.
И все это характерно для пушкинской психики, не за
мыкающейся въ себѣ, широко и вольно открытой всѣмъ
впечатлѣніямъ міра, и чьи вчувствованія въ жизнь, въ людей,
эпохи, страны казались замѣчательными современникамъ, по
ражали Бѣлинскаго, восхищали Достоевскаго.
Опасность для экстраверсивной натуры, это „растечься“,
уйти отъ своего центра, отъ разработки и углубленія своего
душевнаго „я“. Опасность какъ бы еще вырастаетъ, если
вглядѣться въ сангвиническія черты темперамента Пуш
кина — въ эту необыкновенную живость, стремительность
внѣшнюю и душевную5), не покидавшую даже болѣе чѣмъ
тридцатилѣтняго человѣка, въ этотъ безпечный хохотъ, въ
удивлявшую современниковъ и разсказанную имъ самимъ
перемѣнчивость его настроеній6).
Но если человѣкъ вообще не „homo simplex“, а „homo
multiplex“, то Пушкинъ былъ имъ въ замѣчательной степе
ни. Здѣсь одинъ изъ истоковъ той „загадочности“ Пушкина,
его удивительной душевно-духовной сложности, которая,
еще не до конца разрѣшенная, приковываетъ къ себѣ вни
маніе изслѣдователей. Живой, легкій, безпечный Пушкинъ.
Но онъ же не только называетъ свою жизнь „элегіей“, но
заявляетъ Кс. Полевому въ 1828 году, что онъ „по харак
теру своему меланхоликъ“. Черты же склада мелан
холическаго: впечатлительность сильная; внутренняя вибра
ція на нихъ продолжительна: вдумчивость; чувства на боль
шой глубинѣ 7); окраска печальная. Въ эту сторону Пушкина
3) К. Юнгъ. Пс дологическіе тины, р. пер. 1929, 275.
О „добромъ согласіи между субъектомъ и объектомъ“: Юнгъ, 270.
•') О внѣшней стремительности Пушкина А. Тургеневъ П. Вяземско
му: „Мелькнулъ, какъ привидѣніе, исчезъ какъ бѣсъ“. О внутреннемъ
ритмѣ Пушкина свидѣтельствуетъ его излюбленный размѣрь — ямбъ, по
выраженію Вико — , tin mètre rapide“
в) Эту перемѣнчивость Пушкина отмѣчали уже воспитатели Пушки
на въ лицеѣ, такъ Пилецкій. О ней же говорятъ въ своихъ записяхъ и Пу
щинъ и А. Кернъ; самъ Пушкинъ — въ выпущенныхъ имъ строкахъ 8-ой
главы „Онѣгина“.
■) Отсюда „ѣste Gesinnung“ меланхолика. (Höifding. Psychologie 1914,
483'.
393
недостаточно вникли даже такіе изслѣдователи, какъ Н. Кот
ляревскій, психологъ Д. Овсянико-Куликовскій, хотя уже
Бѣлинскій замѣтилъ, что основное произведеніе Пушкина —
„Евгеній Онѣгинъ“ — исполнено великой грусти8), а Адамъ
Мицкевичъ находилъ „Онѣгина“ „болѣе грустнымъ, чѣмъ
произведенія Байрона“9). Пушкинъ грустныхъ и глубокихъ
переживаній понималъ жизнь, какъ драму, онъ видѣлъ
сколько въ ней страстей „мучительныхъ“ и „роковыхъ“, и
сколько въ мірѣ печали и зла. Но меланхоліи личной жиз
ни Пушкинъ не сдавался до конца. Спасала какая-то особая
мужественность склада, своеобразная гордость, „стыдъ“
сдаться10); отсюда столь характерное „переключеніе“ пуш
кинскихъ мыслей и стихотвореній „на мажоръ“)11). Но и
широкій міръ человѣческій, открытый взору экстраверсиста,
раскрывалъ Пушкину, рядомъ съ проникающимъ жизнь
„зломъ“, его „свѣтъ“ и „добро“. Если Пушкинъ великій
художникъ, эстетикъ находилъ въ мірѣ такъ много
„прекраснаго“, то Пушкинъ-э т и к ъ находилъ въ душахъ,
въ мірѣ, морально прекрасное, ему умилялся, имъ вос
торгался и его воплощалъ.
Пушкинъ глубокій не поклонялся ирраціональному „ха
осу“ (какъ бы этого хотѣлъ Гершензонъ)12).
Пушкинъ живой и стремительный, изображавшій такъ
часто жизнь „sub specie движенія“ 13), дополнялся Пушки
нымъ, понимавшимъ, что въ движеніи можетъ быть и зло
и добро, и тѣмъ Пушкинымъ, что, рядомъ съ „коснымъ“
покоемъ, постигалъ покой и безущербной духовной полно
ты, и энергическій покой художественно творческихъ созер
8) Письмо Бѣлинскаго Бакунину (1840); „читая Евгенія Онѣгина, я
обратилъ вниманіе на эту безконечную грусть, какъ основной элементъ
поэзій Пушкина“.
8) Цит. по Спасовичу. Собр. соч. т. II. Статья „Пушкинъ и Мицке
вичъ
,0) ,, ...Но что! Стыжусь!..." (Посланіе къ кн. А. Горчакову. 1816).
,1) Характерные примѣры такихъ переключеній, кромѣ посланія Гор
чакову: конецъ посвященія „Кавказскаго плѣнника", „19-ое октября“ 1825
г. (особенно) и 1831 года; только въ нѣкоторой мѣрѣ элегія „Безумныхъ
лѣтъ“.
,2) Этотъ талантливый писатель былъ и удивительнымъ парадокса
листомъ. Вся статья , Мудрость Пушкина“ (въ сборникѣ того же заглавія)
есть сплошной парадоксъ: Пушкинъ всѣмъ безумствамъ говорилъ свое да,
и человѣкъ для него былъ „лишь аккумуляторъ и органъ стихій“.
и) Въ чрезвычайно интересномъ и своеобразномъ этюдѣ проф. П.
Бицилли „Поэзія Пушкина“ (1926. Сборникъ „Этюды по русской поэзіи“)
проводится именно эта мысль.
394
цаній и) и — мы увидимъ — покой нравственнаго углублен
наго сознанія.
И на почвѣ собственно душевныхъ качествъ вы
растало пушкинское этическое сознаніе, или находило въ
нихъ свое укрѣпленіе. Возьмемъ только существеннѣйшее.
Пушкинъ былъ необыкновенно добръ. Всѣмъ друзьямъ,
всѣмъ приближавшимся къ нему была извѣстна эта черта15).
Самъ Пушкинъ ее находилъ въ себѣ и высказывался о ней,
начиная съ легкаго отроческаго стихотворенія и вплоть до
вычеркнутаго слова изъ черновика его письма Геккерену въ
1835 году. Пушкинъ былъ благороденъ. Онъ былъ спосо
бенъ къ паденіямъ, но еще въ ночи лицейскихъ бесѣдъ16)
и вплоть до суроваго стихотворенія „Воспоминаніе“, въ нихъ
сильно и горько раскаивался. Пушкинъ хотѣлъ — какъ въ
воображаемомъ разговорѣ съ Александромъ 1 — чтобы его
благородству вѣрили, чтобы достоинство его личности ува
жали17). Онъ требовалъ отъ человѣка, какъ „первой на
уки“ — уваженія къ себѣ“ 18).
’<) Глубокая особенность Пушкина: нѣтъ спокойствія — нѣтъ твор
чества, только отрывки, какъ въ 1822 и 1835 году. (Проф. М. Гофманъ.
Пушкинъ. Психологія творчества. 1928, 16).
’Е) Свидѣтельства объ этой добротѣ, при томъ дѣйственной, многочислены. Отмѣтимъ указанія А. Кернъ (Воспоминанія, изд. 1929 г. 291), А,
Смирновой (Записки изд. 1894, 33’, Гр. В. Сологуба (Воспоминанія. 1887,
117), Нащокина (по записямъ Бартенева), свидѣтельство Гоголя, письмо
Пушкину Ек. Карамзиной. Объ отношеніи Пушкина къ крестьянамъ работа
Щеголева „Пушкинъ и мужики“. 1928).
16) Какъ вспоминалъ Пущинъ („Записки о Пушкинѣ" изд. 1927, 1C).
’7) Мы считаемъ, что гибель Пушкина была вызвана не столько „от
дѣлившейся отъ него стихіей Алеко" (А. Григорьевъ', „великолѣпнымъ бѣ
шенствомъ“ (Гершензонъ) и не моральнымъ паденіемъ Пушкина до окру
жавшей его среды (Вл. Соловьевъ. „Судьба Пушкина", собр. соч. т. ѴІП)
но страстнымъ реагированьемъ на стремленіе его оскорбить и унизить
какъ личносіь.
,8) Въ Пушкинѣ хотятъ отыскать двойной цинизмъ: въ области эро
тической и въ области религіозной. Пушкинъ позволялъ себѣ быть настав
никомъ in arte atnandi, но, какъ справедливо предсстерегаетъ Щеголевъ въ
предисловіи къ записямъ Вульфа, мы не должны слишкомъ довѣрять заяв
леніямъ такого циника, какимъ былъ самъ Вульфъ. Религіозный же „ци
низмъ" Пушкина съ сжатой обстоятельностью разсмотрѣнъ В. Ходасеви
чемъ („Цинизмъ Пушкина". Совр. Записки 19). Если нельзя сказать вмѣстѣ
съ Котляревскимъ („Холмы родины"), что это была только „игра въ ате
измъ", то ни о какой серьезности той же „Гавриліады" говорить не приходится.
Но, какъ свидѣтельствуетъ А. Смирнова, Пушкинское сознаніе возмуша-
395
III.
Пушкинъ не былъ кабинетнымъ ученымъ, создающимъ
этическую систему. Не на систематически отвлеченныхъ раз
сужденіяхъ покоилось этическое сознаніе Пушкина. Оно яв
лялось сочетаніемъ его склада, его натуры съ непосредствен
нымъ, интуитивнымъ постиганіемъ нравственнаго19).
Оттого въ душѣ людской, въ душѣ своей находилъ Пуш
кинъ нравственныя начала, и первымъ, непосредственнѣйшимъ
для него была совѣсть.
Грѣхъ ищетъ для себя оправданій. Страсти зовутъ себѣ
на помощь софизмы ума. И все это, чтобы не слышать го
лоса неподкупнаго, отъ котораго всѣ оправданія и софизмы
грозятъ распасться, какъ ложь. Совѣсть вызываетъ грозныхъ
посѣтителей, незваныхъ гостей, одинаково и къ средневѣко
вому рыцарю и къ виновному русскому мужику. Она отрав
ляетъ бредъ больного разбойника, и двѣнадцать лѣтъ под
рядъ, принявъ обликъ сна, не даетъ покоя душѣ виновнаго
честолюбца царя. Она приводитъ молодого князя къ знако
мымъ ему берегамъ и высылаетъ ему навстрѣчу сумасшед
шаго старика, чтобы его видомъ „всѣ муки сердца растра
вить“. Она вторгается даже въ мрачную душу Мазепы, за
ставляя звѣзды обвинительно глядѣть, и деревья шептаться,
и великолѣпную, свободную ночь казаться душной, какъ чер
ные своды тюрьмы. Не уйти отъ ея голоса и лживому со
знанію Сальери.
Добро есть. Его законы непреложны. Спящая совѣсть—
проснется, заглушаемая — возстанетъ. Есть въ мірѣ возмез
діе, какъ внутренній судъ.
Существуютъ души благородныя, сердца честныя и
правдивыя. У Пушкина „цѣлая галлерея хорошихъ людей“ 20).
Онъ ихъ находитъ просто, безъ поиска. Это опредѣляется
его вѣрой въ заложенность добрыхъ началъ, а какъ не быть
этой вѣрѣ, если Пушкинъ видитъ добрыхъ, какъ видитъ
лось противъ этого произведенія: его письмо императору должно было
быть и внѣшнимъ признаніемъ и внутреннимъ отказомъ отъ „грѣха“
юныхь дней. Въ новѣйшее время хотятъ найти въ Пушкинѣ черты „дека
дентства“, „ущербности". Такъ Вересаевъ („Въ двухъ планахъ“), Брюсовъ
(„Мой Пушкинъ“), А. Благой въ книгѣ „Соціологія творчества Пушкина“Мы это здѣсь оставляемъ безъ разсмотрѣнія.
>9) Обь интуитивномъ нравственномъ сознаніи и голосѣ совѣсти —
Вундтъ (Введеніе въ философію; Этика).
•°) Н. Лернеръ. «Художественныя произведенія Пушкина'* (45), въ
сборникѣ „Проза Пушкина" 2 изд.
396
добро. Характернѣйшая черта: у Пушкина добрые не стре
мятся стать добрыми, въ нихъ нѣтъ этого скрежущаго эле
мента усилія. Если они вносятъ благо, то самымъ своимъ
существомъ. Какія собственно добрыя дѣла совершаетъ Та
тьяна? Она, мы знаемъ, „помогала бѣднымъ“. Но развѣ это
не второстепенно сравнительно съ тѣмъ, что ея образъ свѣ
тится, и что заключенное въ ней нравственное начало въ
трудную минуту выступитъ съ необыкновенной силой. Цѣн
на ли для Пушкина (а черезъ него и для насъ) скромная
Марья Ивановна тѣмъ, что совершаетъ нелегкое путешествіе
къ императрицѣ для спасенія невиновнаго жениха, или это
всего только частичное отраженіе ея личности. Совершаетъ
ли какія-нибудь добрыя дѣла Марія Потоцкая? Нѣтъ. Но въ
гаремѣ, въ комнатѣ ея, далекой и отдѣленной, день и ночь
горитъ лампада предъ ликомъ Дѣвы Пресвятой; „души тос
кующей отрада, тамъ упованье въ тишинѣ съ смиренной вѣ
рой обитаетъ“. Нѣтъ добрыхъ дѣлъ, но есть кротость ду
ши, и вѣра, какъ ея духовное озареніе. Пушкинъ не осво
бождаетъ; конечно, человѣка отъ дЬлъ милосердія, отъ тре
бованій долга, отъ активнаго выявленія любви, но только
для Пушкина не просто тѣми или иными дѣйствіями, но
своею душой выявляетъ начала добра человѣкъ.
И еще особое внутреннее пониманіе добра. У Пушкина,
такъ воспринимающаго жизнь въ движеніи, въ захватываю
щемъ теченіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ переходѣ, смѣнѣ и пере
мѣнѣ — сквозь все это и какъ бы въ противоположеніе
всему этому, добро носитъ характеръ неперемѣннаго въ пе
ремѣнномъ, независимаго въ основѣ своей отъ того или ино
го времени. Совѣсть не подчинена теченію вѣковъ. Въ от
дѣльной же человѣческой душѣ добро является глубокимъ
началомъ устоя. Человѣкъ можетъ и самъ не знать, какъ
могущественно въ немъ и непреложно это начало. Знаетъ ли
„недоросль“ Петръ Гриневъ, рѣзвящійся у голубятни, что
онъ никогда не измѣнитъ — и просто не можетъ измѣнить
началу чести и долга? Знаетъ ли мечтательная уѣздная ба
рышня, „съ печальной думою въ очахъ, съ французской
книжкою въ рукахъ“, натура страстная и какъ бы готовая
всецѣло предаться чувству, какой въ ея душѣ есть устой?
Но онъ есть, о немъ намъ краснорѣчивыми словами разска
залъ Достоевскій 21)
Но если есть незыблемый устой, то познавшее его въ
себѣ существо тѣмъ самымъ пріобрѣтаетъ начало покоя.
Это покой особый, не исключающій ни слезъ, ни сожалѣній
о счастіи нѣкогда „столь близкомъ, столь возможномъ“, ни
страданій непобѣжденной любви, это — за всѣми страданіяма и глубже ихъ находящійся — покой не измѣнившаго се”) Въ знаменитой .пушкинской" рѣчи.
397
бѣ нравственнаго сознанія. Пушкинская Татьяна, углубленная,
можетъ страдать, но она не можетъ погибнуть.
Пушкинъ намъ не проповѣдуетъ доброты, сердечности,
благоволенія къ людямъ. Но это какъ бы атмосфера, въ ко
торую Пушкинъ насъ погружаетъ. Почти всѣ его „19-ые
октября“, всѣ пѣсни дружбы — призывъ къ вѣрности не
рушимой и ясной по духу братской любви 22). Дружба — на
ша опора, защита, укрѣпляющій нашу душу союзъ. Съ го
речью, съ негодованіемъ говоритъ Пушкинъ о ея наруше
ніи 23).
Если содружество связываетъ только опредѣленный
кругъ людей, то сердечность повсюду ищетъ путей для сво
его проявленія Отъ кроткихъ и простодушныхъ (Лариныхъ
и Мироновыхъ) Пушкинъ доходитъ до проявленія ея чертъ
у хитраго мужика и вождя свирѣпаго возстанія — Пугачева.
Сердеченъ какой-то особой, наивно непосредственной сердеч
ностью крѣпостной слуга Савельичъ, но сердеченъ и гроз
ный царь Петръ, и та дама, съ лицомъ важнымъ и спокой
нымъ, съ голубыми глазами и улыбкой, „имѣвшей прелесть
неизъяснимую“, та, которую скромная капитанская дочь встрѣ
тила на аллеѣ царскосельскаго парка. Въ „безпутномъ“, по
хожемъ на задуманнаго имъ Пелымова, Нащокинѣ Пушкинъ
цѣнитъ его „золотое сердце“. Въ любопытнѣйшемъ черно
вомъ наброскѣ24) Пушкинъ заставляетъ состарившагося Пе
тра Андреевича Гринева обращаться къ внуку со словами,
что несмотря на нѣкоторыя наслѣдственныя черты характе
ра, дѣдъ за него не страшится, — лишь бы вступающій въ
жизнь юноша сохранилъ замѣчаемыя въ немъ двѣ „прекрас
ныхъ черты“: доброту и благородство.
Состраданіе есть то чувство, могущее становиться эти
ческимъ принципомъ, которое вытекаетъ изъ сознанія об
щности всего живого, изъ сочувствія однороднымъ,28) изъ
сознанія, требуемаго индійской философіей: „Онъ это ты“.
sî) „Пушкинъ по самой природѣ своей другъ’. (Ю. Айхенвальдъ по
поводу писем і> Пушкина).
'-3) Стих. .Коварность" (1824), кончающееся: „Ты осужденъ послѣд
нимъ приговоромъ“.
21) „Неизданный Пушкинъ". 1922, 163).
25) По Вл. Соловьеву („Оправданіе добра" 1899, 107) жалость имѣетъ
своимъ источникомъ совмѣстность бытія и единство происхожденія.
398
Въ него входитъ ощущеніе чужого страданія и потребность
снять это страданіе своимъ сочувствіемъ, любовію, волей.
И вотъ образы, встающіе въ душѣ Пушкина даже тог
да, когда въ окружающей жизни ихъ нѣтъ: нелюбимый ре
бенокъ въ семьѣ; тихо угасающая чахоточная дѣва; чье-то
горе, обращающееся въ „застѣнчивой мольбѣ“. Пушкинъ со
страдаетъ обиженнымъ, неумолимо оскорбляемымъ, пад
шимъ.26) И съ особенной силой выступаетъ пушкинское со
страданіе въ возмущающемъ его душу сознаніи, что человѣка
человѣкъ — своекорыстный властитель покорнаго раба—
посылаетъ на страшную гибель.27)
Но состраданію, по слову Канта,2829
) нужно найти мѣсто,
причитающееся ему среди этическихъ началъ. Оно не должно
становиться верховнымъ принципомъ. И у Пушкина оно не
верховно. Не потому-ли, что въ ясной, здоровой основѣ его
психики нѣтъ оправданія чрезмѣрному, а состраданіе какъ-то
тянетъ къ чрезмѣрному (недаромъ Аристотель не включилъ
его въ число добродѣтелей, а состраданіе Достоевскаго, тер
зающее и страстное, договаривается до бунта).
Не правъ-ли Метерлинкъ,2а) что надо дѣлиться огнемъ
отъ своей лампады, но не жертвовать ею самой? Сострада
ніе не должно искажать соотношенія цѣнностей. Иначе мы
рискуемъ, взявъ пушкинскій творческій міръ, стать на сто
рону „бѣдныхъ Евгеніевъ“, съ ихъ огромной несчастностью.
А изъ всѣхъ толкованій „Мѣднаго всадника“ намъ представ
ляется непріемлемымъ именно то, гдѣ Пушкинъ выступаетъ
противъ торжествующаго властителя „непоколебимой“
Россіи Петра.30)
Если-бы мы захотѣли за Пушкина, который не былъ
систематикомъ, построить, хотя бы приблизительно, „систему
26) Онъ собирался посвятить цѣлую повѣсть — ,,Марію Шонингъ“ —
судьбѣ двухъ несчастныхъ.
“) Въ самомъ ритмѣ стихотворенія „Анчаръ“, говорить К. Зайцевъ,
чувствуется неприкрытый суровый ходъ зла. „Страшное стихотвореніе",
замѣчаетъ Н. Котляревскій.
2S) Кантъ. Замѣчанія о чувствѣ высокаго и прекраснаго, р. пер.
1862, 28.
29) Въ изящномъ трактатѣ „Мудрость и судьба".
’0) Точка зрѣнія Спасовича (Собр. соч. т. II. Статья „Пушкинъ и Миц
кевичъ"). Поэма „Мѣдный всадникъ" въ этомъ отношеніи вызвала самыя
разнообразныя толкованія (Сводка русскихъ въ большой статьѣ А. Благого
„Соціологія творчества Пушкина“ 263-328). Польское отношеніе къ во
просу освѣщено проф. В. Францевымъ въ его необыкновенно обстоятель
ной работѣ (1929) „Пушкинъ и польское возстаніе 1^30-31, и въ чрезвы
чайно интересной польской статьѣ проф. В. Ледницкаго, вводной
воду „М. всадника", сдѣланному поэтомъ Тувимомъ.
къ пере
399
этики“, одной изъ важнѣйшихъ основъ ея оказался бы прин
ципъ „достоинства человѣческой личности“. Пушкинъ былъ
очень скроменъ, онъ, можетъ даже чрезмѣрно, сознавалъ
свои слабости и горько каялся въ нихъ. Но Пушкинъ силь
но и твердо, какъ мы сказали, сознавалъ себя „человѣческой
личностью“. Къ достоинству этой личности онъ хотѣлъ и
требозалъ уваженія. Въ этомъ именно смыслѣ Пушкинъ се
бя сознавалъ, мыслилъ себя личностю свободною и достой
ной. На какихъ основахъ покоится утвержденіе о человѣче
скомъ достоинствѣ? Въ античномъ мірѣ его философской ба
зой являлась со-природность людей, ихъ „естественная“ по
природѣ, свободность, ихъ „гражданство въ мірѣ“, а не толь
ко въ томъ или иномъ государствѣ. Каждый человѣкъ —
„persona“ — и если есть рабство, то не по праву естествен
ному, а „utilitatis causa“. Христіанство возвысило въ человѣкѣ
достоинство его сопричастіемъ Божественному, человѣка,
какъ носителя „духа“.
Въ новой волнѣ человѣческой мысли — въ 17-18 вѣкѣ,
раціоналистически, въ системахъ „соціальнаго физицизма“
построяется индивидъ, надѣляемый „неотъемлемыми права
ми“.31) Въ то же время (18 в.) развивается „чувствительность“,
этическій гуманизмъ, негодующе возстающій противъ всякаго
оскорбленія и униженія человѣческой личности. Серьезнаго
античнаго вліянія Пушкинъ не испыталъ. Отъ христіанскаго
чувства личности новое время отрѣшиться не могло, даже
тогда, когда и отвергало религіозное основаніе. Конечно, отъ
этого безсознательнаго христіанскаго основанія не могъ от
рѣшиться и Пушкинъ, только въ послѣдней грани жизни (по
нашему) къ христіанскому міросозерцанію подошедшій. Ра
ціонализмъ, отвлеченность его, были совсѣмъ не въ складѣ
Пушкина. Но одушевленіе лицейскаго преподавателя Куни
цына, проповѣдь „неотъемлемыхъ правъ человѣка“ произ
вели на Пушкина глубокое впечатлѣніе.32)
Пушкину видѣлся какой-то всеохватывающій „Habeas
Corpus Act“, въ которомъ бы нашли себѣ признаніе и защи31) Исторія „права естественнаго“ въ русской литературѣ лучше все
го изображена у Чичерина въ его „Исторіи политическихъ ученій“, а въ
новой литературѣ у проф. Е. Спекторскаго въ его литограф, курсѣ „По
собіе къ лекціямъ по исторіи философіи права“. Прага 1925, и въ сжатомъ
видѣ, въ „Энциклопедіи права“ проф. Ѳ. Тарановскаго.
3-( Проф. Куницынъ былъ у насъ піонеромь-насадителемъ идеи пра
ва естественнаго (въ его раціоналистической формѣ). На эту тему онъ съ
одушевленіемъ произнесъ рѣчь въ день открытія Лицея; затѣмъ читалъ
курсъ. И это о Куницынѣ сказалъ Пушкинъ, что имъ „чисіая лампада
возжена“.
400
ту требованія индивида—собственно личныя, семейственныя,
этическія, эстетическія (свободность творчества, независи
мость).83) Человѣкъ долженъ мыслиться, самимъ собою и
другими (людьми, обществомъ, государствомъ), какъ нрав
ственная личность. Ему должны быть гарантированы права
мысли, только законами ограниченныя. Самый-же законъ о
человѣческомъ словѣ и можетъ и долженъ противиться толь
ко безнравственности очевидной и нарушенію основныхъ
правъ самого гражданскаго общества.34)
Должна быть защищена неприкосновенность дома, какъ
семейнаго очага — этой области такъ долго не цѣнимой, а
затѣмъ ставшей священной для Пушкина. Только тамъ есть
истинный порядокъ, гдѣ есть человѣческая свобода, но сво
бода опять таки неразрывно связанная съ закономъ. Пуш
кинъ съ четкой ясностью отличаетъ свободу отъ произвола.85)
Законъ не долженъ становиться ничьимъ орудіемъ съ пре
слѣдованіемъ своекорыстныхъ цѣлей будь то одного, буль
то множества.30) Другими словами, Пушкинъ мечтаетъ о су
веренитетѣ закона, вмѣсто суверенитета монарха или народ
наго. Вникая все глубже, Пушкинъ понимаетъ, что „право
формальное“ можетъ расходиться съ правомъ справедливо
сти,87) что подъ покровомъ этого формальнаго права мистеръ
Смитъ и мистеръ Джаксонъ могутъ доводить до крайней
нищеты и униженія человѣческую личность. Охрана же за
коновъ, истолкованіе ихъ, попавъ въ руки продажныхъ
крючкотворовъ ведутъ къ составленію такихъ вопіющихъ
документовъ, какой приложилъ намъ Пушкинъ въ дополне
ніе къ „Дубровскому“. И жестокій, реальный смыслъ пріоб
рѣтаетъ бредовой крикъ Дубровскаго: „собаки впущены въ
Божію церковь“.
Такъ правовое, этическое, „святое“ Пушкиныъ сближе
ны. Онъ не хочетъ ни права, подъ которымъ кроется про
изволъ, ни права, коимъ оскорбляется нравственное сознаніе.3*5
3 ) Въ стих. „Не дорого цѣню я громкія права“ мы видимъ заострен
ное превозглашеніе „правъ поэта“, небреженіе къ политическимъ
правамъ, безъ колебанія „правъ человѣка“.
5‘) Мысль, выраженная въ сужденіи: „Что такое безнравственныя
книги“. Здѣсь, намь представляется, Пушкинъ высказался безъ уступокъ
времени и условіямъ.
,6) Стих. „Вольность“ и „Андрей Шенье“.
’6) „Горе, горе племенамъ, гдѣ иль народу иль царямъ Закономъ
властвовать возможно!“
”) Эта мысль близка русскому сознанію. Не даромъ цѣлая плеяда
ученыхъ въ концѣ прошлаго вѣка подхватила идеалистическую идею „пра
ва естественнаго“, „права справедливаго“, „права истиннаго“ (Штаммлеровское „Richtiges Recht“).
401
Еще одно, характерное для нравственнаго сознанія Пушкина,
переносимое имъ и на область права: для Пушкина нераз
рывны права и обязанности. Такъ помѣщикъ, имѣющій
права по отношенію къ крѣпостнымъ, тѣмъ самымъ имѣетъ
по отношенію къ нимъ и обязанности.38) Когда гибнетъ дво
рянство, столь цѣнимое Пушкинымъ дворянство? Когда
оно становится дворянствомъ привилегій, забывая обязан
ности. 30)
Обязанность, об-вязанность, связанность. Эта связанность
не только не отталкиваетъ Пушкина, но является существен
нымъ элементомъ его этическаго сознанія. Такъ-же, какъ
связываетъ право-обязанность, такъ—но въ глубокой, вну
тренней сферѣ—связываетъ и долгъ.
Пушкинскій „долгъ“ это не кантовскій „категорическій
императивъ“, формальный, на самомъ себѣ основанный.40).
Долгъ не довлѣетъ себѣ. Для своей связующей силы
онъ долженъ имѣть глубокія основанія. Вглядимся. Татьяна
„отдана“, ея любовь къ Онѣгину не угасла. И все-же между
нею и имъ для Татьяны стоитъ непереходимая грань. Это—
клятва, обязующая человѣка передъ Богомъ — и передъ со
бой, потому-что нарушить ее, значило-бы унизить, сильнѣе
того, разрушить свой нравственный образъ.
Маша Троекурова, конечно, не была идеаломъ Пушки
на, но и ее, до послѣдняго возможнаго момента ждущую
избавленія, клятва связала. „Я согласилась, я дала клятву,—
князь мой мужъ... теперь, говорю вамъ, теперь поздно.“
Напрасно мы будемъ переносить вопросъ въ плос
кость душевныхъ качествъ Онѣгина или, такъ зло оха
рактеризованнаго Ключевскимъ, князя Верейскаго. Дѣло
не въ нихъ. Пусть иронизируетъ Бѣлинскій: „Sublime“.
Для Пушкина это героическій подъемъ человѣческой
души на совсѣмъ особую высоту. Въ клятвѣ и внутренней
чести обоснованіе долга.
И когда скромные русскіе армейскіе офицеры 18-го сто
лѣтія протаптываютъ для Россіи славный путь отъ Кунерсдорфа до Рымника и до Нови,4') — это вѣрные своему дол
гу Гриневы и простодушные капитаны Мироновы. Забро
шенные Пушкинымъ въ Бѣлогорскую крѣпость, они съ спо
койной твердостью принимаютъ или готовы принять смерть.*41
-’)
se)
<°)
и ввелъ,
ности.
41)
Отрывки изъ „романа въ письмахъ“, разсужденіе Владимира Z.
„О дворянствѣ“ (1831),
и формальный характеръ котораго самъ Кантъ не могъ сохранить
столь близкій его вѣку, принципъ достоинства человѣческой лич
Выраженіе В. О. Ключевскаго.
26~
402
За ихъ исполненіемъ долга стоитъ не одна только воинская
присяга, но ихъ собственная (у Миронова), собственная и ро
довая (въ Гриневѣ) честь, соединенная съ еще однимъ, нрав
ственнымъ для Пушкина, сознаніемъ: служба родинѣ есть и
долгъ за нее умереть.
Честь! При тройномъ дѣленій этики на собственно нрав
ственность, право и нравы, ее обыкновенно относятъ къ об
ласти нравовъ.42) Если говорятъ, что честь покоится на мнѣ
ніи, которое могутъ имѣть другіе о нашемъ достоинствѣ, на
сужденіи, которое они могутъ произносить о нашемъ пове
деніи, тогда опять берется честь въ ея внѣшнемъ значеніи.43)
Такая честь условна, какъ нравы эпохи, перемѣнна, какъ то
сословіе, тотъ классъ та профессія, въ которой это понятіе
живетъ. Пушкинъ невольно ей покорялся44) и въ то-же вре
мя видѣлъ, какъ разно эта честь можетъ отсвѣчивать въ за
висимости отъ того, съ чѣмъ она вступаетъ въ союзъ: съ
честью ли знаменъ, которыя воспѣвалъ молодой Пушкинъ и
которыя, какъ говорилъ Карлейль,45) являются „палками съ
привѣшенными къ нимъ тряпками“, но люди отдаютъ за нихъ
жизнь, какъ за великій символъ; или же это та малодушная
„честь“, которая, въ подчиненіи сужденію сплетника и „хо
хотнѣ глупцовъ“ побуждаетъ Евгенія Онѣгина принять вы
зовъ Ленскаго; или та „соблазнительная“ честь, которую тому-же Онѣгину дала бы его „побѣда“ надъ судьбою Татьяны.
Но, какъ мы видѣли, для пушкинскаго сознанія суще
ствуетъ другая, глубокая, внутренняя честь. Въ „Евгеніи Онѣ
гинѣ“ обѣ чести дважды, и непосредственно, противопостав
ляются другъ другу: въ первый разъ, когда, вмѣсто приня
тія вызова, Онѣгину надлежало быть не рабомъ предраз
сужденій, „но мужемъ съ честью и умомъ“; второй разъ,
когда Татьяна, послѣ горькихъ словъ о „соблазнительной
чести“, взываетъ къ истинной чести Онѣгина, въ силу кото
рой онъ обязанъ побѣдить свое недостойное чувство, а не
быть его „мелкимъ рабомъ“.
Такъ сильно обращенная къ человѣческой личности
1г) Такъ проф. Е. Спектсрскій. Начала науки объ обществѣ и государ
ствѣ. 1927, 31.
♦’) Тогда по замѣчанію Канта, она имѣетъ „только видъ добродѣтели“.
*1) Многіе его дуэльные вызовы и принятія вызововъ на дуэль. О
нихъ В. Ходасевичъ. „Дуэльныя исторіи“ („Пушкинъ“. „Возрожденіе“ 4
февр. 1937 г.).
*5) Въ своемъ „Sartor rcsartus“.
403
этика Пушкина не была однако исключительно и чисто ин
дивидуалистической. Неповторимый, какъ личность, человѣкъ
вмѣстѣ съ тѣмъ звено въ цѣпи его рода, членъ сословія, со
ставная часть націи, элементъ государства. И тотъ не пони
жаетъ еще нравственности — говоритъ намъ Пушкинъ — кто
вырываетъ человѣка изъ этихъ связей.40) Кто-же эти связи
познаетъ и въ нихъ войдетъ, пріобрѣтаетъ незыблемо-проч
ное „самостояніе“ и пріобщается сознаніемъ къ міру „живо
творящихъ святынь“.47)
Въ близкой связи съ надъ-индивидуальной этикой Пуш
кина стоитъ то, что мы бы назвали пушкинскимъ представ
леніемъ и утвержденіемъ этическаго смысла побѣдъ.
Пушкинское преобладающее воспріятіе внѣшняго міра sub
specie движенія, какъ стремленія, или какъ этически-прочнаго
и эстетически насыщеннаго покоя — должно было въ линіи
первой, т. е. движенія и стремленій, привлекать вниманіе
Пушкина къ тѣмъ внѣшнимъ событіямъ и тѣмъ душевнымъ
переживаніямъ, гдѣ выступаетъ начало энергіи. У Пушкина
есть цѣлая поэма энергіи — „Полтава“. Ея герои исполнены
.энергическихъ чувствъ. Предъ нами смѣлый и страстный об
ликъ Маріи; съ страстной энергіей возстаетъ противъ оскор•бителя-гетмана Кочубей; не знаетъ ни днемъ, ни ночью от
дыха всадникъ, везущій доносъ; чтобы затѣмъ съ неудер
жимой энергіей, въ полтавской битвѣ, прорваться сквозь ря
ды къ Мазепѣ и пасть у самыхъ его ногъ; а „старецъ хи
лый“, Мазепа, подъ покровомъ пировъ и болѣзней, съ сум
рачной, съ сжатой энергіей куетъ свои честолюбивые планы
и лелѣетъ многолѣтнюю месть. И надъ всѣмъ Петръ, какъ
величайшее воплощеніе личныхъ и государственныхъ силъ.
Сама эпоха — эпоха бореній и мужанія Россіи. Но мы бы
ошиблись, еслибъ приписали Пушкину культъ энергіи, какъ
таковой. Нѣтъ, по нашему убѣжденію, въ эту поэму вложенъ
двойной этическій смыслъ: это контрастъ добра и зла, авторой — это право побѣдъ (будемъ точны: этическій смыслъ
побѣдъ и право, вытекающее изъ нихъ). Контрастъ добра и
зла доведенъ до того, что отъ него страдаетъ художествен
ное воплощеніе поэмы. Два лица, и одно изъ нихъ освѣще
но — и освящено — великими цѣлями, исполнено справед
ливости, великодушія, пламеннаго моральнаго негодованія,—
другое—сплошная энергія зла, безъ единой смягчающей чер
ты, ничего не признающее, ничего не благословляющее, —
какъ демонъ. Мазепа страшенъ. Страшенъ и Петръ, но какойто божьей, сверхъ-человѣческой энергіей. Мы его видимъ,
и знаемъ: побѣда за нимъ. А когда начинается бой, едва-ли
есть равное ему по силѣ описаніе!
4ti) „Мысли и замѣтки“ (1827'.
4Т) Стихотвореніе „Два чувства“.
404
Настоящая, окончательная побѣда для Пушкина не слу
чайна — побѣждаетъ тотъ, въ чьей энергіи заключена боль
шая духовная сила. Такая побѣда даетъ права. Именно
этимъ сознаніемъ Пушкинъ проникнутъ въ 1831 году.
Россія доказала свою государственно-духовную мощь, по
существу, старый споръ двухъ націй рѣшенъ. Прочь тѣ,
кто ничего не понимаетъ въ этихъ правахъ, кто забылъ
не случайную участь Наполеона. Горделивыя пушкинскія
слова не есть крикъ шовинизма. Это и не культъ эсте
тическій, энергіи, какъ таковой. Ошибался въ оцѣнкѣ кн.
Вяземскій.48) Но напрасно „воинственнаго“, страстнаго, „пыш
наго“ Пушкина зачислилъ въ свой лагерь и К. Леонтьевъ.
Достоевскій, съ его „розовымъ христіанствомъ“, не замѣтилъ,
по утвержденію Леонтьева, въ Пушкинѣ его аморальныхъ,
эстетически восхитительныхъ упоеній.49) Однако самъ Леон
тьевъ не понялъ этическаго смысла, вложеннаго Пуш
кинымъ въ энергію побѣдъ. Но и этотъ смыслъ у Пушкина
не послѣднее слово.
Пушкинъ воспѣлъ въ эпилогѣ „Кавказскаго плѣнника“
торжество русскихъ побѣдъ, но его послѣднимъ словомъ
была поэма „Галубъ“ и слова изъ „Путешествія въ Арзрумъ“.
Право побѣдъ осуществлено, настало время обязан ноете й:
просвѣтить этотъ Кавказъ, пріобщить его къ болѣе высо
кимъ и гуманнымъ сознаніямъ. И у Пушкина этотъ просвѣ
титель-миссіонеръ, Тазитъ, долженъ былъ выйти изъ среды
самихъ побѣжденныхъ. Споръ двухъ славянскихъ народовъ
рѣшенъ побѣдой одного изъ нихъ. Но что-же говоритъ по
этъ дальше:50) „Въ бореньи падшій невредимъ... Они народ
ной Немезиды не узрятъ гнѣвнаго лица. И не услышатъ
пѣснь обиды отъ лиры русскаго пѣвца“.51)
До Пушкина долетаетъ голосъ ненависти его бывшаго
друга, Мицкевича. Пушкинъ отвѣчаетъ молитвой, чтобы „Го
сподь послалъ миръ въ его озлобленную душу.“ Онъ вспо
минаетъ, какъ ушедшій поэтъ говорилъ о временахъ, когда
народы, забывъ распри, соединятся въ одну семью. Пусть
эти дни еще гдѣ-то очень далеко, въ вѣкахъ, но придетъ
день, когда все нынѣ раздѣляющее будетъ рѣшено въ иномъ
и высшемъ масштабѣ...
w) Кн. П. Вяземскій дважды выступалъ, въ 1822 и 1831 г., противъвоззрѣній Пушкина. Разность взглядовъ и пониманія нашли себѣ отражеженіе и въ записной книжкѣ П. Вяземскаго (изд. 1929, 97 и 99).
49) К. Леонтьевъ. Собр. соч. т. Ѵ1П. 177 и 201-2.
50) Стих. „Бородинская годовщина“.
51) И какъ характерно для Пушкина, что онъ приглашаетъ воина —
не стыдиться слезъ, а героя быть человѣкомъ.
405
IV.
Пушкинъ видитъ зло, постигаетъ зло, въ своихъ тво
реніяхъ его воплощаетъ. Правда, свѣтлое, свѣтовое, въ Пуш
кинѣ должно тяготиться тьмой. Онъ дѣйствительно ею тяго
тится. Еслибы не стремительное, непрерывное созданіе „Пол
тавы“, Пушкинъ бы, по его признанію, это великолѣпное
трагическое произведеніе бросилъ: такъ тяготила его жесто
кая, мрачная личность Мазепы. Трагизмъ положеній былъ
первымъ толчкомъ, побудившимъ къ созданію поэмы; со
зерцаніе, сознаніе слишкомъ отвратительнаго, безсвѣтно тем
наго грозило остановить. Но въ основѣ своей, какъ мы зна
емъ, душа Пушкина была мужественна, пониманіе реалистич
но, чуждо уходовъ въ успокаивающе-выдуманный, мечта
тельный романтическій міръ.
Существованіе зла для Пушкина столь же непреложный
фактъ, какъ существованіе добра. Зло горитъ въ душахъ
злобою, ненавистью, чувствомъ мстительнымъ и жаждой
уничтоженія. Темная зависть, гордыня, властолюбіе влекутъ
къ преступленію, къ „переступленію“ границъ. Человѣческое
коварство подкрадывается; предательство, измѣна ждутъ'.своего момента; шипитъ клевета. Лицемѣріе одѣваетъ одежды
правосудія; сластолюбіе зоветъ себѣ на помощь соблазнъ;
обольщеніе бросаетъ на волю судьбы свои жертвы. А же
стокость не останавливается ни предъ какимъ разрушеніемъ,
и есть что-то грозное, нѣчто отъ „бездны“ въ наслажденіи
зломъ?2)
„Болдинскія“ драмы и „Пиковая дама“ зрѣлаго Пушки
на лучше всего знакомятъ насъ съ пониманіемъ Пушкинымъ
зла темнаго и страстей роковыхъ. Предъ нами процессы ду
шевной злой одержимости, распада, срыва, гибели.
Въ замкѣ, преданномъ нищетѣ, за коркой хлѣба рядомъ
съ кружкой воды, проводитъ свою жизнь прирожденный
воинъ, гордый властитель, мудрый совѣтникъ, а нынѣ душа
изъ подземелья, изъ подполья — старый баронъ. Для него
не существуетъ родственныхъ чувствъ, живые люди превра
щены въ средство, чтобы добыть и добавить нѣсколько
„золотыхъ“ въ мертвое, но страстно хранимое царство его
сундуковъ. „Цѣпной песъ“ своей страсти, онъ фантастически
считаетъ себя господиномъ. Его страсть ему лжетъ, населяя
его замокъ и сады покорными ему существами. Онъ-же без
мѣрно одинокъ и такъ отчужденъ отъ людей, какъ могутъ
отчуждать только преступленіе и зло. Всѣ нити этой опу
стошенной, уже почти призрачной души протянуты въ едиS!) Это — наслажденіе „гуломъ паденія“ сброшеннаго въ пропасть
врага (злобное утвержденіе Алеко); это наслажденіе, смѣшанное со слеза
ми, Сальери, бросившаго ядъ въ кубокъ Моцарта.
406
номъ направленіи, и предсмертный, трижды повторенный
вопль барона и есть ихъ разрывъ. А послѣдній часъ этого
существованія раскрываетъ все внутреннее безчестіе чело
вѣка, способнаго возводить на сына самую злую клевету, и
въ то-же время судорожнымъ, безсознательно трагическимъ
движеніемъ — перчаткой сыну — хотящаго сохранить свою
внѣшнюю честь.
И вотъ тѣ-же, или почти тѣ-же черты зла выступаютъ
и въ столь, казалось бы, отличномъ отъ стараго барона —
Сальери. Мы оставляемъ въ сторонѣ сопоставленія генія и
таланта, насъ интересуетъ въ драмѣ только ея психо-этиче
скій элементъ. Въ пушкинскомъ Сальери душа эгоцентрика.
Какъ ни любитъ и понимаетъ музыку Сальери, она для нега
есть средство, а не цѣль. Какъ и душа скупого рыцаря, ду
ша Сальери лишена прямоты и свободы; она скрытна, сдав
лена и темна. Сальери соединяетъ въ себѣ видимость прав
ды съ утонченностью лживѣйшаго софизма58) о „ненужно
сти“ для земли „райскихъ пѣсенъ“, и кончаетъ ядомъ раз
давленной въ прахѣ змѣи.
Въ Германѣ Пушкинъ показываетъ, что можетъ сдѣлатьединая идея, единая страсть со злою душой.54) Ибо сдержан
ный, аккуратный (въ пушкинскомъ черновикѣ даже идилли
чески настроенный) Германъ — все это только поверхность.
Достаточно одного толчка, чтобы выступила внутренняя сущ
ность этой души. И мы видимъ, что она и сквозь пламень
свой, суха и „хладна“, что и для нея люди — графиня и Ли
за — лишь средства. Въ „правилахъ“ Германа только мни
мый устой. Разъ сорвавшись, темная душа Германа не мо
жетъ остановиться, она должна нестись къ своей гибели, она,
по-истинѣ, обречена.55)
Такъ, на трехъ примѣрахъ вырисовывается пушкинское
пониманіе психики зла: эгоцентризмъ; внутренняя изоли
рованность; сдавленность, несвобода души; ея хладъ или тем
ное горѣніе; характерная лживость сознанія. И гибель, распадъ.
Борисъ-же Годуновъ, Анджело, Вальсингамъ для Пуш
кина не „люди зла“, но „люди паденія“. Особенность такихъ
существъ, что имъ доступно сознаніе „свѣтового“ что для
нихъ не закрыта дорога къ искупленію, очищенію, даже к ъ
возрожденію. Такъ не исключенъ этотъ путь для Вальсингама („Пиръ во время чумы").
55) Проф. Д. Овсянико-Куликовскій („Пушкинъ“ 1919, 12) говоритъ
поэтому о „душевномъ мошенничествѣ“ Сальери.
м) Это изображеніе власти единой поглошяюшей идеи было вос
принято Достоевскимъ (проф. А. Бемъ „У истоковъ творчества Достоев
скаго", 1936, 58).
м) О „Пиковой дамѣ" сильно и безъ обычныхъ парадоксовъ напи
сана статья М. Гершензона (Въ сборникѣ „Мудрость Пушкина", 97—113).
407
За злыми, за падшими, Пушкину открывается еще цѣлый
міръ эгоистовъ. Этотъ эгоизмъ отмѣнно благоразуменъ. Надъ
нимъ можно смѣяться, но онъ, по существу, не смѣшонъ.56)
Онъ — „хладенъ“. Жестокій и своекорыстный по сю сто
рону океана, онъ-же, переплывъ океанъ, провозглашаетъ,
говоритъ намъ Пушкинъ, своимъ богомъ „комфортъ“ и от
вергаетъ все лучшее, все прекрасное въ человѣкѣ.57) Этотъ
эгоизмъ, соединенный съ отвратительнымъ для Пушкина хо
лодомъ души, создаетъ ту „толпу“, ту „чернь“, которой не
доступно ничто свѣтлое, для которой не существуетъ ни
прямодушія, ни благородства. Но зато цѣлая свита изъ
чувствъ безъ цѣны и мелкихъ пороковъ сопровождаетъ та
кую эгоистически-ничтожную жизнь, которой Пушкинъ по
свящаетъ сатиру своихъ лирическихъ стихотвореній, строфыинвективы „Онѣгина“,58) суровыя сужденія о людяхъ „на ко
лѣняхъ предъ случаемъ, успѣхомъ и славою“, лишенныхъ
способности къ „очарованію, благодарности, къ уваженію“ и
живущихъ обществомъ, въ которомъ отсутствуетъ „всякая
моральная власть“.59)
Знаетъ Пушкинъ еще о двухъ категоріяхъ людей. Въ
одной изъ нихъ, по Пушкину, характерно отразился духъ
современности. Эти люди ни высоки, ни низки, о нихъ нель
зя сказать, что они злы; столь-же мало можно ихъ отнести
и къ людямъ добра. Они выше толпы по душевной слож
ности. Но ихъ характернѣйшія черты — себялюбіе, сухость,
безплодная мечтательность, и умъ „кипящій въ дѣйствіи
пустомъ“.6061
)
Другая-же категорія это личности слабыя, люди не по
лучившіе никакого нравственнаго воспитанія, безъ ясныхъ
представленій, съ душою, можетъ, честной и съ сердцемъ
чистымъ, но лишенные устоя—они зависятъ отъ случая, отъ
общества, отъ среды. Конецъ такихъ людей можетъ быть
одинаково и паденіемъ и подъемомъ. Именно подобнаго че
ловѣка хотѣлъ намъ Пушкинъ дать въ неосуществленномъ
романѣ „Русскій Пеламъ“,6') поставивъ рядомъ съ нимъ и
людей легкомысленныхъ, и людей безъ внутренней чести,
могущихъ, принадлежа къ обществу, въ то-же время падать
и) Пушкинъ. „Мысли и замѣчанія“ (1827).
57) Пушкинъ. „Джонъ Теннеръ" (1836).
s8) Особенно ярко въ „Онѣгинѣ“ гл. 6-я XLVI—XLV11, гл. 7-ая,
XLV1I!, 8-ая XXVI, и сохранившіяся въ рукописяхъ черновыя строфы XXIV
XXV той-же главы.
56) Отрывокъ „Гости съѣзжались на дачу“.
60) Кромѣ извѣстной строфы изъ , Онѣгина“ (гл. 7, XXII', замѣтка
Пушкина на появленіе перевода романа „Адольфъ" Б. Констана (1830). Са
мый переводъ былъ сдѣланъ П. Вяземскимъ и посвященъ имъ Пушкину.
61) Сохранилось начало и 5 краткихъ программъ.
408
до разбойничества. И должна была выступить еще одна злая,
коварная, лицемѣрная, отвратительная въ своей нравственной
низости личность — „русскій Тартюфъ’.02)
V.
Подведемъ нѣкоторые итоги и внесемъ дополнитель
ные штрихи.
Нравственное сознаніе Пушкина характеризуется чрез
вычайной ясностью. Если огромное значеніе для нравствен
ней личности человѣка имѣетъ, къ чему она притягивается и
отъ чего отталкивается, то Пушкинъ почти никогда не остав
ляетъ насъ въ состояніи сомнѣнія. Добро у Пушкина свѣ
тится; отъ добрыхъ (особенно отъ женщинъ) на насъ льется
— скажемъ пушкинскими терминами — „милый, плѣнитель
ный“ свѣтъ. Психикѣ добраго свойственъ особый покой, не
смотря на всѣ испытанія, на страданія и скорбь. Это не зна
читъ, конечно, что нравственная личность не можетъ быть
чрезвычайно дѣйственной и порывной. Лучшее доказательство
— Петръ. Петръ въ „Полтавѣ“ въ движеніи и бореніи. Въ
„Мѣдномъ всадникѣ“, прологѣ, онъ въ раздумій созерцанія
передъ дѣйствіемъ. Самый памятникъ — удивительное соче
таніе движенія и покоя: сила дѣйствія огромной духовной
мощи, остановленность — въ гордомъ сознаніи созданнаго и
закрѣпленнаго. Величественъ и неподвиженъ всадникъ, зная
про безсиліе мнимо властной стихіи, но бросьте свѣтъ него
дованія на это чело, и конь и всадникъ сдвинутся въ гроз
номъ движеніи. Добро есть глубокій внутренній покой души,
сознательно или безсознательно, крѣпкій моральнымъ усто
емъ. И добро есть покой нравственной-духовной энергіи, зна
ющей себя (Пушкинская Россія!) и свое право закрѣпленныхъ
побѣдъ.
Добро не только не эгоистично, оно не эгоцентрично.
Оно въ Пушкинѣ и его герояхъ такъ естественно не сосре
доточено на себѣ. Ни тѣни самолюбованія или надменности
„добродѣтельныхъ“. Добро просто. Сравнительно со зломъ
и его страстями, можно сказать, что у Пушкина оно необы
кновенно просто.
Объ основномъ, неотмѣнимомъ значеніи добра свидѣтель
ствуетъ у Пушкина совѣсть, та совѣсть, которая есть „cogito ergo sum“ 03) нашей нравственной сферы. Пушкинъ можетъ
говорить съ презрѣніемъ: „люди“, онъ говоритъ съ уваже'■2) Программы II и 111.
и) Выраженіе проф. Е. Спекторскаго „Этика и антропологія“ (Записки
Русскаго Научнаго Института въ Бѣлградѣ 1935, 121).
409
ніемъ: „человѣкъ“. Все зло и пошлость, которыя Пушкинъ
проницательно и реалистически видитъ въ мірѣ, оскорбля
ютъ человѣческое достоинство, но не отмѣняютъ его. „По
верхностный взглядъ“, говоритъ Пушкинъ, „на природу че
ловѣческую обличаетъ мелкомысліе“.64) И для него „человѣ
ческая природа въ самомъ гнусномъ своемъ униженіи все
еще сохраняетъ благоговѣніе передъ понятіями, священными
для человѣческаго рода“.65)
Пушкинская „этика“ не могла быть этикой пользы, ибо
Пушкинъ презиралъ эгоизмъ. Не была она и этикой чистаго
гедонизма даже въ молодые годы Пушкина,—и тогда надъ
областью наслажденія возносилось у Пушкина художествен
но-прекрасное и нравственно-высокое. Передъ ними Пуш
кинъ благоговѣйно, съ умиленіемъ склонялся.
VI.
Въ трудномъ вопросѣ о соотношеніи между этическимъ
и эстетическимъ въ области искусствъ, а въ частности твор
ческаго слова, на чьей сторонѣ правота? На сторонѣ-ли тѣхъ,
кто этическое и эстетическое рѣзко противопоставляетъ
другъ другу,66) или на сторонѣ утверждающихъ, что эстетически-прекрасное, высоко-художественное сѣетъ сѣмена
добра, возвышаетъ этически?67) Намъ представляется, что
соотношеніе можетъ колебаться отъ почти полнаго разрыва
до „химическаго“ соединенія. Эстетически прекрасное дѣй
ствительно отводитъ человѣка отъ пошлости, отъ низости
воспріятій, отъ слишкомъ узкаго самососредоточія. Но, по
видимому, на этомъ и надо остановиться. Дальнѣйшее зави
ситъ отъ жизненнаго содержанія, воспринимаемаго сквозь
художественную форму6S) и нравственнаго развитія,
«*) Изъ рѣчи, произнесенной въ Россійской Академіи 18 янв. 1836 г.
«) Пушкинъ. „О запискахъ Видака“ (1830).
с;) Проф. Евлаховъ въ своей односторонней книгѣ „Введеніе въ фи
лософію художесвеннаго творчества“ 1912, T. II, собралъ многіе десятки
соотвѣтствующихъ высказываній писателей, философовъ, теоретиковъ
искусства.
6,)1 Такъ Лессингъ утверждалъ, что въ основѣ вс ѣхъ драматических ь
произведеній должно лежать намѣреніе научить насъ, какъ поступать, ука
зать намъ отличительные признаки добра и зла. Нашъ Тургеневъ въ „пуш
кинской“ рѣчи своей произнесь: „Вь поэзіи освобождающая нравственная
сила". По мнѣнію Фолькельта (ст. „Искусство и нравственность" въ книгѣ
„Современные вопросы эстетики“) непреложно то, что добро есть высшая
цѣль, которой должно служить художественное творчество.
6Я) „Поэтъ переживаетъ въ стушенномъ видѣ огромную сумму че
ловѣческихъ переживаній“ (Проф. Д. Овсянико-Куликовскій. Пушкинъ
1919, 151).
410
способности вибрировать какъ у творящаго, такъ и у вос
принимающаго субъекта. Да, душа Пушкина отъ соприко
сновенія съ эстетически прекраснымъ очищалась отъ сора,
убѣгала отъ обыденнаго, освобождалась отъ темнаго сладо
страстія. Но все это было только нѣкоторой предваритель
ной стадіей. Если-же творчество Пушкина производитъ на
насъ такое всесторонне могущественное впечатлѣніе, то это
потому, что онъ, строго провозгласившій, что цѣлью поэти
ческаго произведенія не является нравоученіе, что у худо
жественнаго творчества есть свой идеалъ, въ то-же время
горячо возставалъ противъ внесенія въ творчество нрав
ственно безобразнаго, противъ литературы „палаческой“, „прі
апической“, „сатанической“. И вотъ нравственнымъ со
знаніемъ, своимъ различеніемъ въ человѣкѣ „добра“ и „зла“,
„свѣта“ и „тѣни“ Пушкинъ озарялъ свои высоко художе
ственныя произведенія.
Не правъ-ли Гюйо,69) говоря, что спустя много вѣковъ
отъ всего Гомера, можетъ, останутся только простертыя ру
ки Пріама и улыбка сквозь слезы прощающейся Андромахи.
И не потому, что эти мѣста наиболѣе художественно пре
красны, но потому-что въ нихъ — сквозь эстетически пре
красное— выступаетъ трагически-трогающее (Пріамъ) и нѣж
но-человѣчное (Андромаха).
Душа человѣческая доходитъ до „каХбѵ к’йуабоѵ" но
міръ эстетическій, самъ по себѣ, не есть „каХ’ауа^іа“.
Она получается только отъ соединенія, отъ слитія эсте
тическаго и этическаго, эстетическаго и религіознаго, какъ
это произошло въ средніе вѣка, съ образомъ Беатриче, гдѣ
Беатриче красота, а это красота ждетъ Данте въ высокомъ
кругѣ чистилища, чтобы подвести къ дверямъ рая земного и
небеснаго.70) Такъ и Пушкинъ эстетическое восхищеніе пе
редъ Мадоной земной (Гончаровой) слилъ съ образомъ Мадоны-небесной. Временами прекрасное у Пушкина уже пере
ступало нѣкій порогъ и воспринимало отсвѣтъ чего-то „не
изъяснимо“7’) чудеснаго, отблескъ изъ міра „святынь“.
VII.
Пушкинъ шелъ къ вѣрѣ, къ христіанскому религіозною) Гюйо. Современная эстетика р. пер. 1890, 41.
70) Проф. Е. Аничковъ. „Очеркъ развитія эстетическихъ ученій“,
1915, 31.
7|) На терминѣ, на понятіи, на духовномъ смыслѣ для Пушкина „не
изъяснимаго" останавливаетъ наше вниманіе П.
Струве въ пражскомъ
сборникѣ памяти Пушкина, 1929. Статья: „Неизъяснимый“ и „Непостиж
ный" и ente углубленнѣе въ статьѣ „Растущій и живой Пушкинъ“. (Од
нодневная газета „Пушкинъ". Изд. Пушкинскаго комитета. Февр. 1937, 3).
411
му міровоззрѣнію.72). Его послѣдніе годы — время необыкно
веннаго духовнаго углубленія, созрѣванія.73) Онъ самъ это
въ себѣ сознавалъ („Я возмужалъ“). Не только художествен
ное его творчество наглядно свидѣтельствовало, въ этомъ
убѣждались и всѣ, кто вступалъ съ нимъ въ бесѣды (чаще
другихъ Жуковскій, А. Тургеневъ, кн. Вяземскій, РоссетъСмирнова, Плетневъ). Пушкинъ „большей части того, что
могъ сказать, не сказалъ. Онъ унесъ съ собою въ могилу
цѣлый міръ.“ 74) Онъ своего духовнаго пути не довершилъ,
программы жизни своей не выполнилъ.75) Но что внутренній,
глубокій, духовный путь велъ Пушкина къ христіанскому
сознанію и міропониманію, мы теперь это знаемъ.
Пушкинъ тридцатыхъ годовъ говоритъ намъ о „цѣля
щей“ укрѣпляющей силѣ покаянной молитвы. Въ разговорѣ
съ Барантомъ Пушкинъ утверждаетъ, что всѣ мы несемъ
бремя жизни и подвержены заблужденіямъ. И вотъ „Хрис
тосъ повелѣваетъ намъ взять это бремя на себя“, нести
его до конца, помогать изнемогающимъ. Здѣсь этическое и
религіозное Пушкинымъ объединено.
Именно этическое сознаніе — рядомъ съ потребно
стью индивидуально и над-индивидуально осмыслить человѣ
ческое существованіе — выводило Пушкина на религіозный
путь. Объ этомъ свидѣтельствуетъ отвѣтъ Пушкина А. Тур
геневу, что его привела къ Богу—совѣсть. Существованіе
этого внутренняго закона требовало существованія Бога.
„Этика“ Пушкина, если прибѣгнуть къ выраженію кон
ца 19-го вѣка была Wertethik — была этикой нравственныхъ
,3) Мы лишены возможности, къ сожалѣнію, ближе остановиться
на томъ, какимъ путем і, по нашему сужденію, пришелъ Пушкинъ къвѣрѣ. Прекрасныя статьи проф. С. Франка — („Религіозность Пушкина
Журналъ „Путь“ № 40. 1933) и проф. К. Зайцева /„Религіозная проблема
Пушкина", въ харбинскомъ сборикѣ „Пушкинъ и Россія“. 1937) не ' раз
вертывая пути, по которому шелъ Пушкинъ, значительно способствуютъ
зато своей углубленной трактовкой разрѣшенію вопроса, ими поставлен
наго. О религіозности Пушкина говорилъ и А. Кони вь художествен
но построенной рѣчи „Нравственная личность Пушкина“. 1899 г. (На соб
ственно нравственной личности А. Кони, по его заявленію, остановился
сжато и бѣгло). Небольшую отдѣльную главу, посвященную „религіозно
му чувству“ у Пушкина, мы находимъ у Н. Котляревскаго въ его книгѣ
„Пушкинъ какъ историческая личность“ (1925),
,s) А. Мицкевичъ, въ посвященномъ Пушкину некрологѣ, говорилъ
объ интересѣ Пушкина къ „великимъ вопросамъ" — общественнымъ и р елигіознымъ — еще въ годы общенія съ нимъ.
"«) Проф. П. Струве „Растущій и живой Пушкинъ", 3.
”) За нѣсколько дней до смерти Пушкинъ написалъ: „Скоро-ли я
перенесу мои пенаты въ деревню? Поля, сады, крестьяне, покой, книги,
труды поэтическіе, семья, любовь... р е л и г і я... смерть".
412
цѣнностей. Психологически и логически она могла естественно
приводить къ утвержденіямъ религіознымъ. Пушкинъ мы
слящій — какимъ онъ все болѣе становился — могъ пи
тать нерасположеніе къ чисто отвлеченнымъ и сложнымъ фи
лософскимъ системамъ, но „добро“ и „зло“, раньше или
позже, должно было быть имъ понято въ охватѣ космиче
скомъ. А длительное колебаніе между мыслью о „путяхъ
Провидѣнья“ и какимъ-то, едва-ли отчетливымъ, представ
леніемъ Рока [даже съ „насмѣшкой его надъ землей“ (1825)]
уже разрѣшалось болѣе четкимъ утвержденіемъ „верховнаго
Промысла“.
Въ этомъ строящемся міровоззрѣніи составныя начала
„этики" Пушкина пріобрѣтали подкрѣпленіе или новое обо
снованіе. Такъ новое обоснованіе должны были получить
начала достоинства человѣческой личности и милосердія, а
сердечно исповѣдуемое благоволеніе къ людямъ должно бы
ло стать „закономъ Любви“.
Сто лѣтъ тому назадъ нить пушкинской жизни оборвилась. Сознаніе этого исполняетъ насъ глубочайшаго сожа
лѣнія, печали объ его сорванномъ существованіи, объ его
недовершенномъ пути. Но Пушкинъ намъ заповѣдалъ не оста
навливаться на печали. Кто намъ ее поможетъ преодолѣть?
— Самъ Пушкинъ: его геніальный поэтическій даръ, его
плѣнительная душевная личность и — такъ долго не дооцѣ
ниваемая, а теперь приковывающая къ себѣ — его сложная
духовная глубина.
ОГЛАВЛЕНІЕ
Стр,
Отъ Пушкинскаго Комитета..................................................
А. Величъ. Напутственное слово........................................
ІИ
V
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ
Пушкинъ и Югославяне
П. А. Митропанъ. Ранніе отзывы о Пушкинѣ въ серб
ской печати ...........................................................
3
Владиславъ Ходасевичъ. Аврора Шернваль.................... 23
Кн. И. С. Трубецкой. Къ вопросу о стихѣ „Пѣсенъ за
падныхъ славянъ“ Пушкина.................................... 31
А. В. Соловьевъ. Югославянскія темы въ произведені
яхъ Пушкина............................................................. 45
Пушкинъ въ Юг о с л а в янс к ой литературѣ
1. Всеволодъ Прокофьевъ и Димитрій Атряскинъ.Къ воп
росу объ отношеніи сербскихъ поэтовъ XIX вѣка
къ Пушкину.....................................................................
73
2. Константинъ Римаричъ-Волынскій. Пушкинъ въ хор
ватской литературѣ............................................................ 99
3. Н. Преображенскій. Пушкинъ у словенцевъ. . . . 119
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ
Иныя статьи по пушкиновѣдѣнію
С. Л. Франкъ. О задачахъ познанія Пушкина ....
И. И. Лашаинъ. Трагическое въ произведеніяхъ Пушкина
Гл. 1 Трагическое въ жизни и трагическое въ искусств!, (Ли
рик-) 181—193. Гл. II Виды трагическаго въ произведеніяхъ
Пушкина (Эпосъ и драма) 193—202. Гл. Ill Техника пушкин
ской трагедіи 202—209. Гл. IV Трагедія трансцендентная и
трагедія имманентная 210—216.
151
181
414
Стр.
Евгеній Аничковъ. Пушкинъ и театръ (Къ „Моцарту и
Сальери“).............................................................................. 217
П. Бицилли. „Путешествіе въ Арзрумъ“............................. 247
П. Б. Струве. Духъ и Слово Пушкина................................. 265
I Духъ и Душа Пушкина 265—268. II Слово и слова Пушкина
269—270. Ill Судьба и ростъ Пушкина какъ культурнаго явле
нія 270—271. IV Величіе Пушкина 271—273. Ясная тишина
273-275.
Приложеніе. Матеріалы къ историческому толковому слова
рю языка Пушкина 275—342.
Глѣбъ Струве. Новые Пушкинскіе матеріалы изъ Бри
танскаго Музея.................................................................... 343
Кириллъ Барановскій. Пушкинъ и Мицкевичъ .... 359
Илья Голенищевъ-Кутузовъ. Роза въ поэзіи Пушкина . 381
Вл. Топоръ-Рабчинскій. Этическое сознаніе Пушкина. . 391
BZ ТЕЧЕНІЕ 1957 ГОДА BZ БѢЛГРАДЪ
ВЫШЛИ BZ CBBTZ:'
С. Л. ФРАНКА
ПУШКИНА КАКЗ ПОЛИТИЧЕСКІЙ МЫСЛИТЕЛЬ.
Съ предисловіемъ и дополненіями Петра Струве.
Стр. 50. Цѣна 10 дин.
П. Б. Струве, въ отвѣтъ на посланный имъ Св. Патріарху
Сербскому Варнавѣ экземпляръ книги С. Л. Франка
получилъ отъ почившаго главы Сербской Церкви письмо отъ
20-ІѴ-1937г., въ которомъ говорится: „сердечно благодарю Васъ
за любезно присланную книгу профессора С. Л. Франка... съ
Вашимъ предисловіемъ. Съ большимъ интересомъ прочелъ эту
примѣчательную во всѣхъ отношеніяхъ книгу".
И. А. ЦѴРИКОВЗ
ЗАВѢТЫ ПУШКИНА.
Мысли о національномъ возрожденіи Россіи. Съ предисло
віемъ Петра Струве и его воспоминаніями о Блокѣ и Гу
милевѣ.
Стр. 50. Цѣна 10 дин.
Изъ отзыва въ рижской газетѣ „Сегоднй“: „Эту книжку
Цурикова со статьей Струве надо считать полезной и нужной.
Она полезна не только потому, что еше разъ напоминаеть
намъ о Пушкинѣ, приближаетъ къ намъ его ликъ, но еще и
по другой причинѣ. Пушкинъ здѣсь освѣщенъ съ политической
точки зрѣнія, представленъ не только какъ поэтъ, но и какь
выразитель національнаго духа, какъ универсальный учитель.
Эти утвержденія должны быть настойчивы“.
Книги С. Л. Франка и Н. А. Цурикова находятся
на складѣ у Н. 3. Рыбинскаго, Палмошичева, 14. Бѣл
градъ. (Выписывающіе изъ заграницы благоволятъ
прислать 20 ам. центовъ или 3 межд. почтовыхъ
купона за каждую книгу).
СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: Съ заказами обращаться къ се
кретарю Пушкинскаго Комитета Н. 3. Рыбинскому по адре
су: Nikola Z. Ribinski, Palmotiéeva, 14. Belgrade. Jongoslavie.
Въ Югославіи деньги можно вносить на его тек. счетъ
Пошт. Штед. № 53498.
Во Франціи съ заказами обращаться къ А. П. Струве
по адресу: Alexis Struve, 33, rue Erlanger, Paris (16-e).