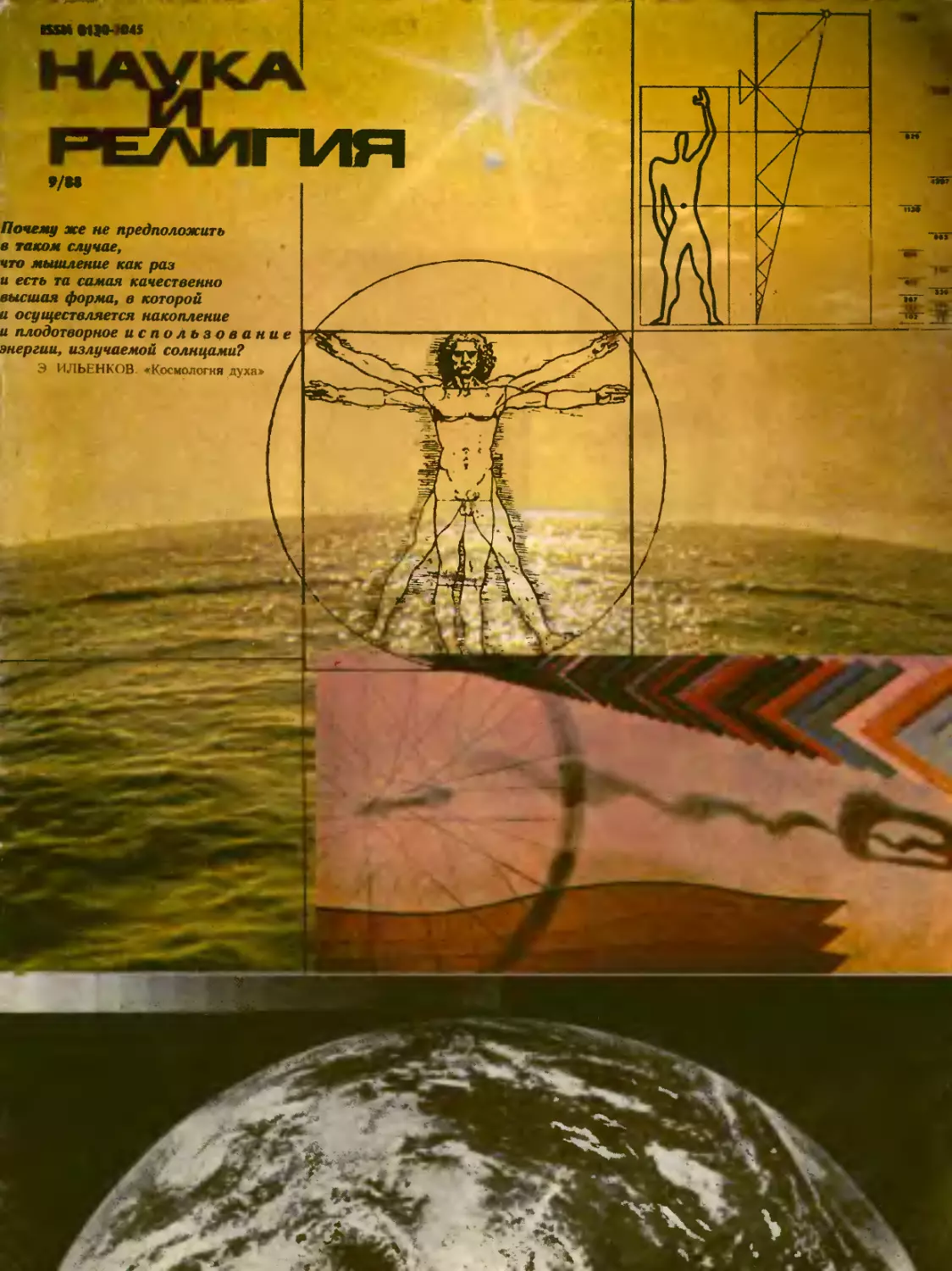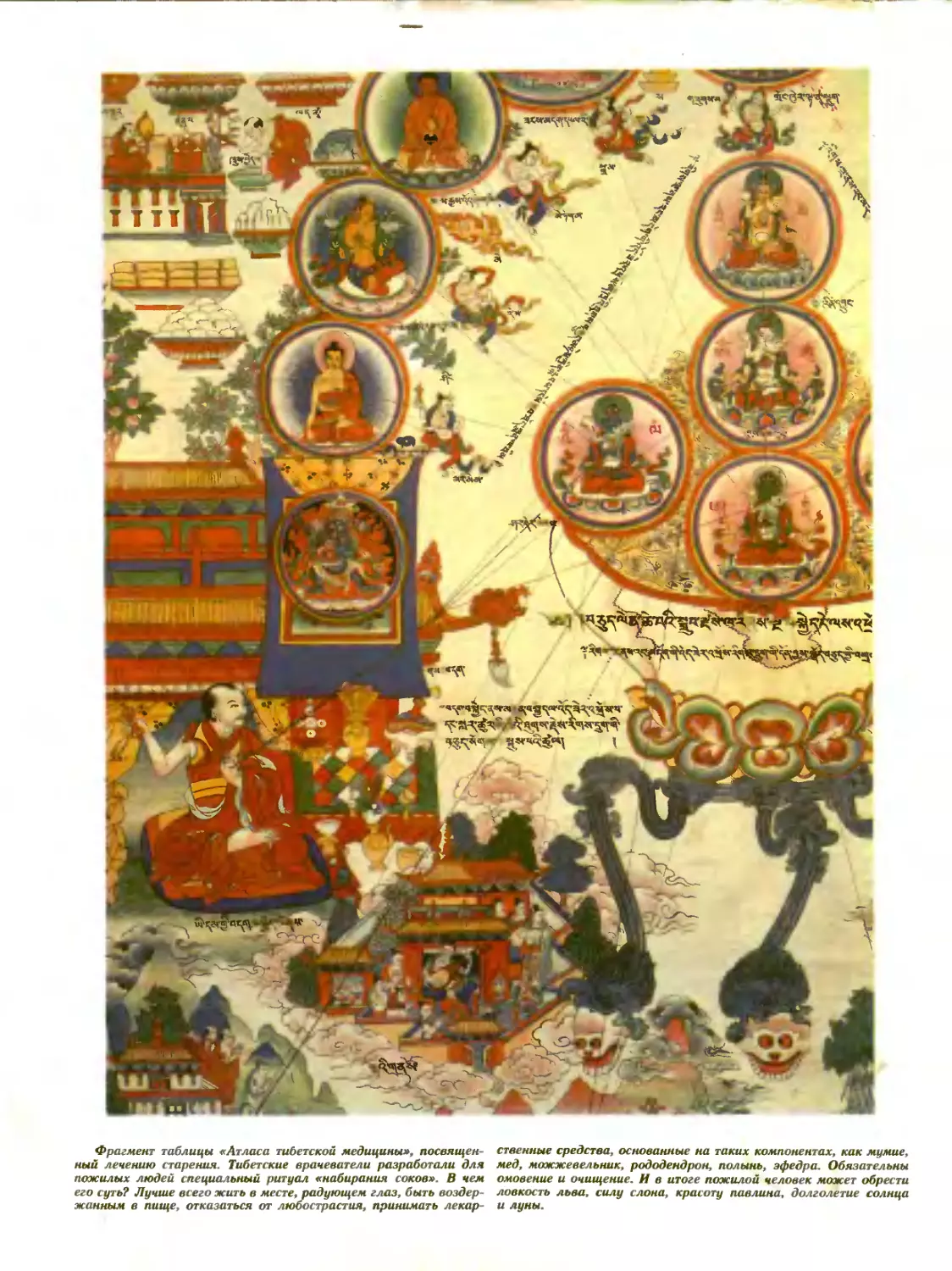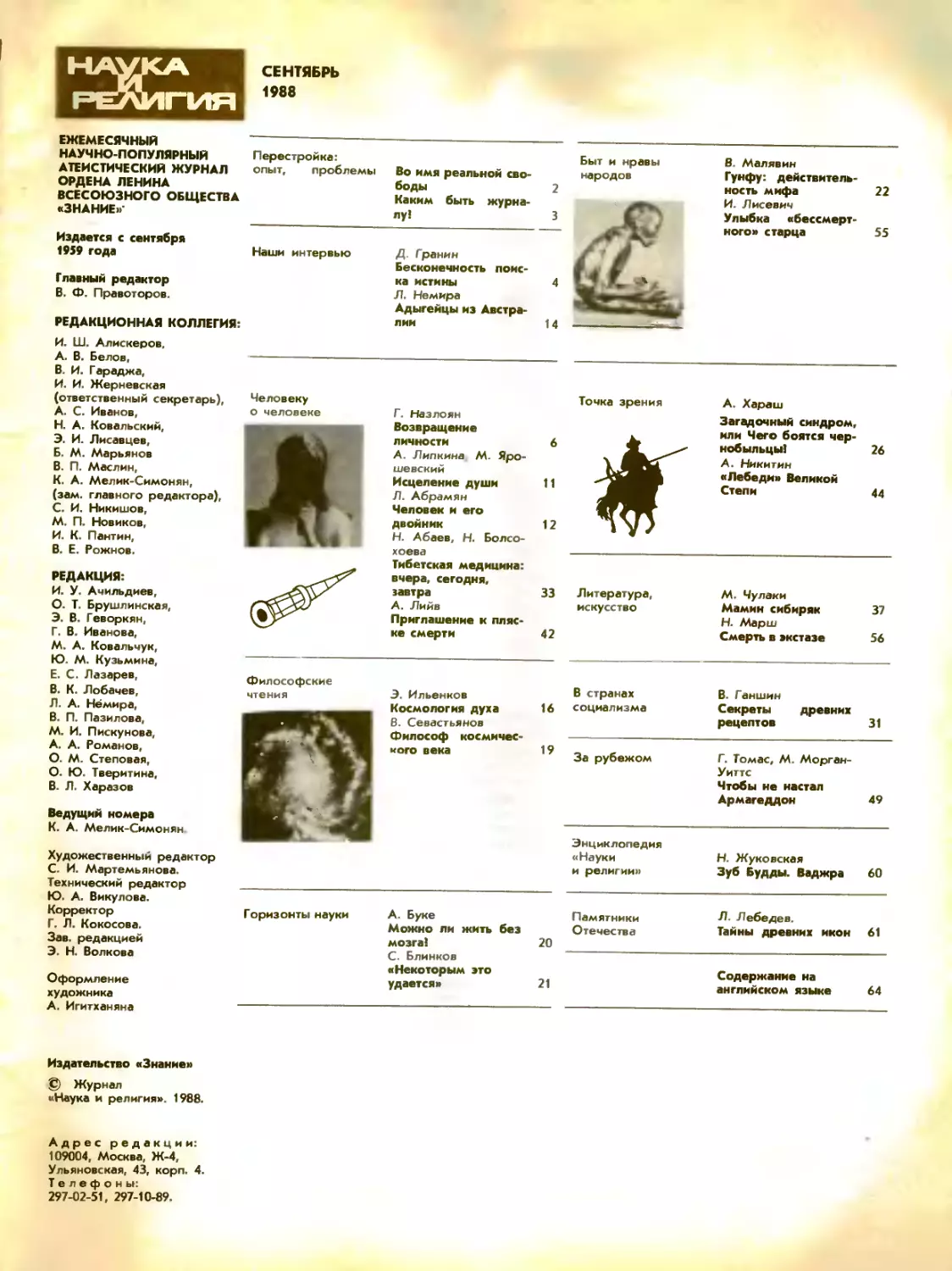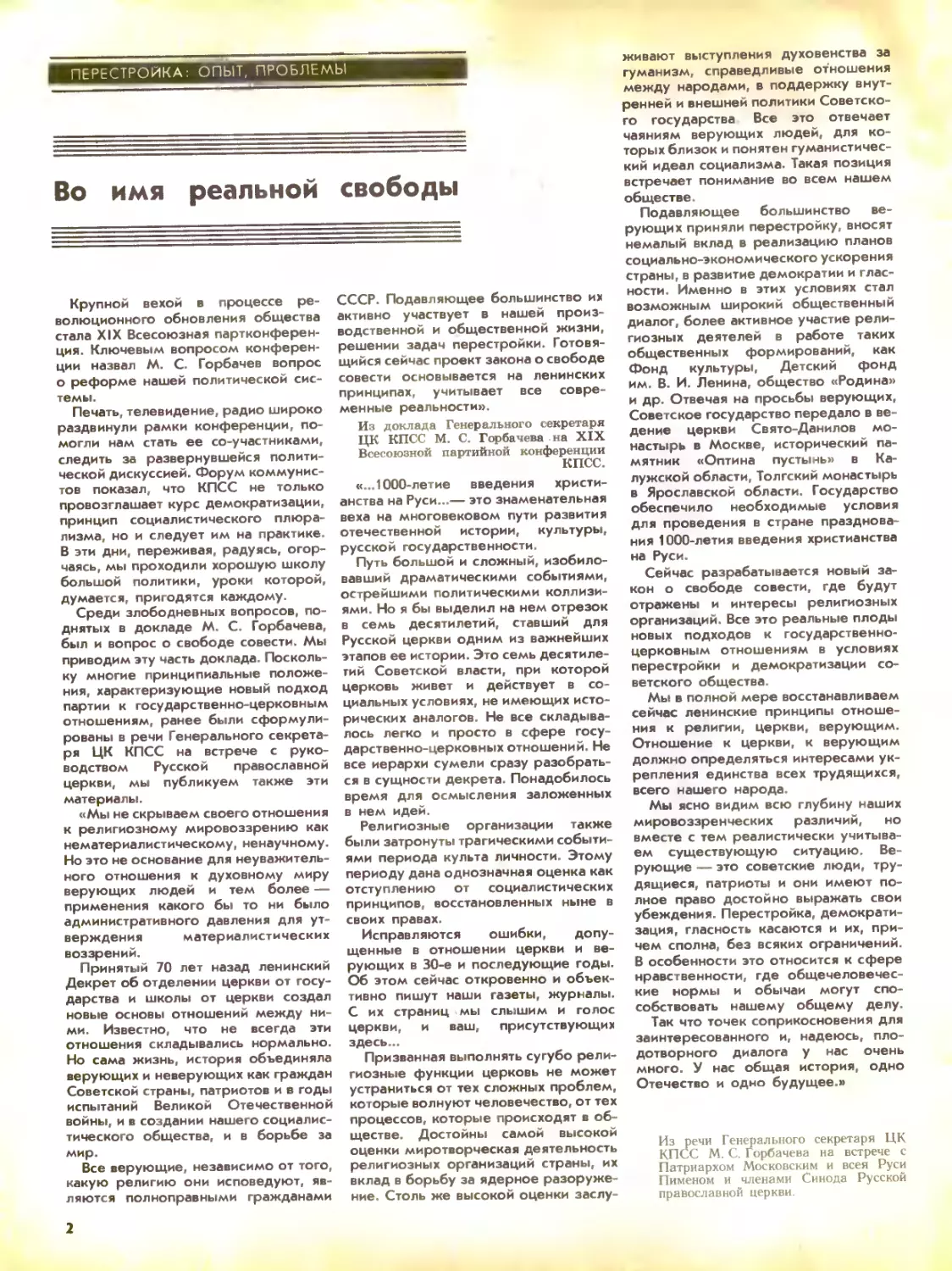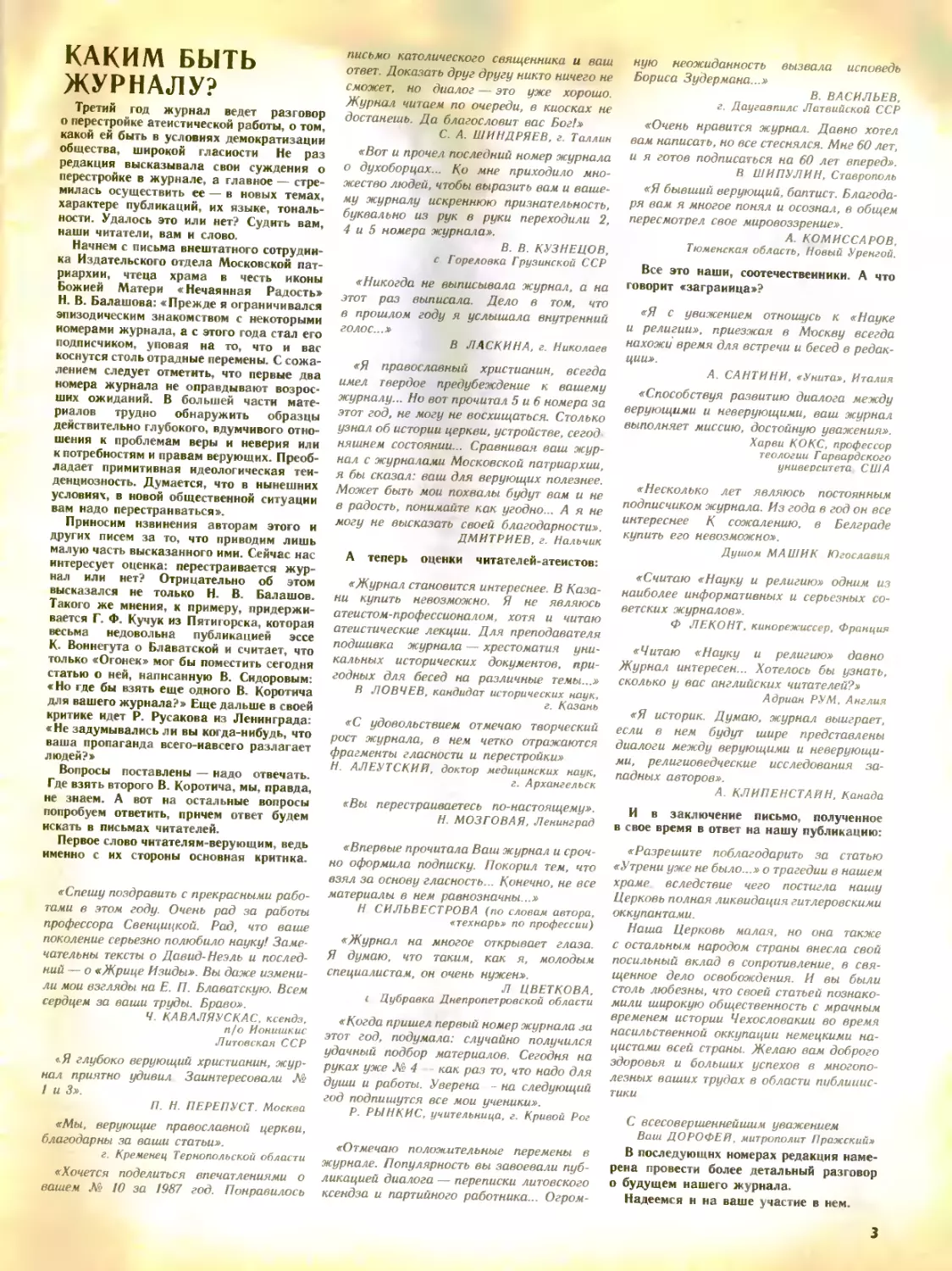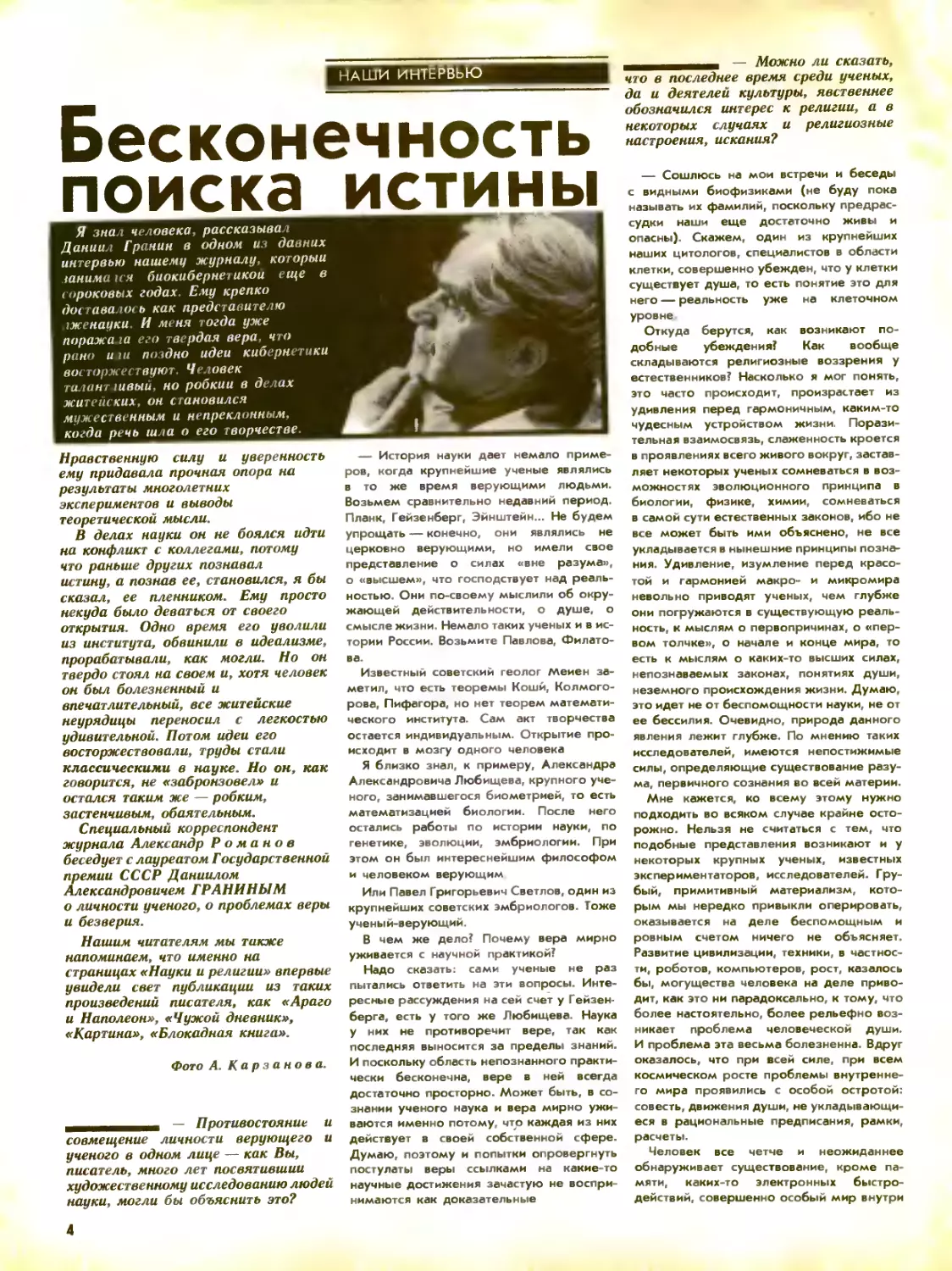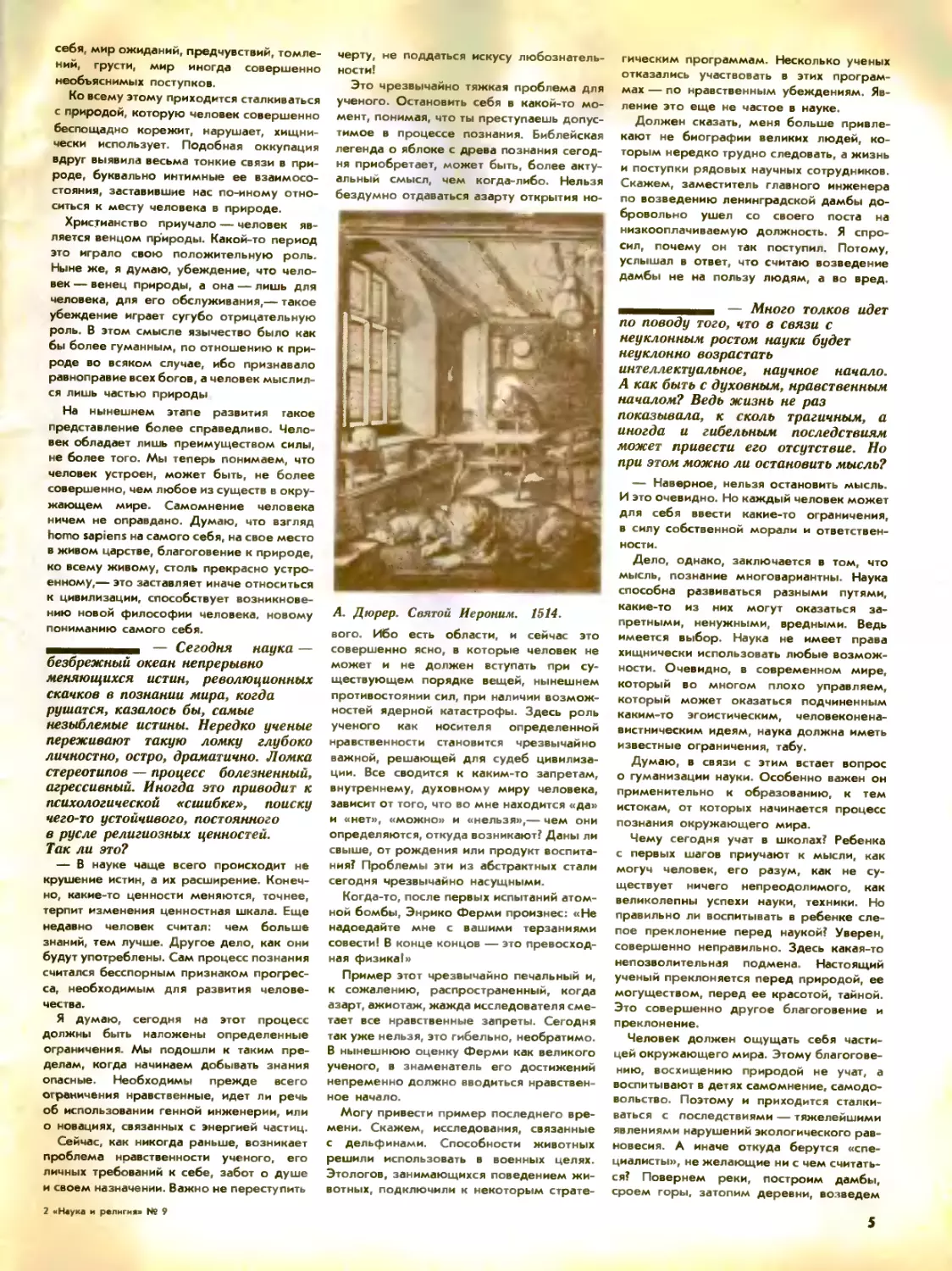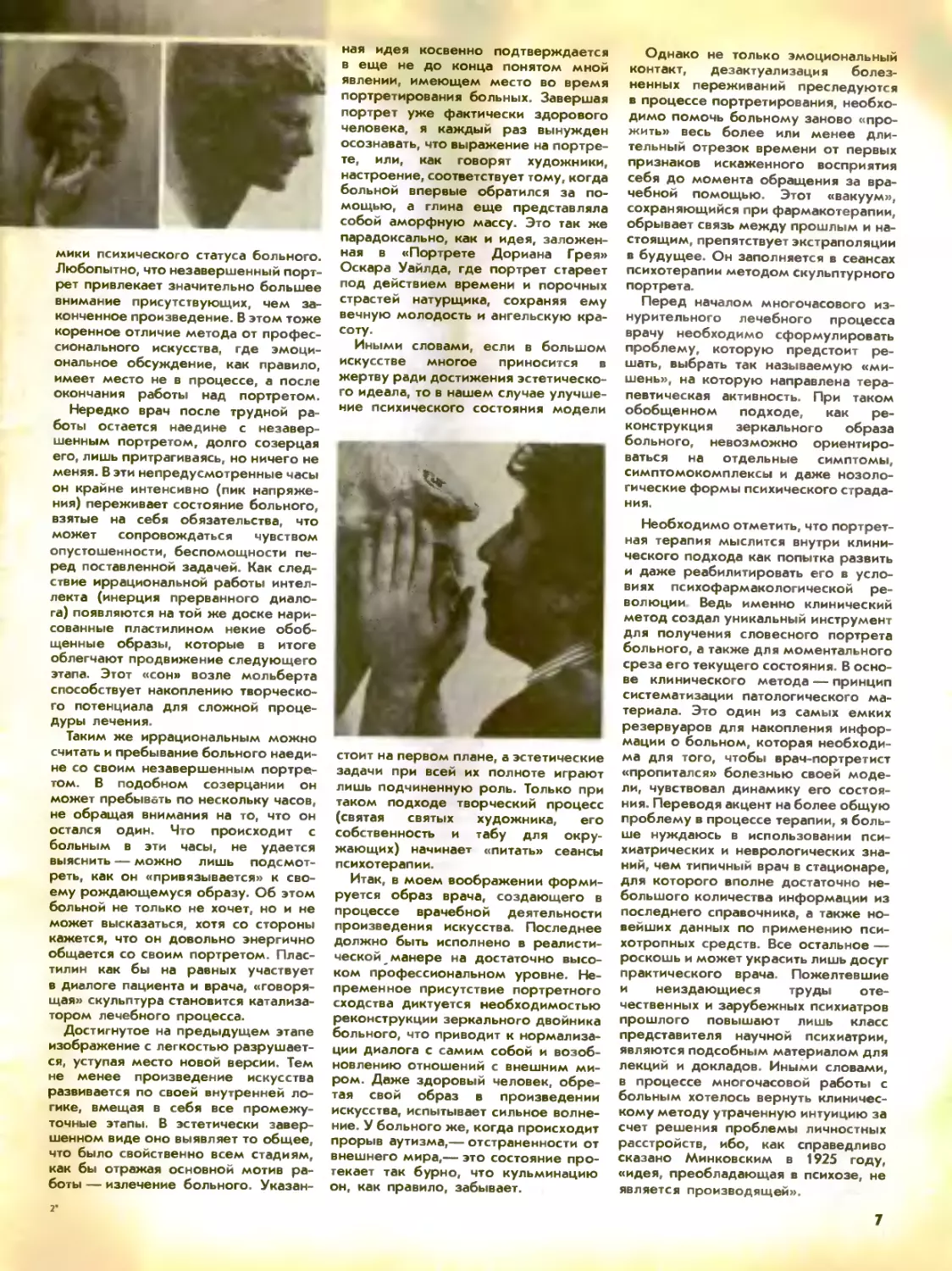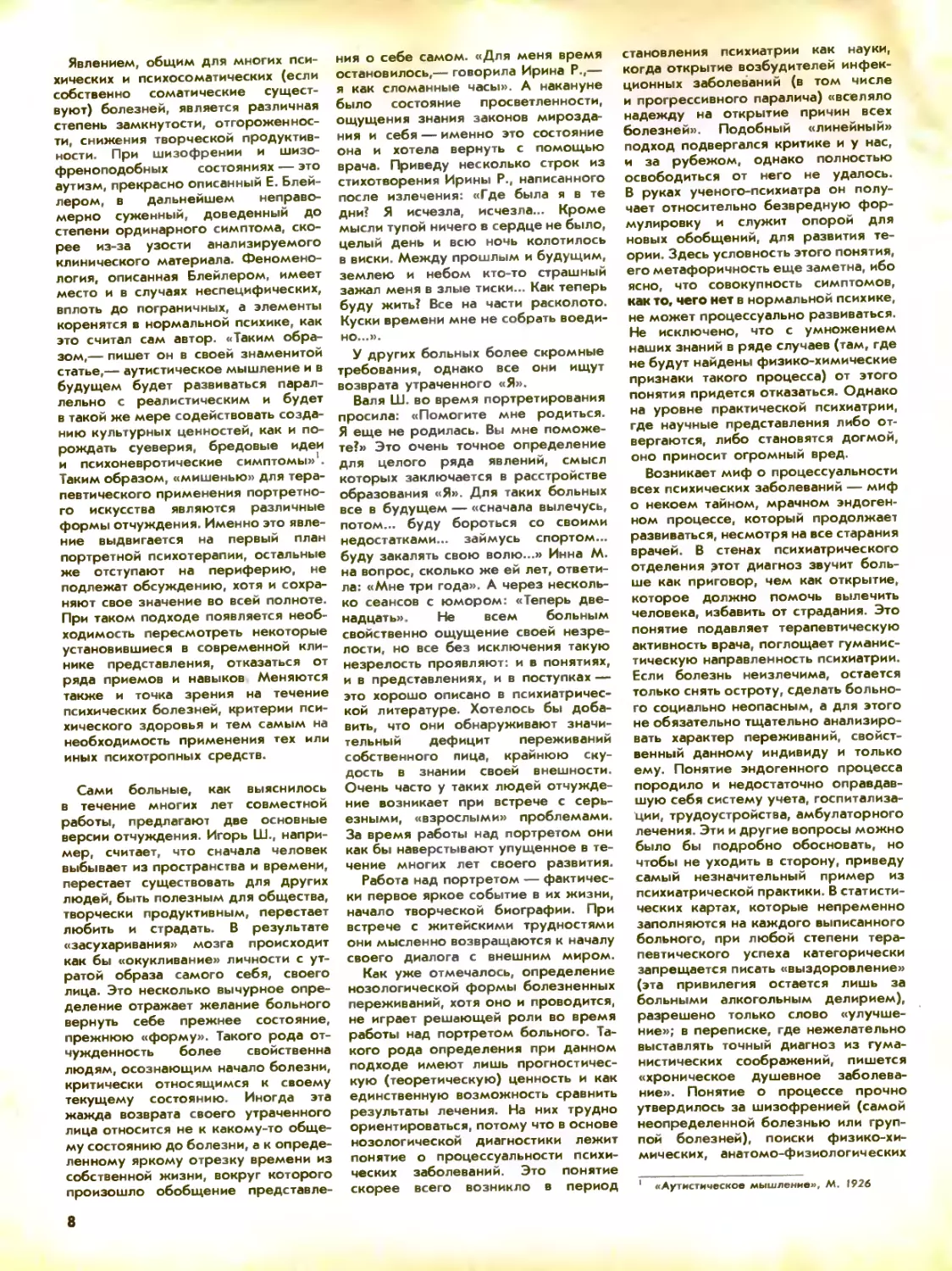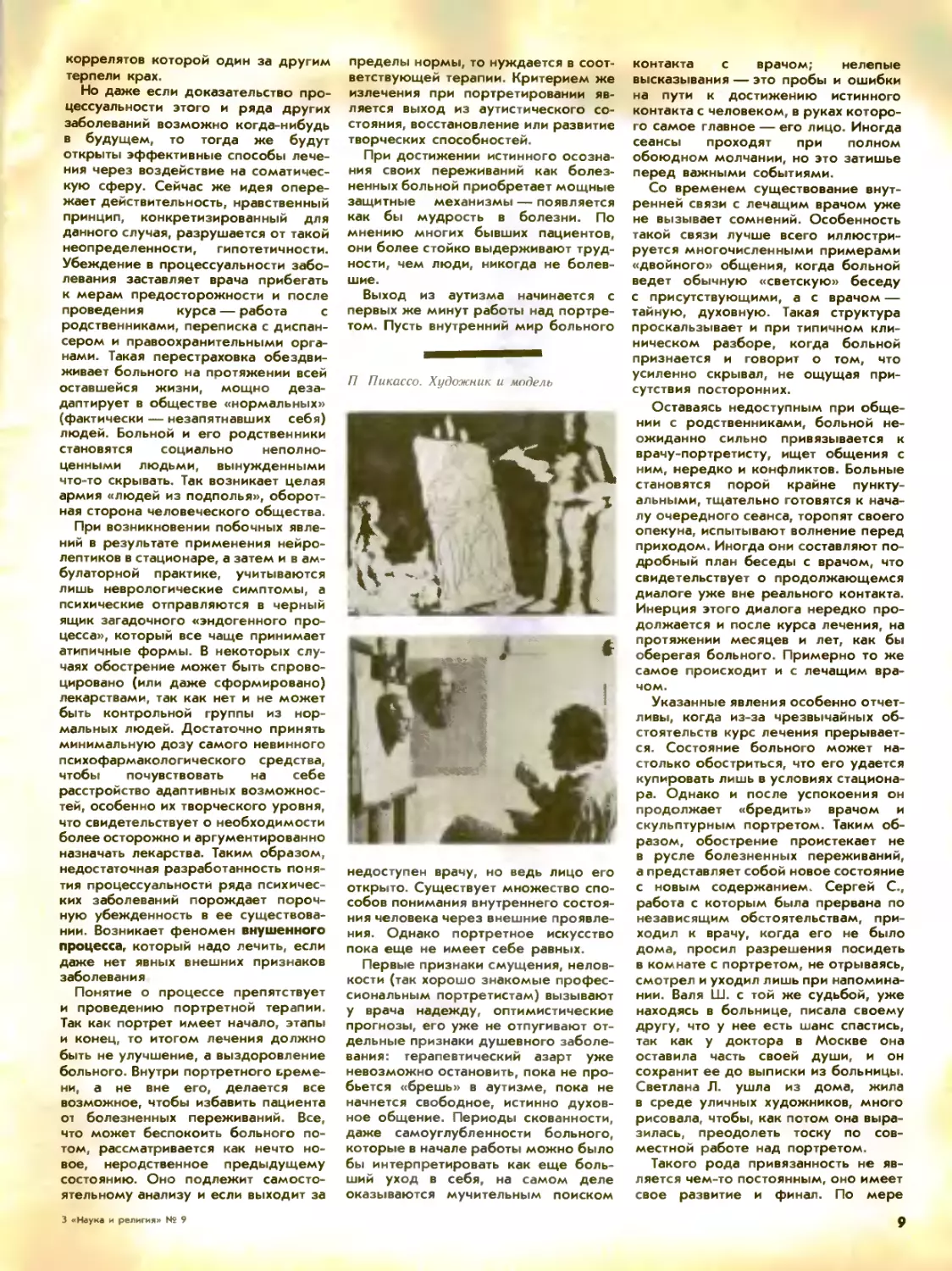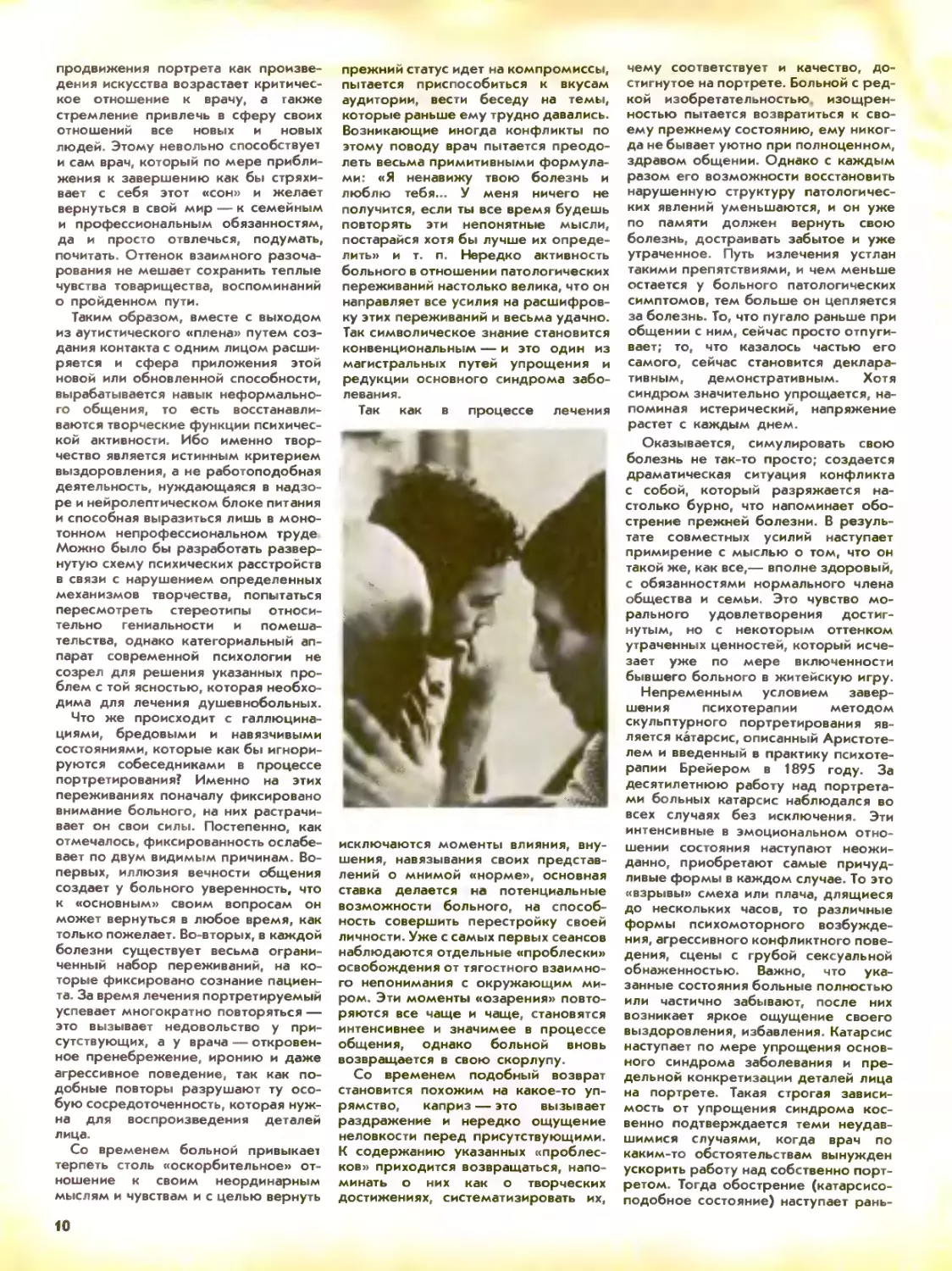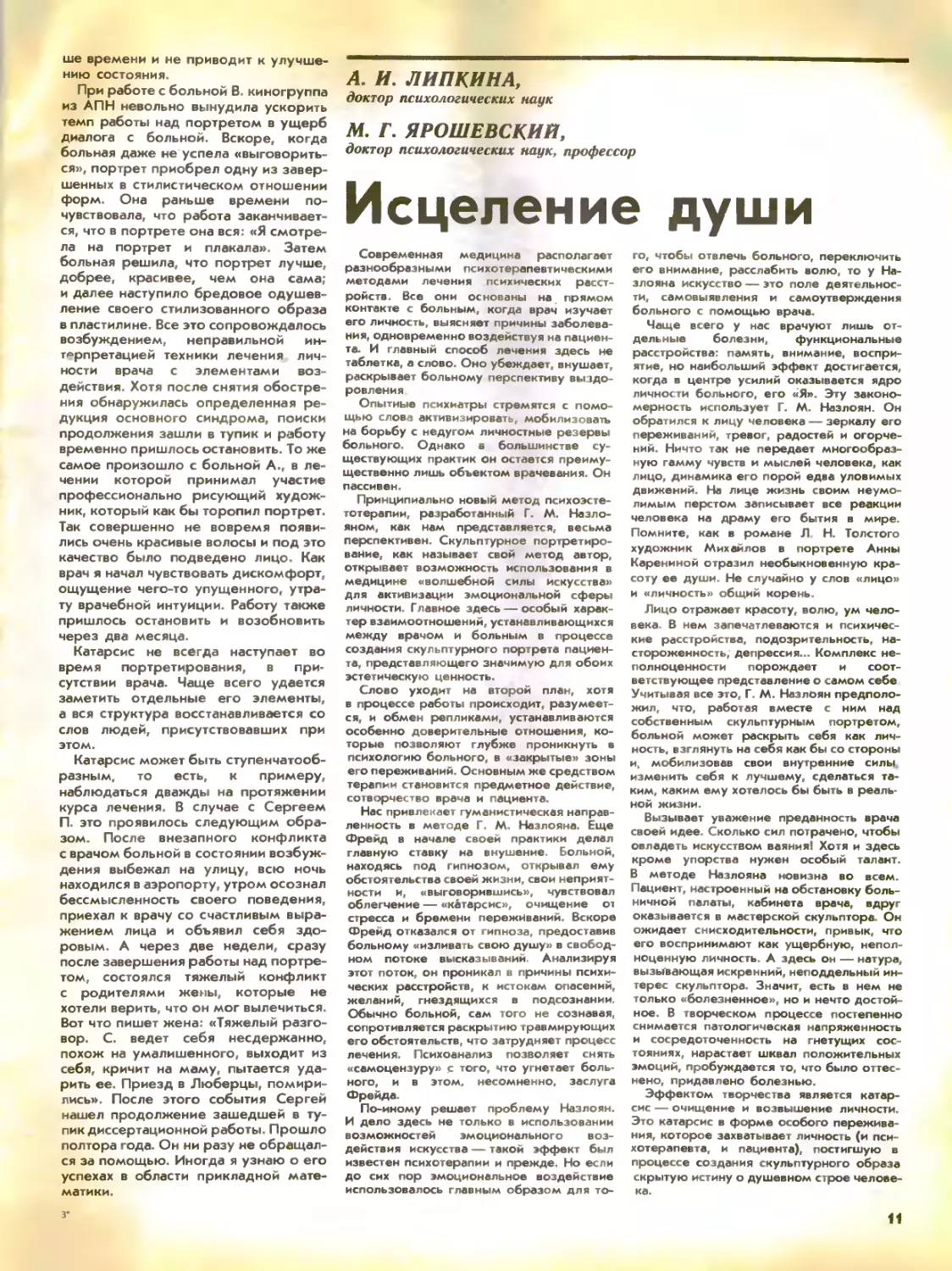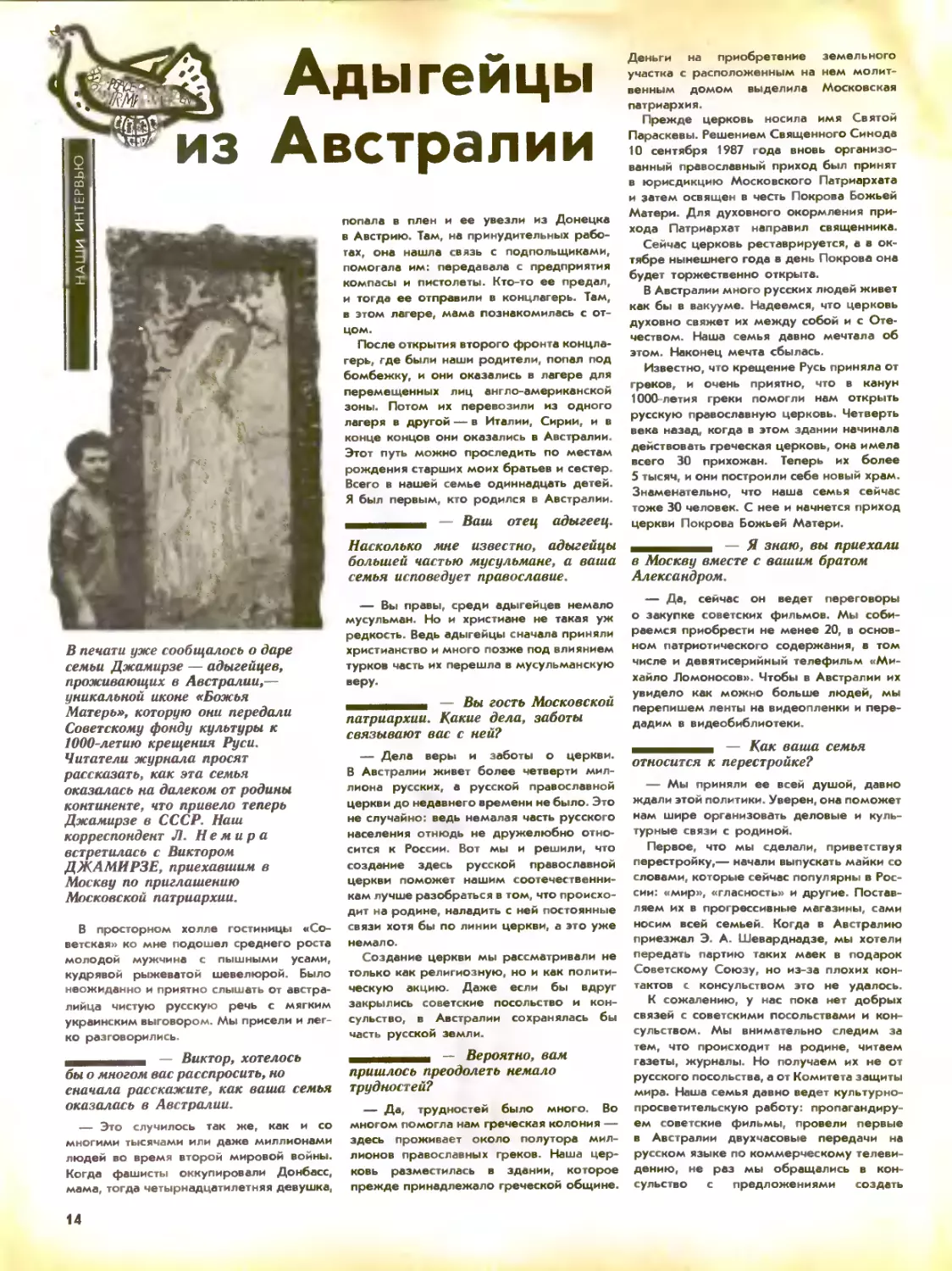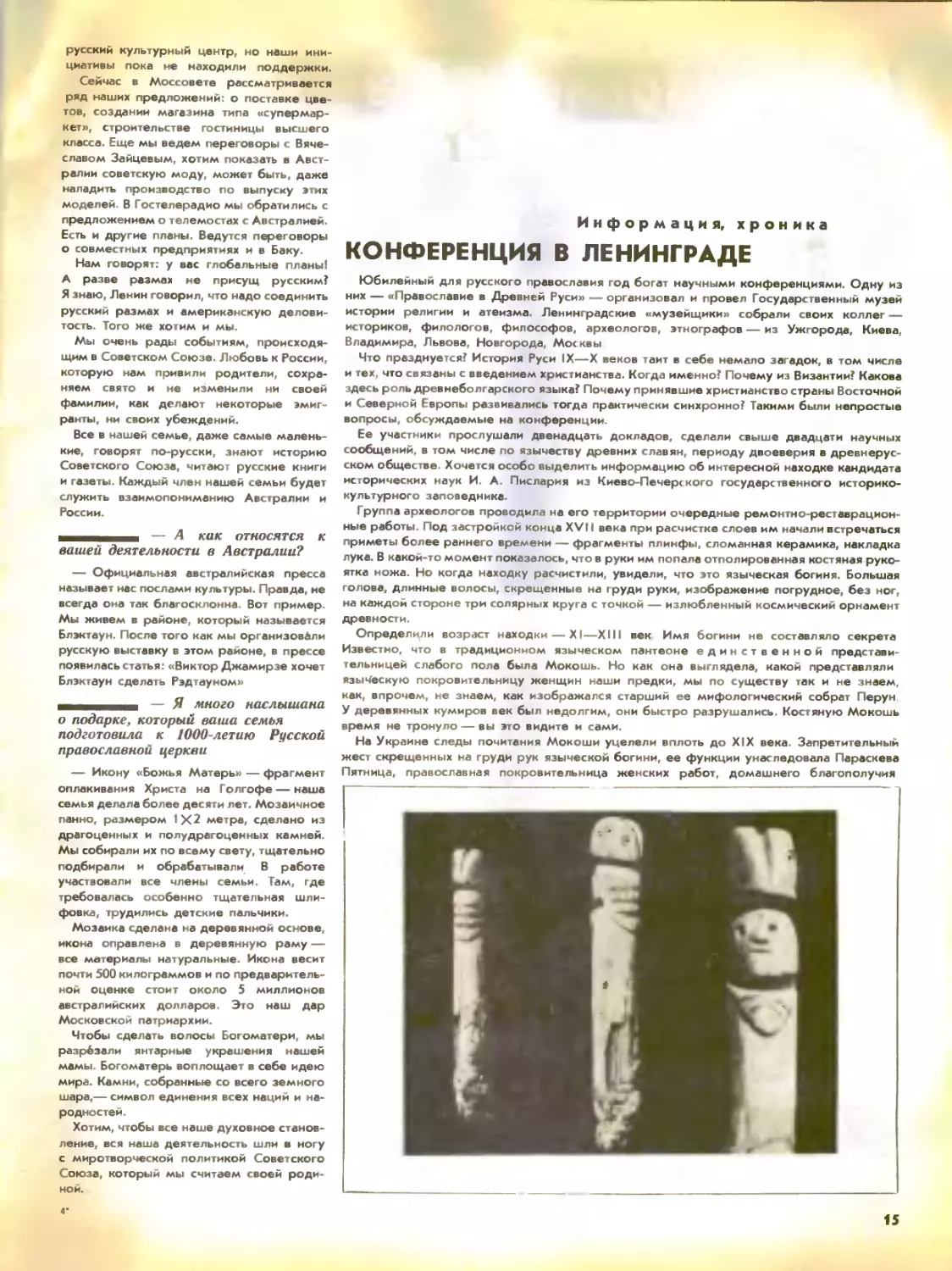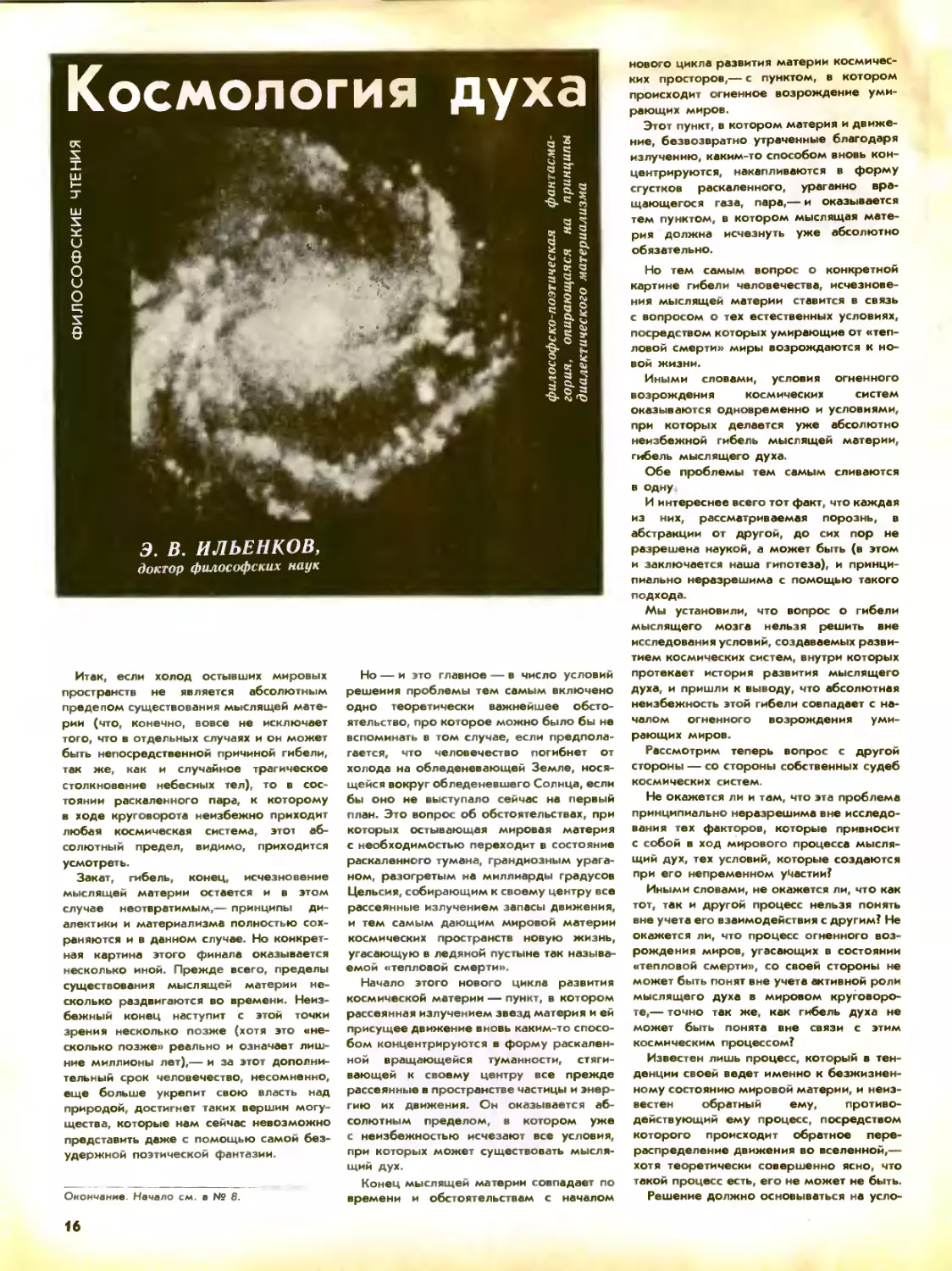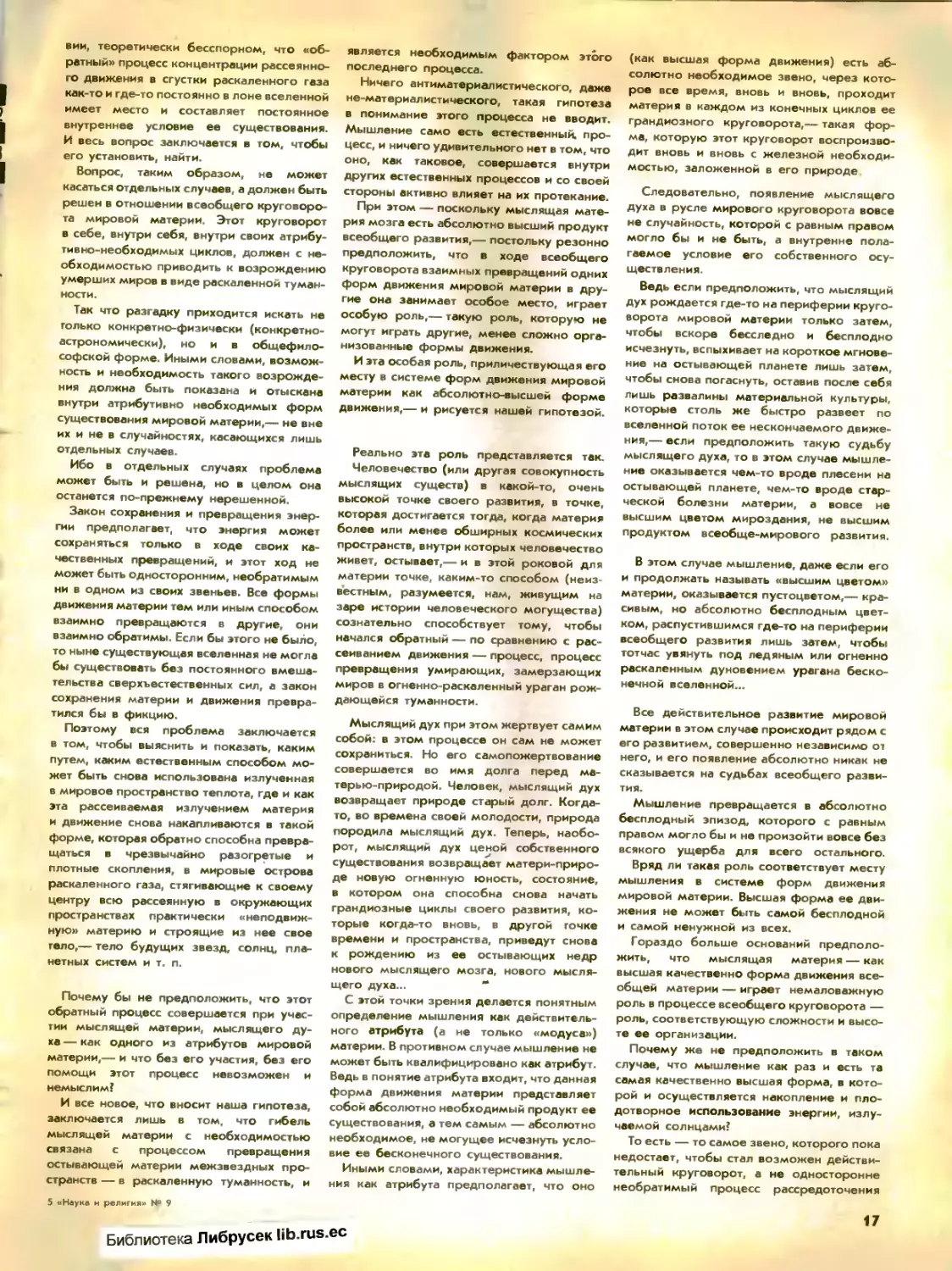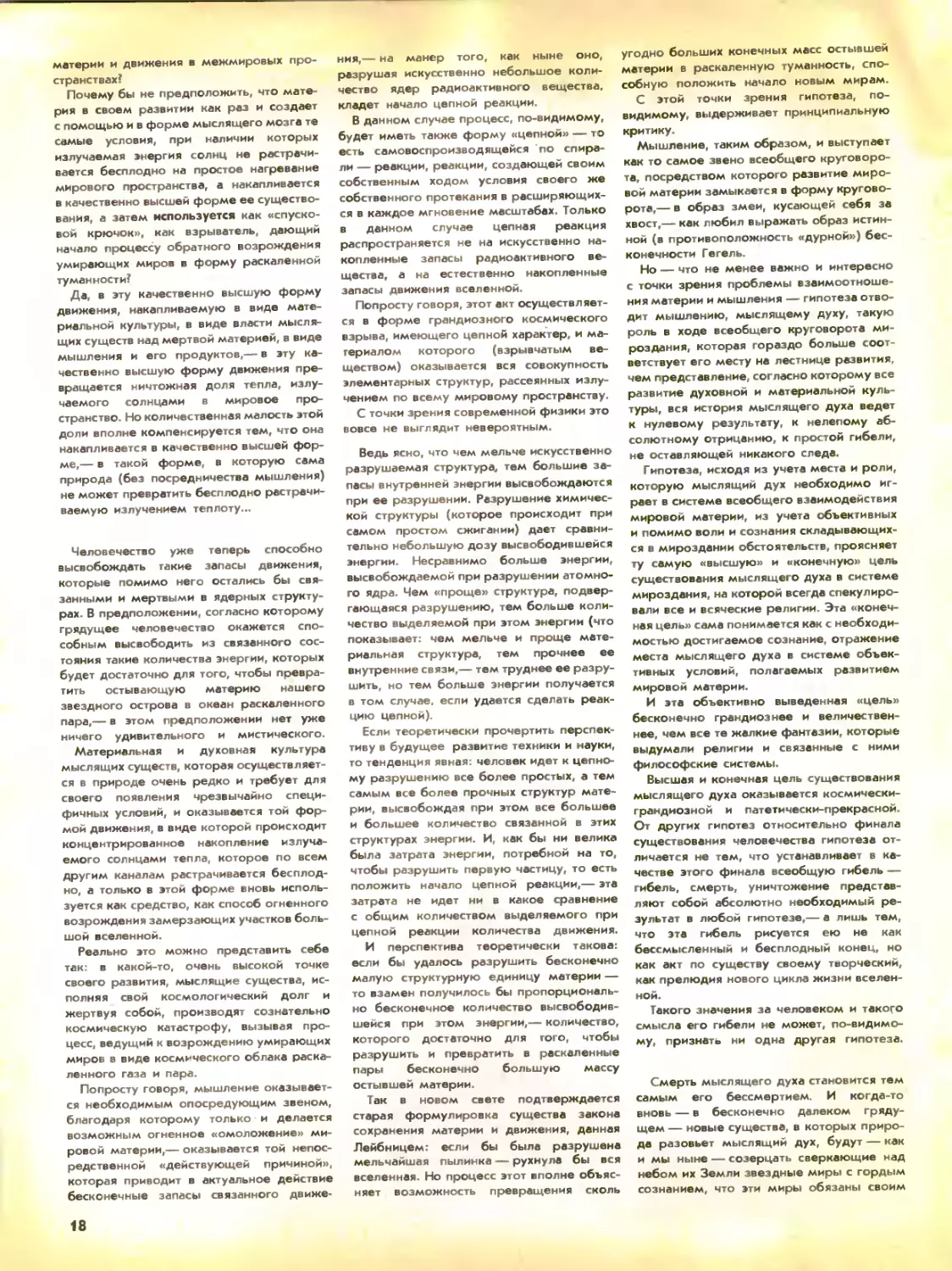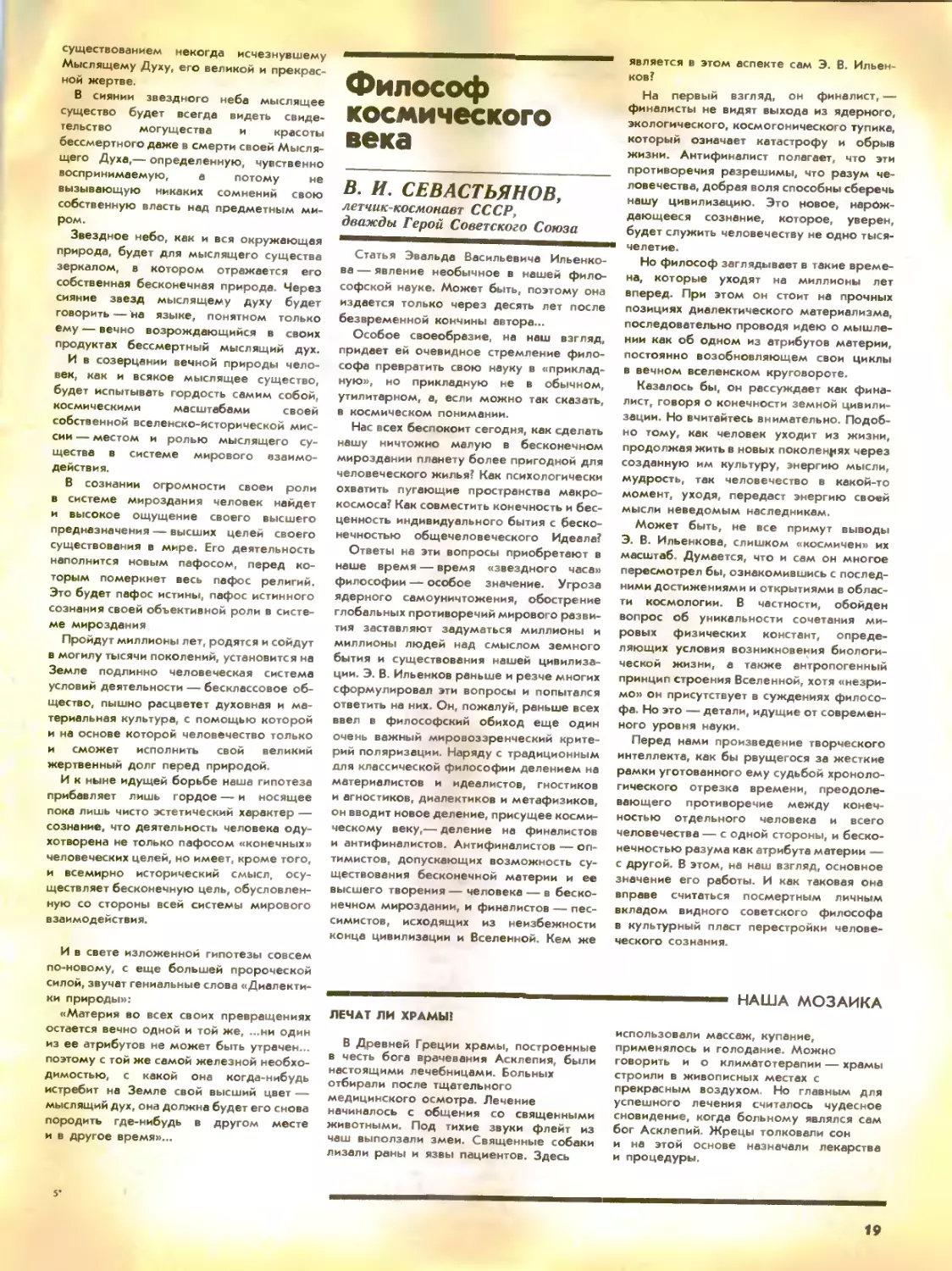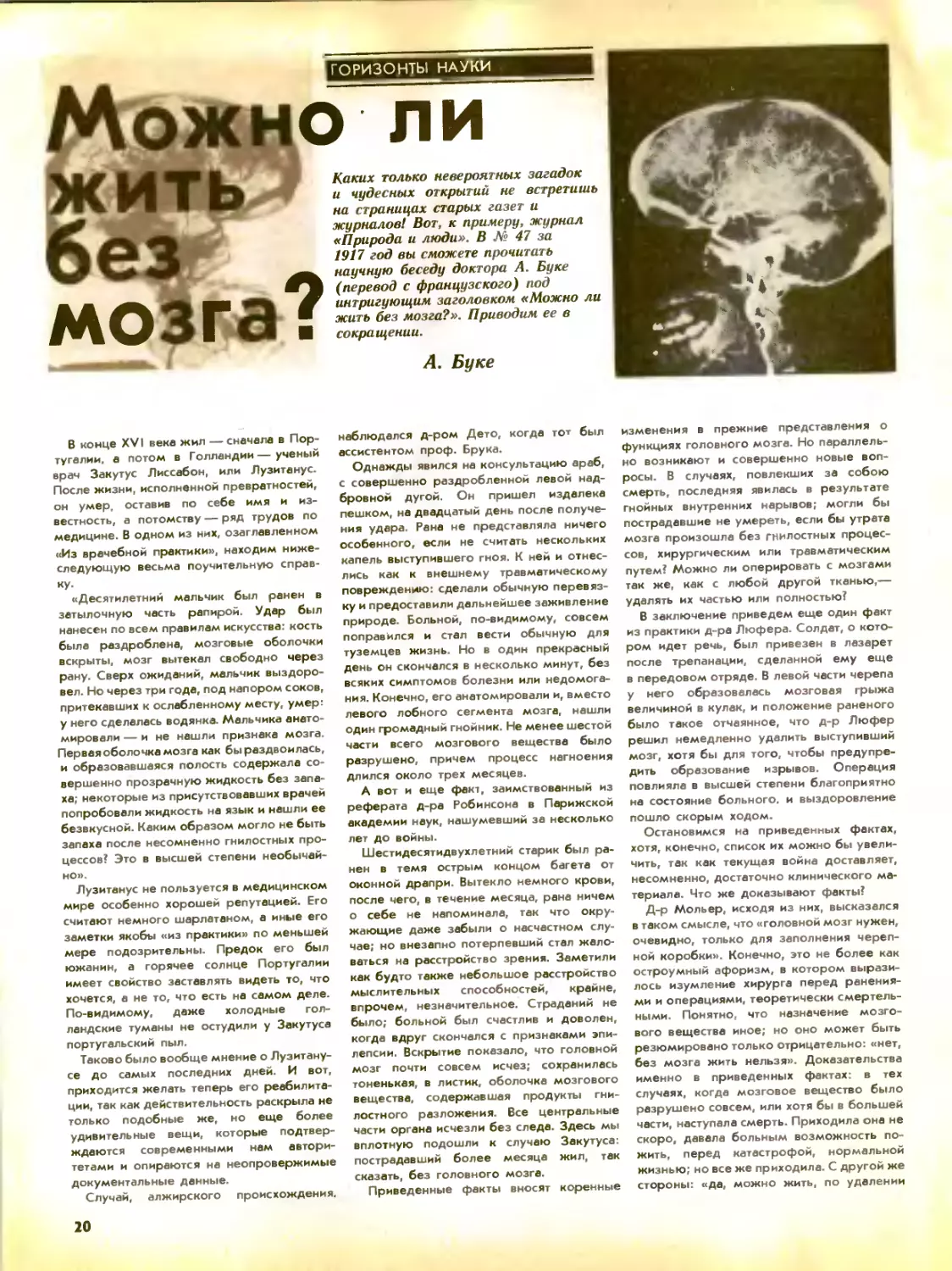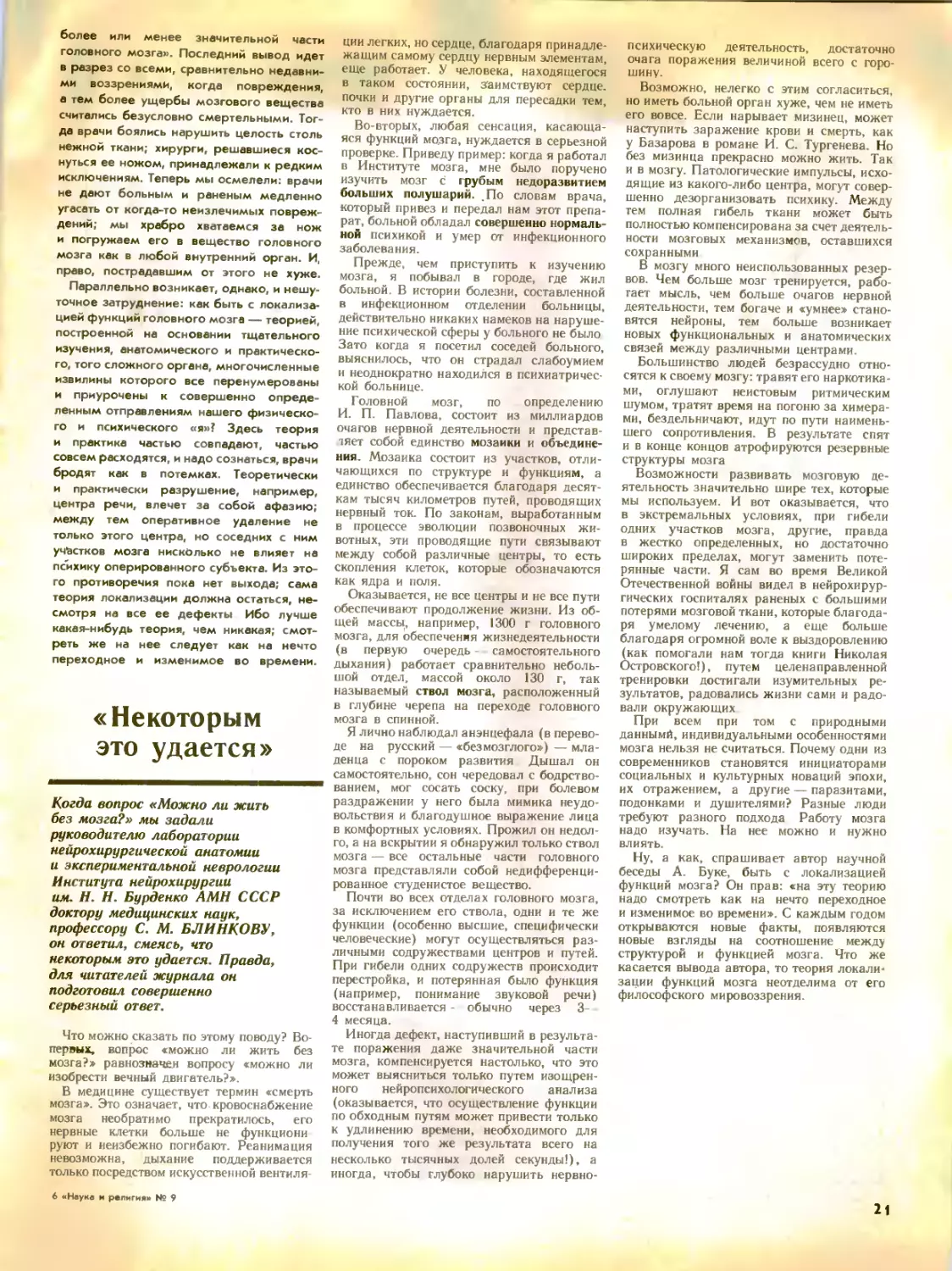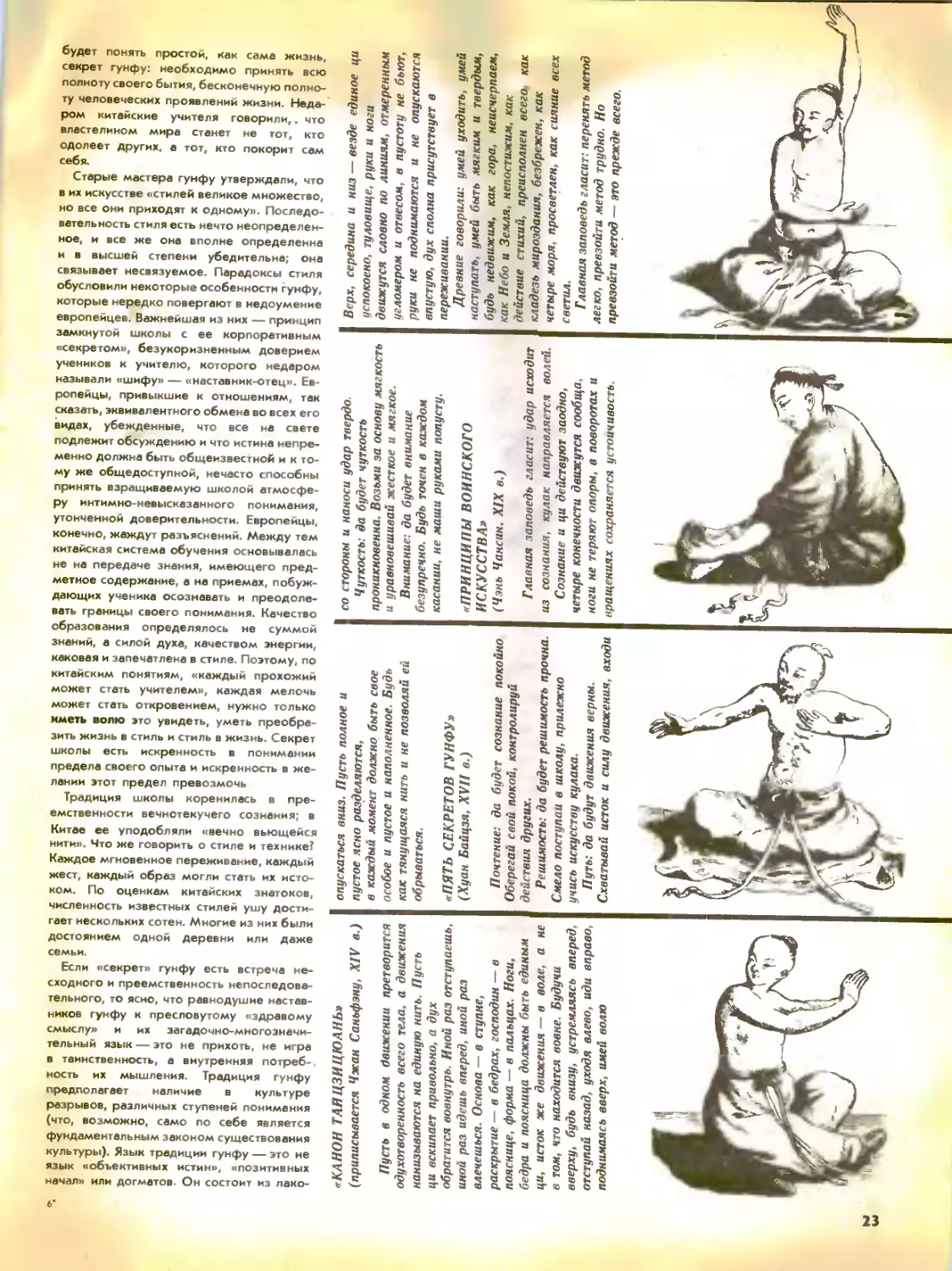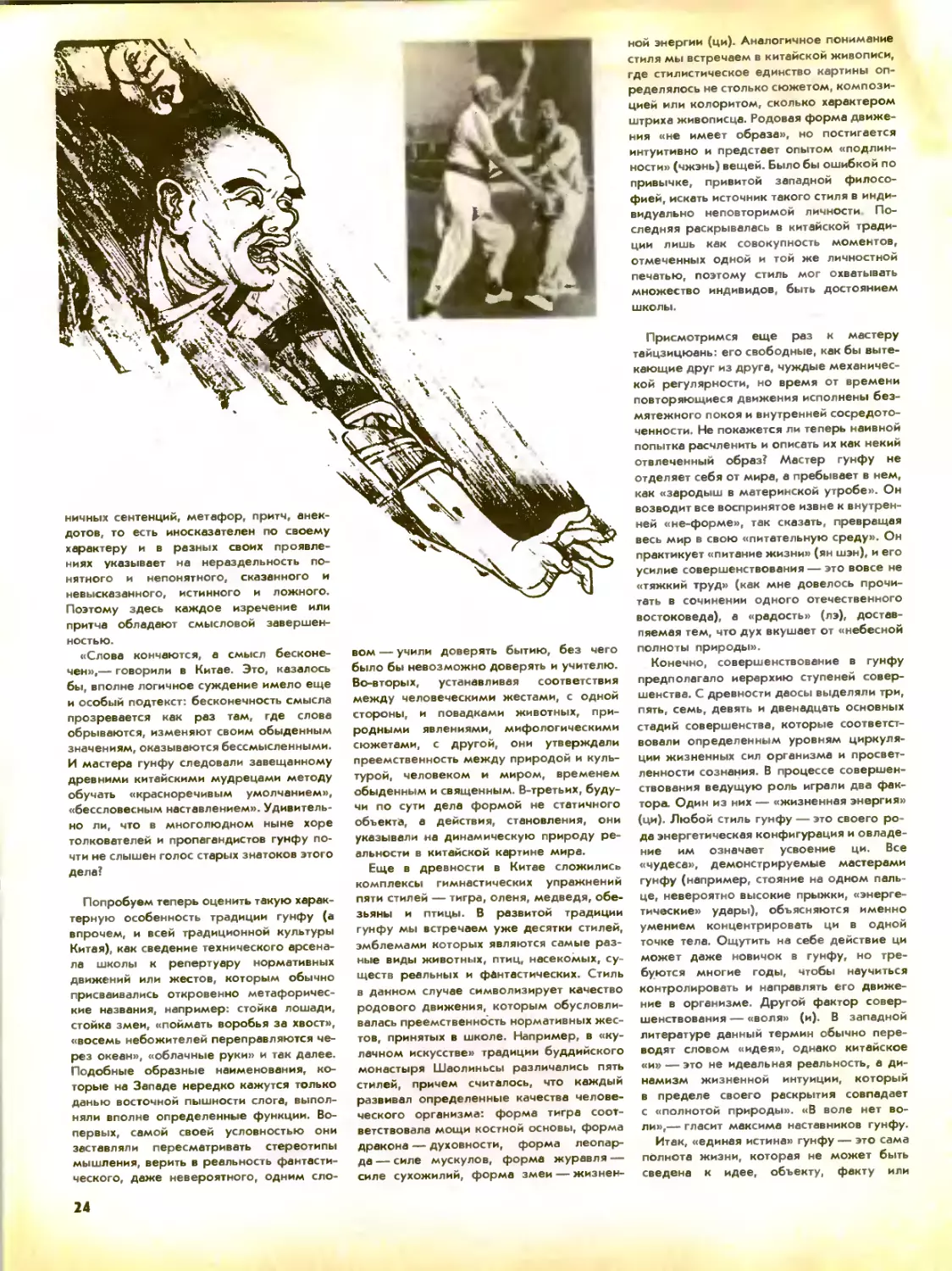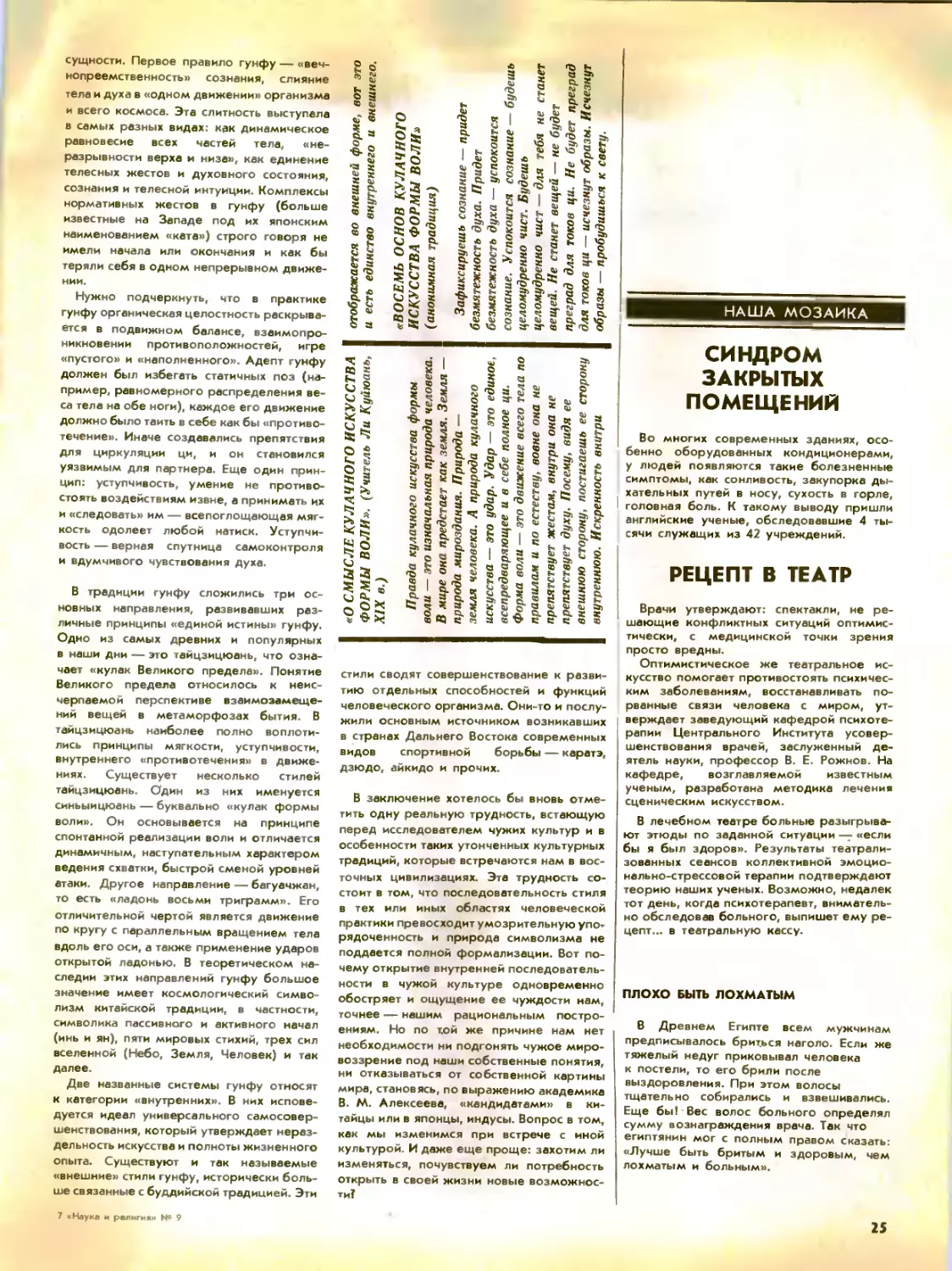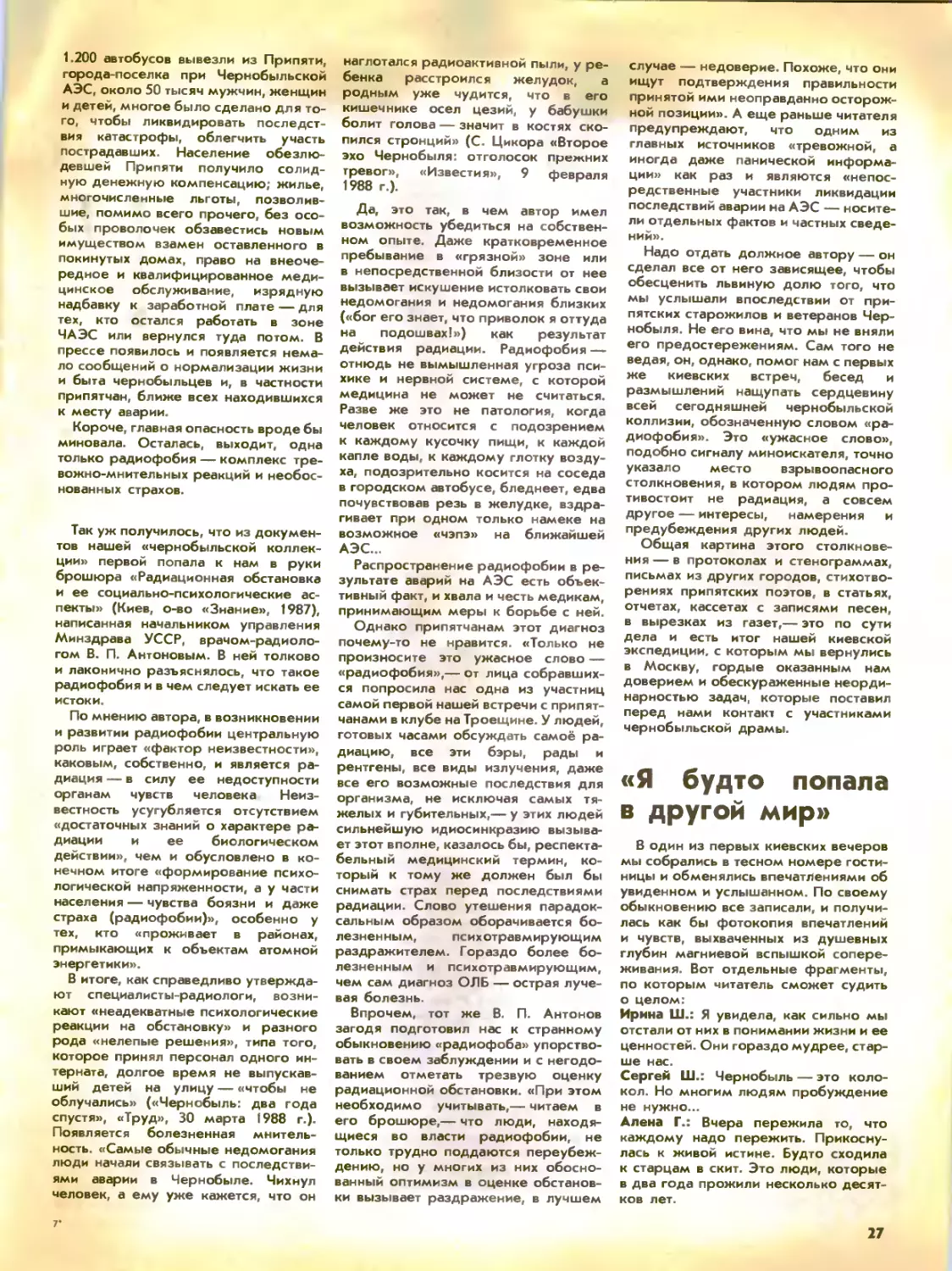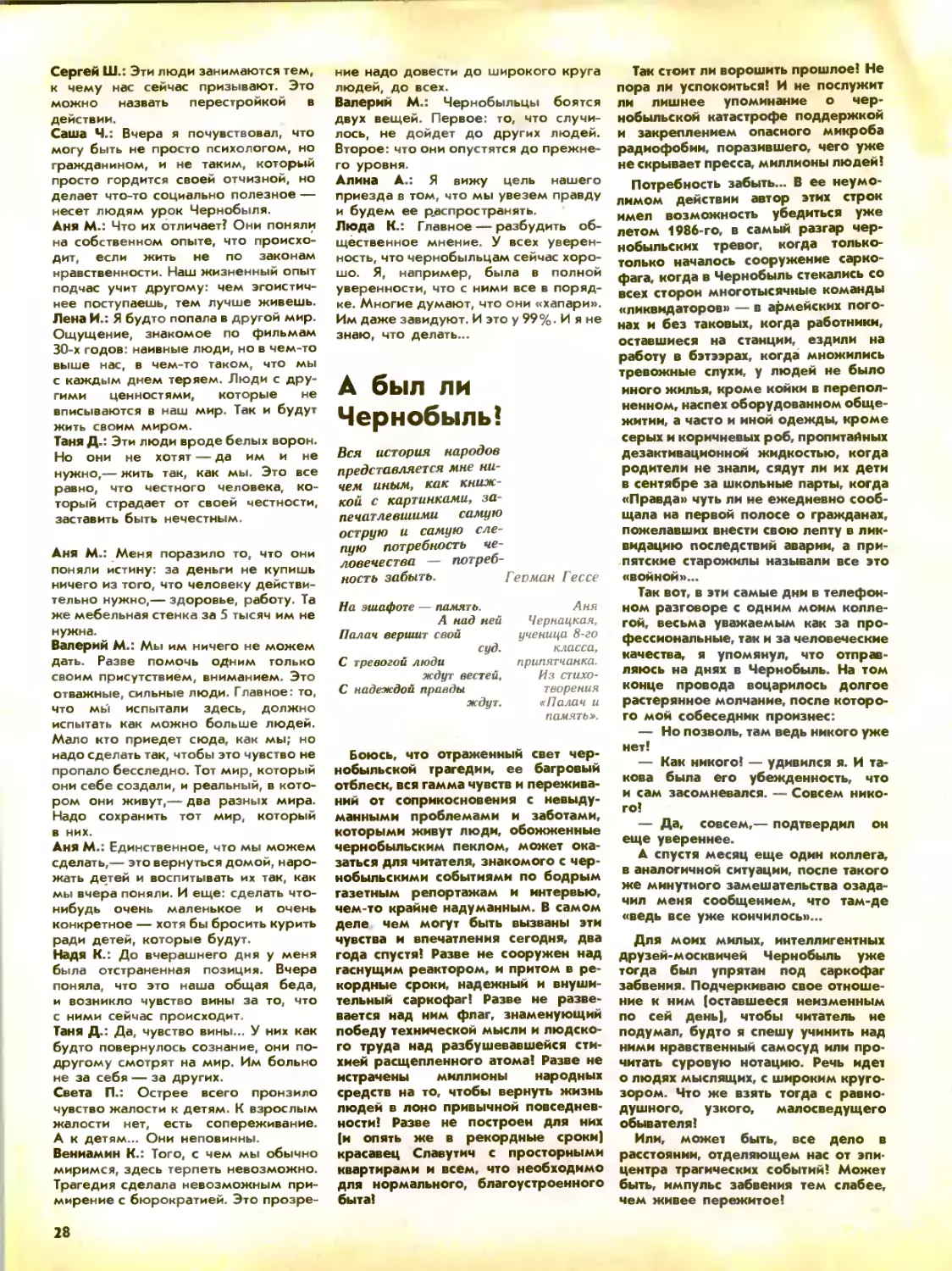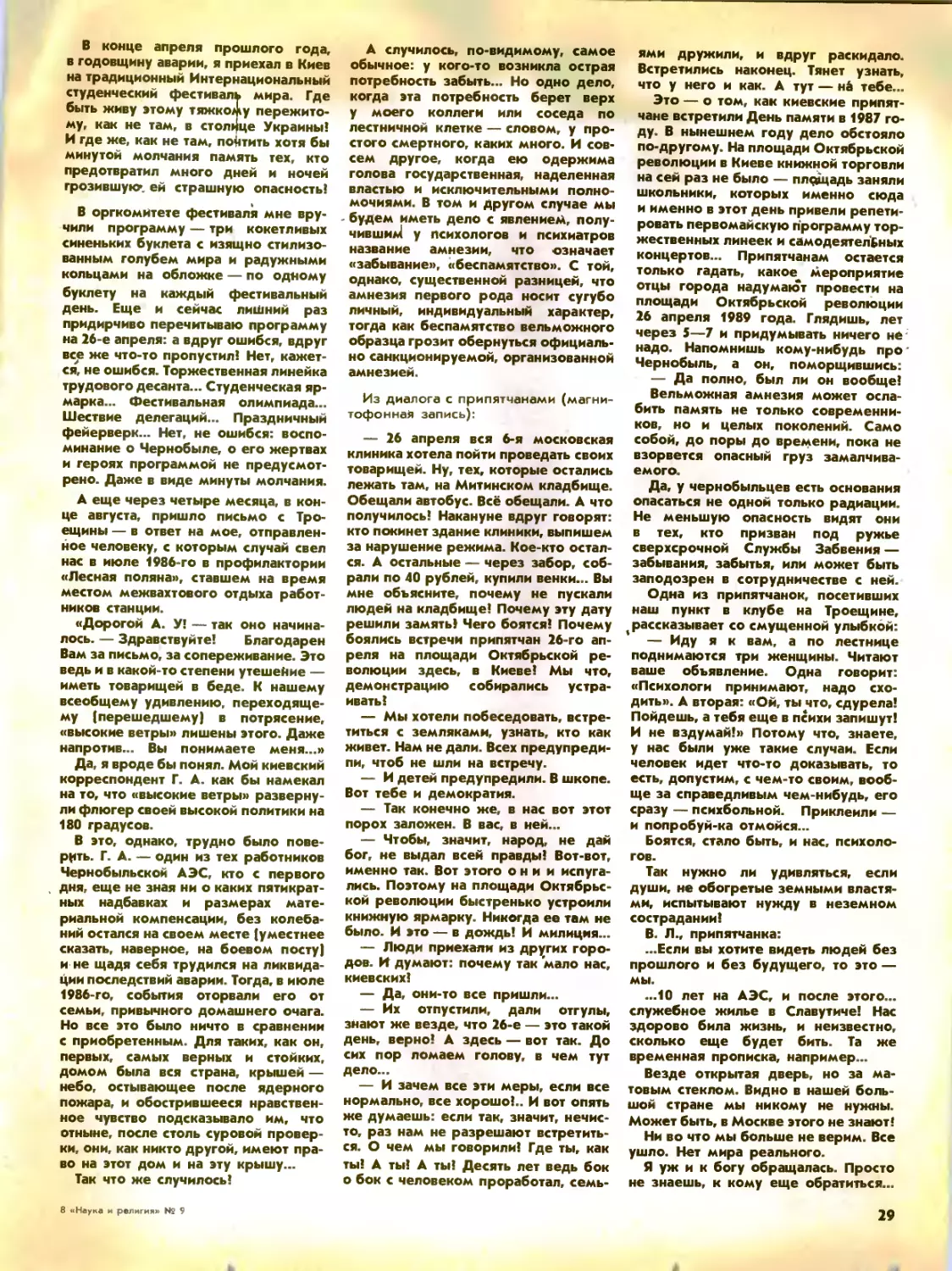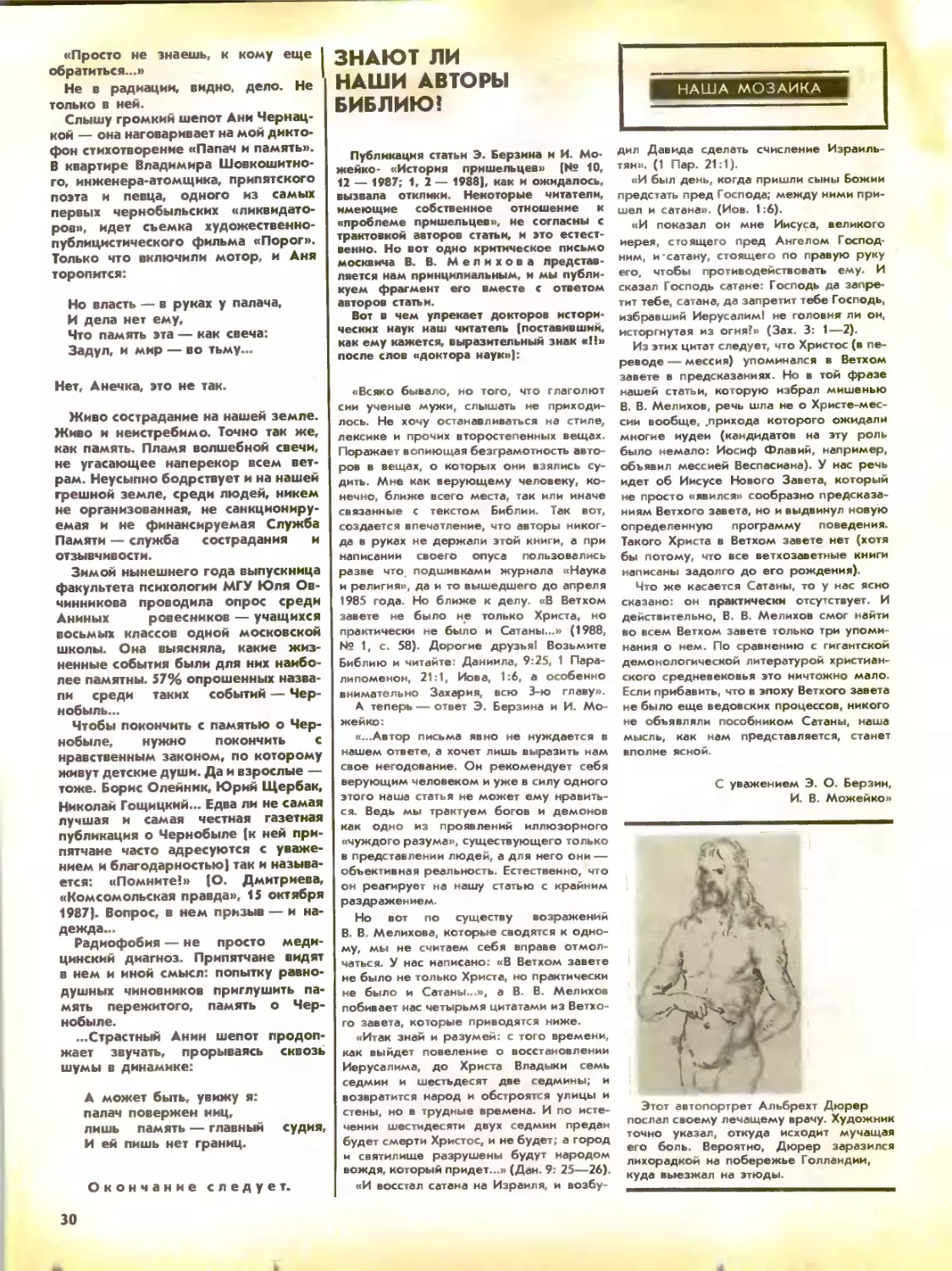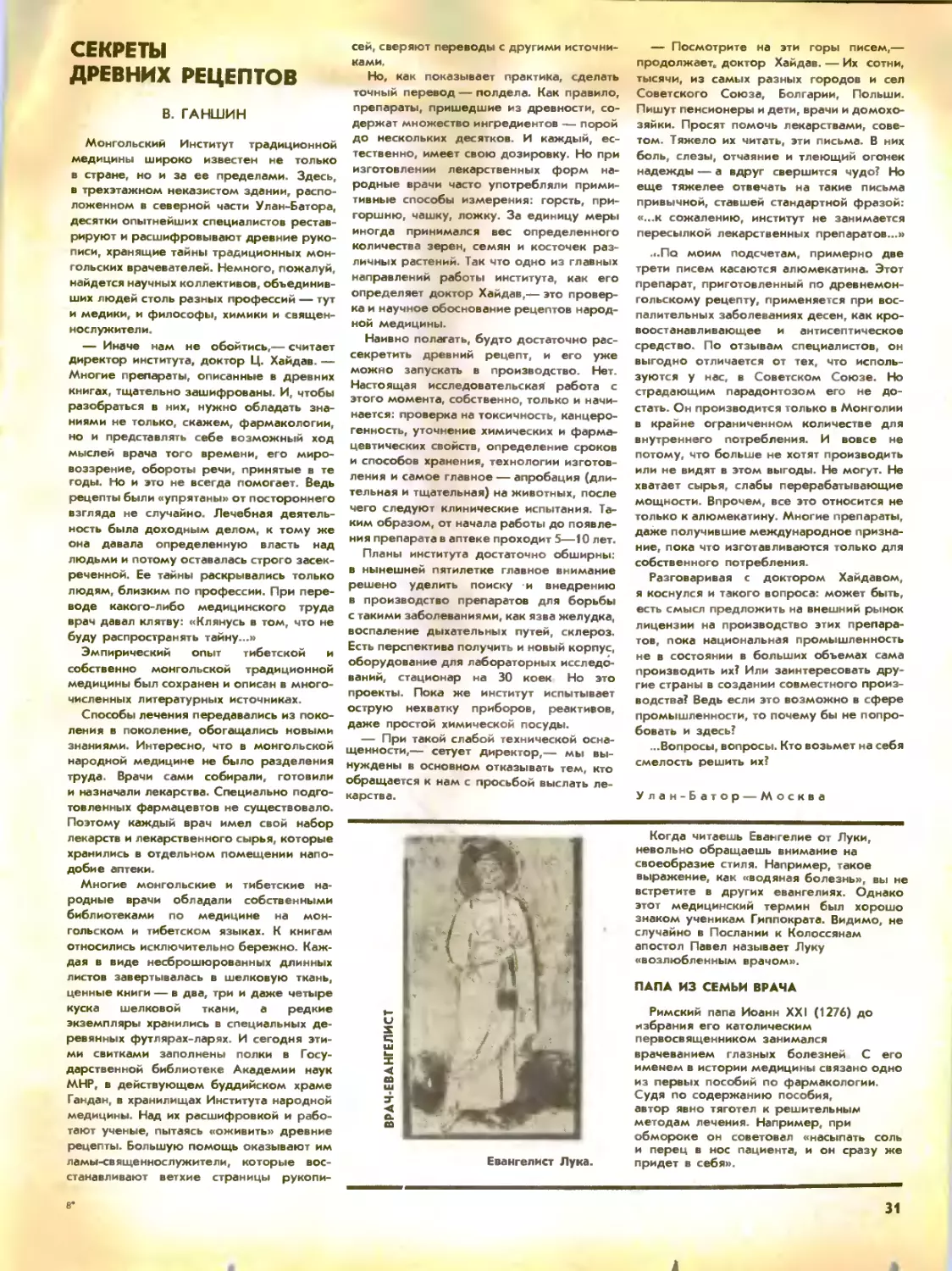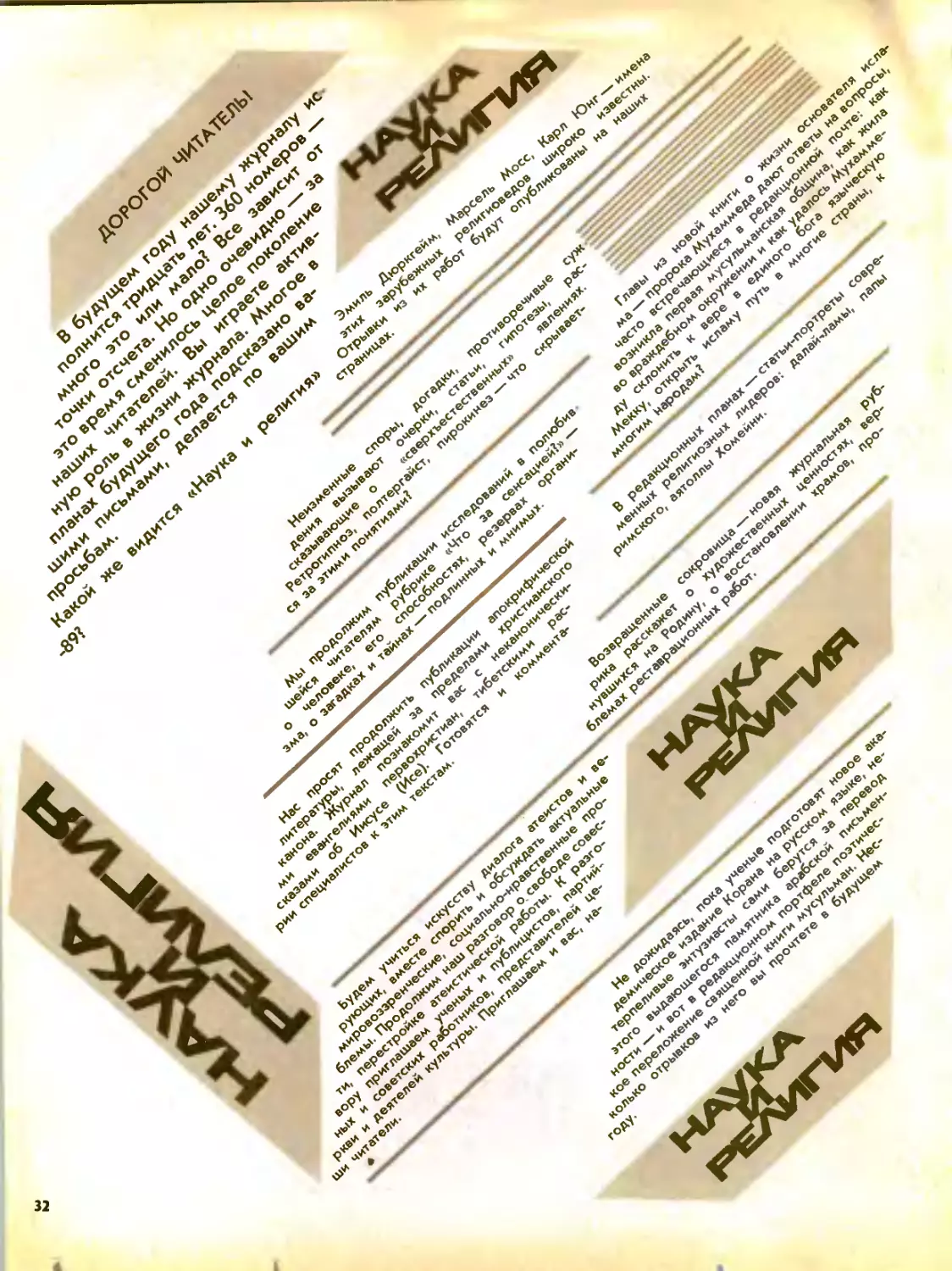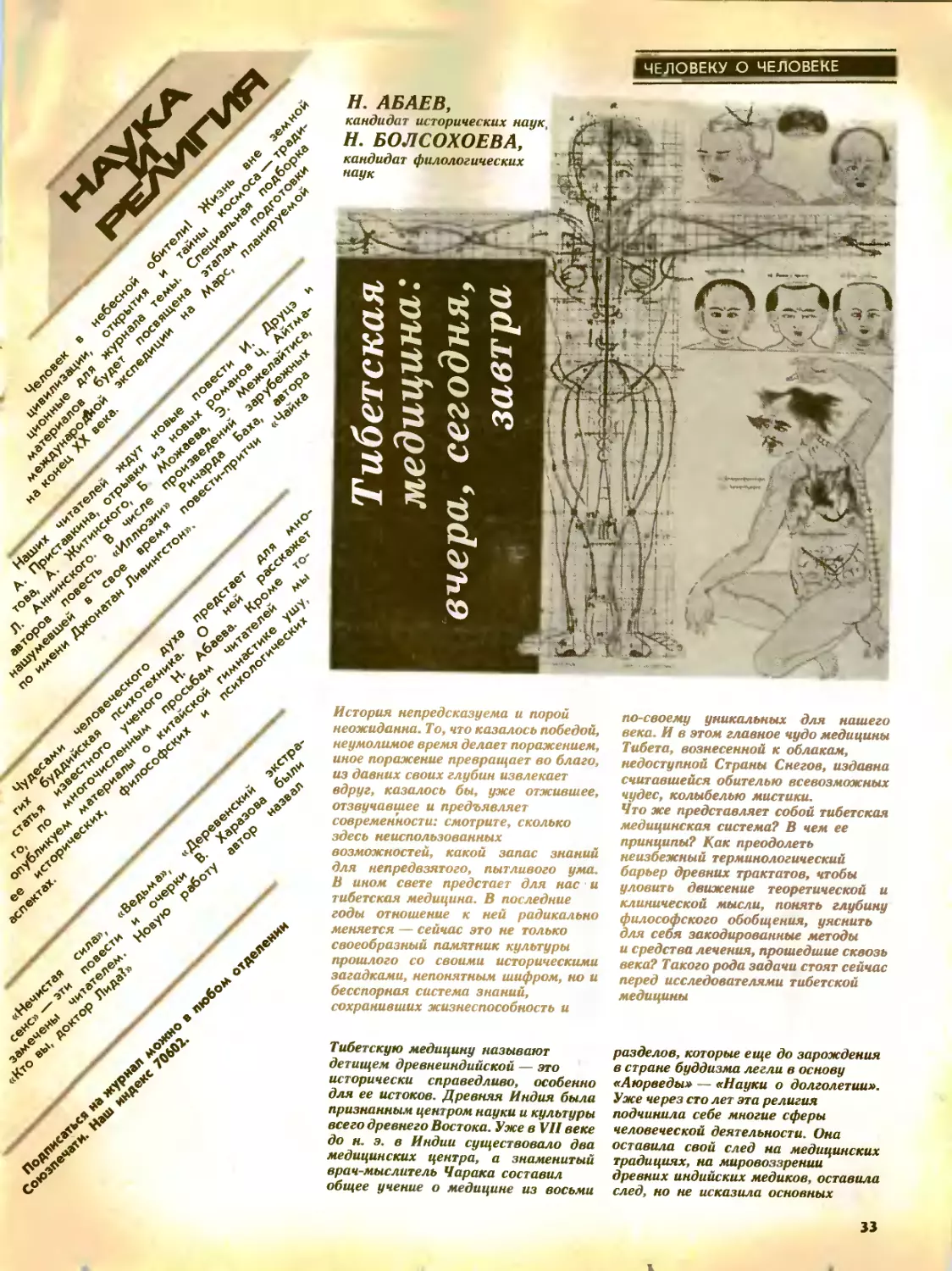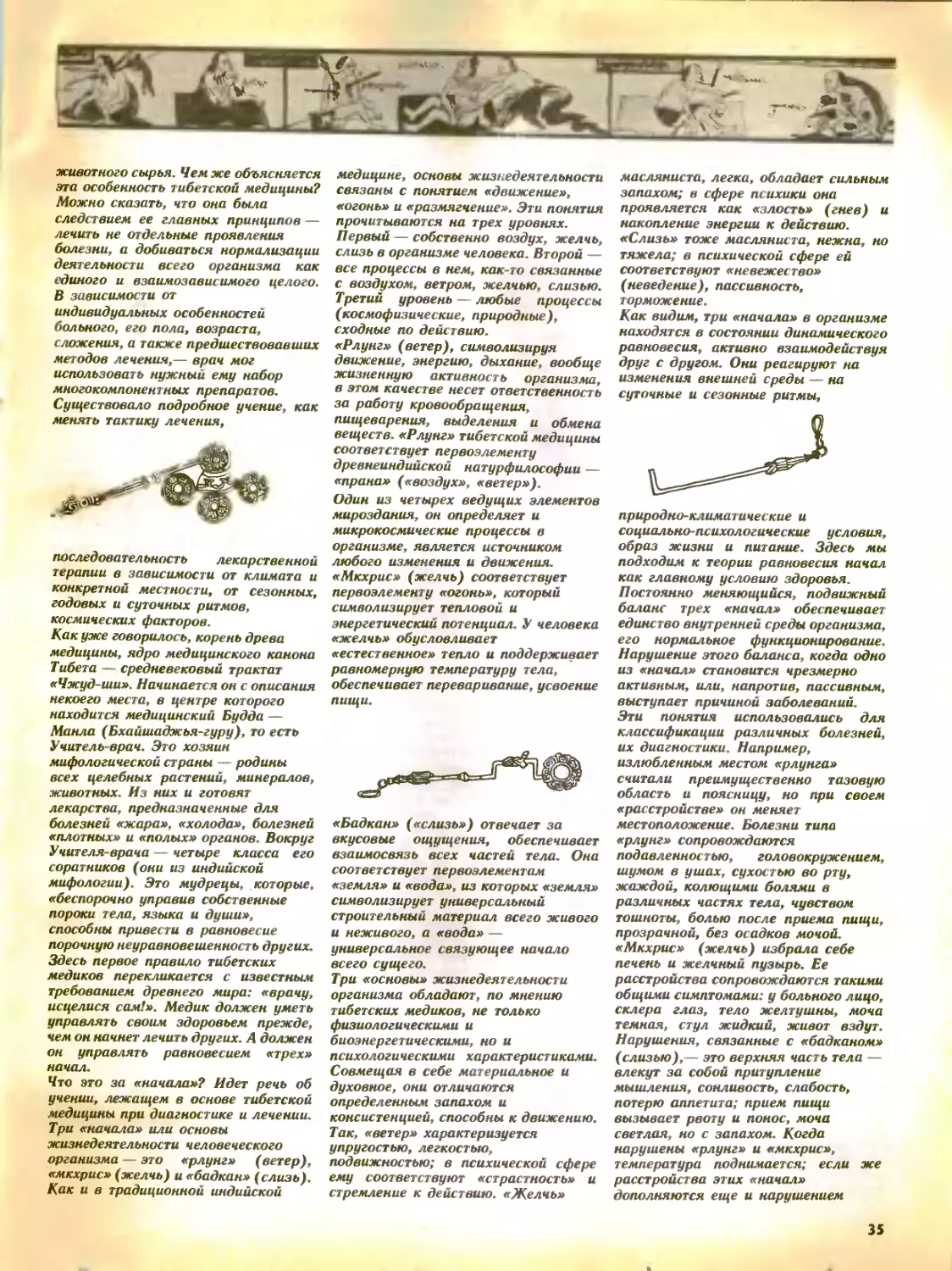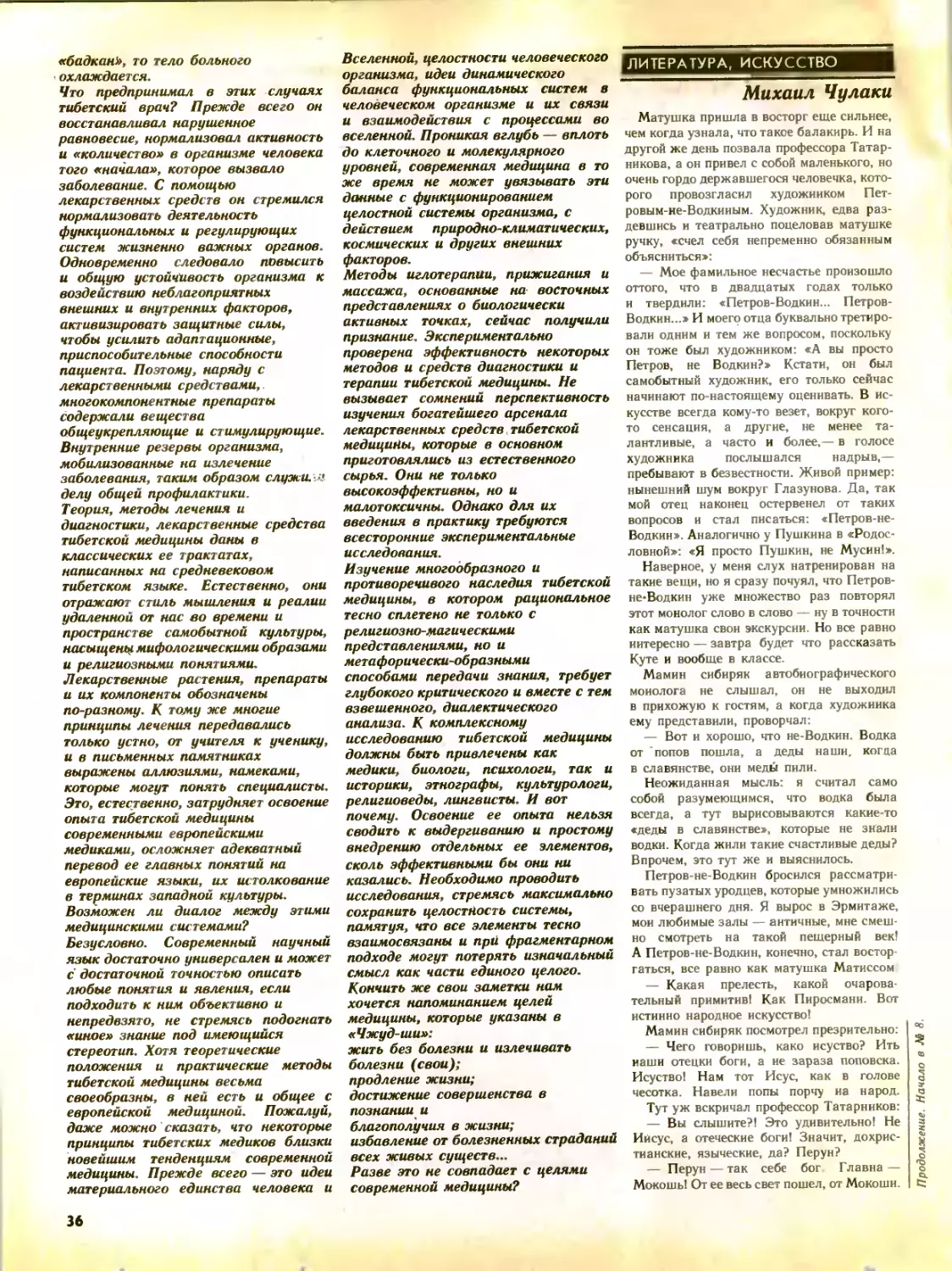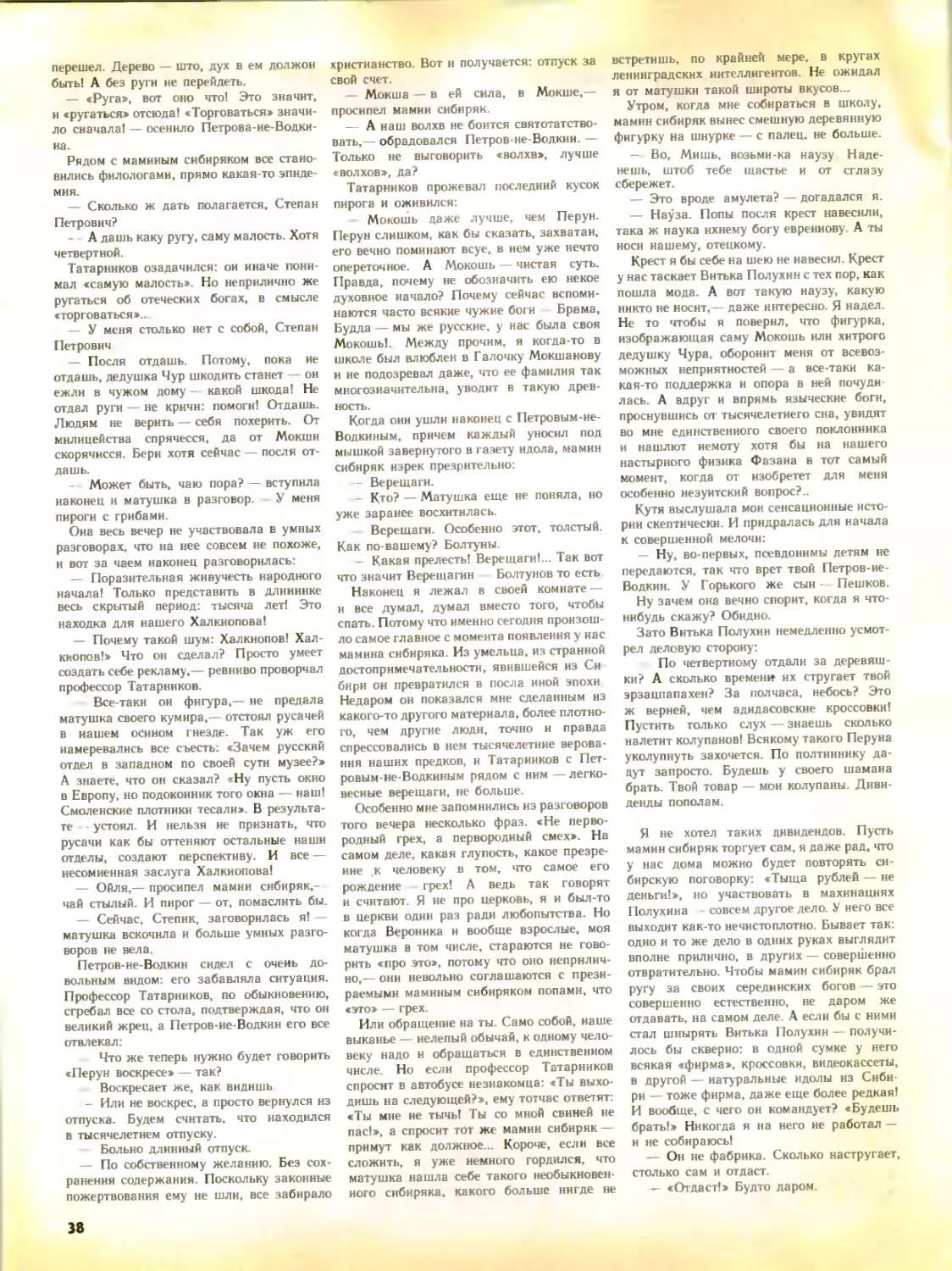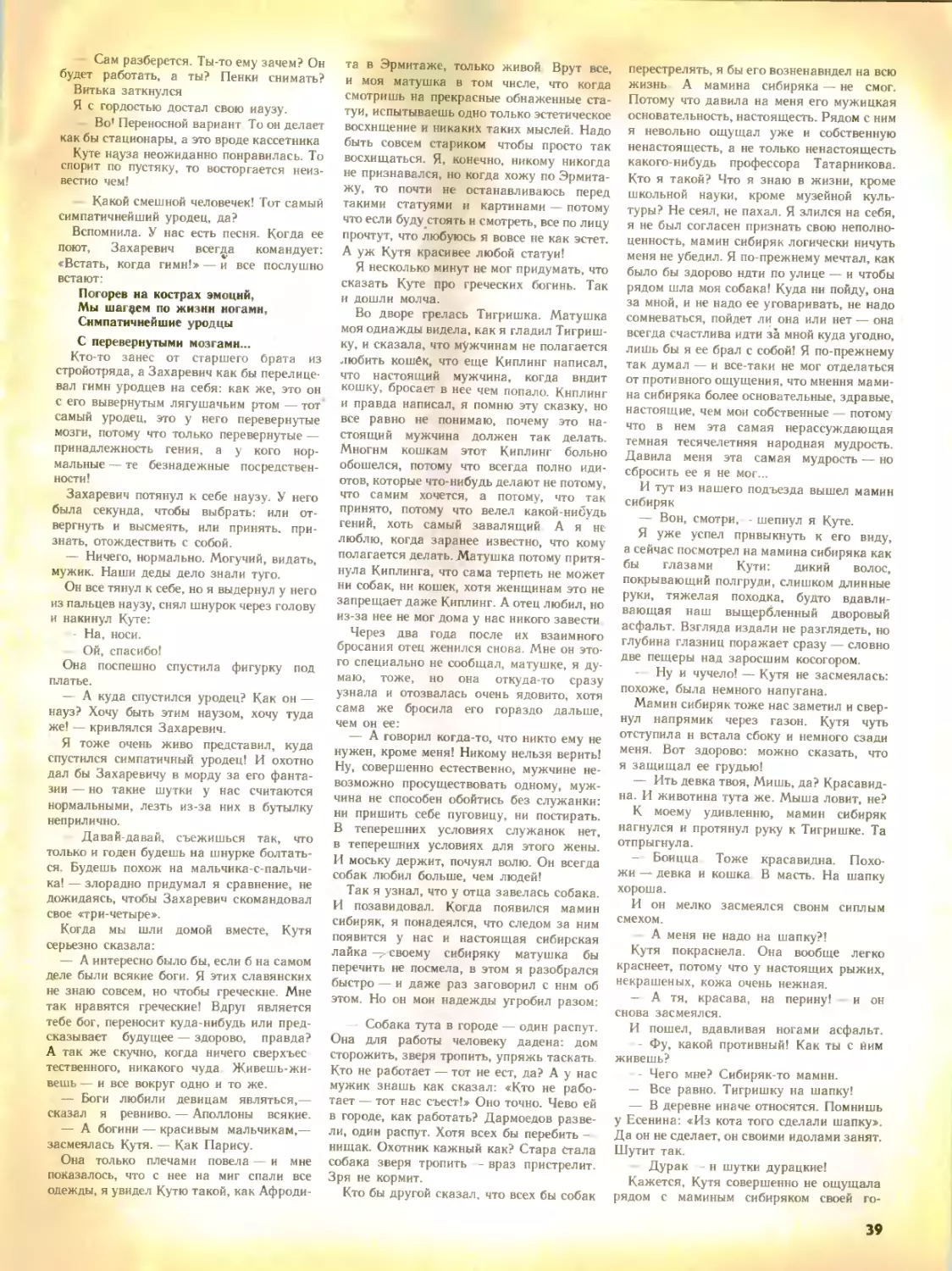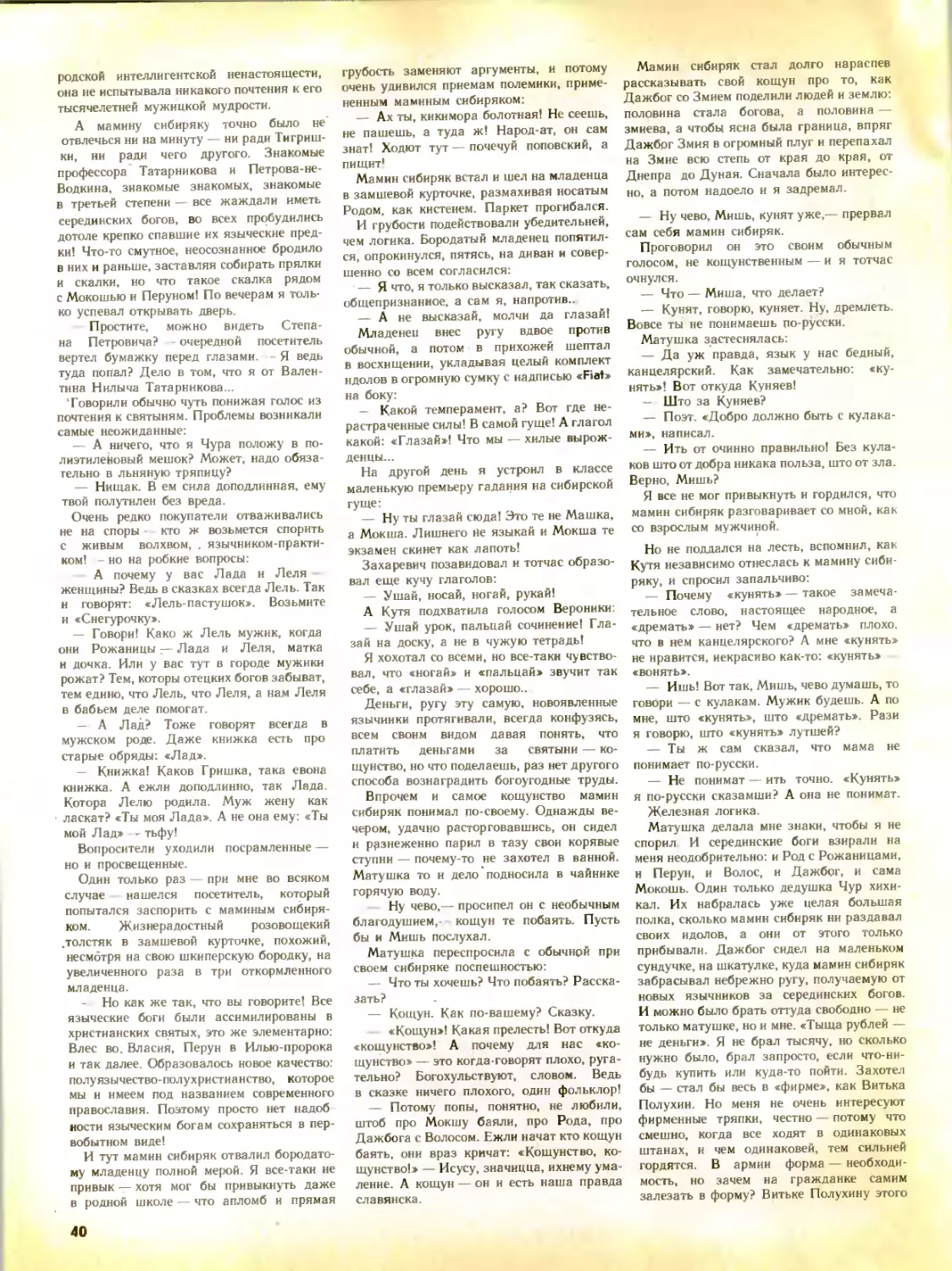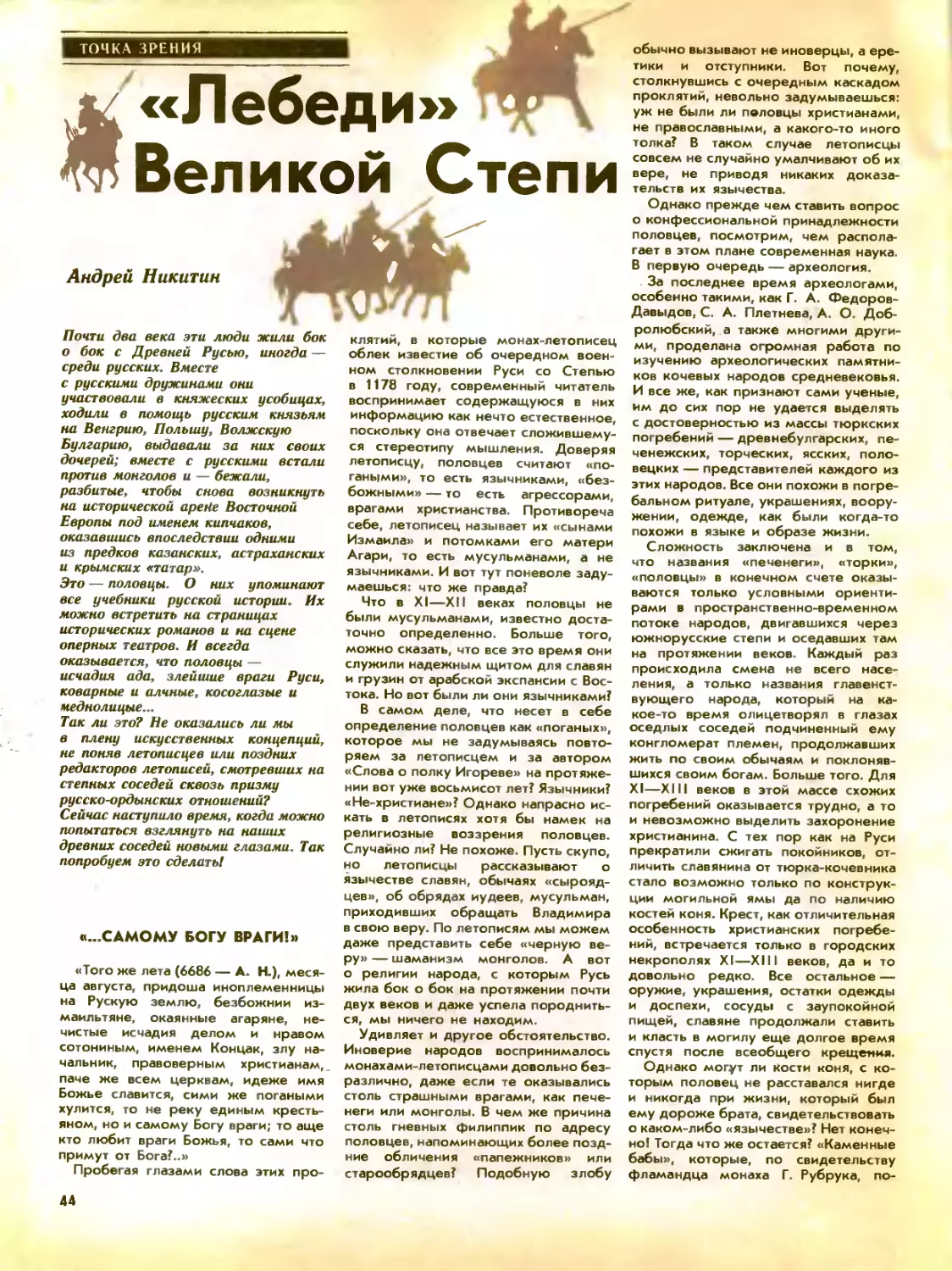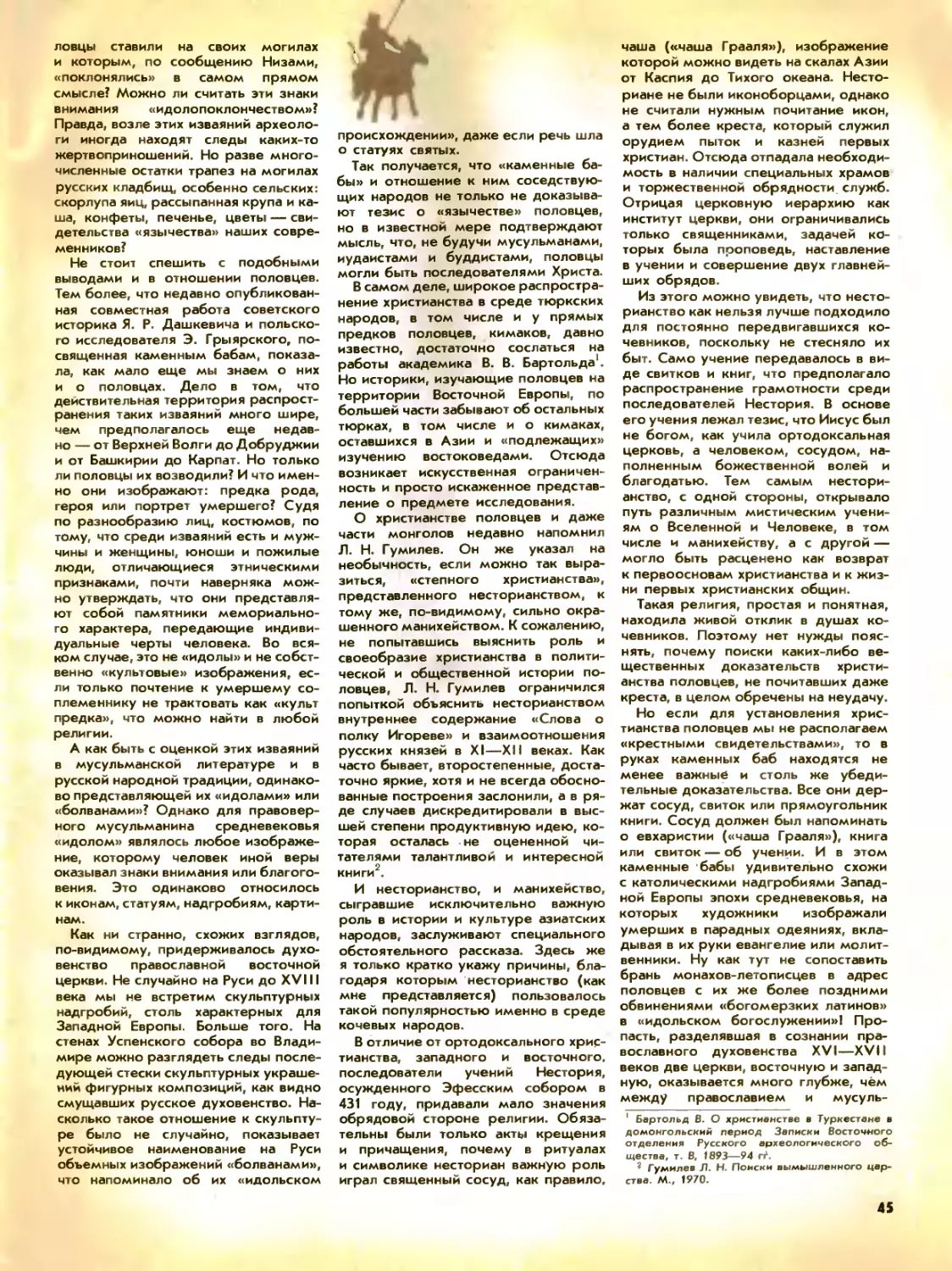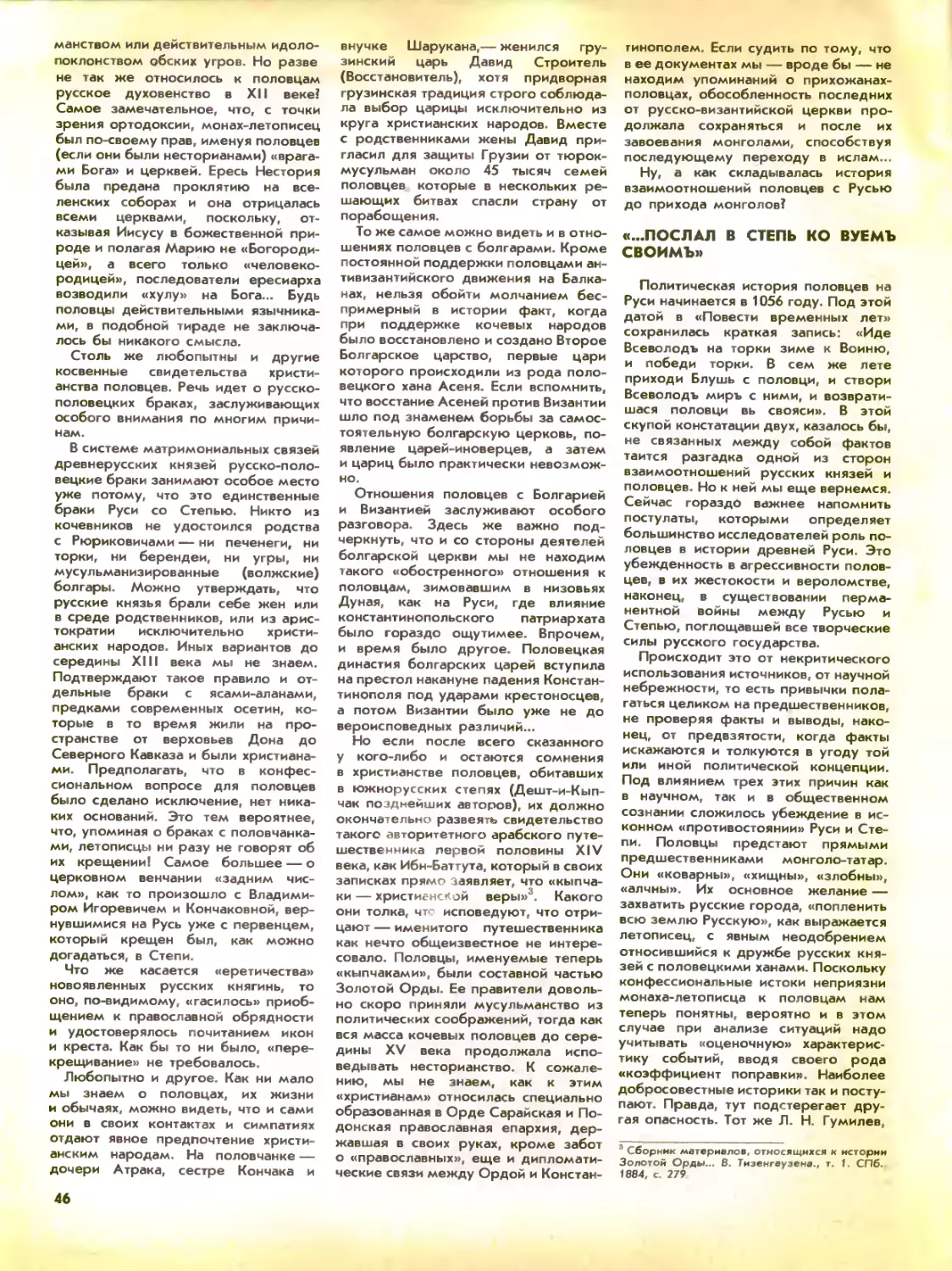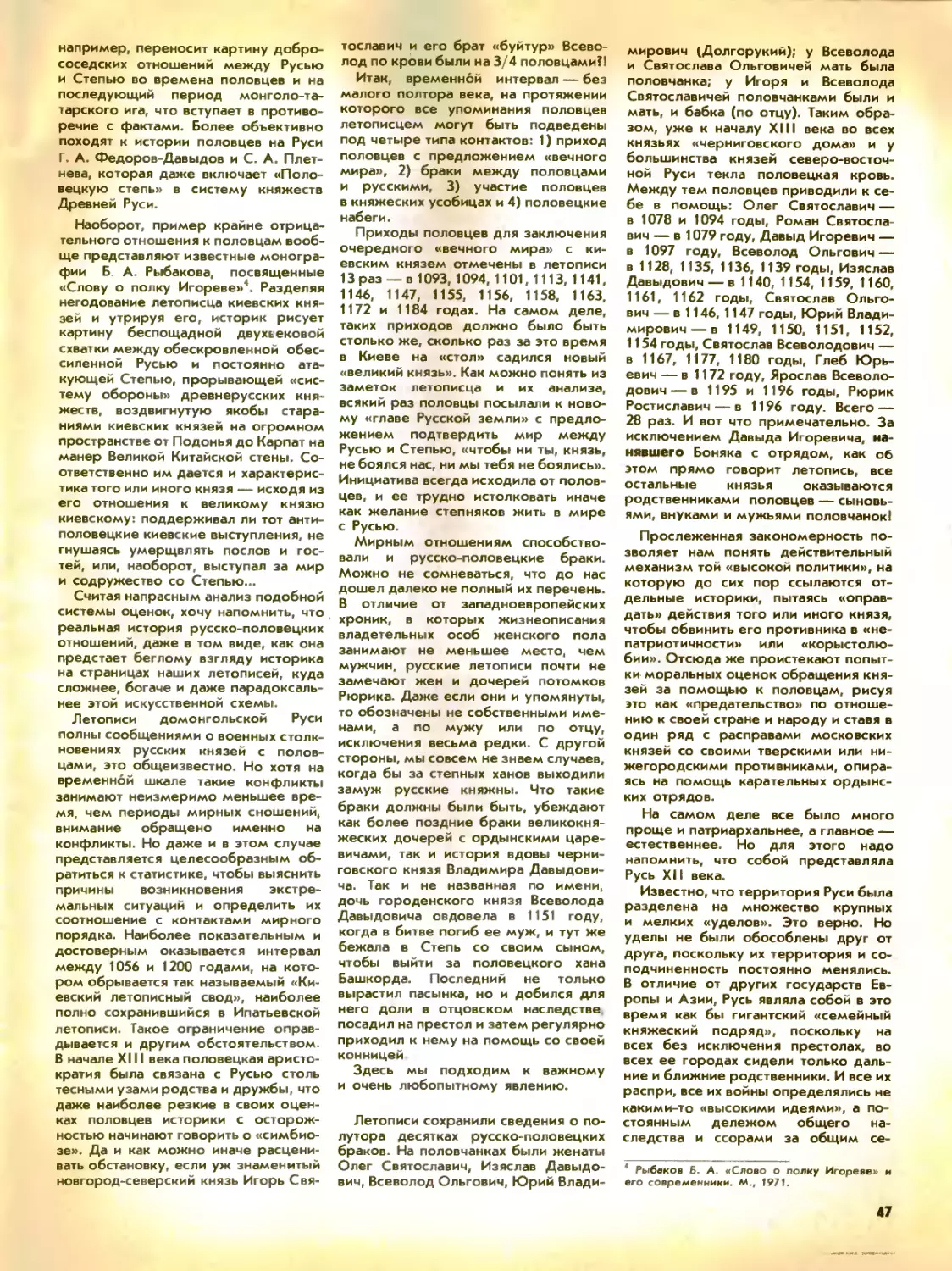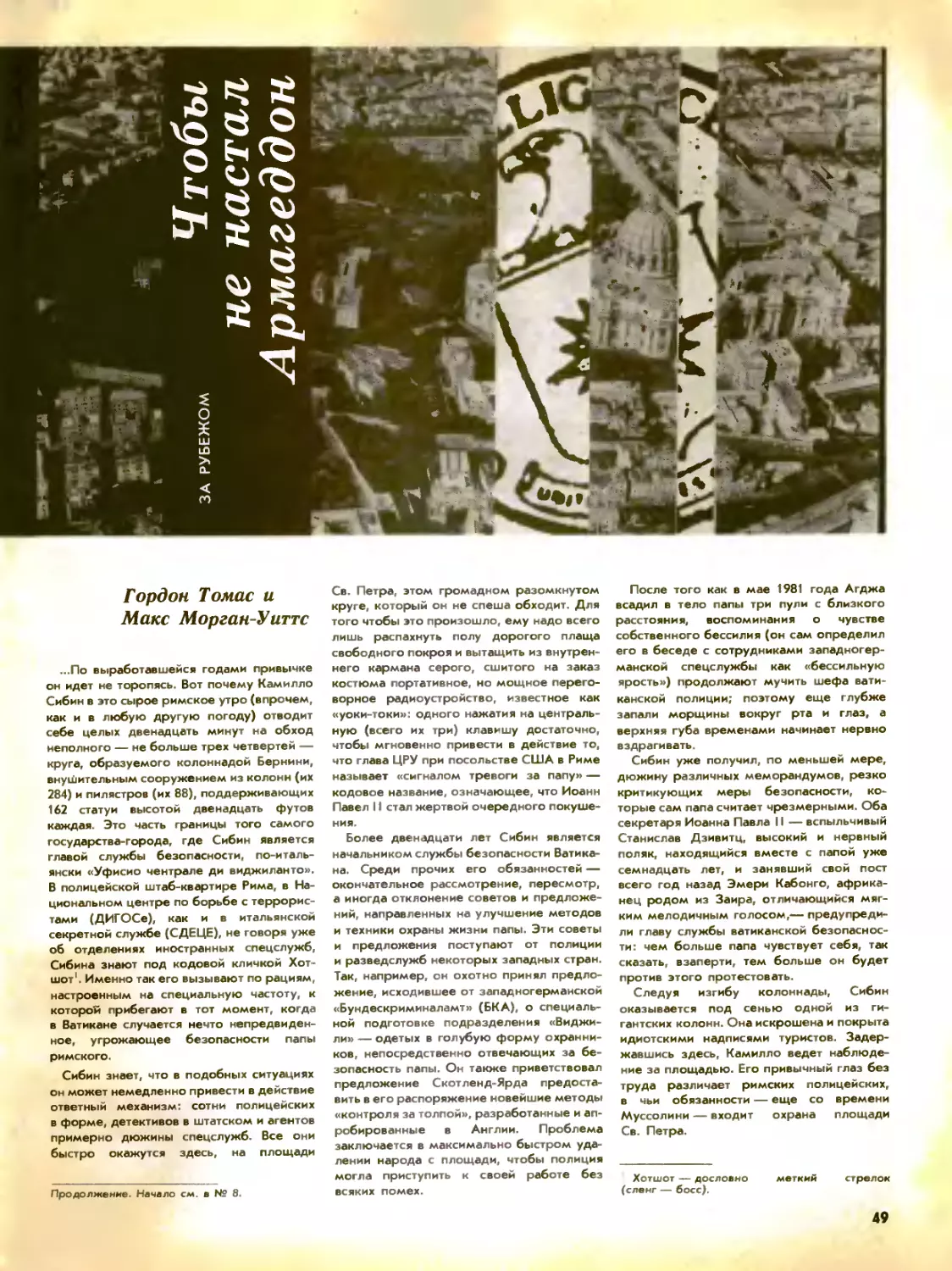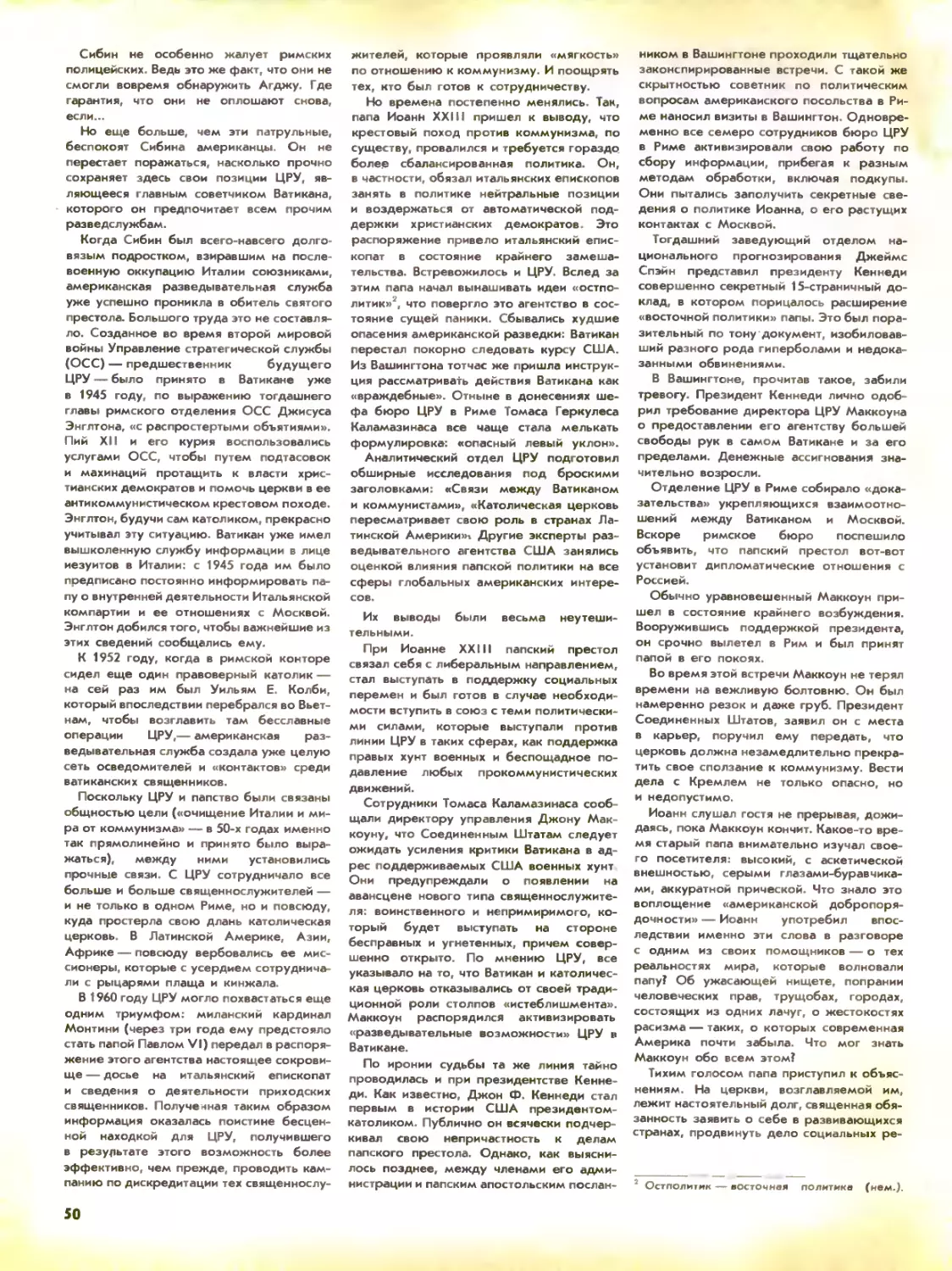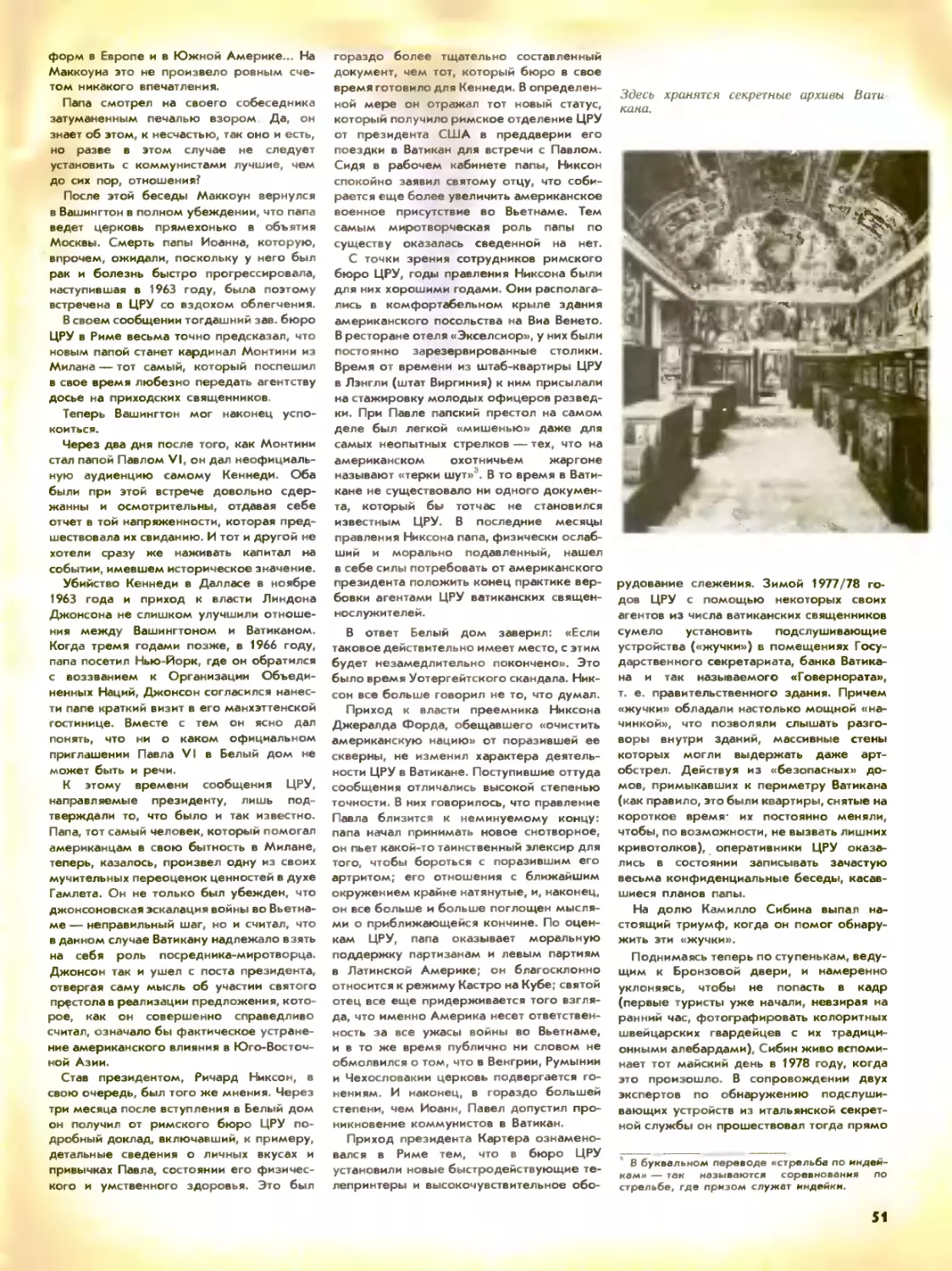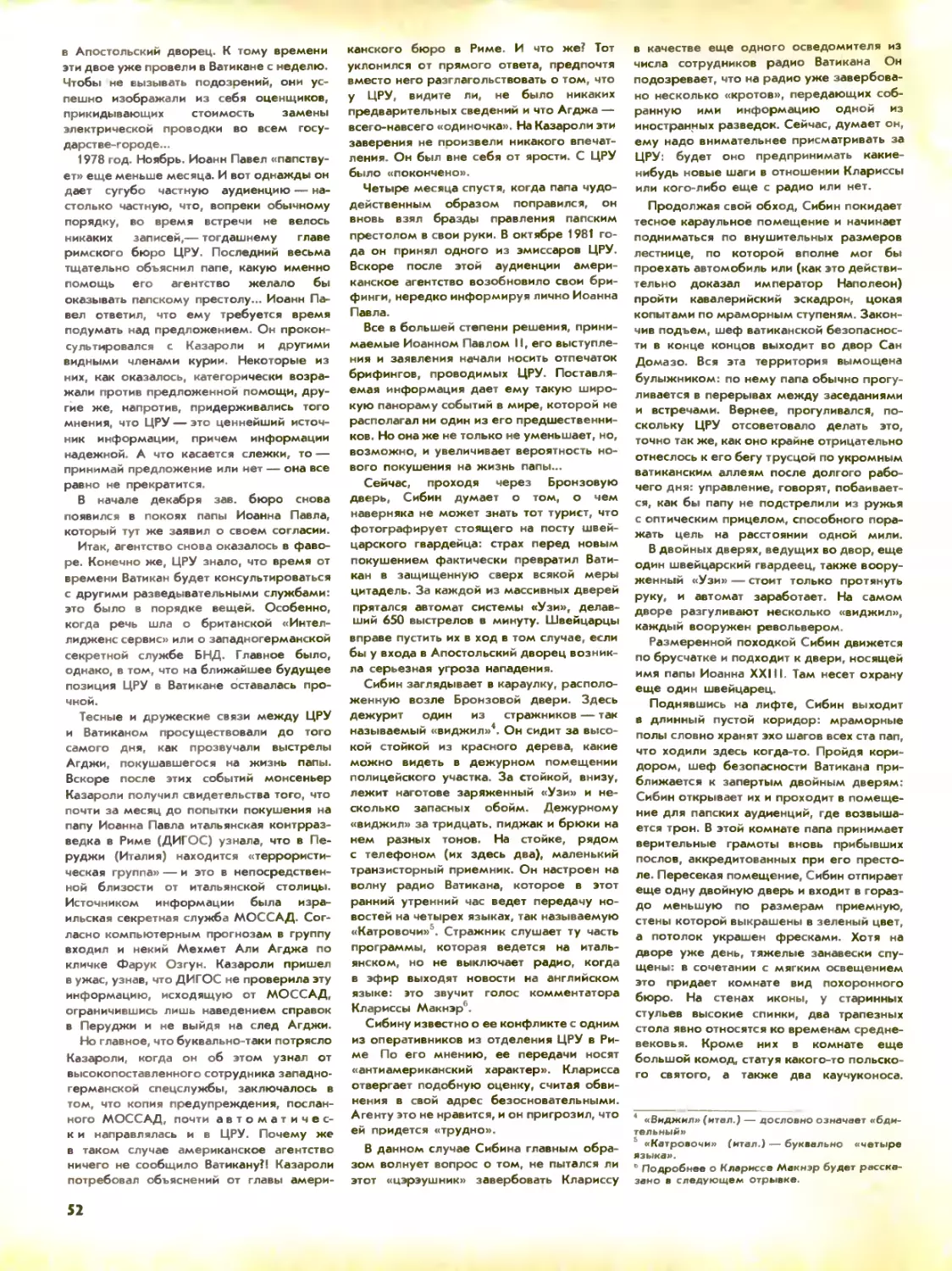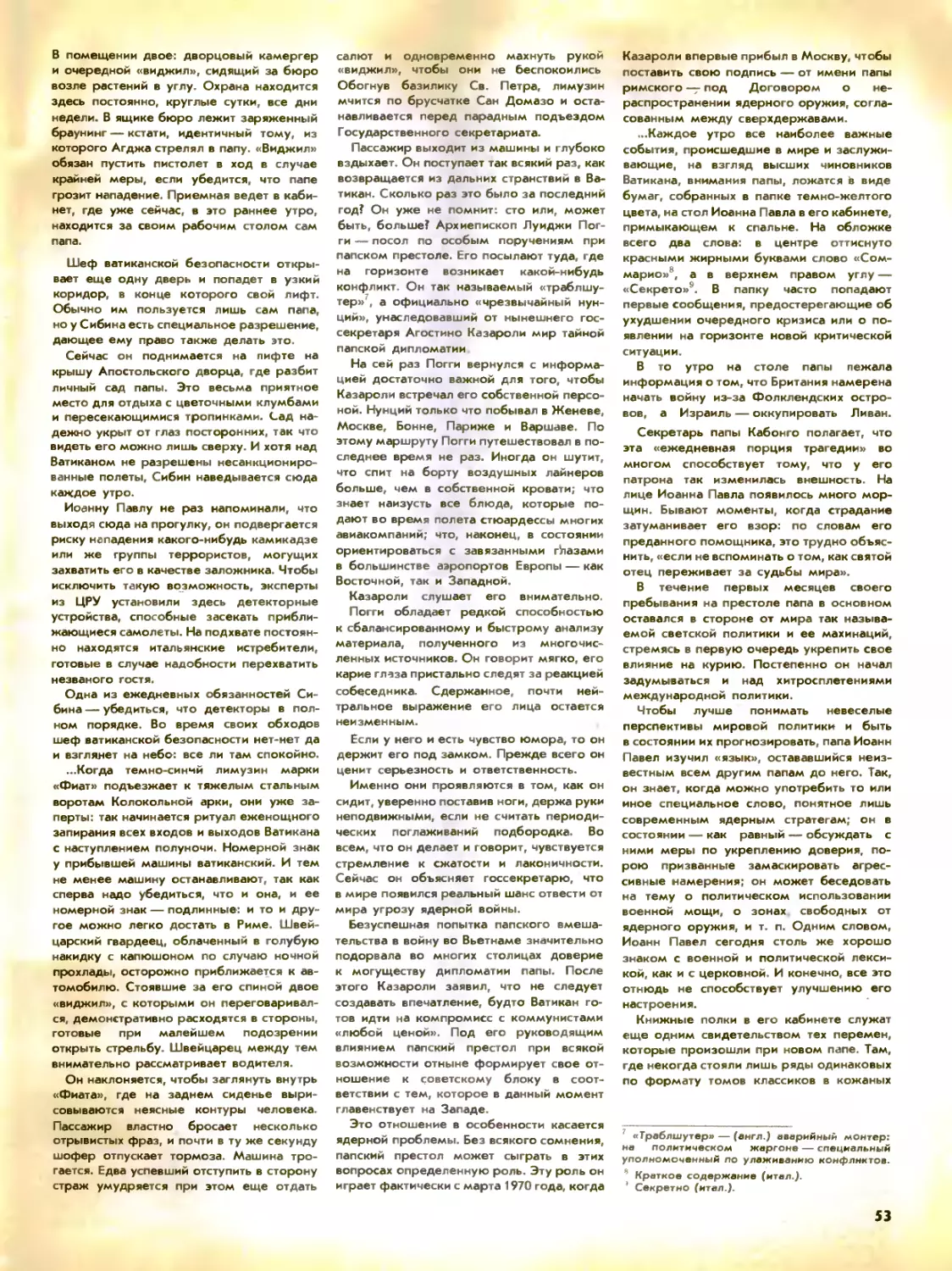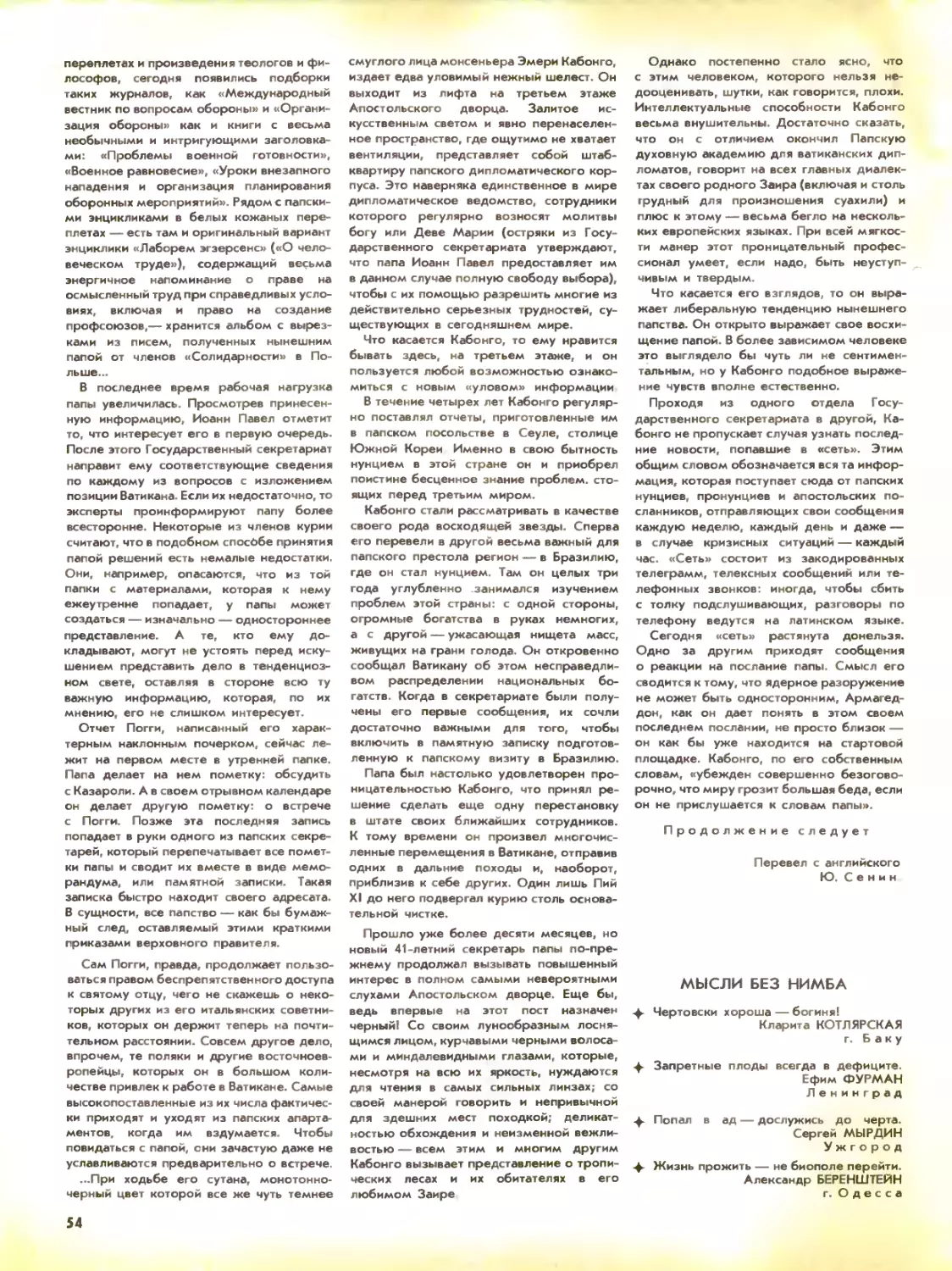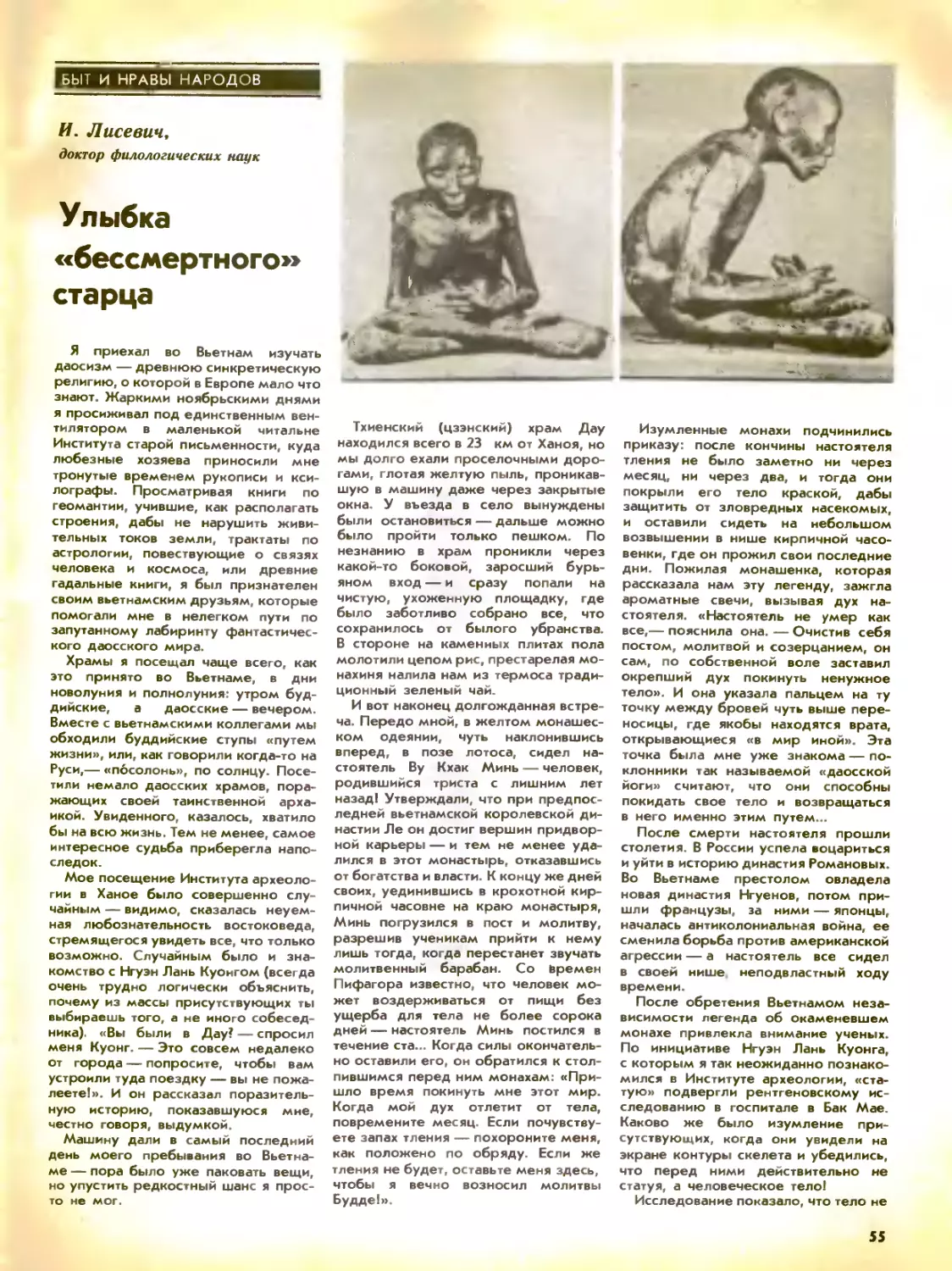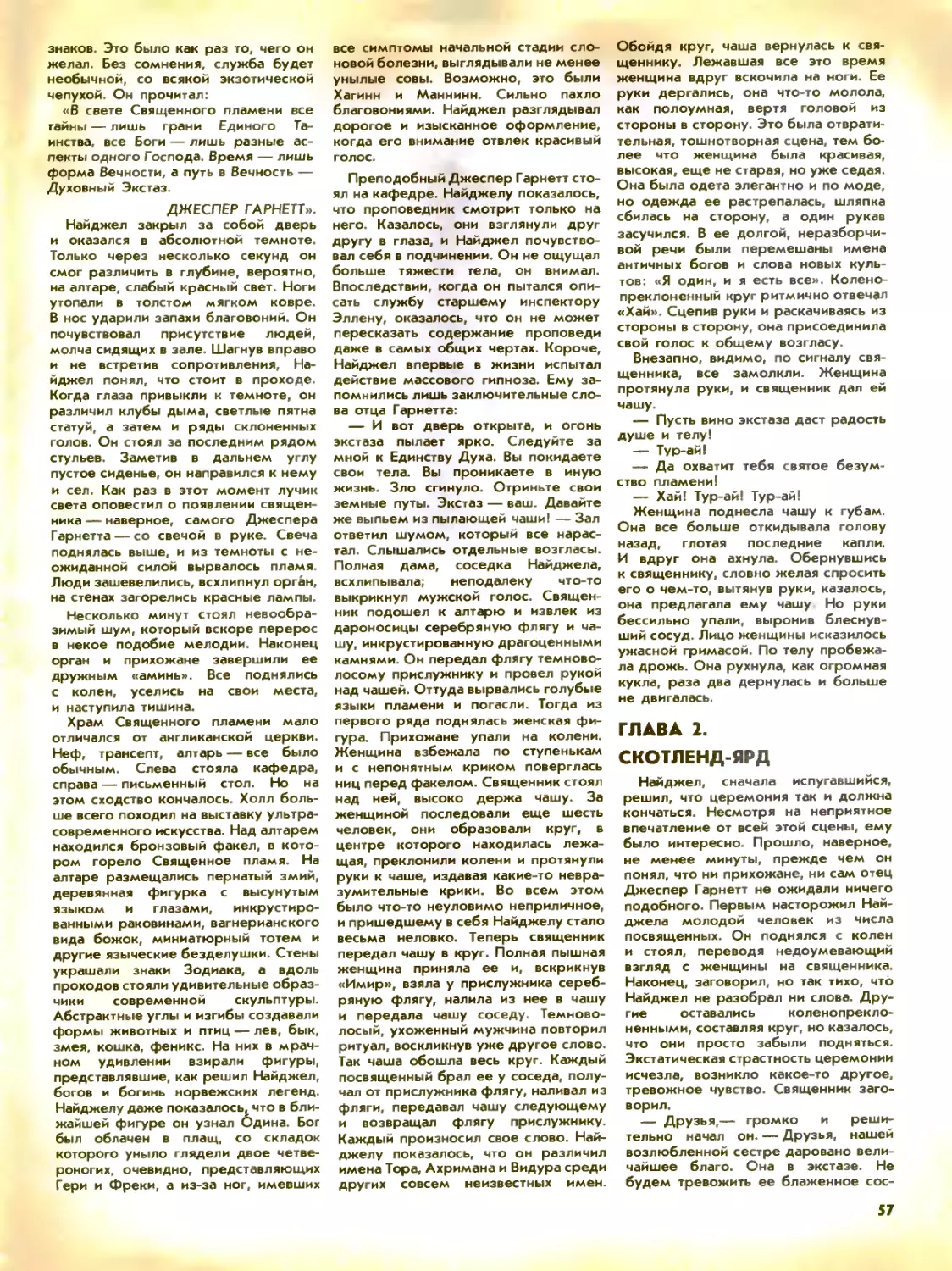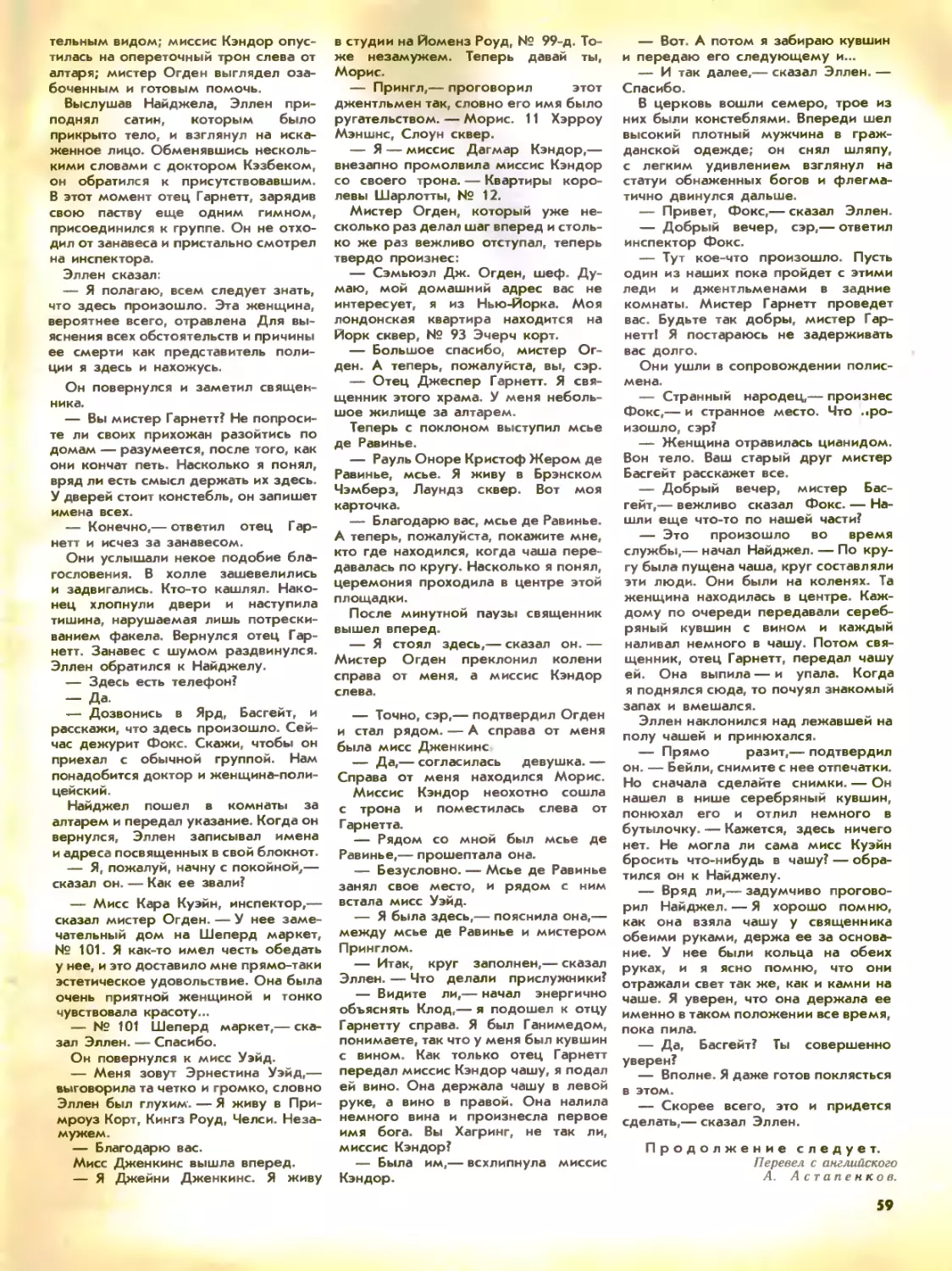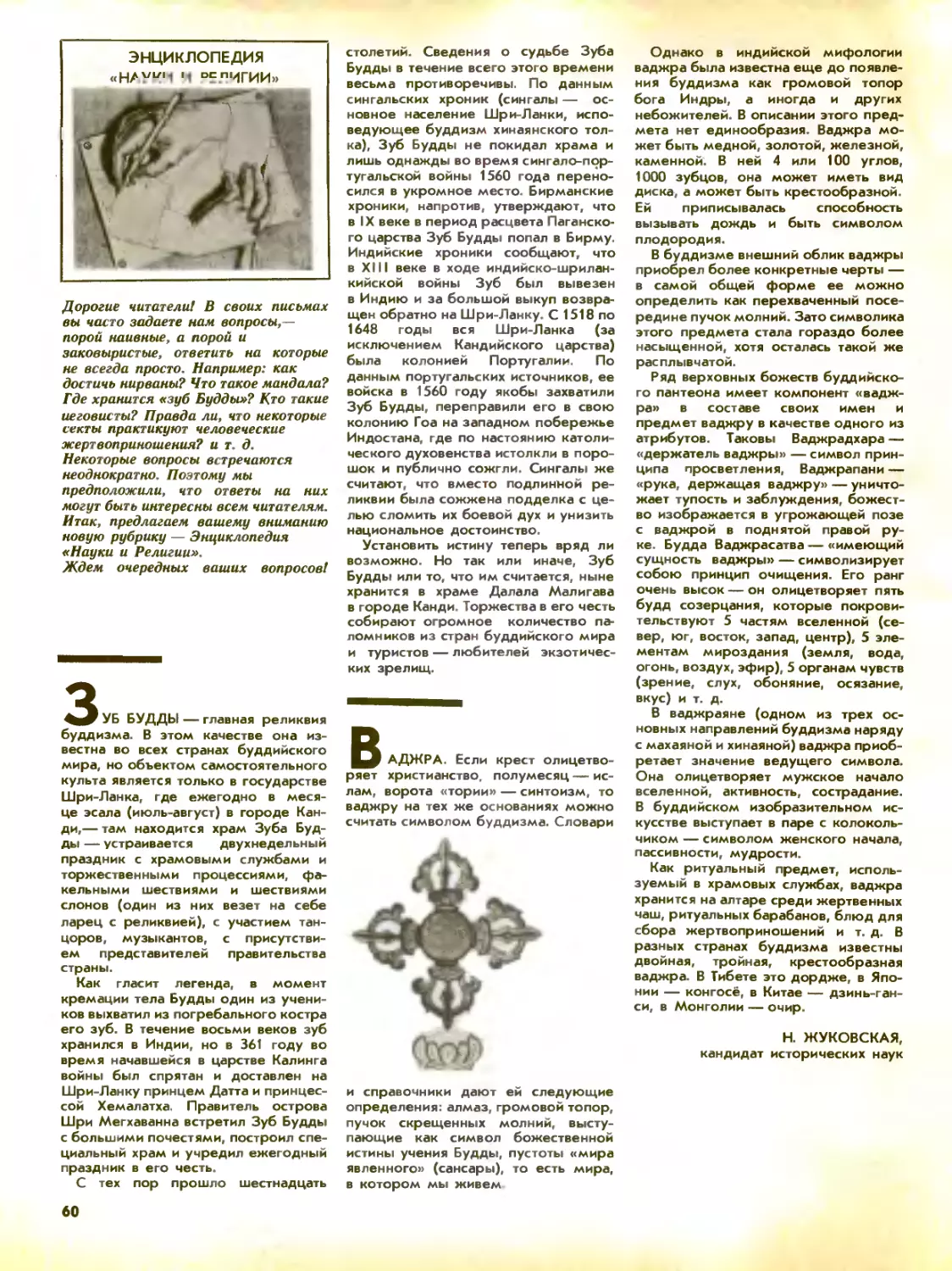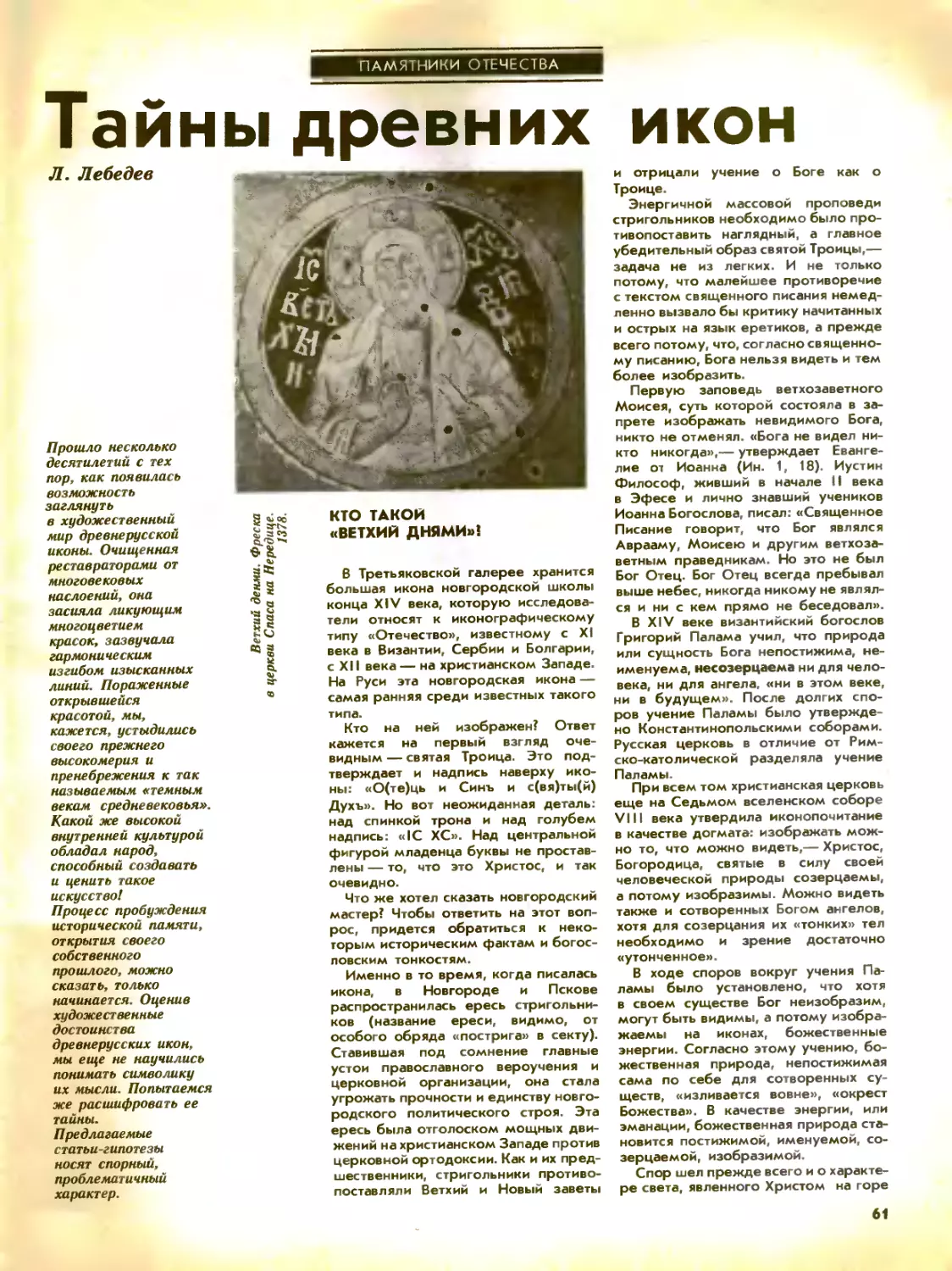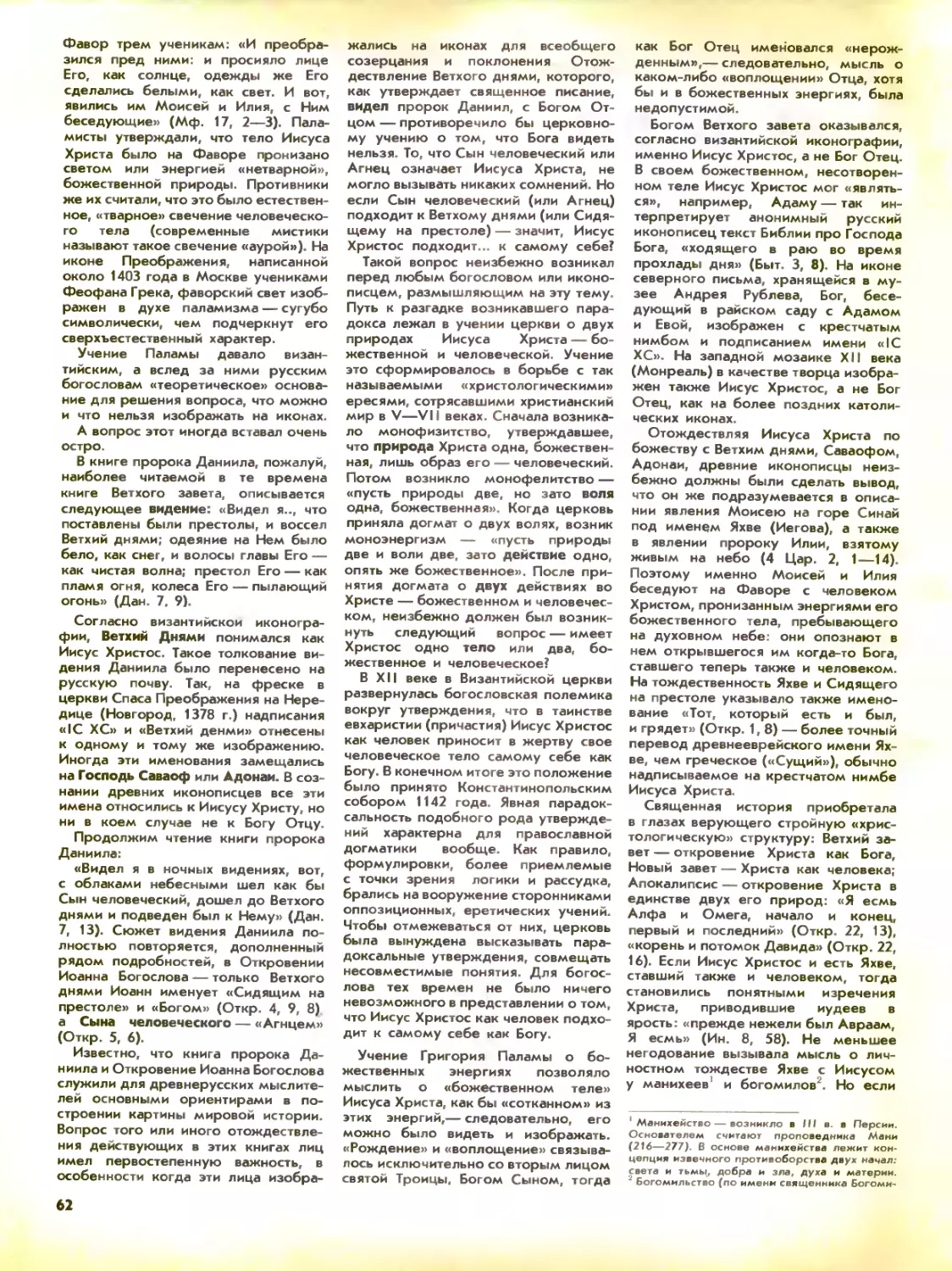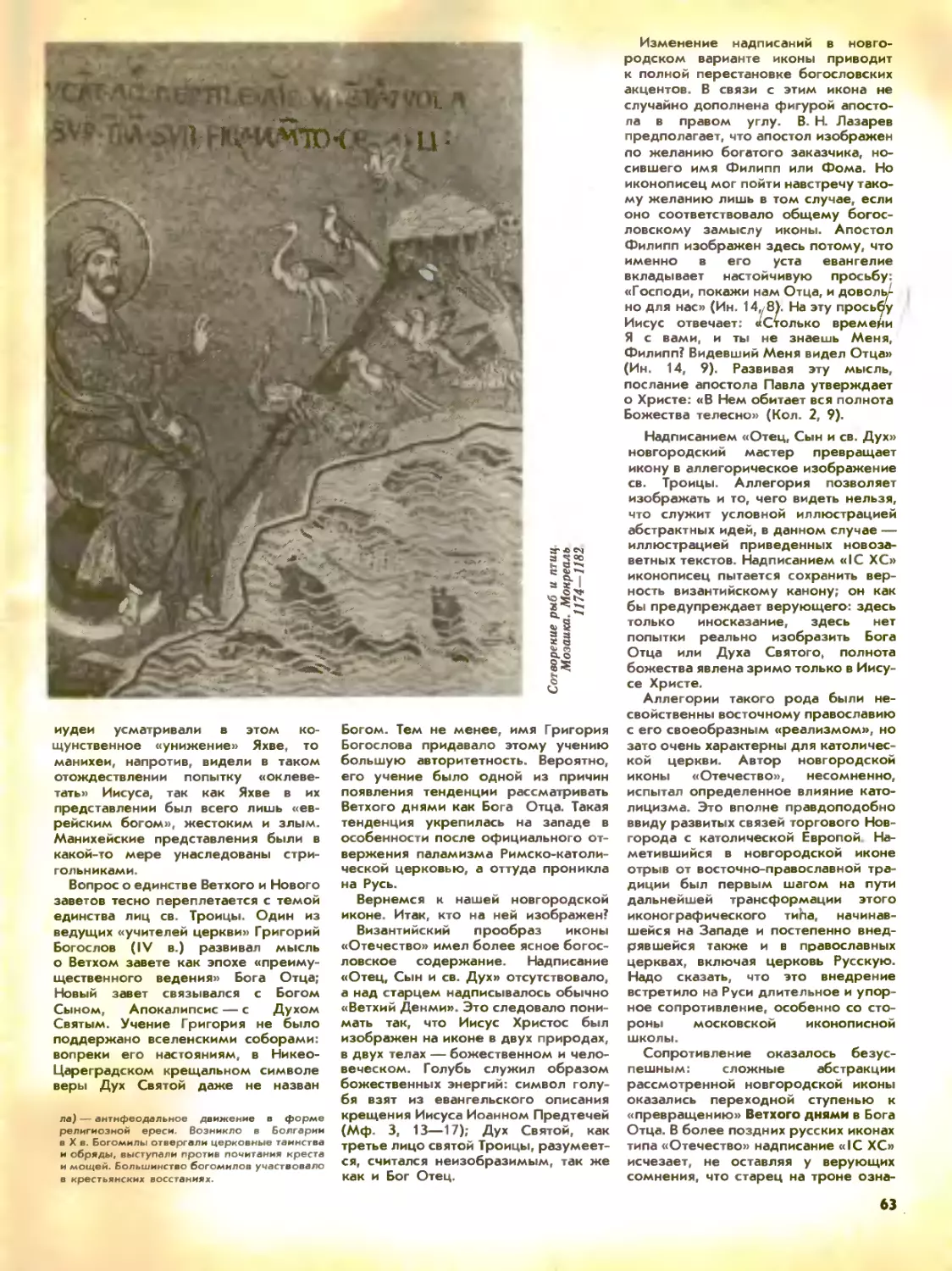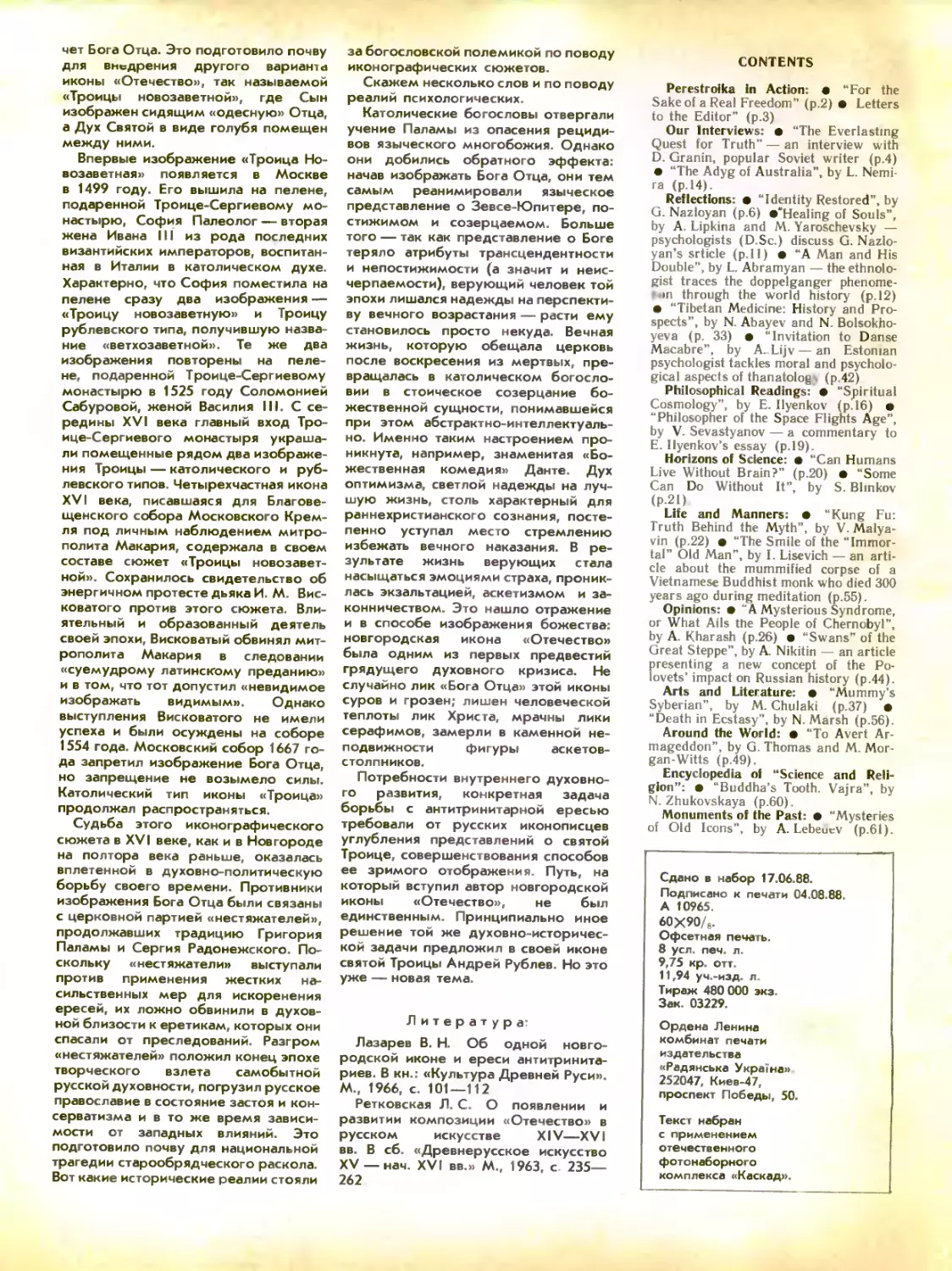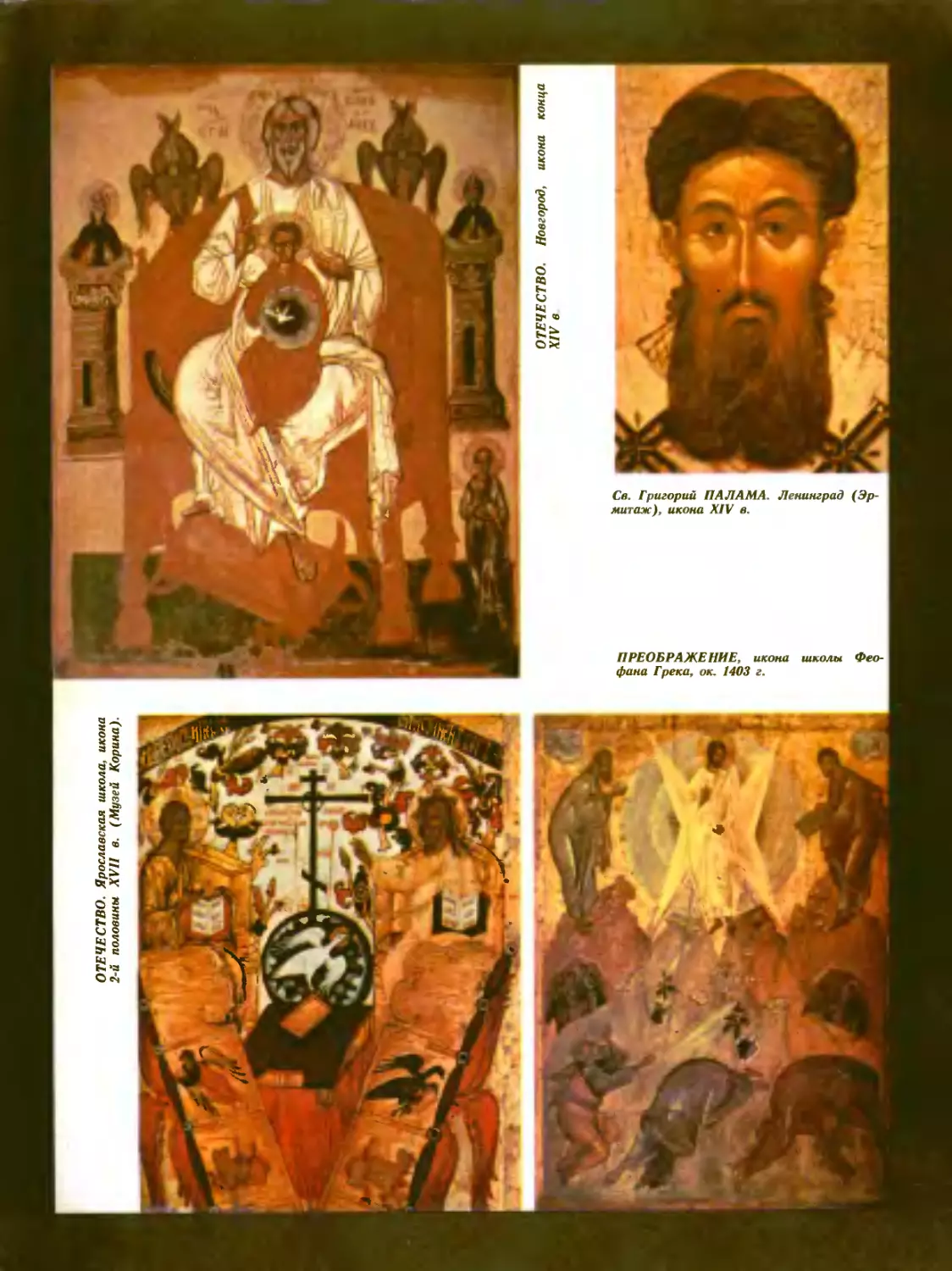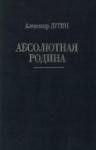Text
9/B8
Почему же не предположить
в таком случае,
что мышление как раз
и есть та самая качественно
высшая форма, в которой
ч осуществляется накопление
и плодотворное использование
энергии, излучаемой солнцами?
Э ИЛЬЕНКОВ. «Космология духа»
Фрагмент таблицы «Атласа тибетской медицины», посвящен-
ный лечению старения. Тибетские врачеватели разработали для
пожилых людей специальный ритуал «набирания соков». В чем
его суть? Лучше всего жить в месте, радующем глаз, быть воздер-
жанным в пище, отказаться от любострастия, принимать лекар-
ственные средства, основанные на таких компонентах, как мумие,
мед, можжевельник, рододендрон, полынь, эфедра. Обязательны
омовение и очищение. И в итоге пожилой человек может обрести
ловкость льва, силу слона, красоту павлина, долголетие солнца
и луны.
СЕНТЯБРЬ
1988
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ Перестройка:
АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ опыт, проблемы Во имя реальной сво-
ОРДЕНА ЛЕНИНА боды 2
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА Каким быть журна-
«ЗНАНИЕ» лу! 3
Издается с сентября
1959 года Наши интервью Д. Гранин
Бесконечность поис-
Главный редактор ка истины 4
В. Ф. Правоторов. Л. Немира
Адыгейцы из Австра-
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: лии 14
И. Ш. Алискеров.
В. И. Гараджа,
И И. Жерневская
(ответственный секретарь), Человеку
А. С. Иванов, о человеке Г. Назлоян
Н. А. Ковальский,
Э И. Лисавцев, личности 6
Б. М. Марьянов А. Липкина М. Яро-
В. П. Маслин, шевский
К. А. Мелик-Симонян, Исцеление души 11
(зам. главного редактора). Л. Абрамян
С. И. Никишов, Человек и его
М П. Новиков, двойник 12
И. К. Пантин, Н. Абаев, Н. Болсо-
В. Е. Рожнов. хоева
Тибетская медицина.
РЕДАКЦИЯ: вчера, сегодня.
И. У. Ачильдиев, завтра 33
О Т Брушлинская, А. Лийв
Э В. Геворкян, Приглашение к пляс-
Г. В. Иванова, ке смерти 42
М. А. Ковальчук,
Ю М. Кузьмина,
Е. С. Лазарев, Философские
В. К. Лобачев, чтения Э. Ильенков
Л. А. Нёмира, Космология духа 16
В. П. Пазилова, В. Севастьянов
М. И. Пискунова, Философ космичес-
А. А. Романов, кого века 19
О. М. Стеновая,
0. Ю. Тверитина,
В. Л Харазов
Ведущий номера J * жй
К. А. Мелик-Симонян
Художественный редактор
С. И. Мартемьянова.
Технический редактор
Ю. А. Викулова.
Корректор Горизонты науки А. Буке
Г. Л. Кокосова. Можно ли жить без
Зав. редакцией мозга! 20
Э. Н. Волкова С. Блинков
«Некоторым это
Оформление удается» 21
художника А Игитханяна
Быт и нравы
народов
Точка зрения
В. Малявин
Гунфу: действитель-
ность мифа 22
И. Лисевич
Улыбка «бессмерт-
ного» старца 55
Издательство «Знание»
© Журнал
«Наука и религия» 1988.
Адрес редакции
109004, Москва, Ж-4,
Ульяновская, 43, корп. 4.
Телефоны:
297-02-51, 297-10-89.
А. Хараш
Загадочный синдром,
или Чего боятся чер-
нобыльцы! 26
А. Никитин
«Лебеди» Великой
Степи 44
Литература, искусство М. Чулаки Мамин сибиряк Н. Марш Смерть в экстазе 37 56
В странах социализма В. Ганшин Секреты древних рецептов 31
За рубежом Г. Томас, М. Морган- Уитте Чтобы не настал Армагеддон 49
Энциклопедия «Науки и религии» Н. Жуковская Зуб Будды. Ваджра 60
Памятники Отечества Л. Лебедев. Тайны древних икон 61
Содержание на английском языке 64
ПЕРЕСТРОЙКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ
Во имя реальной свободы
Крупной вехой в процессе ре-
волюционного обновления общества
стала XIX Всесоюзная партконферен-
ция. Ключевым вопросом конферен-
ции назвал М. С. Горбачев вопрос
о реформе нашей политической сис-
темы.
Печать, телевидение, радио широко
раздвинули рамки конференции, по-
могли нам стать ее со-участниками,
следить за развернувшейся полити-
ческой дискуссией. Форум коммунис-
тов показал, что КПСС не только
провозглашает курс демократизации,
принцип социалистического плюра-
лизма, но и следует им на практике.
В эти дни, переживая, радуясь, огор-
чаясь, мы проходили хорошую школу
большой политики, уроки которой,
думается, пригодятся каждому.
Среди злободневных вопросов, по-
днятых в докладе М. С. Горбачева,
был и вопрос о свободе совести. Мы
приводим эту часть доклада. Посколь-
ку многие принципиальные положе-
ния, характеризующие новый подход
партии к государственно-церковным
отношениям, ранее были сформули-
рованы в речи Генерального секрета-
ря ЦК КПСС на встрече с руко-
водством Русской православной
церкви, мы публикуем также эти
материалы
«Мы не скрываем своего отношения
к религиозному мировоззрению как
нематериалистическому, ненаучному.
Но это не основание для неуважитель-
ного отношения к духовному миру
верующих людей и тем более —
применения какого бы то ни было
административного давления для ут-
верждения материалистических
воззрений.
Принятый 70 лет назад ленинский
Декрет об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви создал
новые основы отношений между ни-
ми. Известно, что не всегда эти
отношения складывались нормально.
Но сама жизнь, история объединяла
верующих и неверующих как граждан
Советской страны, патриотов и в годы
испытаний Великой Отечественной
войны, и в создании нашего социалис-
тического общества, и в борьбе за
мир.
Все верующие, независимо от того,
какую религию они исповедуют, яв-
ляются полноправными гражданами
СССР. Подавляющее большинство их
активно участвует в нашей произ-
водственной и общественной жизни,
решении задач перестройки. Готовя-
щийся сейчас проект закона о свободе
совести основывается на ленинских
принципах, учитывает все совре-
менные реальности».
Из доклада Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева на XIX
Всесоюзной партийной конференции
КПСС.
«...1000-летие введения христи-
анства на Руси...— это знаменательная
веха на многовековом пути развития
отечественной истории, культуры,
русской государственности.
Путь большой и сложный, изобило-
вавший драматическими событиями,
острейшими политическими коллизи-
ями. Но я бы выделил на нем отрезок
в семь десятилетий, ставший для
Русской церкви одним из важнейших
этапов ее истории. Это семь десятиле-
тий Советской власти, при которой
церковь живет и действует в со-
циальных условиях, не имеющих исто-
рических аналогов. Не все складыва-
лось легко и просто в сфере госу-
дарственно-церковных отношений. Не
все иерархи сумели сразу разобрать-
ся в сущности декрета. Понадобилось
время для осмысления заложенных
в нем идей.
Религиозные организации также
были затронуты трагическими событи-
ями периода культа личности. Этому
периоду дана однозначная оценка как
отступлению от социалистических
принципов, восстановленных ныне в
своих правах.
Исправляются ошибки, допу-
щенные в отношении церкви и ве-
рующих в 30-е и последующие годы.
Об этом сейчас откровенно и объек-
тивно пишут наши газеты, журналы.
С их страниц мы слышим и голос
церкви, и ваш, присутствующих
здесь...
Призванная выполнять сугубо рели-
гиозные функции церковь не может
устраниться от тех сложных проблем,
которые волнуют человечество, от тех
процессов, которые происходят в об-
ществе Достойны самой высокой
оценки миротворческая деятельность
религиозных организаций страны, их
вклад в борьбу за ядерное разоруже-
ние Столь же высокой оценки заслу-
живают выступления духовенства за
гуманизм, справедливые отношения
между народами, в поддержку внут-
ренней и внешней политики Советско-
го государства Все это отвечает
чаяниям верующих людей, для ко-
торых близок и понятен гуманистичес-
кий идеал социализма. Такая позиция
встречает понимание во всем нашем
обществе
Подавляющее большинство ве-
рующих приняли перестройку, вносят
немалый вклад в реализацию планов
социально-экономического ускорения
страны, в развитие демократии и глас-
ности. Именно в этих условиях стал
возможным широкий общественный
диалог, более активное участие рели-
гиозных деятелей в работе таких
общественных формирований, как
Фонд культуры, Детский фонд
им. В. И. Ленина, общество «Родина»
и др. Отвечая на просьбы верующих,
Советское государство передало в ве-
дение церкви Свято-Данилов мо-
настырь в Москве, исторический па-
мятник «Оптина пустынь» в Ка-
лужской области, Толгский монастырь
в Ярославской области. Государство
обеспечило необходимые условия
для проведения в стране празднова-
ния 1000-летия введения христианства
на Руси.
Сейчас разрабатывается новый за-
кон о свободе совести, где будут
отражены и интересы религиозных
организаций. Все это реальные плоды
новых подходов к государственно-
церковным отношениям в условиях
перестройки и демократизации со-
ветского общества.
Мы в полной мере восстанавливаем
сейчас ленинские принципы отноше-
ния к религии, церкви, верующим.
Отношение к церкви, к верующим
должно определяться интересами ук-
репления единства всех трудящихся,
всего нашего народа.
Мы ясно видим всю глубину наших
мировоззренческих различий, но
вместе с тем реалистически учитыва-
ем существующую ситуацию. Ве-
рующие — это советские люди, тру-
дящиеся, патриоты и они имеют по-
лное право достойно выражать свои
убеждения. Перестройка, демократи-
зация, гласность касаются и их, при-
чем сполна, без всяких ограничений.
В особенности это относится к сфере
нравственности, где общечеловечес-
кие нормы и обычаи могут спо-
собствовать нашему общему делу.
Так что точек соприкосновения для
заинтересованного и, надеюсь, пло-
дотворного диалога у нас очень
много. У нас общая история, одно
Отечество и одно будущее.»
Из речи Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева на встрече с
Патриархом Московским и всея Руси
Пименом и членами Синода Русской
православной церкви.
2
КАКИМ БЫТЬ
ЖУРНАЛУ?
Третий год журнал ведет разговор
о перестройке атеистической работы, о том,
какой ей быть в условиях демократизации
общества, широкой гласности Не раз
редакция высказывала свои суждения о
перестройке в журнале, а главное — стре-
милась осуществить ее — в новых темах,
характере публикаций, их языке, тональ-
ности. Удалось это или нет? Судить вам,
наши читатели, вам и слово.
Начнем с письма внештатного сотрудни-
ка Издательского отдела Московской пат-
риархии, чтеца храма в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость»
Н. В. Балашова: «Прежде я ограничивался
эпизодическим знакомством с некоторыми
номерами журнала, а с этого года стал его
подписчиком, уповая на то, что и вас
коснутся столь отрадные перемены. С сожа-
лением следует отметить, что первые два
номера журнала не оправдывают возрос-
ших ожиданий. В большей части мате-
риалов трудно обнаружить образцы
действительно глубокого, вдумчивого отно-
шения к проблемам веры и неверия или
к потребностям и правам верующих. Преоб-
ладает примитивная идеологическая тен-
денциозность. Думается, что в нынешних
условиях, в новой общественной ситуации
вам надо перестраиваться».
Приносим извинения авторам этого и
других писем за то, что приводим лишь
малую часть высказанного ими. Сейчас нас
интересует оценка: перестраивается жур-
нал или нет? Отрицательно об этом
высказался не только Н. В. Балашов.
Такого же мнения, к примеру, придержи-
вается Г. Ф. Кучук из Пятигорска, которая
весьма недовольна публикацией эссе
К. Воннегута о Блаватской и считает, что
только «Огонек» мог бы поместить сегодня
статью о ней, написанную В. Сидоровым:
«Но где бы взять еще одного В. Коротича
для вашего журнала?» Еще дальше в своей
критике идет Р. Русакова из Ленинграда:
«Не задумывались ли вы когда-нибудь, что
ваша пропаганда всего-навсего разлагает
людей?»
Вопросы поставлены — надо отвечать.
Где взять второго В. Коротича, мы, правда,
не знаем. А вот на остальные вопросы
попробуем ответить, причем ответ будем
искать в письмах читателей.
Первое слово читателям-верующим, ведь
именно с их стороны основная критика.
«Спешу поздравить с прекрасными рабо-
тами в этом году. Очень рад за работы
профессора Свенцицкой. Рад, что ваше
поколение серьезно полюбило науку! Заме-
чательны тексты о Давид-Неэль и послед-
ний — о «Жрице Изиды». Вы даже измени-
ли мои взгляды на Е. П. Блаватскую. Всем
сердцем за ваши труды. Браво».
Ч. КАВАЛЯУСКАС, ксендз,
п/о Ионишкис
Литовская ССР
«Я глубоко верующий христианин, жур-
нал приятно удивил Заинтересовали №
1 и 3».
П. Н. ПЕРЕПУСТ. Москва
«Мы, верующие православной церкви,
благодарны за ваши статьи».
г. Кременец Тернопольской области
«Хочется поделиться впечатлениями о
вашем № 10 за 1987 год. Понравилось
письмо католического священника и ваш
ответ. Доказать друг другу никто ничего не
сможет, но диалог — это уже хорошо.
Журнал читаем по очереди, в киосках не
достанешь. Да благословит вас Бог!»
С. А. ШИНДРЯЕВ, г. Таллин
«Вот и прочел последний номер журнала
о духоборцах... Ко мне приходило мно-
жество людей, чтобы выразить вам и ваше-
му журналу искреннюю признательность,
буквально из рук в руки переходили 2,
4 и 5 номера журнала».
В. В. КУЗНЕЦОВ,
с Гореловка Грузинской ССР
«Никогда не выписывала журнал, а на
этот раз выписала. Дело в том, что
в прошлом году я услышала внутренний
голос...»
В ЛАСКИНА, г. Николаев
«Я православный христианин, всегда
имел твердое предубеждение к вашему
журналу... Но вот прочитал 5 и 6 номера за
этот год, не могу не восхищаться. Столько
узнал об истории церкви, устройстве, сегод
няшнем состоянии... Сравнивая ваш жур-
нал с журналами Московской патриархии,
я бы сказал: ваш для верующих полезнее.
Может быть мои похвалы будут вам и не
в радость, понимайте как угодно... А я не
могу не высказать своей благодарности».
ДМИТРИЕВ, г. Нальчик
А теперь оценки читателей-атеистов:
«Журнал становится интереснее. В Каза-
ни купить невозможно. Я не являюсь
атеистом-профессионалом, хотя и читаю
атеистические лекции. Для преподавателя
подшивка журнала — хрестоматия уни-
кальных исторических документов, при-
годных для бесед на различные темы...»
В ЛОВЧЕВ, кандидат исторических наук,
г. Казань
«С удовольствием отмечаю творческий
рост журнала, в нем четко отражаются
фрагменты гласности и перестройки»
Н. АЛЕУТСКИЙ, доктор медицинских наук.
г. Архангельск
«Вы перестраиваетесь по-настоящему».
И. МОЗГОВАЯ, Ленинград
«Впервые прочитала Ваш журнал и сроч-
но оформила подписку. Покорил тем, что
взял за основу гласность... Конечно, не все
материалы в нем равнозначны...»
И СИЛЬВЕСТРОВА (по словам автора,
«технарь» по профессии)
«Журнал на многое открывает глаза.
Я думаю, что таким, как я, молодым
специалистам, он очень нужен».
Л ЦВЕТКОВА.
I Дубравка Днепропетровской области
«Когда пришел первый номер журнала за
этот год, подумала: случайно получился
удачный подбор материалов. Сегодня на
руках уже №4 - как раз то, что надо для
души и работы. Уверена - на следующий
год подпишутся все мои ученики».
Р. РЫНКИС, учительница, г. Кривой Рог
«Отмечаю положительные перемены в
журнале. Популярность вы завоевали пуб-
ликацией диалога — переписки литовского
ксендза и партийного работника... Огром-
ную неожиданность вызвала исповедь
Бориса Зудермана...»
В. ВАСИЛЬЕВ,
г. Даугавпилс Латвийской ССР
«Очень нравится журнал. Давно хотел
вам написать, но все стеснялся. Мне 60 лет,
и я готов подписаться на 60 лет вперед».
В ШИПУЛИН, Ставрополь
«Я бывший верующий, баптист. Благода-
ря вам я многое понял и осознал, в общем
пересмотрел свое мировоззрение».
А. КОМИССАРОВ,
Тюменская область. Новый Уренгой.
Все это наши, соотечественники. А что
говорит «заграница»?
«Я с уважением отношусь к «Науке
и религии», приезжая в Москву всегда
нахожи время для встречи и бесед в редак-
ции».
А. САНТИНИ. «Унита», Италия
«Способствуя развитию диалога между
верующими и неверующими, ваш журнал
выполняет миссию, достойную уважения».
Харви КОКС, профессор
теологии Гарвардского
университета США
«Несколько лет являюсь постоянным
подписчиком журнала. Из года в год он все
интереснее К сожалению, в Белграде
купить его невозможно».
Душам МАШ И К Югославия
«Считаю «Науку и религию» одним из
наиболее информативных и серьезных со-
ветских журналов».
Ф ЛЕКОНТ, кинорежиссер, Франция
«Читаю «Науку и религию» давно
Журнал интересен... Хотелось бы узнать,
сколько у вас английских читателей?»
Адриан РУМ, Англия
«Я историк. Думаю, журнал выиграет,
если в нем будут шире представлены
диалоги между верующими и неверующи-
ми. религиоведческие исследования за-
падных авторов».
А. КЛИПЕНСТАЙН, Канада
И в заключение письмо, полученное
в свое время в ответ на нашу публикацию:
«Разрешите поблагодарить за статью
«Утрени уже не было...» о трагедии в нашем
храме вследствие чего постигла нашу
Церковь полная ликвидация гитлеровскими
оккупантами.
Наша Церковь малая, но она также
с остальным народом страны внесла свой
посильный вклад в сопротивление, в свя-
щенное дело освобождения. И вы были
столь любезны, что своей статьей познако-
мили широкую общественность с мрачным
временем истории Чехословакии во время
насильственной оккупации немецкими на-
цистами всей страны. Желаю вам доброго
здоровья и больших успехов в многопо-
лезных ваших трудах в области публицис-
тики
С всесовершеннейшим уважением
Ваш ДОРОФЕИ. митрополит Пражский»
В последующих номерах редакция наме-
рена провести более детальный разговор
о будущем нашего журнала.
Надеемся н на ваше участие в нем.
3
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Бесконечность
— Можно ли сказать,
что в последнее время среди ученых,
да и деятелей культуры, явственнее
обозначился интерес к религии, а в
некоторых случаях и религиозные
настроения, искания?
поиска истины
Я знал человека, рассказыва i
Даниил Гранин в одном из давних
интервью нашему журналу, который
шнима гея биокибернетикой еще в
сороковых годах Ему крепко
доставалось как представителю
1женауки И меня тогда уже
поража ia его твердая вера, что
рано и iu поздно идеи кибернетики
восторжествуют. Человек
талантшвый. но робкии в делах
житейских, он становился
мужественным и непреклонным,
когда речь шла о его творчестве
Нравственную силу и уверенность
ему придавала прочная опора на
результаты многолетних
экспериментов и выводы
теоретической мысли.
В делах науки он не боялся идти
на конфликт с коллегами, потому
что раньше других познавал
истину, а познав ее, становился, я бы
сказал, ее пленником. Ему просто
некуда было деваться от своего
открытия. Одно время его уволили
из института, обвинили в идеализме,
прорабатывали, как могли. Но он
твердо стоял на своем и, хотя человек
он был болезненный и
впечатлительный, все житейские
неурядицы переносил с легкостью
удивительной. Потом идеи его
восторжествовали, труды стали
классическими в науке. Но он, как
говорится, не «забронзовел» и
остался таким же — робким,
застенчивым, обаятельным.
Специальный корреспондент
журнала Александр Романов
беседует с лауреатом Государственной
премии СССР Даниилом
Александровичем ГРАНИНЫМ
о личности ученого, о проблемах веры
и безверия.
Нашим читателям мы также
напоминаем, что именно на
страницах «Науки и религии» впервые
увидели свет публикации из таких
произведений писателя, как «Араго
и Наполеон», «Чужой дневник»,
«Картина», «Блокадная книга».
Фото А. Карзанова.
— Противостояние и
совмещение личности верующего и
ученого в одном лице — как Вы,
писатель, много лет посвятившии
художественному исследованию людей
науки, могли бы объяснить это?
— История науки дает немало приме-
ров, когда крупнейшие ученые являлись
в то же время верующими людьми.
Возьмем сравнительно недавний период.
Планк, Гейзенберг, Эйнштейн... Не будем
упрощать — конечно, они являлись не
церковно верующими, но имели свое
представление о силах «вне разума»,
о «высшем», что господствует над реаль-
ностью. Они по-своему мыслили об окру-
жающей действительности, о душе, о
смысле жизни. Немало таких ученых и в ис-
тории России. Возьмите Павлова, Филато-
ва.
Известный советский геолог меиен за-
метил, что есть теоремы Коши, Колмого-
рова, Пифагора, но нет теорем математи-
ческого института. Сам акт творчества
остается индивидуальным Открытие про-
исходит в мозгу одного человека
Я близко знал, к примеру, Александра
Александровича Любищева, крупного уче-
ного, занимавшегося биометрией, то есть
математизацией биологии. После него
остались работы по истории науки, по
генетике, эволюции, эмбриологии. При
этом он был интереснейшим философом
и человеком верующим
Или Павел Г ригорьевич Светлов, один из
крупнейших советских эмбриологов. Тоже
ученый-верующий.
В чем же дело? Почему вера мирно
уживается с научной практикой?
Надо сказать, сами ученые не раз
пытались ответить на эти вопросы. Инте-
ресные рассуждения на сей счет у Гейзен-
берга, есть у того же Любищева. Наука
у них не противоречит вере, так как
последняя выносится за пределы знаний.
И поскольку область непознанного практи-
чески бесконечна, вере в ней всегда
достаточно просторно. Может быть, в со-
знании ученого наука и вера мирно ужи-
ваются именно потому, что каждая из них
действует в своей собственной сфере.
Думаю, поэтому и попытки опровергнуть
постулаты веры ссылками на какие-то
научные достижения зачастую не воспри-
нимаются как доказательные
— Сошлюсь на мои встречи и беседы
с видными биофизиками (не буду пока
называть их фамилий, поскольку предрас-
судки наши еще достаточно живы и
опасны) Скажем, один из крупнейших
наших цитологов, специалистов в области
клетки, совершенно убежден, что у клетки
существует душа, то есть понятие это для
него — реальность уже на клеточном
уровне
Откуда берутся, как возникают по-
добные убеждения? Как вообще
складываются религиозные воззрения у
естественников? Насколько я мог понять,
это часто происходит, произрастает из
удивления перед гармоничным, каким-то
чудесным устройством жизни. Порази-
тельная взаимосвязь, слаженность кроется
в проявлениях всего живого вокруг, застав-
ляет некоторых ученых сомневаться в воз-
можностях эволюционного принципа в
биологии, физике, химии, сомневаться
в самой сути естественных законов, ибо не
все может быть ими объяснено, не все
укладывается в нынешние принципы позна-
ния. Удивление, изумление перед красо-
той и гармонией макро- и микромира
невольно приводят ученых, чем глубже
они погружаются в существующую реаль-
ность, к мыслям о первопричинах, о «пер-
вом толчке», о начале и конце мира, то
есть к мыслям о каких-то высших силах,
непознаваемых законах, понятиях души,
неземного происхождения жизни. Думаю,
это идет не от беспомощности науки, не от
ее бессилия. Очевидно, природа данного
явления лежит глубже. По мнению таких
исследователей, имеются непостижимые
силы, определяющие существование разу-
ма, первичного сознания во всей материи.
Мне кажется, ко всему этому нужно
подходить во всяком случае крайне осто-
рожно. Нельзя не считаться с тем, что
подобные представления возникают и у
некоторых крупных ученых, известных
экспериментаторов, исследователей. Гру-
бый, примитивный материализм, кото-
рым мы нередко привыкли оперировать,
оказывается на деле беспомощным и
ровным счетом ничего не объясняет.
Развитие цивилизации, техники, в частнос-
ти, роботов, компьютеров, рост, казалось
бы, могущества человека на деле приво-
дит, как это ни парадоксально, к тому, что
более настоятельно, более рельефно воз-
никает проблема человеческой души.
И проблема эта весьма болезненна. Вдру
оказалось, что при всей силе, при всем
космическом росте проблемы внутренне-
го мира проявились с особой остротой:
совесть, движения души, не укладывающи-
еся в рациональные предписания, рамки,
расчеты.
Человек все четче и неожиданнее
обнаруживает существование, кроме па-
мяти, каких-то электронных быстро-
действий, совершенно особый мир внутри
4
себя, мир ожиданий, предчувствий, томле-
ний, грусти, мир иногда совершенно
необъяснимых поступков
Ко всему этому приходится сталкиваться
с природой, которую человек совершенно
беспощадно корежит, нарушает, хищни-
чески использует. Подобная оккупация
вдруг выявила весьма тонкие связи в при-
роде, буквально интимные ее взаимосо-
стояния, заставившие нас по-иному отно-
ситься к месту человека в природе.
Христианство приучало — человек яв-
ляется венцом природы. Какой-то период
это играло свою положительную роль.
Ныне же, я думаю, убеждение, что чело-
век — венец природы, а она — лишь для
человека, для его обслуживания,— такое
убеждение играет сугубо отрицательную
роль. В этом смысле язычество было как
бы более гуманным, по отношению к при-
роде во всяком случае, ибо признавало
равноправие всех богов, а человек мыслил-
ся лишь частью природы
На нынешнем этапе развития такое
представление более справедливо. Чело-
век обладает лишь преимуществом силы,
не более того. Мы теперь понимаем, что
человек устроен, может быть, не более
совершенно, чем любое из существ в окру-
жающем мире Самомнение человека
ничем не оправдано. Думаю, что взгляд
homo sapiens на самого себя, на свое место
в живом царстве, благоговение к природе,
ко всему живому, столь прекрасно устро-
енному,— это заставляет иначе относиться
к цивилизации, способствует возникнове-
нию новой философии человека, новому
пониманию самого себя.
— Сегодня наука —
безбрежный океан непрерывно
меняющихся истин, революционных
скачков в познании мира, когда
рушатся, казалось бы, самые
незыблемые истины. Нередко ученые
переживают такую ломку глубоко
личностно, остро, драматично. Ломка
стереотипов — процесс болезненный,
агрессивный. Иногда это приводит к
психологической «сшибке», поиску
чего-то устойчивого, постоянного
в русле религиозных ценностей.
Так ли это?
— В науке чаще всего происходит не
крушение истин, а их расширение. Конеч-
но, какие-то ценности меняются, точнее,
терпит изменения ценностная шкала. Еще
недавно человек считал: чем больше
знаний, тем лучше. Другое дело, как они
будут употреблены. Сам процесс познания
считался бесспорным признаком прогрес-
са, необходимым для развития челове-
чества.
Я думаю, сегодня на этот процесс
должны быть наложены определенные
ограничения. Мы подошли к таким пре-
делам, когда начинаем добывать знания
опасные. Необходимы прежде всего
ограничения нравственные, идет ли речь
об использовании генной инженерии, или
о новациях, связанных с энергией частиц.
Сейчас, как никогда раньше, возникает
проблема нравственности ученого, его
личных требований к себе, забот о душе
и своем назначении. Важно не переступить
черту, не поддаться искусу любознатель-
ности!
Это чрезвычайно тяжкая проблема для
ученого. Остановить себя в какой-то мо-
мент, понимая, что ты преступаешь допус-
тимое в процессе познания. Библейская
легенда о яблоке с древа познания сегод-
ня приобретает, может быть, более акту-
альный смысл, чем когда-либо. Нельзя
бездумно отдаваться азарту открытия Ho-
Д. Дюрер. Святой Иероним. 1514.
вого. Ибо есть области, и сейчас это
совершенно ясно, в которые человек не
может и не должен вступать при су-
ществующем порядке вещей, нынешнем
противостоянии сил, при наличии возмож-
ностей ядерной катастрофы. Здесь роль
ученого как носителя определенной
нравственности становится чрезвычайно
важной, решающей для судеб цивилиза-
ции. Все сводится к каким-то запретам,
внутреннему, духовному миру человека,
зависит от того, что во мне находится «да»
и «нет», «можно» и «нельзя»,— чем они
определяются, откуда возникают? Даны ли
свыше, от рождения или продукт воспита-
ния? Проблемы эти из абстрактных стали
сегодня чрезвычайно насущными.
Когда-то, после первых испытаний атом-
ной бомбы, Энрико Ферми произнес: «Не
надоедайте мне с вашими терзаниями
совести! В конце концов — это превосход-
ная физика!»
Пример этот чрезвычайно печальный и,
к сожалению, распространенный, когда
азарт, ажиотаж, жажда исследователя сме-
тает все нравственные запреты. Сегодня
так уже нельзя, это гибельно, необратимо.
В нынешнюю оценку Ферми как великого
ученого, в знаменатель его достижений
непременно должно вводиться нравствен-
ное начало.
Могу привести пример последнего вре-
мени. Скажем, исследования, связанные
с дельфинами. Способности животных
решили использовать в военных целях.
Этологов, занимающихся поведением жи-
вотных, подключили к некоторым страте-
гическим программам. Несколько ученых
отказались участвовать в этих програм-
мах — по нравственным убеждениям. Яв-
ление это еще не частое в науке.
Должен сказать, меня больше привле-
кают не биографии великих людей, ко-
торым нередко трудно следовать, а жизнь
и поступки рядовых научных сотрудников.
Скажем, заместитель главного инженера
по возведению ленинградской дамбы до-
бровольно ушел со своего поста на
низкооплачиваемую должность. Я спро-
сил, почему он так поступил. Потому,
услышал в ответ, что считаю возведение
дамбы не на пользу людям, а во вред
— Много толков идет
по поводу того, что в связи с
неуклонным ростом науки будет
неуклонно возрастать
интеллектуальное, научное начало.
А как быть с духовным, нравственным
началом? Ведь жизнь не раз
показывала, к сколь трагичным, а
иногда и гибельным последствиям
может привести его отсутствие. Но
при этом можно ли остановить мысль?
— Наверное, нельзя остановить мысль.
И это очевидно. Но каждый человек может
для себя ввести какие-то ограничения,
в силу собственной морали и ответствен-
ности.
Дело, однако, заключается в том, что
мысль, познание многовариантны. Наука
способна развиваться разными путями,
какие-то из них могут оказаться за-
претными, ненужными, вредными. Ведь
имеется выбор. Наука не имеет права
хищнически использовать любые возмож-
ности. Очевидно, в современном мире,
который во многом плохо управляем,
который может оказаться подчиненным
каким-то эгоистическим, человеконена-
вистническим идеям, наука должна иметь
известные ограничения, табу.
Думаю, в связи с этим встает вопрос
о гуманизации науки. Особенно важен он
применительно к образованию, к тем
истокам, от которых начинается процесс
познания окружающего мира.
Чему сегодня учат в школах? Ребенка
с первых шагов приучают к мысли, как
могуч человек, его разум, как не су-
ществует ничего непреодолимого, как
великолепны успехи науки, техники. Но
правильно ли воспитывать в ребенке сле-
пое преклонение перед наукой? Уверен,
совершенно неправильно. Здесь какая-то
непозволительная подмена. Настоящий
ученый преклоняется перед природой, ее
могуществом, перед ее красотой, тайной.
Это совершенно другое благоговение и
преклонение.
Человек должен ощущать себя части-
цей окружающего мира. Этому благогове-
нию, восхищению природой не учат, а
воспитывают в детях самомнение, самодо-
вольство. Поэтому и приходится сталки-
ваться с последствиями — тяжелейшими
явлениями нарушений экологического рав-
новесия. А иначе откуда берутся «спе-
циалисты», не желающие ни с чем считать-
ся? Повернем реки, построим дамбы,
сроем горы, затопим деревни, возведем
2 «Наука и религия» № 9
5
комбинаты! Все для нас, все на потребу!
Люди, воспитанные на принципе, что
природа в итоге умнее, природа всегда
права, что нельзя безнаказанно ничего
в ней нарушать, такие люди относятся как
к проблемам экологии, так и ко всем
другим, совершенно иначе. Человек дол-
жен, обязан жертвовать сегодня своим
комфортом ради природы. Должна брать
верх другая психология, другая система
отсчета. Мы должны переходить в другую
систему координат нашей жизни.
Тем не менее, несмотря на все призывы,
сегодня по-прежнему не считаемся с при-
родой ради своих корыстных интересов.
И корысть, будь то корысть ученого,
техника, строителя — она сегодня тор-
жествует. Корысть эта довольно низменная
и примитивная — ради ученых званий,
ради власти, ради сиюминутных чес-
толюбивых и тщеславных желаний и под-
крепляющих их материальных благ.
— Даниил Александрович,
сегодня за одним столом нередко
можно видеть деятелей науки и
церкви, обсуждающих насущные,
острейшие проблемы современности
Как вы к этому относитесь?
— Мне приходилось также за одним
столом с деятелями церкви участвовать
в работе некоторых конференций, симпо-
зиумов. Оказывается, ряд вопросов вол-
нует нас совершенно одинаково, будь то
борьба за мир, или искоренение каких-то
негативных явлений — пьянства, туне-
ядства и т. д. В этой связи коснусь лишь
милосердия.
Я убежден — эта проблема занимает
и нашу церковь. Моя статья в «Литератур-
ной газете» была внимательно прочитана
в церковных кругах, в чем я убедился
лично. С большим огорчением я узнал, что
в плане милосердия инициатива церкви
запрещена. Правильно ли это? В Польше,
например, мне довелось побывать в госпи-
талях, которые обслуживают монахини,
ухаживают за больными, видя в этом свое
призвание.
В год 1000-
летия крещения Руси мы особенно
пристально всматриваемся в свою
историю. Что могли бы вы сказать
по этому поводу?
— Церковь сыграла немалую роль в ис-
тории нашего народа, в истории России,
в деле смягчения нравов, в деле образова-
ния, воспитания. Правда не может быть
частичной, она должна быть полной. Изу-
чая историю, нельзя обходить и проблемы
духовные, нельзя механически вычерки-
вать имена церковных деятелей, которые
не все были фанатиками и мракобесами.
В Новгороде — памятник 1000-летия
России. Среди десятков скульптурных
изображений есть апологете) самодержа-
вия, есть великие наши писатели, просве-
тители. Есть и деятели церкви, среди
которых те, кто по достоинству имеют пра-
во на память, на место в нашей истории.
Возвращение
личности
Г. Назлоян,
О том, что искусство психотерапев-
тично по своей сути, известно давно,
и медицина во все времена пыталась
это использовать. Психоэстетотерапия
включает многие виды искусства, но
наиболее изученным и универ-
сальным является музыкотерапия.
Достаточно отметить, что учение о ле-
чебном воздействии музыки («ятро-
музыка») появилось уже в конце XVII
столетия. Однако как в древних ри-
туальных действиях, так и в совре-
менных приемах использования
музыки, живописи, поэзии, сценичес-
кого искусства во врачебных целях,
речь идет преимущественно о воз-
действии на больного конечного про-
дукта творческой деятельности. В на-
шем методе терапевтический эффект
вызывает не только конечный резуль-
тат но и сам процесс творчества.
К началу первого сеанса готовится
полукруглая или круглая гладкая
пластилиновая масса. Впоследствии
черты лица как бы «выбираются» из
Окончание. Начало в № 8.
ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ
материала, то есть удаляется лишнее.
Внимание присутствующих с первых
же минут приковано к портрету боль-
ного, и нет необходимости опреде-
лять тему диалога или реплик. Почти
сразу выявляются и черты отличия
данного метода от профессионально-
го искусства — поскольку портрет не
является самоцелью, врач-скульптор
делится с присутствующими своими
планами, переживаниями, сомнени-
ями. Он настолько открыт для крити-
ки и контроля даже со стороны
случайных посетителей, что его авто-
ритет мастера разрушается с такой же
скоростью, как и авторитет врача. Так
создаются предпосылки для сов-
местного творчества.
Интуитивно определяемое время
окончания работы над скульптурой
вместе с фотографированием и порой
долгими паузами, вызванными обсуж-
дением достигнутого, в совокупности
определяют ритуал излечения. Ста-
дии формирования скульптуры, запе-
чатленные на слайдах, в дальнейшем
становятся опорными пунктами для
описания текущего состояния, дина-
Фото А Полякова.
6
мики психического статуса больного.
Любопытно, что незавершенный порт-
рет привлекает значительно большее
внимание присутствующих, чем за-
конченное произведение. В этом тоже
коренное отличие метода от профес-
сионального искусства, где эмоци-
ональное обсуждение, как правило,
имеет место не в процессе, а после
окончания работы над портретом.
Нередко врач после трудной ра-
боты остается наедине с незавер-
шенным портретом, долго созерцая
его, лишь притрагиваясь, но ничего не
меняя. В эти непредусмотренные часы
он крайне интенсивно (пик напряже-
ния) переживает состояние больного,
взятые на себя обязательства, что
может сопровождаться чувством
опустошенности, беспомощности пе-
ред поставленной задачей. Как след-
ствие иррациональной работы интел-
лекта (инерция прерванного диало-
га) появляются на той же доске нари-
сованные пластилином некие обоб-
щенные образы, которые в итоге
облегчают продвижение следующего
этапа. Этот «сон» возле мольберта
способствует накоплению творческо-
го потенциала для сложной проце-
дуры лечения.
Таким же иррациональным можно
считать и пребывание больного наеди-
не со своим незавершенным портре-
том. В подобном созерцании он
может пребывать по нескольку часов,
не обращая внимания на то, что он
остался один. Что происходит с
больным в эти часы, не удается
выяснить — можно лишь подсмот-
реть, как он «привязывается» к сво-
ему рождающемуся образу. Об этом
больной не только не хочет, но и не
может высказаться, хотя со стороны
кажется, что он довольно энергично
общается со своим портретом. Плас-
тилин как бы на равных участвует
в диалоге пациента и врача, «говоря-
щая» скульптура становится катализа-
тором лечебного процесса.
Достигнутое на предыдущем этапе
изображение с легкостью разрушает-
ся, уступая место новой версии. Тем
не менее произведение искусства
развивается по своей внутренней ло-
гике, вмещая в себя все промежу-
точные этапы. В эстетически завер-
шенном виде оно выявляет то общее,
что было свойственно всем стадиям,
как бы отражая основной мотив ра-
боты — излечение больного. Указан-
ная идея косвенно подтверждается
в еще не до конца понятом мной
явлении, имеющем место во время
портретирования больных. Завершая
портрет уже фактически здорового
человека, я каждый раз вынужден
осознавать, что выражение на портре-
те, или, как говорят художники,
настроение, соответствует тому, когда
больной впервые обратился за по-
мощью, а глина еще представляла
собой аморфную массу. Это так же
парадоксально, как и идея, заложен-
ная в «Портрете Дориана Грея»
Оскара Уайлда, где портрет стареет
под действием времени и порочных
страстей натурщика, сохраняя ему
вечную молодость и ангельскую кра-
соту.
Иными словами, если в большом
искусстве многое приносится в
жертву ради достижения эстетическо-
го идеала, то в нашем случае улучше-
ние психического состояния модели
стоит на первом плане, а эстетические
задачи при всей их полноте играют
лишь подчиненную роль. Только при
таком подходе творческий процесс
(святая святых художника, его
собственность и табу для окру-
жающих) начинает «питать» сеансы
психотерапии.
Итак, в моем воображении форми-
руется образ врача, создающего в
процессе врачебной деятельности
произведения искусства. Последнее
должно быть исполнено в реалисти-
ческой манере на достаточно высо-
ком профессиональном уровне. Не-
пременное присутствие портретного
сходства диктуется необходимостью
реконструкции зеркального двойника
больного, что приводит к нормализа-
ции диалога с самим собой и возоб-
новлению отношений с внешним ми-
ром Даже здоровый человек, обре-
тая свой образ в произведении
искусства, испытывает сильное волне-
ние. У больного же, когда происходит
прорыв аутизма,— отстраненности от
внешнего мира,— это состояние про-
текает так бурно, что кульминацию
он, как правило, забывает.
Однако не только эмоциональный
контакт, дезактуализация болез-
ненных переживаний преследуются
в процессе портретирования, необхо-
димо помочь больному заново «про-
жить» весь более или менее дли-
тельный отрезок времени от первых
признаков искаженного восприятия
себя до момента обращения за вра-
чебной помощью. Этот «вакуум»,
сохраняющийся при фармакотерапии,
обрывает связь между прошлым и на-
стоящим, препятствует экстраполяции
в будущее. Он заполняется в сеансах
психотерапии методом Скульптурного
портрета.
Перед началом многочасового из-
нурительного лечебного процесса
врачу необходимо сформулировать
проблему, которую предстоит ре-
шать, выбрать так называемую «ми-
шень», на которую направлена тера-
певтическая активность При таком
обобщенном подходе, как ре-
конструкция зеркального образа
больного, невозможно ориентиро-
ваться на отдельные симптомы,
симптомокомплексы и даже нозоло-
гические формы психического страда-
ния.
Необходимо отметить, что портрет-
ная терапия мыслится внутри клини-
ческого подхода как попытка развить
и даже реабилитировать его в усло-
виях психофармакологической ре-
волюции Ведь именно клинический
метод создал уникальный инструмент
для получения словесного портрета
больного, а также для моментального
среза его текущего состояния В осно-
ве клинического метода — принцип
систематизации патологического ма-
териала. Это один из самых емких
резервуаров для накопления инфор-
мации о больном, которая необходи-
ма для того, чтобы врач-портретист
«пропитался» болезнью своей моде-
ли, чувствовал динамику его состоя-
ния. Переводя акцент на более общую
проблему в процессе терапии, я боль-
ше нуждаюсь в использовании пси-
хиатрических и неврологических зна-
ний, чем типичный врач в стационаре,
для которого вполне достаточно не-
большого количества информации из
последнего справочника, а также но-
вейших данных по применению пси-
хотропных средств. Все остальное —
роскошь и может украсить лишь досуг
практического врача. Пожелтевшие
и неиздающиеся труды оте-
чественных и зарубежных психиатров
прошлого повышают лишь класс
представителя научной психиатрии,
являются подсобным материалом для
лекций и докладов. Иными словами,
в процессе многочасовой работы с
больным хотелось вернуть клиничес-
кому методу утраченную интуицию за
счет решения проблемы личностных
расстройств, ибо, как справедливо
сказано Минковским в 1925 году,
«идея, преобладающая в психозе, не
является производящей».
2*
7
Явлением, общим для многих пси-
хических и психосоматических (если
собственно соматические сущест-
вуют) болезней, является различная
степень замкнутости, отгороженнос-
ти, снижения творческой продуктив-
ности. При шизофрении и шизо-
френоподобных состояниях — это
аутизм, прекрасно описанный Е. Блей-
лером, в дальнейшем неправо-
мерно суженный, доведенный до
степени ординарного симптома, ско-
рее из-за узости анализируемого
клинического материала. Феномено-
логия, описанная Блейлером, имеет
место и в случаях неспецифических,
вплоть до пограничных, а элементы
коренятся в нормальной психике, как
это считал сам автор. «Таким обра-
зом,— пишет он в своей знаменитой
статье,— аутистическое мышление и в
будущем будет развиваться парал-
лельно с реалистическим и будет
в такой же мере содействовать созда-
нию культурных ценностей, как и по-
рождать суеверия, бредовые идеи
и психоневротические симптомы»1.
Таким образом, «мишенью» для тера-
певтического применения портретно-
го искусства являются различные
формы отчуждения. Именно это явле-
ние выдвигается на первый план
портретной психотерапии, остальные
же отступают на периферию, не
подлежат обсуждению, хотя и сохра-
няют свое значение во всей полноте.
При таком подходе появляется необ-
ходимость пересмотреть некоторые
установившиеся в современной кли-
нике представления, отказаться от
ряда приемов и навыков Меняются
также и точка зрения на течение
психических болезней, критерии пси-
хического здоровья и тем самым на
необходимость применения тех или
иных психотропных средств.
Сами больные, как выяснилось
в течение многих лет совместной
работы, предлагают две основные
версии отчуждения. Игорь Ш., напри-
мер, считает, что сначала человек
выбывает из пространства и времени,
перестает существовать для других
людей, быть полезным для общества,
творчески продуктивным, перестает
любить и страдать. В результате
«засухаривания» мозга происходит
как бы «окукливание» личности с ут-
ратой образа самого себя, своего
лица. Это несколько вычурное опре-
деление отражает желание больного
вернуть себе прежнее состояние,
прежнюю «форму». Такого рода от-
чужденность более свойственна
людям, осознающим начало болезни,
критически относящимся к своему
текущему состоянию. Иногда эта
жажда возврата своего утраченного
лица относится не к какому-то обще-
му состоянию до болезни, а к опреде-
ленному яркому отрезку времени из
собственной жизни, вокруг которого
произошло обобщение представле-
ния о себе самом. «Для меня время
остановилось,— го арила Ирина Р.,—
я как сломанные часы». А накануне
было состояние просветленности,
ощущения знания законов мирозда-
ния и себя — именно это состояние
она и хотела вернуть с помощью
врача. Приведу несколько строк из
стихотворения Ирины Р., написанного
после излечения. «Где была я в те
дни? Я исчезла, исчезла... Кроме
мысли тупой ничего в сердце не было,
целый день и всю ночь колотилось
в виски. Между прошлым и будущим,
землею и небом кто-то страшный
зажал меня в злые тиски... Как теперь
буду жить? Все на части расколото.
Куски времени мне не собрать воеди-
но...».
У других больных более скромные
требования, однако все они ищут
возврата утраченного «Я».
Валя Ш. во время портретирования
просила: «Помогите мне родиться.
Я еще не родилась. Вы мне поможе-
те?» Это очень точное определение
для целого ряда явлений, смысл
которых заключается в расстройстве
образования «Я». Для таких больных
все в будущем — «сначала вылечусь,
потом... буду бороться со своими
недостатками... займусь спортом...
буду закалять свою волю.. » Инна М.
на вопрос, сколько же ей лет, ответи-
ла: «Мне три года». А через несколь-
ко сеансов с юмором: «Теперь две-
надцать». Не всем больным
свойственно ощущение своей незре-
лости, но все без исключения такую
незрелость проявляют: и в понятиях,
и в представлениях, и в поступках —
это хорошо описано в психиатричес-
кой литературе. Хотелось бы доба-
вить, что они обнаруживают значи-
тельный дефицит переживаний
собственного лица, крайнюю ску-
дость в знании своей внешности.
Очень часто у таких людей отчужде-
ние возникает при встрече с серь-
езными, «взрослыми» проблемами.
За время работы над портретом они
как бы наверстывают упущенное в те-
чение многих лет своего развития.
Работа над портретом — фактичес-
ки первое яркое событие в их жизни,
начало творческой биографии. При
встрече с житейскими трудностями
они мысленно возвращаются к началу
своего диалога с внешним миром.
Как уже отмечалось, определение
нозологической формы болезненных
переживаний, хотя оно и проводится,
не играет решающей роли во время
работы над портретом больного. Та-
кого рода определения при данном
подходе имеют лишь прогностичес-
кую (теоретическую) ценность и как
единственную возможность сравнить
результаты лечения. На них трудно
ориентироваться, потому что в основе
нозологической диагностики лежит
понятие о процессуальное™ психи-
ческих заболеваний. Это понятие
скорее всего возникло в период
становления психиатрии как науки,
когда открытие возбудителей инфек-
ционных заболеваний (в том числе
и прогрессивного паралича) «вселяло
надежду на открытие причин всех
болезней». Подобный «линейный»
подход подвергался критике и у нас,
и за рубежом, однако полностью
освободиться от него не удалось.
В руках ученого-психиатра он полу-
чает относительно безвредную фор-
мулировку и служит опорой для
новых обобщений, для развития те-
ории. Здесь условность этого понятия,
его метафоричность еще заметна, ибо
ясно, что совокупность симптомов,
как то, чего нет в нормальной психике,
не может процессуально развиваться.
Не исключено, что с умножением
наших знаний в ряде случаев (там, где
не будут найдены физико-химические
признаки такого процесса) от этого
понятия придется отказаться. Однако
на уровне практической психиатрии,
где научные представления либо от-
вергаются, либо становятся догмой,
оно приносит огромный вред.
Возникает миф о процессуальности
всех психических заболеваний — миф
о некоем тайном, мрачном эндоген-
ном процессе, который продолжает
развиваться, несмотря на все старания
врачей. В стенах психиатрического
отделения этот диагноз звучит боль-
ше как приговор, чем как открытие,
которое должно помочь вылечить
человека, избавить от страдания. Это
понятие подавляет терапевтическую
активность врача, поглощает гуманис-
тическую направленность психиатрии.
Если болезнь неизлечима, остается
только снять остроту, сделать больно-
го социально неопасным, а для этого
не обязательно тщательно анализиро-
вать характер переживаний, свойст-
венный данному индивиду и только
ему. Понятие эндогенного процесса
породило и недостаточно оправдав-
шую себя систему учета, госпитализа-
ции, трудоустройства, амбулаторного
лечения. Эти и другие вопросы можно
было бы подробно обосновать, но
чтобы не уходить в сторону, приведу
самый незначительный пример из
психиатрической практики. В статисти-
ческих картах, которые непременно
заполняются на каждого выписанного
больного, при любой степени тера-
певтического успеха категорически
запрещается писать «выздоровление»
(эта привилегия остается лишь за
больными алкогольным делирием),
разрешено только слово «улучше-
ние»; в переписке, где нежелательно
выставлять точный диагноз из гума-
нистических соображений, пишется
«хроническое душевное заболева-
ние». Понятие о процессе прочно
утвердилось за шизофренией (самой
неопределенной болезнью или груп-
пой болезней), поиски физико-хи-
мических, анатомо-физиологических
«Аутистическое мышление», А4. 1926
8
коррелятов которой один за другим
терпели крах.
Но даже если доказательство про-
цессуальное™ этого и ряда других
заболеваний возможно когда-нибудь
в будущем, то тогда же будут
открыты эффективные способы лече-
ния через воздействие на соматичес-
кую сферу. Сейчас же идея опере-
жает действительность, нравственный
принцип, конкретизированный для
данного случая, разрушается от такой
неопределенности, гипотетичности.
Убеждение в процессуальности забо-
левания заставляет врача прибегать
к мерам предосторожности и после
проведения курса — работа с
родственниками, переписка с диспан-
сером и правоохранительными орга-
нами. Такая перестраховка обездви-
живает больного на протяжении всей
оставшейся жизни, мощно деза-
даптирует в обществе «нормальных»
(фактически — незапятнавших себя)
людей. Больной и его родственники
становятся социально неполно-
ценными людьми, вынужденными
что-то скрывать. Так возникает целая
армия «людей из подполья», оборот-
ная сторона человеческого общества.
При возникновении побочных явле-
ний в результате применения нейро-
лептиков в стационаре, а затем и в ам-
булаторной практике, учитываются
лишь неврологические симптомы, а
психические отправляются в черный
ящик загадочного «эндогенного про-
цесса», который все чаще принимает
атипичные формы. В некоторых слу-
чаях обострение может быть спрово-
цировано (или даже сформировано)
лекарствами, так как нет и не может
быть контрольной группы из нор-
мальных людей. Достаточно принять
минимальную дозу самого невинного
психофармакологического средства,
чтобы почувствовать на себе
расстройство адаптивных возможнос-
тей, особенно их творческого уровня,
что свидетельствует о необходимости
более осторожно и аргументированно
назначать лекарства. Таким образом,
недостаточная разработанность поня-
тия процессуальности ряда психичес-
ких заболеваний порождает пороч-
ную убежденность в ее существова-
нии. Возникает феномен внушенного
процесса, который надо лечить, если
даже нет явных внешних признаков
заболевания
Понятие о процессе препятствует
и проведению портретной терапии.
Так как портрет имеет начало, этапы
и конец, го итогом лечения должно
быть не улучшение, а выздоровление
больного. Внутри портретного време-
ни, а не вне его, делается все
возможное, чтобы избавить пациента
от болезненных переживаний. Все,
что может беспокоить больного по-
том, рассматривается как нечто но-
вое, неродственное предыдущему
состоянию. Оно подлежит самосто-
ятельному анализу и если выходит за
пределы нормы, то нуждается в соот-
ветствующей терапии. Критерием же
излечения при портретировании яв-
ляется выход из аутистического со-
стояния, восстановление или развитие
творческих способностей.
При достижении истинного осозна-
ния своих переживаний как болез-
ненных больной приобретает мощные
защитные механизмы — появляется
как бы мудрость в болезни. По
мнению многих бывших пациентов,
они более стойко выдерживают труд-
ности, чем люди, никогда не болев-
шие.
Выход из аутизма начинается с
первых же минут работы над портре-
том. Пусть внутренний мир больного
П Пикассо. Художник и модель
недоступен врачу, но ведь лицо его
открыто. Существует множество спо-
собов понимания внутреннего состоя-
ния человека через внешние проявле-
ния. Однако портретное искусство
пока еще не имеет себе равных.
Первые признаки смущения, нелов-
кости (так хорошо знакомые профес-
сиональным портретистам) вызывают
у врача надежду, оптимистические
прогнозы, его уже не отпугивают от-
дельные признаки душевного заболе-
вания: терапевтический азарт уже
невозможно остановить, пока не про-
бьется «брешь» в аутизме, пока не
начнется свободное, истинно духов-
ное общение. Периоды скованности,
даже самоуглубленности больного,
которые в начале работы можно было
бы интерпретировать как еще боль-
ший уход в себя, на самом деле
оказываются мучительным поиском
контакта с врачом; нелепые
высказывания — это пробы и ошибки
на пути к достижению истинного
контакта с человеком, в руках которо-
го самое главное — его лицо. Иногда
сеансы проходят при полном
обоюдном молчании, но это затишье
перед важными событиями.
Со временем существование внут-
ренней связи с лечащим врачом уже
не вызывает сомнений. Особенность
такой связи лучше всего иллюстри-
руется многочисленными примерами
«двойного» общения, когда больной
ведет обычную «светскую» беседу
с присутствующими, а с врачом —
тайную, духовную. Такая структура
проскальзывает и при типичном кли-
ническом разборе, когда больной
признается и говорит о том, что
усиленно скрывал, не ощущая при-
сутствия посторонних.
Оставаясь недоступным при обще-
нии с родственниками, больной не-
ожиданно сильно привязывается к
врачу-портретисту, ищет общения с
ним, нередко и конфликтов. Больные
становятся порой крайне пункту-
альными, тщательно готовятся к нача-
лу очередного сеанса, торопят своего
опекуна, испытывают волнение перед
приходом. Иногда они составляют по-
дробный план беседы с врачом, что
свидетельствует о продолжающемся
диалоге уже вне реального контакта.
Инерция этого диалога нередко про-
должается и после курса лечения, на
протяжении месяцев и лет, как бы
оберегая больного. Примерно то же
самое происходит и с лечащим вра-
чом.
Указанные явления особенно отчет-
ливы, когда из-за чрезвычайных об-
стоятельств курс лечения прерывает-
ся. Состояние больного может на-
столько обостриться, что его удается
купировать лишь в условиях стациона-
ра. Однако и после успокоения он
продолжает «бредить» врачом и
скульптурным портретом. Таким об-
разом, обострение проистекает не
в русле болезненных переживаний,
а представляет собой новое состояние
с новым содержанием. Сергей С.,
работа с которым была прервана по
независящим обстоятельствам, при-
ходил к врачу, когда его не было
дома, просил разрешения посидеть
в комнате с портретом, не отрываясь,
смотрел и уходил лишь при напомина-
нии. Валя Ш. с той же судьбой, уже
находясь в больнице, писала своему
другу, что у нее есть шанс спастись,
так как у доктора в Москве она
оставила часть своей души, и он
сохранит ее до выписки из больницы.
Светлана Л. ушла из дома, жила
в среде уличных художников, много
рисовала, чтобы, как потом она выра-
зилась, преодолеть тоску по сов-
местной работе над портретом.
Такого рода привязанность не яв-
ляется чем-то постоянным, оно имеет
свое развитие и финал. По мере
3 «Наука и религия» № 9
9
продвижения портрета как произве-
дения искусства возрастает критичес-
кое отношение к врачу, а также
стремление привлечь в сферу своих
отношений все новых и новых
людей. Этому невольно способствует
и сам врач, который по мере прибли-
жения к завершению как бы стряхи-
вает с себя этот «сон» и желает
вернуться в свой мир — к семейным
и профессиональным обязанностям,
да и просто отвлечься, подумать,
почитать. Оттенок взаимного разоча-
рования не мешает сохранить теплые
чувства товарищества, воспоминаний
о пройденном пути.
Таким образом, вместе с выходом
из аутистического «плена» путем соз-
дания контакта с одним лицом расши-
ряется и сфера приложения этой
новой или обновленной способности,
вырабатывается навык неформально-
го общения, то есть восстанавли-
ваются творческие функции психичес-
кой активности. Ибо именно твор-
чество является истинным критерием
выздоровления, а не работоподобная
деятельность, нуждающаяся в надзо-
ре и нейролептическом блоке питания
и способная выразиться лишь в моно-
тонном непрофессиональном труде
Можно было бы разработать развер-
нутую схему психических расстройств
в связи с нарушением определенных
механизмов творчества, попытаться
пересмотреть стереотипы относи-
тельно гениальности и помеша-
тельства, однако категориальный ап-
парат современной психологии не
созрел для решения указанных про-
блем с той ясностью, которая необхо-
дима для лечения душевнобольных.
Что же происходит с галлюцина-
циями, бредовыми и навязчивыми
состояниями, которые как бы игнори-
руются собеседниками в процессе
портретирования? Именно на этих
переживаниях поначалу фиксировано
внимание больного, на них растрачи-
вает он свои силы. Постепенно, как
отмечалось, фиксированность ослабе-
вает по двум видимым причинам. Во-
первых, иллюзия вечности общения
создает у больного уверенность, что
к «основным» своим вопросам он
может вернуться в любое время, как
только пожелает. Во-вторых, в каждой
болезни существует весьма ограни-
ченный набор переживаний, на ко-
торые фиксировано сознание пациен-
та. За время лечения портретируемый
успевает многократно повторяться —
это вызывает недовольство у при-
сутствующих, а у врача — откровен-
ное пренебрежение, иронию и даже
агрессивное поведение, так как по-
добные повторы разрушают ту осо-
бую сосредоточенность, которая нуж-
на для воспроизведения деталей
лица.
Со временем больной привыкает
терпеть столь «оскорбительное» от-
ношение к своим неординарным
мыслям и чувствам и с целью вернуть
прежний статус идет на компромиссы,
пытается приспособиться к вкусам
аудитории, вести беседу на темы,
которые раньше ему трудно давались.
Возникающие иногда конфликты по
этому поводу врач пытается преодо-
леть весьма примитивными формула-
ми: «Я ненавижу твою болезнь и
люблю тебя... У меня ничего не
получится, если ты все время будешь
повторять эти непонятные мысли,
постарайся хотя бы лучше их опреде-
лить» и т. п Нередко активность
больного в отношении патологических
переживаний настолько велика, что он
направляет все усилия на расшифров-
ку этих переживаний и весьма удачно.
Так символическое знание становится
конвенциональным — и это один из
магистральных путей упрощения и
редукции основного синдрома забо-
левания
исключаются моменты влияния, вну-
шения, навязывания своих представ-
лений о мнимой «норме», основная
ставка делается на потенциальные
возможности больного, на способ-
ность совершить перестройку своей
личности. Уже с самых первых сеансов
наблюдаются отдельные «проблески»
освобождения от тягостного взаимно-
го непонимания с окружающим ми-
ром. Эти моменты «озарения» повто-
ряются все чаще и чаще, становятся
интенсивнее и значимее в процессе
общения, однако больной вновь
возвращается в свою скорлупу.
Со временем подобный возврат
становится похожим на какое-то уп-
рямство, каприз — это вызывает
раздражение и нередко ощущение
неловкости перед присутствующими.
К содержанию указанных «проблес-
ков» приходится возвращаться, напо-
минать о них как о творческих
достижениях, систематизировать их,
чему соответствует и качество, до-
стигнутое на портрете. Больной с ред-
кой изобретательностью изощрен-
ностью пытается возвратиться к сво-
ему прежнему состоянию, ему никог-
да не бывает уютно при полноценном,
здравом общении. Однако с каждым
разом его возможности восстановить
нарушенную структуру патологичес-
ких явлений уменьшаются, и он уже
по памяти должен вернуть свою
болезнь, достраивать забытое и уже
утраченное. Путь излечения устлан
такими препятствиями, и чем меньше
остается у больного патологических
симптомов, тем больше он цепляется
за болезнь. То, что пугало раньше при
общении с ним, сейчас просто отпуги-
вает; то, что казалось частью его
самого, сейчас становится деклара-
тивным, демонстративным. Хотя
синдром значительно упрощается, на-
поминая истерический, напряжение
растет с каждым днем.
Оказывается, симулировать свою
болезнь не так-то просто; создается
драматическая ситуация конфликта
с собой, который разряжается на-
столько бурно, что напоминает обо-
стрение прежней болезни В резуль-
тате совместных усилий наступает
примирение с мыслью о том, что он
такой же, как все,— вполне здоровый,
с обязанностями нормального члена
общества и семьи. Это чувство мо-
рального удовлетворения достиг-
нутым, но с некоторым оттенком
утраченных ценностей, который исче-
зает уже по мере включенности
бывшего больного в житейскую игру.
Непременным условием завер-
шения психотерапии методом
скульптурного портретирования яв-
ляется катарсис, описанный Аристоте-
лем и введенный в практику психоте-
рапии Брейером в 1895 году. За
десятилетнюю работу над портрета-
ми больных катарсис наблюдался во
всех случаях без исключения. Эти
интенсивные в эмоциональном отно-
шении состояния наступают неожи-
данно, приобретают самые причуд-
ливые формы в каждом случае. То это
«взрывы» смеха или плача, длящиеся
до нескольких часов, то различные
формы психомоторного возбужде-
ния, агрессивного конфликтного пове-
дения, сцены с грубой сексуальной
обнаженностью. Важно, что ука-
занные состояния больные полностью
или частично забывают, после них
возникает яркое ощущение своего
выздоровления, избавления. Катарсис
наступает по мере упрощения основ-
ного синдрома заболевания и пре-
дельной конкретизации деталей лица
на портрете. Такая строгая зависи-
мость от упрощения синдрома кос-
венно подтверждается теми неудав-
шимися случаями, когда врач по
каким-то обстоятельствам вынужден
ускорить работу над собственно порт-
ретом. Тогда обострение (катарсисо-
подобное состояние) наступает рань-
10
ше времени и не приводит к улучше-
нию состояния.
При работе с больной В киногруппа
из АПН невольно вынудила ускорить
темп работы над портретом в ущерб
диалога с больной. Вскоре, когда
больная даже не'успела «выговорить-
ся», портрет приобрел одну из завер-
шенных в стилистическом отношении
форм. Она раньше времени по-
чувствовала, что работа заканчивает-
ся, что в портрете она вся: «Я смотре-
ла на портрет и плакала». Затем
больная решила, что портрет лучше,
добрее, красивее, чем она сама;
и далее наступило бредовое одушев-
ление своего стилизованного образа
в пластилине. Все это сопровождалось
возбуждением, неправильной ин-
терпретацией техники лечения лич-
ности врача с элементами воз-
действия. Хотя после снятия обостре-
ния обнаружилась определенная ре-
дукция основного синдрома, поиски
продолжения зашли в тупик и работу
временно пришлось остановить. То же
самое произошло с больной А., в ле-
чении которой принимал участие
профессионально рисующий худож-
ник, который как бы торопил портрет.
Так совершенно не вовремя появи-
лись очень красивые волосы и под это
качество было подведено лицо. Как
врач я начал чувствовать дискомфорт,
ощущение чего-то упущенного, утра-
ту врачебной интуиции. Работу также
пришлось остановить и возобновить
через два месяца.
Катарсис не всегда наступает во
время портретирования, в при-
сутствии врача. Чаще всего удается
заметить отдельные его элементы,
а вся структура восстанавливается со
слов людей, присутствовавших при
этом.
Катарсис может быть ступенчатооб-
разным, то есть, к примеру,
наблюдаться дважды на протяжении
курса лечения. В случае с Сергеем
П. это проявилось следующим обра-
зом. После внезапного конфликта
с врачом больной в состоянии возбуж-
дения выбежал на улицу, всю ночь
находился в аэропорту, утром осознал
бессмысленность своего поведения,
приехал к врачу со счастливым выра-
жением лица и объявил себя здо-
ровым. А через две недели, сразу
после завершения работы над портре-
том, состоялся тяжелый конфликт
с родителями жены, которые не
хотели верить, что он мог вылечиться.
Вот что пишет жена: «Тяжелый разго-
вор. С. ведет себя несдержанно,
похож на умалишенного, выходит из
себя, кричит на маму, пытается уда-
рить ее. Приезд в Люберцы, помири-
лись». После этого события Сергей
нашел продолжение зашедшей в ту-
пик диссертационной работы. Прошло
полтора года. Он ни разу не обращал-
ся за помощью. Иногда я узнаю о его
успехах в области прикладной мате-
матики.
А. И. ЛИПКИНА,
доктор психологических наук
М. Г. ЯРОШЕВСКИЙ,
доктор психологических наук, профессор
Исцеление души
Современная медицина располагает
разнообразными психотерапевтическими
методами лечения психических расст-
ройств. Все они основаны на прямом
контакте с больным, когда врач изучает
его личность, выясняет причины заболева-
ния. одновременно воздействуя на пациен-
та. И главный способ лечения здесь не
-аблетка, а слово. Оно убеждает, внушае
раскрывает больному перспективу выздо-
ровления
Опытные психиатры стремятся с помо-
щью слова активизировать, мобилизовать
на борьбу с недугом личностные резервы
больного. Однако в большинстве су-
ществующих практик он остается преиму-
щественно лишь объектом врачевания. Он
пассивен
Принципиально новый метод психоэс ге-
мотерапии, разработанный Г. М. Назло-
яном, как нам представляется, весьма
перспективен. Скульптурное пор-ре гиро-
вайие, как называет свой метод автор,
открь веет возможность использования в
медицине «волшебной силы искусства»
для активизации эмоциональной сферы
личности. Главное здесь — особый харак-
тер взаимоотношений, устанавливающихся
между врачом и больным в процессе
создания скульптурного портрета пациен-
та, представляющего значимую для обоих
эстетическую ценность.
Слово уходит на второй план, хотя
в процессе работы происходит, разумеет-
ся, и обмен репликами, устанавливаются
особенно доверительные отношения, ко-
торые позволяют глубже проникнуть в
психологию больного, в «закрытые» зоны
его переживаний. Основным же средством
терапии становится предметное действие,
сотворчество врача и пациента.
Нас привлекает гуманистическая направ-
ленность в методе Г. М. Назлояна. Еще
Фрейд в начале своей практики делал
главную ставку на внушение. Больной,
находясь под гипнозом, открывал ему
обстоятельс гва своей жизни, свои неприят-
ности и, «выговорившись», чувствовал
облегчение — «катарсис», очищение от
стресса и бремени переживаний Вскоре
Фрейд отказался от гипноза, предоставив
больному «изливать свою душу» в свобод-
ном потоке высказываний. Анализируя
этот поток, он проникал в причины психи-
ческих расстройств, к истокам опасений,
желаний, гнездящихся в подсознании.
Обычно больной, сам того не сознавая,
сопротивляется раскрытию травмирующих
его обстоятельств, что затрудняет процесс
лечения. Психоанализ позволяет снять
«самоцензуру» с того, что угнетает боль-
ного, и в этом, несомненно заслуга
Фрейда
По-иному решает проблему Назлоян.
И дело здесь не только в использовании
возможностей эмоционального воз-
действия искусства — такой эффект был
известен психотерапии и прежде. Но если
до сих пор эмоциональное воздействие
использовалось главным образом для то-
го, чтобы отвлечь больного, переключить
его внимание, расслабить волю, то у На-
злояна искусство — это поле деятельнос-
ти, самовыявления и самоутверждения
больного с помощью врача.
Чаще всего у нас врачуют лишь от-
дельные болезни, функциональные
расстройства- память, внимание, воспри-
ятие, но наибольший эффект достигается,
когда в центре усилий оказывается ядро
личности больного, его «Я». Эту законо-
мерность использует Г. М. Назлоян. Он
обратился к лицу человека — зеркалу его
переживаний, тревог, радостей и огорче-
ний. Ничто так не передает многообраз-
ную гамму чувств и мыслей человека, как
лицо, динамика его порой едва уловимых
движений. На лице жизнь своим неумо-
лимым перстом записывает все реакции
человека на драму его бытия в мире.
Помните, как в романе Л Н. Толстого
художник Михайлов в портрете Анны
Карениной отразил необыкновенную кра-
соту ее души. Не случайно у слов «лицо»
и «личность» общий корень.
Лицо отражает красоту, волю, ум чело-
века. В нем запечатлеваются и психичес-
кие расстройства, подозрительность, на-
стороженность, депрессия... Комплекс не-
полноценности порождает и соот-
ветствующее представление о самом себе
Учитывая все это, Г М. Назлоян предполо-
жил, что, работая вместе с ним над
собственным скульптурным портретом,
больной может раскрыть себя как лич-
ность, взглянуть на себя как бы со стороны
и, мобилизовав свои внутренние силы
изменить себя к лучшему, сделаться та-
ким, каким ему хотелось бы быть в реаль-
ной жизни.
Вызывает уважение преданность врача
своей идее. Сколько сил потрачено, чтобы
овладеть искусством ваяния! Хотя и здесь
кроме упорства нужен особый талант.
В методе Назлояна новизна во всем.
Пациент, настроенный на обстановку боль-
ничной палаты, кабинета врача, вдруг
оказывается в мастерской скульптора. Он
ожидает снисходительности, привык, что
его воспринимают как ущербную, непол-
ноценную личность. А здесь он — натура,
вызывающая искренний, неподдельный ин-
терес скульптора. Значит, есть в нем не
только «болезненное», но и нечто достой-
ное. В творческом процессе постепенно
снимается патологическая напряженность
и сосредоточенность на гнетущих сос-
тояниях, нарастает шквал положительных
эмоций, пробуждается то, что было оттес-
нено, придавлено болезнью
Эффектом творчества является катар-
сис — очищение и возвышение личности.
Это катарсис в форме особого пережива-
ния, которое захватывает личность (и пси-
хотерапевта, и пациента), постигшую в
процессе создания скульптурного образа
скрытую истину о душевном строе челове-
ка.
г
11
Л. АБРАМЯН,
кандидат исторических наук
Человек и
его двойник
Мне посчастливилось быть
очевидцем того, как рождал-
ся и складывался метод, о
котором так увлекательно
рассказал доктор Назлоян.
В чем же, собственно, он
заключается и почему при-
водит к поистине чудесному
исцелению?
Врач-скульптор создает
двойника пациента, и, по ме-
ре того как больной узнает
себя в скульптурном порт-
рете, а портрет приближа-
ется к завершению, болезнь
постепенно исчезает. Это тот
двойник, которого больной
ежедневно видит в зеркале,
но фактически не обращает
на него внимания. Процесс
узнавания длится достаточно
долго и мучительно, и в
конце концов больной стран-
ным образом привязывается
к своему рождающемуся на
глазах двойнику. Эта при-
вязанность в принципе со-
поставима с широко встре-
чающимся в разных куль-
турных традициях и изучен-
ным этнографами явлением,
которое можно охарактери-
зовать как требование од-
новременного присутствия
человека и его зеркального
двойника. Особенно нагляд-
но требование одновремен-
ного присутствия пары «че-
ловек — двойник», соответ-
ствия отражения отражае-
мому видно в свадебной
обрядности. Во многих кон-
цах земного шара жених и
невеста смотрятся в одно
зеркало — неразлучность бу-
дущих супругов «узакони-
вается» и гарантируется спе-
циально создаваемым со-
стоянием неразлучности и
их зеркальных двойников.
На неразрывности пары «че-
ловек и его двойник» по-
строен также целый класс
поверий, связывающих ги-
бель двойника со смертью
другого члена пары. Так,
разбитое зеркало становится
предвестником смерти в
доме — «смерть» двойника
в зеркале влечет за собой
смерть отраженного. И на-
оборот, в могилу покойнику,
как свидетельствуют неко-
торые археологические на-
ходки, клали преднамерен-
но разбитое зеркало. Чер-
ная магия «действует» по той
же формуле: колдун совер-
шает вредоносные действия
над вольтом — специальной
куклой или изображением
жертвы. Наконец, во многих
близнечных мифах смерть
одного из близнецов (а эта
пара во многом соответству-
ет нашей) неминуемо влечет
за собой смерть другого.
Иными словами, во время
психотерапевтического порт-
ретирования врач-скульптор
невольно приводит в дви-
жение универсальные меха-
низмы, управляющие бога-
тым пластом человеческой
культуры. Проследим, не
упуская из виду этнографи-
ческий массив, лишь малой
части которого мы здесь бег-
ло коснулись, что происходит
далее с пациентом и его
скульптурным двойником.
Вспомним, как он начинает
пристально вглядываться в
зеркало, сверять скульптур-
ного двойника с двойником-
отражением. И еще один не-
маловажный момент, кото-
рый тонко отметил Назлоян:
портрет неуловимым обра-
зом носит на себе печать
болезни, в противополож-
ность уже исцелившемуся
оригиналу. Иными словами,
созданный врачом двойник
это как бы «плохой» член па-
ры, тогда как исцеливший-
ся — «хороший»-
Здесь снова, видимо,
уместны этнографические
параллели. Зеркальный двой-
ник нередко является но-
сителем отрицательного на-
чала — целый сонм пред-
ставителей нечистой силы, от
зловредных существ малого
ранга до самого дьявола (по
средневековому определе-
нию, «обезьяны Бога») — так
или иначе соотносится с
двойником-отражением. Ут-
вердив своего внутреннего
двойника, пациент избавляет-
ся от заведомо нехорошего,
переносит на двойника свою
болезнь. Так что держать
при себе свой портрет исце-
лившемуся вроде бы не-
зачем, тем более если он не
особенно хочет вспоминать
о перенесенном страдании.
Но случай с одним из пациен-
тов, который беседовал с
портретом в трудные мину-
ты жизни, показывает, что
бывший больной не просто
мысленно обращался к на-
чалу своего диалога с внеш-
ним миром, как пишет На-
злоян, а к диалогу с ним са-
мим, врачом-портретистом,
к диалогу, который, как он
замечает в другом месте,
продолжается и после тера-
пии. Что это именно так и
что портрет здесь лишь
знак — напоминание о враче,
а не продолжающий функ-
ционировать образ зеркаль-
ного двойника, хорошо ил-
люстрирует тот факт, что
один из больных, который не
испытал портретной терапии,
приходил к подъезду На-
злояна с целью избавиться
от галлюцинаций.
Чем все же отличается
диалог с врачом-портретис-
том от диалога, пусть даже
самого душевного и интим-
ного, но с обычным психо-
терапевтом? Главное, на мой
взгляд, заключается в том,
что больной, ведущий внут-
ренний диалог со своим
другим «Я», в процессе порт-
ретирования переносит речь
на двойника, формирующе-
гося под руками врача. Ины-
ми словами, его внутренняя
речь становится внешней,
чего, грубо говоря, и доби-
вается врач, пытающийся
вывести больного из состоя-
ния аутизма. Получается не-
что обратное тому, что имеет
место при явлении, извест-
ном как коллективный моно-
лог у детей, когда ребенок
научается внутренней речи,
говоря вслух с самим собой,
но в присутствии других де-
тей. Что же касается боль-
ного, то он как бы возвра-
щается в состояние детства,
к первым опытам познания
мира и себя. Причем это
возврат не к какому-либо,
порой патологическому, эпи-
зоду детства, как это нередко
имеет место во время пси-
хоаналитических сеансов, а
возврат в детство вообще,
к истокам своего «Я». Такое
«обращение» пациента в ре-
бенка можно соотнести с тем,
как во многих традициях
человека, проходящего об-
ряды инициации, символи-
чески превращают в ребенка,
в Древней Индии — даже в
эмбрион, чтобы дать ему но-
вое, более высокое, рожде-
ние. Не случайно поэтому
одна из пациенток Назлояна
пишет в своем дневнике: «Я
рождалась», а Ануш М. стала
«расти» во время сеансов
Здесь возникает вопрос о
преимуществах именно
скульптурного портрета.
Действительно, чем он луч-
ше, например, живописного?
Скорее всего, хороший жи-
вописец-врач также имеет
все шансы рассчитывать на
достаточную эффективность
своего портрета — истинные
портретисты хорошо знают
о том непонятном поле, ко-
торое возникает между ху-
дожником и моделью, но
которое никогда не исполь-
зуется в психотерапевтичес-
ких целях. Но все же скульп-
тура объемна на деле, а не
иллюзорно, как живопись.
Можно было бы возразить,
что зеркальное отражение
тоже плоскостное, если бы
иллюзия здесь не была столь
совершенной и если бы отра-
жение не обладало удиви-
тельной подвижностью,
свойством неустанно следо-
вать за отражаемым. Вокруг
объемной скульптуры дви-
гаются глаза зрителя, меняя
точки отсчета и ракурсы, что
в принципе равносильно дви-
жению самого портрета. В
отличие от этого с живопис-
ного портрета за зрителем
следует лишь взгляд изобра-
женного. И еще один немало-
важный момент — врач-
скульптор. предстает как
некий демиург, который, как
и подобает этому универ-
сальному мифологическому
образу, лепит первых людей
(и самого больного, рождаю-
щегося для новой жизни) из
праха земного. То, что порт-
рет делается в натуральную
величину и в реалистическом
стиле, в еще большей мере
подчеркивает демиургичес-
кий аспект ваяния.
Скульптура дает также воз-
можность врачу во время
всего сеанса находиться в
непосредственном физичес-
ком контакте с двойником
пациента, гладить или, наобо-
рот, мять его. Таким образом,
врач получает еще одно силь-
ное средство воздействия на
больного, уподобляясь на
этот раз колдуну, совершаю-
щему свои манипуляции с
вольтом. О том, что мы на-
блюдаем сходные механиз-
мы воздействия, говорят,
например, реакции больного
12
Мифологичен кие близнецы. (Меланезия).
на резкие движения скульп-
тора — типа «Не колите ме-
ня!» Но в руках врача этот
механизм действует во благо
больного, этнолог классифи-
цировал бы его действия как
белую, а не черную магию.
Такое двойственное в потен-
циале воздействие на рас
стоянии на двойника вообще
свойственно символическому
мышлению. Так, даже в наши
дни можно встретить случаи
колдовства над фотографией
жертвы, а мой дальний род-
ственник, бывший настоятель
одной из армянских церквей,
до последнего времени «ле-
чил» людей (кстати, страдав-
ших, как правило, нервно-
психическими заболевания-
ми) и, должен сказать, не
всегда безуспешно, исполь-
зуя их фотопортреты.
Наши этнографические па-
раллели этим не кончаются.
Назлоян опытным путем при-
шел еще к одному, на мой
взгляд, замечательному от-
крытию. В процессе разру-
шения своего авторитета
врача перед больным —
этого требуют, в частности,
особенности избранного им
метода терапии — он пришел
к созданию образа некоего
третьего, всезнающего и
мудрого, стоящего за его
действиями и следящего за
ними обоими. Этот третий —
не обязательно абстрактный
великий врач, он может быть
конкретным лицом. Именно
к нему обращаются в труд-
ные минуты за советом, при-
чем не столь важно, верные
это советы или нет — как
правило, они не играют су-
щественной роли в терапии
Наконец, последняя па-
раллель, которая возникав!
в связи с терапевтическим
методом доктора Назлояна.
Интересно проследить, как
этот метод соприкасается с
традиционными восточными
способами психотренинга,
а именно с традициями
дзэн-буддизма.
Вот несколько соответствий
между методом мастера
дзэн и доктора Назлояна.
Мастер дзэн ведет с учени-
ком диалоги мондо, строя-
щиеся по особой логике, с
первого взгляда кажущейся
абсурдной. В результате
ученик вырабатывает способ-
ность творчески мыслить и
действовать. Показательно,
что Назлоян делает основную
ставку на потенциальные воз-
можности больного, на вос-
становление и, что важнее
для нас, развитие творческих
способностей, на его способ-
ность совершить перестрой-
ку своей личности Поэтому
трудно предвидеть, каким
окажется пациент после вы-
здоровления.
Мастер дзэн добивается
того, что ученик, подготов-
ленный специальной трени-
ровкой, вдруг переживает
особое состояние просветле-
ния — сатори, некий шок,
который неожиданным обра-
зом открывает ему глаза на
мир. В некоторых школах
дзэн эта психологическая
встряска может иметь место
в результате физического
потрясения и даже увечья.
Аналогичный шок, или катар-
с
с
х
з
3“
5
*
сис, пациенты Назлояна пере-
живают, по его мнению, при
встрече со своим зеркаль-
ным двойником. Косвенно
о шоковой природе порт-
ретного метода хорошо го-
ворит тот факт, что он позво-
ляет избегать обычных шоко-
вых методов терапии. После
пережитого сатори адепт
возвращается к обычному
состоянию, но он уже все ви-
дит иначе. По дзэнской прит-
че, до просветления реки
были реками, а горы горами,
во время просветления реки
перестали быть реками, а
горы горами, после же про-
светления реки снова ста-
ли реками, а горы гора-
ми. Назлоян констатирует,
что после катарсиса v пациен-
тов появляется яркое ощу-
щение выздоровления, из-
бавления, а исцелившиеся
порой оказываются более
стойкими к трудностям жиз-
ни, чем люди, никогда не
болевшие.
Адепт дзэн в результате
специального психотренинга
переживает некое шоковое
состояние, после чего ста-
новится просветленным.
Больной же в результате се-
ансов ваяния и неформаль-
ных бесед с врачом-скульп-
тором переживает шок,
после чего исцеляется. Схе-
ма, конечно, огрубленная
(подчеркнем, что и дзэнское
постижение истины мы рас-
сматриваем здесь лишь схе-
матично и в общих чертах),
но наша цель — выявить об-
щий механизм действия двух
методов.
Назлоян отмечает, что у
всех без исключения боль-
ных наблюдается катарсис,
причем не обязательно в
присутствии скульптурного
двойника. Правда, он считает,
что два эти события — завер-
шение портрета и катарсис —
достаточно жестко взаимо-
обусловлены. Думается, од-
нако, что хотя такая связь
несомненно имеется (пусть
даже искусственная — я не
раз наблюдал, как Назлоян
оттягивает, сознательно или
бессознательно, момент за-
вершения портрета в зави-
симости от состояния боль-
ного), но портрет здесь мо-
жет играть и чисто вспомога-
тельную роль. В процессе
работы над ним у больного
постепенно возникает со-
стояние, необходимое для
катарсиса, все время врач-
скульптор фактически под-
талкивает больного к нему.
Но достичь такого погранич-
ного состояния можно и дру-
гими способами. Тут вспо-
минается классический пси-
хоаналитик, изощренной бе-
седой подводящий своего
пациента к переживанию вы-
тесненного из сознания со-
бытия, как правило, эроти-
чески окрашенного. Не ис-
ключено, что иногда, а
может быть и достаточно
часто, это — псевдособытие,
конструируемое аналитиком
(скорее всего, бессознатель-
но) в рамках концепций
практикуемой им школы.
Особенно показателен в этом
плане катарсис у Сергея П. —
его он испытал в аэропорту,
когда понял, что никуда ему
ехать не надо. Правда, по
Назлояну, его портрет тогда
близился к самому концу,
но не был еще окончательно
завершен, поэтому потребо-
вался второй катарсис —
кстати, и он не был испытан
в присутствии уже завершен-
ного портрета.
Мне все же кажется, что
вопрос не только в портре-
те. Это доказывают и те слу-
чаи, когда врачу приходилось
по тем или иным причинам
ускорять процесс лепки. В
таких случаях наблюдались
катарсисоподобные состоя-
ния, не приводившие к изле-
чению. И дело здесь, видимо,
не в том, что портрет был
закончен быстрее обычного,
а в том, что больной за слиш-
ком короткое время не был
подведен к пограничному
состоянию — независимо от
того, какими именно средст-
вами этого добивались, при
помощи портрета или без
него. Впрочем, Назлоян на-
блюдал много случаев катар-
сиса именно в присутствии
законченного портрета-двой-
ника, так что портрет, види-
мо, сам может служить мощ-
ным стимулятором душев-
ного перерождения.
Итак, мы видим, портрет-
ный метод самыми разны-
ми путями соприкасается
не только с целым рядом
архаичных способов исцеле-
ния, но и с универсальными
символическими системами,
заложенными в каждом
4 «Наука и религия» № 9
13
из
Адыгейцы
Австралии
В печати уже сообщалось о даре
семьи Джамирзе — адыгейцев,
проживающих в Австралии,—
уникальной иконе «Божья
Матерь», которую они передали
Советскому фонду культуры к
1000-летию крещения Руси.
Читатели журнала просят
рассказать, как эта семья
оказалась на далеком от родины
континенте, что привело теперь
Джамирзе в СССР. Наш
корреспондент Л. Не мир а
встретилась с Виктором
ДЖАМИРЗЕ, приехавшим в
Москву по приглашению
Московской патриархии.
В просторном холле гостиницы «Со-
ветская» ко мне подошел среднего роста
молодой мужчина с пышными усами,
кудрявой рыжеватой шевелюрой. Было
неожиданно и приятно слышать от австра-
лийца чистую русскую речь с мягким
украинским выговором. Мы присели и лег-
ко разговорились.
— Виктор, хотелось
бы о многом вас расспросить, но
сначала расскажите, как ваша семья
оказалась в Австралии.
— Это случилось так же, как и со
многими тысячами или даже миллионами
людей во время второй мировой войны.
Когда фашисты оккупировали Донбасс,
мама, тогда четырнадцатилетняя девушка,
попала в плен и ее увезли из Донецка
в Австрию. Там, на принудительных рабе
гах, она нашла связь с подпольщиками,
помогала им: передавала с предприятия
компасы и пистолеты. Кто-то ее предал,
и тогда ее отправили в концлагерь. Там,
в этом лагере, мама познакомилась с от-
цом
После открытия второго фронта концла-
герь, где были наши родители, попал под
бомбежку, и они оказались в лагере для
перемещенных лиц англо-американской
зоны Потом их перевозили из одного
лагеря в друой — в Италии, Сирии, и в
конце концов они оказались в Австралии
Этот путь можно проследить по местам
рождения старших моих братьев и сестер.
Всего в нашей семье одиннадцать детей.
Я был первым, кто родился в Австралии
мммм — Ваш отец адыгеец.
Насколько мне известно, адыгейцы
большей частью мусульмане, а ваша
семья исповедует православие.
— Вы правы, среди адыгейцев немало
мусульман. Но и христиане не такая уж
редкость. Ведь адыгейцы сначала приняли
христианство и много позже под влиянием
турков часть их перешла в мусульманскую
веру.
— Вы гость Московской
патриархии. Какие дела, заботы
связывают вас с ней?
— Дела веры и заботы о церкви.
В Австралии живет более четверти мил-
лиона русских, а русской православной
церкви до недавнего времени не было. Это
не случайно: ведь немалая часть русского
населения отнюдь не дружелюбно отно-
сится к России Вот мы и решили, что
создание здесь русской православной
церкви поможет нашим соотечественни-
кам лучше разобраться в том, что происхо-
дит на родине, наладить с ней постоянные
связи хотя бы по линии церкви, а это уже
немало.
Создание церкви мы рассматривали не
только как религиозную, но и как полити-
ческую акцию. Даже если бы вдруг
закрылись советские посольство и кон-
сульство, в Австралии сохранялась бы
часть русской земли.
— Вероятно, вам
пришлось преодолеть немало
трудностей?
— Да, трудностей было много. Во
многом помогла нам греческая колония —
здесь проживает около полутора мил-
лионов православных греков. Наша цер-
ковь разместилась в здании, которое
прежде принадлежало греческой общине.
Деньги на приобретение земельного
участка с расположенным на нем молит-
венным домом выделила Московская
патриархия.
Прежде церковь носила имя Святой
Параскевы. Решением Священного Синода
10 сентября 1987 года вновь организо-
ванный православный приход был принят
в юрисдикцию Московского Патриархата
и затем освящен в честь Покрова Божьей
Матери. Для духовного окормления при-
хода Патриархат направил священника.
Сейчас церковь реставрируется, а в ок-
тябре нынешнего года в день Покрова она
будет торжественно открыта.
В Австралии много русских людей живет
как бы в вакууме. Надеемся, что церковь
духовно свяжет их между собой и с Оте-
чеством. Наша семья давно мечтала об
этом. Наконец мечта сбылась.
Известно, что крещение Русь приняла от
греков, и очень приятно, что в канун
1000-летия греки помогли нам открыть
русскую православную церковь. Четверть
века назад, когда в этом здании начинала
действовать греческая церковь, она имела
всего 30 прихожан. Теперь их более
5 тысяч, и они построили себе новый храм.
Знаменательно, что наша семья сейчас
тоже 30 человек. С нее и начнется приход
церкви Покрова Божьей Матери.
— Я знаю, вы приехали
в Москву вместе с вашим братом
Александром.
— Да, сейчас он ведет переговоры
о закупке советских фильмов. Мы соби-
раемся приобрести не менее 20, в основ-
ном патриотического содержания, в том
числе и девятисерийный телефильм «Ми-
хайло Ломоносов». Чтобы в Австралии их
увидело как можно больше людей, мы
перепишем ленты на видеопленки и пере-
дадим в видеобиблиотеки.
— Как ваша семья
относится к перестройке?
— Мы приняли ее всей душой, давно
ждали этой политики. Уверен, она поможет
нам шире организовать деловые и куль-
турные связи с родиной.
Первое, что мы сделали, приветствуя
перестройку,— начали выпускать майки со
словами, которые сейчас популярны в Рос-
сии: «мир», «гласность» и другие. Постав-
ляем их в прогрессивные магазины, сами
носим всей семьей. Когда в Австралию
приезжал Э А. Шеварднадзе, мы хотели
передать партию таких маек в подарок
Советскому Союзу, но из-за плохих кон-
тактов с консульством это не удалось.
К сожалению, у нас пока нет добрых
связей с советскими посольствами и кон-
сульством Мы внимательно следим за
тем, что происходит на родине, читаем
газеты, журналы. Но получаем их не от
русского посольства, а от Комитета защиты
мира. Наша семья давно ведет культурно-
просветительскую работу: пропагандиру-
ем советские фильмы, провели первые
в Австралии двухчасовые передачи на
русском языке по коммерческому телеви-
дению, не раз мы обращались в кон-
сульство с предложениями создать
14
русский культурный центр, но наши ини-
циативы пока не находили поддержки.
Сейчас в Моссовете рассматривается
ряд наших предложений: о поставке цве-
тов, создании магазина типа «супермар-
кет», строительстве гостиницы высшего
класса. Еще мы ведем переговоры с Вяче-
славом Зайцевым, хотим показать в Авст-
ралии советскую моду, может быть, даже
наладить производство по выпуску этих
моделей. В Гостелерадио мы обратились с
предложением о телемостах с Австралией.
Есть и другие планы. Ведутся переговоры
о совместных предприятиях и в Баку.
Нам говорят: у вас глобальные планы!
А разве размах не присущ русским?
Я знаю, Ленин говорил, что надо соединить
русский размах и американскую делови-
тость. Того же хотим и мы
Мы очень рады событиям, происходя-
щим в Советском Союзе. Любовь к России,
которую нам привили родители, сохра-
няем свято и не изменили ни своей
фамилии, как делают некоторые эмиг-
ранты, ни своих убеждений.
Все в нашей семье, даже самые малень-
кие, говорят по-русски, знают историю
Советского Союза, читают русские книги
и газеты. Каждый член нашей семьи будет
служить взаимопониманию Австралии и
России.
— А как относятся к
вашей деятельности в Австралии?
— Официальная австралийская пресса
называет нас послами культуры. Правда, не
всегда она так благосклонна. Вот пример.
Мы живем в районе, который называется
Блэктаун. После того как мы организовали
русскую выставку в этом районе, в прессе
появилась статья: «Виктор Джамирзе хочет
Блэктаун сделать Рэдтауном»
— Я много наслышана
о подарке, который ваша семья
подготовила к 1000-летию Русской
православной церкви
— Икону «Божья Матерь» — фрагмент
оплакивания Христа на Голгофе — наша
семья делала более десяти лет. Мозаичное
панно, размером 1X2 метра, сделано из
драгоценных и полудрагоценных камней.
Мы собирали их по всему свету, тщательно
подбирали и обрабатывали В работе
участвовали все члены семьи. Там, где
требовалась особенно тщательная шли-
фовка, трудились детские пальчики.
Мозаика сделана на деревянной основе,
икона оправлена в деревянную раму —
все материалы натуральные. Икона весит
почти 500 килограммов и по предваритель-
ной оценке стоит около 5 миллионов
австралийских долларов. Это наш дар
Московской патриархии.
Чтобы сделать волосы Богоматери, мы
разрезали янтарные украшения нашей
мамы. Богоматерь воплощает в себе идею
мира. Камни, собранные со всего земного
шара,— символ единения всех наций и на-
родностей.
Хотим, чтобы все наше духовное станов-
ление, вся наша деятельность шли в ногу
с миротворческой политикой Советского
Союза, который мы считаем своей роди-
ной.
Информация, хроника
КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛЕНИНГРАДЕ
Юбилейный для русского православия год богат научными конференциями. Одну из
них — «Православие в Древней Руси» — организовал и провел Государственный музей
ис-ории религии и атеизма. Ленинградские «музейщики» собрали своих коллег —
историков, филологов, философов, археологов, этнографов — из Ужгорода, Киева,
ладимира, Львова, Новгорода, Мо< квы
Что празднуется? История Руси IX—X веков таит в себе немало загадок, в том числе
и тех, что связаны с введением христианства. Когда именно? Почему из Византии? Какова
здесь роль древнеболгарского языка? Почему принявшие христианство страны Восточной
и Северной Европы развивались тогда практически синхронно? Такими были непростые
вопросы, обсуждаемые на конференции.
Ее участники прослушали двенадцать докладов, сделали свыше двадцати научных
сообщений в том числе по язычеству древних славян, периоду двоеверия в древнерус-
ском обществе Хочется особо выделить информацию об интересной находке кандидата
исторических наук И. А. Пислария из Киево-Печерского государственного историко-
культурного заповедника.
Группа археологов проводила на его территории очередные ремонтно-реставрацион-
ные работы. Под застройкой конца XVII века при расчистке слоев им начали встречаться
приметы более раннего времени — фрагменты плинфы, сломанная керамика, накладка
лука. В какой-то момент показалось, что в руки им попала отполированная костяная руко-
ятка ножа. Но когда находку расчистили, увидели, что это языческая богиня. Большая
голова, длинные вологы, скрещенные на груди руки, изображение потруднее без ног,
на каждой стороне три солярных круга с точкой — излюбленный космический орнамент
древности.
Определили возраст находки — XI—XIII век Имя богини не составляло секрета
Известно, что в традиционном языческом пантеоне единственной представи-
тельницей слабого пола была Мокошь. Но как она выглядела, какой представляли
языческую покровительницу женщин наши предки, мы по существу так и не знаем,
как, впрочем, не знаем, как изображался старший ее мифологический собрат Перун
У деревянных кумиров век был недолгим, они быстро разрушались. Костяную Мокошь
время не тронуло — вы это видите и сами.
На Украине следы почитания Мокоши уцелели вплоть до XIX века. Запретительный
жест скрещенных на груди рук языческой богини, ее функции унаследовала Параскева
Пятница, православная покровительница женских работ, домашнего благополучия
4*
15
Космология духа
Э. В. ИЛЬЕНКОВ,
доктор философских наук
Итак, если холод остывших мировых
пространств не является абсолютным
пределом существования мыслящей мате-
рии (что, конечно, вовсе не исключает
того, что в отдельных случаях и он может
быть непосредственной причиной гибели,
так же. как и случайное траг ическое
столкновение небесных тел), то в сос-
тоянии раскаленного пара, к которому
в ходе круговорота неизбежно приходит
любая космическая система, этот аб-
солютный предел, видимо, приходится
усмотреть.
Закат, гибель, конец, исчезновение
мыслящей материи остается и в этом
случае неотвратимым,— принципы ди-
алектики и материализма полностью сох-
раняются и в данном случае. Но конкрет-
ная картина этого финала оказывается
несколько иной. Прежде всего, пределы
существования мыслящей материи не-
сколько раздвигаются во времени. Неиз-
бежный конец наступит с этой точки
зрения несколько позже (хотя это «не-
сколько позже» реально и означает лиш-
ние миллионы лет),— и за этот дополни-
тельный срок человечество, несомненно,
еще больше укрепит свою власть над
природой, достигнет таких вершин могу-
щества, которые нам сейчас невозможно
представить даже с помощью самой без-
удержной поэтической фантазии.
Окончание Начало см в № в.
Но — и это главное — в число условий
решения проблемы тем самым включено
одно теоретически важнейшее обсто-
ятельство, про которое можно было бы не
вспоминать в том случае, если предпола-
гается, что человечество погибнет от
холода на обледеневающей Земле, нося-
щейся вокруг обледеневшего Солнца, если
бы оно не выступало сейчас на первый
план. Это вопрос об обстоятельствах, при
которых остывающая мировая материя
с необходимостью переходит в состояние
раскаленного тумана, грандиозным урага-
ном, разогретым на миллиарды градусов
Цельсия, собирающим к своему центру все
рассеянные излучением запасы движения,
и тем самым дающим мировой материи
космических пространств новую жизнь,
угасающую в ледяной пустыне так называ-
емой «тепловой смерти».
Начало этого нового цикла развития
космической материи — пункт, в котором
рассеянная излучением звезд материя и ей
присущее движение вновь каким-то спосо-
бом концентрируются в форму раскален-
ной вращающейся туманности, стяги-
вающей к своему центру все прежде
рассеянные в пространстве частицы и энер-
гию их движения. Он оказывается аб-
солютным пределом, в котором уже
с неизбежностью исчезают все условия,
при которых может существовать мысля-
щий дух.
Конец мыслящей материи совпадает по
времени и обстоятельствам с началом
нового цикла развития материи космичес-
ких просторов,— с пунктом, в котором
происходит огненное возрождение уми-
рающих миров.
Этот пункт, в котором материя и движе-
ние, безвозвратно утраченные благодаря
излучению, каким-то способом вновь кон-
центрируются, накапливаются в форму
сгустков раскаленного, ураганно вра-
щающегося газа, пара,— и оказывается
тем пунктом, в котором мыслящая мате-
рия должна исчезнуть уже абсолютно
обязательно.
Но тем самым вопрос о конкретной
картине гибели человечества, исчезнове-
ния мыслящей материи ставится в связь
с вопросом о тех естественных условиях,
посредством которых умирающие от «теп-
ловой смерти» миры возрождаются к но-
вой жизни.
Иными словами, условия огненного
возрождения космических систем
оказываются одновременно и условиями,
при которых делается уже абсолютно
неизбежной гибель мыслящей материи,
гибель мыслящего духа.
Обе проблемы тем самым сливаются
в одну
И интереснее всего тот факт, что каждая
из них, рассматриваемая порознь, в
абстракции от другой, до сих пор не
разрешена наукой, а может быть (в этом
и заключается наша гипотеза), и принци-
пиально неразрешима с помощью такого
подхода.
Мы установили, что вопрос о гибели
мыслящего мозга нельзя решить вне
исследования условий, создаваемых разви-
тием космических систем, внутри которых
протекает история развития мыслящего
духа, и пришли к выводу, что абсолютная
неизбежность этой гибели совпадает с на-
чалом огненного возрождения уми-
рающих миров.
Рассмотрим теперь вопрос с другой
стороны — со стороны собственных судеб
космических систем.
Не окажется ли и там, что эта проблема
принципиально неразрешима вне исследо-
вания тех факторов, которые привносит
с собой в ход мирового процесса мысля-
щий дух, тех условий, которые создаются
при его непременном участии?
Иными словами, не окажется ли, что как
тот, так и другой процесс нельзя понять
вне учета его взаимодействия с другим? Не
окажется ли, что процесс огненного воз-
рождения миров, угасающих в состоянии
«тепловой смерти», со своей стороны не
может быть понят вне учета активной роли
мыслящего духа в мировом круговоро-
те,— точно так же, как гибель духа не
может быть понята вне связи с этим
космическим процессом?
Известен лишь процесс, который в тен-
денции своей ведет именно к безжизнен-
ному состоянию мировой материи, и неиз-
вестен обратный ему, противо-
действующий ему процесс, посредством
которого происходит обратное пере-
распределение движения во вселенной,—
хотя теоретически совершенно ясно, что
такой процесс есть, его не может не быть.
Решение должно основываться на усло-
16
вии, теоретически бесспорном, что «об-
ратный» процесс концентрации рассеянно-
го движения в сгустки раскаленного газа
как-то и где-то постоянно в лоне вселенной
имеет место и составляет постоянное
внутреннее условие ее существования.
И весь вопрос заключается в том, чтобы
его установить, найти.
Вопрос, таким образом, не может
касаться отдельных случаев, а должен быть
решен в отношении всеобщего круговоро-
та мировой материи. Этот круговорот
в себе, внутри себя, внутри своих атрибу-
тивно-необходимых циклов, должен с не-
обходимостью приводить к возрождению
умерших миров в виде раскаленной туман-
ности.
Так что разгадку приходится искать не
только конкретно-физически (конкретно-
астрономически), но и в общефило-
софской форме. Иными словами, возмож-
ность и необходимость такого возрожде-
ния должна быть показана и отыскана
внутри атрибутивно необходимых форм
существования мировой материи,— не вне
их и не в случайностях, касающихся лишь
отдельных случаев
Ибо в отдельных случаях проблема
может быть и решена, но в целом она
останется по-прежнему нерешенной.
Закон сохранения и превращения энер-
гии предполагает, что энергия может
сохраняться только в ходе своих ка-
чественных превращений, и этот ход не
может быть односторонним, необратимым
ни в одном из своих звеньев. Все формы
движения материи тем или иным способом
взаимно превращаются в другие, они
взаимно обратимы. Если бы этого не было,
то ныне существующая вселенная не могла
бы существовать без постоянного вмеша-
тельства сверхъестественных сил, а закон
сохранения материи и движения превра-
тился бы в фикцию.
Поэтому вся проблема заключается
в том, чтобы выяснить и показать, каким
путем, каким естественным способом мо-
жет быть снова использована излученная
в мировое пространство теплота, где и как
эта рассеиваемая излучением материя
и движение снова накапливаются в такой
форме, которая обратно способна превра-
щаться в чрезвычайно разогретые и
плотные скопления, в мировые острова
раскаленного газа, стягивающие к своему
центру всю рассеянную в окружающих
пространствах практически «неподвиж-
ную» материю и строящие из нее свое
гело,— тело будущих звезд, солнц, пла-
нетных систем и т п.
Почему бы не предположить, что этот
обратный процесс совершается при учас-
тии мыслящей материи, мыслящего ду-
ха — как одного из атрибутов мировой
материи,— и что без его участия, без его
помощи этот процесс невозможен и
немыслим?
И все новое, что вносит наша гипотеза,
заключается лишь в том, что гибель
мыслящей материи с необходимостью
связана с процессом превращения
остывающей материи межзвездных про-
странств — в раскаленную туманность, и
5 «Наука и религия» № 9
является необходимым фактором этого
последнего процесса.
Ничего антиматериалистического, даже
не-материалистического, такая гипотеза
в понимание этого процесса не вводит.
Мышление само есть естественный, про-
цесс, и ничего удивительного нет в том, что
оно, как таковое, совершается внутри
других естественных процессов и со своей
стороны активно влияет на их протекание.
При этом — поскольку мыслящая мате-
рия мозга есть абсолютно высший продукт
всеобщего развития,— постольку резонно
предположить, что в ходе всеобщего
круговорота взаимных превращений одних
форм движения мировой материи в дру-
гие она занимает особое место, играет
особую роль,— такую роль, которую не
могут играть другие, менее сложно орга-
низованные формы движения.
И эта особая роль, приличествующая его
месту в системе форм движения мировой
материи как абсолютно-высшей форме
движения,— и рисуется нашей гипотезой.
Реально эта роль представляется так.
Человечество (или другая совокупность
мыслящих существ) в какой-то, очень
высокой точке своего развития, в точке,
которая достигается тогда, когда материя
более или менее обширных космических
пространств, внутри которых человечество
живет, остывает,— и в этой роковой для
материи точке, каким-то способом (неиз-
вестным, разумеется, нам, живущим на
заре истории человеческого могущества)
сознательно способствует тому, чтобы
начался обратный — по сравнению с рас-
сеиванием движения — процесс, процесс
превращения умирающих, замерзающих
миров в огненно-раскаленный ураган рож-
дающейся туманности.
Мыслящий дух при этом жертвует самим
собой: в этом процессе он сам не может
сохраниться. Но его самопожертвование
совершается во имя долга перед ма-
терью-природой. Человек, мыслящий дух
возвращает природе старый долг. Когда-
то, во времена своей молодости, природа
породила мыслящий дух. Теперь, наобо-
рот, мыслящий дух ценой собственного
существования возвращает матери-приро-
де новую огненную юность, состояние,
в котором она способна снова начать
грандиозные циклы своего развития, ко-
торые когда-то вновь, в другой точке
времени и пространства, приведут снова
к рождению из ее остывающих недр
нового мыслящего мозга, нового мысля-
щего духа...
С этой точки зрения делается понятным
определение мышления как действитель-
ного атрибута (а не только «модуса»)
материи. В противном случае мышление не
может быть квалифицировано как атрибут.
Ведь в понятие атрибута входит, что данная
форма движения материи представляет
собой абсолютно необходимый продукт ее
существования, а тем самым — абсолютно
необходимое, не могущее исчезнуть усло-
вие ее бесконечного существования.
Иными словами, характеристика мышле-
ния как атрибута предполагает, что оно
(как высшая форма движения) есть аб-
солютно необходимое звено, через кото-
рое все время, вновь и вновь, проходит
материя в каждом из конечных циклов ее
грандиозного круговорота,— такая фор-
ма, которую этот круговорот воспроизво-
дит вновь и вновь с железной необходи-
мостью, заложенной в его природе
Следовательно, появление мыслящего
духа в русле мирового круговорота вовсе
не случайность, которой с равным правом
могло бы и не быть, а внутренне пола-
гаемое условие его собственного осу-
ществления
Ведь если предположить, что мыслящий
дух рождается где-то на периферии круго-
ворота мировой материи только затем,
чтобы вскоре бесследно и бесплодно
исчезнуть, вспыхивает на короткое мгнове-
ние на остывающей планете лишь за-ем,
чтобы снова погаснуть, оставив после себя
лишь развалины материальной культуры,
которые столь же быстро развеет по
вселенной поток ее нескончаемого движе-
ния,— если предположить такую судьбу
мыслящего духа, то в этом случае мышле-
ние оказывается чем-то вроде плесени на
остывающей планете, чем-то вроде стар-
ческой болезни материи, а вовсе не
высшим цветом мироздания, не высшим
продуктом всеобще-мирового развития.
В этом случае мышление, даже если его
и продолжать называть «высшим цветом»
материи, оказывается пустоцветом,— кра-
сивым, но абсолютно бесплодным цвет-
ком, распустившимся где-то на периферии
всеобщего развития лишь затем, чтобы
тотчас увянуть под ледяным или огненно
раскаленным дуновением урагана беско-
нечной вселенной...
Все действительное развитие мировой
материи в этом случае происходит рядом с
его развитием, совершенно независимо oi
него, и его появление абсолютно никак не
сказывается на судьбах всеобщего разви-
тия.
Мышление превращается в абсолютно
бесплодный эпизод, которого с равным
правом могло бы и не произойти вовсе без
всякого ущерба для всего остального.
Вряд ли такая роль соответствует месту
мышления в системе форм движения
мировой материи. Высшая форма ее дви-
жения не может быть самой бесплодной
и самой ненужной из всех.
Гораздо больше оснований предполо-
жить, что мыслящая материя — как
высшая качественно форма движения все-
общей материи — играет немаловажную
роль в процессе всеобщего круговорота —
роль, соответствующую сложности и высо-
те ее организации.
Почему же не предположить в таком
случае, что мышление как раз и есть та
самая качественно высшая форма, в кото-
рой и осуществляется накопление и пло-
дотворное использование энергии, излу-
чаемой солнцами?
То есть — то самое звено, которого пока
недостает, чтобы стал возможен действи-
тельный круговорот, а не односторонне
необратимый процесс рассредоточения
17
Библиотека Либрусек lib.rus.ec
материи и движения в межмировых про-
странствах?
Почему бы не предположить, что мате-
рия в своем развитии как раз и создает
с помощью и в форме мыслящего мозга те
самые условия, при наличии которых
излучаемая энергия солнц не растрачи-
вается бесплодно на простое нагревание
мирового пространства, а накапливается
в качественно высшей форме ее существо-
вания, а затем используется как «спуско-
вой крючок», как взрыватель, дающий
начало процессу обратного возрождения
умирающих миров в форму раскаленной
туманности?
Да, в эту качественно высшую форму
движения, накапливаемую в виде мате-
риальной культуры, в виде власти мысля-
щих существ над мертвой материей, в виде
мышления и его продуктов,— в эту ка-
чественно высшую форму движения пре-
вращается ничтожная доля тепла, излу-
чаемого солнцами в мировое про-
странство. Но количественная малость этой
доли вполне компенсируется тем, что она
накапливается в качественно высшей фор-
ме,— в такой форме, в которую сама
природа (без посредничества мышления)
не может превратить бесплодно растрачи-
ваемую излучением теплоту...
Человечество уже теперь способно
высвобождать такие запасы движения,
которые помимо него остались бы свя-
занными и мертвыми в ядерных структу-
рах В предположении, согласно которому
грядущее человечество окажется спо-
собным высвободить из связанного сос-
тояния такие количества энергии, которых
будет достаточно для того, чтобы превра-
тить остывающую материю нашего
звездного острова в океан раскаленного
пара,— в этом предположении нет уже
ничего удивительного и мистического.
Материальная и духовная культура
мыслящих существ, которая осуществляет-
ся в природе очень редко и требует для
своего появления чрезвычайно специ-
фичных условий, и оказывается той фор-
мой движения, в виде которой происходит
концентрированное накопление излуча-
емого солнцами тепла, которое по всем
другим каналам растрачивается бесплод-
но, а только в этой форме вновь исполь-
зуется как средство, как способ огненного
возрождения замерзающих участков боль-
шой вселенной.
Реально это можно представить себе
так: в какой-то, очень высокой точке
своего развития, мыслящие существа, ис-
полняя свой космологический долг и
жертвуя собой, производят сознательно
космическую катастрофу, вызывая про-
цесс, ведущий к возрождению умирающих
миров в виде космического облака раска-
ленного газа и пара.
Попросту говоря, мышление оказывает-
ся необходимым опосредующим звеном,
благодаря которому только и делается
возможным огненное «омоложение» ми-
ровой материи,— оказывается той непос-
редственной «действующей причиной»,
которая приводит в актуальное действие
бесконечные запасы связанного движе-
ния,— на манер того, как ныне оно,
разрушая искусственно небольшое коли-
чество ядер радиоактивного вещества,
кладет начало цепной реакции.
В данном случае процесс, по-видимому,
будет иметь также форму «цепной» — то
есть самовоспроизводящейся по спира-
ли — реакции, реакции, создающей своим
собственным ходом условия своего же
собственного протекания в расширяющих-
ся в каждое мгновение масштабах. Только
в данном случае цепная реакция
распространяется не на искусственно на-
копленные запасы радиоактивного ве-
щества, а на естественно накопленные
запасы движения вселенной.
Попросту говоря, этот акт осуществляет-
ся в форме грандиозного космического
взрыва, имеющего цепной характер, и ма-
териалом которого (взрывчатым ве-
ществом) оказывается вся совокупность
элементарных структур, рассеянных излу-
чением по всему мировому пространству.
С точки зрения современной физики это
вовсе не выглядит невероятным.
Ведь ясно, что чем мельче искусственно
разрушаемая структура, тем большие за-
пасы внутренней энергии высвобождаются
при ее разрушении. Разрушение химичес-
кой структуры (которое происходит при
самом простом сжигании) дает сравни-
тельно небольшую дозу высвободившейся
энергии. Несравнимо больше энергии,
высвобождаемой при разрушении атомно-
го ядра. Чем «проще» структура, подвер-
гающаяся разрушению, тем больше коли-
чество выделяемой при этом энергии (что
показывает: чем мельче и проще мате-
риальная структура, тем прочнее ее
внутренние связи,— тем труднее ее разру-
шить, но тем больше энергии получается
в том случае, если удается сделать реак-
цию цепной).
Если теоретически прочертить перспек-
тиву в будущее развитие техники и науки,
то тенденция явная, человек идет к цепно-
му разрушению все более простых, а тем
самым все более прочных структур мате-
рии, высвобождая при этом все большее
и большее количество связанной в этих
структурах энергии. И как бы ни велика
была затрата энергии, потребной на то,
чтобы разрушить первую частицу, то есть
положить начало цепной реакции,— эта
затрата не идет ни в какое сравнение
с общим количеством выделяемого при
цепной реакции количества движения.
И перспектива теоретически такова:
если бы удалось разрушить бесконечно
малую структурную единицу материи —
то взамен получилось бы пропорциональ-
но бесконечное количество высвободив-
шейся при этом энергии,— количество,
которого достаточно для того, чтобы
разрушить и превратить в раскаленные
пары бесконечно большую массу
остывшей материи.
Так в новом свете подтверждается
старая формулировка существа закона
сохранения материи и движения, данная
Лейбницем если бы была разрушена
мельчайшая пылинка — рухнула бы вся
вселенная. Но процесс этот вполне объяс-
няет возможность превращения сколь
угодно больших конечных масс остывшей
материи в раскаленную туманность, спо-
собную положить начало новым мирам
С этой точки зрения гипотеза, по-
видимому, выдерживает принципиальную
критику.
Мышление, таким образом, и выступает
как то самое звено всеобщего круговоро-
та, посредством которого развитие миро-
вой материи замыкается в форму кругово-
рота,— в образ змеи, кусающей себя за
хвост,— как любил выражать образ истин-
ной (в противоположность «дурной») бес-
конечности Гегель.
Но — что не менее важно и интересно
с точки зрения проблемы взаимоотноше-
ния материи и мышления — гипотеза отво-
дит мышлению, мыслящему духу, такую
роль в ходе всеобщего круговорота ми-
роздания, которая гораздо больше соот-
ветствует его месту на лестнице развития,
чем представление, согласно которому все
развитие духовной и материальной куль-
туры, вся история мыслящего духа ведет
к нулевому результату, к нелепому аб-
солютному отрицанию, к простой гибели,
не оставляющей никакого следа.
Гипотеза, исходя из учета места и роли,
которую мыслящий дух необходимо иг-
рает в системе всеобщего взаимодействия
мировой материи, из учета объективных
и помимо воли и сознания складывающих-
ся в мироздании обстоятельств, проясняет
ту самую «высшую» и «конечную» цель
существования мыслящего духа в системе
мироздания, на которой всегда спекулиро-
вали все и всяческие религии. Эта «конеч-
ная цель» сама понимается как с необходи-
мостью достигаемое сознание, отражение
места мыслящего духа в системе объек-
тивных условий, полагаемых развитием
мировой материи.
И эта объективно выведенная «цель»
бесконечно грандиознее и величествен-
нее, чем все те жалкие фантазии, которые
выдумали религии и связанные с ними
философские системы.
Высшая и конечная цель существования
мыслящего духа оказывается космически-
грандиозной и патетически-прекрасной.
От других гипотез относительно финала
существования человечества гипотеза от-
личается не тем, что устанавливает в ка-
честве этого финала всеобщую гибель —
гибель, смерть, уничтожение представ-
ляют собой абсолютно необходимый ре-
зультат в любой гипотезе,— а лишь тем,
что эта гибель рисуется ею не как
бессмысленный и бесплодный конец, но
как акт по существу своему творческий,
как прелюдия нового цикла жизни вселен-
ной.
Такого значения за человеком и такого
смысла его гибели не может, по-видимо-
му, признать ни одна другая гипотеза.
Смерть мыслящего духа становится тем
самым его бессмертием. И когда-то
вновь — в бесконечно далеком гряду-
щем — новые существа, в которых приро-
да разовьет мыслящий дух, будут — как
и мы ныне — созерцать сверкающие над
небом их Земли звездные миры с гордым
сознанием, что эти миры обязаны своим
18
существованием некогда исчезнувшему
Мыслящему Духу, его великой и прекрас-
ной жертве.
В сиянии звездного неба мыслящее
существо будет всегда видеть свиде-
тельство могущества и красоты
бессмертного даже в смерти своей Мысля-
щего Духа,— определенную, чувственно
воспринимаемую, а потому не
вызывающую никаких сомнений свою
собственную власть над предметным ми-
ром.
Звездное небо, как и вся окружающая
природа, будет для мыслящего существа
зеркалом, в котором отражается его
собственная бесконечная природа. Через
сияние звезд мыслящему духу будет
говорить—на языке, понятном только
ему — вечно возрождающийся в своих
продуктах бессмертный мыслящий дух.
И в созерцании вечной природы чело-
век, как и всякое мыслящее существо,
будет испытывать гордость самим собой,
космическими масштабами своей
собственной вселенско-исторической мис-
сии — местом и ролью мыслящего су-
щества в системе мирового взаимо-
действия.
В сознании огромности своей роли
в системе мироздания человек найдет
и высокое ощущение своего высшего
предназначения — высших целей своего
существования в мире. Его деятельность
наполнится новым пафосом, перед ко-
торым померкнет весь пафос религий.
Это будет пафос истины, пафос истинного
сознания своей объективной роли в систе-
ме мироздания
Пройдут миллионы лет, родятся и сойдут
в могилу тысячи поколений, установится на
Земле подлинно человеческая система
условий деятельности — бесклассовое об-
щество, пышно расцветет духовная и ма-
териальная культура, с помощью которой
и на основе которой человечество только
и сможет исполнить свой великий
жертвенный долг перед природой.
И к ныне идущей борьбе наша гипотеза
прибавляет лишь гордое — и носящее
пока лишь чисто эстетический характер —
сознание, что деятельность человека оду-
хотворена не только пафосом «конечных»
человеческих целей, но имеет, кроме того,
и всемирно исторический смысл, осу-
ществляет бесконечную цель, обусловлен-
ную со стороны всей системы мирового
взаимодействия.
И в свете изложенной гипотезы совсем
по-новому, с еще большей пророческой
силой, звучаз гениальные слова «Диалекти-
ки природы»:
«Материя во всех своих превращениях
остается вечно одной и той же, ...ни один
из ее атрибутов не может быть утрачен...
поэтому с той же самой железной необхо-
димостью, с какой она когда-нибудь
истребит на Земле свой высший цвет —
мыслящий дух, она должна будет его снова
породить где-нибудь в другом месте
и в другое время»...
Философ
космического
века
В. И. СЕВАСТЬЯНОВ,
летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза
Статья Эвальда Васильевича Ильенко-
ва — явление необычное в нашей фило-
софской науке. Может быть, поэтому она
издается только через десять лет после
безвременной кончины автора...
Особое своеобразие, на наш взгляд,
придает ей очевидное стремление фило-
софа превратить свою науку в «приклад-
ную», но прикладную не в обычном,
утилитарном, а, если можно так сказать,
в космическом понимании.
Нас всех беспокоит сегодня, как сделать
нашу ничтожно малую в бесконечном
мироздании планету более поигодной для
человеческого жилья? Как психологически
охватить пугающие пространства макро-
космоса? Как совместить конечность и бес-
ценность индивидуального бытия с беско-
нечностью общечеловеческого Идеала?
Ответы на эти вопросы приобретают в
наше время — время «звездного часа»
философии — особое значение. Угроза
ядерного самоуничтожения, обострение
глобальных противоречий мирового разви-
тия заставляют задуматься миллионы и
миллионы людей над смыслом земного
бытия и существования нашей цивилиза-
ции. Э. В. Ильенков раньше и резче многих
сформулировал эти вопросы и попытался
ответить на них Он, пожалуй, раньше всех
ввел в философский обиход еще один
очень важный мировоззренческий крите-
рий поляризации. Наряду с традиционным
для классической философии делением на
материалистов и идеалистов, гностиков
и агностиков, диалектиков и метафизиков,
он вводит новое деление, присущее косми-
ческому веку,— деление на финалистов
и антифиналистов. Антифиналистов — оп-
тимистов, допускающих возможность су-
ществования бесконечной материи и ее
высшего творения — человека — в беско-
нечном мироздании, и финалистов — пес-
симистов, исходящих из неизбежности
конца цивилизации и Вселенной. Кем же
ЛЕЧАТ ЛИ ХРАМЫ!
В Древней Греции храмы, построенные
в честь бога врачевания Асклепия, были
настоящими лечебницами. Больных
отбирали после тщательного
медицинского осмотра. Лечение
начиналось с общения со священными
животными. Под тихие звуки флейт из
чаш выползали змеи. Священные собаки
лизали раны и язвы пациентов. Здесь
является в этом аспекте сам Э. В. Ильен-
ков?
На первый взгляд, он финалист,—
финалисты не видят выхода из ядерного,
экологического, космогонического тупика,
который означает катастрофу и обрыв
жизни. Антифиналист полагает, что эти
противоречия разрешимы, что разум че-
ловечества, добрая воля способны сберечь
нашу цивилизацию. Это новое, нарож-
дающееся сознание, которое, уверен,
будет служить человечеству не одно тыся-
челетие.
Но философ заглядывает в такие време-
на, которые уходят на миллионы лет
вперед. При этом он стоит на прочных
позициях диалектического материализма,
последовательно проводя идею о мышле-
нии как об одном из атрибутов материи,
постоянно возобновляющем свои циклы
в вечном вселенском круговороте.
Казалось бы, он рассуждает как фина-
лист, говоря о конечности земной цивили-
зации Но вчитайтесь внимательно. Подоб-
но тому, как человек уходит из жизни,
продолжая жить в новых поколениях через
созданную им культуру, энергию мысли,
мудрость, так человечество в какой-то
момент, уходя, передаст энергию своей
мысли неведомым наследникам.
Может быть, не все примут выводы
Э. В. Ильенкова, слишком «космичен» их
масштаб Думается, что и сам он многое
пересмотрел бы, ознакомившись с послед-
ними достижениями и открытиями в облас-
ти космологии. В частности, обойден
вопрос об уникальности сочетания ми-
ровых физических констант, опреде-
ляющих условия возникновения биологи-
ческой жизни, а также антропогенный
принцип строения Вселенной, хотя «незри-
мо» он присутствует в суждениях филосо-
фа. Но это — детали, идущие от современ-
ного уровня науки.
Перед нами произведение творческого
интеллекта, как бы рвущегося за жесткие
рамки уготованного ему судьбой хроноло-
гического отрезка времени, преодоле-
вающего противоречие между конеч-
ностью отдельного человека и всего
человечества — с одной стороны, и беско-
нечностью разума как атрибута материи —
с другой. В этом, на наш взгляд, основное
значение его работы. И как таковая она
вправе считаться посмертным личным
вкладом видного советского философа
в культурный пласт перестройки челове-
ческого сознания.
——>" । — НАША МОЗАИКА
использовали массаж, купание,
применялось и голодание. Можно
говорить и о климатотерапии — храмы
строили в живописных местах с
прекрасным воздухом. Но главным для
успешного лечения считалось чудесное
сновидение, когда больному являлся сам
бог Асклепий. Жрецы толковали сон
и на этой основе назначали лекарства
и процедуры.
19
ГОРИЗОНТЫ НАУКИ
Можно ли
жить*
без
мозга:
Каких только невероятных загадок
и чудесных открытий не встретишь
на страницах старых газет и
журналов! Вот, к примеру, журнал
«Природа и люди». В № 47 за
1917 год вы сможете прочитать
научную беседу доктора А. Буке
(перевод с французского) под
интригующим заголовком «Можно ли
жить без мозга?». Приводим ее в
сокращении.
А. Буке
В конце XVI века жил — сначала в Пор-
тугалии, а потом в Голландии—ученый
врач Закутус Лиссабон, или Лузитанус.
После жизни, исполненной превратностей,
он умер, оставив по себе имя и из-
вестность, а потомству — ряд трудов по
медицине. В одном из них, озаглавленном
«Из врачебной практики», находим ниже-
следующую весьма поучительную справ-
ку.
«Десятилетний мальчик был ранен в
затылочную часть рапирой. Удар был
нанесен по всем правилам искусства кость
была раздроблена, мозговые оболочки
вскрыты, мозг вытекал свободно через
рану. Сверх ожиданий, мальчик выздоро-
вел. Но через три года, под напором соков,
притекавших к ослабленному месту, умер:
у него сделалась водянка. Мальчике анато-
мировали — и не нашли признака мозга.
Первая оболочка мозга как бы раздвоилась,
и образовавшаяся полость содержала со-
вершенно прозрачную жидкость без запа-
ха; некоторые из присутствовавших врачей
попробовали жидкость на язык и нашли ее
безвкусной. Каким образом могло не быть
запаха после несомненно гнилостных про-
цессов? Это в высшей степени необычай-
но».
Лузитанус не пользуется в медицинском
мире особенно хорошей репутацией. Его
считают немного шарлатаном, а иные его
заметки якобы «из практики» по меньшей
мере подозрительны. Предок его был
южанин, а горячее солнце Португалии
имеет свойство заставлять видеть то, что
хочется, а не то, что есть на самом деле.
По-видимому, даже холодные гол-
ландские туманы не остудили у Закутуса
португальский пыл.
Таково было вообще мнение о Лузитану-
се до самых последних дней. И вот,
приходится желать теперь его реабилита-
ции, так как действительность раскрыла не
только подобные же, но еще более
удивительные вещи, которые подтвер-
ждаются современными нам автори-
тетами и опираются на неопровержимые
документальные данные.
Случай, алжирского происхождения.
наблюдался д-ром Дето, когда гот был
ассистентом проф. Брука.
Однажды явился на консультацию араб,
с совершенно раздробленной левой над-
бровной дугой. Он пришел издалека
пешком, на двадцатый день после получе-
ния удара. Рана не представляла ничего
особенного, если не считать нескольких
капель выступившего гноя. К ней и отнес-
лись как к внешнему травматическому
повреждению: сделали обычную перевяз-
ку и предоставили дальнейшее заживление
природе. Больной, по-видимому, совсем
поправился и стал вести обычную для
туземцев жизнь. Но в один прекрасный
день он скончался в несколько минут, без
всяких симптомов болезни или недомога-
ния. Конечно, его анатомировали и, вместо
левого лобного сегмента мозга, нашли
один громадный гнойник. Не менее шестой
части всего мозгового вещества было
разрушено, причем процесс нагноения
длился около трех месяцев.
А вот и еще факт, заимствованный из
реферата д-ра Робинсона в Парижской
академии наук, нашумевший за несколько
лет до войны.
Шестидесятидвухлетний старик был ра-
нен в темя острым концом багета от
оконной драпри. Вытекло немного крови,
после чего, в течение месяца, рана ничем
о себе не напоминала, так что окру-
жающие даже забыли о несчастном слу-
чае; но внезапно потерпевший стал жало-
ваться на расстройство зрения. Заметили
как будто также небольшое расстройство
мыслительных способностей, крайне,
впрочем, незначительное. Страданий не
было; больной был счастлив и доволен,
когда вдруг скончался с признаками эпи-
лепсии. Вскрытие показало, что головной
мозг почти совсем исчез; сохранилась
тоненькая, в листик, оболочка мозгового
вещества, содержавшая продукты гни-
лостного разложения. Все центральные
части органа исчезли без следа. Здесь мы
вплотную подошли к случаю Закутуса:
пострадавший более месяца жил, так
сказать, без головного мозга.
Приведенные факты вносят коренные
изменения в прежние поедставления о
функциях головного мозга. Но параллель-
но возникают и совершенно новые воп-
росы. В случаях, повлекших за собою
смерть, последняя явилась в результате
гнойных внутренних нарывов; могли бы
пострадавшие не умереть, если бы утрата
мозга произошла без гнилостных процес-
сов, хирургическим или травматическим
путем? Можно ли оперировать с мозгами
так же, как с любой другой тканью,—
удалять их частью или полностью?
В заключение приведем еще один факт
из практики д-ра Люфера. Солдат, о кото-
ром идет речь, был привезен в лазарет
после трепанации, сделанной ему еще
в передовом отряде. В левой части черепа
у него образовалась мозговая грыжа
величиной в кулак, и положение раненого
было такое отчаянное, что д-р Люфер
решил немедленно удалить выступивший
мозг, хотя бы для того, чтобы предупре-
дить образование изрывов. Операция
повлияла в высшей степени благоприятно
на состояние больного, и выздоровление
пошло скорым ходом.
Остановимся на приведенных фактах,
хотя, конечно, список их можно бы увели-
чить, так как текущая война доставляет,
несомненно, достаточно клинического ма-
териала. Что же доказывают факты?
Д-р Мольер, исходя из них, высказался
в таком смысле, что «головной мозг нужен,
очевидно, только для заполнения череп-
ной коробки». Конечно, это не более как
остроумный афоризм, в котором вырази-
лось изумление хирурга перед ранения-
ми и операциями, теоретически смертель-
ными. Понятно, что назначение мозго-
вого вещества иное; но оно может быть
резюмировано только отрицательно: «нет,
без мозга жить нельзя». Доказательства
именно в приведенных фактах: в тех
случаях, когда мозговое вещество было
разрушено совсем, или хотя бы в большей
части, наступала смерть. Приходила она не
скоро, давала больным возможность по-
жить, перед катастрофой, нормальной
жизнью; но все же приходила. С другой же
стороны: «да, можно жить, по удалении
20
более или менее значительной части
головного мозга». Последний вывод идет
в разрез со всеми, сравнительно недавни-
ми воззрениями, когда повреждения,
а тем более ущербы мозгового вещества
считались безусловно смертельными. Тог-
да врачи боялись нарушить целость столь
нежной ткани; хирурги, решавшиеся кос-
нуться ее ножом, принадлежали к редким
исключениям. Теперь мы осмелели: врачи
не дают больным и раненым медленно
угасать от когда-то неизлечимых повреж-
дений; мы храбро хватаемся за нож
и погружаем его в вещество головного
мозга как в любой внутренний орган. И,
право, пострадавшим от этого не хуже.
Параллельно возникает, однако, и нешу-
точное затруднение: как быть с локализа-
цией функций головного мозга — теорией,
построенной на основании тщательного
изучения, анатомического и практическо-
го, того сложного органа, многочисленные
извилины которого все перенумерованы
и приурочены к совершенно опреде-
ленным отправлениям нашего физическо-
го и психического «я»? Здесь теория
и практика частью совпадают, частью
совсем расходятся, и надо сознаться, врачи
бродят как в потемках. Теоретически
и практически разрушение, например,
центра речи, влечет за собой афазию;
между тем оперативное удаление не
только этого центра, но соседних с ним
участков мозга нисколько не влияет на
психику оперированного субъекта. Из это-
го противоречия пока нет выхода; сама
теория локализации должна остаться, не-
смотря на все ее дефекты Ибо лучше
какая-нибудь теория, чем никакая; смот-
реть же на нее следует как на нечто
переходное и изменимое во времени.
«Некоторым
это удается»
Когда вопрос «Можно ли жить
без мозга?» мы задали
руководителю лаборатории
нейрохирургической анатомии
и экспериментальной неврологии
Института нейрохирургии
им. Н. Н. Бурденко АМН СССР
доктору медицинских наук,
профессору С. М. БЛИНКОВУ,
он ответил, смеясь, что
некоторым это удается. Правда,
для читателей журнала он
подготовил совершенно
серьезный ответ.
Что можно сказать по этому поводу? Во-
первых, вопрос «можно ли жить без
мозга?» равнозначен вопросу «можно ли
изобрести вечный двигатель?».
В медицине существует термин «смерть
мозга». Это означает, что кровоснабжение
мозга необратимо прекратилось, его
нервные клетки больше не функпиони
руют и неизбежно погибают. Реанимация
невозможна, дыхание поддерживается
только посредством искусственной вентиля-
ции легких, но сердце, благодаря принадле-
жащим самому сердцу нервным элементам,
еще работает. У человека, находящегося
в таком состоянии, заимствуют сердце,
почки и другие органы для пересадки тем,
кто в них нуждается.
Во-вторых, любая сенсация, касающа-
яся функций мозга, нуждается в серьезной
проверке. Приведу пример: когда я работал
в Институте мозга, мне было поручено
изучить мозг с грубым недоразвитием
больших полушарий. По словам врача,
который привез и передал нам этот препа-
рат, больной обладал совершенно нормаль-
ной психикой и умер от инфекционного
заболевания.
Прежде, чем приступить к изучению
мозга, я побывал в городе, где жил
больной. В истории болезни, составленной
в инфекционном отделении больницы,
действительно никаких намеков на наруше-
ние психической сферы у больного не было
Зато когда я посетил соседей больного,
выяснилось, что он страдал слабоумием
и неоднократно находился в психиатричес-
кой больнице.
Головной мозг, по определению
И. П. Павлова, состоит из миллиардов
очагов нервной деятельности и представ-
тяет собой единство мозаики и объедине-
ния. Мозаика состоит из участков, от ли
чающихся по структуре и функциям, а
единство обеспечивается благодаря десят-
кам тысяч километров путей, проводящих
нервный ток. По законам, выработанным
в процессе эволюции позвоночных жи-
вотных, эти проводящие пути связывают
между собой различные центры, то есть
скопления клеток, которые обозначаются
как ядра и поля.
Оказывается, не все центры и не все пути
обеспечивают продолжение жизни. Из об-
щей массы, например, 1300 г головного
мозга, для обеспечения жизнедеятельности
(в первую очередь - самостоятельного
дыхания) работает сравнительно неболь-
шой отдел, массой около 130 г, так
называемый ствол мозга, расположенный
в глубине черепа на переходе головного
мозга в спинной.
Я лично наблюдал анэнцефала (в перево-
де на русский — «безмозглого») — мла-
денца с пороком развития Дышал он
самостоятельно, сон чередовал с бодрство-
ванием, мог сосать соску, при болевом
раздражении у него была мимика неудо-
вольствия и благодушное выражение лица
в комфортных условиях. Прожил он недол-
го, а на вскрытии я обнаружил только ствол
мозга — все остальные части головного
мозга представляли собой недифференци-
рованное студенистое вещество.
Почти во всех отделах головного мозга,
за исключением его ствола, одни и те же
функции (особенно высшие, специфически
человеческие) могут осуществляться раз-
личными содружествами центров и путей.
При гибели одних содружеств происходит
перестройка, и потерянная было функция
(например, понимание звуковой речи)
восстанавливается - обычно через 3-
4 месяца.
Иногда дефект, наступивший в результа-
те поражения даже значительной части
мозга, компенсируется настолько, что это
может выясниться только путем изощрен-
ного нейропсихологического анализа
(оказывается, что осуществление функции
по обходным путям может привести только
к удлинению времени, необходимого для
получения того же результата всего на
несколько тысячных долей секунды!), а
иногда, чтобы глубоко нарушить нервно-
психическую деятельность, достаточно
очага поражения величиной всего с горо-
шину.
Возможно, нелегко с этим согласиться,
но иметь больной орган хуже, чем не иметь
его вовсе. Если нарывает мизинец, может
наступить заражение крови и смерть, как
у Базарова в романе И. С. Тургенева. Но
без мизинца прекрасно можно жить. Так
и в мозгу. Патологические импульсы, исхо-
дящие из какого-либо центра, могут совер-
шенно дезорганизовать психику. Между
тем полная гибель ткани может быть
полностью компенсирована за счет деятель-
ности мозговых механизмов, оставшихся
сохранными
В мозгу много неиспользованных резер-
вов. Чем больше мозг тренируется, рабо-
тает мысль, чем больше очагов нервной
деятельности, тем богаче и «умнее» стано-
вятся нейроны, тем больше возникает
новых функциональных и анатомических
связей между различными центрами.
Большинство людей безрассудно отно-
сятся к своему мозгу: травят его наркотика-
ми, оглушают неистовым ритмическим
шумом, тратят время на погоню за химера-
ми, бездельничают, идут по пути наимень-
шего сопротивления. В результате спят
и в конце концов атрофируются резервные
структуры мозга
Возможности развивать мозговую де-
ятельность значительно шире тех, которые
мы используем. И вот оказывается, что
в экстремальных условиях, при гибели
одних участков мозга, другие, правда
в жестко определенных, но достаточно
широких пределах, могут заменить поте-
рянные части. Я сам во время Великой
Отечественной войны видел в нейрохирур-
гических госпиталях раненых с большими
потерями мозговой ткани, которые благода-
ря умелому лечению, а еще больше
благодаря огромной воле к выздоровлению
(как помогали нам тогда книги Николая
Островского!), путем целенаправленной
тренировки достигали изумительных ре-
зультатов, радовались жизни сами и радо-
вали окружающих
При всем при том с природными
даннымй, индивидуальными особенностями
мозга нельзя не считаться. Почему одни из
современников становятся инициаторами
социальных и культурных новаций эпохи,
их отражением, а другие — паразитами,
подонками и душителями? Разные люди
требуют разного подхода Работу мозга
надо изучать. На нее можно и нужно
влиять.
Ну, а как, спрашивает автор научной
беседы А. Буке, быть с локализацией
функций мозга? Он прав: «на эту теорию
надо смотреть как на нечто переходное
и изменимое во времени». С каждым годом
открываются новые факты, появляются
новые взгляды на соотношение между
структурой и функцией мозга. Что же
касается вывода автора, то теория локали-
зации функций мозга неотделима от его
философского мировоззрения.
6 «Наука и религия» № 9
21
ЬЫТ И НРАВЫ НАРОДОВ
Редакция получает от читателей
десятки писем с просьбой рассказать
о китайской традиции ушу — или,
как чаще говорят на Западе, гунфу.
Следует признать, что гунфу —
сложное, почти неизученное и притом
очень самобытное явление китайской
культуры.
Публикуемая статья старшего
научного сотрудника Института
этнографии АН СССР,
В. В. Малявина печатается в порядке
дискуссии, как одна из версий
объяснений феномена гунфу.
Гравюры из книги Сибо
«Заметки о гунфу» (XVIII в.|.
Термин «ушу» означает буквально «во-
инские искусства», то есть приемы обраще-
ния с различными видами оружия, а также
искусство рукопашного боя или, как гово-
рили в Китае, «искусство кулака» (цюань
шу). Понятие «гунфу» охватывает более
широкий круг значений: мастерство, «ра-
бота над собой», подвижничество, физи-
ческое и духовное совершенствование
в самых разных его видах. Оно имеет
отношение и к нравственному самосовер-
шенствованию в конфуцианстве, и к рели-
гиозной практике даосизма и буддизма.
Одна из особенностей китайской циви-
лизации состоит в том, что на протяжении
тысячелетий в стране сложилась не-
разрывная, органическая связь между
(«культурой тела» и «культурой духа»,
между воинским искусством, гигиеной,
религиозной аскезой и этикой, наукой,
искусством, даже бытом. Гунфу в тради-
ционном понимании — это путь реализа-
ции всех потенций человека, гармонизации
жизни тела и жизни духа.
Согласимся, что спортсмен-философ
или спортсмен-художник на Западе —
фигура редкая. И если он к тому же
претендует на святость, то и вовсе подоз-
рительная. В китайской же традиции
единение физического совершенства, муд-
рости и духовного величия считалось не
только естественным, но и единственно
заслуживающим доверия. Правда, только
в том случае, если культура тела не
перерастала в культ силы, знание не
отрывалось от полноты жизненного опыта,
а возвышенность духа не превращалась
в экзальтированность. Гунфу было в пол-
ном смысле слова делом всей жизни.
Более того, оно было традицией. «Ис-
кусство кулака» играло такую важную роль
в практике гунфу прежде всего потому,
что оно ставило человека в экстремальные
ситуации, не испытав которых, человечес-
кое сознание не могло открыть в себе
несокрушимую волю и, следовательно, не
могло бы достичь полной зрелости, обрес-
ти полный контроль над собой.
Разумеется, в старом Китае воинские
искусства были тесно связаны с религией.
Религиозная идеология в Китае, как и в
других традиционных цивилизациях, освя-
щала все стороны человеческой практики,
формировала символический язык куль-
туры, который использовался во всех
областях общественной жизни. Однако
было бы глубоко неверно видеть в гунфу
только часть религиозной традиции. Осно-
ва традиции гунфу — вера в безграничные
возможности человеческого совершенст-
вования, в абсолютную ценность челове-
ческой воли. Такая вера имеет по сущест-
ву гуманистическую природу, основыва-
ется на естественных способностях челове-
ческого организма и человеческого созна-
ния. Кстати, мастера гунфу всегда подчер-
кивали это гуманистическое содержание
их традиции. Одда из самых популярных
их поговорок: «Моя судьба—во мне са-
мом».
О гунфу в Европе узнали довольно
давно: еще в 17/9 году во Франции
появилась книга миссионера-иезуита Сибо,
озаглавленная «Заметки о гунфу даосских
бонз». Автор пользовался услугами обра-
щенного в христианство китайца и с не-
обыкновенной для своего времени точ-
ностью описал многие особенности прак-
тики гунфу. Конечно, ученый иезуит
подходил к гунфу со своими мерками: он
видел в нем «утонченную и разумную»
систему физических упражнений, а вот
главную цель — реализацию человеком
всех творческих потенций своего бытия —
понять не захотел и усматривал в идеалах
мастеров гунфу только желание «достичь
бессмертия». Отмечал он и то, что настав-
ники гунфу «в обучении пользуются
особым языком, который так же далек от
общепринятого языка, как и понятия наших
алхимиков». Книжка Сибо осталась почти
незамеченной, просвещенную Европу эпо-
хи Дидро, Канта не заинтересовали ту-
манные речи «китайских алхимиков».
Иное дело сейчас. В последние десяти-
летия интерес к гунфу приобрел во всем
мире поистине огромные масштабы.
Что же ищет житель современного
Запада, обращаясь к гунфу? Видимо,
прежде всего то, чего ему недостает. Что
же именно? Возможно, ответ подскажет
сопоставление западной аэробики с ки-
тайской гимнастикой тайцзицюань — од-
ним из компонентов традиции гунфу.
Отупляюще механические, агрессивные
движения любителя аэробики представ-
ляют разительный контраст с плавными,
размеренными, требующими вдумчивого
сосредоточения движениями мастера
тайцзицюань. Общее впечатление таково,
что в первом случае человек словно
жаждет забыться, бежит от самого себя, во
втором — возвращается к себе, принимает
самого себя. Житель современного Запада
слишком часто являет собой тип, я бы
сказал, самоуверенного эскаписта. Он го-
тов бежать от своего мира, который так
льстит самолюбию человека и так часто
оказывается бесчеловечным. Но покуда он
останется беглецом в душе, ему трудно
22
будет понять простой, как сама жизнь,
секрет гунфу: необходимо принять всю
полноту своего бытия, бесконечную полно-
ту человеческих проявлений жизни. Неда-
ром китайские учителя говорили,. что
властелином мира станет не тот, кто
одолеет других, а тот, кто покорит сам
себя.
Старые мастера гунфу утверждали, что
в их искусстве «стилей великое множество,
но все они приходят к одному». Последо-
вательность стиля есть нечто неопределен-
ное, и все же она вполне определенна
и в высшей степени убедительна; она
связывает несвязуемое. Парадоксы стиля
обусловили некоторые особенности гунфу,
которые нередко повергают в недоумение
европейцев. Важнейшая из них — принцип
замкнутой школы с ее корпоративным
«секретом», безукоризненным доверием
учеников к учителю, которого недаром
называли «шифу» — «наставник-отец». Ев-
ропейцы, привыкшие к отношениям, так
сказать, эквивалентного обмена во всех его
видах, убежденные, что все на свете
подлежит обсуждению и что истина непре-
менно должна быть общеизвестной и к то-
му же общедоступной, нечасто способны
принять взращиваемую школой атмосфе-
ру интимно-невысказанного понимания,
утонченной доверительности. Европейцы,
конечно, жаждут разъяснений. Между тем
китайская система обучения основывалась
не на передаче знания, имеющего пред-
метное содержание, а на приемах, побуж-
дающих ученика осознавать и преодоле-
вать границы своего понимания. Качество
образования определялось не суммой
знаний, а силой духа, качеством энергии,
каковая и запечатлена в стиле. Поэтому, по
китайским понятиям, «каждый прохожий
может стать учителем», каждая мелочь
может стать откровением, нужно только
иметь волю это увидеть, уметь преобра-
зить жизнь в стиль и стиль в жизнь. Секрет
школы есть искренность в понимании
предела своего опыта и искренность в же-
лании этот предел превозмочь
Традиция школы коренилась в пре-
емственности вечнотекучего сознания; в
Китае ее уподобляли «вечно вьющейся
нити». Что же говорить о стиле и технике?
Каждое мгновенное переживание, каждый
жест, каждый образ могли стать их исто-
ком. По оценкам китайских знатоков,
численность известных стилей ушу дости-
гает нескольких сотен. Многие из них были
достоянием одной деревни или даже
семьи,
Если «секрет» гунфу есть встреча не-
сходного и преемственность непоследова-
тельного, то ясно, что равнодушие настав-
ников гунфу к пресловутому «здравому
смыслу» и их загадочно-многозначи-
тельный язык — это не прихоть, не игра
в таинственность, а внутренняя потреб-,
ность их мышления. Традиция гунфу
предполагает наличие в культуре
разрывов, различных ступеней понимания
(что, возможно, само по себе является
фундаментальным законом существования
культуры). Язык традиции гунфу — это не
язык «объективных истин», «позитивных
начал» или догматов. Он состоит из лако-
8
г
ft)
60
3
ъ
яь
3
©
3
3
г
3
X
§
ь;
05
60
X
S
3
о
©
з
§
I
3
S
* 3
м
•§,8
vo Ч >а
в
пъ
3)
53
3
г
§
I
X
©
8
3
3
8
5
60
g
§
3
3
I
О
\©
53
«5
3
3
3
3
©
3
е а
© *©
60 31
3 KQ
3
м ©’
§ а
*-©
© *
X W
и ‘5
х 3
5©
е ©
50
X
X
3
3
§
хо
3
3
X
3
§
а;
S!
О
Ч
§
S.
a; U
& ***
5 *
е
в
*
а
а
а
г
•з
»3
i
X
ft)
X
X
©
я
•е-
%
3
3
3
3
5
*8
65
3
3
X
X
§
з-
3)
X
X
3
8
©
©
X
©
3
§
f
X
§
К
£
3
СО
3
*
S
ft)
3
с
65
©
3
3
2
з^
X
£
а
2
§
»3
©
X
3 ‘3 a
3
3
©
©
80
3
3
с
3
60
3
60
©
X
е
со
3
S
ft)
3
©
X
3
3
3
f i
*3
С а
= 65 S
g'-S-g
S а §
60
§
X
8
*
3
* «
|<§
*
3
£
60
3
3
х
3
3
«© ©
ft) 3
CL 3
CL
X
§
3
з
3
3
\©
I
§
X
©
3
or
3
X
X
§
3
60
о
«5
X
§
I
1
и
3
X
©
ср
©
»3
3
X
X
1
3
3
— X 3
« Cd A.
a g?
3 © ft)
40 >3
3
3
и
&
6'
23
ничных сентенций, метафор, притч, анек-
дотов, то есть иносказателен по своему
характеру и в разных своих проявле-
ниях указывает на нераздельность по-
нятного и непонятного, сказанного и
невысказанного, истинного и ложного.
Поэтому здесь каждое изречение или
притча обладают смысловой завершен-
ностью.
«Слова кончаются, а смысл бесконе-
чен»,— говорили в Китае. Это, казалось
бы, вполне логичное суждение имело еще
и особый подтекст: бесконечность смысла
прозревается как раз там, где слова
обрываются, изменяют своим обыденным
значениям, оказываются бессмысленными.
И мастера гунфу следовали завещанному
древними китайскими мудрецами методу
обучать «красноречивым умолчанием»,
«бессловесным наставлением». Удивитель-
но ли, что в многолюдном ныне хоре
толкователей и пропагандистов гунфу по-
чти не слышен голос старых знатоков этого
дела?
Попробуем теперь оценить такую харак-
терную особенность традиции гунфу (а
впрочем, и всей традиционной культуры
Китая), как сведение технического арсена-
ла школы к репертуару ноомативных
движений или жестов, которым обычно
присваивались откровенно метафоричес-
кие названия, например: стойка лошади,
стойка змеи, «поймать воробья за хвост»,
«восемь небожителей переправляются че-
рез океан», «облачные руки» и так далее.
Подобные образные наименования, ко-
торые на Западе нередко кажутся только
данью восточной пышности слога, выпол-
няли вполне определенные функции. Во-
первых, самой своей условностью они
заставляли пересматривать стереотипы
мышления, верить в реальность фантасти-
ческого, даже невероятного, одним сло-
вом — учили доверять бытию, без чего
было бы невозможно доверять и учителю.
Во-вторых, устанавливая соответствия
между человеческими жестами, с одной
стороны, и повадками животных, при-
родными явлениями, мифологическими
сюжетами, с другой, они утверждали
преемственность между природой и куль-
турой, человеком и миром, временем
обыденным и священным. В-третьих, буду-
чи по сути дела формой не статичного
объекта, а действия, становления, они
указывали на динамическую природу ре-
альности в китайской картине мира.
Еще в древности в Китае сложились
комплексы гимнастических упражнений
пяти стилей — тигра, оленя, медведя, обе-
зьяны и птицы. В развитой традиции
гунфу мы встречаем уже десятки стилей,
эмблемами которых являются самые раз-
ные виды животных, птиц, насекомых, су-
ществ реальных и фантастических. Стиль
в данном случае символизирует качество
родового движения, которым обусловли-
валась преемственность нормативных жес-
тов, принятых в школе. Например, в «ку-
лачном искусстве» традиции буддийского
монастыря Шаолиньсы различались пять
стилей, причем считалось, что каждый
развивал определенные качества челове-
ческого организма: форма тигра соот-
ветствовала мощи костной основы, форма
дракона — духовности, форма леопар-
да — силе мускулов, форма журавля —
силе сухожилий, форма змеи — жизнен-
ной энергии (ци). Аналогичное понимание
стиля мы встречаем в китайской живописи,
где стилистическое единство картины оп-
ределялось не столько сюжетом, компози-
цией или колоритом, сколько характером
штриха живописца. Родовая форма движе-
ния «не имеет образа», но постигается
интуитивно и предстает опытом «подлин-
ности» (чжэнь) вещей. Было бы ошибкой по
привычке, привитой западной филосо-
фией, искать источник такого стиля в инди-
видуально неповторимой личности По-
следняя раскрывалась в китайской тради-
ции лишь как совокупность моментов,
отмеченных одной и той же личностной
печатью, поэтому стиль мог охватывать
множество индивидов, быть достоянием
школы.
Присмотримся еще раз к мастеру
тайцзицюань- его свободные, как бы выте-
кающие друг из друга, чуждые механичес-
кой регулярности, но время от времени
повторяющиеся движения исполнены без-
мятежного покоя и внутренней сосредото-
ченности. Не покажется ли теперь наивной
попытка расчленить и описать их как некий
отвлеченный образ? Мастер гунфу не
отделяет себя от мира, а пребывает в нем,
как «зародыш в материнской утробе». Он
возводит все воспринятое извне к внутрен-
ней «не-форме», так сказать, превращая
весь мир в свою «питательную среду». Он
практикует «питание жизни» (ян шэн), и его
усилие совершенствования — это вовсе не
«тяжкий труд» (как мне довелось прочи-
тать в сочинении одного отечественного
востоковеда), а «радость» (лэ), достав-
ляемая тем, что дух вкушает от «небесной
полноты природы».
Конечно, совершенствование в гунфу
предполагало иерархию ступеней совер-
шенства. С древности даосы выделяли три,
пять, семь, девять и двенадцать основных
стадий совершенства, которые соответст-
вовали определенным уровням циркуля-
ции жизненных сил организма и просвет-
ленности сознания. В процессе совершен-
ствования ведущую роль играли два фак-
тора. Один из них — «жизненная энергия»
(ци). Любой стиль гунфу — это своего ро-
да энергетическая конфигурация и овладе-
ние им означает усвоение ци. Все
«чудеса», демонстрируемые мастерами
гунфу (например, стояние на одном паль-
це, невероятно высокие прыжки, «энерге-
тические» удары), объясняются именно
умением концентрировать ци в одной
точке тела. Ощутить на себе действие ци
может даже новичок в гунфу, но тре-
буются многие годы, чтобы научиться
контролировать и направлять его движе-
ние в организме. Другой фактор совер-
шенствования — «воля» (и). В западной
литературе данный термин обычно пере-
водят словом «идея», однако китайское
«и» — это не идеальная реальность, а ди-
намизм жизненной интуиции, который
в пределе своего раскрытия совпадает
с «полнотой природы». «В воле нет во-
ли»,— гласит максима наставников гунфу.
Итак, «единая истина» гунфу — это сама
полнота жизни, которая не может быть
сведена к идее, объекту, факту или
24
сущности. Первое правило гунфу — «веч-
нопреемственность» сознания, слияние
тела и духа в «одном движении» организма
и всего космоса. Эта слитность выступала
в самых разных видах: как динамическое
равновесие всех частей тела, «не-
разрывности верха и низа», как единение
телесных жестов и духовного состояния,
сознания и телесной интуиции. Комплексы
нормативных жестов в гунфу (больше
известные на Западе под их японским
наименованием «ката») строго говоря не
имели начала или окончания и как бы
теряли себя в одном непрерывном движе-
нии.
Нужно подчеркнуть, что в практике
гунфу органическая целостность раскрыва-
ется в подвижном балансе, взаимопро-
никновении противоположностей, игре
«пустого» и «наполненного». Адепт гунфу
должен был избегать статичных поз (на-
пример, равномерного распределения ве-
са тела на обе ноги), каждое его движение
должно было таить в себе как бы «противо-
течение». Иначе создавались препятствия
для циркуляции ци, и он становился
уязвимым для партнера. Еще один прин-
цип: уступчивость, умение не противо-
стоять воздействиям извне, а принимать их
и «следовать» им — всепоглощающая мяг-
кость одолеет любой натиск. Уступчи-
вость — верная спутница самоконтроля
и вдумчивого чувствования духа.
В традиции гунфу сложились три ос-
новных направления, развивавших раз-
личные принципы «единой истины» гунфу.
Одно из самых древних и популярных
в наши дни — это тайцзицюань, что озна-
чает «кулак Великого предела». Понятие
Великого предела относилось к неис-
черпаемой перспективе взаимозамеще-
ний вещей в метаморфозах бытия. В
тайцзицюань наиболее полно воплоти-
лись принципы мягкости, уступчивости,
внутреннего «противотечения» в движе-
ниях. Существует несколько стилей
тайцзицюань. Один из них именуется
синьыицюань — буквально «кулак формы
воли». Он основывается на принципе
спонтанной реализации воли и отличается
динамичным, наступательным характером
ведения схватки, быстрой сменой уровней
атаки. Другое направление — багуачжан,
то есть «ладонь восьми триграмм». Его
отличительной чертой является движение
по кругу с параллельным вращением тела
вдоль его оси, а также применение ударов
открытой ладонью. В теоретическом на-
следии этих направлений гунфу большое
значение имеет космологический симво-
лизм китайской традиции, в частности,
символика пассивного и активного начал
(инь и ян), пяти мировых стихий, трех сил
вселенной (Небо, Земля, Человек) и так
далее.
Две названные системы гунфу относят
к категории «внутренних». В них испове-
дуется идеал универсального самосовер-
шенствования, который утверждает нераз-
дельность искусства и полноты жизненного
опыта. Существуют и так называемые
«внешние» стили гунфу, исторически боль-
ше связанные с буддийской традицией. Эти
©
S а
а
е>
о
ад
ад
*
ад
as
о
S
а
а
С
С>
ад
'S
х©
М
ад а.
о о
ад
о
о
I
ад
о
«э
о
ад
§
аг
з
<©
ч
а
о
а
а
g ।
3
X
3
о
9
а
*
а
£
а
сх
t5
d
и
S
а
©
о
а
з
а
а
а
©
S
01
в?
х©
О)
3
3- «
х©
1’^'8
X©
О
со
а
£
8
§ I
<4 со
О) Qi
V© ко
«а
а
г
*
о
е
©
а
§
а
а
о
а
3
3
а
о
»з
Г
со
а
о
з
а
со
к
9
а
с
'S
3 S « i»
о
3
со
НАША МОЗАИКА
а
§
©
ад
е>*
& ><
сп
о
3
*
03
со
3
ад
а
3
i
©
©
©
X
а
а
©
« 1
„ °-
— © м
g Ъ <©
а. ®
§
х
а
а
©
§
а
1 01
X©
а
а
а
а
а
Qi
©
а
а
х
©
0)
X
со
©
X
9
Qi
а
«V
в
X
а
х
о
а
£
в
1“
©
3
X
X
©
cl
в
*
а
г©
©
§
&
©
со
©
а
г
S
а.
а
о
©
а
« Qi
а
§
а
а
©
а
§
а
а
&
X'
X
01 5
*
X
§
01
&
а
©
а
©
2
2
х
9
©
х
х
-г
а
а
X
X
X
стили сводят совершенствование к разви-
тию отдельных способностей и функций
человеческого организма. Они-то и послу-
жили основным источником возникавших
в странах Дальнего Востока современных
видов спортивной борьбы — каратэ,
дзюдо, айкидо и прочих.
В заключение хотелось бы вновь отме-
тить одну реальную трудность, встающую
перед исследователем чужих культур и в
особенности таких утонченных культурных
традиций, которые встречаются нам в вос-
точных цивилизациях. Эта трудность со-
стоит в том, что последовательность стиля
в тех или иных областях человеческой
практики превосходит умозрительную упо-
рядоченность и природа символизма не
поддается полной формализации Вот по-
чему открытие внутренней последователь-
ности в чужой культуре одновременно
обостряет и ощущение ее чуждости нам,
точнее — нашим рациональным постро-
ениям. Но по т.ой же причине нам нет
необходимости ни подгонять чужое миро-
воззрение под наши собственные понятия,
ни отказываться от собственной картины
мира, становясь, по выражению академика
В. М. Алексеева, «кандидатами» в ки-
тайцы или в японцы, индусы. Вопрос в том,
как мы изменимся при встрече с иной
культурой. И даже еще проще: захотим ли
изменяться, почувствуем ли потребность
открыть в своей жизни новые возможнос-
ти?
СИНДРОМ
ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Во многих современных зданиях, осо-
бенно оборудованных кондиционерами,
у людей появляются такие болезненные
симптомы, как сонливость, закупорка ды-
хательных путей в носу, сухость в горле,
головная боль. К такому выводу пришли
английские ученые, обследовавшие 4 ты-
сячи служащих из 42 учреждений.
РЕЦЕПТ В ТЕАТР
Врачи утверждают: спектакли, не ре-
шающие конфликтных ситуаций оптимис-
тически, с медицинской точки зрения
просто вредны.
Оптимистическое же театральное ис-
кусство помогает противостоять психичес-
ким заболеваниям, восстанавливать по-
рванные связи человека с миром, ут-
верждает заведующий кафедрой психоте-
рапии Центрального Института усовер-
шенствования врачей, заслуженный де-
ятель науки, профессор В. Е. Рожнов На
кафедре, возглавляемой известным
ученым, разработана методика лечения
сценическим искусством.
В лечебном театре больные разыгрыва-
ют этюды по заданной ситуации — «если
бы я был здоров». Результаты театрали-
зованных сеансов коллективной эмоцио-
нально-стрессовой терапии подтверждают
теорию наших ученых. Возможно, недалек
тот день, когда психотерапевт, вниматель-
но обследовав больного, выпишет ему ре-
цепт... в театральную кассу.
ПЛОХО БЫТЬ ЛОХМАТЫМ
В Древнем Египте всем мужчинам
предписывалось бриться наголо. Если же
тяжелый недуг приковывал человека
к постели, то его брили после
выздоровления. При этом волосы
тщательно собирались и взвешивались.
Еще бы! Вес волос больного определял
сумму вознаграждения врача. Так что
египтянин мог с полным правом сказать:
«Лучше быть бритым и здоровым, чем
лохматым и больным».
7 «Наука и религия» № 9
25
А. Хараш,
кандидат психологических наук
Загадочный синдром
или Чего боятся чернобыльцы?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Прошло два года после
чернобыльской трагедии. Тысячи
жителей города Припять
оказались оторванными от
родных мест. Одни были
размещены в Киеве, другие
в иных населенных пунктах. У
них вроде бы все есть — Кров
над головой, работа, государство
возместило материальный ущерб,
причиненный катастрофой.
Труднее оказалось возместить
ущерб иного рода...
Вскоре после взрыва на
Чернобыльской АЭС кандидат
психологических наук А. У. Хараш
отправился на место аварии для
оказания психологической
помощи пострадавшим. В
январе — феврале нынешнего года
он возглавил
научно-производственный отряд
студентов и аспирантов
психологического факультета
МГУ, проводивший
социально-психологические
исследования среди припятчан.
Очерк А. Хараша написан по
следам этих исследований. В
основу легли протоколы и
стенограммы бесед-интервью,
которые отразили мысли, чувства,
опасения и надежды более
ста жителей покинутого города.
Фото ТАСС.
Любовь
Ковалевская
Лжефобия
«Правда»,
30 мая 1988 г.
1.23 апрельской ночью
пробило —
за ночью — год, за
годом — целый век...
Не верь часам: у них
радиофобия.
И над часами властен
человек.
Понятие «фобия» (на-
вязчивые страхи) в
медицине не ново. Не
нов и рожденный атом-
ным веком термин «ра-
диофобия»... Но строго
научного определения
его пока не существу-
ет... Н иступление на ра-
диофобию развивается.
отзывается о проповедниках. Знает их
в лицо и поименно. Приходит на
молебны о жертвах «звезды Полынь»,
приводит с собой жену, приглашает
друзей и знакомых.
Любознательность? Любопытство?
Но почему к молитвам и проповедни-
кам? В мире (и в том же Киеве) много
ведь других, не менее любопытных
вещей, особенно для такого трезвого
и земного парня.
Хотя новое увлечение Юры К. не-
мало меня озадачило, я бы, возмож-
но, не придал ему особого значения,
если бы не прослышал еще до того,
что в Загорске видели чернобыльцев,
которые приезжают туда целыми
семьями и принимают крещение в
струях Радонежских водопадов.
Не знаю, припятчане ли это или жи-
тели близлежащих деревень, или же в
В киевском клубе «Земляки», что на
Троещине, в филиале Дворца куль-
туры Чернобыльской АЭС, меня по-
знакомили с симпатичным парнем
Юрой К. Работает на АЭС. На ликви-
дации — с первого дня. Жизнера-
достный, неунывающий. Мастер —
золотые руки. Заядлый яхтсмен. Во
время взрыва был в Припяти, но на
здоровье не жалуется, равно как и на
все остальное, хоть и пришлось ему
несладко. Разве что лейкоциты, как
свидетельствуют анализы, не в норме.
Но вполне допускает что радиация
тут ни при чем. Общителен и спокоен.
Словом, человек во всех отношениях,
что называется, от мира сего, цельная
натура.
И вдруг узнаю случайно, что Юра
К. бывает в молельном доме. Нет-нет,
никакого религиозного рвения, при-
глядывается ко всему как бы со
стороны, хоть и внимательно, как,
впрочем, ко всему, с чем сталкивается
в жизни. Но интересуется, похоже,
основательно. Со знанием дела
самом деле горожане немноголюд-
ного Чернобыля, давшего имя снача-
ла атомной электростанции, постро-
енной в 18 километрах от него, а уж
затем волею судьбы и тем десяткам
тысяч людей, которых невиданная бе-
да раскидала по всей стране? Как бы
то ни было это уже не просто лю-
бопытство...
По мнению академика Л. А. Ильи-
на, «богоискательство» чернобыльцев
можно объяснить только одним — ра-
диофобией, боязнью радиации, стра-
хом перед этой коварной, невидимой
и неслышимой опасностью
И в самом деле, чего еще, каза-
лось бы, бояться чернобыльцам, как
не воздействия радиации?
«Это ужасное
слово —
радиофобия»
С того самого не по-весеннему
жаркого 27 апреля 1986 года, когда
26
1.200 автобусов вывезли из Припяти,
города-поселка при Чернобыльской
АЭС, около 50 тысяч мужчин, женщин
и детей, многое было сделано для то-
го, чтобы ликвидировать последст-
вия катастрофы, облегчить участь
пострадавших. Население обезлю-
девшей Припяти получило солид-
ную денежную компенсацию; жилье,
многочисленные льготы, позволив-
шие, помимо всего прочего, без осо-
бых проволочек обзавестись новым
имуществом взамен оставленного в
покинутых домах, право на внеоче-
редное и квалифицированное меди-
цинское обслуживание, изрядную
надбавку к заработной плате — для
гех, кто остался работать в зоне
ЧАЭС или вернулся туда потом. В
прессе появилось и появляется нема-
ло сообщений о нормализации жизни
и быта чернобыльцев и, в частности
припятчан, ближе всех находившихся
к месту аварии
Короче, главная опасность вроде бы
миновала. Осталась, выходит, одна
только радиофобия — комплекс тре-
вожно-мнительных реакций и необос-
нованных страхов.
Так уж получилось, что из докумен-
тов нашей «чернобыльской коллек-
ции» первой попала к нам в руки
брошюра «Радиационная обстановка
и ее социально-психологические ас-
пекты» (Киев, о-во «Знание», 1987),
написанная начальником управления
Минздрава УССР, врачом-радиоло-
гом В. П. Антоновым. В ней толково
и лаконично разъяснялось, что такое
радиофобия и в чем следует искать ее
истоки.
По мнению автора, в возникновении
и развитии радиофобии центральную
роль играет «фактор неизвестности»,
каковым, собственно, и является ра-
диация — в силу ее недоступности
органам чувств человека Неиз-
вестность усугубляется отсутствием
«достаточных знаний о характере ра-
диации и ее биологическом
действии», чем и обусловлено в ко-
нечном итоге «формирование психо-
логической напряженности, а у части
населения — чувства боязни и даже
страха (радиофобии)», особенно у
тех, кто «проживает в районах,
примыкающих к объектам атомной
энергетики».
В итоге, как справедливо утвержда-
ют специалисты-радиологи, возни-
кают «неадекватные психологические
реакции на обстановку» и разного
рода «нелепые решения», типа того,
которое принял персонал одного ин-
терната, долгое время не выпускав-
ший детей на улицу — «чтобы не
облучались» («Чернобыль: два года
спустя», «Труд», 30 марта 1988 г.).
Появляется болезненная мнитель-
ность. «Самые обычные недомогания
люди начали связывать с последстви-
ями аварии в Чернобыле. Чихнул
человек, а ему уже кажется, что он
наглотался радиоактивной пыли, у ре-
бенка расстроился желудок, а
родным уже чудится, что в его
кишечнике осел цезий, у бабушки
болит голова — значит в костях ско-
пился стронций» (С. Цикора «Второе
эхо Чернобыля: отголосок прежних
тревог», «Известия», 9 февраля
1988 г.).
Да, это так, в чем автор имел
возможность убедиться на собствен-
ном опыте. Даже кратковременное
пребывание в «грязной» зоне или
в непосредственной близости от нее
вызывает искушение истолковать свои
недомогания и недомогания близких
(«бог его знает, что приволок я оттуда
на подошвах!») как результат
действия радиации. Радиофобия —
отнюдь не вымышленная угроза пси-
хике и нервной системе, с которой
медицина не может не считаться.
Разве же это не патология, когда
человек относится с подозрением
к каждому кусочку пищи, к каждой
капле воды, к каждому глотку возду-
ха, подозрительно косится на соседа
в городском автобусе, бледнеет, едва
почувствовав резь в желудке, вздра-
гивает при одном только намеке на
возможное «чэпэ» на ближайшей
АЭС-
Распространение радиофобии в ре-
зультате аварий на АЭС есть объек-
тивный факт, и хвала и честь медикам,
принимающим меры к борьбе с ней.
Однако припятчанам этот диагноз
почему-то не нравится. «Только не
произносите это ужасное слово —
«радиофобия»,— от лица собравших-
ся попросила нас одна из участниц
самой первой нашей встречи с припят-
чанами в клубе на Троещине. У людей,
готовых часами обсуждать самоё ра-
диацию, все эти бэры, рады и
рентгены, все виды излучения, даже
все его возможные последствия для
организма, не исключая самых тя-
желых и губительных,— у этих людей
сильнейшую идиосинкразию вызыва-
ет этот вполне, казалось бы, респекта-
бельный медицинский термин, ко-
торый к тому же должен был бы
снимать страх перед последствиями
радиации. Слово утешения парадок-
сальным образом оборачивается бо-
лезненным, психотравмирующим
раздражителем. Гораздо более бо-
лезненным и психотравмирующим,
чем сам диагноз ОЛБ — острая луче-
вая болезнь.
Впрочем, тот же В. П. Антонов
загодя подготовил нас к странному
обыкновению «радиофоба» упорство-
вать в своем заблуждении и с негодо-
ванием отметать трезвую оценку
радиационной обстановки. «При этом
необходимо учитывать,— читаем в
его брошюре,— что люди, находя-
щиеся во власти радиофобии, не
только трудно поддаются переубеж-
дению, но у многих из них обосно-
ванный оптимизм в оценке обстанов-
ки вызывает раздражение, в лучшем
случае — недоверие. Похоже, что они
ищут подтверждения правильности
принятой ими неоправданно осторож-
ной позиции». А еще раньше читателя
предупреждают, что одним из
главных источников «тревожной, а
иногда даже панической информа-
ции» как раз и являются «непос-
редственные участники ликвидации
последствий аварии на АЭС — носите-
ли отдельных фактов и частных сведе-
ний».
Надо отдать должное автору — он
сделал все от него зависящее, чтобы
обесценить львиную долю того, что
мы услышали впоследствии от при-
пятских старожилов и ветеранов Чер-
нобыля. Не его вина, что мы не вняли
его предостережениям. Сам того не
ведая, он, однако, помог нам с первых
же киевских встреч, бесед и
размышлений нащупать сердцевину
всей сегодняшней чернобыльской
коллизии, обозначенную словом «ра-
диофобия». Это «ужасное слово»,
подобно сигналу миноискателя, точно
указало место взрывоопасного
столкновения, в котором людям про-
тивостоит не радиация, а совсем
другое — интересы, намерения и
предубеждения других людей.
Общая картина этого столкнове-
ния — в протоколах и стенограммах,
письмах из других городов, стихотво-
рениях припятских поэтов, в статьях,
отчетах, кассетах с записями песен,
в вырезках из газет,— это по сути
дела и есть итог нашей киевской
экспедиции, с которым мы вернулись
в Москву, гордые оказанным нам
доверием и обескураженные неорди-
нарностью задач, которые поставил
перед нами контакт с участниками
чернобыльской драмы.
«Я будто попала
в другой мир»
В один из первых киевских вечеров
мы собрались в тесном номере гости-
ницы и обменялись впечатлениями об
увиденном и услышанном. По своему
обыкновению все записали, и получи-
лась как бы фотокопия впечатлений
и чувств, выхваченных из душевных
глубин магниевой вспышкой сопере-
живания. Вот отдельные фрагменты,
по которым читатель сможет судить
о целом;
Ирина Ш.: Я увидела, как сильно мы
отстали от них в понимании жизни и ее
ценностей. Они гораздо мудрее, стар-
ше нас.
Сергей Ш.: Чернобыль — это коло-
кол. Но многим людям пробуждение
не нужно ..
Алена Г.: Вчера пережила то, что
каждому надо пережить. Прикосну-
лась к живой истине. Будто сходила
к старцам в скит. Это люди, которые
в два года прожили несколько десят-
ков лет.
т
27
Сергей Ш.: Эти люди занимаются тем,
к чему нас сейчас призывают. Это
можно назвать перестройкой в
действии.
Саша Ч Вчера я почувствовал, что
могу быть не просто психологом, но
гражданином, и не таким, который
просто гордится своей отчизной, но
делает что-то социально полезное —
несет людям урок Чернобыля.
Аня М.: Что их отличает? Они поняли
на собственном опыте, что происхо-
дит, если жить не по законам
нравственности. Наш жизненный опыт
подчас учит другому: чем эгоистич-
нее поступаешь, тем лучше живешь.
Лена И.: Я будто попала в другой мир.
Ощущение, знакомое по фильмам
30-х годов: наивные люди, но в чем-то
выше нас, в чем-то таком, что мы
с каждым днем теряем. Люди с дру-
гими ценностями, которые не
вписываются в наш мир. Так и будут
жить своим миром.
Таня Д.: Эти люди вроде белых ворон.
Но они не хотят — да им и не
нужно,— жить так, как мы. Это все
равно, что честного человека, ко-
торый страдает от своей честности,
заставить быть нечестным
Аня М.: Меня поразило то, что они
поняли истину: за деньги не купишь
ничего из того, что человеку действи-
тельно нужно,— здоровье, работу. Та
же мебельная стенка за 5 тысяч им не
нужна.
Валерий М.: Мы им ничего не можем
дать. Разве помочь одним только
своим присутствием, вниманием. Это
отважные, сильные люди. Главное: то,
что мь1 испытали здесь, должно
испытать как можно больше людей.
Мало кто приедет сюда, как мы; но
надо сделать так, чтобы это чувство не
пропало бесследно. Тот мир, который
они себе создали, и реальный, в кото-
ром они живут,— два разных мира.
Надо сохранить тот мир, который
в них.
Аня М.: Единственное, что мы можем
сделать,— это вернуться домой, наро-
жать детей и воспитывать их так, как
мы вчера поняли. И еще: сделать что-
нибудь очень маленькое и очень
конкретное — хотя бы бросить курить
ради детей, которые будут.
Надя К.: До вчерашнего дня у меня
была отстраненная позиция. Вчера
поняла, что это наша общая беда,
и возникло чувство вины за то, что
с ними сейчас происходит.
Таня Д.: Да, чувство вины... У них как
будто повернулось сознание, они по-
другому смотрят на мир. Им больно
не за себя — за других.
Света П.: Острее всего пронзило
чувство жалости к детям К взрослым
жалости нет, есть сопереживание.
А к детям.. Они неповинны.
Вениамин К.: Того, с чем мы обычно
миримся, здесь терпеть невозможно.
Трагедия сделала невозможным при-
мирение с бюрократией. Это прозре-
ние надо довести до широкого круга
людей, до всех.
Валерий М.: Чернобыльцы боятся
двух вещей. Первое: то, что случи-
лось, не дойдет до других людей.
Второе: что они опустятся до прежне-
го уровня.
Алина А.: Я вижу цель нашего
приезда в том, что мы увезем правду
и будем ее распространять.
Люда К.: Главное — разбудить об-
щественное мнение У всех уверен-
ность, что чернобыльцам сейчас хоро-
шо Я, например, была в полной
уверенности, что с ними все в поряд-
ке. Многие думают, что они «хапари».
Им даже завидуют. И это у 99%. И я не
знаю, что делать...
А был ли
Чернобыль!
Вся история народов
представляется мне ни-
чем иным, как книж-
кой с картинками, за-
печатлевшими самую
острую и самую сле-
пую потребность че-
ловечества — потреб-
ность забыть. Геоман Гессе
На эшафоте — память
А над ней
Палач вершит свой
суд.
С тревогой люди
ждут вестей,
С надеждой правды
ждут.
Аня
Чернацкая,
ученица 8-го
класса,
припятчанка.
Из стихо-
творения
«Палач и
память».
Боюсь, что отраженный свет чер-
нобыльской трагедии, ее багровый
отблеск, вся гамма чувств и пережива-
ний от соприкосновения с невыду-
манными проблемами и заботами,
которыми живут люди, обожженные
чернобыльским пеклом, может ока-
заться для читателя, знакомого с чер-
нобыльскими событиями по бодрым
газетным репортажам и интервью,
чем-то крайне надуманным. В самом
деле чем могут быть вызваны эти
чувства и впечатления сегодня, два
года спустя! Разве не сооружен над
гаснущим реактором, и притом в ре-
кордные сроки, надежный и внуши-
тельный саркофаг! Разве не разве-
вается над ним флаг, знаменующий
победу технической мысли и людско-
го труда над разбушевавшейся сти-
хией расщепленного атома! Разве не
истрачены миллионы народных
средств на то, чтобы вернуть жизнь
людей в лоно привычной повседнев
ности! Разве не построен для них
[и опять же в рекордные сроки)
красавец Славутич с просторными
квартирами и всем, что необходимо
для нормального, благоустроенного
быта!
Так стоит ли ворошить прошлое! Не
пора ли успокоиться! И не послужит
ли лишнее упоминание о чер-
нобыльской катастрофе поддержкой
и закреплением опасного микроба
радиофобии, поразившего, чего уже
не скрывает пресса, миллионы людей!
Потребность забыть... В ее неумо-
лимом действии автор этих строк
имел возможность убедиться уже
летом 1986-го, в самый разгар чер-
нобыльских тревог, когда только-
только началось сооружение сарко-
фага, когда в Чернобыль стекались со
всех сторон многотысячные команды
«ликвидаторов» — в армейских пого-
нах и без таковых, когда работники,
оставшиеся на станции, ездили на
работу в бэтээрах, когда множились
тревожные слухи, у людей не было
иного жилья, кроме койки в перепол-
ненном, наспех оборудованном обще-
житии, а часто и иной одежды, кроме
серых и коричневых роб, пропитайных
дезактивационной жидкостью, когда
родители не знали, сядут ли их дети
в сентябре за школьные парты, когда
«Правда» чуть ли не ежедневно сооб-
щала на первой полосе о гражданах,
пожелавших внести свою лепту в лик-
видацию последствий аварии, а при-
пятские старожилы называли все это
«войной»...
Так вот, в эти самые дни в телефон-
ном разговоре с одним моим колле-
гой, весьма уважаемым как за про-
фессиональные, так и за человеческие
качества, я упомянул, что отправ-
ляюсь на днях в Чернобыль. На том
конце провода воцарилось долгое
растерянное молчание, после которо-
го мой собеседник произнес:
— Но позволь, там ведь никого уже
нет!
— Как никого! — удивился я. И та-
кова была его убежденность, что
и сам засомневался. — Совсем нико-
го!
— Да, совсем,— подтвердил он
еще увереннее.
А спустя месяц еще один коллега,
в аналогичной ситуации, после такого
же минутного замешательства озада-
чил меня сообщением, что там-де
«ведь все уже кончилось»...
Для моих милых, интеллигентных
друзей-москвичей Чернобыль уже
тогда был упрятан под саркофаг
забвения. Подчеркиваю свое отноше-
ние к ним (оставшееся неизменным
по сей день), чтобы читатель не
подумал, будто я спешу учинить над
ними нравственный самосуд или про-
читать суровую нотацию. Речь идет
о людях мыслящих, с широким круго-
зором. Что же взять тогда с равно-
душного, узкого, малосведущего
обывателя!
Или, может быть, все дело в
расстоянии, отделяющем нас от эпи-
центра трагических событий! Может
быть, импульс забвения тем слабее,
чем живее пережитое!
28
В конце апреля прошлого года,
в годовщину аварии, я приехал в Киев
на традиционный Интернациональный
студенческий фестиваль мира. Где
быть живу этому тяж му пережито-
му, как не там, в столбце Украины!
И где же, как не там, пойтить хотя бы
минутой молчания память тех, кто
предотвратил много дней и ночей
грозившую, ей страшную опасность!
В оргкомитете фестиваля мне вру-
чили программу — три кокетливых
синеньких буклета с изящно стилизо-
ванным голубем мира и радужными
кольцами на обложке — по одному
буклету на каждый фестивальный
день. Еще и сейчас лишний раз
придирчиво перечитываю программу
на 26-е апреля: а вдруг ошибся, вдруг
все же что-то пропустил! Нет, кажет-
ся, не ошибся. Торжественная линейка
трудового десанта... Студенческая яр-
марка... Фестивальная олимпиада...
Шествие делегаций... Праздничный
фейерверк... Нет, не ошибся: воспо-
минание о Чернобыле, о его жертвах
и героях программой не предусмот-
рено. Даже виде минуты молчания.
А еще через четыре месяца, в кон-
це августа, пришло письмо с Тро-
ещины — в ответ на мое, отправлен-
ное человеку, с которым случай свел
нас в июле 1986-го в профилактории
«Лесная поляна», ставшем на время
местом межвахтового отдыха работ-
ников станции.
«Дорогой А. У! — так оно начина-
лось. — Здравствуйте! Благодарен
Вам за письмо, за сопереживание. Это
ведь и в какой-то степени утешейие —
иметь товарищей в беде. К нашему
всеобщему удивлению, переходяще-
му (перешедшему) в потрясение,
«высокие ветры» лишены этого. Даже
напротив... Вы понимаете меня...»
Да, я вроде бы понял. Мой киевский
корреспондент Г. А. как бы намекал
на то, что «высокие ветры» разверну-
ли флюгер своей высокой политики на
180 градусов.
В это, однако, трудно было пове-
рить. Г. А. — один из тех работников
Чернобыльской АЭС, кто с первого
дня, еще не зная ни о каких пятикрат-
ных надбавках и размерах мате-
риальной компенсации, без колеба-
ний остался на своем месте (уместнее
сказать, наверное, на боевом посту)
и не щадя себя трудился на ликвида-
ции последствий аварии. Тогда, в июле
1986-го, события оторвали его от
семьи, привычного домашнего очага.
Но все это было ничто в сравнении
с приобретенным Для таких, как он,
первых, самых верных и стойких,
домом была вся страна, крышей —
небо, остывающее после ядерного
пожара, и обострившееся нравствен-
ное чувство подсказывало им, что
отныне, после столь суровой провер-
ки, они, как никто другой, имеют пра-
во на этот дом и на эту крышу...
Так что же случилось!
А случилось, по-видимому, самое
обычное: у кого-то возникла острая
потребность забыть... Но одно дело,
когда эта потребность берет верх
у моего коллеги или соседа по
лестничной клетке — словом, у про-
стого смертного, каких много. И сов-
сем другое, когда ею одержима
голова государственная, наделенная
властью и исключительными полно-
мочиями. В том и другом случае мы
будем иметь дело с явлением, полу-
чивший у психологов и психиатров
название амнезии, что означает
«забывание», «беспамятство». С той,
однако, существенной разницей, что
амнезия первого рода носит сугубо
личный, индивидуальный характер,
тогда как беспамятство вельможного
образца грозит обернуться официаль-
но санкционируемой, организованной
амнезией.
Из диалога с припятчанами (магни-
тофонная запись):
— 26 апреля вся 6-я московская
клиника хотела пойти проведать своих
товарищей. Ну, тех, которые остались
лежать там, на Митинском кладбище.
Обещали автобус. Всё обещали. А что
получилось! Накануне вдруг говорят:
кто покинет здание клиники, выпишем
за нарушение режима. Кое-кто остал-
ся. А остальные — через забор, соб-
рали по 40 рублей, купили венки... Вы
мне объясните, почему не пускали
людей на кладбище! Почему эту дату
решили замять! Чего боятся! Почему
боялись встречи припятчан 26-го ап-
реля на площади Октябрьской ре-
волюции здесь, в Киеве! Мы что,
демонстрацию собирались устра-
ивать!
— Мы хотели побеседовать, встре-
титься с земляками, узнать, кто как
живет. Нам не дали Всех предупреди-
ли, чтоб не шли на встречу.
— И детей предупредили. В школе.
Вот тебе и демократия.
— Так конечно же, в нас вот этот
порох заложен. В вас, в ней...
— Чтобы, значит, народ, не дай
бог, не выдал всей правды! Вот-вот,
именно так. Вот этого о н и и испуга-
лись. Поэтому на площади Октябрьс-
кой революции быстренько устроили
книжную ярмарку. Никогда ее там не
было. И это — в дождь! И милиция...
— Люди приехали из других горо-
дов. И думают: почему так мало нас,
киевских!
— Да, они-то все пришли...
— Их отпустили, дали отгулы,
знают же везде, что 26-е — это такой
день, верно! А здесь — вот так. До
сих пор ломаем голову, в чем тут
дело...
— И зачем все эти меры, если все
нормально, все хорошо!.. И вот опять
же думаешь: если так, значит, нечис-
то, раз нам не разрешают встретить-
ся. О чем мы говорили! Где ты, как
ты! А ты! А ты! Десять лет ведь бок
о бок с человеком проработал, семь-
ями дружили, и вдруг раскидало.
Встретились наконец. Тянет узнать,
что у него и как. А тут — нб тебе...
Это — о том, как киевские припят-
чане встретили День памяти в 1987 го-
ду. В нынешнем году дело обстояло
по-другому. На площади Октябрьской
революции в Киеве книжной торговли
на сей раз не было — площадь заняли
школьники, которых именно сюда
и именно в этот день привели репети-
ровать первомайскую программу тор-
жественных линеек и самодеятельных
концертов... Припятчанам остается
только гадать, какое мероприятие
отцы города надумают провести на
площади Октябрьской революции
26 апреля 1989 года. Глядишь, лет
через 5—7 и придумывать ничего не
надо. Напомнишь кому-нибудь про
Чернобыль, а он, поморщившись:
— Да полно, был ли он вообще!
Вельможная амнезия может осла-
бить память не только современни-
ков, но и целых поколений. Само
собой, до поры до времени, пока не
взорвется опасный груз замалчива-
емого.
Да, у чернобыльцев есть основания
опасаться не одной только радиации.
Не меньшую опасность видят они
в тех, кто призван под ружье
сверхсрочной Службы Забвения —
забывания, забытья, или может быть
заподозрен в сотрудничестве с ней.
Одна из припятчанок, посетивших
наш пункт в клубе на Троещине,
рассказывает со смущенной улыбкой:
— Иду я к вам, а по лестнице
поднимаются три женщины. Читают
ваше объявление. Одна говорит:
«Психологи принимают, надо схо-
дить». А вторая: «Ой, ты что, сдурела!
Пойдешь, а тебя еще в психи запишут!
И не вздумай!» Потому что, знаете,
у нас были уже такие случаи. Если
человек идет что-то доказывать, то
есть, допустим, с чем-то своим, вооб-
ще за справедливым чем-нибудь, его
сразу — психбольной. Приклеили —
и попробуй-ка отмойся...
Боятся, стало быть, и нас, психоло-
гов.
Так нужно ли удивляться, если
души, не обогретые земными властя-
ми, испытывают нужду в неземном
сострадании!
В. Л., припятчанка:
...Если вы хотите видеть людей без
прошлого и без будущего, то это —
мы.
...10 лет на АЭС, и после этого...
служебное жилье в Славутиче! Нас
здорово била жизнь, и неизвестно,
сколько еще будет бить. Та же
временная прописка, например...
Везде открытая дверь, но за ма-
товым стеклом. Видно в нашей боль-
шой стране мы никому не нужны.
Может быть, в Москве этого не знают!
Ни во что мы больше не верим. Все
ушло. Нет мира реального.
Я уж и к богу обращалась. Просто
не знаешь, к кому еще обратиться...
8 «Наука и религия» № 9
29
«Просто не знаешь, к кому еще I
обратиться...» I
Не в радиации, видно, дело. Не
только в ней.
Слышу громкий шепот Ани Чернац-
кой — она наговаривает на мой дикто-
фон стихотворение «Палач и память».
В квартире Владимира Шовкошитно-
го, инженера-атомщика, припятского
поэта и певца, одного из самых
первых чернобыльских «ликвидато-
ров», идет съемка художественно-
публицистического фильма «Порог».
Только что включили мотор, и Аня
торопится:
Но власть — в руках у палача,
И дела нет ему.
Что память эта — как свеча:
Задул, и мир — во тьму...
Нет, Анечка, это не так.
Живо сострадание на нашей земле.
Живо и неистребимо. Точно так же,
как память. Пламя волшебной свечи,
не угасающее наперекор всем вет-
рам. Неусыпно бодрствует и на нашей
грешной земле, среди людей, никем
не организованная, не санкциониру-
емая и не финансируемая Служба
Памяти — служба сострадания и
отзывчивости.
Зимой нынешнего года выпускница
факультета психологии МГУ Юля Ов-
чинникова проводила опрос среди
Аниных ровесников — учащихся
восьмых классов одной московской
школы. Она выясняла, какие жиз-
ненные события были для них наибо-
лее памятны. 57% опрошенных назва-
ли среди таких событий — Чер-
нобыль...
Чтобы покончить с памятью о Чер-
нобыле, нужно покончить с
нравственным законом, по которому
живут детские души. Да и взрослые —
тоже. Борис Олейник, Юрий Щербак,
Николай Гощицкий... Едва ли не самая
лучшая и самая честная газетная
публикация о Чернобыле (к ней при-
пятчане часто адресуются с уваже-
нием и благодарностью) так и называ-
ется: «Помните!» (О. Дмитриева,
«Комсомольская правда», 15 октября
1987). Вопрос, в нем призыв — и на-
дежда...
Радиофобия — не просто меди-
цинский диагноз. Припятчане видят
в нем и иной смысл: попытку равно-
душных чиновников приглушить па-
мять пережитого, память о Чер-
нобыле.
...Страстный Анин шепот продол-
жает звучать, прорываясь сквозь
шумы в динамике:
А может быть, увижу я:
палач повержен ниц,
лишь память — главный судия,
И ей лишь нет границ.
Окончание следует.
ЗНАЮТ ЛИ
НАШИ АВТОРЫ
БИБЛИЮ!
Публикация статьи Э. Берзина и И. Мо-
жейко- «История пришельцев» (№ 10,
12 — 1987; 1,2 — 1988), как и ожидалось,
вызвала отклики. Некоторые читатели,
имеющие собственное отношение к
«проблеме пришельцев», не согласны с
трактовкой авторов статьи, и это естест-
венно. Но вот одно критическое письмо
москвича В. В. Мелихова представ-
ляется нам принципиальным, и мы публи-
куем фрагмент его вместе с ответом
авторов статьи.
Вот в чем упрекает докторов истори-
ческих наук наш читатель (поставивший,
как ему кажется, выразительный знак «I!»
после слов «доктора наук»):
«Всяко бывало, но того, что глаголют
сии ученые мужи, слышать не приходи-
лось. Не хочу останавливаться на стиле,
лексике и прочих второстепенных вещах.
Поражает вопиющая безграмотность авто-
ров в вещах, о которых они взялись су-
дить. Мне как верующему человеку, ко-
нечно, ближе всего места, так или иначе
связанные с текстом Библии. Так вот,
создается впечатление, что авторы никог-
да в руках не держали этой книги, а при
написании своего опуса пользовались
разве что. подшивками журнала «Наука
и религия», да и то вышедшего до апреля
1985 года. Но ближе к делу. «В Ветхом
завете не было не только Христа, но
практически не было и Сатаны...» (1988,
№ 1, с. 58). Дорогие друзья! Возьмите
Библию и читайте: Даниила, 9 25, 1 Пара-
липоменон, 21:1, Иова, 1:6, а особенно
внимательно Захария, всю 3-ю главу».
А теперь — ответ Э. Берзина и И. Мо-
жейко:
«...Автор письма явно не нуждается в
нашем ответе, а хочет лишь выразить нам
свое негодование. Он рекомендует себя
верующим человеком и уже в силу одного
этого наша статья не может ему нравить-
ся. Ведь мы трактуем богов и демонов
как одно из проявлений иллюзорного
«чуждого разума», существующего только
в представлении людей, а для него они —
объективная реальность. Естественно, что
он реагирует на нашу статью с крайним
раздражением.
Но вот по существу возражений
В. В. Мелихова, которые сводятся к одно-
му, мы не считаем себя вправе отмол-
чаться. У нас написано: «В Ветхом завете
не было не только Христа, но практически
не было и Сатаны...», а В. В. Мелихов
побивает нас четырьмя цитатами из Ветхо-
го завета, которые приводятся ниже.
«Итак знай и разумей: с того времени,
как выйдет повеление о восстановлении
Иерусалима, до Христа Владыки семь
седмин и шестьдесят две седмины; и
возвратится народ и обстроятся улицы и
стены, но в трудные времена. И по исте-
чении шестидесяти двух седмин предан
будет смерти Христос, и не будет; а город
и святилище разрушены будут народом
вождя, который придет...» (Дан. 9: 25—26).
«И восстал сатана на Израиля, и возбу-
НАША МОЗАИКА
дил Давида сделать счисление Израиль-
тян». (1 Пар. 21:1).
«И был день, когда пришли сыны Божии
предстать пред Господа; между ними при-
шел и сатана». (Иов 1:6).
«И показал он мне Иисуса, великого
иерея, стоящего пред Ангелом Господ-
ним, и сатану, стоящего по правую руку
его, чтобы противодействовать ему. И
сказал Господь сатане: Господь да запре-
тит тебе, сатана, да запретит тебе Господь,
избравший Иерусалим! не головня ли он,
исторгнутая из огня?» (Зах. 3: 1—2).
Из этих цитат следует, что Христос (в пе-
реводе — мессия) упоминался в Ветхом
завете в предсказаниях. Но в той фразе
нашей статьи, которую избрал мишенью
В В Мелихов, речь шла не о Христе-мес-
сии вообще, .прихода которого ожидали
многие иудеи (кандидатов на эту роль
было немало: Иосиф Флавий, например,
объявил мессией Веспасиана). У нас речь
идет об Иисусе Нового Завета, который
не просто «явился» сообразно предсказа-
ниям Ветхого завета, но и выдвинул новую
определенную программу поведения.
Такого Христа в Ветхом завете нет (хотя
бы потому, что все ветхозаветные книги
написаны задолго до его рождения).
Что же касается Сатаны, то у нас ясно
сказано: он практически отсутствует. И
действительно, В. В. Мелихов смог найти
во всем Ветхом завете только три упоми-
нания о нем. По сравнению с гигантской
демонологической литературой христиан-
ского средневековья это ничтожно мало
Если прибавить, что в эпоху Ветхого завета
не было еще ведовских процессов, никого
не объявляли пособником Сатаны, наша
мысль, как нам представляется, станет
вполне ясной.
С уважением Э. О. Берзин,
И. В. Можейко»
Этот автопортрет Альбрехт Дюрер
послал своему лечащему врачу. Художник
точно указал, откуда исходит мучащая
его боль. Вероятно, Дюрер заразился
лихорадкой на побережье Голландии,
куда выезжал на этюды.
30
СЕКРЕТЫ
ДРЕВНИХ РЕЦЕПТОВ
В. ГАНШИН
Монгольский Институт традиционной
медицины широко известен не только
в стране, но и за ее пределами. Здесь,
в трехэтажном неказистом здании, распо-
ложенном в северной части Улан-Батора,
десятки опытнейших специалистов рестав-
рируют и расшифровывают древние руко-
писи, хранящие тайны традиционных мон-
гольских врачевателей. Немного, пожалуй,
найдется научных коллективов, объединив-
ших людей столь разных профессий — тут
и медики, и философы, химики и священ-
нослужители.
— Иначе нам не обойтись,— считает
директор института, доктор Ц. Хайдав. —
Многие препараты, описанные в древних
книгах, тщательно зашифрованы. И, чтобы
разобраться в них, нужно обладать зна-
ниями не только, скажем, фармакологии,
но и представлять себе возможный ход
мыслей врача того времени, его миро-
воззрение, обороты речи, принятые в те
годы. Но и это не всегда помогает. Ведь
рецепты были «упрятаны» от постороннего
взгляда не случайно. Лечебная деятель-
ность была доходным делом, к тому же
она давала определенную власть над
людьми и потому оставалась строго засек-
реченной. Ее тайны раскрывались только
людям, близким по профессии. При пере-
воде какого-либо медицинского труда
врач давал клятву: «Клянусь в том, что не
буду распространять тайну...»
Эмпирический опыт тибетской и
собственно монгольской традиционной
медицины был сохранен и описан в много-
численных литературных источниках.
Способы лечения передавались из поко-
ления в поколение обогащались новь.ми
знаниями. Интересно, что в монгольской
народной медицине не было разделения
труда. Врачи сами собирали, готовили
и назначали лекарства. Специально подго-
товленных фармацевтов не существовало.
Поэтому каждый врач имел свой набор
лекарств и лекарственного сырья, которые
хранились в отдельном помещении напо-
добие аптеки.
Многие монгольские и тибетские на-
родные врачи обладали собственными
библиотеками по медицине на мон-
гольском и тибетском языках. К книгам
относились исключительно бережно. Каж-
дая в виде несброшюрованных длинных
листов завертывалась в шелковую ткань,
ценные книги — в два, три и даже четыре
куска шелковой ткани, а редкие
экземпляры хранились в специальных де-
ревянных футлярах-ларях. И сегодня эти-
ми свитками заполнены полки в Госу-
дарственной библиотеке Академии наук
МНР в действующем буддийском храме
Гандан, в хранилищах Института народной
медицины. Над их расшифровкой и рабо-
тают ученые, пытаясь «оживить» древние
рецепты. Большую помощь оказывают им
ламы-священнослужители, которые вое
станавливают ветхие страницы рукопи-
сей, сверяют переводы с другими источни-
ками.
Но, как показывает практика, сделать
точный перевод — полдела. Как правило,
препараты, пришедшие из древности, со-
держат множество ингредиентов — порой
до нескольких десятков. И каждый, ес-
тественно, имеет свою дозировку. Но при
изготовлении лекарственных форм на-
родные врачи часто употребляли прими-
тивные способы измерения: горсть, при-
горшню, чашку, ложку. За единицу меры
иногда принимался вес определенного
количества зерен, семян и косточек раз-
личных растений. Так что одно из главных
направлений работы института, как его
определяет доктор Хайдав,— это провер-
ка и научное обоснование рецептов народ-
ной медицины.
Наивно полагать, будто достаточно рас-
секретить древний рецепт, и его уже
можно запускать в производство. Нет.
Настоящая исследовательская работа с
этого момента, собственно, только и начи-
нается: проверка на токсичность, канцеро-
генность, уточнение химических и фарма-
цевтических свойств, определение сроков
и способов хранения, технологии изготов-
ления и самое главное — апробация (дли-
тельная и тщательная) на животных, после
чего следуют клинические испытания. Та-
ким образом, от начала работы до появле-
ния препарата в аптеке проходит 5—10 лет.
Планы института достаточно обширны:
в нынешней пятилетке главное внимание
решено уделить поиску и внедрению
в производство препаратов для борьбы
с такими заболеваниями, как язва желудка,
воспаление дыхательных путей, склероз.
Есть перспектива получить и новый корпус,
оборудование для лабораторных исследо-
ваний, стационар на 30 коек Но это
проекты. Пока же институт испытывает
острую нехватку приборов, реактивов,
даже простой химической посуды.
— При такой слабой техчической осна-
щенности,— сетует директор,— мы вы-
нуждены в основном отказывать тем, кто
обращается к нам с просьбой выслать ле-
карства.
Евангелист Лука.
— Посмотрите на эти горы писем,—
продолжает, доктор Хайдав. — Их сотни,
тысячи, из самых разных городов и сел
Советского Союза, Болгарии, Польши.
Пишут пенсионеры и дети, врачи и домохо-
зяйки. Просят помочь лекарствами, сове-
том. Тяжело их читать, эти письма. В них
боль, слезы, отчаяние и тлеющий огонек
надежды — а вдруг свершится чудо? Но
еще тяжелее отвечать на такие письма
привычной, ставшей стандартной фразой:
«.. к сожалению, институт не занимается
пересылкой лекарственных препаратов...»
.,.По моим подсчетам, примерно две
трети писем касаются алюмекатина. Этот
препарат, приготовленный по древнемон-
гольскому рецепту, применяется при вос-
палительных заболеваниях десен, как кро-
воостанавливающее и антисептическое
средство. По отзывам специалистов, он
выгодно отличается от тех, что исполь-
зуются у нас, в Советском Союзе. Но
страдающим парадонтозом его не до-
стать. Он производится только в Монголии
в крайне ограниченном количестве для
внутреннего потребления. И вовсе не
потому, что больше не хотят производить
или не видят в этом выгоды. Не могут. Не
хватает сырья, слабы перерабатывающие
мощности. Впрочем, все это относится не
только к алюмекатину Многие препараты,
даже получившие международное призна-
ние, пока что изготавливаются только для
собственного потребления.
Разговаривая с доктором Хайдавом,
я коснулся и такого вопроса: может быть,
есть смысл предложить на внешний рынок
лицензии на производство этих препара-
тов, пока национальная промышленность
не в состоянии в больших объемах сама
производить их? Или заинтересовать дру-
гие страны в создании совместного произ-
водства? Ведь если это возможно в сфере
промышленности, то почему бы не попро-
бовать и здесь?
...Вопросы, вопросы. Кто возьмет на себя
смелость решить их?
Улан-Батор — Москва
Когда читаешь Евангелие от Луки,
невольно обращаешь внимание на
своеобразие стиля. Например, такое
выражение, как «водяная болезнь», вы не
встретите в других евангелиях. Однако
этот медицинский термин был хорошо
знаком ученикам Гиппократа. Видимо, не
случайно в Послании к Колоссянам
апостол Павел называет Луку
«возлюбленным врачом».
ПАПА ИЗ СЕМЬИ ВРАЧА
Римский папа Иоанн XXI (1276) до
избрания его католическим
первосвященником занимался
врачеванием глазных болезней С его
именем в истории медицины связано одно
из первых пособий по фармакологии.
Судя по содержанию пособия,
автор явно тяготел к решительным
методам лечения. Например, при
обмороке он советовал «насыпать соль
и перец в нос пациента, и он сразу же
придет в себя».
VЛУл»>
4
е>
О*>
.<<?
*?
feV>X
л.^* ^.JR
o'
е**Х>*#
Х>° ° У
ч4 уС
4У /V
Л<=°' хх
о<
** cF
'
V
>* X
Z>^°
S' <*
32
ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ
История непредсказуема и порой
неожиданна. То, что казалось победой,
неумолимое время делает поражением,
иное поражение превращает во благо,
из давних своих глубин извлекает
вдруг, казалось бы, уже отжившее,
отзвучавшее и предъявляет
современности: смотрите, сколько
здесь неиспользованных
возможностей, какой запас знаний
для непредвзятого, пытливого ума.
В ином, свете предстает для нас и
тибетская медицина. В последние
годы отношение к ней радикально
меняется — сейчас это не только
своеобразный памятник культуры
прошлого со своими историческими
загадками, непонятным шифром, но и
бесспорная система знаний,
сохранивших жизнеспособность и
Тибетскую медицину называют
детищем древнеиндийской — это
исторически справедливо, особенно
для ее истоков. Древняя Индия была
признанным центром науки и культуры
всего древнего Востока. Уже в VII веке
до н. э. в Индии существовало два
медицинских центра, а знаменитый
врач-мыслитель Чарака составил
общее учение о медицине из восьми
по-своему уникальных для нашего
века. И в этом главное чудо медицины
Тибета, вознесенной к облакам,
недоступной Страны Снегов, издавна
считавшейся обителью всевозможных
чудес, колыбелью мистики.
Что же представляет собой тибетская
медицинская система? В чем ее
принципы? Как преодолеть
неизбежный терминологический
барьер древних трактатов, чтобы
уловить движение теоретической и
клинической мысли, понять глубину
философского обобщения, уяснить
для себя закодированные методы
и средства лечения, прошедшие сквозь
века? Такого рода задачи стоят сейчас
перед исследователями тибетской
медицины
разделов, которые еще до зарождения
в стране буддизма легли в основу
«Аюрведы» — «Науки о долголетии».
Уже через сто лет эта религия
подчинила себе многие сферы
человеческой деятельности. Она
оставила свой след на медицинских
традициях, на мировоззрении
древних индийских медиков, оставила
след, но не исказила основных
33
теоретических положений
древнеиндийской медицины, ее
реалистических взглядов на сущность
жизни, природы, человека. Они,
эти взгляды, опирались на истинное
знание, «а если кто-нибудь
говорит или делает с истинным
знанием, то за ним следует счастье
как неотступная тень». Так считали
древние индийцы, и с этим трудно
не согласиться.
Постепенное проникновение
в Тибет медицинских знаний
начинается с VII века нашей эры.
Во времена правления основателя
тибетской империи Сронцзангамбо
(умер в 649 г) были приглашены
иностранные врачи: Бхаратдхаджа
из Индии, Хань Ваньхан из Китая
и Галенос из Персии. Их
усилиями был создан коллективный
труд «Бесстрашное оружие».
К VIII веку медицина в Тибете
поднимается на более высокую
ступень. Именно в то время творил
выдающийся тибетский медик
Ютогба-старший. С читается,
что тогда же кашмирским ученым
Чандранандой и тибетским
переводчиком Вайрочаной был
переведен с санскрита на тибетский
основной медицинский трактат
древности «Чжуд-ши» в его
первоначальном виде. Именно
в этом переводе трактат обрел
позднее свою славу. «Чжуд-ши»,
вобравший в себя все медицинские
знания своей эпохи, написан был
в стихах по строго определенной
схеме и структуре, которая по
законам буддийской традиции
рассчитана была на изустную
передачу от учителя к ученику —
без изменений и дополнений.
XI—XII века — особая эпоха
в развитии тибетской медицины.
Появляются врачи с более
прогрессивными взглядами,
которые пытаются обособиться
от чисто религиозных центров,
выступают против таинственности,
окружавшей их науку. Великим
врачом был Ютогба-младший
(1112—1203), признанный самым
крупным ученым-медиком Тибета и
возведенный в ранг «царя медицины».
Свидетельством его дарования
служат легендарные предания,
которые украшают его биографию.
Будто бы наклонность к медицине
проявилась у него с трех лет,
когда он пробовал изучать пульс
и мочу у своих сверстников,
собирал лекарственные травы,
минералы, а в восемь Stir уже
знал основы хирургии. Но вот факты
не легендарной, а реальной
биографии Ютогбы-младшего.
Он был автором целого ряда
медицинских сочинений, с его
именем связано появление «Чжуд-ши»
в том варианте, в котором он дошел
до нас. Он заложил основы своей
научной школы, последователи
которой в течение многих веков
собирали, систематизировали,
обобщали, творчески перерабатывали
огромный материал медицины
Тибета.
В Центральном Тибете
Ютогба-младший создал свою
медицинскую школу, традиции
которой прослеживаются в тибетской
медицине до настоящего времени
и в значительной мере определяют
ее своеобразие как самостоятельного
направления восточной системы
медицины.
В отношении тибетской медицины
буддийская религия действовала,
как и другие религии в отношении
к медицинскому знанию в других
странах: медицинские трактаты
возведены были в ранг священных.
Вносить в них дополнения,
исправления, переиздавать
в отличном от оригинала виде
запрещалось. Но, как и в других
странах, возникнув, тибетская
медицина не осталась на
первоначальной стадии развития.
Обширная комментаторская
медицинская литература, созданная
последующими поколениями
медиков, содержала и новые идеи,
и критику классических текстов,
свидетельствуя о дальнейшем
развитии теоретической и клинической
мысли.
В конце XVI и XVII веках
тибетская медицина вместе
с буддизмом начала распространяться
в Монголии, потом в Бурятии,
Туве и Калмыкии. «Чжуд-ши»
и другие трактаты начали
переводить с тибетского на
монгольский язык и издавать в виде
ксилографов. К изучению,
обогащению тибетской медицины
присоединились монгольские
медики, писавшие на тибетском
языке наставления по диагностике
заболеваний, сведения о
лекарственных средствах,
зафиксировавшие новые
медицинские понятия и методы
лекарственной терапии.
Тибетская медицинская система
творчески перерабатывала,
систематизировала как собственные
знания, так и опыт соседних
народов. Из китайской медицины
взяты были некоторые лекарственные
средства природного происхождения,
приемы их обработки, такие
методы обследования, как
диагностика по пульсу, а также
отдельные приемы лечебного
массажа, гимнастики, иглотерапии
Все они сведены в целостную,
чрезвычайно сложную систему
теоретических знаний, практических
навыков, и в этом их сплаве нелегко
разобраться и сейчас.
Что бесспорно? Тибетские медики
особое значение придавали такой
триаде — правильному образу жизни,
питанию, одежде. Следуя древнейшим
медицинским трактатам, более 1/4
всех заболеваний, если они не
приобрели хронического характера,
можно лечить диетой, правильным
образом жизни, не применяя
специальных лекарств.
Своевременному распознанию
болезней на самых начальных стадиях
тибетские медики придавали особое
значение. Трактаты подчеркивали:
неосложненные болезни лечить быстро
и решительно, чтобы предотвратить их
действие на другие органы.
Тибетская медицина знает пять
основных лекарственных форм
растительного происхождения:
порошки, отвары, пилюли, кашицы
и масла. К «второстепенным» формам
относились зольные лекарства,
лечебные вина, приготовленные из
драгоценных камней и металлов,
лекарственные экстракты. Когда
принимать лекарство, как чередовать
его с едой — в этом у тибетских
медиков была целая система.
Известно, что использовали они
многокомпонентные лекарственные
препараты, от 2-х до 80-ти,
включавшие различные виды
растительного, минерального и
34
животного сырья. Чем же объясняется
эта особенность тибетской медицины?
Можно сказать, что она была
следствием ее главных принципов —
лечить не отдельные проявления
болезни, а добиваться нормализации
деятельности всего организма как
единого и взаимозависимого целого.
В зависимости от
индивидуальных особенностей
больного, его пола, возраста,
сложения, а также предшествовавших
методов лечения,— врач мог
использовать нужный ему набор
многокомпонентных препаратов.
Существовало подробное учение, как
менять тактику лечения,
последовательность лекарственной
терапии в зависимости от климата и
конкретной местности, от сезонных,
годовых и суточных ритмов.
космических факторов.
Как уже говорилось, корень древа
медицины, ядро медицинского канона
Тибета — средневековый трактат
«Чжуд-ши». Начинается он с описания
некоего места, в центре которого
находится медицинский Будда —
Манла (Бхайшаджья-гуру), то есть
Учитель-врач. Это хозяин
мифологической страны — родины
всех целебных растений, минералов,
животных. Из них и готовят
лекарства, предназначенные для
болезней «жара», «холода», болезней
«плотных» и «полых» органов. Вокруг
Учителя-врача — четыре класса его
соратников (они из индийской
мифологии). Это мудрецы, которые,
«беспорочно управив собственные
пороки тела, языка и души»,
способны привести в равновесие
порочную неуравновешенность других.
Здесь первое правило тибетских
медиков перекликается с известным
требованием древнего мира: «врачу,
исцелися сам!». Медик должен уметь
управлять своим здоровьем прежде,
чем он начнет лечить других. А должен
он управлять равновесием «трех»
начал.
Что это за «начала»? Идет речь об
учении, лежащем в основе тибетской
медицины при диагностике и лечении.
Три «начала» или основы
жизнедеятельности человеческого
организма — это «рлунг» (ветер),
«мкхрис» (желчь) и «бадкан» (слизь).
Как и в традиционной индийской
медицине, основы жизнедеятельности
связаны с понятием «движение»,
«огонь» и «размягчение». Эти понятия
прочитываются на трех уровнях.
Первый — собственно воздух, желчь,
слизь в организме человека. Второй —
все процессы в нем, как-то связанные
с воздухом, ветром, желчью, слизью.
Третий уровень — любые процессы
(космофизические, природные),
сходные по действию.
«Рлунг» (ветер), символизируя
движение, энергию, дыхание, вообще
жизненную активность организма,
в этом качестве несет ответственность
за работу кровообращения,
пищеварения, выделения и обмена
веществ. «Рлунг» тибетской медицины
соответствует первоэлементу
древнеиндийской натурфилософии —
«прана» («воздух», «ветер»).
Один из четырех ведущих элементов
мироздания, он определяет и
микрокосмические процессы в
организме, является источником
любого изменения и движения.
«Мкхрис» (желчь) соответствует
первоэлементу «огонь», который
символизирует тепловой и
энергетический потенциал. У человека
«желчь» обусловливает
«естественное» тепло и поддерживает
равномерную температуру тела,
обеспечивает переваривание, усвоение
пищи.
«Бадкан» («слизь») отвечает за
вкусовые ощущения, обеспечивает
взаимосвязь всех частей тела. Она
соответствует первоэлементам
«земля» и «вода», из которых «земля»
символизирует универсальный
строительный материал всего живого
и неживого, а «вода» —
универсальное связующее начало
всего сущего.
Три «основы» жизнедеятельности
организма обладают, по мнению
тибетских медиков, не только
физиологическими и
биоэнергетическими, но и
психологическими характеристиками.
Совмещая в себе материальное и
духовное, они отличаются
определенным запахом и
консистенцией, способны к движению.
Так, «ветер» характеризуется
упругостью, легкостью,
подвижностью; в психической сфере
ему соответствуют «страстность» и
стремление к действию. «Желчь»
масляниста, легка, обладает сильным
запахом; в сфере психики она
проявляется как «злость» (гнев) и
накопление энергии к действию.
«Слизь» тоже масляниста, нежна, но
тяжела; в психической сфере ей
соответствуют «невежество»
(неведение), пассивность,
торможение.
Как видим, три «начала» в организме
находятся в состоянии динамического
равновесия, активно взаимодействуя
друг с другом. Они реагируют на
изменения внешней среды — на
суточные и сезонные ритмы,
природно-климатические и
социально-психологические условия,
образ жизни и питание. Здесь мы
подходим к теории равновесия начал
как главному условию здоровья.
Постоянно меняющийся, подвижный
баланс трех «начал» обеспечивает
единство внутренней среды организма,
его нормальное функционирование.
Нарушение этого баланса, когда одно
из «начал» становится чрезмерно
активным, или, напротив, пассивным,
выступает причиной заболеваний.
Эти понятия использовались для
классификации различных болезней,
их диагностики. Например,
излюбленным местом «рлунга»
считали преимущественно тазовую
область и поясницу, но при своем
«расстройстве» он меняет
местоположение. Болезни типа
«рлунг» сопровождаются
подавленностью, головокружением,
шумом в ушах, сухостью во рту,
жаждой, колющими болями в
различных частях тела, чувством
тошноты, болью после приема пищи,
прозрачной, без осадков мочой.
«Мкхрис» (желчь) избрала себе
печень и желчный пузырь. Ее
расстройства сопровождаются такими
общими симптомами: у больного лицо,
склера глаз, тело желтушны, моча
темная, стул жидкий, живот вздут.
Нарушения, связанные с «бадканом»
(слизью),— это верхняя часть тела —
влекут за собой притупление
мышления, сонливость, слабость,
потерю аппетита; прием пищи
вызывает рвоту и понос, моча
светлая, но с запахом. Когда
нарушены «рлунг» и «мкхрис»,
температура поднимается; если же
расстройства этих «начал»
дополняются еще и нарушением
35
«бадканЬ, то тело больного
охлаждается.
Что предпринимал в этих случаях
тибетский врач? Прежде всего он
восстанавливал нарушенное
равновесие, нормализовал активность
и «количество» в организме человека
того «начала», которое вызвало
заболевание. С помощью
лекарственных средств он стремился
нормализовать деятельность
функциональных и регулирующих
систем жизненно важных органов.
Одновременно следовало повысить
и общую устойчивость организма к
воздействию неблагоприятных
внешних и внутренних факторов,
активизировать защитные силы,
чтобы усилить адаптационные,
приспособительные способности
пациента. Поэтому, наряду с
лекарственными средствами,
многокомпонентные препараты
содержали вещества
общеукрепляющие и стимулирующие.
Внутренние резервы организма,
мобилизованные на излечение
заболевания, таким образом служи. .«
делу общей профилактики.
Теория, методы лечения и
диагностики, лекарственные средства
тибетской медицины даны в
классических ее трактатах,
написанных на средневековом
тибетском языке. Естественно, они
отражают стиль мышления и реалии
удаленной от нас во времени и
пространстве самобытной культуры,
насыщены мифологическими образами
и религиозными понятиями.
Лекарственные растения, препараты
и их компоненты обозначены
по-разному. К тому же многие
принципы лечения передавались
только устно, от учителя к ученику,
и в письменных памятниках
выражены аллюзиями, намеками,
которые могут понять специалисты.
Это, естественно, затрудняет освоение
опыта тибетской медицины
современными европейскими
медиками, осложняет адекватный
перевод ее главных понятий на
европейские языки, их истолкование
в терминах западной культуры.
Возможен ли диалог между этими
медицинскими системами?
Безусловно. Современный научный
язык достаточно универсален и может
с достаточной точностью описать
любые понятия и явления, если
подходить к ним объективно и
непредвзято, не стремясь подогнать
«иное» знание под имеющийся
стереотип. Хотя теоретические
положения и практические методы
тибетской медицины весьма
своеобразны, в ней есть и общее с
европейской медициной. Пожалуй,
даже можно сказать, что некоторые
принципы тибетских медиков близки
новейшим тенденциям современной
медицины. Прежде всего — это идеи
материального единства человека и
Вселенной, целостности человеческого
организма, идеи динамического
баланса функциональных систем в
человеческом организме и их связи
и взаимодействия с процессами во
вселенной. Проникая вглубь — вплоть
до клеточного и молекулярного
уровней, современная медицина в то
же время не может увязывать эти
данные с функционированием
целостной системы организма, с
действием природно-климатических,
космических и других внешних
факторов.
Методы иглотерапии, прижигания и
массажа, основанные на восточных
представлениях о биологически
активных точках, сейчас получили
признание. Экспериментально
проверена эффективность некоторых
методов и средств диагностики и
терапии тибетской медицины. Не
вызывает сомнений перспективность
изучения богатейшего арсенала
лекарственных средств, тибетской
медицины, которые в основном
приготовлялись из естественного
сырья. Они не только
высокоэффективны, но и
малотоксичны. Однако для их
введения в практику требуются
всесторонние экспериментальные
исследования.
Изучение многообразного и
противоречивого наследия тибетской
медицины, в котором рациональное
тесно сплетено не только с
религиозно-магическими
представлениями, но и
метафорически-образными
способами передачи знания, требует
глубокого критического и вместе с тем
взвешенного, диалектического
анализа. К комплексному
исследованию тибетской медицины
должны быть привлечены как
медики, биологи, психологи, так и
историки, этнографы, культурологи,
религиоведы, лингвисты. И вот
почему. Освоение ее опыта нельзя
сводить к выдергиванию и простому
внедрению отдельных ее элементов,
сколь эффективными бы они ни
казались. Необходимо проводить
исследования, стремясь максимально
сохранить целостность системы,
памятуя, что все элементы тесно
взаимосвязаны и при фрагментарном
подходе могут потерять изначальный
смысл как части единого целого.
Кончить же свои заметки нам
хочется напоминанием целей
медицины, которые указаны в
«Чжуд-ши»:
жить без болезни и излечивать
болезни (свои);
продление жизни;
достижение совершенства в
познании и
благополучия в жизни;
избавление от болезненных страданий
всех живых существ...
Разве это не совпадает с целями
современной медицины?
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
Михаил Чулаки
Матушка пришла в восторг еще сильнее,
чем когда узнала, что такое балакирь. И на
другой же день позвала профессора Татар-
никова. а он привел с собой маленького, но
очень гордо державшегося человечка, кото-
рого провозгласил художником Пет-
ровым-не-Водкииым. Художник, едва раз-
девшись и театрально поцеловав матушке
ручку, «счел себя непременно обязанным
объясниться»:
— Мое фамильное несчастье произошло
оттого, что в двадцатых годах только
и твердили: «Петров-Водкин... Петров-
Водкин...» И моего отца буквально третиро-
вали одним и тем же вопросом, поскольку
он тоже был художником: «А вы просто
Петров, не Водкин?» Кстати, он был
самобытный художник, его только сейчас
начинают по-настоящему оценивать. В ис-
кусстве всегда кому-то везет, вокруг кого-
то сенсация, а другие, не менее та-
лантливые, а часто и более,— в голосе
художника послышался надрыв,—
пребывают в безвестности. Живой пример:
нынешний шум вокруг Глазунова. Да, так
мой отец наконец остервенел от таких
вопросов и стал писаться: «Петров-не-
Водкин». Аналогично у Пушкина в «Родос-
ловной»: «Я просто Пушкин, не Мусин!».
Наверное, у меня слух натренирован на
такие вещи, но я сразу почуял, что Петров-
не-Водкин уже множество раз повторял
этот монолог слово в слово — ну в точности
как матушка свои экскурсии. Но все равно
интересно — завтра будет что рассказать
Куте и вообще в классе.
Мамин сибиряк автобиографического
монолога не слышал, он не выходил
в прихожую к гостям, а когда художника
ему представили, проворчал:
— Вот и хорошо, что не-Водкин. Водка
от 'попов пошла, а деды наши, когда
в славянстве, они меды пили.
Неожиданная мысль: я считал само
собой разумеющимся, что водка была
всегда, а тут вырисовываются какие-то
«деды в славянстве», которые не знали
водки. Когда жили такие счастливые деды?
Впрочем, это тут же и выяснилось.
Петров-не-Водкин бросился рассматри-
вать пузатых уродцев, которые умножились
со вчерашнего дня. Я вырос в Эрмитаже,
мои любимые залы — античные, мне смеш-
но смотреть на такой пещерный век!
А Петров-не-Водкин, конечно, стал востор-
гаться, все равно как матушка Матиссом
— Какая прелесть, какой очарова-
тельный примитив! Как Пиросмани. Вот
истинно народное искусство!
Мамин сибиряк посмотрел презрительно:
— Чего говоришь, како исуство? Ить
наши отецки боги, а ие зараза поповска.
Исуство! Нам тот Исус, как в голове
чесотка. Навели попы порчу иа народ.
Тут уж вскричал профессор Татарников:
— Вы слышите?! Это удивительно! Не
Иисус, а отеческие боги! Значит, дохрис-
тианские, языческие, да? Перун?
— Перун — так себе бог Главна —
Мокошь! От ее весь свет пошел, от Мокоши.
Продолжение. Начало s № S.
36
Мамин сибиряк
И земли, и небо, и вода. Свет. Посля Род
и Рожаницы, Лада и Леля. А Перун так —
нищак. Ну Хоре еще, Дажбог, Волос. Наши
боги еще со славянства. А Исус тот — на
што нам? На што нам евреина, кода свои
есть? Им пусть Исус, евреииам, а нам
Мокошь. В ей знашь кака сила?!
Профессор Татарников воодушевлялся
все больше:
Ну, конечно, настоящее язычество!
Так и должно было произойти, неизбежно
должно было где-то сохраниться, передать-
ся от предков. Волхвы должны были
прятаться, хранить предания. Не могло же
христианство все задавить. Русь большая,
тем более, когда в Сибирь вышла.
Матушка стояла у двери, молчала
и с гордостью смотрела, как Татарников
с Петровым-не-Водкиным восхищаются ее
сибиряком. Ведь профессор! Ведь худож-
ник!
Мамин сибиряк сидел, вертел в руках
лупоглазого носатого Рода, и казалось, он
сделан — сибиряк, а не Род! — из особен-
ного материала, более плотного, чем тот,
который пошел на Татарникова и Петрова-
не-Водкина. Они рядом с маминым сибиря-
ком были какие-то ненастоящие, и бороды
их интеллигентские - зевсова у Татарни-
кова, мефистофельская у не-Водкина —
словно бы приклеенные.
— А скажите-ка, уважаемый Степан
Петрович, много ли у вас там в ваших
краях людей, подобно вам поддержи-
вающих культ языческих богов?
— Ты не крути! Ишь, речи каки Крутиц-
кие. Каки тут мы? Я вот один тут. Аз есмь,
ты еси. То попы из одново свово бога сразу
трех делат, а у нас честно: кто один, тот
один. И каки таки языцки? Наши сла-
вянски, а не языцки Языков знашь скоко?
Буряты, монголы, чухна разна, чукча, у их
свои языцки, а наши славянски: Мокошь,
Род и Рожаницы
— Так вот о чем я спрашиваю: много ли
таких, которые ие прельстились христи-
анством, а сохранили своих исконных
славянских богов?
— Мы все-таки — Серединские Село
наше — Середа, понимаешь? Мы все в Се-
реде попов ие держим, раскол не держим.
Што попы, што раскол — один хрен. Мы
своих богов держим, отецких, славянских.
И многи вокруг тож за отецких, но скрыват:
Чура поставят за икону, и в ей тоже сила
просыпацца — от дедушки Чура. У нас там
все поиимат: Серединские боги — дело из-
вестно.
— Аналогия с пермскими богами,-
вставился Петров-не-Водкин.
Ученость свою показать хотел, так
я понял.
— Да, но пермские боги — христианско-
го пантеона,— парировал профессор Та
тарников и тут же снова весь обратился
к мамину сибиряку:
— А скажите... а скажи, Степан Петро-
вич, объясни честно, попросту: вы там
у себя в Середе, точно верите в Мокошь эту
самую? Ну и в остальных во всех, в Перу-
на? Точно верите, как в Христа верят те, кто
у нас верующие? Что была Мокошь на
самом деле, что весь мир сотворила? Или
это у вас вроде как самодеятельность?
Народный промысел — как Холуй или Па-
лех? Только палешане шкатулки делают,
а вы — идолов языческих.
— Сам ты холуй с Палеху. Кто ж сотво-
рил землю и все? Сам што ль? Мокошь
и сотворила. Ить попы в Исуса верят, што
без мужика от бабы, а земле откуда
взяцца? Мы не верим, мы ведам. Все как
есть ведам, што в их вся сила: в Роде,
в Ладе с Лелей, в Перуне с Хорсом тож.
А как в дому без дедушки Чура? Мы ведам,
а многи други, те вероват. Кто по дереву
стучит, кто за плечо плюет, кто сглаза
боицца и ведер пустых - те вероват. И не
в Исуса, а в дедушку Чура: постучишь по
деревяшке, он тут и есть, дедушка Чур.
Потому что все люди вокруг — славянски
да отецки, а поповски Исус — как красны
ворота — для виду Ворота на улицу,
а живем в дому.
Матушка снова неслышно появилась
и с каждым словом своего сибиряка
с гордостью смотрела то на Татарникова, то
на Петрова-не-Водкина.
А толстый Татарников отдувался, будто
отпарил его мамин сибиряк.
— Ух ты, какие диалектики в этой
неведомой Середе. Справедливо: древность
за славянских богов, а что древней, то
и сидит крепче. Но ведь и христианство
тоже древнее, тоже давно народное. Это
Петр исказил характер народа и развитие
нашей государственности, а если бы ес-
тественно продолжилась допетровская ли
ния, она все-таки шла от христианства, а не
от язычества
Петров-не-Водкин при последних словах
вдруг вскинулся, как от оскорбления,
и пошел на Татарникова, торча, как пикой,
своей острой бороденкой:
— Не скажите! То есть последуем
народному этикету: не скажи! Пусть и Петр
в свою очередь исказил, я готов признать,
но чем лучше был Владимир, этот самый
Красное Солнышко? Точно так же на-
сильственно привил чуждое влияние на
нашу народную почву! Христианство было
еще более чуждо народу, чем западни-
чество Петра
Поначалу чуждо, а после прижилось.
Уже и свободомыслие являлось в хрис-
тианских одеждах: Вассиан, Аввакум!
— Все равно ощущалась чуждость! Все
равно хотели сбросить! Стригольники, жи-
довствующие у них от христианства уже
совсем мало. Вот перед тобой истинно
народное, истинно праславянское: Мо-
кошь! Рожаницы! Перун! Дедушка Чур,
которого ты напрасно чураешься. А сам
Владимир, апостол наш,— еще та фигура,
Петр рядом с ним ангел: предатель, бра-
тоубийца, распутник — и пожалуйста,
первый русский святой. Точно такое при-
внес чуждое влияние, ничего подлинного.
Правильно сказал Степан Петрович: все
мы по деревяшке стучим, как я перед
выставкомом, все стучим — и христиане,
и атеисты. Вера христианская отлетела как
шелуха, а язычество во всех нас сидит
прочно — потому что глубже, потому что
исконней!
Ну ие со всех отлетела как шелуха...
Думаешь? Да те, кто в церквях, такие
же язычники! Крестятся — дьявола отго-
няют, типичное языческое заклятие; иконы
деревянные - ничем не лучше этой дере-
вянной Мокоши; все золото на куполах, все
роскошные обряды, ризы — одно сплошное
язычество. А чтобы верить искренне в непо-
рочное зачатие, в первородный грех и ис-
купление на кресте — да кто же может
в это верить сейчас, если нормальный
человек?! Уж легче в Рода и Рожаниц —
оно как-то понятней и человечней.
Наконец мамин сибиряк снова растворил
уста - и Татарников с Петровым-не-Вод-
киным мгновенно почтительно замолкли:
— Родного греха и нет вовсе, ить врут
попы. Како ж грех, ежли тако оно у людей
устроено? Жить и радовацца — како ж
грех? Смех — ить правда. Ежли подсмот-
реть, когда мужик на бабе — точно, один
смех. Потому прячуцца — от людскова
смеху. Не родный грех, а родный смех, тако
деды сказат. Попы переврали нарошно,
штоб испохабить. Како ж грех? А смех —
ить правда.
Больше в тот вечер профессор Татарни-
ков с Петровым-не-Водкиным не заводили
высокоученых разговоров — мамин сиби-
ряк как бы закрыл прения, произнес
заключительное слово. Татарников первым
перешел к делу:
А скажи, Степан Петрович, как бы
дома завести вот хоть Мокошь?
Почему ж не завесть? Очинно можно.
Ругу каку дашь — и бери себе Мокшу
в полное удовольство. А всех нужней
дедушка Чур. Без дедушки дому не стоять.
А Чур что делает, Степан Петрович?
Кто ж не знат Чура? Мыша пасти,
девке волос плести, сливки пить, хлебо ие
погнить. С Чуром поладишь — щастье при-
вадишь, не стат ладу - дом без складу:
золой дунет, в обрат плюнет.
— Домовой, выходит, да?
— Ступишь через Чура — выйдет окачу-
ра, потому ходи - - вперед ног гляди.
Дедушка Чур — ококой девичур, муж
спать - прыг в кровать, баба мечет на
стол — Чур юрк под подол. Чура уважь —
станешь што княжь.
— Записывать надо, записывать! —
подпрыгивал рядом с Татарниковым Пет-
ров-не-Водкин.
Мамин сибиряк замолчал, пододвинул
к посетителям уродливую фигурку тем же
жестом, как продавцы на базаре.
— Так как же получить от тебя богов
твоих? — не отступался Татарников.
Не моих, а наших, отецких, сла-
вянских. Ты-то русский или как?
— Русский, чистый русский, а то кто
ж? — Татарников обиделся такому вопро-
су, даже покраснел лысиной
— Значицца, и твои боги ютецкие, коли
русский. Сказал же: ругу каку дашь.
- Как это — ругу?
— Как бы по-вашему, по-городски?
Денег каких. Штобы дух самый с ими
37
перешел. Дерево — што, дух в ем должен
быть! А без руги не перейдеть.
— «Руга», вот оно что! Это значит,
и «ругаться» отсюда! «Торговаться» значи-
ло сначала! — осенило Петрова-ие-Водки-
иа.
Рядом с маминым сибиряком все стано-
вились филологами, прямо какая-то эпиде-
мия.
— Сколько ж дать полагается, Степан
Петрович?
- А дашь каку ругу, саму малость. Хотя
четвертной.
Татарников озадачился: ои иначе пони-
мал «самую малость». Но неприлично же
ругаться об отеческих богах, в смысле
«торговаться»..
— У меня столько иет с собой, Степан
Петрович
— Посля отдашь. Потому, пока ие
отдашь, дедушка Чур шкодить станет — ои
ежли в чужом дому- какой шкода! Не
отдал руги — не кричи: помоги! Отдашь.
Людям не верить — себя похерить. От
милицейства спрячесся, да от Мокши
скорячисся. Бери хотя сейчас — посля от-
дашь.
- Может быть, чаю пора? — вступила
наконец и матушка в разговор. У меня
пироги с грибами.
Оиа весь вечер не участвовала в умных
разговорах, что на нее совсем не похоже,
и вот за чаем наконец разговорилась:
— Поразительная живучесть народного
начала! Только представить в длииинке
весь скрытый период: тысяча лет! Это
находка для нашего Халкиопова!
— Почему такой шум: Халкиопов! Хал-
киопов!» Что он сделал? Просто умеет
создать себе рекламу,— ревниво проворчал
профессор Татарников.
Все-таки ои фигура,— не предала
матушка своего кумира,— отстоял русачей
в нашем осином гнезде. Так уж его
намеревались все съесть: «Зачем русский
отдел в западном по своей сути музее?»
А знаете, что он сказал? «Ну пусть окно
в Европу, но подоконник того окна — наш!
Смоленские плотники тесали». В результа-
те - устоял. И нельзя ие признать, что
русачи как бы оттеняют остальные наши
отделы, создают перспективу. И все —
несомненная заслуга Халкиопова!
— Ойля,— просипел мамии сибиряк,-
чай стылый. И пирог — от, помаслить бы.
— Сейчас, Степик, заговорилась я! —
матушка вскочила и больше умных разго-
воров не вела,
Петров-не-Водкин сидел с очень до-
вольным видом: его забавляла ситуация.
Профессор Татарников, по обыкновению,
сгребал все со стола, подтверждая, что он
великий жрец, а Петров-ие-Водкии его все
отвлекал:
Что же теперь нужно будет говорить
«Перун воскресе» — так?
Воскресает же, как видишь
- Или не воскрес, а просто вернулся из
отпуска. Будем считать, что находился
в тысячелетием отпуску.
Больно длинный отпуск.
— По собственному желанию. Без сох-
ранения содержания. Поскольку законные
пожертвования ему не шли, все забирало
христианство. Вот и получается: отпуск за
свой счет.
— Мокша — в ей сила, в Мокше,—
просипел мамии сибиряк.
— А наш волхв не боится святотатство-
вать,— обрадовался Петров-не-Водкии. —
Только не выговорить «волхв», лучше
«Волхов», да?
Татарников прожевал последний кусок
пирога и оживился:
Мокошь даже лучше, чем Перун.
Перун слишком, как бы сказать, захватай,
его вечно поминают всуе, в нем уже нечто
опереточное. А Мокошь — чистая суть.
Правда, почему не обозначить ею некое
духовное начало? Почему сейчас вспоми-
наются часто всякие чужие боги Брама,
Будда — мы же русские, у нас была своя
Мокошь!. Между прочим, я когда-то в
школе был влюблен в Галочку Мокшанову
и ие подозревал даже, что ее фамилия так
многозначительна, уводит в такую древ-
ность.
Когда они ушли наконец с Петровым-ие-
Водкиным, причем каждый уносил под
мышкой завернутого в газету идола, мамин
сибиряк изрек презрительно:
- Верещаги.
- Кто? — Матушка еще не поняла, но
уже заранее восхитилась.
Верещаги. Особенно этот, толстый.
Как no-вашему? Болтуны.
- Какая прелесть! Верещаги!... Так вот
что значит Верещагин Болтунов то есть
Наконец я лежал в своей комнате —
и все думал, думал вместо того, чтобы
спать. Потому что именно сегодня произош-
ло самое главное с момента появления у иас
мамина сибиряка. Из умельца, из странной
достопримечательности, явившейся из Си
бири он превратился в посла иной эпохи
Недаром он показался мне сделанным из
какого-то другого материала, более плотно-
го, чем другие люди, точно и правда
спрессовались в нем тысячелетние верова-
ния наших предков, и Татарников с Пет-
ровым-не-Водкиным рядом с ним — легко-
весные верещаги, не больше.
Особенно мне запомнились из разговоров
того вечера несколько фраз. «Не перво-
родный грех, а первородный смех». На
самом деле, какая глупость, какое презре-
ние .к человеку в том, что самое его
рождение грех! А ведь так говорят
и считают. Я ие про церковь, я и был-то
в церкви одни раз ради любопытства. Но
когда Вероника и вообще взрослые, моя
матушка в том числе, стараются не гово-
рить «про это», потому что оно неприлич-
но,— они невольно соглашаются с прези-
раемыми маминым сибиряком попами, что
«это» — грех.
Или обращение на ты. Само собой, наше
выканье — нелепый обычай, к одному чело-
веку надо и обращаться в единственном
числе. Но если профессор Татарников
спросит в автобусе незнакомца: «Ты выхо-
дишь на следующей?», ему тотчас ответят:
«Ты мне не тычь! Ты со мной свиней ие
пас!», а спросит тот же мамии сибиряк —
примут как должное... Короче, если все
сложить, я уже немного гордился, что
матушка нашла себе такого необыкновен-
ного сибиряка, какого больше нигде не
встретишь, по крайней мере, в кругах
ленинградских иителлигеитов. Не ожидал
я от матушки такой широты вкусов...
Утром, когда мне собираться в школу,
мамин сибиряк вынес смешную деревянную
фигурку на шнурке — с палец, не больше.
— Во, Мишь, возьми-ка наузу Наде-
нешь, штоб тебе щастье и от сглазу
сбережет.
— Это вроде амулета? — догадался я.
— Науза. Попы посля крест навесили,
така ж наука ихнему богу евреииову. А ты
иоси нашему, отецкому.
Крест я бы себе на шею не навесил. Крест
у нас таскает Витька Полухин с тех пор, как
пошла мода. А вот такую иаузу, какую
никто не носит,— даже интересно. Я надел.
Не то чтобы я поверил, что фигурка,
изображающая саму Мокошь или хитрого
дедушку Чура, оборонит меня от всевоз-
можных неприятностей — а все-таки ка-
кая-то поддержка и опора в ней почуди-
лась. А вдруг и впрямь языческие боги,
проснувшись от тысячелетнего сна, увидят
во мне единственного своего поклонника
и нашлют немоту хотя бы на нашего
настырного физика Фазана в тот самый
момент, когда от изобретет для меня
особенно иезуитский вопрос?..
Кутя выслушала мои сенсационные исто-
рии скептически. И придралась для начала
к совершенной мелочи:
— Ну, во-первых, псевдонимы детям не
передаются, так что врет твой Петров-ие-
Водкин. У Горького же сын- Пешков.
Ну зачем она вечно спорит, когда я что-
нибудь скажу? Обидно.
Зато Витька Полухин немедленно усмот-
рел деловую сторону:
По четвертному отдали за деревяш-
ки? А сколько времени их стругает твой
эрзацпапахен? За полчаса, небось? Это
ж верней, чем адидасовские кроссовки!
Пустить только слух — знаешь сколько
налетит колупаиов! Всякому такого Перуна
уколупнуть захочется. По полтиннику да-
дут запросто. Будешь у своего шамаиа
брать. Твой товар — мои колупаны. Диви-
денды пополам.
Я не хотел таких дивидендов. Пусть
мамин сибиряк торгует сам, я даже рад, что
у нас дома можно будет повторять си-
бирскую поговорку: «Тыща рублей — не
деньги!», но участвовать в махинациях
Полухина - совсем другое дело. У него все
выходит как-то нечистоплотно. Бывает так:
одно и то же дело в одних руках выглядит
вполне прилично, в других — совершенно
отвратительно. Чтобы мамин сибиряк брал
ругу за своих середииских богов — это
совершенно естественно, не даром же
отдавать, на самом деле. А если бы с ними
стал шнырять Витька Полухин — получи-
лось бы скверно: в одной сумке у него
всякая «фирма», кроссовки, видеокассеты,
в другой — натуральные идолы из Сиби-
ри — тоже фирма, даже еще более редкая!
И вообще, с чего ои командует? «Будешь
брать!» Никогда я на него ие работал —
и не собираюсь!
— Он не фабрика. Сколько настругает,
столько сам и отдаст.
«Отдаст!» Будто даром.
38
Сам разберется. Ты-то ему зачем? Он
будет работать, а ты? Пенки снимать?
Витька заткнулся
Я с гордостью достал свою иаузу.
Во’ Переносной вариант То он делает
как бы стационары, а это вроде кассетника
Куте ндуза неожиданно понравилась. То
спорит по пустяку, то восторгается неиз-
вестно чем!
Какой смешной человечек! Тот самый
симпатичнейший уродец, да?
Вспомнила. У нас есть песня. Когда ее
поют, Захаревич всегда командует:
«Встать, когда гимн!» — и все послушно
встают:
Погорев на кострах эмоций,
Мы шагаем по жизни ногами,
Симпатичнейшие уродцы
С перевернутыми мозгами...
Кто-то занес от старшего брата из
стройотряда, а Захаревич как бы перелице-
вал гимн уродцев на себя: как же, это он
с его вывернутым лягушачьим ртом — тот
самый уродец, это у него перевернутые
мозги, потому что только перевернутые —
принадлежность гения, а у кого нор-
мальные — те безнадежные посредствен-
ности!
Захаревич потянул к себе наузу. У него
была секунда, чтобы выбрать: или от
вергнуть и высмеять, или принять, при-
знать, отождествить с собой.
— Ничего, нормально. Могучий, видать,
мужик. Наши деды дело знали туго.
Он все тянул к себе, но я выдернул у него
из пальцев наузу, снял шнурок через голову
и накинул Куте:
- На, носи.
Ой, спасибо!
Она поспешно спустила фигурку под
платье.
— А куда спустился уродец? Как он —
науз? Хочу быть этим наузом, хочу туда
же! — кривлялся Захаревич.
Я тоже очень живо представил, куда
спустился симпатичный уродец! И охотно
дал бы Захаревичу в морду за его фанта-
зии — но такие шутки у нас считаются
нормальными, лезть из-за них в бутылку
неприлично.
Давай-давай, съежишься так, что
только и годен будешь на шнурке болтать-
ся. Будешь похож на мальчика-с-пальчи-
ка! — злорадно придумал я сравнение, не
дожидаясь, чтобы Захаревич скомандовал
свое «три-четыре».
Когда мы шли домой вместе, Кутя
серьезно сказала:
— А интересно было бы, если б на самом
деле были всякие боги. Я этих славянских
не знаю совсем, но чтобы греческие. Мне
так нравятся греческие! Вдруг является
тебе бог, переносит куда-нибудь или пред-
сказывает будущее — здорово, правда?
А так же скучно, когда ничего сверхъес
тественного, никакого чуда Живешь-жи-
вешь — и все вокруг одно и то же.
— Боги любили девицам являться,—
сказал я ревниво. — Аполлоны всякие.
— А богини — красивым мальчикам,—
засмеялась Кутя. — Как Парису.
Она только плечами повела — и мне
показалось, что с нее на миг спали все
одежды, я увидел Кутю такой, как Афроди-
та в Эрмитаже, только живой Врут все,
и моя матушка в том числе, что когда
смотришь на прекрасные обнаженные ста-
туи, испытываешь одно только эстетическое
восхищение и никаких таких мыслей. Надо
быть совсем стариком чтобы просто так
восхищаться. Я, конечно, никому никогда
не признавался, но когда хожу по Эрмита-
жу, то почти не останавливаюсь перед
такими статуями и картинами — потому
что если буду стоять и смотреть, все по лицу
прочтут, что любуюсь я вовсе не как эстет.
А уж Кутя красивее любой статуи!
Я несколько минут не мог придумать, что
сказать Куте про греческих богинь. Так
и дошли молча.
Во дворе грелась Тигришка. Матушка
моя однажды видела, как я гладил Тигриш-
ку, и сказала, что мужчинам не полагается
любить кошёк, что еще Киплинг написал,
что настоящий мужчина, когда вндит
кошку, бросает в нее чем попало. Кнплинг
и правда написал, я помню эту сказку, но
все равно не понимаю, почему это на-
стоящий мужчина должен так делать.
Многим кошкам этот Киплинг больно
обошелся, потому что всегда полно иди-
отов, которые что-нибудь делают не потому,
что самим хочется, а потому, что так
принято, потому что велел какой-нибудь
гений, хоть самый завалящий А я не
люблю, когда заранее известно, что кому
полагается делать. Матушка потому притя-
нула Киплинга, что сама терпеть не может
ни собак, ни кошек, хотя женщинам это не
запрещает даже Киплинг. А отец любил, но
из-за нее не мог дома у нас никого завести
Через два года после их взаимного
бросания отец женился снова. Мне он это-
го специально не сообщал, матушке, я ду-
маю, тоже, но она откуда-то сразу
узнала и отозвалась очень ядовито, хотя
сама же бросила его гораздо дальше,
чем он ее:
— А говорил когда-то, что никто ему не
нужен, кроме меня! Никому нельзя верить!
Ну, совершенно естественно, мужчине не-
возможно просуществовать одному, муж-
чина не способен обойтись без служанки:
ни пришить себе пуговицу, ни постирать.
В теперешних условиях служанок нет,
в теперешних условиях для этого жены.
14 моську держит, почуял волю. Он всегда
собак любил больше, чем людей!
Так я узнал, что у отца завелась собака.
И позавидовал. Когда появился мамин
сибиряк, я понадеялся, что следом за ним
появится у нас и настоящая сибирская
лайка -^-своему сибиряку матушка бы
перечить не посмела, в этом я разобрался
быстро — и даже раз заговорил с ним об
этом. Но он мои надежды угробил разом:
Собака тута в городе — один распут.
Она для работы человеку дадена: дом
сторожить, зверя тропить, упряжь таскать.
Кто не работает — тот не ест, да? А у нас
мужик знашь как сказал: «Кто не рабо-
тает — тот нас съест!» Оно точно. Чево ей
в городе, как работать? Дармоедов разве-
ли, один распут. Хотя всех бы перебить -
нищак. Охотник кажный как? Стара Стала
собака зверя тропить - враз пристрелит.
Зря не кормит.
Кто бы другой сказал, что всех бы собак
перестрелять, я бы его возненавидел на всю
жизнь А мамина сибиряка — не смог.
Потому что давила на меня его мужицкая
основательность, настоящесть. Рядом с ним
я невольно ощущал уже и собственную
ненастоящесть, а не только ненастоящесть
какого-нибудь профессора Татарникова.
Кто я такой? Что я знаю в жизни, кроме
школьной науки, кроме музейной куль-
туры? Не сеял, не пахал. Я злился на себя,
я не был согласен признать свою неполно-
ценность, мамин сибиряк логически ничуть
меня не убедил. Я по-прежнему мечтал, как
было бы здорово идти по улице — и чтобы
рядом шла моя собака! Куда ни пойду, она
за мной, и не надо ее уговаривать, не надо
сомневаться, пойдет ли она или нет — она
всегда счастлива идти за мной куда угодно,
лишь бы я ее брал с собой! Я по-прежнему
так думал — и все-таки не мог отделаться
от противного ощущения, что мнения мами-
на сибиряка более основательные, здравые,
настоящие, чем мои собственные — потому
что в нем эта самая нерассуждающая
темная тесячелетняя народная мудрость.
Давила меня эта самая мудрость — но
сбросить ее я не мог...
И тут из нашего подъезда вышел мамин
сибиряк
— Вон, смотри, - шепнул я Куте.
Я уже успел привыкнуть к его виду,
а сейчас посмотрел на мамина сибиряка как
бы глазами Кути: дикий волос,
покрывающий полгруди, слишком длинные
руки, тяжелая походка, будто вдавли-
вающая наш выщербленный дворовый
асфальт. Взгляда издали не разглядеть, но
глубина глазниц поражает сразу — словно
две пещеры над заросшим косогором
Ну и чучело! — Кутя не засмеялась:
похоже, была немного напугана.
Мамин сибиряк тоже нас заметил и свер-
нул напрямик через газон. Кутя чуть
отступила н встала сбоку и немного сзади
меня. Вот здорово: можно сказать, что
я защищал ее грудью!
— Ить девка твоя, Мишь, да? Красавид-
на. II животина тута же. Мыша ловит, не?
К моему удивлению, мамин сибиряк
нагнулся и протянул руку к Тигришке. Та
отпрыгнула.
- Боицца Тоже красавидна. Похо-
жи — девка и кошка В масть. На шапку
хороша.
И он мелко засмеялся своим сиплым
смехом.
А меня не надо на шапку?!
Кутя покраснела. Она вообще легко
краснеет, потому что у настоящих рыжих,
некрашеных, кожа очень нежная.
- А тя, красава, на перину! и он
снова засмеялся.
И пошел, вдавливая ногами асфальт.
- Фу, какой противный! Как ты с ним
живешь?
- Чего мне? Сибиряк-то мамнн.
— Все равно. Тигришку на шапку!
— В деревне иначе относятся. Помнишь
у Есенина: «Из кота того сделали шапку».
Да он не сделает, он своими идолами занят.
Шутит так.
Дурак - и шутки дурацкие!
Кажется, Кутя совершенно не ощущала
рядом с маминым сибиряком своей го-
39
родской интеллигентской ненастоящести,
она не испытывала никакого почтения к его
тысячелетней мужицкой мудрости.
А мамину сибиряку точно было не
отвлечься ни на минуту — ни ради Тигриш-
ки, ни ради чего другого. Знакомые
профессора Татарникова и Петрова-не-
Водкина, знакомые знакомых, знакомые
в третьей степени — все жаждали иметь
Серединских богов, во всех пробудились
дотоле крепко спавшие их языческие пред-
ки! Что-то смутное, неосознанное бродило
в них и раньше, заставляя собирать прялки
и скалки, но что такое скалка рядом
с Мокошью и Перуном! По вечерам я толь-
ко успевал открывать дверь.
Простите, можно видеть Степа-
на Петровича? - очередной посетитель
вертел бумажку перед глазами. - Я ведь
туда попал? Дело в том, что я от Вален-
тина Нилыча Татарникова...
‘Говорили обычно чуть понижая голос из
почтения к святыням. Проблемы возникали
самые неожиданные:
— А ничего, что я Чура положу в по-
лиэтиленовый мешок? Может, надо обяза-
тельно в льняную тряпицу?
— Нищак. В ем сила доподлинная, ему
твой полутилен без вреда.
Очень редко покупатели отваживались
не на споры - кто ж возьмется спорить
с живым волхвом, . язычником-практи-
ком! - но на робкие вопросы:
А почему у вас Лада и Леля
женщины? Ведь в сказках всегда Лель. Так
и говорят: «Лель-пастушок». Возьмите
и «Снегурочку:».
— Говори! Како ж Лель мужик, когда
они Рожаницы — Лада и Леля, матка
и дочка. Или у вас тут в городе мужики
рожат? Тем, которы отецких богов забыват,
тем едино, что Лель, что Леля, а нам Леля
в бабьем деле помогат.
— А Лад? Тоже говорят всегда в
мужском роде. Даже книжка есть про
старые обряды: «Лад».
— Книжка! Каков Гришка, така евона
книжка. А ежли доподлинно, так Лада.
Котора Лелю родила. Муж жену как
ласкат? «Ты моя Лада». А не она ему: «Ты
мой Лад» - тьфу!
Вопросители уходили посрамленные —
но и просвещенные.
Один только раз — при мне во всяком
случае нашелся посетитель, который
попытался заспорить с маминым сибиря-
ком. Жизнерадостный розовощекий
.толстяк в замшевой курточке, похожий,
несмотря на свою шкиперскую бородку, на
увеличенного раза в три откормленного
младенца.
- Но как же так, что вы говорите! Все
языческие боги были ассимилированы в
христианских святых, это же элементарно:
Влес во. Власия, Перун в Илью-пророка
и так далее. Образовалось новое качество:
полуязычество-полухристианство, которое
мы и имеем под названием современного
православия. Поэтому просто нет надоб
ности языческим богам сохраняться в пер-
вобытном виде!
И тут мамин сибиряк отвалил бородато-
му младенцу полной мерой. Я все-таки не
привык — хотя мог бы привыкнуть даже
в родной школе — что апломб и прямая
грубость заменяют аргументы, и потому
очень удивился приемам полемики, приме-
ненным маминым сибиряком:
— Ах ты, кикимора болотная! Не сеешь,
не пашешь, а туда ж! Народ-ат, он сам
знат! Ходют тут — почечуй поповский, а
пищит1
Мамин сибиряк встал и шел на младенца
в замшевой курточке, размахивая носатым
Родом, как кистенем. Паркет прогибался.
И грубости подействовали убедительней,
чем логика. Бородатый младенец попятил-
ся, опрокинулся, пятясь, на диван и совер-
шенно со всем согласился:
— Я что, я только высказал, так сказать,
общепризнанное, а сам я, напротив..
— А не высказай, молчи да глазай!
Младенец внес ругу вдвое против
обычной, а потом в прихожей шептал
в восхищении, укладывая целый комплект
идолов в огромную сумку с надписью «Fiat»
на боку:
— Какой темперамент, а? Вот где не-
растраченные силы! В самой гуще! А глагол
какой: «Глазай»! Что мы — хилые вырож-
денцы...
На другой день я устроил в классе
маленькую премьеру гадания на сибирской
гуще:
— Ну ты глазай сюда! Это те не Машка,
а Мокша. Лишнего Не языкай и Мокша те
экзамен скинет как лапоть!
Захаревич позавидовал и тотчас образо-
вал еще кучу глаголов:
— Ушай, носай, ногай, рукай!
А Кутя подхватила голосом Вероники:
— Ушай урок, пальцай сочинение! Гла-
зай на доску, а не в чужую тетрадь!
Я хохотал со всеми, но все-таки чувство-
вал, что «ногай» и «пальцай» звучит так
себе, а «глазай» — хорошо..
Деньги, ругу эту самую, новоявленные
язычники протягивали, всегда конфузясь,
всем своим видом давая понять, что
платить деньгами за святыни — ко-
щунство, но что поделаешь, раз нет другого
способа вознаградить богоугодные труды.
Впрочем и самое кощунство мамин
сибиряк понимал по-своему. Однажды ве-
чером, удачно расторговавшись, он сидел
и рдзнеженно парил в тазу свои корявые
ступни — почему-то не захотел в ванной.
Матушка то и дело подносила в чайнике
горячую воду.
Ну чево,— просипел он с необычным
благодушием,- кощун те побаять. Пусть
бы и Мишь послуха л.
Матушка переспросила с обычной при
своем сибиряке поспешностью:
— Что ты хочешь? Что побаять? Расска-
зать?
— Кощун. Как по-вашему? Сказку.
«Кощун»! Какая прелесть! Вот откуда
«кощунство»! А почему для нас «ко-
щунство* — это когда-говорят плохо, руга-
тельно? Богохульствуют, словом. Ведь
в сказке ничего плохого, один фольклор!
— Потому попы, понятно, не любили,
штоб про Мокшу баяли, про Рода, про
Дажбога с Волосом. Ежли начат кто кощун
баять, они враз кричат: «Кощунство, ко-
щунство!» — Исусу, значицца, ихнему ума-
ление. А кощун — он и есть наша правда
славянска.
Мамин сибиряк стал долго нараспев
рассказывать свой кощун про то, как
Дажбог со Змием поделили людей и землю:
половина стала богова, а половина —-
змиева, а чтобы ясна была граница, впряг
Дажбог Змия в огромный плуг и перепахал
на Змие всю степь от края до края, от
Днепра до Дуная. Сначала было интерес-
но, а потом надоело и я задремал.
— Ну чево, Мишь, кунят уже,— прервал
сам себя мамин сибиряк.
Проговорил он это своим обычным
голосом, не кощунственным — и я тотчас
очнулся.
— Что — Миша, что делает?
— Кунят, говорю, куняет. Ну, дремлеть.
Вовсе ты не понимаешь по-русски.
Матушка застеснялась:
— Да уж правда, язык у нас бедный,
канцелярский. Как замечательно: «ку-
нять»! Вот откуда Куняев!
- Што за Куняев?
— Поэт. «Добро должно быть с кулака-
ми», написал.
— Ить от очинно правильно! Без кула-
ков што от добра никака польза, што от зла.
Верно, Мишь?
Я все не мог привыкнуть и гордился, что
мамин сибиряк разговаривает со мной, как
со взрослым мужчиной.
Но не поддался на лесть, вспомнил, как
Кутя независимо отнеслась к мамину сиби-
ряку, и спросил запальчиво:
— Почему «кунять» — такое замеча-
тельное слово, настоящее народное, а
«дремать» — нет? Чем «дремать» плохо,
что в нем канцелярского? А мне «кунять»
не нравится, некрасиво как-то: «кунять»
«вонять».
— Ишь! Вот так, Мишь, чеводумашь, то
говори — с кулакам. Мужик будешь А по
мне, што «кунять», што «дремать». Рази
я говорю, што «кунять» лутшей?
— Ты ж сам сказал, что мама не
понимает по-русски.
— Не понимат — ить точно. «Кунять»
я по-русски сказамши? А она не понимат.
Железная логика.
Матушка делала мне знаки, чтобы я не
спорил И Серединские боги взирали на
меня неодобрительно: и Род с Рожаницами,
и Перун, и Волос, и Дажбог, и сама
Мокошь. Один только дедушка Чур хихи-
кал. Их набралась уже целая большая
полка, сколько мамин сибиряк ни раздавал
своих идолов, а они от этого только
прибывали. Дажбог сидел на маленьком
сундучке, на шкатулке, куда мамин сибиряк
забрасывал небрежно ругу, получаемую от
новых язычников за Серединских богов.
И можно было брать оттуда свободно — не
только матушке, но и мне. «Тыща рублей —
не деньги». Я не брал тысячу, но сколько
нужно было, брал запросто, если что-ни-
будь купить или куда-то пойти. Захотел
бы — стал бы весь в «фирме», как Витька
Полухин. Но меня не очень интересуют
фирменные тряпки, честно — потому что
смешно, когда все ходят в одинаковых
штанах, и чем одинаковей, тем сильней
гордятся. В армии форма — необходи-
мость, но зачем на гражданке самим
залезать в форму? Витьке Полухину этого
40
не понять, он гордится, что уже назарабо-
тал себе на дубленку цвета беж, а скоро
поставит у себя и всю фирмовую аппарату-
ру — нафарцует. Обычно у тех, у кого
одинаковые штаны, мнения тоже одина-
ковые. Витька всегда пишет сочинения
такие, какие нужно, он очень хорошо знает,
какие нужно писать, наша бедная Вероника
верит, что он очень идейный ученик...
Потому я не бросился покупать фирму,
чтобы навесить на себя. Раньше ходил
в чем попало от бедности, а теперь — от
зазнайства. И матушка тоже — чего-то
себе покупала, но без остервенения. Она
ведь и раньше ничего не понимала в тряп-
ках. Когда шкатулка под Дажбогом пере-
полнялась мамин сибиряк куда-то пере-
кладывал деньги, уж не знаю, куда, но
несколько сотен там всегда лежали для
общего пользования — и никто не спраши-
вал отчета.
Я теперь шикарно угощал Кутю моро-
женым. На рестораны у меня не хватало
смелости: они представлялись мне вертепа-
ми разврата, где демонические официанты
униженно служат самым разгульным из
гостей и с презрением изгоняют прочих
посетителей, не поднимающихся до высот
гусарского или купеческого кутежа. Жал-
ко, уже уехал Луна-парк: мы в нем были
летом и с имевшейся у меня трешкой
чувствовали себя весьма жалко, а проса-
дить бы, не раздумывая, не экономя, хоть
червонец, хоть два — вот тогда бы получи-
ли массу удовольствия!
Зато я впервые взял такси — не с отцом
проехал, не с матушкой, а остановил сам
и посадил Кутю. Мы с нею были на дне
рождения ее подруги где-то на проспекте
Художников — она меня привела, сам-то
я не очень разбираюсь в этих районах.
Подарок тоже купил — ручные кружева —
и цветы на рынке. Вышли мы от подруги
уже около двенадцати, Кутя ныла, что
поздно, что обещала быть дома в двенад-
цать, а нам еще чуть не час добираться —
действительно, нужно ждать автобуса,
которые вечером ходят редко, ехать до
метро, потом на метро с двумя пересадками
и еще пешком от Сенной — тут-то я. увидел
свободное такси и махнул рукой. Небреж
но, будто привык останавливать. Честно
говоря, все же не ожидал, что такси
остановится. Шофер увидит, что я еще
школьник, не поверит, что есть деньги — но
машина затормозила. Кутя сразу сменила
тон:
— Ой, Мишка, ты что? Знаешь, сколько
нащелкает с окраины? Давай только до
метро!
Она еще не понимала, что тыща руб-
лей — не деньги.
Я подсадил Кутю, сел рядом — только
жлобы, когда едут вдвоем, важно усажи-
ваются впереди, как начальники в персо-
нальной машине — сел и приказал:
— На Гражданскую. — И вдруг добавил
небрежным тоном, сам не ожидая, что умею
так: <Да не перепутайте: на улицу, а не на
проспект!»
Потому что проспект где-то здесь близко,
а на улицу— через полгорода.
И обнял Кутю за плечи.
Я чувствовал Кутю плечом, боком.
бедром — и думал о том, что еще ин разу ее
не целовал. Стыдно! И давал себе слово,
что когда сейчас приедем, непременно
поцелую! Раз уж так умею разговаривать
с таксерами, то ничего мне не стоит ее
поцеловать!
Нащелкало всего восемь рублей - я
ожидал, что раза в два больше. Я дал
таксеру десятку и вышел, не дожидаясь
сдачи.
Во дворе у нас темно, лампы над
подъездами давно перегорели. Вот и хоро-
шо — старушка Батенькин-а ничего не
разглядит из своего окошка. Я был готов
гордиться Кутей перед всем миром — но не
хотел, чтобы бессонная бабушка под-
глядывала, как мы целуемся.
Я уже совсем набрался духу взять Кутю.
сзади за талию, оторвать от Тигрншки
прижать к себе — как вдруг послышались
шаги на лестнице, открылась дверь —
и явилась кутина мама
— Это вы? А я уже начала беспокоиться!
Хотела вас встречать у метро.
Кутя выпрямилась. Тигришка спрята-
лась.
— Ну, мамочка, чего беспокоиться?
Сколько сейчас? Всего десять минут! Сов
сем даже вовремя приехали, как обещали!
И я же не одна, а с Мишей!
— С Мишей спокойнее, конечно, ну
а если взрослые хулиганы?
Кажется, она меня не принимала всерь-
ез!
— Вечно ты паникуешь, мамочка, я про-
сто не знаю! И никогда не ходи встречать
к метро: мы приехали на машине, а ты бы
там стояла как... как я не знаю кто!
Ай да Кутя! Я был отомщен.
— На машине?! Какие аристократы! Мы
в ваши годы так не роскошествовали
Спасибо, Миша, что доставили нам дочку.
Для них специально старался!
У нас в окнах еще горел свет. По
лестнице спускались. Слышался Петров-не-
Водкин. Конец фразы я уже разобрал:
— ...и все-таки получается некое шоу,
ансамбль песни и пляски.
С ним Татарников — а кто ж еще!
Профессорскую речь я разбирал совсем
хорошо:
— В церкви тоже ансамбль песни и пляс-
ки, только шикарнее. Сейчас спрос на
всякую этнографию. Время раскапывания
корней. Увидишь, эти Мокоши пойдут скоро
у Сотби на тысячи фунтов!
Я громко зашлепал ногами по ступень-
кам, чтобы не подумали, будто подслуши-
ваю. Голоса оборвались. На втором этаже
рядом с дверью Ларисы мы встретились.
— Здравствуй, Миша! Здравствуй, до-
рогой! Небось, от девочек?
Уж так они мне обрадовались, будто
встретили живого Перуна или Волоса.
Очень им было интересно, расслышал я про
тысячи фунтов или нет, потому так и расшу-
мелись. Я важно согласился, что от
девочек, и оставил их в полном недоумении
слышал я все-таки или не слышал?!
Мы разминулись — и тут за моей спиной
приоткрылась дверь, выглянула Лариса.
— Это ты ходишь, Миша? А ваш Степан
Петрович как - дома?
Я приостановился, спустился назад на
несколько ступенек. Лариса была в одном
халате. На лестнице у нас лампочки
тусклые, и в полумраке она показалась
почти молодой. В какой-то миг мне захоте-
лось обрушить на нее все нерастраченные
поцелуи. Но сразу же стало противно.
— Откуда я знаю. Наверное, дома. Где
ему быть
Я отвечал довольно грубо. Но Лариса не
смущалась.
- А то у меня что-то с холодильником.
Он же иа все руки. Скажешь ему, хорошо?
— Скажу, когда увижу. Не пойдет же
сейчас.
— Я рыбу достала. Обидно, если протух-
нет. Хорошая рыба. А ты не понимаешь?
Вас в школе не учат?
Снова промелькнуло искушение войти
в темноту Ларисиной квартиры, в сме-
шанный запах парикмахерской и прачеч-
ной.
— Нет, не учат!
И я поспешно взбежал наверх. Вернее,
убежал. И долго не мог успокоиться,
воображал несостоявшееся приключение
и презирал себя за трусость, и радовался,
что не предал Кутю, избежал ларисиного
капкана. Что все мне почудилось, что
Лариса и не пыталась меня заманить, я не
думал совсем...
Поэтому подслушанный разговор вспом-
нил только наутро. Передавал мами-
ну сибиряку просьбу Ларисы. Передал я не
при матушке, нарочно выбрал момент, как
бы приглашая его в тайный заговор. Но
мамин сибиряк отмахнулся небрежно:
— Нищак, потерпить. ‘Не протухнеть
у ей, авось.
В этот момент я вспомнил про подслу-
шанный разговор. Передавать мамину
сибиряку или нет?
Во-первых, я не знал, кто такой Сотби,
почему он считает в фунтах, а не в рублярс
Ну и зарабатывает мамин сибиряк много —
если применим к его промыслу термин
«зарабатывать» — хотя и не берет за своих
идолов тысячи. Потому решил пока не
говорить. Но хотелось как-нибудь ухит-
риться и разузнать: сам Татарников соби-
рается продавать этому Сотби Серединских
богов за тысячи фунтов или кто-то другой?
Те, кто приходил покупать изготов-
ляемых маминым сибиряком идолов, может
быть, и относились к нему как к солисту
фольклорного ансамбля из некоей леген-
дарной уже Середы,— не знаю. Трудно же
всерьез поверить в Мокошь, Рода, дедушку
Чура. Хотя по дереву-то стучим! Тут какая-
то путаница: стоит произнести языческие
имена: «Мокошь», «дедушка Чур» - и
смешно утверждать, что веришь в них. Но
совсем отрицать какую-то безымянную
силу, которая может либо принести счастье,
либо, наоборот, помешать, испортить де-
ло — не хватает духу совсем ее отрицать!
А вдруг все-таки есть что-то?! Но такой
вере на всякий случай не хватает страсти,
тут уж неизвестно чего больше: веры или
иронии? Но раз явились к нам с маминым
сибиряком некие боги, должны были явить-
ся и настоящие страждущие. Ибо был бы
бог, а богомольцы найдутся.
И страждущие явились.
Продолжение следует.
41
ш
*
LU
со
О
с;
ш
О
>
ш
со
о
с;
ш
Заметки психолога
Приглашение
к пляске смерти
Анти Лийв
на каком-то странном анонимном
больничном языке: «Ну-ка, подни-
мемся чуть повыше». Мы поднимаем-
ся... Здесь о смерти не знают ничего.
Не желают знать. И никто не узнает ее
в лицо.
И вот наступает агония. Словно
в удивлении, в отчаянном неверии,
несговорчивая плоть вступает в дли-
тельную последнюю схватку. Вот
когда, в паузах умирания, вопит жи-
вотный ужас. Медики сумели обма-
нуть человека, но не смерть. Она
подобралась к глотке. Швыряет чело-
века в гнусность умирания, в муки,
превышающие человеческие силы.
Лет десять назад, зимним вечером,
в свете предзакатного багрового
солнца, сидя у потрескивающей
печурки в местечке Пилгузе, мы с
А. К. обсуждали вопрос:
почему же, несмотря на развитие
медицинской науки, так растет страх
перед смертью? От ипохондрии до
всяческих фобий. Собеседник мой
много повидал на своем веку, много
путешествовал владел,
благодаря таланту и поворотам
судьбы, большинством европейских
языков. И вот, коротая, по воле
случая, старость на Сааремаа, он
рассуждал теперь о танце смерти в
его сегодняшнем виде.
Вопрос в том, как умирать. Как
приходит миг ухода из жизни, мо-
мент, когда смерть вот-вот оборвет
нить жизни? Она должна быть узна-
ваема, у нее должно быть свое лицо.
В разные времена — разное. Но как
узнать ЕЕ?
Когда-то ОНА присаживалась у из-
головья постели в зеленом фраке
и позволяла втягивать себя в сложные
сделки и споры. Она была персональ-
ной смертью. Стихией, приобретшей
конкретный облик, с которой — по
крайней мере на какое-то время —
можно было сторговаться.
Современная смерть, к сожалению,
ведет себя совсем по-иному. Она не
торгуется и не вступает в сделки
с человеком. Она убивает грубо
и анонимно. Она отказалась от стихий-
ности, философичности. Она созна-
тельна, она способ убийства. Мгновен-
но хватает за горло и отдергивает
руку, лишь получив ощутимый отпор.
Неужели и правда, встреча с ней
происходит теперь только в виде
лабораторных анализов и хирургичес-
кой операции? Все же должно где-то
ощущаться ее специфическое при-
сутствие. Ее приближение и удаление.
Ее собственный лик.
Шел человек по улице, упал и не
встал. Кого-то затянуло лентой кон-
А лександр Куртна (1914— 1986), известный
эстонский переводчик, в 1936—1942 гг. учился
в Ватикане
© «Радуга», 1988. Статья печатается с неболь-
шими сокращениями.
вейера. Кто-то выронил за ужином
чашку из рук и никогда больше не
поднял ее. Кто-то не проснулся ут-
ром.
Той смерти, которую я пытаюсь
найти, здесь нет. Той именно СМЕРТИ,
которая существует в моем сознании.
Внезапная, случайная и непредска-
зуемая кончина составляет лишь часть
раздела о смертях в бесстрастной
статистике. Достаточно большую
часть.
Медленное угасание старых людей:
эта смерть с давних пор привычна.
Такая домашняя, что момент прихода
ее почти незаметен. Однако по-
добных смертей с годами становится
все меньше — они выходят из разря-
да типичных. Самоубийцы? Их
смерть — трусливый отказ от жизни.
Жестокая антитеза жизни.
Какова же ОНА? Где ОНА?
Сегодня люди рождаются и уми-
рают уже не под крышей родного
дома Смерть современного челове-
ка — будничная и универсальная —
происходит в больницах, клиниках,
домах престарелых. Видно, там и надо
искать ее присутствие. Искать ее лик.
Здесь, в больнице, никто смерть
своим именем не называет. Хотя все
переполнено смертью, все словно
кричит о ней и все ей подчинено.
Беззвучно капает физиологический
раствор из сосуда, установленного на
штативе, струится в конвульсивно со-
трясающееся тело умирающего по-
чечного больного. В углу палаты ме-
чется человек, кот орому машина на
пешеходном переходе размозжила
тазовые кости.
Тошнотворный смрад смерти, ко-
торый прорезает запах струй дезин-
фицирующих средств. Ночью и даже
в пасмурные дни тусклый свет
электричества. Серые тени, кош-
марный цвет.
Притулившиеся у кроватей уми-
рающих родственники с красными от
бессонницы глазами (повсеместная
нехватка обслуживающего персона-
ла...). Тусклые или блестящие, почти
бессмысленные, глаза больных смот-
рят на все так, словно не пони-
мают происходящего. Подходит па-
латная сестра, чтобы выполнить рас-
поряжения врача; она разговаривает
А. Дюрер. Герб смерти.
1503.
Жесточайший кошмар без предуп-
реждения и согласия, без объяснений.
Вот когда, она, наконец — персональ-
ная. С глазу на глаз с человеком — но
на сей раз ОНА жестоко механичес-
кая, лишь на миг задержавшаяся
в человеке, существующая вне созна-
ния, обезличенная до неузнаваемос-
ти.
Так умирает человек, у которого
отняли его собственную смерть и ос-
тавили одно лишь умирание. Он
умирает недостойно, как животное,
ужасающе. Так ежедневно умирают в
больницах в клиниках, домах преста-
релых. Так умирает большая часть из
нас. А не пришло ли время поднять
протест против сегодняшней «гуман-
ной смерти», против святой лжи?
Гуманны лишь средства борьбы за
жизнь. Сама ж смерть была и остается
варварством Вернее, она стала во сто
крат более варварской, стала анахро-
низмом в еще большей степени.
Обман состоит в том, что меди-
цинская наука, получив в свое распо-
ряжение действенные средства
борьбы за жизнь, возвела их в аб-
солют, обожествила их. Тем самым
врачи возвышаются до полубогов,
в чьих силах уничтожить смерть.
42
Медицинская наука обезоруживает
нашу готовность. Она узурпи-
ровала власть, ограничила дееспособ-
ность человека и таким образом
похитила у нас сознательное
умирание. В последний же миг
наука бросает нас. Мы остаемся
неподготовленные, еще не вооружив-
шиеся перед смертью и сокрушаемые
ею еще более жестоко, чем звери.
Подобный прогресс опирается на
два противоположных, но, тем не ме-
нее, существующих в неразрывном
единстве, аргумента. Медицина унас-
ледовала религиозное понятие смер-
ти и относится поэтому к ней, как
к чему-то приходящему извне. Как
к какому-то элементу вне человека,
стоящему где-то между человеком
и неведомым. Одновременно с этим,
борясь с физическим и химическим
процессом умирания с помощью фи-
зических и химических средств, меди-
цина дошла до той степени знания,
когда смерть в сознании врачей стала
настолько конкретной, простой и точ-
ной, что почти перестала быть прояв-
лением психической, личной и инди-
видуальной драмы человека. Чтобы
примирить эти два противоречивых
момента, медицина похитила у смер-
ти всю ее индивидуальность, раство-
рив ее в научной анонимности. Ано-
нимность же служит следующей сту-
пени обмана. Смерть существует
среди анонимной, непонятной, слож-
ной медицинской аппаратуры. В тыся-
че анонимных лекарств и препаратов,
во все более усовершенствованных
методах и рецептах. Несмотря на
ритуальный обычай произносить па-
циенту анонимную формулу: «Приля-
жем теперь на эту кровать». Смерть
существует, но ее представ-
ляют нам под видом жиз-
ни. Глядя на шприц с лекарством для
возбуждения сердечной деятельнос-
ти, умирающий верит, что укол этот
вернет ему жизнь. На деле он лишь
продлевает мучительную агонию. Од-
нако благодаря этой неназванности,
таинственности, изменению значения
того, что происходит в таинственной
сфере вне человека, и становится
возможной очередная версия мифа
XX века — проповедь медицинской
науки. Наивный компромисс между
религиозным понятием смерти и фи-
зикой с химией. А человек умирает
хуже зверя Не пришло ли время
взбунтоваться против животно-
г о умирания? Так сказать, против
научно обоснованной анонимности
смерти. Против фальшивки, навязыва-
емой нам врачами.
Считаю, что СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА —
так же, как и его жизнь — принадле-
жит только ему. С приближением
смерти человек вправе знать, когда он
должен умереть, и, призывая на
помощь медицину, избрать самую
для себя удобную форму кончины.
Человек имеет право познакомиться
со своей смертью. Побыть с ней
лицом к лицу. Вступить с ней в сговор
Ставить условия. Поспорить с ней,
дружески поцапаться, даже пофлир-
товать. И кто знает, возможно даже —
как когда-то в прошлом — позволить
ей посидеть в изголовье И только от
желания человека и богатства его
фантазии зависело бы: будет ли его
смерть одета в зеленый фрак или
в тогу философа. Или умирающий
позволит ей принять облик травы.
А кто-то захочет, чтобы в его пред-
смертный миг, если врач его опреде-
лил с точностью, он помог бы челове-
ку стать другом смерти, подобно
тому, как до этого он был другом
жизни. Если человек недостаточно
умен и образован, пусть врач препо-
даст ему вечную мудрость о бреннос-
ти бытия. Смерть человека должна
быть не безликой кошмарной кончи-
ной, а личным, святым и достойным
прощанием с людьми и вещами,
сопровождавшими его в жизни. Без
боли, слабости и страха перед гряду-
щим Только такая смерть достойна
жизни. О такой смерти думали прко-
ления мудрецов. Цивилизации надо
оценивать не только по способу
бытия, но и по культуре умира-
ния.
Для большинства из нас уготована
не геройская смерть Она может
оказаться и бессмысленной (пьяный
за рулем — ив считанные секунды
человеческие жизни расплющены
среди обломков железа). Все мы
боимся ее так, что не смеем и думать
о ней. И все же думаем И весьма
часто. В начале века появились «За-
писки врача» В. В. Вересаева, тогда
они были приняты почти враждеб-
но — из-за «еретических» мыслей.
Теперь, вероятно, не менее еретичес-
ки прозвучит мысль о том, чтобы
в больницу призвать психологов.
В последнее десятилетие варвары
разных рангов неоднократно устра-
ивали погромы на кладбищах Эсто-
нии, уничтожали памятники. Что
это — свидетельство падения уровня
духовности? Предотвратить вар-
варство — долг живых, веление их
внутренней культуры.
Мой тогдашний оппонент, теперь
уже обитатель загробного мира, из-
вестный в кругу друзей как пан
Куртна, не верил в возможность
опубликования еще в нашем веке этих
заметок о культуре смерти. Мой
гонорар за эти заметки пусть будет
перечислен в ФОНД МИРА, во имя
жизни. А вдруг, да благодаря этому,
психолог станет в больнице явлением
обыденным.
Перевела с эстонского
Вера Прохорова.
Ответ мудреца Сянь Юаня Поль Клодель
Старый Сянь Юань сказал такие слова
Волшебнику, предлагавшему возвратить его годы к цифре два:
— «Про утро мне известно все и про то, как лучи полдня томят,
Но сейчас я вижу, чего не видал никогда, однако подозреваю, что это закат.
Я вижу что ровный свет на всем, что зной свалил, и дымка ушла.
Что на ясности небес каждую ветвь вычертила резчика игла.
Я вижу в зеркале свое лицо, и это четко исписанный лист,
Где новые знаки спешат занять каждый уголок, который еще чист.
Какая жалость — прервать труды этого неутомимого писца!
Я не отрываю глаз от его руки, мне охота все дочитать до конца.
До конца,— но где же конец? Все только начинается вокруг!
Холодный ветер овевает меня, я чую его, и он мне друг».
Перевод с французского
С. С. Аверинцева.
Поль Клодель (1868—1955) — французский писатель, поэт, драматург. На русском языке
стихотворение публикуется впервые
Кто был первым врачом на нашей
планете, судить трудно. Но первый
известный истории портрет врача перед
вами. Надпись под ним гласит:
«Секхет'энанах прославил себя тем, что
излечил ноздри фараона».
43
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
««Лебеди»
Великой Степи
Андрей Никитин
Почти два века эти люди жили бок
о бок с Древней Русью, иногда —
среди русских. Вместе
с русскими дружинами они
участвовали в княжеских усобицах,
ходили в помощь русским князьям
на Венгрию, Польшу, Волжскую
Булгарию, выдавали за них своих
дочерей; вместе с русскими встали
против монголов и — бежали,
разбитые, чтобы снова возникнуть
на исторической ареНе Восточной
Европы под именем кипчаков,
оказавшись впоследствии одними
из предков казанских, астраханских
и крымских «татар».
Это — половцы. О них упоминают
все учебники русской истории. Их
можно встретить на страницах
исторических романов и на сцене
оперных театров. И всегда
оказывается, что половцы —
исчадия ада, злейшие враги Руси,
коварные и алчные, косоглазые и
меднолицые...
Так ли это? Не оказались ли мы
в плену искусственных концепций,
не поняв летописцев или поздних
редакторов летописей, смотревших на
степных соседей сквозь призму
русско-ордынских отношений?
Сейчас наступило время, когда можно
попытаться взглянуть на наших
древних соседей новыми глазами. Так
попробуем это сделать!
«...САМОМУ БОГУ ВРАГИ!»
«Того же лета (6686 — А. Н.), меся-
ца августа, придоша иноплеменницы
на Рускую землю, безбожнии из-
маильтяне, окаянные агаряне, не-
чистые исчадия делом и нравом
сотониным, именем Концак, злу на-
чальник, правоверным христианам,
паче же всем церквам, идеже имя
Божье славится, сими же погаными
хулится, то не реку единым кресть-
яном, но и самому Богу враги; то аще
кто любит враги Божья, то сами что
примут от Бога?..»
Пробегая глазами слова этих про-
клятий, в которые монах-летописец
облек известие об очередном воен-
ном столкновении Руси со Степью
в 1178 году, современный читатель
воспринимает содержащуюся в них
информацию как нечто естественное,
поскольку она отвечает сложившему-
ся стереотипу мышления. Доверяя
летописцу, половцев считают «по-
гаными», то есть язычниками, «без-
божными» — то есть агрессорами,
врагами христианства. Противореча
себе, летописец называет их «сынами
Измаила» и потомками его матери
Агари, то есть мусульманами, а не
язычниками. И вот тут поневоле заду-
маешься: что же правда?
Что в XI—XII веках половцы не
были мусульманами, известно доста-
точно определенно. Больше того,
можно сказать, что все это время они
служили надежным щитом для славян
и грузин от арабской экспансии с Вос-
тока. Но вот были ли они язычниками?
В самом деле, что несет в себе
определение половцев как «поганых»,
которое мы не задумываясь повто-
ряем за летописцем и за автором
«Слова о полку Игореве» на протяже-
нии вот уже восьмисот лет? Язычники?
«Не-христиане»? Однако напрасно ис-
кать в летописях хотя бы намек на
религиозные воззрения половцев.
Случайно ли? Не похоже. Пусть скупо,
но летописцы рассказывают о
язычестве славян, обычаях «сырояд-
цев», об обрядах иудеев, мусульман,
приходивших обращать Владимира
в свою веру. По летописям мы можем
даже представить себе «черную ве-
ру» — шаманизм монголов. А вот
о религии народа, с которым Русь
жила бок о бок на протяжении почти
двух веков и даже успела породнить-
ся, мы ничего не находим.
Удивляет и другое обстоятельство.
Иноверие народов воспринималось
монахами-летописцами довольно без-
различно, даже если те оказывались
столь страшными врагами, как пече-
неги или монголы. В чем же причина
столь гневных филиппик по адресу
половцев, напоминающих более позд-
ние обличения «папежников» или
старообрядцев? Подобную злобу
обычно вызывают не иноверцы, а ере-
тики и отступники. Вот почему,
столкнувшись с очередным каскадом
проклятий, невольно задумываешься:
уж не были ли половцы христианами,
не православными, а какого-то иного
толка? В таком случае летописцы
совсем не случайно умалчивают об их
вере, не приводя никаких доказа-
тельств их язычества.
Однако прежде чем ставить вопрос
о конфессиональной принадлежности
половцев, посмотрим, чем распола-
гает в этом плане современная наука.
В первую очередь — археология.
За последнее время археологами,
особенно такими, как Г. А. Федоров-
Давыдов, С. А. Плетнева, А. О. Доб-
ролюбский, а также многими други-
ми, проделана огромная работа по
изучению археологических памятни-
ков кочевых народов средневековья.
И все же, как признают сами ученые,
им до сих пор не удается выделять
с достоверностью из массы тюркских
погребений — древнебулгарских, пе-
ченежских, торческих, ясских, поло-
вецких — представителей каждого из
этих народов. Все они похожи в погре-
бальном ритуале, украшениях, воору-
жении, одежде, как были когда-то
похожи в языке и образе жизни.
Сложность заключена и в том,
что названия «печенеги», «торки»,
«половцы» в конечном счете оказы-
ваются только условными ориенти-
рами в пространственно-временном
потоке народов, двигавшихся через
южнорусские степи и оседавших там
на протяжении веков Каждый раз
происходила смена не всего насе-
ления, а только названия главенст-
вующего народа, который на ка-
кое-то время олицетворял в глазах
оседлых соседей подчиненный ему
конгломерат племен, продолжавших
жить по своим обычаям и поклоняв-
шихся своим богам. Больше того. Для
XI—XIII веков в этой массе схожих
погребений оказывается трудно, а то
и невозможно выделить захоронение
христианина. С тех пор как на Руси
прекратили сжигать покойников, от-
личить славянина от тюрка-кочевника
стало возможно только по конструк-
ции могильной ямы да по наличию
костей коня. Крест, как отличительная
особенность христианских погребе-
ний, встречается только в городских
некрополях XI—XIII веков, да и то
довольно редко. Все остальное —
оружие, украшения, остатки одежды
и доспехи, сосуды с заупокойной
пищей, славяне продолжали ставить
и класть в могилу еще долгое время
спустя после всеобщего крещения.
Однако могут ли кости коня, с ко-
торым половец не расставался нигде
и никогда при жизни, который был
ему дороже брата, свидетельствовать
о каком-либо «язычестве»? Нет конеч-
но! Тогда что же остается? «Каменные
бабы», которые, по свидетельству
фламандца монаха Г. Рубрука, по-
44
ловцы ставили на своих могилах
и которым, по сообщению Низами,
«поклонялись» в самом прямом
смысле? Можно ли считать эти знаки
внимания «идолопоклончеством»?
Правда, возле этих изваяний археоло-
ги иногда находят следы каких-то
жертвоприношений. Но разве много-
численные остатки трапез на могилах
русских кладбищ, особенно сельских
скорлупа яиц, рассыпанная крупа и ка-
ша, конфеты, печенье, цветы — сви-
детельства «язычества» наших совре-
менников?
Не стоит спешить с подобными
выводами и в отношении половцев.
Тем более, что недавно опубликован-
ная совместная работа советского
историка Я. Р. Дашкевича и польско-
го исследователя Э Грыярского, по-
священная каменным бабам, показа-
ла, как мало еще мы знаем о них
и о половцах. Дело в том, что
действительная территория распрост-
ранения таких изваяний много шире,
чем предполагалось еще недав-
но — от Верхней Волги до Добруджии
и от Башкирии до Карпат. Но только
ли половцы их возводили? И что имен-
но они изображают: предка рода,
героя или портрет умершего? Судя
по разнообразию лиц, костюмов, по
тому, что среди изваяний есть и муж-
чины и женщины, юноши и пожилые
люди, отличающиеся этническими
признаками, почти наверняка мож-
но утверждать, что они представля-
ют собой памятники мемориально-
го характера, передающие индиви-
дуальные черты человека. Во вся-
ком случае, это не «идолы» и не собст-
венно «культовые» изображения, ес-
ли только почтение к умершему со-
племеннику не трактовать как «культ
предка», что можно найти в любой
религии.
А как быть с оценкой этих изваяний
в мусульманской литературе и в
русской народной традиции, одинако-
во представляющей их «идолами» или
«болванами»? Однако для правовер-
ного мусульманина средневековья
«идолом» являлось любое изображе-
ние, которому человек иной веры
оказывал знаки внимания или благого-
вения. Это одинаково относилось
к иконам, статуям, надгробиям, карти-
нам.
Как ни странно, схожих взглядов,
по-видимому, придерживалось духо-
венство правоепавной восточной
церкви. Не случайно на Руси до XVIII
века мы не встретим скульптурных
надгробий, столь характерных для
Западной Европы. Больше того. На
стенах Успенского собора во Влади-
мире можно разглядеть следы после-
дующей стески скульптурных украше-
ний фигурных композиций, как видно
смущавших русское духовенство. На-
сколько такое отношение к скульпту-
ре было не случайно, показывает
устойчивое наименование на Руси
объемных изображений «болванами»,
что напоминало об их «идольском
происхождении», даже если речь шла
о статуях святых.
Так получается, что «каменные ба-
бы» и отношение к ним соседствую-
щих народов не только не доказыва-
ют тезис о «язычестве» половцев,
но в известной мере подтверждают
мысль, что, не будучи мусульманами,
иудаистами и буддистами, половцы
могли быть последователями Христа.
В самом деле, широкое распростра-
нение христианства в среде тюркских
народе , в том числе и у прямых
предков половцев, кимаков, давно
известно, достаточно сослаться на
работы академика В. В. Бартольда1.
Но историки, изучающие половцев на
территории Восточной Европы, по
большей части забывают об остальных
тюрках, в том числе и о кимаках,
оставшихся в Азии и «подлежащих»
изучению востоковедами. Отсюда
возникает искусственная ограничен-
ность и просто искаженное представ-
ление о предмете исследования.
О христианстве половцев и даже
части монголов недавно напомнил
Л. Н. Гумилев. Он же указал на
необычность, если можно так выра-
зиться, «степного христианства»,
представленного несторианством, к
тому же, по-видимому, сильно окра-
шенного манихейством. К сожалению,
не попытавшись выяснить роль и
своеобразие христианства в полити-
ческой и общественной истории по-
ловцев, Л. Н. Гумилев ограничился
попыткой объяснить несторианством
внутреннее содержание «Слова о
полку Игореве» и взаимоотношения
русских князей в XI—XII веках. Как
часто бывает, второстепенные, доста-
точно яркие, хотя и не всегда обосно-
ванные построения заслонили, а в ря-
де случаев дискредитировали в выс-
шей степени продуктивную идею, ко-
торая осталась - не оцененной чи-
тателями талантливой и интересной
книги2.
И несторианство, и манихейство,
сыгравшие исключительно важную
роль в истории и культуре азиатских
народов, заслуживают специального
обстоятельного рассказа. Здесь же
я только кратко укажу причины, бла-
годаря которым несторианство (как
мне представляется) пользовалось
такой популярностью именно в среде
кочевых народов.
В отличие от ортодоксального хрис-
тианства, западного и восточного,
последователи учений Нестория,
осужденного Эфесским собором в
431 году, придавали мало значения
обрядовой стороне религии. Обяза-
тельны были только акты крещения
и причащения, почему в ритуалах
и символике несториан важную роль
играл священный сосуд, как правило.
чаша («чаша Грааля»), изображение
которой можно видеть на скалах Азии
от Каспия до Тихого океана. Несто-
риане не были иконоборцами, однако
не считали нужным почитание икон,
а тем более креста, который служил
орудием пыток и казней первых
христиан. Отсюда отпадала необходи-
мость в наличии специальных храмов
и торжественной обрядности служб.
Отрицая церковную иерархию как
институт церкви, они ограничивались
только священниками, задачей ко-
торых была проповедь, наставление
в учении и совершение двух главней-
ших обрядов.
Из этого можно увидеть, что несто-
рианство как нельзя лучше подходило
для постоянно передвигавшихся ко-
чевников, поскольку не стесняло их
быт. Само учение передавалось в ви-
де свитков и книг, что предполагало
распространение грамотности среди
последователей Нестория. В основе
его учения лежал тезис, что Иисус был
не богом, как учила ортодоксальная
церковь, а человеком, сосудом, на-
полненным божественной волей и
благодатью. Тем самым нестори-
анство, с одной стороны, открывало
путь различным мистическим учени-
ям о Вселенной и Человеке, в том
числе и манихейству, а с другой —
могло быть расценено как возврат
к первоосновам христианства и к жиз-
ни первых христианских общин.
Такая религия, простая и понятная,
находила живой отклик в душах ко-
чевников. Поэтому нет нужды пояс-
нять, почему поиски каких-либо ве-
щественных доказательств христи-
анства половцев, не почитавших даже
креста, в целом обречены на неудачу.
Но если для установления хрис-
тианства половцев мы не располагаем
«крестными свидетельствами», то в
руках каменных баб находятся не
менее важные и столь же убеди-
тельные доказательства. Все они дер-
жат сосуд, свиток или прямоугольник
книги. Сосуд должен был напоминать
о евхаристии («чаша Грааля»), книга
или свиток — об учении. И в этом
каменные бабы удивительно схожи
с католическими надгробиями Запад-
ной Европы эпохи средневековья, на
которых художники изображали
умерших в парадных одеяниях, вкла-
дывая в их руки евангелие или молит-
венники. Ну как тут не сопоставить
брань монахов-летописцев в адрес
половцев с их же более поздними
обвинениями «богомерзких латинов»
в «идольском богослужении»! Про-
пасть, разделявшая в сознании пра-
вославного духовенства XVI—XVII
веков две церкви, восточную и запад-
ную, оказывается много глубже, чём
между православием и мусуль-
Бартольд В. О христианстве в Туркестане в
домонгольский период Записки Восточного
отделения Русского археологического об-
ществе, т. В, 1893—94 гК
? Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного цар-
ства. М., 1970.
45
манством или действительным идоло-
поклонством обских угров. Но разве
не так же относилось к половцам
русское духовенство в XII веке?
Самое замечательное, что, с точки
зрения ортодоксии, монах-летописец
был по-своему прав, именуя половцев
(если они были несторианами) «врага-
ми Бога» и церквей. Ересь Нестория
была предана проклятию на все-
ленских соборах и она отрицалась
всеми церквами, поскольку, от-
казывая Иисусу в божественной при-
роде и полагая Марию не «Богороди-
цей», а всего только «человеко-
родицей», последователи ересиарха
возводили «хулу» на Бога... Будь
половцы действительными язычника-
ми, в подобной тираде не заключа-
лось бы никакого смысла.
Столь же любопытны и другие
косвенные свидетельства христи-
анства половцев. Речь идет о русско-
половецких браках, заслуживающих
особого внимания по многим причи-
нам.
В системе матримониальных связей
древнерусских князей русско-поло-
вецкие браки занимают особое место
уже потому, что это единственные
браки Руси со Степью. Никто из
кочевников не удостоился родства
с Рюриковичами — ни печенеги, ни
торки, ни берендеи, ни угры, ни
мусульманизированные (волжские)
болгары. Можно утверждать, что
русские князья брали себе жен или
в среде родственников, или из арис-
тократии исключительно христи-
анских народов. Иных вариантов до
середины XIII века мы не знаем.
Подтверждают такое правило и от-
дельные браки с ясами-аланами,
предками современных осетин, ко-
торые в то время жили на про-
странстве от верховьев Дона до
Северного Кавказа и были христиана-
ми. Предполагать, что в конфес-
сиональном вопросе для половцев
было сделано исключение, нет ника-
ких оснований. Это тем вероятнее,
что, упоминая о браках с половчанка-
ми, летописцы ни разу не говорят об
их крещении! Самое большее — о
церковном венчании «задним чис-
лом», как то произошло с Владими-
ром Игоревичем и Кончаковной, вер-
нувшимися на Русь уже с первенцем,
который крещен был, как можно
догадаться, в Степи.
Что же касается «еретичества»
новоявленных русских княгинь, то
оно, по-видимому, «гасилось» приоб-
щением к православной обрядности
и удостоверялось почитанием икон
и креста. Как бы то ни было, «пере-
крещивание» не требовалось.
Любопытно и другое. Как ни мало
мы знаем о половцах, их жизни
и обычаях, можно видеть, что и сами
они в своих контактах и симпатиях
отдают явное предпочтение христи-
анским народам. На половчанке —
дочери Атрака, сестре Кончака и
внучке Шарукана,— женился гру-
зинский царь Давид Строитель
(Восстановитель), хотя придворная
грузинская традиция строго соблюда-
ла выбор царицы исключительно из
круга христианских народов. Вместе
с родственниками жены Давид при-
гласил для защиты Грузии от тюрок-
мусульман около 45 тысяч семей
половцев которые в нескольких ре-
шающих битвах спасли страну от
порабощения.
То же самое можно видеть и в отно-
шениях половцев с болгарами. Кроме
постоянной поддержки половцами ан-
тивизантийского движения на Балка-
нах, нельзя обойти молчанием бес-
примерный в истории факт, когда
при поддержке кочевых народов
было восстановлено и создано Второе
Болгарское царство, первые цари
которого происходили из рода поло-
вецкого хана Асеня. Если вспомнить,
что восстание Асеней против Византии
шло под знаменем бооьбы за самос-
тоятельную болгарскую церковь, по-
явление царей-иноверцев, а затем
и цариц было практически невозмож-
но.
Отношения половцев с Болгарией
и Византией заслуживают особого
разговора. Здесь же важно под-
черкнуть, что и со стороны деятелей
болгарской церкви мы не находим
такого «обостренного» отношения к
половцам, зимовавшим в низовьях
Дуная, как на Руси, где влияние
константинопольского патриархата
было гораздо ощутимее. Впрочем,
и время было другое. Половецкая
династия болгарских царей вступила
на престол накануне падения Констан-
тинополя под ударами крестоносцев,
а потом Византии было уже не до
вероисповедных различий...
Но если после всего сказанного
у кого-либо и остаются сомнения
в христианстве половцев, обитавших
в южнорусских степях (Дешт-и-Кып-
чак позднейших авторов), их должно
окончательно развеять свидетельство
такого авторитетного арабского путе-
шественника первой половины XIV
века, как Ибн-Баттута, который в своих
записках прямо Заявляет, что «кыпча-
ки — христианской веры»3. Какого
они толка, что исповедуют, что отри-
цают— именитого путешественника
как нечто общеизвестное не интере-
совало. Половцы, именуемые теперь
«кыпчаками», были составной частью
Золотой Орды. Ее правители доволь-
но скоро приняли мусульманство из
политических соображений, тогда как
вся масса кочевых половцев до сере-
дины XV века продолжала испо-
ведывать несторианство. К сожале-
нию, мы не знаем, как к этим
«христианам» относилась специально
образованная в Орде Сарайская и По-
донская православная епархия, дер-
жавшая в своих руках, кроме забот
о «православных», еще и дипломати-
ческие связи между Ордой и Констан-
тинополем. Если судить по тому, что
в ее документах мы — вроде бы — не
находим упоминаний о прихожанах-
половцах, обособленность последних
от русско-византийской церкви про-
должала сохраняться и после их
завоевания монголами, способствуя
последующему переходу в ислам...
Ну, а как складывалась история
взаимоотношений половцев с Русью
до прихода монголов?
«...ПОСЛАЛ В СТЕПЬ КО ВУЕМЪ
СВОИМЪ»
Политическая история половцев на
Руси начинается в 1056 году. Под этой
датой в «Повести временных лет»
сохранилась краткая запись: «Иде
Всеволодъ на торки зиме к Воиню,
и победи торки. В сем же лете
приходи Блушь с половци, и створи
Всеволодъ миръ с ними, и возврати-
шася половци вь свояси». В этой
скупой констатации двух, казалось бы,
не связанных между собой фактов
таится разгадка одной из сторон
взаимоотношений русских князей и
половцев. Но к ней мы еще вернемся.
Сейчас гораздо важнее напомнить
постулаты, которыми определяет
большинство исследователей роль по-
ловцев в истории древней Руси. Это
убежденность в агрессивности полов-
цев, в их жестокости и вероломстве,
наконец, в существовании перма-
нентной войны между Русью и
Степью, поглощавшей все творческие
силы русского государства.
Происходит это от некритического
использования источников, от научной
небрежности, то есть привычки пола-
гаться целиком на предшественников,
не проверяя факты и выводы, нако-
нец, от предвзятости, когда факты
искажаются и толкуются в угоду той
или иной политической концепции.
Под влиянием трех этих причин как
в научном, так и в общественном
сознании сложилось убеждение в ис-
конном «противостоянии» Руси и Сте-
пи. Половцы предстают прямыми
предшественниками монголо-татар
Они «коварны», «хищны», «злобны»,
«алчны». Их основное желание —
захватить русские города, «попленить
всю землю Русскую», как выражается
летописец, с явным неодобрением
относившийся к дружбе русских кня-
зей с половецкими ханами. Поскольку
конфессиональные истоки неприязни
монаха-летописца к половцам нам
теперь понятны, вероятно и в этом
случае при анализе ситуаций надо
учитывать «оценочную» характерис-
тику событий, вводя своего рода
«коэффициент поправки» Наиболее
добросовестные историки так и посту-
пают. Правда, тут подстерегает дру-
гая опасность. Тот же Л. Н. Гумилев,
9 Сборник материалов, относящихся к истории
Золотой Орды... В. Тизенгвузенв., т. 1. СПб.
1884, с. 279
46
например, переносит картину добро-
соседских отношений между Русью
и Степью во времена половцев и на
последующий период монголо-та-
тарского ига, что вступает в противо-
речие с фактами. Более объективно
походят к истории половцев на Руси
Г. А. Федоров-Давыдов и С. А. Плет-
нева, которая даже включает «Поло-
вецкую степь» в систему княжеств
Древней Руси.
Наоборот, пример крайне отрица-
тельного отношения к половцам вооб-
ще представляют известные моногра-
фии Б. А. Рыбакова, посвященные
«Слову о полку Игореве»4. Разделяя
негодование летописца киевских кня-
зей и утрируя его, историк рисует
картину беспощадной двухвековой
схватки между обескровленной обес-
силенной Русью и постоянно ата-
кующей Степью, прорывающей «сис-
тему обороны» древнерусских кня-
жеств, воздвигнутую якобы стара-
ниями киевских князей на огромном
пространстве от Подонья до Карпат на
манер Великой Китайской стены. Со-
ответственно им дается и характерис-
тика того или иного князя — исходя из
его отношения к великому князю
киевскому: поддерживал ли тот анти-
половецкие киевские выступления, не
гнушаясь умерщвлять послов и гос-
тей, или, наоборот, выступал за мир
и содружество со Степью...
Считая напрасным анализ подобной
системы оценок, хочу напомнить, что
реальная история русско-половецких
отношений, даже в том виде, как она
предстает беглому взгляду историка
на страницах наших летописей, куда
сложнее, богаче и даже парадоксаль-
нее этой искусственной схемы.
Летописи домонгольской Руси
полны сообщениями о военных столк-
новениях русских князей с полов-
цами, это общеизвестно. Но хотя на
временной шкале такие конфликты
занимают неизмеримо меньшее вре-
мя. чем периоды мирных сношений,
внимание обращено именно на
конфликты. Но даже и в этом случае
представляется целесообразным об-
ратиться к статистике, чтобы выяснить
причины возникновения экстре-
мальных ситуаций и определить их
соотношение с контактами мирного
порядка. Наиболее показательным и
достоверным оказывается интервал
между 1056 и 1200 годами, на кото-
ром обрывается так называемый «Ки-
евский летописный свод», наиболее
полно сохранившийся в Ипатьевской
летописи. Такое ограничение оправ-
дывается и другим обстоятельством.
В начале XI11 века половецкая аристо-
кратия была связана с Русью столь
тесными узами родства и дружбы, что
даже наиболее резкие в своих оцен-
ках половцев историки с осторож-
ностью начинают говорить о «симбио-
зе». Да и как можно иначе расцени-
вать обстановку, если уж знаменитый
новгород-северский князь Игорь Свя-
тославич и его брат «буйтур» Всево-
лод по крови были на 3/4 половцами?!
Итак, временной интервал — без
малого полтора века, на протяжении
которого все упоминания половцев
летописцем могут быть подведены
под четыре типа контактов: 1) приход
половцев с предложением «вечного
мира», 2) браки между половцами
и русскими, 3) участие половцев
в княжеских усобицах и 4) половецкие
набеги.
Приходы половцев для заключения
очередного «вечного мира» с ки-
евским князем отмечены в летописи
13 раз — в 1093, 1094, 1101, 1113, 1141,
1146, 1147, 1155, 1156, 1158, 1163,
1172 и 1184 годах. На самом деле,
таких приходов должно было быть
столько же, сколько раз за это время
в Киеве на «стол» садился новый
«великий князь». Как можно понять из
заметок летописца и их анализа,
всякий раз половцы посылали к ново-
му «главе Русской земли» с предло-
жением подтвердить мир между
Русью и Степью, «чтобы ни ты, князь,
не боялся нас, ни мы тебя не боялись».
Инициатива всегда исходила от полов-
цев, и ее трудно истолковать иначе
как желание степняков жить в мире
с Русью.
Мирным отношениям способство-
вали и русско-половецкие браки.
Можно не сомневаться, что до нас
дошел далеко не полный их перечень.
В отличие от западноевропейских
хроник, в которых жизнеописания
владетельных особ женского пола
занимают не меньшее место, чем
мужчин, русские летописи почти не
замечают жен и дочерей потомков
Рюрика. Даже если они и упомянуты,
то обозначены не собственными име-
нами, а по мужу или по отцу,
исключения весьма редки. С другой
стороны, мы совсем не знаем случаев,
когда бы за степных ханов выходили
замуж русские княжны. Что такие
браки должны были быть, убеждают
как более поздние браки великокня-
жеских дочерей с ордынскими царе-
вичами, так и история вдовы черни-
говского князя Владимира Давыдови-
ча. Так и не названная по имени,
дочь городенского князя Всеволода
Давыдовича овдовела в 1151 году,
когда в битве погиб ее муж, и тут же
бежала в Степь со своим сыном,
чтобы выйти за половецкого хана
Башкорда. Последний не только
вырастил пасынка, но и добился для
него доли в отцовском наследстве
посадил на престол и затем регулярно
приходил к нему на помощь со своей
конницей
Здесь мы подходим к важному
и очень любопытному явлению.
Летописи сохранили сведения о по-
лутора десятках русско-половецких
браков. На половчанках были женаты
Олег Святославич, Изяслав Давыдо-
вич, Всеволод Ольгович, Юрий Влади-
мирович (Долгорукий); у Всеволода
и Святослава Ольговичей мать была
половчанка; у Игоря и Всеволода
Святославичей половчанками были и
мать, и бабка (по отцу). Таким обра-
зом, уже к началу XIII века во всех
князьях «черниговского дома» и у
большинства князей северо-восточ-
ной Руси текла половецкая кровь.
Между тем половцев приводили к се-
бе в помощь: Олег Святославич —
в 1078 и 1094 годы, Роман Святосла-
вич — в 1079 году, Давыд Игоревич —
в 1097 году, Всеволод Ольгович —
в 1128, 1135, 1136, 1139 годы, Изяслав
Давыдович — в 1140, 1154, 1159, 1160,
1161, 1162 годы, Святослав Ольго-
вич — в 1146, 1147 годы, Юрий Влади-
мирович— в 1149, 1150, 1151, 1152,
1154 годы, Святослав Всеволодович —
в 1167, 1177, 1180 годы, Глеб Юрь-
евич — в 1172 году, Ярослав Всеволо-
дович— в 1195 и 1196 годы, Рюрик
Ростиславич — в 1196 году. Всего —
28 раз. И вот что примечательно. За
исключением Давыда Игоревича, на-
нявшего Боняка с отрядом, как об
этом прямо говорит летопись, все
остальные князья оказываются
родственниками половцев — сыновь-
ями, внуками и мужьями половчанок!
Прослеженная закономерность по-
зволяет нам понять действительный
механизм той «высокой политики», на
которую до сих пор ссылаются от-
дельные историки, пытаясь «оправ-
дать» действия того или иного князя,
чтобы обвинить его противника в «не-
патриотичности» или «корыстолю-
бии». Отсюда же проистекают попыт-
ки моральных оценок обращения кня-
зей за помощью к половцам, рисуя
это как «предательство» по отноше-
нию к своей стране и народу и ставя в
один ряд с расправами московских
князей со своими тверскими или ни-
жегородскими противниками, опира-
ясь на помощь карательных ордынс-
ких отрядов.
На самом деле все было много
проще и патриархальнее, а главное —
естественнее. Но для этого надо
напомнить, что собой представляла
Русь XII века.
Известно, что территория Руси была
разделена на множество крупных
и мелких «уделов». Это верно. Но
уделы не были обособлены друг от
друга, поскольку их территория и со-
подчиненность постоянно менялись.
В отличие от других государств Ев-
ропы и Азии, Русь являла собой в это
время как бы гигантский «семейный
княжеский подряд», поскольку на
всех без исключения престолах, во
всех ее городах сидели только даль-
ние и ближние родственники. И все их
распри, все их войны определялись не
какими-то «высокими идеями», а по-
стоянным дележом общего на-
следства и ссорами за общим се-
4 Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и
его современники. АЛ., 1971.
47
мейным столом Достаточно проана-
лизировать родственные связи князей
в возникающих, распадающихся и
вновь возникающих противоборст-
вующих группировках, чтобы понять
подлинные мотивы действий каждого
из них. А ведь мы, по большей части,
можем судить о родстве и свойстве
русских князей только по мужской
линии. Сколько бы вопросов было
сразу разрешено, если бы летописцы
сохранили нам сведения и о женской
половине княжеских домов!
Но родство обязывало. Сложные
переплетения его нитей в XII веке
потянулись и в Степь. Для степняков
законы родства были куда более
непреложными, чем для русских кня-
зей. Вот почему последние постоянно
посылают за помощью «къ вуемъ
своимъ», то есть к дядьям по матери,
к шурьям, а те регулярно присылают
к ним с вопросом: «Спрашиваем
здоровья твоего, а не велишь ли нам
с силою придти?»
Стоит заметить, что именно этот
оборот — «ко уемъ», «къ оуемъ», «ко
вуемъ», в ряде случаев не понятый
поздними переписчиками, породил
мифическое племя «ковуев», или
«коуев», кочующее теперь по страни-
цам научных работ.
Можем ли мы на основании такой
помощи считать половцев «агрессора-
ми»? Между тем тот же летописец
порой отмечает, что именно степные
родственники склоняли русских кня-
зей к установлению мира на Руси
и к отказу от усобицы. А что же
нарушало мир между Русью и
Степью? Два фактора: коллективные
походы русских князей на половцев
и — торки.
Начнем с коллективных походов.
В летописи их отмечено около двух
десятков —в 1103, 1109, 1110, 1111,
1152, 1160,1167, 1168, 1170, 1174, 1183,
1185, 1187 (трижды!), 1190, 1191 и
1193 годах. Причем последние четыре
прямо совпадают по времени с ухода-
ми половцев на Нижний Дунай в по-
мощь болгарам, боровшимся против
Византии, когда «русские удальцы»
захватывали их стада и оставленные
без охраны вежи. Каждый такой поход
побуждал к ответным, то есть инспи-
рированным действиям половцев.
Всего половецких набегов на Русь
проведенных самостоятельно, без
русских родственников, отмечено 26.
Но можно ли считать их свидетельст-
вом «агрессии» половцев?
Из этого общего числа 10 набегов,
как я уже говорил, оказываются так
или иначе спровоцированными — в
1092, 1093, 1094, 1096, 1107, 1110, 1162,
1178, 1185, 1187 годах. Это выступле-
ния в поддержку русских родственни-
ков, месть за предательски убитых
ханов, ответные выступления после
русских «облав». Считать их актом
агрессии у нас нет оснований.
Иначе выглядят другие 12 похо-
дов — в 1105, 1106, 1116, 1126, 1155,
1165, 1172, 1173, 1174, 1177, 1190,
1194 годах. Все они направлены
исключительно против торков и бе-
рендеев, живших в бассейне реки
Рось в пределах Киевской земли. Их
грабительский характер не вызывает
сомнений. Но при этом надо учиты-
вать то самое обстоятельство, кото-
рое определило первый контакт рус-
ских с половцами в 1056 году — взаи-
моотношения половцев с торками.
Всеволод Ярославич встретился с
половцами после того, как он наголо-
ву разбил у Воиня торков. Торки
враждовали с половцами издавна.
Разбив их, русский князь тем самым
выступил как естественный союзник
половцев. Ситуация изменилась, ког-
да бежавшие из степей торки попро-
сили защиты у киевского князя и были
расселены по Руси, образовав линию
военных поселений. Для киевских
князей торки стали стражами южных
границ и надежными союзниками
в борьбе с половцами, тогда как для
половцев они остались беглыми раба-
ми, которых следовало возвратить
и наказать. На протяжении сотни лет
половцы неизменно обращались с
просьбой к киевским князьям отдать
им торков и получали отказ. В этой
ситуации и лежит корень более чем
векового конфликта, причина беско-
нечных раздоров, потому что за
торков вступались киевские князья,
в отличие от черниговских, неизменно
проводивших провизантийскую, то
есть антиполовецкую политику.
Не будем опоеделять, кто прав.
К концу XII века торки уже успели
породниться с половцами и теперь
уже сами предупреждали «сватов»
о приготовлениях киевских князей.
Для нас же всего важнее установить,
что и здесь агрессивность половцев
направлялась не против Руси как
таковой, а против родственного наро-
да, с которым у них были свои счеты.
Так в чем же выразилась эта
«постоянная агрессия» против Русской
земли? Получается, что только в трех
походах: 1061 года — когда произош-
ло первое столкновение русских
войск с половцами; 1068 года — когда
объединенные силы русских кня-
зей — ИзяслаВа, Всеволода и Святос-
лава — были разбиты Шаруканом,
после чего сам Шарукан попал в плен
к Святославу под Черниговом; и
1071 года — причины и обсто-
ятельства которого не совсем по-
нятны. Вот и все.
Стоит добавить, что судя по всему
уже в 1068 году между Святославом
Ярославичем и Шаруканом был
заключен союз, скрепленный первым
русско-половецким браком. По-види-
мому, Святослав женил тогда своего
сына Олега, родоначальника «ольго-
вичей», на дочери Шарукана, сестре
Атрака. С тех пор на протяжении
всего последующего времени черни-
говские князья и донские половцы,
возглавляемые Шаруканидами, ук-
репляют дружеские и родственные
связи, проводя политику «срастания»
Руси и Степи. Сейчас можно ут-
верждать, что это была единственно
верная политика соблюдения наци-
ональных (и интернациональных) ин-
тересов народов, поскольку Русь
испокон веков была открыта Степи
и Востоку — как для притока свежих
сил, так и для развития торговли
и распространения своего политичес-
кого и культурного влияния на Степь.
К тому же союз с половцами-несто-
рианами для Руси был единственным
гарантом национальной независимос-
ти от мусульманской экспансии с вос-
тока и от колониалистской политики
Византии с юга.
Последний вопрос стоял особенно
остро. Для Константинополя половцы
были не только идеологическими, но
и политическими противниками.
Сдерживать кочевников, отвлекать их
силы надлежало киевским князьям,
потомкам Всеволода Ярославича,
«монамашичам», связанным родст-
вом с императорским домом и на-
правляемым греками-митрополита-
ми. Как я уже сказал, между похо-
дами половцев на границы импе-
рии, в Подунавье, болгарскими анти-
византийскими восстаниями и похода-
ми русских князей в Степь можно
проследить прямую зависимость, осо-
бенно для периода становления Вто-
рого Болгарского царства.
Так получается, что выдвинутый
рядом историков лозунг «половецкой
опасности», мягко говоря, не соот-
ветствует действительности. Полов-
цам не нужны были ни русские, ни
византийские города. Куда бы они ни
шли, где бы ни воевали, они неизмен-
но возвращались в родные степи,
прерывая даже военные действия,
когда наступала пора летних кочевок.
Вот почему уместно привести слова
одного из самых глубоких исследова-
телей истории половцев Д. А. Ре-
совского, который писал: «С силами,
значительно преобладавшими в чис-
ленности своих союзников, русских,
половцы не раз вступали в Киев,
однако они никогда не пытались
воспользоваться своим преобла-
дающим положением, чтобы создать
здесь свое государство.. С Кавказа,
из-за Балканских гор, из Киева и из
еще более далекого Владимира-на-
Клязьме половцы неизменно возвра-
щались в причерноморские степи,
и в этом отношении вошедшие в эпос
слова одного из виднейших половец-
ких ханов Атрака о том, что «лучше
на своей земле лечь костьми, нежели
на чужой славным быть», могут слу-
жить эпиграфом ко всей двухвековой
истории половцев...»
Так что же это были за люди?
Продолжение следует.
5 Ресовский Д. Половцы. Seminarium Kondako-
vianum. Т. XI. Praha, 1939," s. 95—96.
48
Гордон Томас и
Макс Морган-Уитте
...По выработавшейся годами привычке
он идет не торопясь. Вот почему Камилло
Сибин в это сырое римское утро (впрочем,
как и в любую другую погоду) отводит
себе целых двенадцать минут на обход
неполного — не больше трех четвертей —
круга, образуемого колоннадой Бернини,
внушительным сооружением из колонн (их
284) и пилястров (их 88), поддерживающих
162 статуи высотой двенадцать футов
каждая. Это часть границы того самого
государства-города, где Сибин является
главой службы безопасности, по-италь-
янски «Уфисио чентрале ди виджиланто».
В полицейской штаб-квартире Рима, в На-
циональном центре по борьбе с террорис-
тами (ДИГОСе), как и в итальянской
секретной службе (СДЕЦЕ), не говоря уже
об отделениях иностранных спецслужб,
Сибина знают под кодовой кличкой Хот-
шот1. Именно так его вызывают по рациям,
настроенным на специальную частоту, к
которой прибегают в тот момент, когда
в Ватикане случается нечто непредвиден-
ное, угрожающее безопасности папы
римского.
Сибин знает, что в подобных ситуациях
он может немедленно привести в действие
ответный механизм: сотни полицейских
в форме, детективов в штатском и агентов
примерно дюжины спецслужб. Все они
быстро окажутся здесь, на площади
Продолжение. Начало см в № 8.
Св. Петра, этом громадном разомкнутом
круге, который он не спеша обходит. Для
того чтобы это произошло, ему надо всего
лишь распахнуть полу дорогого плаща
свободного покроя и вытащить из внутрен-
него кармана серого, сшитого на заказ
костюма портативное, но мощное перего-
ворное радиоустройство, известное как
«уоки-токи»: одного нажатия на централь-
ную (всего их три) клавишу достаточно,
чтобы мгновенно привести в действие то,
что глава ЦРУ при посольстве США в Риме
называет «сигналом тревоги за папу» —
кодовое название, означающее, что Иоанн
Павел 11 стал жертвой очередного покуше-
ния.
Более двенадцати лет Сибин является
начальником службы безопасности Ватика-
на. Среди прочих его обязанностей —
окончательное рассмотрение, пересмотр,
а иногда отклонение советов и предложе-
ний, направленных на улучшение методов
и техники охраны жизни папы. Эти советы
и предложения поступают от полиции
и разведслужб некоторых западных стран.
Так, например, он охотно принял предло-
жение, исходившее от западногерманской
«Бундескриминаламт» (БКА), о специаль-
ной подготовке подразделения «Виджи-
ли» — одетых в голубую форму охранни-
ков, непосредственно отвечающих за бе-
зопасность папы. Он также приветствовал
предложение Скотленд-Ярда предоста-
вить в его распоряжение новейшие методы
«контроля за толпой», разработанные и ап-
робированные в Англии. Проблема
заключается в максимально быстром уда
лении народа с площади, чтобы полиция
могла приступить к своей работе без
всяких помех.
После того как в мае 1981 года Агджа
всадил в тело папы три пули с близкого
расстояния, воспоминания о чувстве
собственного бессилия (он сам определил
его в беседе с сотрудниками западногер-
манской спецслужбы как «бессильную
ярость») продолжают мучить шефа вати-
канской полиции; поэтому еще глубже
запали морщины вокруг рта и глаз, а
верхняя губа временами начинает нервно
вздрагивать.
Сибин уже получил, по меньшей мере,
дюжину различных меморандумов, резко
критикующих меры безопасности, ко-
торые сам папа считает чрезмерными. Оба
секретаря Иоанна Павла 11 — вспыльчивый
Станислав Дзивитц, высокий и нервный
поляк, находящийся вместе с папой уже
семнадцать лет, и занявший свой пост
всего год назад Эмери Кабонго, африка-
нец родом из Заира, отличающийся мяг-
ким мелодичным голосом,— предупреди-
ли главу службы ватиканской безопаснос-
ти: чем больше папа чувствует себя, так
сказать, взаперти, тем больше он будет
против этого протестовать.
Следуя изгибу колоннады, Сибин
оказывается под сенью одной из ги-
гантских колонн. Она искрошена и покрыта
идиотскими надписями туристов. Задер-
жавшись здесь, Камилло ведет наблюде-
ние за площадью. Его привычный глаз без
труда различает римских полицейских,
в чьи обязанности — еще со времени
Муссолини — входит охрана площади
Св. Петра.
Хотшот — дословно меткий стрелок
(сленг — босс).
49
Сибин не особенно жалует римских
полицейских. Ведь это же факт, что они не
смогли вовремя обнаружить Агджу Где
арантия, что они не оплошают снова,
если...
Но еще больше, чем эти патрульные,
беспокоят Сибина американцы. Он не
перестает поражаться, насколько прочно
сохраняет здесь свои позиции ЦРУ, яв-
ляющееся главным советчиком Ватикана
которо о он предпочитает всем прочим
разведслужбам.
Когда Сибин был всего-навсего долго-
вязым подростком, взиравшим на после-
военную оккупацию Италии союзниками,
американская разведывательная служба
уже успешно проникла в обитель святого
престола. Большого труда это не составля-
ло. Созданное во время второй мировой
войны Управление стратегической службы
(ОСС) — предшественник будущего
ЦРУ — было принято в Ватикане уже
в 1945 году, по выражению тогдашнего
главы римского отделения ОСС Джисуса
Энглтона, «с распростертыми объятиями».
Пий XII и его курия воспользовались
услугами ОСС, чтобы путем подтасовок
и махинаций протащить к власти хрис-
тианских демократов и помочь церкви в ее
антикоммунистическом крестовом походе.
Энглтон, будучи сам католиком, прекрасно
учитывал эту ситуацию. Ватикан уже имел
вышколенную службу информации в лице
иезуитов в Италии: с 1945 года им было
предписано постоянно информировать па-
пу о внутренней деятельности Итальянской
компартии и ее отношениях с Москвой.
Энглтон добился того, чтобы важнейшие из
этих сведений сообщались ему.
К 1952 году, когда в римской конторе
сидел еще один правоверный католик —
на сей раз им был Уильям Е. Колби,
который впоследствии перебрался во Вьет-
нам, чтобы возглавить там бесславные
операции ЦРУ,— американская раз-
ведывательная служба создала уже целую
сеть осведомителей и «контактов» среди
ватиканских священников.
Поскольку ЦРУ и папство были связаны
общностью цели («очищение Италии и ми-
ра от коммунизма» — в 50-х годах именно
так прямолинейно и принято было вь ра-
жаться), между ними установились
прочные связи. С ЦРУ сотрудничало все
больше и больше священнослужителей —
и не только в одном Риме, но и повсюду,
куда простерла свою длань католическая
церковь В Латинской Америке, Азии,
Африке — повсюду вербовались ее мис-
сионеры. которые с усердием сотруднича-
ли с рыцарями плаща и кинжала.
В 1960 году ЦРУ могло похвастаться еще
одним триумфом: миланский кардинал
Монтини (через три года ему предстояло
стать папой Павлом VI) передал в распоря
жение этого агентства настоящее сокрови
ще — досье на итальянский епископат
и сведения о деятельности приходских
священников. Полученная таким образом
информация оказалась поистине бесцен-
ной находкой для ЦРУ, получившего
в результате этого возможность более
эффективно, чем прежде проводить кам-
панию по дискредитации тех священнослу-
жителей, которые проявляли «мягкость»
по отношению к коммунизму. И поощрять
тех, кто был готов к сотрудничеству.
Но времена постепенно менялись. Так,
папа Иоанн XXIII пришел к выводу, что
крестовый поход против коммунизма, по
существу, провалился и требуется гораздо
более сбалансированная политика. Он,
в частности, обязал итальянских епископов
занять в политике нейтральные позиции
и воздержаться от автоматической под-
держки христианских демократов Это
распоряжение привело итальянский епис-
копат в состояние крайнего замеша-
тельства. Встревожилось и ЦРУ. Вслед за
этим папа начал вынашивать идеи «остпо-
литик»2, что повергло это агентство в сос-
тояние сущей паники. Сбывались худшие
опасения американской разведки: Ватикан
перестал покорно следовать курсу США.
Из Вашингтона тотчас же пришла инструк-
ция рассматривать действия Ватикана как
«враждебные». Отныне в донесениях ше-
фа бюро ЦРУ в Риме Томаса Геркулеса
Каламазинаса все чаще стала мелькать
формулировка: «опасный левый уклон».
Аналитический отдел ЦРУ подготовил
обширные исследования под броскими
заголовками: «Связи между Ватиканом
и коммунистами», «Католическая церковь
пересматривает свою роль в странах Ла-
тинской Америки»* Другие эксперты раз-
ведывательного агентства США занялись
оценкой влияния папской политики на все
сферы глобальных американских интере-
сов.
Их выводы были весьма неутеши-
тельными
При Иоанне XXIII папский престол
связал себя с либеральным направлением,
стал выступать в поддержку социальных
перемен и был готов в случае необходи-
мости вступить в союз с теми политически-
ми силами, которые выступали против
линии ЦРУ в таких сферах, как поддержка
правых хунт военных и беспощадное по-
давление любых прокоммунистических
движений.
Сотрудники Томаса Каламазинаса сооб-
щали директору управления Джону Мак-
Коуну, что Соединенным Штатам следует
ожидать усиления критики Ватикана в ад-
рес поддерживаемых США военных хунт
Они предупреждали о появлении на
авансцене нового типа священнослужите-
ля: воинственного и непримиримого, ко-
торый будет выступать на стороне
бесправных и угнетенных, причем совер-
шенно открыто. По мнению ЦРУ, все
указывало на то, что Ватикан и католичес-
кая церковь отказывались от своей тради-
ционной роли столпов «истеблишмента».
Маккоун распорядился активизировать
«разведывательные возможности» ЦРУ в
Ватикане.
По иронии судьбы та же линия тайно
проводилась и при президентстве Кенне-
ди. Как известно, Джон Ф. Кеннеди стал
первым в истории США президентом-
католиком. Публично он всячески подчер-
кивал свою непричастность к делам
папского престола. Однако, как выясни-
лось позднее между членами его адми-
нистрации и папским апостольским послан-
ником в Вашингтоне проходили тщательно
законспирированные встречи. С такой же
скрытностью советник по политическим
вопросам американского посольства в Ри-
ме наносил визиты в Вашингтон Одновре-
менно все семеро сотрудников бюро ЦРУ
в Риме активизировали свою работу по
сбору информации, прибегая к разным
методам обработки, включая подкупы.
Они пытались заполучить секретные све-
дения о политике Иоанна, о его растущих
контактах с Москвой.
Тогдашний заведующий отделом на-
ционального прогнозирования Джеймс
Спэйн представил президенту Кеннеди
совершенно секретный 15-страничный до-
клад, в котором порицалось ра< ширение
«восточной политики» папы. Это был пора-
зительный по тону документ, изобиловав-
ший разного рода гиперболами и недока-
занными обвинениями.
В Вашингтоне, прочитав такое, забили
тревогу. Президент Кеннеди лично одоб-
рил требование директора ЦРУ Маккоуна
о предоставлении его агентству большей
свободы рук в самом Ватикане и за его
пределами. Денежные ассигнования зна-
чительно возросли.
Отделение ЦРУ в Риме собирало «дока-
зательства» укрепляющихся взаимоотно-
шений между Ватиканом и Москвой.
Вскоре римское бюро поспешило
объявить, что папский престол вот-вот
установит дипломатические отношения с
Россией.
Обычно уравновешенный Маккоун при-
шел в состояние крайнего возбуждения.
Вооружившись поддержкой президента,
он срочно вылетел в Рим и был принят
папой в его покоях.
Во время этой встречи Маккоун не терял
времени на вежливую болтовню. Он был
намеренно резок и даже груб. Президент
Соединенных Штатов, заявил он с места
в карьер, поручил ему передать, что
церковь должна незамедлительно прекра-
тить свое сползание к коммунизму. Вести
дела с Кремлем не только опасно, но
и недопустимо.
Иоанн слушал гостя не прерывая, дожи-
даясь, пока Маккоун кончит. Какое-то вре-
мя старый папа внимательно изучал свое-
го посетителя- высокий, с аскетической
внешностью, серыми глазами-буравчика-
ми, аккуратной прической. Что знало это
воплощение «американской добропоря-
дочности» — Иоанн употребил впос-
ледствии именно эти слова в разговоре
с одним из своих помощников — о тех
реальностях мира, которые волновали
папу? Об ужасающей нищете, попрании
человеческих прав, трущобах, городах,
состоящих из одних лачуг, о жестокостях
расизма — таких, о которых современная
Америка почти забыла. Что мог знать
Маккоун обо всем этом?
Тихим голосом лапа приступил к объяс-
нениям. На церкви, возглавляемой им,
лежит настоятельный долг, священная обя-
занность заявить о себе в развивающихся
странах, продвинуть дело социальных ре-
2 Остполигик — восточная политика (нем.).
50
форм в Европе и в Южной Америке... На
Маккоуна это не произвело ровным сче-
том никакого впечатления.
Папа смотрел на своего собеседника
затуманенным печалью взором Да, он
знает об этом, к несчастью, так оно и есть,
но разве в этом случае не следует
установить с коммунистами лучшие, чем
до сих пор, отношения?
После этой беседы Маккоун вернулся
в Вашингтон в полном убеждении, что папа
ведет церковь прямехонько в объятия
Москвы. Смерть папы Иоанна, которую,
впрочем, ожидали, поскольку у него был
рак и болезнь быстро прогрессировала,
наступившая в 1963 году, была поэтому
встречена в ЦРУ со вздохом облегчения.
В своем сообщении тогдашний зав. бюро
ЦРУ в Риме весьма точно предсказал, что
новым папой станет кардинал Монтини из
Милана — тот самый, который поспешил
в свое время любезно передать агентству
досье на приходских священников.
Теперь Вашингтон мог наконец успо-
коиться.
Через два дня после того, как Монтини
стал папой Павлом VI, он дал неофициаль-
ную аудиенцию самому Кеннеди. Оба
были при этой встрече довольно сдер-
жанны и осмотрительны, отдавая себе
отчет в той напряженности, которая пред-
шествовала их свиданию. И тот и другой не
хотели сразу же наживать капитал на
событии, имевшем историческое значение.
Убийство Кеннеди в Далласе в ноябре
1963 года и приход к власти Линдона
Джонсона не слишком улучшили отноше-
ния между Вашингтоном и Ватиканом.
Когда тремя годами позже, в 1966 году,
папа посетил Нью-Йорк, где он обратился
с воззванием к Организации Объеди-
ненных Наций, Джонсон согласился нанес-
ти папе краткий визит в его манхэттенской
гостинице. Вместе с тем он ясно дал
понять, что ни о каком официальном
приглашении Павла VI в Белый дом не
может быть и речи.
К этому времени сообщения ЦРУ,
направляемые президенту, лишь под-
тверждали то, что было и так известно.
Папа, тот самый человек, который помогал
американцам в свою бытность в Милане,
теперь, казалось, произвел одну из своих
мучительных переоценок ценностей в духе
Гамлета. Он не только был убежден, что
джонсоновская эскалация войны во Вьетна-
ме — неправильный шаг, но и считал, что
в данном случае Ватикану надлежало взять
на себя роль посредника-миротворца.
Джонсон так и ушел с поста президента,
отвергая саму мысль об участии святого
престола в реализации предложения, кото-
рое, как он совершенно справедливо
считал, означало бы фактическое устране-
ние американского влияния в Юго-Восточ-
ной Азии.
Став президентом, Ричард Никсон, в
свою очередь, был того же мнения. Через
три месяца после вступления в Белый дом
он получил от римского бюро ЦРУ по-
дробный доклад, включавший, к примеру,
детальные сведения о личных вкусах и
привычках Павла, состоянии его физичес-
кого и умственного здоровья. Это был
гораздо более тщательно составленный
документ, чем тот, который бюро в свое
время готовило для Кеннеди. В определен-
ной мере он отражал тот новый статус,
который получило римское отделение ЦРУ
от президента США в преддверии его
поездки в Ватикан для встречи с Павлом.
Сидя в рабочем кабинете папы, Никсон
спокойно заявил святому отцу, что соби-
рается еще более увеличить американское
военное присутствие во Вьетнаме. Тем
самым миротворческая роль папы по
существу оказалась сведенной на нет.
С точки зрения сотрудников римского
бюро ЦРУ, годы правления Никсона были
для них хорошими годами. Они располага-
лись в комфортабельном крыле здания
американского посольства на Виа Венето.
В ресторане отеля «Экселсиор», у них были
постоянно зарезервированные столики.
Время от времени из штаб-квартиры ЦРУ
в Лэнгли (штат Виргиния) к ним присылали
на стажировку молодых офицеров развед-
ки. При Павле папский престол на самом
деле был легкой «мишенью» даже для
самых неопытных стрелков — тех, что на
американском охотничьем жаргоне
называют «терки шут»3. В то время в Вати-
кане не существовало ни одного докумен-
та, который бы тотчас не становился
известным ЦРУ. В последние месяцы
правления Никсона папа, физически ослаб-
ший и морально подавленный, нашел
в себе силы потребовать от американского
президента положить конец практике вер-
бовки агентами ЦРУ ватиканских священ-
нослужителей.
В ответ Белый дом заверил: «Если
таковое действительно имеет место, с этим
будет незамедлительно покончено». Это
было время Уотергейтского скандала. Ник-
сон все больше говорил не то, что думал.
Приход к власти преемника Никсона
Джералда Форда, обещавшего «очистить
американскую нацию» от поразившей ее
скверны, не изменил характера деятель-
ности ЦРУ в Ватикане. Поступившие оттуда
сообщения отличались высокой степенью
точности. В них говорилось, что правление
Павла близится к неминуемому концу:
папа начал принимать новое снотворное,
он пьет какой-то таинственный элексир для
того, чтобы бороться с поразившим его
артритом; его отношения с ближайшим
окружением крайне натянутые, и, наконец,
он все больше и больше поглощен мысля-
ми о приближающейся кончине. По оцен-
кам ЦРУ, папа оказывает моральную
поддержку партизанам и левым партиям
в Латинской Америке; он благосклонно
относится к режиму Кастро на Кубе; святой
отец все еще придерживается того взгля-
да, что именно Америка несет ответствен-
ность за все ужасы войны во Вьетнаме,
и в то же время публично ни словом не
обмолвился о том, что в Венгрии, Румынии
и Чехословакии церковь подвергается го-
нениям. И наконец, в гораздо большей
степени, чем Иоанн, Павел допустил про-
никновение коммунистов в Ватикан.
Приход президента Картера ознамено-
вался в Риме тем, что в бюро ЦРУ
установили новые быстродействующие те-
лепринтеры и высокочувствительное обо-
Здесь хранятся секретные архивы Вити
кана.
рудование слежения. Зимой 1977/78 го-
дов ЦРУ с помощью некоторых своих
агентов из числа ватиканских священников
сумело установить подслушивающие
устройства («жучки») в помещениях Госу-
дарственного секретариата, банка Ватика-
на и так называемого «Говернората»,
т. е. правительственного здания. Причем
«жучки» обладали настолько мощной «на-
чинкой», что позволяли слышать разго-
воры внутри зданий, массивные стены
которых могли выдержать даже арт-
обстрел. Действуя из «безопасных» до-
мов, примыкавших к периметру Ватикана
(как правило, это были квартиры, снятые на
короткое время* их постоянно меняли,
чтобы, по возможности, не вызвать лишних
кривотолков), оперативники ЦРУ оказа-
лись в состоянии записывать зачастую
весьма конфиденциальные беседы, касав-
шиеся планов папы.
На долю Камилло Сибина выпал на-
стоящий триумф, когда он помог обнару-
жить эти «жучки».
Поднимаясь теперь по ступенькам, веду-
щим к Бронзовой двери, и намеренно
уклоняясь, чтобы не попасть в кадр
(первые туристы уже начали, невзирая на
ранний час, фотографировать колоритных
швейцарских гвардейцев с их традици-
онными алебардами), Сибин живо вспоми-
нает тот майский день в 1978 году, когда
это произошло. В сопровождении двух
экспертов по обнаружению подслуши-
вающих устройств из итальянской секрет-
ной службы он прошествовал тогда прямо
' В буквальном переводе «стрельба по индей-
кам» — так называются соревнования по
стрельбе, где призом служат индейки.
51
в Апостольский дворец. К тому времени
эти двое уже провели в Ватикане с неделю.
Чтобы не вызывать подозрений, они ус-
пешно изображали из себя оценщиков,
прикидывающих стоимость замены
электрической проводки во всем госу-
дарстве-городе...
1978 год. Ноябрь. Иоанн Павел «папству-
ет» еще меньше месяца. И вот однажды он
дает сугубо частную аудиенцию — на-
столько частную, что, вопреки обычному
порядку, во время встречи не велось
никаких записей,— тогдашнему главе
римского бюро ЦРУ. Последний весьма
тщательно объяснил папе, какую именно
помощь его агентство желало бы
оказывать папскому престолу... Иоанн Па-
вел ответил, что ему требуется время
подумать над предложением. Он прокон-
сультировался с Казароли и другими
видными членами курии. Некоторые из
них, как оказалось, категорически возра-
жали против предложенной помощи, дру-
гие же, напротив, придерживались того
мнения, что ЦРУ — это ценнейший источ-
ник информации, причем информации
надежной. А что касается слежки, то —
принимай предложение или нет — она все
равно не прекратится.
В начале декабря зав. бюро снова
появился в покоях папы Иоанна Павла,
который тут же заявил о своем согласии.
Итак, агентство снова оказалось в фаво-
ре. Конечно же, ЦРУ знало, что время от
времени Ватикан будет консультироваться
с другими разведывательными службами:
это было в порядке вещей. Особенно,
когда речь шла о британской «Интел-
лидженс сервис» или о западногерманской
секретной службе БНД. Главное было,
однако, в том, что на ближайшее будущее
позиция ЦРУ в Ватикане оставалась про-
чной.
Тесные и дружеские связи между ЦРУ
и Ватиканом просуществовали до того
самого дня, как прозвучали выстрелы
Агджи, покушавшегося на жизнь папы.
Вскоре после этих событий монсеньер
Казароли получил свидетельства того, что
почти за месяц до попытки покушения на
папу Иоанна Павла итальянская контрраз-
ведка в Риме (ДИГОС) узнала, что в Пе-
руджи (Италия) находится «террористи-
ческая группа» — и это в непосредствен-
ной близости от итальянской столицы.
Источником информации была изра-
ильская секретная служба МОССАД. Сог-
ласно компьютерным прогнозам в группу
входил и некий Мехмет Али Агджа по
кличке Фарук Озгун. Казароли пришел
в ужас, узнав, что ДИГОС не проверила эту
информацию, исходящую от МОССАД,
ограничившись лишь наведением справок
в Перуджи и не выйдя на след Агджи.
Но главное, что буквально-таки потрясло
Казароли, когда он об этом узнал от
высокопоставленного сотрудника западно-
германской спецслужбы, заключалось в
том, что копия предупреждения, послан-
ного МОССАД, почти автоматичес-
к и направлялась и в ЦРУ. Почему же
в таком случае американское агентство
ничего не сообщило Ватикану?! Казароли
потребовал объяснений от главы амери-
канского бюро в Риме. И что же? Тот
уклонился от прямого ответа, предпочтя
вместо него разглагольствовать о том, что
у ЦРУ, видите ли, не было никаких
предварительных сведений и что Агджа —
всего-навсего «одиночка». На Казароли эти
заверения не пооизвели никакого впечат-
ления. Он был вне себя от ярости. С ЦРУ
было «покончено».
Четыре месяца спустя, когда папа чудо-
действенным образом поправился, он
вновь взял бразды правления папским
престолом в свои руки. В октябре 1981 го-
да он принял одного из эмиссаров ЦРУ.
Вскоре после этой аудиенции амери-
канское агентство возобновило свои бри-
финги, нередко информируя лично Иоанна
Павла.
Все в большей степени решения, прини-
маемые Иоанном Павлом II, его выступле-
ния и заявления начали носить отпечаток
брифингов, проводимых ЦРУ. Поставля-
емая информация дает ему такую широ-
кую панораму событий в мире, которой не
располагал ни один из его предшественни-
ков. Но она же не только не уменьшает, но,
возможно, и увеличивает вероятность но-
вого покушения на жизнь папы...
Сейчас, проходя через Бронзовую
дверь, Сибин думает о том, о чем
наверняка не может знать тот турист, что
фотографирует стоящего на посту швей-
царского гвардейца: страх перед новым
покушением фактически превратил Вати-
кан в защищенную сверх всякой меры
цитадель. За каждой из массивных дверей
прятался автомат системы «Узи», делав-
ший 650 выстрелов в минуту. Швейцарцы
вправе пустить их в ход в том случае, если
бы у входа в Апостольский дворец возник-
ла серьезная угроза нападения.
Сибин заглядывает в караулку, располо-
женную возле Бронзовой двери. Здесь
дежурит один из стражников — так
называемый «виджил»4. Он сидит за высо-
кой стойкой из красного дерева, какие
можно видеть в дежурном помещении
полицейского участка. За стойкой, внизу,
лежит наготове заряженный «Узи» и не-
сколько запасных обойм. Дежурному
«виджил» за тридцать, пиджак и брюки на
нем разных тонов. На стойке, рядом
с телефоном (их здесь два), маленький
транзисторный приемник. Он настроен на
волну радио Ватикана, которое в этот
ранний утренний час ведет передачу но-
востей на четырех языках, так называемую
«Катровочи»5. Стражник слушает ту часть
программы, которая ведется на италь-
янском, но не выключает радио, когда
в эфир выходят новости на английском
языке: это звучит голос комментатора
Клариссы Макнэр6.
Сибину известно о ее конфликте с одним
из оперативников из отделения ЦРУ в Ри-
ме По его мнению, ее передачи носят
«антиамериканский характер». Кларисса
отвергает подобную оценку, считая обви-
нения в свой адрес безосновательными.
Агенту это не нравится, и он пригрозил, что
ей придется «трудно».
В данном случае Сибина главным обра-
зом волнует вопрос о том, не пытался ли
этот «цэрэушник» завербовать Клариссу
в качестве еще одного осведомителя из
числа сотрудников радио Ватикана Он
подозревает, что на радио уже завербова-
но несколько «кротов», передающих соб-
ранную ими информацию одной из
иностранных разведок. Сейчас, думает он,
ему надо внимательнее присматривать за
ЦРУ: будет оно предпринимать какие-
нибудь новые шаги в отношении Клариссы
или кого-либо еще с радио или нет.
Продолжая свой обход, Сибин покидает
тесное караульное помещение и начинает
подниматься по внушительных размеров
лестнице, по которой вполне мог бы
проехать автомобиль или (как это действи-
тельно доказал император Наполеон)
пройти кавалерийский эскадрон, цокая
копытами по мраморным ступеням. Закон-
чив подъем, шеф ватиканской безопаснос-
ти в конце концов выходит во двор Сан
Домазо. Вся эта территория вымощена
булыжником: по нему папа обычно прогу-
ливается в перерывах между заседаниями
и встречами. Вернее, прогуливался, по-
скольку ЦРУ отсоветовало делать это,
точно так же, как оно крайне отрицательно
отнеслось к его бегу трусцой по укромным
ватиканским аллеям после долгого рабо-
чего дня: управление, говорят, побаивает-
ся, как бы папу не подстрелили из ружья
с оптическим прицелом, способного пора-
жать цель на расстоянии одной мили.
В двойных дверях, ведущих во двор, еще
один швейцарский гвардеец, также воору-
женный «Узи» — стоит только протянуть
руку, и автомат заработает. На самом
дворе разгуливают несколько «виджил»,
каждый вооружен револьвером.
Размеренной походкой Сибин движется
по брусчатке и подходит к двери, носящей
имя папы Иоанна XXIII. Там несет охрану
еще один швейцарец.
Поднявшись на лифте, Сибин выходит
в длинный пустой коридор: мраморные
полы словно хранят эхо шагов всех ста пап,
что ходили здесь когда-то. Пройдя кори-
дором, шеф безопасности Ватикана при-
ближается к запертым двойным дверям:
Сибин открывает их и проходит в помеще-
ние для папских аудиенций, где возвыша-
ется трон. В этой комнате папа принимает
верительные грамоты вновь прибывших
послов, аккредитованных при его престо-
ле. Пересекая помещение, Сибин отпирает
еще одну двойную дверь и входит в гораз-
до меньшую по размерам приемную,
стены которой выкрашены в зеленый цвет,
а потолок украшен фресками. Хотя на
дворе уже день, тяжелые занавески спу-
щены: в сочетании с мягким освещением
это придает комнате вид похоронного
бюро. На стенах иконы, у старинных
стульев высокие спинки, два трапезных
стола явно относятся ко временам средне-
вековья. Кроме них в комнате еще
большой комод, статуя какого-то польско-
го святого, а также два каучуконоса.
4 «Виджил» (итал.) — дословно означает «бди-
тельный»
5 «Катровочи» (итал.) — буквально «четыре
языка».
0 Подробнее о Клариссе Макнэр будет расска-
зано в следующем отрывке.
52
В помещении двое: дворцовый камергер
и очередной «виджил», сидящий за бюро
возле растений в углу. Охрана находится
здесь постоянно, круглые сутки, все дни
недели. В ящике бюро лежит заряженный
браунинг — кстати, идентичный тому, из
которого Агджа стрелял в папу. «Виджил»
обязан пустить пистолет в ход в случае
крайней меры, если убедится, что папе
грозит нападение. Приемная ведет в каби-
нет, где уже сейчас, в это раннее утро,
находится за своим рабочим столом сам
папа.
Шеф ватиканской безопасности откры-
вает еще одну дверь и попадет в узкий
коридор, в конце которого свой лифт.
Обычно им пользуется лишь сам папа,
но у Сибина есть специальное разрешение,
дающее ему право также делать это.
Сейчас он поднимается на лифте на
крышу Апостольского дворца, где разбит
личный сад папы. Это весьма приятное
место для отдыха с цветочными клумбами
и пересекающимися тропинками. Сад на-
дежно укрыт от глаз посторонних, так что
видеть его можно лишь сверху. И хотя над
Ватиканом не разрешены несанкциониро-
ванные полеты, Сибин наведывается сюда
каждое утро.
Иоанну Павлу не раз напоминали, что
выходя сюда на прогулку, он подвергается
риску нападения какого-нибудь камикадзе
или же группы террористов, могущих
захватить его в качестве заложника. Чтобы
исключить такую возможность, эксперты
из ЦРУ установили здесь детекторные
устройства, способные засекать прибли-
жающиеся самолеты. На подхвате постоян-
но находятся итальянские истребители,
готовые в случае надобности перехватить
незваного гостя.
Одна из ежедневных обязанностей Си-
бина — убедиться, что детекторы в пол-
ном порядке. Во время своих обходов
шеф ватиканской безопасности нет-нет да
и взглянет на небо: все ли там спокойно.
...Когда темно-синчй лимузин марки
«Фиат» подъезжает к тяжелым стальным
воротам Колокольной арки, они уже за-
перты: так начинается ритуал еженощного
запирания всех входов и выходов Ватикана
с наступлением полуночи. Номерной знак
у прибывшей машины ватиканский. И тем
не менее машину останавливают, так как
сперва надо убедиться, что и она, и ее
номерной знак — подлинные: и то и дру-
гое можно легко достать в Риме. Швей-
царский гвардеец, облаченный в голубую
накидку с капюшоном по случаю ночной
прохлады, осторожно приближается к ав-
томобилю. Стоявшие за его спиной двое
«виджил», с которыми он переговаривал-
ся, демонстративно расходятся в стороны,
готовые при малейшем подозрении
открыть стрельбу. Швейцарец между тем
внимательно рассматривает водителя.
Он наклоняется, чтобы заглянуть внутрь
«фиата», где на заднем сиденье выри-
совываются неясные контуры человека.
Пассажир властно бросает несколько
отрывистых фраз, и почти в ту же секунду
шофер отпускает тормоза. Машина тро-
гается. Едва успевший отступить в сторону
страж умудряется при этом еще отдать
салют и одновременно махнуть рукой
«виджил», чтобы они не беспокоились
Обогнув базилику Св. Петра, лимузин
мчится по брусчатке Сан Домазо и оста-
навливается перед парадным подъездом
Государственного секретариата.
Пассажир выходит из машины и глубоко
вздыхает. Он поступает так всякий раз, как
возвращается из дальних странствий в Ва-
тикан. Сколько раз это было за последний
год? Он уже не помнит: сто или, может
быть, больше? Архиепископ Луиджи Пог-
ги — посол по особым поручениям при
папском престоле. Его посылают туда, где
на горизонте возникает какой-нибудь
конфликт. Он так называемый «траблшу-
тер»7, а официально «чрезвычайный нун-
ций», унаследовавший от нынешнего гос-
секретаря Агостино Казароли мир тайной
папской дипломатии
На сей раз Погги вернулся с информа-
цией достаточно важной для того, чтобы
Казароли встречал его собственной персо-
ной. Нунций только что побывал в Женеве,
Москве, Бонне, Париже и Варшаве. По
этому маршруту Погги путешествовал в по-
следнее время не раз. Иногда он шутит,
что спит на борту воздушных лайнеров
больше, чем в собственной кровати; что
знает наизусть все блюда, которые по-
дают во время полета стюардессы многих
авиакомпаний; что, наконец, в состоянии
ориентироваться с завязанными глазами
в большинстве аэропортов Европы — как
Восточной, так и Западной.
Казароли слушает его внимательно.
Погги обладает редкой способностью
к сбалансированному и быстрому анализу
материала, полученного из многочис-
ленных источников. Он говорит мягко, его
карие глаза пристально следят за реакцией
собеседника. Сдержанное, почти ней-
тральное выражение его лица остается
неизменным.
Если у него и есть чувство юмора, то он
держит его под замком. Прежде всего он
ценит серьезность и ответственность.
Именно они проявляются в том, как он
сидит, уверенно поставив ноги, держа руки
неподвижными, если не считать периоди-
ческих поглаживаний подбородка. Во
всем, что он делает и говорит, чувствуется
стремление к сжатости и лаконичности.
Сейчас он объясняет госсекретарю, что
в мире появился реальный шанс отвести от
мира угрозу ядерной войны.
Безуспешная попытка папского вмеша-
тельства в войну во Вьетнаме значительно
подорвала во многих столицах доверие
к могуществу дипломатии папы. После
этого Казароли заявил, что не следует
создавать впечатление, будто Ватикан го-
тов идти на компромисс с коммунистами
«любой ценой». Под его руководящим
влиянием папский престол при всякой
возможности отныне формирует свое от-
ношение к советскому блоку в соот-
ветствии с тем, которое в данный момент
главенствует на Западе.
Это отношение в особенности касается
ядерной проблемы. Без всякого сомнения,
папский престол может сыграть в этих
вопросах определенную роль. Эту роль он
играет фактически с марта 1970 года, когда
Казароли впервые прибыл в Москву, чтобы
поставить свою подпись — от имени папы
римского — под Договором о не-
распространении ядерного оружия, согла-
сованным между сверхдержавами.
...Каждое утро все наиболее важные
события, происшедшие в мире и заслужи-
вающие, на взгляд высших чиновников
Ватикана, внимания папы, ложатся в виде
бумаг, собранных в папке темно-желтого
цвета, на стол Иоанна Павла в его кабинете,
примыкающем к спальне. На обложке
всего два слова: в центре оттиснуто
красными жирными буквами слово «Сом-
марио»8, а в верхнем правом углу —
«Секрете»9. В папку часто попадают
первые сообщения, предостерегающие об
ухудшении очередного кризиса или о по-
явлении на горизонте новой критической
ситуации.
В то утро на столе папы лежала
информация о том, что Британия намерена
начать войну из-за Фолклендских остро-
вов, а Израиль — оккупировать Ливан.
Секретарь папы Кабонго полагает, что
эта «ежедневная порция трагедии» во
многом способствует тому, что у его
патрона так изменилась внешность. На
лице Иоанна Павла появилось много мор-
щин. Бывают моменты, когда страдание
затуманивает его взор: по словам его
преданного помощника, это трудно объяс-
нить, «если не вспоминать о том, как святой
отец переживает за судьбы мира».
В течение первых месяцев своего
пребывания на престоле папа в основном
оставался в стороне от мира так называ-
емой светской политики и ее махинаций,
стремясь в первую очередь укрепить свое
влияние на курию. Постепенно он начал
задумываться и над хитросплетениями
международной политики.
Чтобы лучше понимать невеселые
перспективы мировой политики и быть
в состоянии их прогнозировать, папа Иоанн
Павел изучил «язык», остававшийся неиз-
вестным всем другим папам до него. Так,
он знает, когда можно употребить то или
иное специальное слово, понятное лишь
современным ядерным стратегам; он в
состоянии — как равный — обсуждать с
ними меры по укреплению доверия, по-
рою призванные замаскировать агрес-
сивные намерения; он может беседовать
на тему о политическом использовании
военной мощи, о зонах свободных от
ядерного оружия, и т. п. Одним словом,
Иоанн Павел сегодня столь же хорошо
знаком с военной и политической лекси-
кой, как и с церковной. И конечно, все это
отнюдь не способствует улучшению его
настроения.
Книжные полки в его кабинете служат
еще одним свидетельством тех перемен,
которые произошли при новом папе. Там,
где некогда стояли лишь ряды одинаковых
по формату томов классиков в кожаных
7 «Траблшутер» — (англ.) аварийный монтер:
на политическом жаргоне — специальный
уполномоченный по улаживанию конфликтов.
8 Краткое содержание (итал.).
* Секретно (итал.).
53
переплетах и произведения теологов и фи-
лософов, сегодня появились подборки
таких журналов, как «Международный
вестник по вопросам обороны» и «Органи-
зация обороны» как и книги с весьма
необычными и интригующими заголовка-
ми: «Проблемы военной готовности»,
«Военное равновесие», «Уроки внезапного
нападения и организация планирования
оборонных мероприятий». Рядом с папски-
ми энцикликами в белых кожаных пере-
плетах — есть там и оригинальный вариант
энциклики «Лаборем эгзерсенс» («О чело-
веческом труде»), содержащий весьма
энергичное напоминание о праве на
осмысленный труд при справедливых усло-
виях, включая и право на создание
профсоюзов,— хранится альбом с вырез-
ками из писем, полученных нынешним
папой от членов «Солидарности» в По-
льше...
В последнее время рабочая нагрузка
папы увеличилась. Просмотрев принесен-
ную информацию, Иоанн Павел отметит
то, что интересует его в первую очередь.
После этого Государственный секретариат
направит ему соответствующие сведения
по каждому из вопросов с изложением
позиции Ватикана. Если их недостаточно, то
эксперты проинформируют папу более
всесторонне. Некоторые из членов курии
считают, что в подобном способе принятия
папой решений есть немалые недостатки.
Они, например, опасаются, что из той
папки с материалами, которая к нему
ежеутренне попадает, у папы может
создаться — изначально — одностороннее
представление. А те, кто ему до-
кладывают, могут не устоять перед иску-
шением представить дело в тенденциоз-
ном свете, оставляя в стороне всю ту
важную информацию, которая, по их
мнению, его не слишком интересует.
Отчет Погги, написанный его харак-
терным наклонным почерком, сейчас ле-
жит на первом месте в утренней папке.
Папа делает на нем пометку: обсудить
с Казароли. А в своем отрывном календаре
он делает другую пометку: о встрече
с Погги. Позже эта последняя запись
попадает в руки одного из папских секре-
тарей, который перепечатывает все помет-
ки папы и сводит их вместе в виде мемо-
рандума, или памятной записки. Такая
записка быстро находит своего адресата.
В сущности, все папство — как бы бумаж-
ный след, оставляемый этими краткими
приказами верховного правителя.
Сам Погги, правда, продолжает пользо-
ваться правом беспрепятственного доступа
к святому отцу, чего не скажешь о неко-
торых других из его итальянских советни-
ков, которых он держит теперь на почти-
тельном расстоянии. Совсем другое дело,
впрочем, те поляки и другие восточноев-
ропейцы, которых он в большом коли-
честве привлек к работе в Ватикане. Самые
высокопоставленные из их числа фактичес-
ки приходят и уходят из папских апарта-
ментов, когда им вздумается. Чтобы
повидаться с папой, они зачастую даже не
уславливаются предварительно о встрече.
...При ходьбе его сутана, монотонно-
черный цвет которой все же чуть темнее
смуглого лица монсеньера Эмери Кабонго,
издает едва уловимый нежный шелест. Он
выходит из лифта на третьем этаже
Апостольского дворца. Залитое ис-
кусственным светом и явно перенаселен-
ное пространство, где ощутимо не хватает
вентиляции, представляет собой штаб-
квартиру папского дипломатического кор-
пуса. Это наверняка единственное в мире
дипломатическое ведомство, сотрудники
которого регулярно возносят молитвы
богу или Деве Марии (остряки из Госу-
дарственного секретариата утверждают,
что папа Иоанн Павел предоставляет им
в данном случае полную свободу выбора),
чтобы с их помощью разрешить многие из
действительно серьезных трудностей, су-
ществующих в сегодняшнем мире.
Что касается Кабонго, то ему нравится
бывать здесь, на третьем этаже, и он
пользуется любой возможностью ознако-
миться с новым «уловом» информации
В течение четырех лет Кабонго регуляр-
но поставлял отчеты, приготовленные им
в папском посольстве в Сеуле, столице
Южной Кореи Именно в свою бытность
нунцием в этой стране он и приобрел
поистине бесценное знание проблем, сто-
ящих перед третьим миром.
Кабонго стали рассматривать в качестве
своего рода восходящей звезды. Сперва
его перевели в другой весьма важный для
папского престола регион — в Бразилию,
где он стал нунцием. Там он целых три
года углубленно .занимался изучением
проблем этой страны: с одной стороны,
огромные богатства в руках немногих,
а с другой — ужасающая нищета масс,
живущих на грани голода. Он откровенно
сообщал Ватикану об этом несправедли-
вом распределении национальных бо-
гатств. Когда в секретариате были полу-
чены его первые сообщения, их сочли
достаточно важными для того, чтобы
включить в памятную записку подготов-
ленную к папскому визиту в Бразилию.
Папа был настолько удовлетворен про-
ницательностью Кабонго, что принял ре-
шение сделать еще одну перестановку
в штате своих ближайших сотрудников.
К тому времени он произвел многочис-
ленные перемещения в Ватикане, отправив
одних в дальние походы и, наоборот,
приблизив к себе других. Один лишь Пий
XI до него подвергал курию столь основа-
тельной чистке.
Прошло уже более десяти месяцев, но
новый 41-летний секретарь папы по-пре-
жнему продолжал вызывать повышенный
интерес в полном самыми невероятными
слухами Апостольском дворце. Еще бы,
ведь впервые на этот пост назначен
черный! Со своим лунообразным лосня-
щимся лицом, курчавыми черными волоса-
ми и миндалевидными глазами, которые,
несмотря на всю их яркость, нуждаются
для чтения в самых сильных линзах; со
своей манерой говорить и непривычной
для здешних мест походкой; деликат-
ностью обхождения и неизменной вежли-
востью — всем этим и многим другим
Кабонго вызывает представление о тропи-
ческих лесах и их обитателях в его
любимом Заире
Однако постепенно стало ясно, что
с этим человеком, которого нельзя не-
дооценивать, шутки, как говорится, плохи.
Интеллектуальные способности Кабонго
весьма внушительны. Достаточно сказать,
что он с отличием окончил Папскую
духовную академию для ватиканских дип-
ломатов, говорит на всех главных диалек-
тах своего родного Заира (включая и столь
трудный для произношения суахили) и
плюс к этому — весьма бегло на несколь-
ких европейских языках. При всей мягкос-
ти манер этот проницательный профес-
сионал умеет, если надо, быть неуступ-
чивым и твердым.
Что касается его взглядов, то он выра-
жает либеральную тенденцию нынешнего
папства. Он открыто выражает свое восхи-
щение папой. В более зависимом человеке
это выглядело бы чуть ли не сентимен-
тальным, но у Кабонго подобное выраже-
ние чувств вполне естественно.
Проходя из одного отдела Госу-
дарственного секретариата в другой, Ка-
бонго не пропускает случая узнать послед-
ние новости, попавшие в «сеть». Этим
общим словом обозначается вся та инфор-
мация, которая поступает сюда от папских
нунциев, пронунциев и апостольских по-
сланников, отправляющих свои сообщения
каждую неделю, каждый день и даже —
в случае кризисных ситуаций — каждый
час. «Сеть» состоит из закодированных
телеграмм, телексных сообщений или те-
лефонных звонков: иногда, чтобы сбить
с толку подслушивающих, разговоры по
телефону ведутся на латинском языке.
Сегодня «сеть» растянута донельзя.
Одно за другим приходят сообщения
о реакции на послание папы. Смысл его
сводится к тому, что ядерное разоружение
не может быть односторонним, Армагед-
дон, как он дает понять в этом своем
последнем послании, не просто близок —
он как бы уже находится на стартовой
площадке. Кабонго, по его собственным
словам, «убежден совершенно безогово-
рочно, что миру грозит большая беда, если
он не прислушается к словам папы».
Продолжение следует
Перевел с английского
Ю. Сенин
МЫСЛИ БЕЗ НИМБА
+ Чертовски хороша — богиня!
Кларита КОТЛЯРСКАЯ
г. Баку
4- Запретные плоды всегда в дефиците.
Ефим ФУРМАН
Ленинград
ф. Попал в ад — дослужись до черта.
Сергей МЫРДИН
Ужгород
-4- Жизнь прожить — не биополе перейти.
Александр БЕРЕНШТЕЙН
г. Одесса
54
БЫТ И НРАВЫ НАРОДОВ
И. Лисевич,
доктор филологических наук
Улыбка
«бессмертного»
старца
Я приехал во Вьетнам изучать
даосизм — древнюю синкретическую
религию, о которой в Европе мало что
знают. Жаркими ноябрьскими днями
я просиживал под единственным вен-
тилятором в маленькой читальне
Института старой письменности, куда
любезные хозяева приносили мне
тронутые временем рукописи и кси-
лографы. Просматривая книги по
геомантии, учившие, как распола1ать
строения, дабы не нарушить живи-
тельных токов земли, трактаты по
астрологии, повествующие о связях
человека и космоса, или древние
гадальные книги, я был признателен
своим вьетнамским друзьям, которые
помогали мне в нелегком пути по
запутанному лабиринту фантастичес-
кого даосского мира.
Храмы я посещал чаще всего, как
это принято во Вьетнаме, в дни
новолуния и полнолуния: утром буд-
дийские, а даосские — вечером.
Вместе с вьетнамскими коллегами мы
обходили буддийские ступы «путем
жизни», или, как говорили когда-то на
Руси,— «посолонь», по солнцу. Посе-
тили немало даосских храмов, пора-
жающих своей таинственной арха-
икой. Увиденного, казалось, хватило
бы на всю жизнь. Тем не менее, самое
интересное судьба приберегла напо-
следок.
Мое посещение Института археоло-
гии в Ханое было совершенно слу-
чайным — видимо, сказалась неуем-
ная любознательность востоковеда,
стремящегося увидеть все, что только
возможно. Случайным было и зна-
комство с Нгуэн Лань Куонгом (всегда
очень трудно логически объяснить,
почему из массы присутствующих ты
выбираешь того, а не иного собесед-
ника). «Вы были в Дау? — спросил
меня Куонг. — Это совсем недалеко
от города — попросите, чтобы вам
устроили туда поездку — вы не пожа-
леете!». И он рассказал поразитель-
ную историю, показавшуюся мне,
честно говоря, выдумкой.
Машину дали в самый последний
день моего пребывания во Вьетна-
ме — пора было уже паковать вещи,
но упустить редкостный шанс я прос-
то не мог.
Тхиенский (цзэнский) храм Дау
находился всего в 23 км от Ханоя, но
мы долго ехали проселочными доро-
гами, глотая желтую пыль, проникав-
шую в машину даже через закрытые
окна. У въезда в село вынуждены
были остановиться — дальше можно
было пройти только пешком. По
незнанию в храм проникли через
какой-то боковой, заросший бурь-
яном вход — и сразу попали на
чистую, ухоженную площадку, где
было заботливо собрано все, что
сохранилось от былого убранства.
В стороне на каменных плитах пола
молотили цепом рис, престарелая мо-
нахиня налила нам из термоса тради-
ционный зеленый чай.
И вот наконец долгожданная встре-
ча. Передо мной, в желтом монашес-
ком одеянии, чуть наклонившись
вперед, в позе лотоса, сидел на-
стоятель By Кхак Минь — человек,
родившийся триста с лишним лет
назад) Утверждали, что при предлог -
ледней вьетнамской королевской ди-
настии Ле он достиг вершин придвор-
ной карьеры — и тем не менее уда-
лился в этот монастырь, отказавшись
от богатства и власти. К концу же дней
своих, уединившись в крохотной кир-
пичной часовне на краю монастыря,
Минь погрузился в пост и молитву,
разрешив ученикам прийти к нему
лишь тогда, когда перестанет звучать
молитвенный барабан. Со Времен
Пифагора известно, что человек мо-
жет воздерживаться от пищи без
ущерба для тела не более сорока
дней — настоятель Минь постился в
течение ста .. Когда силы окончатель-
но оставили его, он обратился к стол-
пившимся перед ним монахам: «При-
шло время покинуть мне этот мир.
Когда мой дух отлетит от тела,
повремените месяц. Если почувству-
ете запах тления — похороните меня,
как положено по обряду. Если же
тления не будет, оставьте меня здесь,
чтобы я вечно возносил молитвы
Будде!».
Изумленные монахи подчинились
приказу: после кончины настоятеля
тления не было заметно ни через
месяц, ни через два, и тогда они
покрыли его тело краской, дабы
защитить от зловредных насекомых,
и оставили сидеть на небольшом
возвышении в нише кирпичной часо-
венки, где он прожил свои последние
дни. Пожилая монашенка, которая
рассказала нам эту легенду, зажгла
ароматные свечи, вызывая дух на-
стоятеля. «Настоятель не умер как
все,— пояснила она. — Очистив себя
постом, молитвой и созерцанием, он
сам, по собственной воле заставил
окрепший дух покинуть ненужное
тело» И она указала пальцем на ту
точку между бровей чуть выше пере-
носицы, где якобы находятся врата,
открывающиеся «в мир иной». Эта
точка была мне уже знакома — по-
клонники так называемой «даосской
йоги» считают, что они способны
покидать свое тело и возвращаться
в него именно этим путем...
После смерти настоятеля прошли
столетия. В России успела воцариться
и уйти в историю династия Романовых.
Во Вьетнаме престолом овладела
новая династия Нгуенов, потом при-
шли французы, за ними — японцы,
началась антиколониальная война, ее
сменила борьба против американской
агрессии — а настоятель все сидел
в своей нише неподвластный ходу
времени.
После обретения Вьетнамом неза-
висимости легенда об окаменевшем
монахе привлекла внимание ученых.
По инициативе Нгуэн Лань Куонга,
с которым я так неожиданно познако-
мился в Институте археологии, «ста-
тую» подвергли рентгеновскому ис-
следованию в госпитале в Бак Мае
Каково же было изумление при-
сутствующих, когда они увидели на
экране контуры скелета и убедились,
что перед ними действительно не
статуя, а человеческое тело!
Исследование показало, что тело не
55
было мумифицировано — в отличие
от египетских мумий внутренности
и мозг остались нетронутыми. Каким
образом тело настоятеля сохранилось
в условиях тропического Вьетнама,
где влажность держится на уровне
100 процентов, а муссонные дожди
продолжаются месяцами,— загадка.
Я видел совершенно новые блочные
здания, покрытые потеками черной
плесени, а ведь в часовне было только
три стены — ниша завешивалась зана-
весом и была открыта всем ветрам...
Тем не менее останки не увлажнялись,
а усыхали: при взвешивании в госпита-
ле By Кхак Минь весил всего...
7 килограммов — слишком мало, да-
же если учитывать очень скромный
рост вьетнамцев XVII века и сто-
дневный пост.
Впрочем, в тот момент я не думал
о таких вещах, я просто смотрел на
лицо сидевшего передо мной челове-
ка из прошлого, не в силах от него
оторваться. Литературный штамп —
«улыбка блаженства» — впервые на-
полнился для меня реальным смыс-
лом — мне виделась едва тронув-
шая черты лица тихая и спокойная
улыбка человека, внезапно прозрев-
шего Истину... Я вспомнил восточные
легенды о людях, блуждавших далеко
в горах и вдруг находивших в какой-то
уединенной пещере буддийского мо-
наха, уже многие столетия «читающе-
го» старую сутру или молящегося
Будде... Теперь мне самому довелось
увидеть такое чудо Что же касается
его «разоблачения», то тут слово
принадлежит скорее биологу или хи-
мику — я не специалист. Замечу толь-
ко, что вьетнамские ученые, исследо-
вавшие тело, обнаружили на нем
промежуточный слой серебряной
краски и полагают, что она сыграла
роль консерванта. Не последнюю
роль, думаю, сыграло и стодневное
голодание.
Впрочем, случай этот не
единственный. В том же храме я ви-
дел тело другого настоятеля: преем-
ника и племянника By Кхак Миня.
К сожалению, облик его производил
меньшее впечатление, поскольку кто-
то выкрасил его лицо в белый цвет,
нарисовал красные губы, а на опу-
щенных веках — глаза, превратив в
разрисованную куклу. Одухотворен-
ность лица была безвозвратно потеря-
на
Жаль, что во время посещения
храма я не сделал ни одного снимка:
мой видавший виды «Зенит» вдруг
заклинило, и я предпочел просто
смотреть, вместо того чтобы возиться
с опостылевшей техникой. Единствен-
ное, что я могу предложить чита-
телю,— фото, сделанное Нгуен Лань
Куонгом во время обследования тела
Миня в госпитале. Боюсь, однако, что
читатель так и не сумеет разглядеть
улыбку монаха — а именно она была
самым ярким моим впечатлением
в тот памятный день...
ГЛАВА 1.
ХРАМ СВЯЩЕННОГО
ПЛАМЕНИ
В промозглый декабрьский вос-
кресный вечер в храме Священно-
го пламени, что на Ноклэтчерз Роуд,
состоялась торжественная церемо-
ния.
В Лондоне вообще множество пре-
странных мест для поклонников
самых необыкновенных культов. Без-
ликость обычного воскресного дня
скрывает их непостоянную, но напря-
женную деятельность За скучным
фасадом воскресенья попискивают,
как мыши за деревянными панелями,
весьма странные религии.
Возможно, эти экзотические служ-
бы как-то восполняют бесцвет-
ность обыденной жизни тех, кто их
посещает, потребность в самовыра-
жении и благочестивом волнении.
Иначе не объяснить, почему на таких
службах можно встретить столь
разных людей.
Что побудило, например, старую
мисс Уэйд покинуть свою гостиную
и так спешить по Кингз Роуд навстречу
дождю и ветру, которые вот-вот
вырвут из ее рук зонтик и швырнут
его прямо ей в лицо? Зачем мистер
Сэмьюэл Дж. Огден облачился в не-
удобную одежду и променял свою
уютную квартиру на Йорк сквер на
неудобства такси? К тому же он будет
лишен возможности выкурить свою
сигару несколько последующих часов.
Что заставило Кару Куэйн предпо-
честь свой милый домик в Шеперт
маркет мрачным мокрым тротуарам?
Ради каких удовольствий мсье де
Равинье оставил своих Ван Гогов,
украшающих стены его скромной
квартиры на Доувер стрит?
Автомобиль Кары Куэйн, такси
мистера Огдена и галоши мисс Уэйд
почти одновременно свернули на
Ноклэтчерз Роуд.
Тупик Ноклэтчерз Роуд начинается
с Честер террас и совсем рядом
с Грэем стрит. Как и Грэем стрит, он
известен церковью. Но в декабре
прошлого года мало кто знал о храме
Святого пламени — разве только при-
хожане да их друзья. Скажем, стар-
ший инспектор Эллен даже никогда
не слыхал о нем. А вот Найджел
Басгейт, уныло глядевший из своего
окна на неуютную Честер террас,
впервые заметил его вывеску именно
в то воскресенье Это была небольшая
вывеска из красного стекла, фор-
мой напоминавшая языки пламени,
вырывающиеся из чаши. Она раскачи-
валась на ветру, сверкая гранями.
Найджел увидел сразу и красные
лучики и фигуру мисс Уэйд, мелькнув-
шую в дверях. Затем подъехали
автомобиль Кары Куэйн и такси мисте-
ра Огдена. Потом еще три фигуры
в блестящих от дождя плащах сверну-
ли на Ноклэтчерз Роуд. Найджел все
равно скучал в одиночестве своей
квартиры. Привычное любопытство
журналиста заставило его мгновенно
принять решение. Схватив шляпу и
зонтик, он сбежал по лестнице в
дождь. На него сразу обрушились
потоки дождя, в темных лужах отра-
зился свет фонарей. Но Найджел был
доволен, что вышел на улицу. Ему
хотелось приключений. Кто знает,
думал он с надеждой, на какую
занятную сходку я попаду? Должно
быть, там тепло и все необычно,
курятся благовония и свершаются
странные обряды. Предвкушая нечто
интересное, он пересек Честер стрит
и, прикрываясь зонтиком от нале-
тающего ветра, двинулся к храму
Священного пламени.
В конце длинного коридора, осве-
щенного пламенем из бронзового
факела, виднелась двойная дверь.
Найджел закрыл зонтик и подошел
к ней. На стене висела табличка —
красный факел в кругу непонятных
56
знаков. Это было как раз то, чего он
желал. Без сомнения, служба будет
необычной, со всякой экзотической
чепухой. Он прочитал:
«В свете Священного пламени все
тайны — лишь грани Единого Та-
инства, все Боги — лишь разные ас-
пекты одного Господа. Время — лишь
форма Вечности, а путь в Вечность —
Духовный Экстаз.
ДЖЕСПЕР ГАРНЕТТ».
Найджел закрыл за собой дверь
и оказался в абсолютной темноте.
Только через несколько секунд он
смог различить в глубине, вероятно,
на алтаре, слабый красный свет. Ноги
утопали в толстом мягком ковре.
В нос ударили запахи благовоний. Он
почувствовал присутствие людей,
молча сидящих в зале. Шагнув вправо
и не встретив сопротивления, На-
йджел понял, что стоит в проходе.
Когда глаза привыкли к темноте, он
различил клубы дыма, светлые пятна
статуй, а затем и ряды склоненных
голов. Он стоял за последним рядом
стульев. Заметив в дальнем углу
пустое сиденье, он направился к нему
и сел. Как раз в этот момент лучик
света оповестил о появлении священ-
ника — наверное, самого Джеспера
Гарнетта — со свечой в руке. Свеча
поднялась выше, и из темноты с не-
ожиданной силой вырвалось пламя.
Люди зашевелились, всхлипнул орган,
на стенах загорелись красные лампы.
Несколько минут стоял невообра-
зимый шум, который вскоре перерос
в некое подобие мелодии. Наконец
орган и прихожане завершили ее
дружным «аминь». Все поднялись
с колен, уселись на свои места,
и наступила тишина.
Храм Священного пламени мало
отличался от англиканской церкви.
Неф, трансепт, алтарь — все было
обычным. Слева стояла кафедра,
справа — письменный стол. Но на
этом сходство кончалось. Холл боль-
ше всего походил на выставку ультра-
современного искусства. Над алтарем
находился бронзовый факел, в кото-
ром горело Священное пламя. На
алтаре размещались пернатый змий,
деревянная фигурка с высунутым
языком и глазами, инкрустиро-
ванными раковинами, вагнерианского
вида божок, миниатюрный тотем и
другие языческие безделушки. Стены
украшали знаки Зодиака, а вдоль
проходов стояли удивительные образ-
чики современной скульптуры.
Абстрактные углы и изгибы создавали
формы животных и птиц — лев, бык,
змея, кошка, феникс. На них в мрач-
ном удивлении взирали фигуры,
представлявшие, как решил Найджел,
богов и богинь норвежских легенд.
Найджелу даже показалось^ что в бли-
жайшей фигуре он узнал Одина. Бог
был облачен в плащ, со складок
которого уныло глядели двое четве-
роногих, очевидно, представляющих
Гери и Фреки, а из-за ног, имевших
все симптомы начальной стадии сло-
новой болезни, выглядывали не менее
унылые совы. Возможно, это были
Хагинн и Маннинн Сильно пахло
благовониями. Найджел разглядывал
дорогое и изысканное оформление,
когда его внимание отвлек красивый
голос.
Преподобный Джее пер Гарнетт сто-
ял на кафедре. Найджелу показалось,
что проповедник смотрит только на
него. Казалось, они взглянули друг
другу в глаза, и Найджел почувство-
вал себя в подчинении. Он не ощущал
больше тяжести тела, он внимал.
Впоследствии, когда он пытался опи-
сать службу старшему инспектору
Эллену, оказалось, что он не может
пересказать содержание проповеди
даже в самых общих чертах. Короче,
Найджел впервые в жизни испытал
действие массового гипноза. Ему за-
помнились лишь заключительные сло-
ва отца Гарнетта:
— И вот дверь открыта, и огонь
экстаза пылает ярко. Следуйте за
мной к Единству Духа. Вы покидаете
свои тела. Вы проникаете в иную
жизнь. Зло сгинуло. Отриньте свои
земные путы. Экстаз — ваш. Давайте
же выпьем из пылающей чаши! — Зал
ответил шумом, который все нарас-
тал Слышались отдельные возгласы.
Полная дама, соседка Найджела,
всхлипывала; неподалеку что-то
выкрикнул мужской голос. Священ-
ник подошел к алтарю и извлек из
дароносицы серебряную флягу и ча-
шу, инкрустированную драгоценными
камнями. Он передал флягу темново-
лосому прислужнику и провел рукой
над чашей. Оттуда вырвались голубые
языки пламени и погасли. Тогда из
первого ряда поднялась женская фи-
гура. Прихожане упали на колени.
Женщина взбежала по ступенькам
и с непонятным криком поверглась
ниц перед факелом. Священник стоял
над ней, высоко держа чашу. За
женщиной последовали еще шесть
человек, они образовали круг, в
центре которого находилась лежа-
щая, преклонили колени и протянули
руки к чаше, издавая какие-то невра-
зумительные крики. Во всем этом
было что-то неуловимо неприличное,
и пришедшему в себя Найджелу стало
весьма неловко. Теперь священник
передал чашу в круг. Полная пышная
женщина приняла ее и, вскрикнув
«Имир», взяла у прислужника сереб-
ряную флягу, налила из нее в чашу
и передала чашу соседу. Темново-
лосый, ухоженный мужчина повторил
ритуал, воскликнув уже другое слово.
Так чаша обошла весь круг. Каждый
посвященный брал ее у соседа, полу-
чал от прислужника флягу, наливал из
фляги, передавал чашу следующему
и возвращал флягу прислужнику.
Каждый произносил свое слово. Най-
джелу показалось, что он различил
имена Тора, Ахримана и Видура среди
других совсем неизвестных имен.
Обойдя круг, чаша вернулась к свя-
щеннику. Лежавшая все это время
женщина вдруг вскочила на ноги. Ее
руки дергались, она что-то молола,
как полоумная, вертя головой из
стороны в сторону. Это была отврати-
тельная, тошнотворная сцена, тем бо-
лее что женщина была красивая,
высокая, еще не старая, но уже седая.
Она была одета элегантно и по моде,
но одежда ее растрепалась, шляпка
сбилась на сторону, а один рукав
засучился. В ее долгой, неразборчи-
вой речи были перемешаны имена
античных богов и слова новых куль-
тов: «Я один, и я есть все». Колено-
преклоненный круг ритмично отвечал
«Хай». Сцепив руки и раскачиваясь из
стороны в сторону, она присоединила
свой голос к общему возгласу
Внезапно, видимо, по сигналу свя-
щенника, все замолкли. Женщина
протянула руки, и священник дал ей
чашу.
— Пусть вино экстаза даст радость
душе и телу!
— Тур-ай!
— Да охватит тебя святое безум-
ство пламени!
— Хай! Тур-ай! Тур-ай!
Женщина поднесла чашу к губам.
Она все больше откидывала голову
назад, глотая последние капли.
И вдруг она ахнула. Обернувшись
к священнику, словно желая спросить
его о чем-то, вытянув руки, казалось,
она предлагала ему чашу Но руки
бессильно упали, выронив блеснув-
ший сосуд. Лицо женщины исказилось
ужасной гримасой. По телу пробежа-
ла дрожь. Она рухнула, как огромная
кукла, раза два дернулась и больше
не двигалась.
ГЛАВА 2.
СКОТЛЕНД-ЯРД
Найджел, сначала испугавшийся,
решил, что церемония так и должна
кончаться. Несмотря на неприятное
впечатление от всей этой сцены, ему
было интересно. Прошло, наверное,
не менее минуты, прежде чем он
понял, что ни прихожане, ни сам отец
Джеспер Гарнетт не ожидали ничего
подобного. Первым насторожил Най-
джела молодой человек из числа
посвященных. Он поднялся с колен
и стоял, переводя недоумевающий
взгляд с женщины на священника.
Наконец, заговорил, но так тихо, что
Найджел не разобрал ни слова. Дру-
гие оставались коленопрекло-
ненными, составляя круг, но казалось,
что они просто забыли подняться.
Экстатическая страстность церемонии
исчезла, возникло какое-то другое,
тревожное чувство. Священник заго-
ворил.
— Друзья,— громко и реши-
тельно начал он. — Друзья, нашей
возлюбленной сестре даровано вели-
чайшее благо. Она в экстазе. Не
будем тревожить ее блаженное сос-
57
тояние. Споем же гимн Пану, единому
Богу.
Он замолк. Орган дал пробный
аккорд. Прихожане с беспокойным
шепотом поднялись на ноги.
— Давайте споем,— решительно
повторил Джеспер Гарнетт,— гимн...
Его прервал крик. Из круга посвя-
щенных выбежала маленькая неказис-
тая женщина.
— Нет! Нет! Она умерла! Я потро-
гала ее. Она мертва!
— Мисс Уэйд, успокойтесь!
— Я не успокоюсь! Она мертва!
— Минутку,— раздался спокойный
голос рядом с Найджелом. По прохо-
ду пробирался пожилой, солидного
вида мужчина. Найджел приподнялся,
пропуская его, а затем пошел
за ним.
— Дайте-ка я взгляну на эту да-
му,— бесстрастно сказал мужчина.
— Но, доктор Кэзбек.
— Я думаю, мне стоит взглянуть на
эту даму, отец Гарнетт.
Найджел вместе с другими подо-
шел к месту под факелом. Ему
показалось, что он поднялся на сцену
и присоединился к игре. Доктор
склонился над лежащей фигурой. Он
дотронулся до запястья женщины
и резким движением сдернул шляпку
с ее лица. На него уставились широко
раскрытые, вылезшие из орбит глаза.
В уголках рта выступила пена. Блед-
ное лицо с пунцовыми щеками,
стиснутые зубы.. Возможно, она и
была в экстазе, но она была явно
мертва.
При виде этого ужасного лица круг
посвященных дрогнул. Они отшатну-
лись, кто молча, кто с восклицанием
В приглушенном крике мисс Уэйд
слышался не только испуг, но и, как
это ни странно, восторг.
— Мертва! Я же говорила, что она
умерла! О! Отец Гарнетт!
— Ради бога, закройте ее,— по-
просил высокий молодой человек.
Доктор опустился на колени. Он
понюхал застывшие губы, расстегнул
на груди платье и приложил руку
к белой коже. Несколько секунд
показались минутами. Внимательно
вгляделся в лицо и затем снова
прикрыл его шляпкой.
— Ужэ-эсно, ужэ-эсно. Как
ужэ-эсно,— пробормотал коммер-
ческого вида джентльмен, выдавая
свое американское происхождение.
— Вам лучше распустить собрав-
шихся,— резко сказал доктор, обра-
щаясь к священнику.
Отец Гарнетт ничего не ответил. Он
не пошевелился Выглядел он все так
же впечатляюще, но куда менее
благородно.
— Не попросите ли вы всех уда-
литься? — спросил доктор Кэзбек
— Минуточку!
Найджел с изумлением услышал
собственный голос. Все повернулись
к нему Он услышал приглушенный
шепот.
— Простите, что я прервал вас, но,
по-моему, при подозрении на на-
сильственную смерть никто не...
— Насильственная смерть? С чего
вы это взяли? — перебил его амери-
канец.
— Посмотрите на рот, на глаза
И запах. Я могу и ошибаться. —
Найджел глядел на доктора. — Но
если есть такое подозрение, никто не
должен уходить.
Доктор спокойно выдержал его
взгляд.
— Я думаю, вы правы,— согласил-
ся он.
Все говорили тихо, но, очевидно,
что-то из сказанного донеслось до
зала. Несколько человек вышли в
центральный проход Шум усилился.
Послышались громкие голоса, закри-
чала женщина. Все нерешительно
задвигались.
— Скажите им, чтобы они сели,—
распорядился доктор.
Священник усилием воли взял себя
в руки. Он повернулся и быстрыми
шагами поднялся на кафедру.
— Друзья,— твердо прозвучал его
чудесный голос,— пожалуйста, успо-
койтесь и вернитесь на свои места.
Я твердо верю, что в этот момент мы
были очевидцами проявления великих
сил бесконечного пространства. Их
выбор пал на нашу возлюбленную
сестру в Экстазе, Кару Куэйн. — Голос
слегка задрожал, затем понизился. —
Мы должны укрепить наши души
силой Слова. Я призываю вас к меди-
тации над словом «Единство». Пусть
будет тихо.
В холле наступила такая тишина, что
слышно было шуршание одежды,
когда священник спускался с ка-
федры. Он повернулся к двум при-
служникам.
— Закройте занавес.
Металлический звук, шорох тяже-
лой ткани — и стена плотной парчи
отгородила их. Алтарь превратился
в комнату, освещенную светом факе-
ла и странно уютную.
— Боже мой! — сказал америка-
нец. — Это ужэ-эсное происшествие.
Доктор, вы вполне уверены, что она
мертва?
— Вполне,— ответил доктор, вновь
склонившись над телом.
— Что это? — спросил Найджел
у доктора. — Яд?
— Вероятно. Смерть наступила
мгновенно Мы должны вызвать поли-
цию
— Здесь где-нибудь есть телефон?
— По-моему, есть в комнатах отца
Г арнетта.
— В комнатах?
— За алтарем,— сказал доктор.
— Я могу позвонить?
— Это так необходимо? — спросил
священник.
— Абсолютно. — Доктор взглянул
на Найджела. — Вы позвоните?
— Пожалуй. Я знаю одного челове-
ка из Ярда.
— Я вернусь к прихожанам,— ска-
зал отец Г арнетт. — Они нуждаются
во мне. Клод, покажи, где телефон.
Словно во сне, Найджел поднялся
вслед за темноволосым прислужни-
ком по ступеням. Клод отодвинул
занавес слева от алтаря, открыл
дверь, и они прошли в нее.
Вернувшись через несколько ми-
нут, Найджел увидел, что все посвя-
щенные собрались вокруг амери-
канского джентльмена, который что-
то говорил им шепотом. Он был
высокий, полноватый и какой-то неве-
роятно чистый, словно использовал
сразу все дезодоранты, мыла и
лосьоны, которые рекламируют его
двойники с ярких страниц амери-
канской периодики. Необычными в
мистере Огдене были только глаза,
один светло-голубой, а другой карий.
Это придавало ему забавный вид.
К удивлению Найджела, играл ор-
ган и из-за занавеса доносились звуки
приглушенного пения. Голос отца
Гарнетта был хорошо слышен.
При виде Найджела американский
джентльмен выступил вперед.
— Сдается мне, нам следует позна-
комиться,— любезно начал он. — Вы
вроде как появились ниоткуда и сразу
взяли дело в свои руки. Я одобряю
быстрые действия. Мое имя Сэмьюэл
Дж Огден
— Меня зовут Басгейт,— ответил
Найджел.
— Рад знакомству, мистер Бас-
гейт,— мистер Огден пожал ему
руку. — Позвольте представить вам
присутствующих. Миссис Кэндор, по-
знакомьтесь с мистером Басгейтом.
Мисс Уэйд, познакомьтесь с мистером
Басгейтом. Мистер Басгейт, мисс
Джейни Дженкинс. Мсье де Равинье,
мистер Басгейт. Доктор Кэзбек, мис-
тер Басгейт Мистер Морис Прингл,
мистер Басгейт.
Все подавленно молчали, беспо-
мощно глядя на Найджела. Только
мсье де Равинье, холеный француз,
поклонился как-то пренебрежитель-
но.
— Ну что ж,— начал было мистер
Огден с приятной улыбкой.
— По-моему,— перебил его Най-
джел,— кто-то должен спуститься
к входной двери. Инспектор Эллен
скоро прибудет, надо его встретить.
— Верно,— согласился мистер Ог-
ден. Займись этим, Фонтлерой,—
приказал он Клоду. Найджел внезапно
почувствовал симпатию к мистеру
Огдену.
Появление старшего инспектора
Эллена произвело на присутствующих
странное впечатление. Словно кино-
камера внезапно сдвинулась и пред-
ставила всю сцену с абсолютно иной
точки зрения. Найджел в нескольких
словах рассказал Эллену о том, что
произошло. Остальные молчали, гля-
дя на инспектора. Джейни Дженкинс
вцепилась в руку Прингла; мисс Уэйд
прижимала к губам платок; мсье де
Равинье стоял в стороне с презри-
58
тельным видом; миссис Кэндор опус-
тилась на опереточный трон слева от
алтаря; мистер Огден выглядел оза-
боченным и готовым помочь.
Выслушав Найджела, Эллен при-
поднял сатин, которым было
прикрыто тело, и взглянул на иска-
женное лицо. Обменявшись несколь-
кими словами с доктором Кэзбеком,
он обратился к присутствовавшим.
В этот момент отец Гарнетт, зарядив
свою паству еще одним гимном,
присоединился к группе. Он не отхо-
дил от занавеса и пристально смотрел
на инспектора.
Эллен сказал:
— Я полагаю, всем следует знать,
что здесь произошло. Эта женщина,
вероятнее всего, отравлена Для вы-
яснения всех обстоятельств и причины
ее смерти как представитель поли-
ции я здесь и нахожусь.
Он повернулся и заметил священ-
ника.
— Вы мистер Гарнетт? Не попроси-
те ли своих прихожан разойтись по
домам — разумеется, после того, как
они кончат петь. Насколько я понял,
вряд ли есть смысл держать их здесь.
У дверей стоит констебль, он запишет
имена всех.
— Конечно,— ответил отец Гар-
нетт и исчез за занавесом.
Они услышали некое подобие бла-
гословения. В холле зашевелились
и задвигались. Кто-то кашлял. Нако-
нец хлопнули двери и наступила
тишина, нарушаемая лишь потрески-
ванием факела. Вернулся отец Гар-
нетт. Занавес с шумом раздвинулся.
Эллен обратился к Найджелу.
— Здесь есть телефон?
— Да.
— Дозвонись в Ярд, Басгейт, и
расскажи, что здесь произошло. Сей-
час дежурит Фокс. Скажи, чтобы он
приехал с обычной группой. Нам
понадобится доктор и женщина-поли-
цейский.
Найджел пошел в комнаты за
алтарем и передал указание. Когда он
вернулся, Эллен записывал имена
и адреса посвященных в свой блокнот.
— Я, пожалуй, начну с покойной,—
сказал он. — Как ее звали?
— Мисс Кара Куэйн, инспектор,—
сказал мистер Огден. — У нее заме-
чательный дом на Шеперд маркет,
№ 101. Я как-то имел честь обедать
у нее, и это доставило мне прямо-таки
эстетическое удовольствие. Она была
очень приятной женщиной и тонко
чувствовала красоту
— № 101 Шеперд маркет,— ска-
зал Эллен. — Спасибо
Он повернулся к мисс Уэйд.
— Меня зовут Эрнестина Уэйд,—
выговорила та четко и громко, словно
Эллен был глухим. — Я живу в При-
мроуз Корт, Кингз Роуд, Челси. Неза-
мужем.
— Благодарю вас.
Мисс Дженкинс вышла вперед.
— Я Джейни Дженкинс. Я живу
в студии на Иоменз Роуд, № 99-д. То-
же незамужем. Теперь давай ты,
Морис.
— Прингл,— проговорил этот
джентльмен так, словно его имя было
ругательством. — Морис. 11 Хэрроу
Мэншнс, Слоун сквер.
— Я — миссис Дагмар Кэндор,—
внезапно промолвила миссис Кэндор
со своего трона. — Квартиры коро-
левы Шарлотты, № 12.
Мистер Огден, который уже не-
сколько раз делал шаг вперед и столь-
ко же раз вежливо отступал, теперь
твердо произнес:
— Сэмьюэл Дж. Огден, шеф Ду-
маю, мой домашний адрес вас не
интересует, я из Нью-Йорка. Моя
лондонская квартира находится на
Йорк сквер, № 93 Эчерч корт.
— Большое спасибо, мистер Ог-
ден. А теперь, пожалуйста, вы, сэр.
— Отец Джеспер Гарнетт. Я свя-
щенник этого храма. У меня неболь-
шое жилище за алтарем.
Теперь с поклоном выступил мсье
де Равинье.
— Рауль Оноре Кристоф Жером де
Равинье, мсье. Я живу в Брэнском
Чэмберз, Лаундз сквер. Вот моя
карточка.
— Благодарю вас, мсье де Равинье.
А теперь, пожалуйста, покажите мне,
кто где находился, когда чаша пере-
давалась по кругу. Насколько я понял,
церемония проходила в центре этой
площадки.
После минутной паузы священник
вышел вперед
— Я стоял здесь,— сказал он. —
Мистер Огден преклонил колени
справа от меня, а миссис Кэндор
слева.
— Точно, сэр,— подтвердил Огден
и стал рядом. — А справа от меня
была мисс Дженкинс
— Да,— согласилась девушка. —
Справа от меня находился Морис.
Миссис Кэндор неохотно сошла
с трона и поместилась слева от
Г арнетта.
— Рядом со мной был мсье де
Равинье,— прошептала она.
— Безусловно. — Мсье де Равинье
занял свое место, и рядом с ним
встала мисс Уэйд.
— Я была здесь,— пояснила она,—
между мсье де Равинье и мистером
Принглом.
— Итак, круг заполнен,— сказал
Эллен. — Что делали прислужники?
— Видите ли,— начал энергично
объяснять Клод,— я подошел к отцу
Гарнетту справа. Я был Ганимедом,
понимаете, так что у меня был кувшин
с вином Как только отец Гарнетт
передал миссис Кэндор чашу, я подал
ей вино. Она держала чашу в левой
руке, а вино в правой. Она налила
немного вина и произнесла первое
имя бога. Вы Хагринг, не так ли,
миссис Кэндор?
— Была им,— всхлипнула миссис
Кэндор.
— Вот. А потом я забираю кувшин
и передаю его следующему и...
— И так далее,— сказал Эллен. —
Спасибо.
В церковь вошли семеро, трое из
них были констеблями. Впереди шел
высокий плотный мужчина в граж-
данской одежде; он снял шляпу,
с легким удивлением взглянул на
статуи обнаженных богов и флегма-
тично двинулся дальше.
— Привет, Фокс,— сказал Эллен.
— Добрый вечер, сэр,— ответил
инспектор Фокс.
— Тут кое-что произошло. Пусть
один из наших пока пройдет с этими
леди и джентльменами в задние
комнаты. Мистер Гарнетт проведет
вас. Будьте так добры, мистер Гар-
нетт! Я постараюсь не задерживать
вас долго.
Они ушли в сопровождении полис-
мена.
— Странный народец,— произнес
Фокс,— и странное место. Что ..ро-
изошло, сэр?
— Женщина отравилась цианидом.
Вон тело. Ваш старый друг мистер
Басгейт расскажет все.
— Добрый вечер, мистер Бас-
гейт,— вежливо сказал Фокс. — На-
шли еще что-то по нашей части?
— Это произошло во время
службы,— начал Найджел. — По кру-
гу была пущена чаша, круг составляли
эти люди. Они были на коленях. Та
женщина находилась в центре. Каж-
дому по очереди передавали сереб-
ряный кувшин с вином и каждый
наливал немного в чашу. Потом свя-
щенник, отец Гарнетт, передал чашу
ей. Она выпила — и упала. Когда
я поднялся сюда, то почуял знакомый
запах и вмешался.
Эллен наклонился над лежавшей на
полу чашей и принюхался.
— Прямо разит,— подтвердил
он. — Бейли, снимите с нее отпечатки.
Но сначала сделайте снимки. — Он
нашел в нише серебряный кувшин,
понюхал его и отпил немного в
бутылочку. — Кажется, здесь ничего
нет. Не могла ли сама мисс Куэйн
бросить что-нибудь в чашу? — обра-
тился он к Найджелу.
— Вряд ли,— задумчиво прогово-
рил Найджел. — Я хорошо помню,
как она взяла чашу у священника
обеими руками, держа ее за основа-
ние. У нее были кольца на обеих
руках, и я ясно помню, что они
отражали свет так же, как и камни на
чаше. Я уверен, что она держала ее
именно в таком положении все время,
пока пила.
— Да, Басгейт? Ты совершенно
уверен?
— Вполне. Я даже готов поклясться
в этом.
— Скорее всего, это и придется
сделать,— сказал Эллен.
Продолжение следует.
Перевел с английского
А. Астапенко в.
59
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
'1 оспмгии»
Дорогие читатели! В своих письмах
вы часто задаете нам вопросы,—
порой наивные, а порой и
заковыристые, ответить на которые
не всегда просто. Например: как
достичь нирваны? Что такое мандала?
Где хранится «зуб Будды»? Кто такие
иеговисты? Правда ли, что некоторые
секты практикуют человеческие
жертвоприношения? и т. д.
Некоторые вопросы встречаются
неоднократно. Поэтому мы
предположили, что ответы на них
могут быть интересны всем читателям.
Итак, предлагаем вашему вниманию
новую рубрику — Энциклопедия
«Науки и Религии».
Ждем очередных ваших вопросов!
з
УБ БУДДЫ — главная реликвия
буддизма. В этом качестве она из-
вестна во всех странах буддийского
мира, но объектом самостоятельного
культа является только в государстве
Шри-Ланка, где ежегодно в меся-
це эсала (июль-август) в городе Кан-
ди,— там находится храм Зуба Буд-
ды — устраивается двухнедельный
праздник с храмовыми службами и
торжественными процессиями, фа-
кельными шествиями и шествиями
слонов (один из них везет на себе
ларец с реликвией), с участием тан-
цоров, музыкантов, с присутстви-
ем представителей правительства
страны.
Как гласит легенда, в момент
кремации тела Будды один из учени-
ков выхватил из погребального костра
его зуб. В течение восьми веков зуб
хранился в Индии, но в 361 году во
время начавшейся в царстве Калинга
войны был спрятан и доставлен на
Шри-Ланку принцем Датта и принцес-
сой Хемалатха. Правитель острова
Шри Мегхаванна встретил Зуб Будды
с большими почестями, построил спе-
циальный храм и учредил ежегодный
праздник в его честь.
С тех пор прошло шестнадцать
столетий. Сведения о судьбе Зуба
Будды в течение всего этого времени
весьма противоречивы. По данным
сингальских хроник (сингалы — ос-
новное население Шри-Ланки, испо-
ведующее буддизм хинаянского тол-
ка), Зуб Будды не покидал храма и
лишь однажды во время сингало-пор-
тугальской войны 1560 года перено-
сился в укромное место. Бирманские
хроники, напротив, утверждают, что
в IX веке в период расцвета Паганско-
го царства Зуб Будды попал в Бирму.
Индийские хроники сообщают, что
в XIII веке в ходе индийско-шрилан-
кийской войны Зуб был вывезен
в Индию и за большой выкуп возвра-
щен обратно на Шри-Ланку. С 1518 по
1648 годы вся Шри-Ланка (за
исключением Кандийского царства)
была колонией Португалии. По
данным португальских источников, ее
войска в 1560 году якобы захватили
Зуб Будды, переправили его в свою
колонию Гоа на западном побережье
Индостана, где по настоянию католи-
ческого духовенства истолкли в поро-
шок и публично сожгли. Сингалы же
считают, что вместо подлинной ре-
ликвии была сожжена подделка с це-
лью сломить их боевой дух и унизить
национальное достоинство.
Установить истину теперь вряд ли
возможно. Но так или иначе, Зуб
Будды или то, что им считается, ныне
хранится в храме Далала Малигава
в городе Канди. Торжества в его честь
собирают огромное количество па-
ломников из стран буддийского мира
и туристов — любителей экзотичес-
ких зрелищ.
R
АДЖРА. Если крест олицетво-
ряет христианство, полумесяц — ис-
лам, ворота «тории» — синтоизм, то
ваджру на тех же основаниях можно
считать символом буддизма. Словари
и справочники дают ей следующие
определения: алмаз, громовой топор,
пучок скрещенных молний, высту-
пающие как символ божественной
истины учения Будды, пустоты «мира
явленного» (сансары), то есть мира,
в котором мы живем
Однако в индийской мифологии
ваджра была известна еще до появле-
ния буддизма как громовой топор
бога Индры, а иногда и других
небожителей. В описании этого пред-
мета нет единообразия. Ваджра мо-
жет быть медной, золотой, железной,
каменной. В ней 4 или 100 углов,
10ОО зубцов, она может иметь вид
диска, а может быть крестообразной.
Ей приписывалась способность
вызывать дождь и быть символом
плодородия.
В буддизме внешний облик ваджры
приобрел более конкретные черты —
в самой общей форме ее можно
определить как перехваченный посе-
редине пучок молний. Зато символика
этого предмета стала гораздо более
насыщенной, хотя осталась такой же
расплывчатой.
Ряд верховных божеств буддийско-
го пантеона имеет компонент «вадж-
ра» в составе своих имен и
предмет ваджру в качестве одного из
атрибутов. Таковы Ваджрадхара —
«держатель ваджры» — символ прин-
ципа просветления, Ваджрапани —
«рука, держащая ваджру» — уничто-
жает тупость и заблуждения, божест-
во изображается в угрожающей позе
с ваджрой в поднятой правой ру-
ке. Будда Ваджрасатва — «имеющий
сущность ваджры» — символизирует
собою принцип очищения. Его ранг
очень высок — он олицетворяет пять
будд созерцания, которые покрови-
тельствуют 5 частям вселенной (се-
вер, юг, восток, запад, центр), 5 эле-
ментам мироздания (земля, вода,
огонь, воздух, эфир), 5 органам чувств
(зрение, слух, обоняние, осязание,
вкус) и т. д.
В ваджраяне (одном из трех ос-
новных направлений буддизма наряду
с махаяной и хинаяной) ваджра приоб-
ретает значение ведущего символа.
Она олицетворяет мужское начало
вселенной, активность, сострадание.
В буддийском изобразительном ис-
кусстве выступает в паре с колоколь-
чиком — символом женского начала,
пассивности, мудрости.
Как ритуальный предмет, исполь-
зуемый в храмовых службах, ваджра
хранится на алтаре среди жертвенных
чаш, ритуальных барабанов, блюд для
сбора жертвоприношений и т. д. В
разных странах буддизма известны
двойная, тройная, крестообразная
ваджра. В Тибете это дордже, в Япо-
нии — конгосё, в Китае — дзинь-ган-
си, в Монголии — очир.
Н. ЖУКОВСКАЯ,
кандидат исторических наук
60
ПАМЯТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Тайны древних
Л. Лебедев
Прошло несколько
десятилетий с тех
пор, как появилась
возможность
заглянуть
в художественный
мир древнерусской
иконы. Очищенная
реставраторами от
многовековых
наслоений, она
засияла ликующим
многоцветием
красок, зазвучала
гармоническим
изгибом изысканных
линий. Пораженные
открывшейся
красотой, мы,
кажется, устыдились
своего прежнего
высокомерия и
пренебрежения к так
называемым «темным
векам средневековья»
Какой же высокой
внутренней культурой
обладал народ,
способный создавать
и ценить такое
искусство!
Процесс пробуждения
исторической памяти,
открытия своего
собственного
прошлого, можно
сказать, только
начинается. Оценив
художественные
достоинства
древнерусских икон,
мы еще не научились
понимать символику
их мысли. Попытаемся
же расшифровать ее
тайны.
Предлагаемые
статьи-гипотезы
носят спорный,
проблематичный
характер.
g КТО ТАКОЙ
8«ВЕТХИЙ ДНЯМИ»!
е 8.
В Третьяковской галерее хранится
5 s большая икона новгородской школы
g конца XIV века, которую исследова-
д g тели относят к иконографическому
типу «Отечество», известному с XI
§ века в Византии, Сербии и Болгарии,
а. с XII века — на христианском Западе.
* На Руси эта новгородская икона —
03 самая ранняя среди известных такого
типа.
Кто на ней изображен? Ответ
кажется на первый взгляд оче-
видным — святая Троица. Это под-
тверждает и надпись наверху ико-
ны: «О(те)ць и Синь и с(вя)ты(й)
Духъ». Но вот неожиданная деталь:
над спинкой трона и над голубем
надпись: «1С ХС». Над центральной
фигурой младенца буквы не простав-
лены — то, что это Христос, и так
очевидно.
Что же хотел сказать новгородский
мастер? Чтобы ответить на этот воп-
рос, придется обратиться к неко-
торым историческим фактам и богос-
ловским тонкостям.
Именно в то время, когда писалась
икона, в Новгороде и Пскове
распространилась ересь стригольни-
ков (название ереси, видимо, от
особого обряда «пострига» в секту).
Ставившая под сомнение главные
устои православного вероучения и
церковной организации, она стала
угрожать прочности и единству новго-
родского политического строя. Эта
ересь была отголоском мощных дви-
жений на христианском Западе против
церковной ортодоксии. Как и их пред-
шественники, стригольники противо-
поставляли Ветхий и Новый заветы
ИКОН
и отрицали учение о Боге как о
Троице.
Энергичной массовой проповеди
стригольников необходимо было про-
тивопоставить наглядный, а главное
убедительный образ святой Троицы,—
задача не из легких. И не только
потому, что малейшее противоречие
с текстом священного писания немед-
ленно вызвало бы критику начитанных
и острых на язык еретиков, а прежде
всего потому, что, согласно священно-
му писанию. Бога нельзя видеть и тем
более изобразить.
Первую заповедь ветхозаветного
Моисея, суть которой состояла в за-
прете изображать невидимого Бога,
никто не отменял. «Бога не видел ни-
кто никогда»,— утверждает Еванге-
лие от Иоанна (Ин. 1, 18) Иустин
Философ, живший в начале 11 века
в Эфесе и лично знавший учеников
Иоанна Богослова, писал: «Священное
Писание говорит, что Бог являлся
Аврааму, Моисею и другим ветхоза-
ветным праведникам Но это не был
Бог Отец. Бог Отец всегда пребывал
выше небес, никогда никому не являл-
ся и ни с кем прямо не беседовал».
В XIV веке византийский богослов
Григорий Палама учил, что природа
или сущность Бога непостижима, не-
именуема, несозерцаема ни для чело-
века, ни для ангела, «ни в этом веке,
ни в будущем». После долгих спо-
ров учение Паламы было утвержде-
но Константинопольскими соборами.
Русская церковь в отличие от Рим-
ско-католической разделяла учение
Паламы.
При всем том христианская церковь
еще на Седьмом вселенском соборе
VIII века утвердила иконопочитание
в качестве догмата: изображать мож-
но то, что можно видеть,— Христос,
Богородица, святые в силу своей
человеческой природы созерцаемы,
а потому изобразимы. Можно видеть
также и сотворенных Богом ангелов,
хотя для созерцания их «тонких» тел
необходимо и зрение достаточно
«утонченное».
В ходе споров вокруг учения Па-
ламы было установлено, что хотя
в своем существе Бог неизобразим,
могут быть видимы, а потому изобра-
жаемы на иконах, божественные
энергии. Согласно этому учению, бо-
жественная природа, непостижимая
сама по себе для сотворенных су-
ществ, «изливается вовне», «окрест
Божества». В качестве энергии, или
эманации, божественная природа ста-
новится постижимой, именуемой, со-
зерцаемой, изобразимой.
Спор шел прежде всего и о характе-
ре света, явленного Христом на горе
61
Фавор трем ученикам: «И преобра-
зился пред ними: и просияло лице
Его, как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет. И вот,
явились им Моисей и Илия, с Ним
беседующие» (Мф. 17, 2—3). Пала-
мисты утверждали, что тело Иисуса
Христа было на Фаворе пронизано
светом или энергией «нетварной»,
божественной природы. Противники
же их считали, что это было естествен-
ное, «тварное» свечение человеческо-
го тела (современные мистики
называют такое свечение «аурой»). На
иконе Преображения, написанной
около 1403 года в Москве учениками
Феофана Г река, Фаворский свет изоб-
ражен в духе паламизма — сугубо
символически, чем подчеркнут его
сверхъестественный характер.
Учение Паламы давало визан-
тийским, а вслед за ними русским
богословам «теоретическое» основа-
ние для решения вопроса, что можно
и что нельзя изображать на иконах.
А вопрос этот иногда вставал очень
остро.
В книге пророка Даниила, пожалуй,
наиболее читаемой в те времена
книге Ветхого завета, описывается
следующее видение. «Видел я,., что
поставлены были престолы, и воссел
Ветхий днями; одеяние на Нем было
бело, как снег, и волосы главы Его —
как чистая волна; престол Его — как
пламя огня, колеса Его — пылающий
огонь» (Дан. 7, 9).
Согласно византийской иконогра-
фии, Ветхий Днями понимался как
Иисус Христос. Такое толкование ви-
дения Даниила было перенесено на
русскую почву. Так, на фреске в
церкви Спаса Преображения на Нере-
дице (Новгород, 1378 г.) надписания
«1С ХС» и «Ветхий денми» отнесены
к одному и тому же изображению.
Иногда эти именования замещались
на Господь Саваоф или Адонаи. В соз-
нании древних иконописцев все эти
имена относились к Иисусу Христу, но
ни в коем случае не к Богу Отцу.
Продолжим чтение книги пророка
Даниила:
«Видел я в ночных видениях, вот,
с облаками небесными шел как бы
Сын человеческий, дошел до Ветхого
днями и подведен был к Нему» (Дан.
7, 13). Сюжет видения Даниила по-
лностью повторяется, дополненный
рядом подробностей, в Откровении
Иоанна Богослова — только Ветхого
днями Иоанн именует «Сидящим на
престоле» и «Богом» (Откр. 4, 9, 8)
а Сына человеческого — «Агнцем»
(Откр. 5, 6).
Известно, что книга пророка Да-
ниила и Откровение Иоанна Богослова
служили для древнерусских мыслите-
лей основными ориентирами в по-
строении картины мировой истории.
Вопрос того или иного отождествле-
ния действующих в этих книгах лиц
имел первостепенную важность, в
особенности когда эти лица изобра-
жались на иконах для всеобщего
созерцания и поклонения Отож-
дествление Ветхого днями, которого,
как утверждает священное писание,
видел пророк Даниил, с Богом От-
цом — противоречило бы церковно-
му учению о том, что Бога видеть
нельзя. То, что Сын человеческий или
Агнец означает Иисуса Христа, не
могло вызывать никаких сомнений. Но
если Сын человеческий (или Агнец)
подходит к Ветхому днями (или Сидя-
щему на престоле) — значит, Иисус
Христос подходит... к самому себе?
Такой вопрос неизбежно возникал
перед любым богословом или иконо-
писцем, размышляющим на эту тему.
Путь к разгадке возникавшего пара-
докса лежал в учении церкви о двух
природах Иисуса Христа — бо-
жественной и человеческой. Учение
это сформировалось в борьбе с так
называемыми «христологическими»
ересями, сотрясавшими христианский
мир в V—VI) веках Сначала возника-
ло монофизитство, утверждавшее,
что природа Христа одна, божествен-
ная, лишь образ его — человеческий.
Потом возникло монофелитство —
«пусть природы две, но зато воля
одна, божественная». Когда церковь
приняла догмат о двух волях, возник
моноэнергизм — «пусть природы
две и воли две, зато действие одно,
опять же божественное». После при-
нятия догмата о двух действиях во
Христе — божественном и человечес-
ком, неизбежно должен был возник-
нуть следующий вопрос — имеет
Христос одно тело или два, бо-
жественное и человеческое?
В XII веке в Византийской церкви
развернулась богословская полемика
вокруг утверждения, что в таинстве
евхаристии (причастия) Иисус Христос
как человек приносит в жертву свое
человеческое тело самому себе как
Богу. В конечном итоге это положение
было принято Константинопольским
собором 1142 года. Явная парадок-
сальность подобного рода утвержде-
ний характерна для православной
догматики вообще. Как правило,
формулировки, более приемлемые
с точки зрения логики и рассудка,
брались на вооружение сторонниками
оппозиционных, еретических учений.
Чтобы отмежеваться от них, церковь
была вынуждена высказывать пара-
доксальные утверждения, совмещать
несовместимые понятия. Для богос-
лова тех времен не было ничего
невозможного в представлении о том,
что Иисус Христос как человек подхо-
дит к самому себе как Богу.
Учение Григория Паламы о бо-
жественных энергиях позволяло
мыслить о «божественном теле»
Иисуса Христа, как бы «сотканном» из
этих энергий,— следовательно, его
можно было видеть и изображать.
«Рождение» и «воплощение» связыва-
лось исключительно со вторым лицом
святой Троицы, Богом Сыном, тогда
как Бог Отец именовался «нерож-
денным»,— следовательно, мысль о
каком-либо «воплощении» Отца, хотя
бы и в божественных энергиях, была
недопустимой.
Богом Ветхого завета оказывался,
согласно византийской иконографии,
именно Иисус Христос, а не Бог Отец.
В своем божественном, несотворен-
ном теле Иисус Христос мог «являть-
ся», например, Адаму — так ин-
терпретирует анонимный русский
иконописец текст Библии про Господа
Бога, «ходящего в раю во время
прохлады дня» (Быт. 3, 8). На иконе
северного письма, хранящейся в му-
зее Андрея Рублева, Бог, бесе-
дующий в райском саду с Адамом
и Евой, изображен с крестчатым
нимбом и подписанием имени «1С
ХС». На западной мозаике XII века
(Монреаль) в качестве творца изобра-
жен также Иисус Христос, а не Бог
Отец, как на более поздних католи-
ческих иконах.
Отождествляя Иисуса Христа по
божеству с Ветхим днями, Саваофом,
Адонаи, древние иконописцы неиз-
бежно должны были сделать вывод,
что он же подразумевается в описа-
нии явления Моисею на горе Синай
под именем Яхве (Иегова), а также
в явлении пророку Илии, взятому
живым на небо (4 Цар. 2, 1—14).
Поэтому именно Моисей и Илия
беседуют на Фаворе с человеком
Христом, пронизанным энергиями его
божественного тела, пребывающего
на духовном небе: они опознают в
нем открывшегося им когда-то Бога,
ставшего теперь также и человеком.
На тождественность Яхве и Сидящего
на престоле указывало также имено-
вание «Тот, который есть и был,
и грядет» (Откр. 1,8) — более точный
перевод древнееврейского имени Ях-
ве, чем греческое («Сущий»), обычно
надписываемое на крестчатом нимбе
Иисуса Христа.
Священная история приобретала
в глазах верующего стройную «хрис-
тологическую» структуру: Ветхий за-
вет — откровение Христа как Бога,
Новый завет — Христа как человека;
Апокалипсис — откровение Христа в
единстве двух его природ «Я есмь
Алфа и Омега, начало и конец,
первый и последний» (Откр. 22, 13),
«корень и потомок Давида» (Откр. 22,
16). Если Иисус Христос и есть Яхве,
ставший также и человеком, тогда
становились понятными изречения
Христа, приводившие иудеев в
ярость: «прежде нежели был Авраам,
Я есмь» (Ин. 8, 58). Не меньшее
негодование вызывала мысль о лич-
ностном тождестве Яхве с Иисусом
у манихеев1 2 и богомилов'. Но если
1 Манихейство — возникло в I II в. в Персии.
Основателем считают проповедника Мани
(216—277). В основе манихейства лежит кон-
цепция извечного противоборства двух начал:
света и тьмы, добра и зла, духа и материи.
2 Богомильство (по имени священника Богоми-
62
иудеи усматривали в этом ко-
щунственное «унижение» Яхве, то
манихеи, напротив, видели в таком
отождествлении попытку «оклеве-
тать» Иисуса, так как Яхве в их
представлении был всего лишь «ев-
рейским богом», жестоким и злым.
Манихейские представления были в
какой-то мере унаследованы стри-
гольниками.
Вопрос о единстве Ветхого и Нового
заветов тесно переплетается с темой
единства лиц св. Троицы. Один из
ведущих «учителей церкви» Григорий
Богослов (IV в.) развивал мысль
о Ветхом завете как эпохе «преиму-
щественного ведения» Бога Отца;
Новый завет связывался с Богом
Сыном, Апокалипсис — с Духом
Святым. Учение Григория не было
поддержано вселенскими соборами:
вопреки его настояниям, в Никео-
Цареградском крещальном символе
веры Дух Святой даже не назван
ла) __ антифеодальное движение в форме
религиозной ереси. Возникло в Болгарии
в X в. Богомилы отвергали церковные таинства
и обряды, выступали против почитания креста
и мощей. Большинство богомилов участвовало
в крестьянских восстаниях.
Богом. Тем не менее, имя Григория
Богослова придавало этому учению
большую авторитетность. Вероятно,
его учение было одной из причин
появления тенденции рассматривать
Ветхого днями как Бога Отца. Такая
тенденция укрепилась на западе в
особенности после официального от-
вержения паламизма Римско-католи-
ческой церковью, а оттуда проникла
на Русь.
Вернемся к нашей новгородской
иконе. Итак, кто на ней изображен?
Византийский прообраз иконы
«Отечество» имел более ясное богос-
ловское содержание. Надписание
«Отец, Сын и св. Дух» отсутствовало,
а над старцем надписывалось обычно
«Ветхий Денми». Это следовало пони-
мать так, что Иисус Христос был
изображен на иконе в двух природах,
в двух телах — божественном и чело-
веческом. Голубь служил образом
божественных энергий: символ голу-
бя взят из евангельского описания
крещения Иисуса Иоанном Предтечей
(Мф. 3, 13—17); Дух Святой, как
третье лицо святой Троицы, разумеет-
ся, считался неизобразимым, так же
как и Бог Отец.
Изменение надписаний в новго-
родском варианте иконы приводит
к полной перестановке богословских
акцентов. В связи с этим икона не
случайно дополнена фигурой апосто-
ла в правом углу. В. Н. Лазарев
предполагает, что апостол изображен
по желанию богатого заказчика, но-
сившего имя Филипп или Фома. Но
иконописец мог пойти навстречу тако-
му желанию лишь в том случае, если
оно соответствовало общему богос-
ловскому замыслу иконы. Апостол
Филипп изображен здесь потому, что
именно в его уста евангелие
вкладывает настойчивую просьбу:
«Господи, покажи нам Отца, и доволь/
но для нас» (Ин. 14,/8>. На эту просьбу
Иисус отвечает: ^Столько времени
Я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня видел Отца»
(Ин. 14, 9). Развивая эту мысль,
послание апостола Павла утверждает
о Христе: «В Нем обитает вся полнота
Божества телесно» (Кол. 2, 9).
Надписанием «Отец, Сын и св. Дух»
новгородский мастер превращает
икону в аллегорическое изображение
св. Троицы. Аллегория позволяет
изображать и то, чего видеть нельзя,
что служит условной иллюстрацией
абстрактных идей, в данном случае —
иллюстрацией приведенных новоза-
ветных текстов. Над писанием «1С ХС»
иконописец пытается сохранить вер-
ность византийскому канону; он как
бы предупреждает верующего: здесь
только иносказание, здесь нет
попытки реально изобразить Бога
Отца или Духа Святого, полнота
божества явлена зримо только в Иису-
се Христе.
Аллегории такого рода были не-
свойственны восточному православию
с его своеобразным «реализмом», но
зато очень характерны для католичес-
кой церкви. Автор новгородской
иконы «Отечество», несомненно,
испытал определенное влияние като-
лицизма. Это вполне правдоподобно
ввиду развитых связей торгового Нов-
города с католической Европой На-
метившийся в новгородской иконе
отрыв от восточно-православной тра-
диции был первым шагом на пути
дальнейшей трансформации этого
иконографического типа, начинав-
шейся на Западе и постепенно внед-
рявшейся также и в православных
церквах, включая церковь Русскую.
Надо сказать, что это внедрение
встретило на Руси длительное и упор-
ное сопротивление, особенно со сто-
роны московской иконописной
школы.
Сопротивление оказалось безус-
пешным: сложные абстракции
рассмотренной новгородской иконы
оказались переходной ступенью к
«превращению» Ветхого днями в Бога
Отца. В более поздних русских иконах
типа «Отечество» надписание «1С ХС»
исчезает, не оставляя у верующих
сомнения, что старец на троне озна-
63
чет Бога Отца. Это подготовило почву
для внедрения другого варианта
иконы «Отечество», так называемой
«Троицы новозаветной», где Сын
изображен сидящим «одесную» Отца,
а Дух Святой в виде голубя помещен
между ними.
Впервые изображение «Троица Но-
возаветная» появляется в Москве
в 1499 году. Его вышила на пелене,
подаренной Троице-Сергиевому мо-
настырю, София Палеолог — вторая
жена Ивана III из рода последних
византийских императоров, воспитан-
ная в Италии в католическом духе.
Характерно, что София поместила на
пелене сразу два изображения —
«Троицу новозаветную» и Троицу
рублевского типа, получившую назва-
ние «ветхозаветной». Те же два
изображения повторены на пеле-
не, подаренной Троице-Сергиевому
монастырю в 1525 году Соломонией
Сабуровой, женой Василия III. С се-
редины XVI века главный вход Тро-
ице-Сергиевого монастыря украша-
ли помещенные рядом два изображе-
ния Троицы — католического и руб-
левского типов. Четырехчастная икона
XVI века, писавшаяся для Благове-
щенского собора Московского Крем-
ля под личным наблюдением митро-
полита Макария, содержала в своем
составе сюжет «Троицы новозавет-
ной». Сохранилось свидетельство об
энергичном протесте дьяка И. М. Вис-
коватого против этого сюжета. Вли-
ятельный и образованный деятель
своей эпохи, Висковатый обвинял мит-
рополита Макария в следовании
«суемудрому латинскому преданию»
и в том, что тот допустил «невидимое
изображать видимым». Однако
выступления Висковатого не имели
успеха и были осуждены на соборе
1554 года. Московский собор 1667 го-
да запретил изображение Бога Отца,
но запрещение не возымело силы.
Католический тип иконы «Троица»
продолжал распространяться.
Судьба этого иконографического
сюжета в XVI веке, как и в Новгороде
на полтора века раньше, оказалась
вплетенной в духовно-политическую
борьбу своего времени. Противники
изображения Бога Отца были связаны
с церковной партией «нестяжателен»,
продолжавших традицию Григория
Паламы и Сергия Радонежского. По-
скольку «нестяжатели» выступали
против применения жестких на-
сильственных мер для искоренения
ересей, их ложно обвинили в духов-
ной близости к еретикам, которых они
спасали от преследований. Разгром
«нестяжателен» положил конец эпохе
творческого взлета самобытной
русской духовности, погрузил русское
православие в состояние застоя и кон-
серватизма и в то же время зависи-
мости от западных влияний. Это
подготовило почву для национальной
трагедии старообрядческого раскола.
Вот какие исторические реалии стояли
за богословской полемикой по поводу
иконографических сюжетов.
Скажем несколько слов и по поводу
реалий психологических.
Католические богословы отвергали
учение Паламы из опасения рециди-
вов языческого многобожия. Однако
они добились обратного эффекта:
начав изображать Бога Отца, они тем
самым реанимировали языческое
представление о Зевсе-Юпитере, по-
стижимом и созерцаемом. Больше
того — так как представление о Боге
теряло атрибуты трансцендентности
и непостижимости (а значит и неис-
черпаемости), верующий человек той
эпохи лишался надежды на перспекти-
ву вечного возрастания — расти ему
становилось просто некуда. Вечная
жизнь, которую обещала церковь
после воскресения из мертвых, пре-
вращалась в католическом богосло-
вии в стоическое созерцание бо-
жественной сущности, понимавшейся
при этом абстрактно-интеллектуаль-
но. Именно таким настроением про-
никнута, например, знаменитая «Бо-
жественная комедия» Данте. Дух
оптимизма, светлой надежды на луч-
шую жизнь, столь характерный для
раннехристианского сознания, посте-
пенно уступал место стремлению
избежать вечного наказания. В ре-
зультате жизнь верующих стала
насыщаться эмоциями страха, проник-
лась экзальтацией, аскетизмом и за-
конничеством. Это нашло отражение
и в способе изображения божества:
новгородская икона «Отечество»
была одним из первых предвестий
грядущего духовного кризиса. Не
случайно лик «Бога Отца» этой иконы
суров и грозен; лишен человеческой
теплоты лик Христа, мрачны лики
серафимов, замерли в каменной не-
подвижности фигуры аскетов-
столпников.
Потребности внутреннего духовно-
го развития, конкретная задача
борьбы с антитринитарной ересью
требовали от русских иконописцев
углубления представлений о святой
Троице, совершенствования способов
ее зримого отображения. Путь, на
который вступил автор новгородской
иконы «Отечество», не был
единственным. Принципиально иное
решение той же духовно-историчес-
кой задачи предложил в своей иконе
святой Троицы Андрей Рублев. Но это
уже — новая тема.
Литература
Лазарев В Н. Об одной новго-
родской иконе и ереси антитринита-
риев. В кн.: «Культура Древней Руси».
М., 1966, с. 101—112
Ретковская Л. С. О появлении и
развитии композиции «Отечество» в
русском искусстве XIV—XVI
вв. В сб. «Древнерусское искусство
XV —нач. XVI вв.» М., 1963, с 235—
262
CONTENTS
Perestroika in Action: • “For the
Sake of a Real Freedom” (p.2) • Letters
to the Editor” (p.3)
Our Interviews: • “The Everlasting
Quest for Truth” — an interview with
D. Granin, popular Soviet writer (p.4)
• “The Adyg of Australia”, by L. Nemi-
ra (p.14).
Reflections: • “Identity Restored", by
G. Nazloyan (p.6) •“Healing of Souls”,
by A Lipkina and M. Yaroschevsky —
psychologists (D.Sc.) discuss G. Nazlo-
yan’s srticle (p.H) • “A Man and His
Double", by L. Abramyan — the ethnolo-
gist traces the doppelganger phenome-
,m through the world history (p.12)
• “Tibetan Medicine: History and Pro-
spects”, by N Abayev and N. Bolsokho-
yeva (p. 33) • “Invitation to Danse
Macabre”, by A. Lijv—an Estonian
psychologist tackles moral and psycholo-
gical aspects of thanatolog . (p.42)
Philosophical Readings: • “Spiritual
Cosmology", by E. Ilyenkov (p. 16) •
“Philosopher of the Space Flights Age”,
by V Sevastyanov — a commentary to
E. Ilyenkov’s essay (p.19).
Horizons of Science: • “Can Humans
Live Without Brain?” (p.20) • “Some
Can Do Without It”, by S. Blinkov
(p.21)
Life and Manners: • “Kung Fu:
Truth Behind the Myth”, by V. Malya-
vin (p.22) • “The Smile of the “Immor-
tal” Old Man”, by I. Lisevich — an arti-
cle about the mummified corpse of a
Vietnamese Buddhist monk who died 300
years ago during meditation (p.55).
Opinions: • “A Mysterious Syndrome,
or What Ails the People of Chernobyl”,
by A. Kharash (p.26) • “Swans” of the
Great Steppe”, by A. Nikitin — an article
presenting a new concept of the Po-
lovets’ impact on Russian history (p.44).
Arts and Literature: • “Mummy's
Syberian", by M. Chulaki (p.37) •
“Death in Ecstasy”, by N. Marsh (p.56).
Around the World: • “To Avert Ar-
mageddon”, by G. Thomas and M. Mor-
gan-Witts (p.49).
Encyclopedia of “Science and Reli-
gion”: • “Buddha’s Tooth. Vajra”, by
N. Zhukovskaya (p.60).
Monuments of the Past: • “Mysteries
of Old Icons", by A. Lebeuev (p.61).
Сдано в набор 17.06.88.
Подписано к печати 04.08.88
А 10965.
60Х90/в.
Офсетная печать.
8 усл. печ. л.
9,75 кр. отт.
11,94 уч.-изд. л.
Тираж 480 000 экз.
Зак. 03229.
Ордена Ленина
комбинат печати
издательства
«Радянська Украина»
252047, Киев-47,
проспект Победы, 50.
Текст набран
с применением
отечественного
фотонаборного
комплекса «Каскад».
ОТЕЧЕСТВО. Ярославская школа, икона
2-й половины XVII в. (Музей Корина).
ПРЕОБРАЖЕНИЕ, икона школы Фео-
фана Грека, ок. 1403 г.
ОТЕЧЕСТВО. Новгород, икона конца
XIV в
Так выглядел ансамбль Иосифо-Волоколамского монастыря
до разрушении в 1941 году.
ЧУДО-ГОРОДОК
В 1479 году игумен
Иосиф по ссоре с Ива-
ном III оставил насто-
ятельство в Пафнутьево-
Боровском монастыре. Он
поселился во владениях
царского брата-оппози-
ционера Бориса и начал
«с нуля». В лесах под Во-
локоламском основал
обитель во имя Успения
Богородицы Трудился в
поте лица, подавая при-
мер братии. Пока не по-
строили мельницу сам
молол зерно ручными
жерновами.
Вскоре Успенская пу-
стынь обретя славу свя-
того места, стала богатеть.
В игумене проявился ра-
чительнейший хозяин. Он
буквально требовал у зна-
ти богатых вкладов (денег,
сел, крестьян) как плату
за помин души не стесня-
ясь тем, что некоторые
прямо называли его «гоа-
бителемт Если верить
письма^ самого Иосифа
и сообщениям его жития,
монастырь при этом не
забывал о благотвори-
тельности каждый день
здесь кормились сотни
пришлых а в голодный
год Иосиф ради спасения
окрестных поселян урезал
питание братии «до ску-
дости», разорил монас-
тырскую казну, влез в
долги. Впрочем, заботой
Москвы затраты вскоре
восполнились сторицей.
Надо Сказать что в ту по-
ру, уже при следующем
поколении правителей
Руси, оасстановка сиг по
отношению к обители
переменилась: волоцкии
князь Федор Борисович
покушался на монастыр-
ские богатства и, чт'йбы
сломить сопротивление
игумена, даже уговорил
новгородского архиепис-
копа отлучить Иосифа от
священства в самый ве-
ликий пост Защита же
пришла от великого князя
Василия Ивановича. Иосиф
стал его сподвижником,
а монастырь — верной
опорой столицы.
Успенская обитель во-
шла в историю под име-
нем Иосифо-Волоколам-
ской а ее основатель как
Иосиф Волоцкии Игумен,
превозносимый и при
жизни спустя чуть более
полувека после с мерти
бь'л канонизирован как
святой. А в конце XVIII
столетия в нижнем эта-
же Успенского собора —
монастырской усыпальни-
це— бь л освящен храм
во имя преподобного
Иосифа (впрочем, здесь
же покоился и прах
смертельного врага игу-
мена — князя Федора Бо-
рисовича).
Иосиф Волоцкии про-
славлен в церковной исто-
рии как борец с ересями.
Эту традицию продолжил
его преемник игумен Да-
чии:., ставший митрополи-
том московским. Стара-
ниями Даниила Ио< ифо-
Волоколамскии мона-
стырь был тюрьмой для
известного церковного
писателя Максима Грека
(ныне канонизированного
святого Русской право-
славной церкви). Тот еле
выжил в камере-келье
Германовой башни Не-
ласковый приют нашли
здесь и другие жертвы
процессов о ересях —
князь-инок Вассиан Па-
трикеев, Матвеи Башкин.
Но не минула та же участь
и митрополита Даниила,
смещенного с митрополии
«по проискам Шуйских >.
Прошло время, и узником
Германовой башни стал
низверженный царь из
Князей Шуйских — Васи-
лии Иванович.
Смутное время разори-
ло обитель, но вскоре по-
шли и новые вклады на
восстановление. По цар-
скому указу были соб-
раны монастырские кре-
стьяне, оказавшиеся в
соседних владениях. Пе-
рестроенный монач -
тырь стал сказочно наряд-
ным — внешность его ме-
нее всего напоминала о
суровых временах и тю-
ремном назначении Сто-
льник князя Дмитрия По-
жарского, воевода Дмит-
рий Трубецкой подарит
обители подворье в тор-
говом центре столицы —
на Ильинке. Монастырь
деожал здесь лавки, сда-
вал эти владения в аренду
Церковь же, стоявшую
на подворье, со воеме-
нем разобрали «по вет-
хости и неслужению» а
иконостас продали. Позже
обитель прикупила на
Ильинке еще одно по-
дворье...
Когда императрица Ели-
завета Петровна собра-
лась путешествовать, Свя-
тейший синод предло-
жил включить в маршрут
славную Иосифо-Волоко-
ламскую обитель. Чтобы
подготовить монастырь к
высочайшему посещению,
туда был назначен опыт-
ный настоятель, выходец
из дворян архимандрит
Пахомии. Он специально
выстроил деревянные хо-
ромы: одни для госуда-
рыни— на 14 покоев,
другие для его высочест-
ва Петра Федоровича —
в 10 покоев, отдельно
для свиты — в 6. Но госу-
дарыня до Волоколам-
ска так и не доехала,
«елизаветинскую дерев-
ню» пришлось разо-
брать.