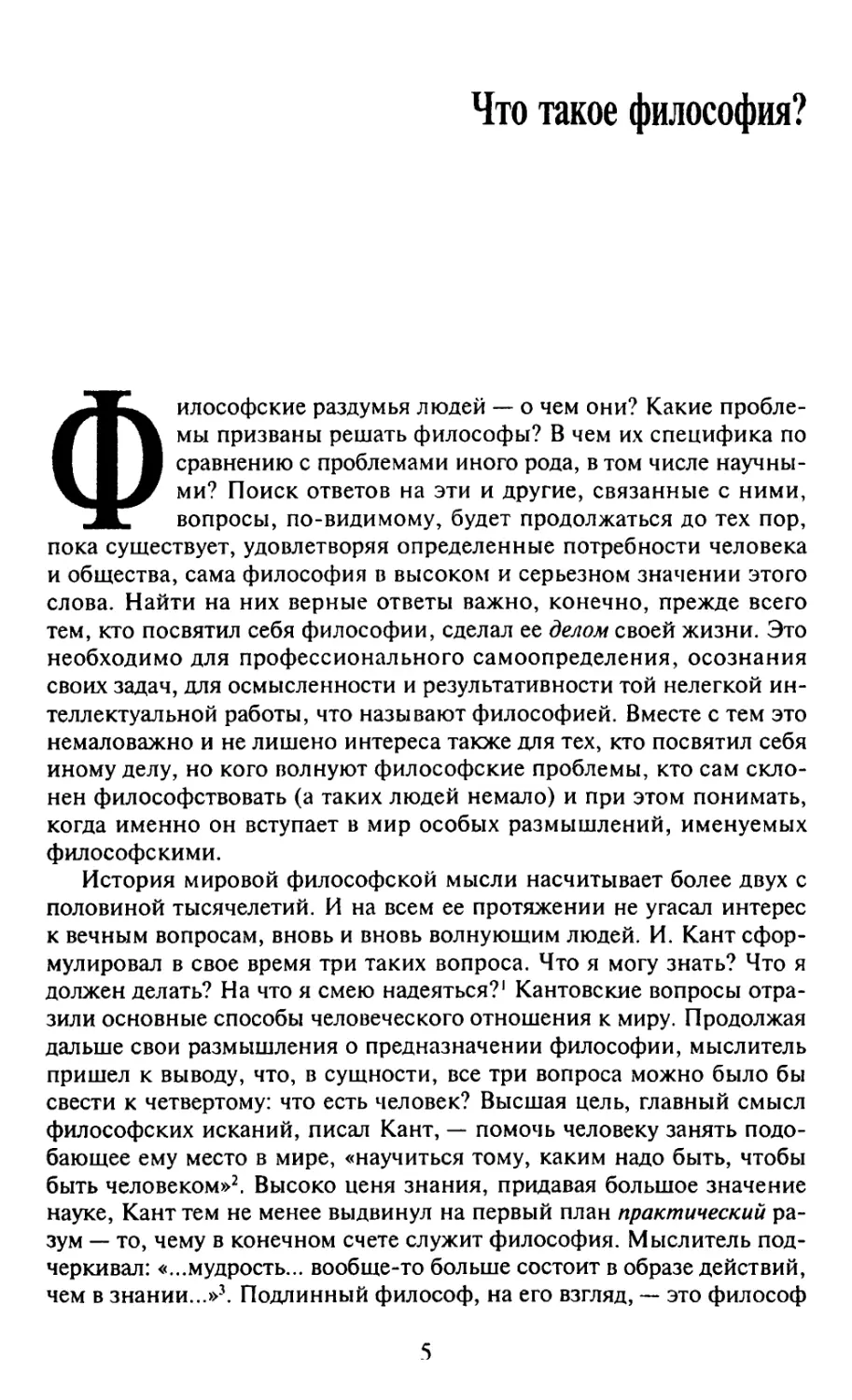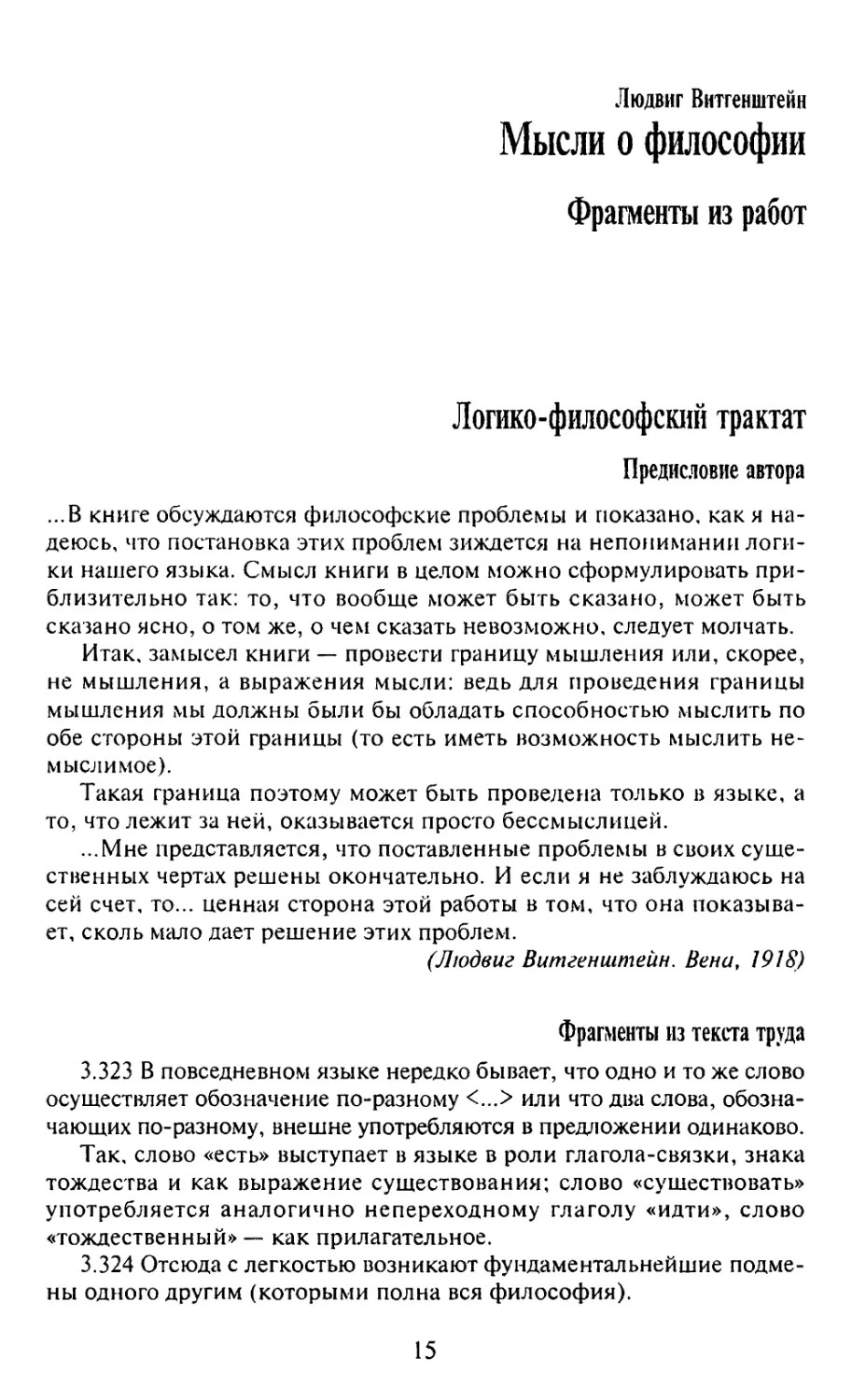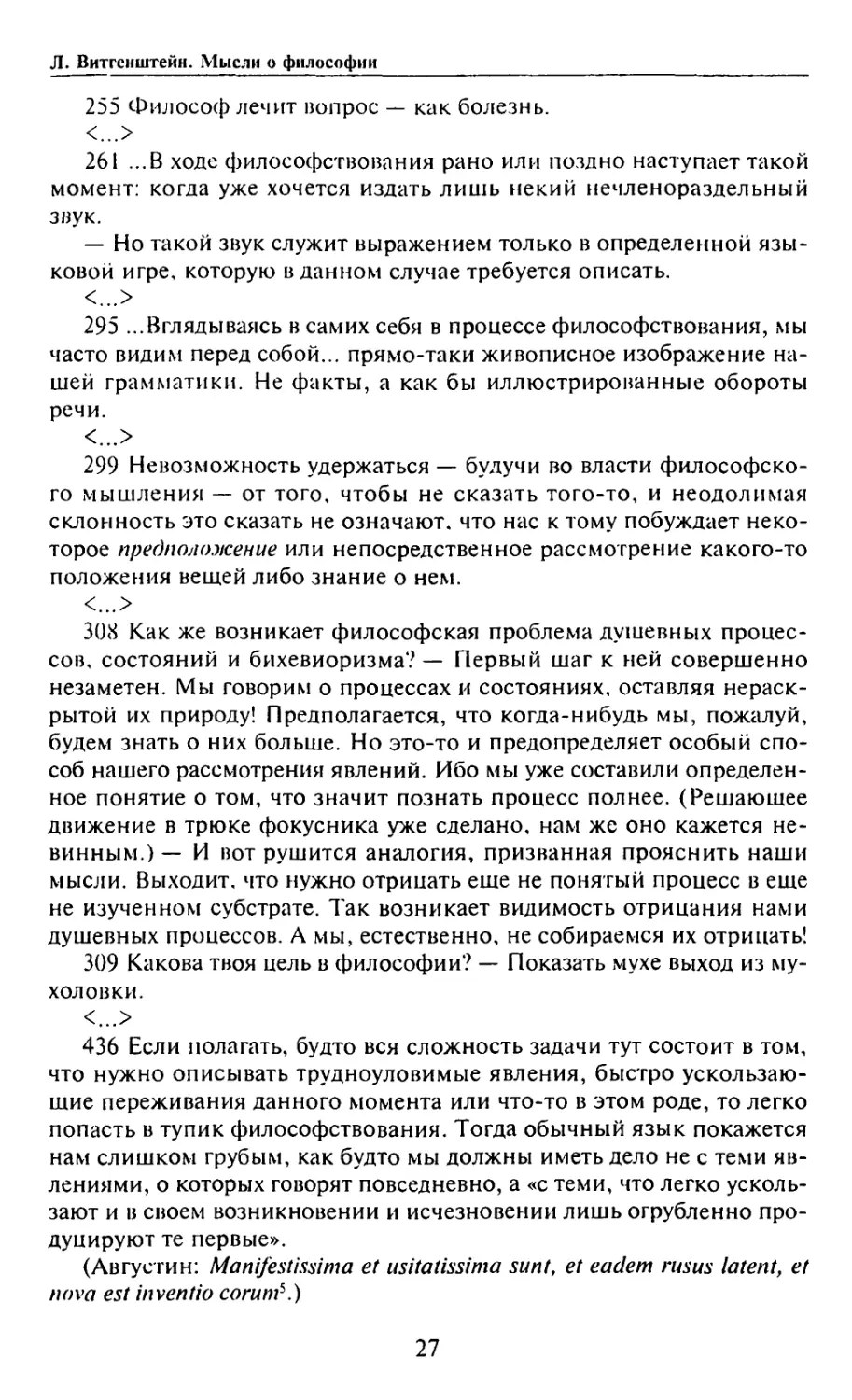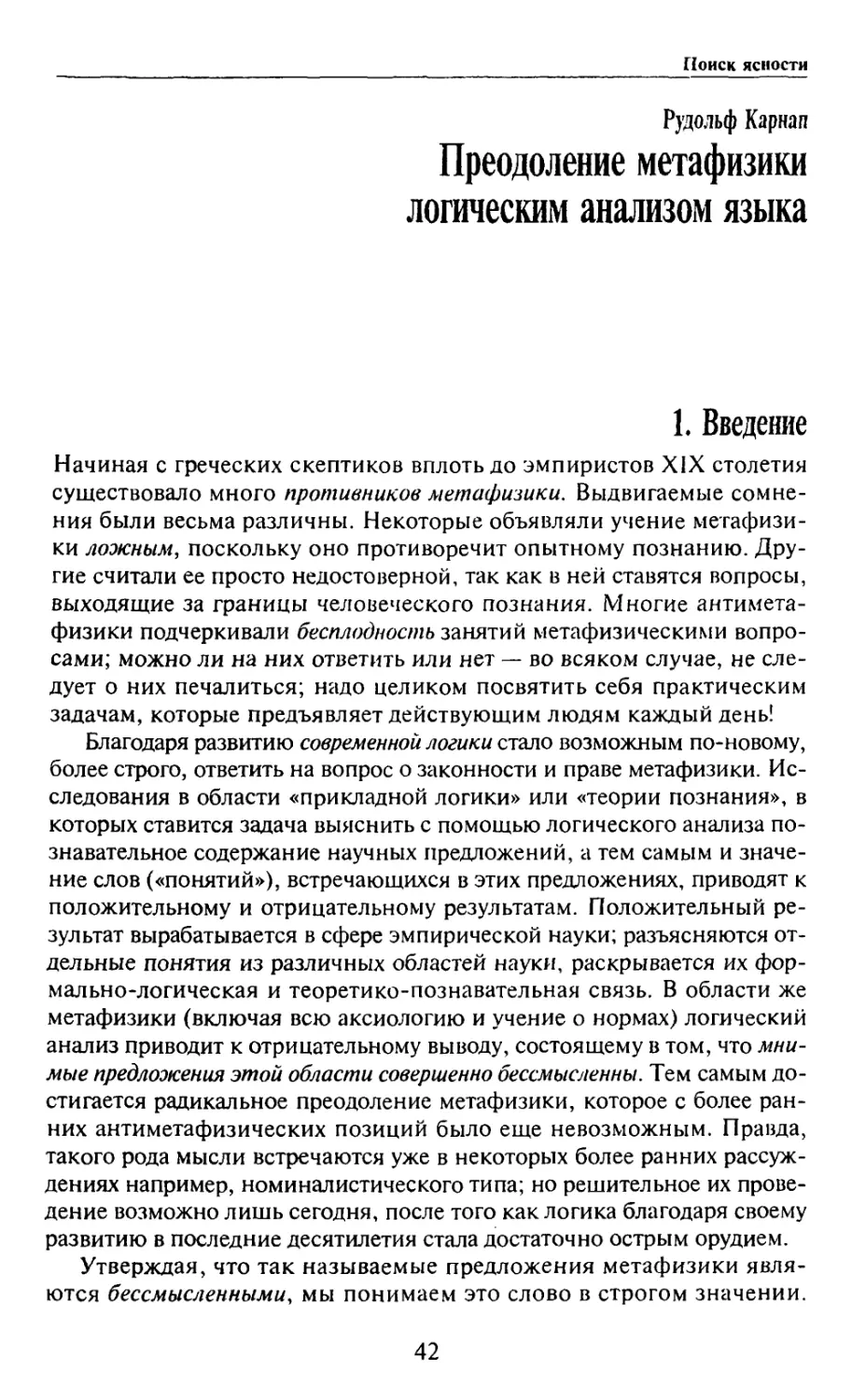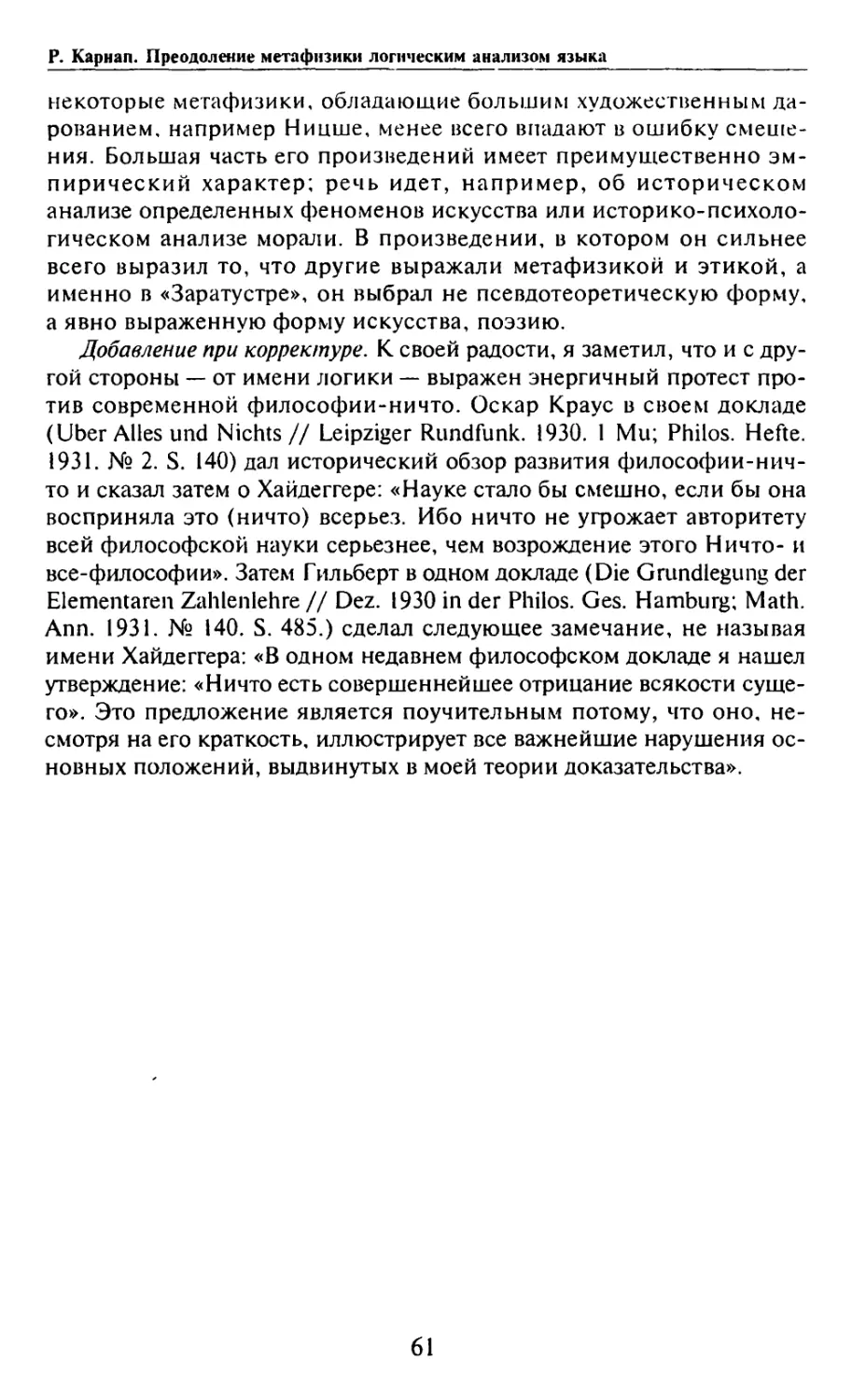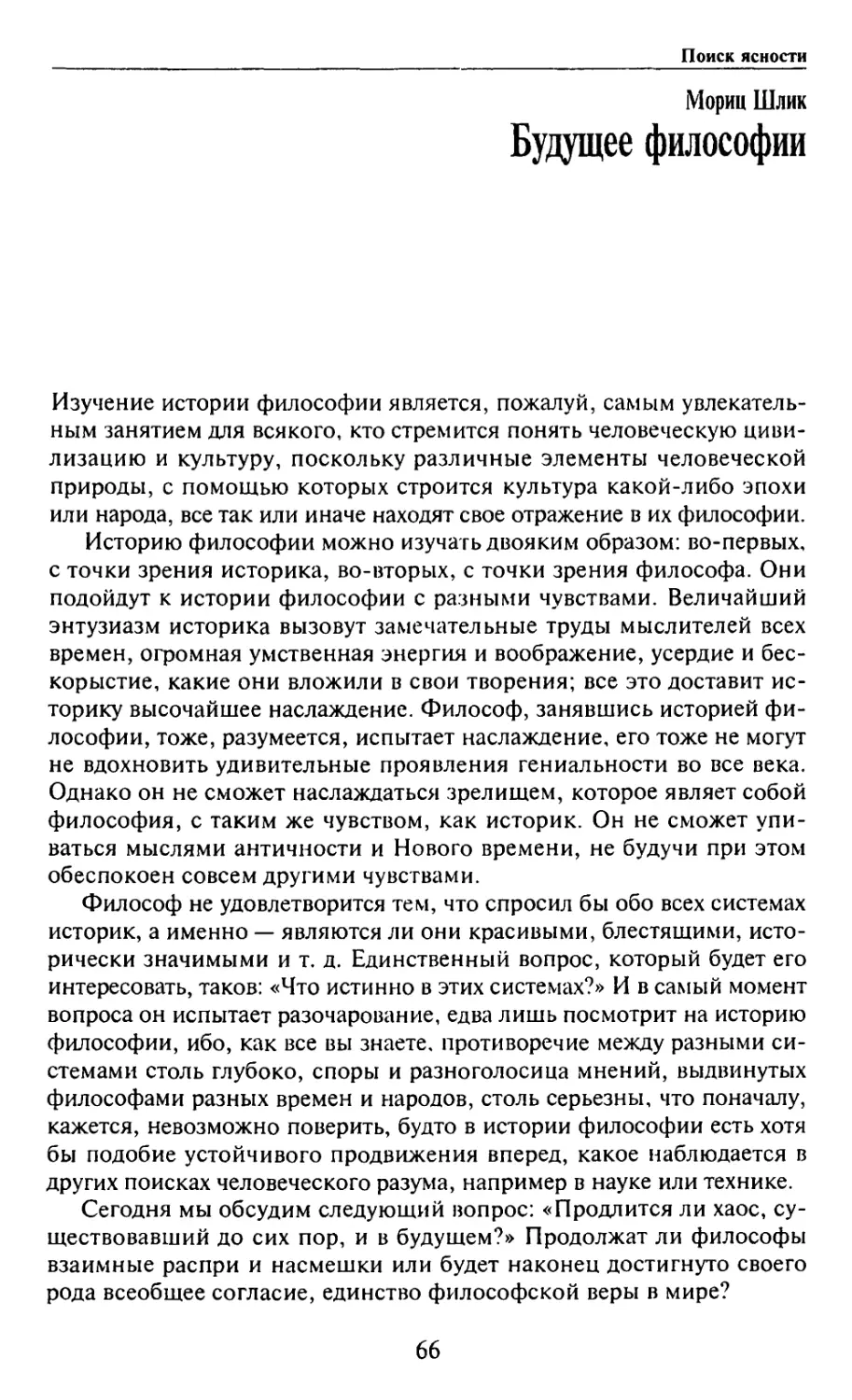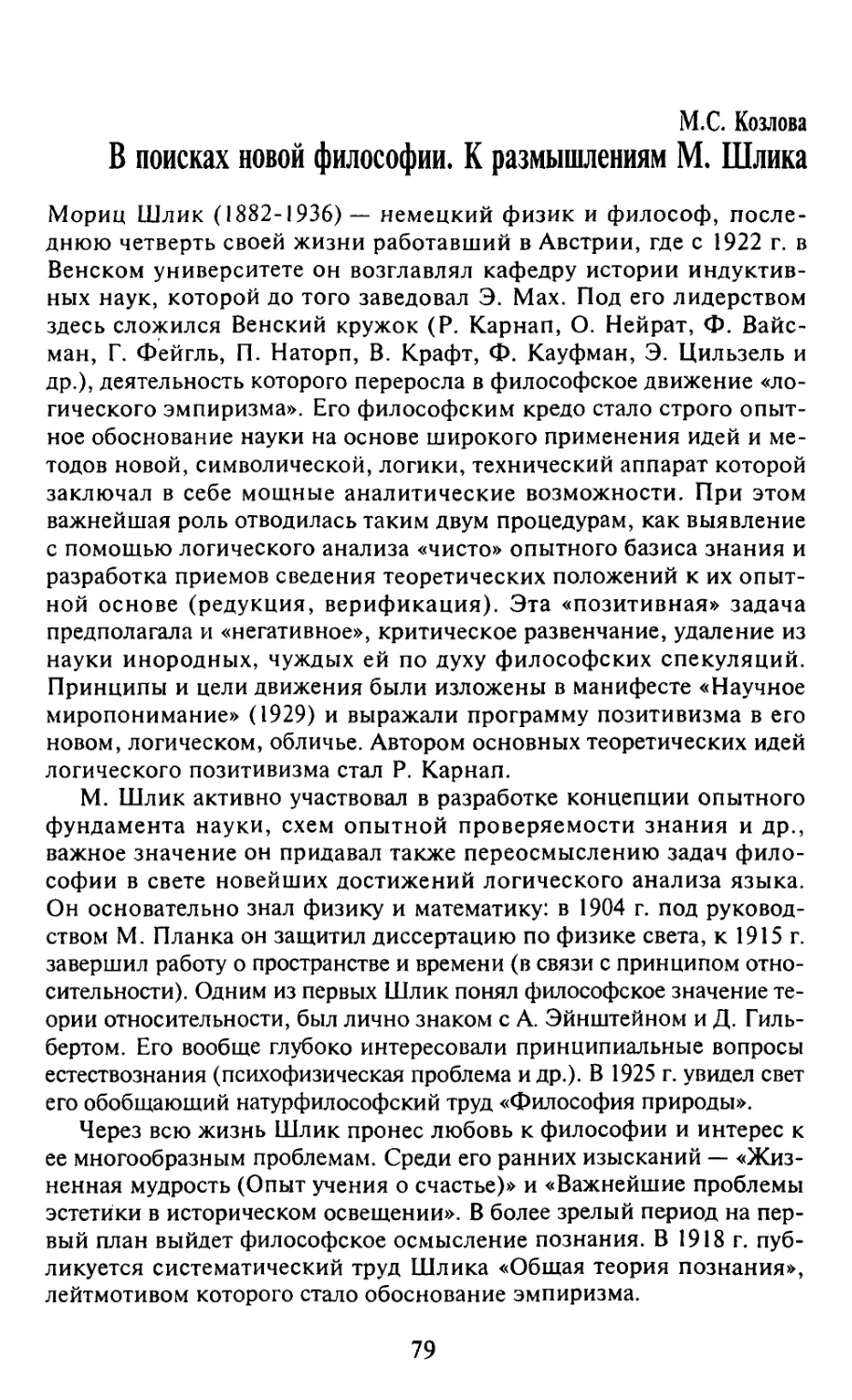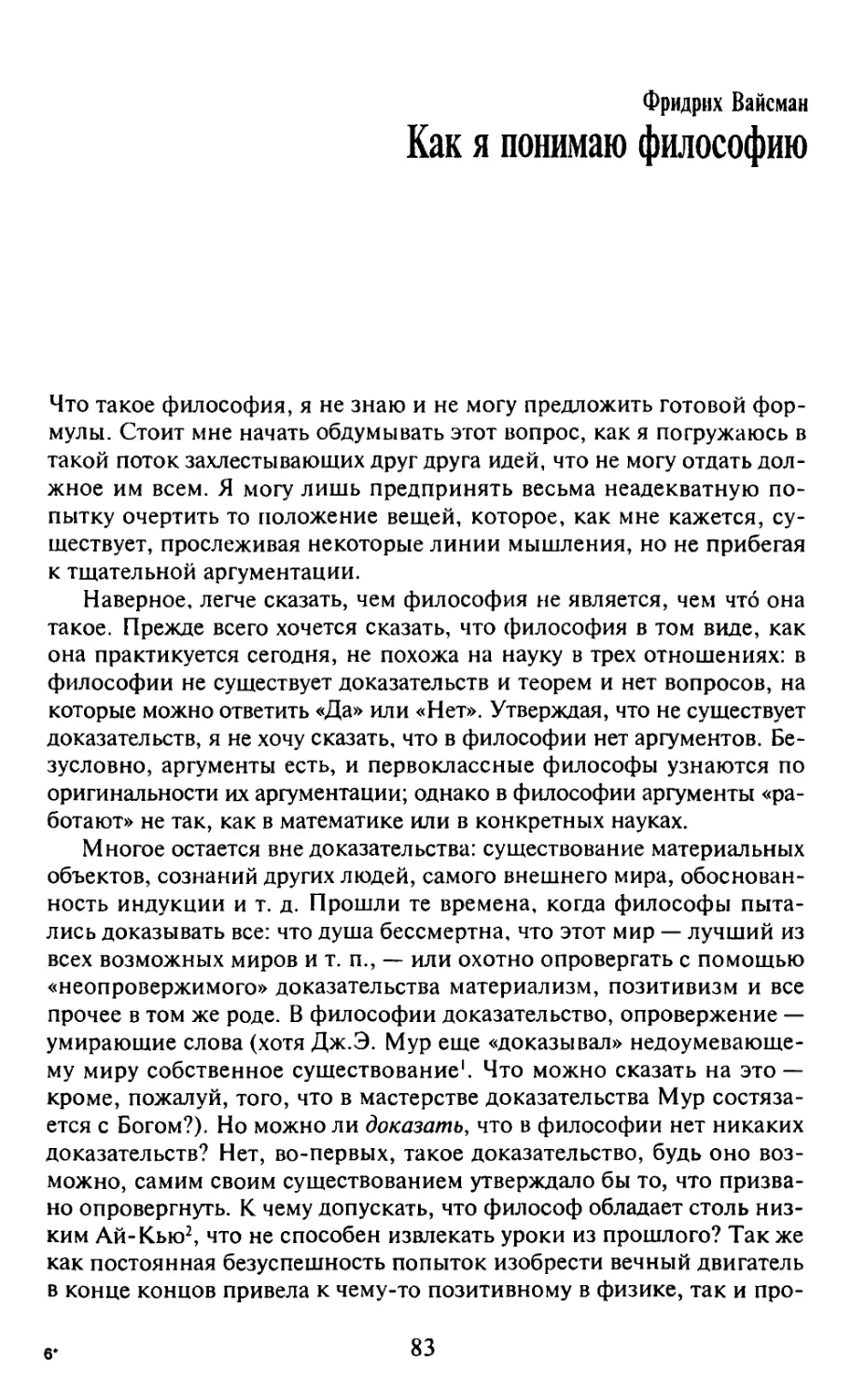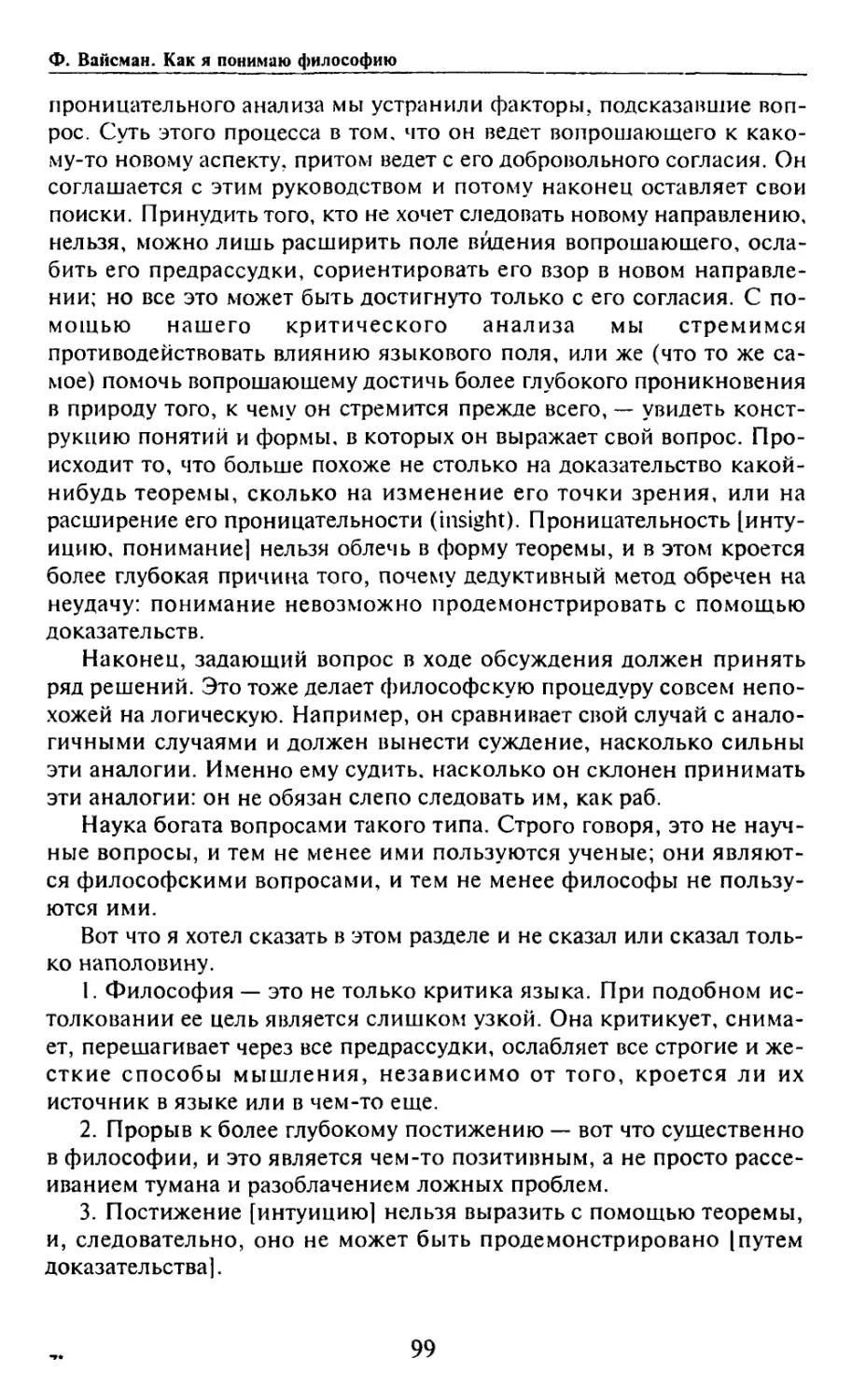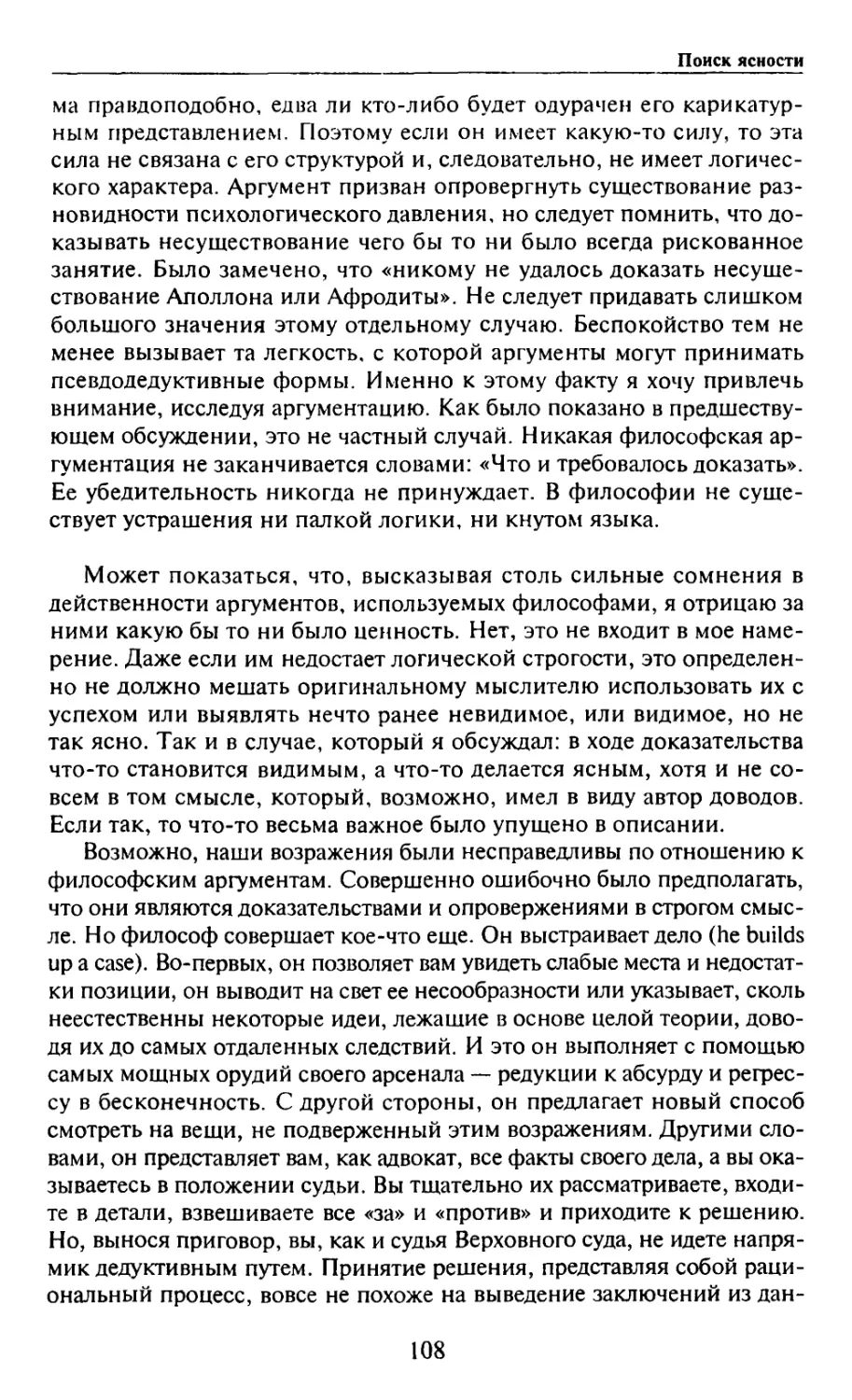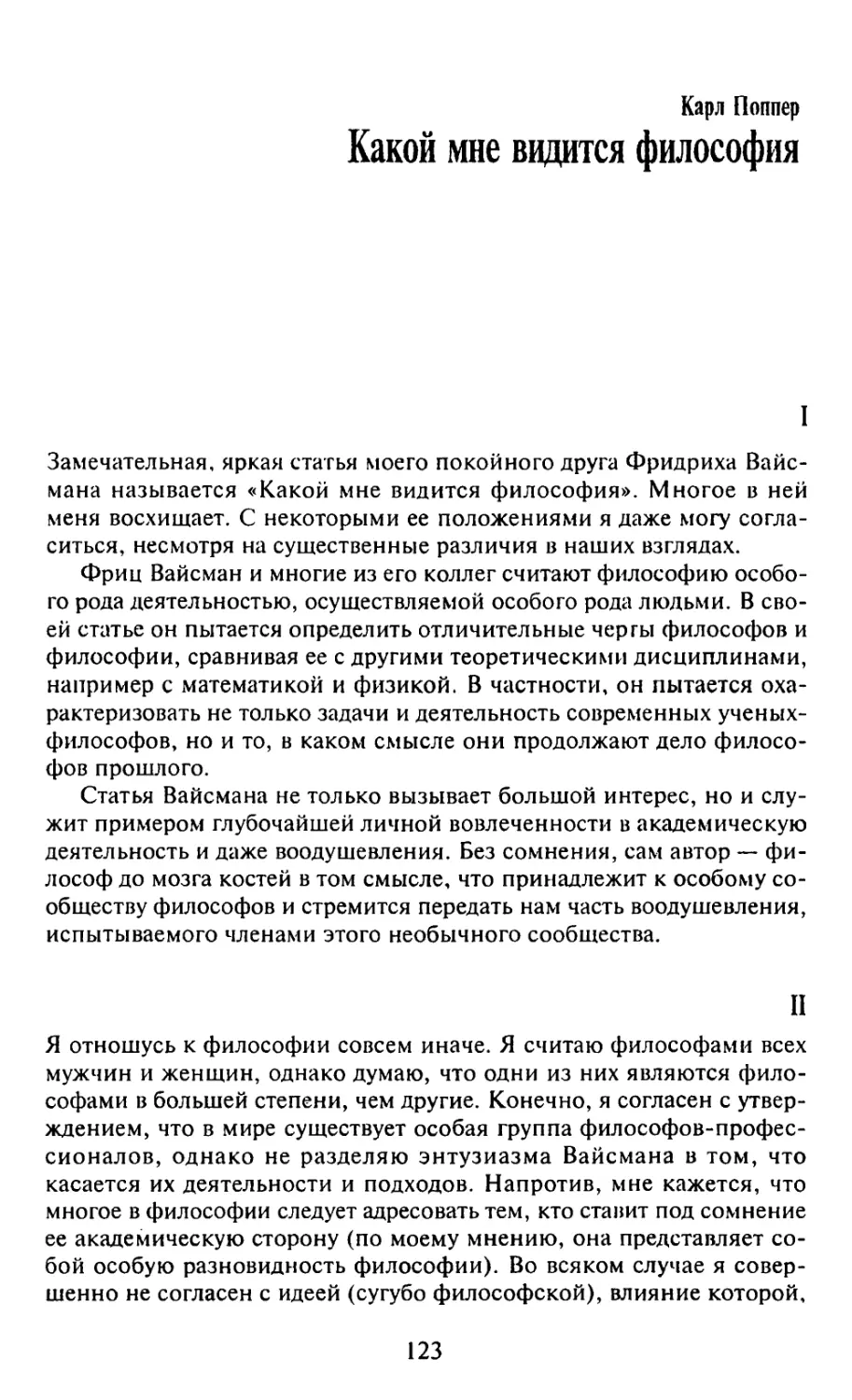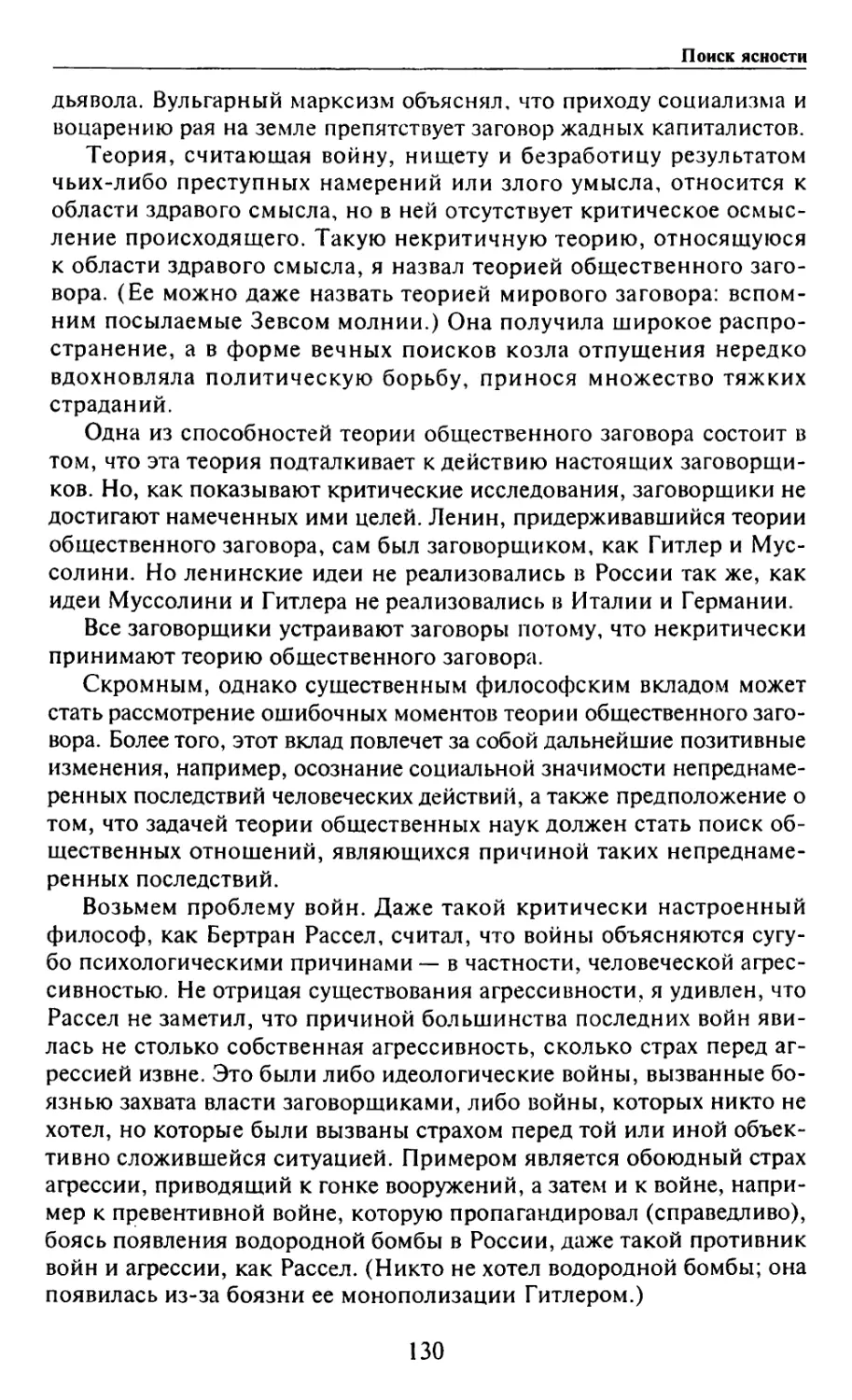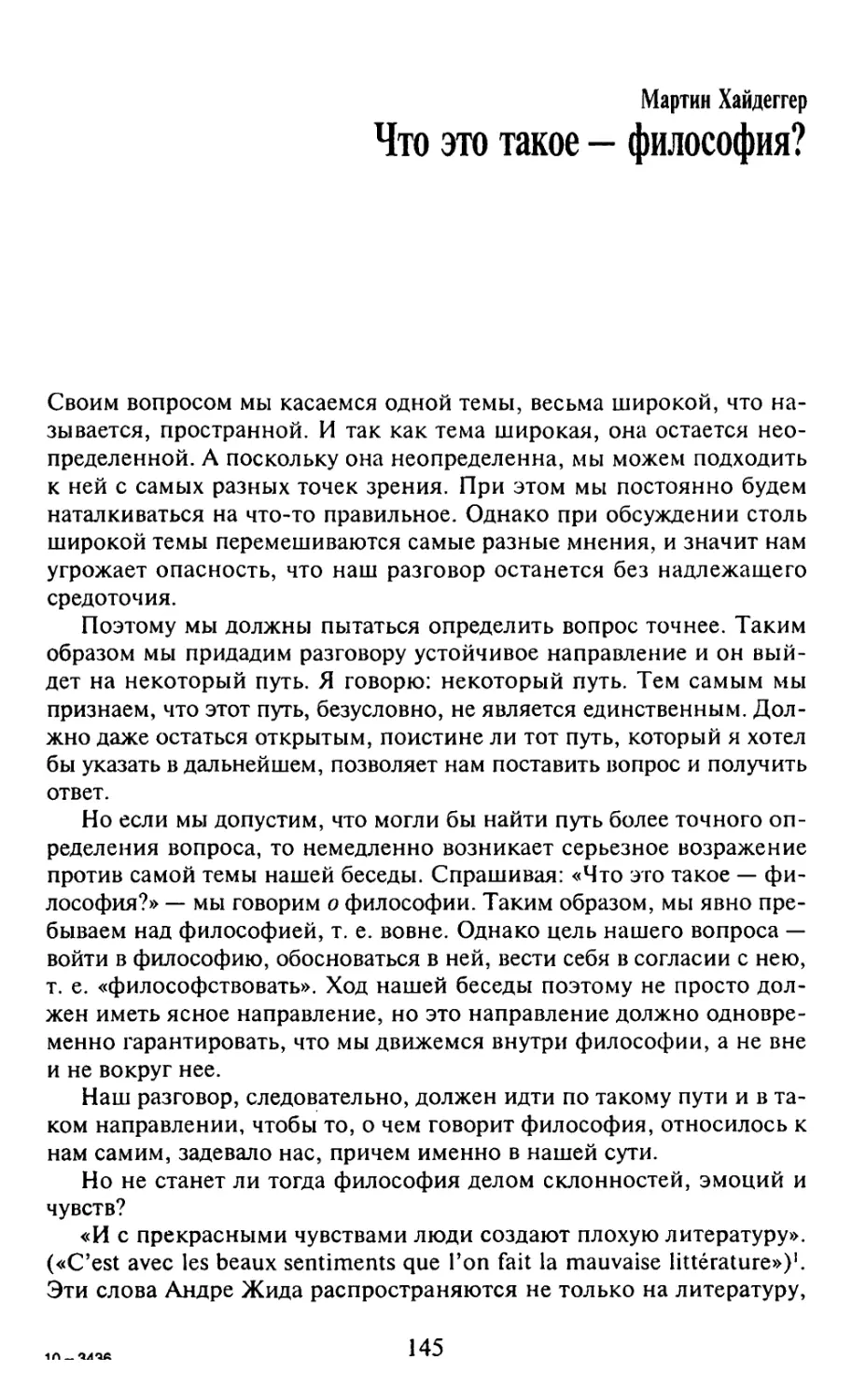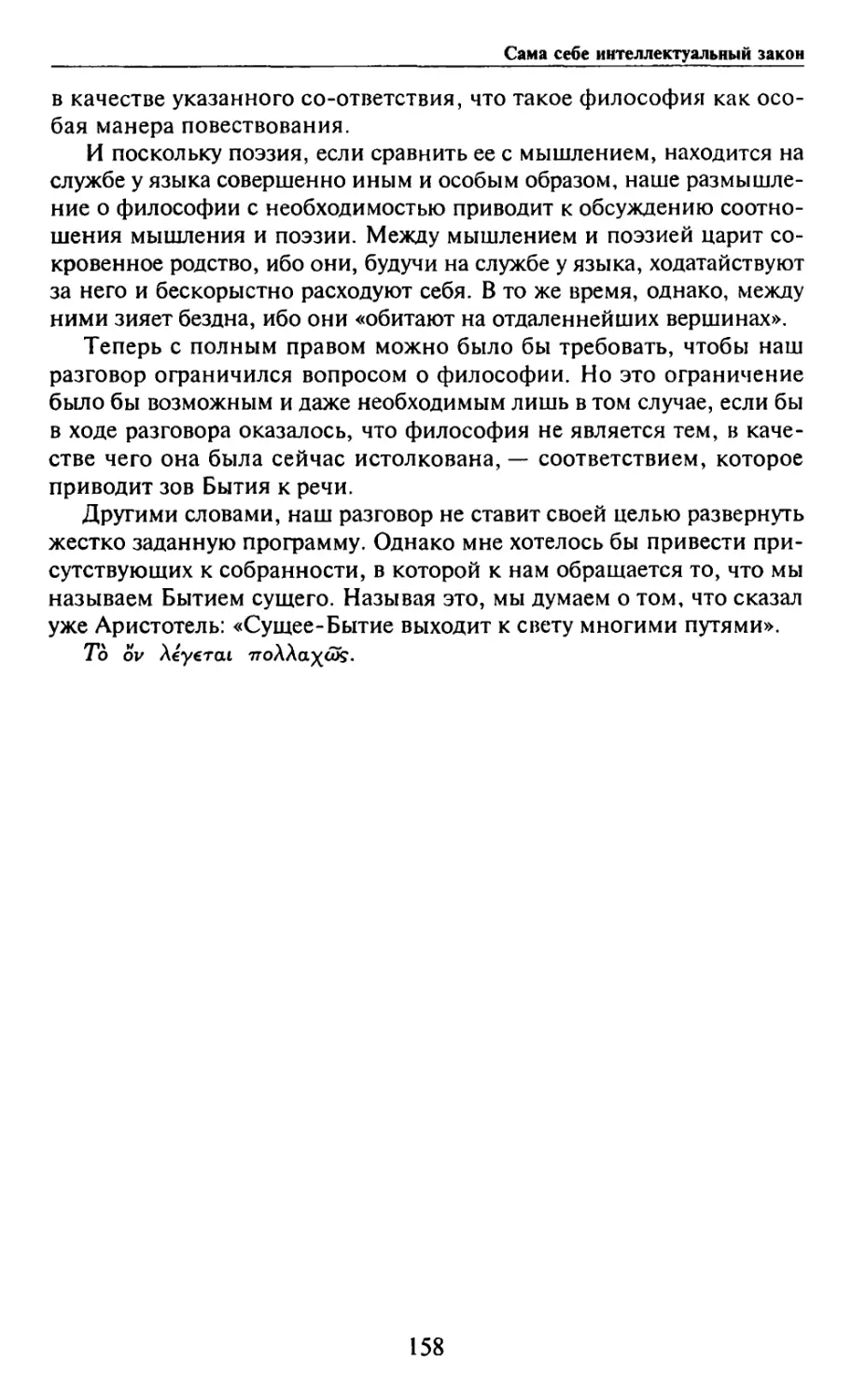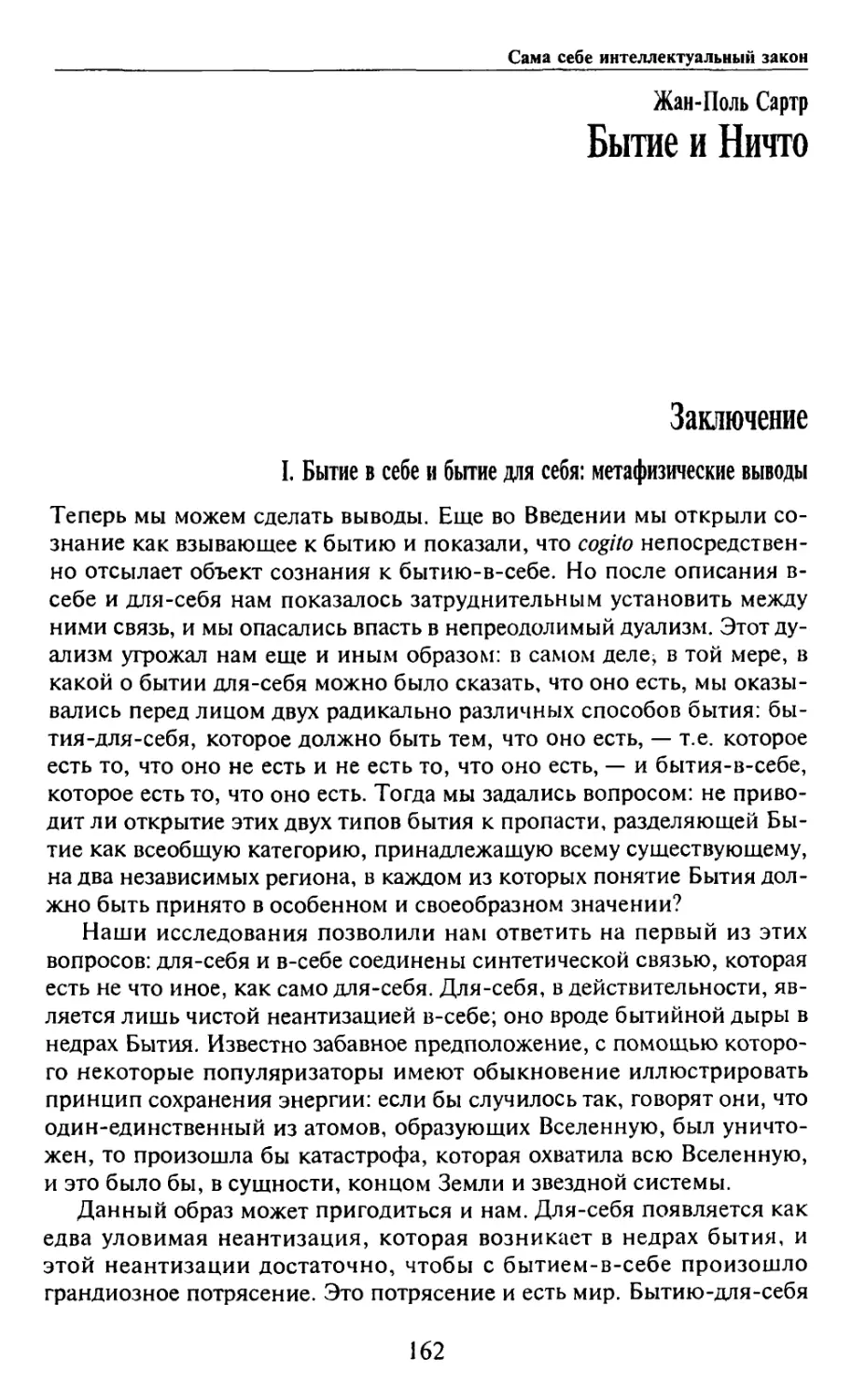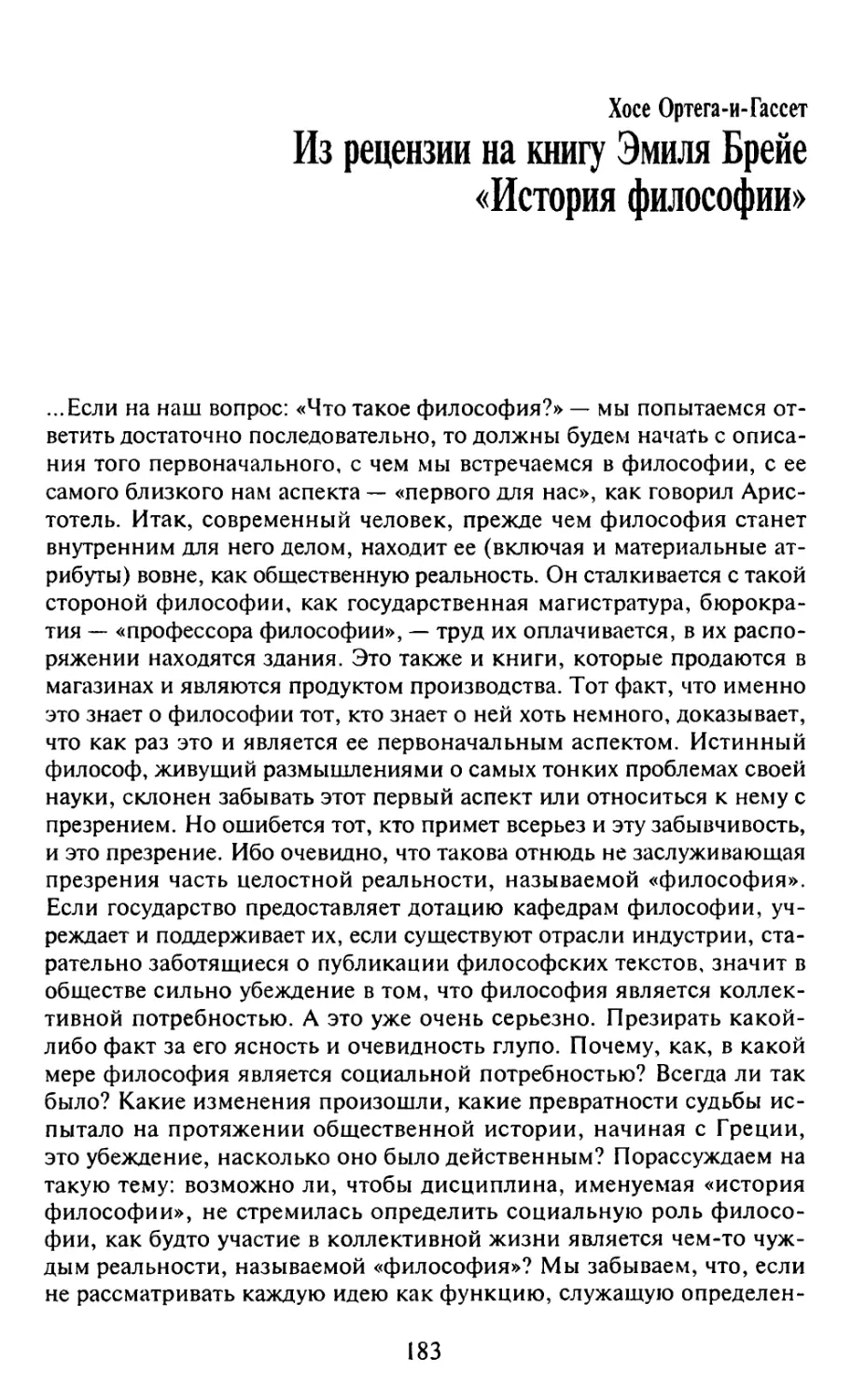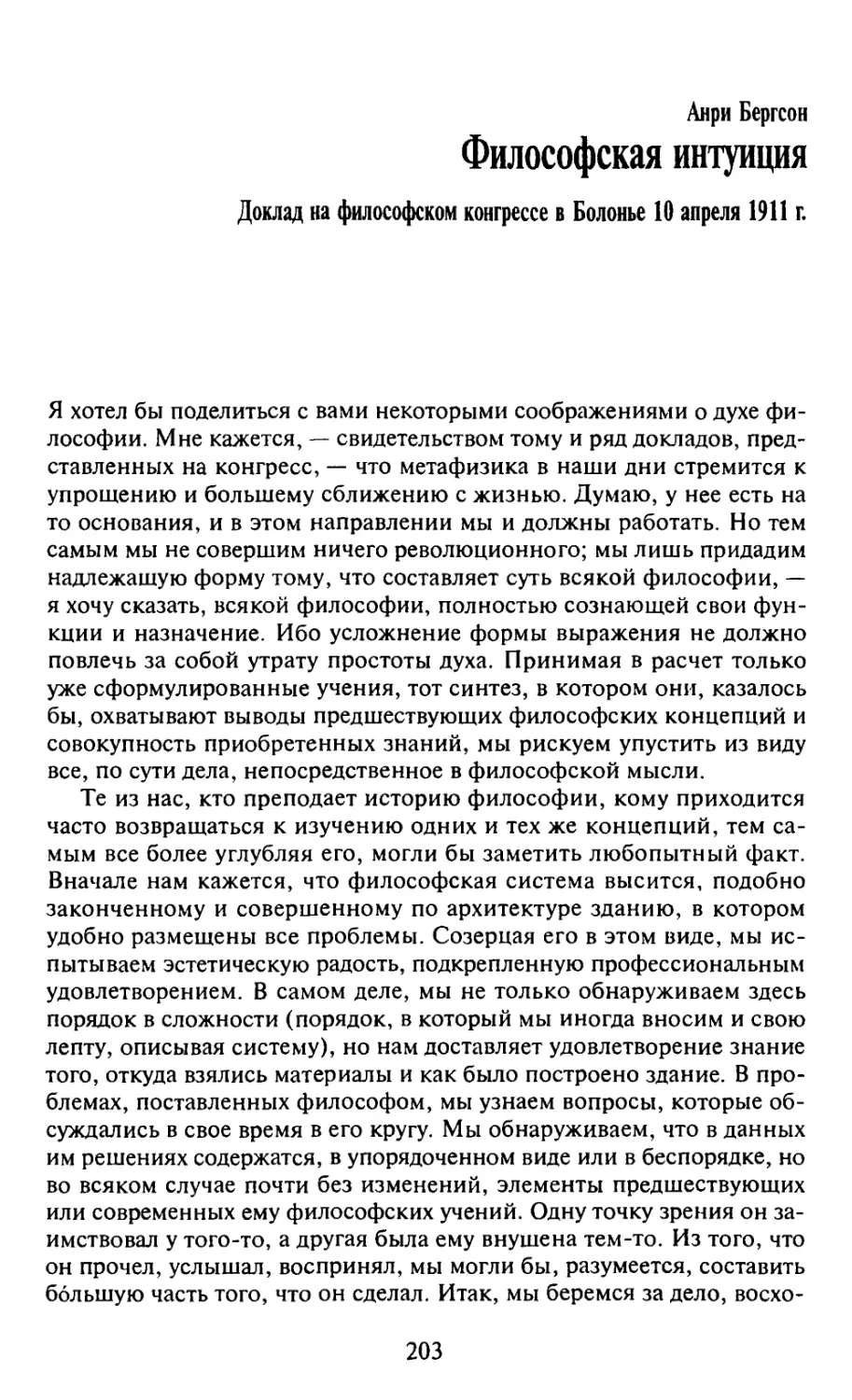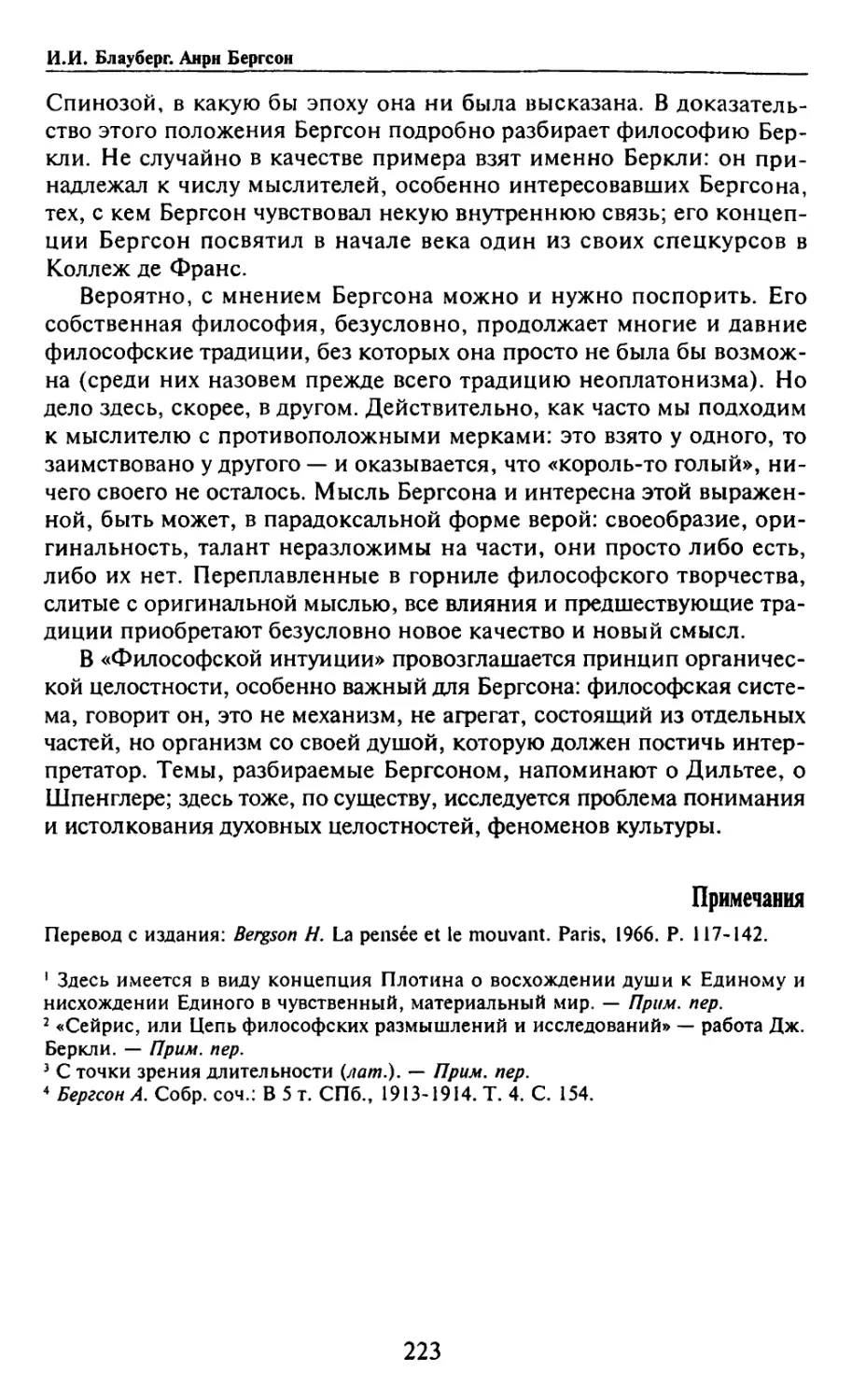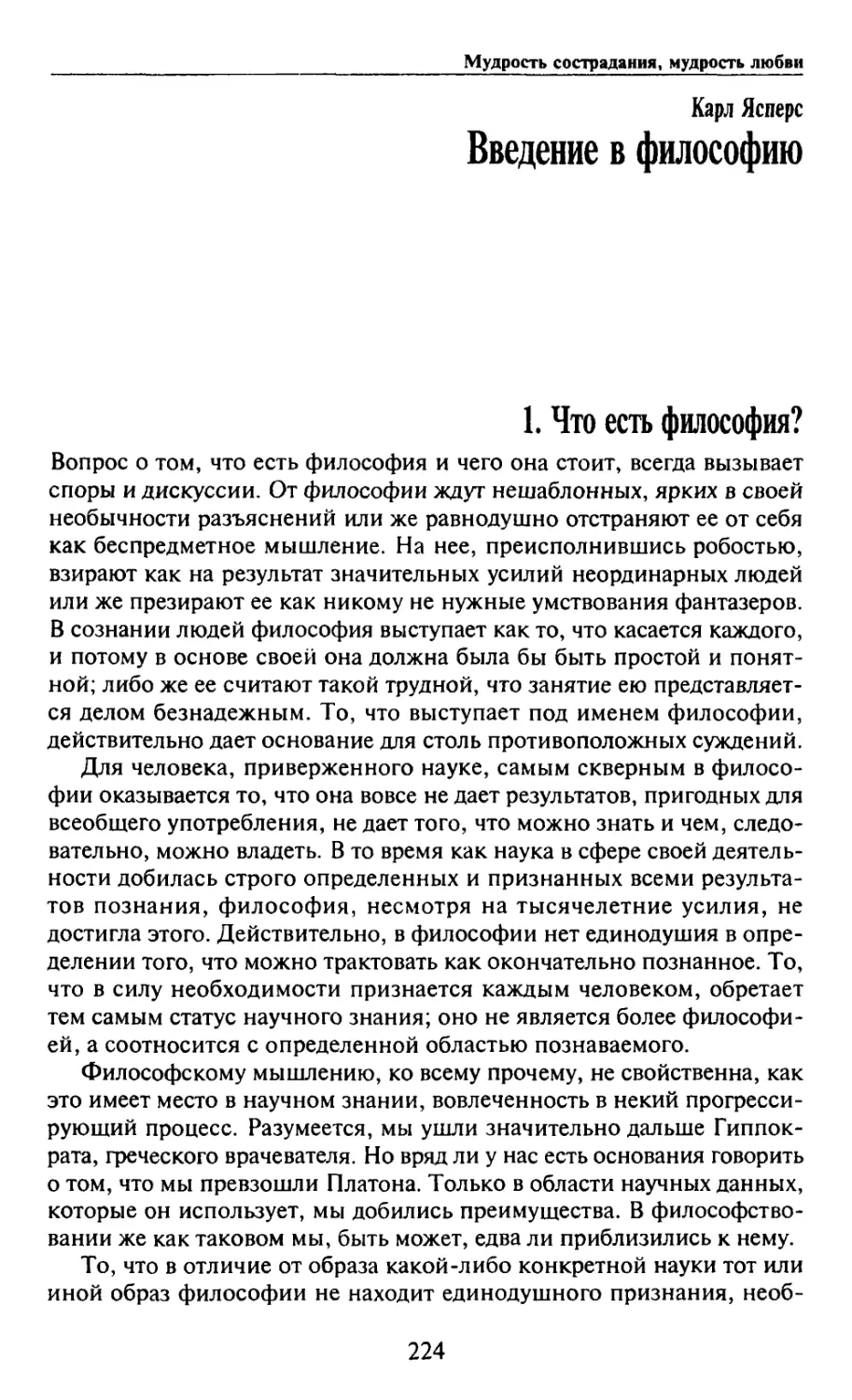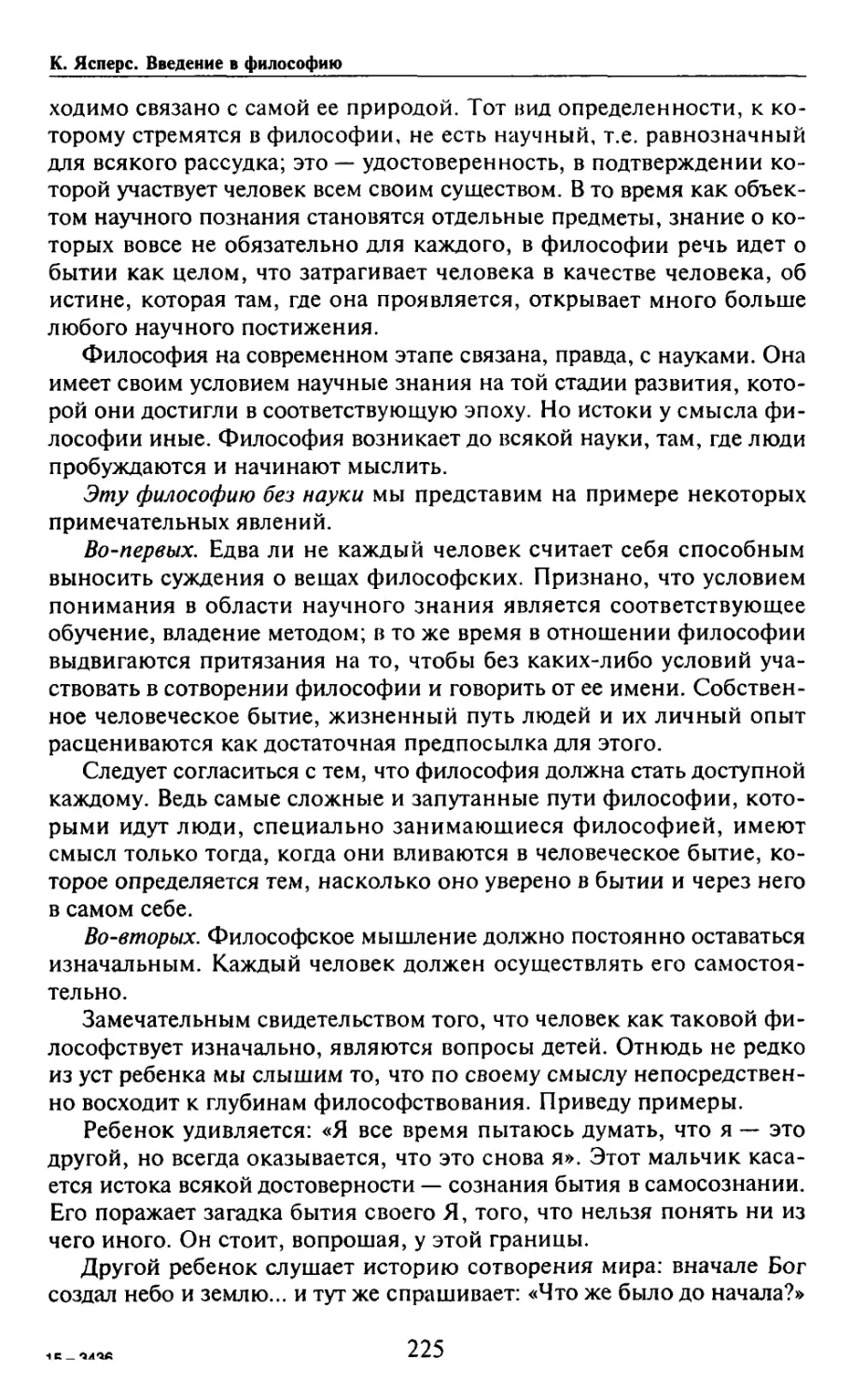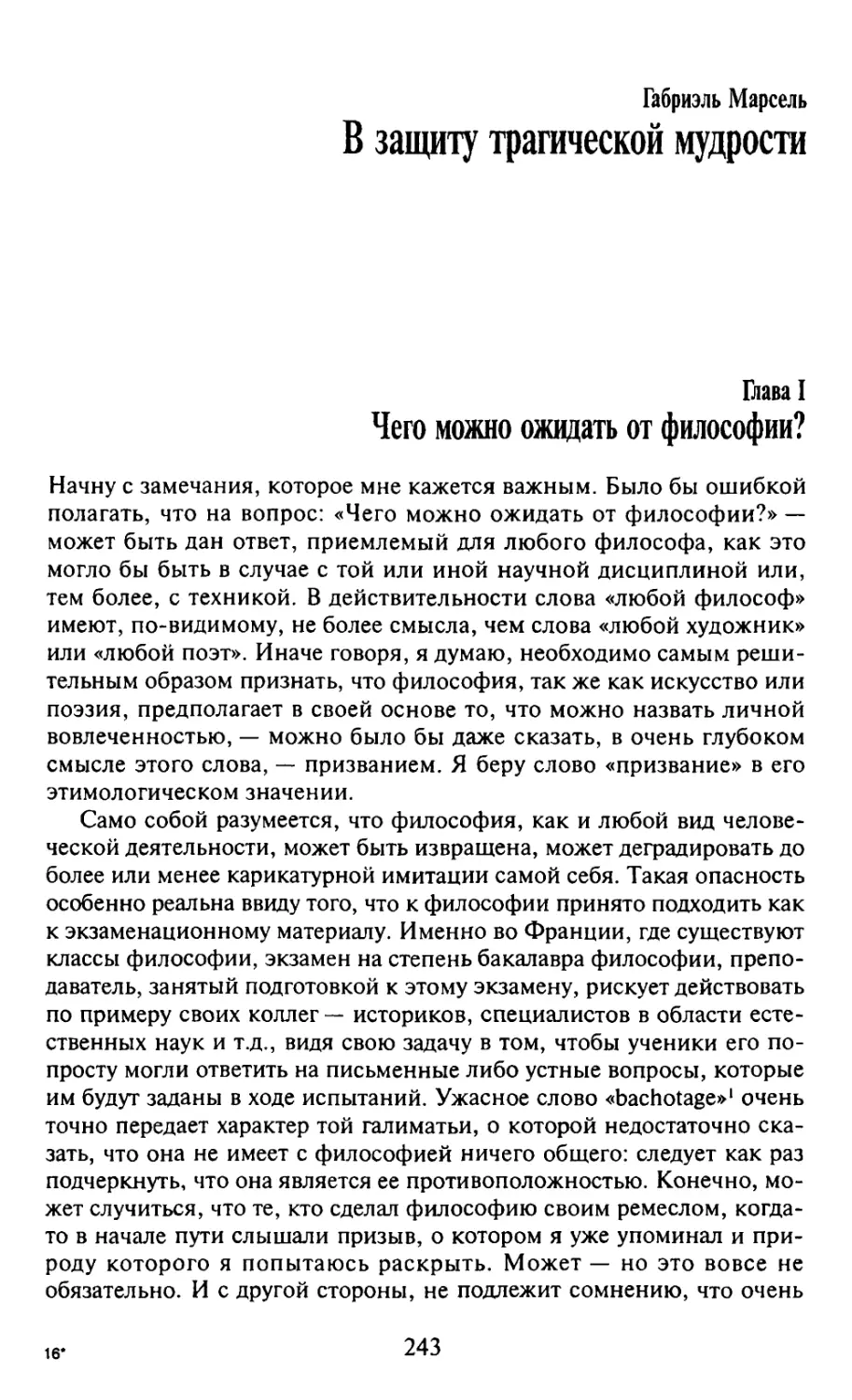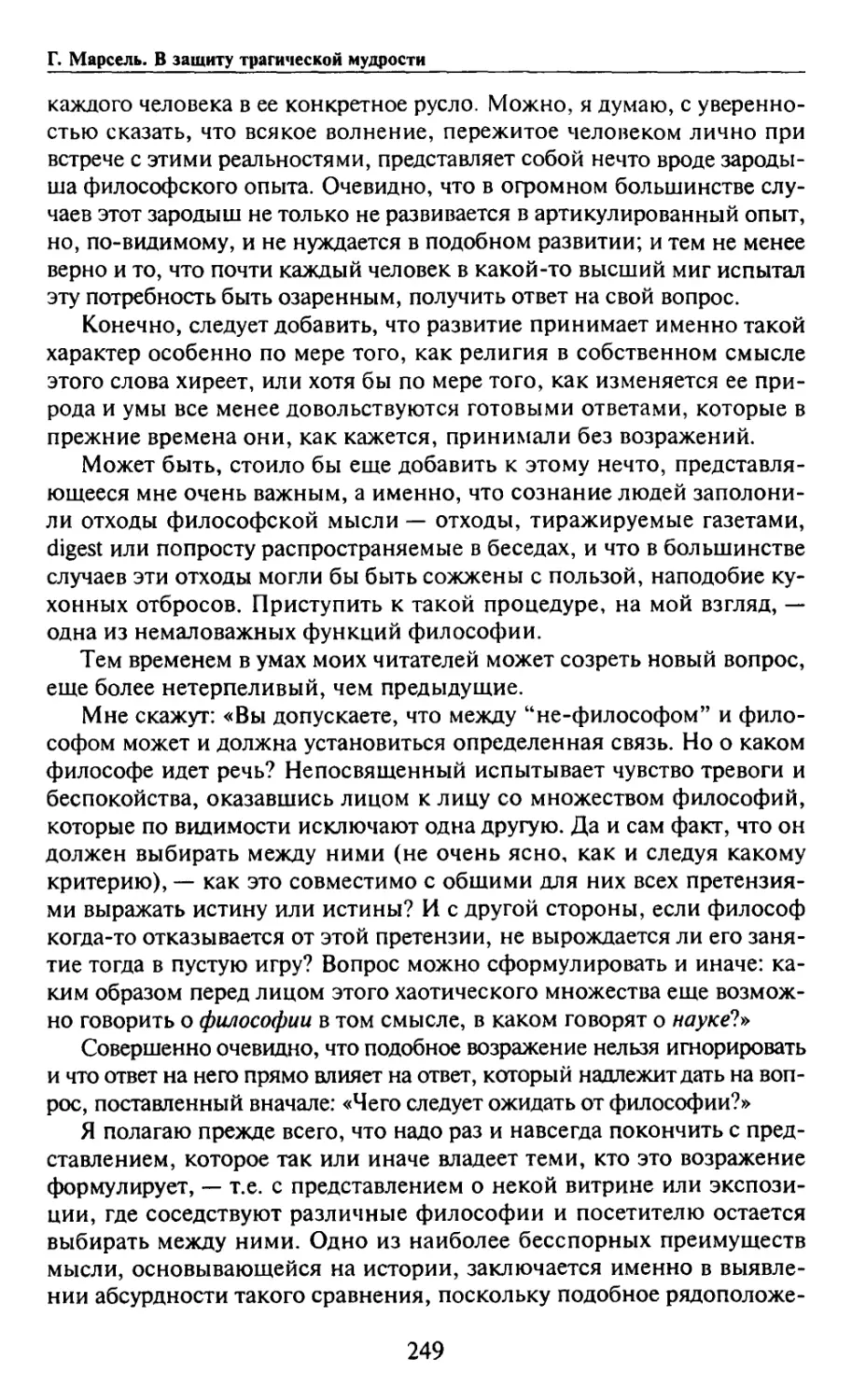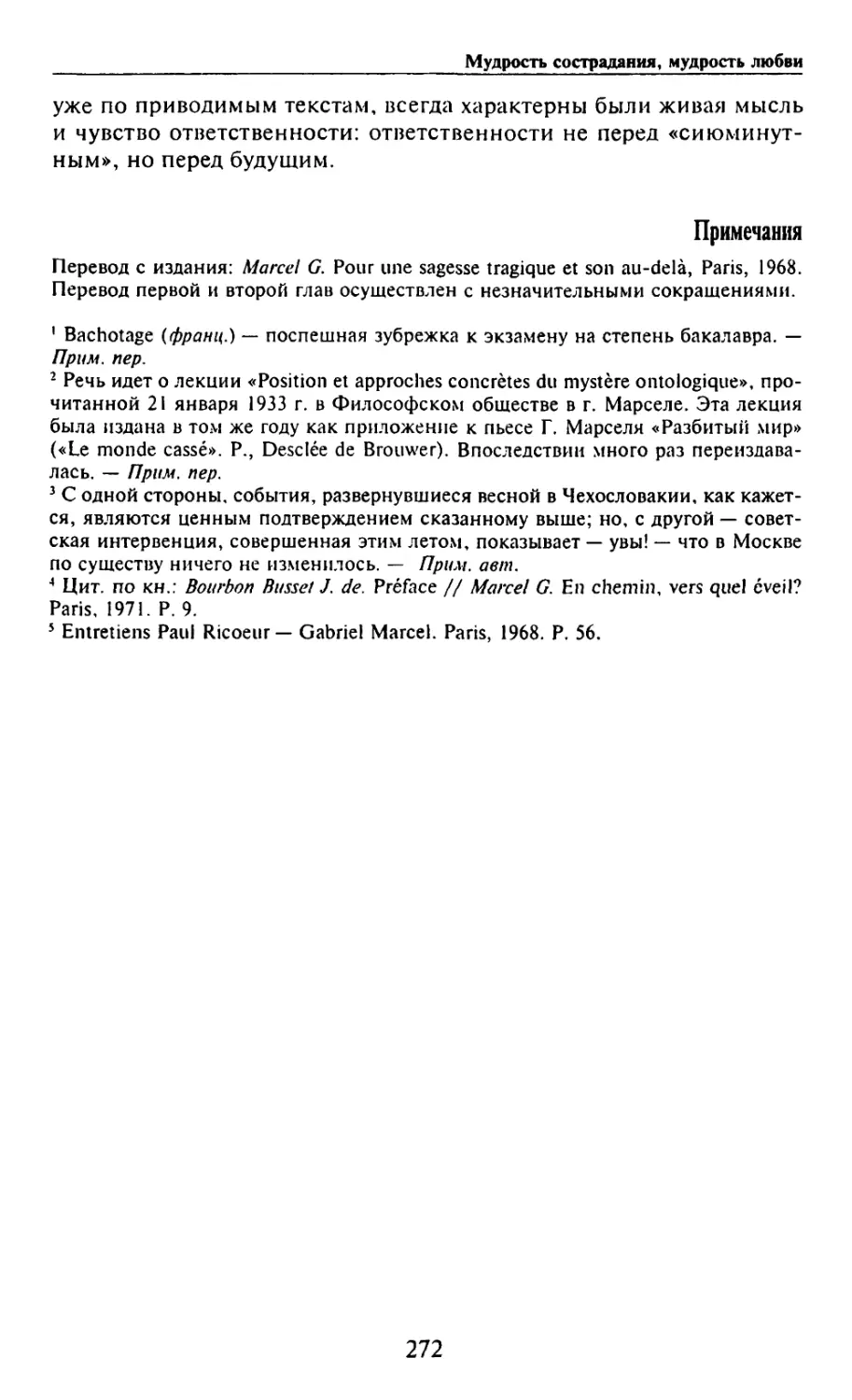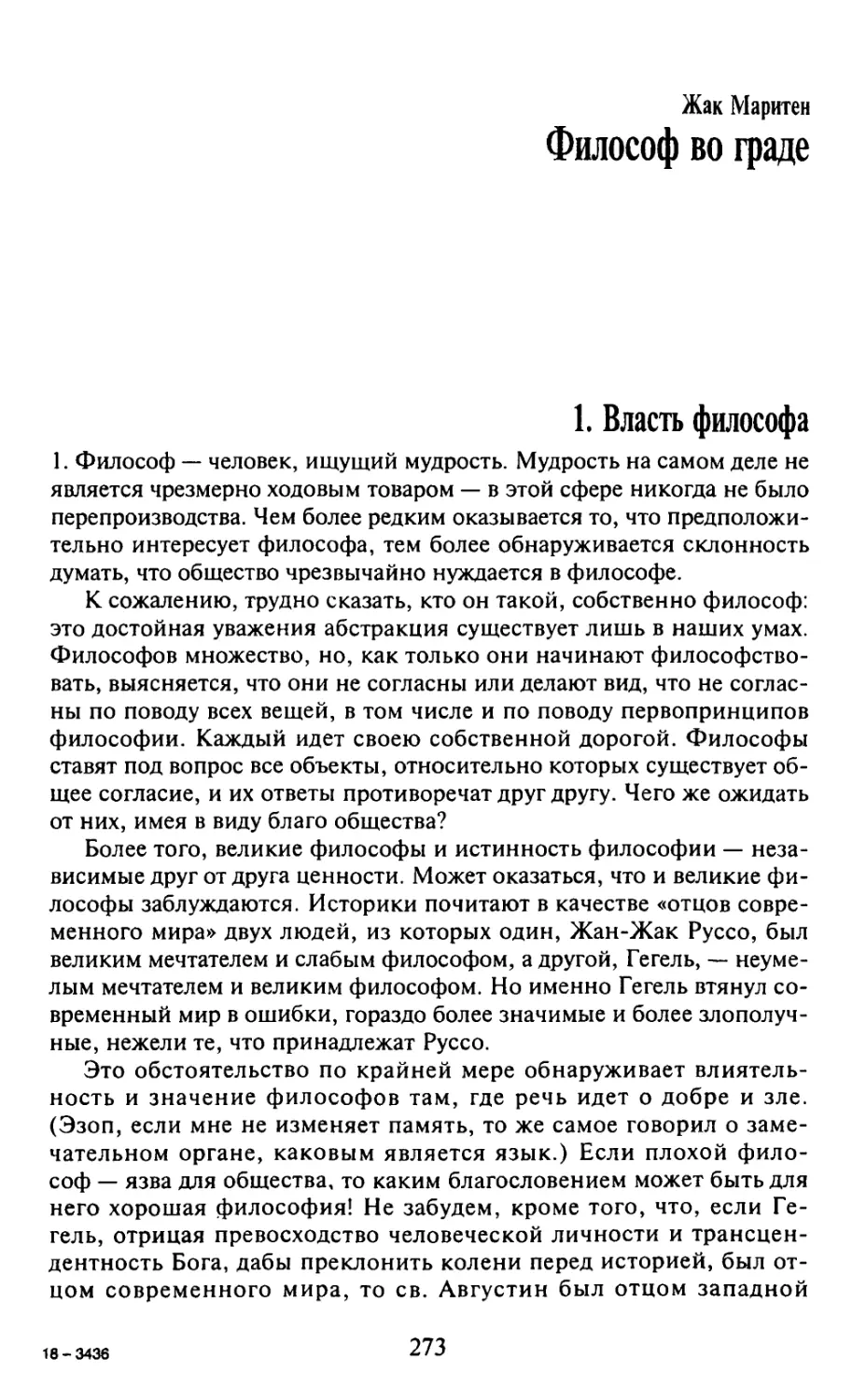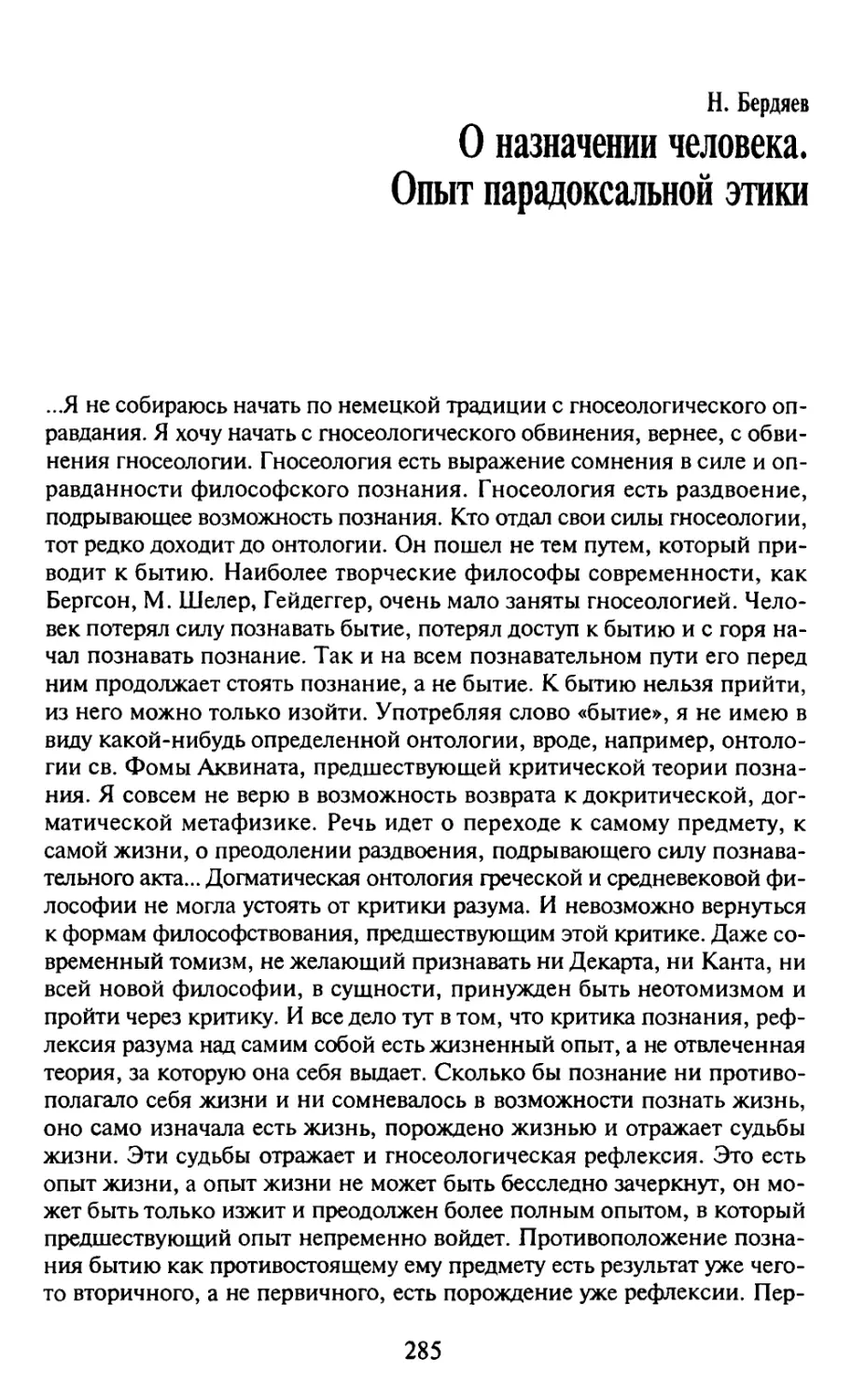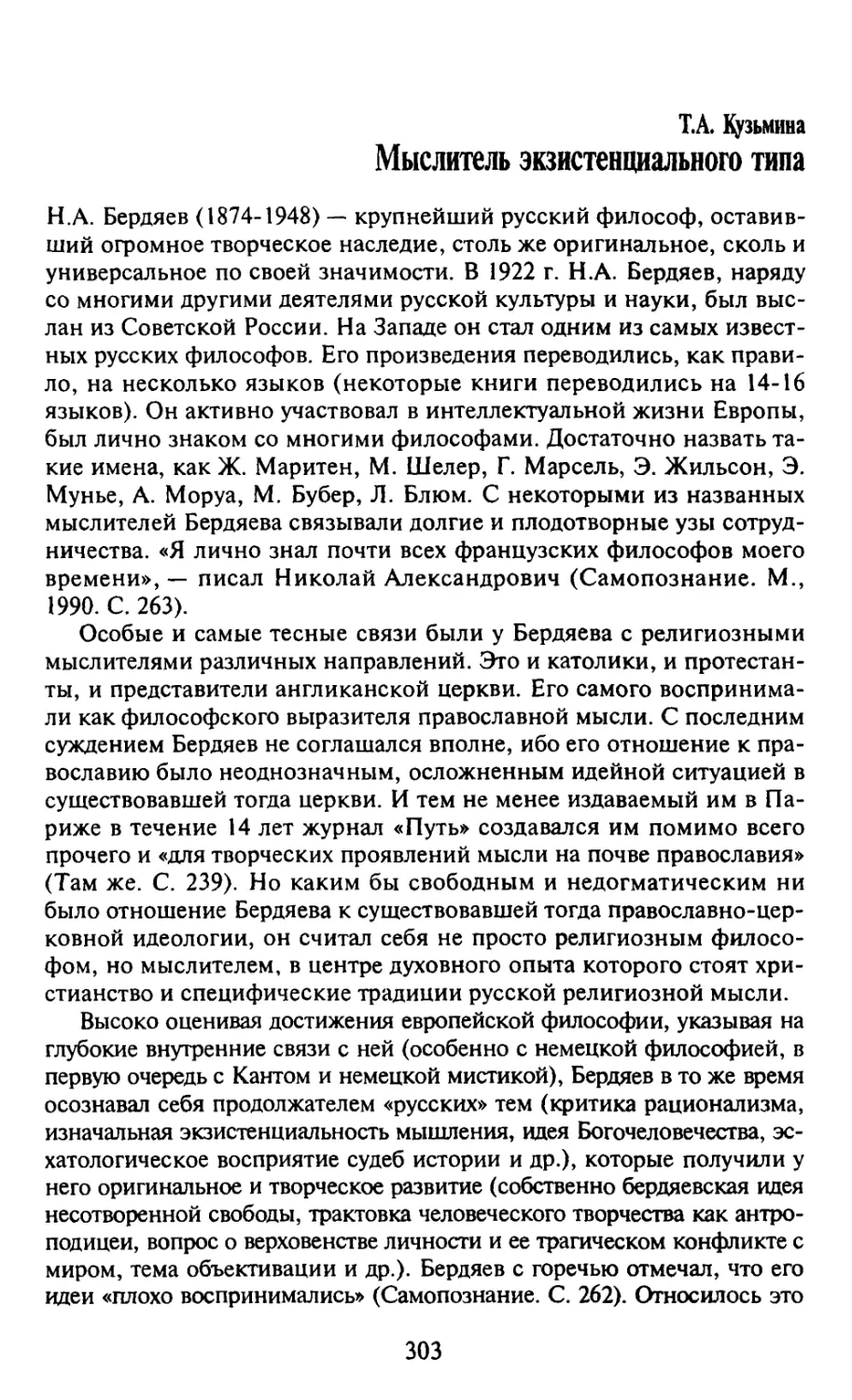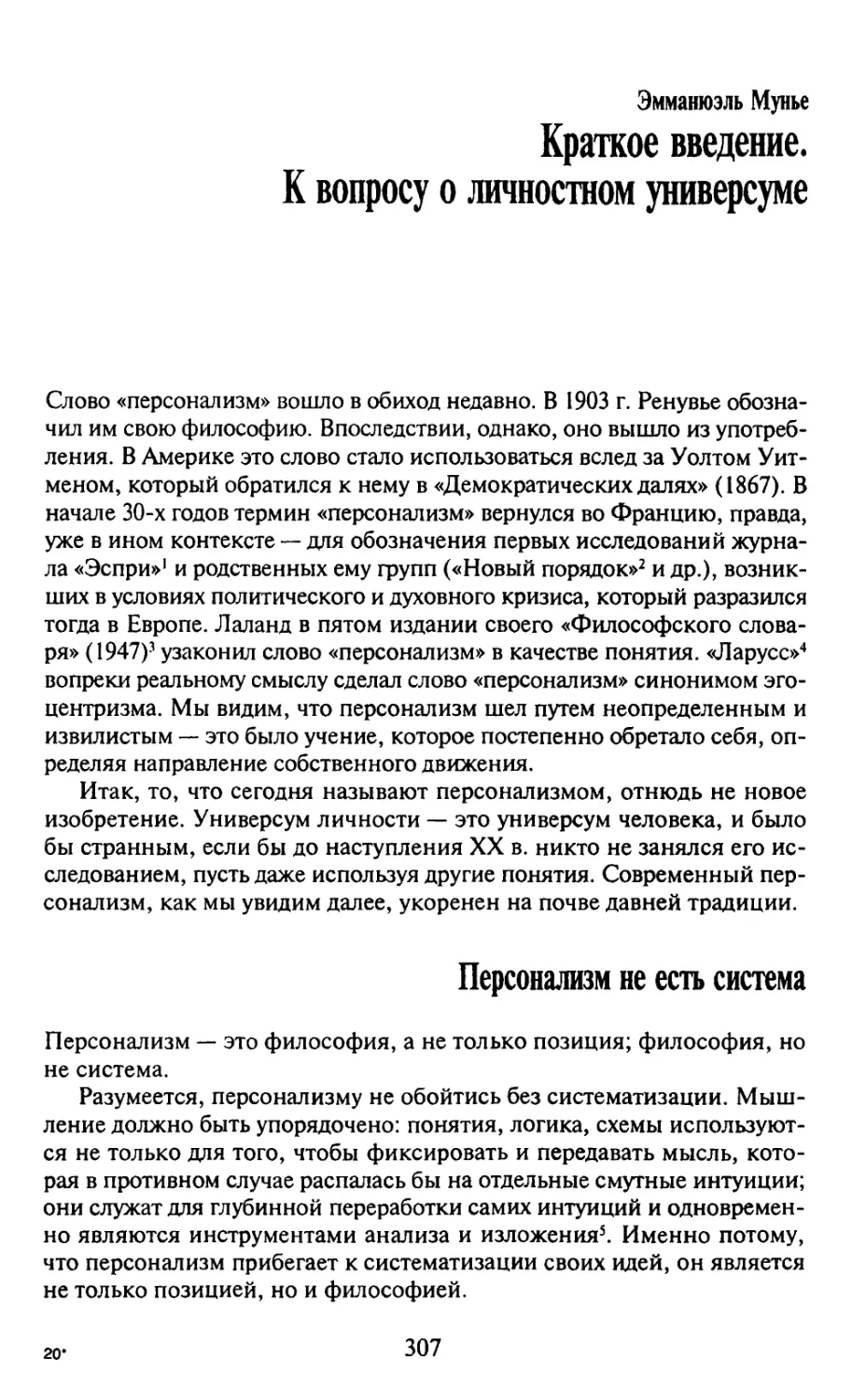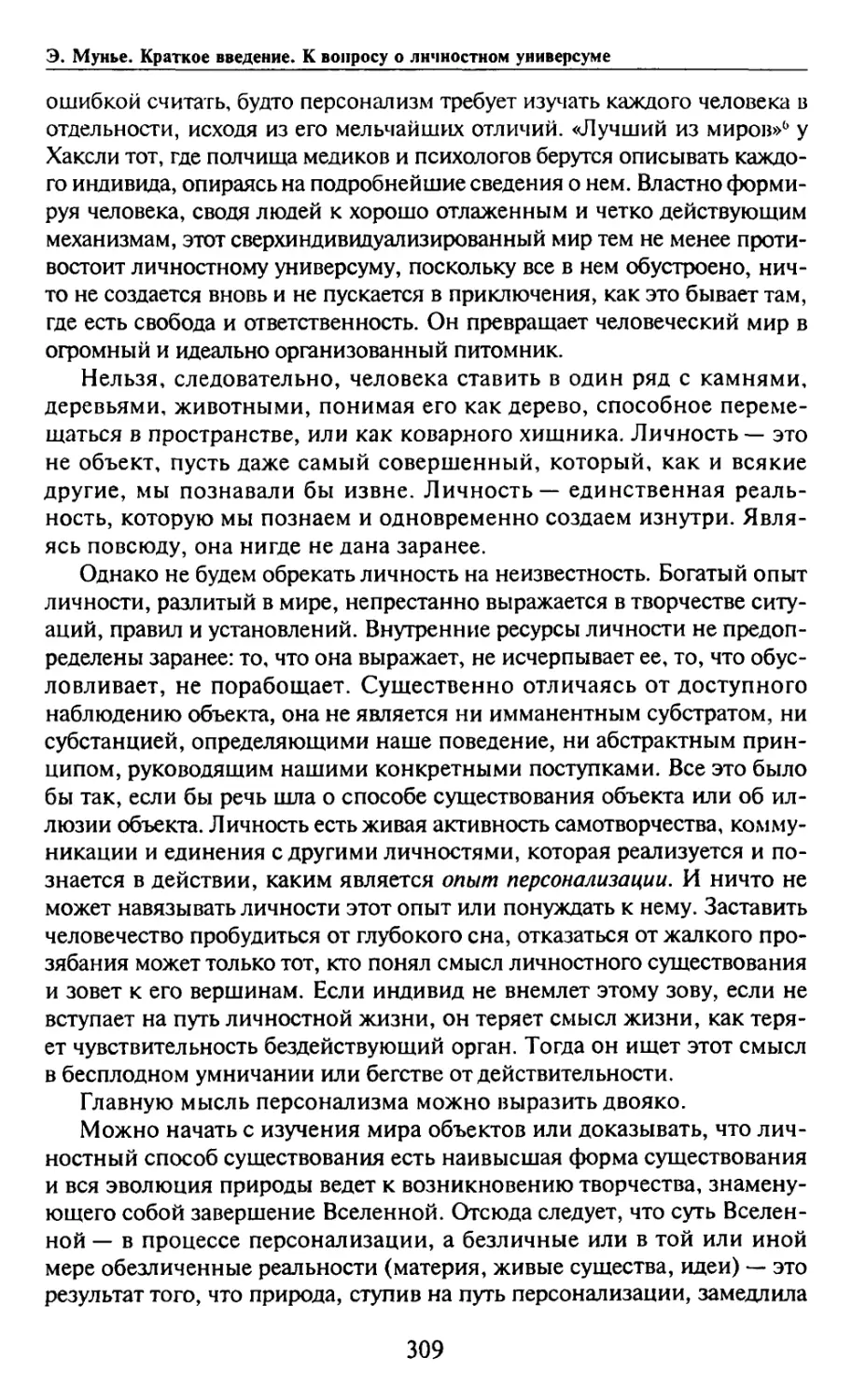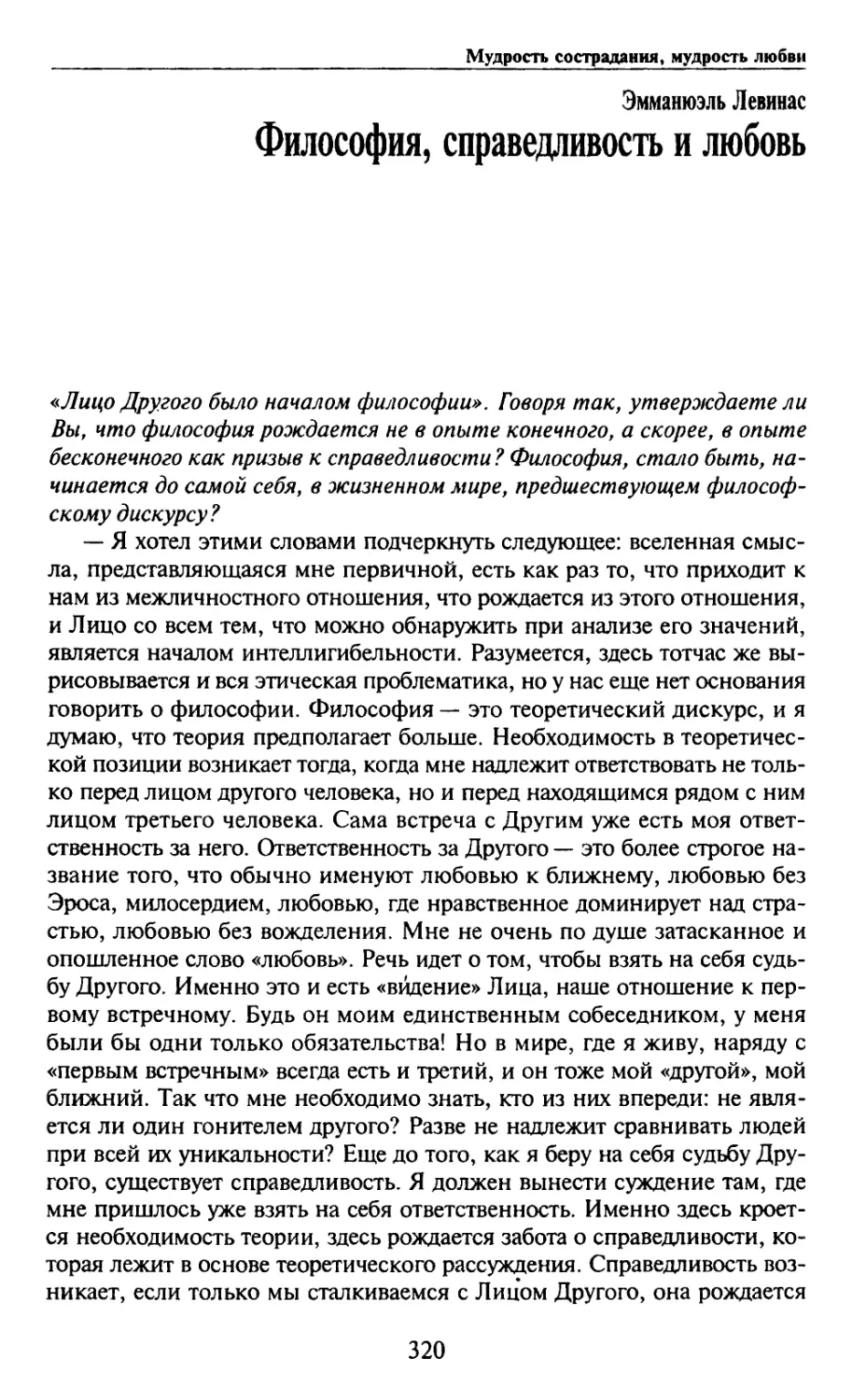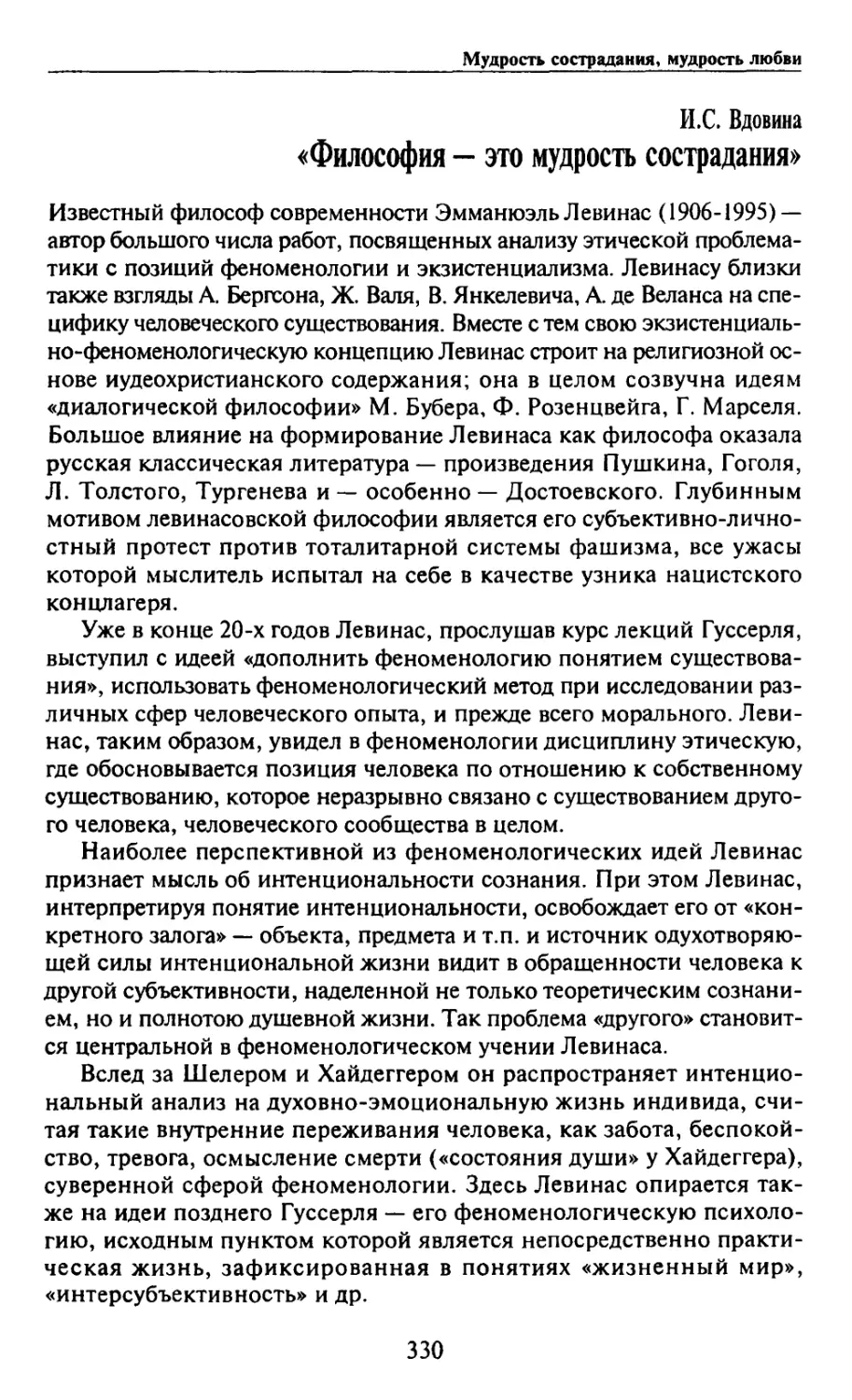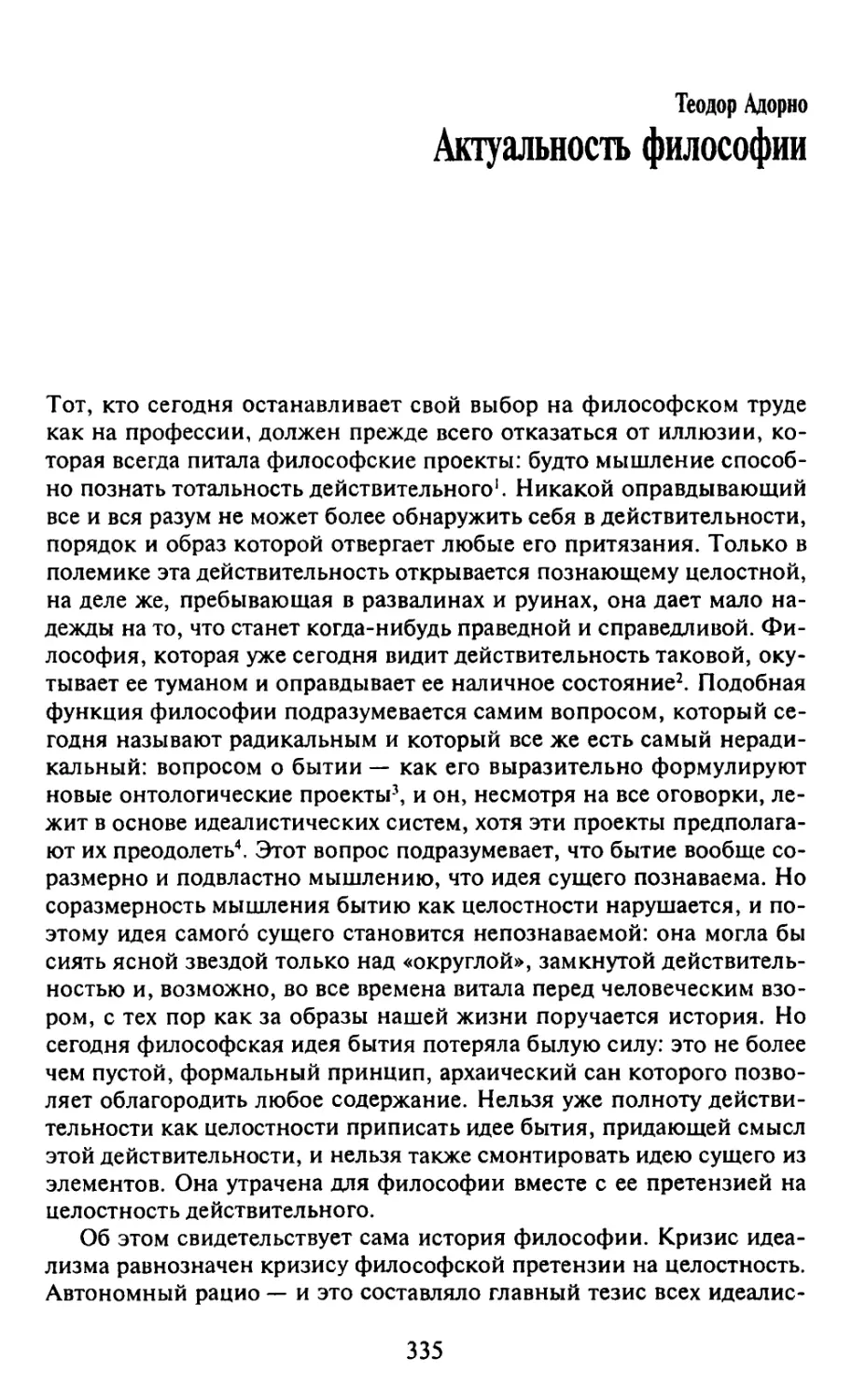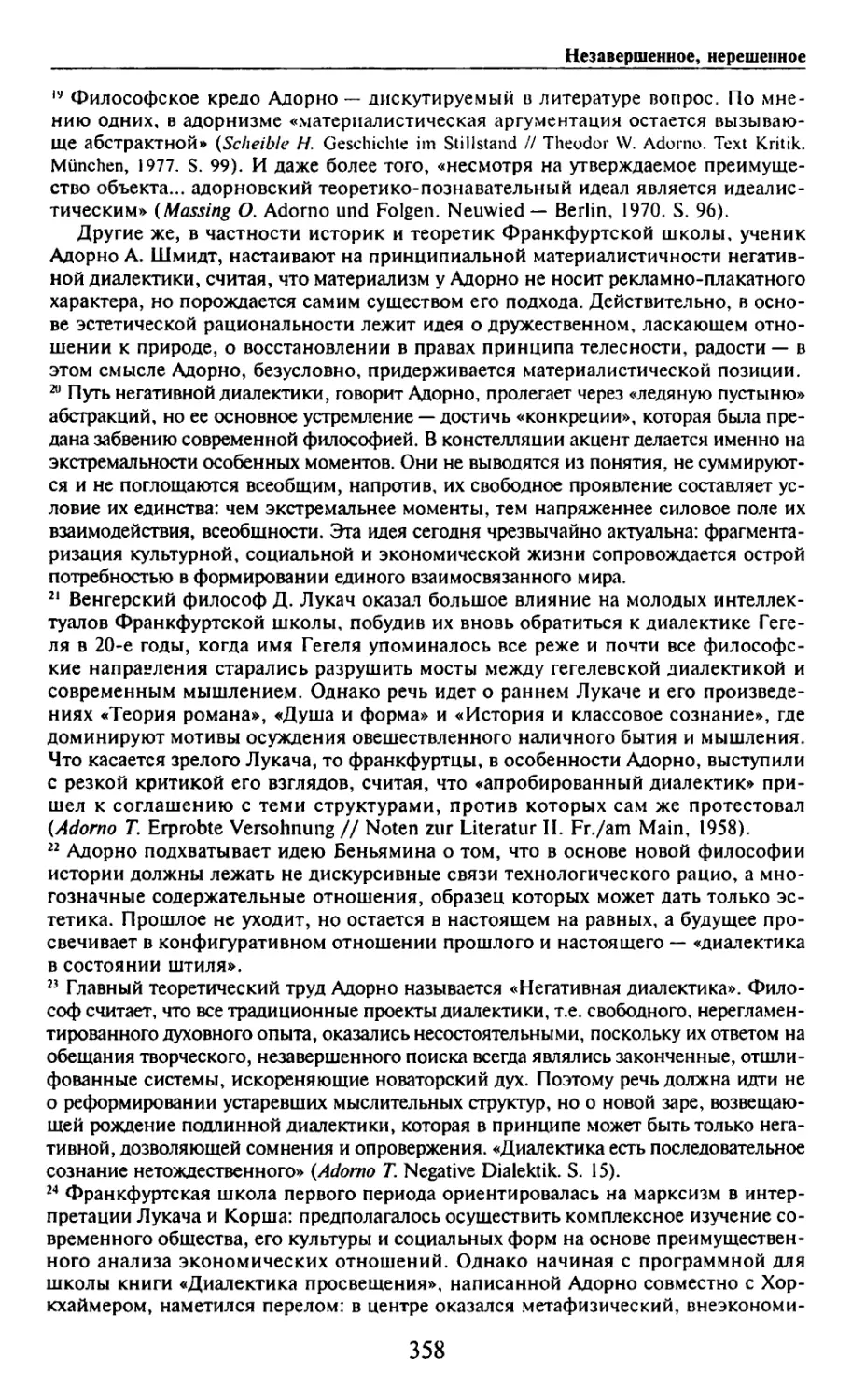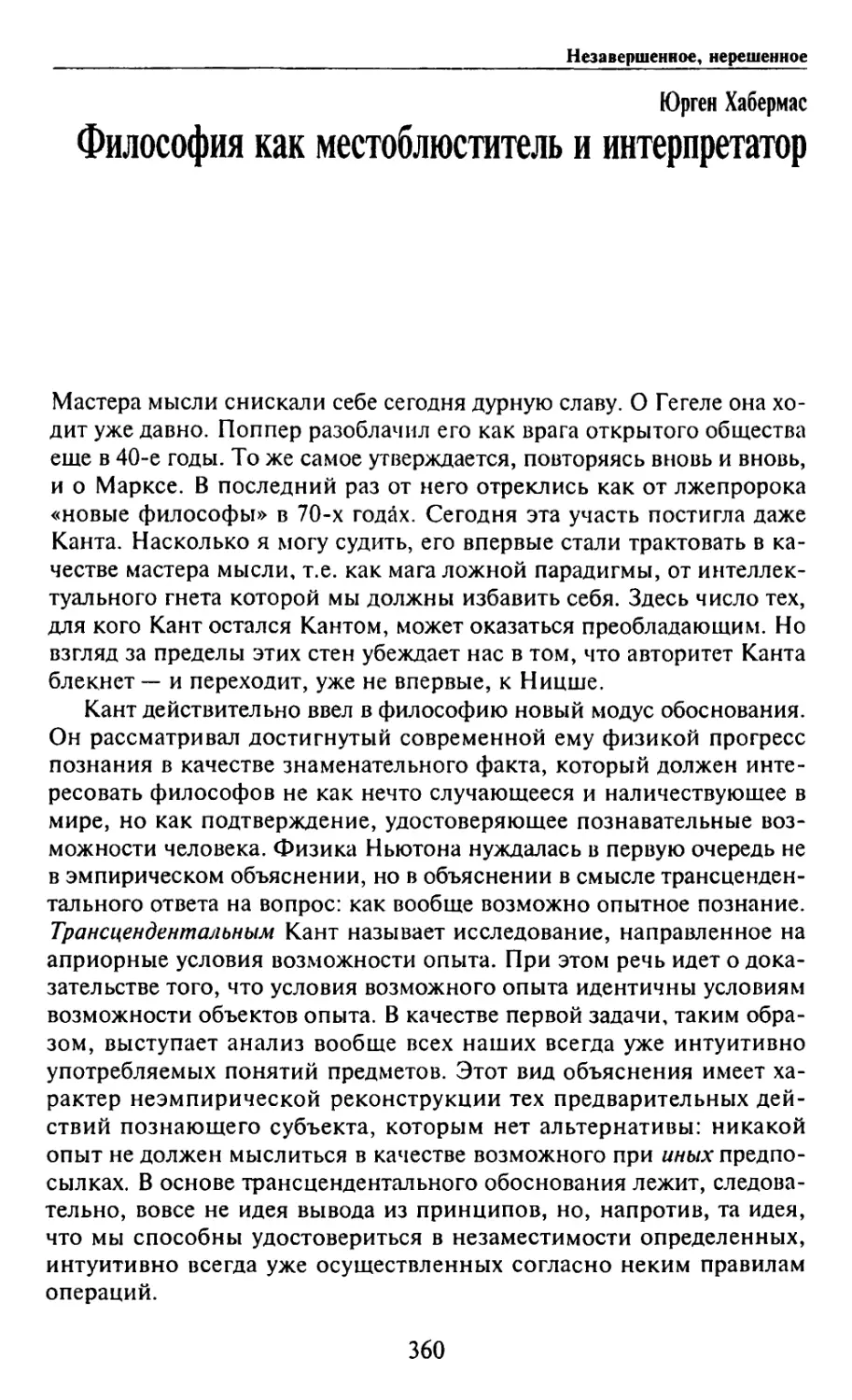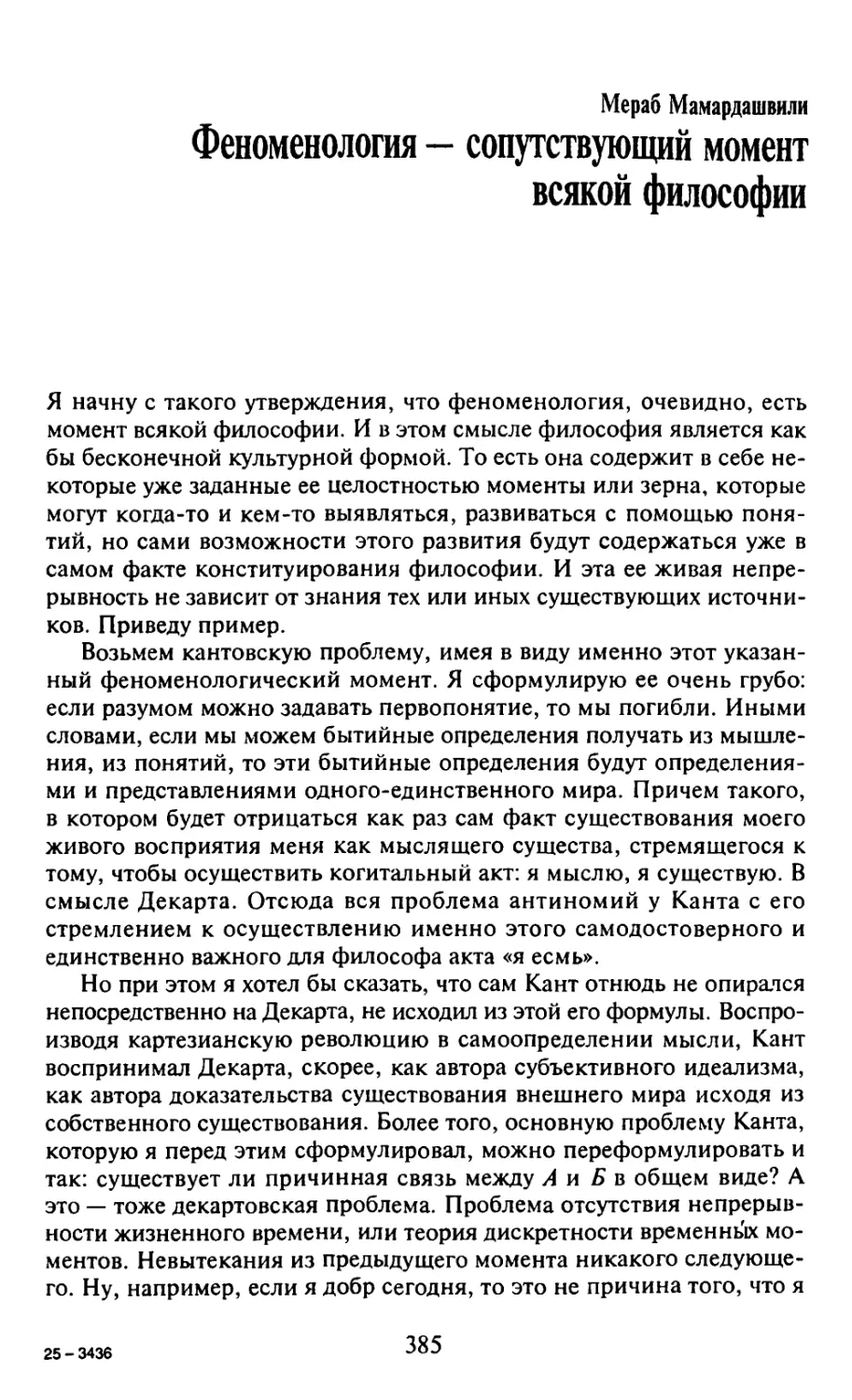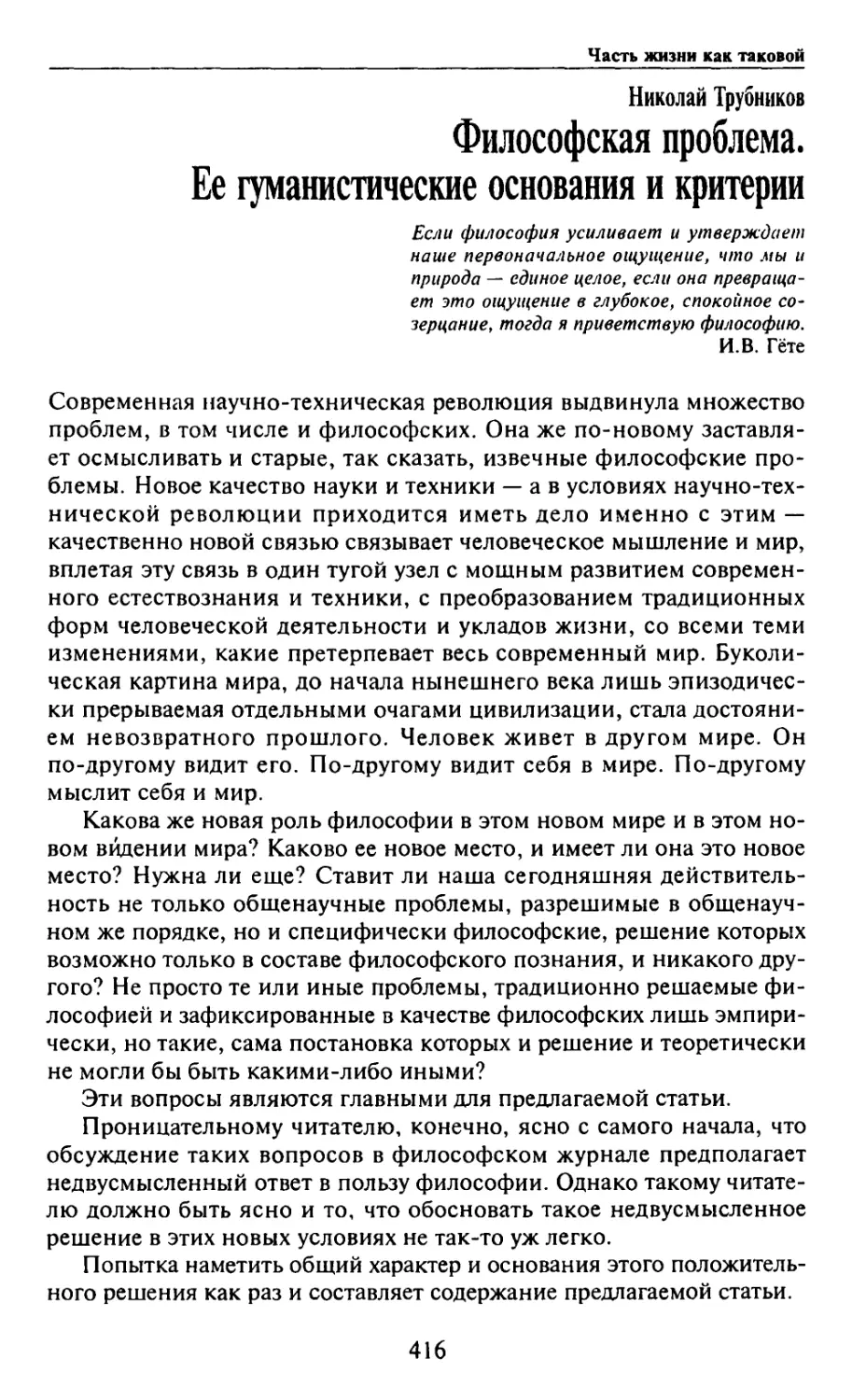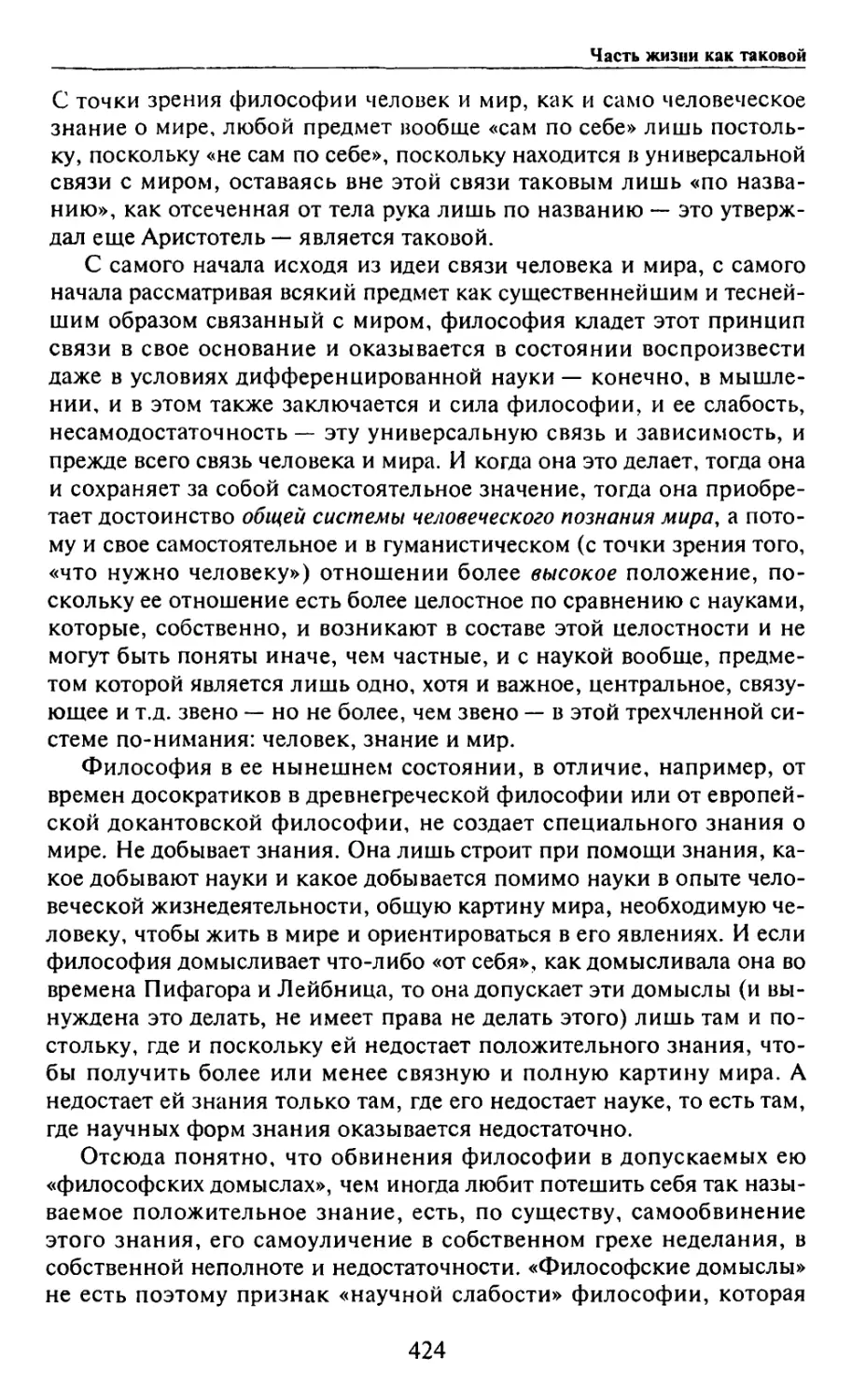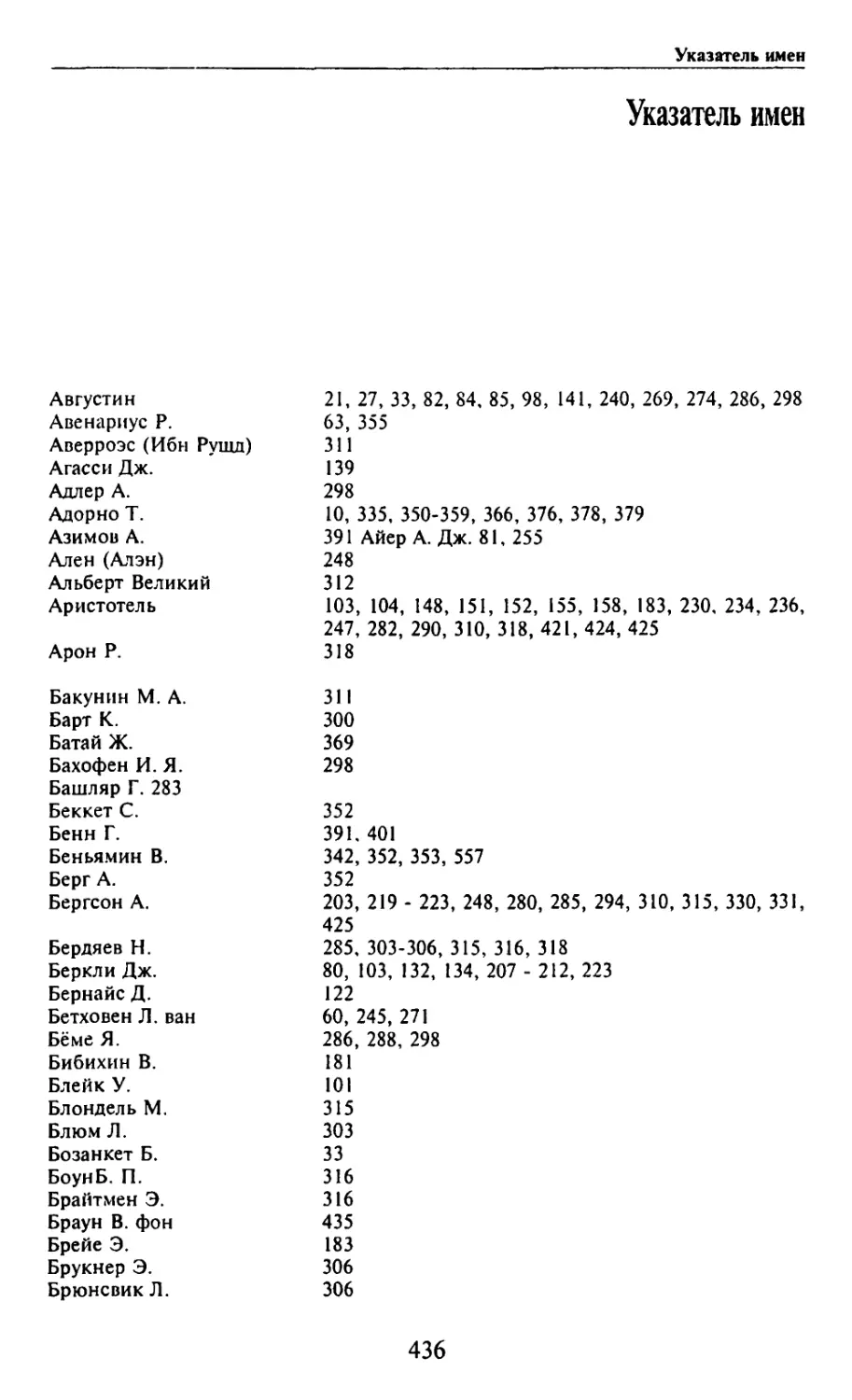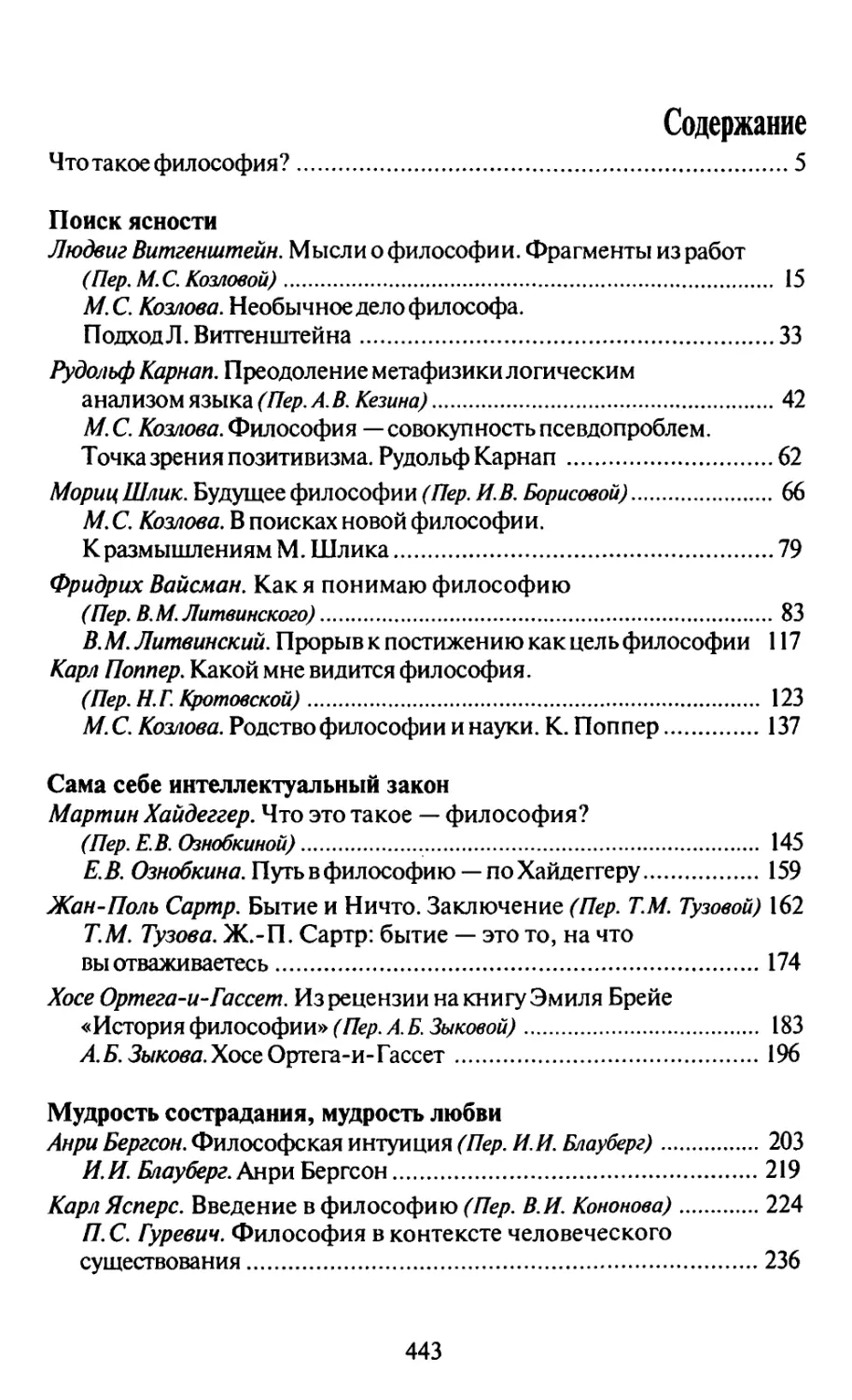Author: Вдовина И.С. Тавризян Г.М. Зыкова А.Б. Козлова М.С.
Tags: философия психология всемирная история философии
ISBN: 5-9292-0039-4
Year: 2001
Text
Путь в философию
Антология
Путь в философию« Антология. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2001. - 445 с. (Humanitas)
ISBN 5-9292-0039-4 (ПЕР СЭ)
ISBN 5-323-00003-1 (Университетская книга)
Книга, предлагаемая вниманию читателей, включает в себя тексты
известных европейских философов XX в., размышлявших о смысле
философии и ее роли в жизни общества. Книга вводит читателя в творческую
лабораторию философов XX века: Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, М. Шлика,
К. Поппера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, X. Ортеги-и-Гассета, А.
Бергсона, К. Ясперса, Г. Марселя. Ж. Маритена, Н. Бердяева, Э. Мунье, Э. Ле-
винаса, Т. Адорно, Ю. Хабермаса и др.
Книга предназначается для тех, кто заинтересован в серьезном
знакомстве с европейской культурой и склонен к размышлению над
происходящими в ней процессами, а также для тех, кто ищет ответа на вопрос: что такое
философия? Книга может стать хрестоматийным пособием для студентов,
аспирантов, старшеклассников, изучающих философию и ее историю.
ISBN 5-9292-0039-4
ISBN 5-323-00003-1
© С.Я.Левит, составление серии, 2001
О «ПЕР СЭ», 2001
©Университетская книга, 2001
Что такое философия?
Философские раздумья людей — о чем они? Какие
проблемы призваны решать философы? В чем их специфика по
сравнению с проблемами иного рода, в том числе
научными? Поиск ответов на эти и другие, связанные с ними,
вопросы, по-видимому, будет продолжаться до тех пор,
пока существует, удовлетворяя определенные потребности человека
и общества, сама философия в высоком и серьезном значении этого
слова. Найти на них верные ответы важно, конечно, прежде всего
тем, кто посвятил себя философии, сделал ее делом своей жизни. Это
необходимо для профессионального самоопределения, осознания
своих задач, для осмысленности и результативности той нелегкой
интеллектуальной работы, что называют философией. Вместе с тем это
немаловажно и не лишено интереса также для тех, кто посвятил себя
иному делу, но кого волнуют философские проблемы, кто сам
склонен философствовать (а таких людей немало) и при этом понимать,
когда именно он вступает в мир особых размышлений, именуемых
философскими.
История мировой философской мысли насчитывает более двух с
половиной тысячелетий. И на всем ее протяжении не угасал интерес
к вечным вопросам, вновь и вновь волнующим людей. И. Кант
сформулировал в свое время три таких вопроса. Что я могу знать? Что я
должен делать? На что я смею надеяться?1 Кантовские вопросы
отразили основные способы человеческого отношения к миру. Продолжая
дальше свои размышления о предназначении философии, мыслитель
пришел к выводу, что, в сущности, все три вопроса можно было бы
свести к четвертому: что есть человек? Высшая цель, главный смысл
философских исканий, писал Кант, — помочь человеку занять
подобающее ему место в мире, «научиться тому, каким надо быть, чтобы
быть человеком»2. Высоко ценя знания, придавая большое значение
науке, Кант тем не менее выдвинул на первый план практический
разум — то, чему в конечном счете служит философия. Мыслитель
подчеркивал: «...мудрость... вообще-то больше состоит в образе действий,
чем в знании...»3. Подлинный философ, на его взгляд, — это философ
5
Что такое философия?
практический, наставник мудрости, воспитывающий учением и
делом. Однако Кант в согласии с древнегреческими мыслителями
вовсе не считал уместным отдавать миропонимание, жизнепонимание во
власть стихии повседневного опыта, здравого человеческого
рассудка, непросвещенного, наивного человеческого сознания и пр. Он был
убежден: для серьезного обоснования и закрепления мудрость
нуждается в науке, к мудрости ведут «узкие ворота» науки и философия
всегда должна оставаться хранительницей науки4. Вопросы,
поставленные Кантом, и его глубокое, взвешенное понимание философии
имеют непреходящее значение. И все-таки всякое время имеет свою
философию. В каждую эпоху, в разных культурах, исторических
ситуациях, у разных народов вечные философские вопросы ставились и
решались по-своему: философские темы, передаваемые из века в век,
как бы росли и развивались, исполнялись в разных вариациях. И при
этом не утихало, не исчерпывалось вопрошание о сути самой
философии.
«Что такое философия?» — этот вопрос не принадлежит к числу
легко и быстро решаемых. Над его уяснением трудились, выдвигая
свои варианты ответов, философы разных эпох. Но едва ли не
первостепенное значение он приобрел в XX столетии. Осмысливая
предлагавшиеся здесь подходы к проблеме, никак не пройти мимо
того особого видения философии, которое сформировали наиболее
влиятельные мыслители века— Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдег-
гер, Людвиг Витгенштейн и др., много размышлявшие о назначении
и облике философии в кризисную, конфликтную и драматичную
эпоху, современниками которой им суждено было стать.
Весьма оригинальное понимание философских проблем и
миссии философа предложил Л. Витгенштейн. Оно нередко передается
интригующе краткими, ироничными афоризмами: «Язык переодевает
мысли», «Цель философии — показать мухе выход из мухоловки» и
др. В «Логико-философском трактате» была подчеркнута
органическая связь философии с языком, и в частности, то обстоятельство,
что вся философия полна подмен понятий, путаниц,
провоцируемых языком. Цель философии усматривалась в поиске ясного
представления мира с помощью новейших (для того времени) методов
анализа с применением средств символической логики. Выражалось
убеждение в том, что эти средства дают не только науке, но и
философии мощный логически-прозрачный аналитический аппарат,
способный в корне изменить философскую мысль, традиционно
осуществлявшуюся в форме смутных концептуальных интуиции.
Соответственно провозглашается: философия не теория, а деяние.
Результат философии не набор предложений, а внятное,
неискаженное их соотнесение с ситуациями мира, в результате чего мы
обретаем ясную «картину мира» — конфигураций фактов в логическом
6
Что такое философия?
пространстве. Это — логическая модель знания, того, что может быть
информативно сказано, облечено в форму научных и подобных им
описаний фактов, простых, сложных, обобщенных (Мир). Особым
образом осваивается, по мысли Витгенштейна, то, что невозможно
высказать, облечь в форму повествований, а можно лишь
демонстрировать, так или иначе показывать. Этот иной, особый опыт
охватывает и экзистенциальный аспект действительности, которому
Витгенштейн вслед за Кьеркегором, Ницше и др. дает имя Жизнь. В
«Логико-философском трактате» проанализирована область знания,
и отсюда, «изнутри знания», лишь как бы очерчена граница совсем
иного — молчаливого — опыта, главное место в котором отдано
этическому. Эту, ненаписанную (поскольку это, по убеждению автора,
невозможно), полную глубокого молчаливого напряжения часть
своего трактата Витгенштейн считал главной. Философию, по его
убеждению, невозможно облечь в форму реальных,
информативных высказываний, аналогичных научным. Ее природа, цель
совсем иная: концептуальное прояснение. Вот почему философские
утверждения с претензией на информацию (нередко нарушающие
и логику языка) характеризуются как попытки высказать невыска-
зываемое, как бессмысленные. Во второй период творчества
философские представления Витгенштейна о познании, логике, языке,
механизмах уяснения смысла и бессмыслицы существенно
изменились. Но значительно меньшие изменения претерпел его обший
взгляд на философию.
Концепция «Логико-философского трактата» Витгенштейна
оказала очень сильное влияние на логический позитивизм (20—30-
е годы), в русле которого развивались идеи этого знаменитого
труда. В статьях М. Шлика и Р. Карнапа (первый раздел хрестоматии),
по существу, пересказываются и разрабатываются с восхищением
принятые и по-своему истолкованные мысли Витгенштейна о сути
философии. Правда, позже выяснится, что вдохновитель этих
работ смотрел на дело философа далеко не так, как его поняли
последователи. Весьма ощутимо «присутствие» не только раннего, но
и позднего Витгенштейна в публикуемой нами известной,
вызвавшей в свое время большой резонанс статье Ф. Вайсмана.
Преодолеть влияние Витгенштейна автору было, видимо, так нелегко, что,
даже критикуя его позицию (цель философии — показать мухе
выход из мухоловки), он противопоставляет ей концепцию
Витгенштейна же (о видении аспекта), правда, в свободном пересказе и
авторском осмыслении. И наконец, последняя статья раздела
написана К. Поппером, категорически возражавшим против
тезиса Витгенштейна о бессмысленности философских утверждений.
Не приемля взглядов Витгенштейна, Поппер одобряет мысли
своего друга Ф. Вайсмана, видимо, не вполне отдавая себе отчет в том,
7
Что такое философия?
что понравившаяся ему статья весьма близка к образу мыслей
Витгенштейна. Таким образом, смысловым стержнем первого раздела
книги служат взгляды, позиции Л. Витгенштейна. В других
разделах картина иная: материал не группируется вокруг одной фигуры,
но, как правило, обнаруживает общие умонастроения философии
XX в., заданные такими властителями дум, как Гуссерль, Хайдег-
гер и др. Постепенно все отчетливее вырисовывается картина
сближения, взаимодействия, интеграции разных философских
стилей и направлений: феноменологии, аналитической философии,
герменевтики и др.
Импульсом для философской мысли XX в., особенно ее
«антропологической» ветви (экзистенциализм, персонализм,
герменевтика и др.), стала феноменология Гуссерля, возникшая на рубеже веков
и безусловно связанная с традициями классической мысли в трудах
Платона, Декарта, Канта. Концепция, выстроенная Гуссерлем,
свидетельствовала о формировании в контексте европейской культуры
нового образа философии. В понимании отношения человека и
мира (принципиально важного для философии) феноменология
позволила последовательно и полно выразить тенденции, набиравшие
силу в европейской философии после Канта. Гуссерль всячески
подчеркивал, что мир дан человеку только в актах его сознания, т.
е. через его субъективность, что в основе всех наших суждений о
мире лежит активность выносящего эти суждения субъекта. Любой
предмет, с точки зрения Гуссерля, должен пониматься
исключительно как коррелят сознания, восприятия, памяти, фантазии,
суждения, сомнения, предполагания и т.п. В свою очередь, сознание
обнаруживает себя как направленное на предмет, как бытие
осознанности. Разговор о мире безотносительно к человеческой
субъективности представляется Гуссерлю вообще бессмысленным.
Главный предмет философского внимания, с его точки зрения, — не мир
как он есть сам по себе (установка науки), а смысл и значение его
для субъекта. Феноменология способствовала осознанию
своеобразия философии по сравнению с наукой, принципиального отличия
миссии философа от задач и дела ученого. Кроме того,
феноменологический метод Гуссерля открыл широкие возможности для
исследования сознания и многообразных видов человеческого опыта.
Нераздельность бытия и мира стала одной из главных тем послегус-
серлевской феноменологии.
Событием философской мысли XX в., безусловно, стали работы
Хайдеггера. Пониманию философии, которое они с собой несли,
нелегко дать краткое и четкое наименование. Его воспринимали то как
новый вариант феноменологии, то как герменевтику, затем нарекли
философской антропологией, пока, наконец, не отдали предпочтение
другому названию — экзистенциализм. Однако это весьма условное
8
Что такое философия?
название для хайдеггеровского философского опыта. Ему вообще
были чужды приверженность заведомо избранному направлению
мысли, груз взятых этим на себя обязательств. Он старался быть
самим собой, оставаться свободным мыслителем, полагающимся на
собственное разумение. В главном хайдеггеровское понимание
философии оставалось единым на протяжении всего творчества: его
философское усилие всегда было усилием онтологическим, попыткой
мыслить бытие в его изначальности. На раннем этапе это представлялось
ему как доступ в структуру человеческого существования (Dasein), а
оно заведомо мыслилось как «бытие-в-мире». Позже философ избрал
путь откровения языка, исследования «археологических слоев»
заключенного в нем интеллектуального опыта. Для мыслителей XX в.,
может быть, самым важным в Хайдеггере оказалось то, что любое
устоявшееся понимание философии он ставил под вопрос, почитая
главным дело развивающейся мысли.
Интерес к миру в его представленности человеку послужил
основой сформировавшегося на рубеже веков широкого
общеевропейского течения философской антропологии. Так, Г. Марсель, не
считавший себя феноменологом, применил феноменологический метод
к решению интересовавших его проблем — прежде всего проблем,
связанных с пониманием «человеческого тела», «вовлеченности»,
«свидетельствования», «встречи» (восприятия другого человека).
Ж.-П. Сартр использовал феноменологический подход для
описания связи изначально неструктурированного сознания безгранично
свободного, постоянно порывающего с реальностью и с самим
собой, трансцендирующего без каких-либо ориентиров («для-себя-бы-
тие») — с абсолютно позитивным «в-себе-бытием», к которому
сознание устремляется в попытке обрести собственную устойчивость.
М. Мерло-Понти выделяет специальную сферу, где, соприкасаясь
друг с другом, пребывают в неразрывной связи сознание,
человеческое бытие и предметный мир. Представители философской
антропологии ввели в философию новые темы, по-своему восприняли и
разработали близкие им мотивы более ранних учений, наконец,
сформировали особый язык для выражения и анализа волновавших
их тем и проблем. За всем этим стояла, определяя эти усилия,
задача: дать людям европейского склада новое мировидение, помочь
переосмыслить переживавшие кризис классические ценности и
идеалы мироустройства, сами приемы и схемы философствования,
укоренившиеся в европейской культуре, но не выдержавшие
испытания историческим временем XX в.
Книга, предлагаемая вниманию читателей, включает в себя
тексты известных европейских философов XX в., размышлявших о
сути, смысле философии и ее роли в жизни общества. Какого-то
единого ответа на вопрос, что такое философия, ожидать не прихо-
9
Что такое философия?
дится. Уж таков этот сложный, многоаспектный вопрос, решаемый
с разных позиций, уж столь многолика, многоголосна по самой сути
своей философия. Так, М. Хайдеггер, стремясь ответить на вопрос
«Что это такое— философия?» обращается к грекам, к их
«удивлению», «настрою», «расположенности», в которых и для которых, по
его убеждению, раскрывает себя Бытие сущего. Для Ж.-П. Сартра
философия — единственно возможный способ постичь специфику
человеческого существования, понять действительное положение
человека в мире, определить его подлинное отношение с миром.
Вместе с тем философия для французского мыслителя — это и «труд
свободы» — выражение эксперимента человека в поле своего
личного бытия, определение собственного места в мире.
В работах испанского философа X. Ортеги-и-Гассета большое
место занимает вопрос о субъективной стороне философского
творчества, о значении личности самого философа. Мыслитель обращается
к вопросу о правдивости самих философов, что должно выражаться
в их заботе об истине, в томительном желании достигнуть состояния
несомненности, достоверности, искренности.
Представитель официальной католической философии
неотомизма Ж. Маритен акцентирует другую сторону дела: мысли
философов подобны «глубинным потокам, что скрыто работают в
человеческом уме в каждую историческую эпоху», град человеческий не
может обойтись без философов. По убеждению главы
христианского экзистенциализма Г. Марселя, в связи с крайне возросшей в
современном мире опасностью дегуманизации жизни важнейшая
задача философии— вынести диагноз, а также выявить в человеке
скрытые душевные силы, способные этому противостоять. Левый
католик, философ-персоналист Э. Мунье связывает с философией
задачи становления личности и преобразования человеческой
цивилизации на гуманистических основах. В своеобразной концепции Э.
Левинаса, соединяющей феноменологию и экзистенциализм с
еврейской религиозной традицией, подчеркивается: «Философия...
изначально была мудростью сострадания, мудростью любви».
Справедливость, ответственность и любовь рассматриваются как
основополагающие идеи философии.
Тема смысла и назначения философии остро обсуждается
мыслителями Франкфуртской школы. Т. Адорно, приверженный идее
отрицания и «разоблачительства», видит в философии специфическую
практику, цель которой заключается в том, чтобы наметить
разломы и разрывы, пробить брешь в тождественности всеобщего и
особенного, сломить диктат тотальности, чтобы созидать мир
открытий, незамкнутый, постоянно меняющийся; немецкий мыслитель
пытается восстановить за философией право на аффекты,
интуицию, импульсивность и фантазийность, пользуясь при этом опы-
10
Что такое философия?
том рефлексии и понятий. Ю. Хабермас, поддерживая лозунг
Франкфуртской школы «критическая теория »место философии»,
обосновывает необходимость разработки социальной философии,
суть которой состояла бы не только в критике негативных
процессов в общественном развитии, но и в разработке позитивного
социального учения о современном обществе, опирающегося на
широкие конкретные социальные исследования и учитывающего
воздействие ценностно-практических факторов на
познавательный процесс; одной из важнейших тем современной социальной
философии Ю. Хабермас считает вопрос о необходимости
формирования активного действия общественности как социально-
правового института, способного содействовать либерализации и
демократизации общественной жизни.
Помещенные в книге статьи российских
философов-шестидесятников М.К. Мамардашвили и H.H. Трубникова показывают,
что и в те времена философская мысль в нашей стране не
укладывалась в отведенное ей русло, обращалась в поиске ответов на
нелегкие вопросы к богатому опыту мировой и отечественной
философской культуры и собственному разумению. В понимании
философии большое значение М.К. Мамардашвили придает
вопросу о преемственности: по его убеждению, в основе европейской
культуры и философии лежат два исторических начала — античное
и христианское (соответственно — вера в завоевания человеческого
ума и идея нравственного восхождения человека). Вместе с тем
философия, с его точки зрения, по определению является свободным
занятием и в этом своем качестве выступает созидательной силой,
способствующей совершенствованию людей. В меньшей степени,
чем того заслуживает, известен читателю H.H. Трубников. В 70-
е годы он призывал коллег-философов серьезнейшим образом
обратиться к проблемам жизни и смерти человека и человечества.
Он считал их фундаментальнейшими вопросами мировидения и
мироведения и нашел интересные способы их осмысления и
уточнения.
Что дано знать философу? В чем едины и в чем противостоят друг
другу философия и наука? Как связаны между собой богатое
историческое наследие философской мысли и живое философское
творчество? Каковы познавательные возможности и этический смысл
этого творчества? Как соотносятся философия и повседневное сознание
людей, философия и жизнь? Какую роль играет философия в
духовной жизни человека? От этих вопросов не уйти и сегодня. Все они и
другие, дополняющие их вопросы — лишь части целого вопроса,
вынесенного в название этой книги.
Не давая, поскольку это невозможно, краткого однозначного
ответа на поставленный вопрос, книга вводит читателя в творческую
11
Что такое философия?
лабораторию, где работают философы XX в. самых разных
ориентации и направлений мысли. Их суждения, пожалуй, наведут читателя
на свои собственные, подсказанные жизнью и временем вопросы.
Книга предназначается главным образом для тех, кто
заинтересован в серьезном знакомстве с европейской культурой и склонен к
размышлению над происходящими в ней процессами, а также для
всех тех, кто ищет ответа на вопрос: что такое философия? Книга
может стать хрестоматийным пособием для студентов, аспирантов,
старшеклассников школ, изучающих философию и ее историю.
Каждый текст сопровождается специальной статьей и
примечаниями, где в общих чертах рассказывается о том, какой смысл
вкладывает его автор в слово философия.
Книга подготовлена в секторе современной западной философии
Института философии Российской академии наук. Ученый секретарь
издания — М.Н. Архипова.
Примечания
1 См.: Кант Я. Соч. в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 661.
2 Там же. Т. 2. С. 206.
3 Там же. Т. 4. Ч. 1.С. 241.
4 Там же. С. 501.
12
Поиск ясности
Людвиг Витгенштейн
Мысли о философии
Фрагменты из работ
Логико-философский трактат
Предисловие автора
...В книге обсуждаются философские проблемы и показано, как я
надеюсь, что постановка этих проблем зиждется на непонимании
логики нашего языка. Смысл книги в целом можно сформулировать
приблизительно так: то, что вообще может быть сказано, может быть
сказано ясно, о том же, о чем сказать невозможно, следует молчать.
Итак, замысел книги — провести границу мышления или, скорее,
не мышления, а выражения мысли: ведь для проведения границы
мышления мы должны были бы обладать способностью мыслить по
обе стороны этой границы (то есть иметь возможность мыслить
немыслимое).
Такая граница поэтому может быть проведена только в языке, а
то, что лежит за ней, оказывается просто бессмыслицей.
...Мне представляется, что поставленные проблемы в своих
существенных чертах решены окончательно. И если я не заблуждаюсь на
сей счет, то... ценная сторона этой работы в том, что она
показывает, сколь мало дает решение этих проблем.
(Людвиг Витгенштейн. Вена, 1918)
Фрагменты из текста труда
3.323 В повседневном языке нередко бывает, что одно и то же слово
осуществляет обозначение по-разному <...> или что два слова,
обозначающих по-разному, внешне употребляются в предложении одинаково.
Так, слово «есть» выступает в языке в роли глагола-связки, знака
тождества и как выражение существования; слово «существовать»
употребляется аналогично непереходному глаголу «идти», слово
«тождественный» — как прилагательное.
3.324 Отсюда с легкостью возникают фундаментальнейшие
подмены одного другим (которыми полна вся философия).
15
Поиск ясности
3.325 Во избежание таких ошибок следует употреблять знаковый
язык, который бы исключал их, поскольку в нем бы не применялись
одинаковые знаки для разных символов и не использовались
внешне одинаковым образом знаки с разными способами обозначения. То
есть знаковый язык, подчиняющийся логической грамматике —
логическому синтаксису.
(Символика Фреге и Рассела для исчисления понятий является
такого рода языком, хотя она еще не исключает всех ошибок).
3.326 Для распознавания символа в знаке нужно обращать
внимание на его осмысленное употребление.
3.3421 Особый способ обозначения может быть не важен, но
всегда важно, что он является одним из возможных способов
обозначения. И такова вообще ситуация в философии: единичное всякий раз
оказывается неважным, но возможность каждого единичного
открывает нам что-то, относящееся к сути мира.
4.002 <...> Повседневный язык — часть человеческого устройства,
и он не менее сложен, чем это устройство.
Люди не в состоянии непосредственно извлечь из него логику языка.
Язык переодевает мысли. Причем настолько, что внешняя
форма одежды не позволяет судить о форме облаченной в нее мысли;
дело в том, что внешняя форма одежды создавалась с совершенно
иными целями, отнюдь не для того, чтобы судить по ней о форме
тела.
Молчаливо принимаемые соглашения, служащие пониманию
повседневного языка, необычайно сложны.
4.003 Большинство предложений и вопросов, трактуемых как
философские, не ложны, а бессмысленны. Вот почему на вопросы
такого рода вообще невозможно давать ответы, а можно лишь
устанавливать их бессмысленность. Большинство предложений и вопросов
философов коренится в непонимании логики языка.
(Это вопросы такого типа, как: тождественно ли добро в большей
или меньшей степени, чем прекрасное.)
И неудивительно, что самые глубокие проблемы — это, по сути, не
проблемы.
4.0031 Вся философия — это «критика языка»... Заслуга Рассела в
том, что он показал: видимая логическая форма предложения не
обязательно является его действительной логической формой.
4.021 Предложение— картина действительности: ибо, если я
понимаю предложение, то знаю изображаемую им возможную ситуацию. <...>
4.1 Предложение представляет существование и не-существование
событий [элементарных ситуаций].
4.11 Целокупность истинных предложений — наука в ее полном
охвате (или целокупность наук)1.
4.111 Философия не является одной из наук.
16
Л. Витгенштейн. Мысли о философии
(Слово «философия» должно обозначать нечто, стоящее над или
под, но не рядом с науками.)
4.112 Цель философии — логическое прояснение мыслей.
Философия — не учение, а деятельность.
Философская работа, по существу, состоит из разъяснений.
Результат философии не «философские предложения», а
достигнутая ясность предложений.
Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия
призвана делать ясными и отчетливыми...
4.1121 Психология не более родственна философии, чем какая-
нибудь иная наука.
Теория познания — это философия психологии.
Разве мое изучение знакового языка не соответствует изучению
мыслительного процесса, которое философы считали столь
существенным для философии логики? Только в большинстве случаев они
впутывались в несущественные психологические исследования, и для
моего метода существует подобная опасность.
4.1122 Дарвиновская теория имеет не большее отношение к
философии, чем любая иная научная гипотеза.
4.113 Философия ограничивает спорную территорию науки.
4.114 Она призвана определить границы мыслимого и тем самым
немыслимого.
Немыслимое она должна ограничить изнутри через мыслимое.
4.115 Она дает понять, что не может быть сказано, ясно
представляя то, что может быть сказано.
4.116 Все, что вообще мыслимо, можно мыслить ясно. Все, что
поддается высказыванию, может быть высказано ясно.
4.121 ...То, что выражает себя в языке, мы не можем выразить с
помощью языка.
Предложение показывает логическую форму действительности.
Оно предъявляет ее.
4.122 ...Внутренние свойства и отношения... только показывают
себя в предложениях, изображающих соответствующие события и
рассказывающих о соответствующих объектах.
6.113 Специфическим признаком логических предложений
является то, что их истинность может быть распознана по одному лишь их
символу, и это обстоятельство заключает в себе всю философию
логики. Столь же важное значение имеет и то, что истинность или
ложность нелогических предложений нельзя установить лишь из самих
этих предложений.
6.13 Логика не учение, а отражение мира.
Логика трансцендентальна.
6.211 ...(Вопрос: «Для чего, собственно, мы используем это слово, это
предложение?» — всегда ведет к ценным прозрениям в философии.)
17
Поиск ясности
6.22 Логику мира, которую предложения логики показывают и
тавтологиях, математика показывает в уравнениях.
6.371 В основе всего современного мировоззрения лежит иллюзия,
будто бы так называемые законы природы суть объяснения
природных явлений.
6.372 Так, перед законами природы останавливаются как перед
чем-то неприкосновенным — словно древние перед Богом и Судьбой.
Причем в обоих подходах есть верное и неверное. Старый,
конечно, ясней, поскольку он признает некий четкий предел, в то
время как в новых системах может создаваться впечатление, будто все
объяснено.
6.41 Смысл мира должен находиться вне мира. В мире все есть,
как оно есть, и все происходит, как оно происходит; в нем нет
ценности — а если бы она и была, то не имела бы ценности.
Если есть некая ценность, действительно обладающая ценностью,
она должна находиться вне всего происходящего и так-бытия. Ибо
все происходящее и так-бытие случайны.
То, что делает его неслучайным, не может находиться в мире, ибо
иначе оно бы вновь стало случайным.
Оно должно находиться вне мира.
6.42 Потому и невозможны предложения этики.
Высшее не выразить предложениями.
6.421 Понятно, что этика не поддается высказыванию.
Этика трансцендентальна. <...>
6.43 Если добрая или злая воля изменяет мир, то ей по силам
изменить лишь границы мира, £ не факты — не то, что может быть
выражено посредством языка.
Короче, мир благодаря этому должен тогда вообще стать другим.
Он должен как бы уменьшиться или увеличиться как целое.
Мир счастливого иной, чем мир несчастного.
6.421 Также, как со смертью, мир не изменяется, а прекращается.
6.4312 <...> Живи я вечно— разве этим раскрывалась бы некая
тайна? Разве и тогда эта вечная жизнь не была бы столь же
загадочной, как и нынешняя? Постижение тайны жизни в пространстве и
времени лежит вне пространства и времени.
(Ведь здесь подлежит решению вовсе не какая-то из проблем
науки.)
6.432 С точки зрения высшего совершенно безразлично, как
обстоят дела в мире ( Wie die Welt ist). Бог не обнаруживается в мире.
6.4321 Факты всецело причастны лишь постановке задачи, но не
процессу ее решения.
6.44 Мистическое — не то, как мир есть, а что он есть.
6.45 Созерцание мира с точки зрения вечности — это созерцание
его как целого — ограниченного целого.
18
Л. Витгенштейн. Мысли о философии
Переживание мира как ограниченного целого — вот что такое
мистическое.
6.5 Для ответа, который невозможно высказать, не выскажешь и
вопрос.
Тайны не существует.
Если вопрос вообще может быть поставлен, то на него можно и
ответить.
6.51 Скептицизм не неопровержим, но явно бессмыслен,
поскольку он пытается сомневаться там, где невозможно спрашивать.
Ибо сомнение может существовать только там, где существует
вопрос; вопрос — только там, где нечто может быть высказано.
6.52 Мы чувствуем, что, если бы даже были получены ответы на
все возможные научные вопросы, наши жизненные проблемы совсем
не были бы затронуты этим. Тогда, конечно, уж не осталось бы
вопросов, но это и было бы определенным ответом.
6.521 Решение жизненной проблемы мы замечаем по
исчезновению этой проблемы.
(Не потому ли те, кому после долгих сомнений стал ясен смысл
жизни, все же не в состоянии сказать, в чем состоит этот смысл.)
6.522 В самом деле, существует невысказываемое. Оно
показывает себя, это — мистическое.
6.53 Правильный метод философии, собственно, состоял бы в
следующем: ничего не говорить, кроме того, что может быть сказано, т.е.
кроме высказываний науки, — следовательно, чего-то такого, что не
имеет ничего общего с философией. — А всякий раз, когда кто-то
захотел бы высказать нечто метафизическое, доказывать ему, что он не
наделил значением определенные знаки своих предложений. Этот
метод не приносил бы удовлетворения собеседнику — он не
чувствовал бы, что его обучают философии, — но лишь такой метод был бы
безупречно правильным.
6.54 Мои предложения служат прояснению: тот, кто поймет меня,
поднявшись с их помощью — по ним — над ними, в конечном счете
признает, что они бессмысленны. (Он должен, так сказать, отбросить
лестницу, после того как поднимется по ней.)
Ему нужно преодолеть эти предложения, тогда он правильно
увидит мир.
7 О чем невозможно говорить, о том следует молчать.
2*
19
Поиск ясности
Философские исследования
[Предисловие автора]
Публикуемые здесь мысли — конденсат философских
исследований, занимавших меня последние шестнадцать лет. <...> Я записал
все эти мысли в форме заметок, коротких абзацев. <...> Я с самого
начала намеревался объединить все эти мысли в одной книге, форма
которой в разное время представлялась мне разной. <...>
После нескольких неудачных попыток увязать мои результаты в...
нечто целое я понял, что это мне никогда не удастся. Что лучшее из того,
что я мог бы написать, все равно осталось бы лишь философскими
заметками. Что, как только я пытался принудить мои мысли идти в одном
направлении вопреки их естественной склонности, они вскоре
оскудевали. — И это было, безусловно, связано с природой самого
исследования. Именно оно принуждает нас странствовать по обширному полю
мысли, пересекая его вдоль и поперек в самых разных направлениях. —
Философские заметки в этой книге — это как бы множество пейзажных
набросков, созданных в ходе этих долгих и запутанных странствий.
Причем с приближением к тем же или почти тем же пунктам с
разных сторон, как бы заново, делались все новые зарисовки <...> —
Итак, эта моя книга, в сущности, только альбом.
Четыре года назад у меня был повод перечитать мою первую книгу
(«Логико-философский трактат») и пояснить ее идеи. Тут мне вдруг
показалось, что следовало бы опубликовать те мои старые и новые
мысли вместе; что только в противопоставлении такого рода и на
фоне моего прежнего образа мыслей эти новые идеи могли получить
правильное освещение.
Ибо, вновь занявшись философией шестнадцать лет назад, я был
вынужден признать, что моя первая книга содержит серьезные
ошибки. <...>
То, что я публикую здесь, перекликается — на то есть не одна
причина — с тем, что сегодня пишут другие. — Коль скоро на моих
заметках нет штемпеля, удостоверяющего мое авторство, то мне в
дальнейшем никак не предъявить права на них как на свою собственность.
Я представляю их к публикации с противоречивыми чувствами.
Не исключено, что этой работе, при всем ее несовершенстве и при
том, что мы живем в мрачное время, будет суждено внести ясность в
ту или иную голову; но, конечно, это не столь уж и вероятно.
Своим сочинением я не стремился избавить других от усилий
мысли. Мне хотелось иного: побудить кого-нибудь, если это
возможно, к самостоятельному мышлению.
20
Л. Витгенштейн. Мысли о философии
Фрагменты из произведения
89 <...> В каком смысле логика — нечто сублимированное?
Ведь нам кажется, что логике присуща особая глубина —
универсальное значение. Представляется, что она лежит в основе всех наук.
Ибо логическое исследование выявляет природу всех предметов. Оно
призвано проникать в основания вещей, а не заботиться о тех или
иных фактических событиях. — Логика вырастает не из интереса к
тому, что происходит в природе, не из потребности постичь
причинные связи, а из стремления понять фундамент или сущность всего,
что дано в опыте. А для этого не надо устремляться на поиски новых
фактов, для нашего исследования существенно то, что мы не
стремимся узнать с их помощью что-то новое. Мы хотим понять нечто
такое, что уже открыто нашему взору. Ибо нам кажется, что как раз
этого мы в каком-то смысле не понимаем.
Августин в «Исповеди» (XI/14) говорит: «Quid est ergo tempos? Si
nevo ex me quaerat scio; si quazenti explicare velim, nescio»2. -— Этого
нельзя было бы сказать о каком-нибудь вопросе естествознания
(например, об удельном весе водорода). Что человек знает, когда никто
его об этом не спрашивает, и не знает, когда должен объяснить это
кому-то, — и есть то, о чем нужно напоминать себе. (А это явно то,
о чем почему-то вспоминается с трудом.)
90 Нам представляется, будто мы должны проникнуть в глубь
явлений, однако наше исследование направлено не на явления, а,
можно сказать, на возможности явлений. То есть мы напоминаем себе о
типе высказывания, повествующего о явлениях. Оттого и Августин
припоминает различные высказывания о длительности событий, об
их прошлом, настоящем, будущем. (Конечно, это не философские
высказывания о времени, о прошлом, настоящем и будущем.)
Поэтому наше исследование является грамматическим. И это
исследование проливает свет на нашу проблему, устраняя
недоразумения, связанные с употреблением слов в языке, недопонимание,
порождаемое в числе прочего и определенными аналогиями между формами
выражения в различных сферах нашего языка. — Некоторые из них
можно устранить, заменив одну форму выражения другой, такую
замену можно назвать «анализом» наших форм выражения, ибо этот
процесс иногда напоминает разложение на составные элементы.
91 При этом может создаться впечатление, будто существует нечто
подобное окончательному анализу наших языковых форм,
следовательно, единственная полностью разобранная на элементы форма
выражения. То есть впечатление таково, будто наши общепринятые
формы выражения, по сути, еще не проанализированы, будто в них
скрывается нечто такое, что нам следует выявить. Кажется, сделай мы
это выражение совершенно ясным, наша задача будет решена.
21
Поиск ясности
Это можно сформулировать и так: мы устраняем недоразумения,
делая наше выражение более точным; но при лом может
показаться, будто мы стремимся к особому состоянию, состоянию полной
томности; и будто именно в этом состоит подлинная цель нашего
исследования.
92 Это находит свое выражение в вопросе о сущности языка,
предложения, мышления. — Что касается наших исследований, в которых
мы тоже пытаемся понять сущность языка — его функцию, его
структуру, — то в них под сущностью все же имеется в виду не то* что в
приведенном вопросе. Дело в том, что вышеназванный вопрос не
предполагает, что сущность— нечто явленное открыто и
делающееся обозримым при упорядочивании. Напротив, подразумевается, что
сущность— нечто скрытое, не лежащее на поверхности, нечто
заложенное внутри, видимое нами лишь тогда, когда мы проникаем в
глубь вещи, нечто такое, до чего должен докопаться наш анализ.
«Сущность скрыта от нас» — вот форма, которую тогда
принимает наша проблема. Мы вопрошаем: «Что такое язык?», «Что такое
предложение?» И ответ на эти вопросы нужно дать раз и навсегда;
притом независимо от любого будущего опыта.
93 ...Впечатление, будто предложение совершает нечто
необычайное, — следствие недопонимании.
94 ...Дело в том, что наши формы выражения всячески мешают
видеть, что происходят обычные вещи, отправляя нас в погоню за
химерами.
96 ...Мышление, язык кажутся нам... единственным в своем роде
коррелятом, картиной мира.
97 Мышление окружено неким ореолом. — Его сущность, логика
представляет некий порядок, а именно априорный порядок мира, т.е.
порядок возможностей, который должен быть общим для мира и
мышления. Но кажется, что этот порядок должен быть предельно
простым. Он до всякого опыта; он долен пронизывать весь опыт; сам же
он не может быть подвластен смутности или неопределенности
опыта. — Напротив, он должен быть из чистейшего кристалла. Но этот
кристалл должен быть явлен не в виде абстракции, а как нечто
весьма конкретное, даже самое конкретное, как бы самое незыблемое из
всего, что есть (Логико-философский трактат. 5.5563).
Мы находимся во власти иллюзии, будто своеобразное, глубокое,
существенное в нашем исследовании заключено в стремлении
постичь ни с чем не сравнимую сущность языка, т.е. понять порядок
соотношения понятий: предложение, слово, умозаключение, истина,
опыт и т.д. Этот порядок есть как бы с#е/и-порядок сверх-понятий. А
между тем, если слова «язык», «опыт», «мир» находят применение,
оно должно быть столь же непритязательным, как и использование
слов «стол», «лампа», «дверь».
22
Л. Витгенштейн. Мысли о философии
100 ...Берусь утверждать: мы неверно понимаем ту роль, какую в
наших способах выражения играет идеал. Т. е. мы <...> ослеплены
идеалом и потому неясно понимаем действительное употребление слова.
101 ...Нами владеет представление, что идеал «должен» быть
найден в действительности. Вместе с тем, пока еще непонятно, каким
образом он может быть там найден, и непонятна природа этого
«должен». Причем мы думаем: идеал должен быть найден в
действительности; ибо думаем, что уже усматриваем его там.
102 Строгие и ясные правила логической структуры предложения
представляются нам чем-то скрывающимся в глубине, в сфере
понимания. Я уже вижу их (хотя и сквозь некую сферу), ибо я пониманию
знак предложения, я пользуюсь им — чтобы что-то сказать.
103 По нашим представлениям, этот идеал незыблем. Ты не
можешь выйти за его пределы. Ты всегда должен возвращаться к нему.
Вне его ничего нет; вне его нечем дышать. — Откуда пришло к нам
такое представление? Похоже, оно сидит в нас, как очки на носу, —
на что бы мы ни смотрели, мы смотрим через них. Нам никогда не
приходит в голову снять эти очки.
104 Мы приписываем самой вещи то, что заложено в нашем
способе ее представления. Под впечатлением возможности сравнения мы
думаем, что воспринимаем предельно общее фактическое положение
вещей.
105 Если мы считаем, что должны найти вышеуказанный порядок,
идеал, в реальном языке, нас перестает удовлетворять то, что
называют «предложением», «словом», «знаком» в обыденной жизни.
С точки зрения логики, предложение, слово должны быть чем-то
чистым, четко очерченным. И тут мы ломаем голову над сущностью
подлинного знака. — Является ли она представлением о знаке как
таковом или же представлением, связанным сданным моментом?
106 При этом, как бы витая в облаках, с трудом понимаешь, что
надлежит оставаться в сфере предметов повседневного мышления, а
не сбиваться с пути, воображая, будто требуется описывать крайне
тонкие вещи, которые, оказывается, не поддаются описанию с
помощью имеющихся у нас средств. Чувствуешь себя так, словно тебе
выпала задача своими пальцами восстановить разорванную паутину.
107 Чем пристальнее мы приглядываемся к реальному языку, тем
резче проявляется конфликт между ним и нашим требованием. (Ведь
кристальная чистота логики оказывается для нас недостижимой, она
остается всего лишь требованием.) Это противостояние делается
невыносимым; требованию чистоты грозит превращение в нечто
пустое. — Оно заводит нас на гладкий лед, где отсутствует трение, стало
быть, условия в каком-то смысле становятся идеальными, но
именно поэтому мы не в состоянии двигаться. Мы хотим идти: тогда нам
нужно трение. Назад на грубую почву!
23
Поиск ясности
108 Мы узнаем: то, что называют «предложением», «языком», —
это не формальное единство, которое я вообразил, а семейство более
или менее родственных образований. — Как же тогда быть с логикой?
Ведь ее строгость оказывается обманчивой. — А не исчезает ли
вместе с тем и сама логика? — Ибо как логика может поступиться своей
строгостью? Ждать от нее послаблений в том, что касается
строгости, понятно, не приходится. Предрассудок кристальной чистоты
логики может быть устранен лишь в том случае, если развернуть все наше
исследование в ином направлении. (Можно сказать: исследование
должно быть переориентировано под углом зрения наших реальных
потребностей.)
<...> Мы говорим о пространственном и временном феномене
языка... так, как говорят о шахматных фигурах, устанавливая
правила игры с ними, а не описывая их физические свойства.
Вопрос «Чем реально является слово?» аналогичен вопросу «Что
такое шахматная фигура?».
109 Что верно, то верно: нашим изысканиям не обязательно быть
научными. У нас не вызывает интереса опытное знание о том, что
«вопреки нашим предубеждениям нечто можно мыслить так или
этак», что бы это ни означало... И нам не надо развивать никакую
теорию. Гипотетическое в наших рассуждениях неправомерно. Нам
следует отказаться от всякого объяснения и заменить его только
описанием. Причем это описание обретает свое целевое назначение —
способность прояснять — в связи с философскими проблемами.
Таковые, конечно, не являются эмпирическими проблемами, они
решаются путем такого всматривания в работу нашего языка, которое
позволяет осознать его действия вопреки склонности неверно их
истолковать. Проблемы решаются не приобретением нового опыта,
а путем упорядочения уже давно известного. Философия есть
борьба против околдовывания [заморачивания] нашего интеллекта
средствами нашего языка.
110 Утверждение «Язык (или мышление) есть нечто уникальное»
оказывается неким суеверием (а не ошибкой!), порождаемым
грамматическими иллюзиями.
Его патетика — отсвет именно этих иллюзий, этой проблемы.
111 Проблемам, возникающим из-за неверного толкования наших
языковых форм, присуща глубина. Это глубокие беспокойства; они
укоренены в нас столь же глубоко, как и формы нашего языка, и их
значение столь же велико, сколь велика для нас важность языка. —
Зададимся вопросом: почему грамматическая шутка воспринимается
нами как глубокая?(К это как раз и есть философская глубина.)
114 «Логико-философский трактат» (4, 5): «Общая форма
предложения такова: дело обстоит так». — Предложение такого рода люди
повторяют бесчисленное множество раз, полагая при этом, будто
24
Л. Витгенштейн. Мысли о философии
вновь и вновь исследуют природу. На самом же деде здесь просто
очерчивается форма, через которую мы воспринимаем ее.
115 Нас берет в плен картина. И мы не можем выйти за ее
пределы, ибо она заключена в нашем языке и тот как бы нещадно
повторяет ее нам.
116 Когда философы употребляют — «знание», «бытие», «объект»,
«я», «предложение», «имя» — и пытаются схватить сущность
соответствующей вещи, всегда стоит поинтересоваться: так ли фактически
употребляется это слово в языке, откуда оно родом?
Мы возвращаем эти слова от метафизического к их
повседневному употреблению.
117 Мне говорят: «Ты понимаешь это выражение, не так ли?
Выходит, я использую его в том значении, которое тебе знакомо». — Как
будто значение — аура, присущая слову и привносимая им с собой в
каждое его употребление...
118 В чем же ценность нашего исследования, казалось бы, лишь
разрушающего все интересное, т.е. все великое и важное? (Как бы
разрушающего все строения, оставляя лишь обломки, камни и
мусор.) Но оно разрушает лишь воздушные замки, расчищая почву
языка, на которой они возведены.
119 Итоги философии — обнаружение той или иной сглаженной
бессмыслицы да вмятины от травм, которые получил рассудок,
наталкиваясь на границы языка. Они, эти вмятины, и позволяют нам
понять ценность такого открытия.
122 Главный источник нашего недопонимания в том, что мы не
обозреваем употребления наших слов. — Нашей грамматике
недостает такой наглядности. — Именно наглядно представленное действие
рождает то понимание, которое заключается в «усмотрении связей»
[контекстов]. Отсюда важность отыскивания и изобретения промеоку-
точных [переходных] случаев.
Понятие наглядного действия (übersichtlichen Darstellung) имеет
для нас принципиальное значение. Оно характеризует тип нашего
представления, способ нашего рассмотрения вещей. (Разве это не
«мировоззрение»?)
123 Философская проблема имеет форму: «Я в тупике».
124 Философия никоим образом не смеет посягать на
действительное употребление языка, в конечном счете она может только
описывать его.
Ибо дать ему вместе с тем и какое-то обоснование она не в силах.
Она оставляет все так, как оно есть.
И математику она оставляет такой, как она есть, ни одно
математическое открытие не может продвинуть ее. «Ведущая проблема
математической логики» остается для нас такой же проблемой
математики, как и любая другая.
25
Поиск ясности
125 Разрешать противоречия с помощью математических, логико-
математических открытий — не дело философии. Она признана ясно
показать то состояние математики, которое нас беспокоит, —
состояние до разрешения противоречия. (И это не уход от трудности.)
Главное здесь вот что: мы устанавливаем правила и технику игры,
а затем, следуя этим правилам, сталкиваемся с тем, что все идет не
так, как было задумано нами. Что, следовательно, мы как бы
запутались в собственных правилах.
Именно эту «запутанность в собственных правилах» мы и хотим
понять, т.е. ясно рассмотреть.
Это проливает свет на понятие полагания. Ибо в таких случаях
дело идет иначе, чем мы полагали, предвидели. Ведь говорим же мы,
например, столкнувшись с противоречием: «Этого я не предполагал».
Гражданское положение противоречия, или его положение в
гражданском обществе, — вот философская проблема.
126 Философия просто все предъявляет нам, ничего не объясняя
и не делая выводов. — Так как все открыто взору, не надо ничего
объяснять. Ведь нас интересует не то, что скрыто.
«Философией» можно было бы назвать и то, что возможно до всех
новых открытий и изобретений.
127 Труд философа — это осуществляемый с особой целью подбор
припоминаний.
128 Если попытаться сформулировать в философии тезисы,
никогда бы не удалось довести дело до дискуссии о них, так как все
согласились бы с ними.
129 Наиболее важные для нас аспекты вещей утаены их простотой
и повседневностью. (Это то, чего не замечают, — потому что оно
всегда перед глазами.) Подлинные основания собственного
исследования совсем не привлекают внимания человека. До тех пор пока
однажды это не бросится ему в глаза. — И выходит: то, что не бросается
нам в глаза, будучи увидено однажды, оказывается самым
бросающимся в глаза и наиболее характерным3.
254 Типичной уловкой в философии является и подстановка
слова «тождественный» (identisch) вместо «одинаковый» (gleich)
(например). Как если бы речь шла об оттенках значения и от нас
требовалось лишь найти слово для передачи нужного нюанса. Но в процессе
философствования это нужно лишь тогда, когда возникает задача
психологически точного изображения нашей склонности
использовать определенную форму выражения. То, что мы в таком случае
«склонны говорить», — это, конечно, не философия, а лишь материал
для нее. Так, например, то, что склонен говорить математик об
объективности и реальности математических фактов, — не
философия математики, а нечто, что должна исследовать* философия.
26
Л. Витгенштейн. Мысли о философии
255 Философ лечит вопрос — как болезнь.
261 ...В ходе философствования рано или поздно наступает такой
момент: когда уже хочется издать лишь некий нечленораздельный
звук.
— Но такой звук служит выражением только в определенной
языковой игре, которую в данном случае требуется описать.
295 ...Вглядываясь в самих себя в процессе философствования, мы
часто видим перед собой... прямо-таки живописное изображение
нашей грамматики. Не факты, а как бы иллюстрированные обороты
речи.
299 Невозможность удержаться — будучи во власти
философского мышления — от того, чтобы не сказать того-то, и неодолимая
склонность это сказать не означают, что нас к тому побуждает
некоторое предположение или непосредственное рассмотрение какого-то
положения вещей либо знание о нем.
308 Как же возникает философская проблема душевных
процессов, состояний и бихевиоризма?— Первый шаг к ней совершенно
незаметен. Мы говорим о процессах и состояниях, оставляя
нераскрытой их природу! Предполагается, что когда-нибудь мы, пожалуй,
будем знать о них больше. Но это-то и предопределяет особый
способ нашего рассмотрения явлений. Ибо мы уже составили
определенное понятие о том, что значит познать процесс полнее. (Решающее
движение в трюке фокусника уже сделано, нам же оно кажется
невинным.) — И вот рушится аналогия, призванная прояснить наши
мысли. Выходит, что нужно отрицать еще не понятый процесс в еще
не изученном субстрате. Так возникает видимость отрицания нами
душевных процессов. А мы, естественно, не собираемся их отрицать!
309 Какова твоя цель в философии? — Показать мухе выход из
мухоловки.
436 Если полагать, будто вся сложность задачи тут состоит в том,
что нужно описывать трудноуловимые явления, быстро
ускользающие переживания данного момента или что-то в этом роде, то легко
попасть в тупик философствования. Тогда обычный язык покажется
нам слишком грубым, как будто мы должны иметь дело не с теми
явлениями, о которых говорят повседневно, а «с теми, что легко
ускользают и в своем возникновении и исчезновении лишь огрубленно
продуцируют те первые».
(Августин: Manifestissima et usitatissima sunt, et eadem rusus latent, et
nova est inventio com m5.)
27
Поиск ясности
593 Главная причина философских недомоганий — однообразная
диета: люди питают свое мышление только одним видом примеров.
599 В философии не выводят заключений. «Но это должно быть
так» — не предложение философии. Она [философия] лишь
утверждает [формулирует] то, что признается каждым.
600 Разве все, что не бросается нам в глаза, производит
впечатление не бросающегося в глаза? Разве обычное всегда создает
впечатление обычности?
Из «Замечаний по основаниям математики»6
122 Машина (ее конструкция) как символ образа действия:.,
кажется, что, зная машину, мы совершенно определенно представляем
себе и все остальное, движения, которые она совершает.
125 Когда же... люди думают: машина неким таинственным
образом уже содержит в себе свои возможные движения? — Ну, когда
философствуют. А что подстрекает так думать? Тот способ, каким
говорят о машине. Мы говорим, например, что машина имеет такие-то
возможности движения (обладает ими): мы говорим об идеально
жесткой машине, которая может двигаться лишь таким образом. —
Возможность движения, что это такое? Возможность движения не есть
движение; кажется, что она не является и простым физическим
условием движения... Возможность движения должна быть некоей тенью
самого движения. А знаешь ли ты такую тень? <...> (Смотри-ка, как
высоко вздымаются здесь волны языка! Однако волны тут же
улягутся, стоит нам только спросить себя: как мы используем выражение
«возможность движения», говоря о машине? А откуда тогда приходят
к нам эти странные идеи?) <...>
Мы обращаем внимание на наши собственные способы
выражения, касающиеся этих вещей, но не понимаем и ложно
интерпретируем их. Философствуя, мы поступаем как дикари, как первобытные
люди, которые слышат способы выражения цивилизованных людей,
ложно истолковывают их и затем извлекают из этого странные
следствия.
126 ...Странным предложение кажется только тогда, когда его
представляют в иной языковой игре — не в той, где мы его
фактически употребляем. (Кто-то рассказывал мне, что, будучи ребенком, он
удивлялся тому, как это портной «шьет платье», — он думал, что это
28
Л. Витгенштейн. Мысли о философии
означает, будто платье создается одним только шитьем как таковым,
т. е. как бы пришиванием нити к нити |без ткани|.)
127 Непонятное употребление слова толкуется как выражение
какого-то странного процесса. (Подобно тому как время представляется
особой средой, а душа необычной сущностью.)
Во всех этих случаях трудность возникает из-за смешения глаголов
«быть» и «называться».
128 Связь, полагаемая не как причинная, эмпирическая, а как
значительно более сильная и прочная, вплоть до того, что одно в каком-
то отношении есть другое, всегда представляет собой
грамматическую связь.
Из книги «Культура и ценность»7
Моя манера философствовать пока еще всякий раз нова для меня
самого, вот почему я вынужден так часто повторяться. Другому же
поколению она войдет в плоть и кровь, и оно сочтет эти повторения
скучными. Мне же они необходимы (С. 1 ).
Поверь кто-то, что найдено решение жизненной проблемы, будь
он готов заявить, что теперь ему все так легко, — в опровержение
самого себя ему достаточно было бы вспомнить о том времени, когда
это «решение» еще не было найдено; но и в ту пору надо было уметь
жить, и тогда найденное решение покажется ему случайным. Так и в
логике. Располагая неким «решением» логической (философской)
проблемы, нам не следовало бы забывать, что в свое время она не
была решена (но и тогда нужно было уметь жить и мыслить) (С. 4).
Мы сражаемся с языком.
Мы пребываем в состоянии борьбы с языком.
Решение философской проблемы можно уподобить подарку в
волшебной сказке: в заколдованном замке он представляется таким
прекрасным, при свете же дня оказывается всего лишь куском
обыкновенного железа (или чем-то в этом роде) (С. 11).
Философию вновь и вновь упрекают в том, что она, по сути, не
движется вперед, что те же самые философские проблемы, что
занимали еще греков, продолжают занимать и нас. Но те, кто это
заявляет, не понимают, отчего именно так и должно быть. Причина
заключена в том, что наш язык остается тем же самым и вновь и вновь
склоняет нас к постановке тех же самых вопросов. Коль скоро
сохраняется глагол «быть», казалось бы, функционирующий подобно
глаголам «есть» и «пить», коль скоро имеются прилагательные «тожде-
29
Поиск ясности
ственный», «истинный», «ложный», «возможный», до тех пор, пока
мы говорим о потоке времени и протяженности пространства и т.д.
и т.п., — люди всегда будут сталкиваться с одними и теми же
загадочными трудностями и всматриваться во что-то, что, по-видимому, не
может быть устранено никакими разъяснениями.
Более того, это удовлетворяет потребность в трансцендентном,
ибо люди, полагая, что видят «границы человеческого рассудка»,
считают само собой разумеющимся, что они способны заглянуть и за
них.
Я читаю: «К смыслу "сущего"' философы ныне не ближе, чем
Платон». Какое странное положение вещей. Сколь поразительно вообще,
что Платон смог продвинуться так далеко! Или же что мы не сумели
пойти дальше! В том ли причина, что Платон был столь умен? (С. 15)
Язык для всех готовит сходные ловушки, огромную сеть
протоптанных лжедорог. И мы видим идущих одного за другим по этому
лабиринту, наперед зная, что вот здесь человек свернет, здесь
проследует прямо, не заметив развилки, и т.д. и т.п. Стало быть, во всех
местах, где дороги ответвляются в тупик, я должен выставлять
таблички, помогающие преодолевать опасные перекрестки (С. 17).
Полагаю, что мое отношение к философии суммарно можно
выразить так: философию, по сути, можно лишь творить. Отсюда, мне
кажется, можно заключить, в какой мере мое мышление
принадлежит настоящему, будущему или прошлому. Ибо тем самым я
признал, что и сам не вполне способен на то, каким желал бы видеть дело
философа (С. 24).
Решение встающей перед тобой жизненной проблемы — в образе
жизни, приводящем к тому, что проблематичное исчезает (С. 27).
В философских гонках выигрывает тот, кто способен бежать
медленнее всех. Или же тот, кто приходит к цели последним (С. 34).
Язык философов уже деформирован — как бывают
деформированы ступни слишком тесной обувью (С. 41).
Философ тот, кто сперва должен излечиться от многих недугов
собственного рассудка, прежде чем он придет к понятиям здравого
человеческого разумения (С. 44).
Глубоко проникнуть в затруднение — вот что трудно.
Ведь, схваченное поверхностно, оно так и останется
затруднением. Оно вырывается с корнем; а это значит, что нужно начать думать
30
Л. Витгенштейн. Мысли о философии
об этих вещах по-новому. Данное изменение столь же радикально,
как. скажем, переход от алхимического метода мышления к
химическому — именно новый образ мысли и утверждается так тяжело.
С утверждением же нового образа мысли старые проблемы
исчезают: более того, становится трудным уловить, в чем же они
состояли. Дело в том, что они коренятся в способе выражения, а коль
скоро в дело вовлечен новый способ выражения, то вместе с прежним
облачением снимаются и старые проблемы (С. 48).
Мне думается, что христианство помимо всего прочего говорит о
том. что все хорошие учения ни к чему не пригодны. Люди должны
изменить жизнь. (Или направление жизни.)
Оно гласит, что всякая мудрость холодна и что исправить с ее
помощью человеческую жизнь так же трудно, как ковать холодное
железо (С. 53).
Мечты человека о будущем философии, искусства, науки могли
бы осуществиться лишь благодаря случаю. То, что ему видится, есть
продолжение мира его мечты и, стало быть, скорее всего есть
желаемое (а возможно, и нет), но не действительное (С. 57).
Постоянно забывают восходить к основаниям. Вопросительные
знаки ставят на недостаточной глубине (С. 62).
Да поможет Бог философу проникнуть в то, что находится у всех
перед глазами (С. 63).
Философствуя, следует возвратиться в старый хаос и
почувствовать себя там хорошо (С. 65).
Лишь в тот или иной момент срабатывает, продвигая мысль
вперед, какое-то из написанных мною здесь предложений; остальные же
подобны лязгающим ножницам парикмахера, которые — дабы
сработать в нужный момент — беспрерывно должны быть в движении.
Стоит столкнуться с вопросами далеких для тебя областей, на
которые не можешь ответить, как становится (вроде бы) понятным,
почему ты еще не разбираешься как следует и в менее отдаленных
предметах. Ибо откуда известно, что препоны для ответа в одном случае —
совсем не те, что мешают рассеять туман в другом? (С. 66).
Проблемы жизни не решаемы на поверхности, их решение —
лишь в глубине. В поверхностных размерностях они неразрешимы.
31
Поиск ясности
Не позволяй себя запутать употреблением общих понятийных
слов. Как само собой разумеющееся принимай не возможность
сравнения, а несравнимость.
И все же нет ничего важнее процесса образования вымышленных
понятий, лишь обучающих нас пониманию наших понятий (С. 74).
Составить из бесчисленных фрагментов, выявляемых в языке,
целостную картину понятийных соотношений — задача для меня
непосильная (С. 78).
Научные вопросы могут интересовать меня, но никогда
по-настоящему не захватывают. Увлечь меня способны лишь концептуальные
и эстетические вопросы. Решение научных проблем для меня в
принципе безразлично; решение же этих, иных, — нет (С. 79).
...Картину, прочно утвердившуюся в нашем сознании, можно,
конечно, сравнить с предрассудком, но при этом нужно признать и то,
что человеку всегда необходимо опираться на что-то твердое, будь то
картина или нечто иное, так что картину, лежащую в основе всего
мышления, следует уважать, а не обходиться с нею как с
предрассудком (С. 83).
...Если верующий в Бога человек спрашивает, оглядываясь вокруг
себя: «Откуда все то, что я вижу?», «Откуда все это?», — он жаждет не
определенного (причинного) объяснения; суть его вопроса в
выражении именно жажды. То есть он выражает некий настрой по
отношению ко всем объяснениям. — А как такой настрой проявляется в его
жизни?
Речь идет о взгляде, при котором определенные вещи в известных
границах считаются серьезными, а затем, с какого-то момента, уже
больше не воспринимаются всерьез, признается, что есть нечто куда
более важное. <...>
По сути, я хочу сказать, что тут дело не в словах, произносимых
человеком, и не в сопутствующих им мыслях; важно, сколь различно
происходящее при этих словах в разных пунктах самой жизни. <...>
Смысл словам придает определенная практика (С. 85).
<...> Философия не достигла никакого прогресса? А разве нельзя
усмотреть прогресс в том, что человек чешет зудящее место? Это ведь
и впрямь некий зуд и некое раздражение, не так ли? И разве наша
реакция на раздражение не может оставаться именно такой до тех
пор, пока не будет найдено средство против зуда? (С. 86-87).
32
М.С. Козлова
Необычное дело философа
Подход Л. Витгенштейна
Среди отличительных черт философской мысли XX в. выделяются
живой интерес к языку и напряженный поиск смысла, сути
философствования. Единство этих тем, пожалуй, никто не воплотил в своем
творчестве в большей мере, чем Людвиг Витгенштейн (1889-1951).
Его родиной и духовным домом была Австрия, профессиональное же
становление и работа как философа оказались тесно связанными с
Англией, Здесь он с честью прошел недолгое, но весьма
плодотворное ученичество у известного логика и философа Бертрана Рассела и,
отталкиваясь от его идей, создал оригинальную философскую
концепцию, представленную в его «Логико-философском трактате»
(1921). Позже позиции философа претерпели серьезные изменения.
Новые идеи были развернуты в «Философских исследованиях» (1953)
и целом ряде других произведений, извлекаемых издателями из
рукописного наследия Витгенштейна и публикуемых посмертно (при
жизни автора увидел свет лишь «Логико-философский трактат»).
Витгенштейн был открыт мировой философской культуре.
Наиболее ценимые им философы — Платон, Августин, Кант. Он любил
читать Кьеркегора, Шопенгауэра, Ницше, высоко чтил творчество Л.
Толстого и Достоевского. Он оказался способным воспринимать
критику своих позиций и откликаться на новые идеи и методы
(американский прагматизм и др.). При всем том Витгенштейн не позволял себе
«подпадать под влияние», постоянно созидая собственное видение,
понимание, решение занимавших его проблем. Поиск ответов на
волновавшие его вопросы заполнил собою всю жизнь Витгенштейна,
позволил ему снискать славу выдающегося философа XX столетия.
Имя Витгенштейна принято связывать с так называемой
аналитической (или «лингвистической») философией, хотя и имеющей корни
в классической традиции, но все же представляющей собой
специфическое явление философской культуры именно XX в. Еще в
студенческий период в Кембридже (1912-1913) Витгенштейн примкнул к
движению философского анализа, исходный импульс которому дали в
начале века Б. Рассел и Дж.Э. Мур, взбунтовавшиеся против
доминировавшего в ту пору в британской философии «абсолютного
идеализма» Брэдли, Бозанкета и др. Витгенштейн, вдохновленный идеями
учителя, активно включился в философию анализа и достиг в этом
деле новых результатов, существенно продвинувших и развивших то,
что было сделано его наставниками. Воротами, через которые он
вошел в философию, послужили математическая логика и философское
33
Поиск ясности
осмысление ее новаторских для того времени методов и результатов.
Отклик у ученика нашла программная идея Б. Рассела: «Логика есть
сущность философии», — и на все его творчество легла печать
теснейшей связи логики и философии. Об этом красноречиво говорит
уже само название «Логико-философский трактат». Позже, когда
позиции Витгенштейна претерпят заметное изменение и внимание его
переключится со строго логических рассуждений на запутанные
приемы реального речевого разумения, он все-таки будет вновь и вновь
пояснять читателю, что его исследования носят концептуальный, или
«грамматический», т.е. логико-философский, характер.
В мышлении Витгенштейна в самом деле сфокусирована целая
эпоха развития аналитического движения в философии XX
столетия: от его работ тянутся идейные нити к двум главным
разновидностям данной традиции: логико-аналитическому ее варианту, с
одной стороны, и «лингвистическому» — с другой. С именем этого
мыслителя связывают не просто решение тех или иных конкретных
проблем анализа языка — в нем склонны видеть создателя самой
концепции аналитической философии, связывая с ним
«поворотный пункт», якобы произошедший в западной философии между
двумя мировыми войнами*. Весьма компетентные исследователи
подчеркивают, что наиболее примечательно во взглядах
Витгенштейна его понимание того, что собой представляет философия и чем
ей надлежит быть.
Философия Витгенштейна — плод его долгих, напряженных
раздумий — весьма своеобразна и трудна для понимания, имеет разные
прочтения, истолкования. Его труды — собрания кратких, как
правило, пронумерованных (при подготовке к изданию) афоризмов
или заметок, извлекаемых из философских дневников, которые
велись постоянно. В «Логико-философском трактате» автору удалось
привести свои мысли в стройную систему. Но в «Философских
исследованиях» и в других трудах второго периода творчества это не
получилось: размышление не подчинялось четкому логическому
упорядочению. Витгенштейну пришлось смириться с этим: свои
перекликающиеся между собой соображения он сравнивал с беглыми
эскизными зарисовками во время долгих и запутанных философских
странствий. Найденный им новый необычный метод, стилистика
философских раздумий как бы препоручают самому читателю уловить
целостность подхода, единство позиций, активно включиться в
решение проблем и непрерывно думать самому. Никаких готовых ответов
не дается. Основной формой размышления становится (как это уже
было, например, у Сократа) вопрос. Во второй период творчества
Витгенштейн приходит к заключению, что в философии вопрос
всегда предпочтительнее ответа — ибо ответ может быть неверным,
исчерпание же одного вопроса другим неверным быть не может. Т.е.
34
M.С. Козлова. Необычное дело философа
преобразование одного вопроса в ряд разъясняющих его все новых
вопросов в конце концов приводит к ясному пониманию того, как
обстоит дело. Исходный же вопрос как бы угасает, снимается.
Характерное философское вопрошание мыслитель сравнивал с неутолимой
жаждой или уподоблял вопросу «Почему?» в устах ребенка. Для
правильного понимания позиций Витгенштейна важно верно подобрать
исходный ключ, постичь, хотя бы в общих чертах, смысл и цель всей
его философской работы. Изучение трудов философа убеждает в том,
что при всей их кажущейся фрагментарности излагаемые в них
мысли тесно связаны между собой, постоянно перекликаются,
объединены особым пониманием природы и задач философии. Суть такого
понимания — в рассмотрении философских проблем как проблем
языка или «философской грамматики». Витгенштейн пришел к
выводу в духе Канта — что философские проблемы носят принципиально
иной характер, чем проблемы науки. Философствование, в его
понимании, — это особая интеллектуальная деятельность, суть которой
составляет, говоря кратко, поиск ясности. «Постановка философских
проблем зиждется на непонимании логики нашего языка.
Цель философии — логическое прояснение мыслей... Мысли,
обычно как бы туманные и расплывчатые, философия призвана
делать ясными и отчетливыми», — такова принципиальная позиция,
сформулированная в «Логико-философском трактате». Стремлением
к ясности, устранению всевозможных концептуально-языковых
помех мышлению, к адекватному, незамутненному пониманию
реальности, преодолению «заморочек» языка проникнут каждый абзац и в
сочинениях позднего Витгенштейна. В соответствии с методом,
которому он постоянно следует, «принцип ясности» (назовем его так)
вырисовывается, «показывает» себя лишь в работе, в процессе
многих конкретных анализов. Лишь вчитываясь вновь и вновь в тексты
философа, начинаешь понимать, что идея ясности характеризует
адекватную корреляцию вербального и реального, действительности
и знания, суждения о ней. Итак, назначение философии
Витгенштейн усмотрел в неискаженном, свободном от предвзятости видении
реальности сквозь языковые средства ее выражения («очки»), в
разработке методов прояснения языка, устранения понятийных
«ловушек» и других помех верной интеллектуальной ориентации в мире и
жизненных ситуациях.
В первый период творчества (в «Трактате») Витгенштейн вынес на
первый план проблему ясной репрезентации мира, фактов, объектов
средствами языка — иначе говоря, проблему построения мысленной
«картины» мира. Философ полагал, что компетентное уяснение того,
что мы в состоянии узнать о мире (в его терминах: что может быть
сказано ясно), одновременно проливает свет на различные сферы
жизни, в принципе не подвластные научному постижению и невыра-
35
Поиск ясности
зимые в характерном для него типе языка естественнонаучного
знания. Это — этическое, эстетическое, религиозное переживание мира
и жизни, постижение смысла жизни и др.
С начала 30-х годов и позже внимание философа сфокусируется
на варьирующих, меняющихся ситуациях и типах человеческой
деятельности, на различных «формах жизни». В связи с этим непомерно
усложнится и волновавшая его проблема. Однако сохранится в
полной мере основное стремление к ясному, незамутненному
разумению, поиску выходов из понятийных тупиков («задача философии —
показать мухе выход из мухоловки»), умению верно осмысливать
всевозможные реалии, коррелировать вербальное и реальное.
Очевидно, что ясность воззрения, интеллектуальной, духовной
ориентации в различных формах жизни, деятельности не
представляла бы сколько-нибудь сложной проблемы, если бы она достигалась
сама собой, без особых затруднений. Между тем концептуальная
ясность, верное разумение всего, с чем имеют дело люди, — это в
полной мере сознавал Витгенштейн — дело нелегкое. На пути к ним
расставлено много препятствий, дезориентирующих факторов, помех.
Предметом пристального внимания Витгенштейна стали
концептуальные сбои мышления, обусловленные языковыми иллюзиями,
порождаемые рядом склонностей ума, укорененных в механизмах
языка. Одной из опаснейших тенденций человеческого мышления
философ считал догматизм — склонность рассматривать понятия и
соответствующие им реалии как резко очерченные, жесткие,
статичные. В своих поздних работах философ буквально развернул атаку на
догматизм в самых разных его проявлениях. Критике были
подвергнуты предвзятость, приверженность лишь одной точке зрения,
неумение изменить позицию, взглянуть на дело иначе, с другой точки
зрения. Привлекается внимание к многообразию и многогранности
реалий, к различиям возможных точек зрения, способов
употребления понятий, к вариациям языковых значений и пр. Постоянно
подчеркивается нестатичный, гибкий, опосредованный многими
факторами характер отношения человека даже к чувственно
воспринимаемой реальности, не говоря уже о более сложных формах
опыта, знания, культуры. Витгенштейн не уставал выявлять активный
характер сознания, способность человека, в зависимости от типа
деятельности, в которую он включен в то или иное время, от типа
решаемой задачи и пр., принимать разные углы зрения, способы
восприятия, понимания вещей.
При этом «секрет», внутренний стержень всевозможных способов
понимания заключен, по мысли Витгенштейна, в понятийном
аппарате, умении верно (в соответствии с ситуацией, родом
деятельности и пр.) осмысливать, применять мыслительный инструментарий.
Учение Витгенштейна пронизано мыслью: все на свете осмысливает-
36
M.С. Козлова. Необычное дело философа
ся через призму понятийно-речевых форм, которые (подобно
всяким универсальным средствам) никогда не бывают точно пригнаны
для решения варьируемых многообразных задач. Этим объясняется
возможность различных «аберраций» и необходимость «доводки»,
корректировки понятийного аппарата во все новых ситуациях его
применения. Причем такая «доводка» предполагает не переделку
языка (замену его искусственным, формульным языком и пр.), а
тренировку нашего умения видеть действие («грамматику») понятий
в правильном свете, избегая «языкового гипноза», «колдовства»
(порой даже «дурмана») слов. Поэтому процесс философского
исследования в процедурном его аспекте мыслится как кропотливая
критическая работа по разрешению разного рода понятийно-речевых
трудностей, запутывающих соотнесение человеческого опыта,
речевого интеллекта, разного рода действий и реального мира.
(Философия есть «критика языка».)
Делом философа Витгенштейну представлялся анализ,
прояснение концептуальных структур языка, через «сетку» которых
осмысливается мир. Это можно сравнить с протиранием загрязнившихся,
запотевших очков, с подбором более подходящих для того или иного
случая линз или даже с особой тренировкой глаз, формированием
иных навыков, способов видения. Правда, процедуры прояснения,
предлагаемые Витгенштейном, упражняют не столько зрение или
другие органы чувств, сколько речевой интеллект, приучая более
гибко и адекватно воспринимать работу языка, преодолевать сбивающую
с толку предвзятость, которой — он это понял — так подвержено
человеческое разумение.
Трудоемкое дело философа представилось Витгенштейну своего
рода «терапией» концептуальных недугов (всевозможные путаницы,
ловушки, тупики) или шире— «профилактикой», обучением,
интеллектуально-речевым тренингом, совершенствованием «разрешающей
способности» понятийного аппарата людей. Сочинения философа
показывают, что все его внимание поглощено поиском приемов
«высвечивания» механизмов действия речевого интеллекта в его сложной и
многообразной работе. Приемы, методы прояснения мыслятся как
средство, способ, путь к достижению цели. Целью же проясняющей
(аналитической или герменевтической) деятельности считается
концептуальная ясность, верное, многомерное понимание всевозможных
реалий. Таким вкратце представляется витгенштейновский взгляд на
философию. В текстах философа он представлен в действии, работе,
проявляет себя в анализе множества характерных философских
проблем-тупиков («философская проблема: я попал в тупик»).
Итак, решая для себя один из сложнейших вопросов — что есть
философия, — Витгенштейн пришел к убеждению: она — не то, за что ее,
как правило, принимают. Философия — не род знания (типа научно-
37
Поиск ясности
го или близкого к нему), но особая деятельность по анализу языка,
прояснению понятийного аппарата, устранению путаницы и
бессмыслицы. Постоянный интерес Витгенштейна к понятийно-речевой
стороне рассуждения определялся пониманием того, что весь
специфический человеческий опыт есть вербализованный опыт. Все его
формы переплетены с языком, структурированы им,
обеспечиваются особыми коммуникативно-речевыми системами. При этом особое
внимание уделяется факторам, искажающим, затуманивающим,
делающим неясной как общую картину опыта в целом, так и восприятие
его конкретных фрагментов, подсистем. «Философские проблемы
разрешаются всматриванием в работу языка и осознанием этой
работы вопреки побуждениям неверно понять ее». Многообразные и
нескончаемые прояснения тех или иных понятий, способов их
действий, выполняемых функций, адресованные в текстах Витгенштейна
ученикам, коллегам, воображаемым собеседникам, самому себе, —
это мучительная попытка научиться самому и научить других не
пасовать перед трудностями использования «хитрых» понятий. Это —
стремление освоить навыки гибкого и тонкого — умелого — владения
мыслительно-речевым инструментарием, а стало быть, достичь
ясного понимания всего происходящего, научиться избегать ловушек,
которые уготованы нам в языке и в которые нас порой так ловко
загоняют («компостируя» или «пудря» мозги, если выражаться на
современном жаргоне) мастера идеологических и политических «игр»
или «трюков».
Витгенштейна не удовлетворял подход к философии как к
корпусу теоретических знаний, как к двойнику науки. Он предвидел, что
типичный ученый, эта плоть от плоти европейской цивилизации (а в том
же ключе мыслят и те, кто занят философией), не поймет духа его
работ. «Моя цель иная, чем цель ученого, и движения моей и его мысли
различны»9. Путь, уже апробированный многими философами, —
возведение корпуса теоретических выкладок— Витгенштейн расценил
как бесперспективный и неоднократно подчеркивал, что не создает
никакой теории. Возможно, среди мотивов, которыми он
руководствовался, были и такие: каждая из основополагающих теорий в свою
очередь требует сложной работы ее уяснения. Ведь на расшифровку,
истолкование философских трактатов тратится не меньше времени и сил,
чем на интерпретацию научных теорий. Кроме того, стать на путь все
новых теоретических обоснований, т.е., как говорится, «гнать зайца
дальше в лес», в философии, как считает Витгенштейн, просто не дано.
Идея бесконечного обоснования — мысленный образ, базирующийся
на абстрактном представлении о потенциальной осуществимости. Но
люди — конечные существа, им нужна реальная ориентация в сложном
сцеплении проблем здесь и теперь. Всем обоснованиям рано или
поздно приходит предел, подчеркивал Витгенштейн. В конечном счете
38
M.С. Козлова. Необычное дело философа
все теоретические построения и даже просто вербализации
упираются в жизненную практику. «В деянии начало бытия», — время от
времени цитировал философ из «Фауста» Гёте. Философия
представлялась ему предельным уровнем уяснения, которое уже не может
строиться теоретическим способом, а должно выступить в форме
деяния, практики, совокупности процедур. Там, где наука и другие
области профессиональной деятельности и интеллектуального труда
граничат с широким полем человеческой жизни, культуры,
начинается миссия философа по уяснению сути, смысла всего, чем живут, что
созидают, думают, переживают, говорят и совершают люди.
Можно полагать, что, кроме прочего, Витгенштейну не
импонировало и то, что любая обосновывающая теоретическая система все же
оставалась бы событием главным образом для
специалистов-философов, почти не внося изменений в такую важную область культуры, как
непрофессиональное мышление или человеческая мудрость. Его же,
судя по всему, куда больше, чем наука или другие профессиональные
задачи, интересовало и волновало именно миропонимание,
практически освоенное человеческим мышлением, работающее реально
(навыки, умения), притом работающее куда более мощно, массовидно,
чем самые тонкие находки мысли академического философа. Если
искать в европейской истории аналог тому образу философии, что
был близок Витгенштейну, то, пожалуй, можно говорить о
присутствии в его творчестве и педагогической деятельности (поздний
период) навыков практической философии, культивируемых софистами
и отчасти воспринятых Сократом. В его философских «беседах»,
упражнениях, иллюстрациях слышна «ирония», расшатываются ходячие
представления, точнее, присущие людям концептуальные навыки (это
выражается в том, что именно их с готовностью «изрекают» или
склонны изречь в том или другом случае), указывается путь к более
верному пониманию. При этом не даются готовые ответы
(дефиниции понятий и т.п.). В случае понятийного тупика это не помогает.
Вместо этого старого, но малоэффективного, на взгляд
Витгенштейна, приема осуществляется конкретный поиск выхода из тупика.
Совершается лепка творческого мышления собеседника (ученика и пр.),
тренируется его умение гибко и конкретно применять те или иные
понятия в варьируемых ситуациях. Витгенштейн придает большое
значение этому деятельному, формирующему, дидактическому
аспекту философии. Разрабатываемые им процедуры понятийных
прояснений заключают в себе массу возможностей в области «мирской»
философии — в педагогической, просветительской,
публицистической и другой работе философов, в их «диалогах», «встречах» с
политиками, юристами, художниками, священниками, моралистами и пр.
В конце концов не в заученных формулах, а в живом
философствовании способна проявить себя и профессионально отточенная твор-
39
Поиск ясности
ческая мысль философа, включаясь и в решение сколь угодно
специальных проблем на стыке философии и науки, и в уяснение
запутанных концептуальных (а стало быть, и мировоззренческих)
проблем всевозможного рода.
Вдумываясь в рассуждения Витгенштейна, приходишь к выводу,
что ясность в его понимании характеризует не сам по себе язык или его
понятийную основу. Иначе говоря, ясными или неясными бывают не
сами по себе мыслительные средства. Проблема коренится в нас, в
нашем умении (или неумении) оперировать понятиями согласно
сложным и тонким правилам языка, сообразуясь с условиями места,
времени, ситуации и пр. Время от времени философ повторял: с языком все
в порядке, — что, по-видимому, подразумевает: непорядок бывает с
людьми, повсеместно, повседневно на разные лады использующими
язык. «Языковые игры» (термин Витгенштейна) предполагают
владение этим сложнейшим инструментом. Прибегая к аналогии с музыкой,
«языковые игры», пожалуй, можно сопоставить в каких-то отношениях
с игрой на музыкальном инструменте или с исполнением
музыкального произведения оркестром. И там и тут требуются слаженность и
согласие, владение правилами, «исполнительским» мастерством и пр. В
отсутствие этих условий «игра» не сладится.
И все-таки дело философа, как явствует из размышлений
Витгенштейна, — не просто язык. В фокусе его внимания человек, его жизнь,
мировоззрение, мировидение, его интеллектуальное, душевное,
духовное «здоровье». А все это, мыслитель в этом убежден, тесно связано со
степенью совершенства речевого инструментария. Речевой «дефицит»,
неадекватное понимание концептуально-грамматических форм мысли,
подобно искажающим очкам, порождают неверное видение и
осмысление вещей, людей, познания, жизненных ситуаций. Нами же
созданные ложные вербализованные картины нещадно навязывают себя нам.
Мы весьма часто (тому приводится много примеров) оказываемся у
них в плену, начинаем применять где надо и не надо, нередко
принимая и выдавая нами же созданные картины за реальное положение
вещей. Бывает и так: мы создаем те или иные правила «игры»
(соответствующей формы деятельности), а затем запутываемся в них, нашем
собственном детище. Умение ясно понимать, коррелировать
концептуальное и реальное жизненно необходимо, а значит, предполагается
и тренировка, навык, освоение «техники игры». Ее невозможно задать
людям в теоретической форме, в виде логически связной системы
посылок, выводов, итоговых заключений. Навыки понятийного
мышления, «грамматика» мысли и действия (а они тесно связаны) относятся
не столько к «сказанному», сколько к «показанному». Вот почему
Витгенштейн постоянно подчеркивает: философия — это деяние. Путь,
приемы прояснения нелегки: из понятийных ловушек выбираться
трудно. Результат же прост: достижение ясности. Но простым он пред-
40
M.С. Козлова. Необычное дело философа
ставляется лишь тогда, когда найден. Ясность— много это или мало?
Вдумавшись, понимаешь: освобождение от речевого «балласта»,
«дымовой завесы» слов, фраз, обретение ясного понимания — значимость
такого результата для людей трудно переоценить, и, может быть,
сегодня это все острее осознается как насущная жизненная потребность. И
чувство сопереживания у многих могут вызвать слова еше молодого
Витгенштейна из письма его учителю Расселу: «Боже, как я хочу
больше понимать и хочу, чтобы мне наконец все стало ясно: иначе я не
могу жить дальше»10.
Вчитайтесь в предлагаемые вашему вниманию отрывки из текстов
философа. Понять их нелегко. Философия вообще дело нелегкое. Но
попытаться стоит. Витгенштейн был убежден: философию, по сути,
можно лишь творить. Ее нельзя воспринять и носить при себе как
нечто готовое. Это — деяние. Вот почему Витгенштейн ждал от
своего читателя сотрудничества, сотворчества: «Я не стремился избавить
других от усилий мысли. Мне хотелось иного: побудить кого-нибудь,
если это возможно, к самостоятельному мышлению»11.
Примечания
Логико-философский трактат: перевод с издания: Wittgenstein L.
Logisch-philosophisch Abhadliing // Tractatus logico-philosophicus. London, 1966.
Философские исследования: перевод с издания: Wittgenstein L. Philosophische
Untersuchungen// Philosophical investigations. Oxford, 1967.
1 В тексте: естественных наук — Naturwissenshaften. Но для Винтгенштеина это —
синоним науки, наук вооше. Наука понимается как фактуальное в своей основе
(т. е. натуральное) знание — идет ли речь о природе, истории, культуре —
неважно.
2 Что такое время? Если никто меня не спрашивает, знаю, если же хочу пояснить
спрашивающему, не знаю (лат.).
3 Stärkste — наиболее прочное, устойчивое, массовидное.
4 У Витгенштейна zubehaudeln (медицинская метафора): исследовать и лечить.
5 Самое очевидное и наиболее употребимое вместе с тем весьма скрыто, и его
открытие ново.
6 Wittgenstein L. Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik //' Remarks on the
Foundations of Mathematics. Oxford, 1967. P. 204.
7 Wittgenstein L. Vermischte Bemerkungen // Culture and Value. Oxford, 1980. P. 87.
* См.: LUjiuk M. Поворот в философии // Аналитическая философия. Избранные
тексты. М., 1993.
9 Wittgenstein L. Vermischte Bemerkungen // Culture and Value. P. 30.
10 Wittgenstein L. Letters to Betrrand Russell. Oxford, 1974. P. 14.
" Wittgenstein /,. Philosophische Untersuchungen // Philosophical investigations. L., 1956. S.X.
41
Поиск ясности
Рудольф Карнап
Преодоление метафизики
логическим анализом языка
1. Введение
Начиная с греческих скептиков вплоть до эмпиристов XIX столетия
существовало много противников метафизики. Выдвигаемые
сомнения были весьма различны. Некоторые объявляли учение
метафизики ложным, поскольку оно противоречит опытному познанию.
Другие считали ее просто недостоверной, так как в ней ставятся вопросы,
выходящие за границы человеческого познания. Многие
антиметафизики подчеркивали бесплодность занятий метафизическими
вопросами; можно ли на них ответить или нет — во всяком случае, не
следует о них печалиться; надо целиком посвятить себя практическим
задачам, которые предъявляет действующим людям каждый день!
Благодаря развитию современной логики стало возможным по-новому,
более строго, ответить на вопрос о законности и праве метафизики.
Исследования в области «прикладной логики» или «теории познания», в
которых ставится задача выяснить с помощью логического анализа
познавательное содержание научных предложений, а тем самым и
значение слов («понятий»), встречающихся в этих предложениях, приводят к
положительному и отрицательному результатам. Положительный
результат вырабатывается в сфере эмпирической науки; разъясняются
отдельные понятия из различных областей науки, раскрывается их
формально-логическая и теоретико-познавательная связь. В области же
метафизики (включая всю аксиологию и учение о нормах) логический
анализ приводит к отрицательному выводу, состоящему в том, что
мнимые предлоэюения этой области совершенно бессмысленны. Тем самым
достигается радикальное преодоление метафизики, которое с более
ранних антиметафизических позиций было еще невозможным. Правда,
такого рода мысли встречаются уже в некоторых более ранних
рассуждениях например, номиналистического типа; но решительное их
проведение возможно лишь сегодня, после того как логика благодаря своему
развитию в последние десятилетия стала достаточно острым орудием.
Утверждая, что так называемые предложения метафизики
являются бессмысленными, мы понимаем это слово в строгом значении.
42
Р. Карнап. Преодоление метафизики логическим анализом языка
В нестрогом значении бессмысленным обычно называют
предложение или вопрос, если их проработка совершенно бесплодна
(например, вопрос: «Каков средний вес тех лиц в Вене, телефонный
номер которых оканчивается цифрой "3V?)>> или предложение,
ложность коего совершенно очевидна (например: «В 1910 г. в Вене
было шесть жителей»), или же такое, которое ложно не только с
эмпирической, но и с логической точки зрения, т.е. является
контрадикторным (например: «Из лиц А и Б каждый на один год
старше, чем другой»). Предложения такого рода, будь они бесплодны
или ложны, все-таки осмысленны, ибо только осмысленные
предложения можно вообще подразделить на (теоретически)
плодотворные и бесплодные, истинные и ложные. В строгом значении
бессмысленным является ряд слов, который внутри определенного
языка вообще не образует предложения. Бывает, что такой ряд
слов на первый взгляд как будто бы является предложением; в этом
случае мы называем его псевдопредложением. Мы утверждаем, что
мнимые предложения метафизики путем логического анализа
языка разоблачаются как псевдопредложения.
Язык состоит из слов и синтаксиса, т.е. из наличных слов, которые
имеют значение, и из правил образования предложений; эти правила
указывают, каким путем из слов можно строить предложения
различного вида. Соответственно, существует два вида псевдопредложений:
либо в них встречается слово, относительно которого лишь ошибочно
полагают, что оно наделено значением, либо употребляемые слова хотя
и имеют значение, но составлены в противоречии с правилами
синтаксиса, так что они лишены смысла. Мы увидим на примерах, что
псевдопредложения обоих видов встречаются в метафизике. Затем мы
должны будем выяснить, каковы основания для нашего утверждения о
том, что вся метафизика состоит из таких предложений.
2. Значение слова
Если слово (в определенном языке) имеет значение, то обыкновенно
говорят, что оно обозначает «понятие»; но если только кажется, что
слово имеет значение, в то время как в действительности оно им не
обладает, то мы говорим о «псевдопонятии». Как объяснить
возникновение таковых? Разве не каждое слово вводится в язык только
затем, чтобы выражать что-либо определенное, так что оно, начиная с
первого употребления, имеет определенное значение? Как могли
появиться в естественном языке слова, не обладающие значением?
Первоначально, правда, каждое слово (за редким исключением,
примеры которых мы дадим позже) имело значение. В ходе исторического
развития слово часто изменяло свое значение. И теперь иногда быва-
43
Поиск ясности
еттак, что слово, потерям свое старое значение, не получило нового.
Вследствие этого возникает псевдопонятие.
В чем состоит значение слова? Каким требованиям должно
отвечать слово, чтобы иметь значение? (Ясно ли оговорены эти
требования, как это имеет место по отношению к некоторым словам и
символам современной науки, или молчаливо предполагаются, как у
большинства слов традиционного языка, — на это мы здесь не
обращаем внимания.) Во-первых, должен быть установлен синтаксис
слова, т. е. способ его включения в простейшую форму предложения, в
которой оно может встречаться; мы называем эту форму
предложения элементарным предложением для данного слова. Элементарная
форма предложения для слова «камень» — «л: есть камень»; в
предложениях этой формы на месте «д:» стоит какое-нибудь название из
категории вещей, например, «этот алмаз», «это яблоко» Во-вторых,
элементарное предложение «S» (для соответствующего определенному
слову) предполагает ответ на следующий вопрос, который мы можем
сформулировать по-разному:
1. Из каких предложений выводимо Su какие предложения
выводимы из него?
2. При каких условиях S истинно и при каких ложно?
3. Как верифицировать 5?
4. Какой смысл имеет *S?
(1) — корректная формулировка; формулировка (2) представляет
собой способ выражения, характерный для логики, (3) — манера
выражения в сфере теории познания, (4) — философии
(феноменологии). Как показал Витгенштейн, то, что философы имели в виду под
(4), раскрывается через (2): смысл предложения заключен в его
критерии истинности. (1) представляет собой «металогическую»
формулировку; подробное описание металогики как теории синтаксиса и
смысла, отношений выведения, будет дано позже, в другом месте.
Значение многих слов, а именно преобладающего числа всех слов
науки, можно определить путем сведения к другим словам
(«конституция», дефиниция). Например: «Членистоногие суть
беспозвоночные, с расчлененными конечностями и хитиновым панцирем». Этим
для элементарной формы предложения «вещь л: есть членистоногое»
дается ответ на поставленный выше вопрос: установлено, что
предложение этой формы должно быть выводимо из посылок вида: «хесть
животное», «хесть беспозвоночное», «х имеет расчлененные
конечности», «х имеет хитиновый панцирь», и что, наоборот, каждое из
этих предложений должно быть выводимо из первого. Путем
определения выводимости (иными словами, владея критерием истинности,
методом верификации, смыслом) элементарного предложения о
«членистоногих» устанавливается значение слова «членистоногие»
Таким образом, каждое слово языка сводится к другим словам, а в
44
Р. Карнап. Преодоление метафизики логическим анализом языка
конечном счете к слонам в так называемых «предложениях
наблюдения» или «протокольных предложениях». Посредством такого
сведения слово получает свое содержание.
Вопрос о содержании и форме первичных предложений (протокольных
предложений), на который доныне не найдено окончательного ответа, мы
можем оставить в стороне. В теории познания обычно говорят, что
первичные предложения относятся к «данному»; однако в вопросе трактовки
самого данного нет единства. Иногда защищается точка зрения, что
предложения о данном повествуют о простейших чувственных качествах и
элементарных состояниях (например, «теплый», «синий», «радость» и т.п.);
иные склоняются к мнению, что первичные предложения говорят об
общих переживаниях и отношениях сходства между таковыми; наконец, еще
одна позиция предполагает, что первичные предложения говорят о вещах.
Независимо от различия этих подходов бесспорно, что ряд слов только
тогда обладает смыслом, когда установлено, как он выводится из
протокольных предложений, какого бы качества они ни были; как бесспорно и
то, что слово имеет значение лишь тогда, когда предложение, в которое
оно может входить, сводимо к протокольным предложениям.
Если значение слова определяется его критерием (другими
словами: отношениями выведения его элементарного предложения, его
критерием истинности, методом его верификации), то после
установления критерия нельзя сверх этого добавлять, что «подразумевается»
под этим словом. Следует указать не менее, чем критерий; но нужно
также указать не больше, чем критерий, ибо этим определяется все
остальное. В критерии значение содержится имплицитно, остается
только представить его эксплицитно.
Предположим, например, что кто-нибудь образует новое слово
«бебик» и утверждает, что имеются вещи, которые бебичны, и такие,
которые небебичны. Чтобы узнать значение слова, мы спросим
этого человека о критерии: как в конкретном случае установить,
является ли определенная вешь бебичной или нет? Предположим, что
спрашиваемый на вопрос не ответил: он сказал, что для бебичности нет
эмпирических характеристик. В этом случае мы считаем
употребление этого слова недопустимым. Если он все же настаивает на
употребляемости слова, утверждая, что имеются только бебичные и небе-
бичные вещи, но для ущербного, конечного человеческого рассудка
навсегда останется вечной тайной, какие вещи бебичны, а какие нет,
то мы будем рассматривать это как пустую болтовню. Может быть, он
станет уверять, что под словом «бебик» он нечто подразумевает.
Однако из этого мы узнаем лишь психологический факт, что он
связывает с этим словом какие-то представления и чувства. Но благодаря
этому слово не получает значения. Если лпя нового слова не установ-
45
Поиск ясности
лен критерий, то предложения, в которых оно встречается, ничего не
выражают, они оказываются пустыми псевдопредложениями.
А теперь предположим, что критерий для нового слова «бебик»
установлен; а именно, предложение «эта вещь есть "бебик"» истинно в
том и только в том случае, если вещь четырехугольна. (При этом для
нас неважно, дан ли критерий явно или мы установили его путем
наблюдений того, в каких случаях слово употреблялось
утвердительно, а в каких отрицательно.) В данном случае мы скажем: слово
«бебик» имеет то же значение, что и слово «четырехугольный». С нашей
точки зрения, будет недопустимым, если употребляющие это слово
нам скажут, что они «подразумевали» нечто другое, нежели
«четырехугольный»; правда, каждая четырехугольная вещь бебична и
наоборот, но это связано только с тем, что четырехугольность — видимое
выражение бебичности, последнее же является скрытым,
непосредственно не воспринимаемым качеством. Мы возразим: после того как
здесь был установлен критерий, тем самым было установлено, что
означают слова «бебик» и «четырехугольный», и теперь мы вовсе не
свободны «подразумевать» под этим словом что-либо другое.
Результат нашего исследования можно резюмировать следующим
образом: пусть «я» есть некоторое слово и S (а) — элементарное
предложение, в которое оно входит. Достаточное и необходимое условие
того, чтобы «я» имело значение, может быть дано в каждой из
следующих формулировок, которые в своей основе выражают одно и то же:
1. Известны эмпирические признаки «а».
2. Установлено, из каких протокольных предложений может быть
выведено S (а).
3. Установлены условия истинности для S (а).
4. Известен способ верификации S(a)].
3. Метафизические слова без значения
Многие слова метафизики, как теперь обнаруживается, не
отвечают только что указанным требованиям, а следовательно, не имеют
значения.
Возьмем в качестве примера метафизический термин «принцип» (а
именно как принцип бытия, а не как познавательный принцип или
аксиома). Различные метафизики дают ответ на вопрос, что является
(высшим) «принципом мира» (или «вещи», «бытия», «сущего»),
например: вода, число, форма, движение, жизнь, дух, идея, бессознательное,
действие, благо и т.п. Чтобы найти значение, которое имеет слово
«принцип» в этом метафизическом вопросе, мы должны спросить
метафизика, при каких условиях предложение вида «х есть принцип у»
истинно и при каких ложно — иными словами, мы спросим об отли-
46
Р. Карнап. Преодоление метафизики логическим анализом языка
чительных признаках или (дефиниции слова «принцип». Метафизик
ответит примерно так: «л есть принцип у» должно означать «у
происходит из х», «бытие у основывается на бытии х», «у существует через х»
или тому подобное. Однако эти слова многозначны и неопределенны.
Часто они имеют ясное значение, например: мы говорим о предмете
или процессе у, что он «происходит» из х, если мы наблюдали, что за
предметом или процессом видах часто или всегда следует процесс вида
у (каузальная связь в смысле закономерного следования). Но
метафизик нам скажет, что он подразумевал не эту эмпирически
устанавливаемую связь, ибо в таком случае его тезисы были бы простыми
эмпирическими предложениями того же рода, что и предложения физики.
Слово «происходит» не имеет-де здесь значения условно-временной
связи, которое ему присуще обычно. Однако критерия для какого-либо
другого значения метафизик не указывает. Стало быть, мнимого
«метафизического» значения, в отличие от эмпирического значения, которое
слово якобы должно в данном случае иметь, вообще не существует.
Обращаясь к первоначальному значению слова «принципиум» (и
соответствующему греческому слову «архэ» — первоначально), мы замечаем,
что здесь имеется тот же ход развития. Первоначальное значение,
«начало» у слова было изъято; оно не должно было больше означать
первое по времени, а должно означать первое в другом, специфически-
метафизическом смысле. Но критерии для этого «метафизического
смысла» не были указаны. В обоих случаях слово было лишено
прежнего значения, без придания ему нового; от слова осталась пустая
оболочка. Тогда, когда оно еще обладало значением, ему
ассоциативно соответствовали разные представления; они соединяются с новыми
представлениями и чувствами, возникающими в той связи, в которой
отныне употребляется слово. Но благодаря этому слово не получает
значения; оно остается и далее не имеющим значения, до тех пор, пока
не удастся указать путь для верификации.
Другой пример — слово «Бог». Независимо от вариантов
употребления этого слова в разных областях следует различать его
употребление в трех случаях, или исторических периодах, по времени
переходящих один в другой. В мифологическом употреблении языка
указанное слово имеет ясное значение. Этим словом
(соответственно, аналогичными словами других языков) обозначают телесное
существо, восседающее где-то на Олимпе, на небе или в преисподней
и, в большей или меньшей степени, обладающее силой, мудростью,
добротой и счастьем. Иногда это слово обозначает духовно-душевное
существо, которое хотя и не имеет тела, подобного человеческому,
тем не менее как-то проявляет себя в вещах и процессах видимого
мира и поэтому эмпирически фиксируемо. В метафизическом
употреблении слово «Бог» означает нечто сверхэмпирическое. Значение
телесного или облаченного в телесное духовного существа у слова
47
Поиск ясности
было отобрано. Так как нового значения слову не было дано, оно
оказалось вовсе не имеющим значения. Правда, часто кажется,
будто слово «Бог» имеет значение и в метафизическом употреблении. Но
при ближайшем рассмотрении выдвигаемые дефиниции оказываются
псевдодефинициями; они ведут либо к недопустимым
словосочетаниям (о которых речь будет идти позже), либо к другим метафизическим
словам (например: «первопричина», «абсолют», «безусловное»,
«независимое», «самостоятельное» и т.п.), но ни в коем случае не к
условиям истинности его элементарного предложения. У этого слова не
выполнено даже первое требование логики, а именно требование
указания его синтаксиса, т. е. формы его вхождения в элементарное
предложение. Элементарное предложение должно бы иметь форму «л*
есть Бог»; метафизик либо совершенно отклонит эту форму, не давая
другой, либо, если он ее примет, не укажет синтаксической
категории переменной х. (Категориями, например, являются: тело,
свойство тела, отношение между телами, числами и т.д.)
Между мифологическим и метафизическим употреблениями слова
«Бог» стоит его теологическое употребление. Слово здесь не наделено
собственным значением; оно колеблется между двумя уже
указанными видами употребления. Некоторые теологи имеют отчетливо
эмпирическое (в нашем обозначении «мифологическое») понятие Бога. В
этом случае псевдопредложений нет; но изъян для теологов
составляет то, что при этом толковании предложения теологии оказываются
эмпирическими предложениями и поэтому входят в сферу
компетенции эмпирических наук. Другие теологи прибегают к явно
выраженному метафизическому словоупотреблению. Третьих отличает неясное
словоупотребление, прибегают ли они то к одному, то к другому
употреблению слова или неосознанно движутся по обе стороны
переливающегося содержания. Аналогично рассмотренным примерам слов
«принцип» и «Бог» большинство других специфически метафизических
терминов не имеет значения, например: «идея», «абсолют»,
«безусловное», «бесконечное», «бытие сущего», «не-сушее», «вещь-в-себе»,
«абсолютный дух», «объективный дух», «сущность», «бытие-в-себе»,
«в-себе-и-для-себя-бытие», «эманация», «проявление»,
«вычленение», «Я», «не-Я» и т.д. С этими выражениями дело обстоит точно так
же, как со словом «бебик» в ранее рассмотренном примере.
Метафизик будет утверждать, что эмпирические условия истинности можно
не указывать; если он добавит, что под такими словами все же нечто
«подразумевается», то мы знаем, что этим указываются только
сопутствующие представления и чувства, однако благодаря этому слово не
обретает значения. Мнимые предложения метафизики, содержащие
такие слова, не имеют смысла, ничего не обозначают, являются лишь
псевдопредложениями. Как объяснить их историческое
возникновение — это мы обдумаем позже.
48
Р. Карнап. Преодоление метафизики логическим анализом языка
4. Смысл предложения
До сих пор мы рассматривали псевдопредложения, в которых
встречаются слова, не имеющие значения. Существует и второй вид
псевдопредложений. Они состоят из слов, имеющих значение, но эти
слова соединяются в таком порядке, что оказываются лишенными
смысла. Синтаксис языка указывает, какие сочетания слов
допустимы, а какие нет. Грамматический синтаксис естественного языка не
везде выполняет задачу исключения бессмысленных словосочетаний.
Возьмем, например, два ряда слов:
1. «Цезарь есть и».
2. «Цезарь есть простое число».
Ряд слов (1) образован в противоречии с правилами синтаксиса;
синтаксис требует, чтобы на третьем месте стоял не союз, а предикат
или имя прилагательное. В соответствии с правилами синтаксиса
образован, например, ряд «Цезарь есть полководец»; это осмысленный
ряд слов, истинное предложение. Но и ряд слов (2) также образован
в соответствии с правилами синтаксиса, ибо он имеет ту же
грамматическую форму, что и только что приведенное предложение.
Однако, несмотря на это, ряд (2) является бессмысленным. Быть «простым
числом» — это свойство чисел; применительно к личности это
свойство не может ни утверждаться, ни оспариваться. Поскольку ряд (2)
выглядит как предложение, но таковым не является, ничего не
высказывает, не выражает ни существующего, ни несуществующего —
мы называем этот ряд слов «псевдопредложением». Вследствие того
что грамматический синтаксис не нарушен, на первый взгляд может
ошибочно показаться, будто этот ряд слов является предложением,
хотя и ложным. Однако высказывание «а есть простое число» ложно
тогда и только тогда, когда а делится на натуральное число, которое не
является ни я, ни 1; очевидно, что вместо «а» здесь нельзя подставлять
«Цезарь». Этот пример выбран так, чтобы бессмысленность можно
было легко заметить; однако то, что многие из так называемых
метафизических предложений являются псевдопредложениями,
распознается не так легко. Тот факт, что в обычном языке можно, не нарушая
правил грамматики, образовать бессмысленный ряд слов,
свидетельствует, что рассмотренный грамматический синтаксис с логической
точки зрения недостаточен. Если бы грамматический синтаксис точно
соответствовал логическому синтаксису, то не могло бы возникнуть ни
одного псевдопредложения. Если бы грамматический синтаксис
подразделял слова не только на существительные, прилагательные,
глаголы, союзы и т.д., а делал бы еще и определенные различия,
требуемые логикой, внутри каждого вида, то ни одно псевдопредложение
не могло бы быть образовано. Если бы, например, существительные
подразделялись грамматически на несколько видов, в соответствии с
А - !ЫП&
49
Поиск ясности
которыми они бы обозначали свойства тел, чисел и т.д., то слона
«полководец» и «простое число» относились бы к грамматически
различным видам и предложения вида (2) были бы столь же
неверны в грамматическом отношении, как и предложения вида (1).
Стало быть, в правильно построенном языке все бессмысленные
ряды слов относились бы к тому типу, что указан в (1). Тем самым
они в известной мере автоматически исключались бы
грамматикой, т. е. во избежание бессмысленности нужно было бы обращать
внимание не на значение отдельных слов, а только на их вид
(«синтаксические категории», например, вещь, свойство веши,
связь вещей, число, свойства числа, связь чисел и др.). Если верен
наш тезис о том, что предложения метафизики являются
псевдопредложениями, то в логически правильно построенном языке
метафизика была бы вообще невыразима. Отсюда вытекает
философское значение задачи создания логического синтаксиса, над
которым работают логики в настоящее время.
5. Метафизические псевдопредложения
Теперь мы разберем несколько примеров метафизических
псевдопредложений, в которых особенно отчетливо можно увидеть, что
логический синтаксис нарушен, хотя историко-грамматический
синтаксис сохраняется. Мы выбрали несколько предложений из одного
метафизического учения, которое в настоящее время имеет сильное
влияние в Германии2.
«Исследованию подлежит только сущее и более — ничто; одно
сущее и кроме него — ничто; единственно сущее, и сверх того —
ничто. Как обстоит дело с этим Ничто? ...Неужели Ничто имеется
только потому, что имеется Нет, т. е. отрицание? Или как раз наоборот?
Отрицание и Нет имеются только потому, что имеется Ничто?...
Будем утверждать: Ничто первоначальнее, чем Нет и отрицание. ... Где
нам искать Ничто? Как нам найти Ничто? ...Ничто нам известно...
Ужасом приоткрывается Ничто... Там, где нас охватил ужас перед
чем, из-за чего-то, не было, ''собственно" ничего. Так оно и есть:
само Ничто как таковое — явилось нам. ...Как обстоит дело с Ничто?
Ничто само ничтожит»\
Для того чтобы показать, что возможность образования
псевдопредложений основана на логических недостатках языка, обратимся к
приведенной ниже схеме. Предложения под цифрой I как
грамматически, так и логически безупречны, а следовательно, осмысленны.
Предложения под цифрой I (исключая В-3) грамматически полностью
аналогичны соответствующим предложениям под цифрой I. Правда,
форма предложений И-А (как вопрос, так и ответ) не соответствует
50
Р. Карнал. Преодоление метафизики логическим анализом языка
требованиям, которые выдвигаются по отношению к логически
правильному языку. Но, несмотря на это, данные предложения
осмысленны, так как переводимы на корректный язык; это видно из
предложения III-A, имеющего тот же смысл, что и П-А. Нецелесообразность
формы предложения П-А демонстрируется тем, что исходя из нее,
путем грамматически безупречных операций, можно перейти к
бессмысленным формам предложений П-В, взятым из вышеприведенной
цитаты. Правильным языком ряда III эти формы вообще не могут быть
образованы. Однако их бессмысленность на первый взгляд трудно
заметить, так как по аналогии их можно спутать с осмысленными
предложениями I-B. Установленный здесь изъян нашего языка состоит в
том, что, в отличие от логически правильного языка, он допускает
одинаковые формы для осмысленных и бессмысленных
последовательностей слов. К каждому предложению прилагается соответствующая
формула в символах логистики; эти формулы особенно отчетливо дают
понять нецелесообразность аналогии между П-А и I-A и вытекающее
отсюда возникновение бессмысленных образований П-В.
I. Осмысленные предложения обычного языка
A. Как на улице? ул? На улице дождь, ул дж
B. Как обстоит дело с этим дождем? (т.е.: что делает дождь? или:
что еше следует сказать об этом дожде? ? дж
1. Мы знаем дождь з дж
2. Дождь дождит дж дж
II. Возникновение бессмысленных из осмысленных в обычном
языке
A. Как на улице? ул? На улице ничего ул ни
B. Как обстоит дело с этим Ничто? ? ни
1. «Мы ищем Ничто», «Мы находим Ничто», «Мы знаем Ничто» з ни
2. «Ничто ничтожит» ни ни
3. «Ничто имеется только потому, что... » сущ ни
III. Логически корректный язык
A. Не имеется (не существует, не наличествует) нечто, что на
улице. ~(3х) ул (х)
B. Все эти формы вообще не могут быть образованы.
При ближайшем рассмотрении в псевдопредложениях Н-В
обнаруживаются еще некоторые различия. Образование предложений (В)
зиждется просто на ошибке, заключающейся в том, что слово «Ничто»
употребляется как имя объекта, тогда как в обычном языке эту форму
принято употреблять для формулировки отрицательного предложения
существования (см. И-А). В уточненном языке для этих целей служит
4#
51
Поиск ясности
не особое имя, а определенная логическая форма предложения (см.
III-A). В предложении П-В-2 добавляется еше образование слова без
значения— «ничтожить»; предложение, таким образом,
бессмысленно вдвойне. Ранее мы говорили, что метафизические слова, не
имеющие значения, образуются потому, что слово, обладающее
значением, лишается такового благодаря метафорическому его употреблению
в метафизике. Здесь, напротив, перед нами редкий случай, когда
вводится новое слово, которое с самого начала не имеет значения.
Предложение II-B-3 отклоняется нами также по двум причинам. Ему
свойственна та же ошибка (использование слова «Ничто» в качестве
имени объекта), что и вышестоящим предложением. Кроме того, оно
содержит противоречие. Даже если бы было допустимо вводить
слово «Ничто» как имя или обозначение объекта, то в дефиниции
существование этого объекта отрицается, а в предложении (3) оно вновь
утверждается. Стало быть, это предложение, если бы оно уже не было
бессмысленным, контрадикторно, а следовательно, бессмысленно
вдвойне.
Ввиду грубой логической ошибки, которую мы обнаружили в
предложении П-В, можно было бы прийти к предположению, что в
цитируемом отрывке слово «Ничто» имеет совершенно другое значение,
чем обычно. И это предположение еще больше усиливается, когда мы
читаем дальше, что страх обнаруживает Ничто, что в страхе
присутствовало само Ничто, как таковое. Здесь, по-видимому, слово «Ничто»
должно обозначать определенное эмоциональное состояние,
возможно, религиозного толка, или нечто, что лежит в основе такого чувства.
В этом случае указанная логическая ошибка в предложении П-В не
имела бы места. Но начало данной цитаты показывает, что такое
толкование невозможно. Из сопоставления «только» и «и больше ничего
(nichts)» четко вытекает, что слово «nichts» имеет здесь обычное
значение логической частицы, служащей для выражения отрицательного
предложения существования. К такому введению слова «Ничто»
относится главный вопрос отрывка: «Как обстоит дело с этим Ничто?»
Раздумья о том, что наше толкование, возможно, ошибочно,
полностью прекращаются, когда мы убеждаемся в том, что автору статьи
совершенно ясно: его вопросы и предложения противоречат логике. «Вопрос
и ответ относительно Ничто равным образом противоразумны. Обычные
правила мышления, положение о недопустимости противоречий, общая
"логика" — уничтожат такой вопрос». Тем хуже для логики. Мы должны
свергнуть ее господство: «Если сила разума на поле вопросов
относительно Ничто и бытия сломлена, то этим самым решается судьба господства
"логики" внутри философии. Идея логики снимается в круговороте
первоначальных вопросов». Но согласится ли трезвая наука с круговоротом
вопросов, противоречащих логике? На это также дается ответ: «Мнимая
рассудительность и превосходство науки смехотворны, если Ничто не
S?
Р. Кдрнап. Преодоление метафизики логическим анализом языка
принимается в ней всерьез». Итак, мы находим прекрасное
подтверждение нашего взгляда: метафизик сам приходит к констатации, что его
вопросы и ответы несовместимы с логикой и образом мышления науки.
Различие между нашим тезисом и позицией прежнего
антиметафизика стало теперь отчетливее. Метафизика для нас не простая
«игра воображения» или «сказка». Предложения сказки противоречат
не логике, а только опыту; они осмысленны, хотя и ложны.
Метафизика не «суеверие», верить можно в истинные и ложные
предложения, но не в бессмысленный ряд слов. Метафизические предложения
нельзя рассматривать и как «рабочие гипотезы», ибо для гипотезы
существенна ее связь (истинная или ложная) с эмпирическими
предложениями, а именно это отсутствует у метафизических предложений.
Среди ссылок на так называемую ограниченность человеческих
познавательных способностей, в целях спасения метафизики, выдвигается
иногда следующее возражение: метафизические предложения в самом деле не
могут верифицироваться человеком или вообще каким-то конечным
существом; но они имеют значение как предположения о том, что
ответило бы на наши вопросы существо с более высокими или даже с
совершенными познавательными способностями. Против этого возражения мы
хотели бы сказать следующее. Если не указывается значение слова или
если словесный ряд составлен без соблюдения правил синтаксиса, то
вопроса нет. (Подумайте над псевдовопросами: «Этот стол бебик?», «Число
семь священно?», «Какие числа темнее — четные или нечетные?») Где нет
вопроса, там неспособно дать ответ даже всезнающее существо.
Возражающий нам, может быть, скажет: как зрячий может сообщить слепому
новое знание, так высшее существо могло бы сообщить нам метафизическое
знание, скажем, о том, что видимый мир есть проявление духа. Здесь мы
должны поразмыслить над тем, что такое «новое знание». Мы можем себе
представить, что встретили существо, которое сообщит нам нечто новое.
Докажи нам это существо теорему Ферма, изобрети оно новый
физический инструмент или установи неизвестный до этого естественный закон —
наше знание с его помощью, конечно, расширилось бы. Ибо все это мы
могли бы проверить так же, как слепой может проверить и понять всю
физику (и тем самым все предложения зрячего). Но заяви это
гипотетическое существо нечто, что не может быть нами верифицировано, —
сказанное не могло бы быть нами также и понято; для нас тогда в этом
сказанном не содержалось бы вовсе никакой информации, а лишь пустые звуки
без смысла, хотя и связанные, быть может, с определенными
представлениями. Вот почему с помощью другого существа можно узнать больше или
меньше или даже все, однако наше познание может быть расширено
только количественно (знание же принципиально нового рода получить
нельзя). С помощью другого существа можно узнать то, что нам еще
неизвестно; но то, что для нас непредставимо, является бессмысленным, не
53
Поиск ясности
может стать осмысленным с помощью другого, знай он сколь угодно
много. Поэтому в метафизике нам не может помочь ни Бог, ни черт.
6. Бессмысленность всей метафизики
Все проанализированные нами примеры метафизических
предложений взяты только из одной статьи. Однако результаты — по аналогии,
а отчасти буквально — распространяются и на другие метафизические
системы. Для предложения Гегеля, которое цитирует автор статьи
(«Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно, одно и то же»)
наше заключение является совершенно верным. С точки зрения
логики метафизика Гегеля имеет тот же самый характер, какой мы
обнаружили у современной метафизики. Это относится и к остальным
метафизическим системам, хотя способ словоупотребления в них, а
потому и вид логических ошибок в большей или меньшей степени
отклоняется от рассмотренного нами примера.
Дальнейшие примеры анализа отдельных метафизических
предложений можно здесь больше не приводить. Они указывали бы только
на многообразие видов ошибок.
Как представляется, большинство логических ошибок,
встречающихся в псевдопредложениях, покоится на логических дефектах,
заключенных в употреблении слова «быть» в нашем языке (и
соответствующих слов в остальных, по меньшей мере в большинстве европейских
языков). Первая ошибка — двузначность слова «быть»: оно
употребляется и как связка («человек есть продукт истории»)4, и как
обозначение существования («человек есть»). Эта ошибка усугубляется тем, что
метафизику зачастую неясна эта многозначность. Вторая ошибка
коренится в форме глагола при употреблении его во втором значении —
в значении существования. Посредством вербальной формы предикат
постулируется там, где его нет. Правда, уже давно известно, что
существование не есть признак (см. кантовское опровержение
онтологического доказательства бытия Бога). Но лишь современная логика здесь
полностью последовательна: она вводит знак существования в такой
синтаксической форме, что он может относиться не как предикат к
знаку предмета, а только к предикату (см., например, предложение III-
А в таблице). Большинство метафизиков, начиная с глубокого
прошлого, ввиду вербальной, а потому предикативной формы глагола «быть»
приходили к псевдопредложениям — например, «я есть», «Бог есть».
Пример такой ошибки мы находим в «cogito, ergo sum» Декарта.
От содержательных соображений, выдвигаемых против посылки —
является ли предложение «я мыслю» адекватным выражением здравого
смысла или, может быть, содержит гипостазирование, — мы хотели бы здесь пол-
54
Р. Карнап. Преодоление метафизики логическим анализом языка
костью отказаться и рассмотреть оба предложения только с формальной
точки зрения. Мы видим здесь две существенные логические ошибки.
Первая содержится находится в заключительном предложении «я есть». Глагол
«быть», безусловно, употребляется здесь в смысле существования, так как
связка не может употребляться без предиката; кроме того, предложение «я
есть» Декарта постоянно понимается именно в этом смысле. Но тогда это
предложение противоречит вышеприведенному логическому правилу, что
существование может быть высказано только в связи с предикатом, но не в
связи с именем (субъектом, собственным именем). Предложение
существования имеет форму не «а существует» (как здесь: «я есть», т.е. «я
существую»), а «существует нечто того или иного вида». Вторая ошибка
заключена в переходе от «я думаю» к «я существую». Если из предложения «Р (а)»
(в котором «я» приписывается свойство Р) выводится предложение
существования, то это существование можно утверждать только по отношению
к предикату Р, но не по отношению к субъекту а. Из «я европеец» следует
не «я существую», а «существует европеец»; из «я мыслю» следует не «я
существую», а «имеется нечто мыслящее».
То обстоятельство, что наши языки выражают существование с
помощью глагола («быть» или «существовать»), еще не есть
логическая ошибка, а только нецелесообразность, опасность.
Вербальная форма легко приводит к ложному мнению, будто
существование является предикатом; а отсюда следуют такие логические
извращения, а потому бессмысленные выражения, какие были
нами только что рассмотрены. То же самое происхождение имеют
такие формы, как «сущее», «не-сущее», которые издавна играют
большую роль в метафизике. В логически корректном языке такие
формы вообще нельзя образовать. По-видимому, в латинском и
немецком языках, может быть по греческому образцу, была
введена форма «ens», соответственно «сущее» специально для
употребления в метафизике; но, думая устранить недостаток, сделали язык
в логическом отношении хуже.
Другим очень часто встречающимся нарушением логического
синтаксиса является так называемая «путаница областей
[применения! понятий». Только что рассматривавшаяся ошибка состояла в
том, что знак с непредикативным значением употреблялся как
предикат, но как предикат другой «области», т. е. было нарушено
правило так называемой «теории типов». Сконструированным примером
этой ошибки является рассматривавшееся предложение «Цезарь есть
простое число». Имя человека и число принадлежат к разным
логическим областям, а потому предикат личности («полководец») и
предикат числа («простое число») также принадлежат к разным
областям. Путаница областей, в отличие от обсуждавшейся перед этим
ошибки в употреблении глагола «быть», не специфична для метафи-
55
Поиск ясности
зики; эта ошибка встречается, и притом довольно часто, в
обиходной речи. Но здесь она редко ведет к бессмысленности;
многозначность слов по отношению к областям [их применения) здесь такова,
что ее можно легко устранить.
Пример 1. «Этот стол больше, чем тот». 2. «Высота этого стола
больше, чем высота того стола». Здесь слово «больше» употребляется в (1)
как отношение между предметами, в (2) — как отношение между
числами, т. е. для двух различных синтаксических категорий. Ошибка здесь
несущественна: ее можно исключить, записав, например, «больше 1» и
«больше 2»; затем определить «больше 2» с помощью «больше 1»,
поскольку форма предложении (1) объяснима как имеющая одинаковое
значение с (2) (и некоторыми другими ему подобными).
Поскольку путаница областей | применения! в разговорном языке не
ведет к большим бедам, на нее вообще не обращают внимания.
Однако это целесообразно лишь по отношению к обычному употреблению
языка, в метафизике же это ведет к гибельным последствиям. Здесь на
основе привычки, выработанной в повседневной речи, можно прийти
к такой путанице областей, которая не допустит перевода на
логически корректный язык, как это возможно с повседневной речью.
Псевдопредложения этого вида наиболее часто встречаются у Гегеля и Хаидег-
гера, перенявшего вместе со многими особенностями гегелевской
формы языка также и некоторые ее логические недостатки (например:
определения, которые должны относиться к некоторого вида
предметам, а вместо этого относятся к отношению этих предметов к «бытию»,
«наличному бытию» или к отношениям между этими предметами).
После того как мы установили, что многие метафизические
предложения бессмысленны, возникает вопрос: имеются ли в
метафизике такие осмысленные предложения, которые останутся после того,
как мы исключим все бессмысленные?
На основе наших предыдущих выводов можно прийти к
представлению, что в метафизике содержится много опасностей впасть в
бессмысленность и поэтому тот, кто хочет заниматься метафизикой,
должен всячески стараться обойти эти опасности. Но в
действительности дело обстоит таким образом, что осмысленных метафизических
предложений вообще не может быть. Это вытекает из задачи,
которую поставила себе метафизика: она хочет найти и изложить знание,
недоступное эмпирической науке.
Ранее мы установили, что смысл предложения заключен в методе его
верификации. Предложение означает лишь то, что в нем
верифицируемо. Поэтому предложение, если оно вообще о чем-либо говорит,
говорит лишь об эмпирических фактах. О чем-либо лежащем
принципиально по ту сторону опытного нельзя ни сказать, ни мыслить, ни спросить.
56
Р. Карнап. Преодоление метафизики логическим анализом языка
Предложения (осмысленные) подразделяются на следующие
виды: прежде всего имеются предложения, которые по самой своей
форме уже являются истинными («тавтологии» по Витгенштейну, они
приблизительно соответствуют кантовским «аналитическим
суждениям»); они ничего не высказывают о действительности. К этому виду
принадлежат формулы логики и математики; сами они не являются
высказываниями о действительности, а служат для преобразования
таких высказываний. Во-вторых, имеется противоположность таких
высказываний («противоречия»); они противоречивы по самой
своей форме и, стало быть, ложны. Для всех остальных предложений
решение об их истинности или ложности зависит от протокольных
предложений; они являются поэтому (истинными или ложными)
опытными предложениями и принадлежат к области эмпирической
науки. Желающий образовать предложение, не принадлежащее к
этим видам, делает его автоматически бессмысленным. Не желая
очутиться ни в области эмпирической науки, ни в сфере аналитических
предложений, метафизик с необходимостью употребляет либо слова,
для которых не дается критерия, и поэтому они оказываются
лишенными значения, либо слова, имеющие значение, объединяет таким
образом, что не получается ни аналитического (соответственно,
противоречивого), ни эмпирического предложения. В обоих случаях с
необходимостью получаются псевдопредложения.
Логический анализ выносит приговор бессмысленности любому
мнимому знанию, которое претендует вырваться за пределы опыта.
Этот приговор относится к любой спекулятивной метафизике, к
любому мнимому знанию, полученному из чистого мышления и чистой
интуиции, стремящимся обойтись без опыта. Но этот приговор
относится и к такой метафизике, которая, исходя из опыта, желает
посредством особых заключении познавать то, что лежит вне опыта или
за пределами опыта (например, к неовиталистскому тезису о
действующей в органических процессах «энтелехии», которая физически
непознаваема; к вопросу о «сущности каузальной связи», не сводимой
к установлению регулярного следования одного за другим; к речам о
«вещи-в-себе»). Далее, этот приговор действителен для всей
философии ценностей и норм, для любой этики и эстетики как нормативной
дисциплины. Ибо объективная значимость ценности или нормы не
может быть (также и по мнению представителей ценностной
философии) верифицирована эмпирически или дедуцирована из
эмпирических предложений; следовательно, ценностные и нормативные
суждения не могут быть высказаны (в форме осмысленных предложений).
Другими словами: либо для «хорошо», «прекрасно» и остальных
предикатов, употребляемых в нормативной науке, имеются эмпирические
характеристики, либо они недейственны. В первом случае
предложение с такими предикатами становится эмпирическим, фактуальным,
57
Поиск ясности
а не ценностным суждением; во втором случае оно становится
псевдопредложением; предложение, которое являлось бы ценностным
суждением, вообще не может быть образовано.
Наконец, приговор бессмысленности касается также тех
метафизических направлений, которые неудачно называются
теоретико-познавательными, а именно реализма (поскольку он претендует на
высказывание большего, чем содержат эмпирические данные, например,
что некоторые процессы обнаруживают определенную
закономерность и что отсюда вытекает возможность применения
индуктивного метода) и противостоящих ему (концепций): субъективного
идеализма, солипсизма, феноменализма, позитивизма (в старом смысле).
Но что же тогда остается для философии, если все предложения,
которые нечто означают, эмпирического происхождения и
принадлежат реальной науке? То, что остается, — не предложения, не теория,
не система, а только метод, а именно, метод логического анализа.
Применение этого метода в его негативном употреблении мы
показали в ходе предшествующего анализа; он служит здесь для
исключения слов, не имеющих значения, бессмысленных
псевдопредложений. В своем позитивном употреблении метод служит для пояснения
осмысленных понятий и предложений, для логического обоснования
реальной науки и математики. Негативное применение метода в
нынешней исторической ситуации необходимо и важно. Но уже в
сегодняшней практике плодотворнее его позитивное применение, однако
подробнее останавливаться на нем здесь не представляется
возможным. Указанная задача логического анализа, исследование оснований
есть то, что мы понимаем под «научной философией» в
противоположность метафизике; разработке этой задачи мы хотим посвятить
большинство статей настоящего журнала5.
Относительно логического характера предложений, которые мы
получили в результате логического анализа, например предложений
этой статьи и других логических исследований, здесь нужно сказать
только то, что они частью аналитические, частью эмпирические. Эти
предложения о предложениях и частях предложений принадлежат
частью к чистой металогике (например, «последовательность,
состоящая из знака существования и имени предмета, не есть
предложение»), частью к дескриптивной металогике (например, «ряд слов в
том или другом месте той или иной книги является
бессмысленным»). Металогика будет обсуждаться в другом месте; при этом будет
показано, что металогика, которая говорит о предложениях какого-
либо языка, сама может быть сформулирована на этом языке.
7, Метафизика как выражение чувства жизни
58
Р. Карнап. Преодоление метафизики логическим анализом языка
Если мы скажем, что предложения метафизики полностью
бессмысленны, то этим ничего не скажем и, хотя это соответствует нашим
выводам, нас будет мучить чувство удивления: как могло столько людей
разных времен и народов, в том числе выдающиеся умы, с таким
усердием и подлинной страстью заниматься метафизикой, если таковая не
содержит в себе ничего, кроме бессмысленных сочетаний слов? И как
понять то, что эти произведения до сегодняшнего дня оказывают столь
сильное воздействие на читателей и слушателей, если они содержат
даже не заблуждения, а вообще ничего не содержат? Эти сомнения
отчасти справедливы, поскольку метафизика действительно имеет некое
содержание; только это не теоретическое содержание.
(Псевдо-Предложения метафизики не служат для представления ни существующих
ситуации (тогда они были бы истинными предложениями), ни
ситуаций не существующих (тогда они были бы по меньшей мере ложными
предложениями); они служат для выражения чувства жизни.
Пожалуй, можно согласиться с тем, что истоком метафизики был
миф. Ребенок, столкнувшись со «злым столом», раздражается;
первобытный человек пытается задобрить грозных демонов
землетрясения или с благодарностью поклоняется божеству плодоносного
дождя. Перед нами персонификаиия явлений природы,
квазипоэтическое выражение эмоционального отношения человека к миру.
Преемником мифа выступает, с одной стороны, поэзия, которая
сознательным образом развивает ценные для жизни достижения мифа;
с другой стороны, теология, в которой миф развился в систему.
Какова историческая роль метафизики? Пожалуй, в ней можно
усмотреть заменитель теологии на ступени систематического,
понятийного мышления. (Мнимый) сверхъестественный познавательный
источник теологии был заменен здесь естественным, но (мнимым)
сверхэмпирическим познавательным источником. При ближайшем
рассмотрении в неоднократно менявшейся одежде узнается то же
содержание, что и в мифе: мы находим, что метафизика также
возникла из потребности выражения чувства жизни, состояния, в
котором живет человек, эмоционально-волевого отношения к миру, к
ближнему, к задачам, которые он решает, к судьбе, которую
переживает. Это чувство жизни выражается в большинстве случаев
бессознательно, во всем, что человек делает и говорит; оно
фиксируется в чертах его лица, может быть, также в его походке. Некоторые
люди сверх этого имеют еще потребность особого выражения
своего чувства жизни, более концентрированного и воспринимаемого
как более убедительное. Если такие люди художественно одарены,
они находят возможность самовыражения в создании
художественных произведений. То, как в стиле и виде художественного
произведения проявляется чувство жизни, уже уяснено другими
(например, Дильтеем и его учениками). (Часто при этом употребляют
59
Поиск ясности
слово «мировоззрение»; мы воздержимся от его употребления
ввиду двузначности, стирающей различие между чувством жизни и
теорией, что для нашего анализа является решающим.) Для нашего
исследования существенно лишь то, что искусство — адекватное,
метафизика же, напротив. — неадекватное средство для выражения
чувства жизни. В принципе против употребления любого средства
выражения нечего возразить. В случае с метафизикой дело, однако,
обстоит так, что форма ее произведений имитирует то, чем она не
является. Эта форма есть система предложений, которые (кажется)
находятся в закономерной связи, т.е. в форме теории. Благодаря
этому имитируется теоретическое содержание, хотя, как мы видели,
таковое отсутствует. Не только читатель, но и сам метафизик
заблуждается, полагая, будто метафизические предложения нечто
значат, описывают некоторое положение вещей. Метафизик верит, что
он действует в области, в которой речь идет об истине и лжи. В
действительности же он ничего не высказывает, а только нечто
выражает как художник. То, что метафизик находится в заблуждении,
еще не следует из того, что средством выражения он берет язык, а
формой выражения — повествовательные предложения; ибо то же
самое делает и лирик, не впадая при этом в заблуждение на свой
счет. Но метафизик приводит для своих предложений аргументы, он
требует, чтобы с содержанием его построений соглашались, он
полемизирует с метафизиками других направлений, ищет
опровержения их предложений в своих статьях. Лирик, напротив, в своем
стихотворении не пытается опровергать предложения из стихотворения
другого лирика; он знает, что находится в области искусства, а не в
области теории.
Возможно, музыка есть самое чистое средство для выражения
чувства жизни, так как она более всего освобождена от всего
предметного. Гармоничное чувство жизни, которое метафизик хочет выразить в
монистической системе, гораздо яснее выражается в музыке Моцарта.
И если метафизик высказывает дуалистически-героическое чувство
жизни в дуалистической системе, не делает ли он это только потому,
что у него отсутствует способность Бетховена выразить это чувство
жизни адекватными средствами? Метафизики — музыканты без
музыкальных способностей. Поэтому они имеют сильную склонность к
работе в области теоретического выражения, к приведению понятий и
мыслей в некоторую связь. Вместо того чтобы, с одной стороны,
осуществлять эту склонность в области науки, а с другой стороны,
удовлетворять потребность выражения в искусстве, метафизик смешивает
все это и создает произведения, которые ничего не дают для познания
и дают нечто весьма недостаточное для чувства жизни.
Наше предположение, что метафизика является заменителем
искусства, причем недостаточным, подтверждается тем фактом, что
60
Р. Карнап. Преодоление метафизики логическим анализом языка
некоторые метафизики, обладающие большим художественным
дарованием, например Ницше, менее всего впадают в ошибку
смешения. Большая часть его произведений имеет преимущественно
эмпирический характер; речь идет, например, об историческом
анализе определенных феноменов искусства или историко-психоло-
гическом анализе морали. В произведении, в котором он сильнее
всего выразил то, что другие выражали метафизикой и этикой, а
именно в «Заратустре», он выбрал не псевдотеоретическую форму,
а явно выраженную форму искусства, поэзию.
Добавление при корректуре. К своей радости, я заметил, что и с
другой стороны — от имени логики — выражен энергичный протест
против современной философии-ничто. Оскар Краус в своем докладе
(Über Alles und Nichts// Leipziger Rundfunk. 1930. 1 Mu; Philos. Hefte.
1931. № 2. S. 140) дал исторический обзор развития
философии-ничто и сказал затем о Хайдеггере: «Науке стало бы смешно, если бы она
восприняла это (ничто) всерьез. Ибо ничто не угрожает авторитету
всей философской науки серьезнее, чем возрождение этого Ничто- и
все-философии». Затем Гильберт в одном докладе (Die Grundlegung der
Elementaren Zahlenlehre // Dez. 1930 in der Philos. Ges. Hamburg; Math.
Ann. 1931. № 140. S. 485.) сделал следующее замечание, не называя
имени Хайдеггера: «В одном недавнем философском докладе я нашел
утверждение: «Ничто есть совершеннейшее отрицание всякости
сущего». Это предложение является поучительным потому, что оно,
несмотря на его краткость, иллюстрирует все важнейшие нарушения
основных положений, выдвинутых в моей теории доказательства».
61
Поиск ясности
М.С Козлова
Философия - совокупность псевдопроблем.
Точка зрения позитивизма.
Рудольф Карнап
Рудольф Карнап (1891-1970)— выдающийся логик, внесший весомый
вклад в развитие этой науки6, расцвет и применение которой
составляют одну из отличительных черт XX в. Вместе с тем Р. Карнапу
принадлежит видное место и в области философии. О нем правомерно говорить
как о ведущем теоретике логического позитивизма (или «логического
эмпиризма»— концепции, развивавшейся в 20— 30-х годах в рамках
Венского кружка), лидером которого был Мориц Шлик. Логический
позитивизм явился продолжением и новой версией позитивизма —
умонастроения, оформившегося в Европе в первой трети XIX в. и за 100 лет
своего существования уже завоевавшего довольно прочные позиции,
прежде всего среди естествоиспытателей и других специалистов,
ориентирующихся на опытное, точное, проверяемое знание.
Родоначальником позитивизма и автором самого этого термина
явился французский философ Опост Конт (1789-1857), подробно
развернувший свое учение в капитальном шеститомном труде «Курс
позитивной философии» ( 1830-1842)7. В апогее творчества философ
опубликовал сжатое изложение сути своей концепции «Дух
позитивной философии» (1844). (В русском переводе: Дух позитивной
философии (или слово о положительном мышлении). СПб., 1910.) Термин
«позитивный» осмысливается у Конта как синоним научного,
которое приравнивается (такова главная идея концепции) к опытному,
полезному, точному, практически эффективному знанию. Антиподом
позитивного знания, мышления считается спекулятивное —
умозрительное, абстрактное, отвлеченное, оторванное от опыта —
умствование. Его варианты — теологическое и метафизическое (философское)
мышление — расцениваются как незрелые формы, предварительные
стадии развития интеллекта на пути от младенчества к возмужалости.
Конт предложил следующую схему становления научного метода
(«Закон трех стадий развития человеческого интеллекта»).
Человечество в своем историческом развитии (а также в индивидуальном
становлении) якобы последовательно проходит три фазы:
теологическую, или фиктивную, затем метафизическую, или абстрактную,
доходя наконец до наиболее зрелой положительной, или реальной,
стадии. На первых ступенях формирующийся человеческий ум, еще
неспособный решать даже простейшие научные проблемы, одержим
поиском ответов на неразрешимые, недоступные исследованию
вопросы. Он ищет начала всех вещей, конечные причины явлений,
лежащие в их основе абстрактные сущности. Теологическое мышление
62
M.С. Козлова. Философия — совокупность проблем...
соответствует младенческому состоянию ума, метафизическое
характеризуется как хроническая болезнь роста, преддверие
интеллектуальной зрелости. В эти донаучные периоды сначала инстинкт и
воображение, а затем абстрактное умозрение резко перевешивают
наблюдение. Но постепенно сфера познавательной
любознательности ограничивается: люди отказываются от постижения
непроницаемых тайн, поиска первопричин и конечных целей сущего. Все более
вступает в свои права, набирает силу положительное, научное
мышление, полностью базирующееся на изучении явлений, доступных
наблюдению. На основе явлений формируется знание фактов.
Медленная, постепенная индукция (обобщение частного) позволяет выявлять
законы — устойчивые зависимости фактов. Установление научных
законов открывает путь к успешному практическому использованию
знаний и рациональному предвидению, идущему на смену
пророчествам. «Позитивный» образ мышления, как его понимает Конт,
отказывается от попыток объяснения явлений, довольствуясь
наблюдением, описанием, нахождением их устойчивых отношений (сходства,
последовательности и др.). Таковы основные требования
положительного, или научного, метода в понимании Конта.
Научное познание не предстает в абсолютно чистом виде. Оно
постоянно переплетено с вненаучными домыслами и лишь постепенно
освобождается от них, приобретая более вразумительный, реальный,
конкретный облик. Конт подметил, что и на зрелых стадиях познания
те или иные сложные явления все еще могут объясняться в
теологическом или метафизическом ключе. Наука осмысливается как
социальный продукт и фактор, включающий в себя области (фрагменты)
разной степени зрелости. Считается, что позитивная философия
призвана способствовать освобождению науки от идей, понятий,
противоречащих нормам опытного мышления, и содействовать укреплению,
росту, развитию позитивного знания. Конт, в частности, мечтал о том,
чтобы столь же точной и надежной областью исследований, как
физика, стала еще не окрепшая наука социология. Это представлялось ему
тем более важным, что социология (в качестве «социальной физики»)
призвана обосновывать научную политику, примиряя принципы
«порядка» и «прогресса». Такова была в обших чертах предложенная Кон-
том философская программа, на основе которой развился позитивизм
как одно из характерных и влиятельных философских течений XIX —
XX вв. с целостной системой основных принципов.
Мысли, представленные в работах О. Конта, а также Дж.Ст. Милля
(1806-1873) и Г. Спенсера (1820-1903), характеризуют первый период
(вариант) позитивизма, влияние которого распространяется на весь XIX в.
Второй период (и тип) позитивизма отмечен доктриной
эмпириокритицизма или махизма и связан с именами Р. Авенариуса (1843-1896),
Э. Маха (1838-1916) и др. Влияние его охватило последнюю четверть
63
Поиск ясности
XIX — начало XX ». И наконец, третья форма: и XX в. на сцену
выступил логический позитивизм, именуемый еще научным или логическим
эмпиризмом. В его названии нашло отражение то обстоятельство, что
философская концепция науки тесно переплелась в нем с успехами в
области логики. Приверженцы этой новейшей формы позитивизма
заявляли, что они занимаются логикой науки или логическим анализом
научного языка. Традиционная философия при этом была
подвергнута беспощадной критике — как не отвечающая критериям научности
и даже критериям осмысленности формулируемых ею вопросов и
утверждений. Общий тезис позитивизма «наука — сама себе
философия» тоже обрел логическую тональность: на место не
поддающегося распутыванию комплекса проблем, который обычно именовали
философией, заявил Р. Карнап, вступает логика науки. Философские
проблемы были объявлены псевдопроблемами, а утверждения—
псевдоутверждениями, в основе которых лежит недопонимание логики
языка. Считалось, что логический анализ — детище XX в. — призван
выявлять опытные, четко проверяемые положения науки и устранять,
выводить за скобки науки лишенные смысла философские
псевдоутверждения. В предлагаемой вашему вниманию статье Р. Карнапа
четко представлена данная позиция.
Логический позитивизм выступил на сцену в 20-х годах и
вылился в международное интеллектуальное движение, начало которому
было положено в Австрии. Постепенно оно распространилось на
Германию, Скандинавию, Польшу, Великобританию, а затем и
США, куда, спасаясь от фашизма, эмигрировали многие видные его
участники, включая и Р. Карнапа. Логический позитивизм
претерпел долгую и сложную эволюцию, на протяжении которой
видоизменялась его доктрина, притом настолько, что итоги уже весьма мало
походили на исходные позиции. И все-таки в развитии этих идей
были единые истоки, история, свои безусловные авторитеты. К
таковым, несомненно, принадлежал и Р. Карнап. Влияние концепции
логического позитивизма, его интеллектуальных импульсов ощущалось
еще и в 60-х годах, затем пошло на убыль, уступив место иной
программе, получившей название (впрочем, не отражающее сути дела)
«постпозитивизм». Несмотря на то что логический позитивизм
принадлежит уже прошлому, его нельзя вычеркнуть из истории исканий
истины. И не только потому, что работа специалистов (а это, как
правило, были представители конкретных наук — логики, физики,
социологии и др.) по изучению логики науки оказалась весьма
плодотворной. Во многом поучительной и справедливой оказалась и критика
философского пустословия, выдающего себя за науку, а то и берущего
ее под идеологический контроль (философская «тирания» марксизма
в нашей стране и др.). Одним словом, если бы в истории
философских исканий XX столетия логического позитивизма не оказалось, его
64
M.С. Козлова. Философия — совокупность проблем...
стоило бы искусственно придумать, привить его идеи (как вакцину)
тем, кто работает в науке и философии. Зачем? Этим нужно
«переболеть», помучиться и выстрадать иное, более зрелое и мудрое
понимание того, что есть наука и что такое философия, уяснить, что они
никакие не соперники, что философия — не одна из наук или «наука
наук». Функции философии куда шире и сложнее, чем быть лишь
«королевой наук» или их «служанкой». Ее специфика не
укладывается лишь в рамки соотнесения «философия — наука», что читателю
станет ясно по прочтении самых разных разделов этой книги.
Примечания
" Перевод с издания: Carnap R. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse
der Sprache // Erkenntnis Herausgeber. Carnap R., Reichenbach H. Leipzig, 193 J-1932.
B. U.S. 219-242.
1 Логическое и теоретико-познавательное понимание, лежащее п основе нашего
изложения, здесь может быть указано лишь кратко, см.: Wittgenstein L. Tractatus
logico-philosophicus. 1922; Carnap R. Der logische Aufbau der Welt. 1928; Waismann
F. Logik, Sprache, Philosophie (In Vorbereitung).
2 Приводимая ниже цитата (n оригинале разрядка) взята из работы: Heidegger M.
Was ist Metaphisik? 1929. Можно было бы дать соответствующие цитаты из работ
многих других метафизиков настоящего или прошлого, однако представляется,
что выбранная нами наиболее четко иллюстрирует наше понимание.
3 Цитата из статьи М. Хайдеггера «Что такое метафизика? » дана в переводе
В.В. Бибихина. См.: Хаидеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.,
1993. С. 17-22. - Прим. ред.
4 В тексте приведено предложение «ich bin hungrig», при русском переводе
которого связка «есть* выпадает: я (есть) голоден. — Прим. пер.
5 Имеется в виду журнал «Erkenntnis», для которого была написана эта статья. —
Прим. пер.
6Карнап — автор ряда глубоких и оригинальных трудов в данной научной
области: «Логический синтаксис языка» (1934), «Исследование семантики» ( 1942-
1943) — в русском переводе «Значение и необходимость» (М., 1959) и др.
7 В русском переводе: Курс положительной философии, т. 1-2, 1899-1910.
5-3436
65
Поиск ясности
Мориц Шлик
Будущее философии
Изучение истории философии является, пожалуй, самым
увлекательным занятием для всякого, кто стремится понять человеческую
цивилизацию и культуру, поскольку различные элементы человеческой
природы, с помощью которых строится культура какой-либо эпохи
или народа, все так или иначе находят свое отражение в их философии.
Историю философии можно изучать двояким образом: во-первых,
с точки зрения историка, во-вторых, с точки зрения философа. Они
подойдут к истории философии с разными чувствами. Величайший
энтузиазм историка вызовут замечательные труды мыслителей всех
времен, огромная умственная энергия и воображение, усердие и
бескорыстие, какие они вложили в свои творения; все это доставит
историку высочайшее наслаждение. Философ, занявшись историей
философии, тоже, разумеется, испытает наслаждение, его тоже не могут
не вдохновить удивительные проявления гениальности во все века.
Однако он не сможет наслаждаться зрелищем, которое являет собой
философия, с таким же чувством, как историк. Он не сможет
упиваться мыслями античности и Нового времени, не будучи при этом
обеспокоен совсем другими чувствами.
Философ не удовлетворится тем, что спросил бы обо всех системах
историк, а именно — являются ли они красивыми, блестящими,
исторически значимыми и т. д. Единственный вопрос, который будет его
интересовать, таков: «Что истинно в этих системах?» И в самый момент
вопроса он испытает разочарование, едва лишь посмотрит на историю
философии, ибо, как все вы знаете, противоречие между разными
системами столь глубоко, споры и разноголосица мнений, выдвинутых
философами разных времен и народов, столь серьезны, что поначалу,
кажется, невозможно поверить, будто в истории философии есть хотя
бы подобие устойчивого продвижения вперед, какое наблюдается в
других поисках человеческого разума, например в науке или технике.
Сегодня мы обсудим следующий вопрос: «Продлится ли хаос,
существовавший до сих пор, и в будущем?» Продолжат ли философы
взаимные распри и насмешки или будет наконец достигнуто своего
рода всеобщее согласие, единство философской веры в мире?
66
M. Шлик. Будущее философии
Все великие философы были убеждены, что именно их системы
положили начало новой эпохе в мышлении, что они по крайней мере
открыли последнюю истину. Не будь у них этой веры, они вряд ли
смогли бы что-нибудь совершить. Это можно сказать, например, о
Декарте, разработавшем метод, который сделал его «отцом
философии Нового времени»; о Спинозе, пытавшемся применить в
философии метод математики, и даже о Канте, который объявил в
предисловии к своему величайшему труду, что философия отныне может
идти по тому надежному пути, по какому прежде шла только наука.
Все они были уверены, что способны положить конец хаосу и начать
нечто совсем новое, что в конце концов приведет к повышению
ценности философских взглядов. Но историк обычно не может разделить
их веру; она даже может показаться ему смешной.
Мы хотим задать вопрос «Каково будущее философии?» всецело с
точки зрения философа. Однако же, чтобы ответить на него, нам
придется воспользоваться методом историка, ибо мы не сможем
судить о будущем философии иначе, как выводя свои заключения из
знания о ее прошлом и настоящем.
В результате такого исторического разбора философских взглядов
мы прежде всего убеждаемся, что не можем испытывать доверие ни
к одной системе. В таком случае, — если мы не можем быть
картезианцами, спинозистами, кантианцами и т. д., — нам, видимо, только
и остается стать скептиками, и мы начинаем склоняться к мысли, что
никакая истинная система философии вообще невозможна. Ведь
если бы истинная система существовала, то о ней хотя бы
догадывались, она каким-то образом обнаружила бы себя. Однако если
подойти к философии непредвзято, то мы не увидим в ней даже следа
открытия, которое могло бы привести к единодушию в философии.
Этот скептический вывод фактически был сделан довольно
многими историками, да и некоторые философы пришли к заключению, что
не существует и подобия философского прогресса и что сама
философия есть не что иное, как история философии. В начале века эту
точку зрения отстаивал отнюдь не какой-то философствующий одиночка,
она получила название «историцизм». Странная мысль— что
философия состоит только из ее собственной истории, — однако ее
подкрепляли и защищали с помощью поистине замечательных аргументов. И
все-таки мы не считаем, что со скептиками нельзя не согласиться.
Пока что мы обсудили два возможных мнения: во-первых, что
конечная истина действительно представлена в какой-то философской
системе, и во-вторых, что никакой философии не существует вовсе, а
есть только история мышления. Я не предлагаю сегодня выбрать один
из этих вариантов, а хотел бы предложить третий подход — не
скептический и не основанный на убеждении, что философская система
может быть системой абсолютных истин. Я хотел бы держаться совсем
5*
67
Поиск ясности
другой точки зрения на философию, и именно она — по моему
мнению, конечно, — в будущем станет общепринятой. В самом деле, мне
показалось бы странным, если бы философия, благороднейший из
интеллектуальных поисков, громадное человеческое достижение, столь
часто величавшаяся «царицей всех наук», оказалась лишь грандиозным
обманом. Значит, весьма вероятно, что тщательный анализ позволит
нам выявить еще одно, третье представление о философии, и я
убежден, что точка зрения, которую я намерен здесь выдвинуть, воздаст по
справедливости всем скептическим доводам и притом никоим образом
не лишит философию ее достоинства и величия.
Конечно, сам по себе факт, что до сих пор известные философские
системы не были успешными и не смогли завоевать обшего признания,
еще не доказывает, что и впоследствии не будет построена такая
система, которая станет общепризнанным окончательным решением великих
проблем. Этого действительно можно было бы ожидать, будь
философия наукой. Ведь в науке мы постоянно сталкиваемся с тем, что
нежданно-негаданно возникают удовлетворительные решения важнейших
проблем, и когда нет полной ясности в мелочах, мы не отчаиваемся. Мы
убеждены, что будущие ученые окажутся более счастливыми и откроют
то, что не удалось нам. В этом отношении, однако, выявляется
серьезное различие между наукой и философией. Наука обнаруживает
постепенное развитие. При всех скептических замечаниях в ее адрес нет ни
малейшего сомнения, что наука уже продвинулась и продолжает идти
вперед. Ни на миг нельзя всерьез усомниться в том, что мы знаем о
природе гораздо больше, нежели люди, жившие в предыдущие столетия. В
науке, бесспорно, наблюдается прогресс, но если быть до конца
честными, то в философии мы не увидим ничего подобного.
По сей день философы обсуждают те же проблемы, что и во
времена Платона. Едва покажется, что вопрос окончательно решен, как
он снова возникает, снова требует разбора и обсуждения. Для
работы философа характерно то, что он всегда должен начинать сначала.
Он никогда ничего не принимает на веру. Философ сознает, что
никакое решение философских проблем не является вполне
достоверным и прочным, и потому бьется над ними снова и снова. Именно
это различие между наукой и философией лежит в основе нашего
крайнего скептицизма по отношению к будущему прогрессу в
философии. И все же времена меняются, а потому можно было бы
надеяться, что нам еще удастся создать истинную философскую систему.
Но это тщетная надежда, ибо мы можем привести основания,
объясняющие, почему философии не удалось — причем не случайно —
получить твердые результаты, подобные результатам науки. Если эти
основания будут достаточными, они оправдают и наше неверие в
[существующие] философские системы, и наше убеждение, что
истинная система не появится и в будущем.
68
M. Шлик. Будущее философии
Позвольте мне сказать сразу, что эти основания лежат не в
трудности проблем, с которыми имеет дело философия; не следует искать
их и в слабости и немощи человеческого рассудка. Если бы они
сводились к этому, то легко было бы представить себе, что человеческий
рассудок и разум могут развиться и что если не мы, то наши
преемники будут достаточно разумными, чтобы создать систему. Нет,
подлинная причина — в любопытном неверном понимании и
интерпретации природы философии; она кроется в неумении разграничить
научную и философскую позиции. В той мысли, что природа
философии и природа науки более или менее одинаковы, что они
представляют собой системы истинных утверждений о мире. В
действительности философия вовсе не является системой утверждений и,
следовательно, в корне отличается от науки. Правильное понимание
отношения между философией, с одной стороны, и науками — с
другой, является, по-моему, лучшим способом проникнуть в природу
философии. Поэтому мы начнем с исследования этого отношения и
его исторического развития. Это обеспечит нас фактами,
необходимыми для предсказания будущего философии. Будущее, конечно,
всегда остается предметом исторического предположения,
поскольку может быть вычислено только исходя из опыта прошлого и
настоящего. Поэтому мы сейчас спрашиваем: какие существовали
представления о природе философии по сравнению с природой наук? И
как они изменялись в ходе истории?
Философия у своих истоков, как вы, вероятно, знаете, считалась
просто другим названием для «поисков истины»; она
отождествлялась с наукой. Людей, которые искали истину ради истины,
называли философами, и никакой разницы между людьми науки и
философами не было.
Небольшое изменение в эту ситуацию внес Сократ. Сократ, можно
сказать, презирал науку. Он не верил в те спекуляции вокруг
астрономии и строения Вселенной, каким предавались ранние философы. Он
был убежден, что достоверное знание об этих вещах недостижимо, и
ограничил свои исследования человеческой природой. Он не был
человеком науки, не верил в науку, и все же мы дружно признаем его
одним из величайших философов. Однако же не Сократ положил
начало антагонизму, который мы находим позднее между наукой и
философией. В сущности, его последователи прекрасно сочетали
изучение человеческой природы с наукой о звездах и Вселенной.
Философия сохраняла единство с науками до тех пор, пока они
постепенно не ответвились от нее. Вероятно, математика,
астрономия, механика и медицина одна задругой стали самостоятельными и
таким образом было создано различие между философией и наукой.
Тем не менее единство, или тождество, философии и науки дожило,
можно сказать, почти до нашего времени, а именно до XIX в. Я уве-
69
Поиск ясности
рен, мы с полным правом можем сказать, что некоторые науки, в
частности физика, не вполне отделились от философии вплоть до XIX в.
Даже сейчас в некоторых университетах кафедры теоретической
физики официально называются кафедрами «натурфилософии».
В XIX в. возник также и настоящий антагонизм, с характерным
чувством недружелюбия, развившимся у философа по отношению к
ученому и у ученого — по отношению к философу. Это чувство
появилось, когда философия заявила о своих претензиях на обладание более
благородным и совершенным методом открытия истины, нежели
научный метод наблюдения и эксперимента. В Германии в начале XIX в.
Шеллинг, Фихте и Гегель были убеждены, что существует нечто
вроде королевского пути к истине, уготованного философу, тогда как
ученый бредет тропой плебейского и крайне утомительного
экспериментального метода, требующего лишь механической сноровки. Они
думали, что до той истины, какую пытается найти ученый, можно
добраться гораздо проще, тем кратким путем, который открыт лишь для
величайших умов, для философского гения. Об этом (заблуждении],
однако, я не стану говорить, поскольку его можно считать изжитым.
Есть еще одна точка зрения, пытающаяся усмотреть различие
между философией и наукой в том, что философия имеет дело с
самыми общими истинами о мире, какие только возможны, а наука —
с более частными. Эту точку зрения на природу философии я должен
вкратце обсудить, поскольку это поможет нам понять дальнейшее.
Мнение, что философия есть наука о наиболее общих истинах,
которые не относятся к области специальных наук, является самым
распространенным, вы найдете его почти во всех учебниках; его
придерживаются большинство пишущих о философии в наши дни. Обычно
рассуждают так: химия, например, формулирует истинные
утверждения о химических соединениях, физика — о физических свойствах,
философия же имеет дело с самыми общими проблемами,
касающимися природы материи. И далее, если история изучает различные
цепочки отдельных событий, которые определяют судьбу человеческого
рода, то философии (а именно «философии истории») надлежит
выявлять общие принципы, направляющие эти события.
Принято думать, что философия как наука о наиболее общих
истинах дает нам так называемую общую картину мира, общее
мировоззрение, в котором находят свое место и сплетаются в одно большое полотно
разнообразные истины специальных наук, — цель будто бы
недостижимая для специальных наук, поскольку те недостаточно общи и
исследуют только отдельные свойства и части великого целого.
Этот так называемый синоптический подход к философии как к
науке, но только самой общей науке, привел, мне кажется, к ужасной
путанице. С одной стороны, философ наделяется характером
ученого. Он сидит в библиотеке, роется в бесчисленных книгах, работает
70
M. Шлик. Будущее философии
за столом, изучает разнообразные философские взгляды, — так
историк сравнивает источники и так же действует ученый, когда он
поглощен конкретным поиском; философ имеет вид ученого да и
действительно убежден, что использует научный метод, только
более общего характера. Он считает философию наукой гораздо более
утонченной и благородной, нежели все другие науки, но по существу
не отличающейся от них.
С другой стороны, стоит нам только взглянуть на реальные
результаты, достигнутые нашим философом, как обнаруживается
разительный контраст. При всем внешнем сходстве труда философа и труда
ученого нет сходства в их результатах. В науке результаты
непрерывно наращиваются, соединяются один с другим и получают общее
признание, в философии же мы не видим ничего подобного.
Что сказать об этой ситуации? Она привела к очень любопытным и
даже забавным последствиям. Открыв учебник по философии или
перелистывая увесистое творение современного философа, мы часто
видим, какие огромные усилия затрачиваются на выяснение того, что
такое философия. Нив одной другой науке этого нет. Физикам или
историкам не надо исписывать многие страницы, чтобы разобраться в
том, что такое физика или история. Даже признавшие философию
системой самых общих истин и те объясняют эту общность весьма по-
разному. Я не буду вдаваться в детали. Позвольте мне просто отметить,
что одни считают философию «наукой о ценностях», будучи убеждены,
что самые общие проблемы, к каким в конце концов ведут все
вопросы, так или иначе ценностные. Другие говорят, что философия есть
эпистемология, т.е. теория познания, поскольку та имеет дело с
самыми общими началами, на которых основываются все частные истины.
Один из обычных для приверженцев этой точки зрения выводов
состоит в том, что философия — отчасти либо всецело — является
метафизикой. А метафизику они считают неким строением, возведенным и
частично основанным на структуре науки, но устремленным в
заоблачные выси, совершенно недосягаемые для наук и опыта.
Из всего этого мы видим, что даже признание философии
наиболее общей наукой не приводит к согласию относительно ее сути. Это
нелепо, и будущему историку сто или тысячу лет спустя покажется
очень забавной та серьезность, какая присуща нашим прениям о
природе философии. Что-то явно не так, коли обсуждение приводит к
такой путанице. Имеются также совершенно определенные
положительные основания, в силу которых «общность» не может служить
качеством, отличающим философию от «специальных» наук, но я не
стану на них останавливаться, а попытаюсь прийти к
положительному выводу более кратким путем.
Когда совсем недавно я говорил о Сократе, я отмечал, что его
мысли в известном отношении шли вразрез с естественными наука-
71
Поиск ясности
ми; совершенно очевидно, следовательно, что его философия не
была тождественна наукам и не была «наиболее общей» из них. Она
была, скорее, своего рода Жизненной Мудростью. Но чтобы понять
как собственную позицию Сократа, так и природу философии, мы
должны обратить внимание на одну важную особенность: его
мудрость в вопросах человеческой природы и поведения сводится, по
существу, к особому методу, отличному от метода науки и, значит,
не приводящему к «научным» результатам.
Вы все, вероятно, читали диалоги Платона, в которых изображен
задающий вопросы и выслушивающий ответы Сократ. Если вы
понаблюдаете, что же на самом деле происходило, — что Сократ
пытался делать, — то заметите, что обычно он не приходил к несомненным
и определенным истинам, каким следовало бы явиться к концу
диалога, но все исследование предпринималось им в основном с целью
прояснить, что люди имеют в виду, когда задают вопросы и
употребляют определенные слова. В одном из платоновских диалогов,
например, Сократ спрашивает: «Что такое справедливость?». Он получает
разные ответы и продолжает спрашивать, что подразумевается под
этими ответами, почему какое-то отдельное слово употребляется тем
или иным образом, причем обычно оказывается, что его ученик или
оппонент не вполне уяснил себе свое собственное мнение. Короче
говоря, философия Сократа состоит в том, что можно назвать
«поиском смысла». Он пытался прояснить мысль, подвергнув анализу
значение выражений и действительный смысл утверждений.
Стало быть, мы обнаруживаем определенную противоположность
между философским методом, нацеленным на прояснение смысла, и
методом наук, цель которых — открытие истины. Прежде чем я
продолжу, позвольте мне кратко и ясно изложить то, в чем я уверен.
Науку следует определить как «поиски истины», а Философию — как
«поиски смысла». Сократ установил образец подлинно
философского метода для всех времен. Однако я должен буду разъяснить этот
метод с современной точки зрения.
Высказывая суждение о чем-то, мы произносим предложение, а
предложение выражает утверждение. Это утверждение либо истинно,
либо ложно, но, прежде чем узнать или решить, является ли оно
истинным или ложным, мы должны знать, о чем оно сообщает. Сначала
мы должны узнать смысл утверждения. После этого мы сможем
выяснить, является ли оно истинным или нет. Эти две вещи, конечно,
неразрывно связаны. Я не могу установить истинности утверждения,
не зная его смысла; узнав смысл, я буду знать по крайней мере начало
пути, который приведет к установлению истинности или ложности
утверждения, даже если в настоящий момент я не могу
воспользоваться этим знанием. Думаю, будущее философии зависит от
различия между выяснением смысла и установлением истинности.
72
M. Шлик. Будущее философии
Как решить, в чем смысл утверждения или что имеется в виду
под предложением, которое высказано, написано или напечатано?
Мы пытаемся представить себе значения слов, которые научились
употреблять, а затем ищем смысл утверждения. Иногда нам это
удается, иногда — нет; последнее, к сожалению, чаще всего случается с
утверждениями, которые считают «философскими». Но почему мы
так уверены, что действительно знаем и понимаем то, что
подразумеваем в своем утверждении? Что является последним критерием
его осмысленности? Ответ таков: мы знаем смысл утверждения,
когда можем точно указать обстоятельства, при которых оно было бы
истинным (или, что то же, обстоятельства, при которых оно было бы
ложным). Описание этих обстоятельств является единственным
способом прояснить смысл предложения. Потом уже можно обратиться
к действительно наличным в мире обстоятельствам и решить, делают
ли они наше утверждение истинным или ложным. Не существует
жизненно важного различия между способами установления
истинности и ложности в науке и в повседневной жизни. Наука
развивается так же, как и знание в повседневной жизни. Метод верификации
по существу один и тот же; только факты, посредством которых
верифицируются научные утверждения, как правило, труднее
наблюдать.
Очевидно, казалось бы, что ученый (или философ), высказывая
некое утверждение, непременно должен знать, о чем он говорит, а потом
выяснять истинность этого утверждения. Просто поразительно, и,
однако, в истории человеческого мышления не раз бывало, что
мыслители пытались установить истинность или ложность определенного
утверждения, не прояснив его смысла, не разобравшись как следует, что
именно они хотят знать. Это случается даже в научных исследованиях,
примеры чего я вскоре приведу. И я не могу не сказать, что в
традиционной философии это стало почти правилом. Я утверждаю, что
перед ученым стоят две задачи. Ученый должен установить истинность
утверждения и его смысл, или же кто-то должен сделать это вместо
него, хотя обычно он делает это сам. Ученый, проясняющий скрытый
смысл научных утверждений, является философом. Все великие
ученые оставили замечательные образцы этого философского метода. Они
раскрывали действительное значение слов, которые имели самое
широкое хождение у истоков науки, но никем и никогда не были
абсолютно ясно и четко определены. Ньютон, прояснивший понятие
«масса», был настоящим философом. Величайшим примером такого рода
в наше время является Эйнштейнов анализ значения слова
«одновременность», как оно употребляется в физике. Непрерывно что-то
происходит «в одно и то же время» в Нью-Йорке и Сан-Франциско, и,
хотя люди всегда воображают, будто они великолепно знают, что
подразумевается под таким утверждением, только Эйнштейн впервые еде-
73
Поиск ясности
лал его по-настоящему ясным и действительно покончил с
неоправданными допущениями о времени, которые были сделаны никому не
ведомо как. Установление смысла утверждений путем их логического
прояснения было настоящим философским достижением.
Я мог бы привести и другие примеры, но, пожалуй, этих двух
будет достаточно. Мы видим, что смысл и истинность взаимосвязаны в
процессе верификации; однако первый открывает нам простая
рефлексия о возможных обстоятельствах в мире, вопрос же об
истинности требует выяснить, существуют ли эти обстоятельства в
действительности или нет. Рефлексия в первом случае является философским
методом, простейший пример которого — диалектическая
процедура Сократа.
После всего сказанного может показаться, будто философию
следует определять просто как науку о значении; как, например,
астрономия есть наука о небесных телах или зоология — наука о животных,
точно так же и философия должна быть наукой, только предмет у нее
якобы другой, а именно «Смысл». Эту точку зрения отстаивает
Сюзанн К. Лангер в своей великолепной книге «Практика философии».
Она прекрасно понимает, что философия должна прояснять смысл,
однако же убеждена, что прояснение смысла может привести к науке,
к «системе истинных утверждений», а это и есть правильная
интерпретация термина «наука». Физика есть не что иное, как система
истин о физических телах, астрономия — система истинных
утверждений о небесных телах, и т.д.
Но в таком случае философия не является наукой. Не может быть
науки о смысле, поскольку невозможна система истинных утверждений
о смысле. Ведь чтобы понять смысл предложения или утверждения, мы
должны выйти за пределы утверждений. Не приходится надеяться, что
можно объяснить смысл утверждения, просто выдвигая другое
утверждение. Скажем, я спрашиваю кого-то: «Каков смысл...?» Он должен
ответить предложением, с помощью которого пытается описать смысл.
Но в конечном счете его цель не будет достигнута, так как ответное
предложение будет лишь еще одним утверждением, и я вправе
спросить: «Что вы имеете в виду под этим?» Мы, вероятно, продолжим
определять, что он имел в виду, употребляя разные слова, и будем
повторять его мысль все в новых и новых предложениях. Я всегда могу
спросить: «Но что означает это новое утверждение?» Как вы
понимаете, такому исследованию нет конца; смысл невозможно прояснить,
если до него нельзя дойти иначе, нежели через ряд утверждений.
Обратимся к примеру, и я уверен, что все сразу станет понятно.
Столкнувшись с трудным словом и пожелав узнать его значение, вы
заглядываете в Британскую энциклопедию. Определение слова дается
здесь в разных терминах. Если окажется, что они вам незнакомы, то
придется поискать и их. Однако эта процедура не может тянуться до
74
M. Шли к. Будущее философии
бесконечности. В конце концов вы придете к очень простым
терминам, которые в энциклопедии никак не объясняются. Что это за
термины? Это термины, которые далее нельзя определить. Согласитесь,
что такие термины существуют. Если бы я сказал, например, что
абажур желтый, вы могли бы попросить меня описать, что я имею в виду
под желтым, — и я не смог бы этого сделать. Мне пришлось бы указать
на некий цвет и сказать, что это и есть желтый, но я просто не смог бы
объяснить это посредством предложений или слов. Если вы никогда не
видели желтого цвета, а я не мог бы показать вам его, то было бы
абсолютно невозможно разъяснить, что я имею в виду, когда произношу
это слово. Слепой, конечно, никогда не понял бы, что оно означает.
Все наши определения должны завершаться демонстрацией,
деятельностью. Есть такие слова, значение которых можно понять с
помощью определенной умственной деятельности, точно так же как
значение слова, означающего цвет, я могу прояснить, лишь указав на
этот цвет. Определить цвет невозможно — он должен быть показан.
Определенная рефлексия необходима, чтобы прояснить
употребление некоторых слов. Возможно, нужна рефлексия над тем способом,
каким выучиваются эти слова; рефлексия проясняет для нас и то, что
подразумевается под различными утверждениями. Возьмем,
например, термин «одновременность» событий, происходящих в разных
местах. Чтобы узнать, что действительно означает этот термин, мы
должны проанализировать утверждение и выяснить, как на самом
деле детерминирована одновременность событий, происходящих в
разных местах, что и сделал Эйнштейн; мы должны сослаться на
имевшие место эксперименты и наблюдения. Это должно привести к
пониманию того, что философская деятельность никогда не может
быть ни заменена системой утверждений, ни выражена в ней.
Открытие смысла любого утверждения должно в конечном счете
достигаться неким действием, непосредственной процедурой, каково,
например, указание на желтый цвет; оно не дано в самом утверждении.
Философия — «поиски смысла», поэтому она не может состоять из
утверждений; она не может быть наукой. Стало быть, поиски
смысла есть не что иное, как разновидность умственной деятельности.
Мы пришли к заключению: люди, полагавшие, что философские
выводы можно выразить в утверждениях и что возможна система
философии как система утверждений, являющихся ответами на
«философские» вопросы, понимают философию неправильно. Нет никаких
специфически «философских» истин, которые представляли бы
собой решения «философских» проблем, а задача философии —
поиски смысла всех проблем и их решений. Ее следует определить как
деятельность, направленную на установление смысла.
Философия есть деятельность, а не наука, но эта деятельность,
разумеется, непрерывно осуществляется в каждой отдельной науке, по-
75
Поиск ясности
скольку, прежде чем науки установят истинность или ложность
утверждения, они должны прояснить его смысл. Иногда ученые,
получив противоречивые результаты, с удивлением обнаруживают, что
употребляли слова, не вполне прояснив их значение; и тогда они
должны заняться их прояснением, т.е. философской деятельностью; они
не могут продолжить поиски истины, не узнав смысла утверждения.
Таким образом, философия — чрезвычайно важный фактор внутри
науки, и она вполне заслуживает имени «Королева Наук».
Королева Наук сама не является наукой. Это деятельность,
которая осуществляется всеми учеными и неотъемлема от любой их
деятельности. Но все настоящие проблемы являются научными и других
проблем не существует.
Если бы я спросил, например: «Является ли голубой цвет более
тождественным, чем музыка?», вы сразу поняли бы, что это
предложение бессмысленное, хотя оно и не нарушает правил грамматики.
Это вовсе не вопрос, а просто набор слов. Тщательный анализ
показывает, что так обстоит дело с большинством так называемых
философских проблем. Они выглядят как вопросы, и очень трудно понять,
что они бессмысленны, но логический анализ показывает, что они
являются просто набором слов. Как только это выясняется, вопрос
сам собою исчезает и наше философское беспокойство сменяется
совершенным умиротворением; мы знаем, что не может быть ответов,
поскольку не было вопросов.
Некоторые «философские» проблемы, далее, оказываются
настоящими проблемами. Однако всегда есть возможность показать с
помощью соответствующего анализа, что эти проблемы разрешимы
методами науки, пусть даже по чисто техническим причинам мы не
можем применить эти методы в настоящий момент. По крайней мере
мы можем сказать, что следует сделать для их решения, даже если
наши подручные средства недостаточны. Иначе говоря, это не
специально «философские», а просто научные проблемы. Если не
практически, то в принципе они всегда поддаются решению, и решение
может быть найдено только с помощью научного исследования.
Итак, судьба всех «философских проблем» такова: одни из них
исчезнут, коль скоро будет показано, что они — ошибки и результат
неправильного понимания языка, другие же будут признаны
обычными научными вопросами, хотя и замаскированными. Эти замечания,
я думаю, определяют все будущее философии.
Некоторые великие философы весьма отчетливо понимали
сущность философского мышления, хотя и не формулировали ее. Кант,
например, любил говорить в своих лекциях, что философии нельзя
научить. Однако если бы она была наукой, подобно геологии или
астрономии, то почему нельзя было бы ей научить? Действительно,
тогда это было бы вполне возможно. Значит, Кант подозревал, что фи-
76
M. Шли к. Будущее философии
лософия не наука, когда утверждал: «Единственное, чему я могу
научить, — это философствование». Употребляя здесь отглагольную
форму и отказываясь от существительного, Кант недвусмысленно,
пусть и почти невольно, указывал на особый характер философии как
деятельности, тем самым в известной степени противореча своим
книгам, где он пытался строить философию по образцу научной
системы.
Пример проницательности дает нам и Лейбниц. Закладывая основы
Прусской академии наук в Берлине и набрасывая план ее устройства, он
отвел в ней место для всех наук, кроме философии. Лейбниц не
предусмотрел в системе наук места для философии, поскольку ясно понимал,
что она является не поиском какой-то разновидности истины, но
деятельностью, которая должна сопровождать всякий поиск истины.
Точка зрения, которую я отстаиваю, в наше время наиболее
отчетливо выражена Людвигом Витгенштейном. Он излагает ее суть в
таких предложениях: «Целью философии является логическое
прояснение мыслей. Философия есть не теория, а деятельность. Результатом
философии является не ряд "философских утверждений", а
прояснение утверждений». Именно это я пытался здесь разъяснить.
Сегодня наше знание истории помогает нам понять, почему
философию считали самой обшей наукой: это неверное понимание
вызвано тем, что «смысл» ее утверждений кажется чем-то очень «общим»,
поскольку составляет основание всякого рассуждения. История
помогает также понять, почему в древности философия была тождественна
науке: ведь тогда все понятия, какие употреблялись для описания
мира, были чрезвычайно смутными. Задачу науки определяло
отсутствие ясных понятий. Им предстояло обрести ясность в ходе
медленного развития, на их прояснение было нацелено основное усилие
научного исследования, а потому это последнее носило философский
характер и было невозможно разграничить философию и науку.
Ныне мы тоже располагаем фактами, которые доказывают
истинность нашей точки зрения. В наши дни отдельные области
исследования, такие как этика и эстетика, называются «философскими» и
считаются «частью» философии. Однако философия как
деятельность есть целостность, которая не может быть разбита на части или
независимые дисциплины. Почему же тогда эти поиски называются
философией? — Потому, что они находятся лишь в начале научной
стадии; видимо, в известной степени это верно также для психологии.
Этика и эстетика явно не располагают пока достаточно ясными
понятиями, их усилия по большей части затрачиваются на прояснение
понятий, а потому справедливо называются философскими. Но в
будущем, конечно, они станут частью большой системы наук.
Я надеюсь, философы будущего поймут, что они не могут даже
внешне перенять методы ученых. Должен сознаться, большинство
77
Поиск ясности
философских трудов с их выспренними суждениями кажутся мне
забавными. Написанные, казалось бы, научным языком, они кажутся
чрезвычайно научными книгами. Однако прояснение смысла не
может не отличаться от установления истинности. Это различие
гораздо более отчетливо проявится в будущем. Есть немалая правда в том,
как Шопенгауэр (хотя его собственное мышление, как мне кажется,
очень несовершенно) описывает противоположность между
настоящим философом и академическим профессионалом, который видит
в философии предмет научного исследования. Шопенгауэру не
откажешь в чутье, когда он пренебрежительно отзывается о
«профессорской философии профессоров философии». По его мнению, вообще
следует обучать не философии, а только истории философии и
логике; и в пользу этого взгляда можно сказать немало.
Надеюсь, вы не поняли меня превратно, как если бы я
проповедовал действительное разделение научной и философской
деятельности. Наоборот, будущие философы в большинстве своем должны
быть учеными, так как им обязательно понадобится предмет для
приложения сил, а понятия с туманным и непроясненным смыслом они
найдут главным образом в основаниях наук. Однако потребность в
прояснении смысла существует, разумеется, и для огромного числа
проблем обычной человеческой жизни. Некоторые мыслители, и
возможно самые сильные, могут оказаться особенно одаренными в
практической области. В таких случаях философ может и не быть
ученым, но он всегда должен быть человеком, смотрящим в суть
вещей. Короче говоря, он должен быть мудрым человеком.
Я убежден, что наш взгляд на природу философии в будущем
станет общепринятым и, как следствие, больше не будут пытаться
научить философии как системе. Мы станем учить специальным наукам
и их истории в подлинно философском духе — в духе стремления к
ясности — и тем самым развивать философское сознание будущих
поколений. Это все, что в наших силах, однако это будет серьезным
шагом в умственном прогрессе человеческого рода.
78
М.С. Козлова
В поисках новой философии. К размышлениям М. Шлика
Мориц Шлик (1882-1936)— немецкий физик и философ,
последнюю четверть своей жизни работавший в Австрии, где с 1922 г. в
Венском университете он возглавлял кафедру истории
индуктивных наук, которой до того заведовал Э. Мах. Под его лидерством
здесь сложился Венский кружок (Р. Карнап, О. Нейрат, Ф. Вайс-
ман, Г. Фейгль, П. Наторп, В. Крафт, Ф. Кауфман, Э. Цильзель и
др.), деятельность которого переросла в философское движение
«логического эмпиризма». Его философским кредо стало строго
опытное обоснование науки на основе широкого применения идей и
методов новой, символической, логики, технический аппарат которой
заключал в себе мощные аналитические возможности. При этом
важнейшая роль отводилась таким двум процедурам, как выявление
с помощью логического анализа «чисто» опытного базиса знания и
разработка приемов сведения теоретических положений к их
опытной основе (редукция, верификация). Эта «позитивная» задача
предполагала и «негативное», критическое развенчание, удаление из
науки инородных, чуждых ей по духу философских спекуляций.
Принципы и цели движения были изложены в манифесте «Научное
миропонимание» (1929) и выражали программу позитивизма в его
новом, логическом, обличье. Автором основных теоретических идей
логического позитивизма стал Р. Карнап.
М. Шлик активно участвовал в разработке концепции опытного
фундамента науки, схем опытной проверяемости знания и др.,
важное значение он придавал также переосмыслению задач
философии в свете новейших достижений логического анализа языка.
Он основательно знал физику и математику: в 1904 г. под
руководством М. Планка он защитил диссертацию по физике света, к 1915 г.
завершил работу о пространстве и времени (в связи с принципом
относительности). Одним из первых Шлик понял философское значение
теории относительности, был лично знаком с А. Эйнштейном и Д.
Гильбертом. Его вообще глубоко интересовали принципиальные вопросы
естествознания (психофизическая проблема и др.). В 1925 г. увидел свет
его обобщающий натурфилософский труд «Философия природы».
Через всю жизнь Шлик пронес любовь к философии и интерес к
ее многообразным проблемам. Среди его ранних изысканий —
«Жизненная мудрость (Опыт учения о счастье)» и «Важнейшие проблемы
эстетики в историческом освещении». В более зрелый период на
первый план выйдет философское осмысление познания. В 1918 г.
публикуется систематический труд Шлика «Общая теория познания»,
лейтмотивом которого стало обоснование эмпиризма.
79
Поиск ясности
К моменту приглашения в Вену (1922) Шлик уже не один год
пребывал в философских исканиях. Он все более ориентировался
на такое понимание философии, которое не исходило бы лишь из
какой-то одной позиции, а вдохновлялось бы стремлением
построить воззрение, способное объять все системы. Решение этой
задачи связывалось с идеей разработки концептуальной «схемы»
опыта или своего рода философской грамматики. Продвигаясь в этом
направлении, философ шаг за шагом приближался к решающему,
принципиально важному пункту. Этим поворотным пунктом
стало новое понимание того, что есть и чем должна стать философия,
понимание, оформившееся под влиянием «Логико-философского
трактата» Витгенштейна (1921). С 1924 г. начинается «погружение»
Шлика в философию Витгенштейна, влияние идей «Трактата» на
формирующуюся концепцию Венского кружка. Шлик был уже
зрелым профессионалом, автором компетентных работ и
воспринял мысли Витгенштейна вовсе не в пылу увлечения, а вполне
осознанно. Он нашел у него то, что как бы давно искал, к чему
отчасти уже пришел и сам.
Шлик обладал способностью интуитивно почувствовать проблему,
прояснить трудное. Он был наделен талантом аналитика: испытывал
отвращение к пустословию, тщательно взвешивал фразы. Его
отличали пристальное внимание к значению фраз и слов, понимание того,
что они способны обретать особый смысл или терять его, становиться
бессмысленными. С годами в нем росла симпатия к тому
недогматическому образу философии, который формировали великие умы
прошлого (включая Беркли, Юма и др.) и который в XX в. — с успехами
в исследовании логики языка — обрел новую жизнь. Язык, в том
числе анализ обманов, сбоев, нарушений смысла, порождаемых его
употреблением, привлекал все большее внимание Шлика: он критиковал
неосторожное употребление языка, выявляя языковые источники
псевдопроблем (многозначность слов, скрытый смысл и др.).
Важнейшую роль в этом процессе сыграли освоение логики,
обновленной Фреге и Расселом, знакомство с применением новых логических
методов к анализу языка науки. Шлик, подобно Витгенштейну и др.,
проникся мыслью Рассела: логика есть сущность философии. Он все
отчетливее понимал, что логическое исследование языка открывает
совершенно новые возможности для анализа философских проблем. Суть
философии все более связывается в его представлении с логическим
прояснением языка, с выявлением и четким выражением молчаливо
принимаемых допущений, лежащих в основе рассуждений, в
распутывании многих перепутавшихся смысловых (концептуальных)
нитей. Но все эти установки по сути (и даже формулировкам) уже очень
близки к позициям, заявленным в «Логико-философском трактате»
Л. Витгенштейна.
80
M.С- Козлова. В поисках новой философии. К размышлениям М. Шлика
Шли к пропагандировал идеи «Логико-философского трактата»,
стремился создать на его основе более широкую, более доступную
философию. Под влиянием Витгенштейна были написаны его
краткая программная статья «Поворот в философии» (1930) и «Будущее
философии» (1931). Начало новой эры, «поворот» в философии Шлик
связывал именно с трактатом Витгенштейна, давшим, по его мнению,
яркое и убедительное выражение давно вызревавших тенденций в
понимании сути философии и «ремесла» философов. Принимая близко к
сердцу предвестие Лейбница и воспроизводя его мысль, Шлик
высказывает убеждение: решительное применение новых логических методов
способно положить конец бесплодному конфликту философских
систем, принципиально изменить облик философии. Он опирался на
мысль Витгенштейна, что истинными или ложными, а значит
осмысленными, могут быть лишь предложения-описания, «изображающие»
факты, — предложения же метафизики, этики, эстетики, религии и др.,
не повествующие о фактах, ни истинны, ни ложны, они относятся к
области невысказываемого (Мистического) и — в отличие от первых —
толкуются как бессмысленные. Шлик повторил тезисы Витгенштейна:
метафизика пыталась говорить о том, что не может быть сказано, а
может быть лишь показано, в этом и заключалась причина ее
бессмысленности; задачи метафизики должна взять на себя новая философия,
которая, в отличие от метафизики, является не системой предложений, а
системой действий по прояснению смысла слов и предложений. Всякая
наука, пояснял Шлик тезисы Витгенштейна, есть система
познавательных предложений, т.е. истинных утверждений опыта. Какой-то особой
области «философских» истин не существует. Философия не система
утверждений, не наука. Философия — деятельность, позволяющая
выявлять или определять смысл предложений. С помощью философии
предложения объясняются, с помощью науки они проверяются. Наука
занимается истинностью предложений, а философия — прояснением их
смысла. Философская деятельность по наделению высказываний
соответствующим смыслом — это альфа и омега всего научного знания.
Усилия метафизиков всегда направлялись на абсурдную цель — с помощью
познавательных предложений выразить «сущность» вещей, т.е.
высказать невысказываемое. Ныне метафизике приходит конец, но гибнет она
не потому, что человеческий разум не в состоянии разрешить ее задачи
(как, к примеру, думал Кант), а потому, что таких задач не существует.
Шлик явно склонялся к «научному эмпиризму», но вопреки
широко распространенным у нас представлениям радикальным
позитивистом не был. В его «Общей теории познания» позитивистский запрет на
обращение к ненаблюдаемой реальности (электрон и др.)
расценивается как губительный для науки. Да и позже позитивизм Шлика был
значительно мягче того, что исповедовали, например, Р. Карнап или
А.Дж. Айер. В отличие от большинства участников Венского кружка
fi-3438
81
Поиск ясности
он не был по своему складу «человеком просвещения»,
ориентированным почти исключительно на науку. Глубокий интерес к
математике, физике и другим естественным наукам, профессионализм в
этих областях и педагогическая деятельность в университетах
Германии и Австрии, строгий аналитический ум сочетались в нем с
поэтическим складом души, восприимчивостью к музыке, красоте
природы, интересом к истории и даже склонностью к метафизике, которую
он, впрочем, старался в себе обуздать. Бумаги, дневники Шлика
показывают, что в нем жил поэт; высказывается даже мысль, что все
люди — несостоявшиеся поэты, что стоит им отдаться музыке,
красоте пейзажа, как перед ними распахивается бесконечность мира,
оживают возвышенные чувства и мысли.
Кроме того, Шлику (и это тоже сближало его с Витгенштейном)
была близка идея метафизики как выражения внутреннего чувства,
смысла жизни. Такое умонастроение (и мироощущение) он пронес
через всю жизнь. Оно сопутствовало, соседствовало, спорило,
уживалось с его вторым «я» — «я» ученого, человека научного склада
мышления. В книге «Мудрость жизни», написанной в 20-х годах уже в
Вене, Шлик возвращается к более ранним настроениям. В фокусе его
размышлений и переживаний — Человек, вызывающий у философа
самые добрые чувства. Он ссылается на слова Августина: если вас
вдохновляет любовь, ваше деяние свято. Вызывает отклик у Шлика и
шиллеровская мысль: человек — вполне человек — когда он
отдается бескорыстной творческой игре и его охватывают радость и
свобода. Жизнь, всецело направляемая рациональной целью,
представляется Шлику лишенной смысла. В коротком его эссе «О смысле
жизни» (1927) слышны отзвуки мотивов Ницше: сердцевина,
субстанция жизни — самоценные состояния человека, обладающие
собственной внутренней полнотой. Это — юность, радость,
безмятежность, игра, вдохновляемая любовью. Экзистенциальное «Я» Шлика,
видимо, откликалось и на взволнованно звучавший финал «Логико-
философского трактата»
Вниманию читателей предлагается статья М. Шлика «Будущее
философии», перекликающаяся с мыслями ранее изданной его
работы «Поворот в философии»1.
Примечания
Перевод с издания: Schlick M. The Future of Philosophy // The linguisctic turn.
Chicago and London, 1975. P. 43-53.
1 Шлик M. Поворот в философии // Аналитическая философия. Избранные
тексты. М: Изд. МГУ, 1993.
82
Фридрих Вайсман
Как я понимаю философию
Что такое философия, я не знаю и не могу предложить готовой
формулы. Стоит мне начать обдумывать этот вопрос, как я погружаюсь в
такой поток захлестывающих друг друга идей, что не могу отдать
должное им всем. Я могу лишь предпринять весьма неадекватную
попытку очертить то положение вещей, которое, как мне кажется,
существует, прослеживая некоторые линии мышления, но не прибегая
к тщательной аргументации.
Наверное, легче сказать, чем философия не является, чем что она
такое. Прежде всего хочется сказать, что философия в том виде, как
она практикуется сегодня, не похожа на науку в трех отношениях: в
философии не существует доказательств и теорем и нет вопросов, на
которые можно ответить «Да» или «Нет». Утверждая, что не существует
доказательств, я не хочу сказать, что в философии нет аргументов.
Безусловно, аргументы есть, и первоклассные философы узнаются по
оригинальности их аргументации; однако в философии аргументы
«работают» не так, как в математике или в конкретных науках.
Многое остается вне доказательства: существование материальных
объектов, сознаний других людей, самого внешнего мира,
обоснованность индукции и т. д. Прошли те времена, когда философы
пытались доказывать все: что душа бессмертна, что этот мир — лучший из
всех возможных миров и т. п., — или охотно опровергать с помощью
«неопровержимого» доказательства материализм, позитивизм и все
прочее в том же роде. В философии доказательство, опровержение —
умирающие слова (хотя Дж.Э. Мур еще «доказывал»
недоумевающему миру собственное существование1. Что можно сказать на это —
кроме, пожалуй, того, что в мастерстве доказательства Мур
состязается с Богом?). Но можно ли доказать, что в философии нет никаких
доказательств? Нет, во-первых, такое доказательство, будь оно
возможно, самим своим существованием утверждало бы то, что
призвано опровергнуть. К чему допускать, что философ обладает столь
низким Ай-Кью2, что не способен извлекать уроки из прошлого? Так же
как постоянная безуспешность попыток изобрести вечный двигатель
в конце концов привела к чему-то позитивному в физике, так и про-
6*
83
Поиск ясности
должающиеся столетиями и вышедшие из моды лишь совсем
недавно усилия построить философскую «систему» говорят сами за себя.
Отчасти в этом я усматриваю причину того, почему философы
сегодня отвыкают от изложения своих идей в дедуктивной форме, в
величественном стиле Спинозы.
В этой статье я хочу показать, что совершенно неверно смотреть на
философию так, будто она была призвана сформулировать теоремы, и
это ей, к прискорбию, не удалось. Вся концепция меняется, когда
начинают осознавать, что философия имеет дело не с открытием новых
и не с опровержением ложных положений, не с их проверкой и
перепроверкой, как это свойственно ученым, а с чем-то совершенно иным.
Доказательства прежде всего требуют допущений. Как только в
прошлом выдвигались такие допущения, даже пробным образом, вокруг
них сразу же разворачивалась дискуссия, приводившая к более
глубокому пониманию предмета. Где нет доказательств, там нет и теорем.
(Составление списка положений, «доказанных» Платоном или
Кантом, можно рекомендовать для досуга.) Тем не менее я утверждаю, что
невозможность создать своего рода Евклидову систему философии на
основе соответствующих «аксиом» не является ни простой
случайностью, ни скандалом, но глубоко коренится в природе философии.
И все же вопросы (и аргументы тоже) еще существуют. На самом
деле философ — это человек, улавливающий как бы скрытые
трещины в структуре наших понятий, там, где другие видят перед собой
только гладкий путь, полный банальностей.
Вопросы, но не ответы? Очень странно. Это может стать менее
странным, если приглядеться к ним поближе. Рассмотрим два
знаменитых примера: Ахилл и черепаха, а также изумление Бл. Августина
явлению памяти. Его изумила не какая-то поразительная черта памяти, но
существование памяти вообще. Чувственные впечатления, скажем запах
или вкус, приходят к нам и исчезают. Только что они были здесь, и вот
их уже нет. Но после исчезновения их бледные копии откладываются в
хранилище памяти. Оттуда я могу извлекать их тогда и так часто, как
пожелаю, похожие и все же странно непохожие на первоначальные —
непохожие тем, что не являются преходящими — как мгновенные
впечатления: то, что было мимолетным, сохранилось и обрело длительность.
Но кто может сказать, как происходит это изменение?
Здесь сам факт памяти вызывает ощущение мистификации,
которого нет в обычных вопросах, задаваемых для получения
информации; и конечно же, это вопрос не о факте. Что же это?
Философы от Платона до Шопенгауэра сходились в том, что
источником их философствования является удивление. Его вызывает не что-
то глубокое и исключительное, но именно те вещи, что бросаются нам
в глаза: память, движение, общие идеи. (Платон: Что означает
«лошадь»? Единичную конкретную лошадь? Нет, так как это слово способ-
84
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
но указывать на любую лошадь. Целый класс всех лошадей? Нет, так как
можно говорить об этой или о той лошади. Но если оно не обозначает
ни единичную лошадь, ни всех лошадей, тогда что же?) Точно такое же
потрясение испытывает идеалист, приходя к мысли, что он, говоря
словами Шопенгауэра, «познает не солнце, а только глаз, видяший солнце,
не землю, а только руку, которая ощупывает ее». Может быть, в таком
случае мы ничего не знаем, кроме собственного сознания?
Когда вдумываешься в такие вопросы, кажется, будто разум
затуманивается и все, даже то, что должно быть абсолютно ясным,
начинает странно сбивать с толку, становится совершенно непохожим на
себя. Чтобы выявить характерную особенность этих вопросов,
следует сказать, что это не столько вопросы, сколько признаки глубокой
обеспокоенности разума. Попробуем на мгновение войти в то
состояние сознания, которое было у Августина, когда он спрашивал: как
возможно измерять время? Время состоит из прошлого, настоящего
и будущего. Прошлое нельзя измерить— оно прошло; будущее
нельзя измерить — оно не наступило; а настоящее нельзя измерить —
оно не обладает длительностью. Конечно, Августин знал, как
измеряется время, и не это его интересовало. Его приводило в
недоумение, как возможно измерять время при условии, что прошедший час
нельзя извлечь и поместить для сравнения одновременно с
настоящим часом. Или посмотрим на это так: то, что измеряется,
находится в прошлом, измерение — в настоящем: как это возможно?
Философ, размышляющий над подобной проблемой, похож на
глубоко встревоженного человека. Кажется, что он стремится понять
нечто, превосходящее его понимание. Слова, в которых такой вопрос
формулируется, совершенно не раскрывают его реальную суть,
которую, наверное, правильнее было бы определить как ужас перед
непостижимым. Если во время путешествия по железной дороге вы
неожиданно увидите ту же самую станцию, которую только что оставили
позади, возникнет чувство страха, сопровождаемое, наверное, легким
головокружением. Точно так же чувствует себя философ, когда
говорит себе: конечно, время можно измерять, но как это возможно? Это
похоже на то, как если бы вплоть до сегодняшнего дня он
беззаботно преодолевал эти трудности, а сегодня совершенно неожиданно
заметил их и отрешенно спросил себя: «Да как же это возможно?» Этот
вопрос мы задаем только тогда, когда сами факты ставят нас в тупик,
когда что-то в них поражает нас своей нелепостью.
Я предполагаю, что Кант почувствовал нечто подобное, когда
неожиданно обнаружил в существовании геометрии неразрешимую
загадку. Здесь мы обладаем суждениями настолько ясными и
очевидными, насколько этого можно желать, суждениями, казалось бы,
предшествующими всякому опыту; в то же время они чудесным
образом применимы к реальному миру. Как это возможно? В самом
85
Поиск ясности
деле, может ли разум без помощи опыта каким-то непонятным
образом постигать свойства реальных вещей? Геометрия, рассматриваемая
с этой точки зрения, повисает в воздухе.
У всех нас бывают такие моменты, когда что-то совершенно
обычное вдруг поражает нас странностью — например, когда время
кажется нам удивительной вещью. Не то, что мы часто находимся в этом
состоянии, но в некоторых случаях, когда мы смотрим на вещи
определенным образом, нам вдруг кажется, что они изменились, будто
с помощью магии: они с недоумевающим выражением таращат на
нас глаза, и мы начинаем удивляться, те ли это предметы, которые
были нам известны всю нашу жизнь.
«Время течет», — говорим мы. Это естественное и невинное
выражение, и тем не менее оно чревато опасностью. По выражению
Ньютона, оно течет «равномерно», с одинаковой скоростью. Что это
может значить? Когда что-то движется, оно движется с определенной
скоростью (и скорость означает: мера изменения во времени).
Спрашивать, с какой скоростью движется время, то есть спрашивать, как
быстро время изменяется во времени, значит спрашивать о том, о чем
спрашивать невозможно. Причем время течет, опять-таки по
выражению Ньютона, «безотносительно к чему-либо внешнему». Как мы
должны представить это? Течет ли время безотносительно к тому, что
происходит в мире? Текло ли бы оно, если бы даже все на небе и на
земле остановилось, как полагал Шопенгауэр? Ибо если бы это было
не так, говорил он, время должно было бы остановиться вместе с
остановкой часов и пойти с началом их движения. Как странно: время
течет равномерно, но без скорости и, возможно, даже без того, что
происходило бы в нем. Это выражение запутывает и иным образом.
«Я никогда не могу застать себя существующим в прошлом или
будущем», — может сказать кто-то, — «Всякий раз, когда я мыслю, или
воспринимаю, или тихо произношу слово "сейчас", я оказываюсь в
настоящем, следовательно, я всегда в настоящем». Говоря это, он
может представлять себе настоящий момент как бы в качестве
моста, с которого он взирает вниз на «реку времени». Время плавно
скользит под мостом, но "сейчас" не принимает участия в движении.
То, что было будущим, переходит в настоящее (как раз под мостом),
а затем в прошлое, тогда как наблюдатель, «субъект», или «я» всегда
пребывает в настоящем. Он, наверное, полагает, что «Время
протекает через "сейчас" — весьма выразительная метафора. Да, звучит
хорошо, пока он не обратится к чувствам и с самого начала не осознает:
«Но ведь мгновение уносится?» (Вопрос: Как преуспеть в бесполезной
трате времени? Ответ: Попытайтесь, например, с закрытыми глазами
или же глядя перед собой отсутствующим взглядом ухватить настоящее
мгновение, когда оно пролетает мимо.) Возможно, тогда он посмотрит
на вещи по-другому. Он представляет, как продвигается сквозь время
86
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
к будущему, и это наводит на мысль об активности, точно так же как
в другой раз он может представить, как его сносит течением, нравится
ему это или нет. «Что же тогда в строгом смысле есть то, что движется, —
события во времени или же мгновение настоящего?» — поразится он. В
первом случае у него было впечатление, будто время двигалось, а он
оставался неподвижным, во втором — будто он двигался сквозь время.
«Как же в действительности обстоит дело? — наверное, произнесет он
неуверенным голосом. — Нахожусь ли я всегда в настоящем? Или
настоящее всегда ускользает от меня?» В каком-то смысле верно и то и
другое, но они противоречат друг другу. Опять же, имеет ли смысл
спрашивать, в каком времени находится момент настоящего? Да, без
сомнения, имеет. Но как это возможно, если «сейчас» есть не что иное,
как фиксированная точка, от которой в конечном счете получает свой
смысл определение даты любого события.
Так он мечется то туда, то обратно: «Я всегда нахожусь в настоящем,
и тем не менее оно ускользает сквозь пальцы; я стремлюсь вперед во
времени — нет, меня сносит течением». Он использует эти разные
образы, и каждый по-своему вполне соответствует ситуации; но когда их
пытаются применить вместе, они приходят в столкновение. «Должно
быть, время — странная вещь», — произнесет он, наверное, с
недоуменным выражением лица. «Что же в конце концов есть время?» — спросит
он, ожидая и, быть может, надеясь, что ответ раскроет перед ним
скрытую сущность времени. За сферой интеллектуального беспокойства
существуют более глубокие его уровни — страх неизбежности хода
времени со всеми размышлениями о жизни, к которым он побуждает нас. И
вот все эти тревожные сомнения выливаются в вопрос «что есть время?»
(Между прочим, это намек на то, что ни один ответ никогда не
устранит всех этих сомнений, вновь и вновь вспыхивающих на разных
уровнях и тем не менее выражаемых в одной и той же словесной форме.)
Так как все мы знаем, что время существует, и все же не можем
сказать, что оно такое, это вызывает ощущение таинственности; и
именно благодаря своей неуловимости время захватывает наше
воображение. Чем больше мы всматриваемся в него, тем больше
недоумеваем: оно кажется переполненным парадоксами. «Что есть время?
Что есть это бытие, составленное из моментов, но без чего-либо, что
движется?» {Шопенгауэр)... Для Шелли оно «бездонное море, чьи
волны — годы»3, «безбрежный поток» для Пруста4 — ну почему бы не
оставить что-нибудь и читателю?
А не в том ли ответ, что то, что мистифицирует нас, кроется в
именной форме слова «время»? Наличие понятия, воплощенного в
форме имени существительного, почти неизбежно вынуждает нас
обращаться к поиску того, именем чего оно является. Мы стремимся
зафиксировать ускользающие оттенки с помощью неясности речи.
Ошибочная аналогия, впитанная формами нашего языка, вызывает
87
Поиск ясности
умственный дискомфорт (а чувство дискомфорта глубоко, когда оно
связано с языком). «Все звуки, все цвета... пробуждают
неопределенные и тем не менее безошибочно узнаваемые эмоции или, как я
предпочитаю думать, освобождают в нас бестелесные силы, отзвуки
шагов которых в наших сердцах мы называем эмоциями» (У.Б. Йеитс)5.
И тем не менее ответ прозаичен: спрашивайте, не что такое
время, а как употребляется слово «время». Легче сказать, чем сделать;
ибо, проясняя употребление языка, философ вновь подпадает под
действие чар обыденного языка — этой «сущности, обладающей
преимуществами отклонений» (Лихтенберг), вновь втягивается в погоню
за призраками.
Путь к таким возможностям понимания полностью открывается,
пожалуй, только тогда, когда мы обращаемся к языкам совершенно
иной грамматической структуры. «Весьма вероятно, что философы
урало-алтайской группы языков (где понятие субъекта развито слабо)
смотрят на мир иначе и находят иные пути мысли, нежели
индоевропейцы или мусульмане» (Яыцше)ь.
II
Быть может, тут стоит вспомнить, что слова «вопрос» и «ответ»,
«проблема» и «решение» не всегда употребляются в их самом банальном
смысле. Вполне очевидно, что часто, чтобы найти выход из
затруднения, мы должны действовать совершенно по-разному. Политические
проблемы решаются путем выбора определенной линии поведения,
проблемы романистов — путем создания средств изображения
сокровенных мыслей и чувств персонажей; перед художниками стоит
проблема передачи на холсте глубины или движения, стилистическая
проблема выражения того, что пока еще не стало привычным, еще не
превратилось в клише; существуют тысячи технологических проблем,
решаемых не с помощью открытия каких-то истин, а практически, и,
конечно же, существует «социальный вопрос». В философии
реальная проблема состоит не в том, чтобы найти ответ на данный вопрос,
а в том, чтобы его осмыслить.
Чтобы понять, в чем состоит «решение» такой «проблемы»,
начнем с Ахилла, который, согласно Зенону, до сего дня преследует
черепаху. Допустим, что Ахилл бежит в два раза быстрее черепахи. Если
первоначальный отрыв7 черепахи принять за 1, то Ахилл должен
будет проходить последовательно 1, 1/2, 1/4, 1/8,.... Этот ряд
бесконечен, поэтому бегун никогда не сможет настичь черепаху. «Нонсенс!
(голос математика). Сумма бесконечного ряда является конечной, а
именно равной 2, и это решает вопрос». Совершенно справедливое
замечание тем не менее не попадает в цель. Оно не устраняет суть
головоломки, а именно приводящую в замешательство идею, что, как
88
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
бы далеко мы ни продвинулись по ряду, всегда существует следующее
число, что преимущество, которым черепаха обладает в начале
состязания, естественно, постепенно сокращаясь, тем не менее никогда не
перестанет существовать и не может наступить такого момента,
когда оно станет равным нулю. Именно эта особенность ситуации,
которую мы не понимаем, я полагаю, и повергает нас в состояние
замешательства.
Но взглянем на ситуацию иначе. Попробуем применить тот же
аргумент к минуте, тогда мы должны будем рассуждать примерно так.
Прежде чем минута сможет пройти, должна пройти ее первая
половина, затем ее четверть, затем одна восьмая и так далее ad infinitum.
Процесс бесконечный, минута никогда не закончится. Как только мы
представляем рассуждения в этой форме, грубая ошибка бросается в
глаза: мы смешивали два смысла «никогда», — временной и не-вре-
менной. Совершенно верно утверждение, что последовательность 1,
1/2, 1/4, 1/8,... никогда не заканчивается, но этот смысл слова
«никогда» не имеет никакого отношения ко времени. Все, что оно
означает, что в числовом ряду нет последнего числа, или (что то же самое)
что для любого числа, независимо от его местоположения в
последовательности, следующее за ним число может быть получено по
простому правилу «разделить его пополам», что и означает в данном
случае «никогда»; в утверждении же, например, что человек никогда не
сможет отвратить смерть*, «никогда» используется в смысле «ни в
какое время». Очевидно, что математическое утверждение о
возможности перехода в последовательности чисел путем образования нового
числа в соответствии с правилом ничего не говорит о том, что
действительно происходит во времени. Ошибка очевидна: говоря, что
Ахилл никогда не сможет настичь черепаху, так как разрыв, становясь
все меньше и меньше, тем не менее не исчезнет, мы перескакиваем
от математического невременного смысла к временному. Если бы в
нашем языке существовало два разных слова для обозначения этих
смыслов, путаница никогда бы не возникла и мир был бы беднее на
один из своих наиболее привлекательных парадоксов. Но одно и то
же слово используется как нечто само собой разумеющееся в
различных значениях. В результате мы имеем нечто похожее на трюк
фокусника. Пока наше внимание поглощено, пока наш «мысленный взор»
прикован к тому, как Ахилл устремляется вперед, каждым своим
большим прыжком уменьшая расстояние до черепахи, один смысл
так безобидно прячется за другой, что остается незамеченным.
Этот способ выявления ошибки действует и тогда, когда для
представления головоломки используется другой ключевой термин.
Так как в последовательности чисел «всегда» будет следующее число,
т. е. следующий шаг в разбиении дистанции (слово «всегда» выглядит
столь же безупречно и невинно), то мы легко попадаем в ловушку
89
Поиск ясности
заключения, что черепаха «всегда» будет впереди Ахилла, вечно
преследуемая своим гонителем.
Существует много типов головоломок: бывает навязчивое
сомнение — могу ли я вообще знать, что другие люди обладают
ощущениями, что они видят, слышат и чувствуют так же, как я? Могу ли я
быть уверен, что память не всегда меня обманывает? Существуют ли
реально материальные объекты, а не только «их» чувственные
впечатления? Существует беспокойство, подобное сомнению, — каким
видом бытия обладают числа? Бывает тревожная неуверенность —
свободны ли мы на самом деле? Эта неуверенность приобрела много
различных форм, одну из которых я выберу для обсуждения, а
именно вопрос о том, принуждает ли нас к некоему логическому
Предопределению закон исключенного третьего, когда он относится к
суждениям в будущем времени. Вот типичное рассуждение. Если сейчас
истинно, что завтра я совершу определенный поступок, скажем
прыгну в Темзу, то независимо от того, как сильно я буду
сопротивляться, отбиваться руками и ногами как сумасшедший, с приходом
завтрашнего дня я не смогу не прыгнуть в воду. Если же это
предсказание сейчас ложно, то какие бы усилия я ни предпринимал, как бы
много раз ни собирался с силами и ни ободрял себя, смотрел в воду
и говорил себе: «Раз, два, три», — прыгнуть мне не удастся. Однако
то, что предсказание либо истинно, либо ложно, есть необходимая
истина, утверждаемая законом исключенного третьего. Кажется, что
из этого следует поразительный вывод, будто уже сейчас решено, что
я буду делать завтра и каким образом, будто на самом деле
логически предопределено все будущее. Что бы я ни делал и что бы ни
избирал, я просто двигаюсь по заранее предначертанным путям, которые
приводят к тому, что мне предназначено жребием. Мы все в
действительности марионетки. Если мы не готовы проглотить это, то,
следовательно, — и в этом «следовательно» слабый проблеск надежды —
нам открыта альтернатива. Нужно только отказаться использовать
закон исключенного третьего для суждений подобного рода, и тогда
с законностью обычной логики все будет в порядке. Описания того,
что произойдет, в настоящее время не являются ни истинными, ни
ложными. (Этот вывод был выдвинут Лукасевичем в пользу
трехзначной логики с «возможным» в качестве третьего истинностного
значения наряду с «истинным» и «ложным».)
Выход вполне ясен. Задающий вопрос повторил ошибку очень
многих философов: дал ответ прежде, чем прекратить рассмотрение
вопроса. Ясно ли ему, о чем он спрашивает? Кажется, он допускает,
что суждение о будущем событии в настоящее время неопределенно,
не является ни истинным, ни ложным, когда же событие происходит,
суждение переходит в новое состояние, становится истинным. Но как
мы должны представлять себе переход от неопределенного к истин-
90
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
ному? Резок он или постепенен? В какой момент суждение «завтра
будет дождь» начинает становиться истинным? Когда первая капля
дождя падает на землю? А если предположить, что дождя не будет, то
когда суждение начнет становиться ложным? Точно в конце дня, в
двенадцать часов пополудни? Допустим, что событие произошло, что
суждение истинно, останется ли оно таковым навсегда? Если да, то
каким образом? Останется ли оно непрерывно истинным в каждый
момент для дня и для ночи? Даже если бы вокруг не было никого, кто
бы об этом подумал? Или же оно истинно только в моменты, когда о
нем размышляют? В таком случае как долго оно остается истинным?
Пока длится размышление? Мы не знаем, как ответить на эти
вопросы; это обусловлено не каким-то особым невежеством или нашей
тупостью; дело в другом: что-то неверно в способе употребления здесь
слов «истинный» и «ложный».
Если я говорю: «Верно, что я был в Америке», то я говорю, что
был в Америке и не более того. То, что, произнося слова: «Верно,
что...», — я беру на себя ответственность, —совершенно другое дело,
не относящееся к данному аргументу. Дело в том, что, высказывая
суждение, предваряемое словами «истинно, что», я ничего не
добавляю к сообщаемой вам фактической информации. Говорить, что
нечто истинно, не значит делать это истинным: например, преступник
лжет в суде и тем не менее все время торжественно заверяет, поло-
жа руку на сердце, что говорит правду. То, что характерно для
употребления слов «истинный» и «ложный» и чего защитнику
логического детерминизма не удается заметить, состоит в следующем.
Выражения «это истинно» и «это ложно», хотя они, безусловно,
наделены силой утверждения и отрицания, не являются
дескриптивными. Предположим, что кто-то говорит: «Истинно, что завтра
взойдет солнце»; весь смысл этого высказывания состоит в том, что
солнце завтра взойдет: оно не радует нас дополнительным
описанием правдивости того, о чем говорит. Но допустим, что вместо этого
ему следовало сказать: «Сейчас истинно, что солнце завтра
взойдет», — это свелось бы к чему-то похожему на «солнце взойдет
завтра, сейчас»; что бессмысленно. Вопрос-головоломка: «Истинно или
ложно сейчас, что в будущем произойдет то-то?» — вовсе не тот вид
вопроса, на который может быть дан ответ, действительно
являющийся ответом.
Это проливает свет на то, что по сути, формально было названо
«вечностью истины». Для такой истины выражение в кавычках
«истинно, что...» — не допускает подстановки даты. Сказать о
высказывании «Алмаз есть чистый углерод», что оно истинно в
рождественский сочельник, было бы такой же дурацкой шуткой, как сказать, что
оно истинно в Париже, а не в Тимбукту (это не значит, что в
определенных обстоятельствах мы не можем сказать: «Да, это было истин-
91
Поиск ясности
но в те дни», как это может быть ясно перефразировано без
использования слова «истинный»).
Теперь уже не столь парадоксальным выглядит тезис, что
философ, желая избавиться от вопроса, не должен делать одной вещи:
давать ответ. На философский вопрос не дают ответа, его устраняют. В
чем же состоит «устранение»? В том, чтобы сделать значения слов,
используемых при постановке вопроса, столь ясными, что мы
освободились бы от чар, которыми он околдовывает нас. Путаница
устраняется напоминанием об употреблении языка, или о правилах,
поскольку его употребление может быть выражено в правилах. Стало
быть, это было путаницей в употреблении языка или путаницей с
правилами. Именно здесь встречаются философия и грамматика.
Есть еще один момент, который требует пояснения. Когда мы
говорим об утверждении, например «идет дождь», что оно истинно,
едва ли можно избежать впечатления, будто мы говорим что-то «об»
утверждении, а именно, что оно обладает свойством истинности.
Кажется, что высказать подобное суждение — значит сказать более того,
что утверждалось вначале, а именно, что идет дождь и что это
утверждение истинно. Это, однако, приводит к странным последствиям.
Ибо в каком смысле оно говорит больше? Рассмотрим сначала, при
каких обстоятельствах было бы уместно говорить о двух
высказываниях, что одно говорит «больше», чем другое. «Это красное» говорит
больше, чем «Это окрашено», на том очевидном основании, что
можно заключать от первого суждения ко второму, но не наоборот; так же
как высказывание «сегодня четверг» говорит больше, чем
высказывание «сегодня будний день». Стало быть, сам этот критерий
предполагает, что если даны два высказывания р и q, то р говорит больше, чем
q, если ~p.q имеет смысл, а /?. ~q противоречиво. У того, кто
придерживается взгляда, что «р истинно» говорит больше, чем р (р
означает, например, «Идет дождь»), можно потребовать разъяснения, что он
понимает под этим. Применяет ли он слово «больше» в только что
разъясненном смысле? Если да, то в результате получается
курьезное следствие, что должно иметь смысл утверждать конъюнкцию
-/?.<:/, т. е. в нашем случае «Неверно, что идет дождь, и идет дождь».
Поскольку это явно не то, что он имел в виду, то что же он все-таки
имел в виду? Мы не возражаем ему, а просто напоминаем о том, как
он употреблял эти слова всегда, в нефилософских контекстах. А
затем указываем, что если, говоря то, что он хотел сказать, он все еще
намерен употреблять эти слова в обычном смысле, то это приведет к
абсурду. Все, что мы делаем, призвано помочь ему осознать его
собственную практику. Мы воздерживаемся от какого бы то ни было
утверждения. Его дело объяснить, что он имеет в виду. Наверное, он
скажет, что, приписывая истину данному суждению, он хочет
выразить либо 1) что оно «соответствует факту» или чему-то подобному;
92
Ф. Вансман. Как я понимаю философию
либо 2) что он знает, что оно истинно. В первом случае он
сталкивается с той же самой дилеммой, а именно, что должно иметь смысл
говорить: Не соответствует фактам, что идет дождь и не идет дождь». Во
втором обнаруживаются новые трудности. С одной стороны, слова
«истинно, что...», произносимые разными людьми, означали бы
разные вещи; с другой стороны, и это более пагубно для защитника
фатализма, истолковывая слова в этом смысле, он сам себе роет яму. При
допущении «сейчас ложно, что завтра он напишет письмо» не надо
мучиться вопросом, следует ли из этого, что написать такое письмо
будет действительно невозможно, ибо эта линия поведения для него
открыта, логически открыта. Дело в том, что «сейчас ложно», взятое в
новом смысле, означает «он все еще не знает», и сам вопрос исчезает.
Причина, по которой я углубляюсь в эту путаницу, состоит в том,
что метод, применяемый для ее распутывания, обнаруживает
некоторые интересные особенности. Во-первых, мы ни к чему нашего
собеседника не принуждаем. Мы оставляем ему свободу выбрать, принять
или отвергнуть любой способ употребления слов. Он может отступить
от обычного словоупотребления — язык не является
неприкосновенным — если только таким способом он сможет объясниться. Он
может даже использовать выражение сначала одним, а потом другим
способом. Мы настаиваем только на одном — он должен понимать,
что он делает. Если мы строго следуем этому методу — тщательно
изучая рассуждение, спрашивая его на каждом шагу, хочет ли он
употреблять выражение определенным образом, а если нет,
предлагая ему альтернативы, но оставляя решение за ним и только указывая
каковы будут последствия такого употребления слов, — никакой спор
не может возникнуть. Споры возникают, только если в этой
процедуре пропущены определенные шаги, так что создается впечатление,
будто мы что-то утверждаем, добавляя к мировым проблемам новое
яблоко раздора. Это был бы правильный метод недогматического
философствования. Трудность этого метода — в таком представлении
предмета, которое позволяет легко охватить его, упорядочивая случаи
и способы их взаимосвязи рассуждений о нем с помощью
опосредующих звеньев так, чтобы можно было получить ясный
синоптический взгляд на целое.
Во-вторых, мы не используем аргументов для доказательства или
опровержения какого бы то ни было «философского взгляда».
Поскольку у нас нет никаких взглядов, мы можем позволить себе
смотреть на вещи как они есть.
Далее, мы только описываем; мы не «объясняем». Объяснение в
смысле дедуктивного доказательства не может удовлетворить нас, так
как оно только откладывает вопрос: «Почему именно эти правила, а
не другие?» Следуя такому методу, мы не хотим давать объяснений.
Все, что мы делаем, состоит в описании употребления или составле-
93
Поиск ясности
нии таблиц правил. Поступая так, мы не совершаем каких-то
открытий: в грамматике нет ничего, что следовало бы открывать.
Грамматика автономна, она не определяется реальностью. Указание причин,
обязанное фактически привести к цели и ведущее к тому, что далее
не может быть объяснено, не должно удовлетворять нас. В
грамматике мы никогда не спрашиваем «почему?».
Но разве это не ведет к тому, что сама философия «исчезает»?
Философия устраняет те вопросы, которые можно устранить с помощью
такого подхода. Хотя и не все. Упования метафизика на то, что луч
света может осветить тайну существования этого мира, или
непостижимый факт его постижимости, или «смысл жизни» — всегда
облачены в слова, даже если можно было бы показать, что подобные
вопросы лишены ясного смысла или вообще не имеют смысла. Нельзя
уменьшить тот страх, который они пробуждают в нас. В попытках
«разоблачить» их есть что-то мелочное. Волнение сердца не унять
логикой. Тем не менее философия не исчезает. Она обретает свою
весомость, свое величие благодаря значимости тех вопросов, которые
она разрушает. Она опрокидывает идолов, и именно важность этих
идолов придает философии ее значение.
Теперь, пожалуй, понятно, почему поиски ответов на вопросы
такого типа обречены на неудачу, терпят неудачу. Это — не реальные
вопросы, требующие информации, но «замешательства, ощущаемые
как проблемы» (Витгенштейн), которые исчезают, когда почва
расчищена. Если философия развивается, то не путем прибавления новых
положений к уже имеющемуся у нее списку, а путем преобразования
всей интеллектуальной сцены и, как следствие, путем уменьшения
числа вопросов, которые приводят нас в замешательство и сбивают с
толку. Философия, понимаемая таким образом, является одной из
великих освободительных сил. Ее задача, по словам Фреге, в том,
чтобы «освободить дух от тирании слов, разоблачая заблуждения,
которые почти неизбежно возникают при употреблении речи».
III
Что же, только критицизм и ничего по существу? Философ как рас-
сеиватель тумана? Если бы это было все, на что он способен, я бы
пожалел его и оставил в покое. К счастью, это не так. С одной
стороны, философский вопрос, если им заниматься достаточно долго,
может привести к чему-то позитивному, например к более
глубокому пониманию языка. Возьмем скептические сомнения в отношении
материальных объектов, сознаний других людей и т.п. Первой
реакцией могло бы стать заявление: эти сомнения безосновательны.
Обычно, когда я сомневаюсь, окончу ли эту статью, через некоторое
время моим сомнениям приходит конец. Я не могу сомневаться бес-
94
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
конечно. Сомнению суждено рассеиваться. Но сомнения скептика
никогда не исчезают. Сомнения ли это или же псевдовопросы? Они
кажутся такими, если только о них судить по двойным стандартам —
здравого смысла и обыденной речи. Подлинная трудность кроется
гораздо глубже: она возникает из скептического сомнения в тех самых
фактах, которые лежат в основе употребления языка, в тех постоянных
особенностях опыта, что делают возможным образование понятий,
которые фактически выпадают в осадок в процессе употребления
большинства обычных слов. Предположим, что вы совершенно ясно
видите перед собой предмет, скажем трубку, и когда вы собираетесь
ее поднять, она растворяется в воздухе; тогда вы, наверное,
подумаете: «Боже, я схожу с ума» или нечто подобное (если ситуация не
позволяет вам заподозрить, что это какой-то хитрый трюк). Если бы
подобный опыт был достаточно частым, на чем тогда мог бы настаивать
скептик? Были бы вы готовы устранить связь между различными
ощущениями, которая образует прочное ядро нашего представления
о пространственном объекте, уничтожить то, что создано языком, —
расстаться с категорией предметности? И неужели вы тогда смогли
бы жить во дворце из цветовых пятен и прочего, что поставляет нам
теория чувственно данного, в разобъективированном, десубстанциа-
лизированном мире феноменалистов <...> Именно поэтому скептик
старается выразить себя в языке, который не годится для этой цели.
Он выражается вводящим в заблуждение образом, когда говорит, что
сомневается в таких-то фактах: его сомнения столь глубоки, что
воздействуют на плоть самого языка. Ибо то, в чем он сомневается, уже
воплощено в самих формах речи, например в том, что
сконденсировано в употреблении слов, обозначающих предметы. В момент,
когда он стремится проникнуть в эти глубоко залегающие пласты, он
взрывает язык, на котором обсуждает свои сомнения, — в итоге
кажется, что он несет околесицу. Но это не так. Чтобы полностью
выразить его сомнения, язык следовало бы отправить в переплавку.
(Намеком на то, что требуется, может служить современная наука,
где все устоявшиеся категории — предметности, причинности,
пространства — следует революционизировать. Это требует по меньшей
мере создания какого-то нового языка, а не выражения новых
фактов при помощи старого.)
Если подойти к делу таким образом, позиция скептика предстает
в новом свете. Он размышляет о возможностях, лежащих далеко за
пределами нашего современного опыта. Если серьезно принимать его
сомнения, то они приводят к наблюдениям, проливающим новый
свет на основу языка, показывая, какие возможности открыты
нашему мышлению (а не обыденному языку) и по каким путям следовало
бы продвигаться, если бы структура нашего опыта отличалась от
ныне существующей. Эти проблемы не надуманны: они позволяют
95
Поиск ясности
нам осознать то обширное основание, в котором укоренен всякий
современный опыт и к которому приспособился язык; таким
образом, они выявляют огромный опыт, накопленный в процессе
употребления наших слов и синтаксических форм.
С другой стороны, [рассматриваемый] вопрос может постигнуть
иная участь, нежели простое устранение: он может перейти в науку.
Например, Фреге в своих исследованиях руководствовался
философскими мотивами, а именно стремлением получить определенный
ответ на вопрос о природе арифметических истин — являются ли они
аналитическими или синтетическими, a priori или a posteriori. Исходя
из этого вопроса и исследуя его со всей возможной строгостью, он
смог поднять целый пласт проблем научного характера; следуя в этом
направлении, он создал новый инструмент, логику, которая по
тонкости, области применения и мощи далеко превзошла все то, что
понималось под этим словом раньше. Предмет, по сей день
обнаруживающий новые и неожиданные глубины. Правда, вопрос, из
которого исходил Фреге, был сформулирован не очень ясно из-за
неточности кантовских терминов, в которых он был выражен.
Можно написать целую главу о судьбе вопросов, их любопытных
приключениях и трансформациях — как они превращаются в другие
и в этом процессе остаются теми же самыми. Первоначальный
вопрос может рассыпаться почти как персонаж сновидений. Приведем
лишь несколько примеров: можно ли построить логику целиком и
полностью формальным способом, т. е. не привнося каких-то
посторонних идей, таких, как употребление языка и всего, что с этим
связано? Можно ли каким-либо способом полностью описать
арифметику «изнутри»? Или же любая интерпретация будет включать
некоторый остаток эмпирического? Эти вопросы породили широкие
исследования по интерпретации формальных систем математики.
Вопрос о том, насколько верна логическая интуиция, разделился
на пучок вопросов, относящихся к теории логических типов,
аксиоме выбора и т.п., а по сути перерос в значительно более
фундаментальный вопрос — является ли «правильной» обычная логика при
ее сопоставлении с системой вывода, развитой интуиционистами.
Или: существуют ли в математике неразрешимые вопросы, не в
ограниченном смысле, как об этом говорил Гедель, а в смысле
абсолютном? Существуют ли естественные границы обобщения? Интересно
наблюдать, как от подобного вопроса, не слишком точного, в чем-то
неясного, отделяются новые и лучше сформулированные вопросы:
исходный вопрос — в случае Фреге по преимуществу философский —
порождает научное потомство.
Теперь следует отметить кое-что еще — как эти вопросы
становятся не только точными, но и ясными (что не одно и то же). Для
иллюстрации: можно ли бесконечность, представленную всеми натураль-
96
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
ными числами, сравнить с бесконечностью, представленной всеми
точками пространства? Иначе говоря, можно ли об одной сказать, что
она меньше, чем другая, или равна ей? Вопрос, когда он был впервые
поставлен, не имел ясного смысла, возможно, не имел никакого
смысла вообще. Тем не менее он направлял Г. Кантора в его
замечательном исследовании. Прежде чем была открыта теория
множеств, — или лучше было бы сказать «изобретена»? — этот вопрос
действовал в качестве указателя, приблизительно указывающего на
какую-то пока не отмеченную на карте область мышления. Наверное,
это лучше выразить, сказав, что он ведет наше воображение в данном
направлении, стимулирует исследование на новых путях. Такие
вопросы не «устраняются»: они разрешаются, но только не в
существующей системе мышления, а путем создания новой концептуальной
системы — такой, как теория множеств, — где подразумеваемый и
смутно прозреваемый смысл находит свое полное воплощение.
Следовательно, они служат стимулами для построения таких систем, они
указывают из еще-не-осмысленного на осмысленное.
Вопрос является первым осторожным шагом разума в странствиях,
которые выводят его к новым горизонтам. Нигде гений философа не
проявляется столь поразительно, как в новом типе вопроса, который
он ставит. Страсть вопрошания — вот что отличает и определяет его
место. То, что его вопросы не совсем ясны, не столь важно в
сравнении с их постановкой. Ничто так не ограждает от совершения
открытий, как ясное мышление. Неплохо призывать к ясности, но, когда это
становится навязчивой идеей, она способна подавить живую мысль в
зародыше. Это, я опасаюсь, один из плачевных результатов
Логического Позитивизма, не предвиденный его основателями, но столь
поразительный у некоторых его последователей. Взгляните на этих людей,
охваченных неврозом ясности, околдованных страхом, косноязычных,
непрерывно спрашивающих себя: «А теперь имеет ли это совершенно
правильный смысл?» Представьте себе пионеров науки — Кеплера,
Ньютона, создателей неевклидовой геометрии, физики поля, теории
бессознательного и бог знает еще чего, представьте, что они на каждом
шагу задают себе этот вопрос — вернейшее средство подорвать всякую
способность творчества. Ни один выдающийся первооткрыватель не
действовал в соответствии с девизом «Все, что можно сказать, можно
сказать ясно». Некоторые величайшие открытия даже возникли из
своего рода первоначального замешательства. (Кое-что надо сказать в
пользу замешательства. Со своей стороны, я всегда подозревал, что
ясность является последним прибежищем тех, кому нечего сказать.)
Великий разум является великим вопрошателем<...>
Но здесь на карту ставится вопрос о том, как избежать господства
лингвистических форм. Как часто мы просто следуем по путям,
проторенным бесчисленным повторением одних и тех же способов выра-
7-адле
97
Поиск ясности
жения, когда мы, ничего не подозревая, говорим: «Время течет», — и
неожиданно, сталкиваясь (скажем) с парадоксом Августина,
утрачиваем самодовольство. Существующий язык, предлагая нам только
определенные, стереотипные формы выражения, вырабатывает привычки
мышления, которые почти невозможно разрушить. Такой формой
является, например, схема деятеля — действия индоевропейских языков.
Насколько глубоко их влияние, можно догадаться по декартовскому
выводу, идущему от мышления к существованию агента, ego отличного
от мышления, агента, который мыслит, — вывод для нас вполне
естественный и убедительный, так как он поддерживается всей
традицией языка. Другим примером может служить одержимость Фреге
вопросом «Что такое число?». Поскольку мы можем говорить о «числе пять»
(the number five), то пять, рассуждал Фреге, должно быть собственным
именем сущности, разновидности платоновского кристалла,
указываемой с помощью определенного артикля. (Мой китайский ученик
однажды сообщил мне, что вопрос Фреге нельзя задать по-китайски, где
«пять» употребляется только в качестве числительного в контекстах
типа «пять друзей», «пять лодок» и т.п.) Кроме того, когда мы говорим
о данном суждении, что оно истинно, кажется, будто мы говорим что-
то «о» нем — что свидетельствует о силе субъектно-предикатного
клише. Склонность толковать его таким образом, а именно как суждение
о суждении, столь сильна, что мысль об иной интерпретации едва ли
придет на ум. Важно отметить, что, поступая так, мы сравниваем
выражение с аналогичными формами, но не менее важно, что ни одна из
этих аналогий не нуждается в нашем осознании: достаточно, если они
оказывают воздействие смутным, неопределенным образом. Подобные
шаблоны воздействуют на нас, как и тысячи явных аналогий: они
действуют, можно сказать, подобно силовому полю, которое
ориентирует наше мышление в определенном направлении. И, осмелюсь
добавить, именно благодаря текучей, полуоформленной, сумеречной
природе этих аналогий почти невозможно избежать их воздействия.
Если мы попадаем под их обаяние, это наша проблема. Используем
такой образ: как хороший пловец должен быть способен плыть против
течения, так и философ должен овладеть чрезвычайно трудным
искусством мышления, осуществляемого невзирая на устоявшийся язык,
вопреки всем и всяческим клише.
...Философ рассматривает вещи через призму языка, но сбитый с
толку, скажем, какой-то аналогией, неожиданно видит предметы в
новом, необычном свете. Мы можем справиться с этими проблемами,
только углубляясь в почву, из которой они произрастают. Это значит
осветить основание, на котором сформировался вопрос; при более
ясном восприятии некоторых решающих понятий один вопрос
трансформируется в другой. Это не значит, что на него ответили в
общепринятом смысле. Скорее, с помощью более глубокого и
98
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
проницательного анализа мы устранили факторы, подсказавшие
вопрос. Суть этого процесса в том, что он ведет вопрошающего к
какому-то новому аспекту, притом ведет с его добровольного согласия. Он
соглашается с этим руководством и потому наконец оставляет свои
поиски. Принудить того, кто не хочет следовать новому направлению,
нельзя, можно лишь расширить поле видения вопрошающего,
ослабить его предрассудки, сориентировать его взор в новом
направлении; но все это может быть достигнуто только с его согласия. С
помощью нашего критического анализа мы стремимся
противодействовать влиянию языкового поля, или же (что то же
самое) помочь вопрошающему достичь более глубокого проникновения
в природу того, к чему он стремится прежде всего, — увидеть
конструкцию понятий и формы, в которых он выражает свой вопрос.
Происходит то, что больше похоже не столько на доказательство какой-
нибудь теоремы, сколько на изменение его точки зрения, или на
расширение его проницательности (insight). Проницательность
[интуицию, понимание] нельзя облечь в форму теоремы, и в этом кроется
более глубокая причина того, почему дедуктивный метод обречен на
неудачу: понимание невозможно продемонстрировать с помощью
доказательств.
Наконец, задающий вопрос в ходе обсуждения должен принять
ряд решений. Это тоже делает философскую процедуру совсем
непохожей на логическую. Например, он сравнивает свой случай с
аналогичными случаями и должен вынести суждение, насколько сильны
эти аналогии. Именно ему судить, насколько он склонен принимать
эти аналогии: он не обязан слепо следовать им, как раб.
Наука богата вопросами такого типа. Строго говоря, это не
научные вопросы, и тем не менее ими пользуются ученые; они
являются философскими вопросами, и тем не менее философы не
пользуются ими.
Вот что я хотел сказать в этом разделе и не сказал или сказал
только наполовину.
1. Философия — это не только критика языка. При подобном
истолковании ее цель является слишком узкой. Она критикует,
снимает, перешагивает через все предрассудки, ослабляет все строгие и
жесткие способы мышления, независимо от того, кроется ли их
источник в языке или в чем-то еще.
2. Прорыв к более глубокому постижению — вот что существенно
в философии, и это является чем-то позитивным, а не просто
рассеиванием тумана и разоблачением ложных проблем.
3. Постижение [интуицию] нельзя выразить с помощью теоремы,
и, следовательно, оно не может быть продемонстрировано [путем
доказательства].
99
Поиск ясности
4. Философские аргументы, все без исключения, логически
безупречны: на самом деле, они выявляют то, что действительно
происходит, — неслышное и терпеливое подтачивание категорий по
всему полю мышления.
5. Их цель в том, чтобы открыть нам глаза, помочь нам увидеть
предметы иначе — с более широкой точки зрения, свободной от
неверных истолкований.
6. Существенное различие между философией и логикой состоит
в том, что логика принуждает нас, тогда как философия оставляет нас
свободными: в философской дискуссии мы продвигаемся шаг за
шагом, чтобы изменить наш угол зрения, например чтобы перейти от
одного способа постановки вопроса к другому, а это, вместе с нашим
добровольным согласием, очень серьезно отличается от
дедуцирования теорем из данной совокупности посылок. Перефразируя
Кантора, можно сказать: сущность философии состоит в ее свободе.
IV
Существует точка зрения, согласно которой философия есть одно из
проявлений интеллекта, а философские вопросы можно решить
путем аргументации, и решить убедительно, если только знать, как к
ним подступиться. Но что мне представляется странным, так это то,
что я не могут найти действительно добротной аргументации; и
более того, только что рассмотренный пример заставляет усомниться,
можно ли вообще найти какой-либо неопровержимый аргумент. Из
этого затруднения я склонен сделать новый и в чем-то шокирующий
вывод: дело безнадежно. Ни один философ никогда и ничего не
доказал. Сама эта претензия несостоятельна. Я должен просто сказать
вот что. Философские аргументы не являются дедуктивными,
следовательно, они не строги и потому ничего не доказывают. Тем не
менее они действенны.
Прежде чем перейти к существу дела, я хочу показать, сначала в
общих чертах, насколько несостоятелен взгляд, согласно которому в
философии применяются строгие аргументы. Первый
настораживающий знак, пожалуй, можно увидеть уже в том известном факте, что
самые выдающиеся умы не находили согласия между собой; то, что
казалось неоспоримым одному, по-видимому, не имело никакой
силы в глазах другого. В строгой системе мышления такие
расхождения невозможны. То, что они существуют в философии, служит
весомым подтверждением того, что ее аргументы не имеют той
логической строгости, какой обладают аргументы в математике и точных
науках.
Далее, принято считать, что аргументы должны включать в себя
умозаключения, а умозаключения должны с чего-то начинаться. Ну а где же
100
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
следует искать свои посылки философу? В науке? В таком случае он
будет заниматься наукой, а не философией. В суждениях обыденной
жизни? В частных суждениях? В таком случае он никогда не сможет выйти
за их рамки ни на шаг. В общих суждениях? Если так, то тут же встает
множество гневно звучащих вопросов. По какому праву он переходит от
«некоторых» ко «всем»? («Обобщать — значит быть Идиотом». — У.
Блеик.) Может ли он быть уверен, что его посылки установлены с такой
ясностью и точностью, что не может закрасться и тень сомнения?
Может ли он быть уверен, что они носят содержательный характер, не
являются аналитическими, пустыми, скрытыми определениями? И т.д. и
т.п. Может ли он быть уверен, что они истинны? (Как он может?) И
если даже допустить, что реально дело обстоит не так, что все эти
требования можно выполнить, остается все же одна проблема, встающая
перед ним, когда приходит время выводить следствия: может ли он
твердо знать, как оперировать этими терминами? (Откуда он может это
знать?) Я не выдаю секрета, когда говорю, что обычные правила
логики часто не срабатывают в естественной речи — факт, обычно
замалчиваемый в книгах по логике. Действительно, слова обычного языка так
многозначны, что всякий может толковать их смысл по своему
усмотрению, а от этого их «логика» становится странной. (Необъятный простор
для «естественной логики»: мы знаем, что мы несчастны, поэтому мы
являемся несчастными. Мы знаем, что мы несчастны; поэтому мы
величественны. — Паскаль9. «Если она скончалась, то она скончалась» —
следует ли из этого, что она не скончалась? Если да, то по какому
правилу? «Если бы я верил, я был бы очень глуп» — следует ли из этого, что
я этому не верю? Естественный язык содержит свои собственные
логические проблемы и в большом количестве10.)
Это приводит меня к следующему пункту. Обыденный язык
просто не обрел «твердость», логическую твердость, чтобы из него
высекать аксиомы. Нужно нечто подобное металлу, чтобы из него
выковывать дедуктивную систему, такую, как Евклидова. А обыденная
речь? Если вы приступаете к выведению следствий, она вскоре
становится «мягкой», в какой-то момент — мягкой как пух. С таким же
успехом вы можете вырезать камеи на поверхности суфле. (Я считаю,
что язык пластичен, он поддается воле к выражению, пусть даже
ценой некоторой ясности. В самом деле, как бы он мог выражать то, что
не соответствует клише? Если бы логики добились своего, язык стал
бы ясным и прозрачным, как стекло, но и таким же хрупким; и
какой был бы толк в изготовлении стеклянного топора, который
разбивается в тот самый момент, когда вы пользуетесь им. Но язык не
тверд. Именно потому в философии опасно искать посылки вместо
того, чтобы спуститься на землю, отступить и сказать: смотри).
Большинство философских аргументов, дабы игнорировать
построения à la Спиноза, вращаются вокруг того, что «может» и «не может»
101
Поиск ясности
быть сказано, и вопросы какого вида «надлежит» и «не надлежит»
задавать. Много мастерства и изобретательности было потрачено на
прояснение вопросов— является ли определенная метафора
«естественной», а определенный способ выражения «надлежащим». Было
бы неправильно обходить молчанием тот факт, что подобные
соображения, явно имея отношение к вопросам стиля, действительно
усиливают аргументацию, играют весьма важную и порой решающую
роль в способе, которым они позволяют смотреть на предмет.
Просматривая, проверяя и сравнивая различные способы выражения,
которые концентрируются вокруг определенных ключевых понятий,
например «воображение», «память», «удовольствие», мы улавливаем
первый проблеск того, что подчас называется «логикой» этих
понятий. Но можно ли из этого что-нибудь доказать? Можно ли доказать,
что определенный способ выражения является «надлежащим»?
(Помните, нет такой вещи, как определение «хорошо построенной
формулы».) Каждый философ всего лишь совершил попытку— ничего
большего ни один из них так и не предпринял. Каждый использует
слова таким образом, он оставляет их как есть; и это совершенно
правильно. Ибо какие доводы он мог бы привести в любом случае? Уже
здесь, на самом пороге, идея философского доказательства начинает
звучать несерьезно.
«А, значит возможно только обыденное употребление языка?»
Совершенно верно; но даже если так, это не означает, что «нельзя»
употреблять язык по-другому. Для иллюстрации: «застывшая музыка» —
«говорит» ли это вам что-нибудь? Наверное, нет; и тем не менее такое
выражение, как «Архитектура есть застывшая музыка» (Гёте), точно
передает суть дела. Выражение «Руки полны тупых воспоминаний»
звучит странно до тех пор, пока вы не набредете на него в прустовском
контексте. Воля к пониманию не отступает даже перед
противоречием, этим пугалом логиков: она трансформирует их, вырывая новый
смысл из явной бессмыслицы. («Тьма при избытке света», «Сияющий
мрак Платона»— только чтобы напомнить читателю два примера из
Кольриджа.) Существует около 303 причин, почему мы иногда
выражаем себя в противоречии и вполне понятным образом.
Результат: нельзя даже доказать, что данное выражение является
естественным, полезной метафорой, правильным вопросом (или
таким, который нельзя задавать), расстановкой слов, выражающих
значение или лишенных его. Ничего подобного доказать нельзя.
Два других момента усиливают сказанное. Иногда в
философских дискуссиях мы вообще не приводим доводы, а просто
поднимаем множество вопросов— метод, блестяще используемый Райлом. В
самом деле, град ошеломляющих вопросов, безусловно, нельзя
описать как доказательство, и a fortiori как доказательство логическое,
и, однако же, это не в меньшей степени побуждает вернуться к рас-
102
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
смотрению собственных взглядов. Наконец, поверхностному
взгляду кажется, что философ занят по большей части тем же самым, что
и логик, например выявлением неточных связей в рассуждении или
построением доказательства, но это не должно вводить нас в
заблуждение. Ибо если философу надлежит конструировать строгие
доказательства, где же теоремы, установленные с их помощью? Что
должен он предъявить в качестве результата своих трудов? Я
сформулировал эти вопросы не по собственному капризу. Они
навязываются каждому, кто стремится к ясному и непредвзятому взгляду
на предмет. И разве истоком этих трудностей не является природа
самой философии?
V
Теперь я перехожу к рассмотрению некоторых философских
аргументов, особенно тех, что, как думают, убедительно свидетельствуют о
прогрессе философии, чтобы понять, дают ли они основание
смягчить защищаемый здесь взгляд. Вот только несколько классических
примеров. Одним из них является знаменитое рассуждение Юма,
показывающее, что отношение причины и действия внутренне
отлично от отношения логического основания и следствия. В чем состоит
это «доказательство»? Оно напоминает нам о том, что мы уже знали:
внутренне противоречиво утверждать основание и отрицать
следствие; никакого противоречия не возникнет, если допустить, что
определенное событие, «причина», может сопровождаться не своим
обычным действием, но каким-то другим событием. Что следовало
бы ответить на вопрос: «Является ли это доказательством?»
Определенно, это не тот вид доказательства, который можно обнаружить в
дедуктивной системе. Почти то же относится к аргументу Беркли,
когда он говорит, что при всем старании, он не может вызвать в
своем уме абстрактную идею треугольника, именно треугольника без
какой-либо конкретной формы, так же как он не может постичь идею
человека, лишенного свойств. Является ли это доказательством? Он
указывает на очевидное. (Только требуется гений, чтобы увидеть это.)
Не является строгой и моя собственная аргументация против
логического фатализма. Решающий шаг состоит в следовании
некоторой аналогии с другими случаями. Моя аргументация аналогическая,
а не логическая. Сходным образом аргумент, использованный против
Зенона, не является окончательным. (У меня нет возможности
распространяться об этом.)
А вот еще два примера, один из общераспространенной
разновидности аргументов, применяемых сегодня философами, другой взят у
Аристотеля.
103
Поиск ясности
Когда мы говорим о ком-то, что он «видит» или «слышит»
самолет, или «замечает», «обнаруживает» жаворонка в небе, или что он
«чувствует вкус» или «ощущает запах» жареной свинины, мы не
приписываем ему деятельности. То, что всякое «видение» не является
видом действия, можно проиллюстрировать, например, привлекая
внимание к тому факту, что мы не используем настоящее длительное
время. Мы говорим: «Я вижу часы», «I see the clock», а не «I am seeing
the clock» (исключая Дж.Э. Мура, который, как это ни странно,
постоянно говорит, что он «is seeing his right hand»), тогда как
совершенно правильно говорить: «Я гляжу на часы, прислушиваясь к их
тиканью», а также и в других случаях. Далее, хотя и правильно говорить:
«Я забыл опустить в почтовый ящик письмо», никто не скажет: «Я
забыл увидеть почтовый ящик» Не имеет смысла спрашивать вас,
когда вы смотрите на меня, является ли ваше видение легким или
трудным, быстрым или медленным, заботливым или небрежным,
видите ли вы меня умышленно и закончили ли вы видеть меня. Таким
образом, это доказывает, что восприятие не является действием
(аргумент, используемый мною на лекциях).
Пункт, подлежащий проработке, состоит в том, что этот аргумент
не является окончательным. Как бы странно это ни звучало, «Я
закончил видение вас» — сказать можно, хотя и при совершенно
особых обстоятельствах. Человек с ослабленным зрением, не способный
охватить форму в качестве целого и, наверное, вынужденный
осматривать лицо постепенно в поисках каких-то характерных черт, может
сказать, и это вполне понятно: «Теперь я закончил видение вас». В
некоторых обстоятельствах мы также оказываемся не в лучшем
положении, например, когда при вспышке магния мы смотрим на какую-
либо сцену и жалуемся: «Слишком быстро, я не смог увидеть».
Кажется, что между этим случаем и обычными обстоятельствами имеет
место не более чем различие в степени. Определенно, это необычные
случаи, но что бы вы подумали о математике, чьи теоремы рушатся
при применении их к чуть-чуть измененным кривым?
Для следующего примера я выбираю удовольствие. Аристотель,
критикуя Платона, указывал, что если бы удовольствие было
процессом, происходящим во времени, то можно было бы наслаждаться
чем-то быстро или медленно — довод, почти неожиданный по своей
разрушительной силе. Безусловно, говорить так очень и очень
странно. Тем не менее если я напрягу воображение, то смогу представить
себе ряд обстоятельств, при которых говорить подобное было бы
вполне естественно. Например, когда, слушая музыку, я следую
медленному и плавному ритму, то кажется, что мое наслаждение в
некоторых отношениях отличается от того, что происходит при
восприятии волнующей части музыкального произведения. Кажется, что сам
характер моего наслаждения меняется, как только в него вливается
104
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
поток музыки, то медленной и плавной, то дикой и пьянящей. Если
в одном случае я говорю, что наслаждался ею, как будто нежась по
солнцем или же смакуя вино мелкими глотками, то в другом —
следуя ее натиску и наслаждаясь ею как морским штормом, я
неожиданно захлебываюсь дыханием — разве это звучит совершенным
нонсенсом? Так что в удовольствии, по-видимому, есть временной фактор.
Среди наиболее мощных орудий философских баталий —
аргументы reductio ad absurdum и бесконечного регресса. Прежде чем
перейти к оценке этих форм рассуждения, было бы полезно
рассмотреть, как они работают на своей родине, в математике.
Позвольте мне выбрать в качестве типичного случая
доказательство, что 2 является иррациональным числом. Если бы это число
было рациональным, мы могли бы найти два таких целых числа m и
л, что
т2 = 2п2(\)
Далее мы можем рассуждать следующим образом. Так как т2
является четным, то m должно быть четным; отсюда m = 2т1.
Подстановка дает
2т2=п2(2)
Так как п2 является четным, то и п должно быть четным;
следовательно, п = 2т. Подстановка дает
т] = 2т2 (3)
Если, далее, существуют два целых числа m и л, которые находятся
в отношении (1), то они должны иметь половины, которые
находятся в точно таком же отношении (3), они же должны иметь половины,
которые находятся в том же самом отношении и так далее ad inflnitum;
что, очевидно, невозможно, так как m и п являются конечными.
Следовательно, гипотетическое допущение (1) несостоятельно и (2) не
может быть рациональным. Что и требовалось доказать. Таков
прототип опровержения с помощью бесконечного регресса.
Доказательства этого типа применялись и вне математики.
Однако, приглядываясь к ним чуть внимательнее, я начинаю колебаться.
Один пример проиллюстрирует мои сомнения. Вот аргумент,
используемый против механических моделей. Если упругие свойства
вещества можно было бы объяснить как следствие электрических сил, с
которыми взаимодействуют молекулы, то, очевидно, бессмысленно
объяснять действие электрических сил как результат свойств
упругости механической среды, «эфира». Поступать так — значит идти по
105
Поиск ясности
кругу: упругость объясняется в терминах электрической силы, а
электрическая сила — в терминах упругости; тогда как попытка
вырваться из круга путем допущения, что упругость эфира является
следствием «электрических сил», действующих между частицами
эфира, а эти — упругими свойствами эфира второго порядка,
вынуждает к бесконечному ряду шагов редукции. Таким образом,
механистическая программа столкнулась с дилеммой, обе стороны
которой в равной мере фатальны.
Убийственный аргумент, не так ли? Я прекрасно могу представить
возражение неустрашимого поборника проигранного дела: «Ни
грана регресса. Да, эфир является упругим, однако не в том же смысле,
что и пружина: если упругость вещества можно свести к
электрической силе, то упругость эфира, являющегося основным постулатом
теории, нельзя редуцировать к чему-либо далее». А этим рушится и
аргумент.
Скажут, что это неубедительно. Согласен. Я не настолько слаб
умом, чтобы отстаивать сохранение механических моделей и всего
остального. Моя цель состоит в том, чтобы понять, является ли это
«опровержение» неотразимым. Вовсе нет. Защитника моделей не так
легко вытеснить с его позиций. Всегда существует способ избежать
дилеммы или, если угодно, увильнуть от нее— способ, который
парирует аргумент. Он просто показывает, что цепляться за модели
такого сорта в данных обстоятельствах весьма неестественно. Но
сказать, что что-то неестественно, не значит утверждать, что оно
логически невозможно; тем не менее это то, что аргумент должен
установить. В математическом доказательстве, приведенном выше, не
оставалось никакой лазейки. Вся дедукция была «алмазной цепью» —
именно тем, чем не является приведенное рассуждение.
Рассмотрим теперь похожее рассуждение. Говорили, что не может
быть такого предмета, как волевые акты. Они были придуманы
теоретиками для обеспечения причин не только того, что мы (намеренно)
совершаем, но и для таких душевных процессов или действий, как
контроль за побуждениями, привлечение внимания к чему-либо и т. п.
Как следствие, было предположено, что акты воли являются тем,
присутствие чего делает действие «произвольным», каким-то
непостижимым образом «переводит» его в телесный или психологический
акт. В общем, акты воли мыслились как причины, а также как
действия других душевных или физических процессов. Отсюда дилемма:
если мое нажатие на курок было результатом психологического акта
«воления спустить курок», то что представляет собой сам этот
психологический акт? Был ли он обусловлен волевым актом или нет? Если
нет, то он не может быть назван волевым; если да, то мы должны
допустить, согласно теории, что он является результатом априорного
акта, а именно: волевого действия волить нажать на курок (willing to
106
Ф. Вайсмаи. Как я понимаю философию
will) и гак до другого ad injïnitum, не оставляя никакой
возможности даже начать.
Как бы остроумен ни был этот аргумент, здесь следует поднять
вопрос— является ли он логически неизбежным. Доказывает ли он
на самом деле, что допущение актов воления предполагает
бесконечный регресс? Веряший в такие акты не может быть принужден силой.
Только действие может быть намеренным или невольным, а не акт
воли. Дело в том, что акт воли является актом воли и вытекает из
какого-то предшествующего акта воли только лишь для того, чтобы
вспомнить нечто: сначала я должен вспомнить, что я хочу вспомнить,
а прежде, чем я смогу совершить это, я должен вспомнить, что я хочу
вспомнить о том, что я хочу вспомнить, и так далее ad injïnitum.
Точно так же, как я могу вспомнить предмет, не требуя акта
припоминания того, что я хочу вспомнить, так и мое нажатие на курок может
быть прямым результатом акта воли без того, чтобы последний
вытекал из предшествующего акта воли. Таким образом, вся аргументация
явно рушится.
Все это говорится вовсе не для того, чтобы умалить аргумент или
лишить его силы, а только чтобы прояснить, какой силой он
обладает. Если бы он был решающим, то устранил бы своей
разрушительной силой множество психологических актов и состояний, а не
только акты воли — например, намерения и желания. В самом деле,
точно такие же рассуждения могут быть выстроены, чтобы
«разобраться с ними». Хотя очевидно, что намерение не является тем, что
можно классифицировать в качестве простого «акта», кажется, что
оно каким-то образом «связано» с тем, что происходит в нас
прежде, чем мы его реализуем, — с такими действиями, как
рассмотрение, планирование, колебание, выбор. Я, быть может, намерен
выявить изъян в данном рассуждении, и, когда впоследствии стану
обдумывать его, оно будет результатом моего намерения. Некоторые
психологические операции могут возникать из намерения, они
«намеренны». Но как быть с самим намерением? Является ли оно
намеренным или нет? Если намерение не намеренно, оно не является
намерением, а если оно намеренно, то этим оно должно быть
обязано другому намерению, а оно, в свою очередь, следующему и так
ad infinitum. Так же обстоит дело с желанием. Допустим, что я хочу
чего-то; является ли само это желание желанным или нежеланным?
Любой ответ приводит нас к нелепости.
Если бы сила доказательства коренилась в структуре желания, оно
было бы применимо вместе с его опустошительным действием,
вместе с изменением некоторых его терминов на другие, например «во-
ление» на «намерение» — при условии, конечно, что иные
определенные условия, существенные для мышления, остаются теми же
самыми. Однако, хотя первый аргумент звучит по крайней мере весь-
107
Поиск ясности
ма правдоподобно, едва ли кто-либо будет одурачен его
карикатурным представлением. Поэтому если он имеет какую-то силу, то эта
сила не связана с его структурой и, следовательно, не имеет
логического характера. Аргумент призван опровергнуть существование
разновидности психологического давления, но следует помнить, что
доказывать несуществование чего бы то ни было всегда рискованное
занятие. Было замечено, что «никому не удалось доказать
несуществование Аполлона или Афродиты». Не следует придавать слишком
большого значения этому отдельному случаю. Беспокойство тем не
менее вызывает та легкость, с которой аргументы могут принимать
псевдодедуктивные формы. Именно к этому факту я хочу привлечь
внимание, исследуя аргументацию. Как было показано в
предшествующем обсуждении, это не частный случай. Никакая философская
аргументация не заканчивается словами: «Что и требовалось доказать».
Ее убедительность никогда не принуждает. В философии не
существует устрашения ни палкой логики, ни кнутом языка.
Может показаться, что, высказывая столь сильные сомнения в
действенности аргументов, используемых философами, я отрицаю за
ними какую бы то ни было ценность. Нет, это не входит в мое
намерение. Даже если им недостает логической строгости, это
определенно не должно мешать оригинальному мыслителю использовать их с
успехом или выявлять нечто ранее невидимое, или видимое, но не
так ясно. Так и в случае, который я обсуждал: в ходе доказательства
что-то становится видимым, а что-то делается ясным, хотя и не
совсем в том смысле, который, возможно, имел в виду автор доводов.
Если так, то что-то весьма важное было упущено в описании.
Возможно, наши возражения были несправедливы по отношению к
философским аргументам. Совершенно ошибочно было предполагать,
что они являются доказательствами и опровержениями в строгом
смысле. Но философ совершает кое-что еще. Он выстраивает дело (he builds
up a case). Во-первых, он позволяет вам увидеть слабые места и
недостатки позиции, он выводит на свет ее несообразности или указывает, сколь
неестественны некоторые идеи, лежащие в основе целой теории,
доводя их до самых отдаленных следствий. И это он выполняет с помощью
самых мощных орудий своего арсенала — редукции к абсурду и
регрессу в бесконечность. С другой стороны, он предлагает новый способ
смотреть на вещи, не подверженный этим возражениям. Другими
словами, он представляет вам, как адвокат, все факты своего дела, а вы
оказываетесь в положении судьи. Вы тщательно их рассматриваете,
входите в детали, взвешиваете все «за» и «против» и приходите к решению.
Но, вынося приговор, вы, как и судья Верховного суда, не идете
напрямик дедуктивным путем. Принятие решения, представляя собой
рациональный процесс, вовсе не похоже на выведение заключений из дан-
108
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
ных посылок, так же как оно совершенно не похоже на действие
сложения. Судьи должен судить, говорим мы, полагая, что он должен
проявить проницательность в противоположность автоматическому
предложению совокупности механических правил. Нет и не может быть
вычислительных машин для выполнения работы судьи — это банальный
и тем не менее знаменательный факт. Когда судья принимает решение,
оно может быть, и фактически часто является рациональным
результатом, однако не таким, который достигается дедукцией; он просто не
следует из того-то: требуется проницательность, суждение. Принимая
решение, вы подобно судье выполняете не определенное число
формальных логических шагов: вы должны проявить проницательность,
например заметить самое существенное. Подобные соображения
позволяют понять то, что уже очевидно в применении термина
«рациональное»: этот термин имеет более широкую область приложения, чем
область устанавливаемого дедуктивно. Не будет противоречием сказать,
что аргумент может быть рациональным и тем не менее не
дедуктивным, как это неизбежно было бы в противоположном случае, при
утверждении, что дедуктивный вывод не обязательно рационален.
Это меняет всю картину. Следует подчеркнуть, что философ
может понимать важную истину и, однако, быть не в состоянии
доказать ее формальным путем. Но тот факт, что его аргументы не
являются логическими, нисколько не умаляет их рациональности. Если
вернуться к предшествующему примеру, аргументу, используемому
против волевого акта, хотя он и не является тем, на что претендует,
т. е. логически разрушительным, тем не менее он обладает силой,
которой трудно сопротивляться. Чем это вызвано? Не требуется особой
проницательности, чтобы найти ответ.
Сама аранжировка столь многих метких примеров,
предшествующих выводу, их мастерский анализ вдыхают жизнь в его мертвое тело.
Добавьте и примите во внимание то, что связь между душевным
побуждением и телесным движением остается тайной. Неубедительность
этой позиции вместе с множеством вопросов, остающихся без ответа,
впечатляющие примеры делают аргументацию весьма убедительной.
Что вы находите, читая Райла или Витгенштейна? Множество
примеров, чуть-чуть или почти не соединенных логической связью.
Почему примеров так много? Они говорят сами за себя; обычно они
более прозрачны, чем источник затруднений. Каждый пример
действует как аналогия; вместе они освещают весь лингвистический
фон, в результате чего наш случай становится заметным. В самом
деле, правильно подобранные примеры часто оказываются более
убедительными и, кроме того, действуют дольше, чем тонкости
аргументации. Это не значит, что предлагаемые «доказательства» бесполезны:
reductio ad absurdum, так же как и регресс в бесконечность, всегда
указывают на загвоздку в мышлении. Но только указывают. Реальная
109
Поиск ясности
сила кроется в примерах. В хорошей книге по философии можно
вообще обойтись без доказательств, и она нисколько не утратит своей
убедительности. Стремиться в философии к строгим
доказательствам — значит искать тень собственного голоса.
Чтобы предвосхитить неверное понимание, которое определенно
возникло бы, я должен уступить в одном: аргументы, содержащие
только несколько логических шагов, могут быть строгими. Суть моих
замечаний состоит в том, что замысел всего философского проекта —
от Гераклита до Ницше или Брэдли — не является делом логических
шагов. К Weltanschauung (мировоззрению) как любому из этих или
даже новых подходов, таких, как подход Витгенштейна, нельзя
«прийти»; в частности, оно невыводимо, и, однажды обретенное, оно
не может быть ни доказано, ни опровергнуто строго логическим
рассуждением, хотя аргументы могут иметь здесь свое значение,
проясняя суть дела. Но некоторые авторы считают ниже своего
достоинства принимать это во внимание.
Остается задать один, последний вопрос: если взгляды философа
нельзя вывести из некоторых посылок, то как он сам пришел к ним?
Как может он добраться до места, к которому не ведет ни одна
дорога? Мы касаемся новой и более глубокой проблемы.
VII
Спрашивать: «Какова твоя цель в философии?» и отвечать: «Показать
мухе выход из мухоловки»11, — значит... ну да, отдавая должное
заслугам, умолчу о том, что собирался сказать, за исключением разве вот
чего. В философии есть что-то глубоко волнующее, факт,
недоступный пониманию при такой негативной оценке. Этим волнующим не
являются ни дело «прояснения мыслей», ни вопросы «правильного
употребления языка», ни какие-либо другие из этих малоинтересных
вещей. Что же она такое? Философия включает в себя очень многое,
и нет формулировки, которая охватила бы все. Но если бы меня
попросили одним-единственным словом выразить, что является ее
наиболее существенной чертой, я бы не коЛеблясь сказал: видение. В
сердце любой философии, заслуживающей этого названия, находится
видение, и именно отсюда она начинается и обретает свои зримые
очертания. Говоря «видение», я не хочу романтизировать ситуацию.
Что характеризует философию, так это разрушение мертвой коры
традиции и условностей, избавление от оков, привязывающих нас к
унаследованным предрассудкам, чтобы приобрести новый, более
широкий взгляд на веши. Всегда существовала смутная догадка, что
философия должна открывать нам то, что скрыто (я не из тех, кто
совершенно нечувствителен к опасностям подобного взгляда). И все-таки
каждый великий философ, от Платона до Мура и Витгенштейна, был
ПО
Ф. Вайсмаи. Как я понимаю философию
движим чувством видения (sense of vision), без него никто не смог бы
придать человеческому мышлению новое направление и распахнуть
окна в дотоле неведомое. Можно быть хорошим специалистом, но не
оставить следа в истории идей. Решающим оказывается новый
способ видения, а вместе с ним — воля преобразовать всю мысленную
картину. Именно это главное, а все остальное служит ему средством.
Предположим, что человек восстает против устоявшегося мнения,
чувствуя себя «зажатым в тиски» его категориями; может настать
время, когда он сочтет, справедливо или ошибочно, что освободился от
этих представлений, когда он, оглядываясь назад на предрассудки,
пленником которых был, обретет ощущение неожиданного
обновления или когда он поверит, справедливо или ошибочно, что достиг той
верной позиции, с которой удается увидеть, что предметы
упорядочены в ясные и правильные структуры, тогда как длительно
существовавшие трудности исчезают как по волшебству. И если у него
философский склад ума, он приведет доводы, разберется в этом сам,
а затем, возможно, попытается сообщить то, что его осенило,
другим. Аргументы, которые он предложит, критика, которую он
предпримет, предложения, с которыми он выступит, — все послужит
одной цели: склонить других людей к своему собственному способу
понимания вещей, изменить всю интеллектуальную атмосферу.
Хотя стороннему наблюдателю кажется, что он развивает все виды
аргументации, не это главное. Решающим является то, что он
увидел вещи под новым углом зрения. В сравнении с этим все
остальное вторично. Аргументы появляются только впоследствии, чтобы
обеспечить поддержку тому, что он увидел. На сказанное мной
возможна реплика: «Бахвальство, не каждый — философ и т.д.» Но на
кого же равняться, как не на мастеров? Кроме того, как только
традиция поддалась, для специалистов всегда существует обширная
сфера действий, чтобы подавить некоторые «очаги сопротивления».
Сколь бы неприятным это ни было, но позади столь хорошо
продуманных, столь четких и логичных аргументов действует нечто
иное — воля к переделке всего образа мышления. Аргументируя свой
взгляд, философ почти вопреки собственной воле будет вынужден
подрывать общепринятые категории и клише мышления, разоблачая
заблуждения, лежащие в основе укоренившихся взглядов, на которые
он нападает; но это еще не все, он может добраться до вопроса о
самих критериях оценки (the canons of satisfactoriness). В этом смысле
философия есть переоценка стандартов. В каждом философе есть
что-то от реформатора. По этой причине любое достижение в науке,
если оно затрагивает стандарты, от Галилея до Эйнштейна и Гейзен-
берга, считается имеющим философское значение.
Если в этом есть доля правды, отношение логики и философии
предстает в новом свете. Предметом спора является не конфликт
lit
Поиск ясности
между формальной и менее формальной или же неформальной
логикой и не конфликт между функционированием технических и
обыденных понятий, а нечто совершенно иное. Это различие между
выведением заключения и видением, или побуждением увидеть новый
аспект.
Если сформулировать суть дела в двух словах, то следует сказать,
что философская аргументация и больше и меньше, чем аргументация
логическая: меньше в том плане, что она никогда ничего не
устанавливает окончательно; больше в том плане, что, оказываясь успешной,
она не довольствуется установлением только одного изолированного
момента истины, но вызывает изменение всей нашей духовной
перспективы, в результате чего мириады таких маленьких моментов
предстают перед взглядом или исчезают из поля зрения, в зависимости от
обстоятельств. Нужны примеры? Однажды Юм разоблачил
заблуждения своих предшественников, когда, рассматривая понятие
причинности, он показал, что невозможно мыслить в соответствии со Спинозой,
чей мир кажется нам столь же странным, как лунный. Предположим,
вы смотрите на картинку-загадку: сначала вы можете увидеть в ней
только путаницу линий, затем неожиданно узнаете человеческое лицо.
Можете ли вы, обнаружив лицо, видеть линии так же, как прежде?
Очевидно, нет. Так же, как с путаницей линий, дело обстоит с
путаницей, проясненной Юмом: усвоить заново настроение прошлого,
путешествовать назад в замешательство невозможно — такова одна из
главных трудностей понимания истории философии. По этой самой
причине возникновение лингвистической техники в наши дни
положило конец великим спекулятивным системам прошлого.
Философия является попыткой изменить навыки мышления,
заменить их менее жесткими и менее ограниченными. Конечно, со
временем они сами могут закоснеть, в результате чего станут
препятствием к прогрессу: Кант, Alleszermalmer12 для своих современников,
с гордостью держится своей таблицы категорий, которая нам
кажется ЧЕРЕСЧУР узкой. Сегодняшний освободитель завтра может стать
тираном.
Теперь видно, что философ делает не то, что делает логик,
только менее компетентно, он делает нечто совершенно иное.
Философская аргументация не является приближением к логической, как и
последняя не служит идеалом, к которому стремится философ. Такой
подход полностью искажал бы то, что происходит на самом деле.
Философия не является упражнением по формальной логике,
философские аргументы не цепочки свободного от погрешностей
логического вывода, их также нельзя каким-либо усилием преобразовать в
дедуктивные образцы. Здесь смешивается цель ученого— открыть
новые истины и цель философа — обрести прозрение. Поскольку эти
две вещи совершенно несоизмеримы, неудивительно, что философ
112
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
не может передвигаться, облачась в логические доспехи. Даже если
сражается с самой логикой. Столкновение по поводу закона
исключенного третьего в математике — это столкновение двух сторон,
каждая из которых обладает ясными и точно определенными понятиями.
Однако, по-видимому, нет способа разрешить этот конфликт с
помощью бесспорного аргумента. Если верно, что философское сомнение
возникает из-за неопределенности обыденных понятий, то почему
подобные конфликты вспыхивают и в связи с самыми точными
понятиями науки?
Никогда не существовало абсолютно убедительных оснований
пренебречь законом исключенного третьего, принять дарвинизм,
отказаться от системы Птолемея или же отречься от принципа
причинности. Если нечто подобное и можно было бы доказать, то почему
всегда находятся борцы за «проигранное» дело? Похожи ли они на
злополучные «круглые квадраты», транжирящие свое время в
попытке совершить то, что, как было показано, логически невозможно.
Правда состоит в том, что конфликты этого типа нельзя разрешить
раз и навсегда путем фактического подтверждения или же с помощью
логического доказательства. Конечно, обе стороны используют в
сражении аргументы, но они не являются окончательными. Эти битвы
никогда не проигрываются и не выигрываются бесповоротно.
Такова типичная ситуация, периодически повторяющаяся тема в истории
человеческого мышления.
Как только наука достигает критической отметки, где
фундаментальные понятия становятся неопределенными и устанавливаются
как бы по соглашению, вспыхивают странные дискуссии. Должен
побудить к размышлению простой факт, что ведущие ученые,
вопреки различиям темперамента, позиции и т.д., принимают в них
участие, чувствуя в этом необходимость.Тогда главные действующие
лица гласно или негласно стремятся сделать одно — победить
своего собрата ученого с помощью его собственного способа мышления;
и в той мере, в какой доводы несут в себе попытки полностью
изменить интеллектуальную установку, они принимают философский
характер. Совпадение ли это?
VIII
До сих пор я говорил о «видении нового аспекта», не предпринимая
усилий разъяснить сам этот термин. Теперь я надеюсь осуществить
это, хотя и в общих чертах, приведя один или два примера.
Существует разновидность парадокса, связанного с идеей известных открытий.
Декарт, например, был первооткрывателем аналитической геометрии.
Но мог ли он стремиться к ней? Сказать, что он потратил годы на ее
поиски, совершенно абсурдно. В таком случае мы склонны говорить:
S-3436
113
Поиск ясности
нельзя искать аналитическую геометрию сначала потому, что она
была не видна, а затем потому, что она стала видна. Но если он не мог
ее искать, как он мог ее найти? Это ведет нас прямо к сути дела.
Сначала представьте себе воображаемый случай. В
пропозициональное исчисление, как оно было построено Фреге, включены две
исходные идеи — «нет» и «или». Позднее Шеффер обнаружил, что все
исчисление можно построить на одной-единственной исходной
связке (введенной им функции «штриха»13). Какого вида было это
открытие? Предположим, что Фреге случайно записал все свои логические
аксиомы в форме
~(...) V-U)
т.е. как сумму двух отрицаний, но тем не менее ошибочно полагал,
что для выражения этих законов требуются два символа, а именно
«~» и «V» Теперь предположим, что кто-то еще, глядя на эти
формулы, поражен тем, что по нашему допущению ускользнуло от
Фреге, а именно, что все они имеют одну и ту же структуру и
требуется, следовательно, только один символ. В чем состоит это открытие
в самом точном значении слова? В том, что Шеффер видит
формулы иным образом, что он выделяет в них новую структуру. В чем
состоит его постижение: пока он не видит структуру новой системы в
старой системе, для него ее нет. Каждый может смотреть на
формулы и все же не видеть того, что увидел Шеффер: наличия
идентичной структуры. Именно это является открытием, а не введение
особого символа для обозначения комбинации двух старых. Было бы
вполне достаточно, например, если бы Шеффер просто указал на
постоянное повторение этой структуры во всех законах, не вводя
своего «штриха», что не существенно. Этот пример показывает, что
подразумевается под «видением нового аспекта». Видение такого
аспекта часто является ядром нового открытия. Если вы смотрите на
формулы в тот момент, когда вы замечаете в них новую структуру,
кажется, что они неожиданно меняются — феномен сродни
меняющемуся видению фигуры, скажем, схематически изображенного
куба, сначала как объемного и выступающего вперед, затем как
полого и отходящего на задний план. Один образ как бы неожиданно
«выпрыгивает» из другого. Так же и в нашем случае, хотя здесь есть
и различия. Так, новый аспект, как только он стал ясным, может
прочно удерживаться в уме и не имеет перцептуальной
неустойчивости. По-видимому, постижение новой структуры в формулах в
значительной мере зависит от зрительного восприятия, каким-то
образом оказываясь более близким ему, чем могло бы показаться на
первый взгляд. Кажется, что видение и интерпретация,
всматривание и мышление как бы сплавлены здесь воедино.
114
Ф. Вайсман. Как я понимаю философию
А если спросят, можно ли искать новый аспект, что следует
ответить? Ну, то, что нечто можно увидеть по-новому, видно только
тогда, когда его уже так увидели. То, что новый аспект возможен,
видно только тогда, когда уже был его проблеск, не ранее: именно
поэтому открытие нельзя предвидеть даже величайшему гению. Оно
всегда приходит неожиданно, как вспышка молнии.
Возьмем другой случай. Является ли вычисление
(5 + 3)2 = 52 + 2x5x3 + 32
одновременно доказательством, что
(2 + 3)2 = 22 + 2x2x3 + 32?
Да и нет, в зависимости от того, как на это посмотреть.
(Поражает ли вас, что 2 в среднем термине является «структурным» 2,
возникая не из конкретных чисел, но из обшей формы операции?)
Человек, имея дело только с конкретными числами, может тем не менее
осмысленно заниматься алгеброй, если он рассматривает конкретные
суммы по-новому, как выражения обшего закона. (Открытие
алгебры как открытие нового аспекта вычисления чисел.)
Что справедливо для этих более или менее тривиальных случаев,
справедливо и для Декарта, а также для Эйнштейна и Гильберта. Они
были не в состоянии искать: Эйнштейн — концептуальную брешь в
идее одновременности; Гильберт — аксиоматический метод. Хотя это
открытия совершенно разных порядков, принцип, лежащий в их
основе, один и тот же. Никто из них не пришел к своему видению, ибо
никто не совершал путешествия. Они не искали, но нашли (как
Пикассо). Много ошибочного в том, как такие открытия часто
изображаются — как если бы они были результатом «метода» или
«процедуры», как если бы выдающиеся люди принимали свои решения путем
выведения логических заключений. Такое представление упускает из
виду наиболее существенное — вспышку, внезапное появление
нового аспекта, который нельзя вывести. Моменты видения нельзя
предвосхитить, как нельзя их планировать, контролировать или же
вызывать силой воли.
Есть ли доля правды в том, что я говорю? Я не буду доказывать это
с помощью аргументов. Вместо этого позвольте напомнить о
некоторых известных вам наблюдениях. Прекрасно известно, что
философию не возделывают, она вырастает сама. Вы не выбираете
замешательство, оно само вас потрясает. Всякий, кто размышлял над
неясными проблемами философии, заметит, что решение, если оно
приходит, приходит неожиданно. И вовсе не потому, что совершается
очень тяжелая работа по его поиску. Происходит, скорее, то, что мы
8*
115
Поиск ясности
неожиданно видим предметы в новом свете, как будто бы подняли
завесу, мешавшую нам видеть, или как будто пелена спала с глаз,
оставляя нас в удивлении собственной глупостью, мешавшей видеть
перед собой то, что было все время совершенно очевидным. Это
похоже не столько на открытие чего-либо, сколько на вызревание,
прорастание имевшихся ранее понятий.
Приведу только один пример видения в философии: Витгенштейн
разглядел одну крупную ошибку своего времени. Большинство
философов тогда утверждали, что природа таких вещей, как надежда и
страх, намерение, значение и понимание, может быть исследована с
помощью интроспекции, тогда как другие, особенно психологи,
стремились получить ответ с помощью эксперимента, обладая весьма
смутными представлениями о значении своих результатов.
Витгенштейн изменил сам подход, утверждая: то, что означают эти слова,
проявляется в способе их употребления — природа понимания
обнаруживается в грамматике, а не в эксперименте. В то время это было
совершенным откровением и, насколько я помню, пришло к нему
неожиданно.
Защищаемый здесь взгляд состоит в том, что живым центром
любой философии является видение, и судить о ней следует в
соответствии с ним. Подлинно важные вопросы, которые следует обсуждать
в истории философии, состоят не в том, были ли последовательны в
своих рассуждениях Лейбниц или Кант, но, скорее, в том, что лежит
за созданными ими системами. И здесь, в закючение, я хочу сказать
несколько слов о метафизике.
Нелепо говорить, что метафизика — нонсенс. Это не позволяет
признать огромную роль, которую сыграли метафизические
системы, по крайней мере в прошлом. Почему это так, почему им удалось
приобрести такую власть над человеческим разумом — я не буду
здесь обсуждать. Метафизики, как и художники, служат антеннами
своего времени: они обладают чутьем, они чуют пути, которыми
шествует дух (об этом есть стихотворение Рильке). У великих
метафизиков есть нечто провидческое, как будто они наделены
способностью заглядывать за горизонт своего времени. Возьмем,
например, деятельность Декарта. То, что она привела к возникновению
бесконечных метафизических каламбуров, определенно говорит
против нее. И все же, если мы больше заботимся о духе, чем о
букве, я склонен заявить, что в ней есть определенное величие,
пророческий аспект, свидетельствующий об универсальной
познаваемости природы, смелое предчувствие чего было достигнуто в науке
значительно позднее. Подлинными последователями Декарта были
те, кто претворил дух этой философии в дела: не Спиноза или Маль-
бранш, а Ньютон и математическое описание природы. Болтать с
некоторыми крохоборами о том, что такое субстанция и как ее сле-
116
дует определять, значит ничего не понимать. Это было огромной
ошибкой. Философия существует, если она живет. Умирает то, что
продолжается в слове, а что продолжается в работе — живет.
В.М. Литвинский
Прорыв к постижению как цель философии
Среди выдающихся философов XX столетия фигура Фридриха Вай-
смана не стоит в первом ряду. Даже в том направлении философской
мысли, к которому он принадлежал и вместе с которым совершалась
его духовная эволюция, — в философии логического позитивизма и
лингвистической философии — он относится в лучшем случае
только ко второму эшелону. Однако некоторые идеи Вайсмана, его
понимание философии, изложенное в замечательной статье «Как я
понимаю философию», ряд обстоятельств его творческой эволюции
заслуживают пристального внимания.
Не будет преувеличением сказать, что характер философского
творчества Вайсмана в значительной степени определяется
обстоятельствами его академической карьеры. Для сообщения на одном
заседании Вайсман читает «Логико-философский трактат»
Витгенштейна и испытывает чувство потрясения. Позднее вместе со Шликом
он встречается с Витгенштейном, а через некоторое время, по
поручению Шлика, начинает подготовку книги, в которой философские
идеи Витгенштейна должны были излагаться в систематической
форме. Эта совместная работа стала источником конфликта, который в
конце концов завершился полным разрывом между Вайсманом и
Витгенштейном.
Работы Вайсмана, изданные при жизни, немногочисленны. Среди
них книга «Введение в математическое мышление», серия статей,
посвященная дихотомии аналитического и синтетического,
публиковавшихся в «Анализе»; статьи о верифицируемости, о языковой страте и,
наконец, работа «Как я понимаю философию», охарактеризованная С.
Хэмпшайром как, «вероятно, наиболее острое и критическое введение
в современную философию, написанное на английском языке за
последние 50 лет»14. Признавая, быть может, некоторую
преувеличенность этой оценки, можно утверждать, что даже если бы Вайсман за
всю свою философскую карьеру написал только эту статью, ее было
бы достаточно, чтобы говорить о своеобразии творчества ее автора, и
это благодаря не только идеям, развиваемым Вайсманом, но и тому
блестящему стилю, в котором она написана. Стилистическое
своеобразие статьи состоит в том чувстве меры, с которым ему удается
сочетать систематичность изложения, яркую афористичность многих
высказываний, простоту, подкрепляемую точностью приводимых
117
Поиск ясности
примеров, а также формулировку проблем, в обсуждении которых
может заключаться дальнейшее развитие философии. Наконец,
стилистическое своеобразие статьи — в том, что она порождает
ощущение диалога автора с незримо присутствующим оппонентом,
которого автор старается убедить в правоте своей точки зрения. Статья
представляет собой, по выражению самого Вайсмана, «опыт
недогматического философствования». Поэтому интерес к этой работе
Вайсмана — интерес не только к одному из эпизодов определенного
этапа в развитии аналитической философии, но и к той традиции, в
которой сущность философии видится в ее свободе.
Более значительны по объему работы, опубликованные после
смерти мыслителя. Среди них работа, вышедшая в свет сначала на
английском языке под названием «Принципы лингвистической
философии» (1965) и лишь значительно позднее на немецком,
озаглавленная «Логика, язык, философия» (1976); работа «Витгенштейн и
Венский кружок», состоящая из записей бесед Вайсмана с
Витгенштейном, Шликом и др.; «Лекции по философии математики»,
читавшиеся Вайсманом в Оксфорде в 50-х годах...15.
Значение работ «Логика, язык, философия» и «Витгенштейн и
Венский кружок» определяется одним из важнейших событий
биографии Вайсмана — совместной работой над проектом
систематического изложения философских идей Витгенштейна10. Этот проект
возник где-то к концу 1929 г. Вайсман должен был написать книгу,
содержащую систематическое изложение философии Витгенштейна,
в качестве первого тома публикаций Венского кружка — «Schriften zur
wissenschaftlichen weltauffassung». Он был назначен для исполнения
этой работы, так как к тому времени уже был хорошо знаком с
идеями Витгенштейна и обладал, по свидетельству людей, знавших его,
даром ясного изложения. Сам Шлик придавал этой работе большое
значение, о чем свидетельствует публикация объявления об издании
этой книги в первом номере журнала «Erkenntnis» Но, возникнув как
реализация того, что в иной форме уже было воплощено в «Логико-
философском трактате», книга «Логика, язык, философия» совпала с
так называемым переходным периодом в творчестве Витгенштейна и
была обречена на неудачу. Вайсман волей-неволей оказался перед
дилеммой: или исказить взгляды Витгенштейна, или пуститься в
погоню за стремительно свершающейся эволюцией его идей. Пытаясь
угнаться за мыслительной работой Витгенштейна, Вайсман включился
в гонку за лидером, в которой он был заведомо обречен на
поражение. Но это же сделало работу над «Логикой, языком и философией»
ценным источником в изучении переходного периода самого
Витгенштейна. Более того, Витгенштейн, как известно, после своего
возвращения в Кембридж в 1929 г. решительно отказался от встреч со
всеми другими членами Венского кружка, и Вайсман, по-видимому, стал
118
В.M. Литвинский. Прорыв к постижению как цель философии
тем единственным звеном, через которое новые идеи
Витгенштейна доходили до участников Венского кружка. Сотрудничество
между Витгенштейном и Вайсманом было разнообразно. Оно включало
беседы, прямую диктовку Витгенштейном своих размышлений,
предоставление им Вайсману тех машинописных материалов, которые
не были опубликованы и, следовательно, были недоступны широкой
публике. Подчас их встречи принимали весьма интенсивный
характер. Так, за время пасхальных каникул 1932 г. они встречались 11 раз.
Интенсивность сотрудничества исподволь готовила его будущее
крушение. Во-первых, все более обострялась проблема адекватности
итоговых текстов Вайсмана тому, что происходило в мышлении
Витгенштейна, который все более и более приходил к мысли, что Вайсман
многое излагает в форме, совершенно отличной от той, которую сам
Витгенштейн считал правильной. Ряд изменений в замысле книги и в
характере сотрудничества приводит, наконец, к возникновению схемы,
по которой они должны были стать соавторами. В общих чертах
схема сотрудничества выглядела следующим образом. Витгенштейн
обеспечивал идеи, заметки, разрабатывал общую структуру книги, тогда
как Вайсман отвечал за компоновку в единый связный текст выборок
из машинописных материалов, диктовок и записей бесед с
Витгенштейном. Решающая роль в окончательной оценке итогового
результата принадлежала бы Витгенштейну. Вероятно, подобная схема
сотрудничества должна была предотвратить опасность искажения идей
Витгенштейна. Но участие в работе над текстом самого
Витгенштейна не облегчало выполнение задачи, а, скорее, усложняло его. Вот как
это виделось Вайсману: «У него [Витгенштейна] замечательный дар
всегда видеть веши как будто впервые. Но это показывает, я полагаю,
как трудна совместная работа с ним, так как он всегда упорно следует
сиюминутному вдохновению и уничтожает то, что задумал ранее»17.
Во-вторых, совместная работа обостряла и вопрос об авторстве,
который для Витгенштейна, как и для Вайсмана, имел серьезное
значение. Ярким эпизодом драмы, разыгравшейся на этой почве, служит
история с публикацией Вайсманом в 1936 г. статьи «О понятии
тождества» (Über den Begriff der identität), которой им было предпослано
примечание с признательностью Витгенштейну за его «ценные
стимулы» («wertvolle Anregungen») в отношении развиваемых Вайсманом
идей. Однако Витгенштейн выразил недовольство тем, что подобное
примечание создает неверное представление, будто речь идет о
беседах с ним, которые лишь стимулировали размышления Вайсмана над
темой тождества. Правда же состоит в том, что разработка важной
идеи об отсутствии у термина «тождественный» единственного
значения и о существовании, скорее, ряда тесно взаимосвязанных
значений соответствующих различным критериям тождества, исходит от
него, причем не просто из бесед, но из диктовок, а также неопубли-
119
Поиск ясности
кованных машинописных текстов. И это должно быть признано18.
Конфликт разрешился разрывом. Вайсман вступил в переговоры с
издательством «Springer Verlag» о публикации книги под измененным
названием «Философское мышление» и подписал контракт на
издание книги только под своим именем. Но и этому проекту не
суждено было осуществиться.
Видимо, горечь воспоминаний, психологический подтекст
которых едва ли поддается реконструкции, а по прошествии многих лет —
тем более, позволяет отчасти объяснить некоторые строки этой
книги. Так, потратив многие годы на изучение и преподавание идей
«Логико-философского трактата» и великолепно понимая его значение,
Вайсман тем не менее позднее писал: «Одна из немногих стоящих
вещей, которую вы находите в 'Трактате..." Витгенштейна такова:
"Теория классов в математике совершенно излишня" (6.031 )»19.
Пожалуй, наиболее резкое выражение его разочарование находит в
записи, относящейся к 1948 г.: «Wittgenstein— der führende Denker
unserer Zeit (nämlich der ins Falsühe führende»20.
Работу над гранками неизданной книги Вайсман продолжал
приблизительно до 1953 г. Среди его бумаг после смерти было
обнаружено несколько коробок карточек, содержащих исправления и много
нового материала, объединение которого показалось его
литературным душеприказчикам и редактору совершенным учебником по
философии Витгенштейна, который и был опубликован под названием
«Принципы лингвистической философии»
Этот эпизод как бы символизировал философскую судьбу Вайсма-
на — быть в тени, а может быть, и тенью ведущих представителей
лингвистической философии, прежде всего Витгенштейна. Могло
показаться, что его судьба — популяризация, комментирование и
дальнейшее развитие чужих идей.
Вайсман, несомненно, обладал чутьем на новые, действительно
перспективные идеи, а также даром их систематического изложения
и кропотливого анализа. Сохраняя следы своего происхождения,
реакцию против идеи, что математическая строгость— единственный
вид ясности, который не может рассеять метафизический туман,
«Принципы лингвистической философии» не являются
систематизированной версией «Философских исследований» Витгенштейна.
Многие мысли как по содержанию, так и по форме выражения,
способу аргументации являются итогом напряженной работы Вайсмана.
Среди обстоятельств, сделавших работу Вайсмана плодотворной,
следует указать его логико-математическую подготовку. Кроме
Витгенштейна в кругу приверженцев лингвистической философии, он был,
по-видимому, единственным, кто пришел в философию из
математики и, владея в совершенстве математической техникой, сумел
перейти к лингвистическому анализу. Это было особенно заметно в Оксфор-
120
В.M. Литвинский. Прорыв к постижению как цель философии
де, где аудитория не имела достаточной предварительной подготовки
и где царило безразличие к философии математики и физике. Далее,
для Вайсмана переход от немецкого языка к английскому оказался
трудным. Перед ним всегда возникала проблема перевода, ибо думал
он на родном немецком языке, а уже затем передавал философские
аргументы на английском.
Не повторяя сказанное самим Вайсманом, стоит взглянуть на его
идеи с позиций, удаленных от его времени на несколько десятилетий.
Он объединил лингвистический поворот в философии с темой
философского видения мира, способствовал проблематизации
взаимосвязей языка с внелингвистической реальностью. Если речь о мире
определяет его видение и сама в свою очередь определяется им, то
какова роль философии в углублении и расширении этого круга?
Что делает философ, когда он философствует? Каковы те приемы,
которыми он пользуется? В чем состоит значение его деятельности?
На эти вопросы о сущности философии Вайсман пытается дать свой
ответ. Он убежден, что философия включает столь многое, что
найти единую формулировку, которая охватывала бы все, невозможно:
это философские вопросы, подчас лишенные ясного и точного
смысла, аргументы regression infinitum и reductio ad absurdum, те приемы,
которыми пользуются философы, наконец то, что Вайсман считает
сущностью философии. «Если бы меня попросили одним-единствен-
ным словом выразить то, что является ее наиболее существенной
чертой, я без колебания ответил бы: «Видение».
Примечания
Перевод с издания: Waismann F. How I see philosophy? // Contemporary British
Philosophy. Third series / Ed. H.D. Lewis. London, New York, 1956. P. 447-490.
1 Речь идет о статье Дж.Э. Мура «Опровержение идеализма», опубликованной в
1903 г. в журнале «Mind». Для Мура было характерно стремление доказывать все,
что принимается здравым смыслом в качестве самой собой разумеющегося.
- Ай-Кью (IQ) — процедура определения умственных способностей личности,
заключающаяся в делении ментального возраста, установленного с помощью
тестов, на возраст хронологический и умножении полученного результата на 100.
3 О Море Времени! Седые воды, где волны будто годы!.. Шелли П. Б. Время.
Перевод К. Чемена / Шелли П. Б. Избранное. М.. 1962. С. 95.
4 Образ времени в романе М. Пруста «В поисках утраченного времени».
5 У.Б. Йейтс (1865-1939) ирландский поэт и драматург, лауреат Нобелевской
премии по литературе 1923 г.
* См.: Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М., 1990. С. 169-170.
7 Расстояние, которое она уже преодолела до того, как в состязание включился
Ахилл. — Прим. ред. раздела.
s Смерть как таковую, т. е. стать бессмертным в буквальном смысле. — Прим. ред.
раздела.
4 Вайсман конспективно формулирует некоторые идеи Паскаля, между которыми
существует смысловая взаимосвязь. Ср.: «По самой своей натуре мы несчастны
121
Поиск ясности
всегда и при всех обстоятельствах...» («Мысли». 109 бис); «Человек все равно
возвышеннее... ибо сознает, что расстается с жизнью» (347): «Мы сознаем всю
горестность нашего бытия... и все-таки не утрачиваем некоего инстинкта,
неистребимого и нас возвышающего» (411) и т.д.
10 По-видимому, объектом иронии Вайсмана является разрыв между «логикой»
естественного языка, учитывающей богатое многообразие смысловых связей или их
отсутствие, и пропозициональной логикой, учитывающей истинностные значения
высказываний, не связанных смысловым образом, что приводит, например, к
парадоксам материальной импликации.
11 См.: Витгенштейн Л. Философские исследования. Ч. I. § 309.
12 Alleszermalmer {нем.) — букв, человек, [методично] все перемалывающий,
дробящий, крошащий.
13 Штрих Шеффера — знак «/», выражающий несовместность высказываний,
например Л и В: что записывается как Л/В и читается «А и В несовместны», или «А
и В исключают друг друга». Операция несовместности представляет собой
противоположность конъюнкции и позволяет вывести тождественно истинную
формулу А/В = А&В и другие истинностные функции — дизъюнкцию, отрицание,
импликацию и т.д. В статье Вайсмана воспроизведена схема дизъюнкции,
состоящей из двух отрицаний (А В v А/В), хотя в тексте говорится о сумме. См.:
Гильберт Д., Бернаис П. Основания математики... М., 1979. С. 78.
14 Hampshire St. Friedrich Waismann // Proceedings of the British Academy. 1960. Vol.
46. P. 314.
15 Waismann F. The principles of linguistic philosophy. Ed. Harre R.L., 1965, 1968;
Wittgenstein und der Wiener Kreis. Oxford, 1968; Lectures on the philosophy of
mathematics. Amsterdam, 1982.
lf См.: Baker G.P. Verehrung und Verkehrung: Waismann and Wittgenstein / Ed. Luck-
hardt CG. Wittgenstein: Sources and Perspectives. Aassocks. Sussex: The Harvester
Press, 1979. P. 243-285.
17 Письмо Шлику от 9 августа 1934 г. Цит. по: Baker G.Р. Verehrung and Verke-
lmm... P. 254.
,к Письмо Витгенштейна Вайсману от 19 мая 1936 г.
IV Waismann F. Lectures on the philosophy of mathematics. Amsterdam, 1982. P. 57.
20 «Витгенштейн — ведущий мыслитель нашего времени (ведущий в ложном
направлении)» (нем.). Там же. С. 10.
122
Карл Поппер
Какой мне видится философия
I
Замечательная, яркая статья моего покойного друга Фридриха Вайс-
мана называется «Какой мне видится философия». Многое в ней
меня восхищает. С некоторыми ее положениями я даже могу
согласиться, несмотря на существенные различия в наших взглядах.
Фриц Вайсман и многие из его коллег считают философию
особого рода деятельностью, осуществляемой особого рода людьми. В
своей статье он пытается определить отличительные черты философов и
философии, сравнивая ее с другими теоретическими дисциплинами,
например с математикой и физикой. В частности, он пытается
охарактеризовать не только задачи и деятельность современных ученых-
философов, но и то, в каком смысле они продолжают дело
философов прошлого.
Статья Вайсмана не только вызывает большой интерес, но и
служит примером глубочайшей личной вовлеченности в академическую
деятельность и даже воодушевления. Без сомнения, сам автор —
философ до мозга костей в том смысле, что принадлежит к особому
сообществу философов и стремится передать нам часть воодушевления,
испытываемого членами этого необычного сообщества.
II
Я отношусь к философии совсем иначе. Я считаю философами всех
мужчин и женщин, однако думаю, что одни из них являются
философами в большей степени, чем другие. Конечно, я согласен с
утверждением, что в мире существует особая группа
философов-профессионалов, однако не разделяю энтузиазма Вайсмана в том, что
касается их деятельности и подходов. Напротив, мне кажется, что
многое в философии следует адресовать тем, кто ставит под сомнение
ее академическую сторону (по моему мнению, она представляет
собой особую разновидность философии). Во всяком случае я
совершенно не согласен с идеей (сугубо философской), влияние которой,
123
Поиск ясности
хотя оно нигде не рассматривалось и никогда не упоминалось,
пронизывает блестящее эссе Вайсмана: я имею в виду идею
существования интеллектуальной философской элиты.
Конечно, я признаю факт существования нескольких поистине
великих философов, а также немногих философов, не ставших
великими, хотя и вызывающих восхищение. Однако, несмотря на
огромную значимость их творений для философов-профессионалов, они не
повлияли на философию в той степени, в какой великие художники
повлияли на живопись, а великие композиторы — на музыку. Более
того, великая философия, например философия досократиков,
всегда предваряла появление академической, профессиональной
философии.
III
По моему мнению, профессиональная философия не слишком
преуспела. Ее настоятельной потребностью является apologia pro vita sua,
оправдание собственного существования.
Мне даже кажется, что профессия философа серьезно
свидетельствует против меня: я ощущаю ее как обвинение. Мне следует
признать вину и, подобно Сократу, прибегнуть к оправданию.
Я обращаюсь к «Апологии» Платона, ибо люблю ее больше
других когда-либо созданных философских произведений. Я заявляю,
что это полное и исторически правдивое повествование о том, что
говорил Сократ перед Афинским судом. Я люблю ее за то, что в ней
звучит голос скромного и бесстрашного человека. Его апология
очень проста: он утверждает, что знает о собственных недостатках,
что он не мудрец и знает лишь то, что ничего не знает, а критикует
он прежде всего высокопарные и маловразумительные речи,
оставаясь при этом другом своим соотечественникам и добропорядочным
гражданином.
По моему мнению, это не только апология Сократа, но и
впечатляющая апология философии.
IV
В этой связи рассмотрим аргументы против философии. Многие из
философов, включая нескольких величайших мыслителей, на мой
взгляд, не слишком преуспели в своих занятиях. Я обращусь к
четырем величайшим философам: Платону, Юму, Спинозе и Канту.
Представления Платона, самого великого, глубокого и одаренного
из всех философов, о человеческой жизни кажутся мне
отталкивающими и поистине шокирующими. Однако он был не только великим
философом, основателем величайшей профессиональной философской
124
К, Поппер. Какой мне видится философия
школы, но и великим вдохновенным поэтом, и «Апология Сократа» —
одно из его прекрасных творений.
Его недостатком, равно как и недостатком многих его
последователей, профессиональных философов, была несвойственная
Сократу вера в элиту: в Царство Философии. Если Сократ полагал,
что государственный деятель должен быть мудрым, т.е. осознавать
ограниченность собственных знаний, то Платон требовал, чтобы
мудрые и образованные философы получили право на абсолютную
власть. (Как раз со времен Платона мания величия стала наиболее
распространенным профессиональным заболеванием философов.)
Более того, в десятой книге своих «Законов» Платон придумал
организацию, вдохновившую инквизицию, а также приблизился к идее
концентрационных лагерей для врачевания душ инакомыслящих
граждан.
Неудачная, ошибочная психологическая теория (а также
теория познания, учившая не доверять выдающимся возможностям
мышления) привела философа-непрофессионала Дэвида Юма,
бывшего вслед за Сократом одним из наиболее беспристрастных
и уравновешенных великих мыслителей, а также чрезвычайно
скромным, разумным и достаточно спокойным человеком, к
шокирующей идее: «Разум является и должен являться только рабом
страстей и может претендовать лишь на служение и подчинение
им». Я готов признать, что великие свершения требуют участия
страстей, однако мое мнение противоположно утверждению Юма.
На мой взгляд, обуздание страстей при помощи той
незначительной доли благоразумия, которой мы обладаем, — единственная
надежда человечества.
Спиноза, святой среди великих философов, и также, подобно
Сократу и Юму, не философ по профессии, проповедовал идеи,
прямо противоположные идеям Юма, однако способ его
рассуждений, по моему мнению, был не только ошибочным, но и
неэтичным. Он (как и Юм) был детерминистом, и человеческая свобода
была для него лишь четким, ясным и правильным пониманием
подлинных мотивов наших действий: «Аффект, являющийся
страстью, перестает ею быть, как только у нас формируется четкое и
ясное представление о нем». Пока он остается страстью, мы
находимся в его власти и являемся несвободными; стоит лишь
сформироваться ясному и четкому представлению о нем, как он
становится частью нашего мышления, несмотря на то что продолжает
оказывать влияние на поведение. Спиноза учил, что в этом и
состоит свобода.
Я расцениваю это учение как негодную и опасную форму
рационализма, хотя и сам являюсь в некотором роде рационалистом. Во-
первых, я не верю в детерминизм и считаю, что ни Спинозе, ни
125
Поиск ясности
кому-либо другому не удалось выдвинуть достаточно сильных
аргументов в его поддержку, равно как и примирить детерминизм с
человеческой свободой (а следовательно, и со здравым смыслом).
Детерминизм Спинозы представляется мне типичной философской
ошибкой, несмотря на правильность утверждения, что многие из
наших действий (хотя и не все) имеют свою причину и даже могут
быть предсказаны. Во-вторых, хотя избыток того, что Спиноза
называл «страстью», действительно ограничивает нашу свободу, его
формулировка, только что процитированная мною, снимает с нас
ответственность за собственные поступки до тех пор, пока мы не
приобретем ясное, четкое и правильное представление об их
мотивах. Однако я считаю это невозможным. Хотя я (так же как и
Спиноза) убежден в том, что разумность является важнейшей целью
поведения и общения с ближними, я не могу назвать ни одного
человека, достигшего этой цели.
Один из немногих превосходных и в высшей степени
оригинальных мыслителей среди философов-профессионалов, Кант пытался
разрешить как юмовскую проблему неприятия разума, так и
поставленную Спинозой проблему детерминизма, однако в обоих случаях
потерпел неудачу.
Вот что можно сказать о нескольких величайших философах,
вызывающих у меня наибольшее восхищение. Теперь вы поймете,
почему я считаю необходимой апологию философии.
V
В отличие от моих друзей, Фрица Вайсмана, Герберта Фейгля и
Виктора Крафта, я никогда не был членом Венского кружка логических
позитивистов. Отто Нейрат даже назвал меня «официальной
оппозицией». Меня никогда не приглашали на заседания кружка,
возможно, из-за моего хорошо известного оппозиционного отношения к
позитивизму. (Я с удовольствием принял бы такое приглашение не
только потому, что некоторые из членов кружка были моими
личными друзьями, но и потому, что некоторыми из них я искренне
восхищаюсь.) Под влиянием «Логико-философского трактата» Людвига
Витгенштейна кружок стал не только антиметафизическим, но и
антифилософским. Руководитель кружка Шлик сформулировал эту
мысль в виде пророчества о том, что философия, «которая никогда не
говорит осмысленно, а произносит лишь бессмысленные слова»,
скоро исчезнет, так как философы обнаружат, что их уставшие от пустых
тирад слушатели ушли.
На протяжении многих лет Вайсман разделял взгляды
Витгенштейна и Шлика. В его философском энтузиазме мне видится
энтузиазм новообращенного.
126
К, Поппер. Какой мне видится философия
Я всегда защищал философию и даже метафизику от нападок
Венского кружка, несмотря на готовность признать, что философы не
слишком многого достигли. Это объяснялось верой в то, что перед
большинством людей, в том числе и передо мной, встают подлинно
философские проблемы различной степени серьезности и
сложности, многие из которых разрешимы.
Действительно, единственным аргументом в пользу того, что
можно назвать профессиональной или академической философией,
является, по моему мнению, существование серьезных, требующих
безотлагательного решения философских проблем, а также потребность
в их критическом осмыслении.
Витгенштейн и Венский кружок отрицали сам факт
существования серьезных философских проблем.
В соответствии с концовкой «Трактата» очевидными
философскими проблемами (включая проблемы, перечисленные в самом
«Трактате») являются псевдопроблемы, возникающие вследствие
того, что мы говорим, не придавая определенного значения всем
употребляемым словам. Данную теорию можно рассматривать как
следствие попыток Рассела определить логический парадокс как
бессмысленное псевдоутверждение, не являющееся ни истинным,
ни ложным. Это породило новый философский прием, когда
любые неудобные утверждения или проблемы называются
«бессмысленными». В своих поздних работах Витгенштейн говорил о
«головоломках», возникающих из-за неправильного использования речи
в философии. Могу лишь сказать, что если бы передо мной не
стояли сложные философские проблемы и у меня не было надежд на
их разрешение, то я не сумел бы оправдать свою профессию
философа: по-моему, никаких других аргументов в пользу философии
не может быть.
VI
В этом разделе я перечислю некоторые взгляды на философию и
философскую деятельность, которые обычно считаются для нее
характерными, но лично мне кажутся неудовлетворительными. Раздел
можно назвать: «Какой я не вижу философию».
1. Я не вижу философию решающей лингвистические
головоломки, хотя уяснение смысла высказываний порой является ее
необходимой предварительной задачей.
2. Я не вижу философию как ряд произведений искусства, как
впечатляющее, оригинальное изображение мира или умный и
необычный способ его описания. Мне кажется, подобная трактовка
философии является неуважением к великим философам. Великие
философы не занимались эстетическими проблемами. Они не за-
127
Поиск ясности
нимались построением умных систем. Их, как и всех великих
ученых, прежде всего интересовали поиски истины, поиски
правильного решения подлинных проблем. Я считаю историю философии
существенной частью истории поисков истины и отвергаю ее
чисто эстетическую трактовку, несмотря на значимость красоты не
только для философии, но и для науки в целом.
Я сторонник интеллектуальной смелости. Мы не можем
одновременно заниматься поисками истины и быть интеллектуальными
трусами. Стремящийся к истине должен осмелиться быть мудрецом —
он должен осмелиться быть революционером в сфере мышления.
3. Продолжительная история создания философских систем не
видится мне таким интеллектуальным построением, в котором
использованы все возможные идеи, а истина может возникнуть в
качестве побочного продукта. Мне кажется, мы будем несправедливы к
подлинно великим философам прошлого, если хоть на миг
усомнимся, что каждый из них отказался бы от своих, пусть и блестящих,
взглядов, убедившись, что они ни на шаг не приближают его к
истине (именно так и следует поступать.) (Между прочим, именно
поэтому я не считаю настоящими философами Фихте и Гегеля: я не верю
в их увлеченность истиной.)
4. Я не вижу философию пытающейся прояснять, анализировать
или «эксплицировать» понятия, слова или языки.
Понятия и слова являются только средством для формулирования
утверждений, предположений и теорий. Сами по себе понятия и
слова не могут быть истинными; они просто употребляются в
человеческом языке для описания и доказательства. Наша задача должна
заключаться не в анализе значений слов, а в поиске интересных и
важных истин, т.е. в поиске правильных теорий.
5. Я не считаю философию средством для обретения ума.
6. Я не считаю философию особого рода интеллектуальной
терапией (Витгенштейн), помогающей людям выйти из философских
затруднений. По моему мнению, Витгенштейн (в своей последней
работе) не показал мухе, как вылезти из мухоловки. В этой неспособной
выбраться из мухоловки мухе я вижу поразительный автопортрет
самого Витгенштейна (своим примером Витгенштейн подтверждает
теорию Витгенштейна так же, как Фрейд — теорию Фрейда).
7. Я не представляю философию занимающейся изучением
вопроса о том, как точнее и правильнее выразить ту или иную мысль. Сами
по себе точность и правильность мысли не являются
интеллектуальными ценностями, и мы не должны стремиться к большей точности
и правильности, чем требует конкретная проблема.
8. Точно так же я не считаю философию средством построения
основания или концептуальной структуры для решения проблем
ближайшего или отдаленного будущего. Так думал Джон Локк. Он хотел
128
К. Поппер. Какой мне видится философия
написать работу по этике, считая необходимым предварительно
разработать соответствующий концептуальный аппарат.
Его «Эссе» целиком состоит из предварительных разработок, а
английская философия с той поры погрязла в предварительных
рассуждениях (не считая нескольких исключений, например некоторых
политических работ Юма).
9. Я также не считаю философию выражением духа времени. Это
гегелевская идея, не выдерживающая критики. Действительно, в
философии, как и в науке в целом, существует мода. Однако настоящий
искатель истины не будет следовать моде: он будет в ней
сомневаться и даже ей противостоять.
VII
Все люди — философы. Даже если они не осознают собственных
философских проблем, они по меньшей мере имеют философские
предрассудки. Большинство таких предрассудков — это принимаемые на
веру теории, усвоенные из интеллектуального окружения или через
традиции.
Поскольку почти все эти теории не принимаются сознательно,
они являются предрассудком в том смысле, что не рассматриваются
людьми критически, несмотря на чрезвычайную значимость многих
из этих теорий для людей практической деятельности, а также для
жизни в целом. Тот факт, что эти широко распространенные и
влиятельные теории нуждаются в критическом рассмотрении, является
аргументом в пользу профессиональной философии.
Подобные теории являются ненадежной исходной точкой для всех
наук, в том числе и для философии. Все философии должны исходить
из сомнительных, а порой и пагубных взглядов, относящихся к
области некритичного здравого смысла. Их цель — просвещенный,
критический здравый смысл: приближение к истине с наименьшим
пагубным воздействием на человеческую жизнь.
VIII
Позвольте привести несколько примеров распространенных
философских предрассудков.
Существует чрезвычайно влиятельное философское
представление о том, что во всех случающихся бедах этого мира (в том, что нам
очень не нравится) всегда кто-нибудь виноват: обязательно
существует некто, намеренно совершивший этот поступок. Это очень древнее
представление. Согласно Гомеру, причиной всех бедствий,
пережитых троянцами, были гнев и зависть богов, а виновником несчастий
Одиссея — Посейдон. Позднее христианство считало источником зла
Q_'*ii'*Ä
129
Поиск ясности
дьявола. Вульгарный марксизм объяснял, что приходу социализма и
воцарению рая на земле препятствует заговор жадных капиталистов.
Теория, считающая войну, нищету и безработицу результатом
чьих-либо преступных намерений или злого умысла, относится к
области здравого смысла, но в ней отсутствует критическое
осмысление происходящего. Такую некритичную теорию, относящуюся
к области здравого смысла, я назвал теорией общественного
заговора. (Ее можно даже назвать теорией мирового заговора:
вспомним посылаемые Зевсом молнии.) Она получила широкое
распространение, а в форме вечных поисков козла отпущения нередко
вдохновляла политическую борьбу, принося множество тяжких
страданий.
Одна из способностей теории общественного заговора состоит в
том, что эта теория подталкивает к действию настоящих
заговорщиков. Но, как показывают критические исследования, заговорщики не
достигают намеченных ими целей. Ленин, придерживавшийся теории
общественного заговора, сам был заговорщиком, как Гитлер и
Муссолини. Но ленинские идеи не реализовались в России так же, как
идеи Муссолини и Гитлера не реализовались в Италии и Германии.
Все заговорщики устраивают заговоры потому, что некритически
принимают теорию общественного заговора.
Скромным, однако существенным философским вкладом может
стать рассмотрение ошибочных моментов теории общественного
заговора. Более того, этот вклад повлечет за собой дальнейшие позитивные
изменения, например, осознание социальной значимости
непреднамеренных последствий человеческих действий, а также предположение о
том, что задачей теории общественных наук должен стать поиск
общественных отношений, являющихся причиной таких
непреднамеренных последствий.
Возьмем проблему войн. Даже такой критически настроенный
философ, как Бертран Рассел, считал, что войны объясняются
сугубо психологическими причинами — в частности, человеческой
агрессивностью. Не отрицая существования агрессивности, я удивлен, что
Рассел не заметил, что причиной большинства последних войн
явилась не столько собственная агрессивность, сколько страх перед
агрессией извне. Это были либо идеологические войны, вызванные
боязнью захвата власти заговорщиками, либо войны, которых никто не
хотел, но которые были вызваны страхом перед той или иной
объективно сложившейся ситуацией. Примером является обоюдный страх
агрессии, приводящий к гонке вооружений, а затем и к войне,
например к превентивной войне, которую пропагандировал (справедливо),
боясь появления водородной бомбы в России, даже такой противник
войн и агрессии, как Рассел. (Никто не хотел водородной бомбы; она
появилась из-за боязни ее монополизации Гитлером.)
130
К. Поппер. Какой мне видится философия
Приведем другой пример философского предрассудка.
Существует ошибочное представление о том, что мнение человека
всегда определяется его личными интересами. Это учение, которое
можно охарактеризовать как выродившуюся форму учения Юма о
том, что разум является и должен являться рабом страстей,
обычно не применяют к самому себе (в отличие от Юма, учившего
скромности и скептицизму по отношению к возможностям разума,
в том числе и нашего собственного), однако всегда применяют к
тем, чье мнение отличается от нашего. Это мешает нам терпеливо
выслушивать противоположные мнения и относиться к ним
серьезно, поскольку мы начинаем объяснять их личными интересами
другого человека. Это препятствует разумной дискуссии, приводит
к вырождению природной любознательности, стремления к
поиску истины. Важный вопрос «Какова сущность данного явления?»
заменяется в этом случае другим, значительно менее важным
вопросом: «Что тебе выгодно? Каковы твои скрытые мотивы?» Это
мешает нам учиться у людей с иными взглядами и способствует
распаду единства человечества, единства, основанного на
общности разума.
Еще одним философским предрассудком является чрезвычайно
влиятельный в наше время тезис о том, что конструктивная
дискуссия возможна только между людьми со сходными
основополагающими взглядами. В рамках этой пагубной догмы любая конструктивная
или критическая дискуссия по каким-либо фундаментальным
проблемам считается невозможной, поэтому следствия подобных
взглядов так же негативны, как и следствия упомянутых выше
доктрин.
Рассмотренные положения не только признаются многими
людьми, но и относятся к области философии, лежащей в центре
внимания многих профессиональных философов: к теории познания.
IX
Проблемы теории познания представляются мне ядром как
основанных на здравом смысле некритических философских представлений,
так и академической философии. Кроме того, они решающим
образом влияют на теорию этики (как нам об этом недавно напомнил Жак
Моно).
Упрощенно говоря, главной проблемой в этой области
философии, так же как и в ряде других ее областей, является конфликт
между «эпистемологическим оптимизмом» и «эпистемологическим
пессимизмом». Познаваем ли мир? Каковы пределы познания? В то
время как эпистемологический оптимист верит в познаваемость
9*
131
Поиск ясности
мира, пессимист считает, что подлинное знание лежит за пределами
человеческих возможностей.
Я — сторонник здравого смысла, но не во всех случаях. Я
расцениваю его как возможную отправную точку наших рассуждений,
однако считаю, что мы должны заниматься не построением надежной
системы взглядов на основе здравого смысла, а его критикой и
совершенствованием. Таким образом, я являюсь реалистическим
сторонником здравого смысла, я верю в реальность материи (которую
считаю подлинной парадигмой того, что должно обозначаться словом
«реальный»). По этой же причине я могу назвать себя материалистом,
однако вовсе не потому, что это слово также обозначает а) веру в
неисчерпаемость материи, б) отрицание реальности нематериальных
полей энергии, в том числе духа, сознания, т.е. какой-либо
субстанции помимо материальной.
Я следую здравому смыслу, признавая существование как материи
(«мир 1»), так и духа («мир 2»), а также верю в существование других
вещей, прежде всего продуктов деятельности человеческого духа,
включая научные гипотезы, теории и проблемы («мир 3»). Иными
словами, я придерживаюсь здравого смысла, пребывая на позиции
плюрализма. Я готов к тому, что мою позицию могут раскритиковать
и заменить другой, более логичной, однако все до сих пор
направлявшиеся против нее критические аргументы кажутся мне
необоснованными (Между прочим, я считаю, что без такого плюрализма не
может быть этики.)
Все аргументы, выдвигавшиеся против плюралистического
реализма, в конечном счете базируются на некритичном принятии
теории познания, опирающейся на здравый смысл, которую я считаю
слабейшим звеном здравого смысла.
Теория познания, опирающаяся на здравый смысл, в высшей
степени оптимистична, пока она отождествляет знание с
достоверным знанием; все гипотетическое расценивается ею как
«неподлинное знание». Данный аргумент я отклоняю как чисто
вербальный. Я с готовностью признаю, что термин «знание» во всех
известных мне языках подразумевает определенность. Однако
наука состоит из гипотез. Поэтому опирающаяся на здравый смысл
программа, берущая в качестве отправной точки то, что
представляется наиболее достоверным, или основным, знанием (знание,
полученное в результате наблюдений), и стремящаяся построить
на этом основании здание надежного знания, не выдерживает
критики.
Следует отметить, что следствиями такого подхода становятся две
диаметрально противоположные системы взглядов на реальность, не
относящиеся к области здравого смысла.
1. Имматериализм (Беркли, Юм, Мах).
132
К. Поппер. Какой мне видится философия
2. Бихевиористский материализм (Уотсон, Скиннер).
Первая из них отрицает реальность материи, считая единственной
достоверной и надежной основой знания ощущения, которые всегда
нематериальны.
Вторая отрицает существование духа (и соответственно,
человеческой свободы) на том основании, что наблюдать можно лишь
человеческое поведение, которое во всех своих проявлениях
аналогично поведению животных (за исключением того, что оно включает
важную и широкую сферу деятельности, называемую
«лингвистическим поведением»).
Обе эти теории базируются на несостоятельной, основанной на
здравом смысле теории познания, которая ведет к традиционной, но
совершенно необоснованной критике теории реальности, также
опирающейся на здравый смысл. Обе системы не просто нейтральны, но
вредны с этической точки зрения: если я хочу успокоить плачущего
ребенка, то не пытаюсь менять чье-либо (мое или ваше) болезненное
восприятие или поведение ребенка, или остановить стекающие по его
щекам слезы. Нет, мои мотивы совершенно другие — они
недоказуемы, их нельзя логически вывести, однако они гуманны.
Имматериализм (родившийся из убежденности Декарта, который,
конечно, не был идеалистом в том, что отправным пунктом теории
познания должно быть бесспорное основание, например уверенность
в собственном существовании) достиг своего апогея в учении Эрнста
Маха, которое появилось в начале нашего столетия, однако в
настоящее время почти утратило свое влияние. Теперь оно уже не в моде.
Сейчас особую популярность приобрел бихевиоризм, отрицающий
существование духа. Превознося метод наблюдения, он не только
бросает вызов реальности человеческих переживаний, но и пытается,
исходя из своих теорий, сформулировать ужасающую с этической точки
зрения теорию условно-рефлекторного научения, хотя, в сущности,
никакую этическую теорию нельзя вывести из человеческой
природы. (Это положение совершенно справедливо подчеркивалось Жаком
Моно; см. также мою работу «Открытое общество и его враги».)
Остается надеяться, что популярность бихевиоризма, базирующегося на
некритичном принятии основанной на здравом смысле теории
познания, непригодность которой я пытался доказать, рано или поздно
иссякнет.
X
Я считаю, что философия не должна, да и не может, отрываться от
науки. Исторически вся западная наука вышла из философских
воззрений древних греков на мировой порядок. Общими предками всех
ученых и всех философов являются Гомер, Гесиод и досократики.
133
Поиск ясности
Их внимание прежде всего было направлено на строение вселенной
и поиски нашего места в ней, включая проблему возможности ее
познания (которая до сих пор остается ключевой для всей
философии). Именно критическое осмысление науки, ее открытий и
методов продолжает оставаться центральным моментом философского
исследования даже после того, как наука отделилась от философии.
По моему мнению, «Математические начала натуральной
философии» Ньютона стали величайшим событием, ознаменовавшим
величайший интеллектуальный переворот в истории человечества. Их
появление свидетельствовало о совершении мечты двухтысячелет-
ней давности, о зрелости науки и о ее отделении от философии.
Однако при этом сам Ньютон, как и все великие ученые, оставался
философом; он оставался критически настроенным мыслителем и
исследователем, скептически относящимся к собственным
воззрениям. Вот что он написал в письме к Бентли (25 февраля 1693 г.) по
поводу своей теории дальнодействия:
«Мысль о том, что гравитация является природным,
неотъемлемым, сущностным свойством материи, позволяющим одному телу
воздействовать на другое на расстоянии... кажется мне настолько
абсурдной, что я уверен, что ни один из разбирающихся в философии
людей никогда не согласится с ней».
Именно его собственная теория дальнодействия привела его к
скептицизму и мистицизму. Он утверждал, что все значительно отдаленные
друг от друга области пространства могут моментально
непосредственно воздействовать друг на друга благодаря одновременному и
вездесущему присутствию единого для всех религий Бога. Таким образом,
попытка разрешить проблему дальнодействия привела Ньютона к
созданию мистической теории, рассматривающей пространство в
качестве Божественного сенсориума. Создав эту теорию, соединившую
критическую умозрительную философию с умозрительной религией,
он вышел за пределы науки.
Известно, что Эйнштейн руководствовался аналогичными мотивами.
XI
Я признаю, что в рамках философии существуют некоторые
чрезвычайно тонкие и вместе с тем наиболее важные проблемы,
занимающие естественное и единственно подходящее для них место в
академической философии, например проблемы математической логики
или, говоря шире, философии математики. Я поражен
удивительным прогрессом, происшедшим в этой области на протяжении
нашего столетия.
Но поскольку речь идет об академической философии вообще, я
обеспокоен влиянием тех, кого Беркли назвал «мелкими философа-
134
К. Поппер. Какой мне видится философия
ми». Бесспорно, критика является источником жизненной силы
философии. Однако в ней следует избегать мелочного педантизма.
Мелкая критика мелких вопросов без осмысления великих проблем
космологии, человеческого познания, этики и политической
философии и без серьезных, упорных попыток их разрешить кажется мне
губительной. Похоже, любая печатная строка, допускающая
неправильное толкование, становится основанием для написания
очередной критической философской статьи. Мы наблюдаем изобилие
схоластических рассуждений в худшем смысле этого слова, все
великие идеи тонут в потоке слов. В то же время многие редакторы
журналов в качестве доказательства смелости и оригинальности
мышления нередко допускают на их страницы самонадеянность и
грубость, в прошлом почти не встречавшиеся в философской
литературе.
Я считаю, что каждый интеллектуал должен осознавать
привилегированность собственной позиции. Его долг— писать как можно
проще, понятнее и вежливее. Никогда не следует забывать ни о
великих вечных проблемах, стоящих перед человечеством и требующих
нового, смелого, но и терпеливого мышления, ни о сократовской
мудрости, сознающей, сколь мало она знает. Я думаю, что наряду с
борьбой против мелких философов и их мелких проблем главной
задачей философии являются критические размышления об устройстве
вселенной, о нашем месте в мире, а также о наших познавательных
возможностях и способности творить добро и зло.
XII
Мне хочется завершить свою статью несколькими философскими
рассуждениями явно неакадемического характера.
Одному из астронавтов, участвовавших в первом полете на Луну,
приписывают простое, но мудрое высказывание, сделанное по
возвращении на Землю (цитирую по памяти): «За свою жизнь мне удалось
повидать другие планеты, однако я всегда стремился на Землю». Это не
просто мудрость, но философская мудрость. Мы не знаем, как вышло,
что мы живем на этой прекрасной маленькой планете, или почему для
того, чтобы быть прекрасной, ей нужно быть обитаемой. Однако мы
существуем именно здесь, и у нас достаточно оснований для удивления
и благодарности. Все это похоже на чудо. Наука может сообщить нам
лишь то, что во вселенной практически нет материи, а там, где она
есть, она пребывает в хаотическом, подвижном состоянии и
непригодна для жизни. Конечно, не исключается возможность
существования и других обитаемых планет. Однако если НАУГАД выбрать
точку в пространстве, то вероятность обнаружения в ней тела, на
котором есть жизнь (вычисленная при помощи методов нашей со-
135
Поиск ясности
мнительной космологии), будет равна нулю или почти нулю.
Таким образом, жизнь — это редкость, она драгоценна. Мы склонны
забывать этот факт, расценивая жизнь дешево, может быть, в силу
беспечности, а может быть, потому, что наша прекрасная Земля
все же несколько перенаселена.
Все люди — философы в силу того, что занимают ту или иную
позицию по отношению к жизни и смерти. Есть люди, которые
дешево ценят жизнь, потому что она конечна. Они не догадываются
использовать противоположный аргумент: став бесконечной, жизнь
утратит свою ценность. Именно постоянный страх ее потерять
помогает острее ощутить ценность жизни.
136
М.С. Козлова
Родство философии и науки. К. Поппер
Карл Поппер (1902-1994) — один из классиков методологии и
философии науки XX в.1. Созданная им оригинальная концепция
«критического рационализма» оказала заметное влияние на современные
представления в данной области. Поппер вступил в философию как
человек науки: Венский университет он закончил по специальности
«физика и математика», философию же изучал самостоятельно.
Исходной и важнейшей сферой его интересов стали логика и
методология науки. Творческий поиск Поппера в этом направлении был
стимулирован работами и дискуссиями членов Венского кружка,
тщательно изучавших проблемы познавательного значения
утверждений, разграничения науки и тесно смыкающейся с ней, часто
выступающей от ее имени, а на деле лишенной научного смысла —
философии. Эта проблематика увлекла и Поппера. Важное место в его
мышлении заняла, в частности, проблема демаркации
(размежевания) науки и псевдонаучных способов рассуждения. В логическом
позитивизме наиболее злостной формой таковых считалась
метафизика — неподконтрольное опыту философское умствование с
претензией на роль «науки наук». Развенчание такой философии (прежде
всего мифологем фрейдизма и марксизма)2. Поппер счел и для себя
важной задачей, хотя в целом его отношение к метафизике и в
ранний период творчества, а особенно позже было куда более терпимым,
чем у Карнапа и других, не случайно он характеризовал свою
философию как «метафизический реализм».
В 1934 г. увидел свет капитальный труд Поппера «Логика научного
исследования»3, заключавший в себе целый комплекс новых идей,
альтернативных (не столько тематически, сколько методологически)
доктрине логического позитивизма, представлявшейся автору
крайне упрощенной. Если М. Шлик, Р. Карнап и их единомышленники
опирались на платформу радикального (по мнению Поппера,
наивного) эмпиризма, то Поппер принял существенно иную
ориентацию — дедуктивизма и рационализма, однако не в том однобоком их
толковании, для которого характерны недооценка опыта и априоризм
(опора на внеопытные формы знания). Это было бы уходом в другую
крайность, чего Поппер избежал. Защищая научную рациональность
как главный фактор формирования и роста науки, он не оставляет
без внимания ее неотъемлемую составляющую — научный опыт, в
том числе его контрольные функции в отношении научных теорий. В
дополнение к широко практикуемым в науке методам верификации
знания, которые по-своему (соответственно духу их концепции)
изучались в логическом позитивизме (или «логическом эмпиризме»),
137
Поиск ясности
Поппер предложил свой известный принцип фальсификации
(опровержения, установления ложности) тех или иных фрагментов или
систем Знания.
Дело в том, что, строго говоря, исчерпывающая опытная
проверка универсальных положений (со словами «все», «всякий», «любой»)
практически нереализуема. Опыт, в силу принципиальной
неполноты индукции, не дает достоверного, необходимого знания, его
результаты имеют лишь вероятностный характер4. Неудивительно, что
сторонники радикального эмпиризма (Р. Карнап, Г. Рейхенбах и др.)
в дальнейшем обратились к серьезной разработке вероятностной
модели научного знания. Тем самым ослаблялись дотоле жесткие
требования опытной проверяемости, размывались казавшиеся
незыблемыми водоразделы между опытом и теорией, достоверным и вероятным
знанием. Вместе с тем зрело и понимание того, что из науки
немыслимо изгнать гипотетические философские обобщения. Со временем
программа радикального эмпиризма и устранения из «каркасов»
науки якобы чуждой ей («бессмысленной») метафизики была сдана в
архив самими же ее защитниками.
Поппер же подошел к проблеме опытной апробации
познавательных результатов иначе. Он подметил, что научные законы и теории, по
сути, заключают в себе и, стало быть, позволяют вывести в качестве
следствий те или иные запреты. Например, закон сохранения и
превращения энергии предполагает запрет вечного двигателя. Причем эти
запреты могут получиться (это, впрочем, давно известно в логике)
путем преобразования универсальных утверждений в единичные
отрицательные суждения (по формуле «ни один... »), для опровержения коих
достаточно и одного случая. В самом деле, стоило бы хоть единожды
создать вечный двигатель, как соответствующий фундаментальный
закон был бы фальсифицирован, ибо это был бы бьющий в самую
точку решающий эксперимент. Иначе говоря, если позитивная проверка
даже опытных обобщений, не говоря уже о теоретических
положениях, практически бесконечна, то вот дедуктивно вывести из них
конкретные отрицательные следствия-запреты и помыслить
фальсифицирующий их эксперимент можно (так представлялось Поп перу) кратко
и исчерпывающе убедительно. Принципиальная фальсифицируемость
расценивалась Поппером как непременный показатель
информативности, познавательной ценности положения. Принципиальная же
невозможность такого испытания (исходя из самого характера
утверждения) соответственно расценивалась как отсутствие в нем реального
познавательного значения. Что бы ни происходило в мире, такие
положения (будь то законы диалектики в марксизме, общие «сценарии»
фрейдизма или что-то иное в этом роде) остаются незыблемыми, что
явно отличает их от научных положений, доступных как логической,
так и эмпирической критике, корректировке5.
138
M.С. Козлова. Родство философии и науки. Карл Поппер.
Требование строго опытной проверяемости было формой
наиболее резкого протеста позитивистов-эмпириков XX в. против
небезвредных для науки философских спекуляций. В результате были
развенчаны многие положения и понятия, выдаваемые за научные, но
таковыми никак не являющиеся. Это, конечно же, немаловажно.
Насколько вредным может быть злоупотребление «худой» философией,
свидетельствует хотя бы тот причудливый сплав биологических
«фактов» и вульгарнейших философских позиций, каким была, например,
«лысенковщина», да и не только она. Однако принцип верификации
(в его жестком варианте) угрожал «ампутировать» и весьма значимые
«слои» самой науки, начиная с ее законов, поскольку они относятся
к неограниченным, потенциально бесконечным классам явлений,
которые никакая опытная проверка не может исчерпать. Поппер же
своей идеей фальсификации нашел, как ему думалось, выход из
создавшегося тупика. Правда, на деле это оказалось еще не выходом, а
лишь началом пути — к открытию целой системы критериев
ценности познавательных результатов и формированию значительно более
емкой модели научного познания, с учетом его сложного логического
строения и отнюдь не простых, комплексных механизмов
обоснования и проверки.
Работы К. Поппера, особенно если учесть весь комплекс его
логико-методологических трудов6, а также работы его последователей
(Т. Кун, И. Лакатос, Дж. Агасси, П. Фейерабенд и др.) и даже
оппонентов, сыграли важную роль в создании современной картины
формирования и роста научного знания. Серьезнейшая роль отведена в
ней научным теориям как целостным системам знания, построенным
по гипотетико-дедуктивному принципу и взаимодействующим с
опытом по куда более сложным схемам, чем это представлялось
позитивистам. Критицизм Поппера антидогматичен, проникнут здоровым
скептицизмом, предположительность считается неотъемлемой чертой
познания. Основной формой роста знания (Поппер прибегает здесь
к аналогиям с биологической эволюцией) выступают нетривиальные,
смелые и продуктивные научные гипотезы7. Гипотезы эти — Поппер
был и остается критическим рационалистом — должны подвергаться
всевозможным опровержениям (концепция фаллибилизма), испыты-
ваться «на прочность» (выносливость, выживаемость,
эффективность) и либо выдерживать суровые испытания и, корректируясь,
развиваться, либо отвергаться, вызывая к жизни другие гипотезы и
уступая им место. Усилиями целой плеяды специалистов
разработана такая картина генезиса и развития науки в контексте культуры.
Жизнеспособность идей, теорий выявляется здесь не какой-то одной
процедурой (Поппер, особенно вначале, все же склонен был
абсолютизировать возможность принципа фальсификации), а всей системой
ее связей и «поддержек» как внутринаучных, так и тех, что принад-
139
Поиск ясности
лежат целостному контексту соответствующей культуры. В сложной,
подвижной иерархической картине науки стираются резкие границы
теории и опыта, смягчается взаимная чужеродность науки и
философии, особенно если речь идет о философии, ориентированной на
науку и тесно взаимодействующей с ней. Более того, в исследованиях
были выявлены органическая связь философии и науки, их
взаимодействие, важная роль философских идей в историческом процессе
развития науки (А. Койре и др.), наиболее зримо проявляющая себя
в ситуациях научных революций. Многое внесено в эту картину
другими специалистами, но участие Поппера в ее создании бесспорно.
Да и импульс к развитию альтернативной, не позитивистской
картины научного познания и присутствия в ней философии во многом
принадлежал ему8.
Поппер с самого начала признавал важную эвристическую роль
метафизики. Он решительно не согласился с позитивистской
характеристикой философских проблем как лишенных смысла9. В одной из
своих статей «Природа философских проблем и их корни в науке» он
еще в середине века писал, что потерял бы всякий интерес к
философии, если бы в ней не было глубоких и важных проблем.
Философия становится бессмысленной, пояснял он, если замыкается в себе
самой, отрывается от актуальных проблем математики, космологии,
политики, религии, общественной жизни. «Не существует чисто
философских проблем. По мере превращения проблемы в чисто
философскую она все более утрачивает смысл и вырождается в пустой вер-
бализм»10. Корни философских проблем — во внефилософских
сферах. Кроме того, Поппер считает неправомерным судить о
достоинствах или изъянах философских концепций прошлого с точки
зрения логических, методологических и иных критериев оценки знания,
выработанных только в XX в. Он подчеркивает, что философские
идеи и концепции должны рассматриваться в соответствующем
историческом контексте. Будучи же вырваны из такого контекста,
проблемы, выдвигавшиеся, скажем, Пифагором, Платоном, Кантом и
др., действительно перестают быть понятными и воспринимаются
как псевдопроблемы. На самом же деле они — моменты развития
философии, выросшие из проблемных познавательных ситуаций
своего времени, в определенных культурно-исторических условиях и
непонятные в отрыве от них.
Итак, Поппер характеризует свою философскую позицию как
«метафизический реализм», «критический рационализм» и т.п. Он
всегда стремился создать и развить теорию научной
рациональности. Рациональные нормы, принципы роста научного знания,
«правила научной игры» (И. Лакатос) — вот главный предмет его
внимания. Стремясь построить теорию именно научного знания,
Поппер старался как можно меньше обращаться к собственно фи-
140
M.С. Козлова. Родство философии и науки. Карл Поппер.
лософским вопросам. Это создало известный «дефицит» в его
концепции философских «увязок», обоснований, осмыслений, что
было существенно восполнено и восполняется другими
исследователями.
Бесспорно, Поппер прежде всего и более всего ориентирован на
науку, он человек сциентистского склада. Наука для него не
только главная ценность (он представляет именно это философское
крыло), но и универсальная «смотровая площадка», с позиций
которой он осмысливает также философию. И в истории мысли он
ценит философов, знавших толк в науке и понимавших те проблемы
рационального познания, которые выдвигала та или иная эпоха.
Предлагаемая вниманию читателей статья Поппера — свидетельство
такой ориентации.
Что же касается того особого крыла философии, что связано с
постижением вненаучного опыта человека, не подвластного
рационально-объективному, логическому познанию, того опыта, что
называется Жизнью, с глубинами, тайнами, тревогами внутреннего мира
человека (темы Августина, Паскаля, Кьеркегора, Хайдеггера и др.), то
профессиональная «встреча» Поппера с такой философией, видимо,
не состоялась. Так бывает нередко: эти два типа философии —
антиподы. К тому же всего не охватишь. И то, что Попперу удалось
сделать, безусловно, ценно.
Примечания
Перевод с издания: Popper К. How I see Philosophy // Philosophy in Britain Today.
Groom Helm, 1986. P. 198-212.
1 До 1937 г. Поппер живет и работает в Вене, в период Второй мировой войны —
в Новой Зеландии, с 1946 г. до ухода на пенсию в середине 70-х годов он —
профессор Лондонской школы экономики и политических наук.
2 Критике марксизма Поппер уделил большое внимание. См. его работы:
Открытое общество и его враги. М., 1992; Нишета историцизма. М., 1993.
3 Popper К. Logik der Forschung. В доработанном и дополненном варианте: The
Logic of Scientific Discovery. N.Y., 1959. В русском переводе в кн.: Поппер К.
Логика и рост научного знания. М., 1983.
4 Настаивая на общих утверждениях (типа «Все лебеди белы»), нужно быть
готовым к неожиданностям (вроде открытия в Австралии черных лебедей).
5 По мысли Поппера, научными могут считаться лишь те теории, которые
способны в принципе, при определенных обстоятельствах доказать свою ложность,
т. е. быть опровергнутыми. Таким образом, фальсифицируемость обретала
статус искомого критерия демаркации.
6 В 1963 г. Поппер опубликовал свою вторую логико-методологическую книгу
«Предположения и опровержения», а в 1972 г. — третью, «Объективное знание».
В этих работах получили дальнейшее уточнение и развитие мысли первого
труда «Логика научного исследования».
141
Поиск ясности
7 Подчеркивается ценность создания все более «дерзких» теорий («сумасшедших»
идей), прорыва к принципиально новым результатам, а не создание все более
вероятных теорий (Поппер— критик вероятностной логики).
кСам Поппер считает, что самые решающие удары по логическому позитивизму
нанес своей концепцией именно он.
9 Считавшийся долгие годы позитивистским принцип Витгенштейна «О чем
невозможно говорить, о том следует молчать» Поппер однажды парировал фразой
Э. Шредингера: «Но только тут говорить становится интересно!» Правда, позднее
стало понятно, что тема молчания, невыразимого здесь, — иная, особая, кирке-
горовская тема. Она раскрывается в философии Жизни, в экзистенциальной
философии. Не все философы знают путь от логики науки в особый — трансцен*
дентный — мир человеческих смыслов и ценностей. Витгенштейн этот путь знал.
Но это прояснилось не сразу. Долгое время его позиции неправомерно
отождествлялись с концепцией логического позитивизма, что нашло отражение и в
оценках Поппера его представлений о философии.
10 Popper К. The Nature of Philosophical Problems and Their Roots in Science // The
British Journal for the Philosophy of Science. 1952. Vol. III. № 10. P. 132.
142
Сама себе интеллектуальный закон
Мартин Хайдеггер
Что это такое - философия?
Своим вопросом мы касаемся одной темы, весьма широкой, что
называется, пространной. И так как тема широкая, она остается
неопределенной. А поскольку она неопределенна, мы можем подходить
к ней с самых разных точек зрения. При этом мы постоянно будем
наталкиваться на что-то правильное. Однако при обсуждении столь
широкой темы перемешиваются самые разные мнения, и значит нам
угрожает опасность, что наш разговор останется без надлежащего
средоточия.
Поэтому мы должны пытаться определить вопрос точнее. Таким
образом мы придадим разговору устойчивое направление и он
выйдет на некоторый путь. Я говорю: некоторый путь. Тем самым мы
признаем, что этот путь, безусловно, не является единственным.
Должно даже остаться открытым, поистине ли тот путь, который я хотел
бы указать в дальнейшем, позволяет нам поставить вопрос и получить
ответ.
Но если мы допустим, что могли бы найти путь более точного
определения вопроса, то немедленно возникает серьезное возражение
против самой темы нашей беседы. Спрашивая: «Что это такое —
философия?» — мы говорим о философии. Таким образом, мы явно
пребываем над философией, т. е. вовне. Однако цель нашего вопроса —
войти в философию, обосноваться в ней, вести себя в согласии с нею,
т. е. «философствовать». Ход нашей беседы поэтому не просто
должен иметь ясное направление, но это направление должно
одновременно гарантировать, что мы движемся внутри философии, а не вне
и не вокруг нее.
Наш разговор, следовательно, должен идти по такому пути и в
таком направлении, чтобы то, о чем говорит философия, относилось к
нам самим, задевало нас, причем именно в нашей сути.
Но не станет ли тогда философия делом склонностей, эмоций и
чувств?
«И с прекрасными чувствами люди создают плохую литературу».
(«C'est avec les beaux sentiments que Ton fait la mauvaise littérature»)1.
Эти слова Андре Жида распространяются не только на литературу,
145
Сама себе интеллектуальный закон
но еще более на философию. Чувства принято считать чем-то
иррациональным. Философия же, напротив, не только представляет
собой нечто рациональное — она является подлинной держатель-
ницей разума. Однако, утверждая это, мы неожиданно для себя
вынесли решение о том, что такое философия. Мы уже
предварили свой вопрос неким ответом. Всякий признает правильным
высказывание, что философия есть дело разума. Но, может быть, это
поспешный и необдуманный ответ на вопрос: «Что это такое —
философия?» Ведь мы можем сразу противопоставить этому ответу
новые вопросы. Что это такое — разум (die Ratio, die Vernunft)? Где
и кем было решено, что такое разум? Сам ли разум сделал себя
господином философии? Если да, то по какому праву? Если нет, то
откуда он получил свое назначение и свою роль? И если то, что
считается разумом, впервые утвердилось лишь благодаря
философии и в ходе ее истории, тогда нехорошо заранее выдавать
философию за дело разума. Однако как только мы подвергаем
сомнению характеристику философии как некоего рационального образа
действия, становится равным образом сомнительно и то,
принадлежит ли философия к области иррационального. Ибо тот, кто
хочет определить философию как иррациональное, берет в качестве
критерия разграничения рациональное, и сущность разума снова
считается чем-то само собой разумеющимся.
С другой стороны, когда мы указываем, что философия
способна касаться и задевать нас, людей, в самой нашей сути, эта
способность может не иметь никакого отношения к тому, что обычно
называют эмоциями и чувствами, — одним словом, иррациональным.
Из сказанного мы заключаем пока только одно: требуется
величайшая тщательность, когда мы отваживаемся начать разговор на
тему «Что это такое — философия?».
Прежде всего мы пытаемся вывести вопрос на четко
направленный путь, дабы не плутать в произвольных и случайных
представлениях о философии. Однако как нам найти тот надежный путь, на
котором мы определим свой вопрос?
Путь, на который я хотел бы теперь указать, лежит
непосредственно перед нами. И только из-за того, что он ближайший, мы
находим его с трудом. Но и найдя, движемся по нему все-таки
неуверенно. Мы спрашиваем: что это такое — философия? Слово
«философия» мы произносили уже достаточно часто. Однако если мы
больше не употребляем его как затертое наименование, если
вместо этого мы слышим слово «философия» из его истока, то оно
звучит так: φιλοσοφία. Слово «философия» говорит теперь по-гречески.
Греческое слово, именно как греческое, есть некий путь. Путь, с
одной стороны, лежит перед нами, поскольку наши предшественники
произносили это слово с давних пор. С другой же стороны, он ос-
146
M. Хайдеггер. Что это такое — философия?
тался за нами, поскольку это слово мы постоянно слышали и
произносили сами. Таким образом, греческое слово φιλοσοφία есть путь,
по которому мы идем. Однако мы знаем этот путь еще слишком
приблизительно, хотя располагаем множеством исторических
сведений о греческой философии и можем их расширить.
Слово φιλοσοφία говорит нам, что философия есть нечто такое,
что впервые определило существование греческого мира. И не
только — φιλοσοφία определяет также глубинную черту нашей
западноевропейской истории. Часто употребляемое выражение
«западноевропейская история» на самом деле есть тавтология. Почему?
Потому, что «философия» является греческой в своей сущности, —
«греческой» здесь означает: сама сущность философии коренится
в том, что она завладела сначала греческим миром, и только им,
чтобы развернуть себя в нем.
Однако исконно греческая сущность философии в
новоевропейскую эпоху своего господства стала направляться и
управляться христианскими представлениями. Господство этих
представлений устанавливается в Средние века. И все же нельзя сказать, что
тем самым философия стала христианской, т. е. делом веры в
Откровение и авторитет Церкви. Положение: философия по своей
сути является греческой, означает одно: Запад и Европа, и только
они, в глубинном ходе своей истории изначально «философичны».
Об этом свидетельствуют возникновение и господство наук. И
поскольку науки происходят из глубин западноевропейского — т. е.
философского — течения истории, постольку сегодня они в
состоянии наложить своеобразную печать на историю человечества по
всей земле.
Задумаемся на мгновение, что это значит, когда некую эпоху в
истории человечества характеризуют как «атомный век». Атомную
энергию, открытую и освобожденную науками, представляют той
силой, которая должна определить ход истории. Наук никогда не было
бы, если бы им не предшествовала, не опережала их философия. Но
философия есть ή φιλοσοφία. Это греческое слово вплетает наш
разговор в историческую традицию. Эта традиция остается
единственной в своем роде, и определена она однозначно. Названная
греческим именем φιλοσοφία и называющая нам это историческое слово
φιλοσοφία, традиция открывает для нас направление пути, на котором
мы спрашиваем: что это такое философия? Традиция, предание не
предает нас власти прошлого и безвозвратно ушедшего. Передавать,
délivrer —значит высвобождать, а именно в свободу разговора с
минувшим. Имя «философия», если мы правильно слышим его и
обдумываем услышанное, зовет нас в историю греческого происхождения
философии. Слово φιλοσοφία как бы стоит на свидетельстве о
рождении нашей собственной истории, можно даже сказать, на свидетель-
147
Сама себе интеллектуальный закон
стве о рождении современной эпохи мировой истории, которая
называется атомным веком. Поэтому вопрос: «Что это такое
философия?» мы можем задавать, только если вступаем в разговор с
мышлением греческого мира.
Однако греческое происхождение имеет не только то, что стоит под
вопросом — философия, но также и тот способ, каким мы спрашиваем;
тот способ, каким мы спрашиваем еще и сегодня, является греческим.
Мы спрашиваем: что есть это..? По-гречески это звучит так: τί
4'στιν. Но вопрос «Что есть нечто?» остается все-таки многозначным.
Мы можем спросить: что это там вдали? И получим ответ: дерево.
Ответ заключается в том, что некой вещи, точно нами не
распознанной, мы даем имя.
И все же можно спросить далее: что есть то, что мы называем
деревом? С помощью поставленного сейчас вопроса мы уже
приближаемся к греческому τί έσπν. Это та форма вопрошания, которую
развили Сократ, Платон и Аристотель. Они спрашивают, например: что
такое прекрасное? что такое познание? природа? движение?
Теперь, однако, мы должны заметить, что в перечисленных
вопросах не только отыскивается более точное определение природы,
движения, прекрасного, но и дается некоторое истолкование того, что значит
«что», в каком смысле следует понимать τί. Подразумеваемое под «что»,
quid est, το quid называют quidditas, «чтойность». Между тем quidditas в
разные эпохи философии определяется по-разному. Так, например,
философия Платона является своеобразной интерпретацией значения
τί — как îSéa. То, что, спрашивая о τί, о quid, мы имеем в виду «идею»,
отнюдь не самоочевидно. Аристотель предлагает иное толкование τί,
нежели Платон. Другое истолкование τί дает Кант, по-своему толкует
его Гегель. Следуя путеводной нити τί, quid, «что», мы всякий раз
должны давать новое определение «что». Спрашивая о философии — «что
это?», мы всегда задаем изначально греческий вопрос.
Заметим, что и тема нашего вопроса — «философия», и тот способ,
каким мы спрашиваем — «что это...?», — греческого происхождения.
Мы сами имеем греческие корни, даже если не упоминаем слово
«философия». Нас возвращает к себе этот исток, он требует нас для себя,
как только мы не просто старательно произносим слова «что это
такое — философия?», а задумываемся над их смыслом. [Вопрос «что
есть философия?» не из тех, что направляют некоторого рода познание
на самое себя (философия философии). Этот вопрос не является
также вопросом истории, интересующейся, как началось и развивалось
то, что называют «философией». Это исторический вопрос, т. е.
вопросы судьбы. И еще: он не «некий», а собственно исторический вопрос
нашего западноевропейского существования.]
Когда мы вникаем в полный и изначальный смысл вопроса «что
это такое — философия?», наше вопрошание, через свой истори-
148
M. Хайдеггер. Что это такое —■ философия?
ческий исток, обретает направление исторического будущего. Мы
нашли путь. Сам вопрос и есть путь. Он ведет из греческого мира
к нам, если не далее, через нас. Мы идем — если твердо держимся
вопроса — по четко направленному пути. Однако у нас еше нет
гарантии, что мы в состоянии сразу правильно следовать ему. Мы
даже не можем определить, в каком месте пути мы стоим сегодня.
Вопрос о том, что есть нечто, обыкновенно характеризуют как
вопрос о сущности. Он пробуждается, когда то, о сущности чего
спрашивается, затемнилось и запуталось и одновременно с этим
отношение человека к спрашиваемому стало нетвердым, когда оно
поколеблено, даже подорвано.
Наш вопрос касается сущности философии. Если он возникает
из некоторой потребности и не должен остаться лишь мнимым
вопросом, заданным для поддержания разговора, то под вопросом
должна оказаться философия в качестве философии. Так ли это? А если
да, то почему философия стала для нас таковой? Очевидно, однако,
что мы можем указать на это, только если уже прозрели в
философию. Необходимо, чтобы мы заранее прозрели в то, что это такое —
философия. Так что нас странным образом гонят по кругу. Похоже,
сама философия является этим кругом. Если мы и не можем
немедленно вырваться из круга, нам все же дано увидеть его. Куда должен
быть обращен наш взгляд? Греческое слово φιλοσοφία указывает
направление.
Здесь необходимо сделать одно принципиальное замечание.
Когда, будь это теперь или позднее, мы слушаем греческую речь, мы
попадаем в особую область. Для нашего сознания медленно и неясно
вырисовывается, что греческий язык есть не просто язык, подобно
известным нам европейским языкам. Греческий язык, и только он
один, есть λόγος. Мы должны будем в нашей беседе обсудить это
более обстоятельно. Для начала же достаточно указать, что в греческом
языке высказываемое некоторым замечательным образом
одновременно есть то, что оно называет. Когда мы слышим греческое слово
по-гречески, мы следуем его Acy^iv, непосредственно им
излагаемому. То, что оно излагает, лежит перед нами. Благодаря по-гречески
услышанному слову мы находимся непосредственно подле самой
предлежащей нам вещи, а не подле одного лишь значения слова.
Греческое слово φιλοσοφία восходит к слову φιλόσοφος. Это последнее
изначально является именем прилагательным, как φιλάργυρος —
сребролюбивый и φιλότιμος — честолюбивый. Слово φιλόσοφος, вероятно, было
пущено в ход Гераклитом. Это означает, что для Гераклита еще не
существовало φιλοσοφία. Άνήρ φιλόσοφος не есть «философский» человек.
Греческое прилагательное φιλόσοφος означает нечто совершенно иное,
нежели прилагательное философский, philosophique. Άνήρ φιλόσοφος
есть тот, ος φιλ€ϊ то σοφόν, кто любит σοφόν; φιλέϊν, любить, означает
149
Сама себе интеллектуальный закон
здесь, в гераклитовском смысле, όμολογεϊν, говорить так, как говорит
Λόγος, т. е. соответствовать Λόγος. Это соответствование созвучно
σοφόν. Созвучие есть αρμονία. То, что одна сущность взаимообразно
связывает себя с другой, что обе они изначально прилаживаются одна
к другой, ибо находятся в распоряжении друг у друга, — эта αρμονία
есть отличие φιλαν, любви в понимании Гераклита.
Λνηρ φιλόσοφος любит σοφόν. Что данное слово говорило
Гераклиту, передать трудно. Но мы можем прояснить это, следуя
собственному гераклитовскому толкованию. Итак, то σοφόν говорит вот что: ιΈν
Πάντα, «одно (есть») все». «Все» подразумевает здесь: Πάντα та οντά,
целое, все сущее. Έν, одно, означает единое, единственное, все
объединяющее. Ведь все сущее в Бытии едино. Σοφόν говорит: все сущее
есть в Бытии. Говоря более строго — Бытие есть сущее. При этом
«есть» является переходным глаголом и означает «собранное». Бытие
собирает сущее как сущее. Бытие есть собирание — Λόγος.
Все сущее есть в Бытии. Для нашего слуха это звучит
тривиально, если даже не обидно. Ведь о том, что сущее принадлежит
Бытию, никому не надо заботиться. Весь мир знает: сущее таково, что
оно есть. Что еще остается сущему, как не быть? И все же именно
то, что сущее пребывает собранным в Бытии, что сущее появляется
в свете Бытия, изумило греков, прежде всего их, и только их. Сущее
в Бытии — это стало для греков самым удивительным.
Между тем даже грекам пришлось спасать удивительность этого
удивительнейшего и защищать его от хваткого софистического разума,
который для всего имел наготове одно доходчивое объяснение и
поставлял его на рынок. Спасти удивительнейшее — сущее в Бытии —
удалось благодаря тому, что некоторые люди отправились в путь по
направлению к этому удивительнейшему, т. е. σοφόν. Они стали теми,
кто стремился к σοφόν и своим собственным стремлением пробуждал
и поддерживал жажду σοφόν в других людях. Φιλαν το σοφόν, то уже
упомянутое созвучие с σοφόν αρμονία, стали ορεξις, неким
стремлением к σοφόν. Σοφόν — сущее в Бытии — становится теперь собственно
искомым. Поскольку φιλζΐν более не есть изначальное созвучие с
σοφόν, а является характерным стремлением к σοφόν, то φιλαν то σοφόν
становится «φιλοσοφία». Это стремление определяется Эросом.
Настойчивый поиск σοφόν, *Έν Πάντα, сущего в Бытии,
оказывается теперь вопросом: что есть сущее, коль скоро оно есть? Теперь
мышление впервые становится «философией». Гераклит и Парменид
еще не были философами. Почему? Потому, что они были более
великими мыслителями. «Более великими» не подразумевает отчета о
проделанной работе, но указывает на иное измерение мышления.
Гераклит и Парменид были «более великими» в том смысле, что они
еще пребывали в согласии с Λόγος, т.е. с 'Έν Πάντα. Шаг к
«философии», подготовленный софистикой, впервые сделали Сократ и
150
M. Хайдеггер, Что это такое — философия?
Платон. Потом, двумя веками позднее Гераклита, Аристотель
охарактеризовал ЭТОТ шаг В следующих СЛОВах: και δη και то πάλαι те
και νυν και άεί ζητούμ^νον και aei άπορου μ^νον, τί το ον (Met. ZI,
1028 b 2 2 sqq). В переводе читаем: «И так некогда уже было, и есть
теперь, и будет впредь — то, куда (философия) держит путь и к чему
она вновь и вновь не находит доступа, — (что подразумевается в
вопросе) что есть сущее? (τί то ον)».
Философия ищет, что есть сущее, поскольку оно есть.
Философия находится на пути к Бытию сущего, т. е. к сущему в его
отношении к Бытию. Аристотель поясняет это, добавляя к имеющемуся
в приведенном положении вопросу о τί тб ον (что есть сущее?)»,
следующее: τοΰτό ίστι τις ή ουσία, или в переводе: «Это (именно τί
то ον) означает: что есть сущность сущего?» Бытие сущего
заключается в сущности. Последнюю же, ουσία, Платон определил как iSéa,
а Аристотель — как evepyeia.
Пока что нет необходимости подробно разбирать, что
Аристотель подразумевает под evépyeia и в какой мере ουσία можно
определить посредством èvépyeia. Для нас важно сейчас лишь обратить
внимание на то, как Аристотель определяет границы философии в ее
сущности. В первой книге «Метафизики» (Met. А2, 982 b 9 sq) он
говорит следующее: философия есть επιστήμη των πρώτων άρχων και
αίτιων θ€ωρητική. Επιστήμη любят переводить как «наука». Это
сбивает с толку, поскольку мы слишком легко поддаемся влиянию
сложившегося в Новое время представления о «науке». Переводить
επιστήμη как «наука» ошибочно и тогда, когда мы понимаем науку
в философском смысле, как Фихте, Шеллинг и Гегель. Слово
επιστήμη происходит от причастия επισταμένος . Так называют
человека, который состоятелен, искусен (состоятельность в смысле
appartenance)3. Философия есть ίπιστήμη τις, некоторого рода
состоятельность. θ€ωρητική, которая делает возможным θζωραν, т.е.
усмотреть нечто и усмотренное таким образом охватить и
удерживать ВО ВЗОре. ПОЭТОМУ философия еСТЬ επιστήμη θζυ)ρητική. Что же,
однако, философия охватывает взором?
Аристотель называет это πρωται άρχαι καί αίτίαι, в переводе —
«первые основания и причины», а именно — сущего. Первые
основания и причины составляют Бытие сущего. Спустя два с половиной
тысячелетия самое время задуматься над тем, что же общего у Бытия
сущего с этими «основанием» и «причиной».
В каком смысле понимается Бытие, если «основание» и «причина»
оказываются способы наложить печать и завладеть сущим-Бытием сущего?
Однако сейчас мы обратим внимание на другое. Упомянутое выше
положение Аристотеля говорит нам, куда держит путь то, что со
времен Платона называют «философией». Это положение сообщает нам,
что такое философия. Философия есть некая состоятельность, позво-
151
Сама себе интеллектуальный закон
ляющая охватить сущее взором, причем усмотреть, что оно есть,
поскольку оно есть сущее.
На вопрос, который должен придать нашему разговору
плодотворное беспокойство и живость и указать ему направление пути, на
вопрос «что есть философия» Аристотель уже ответил. Стало быть, наше
обсуждение ни к чему. Оно подошло к концу, еще не начавшись.
Нам, конечно, немедленно возразят, что высказывание Аристотеля о
философии никак не может быть единственным ответом на наш
вопрос. В лучшем случае это один ответ из множества других. С помощью
аристотелевской характеристики философии можно, правда,
представить и истолковать и мышление до Аристотеля и Платона, и
философию послеаристотелевского времени. Однако нам с легкостью укажут
на то, что сама философия и тот способ, каким она представляет
собственную сущность, в последующие два тысячелетия многообразно
изменялись. Кто станет это отрицать? Но мы не можем не упомянуть
также, что философия от Аристотеля до Ницше именно на основании
этих изменений и в них остается тою же. Ибо превращения служат
залогом родства.
Этим мы вовсе не утверждаем, что аристотелевское определение
философии имеет абсолютную значимость. Уже в ходе истории
греческого мышления оно являет собою лишь одно определенное
истолкование греческого мышления и того, что ему задано.
Аристотелевская характеристика философии ни в коем случае не может быть
обращена назад, на мышление Гераклита и Парменида; напротив,
аристотелевское определение философии есть вольное следствие и
завершение раннего мышления. Я говорю «вольное следствие»,
поскольку нельзя думать, будто отдельные философии и эпохи
философии происходят друг из друга в смысле неизбежности некоего
диалектического процесса.
Что следует из всего сказанного для нашей попытки обсудить
вопрос «Что это такое — философия?» Прежде всего одно: мы не
должны придерживаться единственно лишь определения
Аристотеля. Из этого заключаем другое: надо иметь представление и о более
ранних и о позднейших определениях философии. А затем? Затем,
с помощью сравнительной абстракции, мы выявим общее во всех
определениях. А затем? Затем окажемся предельно далеки от
ответа на наш вопрос. Почему все пришло к этому? Потому что, следуя
только что упомянутому методу, мы чисто исторически собираем
имеющиеся определения и растворяем их в некоей общей формуле.
Все это, при наличии большой эрудиции и правильных установок,
действительно можно выполнить. При этом нам совсем не надо
входить в философию, раз-мышлять о ее сущности. Мы приобретаем
таким образом разносторонние, основательные и даже полезные
познания о том, какие представления складывались о философии в
152
M, Хайдеггер. Что это такое — философия?
ходе ее истории. Но по этому пути мы никогда не дойдем до
подлинного, т.е. достоверного ответа на вопрос «Что это такое —
философия?». Ответ может быть только философствующим ответом,
ответом, который как от-зыв, как ответное слово философствует в
себе. Как же мы должны понимать это положение? Каким образом
ответ, и именно как от-вет, как от-клик, может философствовать? Я
попытаюсь сейчас предварительно прояснить это с помощью
нескольких замечаний. То, что я имею в виду, будет в нашем разговоре
постоянным очагом беспокойства. И даже пробным камнем,
позволяющим судить, может ли наш разговор стать истинно
философским. Последнее же — никак не в нашей власти.
Когда ответ на вопрос «Что это такое — философия?» является
философствующим? Когда мы философствуем? Лишь тогда,
очевидно, когда вступаем в разговор с философами. Это предполагает, что
мы говорим с ними о том, что они обсуждают. Это проговаривание
друг с другом того, к чему, собственно, все снова и снова как к
одному и тому же обращаются философы, есть речь, λέγζιν в смысле
SiaÀeyeaflai, речь как диалог. Обязательно ли диалог является некоей
диалектикой и когда он является ею — это мы оставляем открытым.
Одно дело — констатировать и описывать мнения философов, и
совсем другое — говорить с ними о том, что они традиционно
обсуждают, о чем они повествуют.
Положим, к философам обращается Бытие сущего, чтобы они
рассказали, что такое сущее как сущее; тогда и к нашему разговору с
философами тоже должно обращаться Бытие сущего. Мы сами, с
помощью своего мышления, должны пойти навстречу тому, на пути к
чему находится философия. Наша речь должна со-ответствовать
тому, что взывает к философам. Когда это со-ответствование
удается нам, тогда мы в подлинном смысле отвечаем на вопрос: «Что это
такое — философия?» Немецкое слово «antworten» («отвечать на»)
означает собственно то же, что «ent-sprechen» («со-ответствовать»).
Ответ на наш вопрос не исчерпывается высказыванием,
устанавливающим, что следует понимать под «философией». Ответ есть не
ответное высказывание (n'est pas une réponse), a скорее, со-ответствие (la
correspondance), которое со-ответствует Бытию сущего. Возможно,
нам сразу захочется знать, что характеризует ответ в смысле
соответствия. Однако в том-то и дело, что мы попадаем в соответствие
прежде, чем выстраиваем соответствующую теорию.
Ответ на вопрос «Что это такое — философия?» состоит в нашем
соответствии тому, к чему философия держит путь. А это есть Бытие
сущего. В таком со-ответствии мы с самого начала вслушиваемся в то, что
уже передала нам философия, понятая по-гречески, т.е. φιλοσοφία.
Поэтому мы попадаем в соответствие, т.е. отвечаем на наш вопрос,
только если продолжаем разговор с тем, во что нас предает, т.е. высвобож-
153
Сама себе интеллектуальный закон
дает, философская традиция. Мы находим ответ на наш вопрос о
философии не в почерпнутых из истории определениях философии, а в
разговоре с тем, что было передано нам традицией как Бытие сушего.
Путь к ответу на наш вопрос является не разрывом с историей, не
отрицанием истории, но— усвоением и преобразованием того, что
передает традиция. Такое отношение к истории имеется в виду под
«деструкцией». Смысл этого слова ясно изложен в «Бытии и
времени» (§ 6). Деструкция означает не разрушение, а упразднение, разбор,
от-странение накопившихся в истории высказываний об истории
философии. Деструкция означает: раскрыть свои уши, освободить слух
для того, что говорит нам в традиции как Бытие сущего. Внимая
этому зову, мы попадаем в соответствие.
Однако, уже когда мы говорим это, появляется сомнение. Оно
состоит в следующем: разве мы должны стараться достичь соответствия
с Бытием сущего? Разве мы, люди, не находимся уже в таком
соответствии, и не только de facto, а по своей сути? Не является ли это
соответствие основной чертой нашего существа?
Это поистине так. А если так, то мы не можем более говорить,
что должны сначала попасть в соответствие. И все-таки говорим
мы это по праву. Ибо, хотя мы всегда и всюду пребываем в
соответствии с Бытием сущего, зову Бытия мы внимаем редко.
Соответствие с Бытием сущего остается нашим постоянным
местопребыванием. Однако специальной и проводимой нами установкой
поведения оно становится лишь изредка. Только когда это
происходит, мы впервые, собственно, соответствуем тому, с чем имеет
дело философия, держащая путь к Бытию сущего. Соответствие
Бытию сущего и есть философия, однако же тогда и только тогда,
когда это соответствие осуществляется, а тем самым раскрывается
и расширяет свое раскрытие. Это соответствие осуществляется по-
разному: в зависимости от того, как говорит зов Бытия, услышан
он или нет, высказывается услышанное или замалчивается. Наш
разговор может дать повод подумать об этом.
То, что я пытаюсь сейчас сказать, есть лишь предисловие к
разговору. Все изложенное я хотел бы вернуть к тому, что было
затронуто нами в связи со словами Андре Жида о «прекрасных чувствах».
Φιλοδοφια есть самостоятельно осуществляемое соответствие, которое
говорит, поскольку внимает зову Бытия сущего. Это со-ответствие
прислушивается к голосу Бытия. То, что взывает к нам как голос
Бытия, рас-полагает наше соответствие. «Соответствие» означает,
следовательно: быть рас-положенным, être disposé, и именно Бытием
сущего. Dis-posé означает здесь буквально следующее: расположенное
порознь, проясненное и тем самым поставленное в отношение к
тому, что есть. Сущее, как таковое, располагает речь таким образом,
что она настраивается (accorder) на Бытие сущего. Соответствие яв-
154
M. Хайдеггер. Что это такое — философия?
ляется настроенным обязательно и всегда, а не лишь иногда и
случайно. Оно есть некая настроенность. И только на основе
настроенности (disposition) повествование соответствия получает свою
точность, свою стройность.
В качестве на-строенного и рас-положенного (als ge-stimmtes
und be-stimmtes) соответствие действительно существует в
некотором настроении. Тем самым наше поведение так или иначе
организуется. Понимаемое таким образом настроение не является
музыкой случайно всплывших чувств, которые лишь сопровождают
соответствие. Когда мы характеризуем философию как
настроенное соответствие, мы ни в коей мере не хотим вручить мышление
случайным переменам и колебаниям чувств. Речь идет
единственно о том, чтобы указать, что всякая точность повествования
укоренена в расположении соответствия, correspondance, как я
говорю — во внимании зову.
Но указание на сущностную настроенность соответствия не
является неким современным изобретением. Уже греческие мыслители,
Платон и Аристотель, заметили, что философия и философствование
принадлежат тому измерению человека, которое мы называем
настроением (в смысле настроенности и рас-положенности).
Платон говорит (Теэтет 155d): μάλα γαρ φιλοσόφον τοϋτο το πάθος,
то θαυμάζειν ου γαρ άλλη αρχή φιλοσοφίας ή αυτή. «Для философа
чрезвычайно характерно именно удивление, πάθος; и другого
господствующего «откуда» философии, кроме этого, не существует».
Удивление как πάθος есть αρχή философии. Греческое слово αρχή
мы должны понять в его полном смысле. Оно называет то, откуда
нечто исходит. Но это «откуда», исток, не остается позади, αρχή
становится, скорее, тем, что выражает глагол αρχειν, что
господствует. Πάθος удивления, таким образом, не просто стоит у начала
философии, подобно тому как, например, мытье рук хирурга
предшествует операции. Удивление ведет философию и повсеместно
господствует в ней.
То же самое говорит Аристотель (Met. А2, 982 d 12 sq): δια γαρ τό
θαυμάζειν ol άνθρωποι καΐ τό πρώτον ήρξαντο φιλοσοφείν. «Именно
благодаря удивлению люди достигают теперь, как и впервые,
господствующего истока философствования» (того, откуда исходит
философствование и что определяет весь ход философствования).
Было бы слишком поверхностно, преждевременно и не
по-гречески думать, будто Платон и Аристотель утверждают здесь лишь то,
что удивление есть причина философствования. Если бы они
придерживались такого мнения, это означало бы следующее: некогда
люди удивились именно сущему, тому, что оно есть и что оно есть.
Под влиянием удивления начали они философствовать. Едва лишь
философия пришла в движение, удивление, как импульс, стало из-
155
Сама себе интеллектуальный закон
лишним и поэтому исчезло. — Оно могло бы исчезнуть, будь оно
лишь толчком. Но — удивление есть αρχή, оно присутствует и
правит в каждом шаге философии. Удивление есть πάθος. Обычно мы
переводим πάθος как passion, страсть, волнение чувств. Но πάθος
связан с Πάσχον — страдать, переносить, терпеть, выносить, позволять
себя вести, позволять располагать собою. Как и всегда в таких
случаях, рискованно переводить πάθος словом «настрой», имея в виду
настроенность и расположенность. И все же мы должны
отважиться на такой перевод, поскольку он один убережет нас от того, чтобы
представлять πάθος психологически, в духе Нового времени и
современности. Лишь понимая πάθος как настрой (dis-position), мы можем
точнее охарактеризовать θαυμάζβιν, удивление. В удивлении мы
удерживаем себя (être en arrêt). Мы словно отступаем перед сущим —
перед тем, что оно существует, и существует так, а не иначе. И
удивление не исчерпывает себя в этом отступлении перед Бытием сущего —
как отступление и самообладание, оно в то же время пленено и
словно сковано тем, перед чем отступает. Таким образом, удивление есть
dis-position (рас-положенность), в которой и для которой
раскрывает себя Бытие сущего. Удивление является тем настроем, в каком
греческим философам было дано соответствие Бытию сущего.
Совершенно иного рода тот настрой, который побудил
мышление по-новому поставить традиционный вопрос о сущем как сущем
и тем самым начать новую эпоху философии. Декарт в
«Размышлениях» спрашивал не только и не столько τί то 6ν — что есть сущее,
поскольку оно есть. Декарт спрашивал: каково то сущее, которое
есть истинно сущее в смысле ens certum. Между тем для Декарта
сущность certitudo изменилась. Ведь в Средние века certitudo
означало не достоверность, а жесткую ограниченность сущего тем, что
оно есть. Certitudo здесь еще равнозначно essentia. Для Декарта же
то, что действительно есть, измеряется иначе. Сомнение
становится для него тем настроем, в котором вибрирует настроенность на ens
certum, на достоверно сущее. Certitudo оказывается той фиксацией
ens qua ens, которая следует из несомненности cogito (ergo) sum для
человеческого Ego. Благодаря этому выделяется sub-jectum как Ego
и человеческая сущность впервые вступает в область
субъективности в смысле Ego. Из настроенности на это Certitudo речь Декарта
получает определенность некоторого clare et distincte percipere4.
Настрой сомнения является для него утверждением достоверности.
Отныне достоверность становится мерозадающей формой истины.
Настрой уверенности в достижимой во всякое время достоверности
познания остается πάθος и вместе с тем αρχή философии Нового
времени.
В чем же заключается τέλος, завершение философии Нового
времени, если вообще можно говорить об этом? Не определен ли этот
156
M. Хайдеггер. Что это такое — философия?
конец через некоторый другой настрой? Где должны мы искать
завершение философии Нового времени? Уже в философии Гегеля
или же в философии позднего Шеллинга? И как быть с Марксом и
Ницше? Выходят ли они из колеи философии Нового времени?
Если нет, то как можно определить их местоположение?
Казалось бы, мы ставим лишь исторические вопросы. На самом
же деле мы размышляем о будущей сущности философии. Мы
пытаемся вслушиваться в голос Бытия. В какой настрой приводит он
сегодняшнее мышление? На этот вопрос едва ли можно ответить
однозначно. Вероятно, какой-то основной настрой сегодня
господствует. Однако пока он остается для нас сокрытым. Это следует
считать признаком того, что сегодняшнее мышление еще не нашло
своего единственного пути. Мы наблюдаем лишь разного рода
настрои мышления. Сомнение и отчаяние, с одной стороны, и слепая
одержимость непроверенными принципами — с другой,
противостоят друг другу. Опасение и страх перемешаны с надеждой и
уверенностью. Зачастую мы думаем, что мышление, имеющее
характер рассуждающего представления и исчисления, совершенно
свободно от всякого настроя. Но и холодность расчета, и
прозаическая трезвость плана суть приметы некоей настроенности. И не
только; даже разум, стремящийся быть свободным от всякого
влияния страстей, будучи разумом, настроен на уверенность в логико-
математической постижимости своих принципов и правил.
Именно принятое на себя и проводимое нами соответствие,
которое отвечает на зов Бытия сущего, и есть философия. Мы узнаем
и знаем, что такое философия, лишь когда испытываем, как, каким
образом (aufweiche Weise) философия существует. Она существует
в мелодии (in der Weise) соответствия, настраивающегося на голос
Бытия сущего.
Это со-ответствие есть некая речь. Она состоит на службе у
языка. Что это означает, сегодня понять трудно, ибо наше привычное
представление о языке претерпело странное превращение. В
результате язык стал инструментом выражения. Вследствие этого
считается более правильным говорить: язык состоит на службе у мышления
вместо: мышление, как со-ответствие, состоит на службе у языка.
Однако сегодняшнее представление о языке настолько удалено от
греческого опыта языка, насколько это возможно. Грекам сущность
языка открывается как λόγος. Но что означает λόγος и λέγζινΊ
Только теперь мы постепенно начинаем сквозь различные истолкования
прозревать первоначальную греческую суть. Однако мы не можем
ни вернуться к этой сути языка, ни просто перенять ее. Напротив,
мы должны, вероятно, вступить в диалог с греческим опытом
языка как λόγος. Почему? Потому, что без достаточного осмысления
языка мы никогда по-настоящему не узнаем, что такое философия
157
Сама себе интеллектуальный закон
в качестве указанного со-ответствия, что такое философия как
особая манера повествования.
И поскольку поэзия, если сравнить ее с мышлением, находится на
службе у языка совершенно иным и особым образом, наше
размышление о философии с необходимостью приводит к обсуждению
соотношения мышления и поэзии. Между мышлением и поэзией царит
сокровенное родство, ибо они, будучи на службе у языка, ходатайствуют
за него и бескорыстно расходуют себя. В то же время, однако, между
ними зияет бездна, ибо они «обитают на отдаленнейших вершинах».
Теперь с полным правом можно было бы требовать, чтобы наш
разговор ограничился вопросом о философии. Но это ограничение
было бы возможным и даже необходимым лишь в том случае, если бы
в ходе разговора оказалось, что философия не является тем, в
качестве чего она была сейчас истолкована, — соответствием, которое
приводит зов Бытия к речи.
Другими словами, наш разговор не ставит своей целью развернуть
жестко заданную программу. Однако мне хотелось бы привести
присутствующих к собранности, в которой к нам обращается то, что мы
называем Бытием сущего. Называя это, мы думаем о том, что сказал
уже Аристотель: «Сущее-Бытие выходит к свету многими путями».
То ov Хеуетси πολλαχως.
158
Е.В. Ознобкина
Путь в философию - по Хайдеггеру
Опыт вхождения в философствование всегда самостоятелен и
индивидуален. Как и опыт чтения философского текста. Боюсь, что
предисловия не гарантируют того, что понимание состоится.
Условием «понимающего» чтения текстов Мартина Хайдеггера
является, как будут утверждать некоторые специалисты, чтение их на
языке оригинала. Ценность перевода в случае с Хайдеггером им
представляется тем более сомнительной, что работа с возможностями
немецкого языка не являлась для Хайдеггера внешней по отношению к
самой акции мысли. И действительно, в докладе «Что это такое —
философия?» вы встретите размышления о греческом языке, греческой
речи: «Греческий язык, и только он один, есть λόγος ...в греческом
языке некоторым замечательным образом сказанное одновременно
есть то, чему сказанное дает имя... мы находимся непосредственно
подле самой... вещи...» Хайдеггер был уверен, что именно
немецкому языку, подобно языку греческому, дано высказать суть вещей, суть
дела, именно эти языки даруют возможность войти в слово-событие.
Перед читателем — текст доклада, прочитанного Мартином
Хайдеггером в Ceresy-la-Salle (Нормандия) в августе 1955 г. Уже прошло
десять очень сложных для Хайдеггера послевоенных лет. Он,
признанный мыслитель, блестящий университетский лектор, отстранен
от преподавания. Комиссия по проверке лояльности к нацистскому
режиму, действовавшая в послевоенной Германии, вынесла слишком
суровый и несправедливый, как полагает Хайдеггер, приговор: он
лишен своей привычной, внимающей его словам аудитории, не имеет
возможностей печататься. Вопрос о его отношении к нацизму
всплывает постоянно. И всякий раз находятся судьи. Но есть у Хайдеггера
и защитники, полагающие, что Хайдеггер-мыслитель искупает
возможную вину Хайдеггера-политика. В защиту Хайдеггера выступают
его бывший коллега и друг Карл Ясперс, его ученик Ганс-Георг Га-
дамер. Неожиданно для себя поддержку в эти годы Хайдеггер
получил из Франции — в его защиту выступили французские
интеллектуалы, и прежде всего Сартр. Хайдеггеру предлагают выступать и
печататься...
Не с этой ли ситуацией связано обращение Хайдеггера к азам, к
разъяснению некоторых оснований практикуемого им типа
философствования. «Сложный» и «темный» Хайдеггер пытается предстать
более академичным и ясным.
«Was ist das — die Philosophie?» — текст непривычно торопливый.
Беседа, которую ведет Хайдеггер, движется какими-то рывками,
оставляя довольно значительные зазоры рассуждения; многое им пред-
159
Сама себе интеллектуальный закон
полагается, но не оговаривается. Это очевидно для того, кто
знакомился с хайдеггеровскими фундаментальными курсами лекций 30-х
годов. Однако и просто внимательный читатель отметит «скачки» в
изложении темы, неполноту представляемых в докладе объяснений.
«За кадром» остаются его скрупулезнейшие исследования в области
греческой философии — изложены лишь некоторые выводы. Может
быть, поэтому при чтении этого текста Хайдеггера трудно бывает
выполнить его требование следования пути — путь здесь пунктирен.
Was ist das — die Philosophie? Qu'est-ce que c'est la philosophie? Что
это такое — философия? Заголовок более чем обычен. Хайдеггеров-
ская же примета в нем пока только одна: это тире. Тире, которым
устанавливается пауза — вводится пространство размышления.
Хайдеггеровское философствование выстроено на некотором пер-
воусловии. Первоусловие требует «всегда уже» быть имманентным
ходу развертывания мысли. Мысль, в хайдеггеровском типе
философствования, — событие онтологическое, она «случается» и не требует
для себя «помощи» в виде какой бы то ни было
объяснительно-оправдательной аргументации. Имманентность, или, в хайдеггеровском
языке, «понимание», обеспечивает и суггестия хайдеггеровского
слова. Философ вербует не просто «читателя» — он ждет «внимающего
соучастника».
Имманентность чтения обеспечена уже тогда, когда незаметно
оказываешься растворенным в хайдеггеровском «мы». Ловушка
«мы»... Сначала нейтральное: «Этим вопросом мы касаемся...», «Мы
можем рассматривать тему...». Затем — интенсивнее: «Если мы
допускаем...», «Цель нашего вопроса — войти в философию, в ней
обосноваться, повести себя в согласии с нею, т. е. "философствовать"...».
Фигурой, организующей пространство хайдеггеровского
мыслительного движения, является вопрос. Как вопрос сформулировано и
заглавие доклада. Присутствие вопроса в тексте постоянно — оно или
выявляет себя, или подразумевается. Вопрос — это Forma, ζώος
хайдеггеровского дискурса. Слушатель и читатель — он же соучастник
мысли Хайдеггера — должен случиться в качестве вопрошающего. Он
должен быть вписан, слит с вопросительной структурой, которая
является, собственно, отличительной структурой Dasein.
Вопрос — это способ идти «вслед за»: «Die Frage nach...» Это сам
путь. Путь, ведущий не к философии, но направляющий нас уже
внутри нее. Причем поиском управляет само искомое. Задавая
вместе с Хайдеггером вопрос «Что это такое — философия?», мы
оказываемся в ситуации герменевтического круга. Мы обнаруживаем, что
сама возможность и форма вопрошания уже принадлежат
некоторому исторически выросшему пониманию Бытия.
Ситуация герменевтического круга разрешается в событии
вхождения в него. Хайдеггер апеллирует к нашему слуху, способности
160
Е.В. Ознобкина. Путь в философию — по Хайдеггеру
Звучанию СЛОВа «фиЛОСОфия». Φιλοσοφία — слово,
сказующее по-гречески, — уже есть некоторый путь: путь, на
котором мы уже находимся, настаивает Хайдеггер...
Следуя пути, которым повел нас Хайдеггер, мы пришли к
экзотическому для современного ума вопросу о звучании греческой речи...
Не стоит ли, однако, задаться вопросом о самой необходимости
следовать за псевдоэтимологическими ходами хайдеггеровской мысли? Не
попытаться ли ее «настичь» в другом месте и при других
обстоятельствах? Почему не попытаться преодолеть филологическую робость и
отважиться самостоятельно прочитать хайдеггеровский текст?
Прочитать, не растворяясь в движении текста, не следуя линиям его
суггестивного напряжения. Может быть, попытаться найти свою траекторию
движения, свой путь — расколдовывания хайдеггеровского текста?
Надежда на успех может поддержать себя предположением, что
мыслительное усилие Хайдеггера несводимо к усилию языковому, что акт
мысли не берет свое начало в пласте языка, не обязан языку своим
рождением и не поддерживается лишь энергией его движения.
Интереснее всего попытаться стать непослушным читателем Хайдеггера.
Примечания
Перевод с издания: Heidegger M. Was ist das — die Philosophie? Pfullingen, 1956.
1 GideA. Dostoewsky. Paris. 1923. P. 247.
2 Ср.: Vorträge und Aufsätze. 1954. S. 207-229.
3 Appartenance — принадлежность (франц.). — Прим. пер.
4 Ясного и отчетливого восприятия {лат.). — Прим. пер.
л л _ ълпа
161
Сама себе интеллектуальный закон
Жан-Поль Сартр
Бытие и Ничто
Заключение
I. Бытие в себе и бытие для себя: метафизические выводы
Теперь мы можем сделать выводы. Еще во Введении мы открыли
сознание как взывающее к бытию и показали, что cogito
непосредственно отсылает объект сознания к бытию-в-себе. Но после описания в-
себе и для-себя нам показалось затруднительным установить между
ними связь, и мы опасались впасть в непреодолимый дуализм. Этот
дуализм угрожал нам еще и иным образом: в самом деле, в той мере, в
какой о бытии для-себя можно было сказать, что оно есть, мы
оказывались перед лицом двух радикально различных способов бытия: бы-
тия-для-себя, которое должно быть тем, что оно есть, — т.е. которое
есть то, что оно не есть и не есть то, что оно есть, — и бытия-в-себе,
которое есть то, что оно есть. Тогда мы задались вопросом: не
приводит ли открытие этих двух типов бытия к пропасти, разделяющей
Бытие как всеобщую категорию, принадлежащую всему существующему,
на два независимых региона, в каждом из которых понятие Бытия
должно быть принято в особенном и своеобразном значении?
Наши исследования позволили нам ответить на первый из этих
вопросов: для-себя и в-себе соединены синтетической связью, которая
есть не что иное, как само для-себя. Для-себя, в действительности,
является лишь чистой неантизацией в-себе; оно вроде бытийной дыры в
недрах Бытия. Известно забавное предположение, с помощью
которого некоторые популяризаторы имеют обыкновение иллюстрировать
принцип сохранения энергии: если бы случилось так, говорят они, что
один-единственный из атомов, образующих Вселенную, был
уничтожен, то произошла бы катастрофа, которая охватила всю Вселенную,
и это было бы, в сущности, концом Земли и звездной системы.
Данный образ может пригодиться и нам. Для-себя появляется как
едва уловимая неантизация, которая возникает в недрах бытия, и
этой неантизации достаточно, чтобы с бытием-в-себе произошло
грандиозное потрясение. Это потрясение и есть мир. Бытию-для-себя
162
Ж.-П. Сартр. Бытие и Ничто
ничто другое не свойственно, как быть неантизацией бытия. Его
единственное определение проистекает из того, что оно есть неанти-
зация индивидуального и особенного бытия-в-себе, а не бытия
вообще. Бытие-для-себя — это не ничто вообще, но особая нехватка; она
образуется как нехватка именно этого бытия. У нас, стало быть, нет
оснований ставить вопрос о том, каким образом бытие-для-себя
может соединяться с бытием-в-себе, так как бытие-для-себя ни в коем
случае не является автономной субстанцией. В качестве неантизации,
как таковой, оно было осуществлено посредством бытия-в-себе1; в
качестве внутренней негации оно — посредством бытия-в-себе —
заявляет о себе как то, чем оно не является, и, следовательно, как то, чем оно
должно быть. Если cogito с неизбежностью ведет за свои пределы, если
сознание есть скользкий склон, на котором нельзя устоять, не
оказавшись тотчас же выброшенным вовне, в бытие-в-себе, то это потому,
что само по себе оно, как абсолютная субъективность, не обладает
никакой бытийной самодостаточностью, оно изначально отсылает к
вещи. Для сознания нет другого назначения помимо этой
неукоснительной обязанности быть интуицией относительно чего-либо.
Не значит ли это, что сознание есть платоновское Иное!
Известны прекрасные описания, которые Чужеземец в «Софисте» дает
этому иному: оно может быть постигнуто только «как бы во сне», его
бытие — это всегда инобытие, т.е. оно обладает только
заимствованным бытием и исчезает, когда его рассматривают само по себе, и
вновь обретает маргинальное существование, как только мы
фиксируем свой взгляд на бытии; оно исчерпывает себя тем, что оно есть
иное, нежели оно само, и иное, нежели бытие. По-видимому, Платон
понял динамический характер, присущий инаковости иного по
отношению к нему самому, так как в некоторых своих текстах он видит в
этом источник движения.
Но он мог пойти еще дальше и заметил бы тогда, что иное, или
относительное, не-бытие, может иметь видимость существования
только в качестве сознания. Быть иным, нежели бытие, — значит быть и
сознанием себя в единстве темпорализующих эк-стазов. И чем, в
самом деле, может быть инаковость, если не описанной нами внутри
бытия-для-себя игрой отражаемого и отражающего2, ибо
единственный способ, которым иное может существовать как иное, — это быть
сознанием того, что оно — иное. Инаковость в действительности есть
внутреннее ее отрицание, и только сознание может конституировать
себя как внутреннее ее отрицание. Всякая другая концепция
инаковости свелась бы к полаганию ее как бытия-в-себе, т. е. к установлению
между нею и бытием внешнего отношения, что потребовало бы
наличия свидетеля, чтобы констатировать, что иное отлично от бытия-в-
себе. С другой стороны, иное не могло бы быть иным, не происходи
оно из бытия; в этом оно сходно с бытием-в-себе, но оно не могло так-
163
Сама себе интеллектуальный закон
же быть иным, не делая себя иным. В противном случае его инаковость
стала бы данностью, следовательно, бытием, позволяющим считать
себя бытием-в-себе. В той мере, в какой оно сходно с бытием-в-себе,
ему вменена фактичность; поскольку оно само делает себя, оно есть
абсолют. Именно это мы подчеркивали, когда говорили, что бытие-
для-себя не есть основание своего бытия как ничто-бытия, но что оно
постоянно дает основание своему ничто-бытию.
Следовательно, бытие-для-себя есть «несамостоятельный»
(«unselbständig») абсолют, то, что мы назвали несубстанциальным абсолютом.
Его реальность является исключительно вопросительной. Если оно
может вопрошать, это означает, что оно само всегда стоит под вопросом', его
бытие никогда не дано, но всегда вопрошаемо, потому что оно всегда
отделено от самого себя посредством ничто инаковости; бытие-для-себя
всегда находится в подвешенном состоянии, потому что его бытие есть
отсрочка. Если бы бытие-для-себя могло когда-либо соединиться с
бытием, инаковость сразу бы исчезла, а с нею, возможно, и познание, мир.
Таким образом, онтологическая проблема познания разрешается
утверждением онтологического примата бытия-в-себе по отношению
к бытию-для-себя. Но отсюда тотчас же следует метафизический
вопрос. Возникновение бытия-для-себя на основе бытия-в-себе в
действительности никоим образом не сравнимо с диалектическим
генезисом платоновского Иного из бытия. В самом деле, бытие и Иное
для Платона суть роды. Мы же, напротив, видели, что бытие есть
индивидуальное приключение. Так же и появление бытия-для-себя есть
абсолютное событие, которое случается с бытием. Здесь, стало быть,
имеется основание для метафизической проблемы, которую можно
сформулировать следующим образом: почему для-себя возникает на
основе бытия? В действительности мы называем метафизическим
исследование индивидуальных процессов, которые порождают именно
этот мир как конкретную и своеобразную целостность. В этом
смысле метафизика относится к онтологии так же, как история — к
социологии. Мы видели, что абсурдным было бы спрашивать себя,
почему бытие является иным, что этот вопрос мог бы иметь смысл только
в рамках бытия-для-себя и что он предполагает даже онтологический
приоритет ничто перед бытием, тогда как мы показали примат бытия
над ничто; его можно ставить лишь вследствие смешения с внешне
аналогичным ему и, однако же, совершенно другим вопросом:
почему имеется бытие? Но теперь мы знаем, что нужно тщательно
различать эти два вопроса. Первый лишен смысла: действительно, все
«почему» постериорны по отношению к бытию и предполагают его.
Бытие есть— без основания, без причины и без необходимости; само
определение бытия открывает нам его изначальную случайность.
На второй вопрос мы уже ответили, ибо он встает не в
метафизической сфере, а в области онтологии: бытие «имеется», в противном
164
Ж.-II. Сартр» Бытие и Ничто
случае не было бы бытия-для-себя. Бытие-для-себя сообщает бытию
характер феномена. Свойство феномена возникает благодаря бытию-
для-себя. Но если вопросы о возникновении бытия или о
возникновении мира лишены смысла или получают ответ в самой сфере
онтологии, то с вопросом об истоке бытия-для-себя дело обстоит иначе.
В действительности бытие-для-себя таково, что оно имеет право
обращаться к своему собственному источнику. Бытие, посредством
которого «почему» появляется в бытии, имеет право выдвигать свое
собственное «почему», так как оно само есть вопрос «почему». На
этот вопрос онтология не в состоянии ответить, так как здесь речь
идет об объяснении события, а не об описании структур бытия.
Самое большее, она может обратить внимание на то, что ничто,
возникшее благодаря бытию-в-себе, не есть просто лишенная значения
пустота. Смысл ничто неантизации — быть состоявшимся, чтобы
основать бытие. Онтология снабжает нас двумя свидетельствами,
которые могут служить основой для метафизики: во-первых, в том, что
всякий процесс основания себя есть разрыв идентичного — бытия-в-
себе, отход бытия от самого себя и, далее, появление присутствия в-
себе3 или сознания. Бытие могло бы надеяться быть причиной себя,
только становясь для-себя. Сознание, эта неантизация бытия,
появляется, следовательно, как стадия движения к имманентности
причины, т. е. к бытию-причине самого себя4.
Однако поступательное движение тут прекращается вследствие
бытийной неполноты бытия-для-себя. Темпорализация сознания не есть
прогресс, восходящий к его величеству «causa sui», это —
поверхностное течение, источником которого является, наоборот, невозможность
быть причиной себя. Ens sausa sui остается, следовательно, в качестве
нехватки, как указание на невозможность подняться ввысь, и самим
своим не-существованием обусловливает поверхностное движение
сознания; так вертикальное притяжение океана, вызываемое Луной,
имеет результатом горизонтальное перемещение — приливы и отливы.
Другое указание, которое метафизика может почерпнуть из
онтологии, состоит в том, что бытие-для-себя действительно есть
беспрерывно возобновляющийся проект самообоснования в качестве бытия
и постоянный крах этого проекта. Присутствие в себе с различными
направлениями своей неантизации (эк-статическая неантизация трех
временных измерений, двойная неантизация в виде отражаемое —
отражающее) представляет первое возникновение этого проекта;
рефлексия — это удвоение проекта, который обращается к самому
себе, чтобы дать себе основание по крайней мере в качестве проекта
и углубление неантизирующей пропасти в силу краха самого этого
проекта5; «делать» и «иметь» — эти кардинальные категории
человеческой реальности непосредственно или опосредованно сводятся к
проекту «быть»; наконец, множественность тех и других может ин-
165
Сама себе интеллектуальный закон
терпретироваться как последняя попытка дать себе основание,
приводящая к радикальному разделению бытия и сознания бытия.
Итак, онтология показывает нам:
1) что если бытие-в-себе должно само себя обосновывать, то оно
может попытаться осуществить это, лишь становясь сознанием; это
означает, что понятие «causa sui» включает в себя понятие
присутствия в-себе, т. е. декомпрессию неантизирующего бытия;
2) что фактически сознание есть проект самообоснования, т.е.
достижения состояния в-себе-для-себя, или в-себе-причины-себя.
Но больше из нее мы ничего не можем извлечь. Ничто не
позволяет утверждать в онтологическом плане, что неантизация,
движение от в-себе к для-себя с самого начала и в недрах самого в-себе
имеет своей целью быть причиной себя. Совсем наоборот,
онтология сталкивается здесь с глубоким противоречием, так как сама
возможность обоснования приходит в мир именно благодаря бытию-
для-себя. Чтобы быть проектом самообоснования, нужно, чтобы
в-себе с самого начала было присутствием в себе, т. е. чтобы оно
уже было сознанием.
Онтология, следовательно, ограничивается заявлением, что все
происходит так, как если бы бытие-в-себе, стремясь дать самому себе
основание, превратилось в бытие-для-себя. Именно метафизике
надлежит формулировать гипотезы, которые позволят понять этот процесс
как абсолютное событие, венчающее индивидуальное приключение,
каковым является существование бытия. Само собой разумеется, эти
гипотезы останутся гипотезами, потому что мы не можем рассчитывать
ни на их подтверждение, ни на их опровержение. Ценность их будет
заключаться в том, что они дадут нам возможность унифицировать
данные онтологии. Разумеется, эта унификация не будет
осуществляться в перспективе исторического становления, потому что
временность возникает благодаря бытию-для-себя. Таким образом, не было
бы никакого смысла спрашивать себя, чем было бытие до появления
бытия-для-себя. Но метафизика тем не менее должна пытаться
определить природу и смысл этого доисторического процесса и источник
всякой истории, которая есть сочленение индивидуального
приключения (или существования в-себе) с абсолютным событием (или
возникновением для-себя). В частности, именно на долю метафизика
выпадает задача решать, движение ли является первой «попыткой» в-себе
дать обоснование и каковы отношения движения как «болезни бытия»
с для-себя — болезнью, более глубокой и доведенной до неантизации.
Остается рассмотреть вторую проблему, которую мы
сформулировали еще во Введении: если в-себе и для-себя суть две модальности
бытия, то нет ли изъяна в самой идее бытия и не распадается ли ее
познание на две несоединимые друг с другом части, поскольку ее
содержание образуют два радикально разнородных класса? В самом
166
Ж.-П. Сартр. Бытие и Ничто
деле, что общего между бытием, которое есть то, что оно есть, и
бытием, которое есть то, что оно не есть и не есть то, что оно есть?
Между тем нам здесь может помочь как раз вывод из наших
предыдущих исследований. В самом деле, мы только что показали, что в-
себе и для-себя не рядоположены. Как раз наоборот, для-себя без в-
себе есть нечто абстрактное: оно могло бы существовать не более чем
цвет без формы или звук без высоты и тембра; сознание, которое не
было бы сознанием о чем-либо, было бы абсолютным ничто.
Но если сознание связано с в-себе внутренним отношением, не
означает ли это, что оно сочленяется с ним, чтобы образовать некую
целостность, и разве не эту именно целостность надлежит именовать
бытием, или реальностью? Несомненно, для-себя есть неантизация,
но — в качестве неантизации — оно есть; и существует оно в
априорном единстве с в-себе. Так, греки имели обыкновение отличать
космическую реальность, которую они называли то mv6, от
целостности, созданной последней и окружающей ее бесконечной пустотой, —
от целостности, которую они называли то oA.ov7. Разумеется, мы
могли назвать для-себя ничто и заявить, что вне бытия-в-себе нет
ничего, кроме отражения этого ничто, которое само поляризуется и
определяется посредством в-себе, поскольку оно есть как раз ничто вот
этого в-себе. Но здесь, как и в греческой философии, встает вопрос:
что назовем мы реальным, чему припишем бытие! Космосу или тому,
что выше мы называли то oàov? Чистому в-себе или в-себе,
окруженному этой оболочкой ничто, названного нами для-себя?
Но если мы должны рассматривать тотальное бытие как
образованное синтетической организацией в-себе и для-себя, не встретим
ли мы тотчас же вновь затруднение, которого хотели избежать? Не
окажемся ли мы теперь в самом существующем перед той пропастью,
которую мы обнаружили в понятии бытия? В самом деле, какое
определение дать существующему, чтобы в качестве в-себе оно было
тем, что оно есть, в качестве для-себя — тем, что оно не есть?
Если мы хотим разрешить эти затруднения, нам нужно понять, чего
же мы требуем от существующего, чтобы рассматривать его как
целостность: нужно, чтобы его отличные друг от друга структуры
удерживались в едином синтезе и чтобы каждая из них, рассматриваемая
отдельно, была лишь чем-то абстрактным. Разумеется, сознание, взятое
отдельно, есть только абстракция; само же в-себе, чтобы быть, не
нуждается в для-себя: «страсть» для-себя делает только, чтобы имелось в-
себе. Феномен в-себе без сознания есть нечто абстрактное, но не его
бытие.
Если мы хотим представить себе синтетическую организацию —
такую, где для-себя неотделимо от в-себе, а в-себе нерасторжимо
связано с для-себя, — ее нужно понимать таким образом, что в-себе
получает свое существование от неантизации, которая дает возможность
167
Сама себе интеллектуальный закон
осознавать его. Не означает ли это, что нерасторжимая целостность в-
себе и для-себя мыслима лишь в форме бытия «причины себя»?
Именно это бытие, и никакое другое, может представлять для нас
безусловную ценность, как и это oAov, о котором мы только что говорили. И
если мы способны ставить вопрос о бытии для-себя, сочлененного с в-
себе, то это потому, что мы a priori определяемся доонтологическим
пониманием ens causa sui. Несомненно, это ens causa sui невозможно, и
его понятие, как мы видели, заключает в себе противоречие. И тем не
менее, раз мы ставим вопрос о бытии oXov исходя из точки зрения ens
causa sui, именно на эту позицию нам и нужно встать, чтобы
исследовать верительные грамоты этого ota>v. Не возникает ли последнее в
самом деле только вследствие возникновения для-себя, и не является ли
для-себя с самого начала стремлением быть причиной себя?
Мы, таким образом, начинаем постигать природу целостной
реальности. Целостное бытие — это такое бытие, понятие которого не
разделено пропастью и которое, однако, не исключает неантизирую-
щее-неантизируемое бытие для-себя, бытие, существование
которого было бы единым синтезом в-себе и сознания: оно — идеальное
бытие в-себе, основанное благодаря для-себя и идентичное этому
для-себя, дающему ему основание, т.е. ens causa sui. Но именно
потому, что мы встали на точку зрения этого идеального бытия, чтобы
судить о реальном бытии, которое мы называем o^ov, мы должны
констатировать, что реальное есть неудавшаяся попытка достичь
состояния причины-себя. Все происходит так, как если бы мир,
человек и человек-в-мире могли реализовать недостающего Бога. Все,
следовательно, происходит так, как если бы в-себе и для-себя
оказывались в состоянии дезинтеграции по отношению к идеальному
синтезу. И это не потому, что интеграция когда-то имела место, а как раз
наоборот, потому что она вроде бы естественна, но всегда
невозможна. Именно постоянный крах и объясняет одновременно и
нерасторжимость в-себе и для-себя, и их относительную независимость.
Точно так же, когда нарушается единство мозговых функций, возникают
явления, которые одновременно и обнаруживают относительную
автономию, и могут проявляться только на фоне распада целостности.
Именно этим крахом и объясняется пропасть, с которой мы
сталкиваемся одновременно в понятии бытия и в существующем. Если
невозможно перейти от понятия бытия-в-себе к понятию бытия-для-
себя и объединить их в общий род, то это потому, что не может
осуществиться фактический переход от одного к другому и их
объединение. Известно, что для Спинозы и для Гегеля, к примеру, синтез,
прерванный до его полного завершения, так что его элементы
застывают, становясь относительно зависимыми и одновременно
относительно независимыми, сразу же оказывается ложным. Например, у
Спинозы именно в понятии сферы вращение полукруга вокруг сво-
168
Ж.-П. Сартр. Бытие и Ничто
его диаметра находит свое подтверждение и свой смысл. Но если мы
вообразим, что понятие сферы в принципе недостижимо, феномен
вращения полукруга становится ложным; он лишается возможности
осуществиться; идея вращения и идея круга поддерживают друг
друга, но они не могут объединиться в синтез, который их превосходил
бы и подтверждал: они не сводятся одна к другой.
Как раз такой случай мы и имеем. Следовательно, мы скажем, что
рассматриваемый oXov как обезглавленное понятие находится в
постоянной дезинтеграции. И именно благодаря этой своей
двусмысленности он предстает перед нами. Это означает, что можно ad
libitum настаивать либо на зависимости, либо на независимости
рассматриваемых типов бытия. Здесь имеется переход, который не
осуществляется, это — своего рода короткое замыкание.
Здесь мы вновь сталкиваемся с понятием детотализованной
тотальности, которое мы уже встречали, когда анализировали бытие-для-себя
и сознание другого. Но это третий вид детотализации. В просто
детотализованной тотальности рефлексии рефлексивное должно было быть
рефлексируемым и рефлексируемое должно было быть рефлексивным.
Двойное отрицание само себя уничтожает. В случае бытия-для-друго-
го8 отражаемое (отражение-отражающее) отличалось от отражающего
(отражения-отражающего), одно не должно было быть другим. Таким
образом, одно для-себя и другое для-себя конституируют бытие, где
каждое придает инобытие другому, делая себя иным.
Что же касается целостности для-себя и в-себе, то она
характеризуется тем, что для-себя делает себя иным по отношению к в-себе, но
в-себе в своем бытии вовсе не является иным, нежели для-себя: оно
просто-напросто есть. Если бы отношение в-себе к для-себя было
таким же, как и отношение для-себя к в-себе, то мы опять имели бы
случай бытия-для-другого. Но этого как раз и нет, и именно это
отсутствие взаимности характеризует o^ov, о котором мы только что
говорили.
В этом смысле постановка вопроса о тотальности не является
абсурдной. В самом деле, когда мы исследовали бытие-для-другого, мы
констатировали, что нужно было бы, чтобы имелось бытие
«я-другой», которое должно быть рефлексивным разделением «для-друго-
го». Но в то же время это бытие «я-другой» казалось нам способным
существовать, только если оно предполагает непостижимое не-бытие
внешнего. Мы так поставили вопрос: является ли антиномический
характер целостности в себе самом нередуцируемым и должны ли мы
полагать дух как бытие, которое есть и которое не есть
одновременно? Но нам казалось, что вопрос о синтетическом единстве сознаний
не имеет смысла, так как он предполагает, что мы можем принять
точку зрения относительно целостности; итак, мы существуем на
основе этой целостности, и мы вовлечены в нее9.
169
Сама себе интеллектуальный закон
Но если мы не можем «принять точку зрения относительно
целостности», то это потому, что «другой» в принципе отрицает меня, как
и я отрицаю его. Именно взаимность отношения всегда лишает меня
возможности постичь его в его целостности.
И наоборот, в случае внутреннего отрицания для-себя-в-себе это
отношение не является взаимным, и я одновременно являюсь одним
из членов отношения и самим отношением. Я постигаю бытие, я есть
постижение бытия, я есть только постижение бытия; бытие же,
которое я постигаю, не предстоит передо мною, чтобы, в свою очередь,
постигать меня; оно есть то, что постигается. Только его бытие
никоим образом не совпадает с тем, как оно постигается.
Следовательно, в некотором смысле я могу ставить вопрос о
целостности. Конечно, я существую здесь как вовлеченный в эту
тотальность, но я могу быть исчерпывающим ее сознанием, так как я
одновременно являюсь сознанием о бытии и сознанием о себе. Но этот
вопрос о целостности не относится к области онтологии. Для
онтологии единственные регионы бытия — это те, которые могут
истолковываться. Это регионы в-себе, для-себя и идеальная область
«причины себя». Для нее безразлично, рассматривать ли «для-себя»,
сочлененные с «в-себе», как безоговорочный дуализм или как
дезинтегрированное бытие. Дело метафизики решать, будет ли полезнее
для познания (в частности, для феноменологической психологии,
антропологии и т.д.) говорить о бытии, которое мы назовем феноменом
и которому присущи два бытийных измерения: измерение в-себе и
измерение для-себя (с этой точки зрения имелся бы только один
феномен: мир) подобно тому, как в эйнштейновской физике
предпочли говорить о событии, имеющем пространственные и временное
измерения и как определяющее свое место в пространстве-времени, —
или же предпочтительнее, несмотря ни на что, сохранить старый
дуализм «сознание — бытие».
Единственное замечание, которое здесь могла бы позволить себе
онтология, состоит в том, что в случае если окажется полезным
использовать новое понятие феномена как дезинтегрированной
целостности, то о нем надо будет говорить одновременно в терминах
имманентности и трансцендентности. Действительно, весьма опасным было бы
впасть в чистый имманентизм (гуссерлевский идеализм) или в чистый
трансцендентализм, который рассматривал бы феномен как новый вид
объекта. Но имманентность всегда будет ограничена измерением в-
себе феномена, а трансцендентность— его измерением для-себя.
Решив вопрос об источнике «для-себя» и о природе феномена
мира, метафизика сможет приступить к рассмотрению различных
проблем первостепенной важности, в частности проблем действия. В
самом деле, действие надо рассматривать одновременно в плане для-
себя и в плане в-себе, так как речь идет о проекте имманентного про-
170
Ж,-П. Сартр. Бытие и Ничто
исхождения, который определяет изменение в бытии
трансцендентного. Фактически ничего бы не дало заявление, что действие
изменяет только феноменальную видимость веши: если феноменальная
видимость чашки может быть модифицирована вплоть до уничтожения
чашки как чашки и если бытие чашки есть не что иное, как ее
качество, то рассматриваемое действие должно быть способно изменить
само бытие чашки. Проблема действия предполагает, следовательно,
выяснение трансцендентной продуктивности сознания и дает нам
верную ориентацию относительно его подлинного бытийного
отношения с бытием. Через действие в мире и его результаты нам
открывается связь бытия с бытием, которая, хотя и постигается физиком с
внешней стороны, не есть ни чистая экстериорность, ни чистая
имманентность, но отсылает нас к понятию гештальт0о/шъ/. Исходя из
этого, таким образом, можно прийти к метафизике природы.
II. Моральные перспективы
Онтология не может сама формулировать моральные предписания.
Она занимается только тем, что есть, и из ее указаний невозможно
вывести императивы. Однако она позволяет предположить, чем будет
этика, которая признает свою ответственность перед лицом
человеческой реальности, пребывающей в ситуации. В самом деле, она
раскрывала бы нам источник и природу ценности', мы видели, что это —
нехватка, по отношению к которой для-себя определяет себя в своем
бытии как нехватку.
Поскольку для-себя существует, возникает ценность, чтобы
неотступно преследовать бытие-для-себя. Из этого следует, что различные
задачи для-себя могут стать объектом экзистенциального
психоанализа, так как все они имеют своей целью осуществить недостающий
синтез сознания и бытия в виде ценности, или причины себя.
Экзистенциальный психоанализ есть, таким образом, моральная дескрипция,
так как он и открывает нам этический смысл различных человеческих
проектов; он указывает нам на необходимость отказаться от
психологии интереса, как и от всякой утилитарной интерпретации
человеческого поведения, раскрывая нам идеальное значение всех человеческих
отношений. Эти значения находятся по ту сторону эгоизма и
альтруизма, по ту сторону и так называемых бескорыстных деяний. Человек
становится человеком, чтобы быть Богом, можно сказать: и самость,
рассматриваемая с этой точки зрения, может казаться эгоизмом; но как раз
потому, что нет никакой общей меры для человеческой реальности и
причины себя, которой она хочет быть, вполне можно также сказать,
что человек теряет себя ради того, чтобы существовала причина себя.
Всякое человеческое существование в таком случае мы будем
рассматривать как страсть, так что всем известное «самолюбие» оказы-
171
Сама себе интеллектуальный закон
вается лишь средством, свободно выбранным среди других, чтобы
реализовать эту страсть.
Но главным результатом экзистенциального психоанализа должен
стать отказ от духа серьезности. Дух серьезности в действительности
характеризуется двояко: рассмотрением ценностей как
трансцендентных данностей, независимых от человеческой субъективности, и
перенесением «желаемого» свойства из онтологической структуры
вещей в их простую материальность.
Для духа серьезности хлеб, в сущности, желаем, к примеру, потому,
что надо жить (ценность, принадлежащая интеллигибельному миру), и
потому, что он является питанием. Результат духа серьезности, который,
как известно, царит в мире, состоит во впитывании (как чернил
промокашкой) символических ценностей вещей их эмпирической
идиосинкразией; он выдвигает на передний план непрозрачность желаемого
объекта и полагает его сам по себе как нередуцируемое желаемое.
Мы, следовательно, оказываемся уже в сфере морали, но
одновременно в сфере самообмана, так как именно мораль стыдится самой
себя, не отваживается назвать свое имя, она затемнила все свои цели,
чтобы избавиться от тревоги. Человек ищет бытие вслепую, скрывая
от себя свободный проект, которым является этот поиск; он ведет
себя так, будто задачи расположены на его пути и ждут его.
Объекты суть безмолвные требования, а он как таковой лишь пассивно
подчиняется этим требованиям.
Экзистенциальный психоанализ раскроет ему реальную цель его
поиска, которая есть бытие как синтетическое слияние в-себе с для-
себя; он расскажет ему о его страсти. По правде говоря, многие сами
на себе практиковали этот психоанализ, но не смогли познать его
принципы, чтобы использовать его как средство для своего
освобождения и спасения. Многие люди знают в самом деле, что цель их
поиска — бытие; и по мере того как они обретают это знание, они
отказываются присваивать вещи как таковые и пытаются осуществить
символическое присвоение их бытия-в-себе. Но поскольку эта
попытка еще основывается на духе серьезности и люди верят, что их
миссия (взывать к существованию в-себе-для-себя) вписана в сами
вещи, их ожидает отчаяние, так как они открывают в то же самое
время, что все виды человеческой деятельности равноценны — ибо все
они ведут к тому, чтобы принести в жертву человека ради рождения
причины себя, — и что все они в принципе обречены на провал.
Таким образом, все равно, пьянствовать ли в одиночестве или править
народами. Если один из этих видов деятельности одерживает верх над
другим, то это не вследствие его реальной цели, но в силу степени
осознания своей идеальной цели. Может оказаться даже, что
безучастность одинокого пьяницы возьмет верх над тщетной
возбужденностью вождя народов.
172
Ж.-П. Сартр. Бытие и Ничто
Тем не менее онтология и экзистенциальный психоанализ (или
спонтанное и эмпирическое их применение, к которому люди
всегда прибегают) должны открыть моральному агенту, что он есть
бытие, благодаря которому существуют ценности. Именно в этом
случае его свобода осознает самое себя и раскроется в тревоге как
единственный источник ценности и как ничто, благодаря которому
существует мир. Как только поиск бытия и присвоение в-себе
предстанут как ее возможности, она постигнет через тревогу и в
тревоге, что они являются возможностями только на фоне возможности
других возможностей.
Хотя возможности могли быть выбраны и отвергнуты ad libitum,
темой, которая объединила бы все выборы возможного, является
ценность, или идеальное присутствие ens causa sui. Что станет со
свободой, если она обратится к этой ценности? Сохранит ли она ее
для себя, что бы она ни делала, и в самом своем повороте к в-себе-
для-себя будет ли она обеспечена ценностью, которую она хочет
созерцать? Или только потому, что она постигает себя как свободу по
отношению к самой себе, она сможет положить конец царству
ценности? В частности, возможно ли, чтобы она признала самое себя
ценностью как источник всякой ценности, или она непременно
должна определяться по отношению к трансцендентной ценности,
которая ее неотступно преследует? И в случае, если бы она могла
желать самое себя как свою собственную возможность и
определяющую себя ценность, что следовало бы подразумевать под этим?
Свобода, которая хочет быть таковой, есть в действительности бы-
тие-которое-не-есть-то-что-оно-есть и которое-есть-то-что-оно-не-
есть, выбирающее в качестве идеала быть-тем-что-оно-не-есть и не
быть-тем-что-оно-есть. Оно выбирает, следовательно, не
воссоздает себя, а бежит от себя, не совпадает с собой, а всегда пребывает на
расстоянии от себя.
Что следует понимать под этим бытием, которое хочет держаться
на почтительном расстоянии от самого себя? Идет ли речь о
самообмане или о другой фундаментальной позиции? И можно ли жить при
наличии этого нового аспекта бытия? В частности, приняв самое себя
за цель, перестанет ли свобода пребывать в той или иной ситуации?
Или она будет пребывать в ситуации тем более определенно и
своеобразно, чем более будет проектировать себя в тревоге как «свобода
в ситуации» и чем более признает свою ответственность,
ответственность существующего, благодаря которому рождается мир? Все эти
вопросы, отсылающие нас к чистой и непотворствующей10 нам
рефлексии, могут найти ответ только в сфере морали...11.
173
Сама себе интеллектуальный закон
Т.М. Тузова
Ж.-П. Сартр: бытие - это то, на что вы отваживаетесь
На характер философского поиска, интеллектуальную и духовную
атмосферу середины и второй половины XX в. в значительной степени
повлияло творчество французского философа и писателя Ж.-П.
Сартра (1905-1980). Основоположник так называемого атеистического
экзистенциализма, виднейший представитель французской
феноменологии, автор фундаментальных философских трактатов «Бытие и Ничто»
и «Критика диалектического разума» (в 2 т.)12, большого числа
художественных, философско-публицистических и литературоведческих
работ (одна из которых — «Что такое литература?»), он не оставил
работы, специально посвященной вопросу «Что такое философия?».
В отличие от многих философов (и тем более нефилософов) Сартр
не был особенно обеспокоен вопросом о необходимости,
полезности философии, он никогда не занимался ее, так сказать,
«оправданием». Для него очевидным и несомненным было то, что философия
является единственно возможным способом постичь специфику
человеческого существования, понять действительное положение
человека в мире, определить его «подлинные отношения с миром».
И в отличие от других типов философствования, изначально
сводящих философию к какой-либо фиксированной предметной
области (например, к анализу языка, мышления, законов природы,
общества и т.д.) или к какому-либо отличному от философского и заранее
полагаемому более «законным» типу исследований (например, к
науке о наиболее общих законах природы, общества, истории,
объективному анализу структур и пр.), у Сартра философия в принципе не-
проецируема, не сводима ни к чему иному и не может быть основана
ни на чем ином, кроме нее самой, ее собственных, «последних» оче-
видностей. (Его не случайно называют «последним метафизиком»,
«последним представителем философии cogito».) Для Сартра
философия не является ни позицией, ни наукой; и если она может
присутствовать в них (как, впрочем, и в любой другой области культуры), то
только потому, что, являясь ядром и смыслом любого человеческого
деяния и любой занимаемой человеком позиции, философия может
воплощаться во всем другом. Иными словами, философия первична,
незаменима, как первична, незаменима сама свобода, которую в
полной мере постигает и олицетворяет только философия. И дело
философа — выявить, эксплицировать этот «труд свободы» в мире,
«совпасть» с ним.
Именно потому, что Сартр искал и находил специфически
философский ракурс во всем, он никогда не ставил перед собой задачу
определить философию извне, просто очертив ее сферу какой-либо за-
174
T.M. Тузова. Ж,-П. Сартр: бытие — это то, на что вы отваживаетесь
ранее фиксированной предметностью или поставив ее, как какую-то
заданную, известную область культурной деятельности, в один ряд с
другими явлениями культуры. Он не делал этого еще и потому, что
для него «существование предшествует сущности», каждое
конкретное философствование создает саму философию; ее предмет не дан,
заранее не определен, а «становится», выбирается самим типом и
способом мысли и жизни в ней. Философия поэтому— следствие и
выражение бытийно-личного эксперимента, определения себя,
своего места в мире, выраженные на профессиональном языке, как уже
существовавшем в традиции, так и специально создаваемом для
точного описания и осуществления этого эксперимента. Сартр выбрал,
изобрел свой способ мысли о человеке, мире, о бытии и тем дал
ответ на вопрос, что такое философия и каков ее предмет.
Если предметом философского рассмотрения у Сартра может
выступать все что угодно, то способ этого рассмотрения задается
жестко: философ должен рассматривать все только через присутствие
сознания. Сартровская философия — философия присутствия человека,
его сознания в мире, в котором до этого присутствия ничего не
«явлено», не «имеется». Личное начало— основа мироздания.
Феноменологическая перспектива с самого начала задает бытие как бытие в
присутствии сознания; сознание, понимание человеком мира и себя,
выявляется в качестве «структуры бытия». Философа, по мысли
Сартра, должно интересовать все только в качестве феномена сознания,
в качестве кристаллизации свободы. Все, что может быть объяснено
объективно, описано аналитически, без обращения к синтетической,
конституирующей деятельности сознания, относится Сартром к
сфере принципиально нефилософского познания. Это — область
позитивных наук. Философия не может анализировать предметность, не
соотнося ее с подвижнсй, спонтанной деятельностью сознания, т. е.
не беря ее в плане живой событийности. И если философия хочет
понять человека, она должна стремиться стать соразмерной с той
глубочайшей тайной, какой является человеческое существование как
индивидуальное усилие самореализации, самоосуществления в мире.
Философия должна разрабатывать средства постижения этой
«тайны», этого присутствия сознания (или последствий этого
присутствия) в мире. Здесь «что» и «как», предмет и метод сопряжены друг
с другом; способ, или метод, рассмотрения определенным образом
задает и структурирует сам предмет рассмотрения.
И хотя сам Сартр указывает на декартовскую философию cogito и
гуссерлевскую феноменологию как историко-философскую
традицию, в русле которой он работает, он, как и всякий подлинный
философ, создает всю философию заново. В контексте собственных
исследовательских проектов ему требуется снова определять (не путем
дефиниций, а путем построения): о чем может говорить философия?
175
Сама себе интеллектуальный закон
что такое бытие? что есть сознание и какова его действительная связь
с миром? каково отношение сознания с бытием? что такое онтология,
метафизика, этика? что они могут предложить в качестве своих
результатов и какие ограничения эти результаты накладывают на
мышление?
Заключение «Бытия и Ничто» мы и выбрали в качестве наиболее
концентрированного, обобщающего и прямого ответа Сартра на эти
фундаментальные философские вопросы. Мы видим, что предметом
философии у Сартра является «синтетически организованное» бытие,
которое содержит внутри себя свободу и не только постигается, но и
организуется, существует («имеется») только благодаря ей. Бытие, это
предельное понятие всякой онтологии, объясняется в сартровской
философии в конечном счете посредством введения в онтологию
принципа самопричинности как закона жизни сознания.
Центральное место принципа самопричинности в философии
Сартра — это ответ на сложившуюся духовную ситуацию, выбор им
своего философского и человеческого пути в условиях «смерти Бога»,
которую философ принял как данность. Из «смерти Бога»,
потрясшей и разрушившей метафизические основания европейской
культуры, родилось немало самых различных философий. Человечество
«всегда будет преследовать невозможный призрак Причины Себя,
только что умерший Бог»13. Внимание Сартра приковано к одному из
наиболее деструктивных для европейской ментальное™ последствий
«смерти Бога, не оставившего завещания», — потере человеком
привилегированного статуса в универсуме, гарантированного ему
Божественной Волей. Со смертью Бога умер и человек, он стал
невозможен: из творения Бога по его образу и подобию он превращен
материалистическим редукционизмом в «пыль», «случайность среди
прочих случайностей», простую комбинацию молекул, не отличимую
от других молекулярных комбинаций.
Цель, которой подчинена сартровская философия, — опровергнуть
любые формы редукционизма в трактовке «человеческой реальности»
(в том числе и гегелевскую редукцию отдельного сознания к идее, духу,
целому), спасти в пространстве философской мысли то, что
составляет специфику и достоинство человека: его свободу как «автономию
выбора», основанную на способности сознания к самоопределению. Удел
человека — не определяться извне в непрерывной каузальной цепи, а
давать себе собственный закон своего существования, «давать себе
основание». Есть два способа утвердиться вопреки материи, заявляет
Сартр, — быть творением Бога или становиться творцом.
Если фактичность человеческого существования (любые
эмпирические обстоятельства, в которых возникает и с которыми имеет дело
«живое сознание») есть то, что нам просто дано, т. е. неустранимо
случайно, то сознание, напротив, по Сартру, есть акт отношения к
176
T.M. ТУзова. Ж.-П. Сартр: бытие — это то, на что вы отваживаетесь
данному, наше усилие самоопределиться в нем. Человек должен
давать себе фактичность, а не быть ею; противоположностью
случайности оказывается не необходимость, а свобода (автономия,
самозаконченность). Человек есть существующее, которое «ничего не
должно получать и посредством которого все должно быть сделано»™.
Оно есть бытие, посредством которого «в Бытии возникает
отношение», оно есть основание всех отношений. Человек есть бытие,
посредством которого в мир приходит смысл.
«Появление основания» в мире, или воссоздание себя же — на
собственных основаниях, т.е. постоянно порождаемых или
возобновляемых самим нашим сознанием, — в том, что нам просто дано,
Сартр называет онтологическим актом свободы, или появлением в
мире сознания как «абсолютного события», случающегося с бытием.
К бытию-в-себе (данности как абсолютной случайности и
непрерывности существования «без основания», «без малейшей дистанции с
самим собой», «абсолютной позитивности» и самотождественности)
основание приходит только от сознания (бытия-для-себя, «ничто»).
Сознание «неантизирует» «в-себе» и самого себя: отказываясь быть
своей «первоначальной конечностью», оно — единым движением —
отстраняется от данного, как бы нейтрализуя его этим
дистанцированием, оценивает и артикулирует его в свете «не-бытия» (проекта
своего бытия под знаком ценности, или причины себя).
Лишь в этом неантизирующем и проектирующем движении
сознания, в освобождающем усилии упразднить случайность своего
включения в мир и возникает собственно человеческое в человеке и в
мире; лишь в этом сопротивлении человека случайности данного и
«имеется» само данное. Борьба со случайностью фактичности, таким
образом, составляет у Сартра основное содержание отношений между
сознанием и миром, между «ничто» и «бытием».
Это движение сознания, раскрывающее в-себе, философ
называет преодолением (превосхождением, трансцендированием) данного.
Будучи нашим индивидуальным способом переживать и полагать
свою «всегда единичную случайность» (или превосходить свою
«первоначальную конечность»), преодоление является «абсолютно
конкретным», ибо оно есть раскрытие данного в свете нашего
своеобразного проекта бытия в мире. Когда есть сознание, это «усилие
преодолеть данную ситуацию, сохраняя ее, есть, по Сартру, и
субъективность. Это же дистанцирующее и означивающее движение
сознания делает «набросок бытия на поверхности Бытия», т. е.
конституирует мир как «феномен», «конкретную и единичную целостность».
Мир есть «фундаментальное единство, которое появляется в Бытии»
в качестве коррелята поиска человеком своего способа
существования. Поскольку же человек есть «неполное», незавершенное,
«открытое» существо, которое «не знает себя», «должно себя предвидеть и
19-ЯЛЯЯ 177
Сама себе интеллектуальный закон
делать себя», то «открыто» и бытие: оно «появляется всегда в
подвешенном состоянии внутри того, чего нет»1'.
Рассматривая человека и бытие в их «живой событийности»,
онтология Сартра трактует бытие как «индивидуальную авантюру». Сар-
тровский человек, этот «сообщник Бытия», «скомпрометирован
Бытием»: Бытие есть то, на что он отваживается. У человека «нет алиби»,
в силу безусловного авторства в отношении своего проекта бытия в
мире он несет тотальную личную ответственность за себя и за мир.
Итак, свобода в каждом человеке объявляется основанием бытия,
мира, истории. А поиск «конкретного абсолюта» — индивидуального
значения, возникающего в непредвидимости свободного акта», —
оказывается доминирующим в сартровской философии свободы.
Произведенная в этом персонализирующем движении модификация данного
должна быть рассмотрена «с точки зрения конкретного, или максимума
бытия, как появление нового бытия»16. Ведь значения, или способы,
бытия, изобретаемые человеком, сами суть бытие, настаивает философ.
Реконструируя таким образом процесс творчества как незаменимое
событие индивидуальной жизни и как «появление нового бытия»,
Сартр работает над созданием специального метода
(экзистенциального психоанализа), который позволял бы выявлять и прочитывать
значение, внутренне существующее в акте, выборе, проекте человека и
составляющее «индивидуальную тайну» человеческого бытия в мире.
Сартр ищет философские средства, с помощью которых можно было
бы эксплицировать «участие» человека в бытии, выявлять
онтологическую продуктивность «конечного и единичного», его
самостоятельную и безусловную ценность для человека, фиксировать нередуциру-
емость и конститутивность человеческих претензий и того, что
предпринимается индивидом на их основе, но для чего нет места в
объективной, научной картине мира. В случае успеха анализа это дает
возможность не только понять Другого, воссоздать подлинную
историю индивидуальной жизни, ее взаимоотношений с миром, но и
воспроизвести реальный культурный и исторический процесс — ту
историю, которую делали люди, преследующие свои цели.
Поскольку универсальное переживается человеком как
единичное, историческому событию, рассматриваемому объективно, надо
вернуть его характер переживаемого события. Без этого история не
может быть интеллигибельной, считает философ, без этого нельзя
адекватно поставить вопрос о необходимости и возможности в
истории (а следовательно, и о личной ответственности ее участников).
Поэтому Сартр критикует претензию наук, в том числе и
гуманитарных, заменить собой философию. Своим аналитическим методом
науки элиминируют человека, исключают творчество, историю и
дают нам лишь «уже-тотализованное», т. е. материю, несущую на
себе «след человека».
178
Т.М. Тузова. Ж.-П. Сартр: бытие — это то, на что вы отваживаетесь
Философия же позволяет нам «постичь смысл тотализации», этого
трансцендирующего и персонализирующего движения,
объединяющего данное «в единстве значения» и тем самым конституирующего это
данное как реальность. Воспроизводя «нередуцируемую плотность
переживаемого опыта», не сводимую к знанию экзистенцию, и
показывая «встречу» между личностью и историей, их взаимное прояснение,
экзистенциализм, по Сартру, остается «единственно конкретным
подходом к реальности. «Речь всегда идет о том, чтобы мыслить "за" или
"против" истории. Если считают, как я, что историческое движение
его постоянная тотализация, что каждый человек в любой момент
является тотализующим и тотализуемым, философия представляет
усилие тотализованного человека вновь овладеть смыслом тотализации.
Никакая наука не может ее заменить, так как всякая наука
применяется к области уже расчлененного человека... В качестве вопрошания
о практике философия есть в то же самое время вопрошание о
человеке, т. е. о субъекте, тотализующем историю. Неважно, децентриро-
ван этот субъект или нет. Главное — не то, что сделали из человека, а
то, что он делает из того, что сделали из него. То, что сделали из
человека, — это суть структуры, значащие ансамбли, которые изучают
гуманитарные науки. То, что он делает, — это сама история, реальное
преодоление этих структур в тотализующей практике. Философия
существует на стыке. Практика является в своем движении полной
тотализации; но она всегда приводит только к частичным тотализациям,
которые будут в свою очередь преодолены. Философ — тот, кто
пытается помыслить это преодоление»17.
Человек у Сартра всегда «дефазирован» по отношению к
структурам, он всегда — «в переходе». Сартровское исследование этого
перехода утверждает субъекта в качестве реального центра тотализации.
Смысл к структурам приходит от человека, субъективность
полагается как сфера, в которой — одновременно с возникновением смысла,
ценности и посредством их— артикулируется объективное. Всякая
система оказывается основанной на индивидуальной практике,
создающей и воссоздающей систему и поддерживающей ее
существование. Проект— как необходимое опосредование объективного —
объявляется принципом конституирования индивидуальной
практики и истории и, соответственно, принципом их интеллигибельности.
Это — трансцендентальное a posteriori. Фактически у позднего
Сартра воспроизводится основная схема «Бытия и Ничто», где проект
человека выступает и как принцип бытия (в том числе и
индивидуального), и как принцип интеллигибельности. Реальное бытие
конституируется и становится интеллигибельным только в силовом поле
«идеального бытия» этой «предельности», метафизической
невозможности — «отсутствующего Бога». Сама эта метафизическая
невозможность конститутивна для человеческого бытия: только в простран-
12*
179
Сама себе интеллектуальный закон
стве, сопряженном с ней, возникает личное в человеке; и
существует оно лишь в постоянном и всегда заново осуществляющемся усилии
человека удерживать безусловное авторство во всех своих
отношениях с миром: самому чувствовать, мыслить, понимать и действовать.
Поскольку такое постоянное напряжение, «выверение» и
«восстановление» себя в бытии в качестве автора его значений трудно для
человека, подлинность его существования и жизнь культуры
никогда не гарантированы, всегда проблематичны, всегда под угрозой.
«Если каждый человек есть риск, человечество целиком есть риск»18.
Там, где есть только люди, заявляет Сартр, мораль и необходима, и
невозможна. Будучи культурным феноменом, она предполагает в
качестве своего личного основания свободу, ответственность, мужество
и великодушие человека. Последнее как «чистая безосновность» есть,
по Сартру, ценность, в которой с наибольшей степенью
проявляется свобода — «чистая свобода». Великодушие есть «первоначальная
структура подлинной экзистенции», «момент человека», его шанс.
Всегда — шанс, и всего-навсего шанс, ибо свобода — только в
освобождении. Но лишь благодаря этой «свободной драме», «бесполезной
страсти», «тщетному усилию» человека быть «Бытием-причиной
себя» в мире возможна мораль, возможно собственно человеческое,
«божественное», даже как «несуществующее». Причем этого
«несуществующего», «невозможного» — и такого необходимого нам,
чтобы чувствовать себя живыми, — в мире столько, сколько его вносит
сам человек, делающий свое «человеческое дело» на свой страх и
риск, даже без надежды на успех. И в его свободе, этом, как говорит
Сартр, проклятии человека, — единственный источник его величия.
Примечания
Перевод с издания: Sartre J.-P. L'Être et le Néant. Essai d'ontologie
phénoménologique. Paris, 1943. P. 711-722.
1 Сартр использует здесь неупотребимую во французском языке и не
переводимую на русский форму страдательного залога глагола «быть» (être), стремясь
подчеркнуть этим несамостоятельность, заимствованность бытия сознания. Будучи
«ничто-бытия», сознание, по Сартру, несубстанциально, оно является «бытым»,
осуществляемым посредством в-себе.
2 При анализе структуры дорефлексивного феномена Сартр полагает, что дореф-
лексивное сознание есть одновременно сознание себя. В этой связи он говорит
о «двойной игре отсылок»: «Сознание веры есть вера, и вера есть сознание веры.
Ни в коем случае мы не можем сказать, что сознание есть сознание и что вера
есть вера. Каждый из членов отсылает к другому и переходит в другой, и,
однако, каждый член отличен от другого. Мы видели, что ни вера, ни удовольствие,
ни радость не могут существовать до того, как они осознаются, сознание есть
мера их бытия... Таким образом, сознание веры и вера суть одно и то же бытие,
характеристикой которого является абсолютная имманентность. Но как только
мы захотим уловить это бытие, оно ускользает из рук, и мы оказываемся перед
180
Т.М. Тузова. Ж.-П. Сартр: бытие — это то, на что вы отваживаетесь
лицом едва заметного дуализма, игры отражений, так как сознание есть
отражение; но именно в качестве отражения оно есть отражающее, и если мы
пытаемся постичь его как отражающее, оно рассеивается, и мы вновь обращаемся к
отражению... Если мы хотим достичь целостного феномена, т. е. единства этого
дуализма, или сознания веры, он тотчас же отсылает нас к одному из членов, а
этот член, в свою очередь, отсылает нас к единой организации имманентности»
(Sartre J.-P. L'Être et le Néant. P. 117-118).
3 Присутствие для самого себя или постоянное обнаружение сознания самим
собой — «способ экстатического бытия для-себя». Быть сознанием, по Сартру, —
значит «существовать на дистанции от себя»; закон бытия для-себя — «быть
самим собой в виде присутствия для самого себя» (L'Être et le Néant. P. 119.).
Психический феномен, таким образом, представляет собой «свое собственное
присутствие для самого себя, свою собственную декомпрессию бытия».
4 См.: Sarire J.-P. Cahiers pour une morale. P., 1983. P. 533, 158; «Бытие, которое
есть своя собственная причина, не есть бытие, которое есть, это бытие, которое
должно быть тем, что оно есть. Нужно... чтобы оно было произведено интенци-
онально. Оно — свой собственный проект». «Таким образом, необходимость в-
себе причины себя по определению является синтетической, это означает, что
она включает в бытие-в-себе отступление по отношению к себе, постоянную
инаковость по отношению к себе в принципиальном существовании отрицания.
И само это отрицание не может поддерживаться извне. Нужно, чтобы бытие-в-
себе становилось своим собственным отрицанием. Одним словом, в-себе
причина себя не может быть логической необходимостью: если она существует, она
есть драматическое существование».
5 Крах рефлексии связан с невозможностью для сознания быть объектом,
застывшей целостностью для самого себя. Поскольку человек есть своя собственная
возможность, философия должна с неизбежностью выходить за рефлексивный
круг, ибо он де-факто размыкается в автономном (свободном) акте.
Единственно законный, по мнению Сартра, проект — это «проект делать, а не быть», и
подлинность человеческого существования должна состоять в том, чтобы
отказаться от поиска бытия, потому что я никогда ничем не являюсь.
* то -rràv — все, целое (греч.).
7 то oAov — целое, мир, вселенная (греч.).
8 О бытии-для-другого, или просто для-другого см.: Сартр Ж.-П. Первичное
отношение к другому: любовь, язык, мазохизм / Пер. В. Бибихина // Проблема
человека в западной философии. М., 1988. С. 207-229.
9 Все это рассуждение относится к обсуждаемой Сартром проблеме
принципиальной неустранимости онтологического факта множественности сознаний. Будучи
взаимным «внутренним отрицанием», мое сознание и сознание другого
разделены в то же время «непостижимым ничто экстериорности». С помощью понятия
целостности духа Сартр пытается определить онтологический статус этого
«дуализма». Он показывает, что взаимность отношения между сознаниями делает его
противоречивым, подвижным и неустойчивым, ибо речь идет о двух
одновременно существующих очагах свободного (автономного) акта. Поэтому целостность
духа, тотальность взаимного отношения между отдельными сознаниями всегда
оказывается «заложником» этих свобод и взрывается изнутри. О ней нельзя
сказать, ни что она существует, ни что она не существует: «Множественность
сознаний представляется нам как синтез, а не как коллекция; но это синтез, целостность
которого немыслима» (L'Être et le Néant. P. 363). Антиномический характер
целостности связан с неустранимой множественностью сознаний, т.е. с
невозможностью рассматривать эту целостность извне, с какой-либо «высшей точки зрения».
«Никакое сознание, будь то даже сознание Бога, не может ''видеть оборотную
сторону", т. е. постигать целостность, как таковую. Так как, если Бог есть сознание,
181
Сама себе интеллектуальный закон
он включается в целостность. А если по своей природе он есть бытие по ту
сторону сознания, т. е. в-себе, которое было бы основанием самого себя, целостность
может ему представиться только как объект, — тогда вне его внимания остается ее
внутренний распад как субъективное усилие по восстановлению себя, или как субъект.
А поскольку он не является этим субъектом, он может только испытывать его
воздействие, но не познавать. Таким образом, никакая точка зрения на целостность
немыслима: целостность не имеет "внешнего", и сам вопрос о смысле ее
"оборотной стороны "лишен значения» (Ibid).
10 Различение чистой (pure) и нечистой, или потворствующей (impure, complice),
рефлексии проводится Сартром в прямом соответствии с различением
подлинного и неподлинного (недобросовестного) способа человеческого существования.
Если в потворствующей рефлексии человек понимает себя как объект, как
«несущественное» и объясняет свое поведение путем отсылки к «психическому»
миру с его требованиями как к «существенному», то чистая рефлексия есть
«проект взять на себя свой проект». Чистая рефлексия обнаруживает «глубокую
идентичность акта и творчества». Иными словами, в чистой рефлексии человек
признает свое безусловное авторство и свою свободу как «основание бытия мира».
Будучи желанием «чистой автономии» («желать то, чего желаешь»), чистая
рефлексия открывает меня самого «как последнюю инстанцию рефлексии».
11 Имеются в виду «Тетради о морали» — рукописи, над которыми философ
работал в 1947-1948 гг., так и оставшиеся незавершенными и опубликованные уже
после смерти автора.
12 Sartre J.-P. L'Être et le Néant. Essai d'Ontologie phénoménologique. Paris. 1943;
Critique de la raison dialectique. Paris, 1960.
" Sartre J.-P. Mallarmé. La lucidité et sa face d'ombre. Paris, 1986. P. 134.
14 Sartre J.-P. Vérité et existence. Paris, 1989. P. 61.
14 Sartre J.-P. Vérité et existence. P. 47.
16 Sartre J.-P. Cahiers pour une morale. P. 528.
17 Sartre aujourd'hui // L'Arc. Aix-en-Provence, 1966. № 30. P. 95.
18 Sartre J.-P. Cahiers pour une morale. P. 483.
182
Хосе Ортега-и-Гассет
Из рецензии на книгу Эмиля Брейе
«История философии»
...Если на наш вопрос: «Что такое философия?» — мы попытаемся
ответить достаточно последовательно, то должны будем начать с
описания того первоначального, с чем мы встречаемся в философии, с ее
самого близкого нам аспекта — «первого для нас», как говорил
Аристотель. Итак, современный человек, прежде чем философия станет
внутренним для него делом, находит ее (включая и материальные
атрибуты) вовне, как общественную реальность. Он сталкивается с такой
стороной философии, как государственная магистратура,
бюрократия — «профессора философии», — труд их оплачивается, в их
распоряжении находятся здания. Это также и книги, которые продаются в
магазинах и являются продуктом производства. Тот факт, что именно
это знает о философии тот, кто знает о ней хоть немного, доказывает,
что как раз это и является ее первоначальным аспектом. Истинный
философ, живущий размышлениями о самых тонких проблемах своей
науки, склонен забывать этот первый аспект или относиться к нему с
презрением. Но ошибется тот, кто примет всерьез и эту забывчивость,
и это презрение. Ибо очевидно, что такова отнюдь не заслуживающая
презрения часть целостной реальности, называемой «философия».
Если государство предоставляет дотацию кафедрам философии,
учреждает и поддерживает их, если существуют отрасли индустрии,
старательно заботящиеся о публикации философских текстов, значит в
обществе сильно убеждение в том, что философия является
коллективной потребностью. А это уже очень серьезно. Презирать какой-
либо факт за его ясность и очевидность глупо. Почему, как, в какой
мере философия является социальной потребностью? Всегда ли так
было? Какие изменения произошли, какие превратности судьбы
испытало на протяжении общественной истории, начиная с Греции,
это убеждение, насколько оно было действенным? Порассуждаем на
такую тему: возможно ли, чтобы дисциплина, именуемая «история
философии», не стремилась определить социальную роль
философии, как будто участие в коллективной жизни является чем-то
чуждым реальности, называемой «философия»? Мы забываем, что, если
не рассматривать каждую идею как функцию, служащую определен-
183
Сама себе интеллектуальный закон
ной цели в существовании философа, история учений уже несет
урон, и само это забвение приводит к отсутствию достаточно
глубоких и возможно точных исследований о том, какую роль в каждую
эпоху коллективной жизни действительно играло философское
мышление. В итоге мы оказываемся, как я уже отметил, в забавной
ситуации, не представляя, хотя бы с малой долей уверенности и
точности, каково «значение» в истории той дисциплины, которой мы
занимаемся. Дело в том, что реальность всякой собственно
человеческой вещи в ее «значении». Малейшее проявление нашей жизни
предполагает ее тотальность, и, только будучи соотнесено с
последней, оно раскрывает свою подлинную ценность и значение. В том,
что мы делаем, и в том, что с нами происходит, заключена лишь одна
реальность: значение всего этого для нашей жизни. Следовательно, в
науках о человеке, вместо того чтобы говорить о «вещах» (а именно
таков натуралистический подход, пригодный лишь для временного
употребления в физике), мы должны были бы говорить об их
«значении». Так вот: хотя это и покажется невероятным, не существует ни
одной книги, в которой автор попытался бы изложить нам историю
действительного «значения» философии с самого ее возникновения и
до наших дней. Более того, я не знаю ни одной публикации, в которой
последовательно рассматривалась бы социальная функция философии
и ставился вопрос о том, что она представляла собой как
коллективный факт хотя бы в какую-то отдельную эпоху1. Эта важнейшая
проблема удостаивалась внимания лишь изредка и мимоходом.
Так ли уж нелеп, как это могло показаться читателю на первый
взгляд, мой неблагоприятный диагноз относительно практикуемой
истории философии? Достаточно ли понятно в конечном счете,
почему далека от реальности история «учений», состоящая лишь в
абстрактном их изложении?
Хотим мы того или нет, исторически философия существовала,
функционируя в социальной жизни, входя составной частью в
основание Государства; ее изучение в качестве узаконенной обязанности из
поколения в поколение навязывалось студентам. Когда что-либо
приобретает «государственный интерес» и на него обращено внимание
общественной власти, оно становится не социальной, а
сверхсоциальной реальностью, поскольку Государство — это высшая ступень
социального. Но государство занимается каким-либо предметом
только в том случае, если общество ощущает суровую необходимость в его
существовании. Философии в течение тысячелетий вообще не
существовало, а затем в течение столетий она существовала, но государство
ею не занималось. В один прекрасный день оно начало общаться с
философией... сторонясь ее, подвергая гонениям. Но пришли другие
времена, и философия превратилась в обычный общественный
институт. То, что Платон постулировал как парадоксальный идеал, осу-
184
X. Ортега-и-Гассет. Из рецензии на книгу Эмиля Брене «История философии»
ществление которого приводило в ужас его самого, в определенных
обстоятельствах стало фактом. Насколько Платон был далек от веры
в то, что философия может стать функцией государства, показывает
его «Апология Сократа». В ней последний перед лицом своих судей
провозглашает, что труд, которым он занимался, заставляя людей
философствовать, отнюдь не преступен. Этот труд должен был бы
рассматриваться как государственное дело, а он сам, Сократ, мог бы
кормиться за счет Государства в Пританее. И все это сообщается нам
как высшая «ирония» и вызывающий смех парадокс. Может быть,
стоит попытаться понять, как и почему возникла эта странность?
Но философия — это не только «официальная», существующая в
виде учреждения, и экономическая, связанная с издательским
производством и его рынком. Общественное мнение видит в ней и иную
форму реальности: в течение длительного времени философ имел
определенный престиж в обществе, а престиж этот — дело социальное.
Вот другая сторона истории философии: волнообразная история
приобретения и потери престижа философа. Немногие исследования
могут поведать нам о более глубоких тайнах человеческой истории, чем
те, что связаны с попыткой реконструировать траекторию
социальной судьбы, приносившей наслаждение и страдания философу, чем
уточнение места, которое в каждом обществе и в каждую эпоху
занимал тот, кто философствовал.
Но это как бы рикошетом отбрасывает нас от вопроса о
философии как социальной реальности к вопросу о том, чем является
философия для самого философа. Дело в том, что, как я уже упоминал, для
той роли, какую идеи философа играли в его общественной жизни,
небезразлична его социальная ситуация. Философ мыслит, не
только находясь в определенном времени и в определенном месте, но и
с определенной социальной позиции — в одних случаях он
оказывается в центре общества, в других — наверху или внизу, а в
некоторых— вне его: в тюрьме или в изгнании. Особенно важно уточнить
степень свободы, какой в каждый момент располагает философ. К
каким результатам в философии приводит отсутствие свободы? Надо
бы написать работу под названием «Об ответственности и
безответственности философа»2. Но аналогичные вопросы следовало бы
поставить и относительно последствий как поощрения философа, так и
невнимания к нему. Не так уж очевидно, что поощрение
благотворно, а невнимание пагубно.
Я сказал, что первый аспект реальности «философия», в котором
она предстает перед нами, связан с тем, что в ней есть от социального
факта. Вот уже два с половиной тысячелетия этот аспект существует
и ждет своего историка. Там, в той огромной внешней сфере, какой
является жизнь общества, институт философии существует точно так
же, как существуют политика, медицинские учреждения, пожарная
185
Сама себе интеллектуальный закон
служба, функция палача, церемониальные обычаи и мода. Как
видим, общество в течение долгого времени нуждалось в том, чтобы
определенный процент его членов был занят тем, что прививал ему
известные философские представления, подобно тому, как вот уже в
течение почти века у него есть потребность в вакцинации своих
граждан.
Однако ясно: то, что в реальности «философия» относится к
социальному феномену, является наиболее внешним в ней, как бы ее
коркой. Общество никогда не бывает оригинальным и творческим. Для
того чтобы оно пришло к занятию философией, осознав ее как
общественную потребность, последняя должна уже быть предварительно
подготовлена некоторыми индивидами.
Подлинность и неподлинность философии
Важно уяснить, что философия — и не только она — постоянно
курсирует вперед и назад. Современный индивид сначала встречает
философию в обществе как общественный обычай и общественное
учреждение, следовательно, как существующую вне всякого определенного
индивида. Я хочу сказать, что, даже если бы в какой-то момент не
существовало ни одного подлинного философа и, следовательно,
никакой подлинной философии, сама философия продолжала бы
обладать социальной реальностью: кафедры существовали бы, книги,
именующиеся философскими, продавались бы и т.д. Ибо для любой
социальной действительности (а к ней принадлежат обычаи,
привычки, законы и т.д.) характерно то, что она существует и действует
независимо ни от какого определенного индивида. Примите во
внимание и следующее: социальный факт состоит в том, что мы делаем
что-либо просто потому, что так делается. Безличное давление
коллективности вынуждает нас — физически или морально — совершать
определенные действия. Между тем, что мы делаем, и тем, почему мы
это делаем, нет рациональной связи. Вполне возможно, что
профессор философии не обладает ничем из того, что свойственно
подлинному философу: он преподает философию, чтобы заработать на
жизнь или выделиться в социальном плане. Студент изучает
философию, поскольку у него нет иного выхода. Отсюда следует, что
социальная реальность — ее действительность, — будучи усвоенной кем-
либо, ни в малой степени не гарантирует человеческой подлинности
того, на что философия претендует, следовательно, она ни в коей
мере не несет в себе подлинности. Все это можно сказать
по-другому: всякая социальная реальность неподлинна.
В силу этого философия и является социальной, благодаря этому
она исполняет свою коллективную миссию, состоящую в навязыва-
186
X. Ортега-и-Гассет. Из рецензии на книгу Эмиля Брейе «История философии»
нии себя индивидам velis nolis, при определенном согласии с их
стороны или без него, короче — механически. Если бы социальная
функция зависела от определенных индивидов, которые могут выносить
приговор и фактически его выносят, философия просто исчезла бы.
Но общество поддерживает законность своих действий — например
занятия философией — слепо (правда, иногда это оказывается
полезным) и иррационально — так, как совершает свои действия природа.
Отсюда вытекает, что социальная потребность в философии и,
следовательно, ее реальность в качестве социального факта — это
потребность и реальность неподлинные.
Но теперь, после такого общего разъяснения трудного момента,
вернемся к тому, что я назвал челночным движением философии, ее
путешествием вперед и назад. Я сказал, что современный индивид
впервые встречает философию вне ее связи с конкретным
индивидом — в обезличенном обществе. Но общество, как таковое, не
занималось бы философией, не поддерживало бы ее механически, если
бы, в свою очередь, не находило ее уже готовой, существующей вне
общества, в определенных индивидах. Именно они ее делали, ее
создавали. И создавали именно потому, что ощущали, каждый
по-своему, потребность в ней. Потребность в философствовании,
ощущаемая творческим индивидом, подлинна и изначальна. В нем, а не в
обществе источник философии, ее истинная или исходная
реальность.
Этот постоянный контрданс человеческих проблем, движение
«вперед— назад», заставляющее перемещаться от индивида к
коллективности и обратно, и есть главное условие нашего бытия и, как все
человеческое, в полной мере имеет свои сильные и слабые стороны.
Я только что отметил преимущества социализации тех или иных
аспектов человеческого: механизируясь, они становятся
неподлинными — например идея превращается в «общее место»; но благодаря
этому они оказываются освобожденными от индивидуального
произвола, индивидуальных прихотей и сдвигов. Обратимся теперь к
рассмотрению одной довольно трудной проблемы, которая, когда речь
идет о философии, становится особенно серьезной.
История философии как движение назад
Уже не одно столетие происходит так, что индивид, прежде чем
почувствовать потребность в философствовании, встречает философию
как занятие, установленное и поддерживаемое обществом; другими
словами, мы домогаемся возможности заниматься ею по причинам
неподлинным: сюда относится то, что она может быть профессией,
которая кормит человека, ее престижность и другие побудительные
187
Сама себе интеллектуальный закон
причины, более «чистые», но столь же неподлинные, — например
обращение к философии в силу внутренней склонности или из
любознательности. Доказательством той или иной степени неподлинности этих
причин служит то, что все они предполагают существование уже
готовой философии. Профессионал изучает и осваивает уже
существующую философию, она привлекает и дилетанта, поскольку он видит ее
уже готовой и достигнутый ею облик манит его, и т.д. Все это в
высшей степени опасно, ибо мы рискуем посвятить себя занятию,
внутренний, исходный смысл которого мы не имели ни времени, ни
случая постичь. И действительно, почти со всеми занятиями человека
происходит так: поскольку они уже «находятся здесь», рядом, люди
обычно механически воспринимают их и посвящают им свою жизнь,
так никогда и не вступив в контакт с их исходной реальностью.
Подлинный философ, посвящающий себя философии в силу
внутренней потребности, напротив, не обращается к уже готовой
философии, он постоянно создает свою собственную философию; это верно
настолько, что наиболее точным признаком такого философа
становится отрицание им всей уже существующей философии и погружение
в безысходное одиночество собственного философствования.
Когда человек предается своим занятиям, его социальное
окружение постоянно склоняет его к неподлинности — и в этом один из
трагических моментов его жизни, хотя здесь нет ничего
мелодраматического. Поэтому необходимо, чтобы обучение социально утвержденной
и рекомендованной обществом философии и усвоение ее сочетались с
постоянным усилием, направленным на то, чтобы отказаться от всего
этого и начать сначала; другими словами, всякий раз надо
возвращаться к истоку философии, к той первоначальной ситуации, когда она
зарождалась. Первые философы, чья деятельность была созданием
философии, поскольку ее еще совсем не существовало, которые, строго
говоря, не создали, а еще только начали создавать философию, — вот
они-то, все вместе, и являются подлинным профессором той
философии, к которой необходимо прорваться сквозь толщу последующей
философии, созданной многочисленной профессурой.
Всякий великий философ был таковым потому, что ему
удавалось хотя бы приблизительно воспроизвести в самом себе
первоначальную ситуацию зарождения философии. Поэтому для нас также
очень важно подружиться с теми обновителями философского
мышления, которые заняты его возрождением, коль скоро его уже
нельзя породить заново. Но я вновь настаиваю: история философии
в том виде, в каком она обычно существует, лишь незначительно
содействует тому, чтобы мы могли со-существовать с античным
мыслителем, ибо без реконструкции индивидуальной драмы его
существования мы не сможем уяснить особый строй его философии,
возникающей из этой драмы.
188
X. Ортега-и-Гассет. Из рецензии на книгу Эмиля Брейе «История философии»
История философии — это дисциплина, находящаяся внутри
философии, а не некая добавка к ней и не предмет для удовлетворения
любопытства. Для такого утверждения имеются две причины. Первая:
мы всегда создаем свою философию внутри определенных
мыслительных традиций, в которые мы погружены настолько, что они
являются для нас самой реальностью и не воспринимаются нами как
частные тенденции или как всего лишь одно из возможных
проявлений человеческого разума. Мы полностью овладеваем этими
интеллектуальными традициями (представляющими собой как бы нашу
интеллектуальную подпочву) только в том случае, если достаточно их
узнаем, если проникаем в их самые сокровенные тайны, открываем
их самые «очевидные» предпосылки. Вторая: в необходимости
мыслить внутри определенных границ есть нечто от пленения, от сковы-
вания свободы; но это лишь в малой степени мешает возобновлению
философии в ее первоначальном виде, в том, в каком она была при
возникновении, когда еще не существовало традиции, или в те
решающие моменты последующей ее истории, когда она возрождается и
преобразуется, когда в ней возникают новые направления.
Как я уже сказал, когда мы предаемся философствованию, нам
всегда — и так происходит с любым человеческим занятием —
угрожает опасность делать это механически, по инерции, следуя
стандартам существующего мышления, безоговорочно принимая привычные
способы постановки проблем. Это пагубно, но не потому, что мешает
нам быть «оригинальными». Претензия на «оригинальность»,
сознательное стремление отличаться от остальных — занятие бестолковое.
Здесь обычно таится опасность того, что, признавая хорошими и
заимствуя какие-либо способы мышления и привычную постановку
вопроса, мы в действительности ни в малейшей мере не овладеваем
ими. Для того чтобы действительно «усвоить их», нам необходимо их
разрушить и проделать назад тот путь, который для их создателей был
путем вперед. Они исходили из философского ничто, из чистой
потребности в философии, не зная еще, ни как, ни с помощью чего это
делается. Так мы еще раз сталкиваемся с советом Гёте: «Чтобы
владеть тем, что унаследовано тобою от предков, нужно завоевать его».
Но завоевать — значит для начала разрушить. Стремление
овладеть уже созданной философией выдвигает перед нами задачу сначала
ее разрушить и добраться до того едва ощутимого, еще только
способного к зарождению источника, в котором присутствует лишь
чистая потребность в философии и болезненно заявляет о себе ее
отсутствие. Не существует способа воссоздать ту или иную философию
или философию вообще без предварительного ее расчленения, как не
существует возможности узнать машину, не разобрав ее на детали.
Чем более длительным становится наше философское прошлое,
более обширным накопленное нами богатство философских понятий,
189
Сама себе интеллектуальный закон
методов, теорий, тем более настоятельным является восстановление
изначальной нищеты философии, исходной потребности в ней,
которую можно сравнить с изобилующей источниками местностью,
откуда проистекло ее последующее богатство.
Этот крутой поворот и возвращение к первоначальному
источнику философии, в ходе которого будут тщательно исследоваться и
разниматься на части все сложившиеся в ней системы, чтобы вновь
присутствовать при поучительном процессе ее рождения, и есть
собственная субстанция истории философии.
Итак, наше занятие философией не может быть подлинным,
если мы не знаем, что такое философия. Ответ на этот вопрос
распадается на две части: чем была философия; чем она должна была
бы быть? История философии берет на себя задачу ответить на
первую часть вопроса, проходя в обратном направлении длинный
маршрут интеллектуальной эволюции от наших дней к VI в. до
Рождества Христова. Именно там произошло исключительное событие:
возникло и начало существовать нечто такое, чего ранее во
Вселенной не существовало, — философия.
Значение этого исторического момента исключительно. Но хотя
это и представляется невероятным, вопрос о том, что же тогда
произошло, почему именно тогда и именно в Греции человек начал
философствовать, никогда не исследовался сколь-нибудь решительно.
Это, на мой взгляд, непостижимый пробел в истории философии,
достаточный для того, чтобы дискредитировать само ставшее
привычным занятие философией.
Философия - это традиция
Когда я раньше утверждал, что индивид философствует внутри
определенной традиции и исходя из нее, я не довел свою мысль до
конца, не сказал всего, что сказать необходимо. А именно: не только
наша особая философия возникает из особой интеллектуальной
традиции — традиции народа, эпохи, какой-либо школы, — но и вся
философия представляет собой лишь огромную традицию. Философ
склонен создавать себе противоположную иллюзию, поскольку
философия — это действительно в основе своей попытка существовать вне
традиции, т. е. жить вне форм традиционализма. Последний
представляет собой типичный сомнамбулизм. «Традиционалист» думает,
чувствует и испытывает желания в тех формах, которые «с
незапамятных времен» были установлены в его человеческом окружении, не
ставя их под вопрос, не чувствуя ни малейшего сомнения в их
обоснованности. Система традиций заменяет собой систему инстинктов,
которыми человек обладал, будучи животным, и которые он потерял.
190
X. Ортега-и-Гассет. Из рецензии на книгу Эмиля Брейе «История философии»
В той мере, в какой мы погружены в какую-либо традицию, мы
живем, инстинктивно следуя ее формам. Именно такова жизнь
искренно «верующего», человека глубокой «веры».
Но дело в том, что философия является традицией не-традииии
настолько, что наиболее достоверным определением философии —
его содержание богаче, чем это выглядит в первый момент, когда оно
кажется ничего не говорящим, — было бы следующее определение
хронологического порядка: философия есть занятие, в котором
западный человек невольно ощутил необходимость начиная с VI в. до
н.э. и которое со странным постоянством он продолжает
осуществлять до сегодняшнего дня. Для рождения философии необходимо,
чтобы существование человека в форме чистой традиции исчерпало
себя, чтобы он перестал доверять «вере своих отцов». Тогда он
становится свободным, его бытие оказывается с корнем вырванным из
своей почвы, следовательно, оно повисает в воздухе, и ему не остается
ничего иного, как собственными усилиями искать твердую почву,
куда он сможет ступить, чтобы вновь получить опору и уверенность.
Там, где этого не происходит, нет и философии3. Последняя — не
развлечение, не удовольствие, но одна из форм реакции, к которой
«верующего» человека вынуждает тот непреложный факт, что в один
прекрасный день он впадает в сомнение. Философия — это движения
руками, которые он пытается производить, чтобы плыть по морю
сомнений, или, пользуясь другим образом, это врачевание человеком
страшной открытой раны, нанесенной ему в самые глубины его
существа покидающей его верой. Как чистая «традиция» была
заместительницей самодовольных инстинктов, так философия стала
заместительницей обветшалой «традиции». В человеке существуют лишь
замещения, и каждое из них тащит на своем горбу труп того, кого оно
призвано заместить. Поэтому только кажется, что философия идет
против «традиции» и против «веры». Это совсем не так. Не она
убила традицию, напротив, поскольку традиции умерли или ослабли, у
философии не было иного выхода, как попытаться — хорошо ли,
плохо ли — заменить их. Нелепа бытующая в обыденной жизни
человека точка зрения, согласно которой наследник воспринимается как
вытесняющий, как враг, как убийца своего предшественника; в
действительности же он именно служит ушедшему, пытаясь продолжить
его добродетели и для этого занимая освобожденное им место.
Итак, потеря «веры» не обязательно приводит к философии.
Человек, окунувшись в море сомнений, может не найти способа
поддержать себя и действительно погрузиться на дно. Дно — это
безнадежность. Существует целая «культура безнадежности»4, созданная
всем тем, что человек делает, когда теряет надежду. Пример этой
культуры безнадежности — «мудрая литература», в силу курьезной и
досадной причины являющаяся самой древней (ассирийская, египет-
191
Сама себе интеллектуальный закон
екая, греческая, еврейская). Об этой культуре никогда не было
написано ничего серьезного, и я рассчитываю вскоре достаточно широко
затронуть эту нетронутую и весьма опасную тему.
Но философия, порожденная безнадежностью, не просто
подчиняется ей. Бродя среди грозных и равнодушных отвесных
прибрежных скал, философия надеется найти выход: она сама и есть «путь»5.
Поэтому у первых философов (Парменида, Гераклита) чаще всего
повторяется слово «путь» — hodos, methodos. И это показывает, что
философия также является верой. Это — вера в то, что человек
обладает способностью («разумом»), позволяющей ему открыть подлинную
реальность и обосноваться в ней.
Эта вера кладет начало особой традиции, каковой является
философия6: соединению ясности и темноты. Вот в ней мы и находимся.
В человеке всегда сохраняется что-то от сомнамбулизма, он несет на
себе следы животного, которым был когда-то.
История философии как движение вперед
В своем первом движении история философии является,
следовательно, возвращением философа к самим истокам своей традиции.
Это похоже на то, как если бы стрела, находясь в полете и рассекая
воздух, захотела на минуту вернуться, чтобы взглянуть на
описанную дугу и пустившую ее руку. Но это возвращение не означает ни
ностальгии, ни желания остаться в том, начальном, времени.
Философ совершает это отступление, воодушевленный намерением
вернуться к настоящему, к себе самому, к своему собственному
актуальнейшему мышлению. Но он заранее знает, что все прошлое
философии отягощает его личный процесс мышления; лучше
сказать, что философ незримо несет его в себе как собственное нутро.
Поэтому он не может довольствоваться созерцанием широкой
улицы, обсаженной философскими системами, которые он разглядывал
бы, как турист разглядывает городские памятники. Философ должен
увидеть их изнутри, а это возможно лишь в одном случае: если
исходить из породившей их потребности. Поэтому он стремится
погрузиться в источник философии, проникает в ее тайные глубины и
пробирается по подземным ходам философской эволюции, и все это
с целью вернуться оттуда в настоящее.
Каждая система возникает таким образом как объясняемая, как
затребованная определенной вдохновившей ее ситуацией; но
одновременно вскрывается ее недостаточность — там, где берет начало
система-преемница. Эта новая система, хотя и другая по отношению к
прежней, в определенной степени все еще прежняя, поскольку
сохраняет ее форму, по крайней мере считается с ней, имеет ее в виду, пре-
192
X. Ортега-и-Гассет. Из рецензии на книгу Эмиля Брейе «История философии»
одолевает ее недостатки, исправляет ее ошибки. Так философия
движется вдоль по времени в направлении к настоящему, с каждым
новым шагом аккумулируя прошлое и интегрируя его. История
раскрывается не как простое изменение или последовательность, но как
прогресс7.
Мы уже говорили, что до XVIII в. включительно история
философии не рассматривалась как история постепенного развития
мышления. Прошлое представало в ней как цепь ошибок, перед которой в
качестве истины возвышалась философия, действовавшая в то время.
Эта истина выступала не как предсозданная, выношенная и
выраженная в прошлом мышлении, но как нечто в корне новое. Она
противоположна ошибке.
В этом же столетии Тюрго, Кондорсе и Фергюссон начинают
развивать концепцию истории как прогресса; но та же причина, какая
порождает указанную концепцию, не позволяет ей в то время
конституировать свою истинную значимость — «исторический смысл».
Еще и сегодня господствует идея, согласно которой о
прогрессе в истории можно говорить только в том случае, если мы можем
размышлять о прошлом и его движении, исходя из абсолютной
«системы отношений». С этой точки зрения, в истории философии
о действительном и доказуемом прогрессе можно говорить лишь в
том случае, если существует только одна определенная философия,
процесс образования которой принадлежит прошлому. Античные
мыслители могут рассматриваться как делающие шаги к какой-
либо цели и, следовательно, осуществляющие прогресс только в
той мере, в какой они двигались, постепенно открывая элементы,
составляющие эту определенную философию. Действительно, это
был бы абсолютный прогресс, который, оказывая обратное
воздействие на прошлое, признавал бы абсолютными — не
ошибочными — успехи предшествующих философий. Но прогрессу не
нужно быть абсолютным для того, чтобы быть «абсолютно», т. е.
действительно, прогрессом.
Когда философ от истоков философского мышления
возвращается к своей собственной философии, он открывает, что все системы
прошлого продолжают жить внутри нее; так что если какая-либо
система оказывается вне его философии, то ей ничего не остается, как
видоизмениться, с тем чтобы принять во внимание свою
предшественницу. Определяющим для любой нынешней философии
является поэтому необходимость увидеть все философское прошлое
прогрессивно движущимся к ней8.
Собственная философия предстает перед философом как
интеграция всех остальных, а остальные — как взнос в нее. Этот прогресс
не гипотетический, он не задуман рефлексией ad hoc, а
несомненно переживается философом во взаимодействии с событиями ду-
13-3436
193
Сама себе интеллектуальный закон
ховного прошлого, если он сумел предварительно понять их
согласно с выдвинутыми мною ранее нормами. Ясно, что это —
прогресс, относящийся к нашей философии, но это прогресс
очевидный, бесспорный, и в этом случае я не вижу, чего ему недостает,
чтобы быть прогрессом абсолютным. Однако в этом феномене
очевидного движения вперед никак не отражается то, признаем ли мы
за нашей философией определенную ценность. Эта ценность
ничего не добавила бы к характеру прогресса, каким он представлен
в философской эволюции: единственным добавлением было бы
придание абсолютного характера самой этой эволюции, а тем
самым и ее способности двигаться вперед...
История, которая «кончается», но не завершается
Гегель и Конт9 были первыми, кто попытался снять с прошлого
клеймо «чистых ошибок», наложенное на него предыдущими веками, в
результате чего оно лишалось права на существование. Оба они
выстраивают историю как эволюцию: в ней каждая эпоха оказывается
незаменимым шагом к некоторой цели и, следовательно, обладает
абсолютным смыслом и собственной полной истиной. Историческая
перспектива располагается в обратном направлении, и теперь она
представляет собой историю постоянного восхождения: ошибок не
существует. Таков результат того, что Гегель и Конт направили
эволюционный процесс человеческого прошлого, имея в виду абсолют-
ную цель — свою собственную философию как окончательную. Но
это равнозначно тому, чтобы заморозить историю, остановить ее
подобно тому, как Иисус остановил солнце.
Считать какую-либо философию окончательной — значит
отрывать ее от исторического процесса, помещать вне времени. Такова
была ограниченность первоначального понятия «исторический
смысл». Смысл в прошедшем обнаруживался путем отнесения его к
чему-то сверхисторическому, к некой pléroma, «полноте времен»,
когда, в силу своей полноты, они перестают быть временами и навсегда
остаются неподвижными, парализованными — или, как я сказал,
замороженными.
Всякая эволюция, если о ней размышляют исходя из заранее
данной и абсолютной цели, оказывается натурализмом: таковы
эмбриология, ботаника, зоология. Ведь уже заранее известно, что
представляет собой организм в его полном развитии, и все его
предшествующие формы можно расположить как стадии, ведущие
к этой полноте.
Но наш взгляд на эту проблему весьма и весьма отличается от
взгляда Гегеля и Конта. Мы не считаем и у нас нет потребности счи-
194
X. Ортега-и-Гассет. Из рецензии на книгу Эмиля Брене «История философии»
тать нашу философию окончательной; нет, мы погружаем ее, как и
любую другую, в исторический поток всего тленного. Это значит,
что мы рассматриваем всю философию как в основе своей
являющуюся ошибкой — нашу так же, как и все остальные. Но, даже
будучи ошибкой, она является всем тем, чем она должна быть,
поскольку представляет собой способ подлинного мышления каждой эпохи
и каждого человека как философа. Историческая перспектива
изменяется еще раз. Мы возвращаемся к тому, что снова видим прошлое
как историю ошибок, но наши оценки его противоположны
оценкам, существовавшим до XVIII в. Для тех людей, исповедовавших
абсолютизм, прошлое было ошибкой, поскольку они обладали
окончательной истиной. Прошлая ошибка превращалась в
абсолютную ошибку при столкновении с абсолютной истиной. Но если мы
считаем, что то, что называется истиной, всегда в большей или
меньшей степени включает в себя ошибку — ошибку, на которую
каждая эпоха имеет право и без которой она не может обойтись, —
и говорим об истории как истории ошибок, мы не лишаем прошлое
его заслуг. Эти ошибки прошлого были «необходимыми
ошибками» — необходимыми в разных смыслах, но прежде всего в том, что
другие времена должны были их совершить для того, чтобы наше
время могло их избежать10.
Наше сегодня заявляет свои права на прошлое, поэтому
философия является подлинной не тогда, когда она окончательная — такое
невозможно вообразить, — но единственно тогда, когда она несет
внутри себя предшествующие философии и открывает в них
«движение [progreso] к ней самой». Философия является, таким образом,
историей философии, и наоборот, история философии является
философией.
Говоря так, мы признаем, что философии присуща
основополагающая черта всякой человеческой деятельности: быть утопией. Все,
что человек делает, является утопичным; и нет смысла требовать
полной реализации утопии, как не имеет смысла, направляясь на север,
упорствовать в достижении абсолютного севера, которого очевидно
не существует.
Вот как выстраивается история философии, если смотреть на нее
с точки зрения «нашей философии», являющейся не окончательной,
но столь же исторической и преходящей, как и другие подобные
творения человека. Наша философия автоматически превращается в
звено вакхической цепочки, «все члены которой хмельны», как говорил
Гегель, — и она тянется к следующему звену, извещает о нем,
требует и готовит его. В караванах, идущих по безводным пустыням Ливии,
можно услышать поговорку: «Испей из колодца и уступи место
идущему за тобой».
195
Сама себе интеллектуальный закон
А.Б. Зыкова
Хосе Ортега-и-Гассет
Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955) — один из наиболее ярких
представителей испанской философской мысли XX в. Родившийся в семье
известных испанских издателей и публицистов, он с раннего
возраста оказался приобщенным к обсуждению проблем, связанных с
судьбой страны. Он участвовал в политической жизни Испании, основал
«Лигу политического образования», в 1931 г. был избран в Кортесы.
Профессиональная жизнь его до эмиграции из страны была связана
главным образом с Мадридским университетом, профессором
которого он был. В 1936 г. в связи с гражданской войной и
установлением тоталитарного режима Франко эмигрировал из Испании, в 1944 г.
вернулся в страну, отказавшись, однако, сотрудничать с
официальными государственными учреждениями. Ортега основал «Западный
журнал» (Revista de Occidente) и участвовал в создании нескольких
ставших влиятельными испанских еженедельников. Среди его
философских работ наиболее известны «Дегуманизация искусства» (1925),
«Восстание масс» (1929), «История как система» (1941), «Человек и
люди» (1957), «Что такое философия?» (1957).
Ортега — представитель той линии европейской философии, которая
была обращена к индивидуальному существованию человека, выступая
при этом против натуралистического подхода к его анализу. Он
придерживался идеи о том, что человек— это особое существо природного
мира, с особым способом бытия, незаданным, необусловленным, у
которого, собственно, и нет природы, а есть история. Здесь Ортега видел
причины того, что «физический разум», т.е. научный способ познания
физического мира, потерпел неудачу, когда попытался своими
методами исследовать особый способ бытия — бытие человека.
Ортега выделяет человека как существо с особым способом бытия,
во-первых, потому, что он наделен способностью отвлекаться от
окружающего его мира, способностью к углублению в себя; это значит,
что он способен к созданию внутреннего мира, в котором
происходит осмысление им мира внешнего и его, человека, положения в нем.
Во-вторых, потому, что он наделен особым видом свободы,
включающей в себя выбор — на основе осмысления — позиции по
отношению к тому или иному явлению мира. Таким образом, он в
определенной мере автономен по отношению к миру.
Но живет человек в мире, и в представлении Ортеги он связан с
миром настолько, что основное понятие его учения — жизнь
человека — оказывается возможным расшифровать именно через связь
человека с окружающим миром. Здесь источник особой формы
историзма, получившего развитие в странах испаноязычной философии в
196
А.Б. Зыкова. Хосе Ортега-и-Гассет
XX в. Ортега исходил из представления о человеке как существующем
в единстве с окружающим его миром. Он определяет жизнь как арку,
соединяющую человека и мир, в котором он живет, как «единство
динамического драматизма», существующего между этими двумя
компонентами. «Жить, — пишет он в работе «Что такое философия?», —
значит... находиться перед лицом мира, быть с миром, погружаясь в
его дела, в его проблемы, делить с ним его роковую судьбу».
Обращаясь к вопросу о взаимодействии индивида и общества,
Ортега останавливает внимание на том факте, что каждое человеческое
сообщество создает систему социальных обычаев, призванных
регулировать жизнь этого сообщества. Социальный мир, по Ортеге, и
есть мир обычаев. Живя в обществе, человек ими руководствуется, на
них опирается, они направляют жизнь и отдельного индивида, и
сообщества в целом, они же формируют и восприятие человеком
окружающего мира. «Через этот социальный мир, или мир обычаев, —
пишет Ортега в работе «Человек и люди», — мы видим и людей, и
мир предметов, видим Универсум».
Однако, прослеживая анализируемую им проблему «индивид —
общество» далее, Ортега приходит к выводу, что это в достаточной
мере автономные, а во многом и противостоящие друг другу
образования. Общество — социальное — рассматривается им как некая
существующая вне индивидов самостоятельная, безличная,
могущественная сила, а социальные обычаи — как результат некогда
спонтанной деятельности индивидов, которые, объективировавшись,
превратились в нечто «внешнее».
«Внешность» социального обычая по отношению к индивиду
рассматривается Ортегой как одна из центральных его характеристик.
Другой такой характеристикой является его иррациональность.
Социальный обычай, с точки зрения Ортеги, не осмысляется каждым
индивидом, человек осуществляет его автоматически, не осознавая.
«В социальном факте отсутствуют два признака, присущих всякому
подлинно человеческому действию: сознательное возникновение в
субъекте, его осуществляющем, и порожденность его волей».
И наконец, еще одна существенная характеристика социального:
в форме обычая или любого другого социального действия оно
существует «само по себе»; оно ни от кого не зависит, за ним никто не
стоит, оно практикуется всеми, в итоге же за социальное никто не несет
ответственность. А вместе с тем социальный обычай имеет
принудительный характер: его исполняют не в силу спонтанного импульса, не
добровольно, не по собственному сознательному или неосознанному
желанию, а потому, что так принято, что этого требует социальное
окружение.
Но тем самым требования социального обычая вступают в
противоречия с основным свойством человеческой жизни. Это свойство
197
Сама себе интеллектуальный закон
состоит в том, что человек для реализации собственной жизни
должен самостоятельно решать в каждый момент, что он будет делать.
Одна из любимых и многократно повторяемых Ортегой метафор —
это образ кораблекрушения, спасением от которого и является, по
существу, жизнь человека. Спасаясь, он постоянно вновь и вновь
создает свою жизнь, эту, конкретную: в каждый момент он творит ее.
Человек отличается от всего остального мира прежде всего тем, что его
жизнь не дана ему готовой, он должен постоянно ее делать, творить
вновь и вновь. Но он отличается также и тем, что, создавая
собственную жизнь, он с необходимостью должен продумывать каждую ее
ситуацию и принимать решение, вытекающее из его свободного
выбора и влекущее за собой его индивидуальную ответственность.
Причем — и это также его особенность— постоянно продумывать
свою ситуацию человек должен не только в обыденном, бытовом
смысле, но и в плане философском.
Философия в понимании Ортеги и есть осмысление проблем,
возникающих в жизни. Поэтому его интерес обращен не к уже готовым
философским учениям, а к самому процессу философствования,
которое он определяет как бесконечное умственное беспокойство.
Содержание последнего, если, конечно, это подлинное философствование,
Ортега связывает со стремлением выйти к изначальной реальности
человеческой жизни и окружающего его мира. Дело в том, что культура,
в том числе социальная, в течение тысячелетий обволакивала
предметы и проблемы реального мира плотными слоями языковых и
мыслительных обычаев, придавая им устоявшиеся смыслы; сквозь эти
смыслы приходится продираться философу, желающему понять реальность
в ее подлинности. В работе «Возникновение философии» Ортега
проводит мысль о том, что разум человека, и философский разум в
особенности, обладает определенной направленностью: он постоянно
пытается обнажить, раскрыть реальность, с тем чтобы она предстала во
всей своей первозданности. Философская деятельность — это трудная
работа, связанная с необходимостью пробиться сквозь наслоения
смыслов, встретиться с миром, таким, как он есть, в его изначальнос-
ти, и самостоятельно осмыслить и его, и жизнь в нем человека.
Из такого отношения к философскому творчеству вытекает и
понимание Ортегой природы философской истины. Наряду с
традиционной постановкой проблемы истины как проблемы
соотношения истины и заблуждения он обращается к проблеме истинности,
правдивости самого философа. Во Введении к немецкому изданию
его работ эта правдивость определяется Ортегой как «забота об
истине, томительное желание достигнуть состояния несомненности».
Его заботит не только нахождение истины, но и истинность самого
философского творчества, в которое он включает интеллектуальную
добросовестность философа, его правдивость, чистосердечность,
198
А.Б. Зыкова. Хосе Ортега-и-Гассет
«подлинную и горькую искренность», глубокую взволнованность
души.
Из понимания Ортегой философии как живого
индивидуального философского творчества вытекает и трактовка им истории
философии. Это не история идей, а история мышления,
воплощенного в мыслящих индивидах, которые все вместе выступают как
единый философ, проживший две с половиной тысячи лет. История
философии населена живыми людьми, ее идеи имеют смысл и
значение лишь в том случае, если они участвуют в современном
философском диалоге.
Ортега считал, что подлинное философское творчество имеет
определенные законы, первый из них гласит: философия должна
опираться прежде всего на свои собственные мыслительные законы, не
подменяя их законами мышления, действующими в науке. Ведь
философия ведет речь о связи человека не с той или иной частью
окружающей реальности, как это делают науки, а с Универсумом в целом.
Таким образом понимаемая автономность философского мышления
является для Ортеги одной из главных его характеристик.
Примечания
Перевод с издания: Ot tega-у-Gasset J. A «Historia de la Filosofia» de Emile Brehier.
Obras complétas. T. VI. Madrid, 1958.
1 Возможно, XVIII век во Франции, время philosophes, оказался единственным
периодом, внимательно рассмотренным под этим углом зрения.
2 Я уже давно провозгласил эту тему — в «Восстании масс»: Введение к
французскому изданию 1937 г., — а сейчас я частично отредактировал исследование, где
я занимаюсь этой темой, правда, усложнив ее и соотнеся с другой, более общей:
Рассуждение об интеллектуальной ответственности. Я взял здесь в качестве
примера и путеводной нити эволюцию французской интеллигенции, поскольку в
период от Возрождения до настоящего времени ее становление прерывается
меньше других. Но современная ситуация Франции заставляет меня пока что не
спешить с завершением этой работы.
3 В Средние века философия развивалась по мере того, как ослабевала вера.
4 Безнадежность всегда определяется через то, на что теряется надежда. Когда
«вера» умирает, создается определенная форма безнадежности, обычно она
приводит к той или иной форме познания. Но существует также и «безнадежность
познания», обычно приводящая к новой эпохе веры. Цицерон выразил
состояние, в котором находились он и его афиняне («Академики»), сказав, что они
были quasi desperata cognitioni cerîi (De finibus, II, XIV). Выражение чрезвычайно
парадоксальное, и его вполне можно применить здесь: наша безнадежность
порождена невозможностью познать. Брешь, о которой свидетельствует эта
безнадежность, открыла христианству путь в историю.
5 Я не понимаю, как случилось, что никто никогда не обращал внимания на те
аспекты философии, которые понятие aporia — вопрос — позволяет нам
реконструировать из самого способа, каким были прожиты первые моменты философии.
Porös означает выход из, казалось бы, безнадежной ситуации, когда человек
заблудился в лесу, потерял курс в море или ему преградил дорогу речной поток. От-
199
Сама себе интеллектуальный закон
сюда его вторичные значения: дорога, мост, путь. Но porös несет в себе оттенок
отрицания. Это не любая дорога, но та, что мы открываем вдруг, когда уже
потеряли надежду найти ее. Поэтому porös означает также «средство» («способ») и,
следовательно, спасение. Если ситуация, в которой мы находились прежде, когда не
видели выхода и были не в состоянии найти дорогу, приобретает устойчивость,
мы ощущаем себя попавшими в положение «без выхода», «без дороги»; и этому
точно соответствует слово a-poria, означавшее проблему, вопрос, трудность, т.е.
все то, что предстает перед ограниченным умом, и шагу не давая сделать нашему
пониманию. От porös, со всем драматизмом выражавшего то, чем является
дорога, т. е. переход — он нам необходим, кажется, что его не существует, и вдруг мы
его открываем, — произошло более спокойное слово hodos, дорога, которая уже
где-то рядом, и мы можем пойти по ней; это слово не было вопросом, или aporia.
Но тем самым недостаточно передавался смысл этого выражения, и нужно было
усилить его, вновь вводя в инертную идею проделанного пути динамический
смысл выражения «идти дальше», продвижения в пути и уверенности в этом
продвижении. Тогда начали говорить methodos; в данном случае лучшим переводом
этого слова будет «продвижение» («progreso»). В слове methodos воскресает, таким
образом, то существенное, что было в прежнем смысле слова porös. Porös значит
«por-ta» и «por-tus», в смысле «препятствие, путь, выход». В «Одиссее» (XII, 259)
Улисс рассказывает о том, что он испытал «в поисках выхода из моря» (IJopov
aXo^€7T€€ivwv). Думаю, что более сильный эллинист, чем я, высек бы из этих
лексических камней еще и другие искры.
6 Об этом прежде всего смотри мое исследование «Заметки о мышлении — его
теургия и его демиургия», опубликованное в первом номере журнала «Логос»,
издаваемого факультетом философии и литературы Буэнос-Айреса (См.: Ortega-y-
GassetJ. Obras Complétas. T.V.P. 517).
7 Накопление, в котором состоит прогресс философии, отличается от прогресса
в частных науках. В физике мы знаем сегодня о большем количестве вещей, чем
10 веков назад: по крайней мере, одна сторона накопления состоит в увеличении.
8 философии мы сегодня знаем о том же количестве вещей, что и вчера, но наше
знание более совершенно: тут накопление — это усвоение.
к Если фактически философию начали рассматривать так лишь полтора века
назад, то это потому, что [до тех пор] прошедшее понималось не как прошедшее,
а как ряд «современных» философий, отличающихся, однако, от истинной
философии и, следовательно, в корне ошибочных. Но любопытно, что и в эти
эпохи, не видевшие исторической перспективы, осознание участия прошлого в
настоящем и, следовательно, прогресса, существовало и принимало весьма
интересные формы. Например, то, что с конца XVII в. называлось
«эклектизмом», было не чем иным, как не-исторической формой принятия прошлого и
признания его достижений.
9 Конечно, Тюрго и Кондорсе навсегда остаются первыми, кто смутно
догадывался, что в «истории» существует нечто, подобное прогрессу.
10 Смотрите мою работу «История как система» (Мадрид, 1941). Здесь
невозможно достаточно ясно изложить эту трудную тему, поскольку потребовалось
бы изложить «теорию истины», а она сегодня предстает перед нами
непривычной. Одновременно оказывается измененным и представление об ошибке (См.:
Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. М., 1997).
200
Мудрость сострадания, мудрость любви
Анри Бергсон
Философская интуиция
Доклад на философском конгрессе в Болонье 10 апреля 1911 г.
Я хотел бы поделиться с вами некоторыми соображениями о духе
философии. Мне кажется, — свидетельством тому и ряд докладов,
представленных на конгресс, — что метафизика в наши дни стремится к
упрощению и большему сближению с жизнью. Думаю, у нее есть на
то основания, и в этом направлении мы и должны работать. Но тем
самым мы не совершим ничего революционного; мы лишь придадим
надлежащую форму тому, что составляет суть всякой философии, —
я хочу сказать, всякой философии, полностью сознающей свои
функции и назначение. Ибо усложнение формы выражения не должно
повлечь за собой утрату простоты духа. Принимая в расчет только
уже сформулированные учения, тот синтез, в котором они, казалось
бы, охватывают выводы предшествующих философских концепций и
совокупность приобретенных знаний, мы рискуем упустить из виду
все, по сути дела, непосредственное в философской мысли.
Те из нас, кто преподает историю философии, кому приходится
часто возвращаться к изучению одних и тех же концепций, тем
самым все более углубляя его, могли бы заметить любопытный факт.
Вначале нам кажется, что философская система высится, подобно
законченному и совершенному по архитектуре зданию, в котором
удобно размещены все проблемы. Созерцая его в этом виде, мы
испытываем эстетическую радость, подкрепленную профессиональным
удовлетворением. В самом деле, мы не только обнаруживаем здесь
порядок в сложности (порядок, в который мы иногда вносим и свою
лепту, описывая систему), но нам доставляет удовлетворение знание
того, откуда взялись материалы и как было построено здание. В
проблемах, поставленных философом, мы узнаем вопросы, которые
обсуждались в свое время в его кругу. Мы обнаруживаем, что в данных
им решениях содержатся, в упорядоченном виде или в беспорядке, но
во всяком случае почти без изменений, элементы предшествующих
или современных ему философских учений. Одну точку зрения он
заимствовал у того-то, а другая была ему внушена тем-то. Из того, что
он прочел, услышал, воспринял, мы могли бы, разумеется, составить
большую часть того, что он сделал. Итак, мы беремся за дело, восхо-
203
Мудрость сострадания, мудрость любви
дим к истокам, измеряем влияния, устанавливаем сходства — и в
конце концов отчетливо видим в учении то, что мы в нем и искали:
более или менее оригинальный синтез тех идей, в кругу которых жил
философ.
Но постоянное возобновление контакта с мышлением философа,
постепенное проникновение в его образ мыслей могут вызвать у нас
и совершенно иное чувство. Я не хочу сказать, что сравнительная
работа, которой мы занимались вначале, была потерянным временем:
без этой предварительной попытки соединить философию с тем, что
ею не является, и установить ее связи с ее окружением мы,
возможно, никогда не постигли бы, что она представляет собой на самом
деле; ибо так уж устроен человеческий разум: он начинает понимать
новое лишь после того, как испробует все, чтобы свести его к
старому. Но мы видим, как преображается философское учение, когда мы
пытаемся проникнуть внутрь мышления его создателя, а не
вращаемся вокруг него. Вначале уменьшается сложность. Затем одни части
входят в другие. Наконец, все стягивается в одну точку, к которой,
как мы чувствуем, можно все больше приближаться, хотя
бесполезно было бы пытаться ее достичь.
В этой точке находится нечто простое, бесконечно простое, столь
невероятно простое, что философу так никогда и не удалось это
высказать. Поэтому-то он и брал слово всю свою жизнь. Выражая то, что
содержалось в его разуме, он чувствовал себя обязанным исправить
свою формулировку, затем исправить исправленное. И так, от теории
к теории, считая, что дополняет, а на самом деле поправляя себя, он
только пытался, с помощью усложнений, влекущих за собой новые
усложнения, и объяснений, нагроможденных на объяснения,
выразить со все большей точностью простоту своей первичной интуиции.
Вся бесконечная сложность его учения вызвана, стало быть, лишь
несоизмеримостью между его простой интуицией и доступными ему
средствами ее выражения.
Какова же эта интуиция? Если сам философ не смог определить ее,
то и нам это не удастся. Но мы сможем уловить и зафиксировать некий
образ — посредник между простотой конкретной интуиции и
сложностью выражающих ее абстракций, образ туманный и размытый,
который неотступно сопровождает, оставаясь, быть может, незамеченным,
сознание философа, следует как тень через все ходы и повороты его
мысли. Не будучи самой интуицией, этот образ все же сближается с ней
больше, чем концептуальное и неизбежно символическое выражение, к
которому интуиция вынуждена прибегать в поисках возможностей
«объяснения». Приглядимся внимательнее к этой тени: мы различим
положение тела, которое ее отбрасывает. Сделав усилие, чтобы
скопировать это положение или, скорее, чтобы переместиться внутрь его, мы
увидим, насколько это вообще возможно, то, что видел философ.
204
А. Бергсон. Философская интуиция
Прежде всего этот образ характеризуется свойственной ему
способностью отрицания. Вы помните, как поступал демон Сократа: в
известный момент он сдерживал волю философа и, не предписывая
ему, что делать, скорее, удерживал от всяких действий. Мне
кажется, что в теоретической сфере интуиция часто ведет себя так же, как
демон Сократа в практической жизни; во всяком случае, именно в
этой форме она с самого начала выступает, а затем наиболее
отчетливо проявляет себя: она запрещает. Замечая общепринятые идеи,
казавшиеся очевидными положения, утверждения, до сих пор
слывшие научными, она нашептывает философу одно слово:
невозможно. Невозможно, хотя факты и доводы внушают, что это возможно,
и реально, и достоверно. Невозможно, ибо некий опыт, быть может
смутный, но решающий, твердит тебе, что он несовместим с
фактами, на которые ссылаются, и с приводимыми доводами; значит, эти
факты, должно быть, плохо наблюдались, а рассуждения ложны.
Удивительная сила — эта интуитивная способность отрицания!
Отчего не привлекла она большего внимания историков философии?
Разве не очевидно, что, когда мысли философа еще не имеют
должного обоснования, а его учение окончательно не сложилось, — он
первым делом бесповоротно отвергает некоторые вещи? Позже он,
возможно, изменит свои взгляды на то, что утверждает; но он не
изменит ничего в том, что отрицает. И именно благодаря
способности отрицания, свойственной интуиции или ее образу, он сможет
пересмотреть впоследствии свои убеждения. Он примется пассивно
выводить заключения по правилам прямолинейной логики; но
внезапно его собственное утверждение вызовет у него то же чувство
невозможности, которое прежде он испытывал в связи с суждениями
других. Оставив кривую линию собственной мысли ради того,
чтобы следовать прямо по касательной, он стал чуждым самому себе.
Он вновь обретет себя, когда вернется к интуиции. Из этих уходов
и возвратов и складываются зигзаги учения, которое «развивается»,
т. е. сбивается с пути, снова находит его и беспрестанно
исправляет само себя.
Если мы избавимся от этого усложнения, вернемся к простой
интуиции или хотя бы к выражающему ее образу, то сразу увидим, как
учение освобождается от условий времени и места, от которых,
казалось, оно зависело. Конечно, проблемы, занимавшие философа,
были поставлены его эпохой; наука, которую он использовал или
критиковал, была наукой его времени; если поискать, можно даже
обнаружить в излагаемых им теориях идеи его современников и
предшественников. Да и могло ли быть иначе? Чтобы растолковать что-
то новое, приходится выражать его, опираясь на старое; и для
каждого великого философа поставленные до него проблемы и найденные
решения, современные ему философия и наука были той материей,
205
Мудрость сострадания, мудрость любви
которой он был вынужден пользоваться, чтобы облечь в конкретную
форму свои мысли. Мы не говорим уж о том, что еще с античности
существует традиция представлять всякую философию как
завершенную систему, охватывающую все познанное. Но было бы странным
заблуждением, если бы мы сочли составной частью учения то, что
является лишь средством его выражения. Такова первая ошибка,
которую мы рискуем совершить, когда приступаем к изучению
философской системы. Столько частных сходств поражает нас, столько,
казалось бы, напрашивается сравнений, столь многочисленные и
настойчивые призывы к нашей находчивости и эрудиции звучат со всех
сторон, что мы пытаемся вновь связать мысли мэтра с фрагментами
идей, подобранных то тут, то там, и совсем уж готовы похвалить его
за то, что он смог — как только что мы сами — осуществить тонкую
работу составления мозаики. Но иллюзия длится недолго, ибо
вскоре мы замечаем, что, повторяя, казалось бы, уже известное, философ
думает об этом по-своему. Тогда мы перестаем заниматься
сопоставлением взглядов; но по большей части лишь для того, чтобы впасть
в новое заблуждение, конечно, менее важное, чем первое, но зато
более стойкое. Мы охотно представляем себе учение — даже учение
видного философа — как исходящее из предшествующих концепций,
как «момент эволюции». Конечно, мы отчасти правы, ибо философия
скорее сходна с организмом, чем с механическим агрегатом, и лучше
говорить здесь об эволюции, чем о соединении. Но это новое
сравнение приписывает истории мышления большую преемственность,
чем обнаруживается в ней на самом деле, а кроме того, совсем
некстати фиксирует наше внимание на видимой сложности системы и
на том, что можно предполагать, судя по ее внешнему облику,
вместо того чтобы приоткрыть нам новизну и простоту ее сути. Философ,
достойный этого имени, всегда говорит лишь одно; к тому же он,
скорее, стремится сказать, чем говорит на самом деле. Он смог
сказать только одно, ибо лишь это он и знал; и это было даже не
видение, а прикосновение; оно сообщило импульс, импульс вызвал
движение, и хотя это движение, принимающее форму причудливого
завихрения, становится видимым для нас лишь благодаря тому, что
оно собрало на дороге, но ведь и другие пылинки также могли быть
взметены и подхвачены тем же вихрем. Так и мысль, приносящая в
мир нечто новое, вынуждена проявляться через посредство уже
готовых идей, которые она встречает и вовлекает в свое движение:
потому и кажется, что она связана с эпохой, в которую жил философ. Но
часто это всего лишь видимость. Философ мог явиться многими
веками раньше; он имел бы дело с иной философией и иной наукой; он
поставил бы другие проблемы; он иначе формулировал бы свои
мысли; возможно, ни одна глава из книг, которые он написал, не была бы
той же; и все-таки он сказал бы то же самое.
206
А, Бергсон. Философская интуиция
Позвольте мне привести пример. Я обращаюсь к вашим
профессиональным воспоминаниям; и, если угодно, поделюсь своими
собственными. Один из курсов в Коллеж де Франс я ежегодно
посвящаю истории философии. Поэтому у меня была возможность много
лет подряд проделывать опыт, который я только что описал, с
Беркли, а затем со Спинозой. Не буду говорить о Спинозе: это завело
бы нас слишком далеко. И все же я не знаю ничего более
поучительного, чем контраст между формой и внутренней сутью такой книги,
как «Этика». С одной стороны, эти грандиозные вещи, называемые
субстанцией, атрибутом и модусом, громоздкое оснащение теорем
с хитросплетениями определений, короллариев и схолий, сложность
конструкции и сокрушительная сила «Этики», перед которой
неискушенный новичок испытывает восхищение и ужас, как при виде
огромного дредноута; а с другой — нечто тонкое, легкое и почти
воздушное, исчезающее при малейшем приближении к нему; то,
чего не увидишь и издалека, если не перестанешь обращать
внимание на все остальное, даже на то, что считалось главным, — на
различие между субстанцией и атрибутом, на дуализм мышления и
протяжения. За тяжеловесной массой понятий, родственных
картезианству и аристотелизму, таится интуиция самого Спинозы,
интуиция, которую не сможет выразить ни одна формула, как бы проста
она ни была. Очень приближенно можно назвать это чувством
совпадения между актом, посредством которого наш ум в
совершенстве познает истину, и операцией, с помощью которой Бог ее
порождает; это представление о том, что «конверсия» александрийцев
в полностью завершенном виде составляет одно целое с
«процессией»1; когда человеку, отпавшему от божества, удается вернуться к
нему, он замечает единое движение там, где вначале видел два
противоположных движения туда и обратно. На моральный опыт здесь
возлагается задача разрешить логическое противоречие и одним
внезапным упразднением времени превратить возвращение в
движение вперед. Чем ближе мы подойдем к этой первичной интуиции,
тем лучше поймем, что Спиноза, живи он раньше Декарта, написал
бы, возможно, нечто иное, чем то, что вышло в действительности;
но если бы Спиноза жил в наше время, мы все же были бы уверены:
то, что он пишет, и есть спинозизм.
Я обращаюсь к Беркли. Поскольку именно его я избрал в качестве
примера, надеюсь, вы не осудите меня за подробный анализ:
поспешность причинила бы ущерб точности. Достаточно бросить взгляд на
творчество Беркли, чтобы увидеть, что оно сводится к четырем
основным положениям. Первое, определяющее особого рода идеализм
и лежащее в основе новой теории зрения (хотя философ счел
благоразумным представить последнюю как независимую),
формулировалось так: «Материя есть комплекс идей». Согласно второму, абстрак-
207
Мудрость сострадания, мудрость любви
тные и обшие идеи сводятся к словам: это — номинализм. Третье
утверждает реальность духов и характеризует их посредством воли:
скажем, что это — из области спиритуализма и волюнтаризма. Наконец,
последнее, которое можно было бы назвать теизмом, полагает
существование Бога, исходя главным образом из рассмотрения материи.
Так вот, было бы легче легкого найти эти четыре положения,
сформулированные примерно в тех же терминах, у современников или
предшественников Беркли. Последнее из них встречается у теологов.
Третье мы обнаруживаем у Дунса Скота; нечто подобное утверждал
и Декарт. Второе служило предметом средневековых диспутов, а
затем вошло как составная часть в философию Гоббса. Что же до
первого, то оно весьма сходно с «окказионализмом» Мальбранша, идею
и даже формулировку которого мы уже встречали в текстах Декарта;
впрочем, не надо было дожидаться Декарта, чтобы заметить, что
греза обладает видимостью реальности и ни в одном из наших отдельно
взятых восприятий нет ничего, что гарантировало бы существование
вещей вне нас. Итак, уже у древних философов или, если не заходить
так далеко, у Декарта и Гоббса, к которым можно прибавить и Лок-
ка, мы найдем элементы, необходимые для внешнего воссоздания
философии Беркли: ему останется тогда, в качестве его
собственного творения, только лишь теория зрения, оригинальность которой,
отбрасывая свой отблеск на все остальное, придаст своеобразие
всему его учению. Возьмем же эти куски древней и новой философии,
поместим их в одну посуду, добавим по вкусу масло и уксус,
несколько агрессивную нетерпимость в отношении математического
догматизма и естественное для философа-епископа желание примирить
разум и веру, тщательно все перемешаем, бросим сверху, в качестве
специй, несколько афоризмов, подобранных у неоплатоников; и мы
получим — извините за выражение — салат, который издали будет
весьма похож на то, что сделал Беркли.
Но тот, кто поступит таким образом, никогда не сможет постичь
идеи Беркли. Дело даже не в тех трудностях и препятствиях, с
которыми он столкнется в объяснении деталей: необычного
«номинализма», который в конце концов превращает значительное число общих
идей в вечные сущности, имманентные божественному интеллекту;
странного отрицания реальности тел, выражаемого с помощью
позитивной теории природы материи, теории плодотворной и
чрезвычайно далекой от бесплодного идеализма, который уподоблял
восприятие сну! Дело в том, что, внимательно исследуя философию Беркли,
невозможно не заметить, как вначале сближаются, а затем
взаимопроникают выделенные нами четыре положения, так что каждое из
них словно наполняется тремя другими, приобретает рельеф и
глубину и становится в корне отличным от предшествующих или
современных теорий, с которыми его можно было бы чисто внешним об-
208
л. Ьергсон. Философская интуиция
разом сблизить. Конечно, эта вторая точка зрения, видящая в учении
организм, а не механический агрегат, еще не является
окончательной. Но во всяком случае она ближе к истине. Я не могу входить во
все детали; но все же следует показать на ряде примеров, как можно
извлечь из каждого данного положения любое из трех остальных.
Возьмем идеализм. Он заключается не только в констатации
того, что тела являются идеями. К чему бы это привело? Мы были
бы вынуждены по-прежнему утверждать об этих идеях все то, что,
сообразно опыту, утверждаем о телах, и просто заменили бы одно
слово другим; ибо Беркли, конечно, не думает, что после его
смерти материя перестанет существовать. Идеализм Беркли означает, что
материя коэкстенсивна нашему представлению; у нее нет ничего
внутреннего, нет изнанки; она ничего не скрывает, не заключает в
себе, не обладает какими-то особыми способностями или
возможностями; она растянута по поверхности и содержится вся целиком,
в любой момент, в том, что она проявляет. Слово «идея» обычно и
означает существование такого рода, т.е. полностью реализованное
существование, суть которого составляет единое целое с ее
выражением, тогда как слово «вещь» вызывает у нас мысль о реальности,
которая была бы в то же время резервуаром возможностей. Именно
поэтому Беркли предпочитает называть тела идеями, а не вещами.
Но, рассмотрев таким образом «идеализм», мы увидим, что он
совпадает с «номинализмом»; ибо это второе положение, все более
отчетливо утверждаясь в уме философа, со всей очевидностью
ограничивается отрицанием общих абстрактных идей — абстрактных
(abstraites), т.е. извлеченных (extraites) из материи: в самом деле, ясно,
что нельзя извлечь нечто из того, в чем ничего не содержится, а
следовательно, получить из восприятия нечто иное, чем оно само.
Цвет — это всего лишь цвет, а прочность — это прочность, и вы
никогда не найдете ничего общего между прочностью и цветом,
между данными зрения и осязания. Если же вы захотите мысленно
выделить из того и другого нечто общее для них, то, рассматривая
полученный результат, убедитесь, что имеете дело со словом. В этом
и состоит номинализм Беркли; но тем самым — и «новая теория
зрения». Если протяженность, которая была бы одновременно зримой
и осязаемой, есть только слово, то тем более такова протяженность,
которая затрагивала бы одновременно все чувства: это опять-таки
номинализм, — но также и опровержение картезианской теории
материи. Не будем больше говорить о протяженности; укажем только,
что с точки зрения структуры языка выражения «у меня есть
восприятие» и «это восприятие существует» — синонимы, но
поскольку второе вводит одно и то же слово «существование» в описание
совершенно различных восприятий, мы полагаем, что у них есть
нечто общее, и воображаем, что за их различием скрывается некое глу-
14-3436
209
Мудрость сострадания, мудрость любви
бинное единство, единство «субстанции», которая в
действительности есть не что иное, как гипостазированное слово
«существование». В этом — весь идеализм Беркли; и этот идеализм, как я сказал,
составляет одно целое с номинализмом.
Перейдем теперь, если угодно, к теории Бога и духов. Если тело
создано из «идей» или, иначе говоря, если оно полностью пассивно и
законченно, лишено способностей и возможностей, оно не могло бы
действовать на другие тела; и тогда движения тел должны быть
проявлениями активной силы, которая произвела сами эти тела и в силу
порядка, который демонстрирует Вселенная, может быть только
разумной причиной. Конечно, мы совершаем ошибку, возводя в реальности,
под названием общих идей, имена, которые мы дали группам
объектов или восприятий, более или менее искусственно образованных
нами на плоскости материи; но мы не заблуждаемся, когда
обнаруживаем за поверхностью, где растянута материя, божественные
намерения: общая идея, которая существует только на поверхности и вновь
связывает одни тела с другими, конечно, является всего лишь словом,
но общая идея, существующая в глубине, связывающая тела с Богом
или, скорее, нисходящая от Бога к телам, это — реальность; стало
быть, в номинализме Беркли естественно выражается то развитие
учения, которое мы встречаем в «Siris»2 и которое ошибочно принимали
за неоплатонистскую фантазию; иначе говоря, идеализм Беркли —
лишь один из аспектов теории, видящей Бога за всеми
материальными феноменами. Наконец, если Бог запечатлевает в каждом из нас
восприятия или, по словам Беркли, «идеи», то существо, которое получает
эти восприятия или, скорее, идет им навстречу, есть нечто
противоположное идее: это — воля, впрочем, постоянно ограничиваемая
божественной волей. Точка встречи этих двух волений и есть то, что мы
называем материей. Если percipi есть чистая пассивность, то percipere —
чистая активность. Человеческий дух, материя, божественный дух
становятся, следовательно, терминами, выразимыми лишь в отношении
друг к другу. И сам спиритуализм Беркли оказывается только одним
аспектом какого-либо из трех остальных положений.
Таким образом, различные части системы взаимопроникают,
словно в живом существе. Но, как я говорил вначале, хотя картина
этого взаимопроникновения, конечно, дает нам более точное
представление о теле учения, она еще не позволяет нам постичь его душу.
Мы приблизимся к цели, если сможем уловить посредствующий
образ, о котором только что шла речь, — образ, являющийся почти
материей, поскольку его еще можно увидеть, и почти духом,
поскольку его уже нельзя коснуться. Это — фантом, неотступно
сопровождающий нас, когда мы вращаемся вокруг учения; к нему и
нужно обращаться, чтобы добиться решающего знака, указания образа
действий, которого следует придерживаться, и точки, в которую
210
А. Бергсон. Философская интуиция
следует смотреть. Существовал ли когда-нибудь в мысли мэтра тот
посредствующий образ, что проступает в уме толкователя, по мере
того как он продвигается вперед в изучении его творчества? Пусть
это не был тот же образ; но был иной, который, возможно,
принадлежал к другому ряду восприятий и не имел с первым никакого
материального сходства, однако был тождествен ему, как
тождественны два перевода на разные языки, сделанные с одного оригинала.
Быть может, два эти образа, а может, и другие, тоже эквивалентные,
неотступно следовали за философом во всех эволюциях его мысли.
Или, возможно, он не заметил ни одного из них, а время от
времени устанавливал непосредственный контакт с чем-то еще более
тонким — с самой интуицией; но тогда нам, интерпретаторам,
придется воссоздавать посредствующий образ, чтобы избежать опасности
увидеть в «исходной интуиции» смутную мысль, а в духе учения —
абстракцию, тогда как этот дух и есть самое конкретное, а эта
интуиция — самое точное в учении.
Мне кажется, у Беркли можно обнаружить два различных
образа, и тот, что меня больше всего поражает, не тождествен тому,
ясное указание на который мы находим у самого Беркли. На мой
взгляд, Беркли рассматривает материю как тонкую прозрачную
пленку, расположенную между человеком и Богом. Она остается
прозрачной, пока ею не занимаются философы, и тогда сквозь нее
можно увидеть Бога. Но лишь только ее коснутся метафизики или даже
здравый смысл (с тем, что в нем есть метафизического), как
пленка тотчас же становится плотной, непроницаемой и образует экран:
такие слова, как Субстанция, Форма, абстрактная Протяженность и
т.д., скользят позади нее, оседают на ней, как пылинки, и
скрывают от нас просвечивающего сквозь нее Бога. Едва ли этот образ был
указан самим Беркли, хотя он и говорил, что «мы сами поднимаем
пыль, а потом жалуемся, что плохо видим». Но есть иное сравнение,
часто приводившееся философом и представляющее собой слуховой
эквивалент только что описанного мною зрительного образа:
материя — это язык, на котором с нами разговаривает Бог. Метафизики
материи, сгущая каждый из слогов, создавая ему судьбу, возводя в
независимую сущность, перевели наше внимание со смысла на звук
и помешали нам следовать божественному слову. Но к какому бы из
этих образов мы ни обращались, речь идет о простом образе,
который нужно иметь перед глазами, ибо он, не являясь, правда,
исходной интуицией учения, все же непосредственно вытекает из нее и
более близок к ней, чем любое отдельно взятое положение или их
совокупность.
Можем ли мы вновь овладеть этой интуицией? У нас есть
только два способа выражения: понятие и образ. Система развивается в
понятиях; но когда ее перемещают к интуиции, давшей ей начало,
14*
211
Мудрость сострадания, мудрость любви
она сжимается в образ: если же мы хотим превзойти образ и
подняться над ним, то неизбежно вновь скатываемся к понятиям, и к
тому же к понятиям еще более смутным, более общим, нежели те,
от которых мы отправились на поиски образа и интуиции.
Вынужденная принять эту форму, попавшая в запруду на выходе из
истока, первичная интуиция покажется тогда чем-то самым бесцветным
и холодным, что только есть в мире; она предстанет простой
банальностью. Скажи мы, например, что Беркли рассматривает
человеческую душу как отчасти связанную с Богом, а отчасти независимую,
что он ежеминутно осознает самого себя как несовершенную
деятельность, которая присоединилась бы к деятельности более
высокого уровня, если бы между ними не существовало нечто
посредствующее — абсолютная пассивность, — мы выразили бы все то из
исходной интуиции Беркли, что может быть непосредственно
сформулировано в понятиях, и все же мы получили бы нечто
совершенно абстрактное, почти пустое. Будем придерживаться этих формул,
ибо не можем найти лучших, но попробуем вдохнуть в них жизнь.
Возьмем все, что написал философ, возведем эти разрозненные
идеи к первоначальному образу, сведем их, замкнув в этот образ, в
абстрактную формулу, которая наполнится образом и идеями,
обратимся к этой формуле и увидим, как она, столь простая, еще
больше упрощается, по мере того как мы помещаем в нее все большее
число вещей; наконец, поднимемся вместе с ней к точке, где вновь
упруго сжимается все то, что в растянутом виде содержалось в
учении: и тогда мы представим себе, как из этого недоступного
центра силы исходит импульс, рождающий порыв, т.е. саму интуицию.
Четыре положения Беркли появились, потому что это движение
встретило на своем пути идеи и проблемы, которые были
поставлены современниками Беркли. В другое время Беркли, вероятно,
сформулировал бы иные положения; но так как само движение
было бы тем же, они располагались бы таким же образом по
отношению друг к другу, были бы так же тесно связаны между собой,
подобно новым словам новой фразы, между которыми
проскальзывает прежний смысл; и это была бы та же самая философия.
Итак, связь философского учения с предшествующими и
современными ему доктринами отлична от той, что предполагается
общепринятой концепцией истории систем. Неверно, что философ берет
предсуществующие идеи, чтобы растворить их в высшем синтезе или
скомбинировать с новой идеей. С тем же успехом можно было бы
считать, что, для того чтобы разговаривать, мы ищем слова, которые
затем соединяем вместе с помощью мышления. Но дело в том, что
над словом и фразой существует нечто гораздо более простое, чем
фраза и слово: это — смысл, который является, скорее, не мыслимой
вещью, а движением мысли, и даже не столько движением, сколько
212
А. Бергсон. Философская интуиция
направлением. Подобно тому как импульс, сообщенный
эмбриональной жизни, вызывает процесс деления первичной клетки, приводящий
к образованию завершенного организма, так и движение,
отличающее любой акт мысли, вынуждает эту мысль в процессе
возрастающего дробления последовательно охватывать все новые сферы духа,
вплоть до речи. Тогда мысль выражается посредством фразы, т.е.
группы предсуществующих элементов; но она практически
произвольно может выбрать первичные элементы группы, лишь бы только
другие элементы их дополняли: одну и ту же мысль можно
одинаково хорошо выразить различными фразами, составленными из
совершенно разных слов, если эти слова находятся в одном и том же
отношении между собой. Таков процесс речи. Такова и операция,
посредством которой конституируется философия. Философ не
исходит из предшествующих идей; самое большее, можно сказать, что он
к ним приходит. И когда он приходит, идея, вовлеченная таким
образом в движение его духа, одушевляясь новой жизнью, подобно
слову, смысл которого зависит от целой фразы, становится иной, чем
она была вне этого круговорота.
Такую же связь можно обнаружить между философской системой
и совокупностью научных знаний эпохи, в которую жил философ.
Существует определенная трактовка философии, утверждающая, что все
усилия философа направлены на объединение в великом синтезе
результатов частных наук. Конечно, долгое время именно философ
обладал универсальной наукой; и даже сегодня, когда множество частных
наук, разнообразие и сложность методов, огромная масса собранных
фактов делают невозможной аккумуляцию всех знаний в одном уме,
философ в известном смысле остается человеком универсальной
науки: хотя он больше не в состоянии все знать, но нет ничего такого,
чего он не мог бы изучить. Однако разве из этого следует, что его
задача — овладеть готовой наукой и вести ее к возрастающим степеням
общности, приближаясь тем самым к так называемой унификации
знания? Не странно ли, что во имя науки, из уважения к ней нам
предлагают эту концепцию философии: я не знаю концепции более
нелестной для науки и более оскорбительной для ученого. Как! Вот
человек, который долго применял определенный научный метод и
усердно добивался результатов, сообщает нам: «Опыт, при помощи
рассуждения, приводит к тому-то и тому-то; научное знание
начинается тут, а кончается там; таковы мои выводы»; а философ вправе
ответить ему: «Отлично, оставьте это мне, и вы увидите, что я смогу с
этим сделать! Знание, полученное от вас в неполном виде, я дополню.
Представленные вами разрозненные сведения — объединю.
Используя тот же материал — ведь я, разумеется, буду придерживаться тех
фактов, которые вы наблюдали, — и те же методы работы, ибо я
должен ограничиваться, как и вы, индукцией и дедукцией, я сделаю не-
213
Мудрость сострадания, мудрость любви
что большее и лучшее, нежели удалось сделать вам». Действительно,
странная претензия! Как могла бы профессия философа сообщить ему
способность продвинуться дальше, чем наука, в том же направлении?
Я первым признаю, что некоторые ученые больше, чем другие,
способны к развитию и обобщению своих результатов, более склонны
возвращаться назад и критиковать собственные методы; что в этом особом
смысле слова их называют философами; что такой философией может
и должна обладать каждая наука. Но эта философия относится еще к
сфере науки, и тот, кто занимается ею, — ученый, а не философ.
Больше не может быть речи о превращении философии в синтез
позитивных наук и о претензии, в силу одних лишь свойств философского
духа, ставить ее выше науки в обобщении тех же фактов.
Такое понимание роли философа было бы оскорбительным для
науки. Но насколько оскорбительнее оно для философии! Разве не
очевидно, что там, где ученый делает остановку на пути обобщения и
синтеза, останавливается и то, что мы могли развивать с помощью
объективного опыта и строгого рассуждения. И отныне, собираясь
двигаться дальше в том же направлении, сможем ли мы выйти из области
произвольного или по крайней мере гипотетического? Превращать
философию в сумму обобщений, превосходящую научный синтез, —
значит желать, чтобы философия довольствовалась правдоподобием,
чтобы ей было достаточно лишь вероятности. Я хорошо знаю, что для
большинства из тех, кто следит со стороны за нашими дискуссиями,
наша область и вправду есть сфера просто возможного, в лучшем
случае— вероятного; они охотно сказали бы, что философия начинается
там, где кончается достоверность. Но кто из нас пожелал бы
философии подобной участи? Конечно, не все в равной мере проверено и
проверяемо в том, что нам сообщает философия, и к сути
философского метода относится требование, чтобы разум часто и в
отношении многих вопросов соглашался на риск. Но философ избегает
этих опасностей, ибо он застраховался от них: ведь есть вещи, в
которых он чувствует себя непоколебимо убежденным. Он сможет
убедить в этом и нас, если передаст нам интуицию, в которой он
черпает силы.
Философия действительно не является синтезом частных наук.
Правда, она нередко располагается на территории науки, постигая
иногда в более простом видении объекты, которыми занимается
наука; но это происходит не благодаря интенсификации науки или
переносу ее результатов на более высокий уровень обобщения. Не было
бы нужды в существовании двух способов познания, философии и
науки, если бы опыт не представал нам в двух различных аспектах: с
одной стороны, в виде фактов, которые сопоставляются с другими
фактами, повторяются, приблизительно измеряются и, наконец,
развертываются в форме раздельной множественности и простран-
214
А. Бергсон. Философская интуиция
ственности, а с другой стороны, в виде взаимопроникновения,
представляющего собой чистую длительность, неподвластную закону и
мере. В обоих этих случаях опыт означает сознание; но в первом
сознание расширяется вовне, экстериоризируясь в отношении к
самому себе именно в той мере, в какой оно усматривает вещи,
внешние по отношению друг к другу; во втором оно возвращается к
себе, вновь овладевает собой и углубляется в себя. Измеряя таким
образом свою собственную глубину, проникает ли оно дальше
внутрь материи, жизни, реальности в целом? Можно было бы это
оспаривать, если бы сознание надстраивалось над материей как ее
акциденция; но мы показали, что подобная гипотеза в зависимости
от того, как ее толкуют, является нелепой или ложной,
самопротиворечивой или противоречащей фактам. С этим еще можно было бы
спорить, если бы человеческое сознание, несмотря на свое родство
с сознанием более обширным и высоким, находилось в стороне,
если бы человек должен был держаться в уголке природы, как
наказанный ребенок. Но нет! Материя и жизнь, наполняющие мир,
присутствуют и в нас; мы чувствуем в себе силы, которые действуют во
всех вещах; какова бы ни была внутренняя сущность того, что
существует и создается, мы являемся ее частью. Спустимся же внутрь самих
себя: чем глубже расположена точка, которой мы коснемся, тем
сильнее будет импульс, который вернет нас на поверхность. Философская
интуиция и есть это прикосновение, а сама философия — этот порыв.
Возвращенные наружу импульсом, исходящим из глубины, мы вновь
вернемся к науке, по мере того как наша мысль будет развертываться
и раздробляться. Значит, нужно, чтобы философия могла
формироваться по образцу науки, и идея, мнимо интуитивная по
происхождению, которая не смогла бы, разделяясь на части, охватить наблюдаемые
вовне факты и увязывающие их между собой законы, которая не была
бы способна исправить некоторые обобщения и вновь произвести
определенные наблюдения, была бы чистой фантазией; она не имела бы
ничего общего с интуицией. Но, с другой стороны, идея, которую
удается в точности применить к фактам и законам благодаря ее
дроблению, не является результатом объединения внешнего опыта; ибо
философ не пришел к единству, а ушел от него. Я говорю, разумеется, о
единстве одновременно ограниченном и относительном, подобном
тому, что дает возможность выделить живое существо из
совокупности вещей. Деятельность, с помощью которой философия могла бы
ассимилировать результаты позитивной науки, как и операция,
позволяющая философии как бы собирать в себе фрагменты предшествующих
учений, является не синтезом, но анализом.
Наука — это помощник действия. А действие нацелено на
результат. Значит, научный интеллект задается вопросом: что нужно
сделать, чтобы достичь определенного желаемого результата, или,
215
Мудрость сострадания, мудрость любви
более обобщенно, — какие условия нужно создать для появления
известного феномена? Он идет от одного сочетания вещей к
другому, от одновременности к одновременности. Он неизбежно
пренебрегает тем, что происходит в интервале; а если он занимается этим,
то лишь для того, чтобы наблюдать другие сочетания и новые
одновременности. С методами, предназначенными для достижения
всего готового, он вообще не смог бы проникнуть в то, что еще
создается, следовать за движущимся, понять становление, которое и
является самой жизнью вещей. Эта задача по силам лишь
философии. В то время как ученый, принужденный рассматривать
движение с точки зрения неподвижности и искать повторений в том, что
не повторяется, стремящийся разделить реальность на
последовательные уровни развертывания, чтобы подчинить ее воздействию
человека, должен хитрить с природой, принимать по отношению к
ней позицию недоверия и борьбы, философ подходит к ней
по-дружески. Правило науки было в свое время верно определено
Бэконом: повиноваться, чтобы властвовать. Философ не повинуется и не
властвует; он стремится к симпатии.
И с этой точки зрения сущность философии есть дух простоты.
Рассматриваем ли мы философский дух в нем самом или в его
творениях, сравниваем ли философию с наукой или одну философскую
концепцию с другими, мы всегда обнаруживаем, что усложнение —
поверхностно, конструкция — второстепенна, синтез — это
видимость: философствование есть простой акт.
Чем больше мы проникнемся этой истиной, тем больше будем
склонны вывести философию за рамки школы и приблизить ее к
жизни. Конечно, позиция обыденного сознания, зависящая от
строения органов чувств, интеллекта и языка, более близка к позиции
науки, чем к позиции философии. Я понимаю под этим не только
то, что общие категории нашего мышления те же, что и категории
науки; что великие пути, прочерченные нашими чувствами через
непрерывную реальность, аналогичны тем, которыми пройдет
наука; что восприятие — рождающаяся наука, а наука — зрелое
восприятие; что обыденное знание и знание научное, предназначенные
для подготовки нашего воздействия на вещи, с необходимостью
являются двумя сходными способами видения, хотя и различны по
точности и значению. Я хочу в особенности подчеркнуть, что
обыденное знание, как и научное, вынуждено, и по тем же причинам,
брать вещи в распавшемся на куски времени, где мгновение, не
имеющее длительности, следует за мгновением, которое больше не
длится. Движение является для него серией положений,
изменение — рядом качеств, становление в целом — серией состояний.
Оно исходит из неподвижности (как будто неподвижность не
является лишь видимостью, сравнимой с тем особым впечатлением,
216
А. Бергсон. Философская интуиция
которое один предмет получает от другого, когда оба равномерно
движутся друг относительно друга) и с помощью хитроумного
сочетания неподвижностей создает имитацию движения, которой
замещает само движение. Операция эта практически удобна, но
теоретически абсурдна; она чревата всеми противоречиями, всеми ложными
проблемами, с которыми сталкиваются Метафизика и Критика.
Но именно потому, что обыденное сознание отворачивается
здесь от философии, достаточно будет добиться от него резкого
изменения взгляда, чтобы переместить его в сторону философской
мысли. Конечно, интуиция содержит много степеней
интенсивности, а философия — много уровней глубины; но дух, который
постигнет реальную длительность, отныне будет жить интуитивной
жизнью, и его знание о вещах станет уже философским. Вместо
отдельных моментов, размещенных в бесконечно делимом времени,
он увидит непрерывную текучесть неделимого реального времени.
Вместо поверхностных состояний, которые поочередно облекают
безразличную вещь, вступая с ней в загадочное отношение
феномена и субстанции, он уловит одно и то же изменение, которое
длится, все время ускоряясь, как в мелодии, где все является
становлением, но где само становление, будучи субстанциальным, не
нуждается в подпоре. Чем больше инертных состояний, тем больше
мертвых вещей; лишь подвижность обеспечивает постоянство
жизни. Подобное видение вещей, где реальность предстает
непрерывной и нераздельной, и ведет к философской интуиции.
Следовательно, чтобы прийти к интуиции, не обязательно
выходить за пределы чувств и сознания. Кант ошибался, утверждая
это. Доказав с помощью решающих аргументов, что никаким
усилием диалектики мы не сможем достичь потустороннего мира и
что действенная метафизика по необходимости была бы
интуитивной, он добавляет, что этой интуиции мы лишены, а метафизика
эта невозможна. Так бы и было на самом деле, если бы не
существовало иного времени и изменения, нежели те, которые были
известны Канту и которые, впрочем, мы считаем необходимыми,
ибо наше обычное восприятие не могло бы выйти за пределы
времени и постичь нечто неизменное. Но время, в котором мы
естественно располагаемся, изменение, которое мы обычно
наблюдаем, — это время и изменение, которые наши чувства и сознание
обратили в прах, чтобы облегчить наше воздействие на вещи.
Исправим же то, что они сделали, вернем наше восприятие к его
истокам, и мы получим совершенно новое знание, не прибегая для
этого к новым способностям.
Если такое знание станет всеобщим достоянием, это принесет
пользу не только умозрению. Повседневная жизнь может быть им
согрета и освещена. Ибо мир, куда обычно вводят нас наши чув-
217
Мудрость сострадания, мудрость любви
ства и наше сознание, есть лишь тень его самого; и он холоден как
смерть. Все в нем устроено к нашему наибольшему удобству, но все
существует в настоящем, которое словно бы постоянно начинается
вновь; и мы сами, искусственно сформированные по образу не
менее искусственной Вселенной, наблюдаем себя в мгновенном,
говорим о прошлом как об утраченном, видим в воспоминании факт
странный или во всяком случае чуждый — помощь, оказанную духу
материей. Если мы, напротив, осознаем себя такими, какие мы есть,
в плотном и эластичном настоящем, которое мы можем
бесконечно растягивать назад, все больше и больше отодвигая экран,
заслоняющий нас от самих себя; если мы осознаем и внешний мир таким,
какой он есть, не только поверхностно, в настоящий момент, но в
глубине, с ближайшим прошлым, которое давит на настоящее и
запечатлевает на нем свой порыв; словом, привыкнем видеть все вещи
sub specie durationis*, — то напряженное тотчас расслабится,
дремлющее пробудится, мертвое возродится в нашем ожившем восприятии.
То наслаждение, которое искусство приносит (и то лишь изредка)
только людям, избранным природой и фортуной, философия, о
которой идет речь, дала бы в любой момент нам всем, вдыхая новую
жизнь в окружающие нас призраки и вновь пробуждая к жизни нас
самих. Тем самым она дополнила бы науку как в практике, так и в
теории. Наука со всеми своими практическими приложениями,
нацеленными на удобство существования, сулит нам комфорт, самое
большее — удовольствие. Но лишь философия могла бы дать нам
радость.
218
И.И. Блауберг
Анри Бергсон
Один из родоначальников современной западной философии, Анри
Бергсон (1859-1941), наряду с В. Дильтеем, О. Шпенглером, У. Джемсом
и другими принадлежит к плеяде философов, стоявших «на перепутье»
двух столетий, двух философских традиций. Возникновение бергсонов-
ской концепции знаменовало собой радикальный поворот во
французской философии от позитивизма к интуитивизму, изменение способа
философствования, представления о целях и задачах философии.
Главной своей задачей Бергсон с самого начала считал создание
«позитивной метафизики», которая смогла бы возродить и обновить
традиционную философскую проблематику, вернуть философии ее
прежнее значение, оспаривавшееся позитивизмом. В то же время
долгие годы господства позитивизма во Франции не могли в
определенной мере не сказаться на философской позиции самого Бергсона:
отрицая позитивизм как теорию, он признавал оправданность
принципа опоры на факты. Отныне, по убеждению Бергсона, философия
могла сохранить и упрочить свое положение, пошатнувшееся под
натиском частных наук, только став «позитивной», т.е. неукоснительно
следующей фактам опыта. Эта установка заявила о себе уже в первых
работах Бергсона; он оставался ей верен до конца, считая
несомненным достоинством собственной философии именно согласие с
опытом, будь то опыт «непосредственных данных сознания» или опыт
христианских мистиков.
Факты сознания, по преимуществу интересовавшие Бергсона в
первый период его творчества и проанализированные им в работах
«Опыт о непосредственных данных сознания» (1889) и «Материя и
память» (1896), — это факты особого рода. Бергсон исследует
сознание на глубинном, дорефлексивном уровне, где данные сознания не
искажены еще вмешательством интеллекта с его
практически-целесообразными установками. «Позитивная метафизика» в ранних
работах Бергсона приобретает форму «метафизики психологии»: здесь
анализируются философские основания психологии, основания
непосредственного опыта, над которым надстраиваются остальные
формы активности и сознания человека. И хотя исследование
сознания в классической рационалистической традиции не прошло мимо
внимания Бергсона (он высоко оценивал, к примеру, идею Канта о
связи внутреннего чувства с временем), сам он стал одним из
инициаторов иной философской традиции — интуитивизма и философии
жизни, — во многом определившей последующие пути движения
философской мысли. Рационализм, по Бергсону, витал в сфере
абстрактного, вневременного, рассуждая об идеях, а не о конкретных фактах,
219
Мудрость сострадания, мудрость любви
и потому не смог понять значения двух основополагающих
первичных фактов сознания: времени и свободы.
Время и свобода стали ключевыми темами ранней философии
Бергсона. В «Опыте о непосредственных данных сознания» изложена
концепция длительности, которая перевернула традиционные
философские представления о времени и свидетельствовала о существенном
сдвиге в философском осмыслении и описании реальности. Время, по
Бергсону, не есть нечто абстрактное, текущее независимо от нас: оно
составляет внутреннюю суть нашего сознания, живет и звучит в нас,
как «непрерывная мелодия нашей внутренней жизни». Эту мелодию
нельзя разбить на отдельные моменты, как нет и изолированных
состояний души, поддающихся измерению: все в ней взаимопереплетено,
все находится в динамически-напряженном синтезе, в процессе
постоянного творчества и изменения. А это значит, что сознание человека
нельзя изучать прежними методами, которыми пользуется
ассоциативная психология; здесь бессильна психофизика, применявшая
экспериментальные способы анализа сознания. Ведь в человеческой душе нет
ничего пространственного, протяженного, ничего количественного:
есть лишь чистое качество, реальное время. Собственно говоря,
длительность, творчество, свобода, становление — все это для Бергсона
синонимы, обозначающие качественную неповторимость,
неисчерпаемость и целостность индивидуального сознания, неподвластную
традиционным интеллектуальным методам исследования и постигаемую
с помощью особой способности — интуиции.
Понятие интуиции в отчетливом виде появилось у Бергсона в 1903 г.
в работе «Введение в метафизику». Но идея об особом,
непосредственном способе познания высказывалась Бергсоном раньше — в «Материи
и памяти», где дано, по существу, обоснование интуитивизма как
философской системы, исходящей из первичных данных сознания.
Дальнейшее развитие тема интуиции нашла в статьях, написанных Бергсоном в
начале XX в. и составивших впоследствии его сборники «Духовная
энергия» (1919) и «Мысль и движущееся» (1934), а также в «Творческой
эволюции» (1907) — работе, принесшей Бергсону славу и вызвавшей резкий
взлет интереса к интуитивизму во Франции и других странах.
В статьях Бергсон главным образом продолжал философско-психо-
логический анализ, начатый в ранних работах; здесь в полной мере
проявились его качества мастера психологического исследования,
способного различать и описывать смену тончайших нюансов
человеческих чувств. Писал ли он о бессознательном или памяти, о сновидении
или восприятии произведений искусства — это всегда были
своеобразные психологические этюды, зарисовки, эссе. В работе
«Интеллектуальное усилие» он излагает концепцию «динамической схемы»,
дополняющую и развивающую представление об интуиции. Динамическая
схема является как бы «предобразом», в котором в слитном, целостном
220
И.И. Блауберг. Анри Бергсон
виде содержится то, что затем в образе выступит в виде отдельных,
внешних друг другу частей. Схема «представляет динамически, в
становлении, то, что образы дают нам в статическом состоянии как
законченное. Она бывает налицо и действует во время работы вызова
образов, и сглаживается и исчезает позади вызванных образов,
выполнив свою роль»4. Фактически это — та самая интуиция целого, которую
Бергсон кладет в основание истинного познания. Интуиция, с его
точки зрения, не нуждается в дальнейших обоснованиях, она
самоочевидна, в этом и заключается гарантия истинности базирующегося на ней
знания. Из подобных интуиции, непосредственно схватывающих
предмет в его целостности и динамическом становлении, складывается
собственно философское знание, способное не «вращаться вокруг
предмета», как это делает интеллект, а постичь его подлинную суть.
Прообразы такого интуитивного знания мы находим, считает Бергсон,
и в своем повседневном опыте, и в художественном творчестве.
В «Творческой эволюции» проблема интуиции рассматривается в
ином плане, в более широком контексте. Концепция интеллекта и
интуиции (а соответственно — науки и философии) обосновывается
с точки зрения теории эволюции, исходящей из идеи «жизненного
порыва». В грандиозной картине эволюционного развертывания
жизненного порыва, становления мира и человечества интеллект и
интуиция приобретают статус уже не просто разных способов познания,
но разных форм жизни, ход развития которых определяет и
конкретные особенности человеческого рода. Преимущественное развитие
интеллектуальных форм познания привело в конечном итоге,
полагает Бергсон, к появлению «homo faber» — человека, производящего
искусственные орудия и подчиненного в своей деятельности
практическим потребностям. Это во многом и стало причиной
противоречий современной цивилизации, озабоченной нуждами
научно-технического прогресса и упустившей из виду развитие духовной культуры.
Эволюционная концепция Бергсона приводит к важным
культурологическим выводам, среди которых существенное место занимает
сформулированный Бергсоном идеал — представление об
«интуитивном» человечестве, преодолевающем односторонность «homo faber».
Этот идеал был конкретизирован впоследствии в «Двух источниках
морали и религии» (1932), где эволюционная концепция Бергсона
получила дальнейшее обоснование. Центральные темы изложенной здесь
этико-религиозной и культурологической теории («открытое» и
«закрытое» общество, «статическая» и «динамическая» мораль и религия)
рассмотрены с позиций христианского мистицизма, духовный опыт
которого стал для Бергсона решающим в определении его собственных
философских установок и предпочтений. В «Двух источниках» на
первый план выступила особая форма интуиции — религиозное
переживание, неоднократно описанное христианскими мистиками в их свиде-
221
Мудрость сострадания, мудрость любви
тельствах о восприятии присутствия Бога. Опираясь на эти
свидетельства, Бергсон достроил до конца свою философско-эволюционную
концепцию, представив Бога как источник жизненного порыва.
Черты же «интуитивного» человечества он обнаружил в «открытом»
обществе, объединяющем избранных личностей, моральных героев,
пророков, мистиков, ставших образцами жизни и поведения для окружавших
их людей.
Таким образом, интуитивизм Бергсона на разных этапах его
философской деятельности углублялся и наполнялся новым содержанием.
Само понятие интуиции у Бергсона очень многозначно. Рассматривая
его в психологическом и гносеологическом планах, Бергсон
способствовал расширению понятия рациональности, ставшему одним из
существенных признаков так называемого неклассического стиля
философствования. Особые функции выполняет интуиция как одно из
направлений развития жизни в эволюционном процессе. В
своеобразной динамической и органической картине мира, нарисованной
Бергсоном в «Творческой эволюции» и в немалой степени вдохновившей
выдающихся эволюционистов XX в. — П. Тейяра де Шардена и В.И.
Вернадского, человек непосредственно и нерасторжимо связан с
миром посредством особых жизненных форм, высшей из которых
является интуиция. Кроме того, понятие интуиции несет в себе и
моральный, практический смысл. Интуиция выступает у Бергсона не только
как познание, но и как миросозерцание, способ жизненной
ориентации человека, позволяющий ему постичь свою подлинную сущность,
осознать свою свободу и в соответствии с этим духовным опытом
строить свою жизнь и отношения с другими людьми.
Высоко ставя интуицию в целом, Бергсон считал главным своим
достижением «интуицию длительности», из которой выросла его
собственная философская система. В глубине каждого философского
учения, по Бергсону, коренится первичная, исходная интуиция,
определяющая суть учения и его последующее развитие. Эта интуиция
не зависит от условий времени и места, не связана с эпохой, в
которую она возникла, но вынуждена применяться к уже существующим
способам выражения. Этой теме посвящен публикуемый доклад
Бергсона на философском конгрессе в Болонье (1911), где он предложил
оригинальный подход к исследованию истории идей; в докладе ярко
выразились представления Бергсона о сути философии и
философского творчества, об особенностях историко-философского процесса,
об отношении философии и науки.
Неважно, сказал Бергсон, когда именно жили Декарт, Спиноза
или Беркли, какие идеи предшествовавших и современных
философов они использовали. Важно лишь то, что они в итоге смогли
выразить, а это была всегда основная мысль, выросшая из их первичной
интуиции. И эта мысль и делает Декарта — Декартом, а Спинозу —
222
И,И. Блауберг. Анри Бергсон
Спинозой, в какую бы эпоху она ни была высказана. В
доказательство этого положения Бергсон подробно разбирает философию
Беркли. Не случайно в качестве примера взят именно Беркли: он
принадлежал к числу мыслителей, особенно интересовавших Бергсона,
тех, с кем Бергсон чувствовал некую внутреннюю связь; его
концепции Бергсон посвятил в начале века один из своих спецкурсов в
Коллеж де Франс.
Вероятно, с мнением Бергсона можно и нужно поспорить. Его
собственная философия, безусловно, продолжает многие и давние
философские традиции, без которых она просто не была бы
возможна (среди них назовем прежде всего традицию неоплатонизма). Но
дело здесь, скорее, в другом. Действительно, как часто мы подходим
к мыслителю с противоположными мерками: это взято у одного, то
заимствовано у другого — и оказывается, что «король-то голый»,
ничего своего не осталось. Мысль Бергсона и интересна этой
выраженной, быть может, в парадоксальной форме верой: своеобразие,
оригинальность, талант неразложимы на части, они просто либо есть,
либо их нет. Переплавленные в горниле философского творчества,
слитые с оригинальной мыслью, все влияния и предшествующие
традиции приобретают безусловно новое качество и новый смысл.
В «Философской интуиции» провозглашается принцип
органической целостности, особенно важный для Бергсона: философская
система, говорит он, это не механизм, не агрегат, состоящий из отдельных
частей, но организм со своей душой, которую должен постичь
интерпретатор. Темы, разбираемые Бергсоном, напоминают о Дильтее, о
Шпенглере; здесь тоже, по существу, исследуется проблема понимания
и истолкования духовных целостностей, феноменов культуры.
Примечания
Перевод с издания: Bergson И. La pensée et le mouvant. Paris, 1966. P. 117-142.
1 Здесь имеется в виду концепция Плотина о восхождении души к Единому и
нисхождении Единого в чувственный, материальный мир. — Прим. пер.
2 «Сейрис, или Цепь философских размышлений и исследований» — работа Дж.
Беркли. — Прим. пер.
3 С точки зрения длительности (лат.). — Прим. пер.
4 Бергсон А. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1913-1914. Т. 4. С. 154.
223
Мудрость сострадания, мудрость любви
Карл Ясперс
Введение в философию
1. Что есть философия?
Вопрос о том, что есть философия и чего она стоит, всегда вызывает
споры и дискуссии. От философии ждут нешаблонных, ярких в своей
необычности разъяснений или же равнодушно отстраняют ее от себя
как беспредметное мышление. На нее, преисполнившись робостью,
взирают как на результат значительных усилий неординарных людей
или же презирают ее как никому не нужные умствования фантазеров.
В сознании людей философия выступает как то, что касается каждого,
и потому в основе своей она должна была бы быть простой и
понятной; либо же ее считают такой трудной, что занятие ею
представляется делом безнадежным. То, что выступает под именем философии,
действительно дает основание для столь противоположных суждений.
Для человека, приверженного науке, самым скверным в
философии оказывается то, что она вовсе не дает результатов, пригодных для
всеобщего употребления, не дает того, что можно знать и чем,
следовательно, можно владеть. В то время как наука в сфере своей
деятельности добилась строго определенных и признанных всеми
результатов познания, философия, несмотря на тысячелетние усилия, не
достигла этого. Действительно, в философии нет единодушия в
определении того, что можно трактовать как окончательно познанное. То,
что в силу необходимости признается каждым человеком, обретает
тем самым статус научного знания; оно не является более
философией, а соотносится с определенной областью познаваемого.
Философскому мышлению, ко всему прочему, не свойственна, как
это имеет место в научном знании, вовлеченность в некий
прогрессирующий процесс. Разумеется, мы ушли значительно дальше
Гиппократа, греческого врачевателя. Но вряд ли у нас есть основания говорить
о том, что мы превзошли Платона. Только в области научных данных,
которые он использует, мы добились преимущества. В
философствовании же как таковом мы, быть может, едва ли приблизились к нему.
То, что в отличие от образа какой-либо конкретной науки тот или
иной образ философии не находит единодушного признания, необ-
224
К. Ясперс. Введение в философию
ходимо связано с самой ее природой. Тот вид определенности, к
которому стремятся в философии, не есть научный, т.е. равнозначный
для всякого рассудка; это — удостоверенность, в подтверждении
которой участвует человек всем своим существом. В то время как
объектом научного познания становятся отдельные предметы, знание о
которых вовсе не обязательно для каждого, в философии речь идет о
бытии как целом, что затрагивает человека в качестве человека, об
истине, которая там, где она проявляется, открывает много больше
любого научного постижения.
Философия на современном этапе связана, правда, с науками. Она
имеет своим условием научные знания на той стадии развития,
которой они достигли в соответствующую эпоху. Но истоки у смысла
философии иные. Философия возникает до всякой науки, там, где люди
пробуждаются и начинают мыслить.
Эту философию без науки мы представим на примере некоторых
примечательных явлений.
Во-первых. Едва ли не каждый человек считает себя способным
выносить суждения о вещах философских. Признано, что условием
понимания в области научного знания является соответствующее
обучение, владение методом; в то же время в отношении философии
выдвигаются притязания на то, чтобы без каких-либо условий
участвовать в сотворении философии и говорить от ее имени.
Собственное человеческое бытие, жизненный путь людей и их личный опыт
расцениваются как достаточная предпосылка для этого.
Следует согласиться с тем, что философия должна стать доступной
каждому. Ведь самые сложные и запутанные пути философии,
которыми идут люди, специально занимающиеся философией, имеют
смысл только тогда, когда они вливаются в человеческое бытие,
которое определяется тем, насколько оно уверено в бытии и через него
в самом себе.
Во-вторых. Философское мышление должно постоянно оставаться
изначальным. Каждый человек должен осуществлять его
самостоятельно.
Замечательным свидетельством того, что человек как таковой
философствует изначально, являются вопросы детей. Отнюдь не редко
из уст ребенка мы слышим то, что по своему смыслу
непосредственно восходит к глубинам философствования. Приведу примеры.
Ребенок удивляется: «Я все время пытаюсь думать, что я — это
другой, но всегда оказывается, что это снова я». Этот мальчик
касается истока всякой достоверности — сознания бытия в самосознании.
Его поражает загадка бытия своего Я, того, что нельзя понять ни из
чего иного. Он стоит, вопрошая, у этой границы.
Другой ребенок слушает историю сотворения мира: вначале Бог
создал небо и землю... и тут же спрашивает: «Что же было до начала?»
iC_ ЪЛЪС
225
Мудрость сострадания, мудрость любви
Этот мальчик ощутил беспредельность дальнейшего вопрошания,
неудержимость разума, узнал, что для него окончательный, подводящий
черту ответ невозможен.
Во время прогулки на лесной опушке девочке рассказывают
сказку об эльфах, которые по ночам водят там хороводы... «Но ведь их
нет...» Тогда ей рассказывают о реально существующих вещах, о
движении Солнца, о вращении Земли, приводят доводы, которые
говорят о шарообразности Земли и о ее вращении вокруг самой себя...
«Ах, это ведь неправда, — говорит девочка и топает ногами по
земле, — Земля стоит крепко. Я верю только тому, что вижу». На это ей
говорят: «Тогда ты не веришь в Бога, его ты ведь тоже не можешь
видеть». Девочку это озадачивает, но затем она очень решительно
заявляет: «Если бы его не было, тогда бы ведь и нас совсем не было». Этот
ребенок оказался охвачен изумлением перед тут-бытием: оно не
обусловлено самим собой. И он постиг различие в вопрошании:
направлено ли оно на предмет, существующий в мире, или на бытие и наше
тут-бытие в целом.
Другая девочка идет в гости и поднимается по лестнице. Она
видит, как все вокруг постоянно меняется, проплывает мимо, исчезает,
словно этого вовсе не было. «Но ведь должно же существовать что-то
прочное... то, что я здесь и сейчас поднимаюсь по ступенькам к
тете, — это я хочу удержать». Беспомощность, удивление и испуг
перед универсальной преходящестью, исчезновением пытается найти
для себя выход.
Тот, кто задался бы целью собрать все это воедино, мог бы
рассказать о богатой детской философии. Возражение, что дети могли
ранее слышать все это от родителей или от других, явно нельзя считать
серьезным. Следующее возражение, что эти дети не развивают далее
свое философствование и что, стало быть, такие высказывания могут
быть только случайными, упускает из виду следующий факт: дети
часто обладают гениальностью, которая утрачивается по мере
взросления. Все выглядит так, словно мы с годами становимся пленниками
условностей и мнений, попадаем в мир масок, где не существует
никаких вопросов, теряя при этом непосредственность ребенка.
Ребенок еще живет с открытыми глазами, он чувствует, видит и
спрашивает — все это вскоре от него уходит. Он теряет то, что в какой-то миг
ему открылось, и удивляется, когда взрослые сообщают ему
впоследствии по своим записям, что он говорил и о чем спрашивал в детстве.
В-третьих. Изначальное философствование проявляется как у
детей, так и у душевнобольных. Временами (правда, довольно редко)
случается так, будто срывается покров и проникновенная истина
заявляет о себе. При некоторых душевных заболеваниях на начальной
стадии могут иметь место метафизические откровения чрезвычайного
характера, однако по своей форме и языку они далеки от того, что-
226
К. Ясперс. Введение в философию
бы обрести объективное значение; хотя бывают и исключения, как в
случае с поэтом Гёльдерлином или с художником Ван Гогом. Но тот,
кто при этом присутствует, не может освободиться от впечатления,
будто он видел, как срывалось покрывало с нашей обыденной жизни.
Бывает, что и здоровый человек в момент пробуждения ото сна
переживает глубокую тревогу, как если бы перед ним раскрылись тайные
смыслы, которые при полном пробуждении исчезают, и остается
только ощущение того, что он уже никогда не проникнет в них. Есть
глубокий смысл в высказывании: дети и сумасшедшие говорят
истину. Но творящая изначальность, которой мы обязаны великими
философскими мыслями, принадлежит не им, а тем отдельным
личностям, которые в своей непосредственности и независимости в
качестве немногих великих умов являлись в ходе тысячелетий.
В-четвертых. Так как человек не может обойтись без философии,
она неизменно наличествует в общественной жизни, в
унаследованных от прошлого пословицах, в известных изречениях, в
господствующих убеждениях, как, например, в языке просветительства,
политических верованиях, но прежде всего, с самого начала истории — в
мифах. От философии нельзя уйти. Вопрос только в том, осознана
она или нет, хороша или плоха, запутана она или ясна. Кто
отвергает философию, тот и сам занят философией, не осознавая этого.
Что же в этом случае есть философия, которая проявляется столь
универсально и заявляет о себе в столь необычных образах?
Греческое слово «философ» (Philosophos) образовано в противовес
слову «софос». Оно означает: любящий познание (суть вещей), в
отличие от того, кто, обладая знанием, называл себя знающим. Этот
смысл слова сохраняется до сегодняшнего дня: поиск истины, а не
обладание истиной составляет суть философии, даже если она часто
предавала это в угоду догматизму, т.е. выраженному в предложениях
конечному, завершенному и наставническому знанию. Философия
означает быть в пути. Ее вопросы более сущностны, чем ее ответы, и
каждый ответ превращается в новый вопрос.
Но это в-пути-бытие — судьба человека во времени — таит в себе
возможность глубокого удовлетворения, а в высшие мгновения —
совершенства. Таковое никогда не окажется внутри выразимого знания,
предложений и утверждений, ибо оно обретает свое место в
историческом осуществлении (Verwirklichkeit) бытия человека, которому
открывается само бытие. Обрести эту действительность (Wirklichkeit) в
ситуации, в которой в тот или иной момент оказывается человек, —
в этом суть философствования.
Продвигаться вперед в поиске или обретать спокойствие и
завершенность мгновения — это не определения философии. В
философии нет ничего вышестоящего, ничего второстепенного. Ее нельзя
вывести из чего-либо другого. Всякая философия определяет себя
227
Мудрость сострадания, мудрость любви
самое посредством своего осуществления. Узнать, что есть
философия, можно лишь путем испытания, из собственного опыта. Тогда
философия — одновременно осуществление живой мысли и
рефлексия по поводу этой мысли, или деяние и говорение по поводу оной.
Только собственное усилие, испытание помогут воспринять то, что
нам в мире встречается как философия.
Но мы можем привести и другие формулировки относительно
смысла философии. Ни одна из них не исчерпывает этого смысла, и
ни одна не оказывается единственной. От древнейших времен до нас
дошло следующее: философия (согласно ее предмету) есть познание
божественных и человеческих вещей, познание сущего как сущего,
далее (согласно ее цели) она есть учение умирания, есть стремление
мысли к обретению блаженства, уподобление божественному,
наконец, она (по своему объемлющему смыслу) есть наука всех наук,
искусство всех искусств, наука вообще, не направленная на какую-то
отдельную область.
Сегодня о философии, видимо, возможно говорить в следующих
формулировках; смысл ее в том, чтобы:
узреть действительность в ее истоках;
охватывать действительность так, как я, мысля, обхожусь с самим
собой посредством внутреннего действия;
открывать себя простору объемлющего;
в любящей борьбе вступать в коммуникацию, идущую от
человека к человеку, опосредствованную смыслом истины;
терпеливо и неустанно сохранять разум бодрствующим как перед
тем, что есть наиболее чуждого, так и перед тем, что вступает в борьбу.
Философия — это то, посредством чего человек становится
самим собой, в то время как он становится сопричастным
действительности.
Хотя философия, будучи выражена в форме простых и
действенных мыслей, способна взволновать любого человека, даже ребенка, ее
сознательная разработка есть задача, никогда не завершающаяся и
каждый раз возникающая вновь, постоянно осуществляющая себя
как присутствующее в настоящем целое; такая философия является
нам в произведениях великих философов и как их отголосок — у
менее значительных мыслителей. Сознание этой задачи будет жить в
какой угодно форме, пока люди остаются людьми.
Философия сегодня не впервые подвергается радикальным
нападкам и отрицается в целом как ненужная и вредная. К чему она нам?
Она ведь окажется несостоятельной в годину испытаний.
Церковно-авторитарный способ мышления отринул
самостоятельную философию, так как она якобы отдаляет людей от Бога,
обольщает земным, обращаясь к ничтожному, портит душу.
Политико-тоталитарный способ мышления предъявил иск: философы толь-
228
К. Ясперс. Введение в философию
ко различным образом интерпретировали мир, дело, однако,
заключается в том, чтобы его изменить. И тот и другой типы мышления
считали философию вещью опасной, так как она, дескать, разлагает
порядок, требует духа независимости и тем самым — возмущения и
неповиновения, она вводит в заблуждение и отвращает человека от
его реальной задачи. Заставить философию угаснуть— это желание
наличествует как у сил, вовлекающих нас в высвеченную
божественным откровением потусторонность, так и у власти безбожной
посюсторонности, которая все требует только для самой себя.
К этому добавляется свойственное здравому человеческому
рассудку элементарное требование полезности, которому философия не
удовлетворяет. Фалес, которого считают древнейшим из греческих
философов, был осмеян служанкой, видевшей, как он упал в
колодец, наблюдая за звездным небом. Почему он ищет столь удаленное,
если он так неловок в делах самых обыденных и знакомых!
Философия, таким образом, стоит перед необходимостью
оправдывать себя. Это невозможно. Она не может оправдывать себя, исходя из
чего-то такого, на что она, в силу своей пригодности, имеет, мол,
право. Единственное, что она может, — это обращаться к силам, которые
в действительности подвигают каждого человека к философствованию.
Ей должно знать, что она занимается лишенным цели, свободным от
вопроса о пользе и вреде в мире делом человека как такового и что она
будет осуществлять себя, пока живут люди. Далее, враждебные
философии силы не могут не мыслить присущий им самим смысл и
создавать затем целенаправленные мыслительные конструкции, как бы
заменяющие философию, но в действительности подчиняющиеся
намеренному воздействию: это такие силы, как марксизм, фашизм. Но
и эти мыслительные конструкции подтверждают неизбежность
философии для человека. Философия присутствует всегда.
Она не может бороться, не прибегает к доводам в свою защиту, но
она может сообщать себя. Философия не оказывает сопротивления
там, где ее отвергают, она не торжествует там, где ей внимают.
Философия живет в состоянии единодушия, которое в лоне человечества
может соединять всех со всеми.
Философия с большой буквы в систематически разработанной
взаимосвязи уже два с половиной тысячелетия существует на Западе, в
Китае и в Индии. Мы слышим голос великого предания, обращенный к
нам. Многоликость философствования, противоречия и исключающие
друг друга притязания на истину не в состоянии помешать тому, что в
основе философии действует нечто Единое, что не является ничьей
собственностью и вокруг чего во все времена сосредоточиваются все
серьезные усилия: некая вечная философия, philosophia perennis. Мы не
можем оторваться от этого исторического основания нашего мышления,
если хотим мыслить с самым ясным сознанием и сущностно.
229
Мудрость сострадания, мудрость любви
2. Истоки философии
История философии как методическое мышление имеет своим
началом время, отстоящее от нас на два с половиной тысячелетия, а как
мифологическое мышление она существовала много раньше.
Но начало — это нечто иное, чем исток. Начало исторично и
несет последующим поколениям растущее множество предпосылок
через посредство уже проделанной мыслительной работы. Исток же —
это всегда родник, откуда исходит импульс к философствованию.
Лишь благодаря этому импульсу философия данной эпохи становится
сущностной и бывает понята предшествующая философия.
Это изначальное — многолико. Из удивления следуют вопрос и
познание, из сомнения в познанном — критическая проверка и полная
уверенность, из потрясения человека и сознания его потерянности
возникает вопрос о нем самом. Рассмотрим сначала эти три мотива.
Во-первых. Платон говорил, что исток философии есть удивление.
Наш глаз «сделал нас причастными зрелищу звезд, солнца и небесного
свода». Это созерцание дало нам «потребность в исследовании
Вселенной. Из этого для нас выросла философия, величайшее благо, которое
было даровано богами смертным людям». Аристотель, со своей
стороны, утверждал: «Ибо удивление есть то, что толкало людей к
философствованию: вначале они удивлялись, когда сталкивались со странными
вещами, со временем постепенно шли дальше, задавая вопросы о
превращениях луны, солнца, звезд и о возникновении Вселенной».
Удивление настоятельно ведет к познанию. В удивлении я
осознаю свое незнание. Я ищу знание, но ради самого знания, а не «в
силу какой-то общей потребности».
Философствование — это как освобождение от стесненности
жизненными потребностями. Пробуждение осуществляется в свободном
от цели взирании на вещи, на небо и мир, в вопросах: что это все
означает и откуда все это происходит, — вопросах, ответ на которые не
должен быть направлен на практическую пользу, но приносит
удовлетворение сам по себе.
Во-вторых. Едва мои удивление и изумление нашли
удовлетворение в познании сущего, как вскоре заявляет о себе сомнение. Хотя
объем знаний и растет, но при критической проверке ничто не
остается несомненным. Чувственные восприятия обусловлены нашими
органами чувств и обманчивы, во всяком случае, они не совпадают с
тем, что вне меня, независимо от моего восприятия, существует само
по себе. Формы, в которых мы мыслим, принадлежат нашему
человеческому рассудку. Они сплетаются в неразрешимые противоречия.
Повсюду утверждения противопоставлены утверждениям.
Философствуя, я прибегаю к сомнению, пытаюсь радикально воплотить его в
жизнь, но либо в жажде отрицания путем сомнения, перед которым
230
К. Ясперс. Введение в философию
ничто не устоит, но которое, в свою очередь, не может сделать и шага
вперед, либо задаваясь вопросом: где же обрести уверенность,
неподвластную никакому сомнению и способную выдержать любую
добросовестную критику?
Знаменитое выражение Декарта «Я мыслю, следовательно,
существую» было для него неоспоримо достоверным, даже если все другое
он ставил под сомнение. Ведь даже собственное полное заблуждение
в познании, которого я, быть может, не замечаю, не может вводить
меня в заблуждение также относительного того, что я ведь
существую, даже если мое мышление находится на ложном пути.
Сомнение в качестве методического сомнения становится
источником критической проверки любого знания. Отсюда следует: без
радикального сомнения не может быть истинного философствования.
Но решающая проблема заключается в том, как и где посредством
сомнения как такового возводится фундамент достоверности.
И в-третьих. Посвятив себя познанию предметов в мире,
осуществлению сомнения как пути к достоверности, я оказываюсь при
вещах, помышляю не о себе, не о своих целях, счастье, благополучии.
Скорее, я самозабвенно удовлетворен процессом этого познания.
Все это меняется, когда я начинаю осознавать себя самого в
своей ситуации.
Стоик Эпиктет говорил: «Исток философии — в обнаружении
собственных слабости и бессилия». Каким образом я помогу себе в своем
бессилии? Его ответ был таким: если все, что не находится в моей
власти, я стану рассматривать как безразличное для меня в его
необходимости и, напротив, все, что зависит от меня, а именно характер
и содержание моих представлений, посредством мышления приведу
в состояние ясности и свободы.
Внимательно всмотримся в наше положение как людей. Мы
постоянно переживаем какие-то ситуации. Ситуации меняются, возникают
новые обстоятельства. Если их упустить, они более не возвращаются.
Я могу сам работать над изменением ситуации. Но есть ситуации,
которые неизменны в своей сути, если даже меняется их сиюминутный
облик, и их всеодолевающая сила как бы скрыта под покровом; это: я
должен умереть, я должен страдать, я должен бороться, я во власти
случая, на мне неумолимо лежит вина, я к ней причастен. Эти
основные ситуации нашего тут-бытия мы называем пограничными
ситуациями. То есть это ситуации, выйти из которых, перешагнуть через
которые мы не в состоянии, мы не можем их изменить. После удивления
и сомнения осознание этих пограничных ситуаций есть глубинный
исток философии. В простом тут-бытии мы часто отстраняемся от них,
закрывая глаза и живя так, словно их нет. Мы забываем, что мы
должны умереть, забываем о нашей вине и о том, что мы отданы на
произвол случая. И тогда мы имеем дело лишь с конкретными ситуация -
231
Мудрость сострадания, мудрость любви
ми, которые мы обращаем себе на пользу и на которые реагируем,
строя планы и действуя в мире, подталкиваемые интересами нашего
тут-бытия. На пограничные же ситуации мы реагируем, либо вуалируя
их, либо, если мы их действительно постигаем, через отчаяние и
восстановление: мы становимся самими собой в преображении нашего
сознания бытия.
Попробуем уяснить для себя наше положение людей иным
образом, исходя из ненадежного бытия мира.
Если мы не задаемся вопросом о мире, то мы принимаем его
просто как бытие. В счастливые моменты нашей жизни мы ликуем,
полны бездумного доверия, не знаем ничего, кроме нашего настоящего.
В моменты боли, слабости, бессилия мы испытываем отчаяние. И
когда все это пережито, и мы сами живы, мы вновь позволяем себе
безоглядно скатываться в безмятежную жизнь.
Но в результате этого опыта человек поумнел. Угроза заставляет
его обезопасить себя. Овладение природой и человеческое
сообщество должны гарантировать тут-бытие.
Человек завладевает природой, чтобы поставить ее себе на
службу; природа, благодаря познанию и технике, должна стать надежной.
И все же в деле овладения природой остается элемент
непредсказуемости и тем самым сохраняется постоянная угроза, а затем и
возможность неудачи в целом: тяжелый мучительный труд, старость, болезнь и
смерть устранить нельзя. Вся нынешняя надежность подчиненной
природы есть лишь частный случай в рамках общей ненадежности.
И люди объединяются в сообщество, чтобы ограничить
бесконечную борьбу всех против всех и в итоге исключить ее вовсе; во
взаимопомощи человек хочет обрести уверенность.
Но и здесь существует предел. Только в таком государстве, где
каждый гражданин относится к другому так, как этого требует абсолютная
солидарность, могли бы быть обеспечены в целом справедливость и
свобода. Ибо только тогда другие, случись несправедливость,
выступают против нее как один. Но такого никогда не было. В
действительности это — всегда ограниченный круг людей или же только единицы,
которые в исключительных ситуациях, в том числе в момент бессилия,
действительно поддерживают друг друга. Никакое государство,
никакая церковь, никакое общество не предоставляют абсолютной защиты.
Такая защита оставалась прекрасным заблуждением спокойных
времен, когда этот предел оставался завуалированным.
Но общей ненадежности мира все же противостоит иное: в мире
есть нечто достоверное, вызывающее доверие, несущее основание:
родина и ландшафт — родители и прародители — братья, сестры и
друзья — супруга. Есть историческое основание традиции, живущее
в родном языке, в вере, в творчестве мыслителей, поэтов и
художников. Но и эта совокупная традиция не дает никакой безопасности,
232
К. Ясперс. Введение в философию
никакой абсолютной надежности. Ибо то, в виде чего она к нам
обращена, все есть дело рук человеческих, нигде не зрим Бог в мире.
Традиция в то же время всегда остается вопросом. Имея ее в поле
зрения, человек постоянно должен из собственного истока находить
то, что для него есть достоверность, бытие, надежность. Но в
ненадежности миробытия, в его совокупности есть некий
предостерегающий знак. Он запрещает искать в мире конечное удовлетворение; он
указывает на иное. Пограничные ситуации — смерть, случай, вина и
ненадежность мира — говорят мне о крахе. Что же я предпринимаю
перед лицом этого абсолютного краха — ибо при честной позиции в
отношении настоящего я не могу не видеть его?
Совет стоика положиться исключительно на собственную свободу в
независимости мышления оказывается недостаточным. Стоик
заблуждался, когда он недостаточно радикально оценивал бессилие человека.
Он не распознал зависимого характера мышления, которое само по себе
лишено содержания, обусловлено тем, что ему дано, не учел он также
возможности безумия. Стоик оставляет нас безутешными перед лицом
голой независимости мышления, так как это мышление лишено всякого
содержания. Он оставляет нас без надежды, потому что здесь
отсутствуют всякая попытка обратиться к спонтанности внутреннего
преодоления, возможность осуществления чего-либо через посредство
самоотдачи в любви, нет пребывающего в надежде ожидания возможного.
Но то, чего хочет стоик, есть подлинная философия. Исток в
пограничных ситуациях дает основополагающий импульс для того,
чтобы в крахе отыскивать путь к бытию.
Решающим для человека является то, как он познает неудачу:
остается ли она для него сокрытой и всей своей тяжестью обрушивается
на него фактически на финише, подавляя его, или он способен
видеть ее в неприкрытости и постоянно осознает ее как границу
своего тут-бытия; прибегает ли он к фантастическим решениям и
успокоительным заверениям или честно переносит все в молчании перед
необъяснимым. То, как человек переживает свое поражение,
обосновывает его становление.
В пограничных ситуациях перед человеком обнаруживается либо
Ничто, либо для него становится ощутимым то, что вопреки и
помимо всего исчезающего в миробытии является подлинным. Даже
отчаяние, в силу своей фактичности, в силу того, что оно возможно в
мире, становится указателем, выводящим за пределы мира.
Иными словами: человек ищет спасения. Спасение предлагают
великие, универсальные религии спасения. Их отличительный
признак— объективная гарантия истины и реальности спасения. Их путь
ведет к акту морального обращения отдельной личности. Этого
философия дать не в состоянии. И все же всякое философствование есть
преодоление мира, аналог спасения.
233
Мудрость сострадания, мудрость любви
Обобщим сказанное: исток философствования находится в
удивлении, в сомнении, в сознании потерянности. В каждом случае оно
начинается с переживаемого человеком потрясения, и всегда,
исходя из этого состояния и устремляясь вовне, он ищет цель.
Платон и Аристотель искали, исходя из опыта удивления, суть
бытия.
Декарт в бесконечности неизвестного искал строго достоверное.
Стоики в муках тут-бытия искали покой души.
Каждая из этих попыток решить задачу содержит свою истину,
облаченную в соответствующее историческое одеяние своих
представлений и своего языка. Усваивая это историческое, мы пробиваемся к
тем истокам, которые еще присутствуют в нас.
Порыв устремляется к надежной опоре, к глубинам бытия,
увековечиванию.
Но, быть может, ни один из этих истоков и для нас не является
уходящим в самую изначальность, безусловным. Открытость бытия
нашему изумлению дает нам возможность перевести дух, но и
вызывает в нас искушение уйти от человека и впасть в чистую, чарующую
метафизику. Сфера принуждающей достоверности ограничена
ориентированием в мире посредством научного знания. Неколебимую
твердость души в стоицизме мы воспринимаем только как переход в
ситуацию беды, как спасение на пороге полного упадка, но сама эта
твердость остается без содержания, без жизни.
Три действенных мотива — удивление и постижение, сомнение и
достоверность, потерянность и самостановление — не исчерпывают
того, что волнует нас в современном философствовании.
В эту эпоху радикальнейшего исторического перелома,
невиданного распада и лишь смутно представляемых шансов три до сих пор
действовавших мотива хоть и сохраняют свое значение, но не
являются достаточными. Теперь они связаны условием — условием
коммуникации между людьми.
До наших дней в истории существовало само собой разумеющееся
единение человека с человеком в надежных сообществах, институтах,
во всеобщем умонастроении. И одинокий в своем одиночестве как бы
ощущал поддержку. Ныне распад наиболее заметен в том, что все
больше людей не понимают друг друга, встречаются и расходятся в
разные стороны, равнодушные друг к другу; в том, что верность и
чувство общности более не являются чем-то бесспорным и надежным.
Теперь для нас та общая ситуация, которая фактически
существовала всегда, становится решающе важной: а именно, что я могу быть
с другими единым в истине и могу не быть; что моя вера именно в
момент, когда я осознаю себя, наталкивается на иную веру: что, как
кажется, где-то на границе всегда остается только борьба без
надежды на единство, с порабощением или уничтожением как итогом; что
234
К. Ясперс. Введение в философию
мягкость и непротивление ведут безверных или к слепому
подчинению или к упрямому протесту— все это не столь незначительно и
несущественно.
Все это могло бы быть таковым, если бы для меня,
пребывающего в изоляции, существовала истина, которая была бы для меня
достаточной. То страдание от недостаточной коммуникации и то
единственное в своем роде удовлетворение в подлинной коммуникации
сделало бы нас в философском смысле не такими ранимыми, если бы
я для себя самого, в абсолютном одиночестве, был уверен в истине.
Однако я есмь только с другим, один я — ничто.
Коммуникация — не просто от рассудка к рассудку, от духа к духу, а
от экзистенции к экзистенции — обретает свое безличностное
содержание и значение только в качестве медиума. Оправдания и нападки в
этом случае служат не утверждению своей власти, а сближению.
Борьба эта— любящая борьба, в ходе которой каждый обезоруживает себя
перед другим. Достоверность подлинного бытия присутствует
единственно в той коммуникации, в которой человек свободно
противоборствует свободе посредством сотрудничества с другим, где всякое
совместное пребывание с другим есть только первый шаг, но что касается
решающих вопросов, то и от того и от другого требуется все, вопроша-
ние требует дойти до самых корней. Только в коммуникации
выкристаллизовывается и осуществляет себя вся другая истина, единственно в
ней я есмь я сам, я не просто живу, а осуществляю жизнь. Бог являет
себя лишь не прямо, и не без любви человека к человеку;
принуждающая достоверность частична и относительна, подчинена целому;
стоицизм превращается в бессодержательную и закосневшую установку.
Основная философская установка, мыслительное содержание
которой я до вас довожу, коренится в озабоченности по поводу
отсутствия коммуникации, в стремлении к подлинной коммуникации и в
возможности любящей борьбы, которая объединяет глубинным
образом одно самобытие с другим самобытием.
И это философствование сосредоточено одновременно в тех трех
видах философской озадаченности, которые все поставлены перед
условием: что они значат для коммуникации, идущей от человека к
человеку, помощники они ей или враги.
Итак, хотя исток философии и обретается в способности удивляться,
в сомнении, в опыте пограничных ситуаций, но в конечном счете,
включая все это в себя, он — в воле к подлинной коммуникации. Это с
самого начала проявляется уже в том, что вся философия принуждает к
общению, выражает себя, хотела бы быть услышанной, что ее сущность есть
сама сообщаемость, а эта последняя неотторжима от бытия истинного.
Лишь в коммуникации достигается цель философии, когда
находит окончательное обоснование смысл всех целей: постижение
бытия, раскрытие любви, осуществление спокойствия.
235
Мудрость сострадания, мудрость любви
П.С. Гуревич
Философия в контексте человеческого существования
Понимание философии Ясперсом в той или иной степени освещалось
в отечественной литературе различными исследователями, в том числе
П.П. Гайденко, МЛ. Клсселем, Э.И. Кодуа, Т.А. Кузьминой, Э.Ю.
Соловьевым и др. Однако узловые моменты этой его концепции не
получили достаточного истолкования. Между тем проблемы, поставленные
немецким мыслителем, — практична ли философия? возможна ли
философия без науки? как отличить философию от нефилософии? —
приобретают особую значимость в контексте современных дискуссий.
Философия, по мнению Ясперса, проявляется универсально и
обнаруживает себя в уникальных образах. Он вместе с тем отмечает, что
философская истина не может рассматриваться как единственная в
мире. Наука и религия также претендуют на раскрытие картины мира.
В анализе научного познания и религиозной веры как раз и проступает
предназначение философии, ее специфичность. Прослеживая истоки
философии, Ясперс обращается не только к этимологии слова. Он
ищет зарождение философии в человеческой субъективности, в
необычных свойствах, присущих человеку как живому существу. Вывод
Ясперса окончателен: человек не может обойтись без философии.
Однако какие человеческие свойства позволяют вызвать к жизни
философию? Ответ на этот вопрос дает Ясперсу основание для
определенной типологии, в рамках которой европейская философия
демонстрирует различные версии генезиса философии. Платон и
Аристотель видели исток философии в человеческом удивлении перед
бытием. Именно это чувство позволило человеку войти в
многомерный мир метафизики, обрести любовь к мудрости.
Но удивление — не единственное человеческое свойство, которое
рождает философию. Другой трудноутолимый импульс, неотвратимо
ведущий к философствованию, — жажда познания. Результаты познания
хотя и накапливаются, но не дают никакой гарантии относительно
конечности полученных результатов. Сомнение, которое одушевляло
искания Декарта, — типологически иной (по сравнению с удивлением)
путь прорыва к неизбывной потребности философствования.
Если первая версия генезиса философии могла удовлетворить, скажем,
философского антрополога, а вторая — философа-рационалиста, то, само
собой понятно, экзистенциалист ищет другие истоки философии,
которые он усматривает в самом человеческом существовании. Сравним
размышления Ясперса, допустим, с тем, как трактует проблему философии
К. Поппер. Последний, обращаясь к «Апологии» Платона,
подчеркивает, что в мужественном и гражданском поведении Сократа он усматривает
также и апологию философии. Представления Платона, самого велико-
236
П.С Гуревич. Философия в контексте человеческого существования
го, глубокого и одаренного из всех философов, о человеческой жизни
кажутся Попперу отталкивающими и поистине шокирующими. В той же
мере английский философ критически рассматривает и
рационалистическую традицию, ее он пытается оградить от стихии страстей.
Ясперс, напротив, убежден в том, что специфическое объективное
знание о вещах и о себе как о существовании необходимо человеку для
его деятельности во всех ситуациях и при любой профессии. Но
объективного знания абсолютно недостаточно. Ибо оно становится
осмысленным лишь в том, кто им обладает. Лишь мое собственное воление
определяет, как я это знание использую. Поэтому, согласно Ясперсу, то,
что действительно происходит, может быть изменено не улучшением
объективного знания, но посредством бытия человека. Истоком того,
что он совершает, служит его внутреннее отношение, способ того, как
он осознает себя в своем мире, содержание того, что его удовлетворяет.
Вот почему Ясперс рассматривает еще одну, третью, версию генезиса
философии. Он обращается к стоической традиции, предлагая нам
осмыслить критически-тупиковые, т.е. пограничные, ситуации. Речь идет
о таких положениях, выйти из которых мы не в состоянии. Осознание
этих пограничных ситуаций, после удивления и сомнения, —
подлинный исток философии. В простом тут-бытии мы часто отстраняемся от
них, закрывая глаза и организуя жизнь так, будто их нет.
Согласно Ясперсу, человек отрезан от своих корней, он видит себя
лишь в исторической ситуации человеческого бытия и чувствует, что
не может сохранить бытия. Что я предпринимаю перед лицом
абсолютной неудачи? Совет стоика таков: положиться исключительно на
собственную свободу. Но, по мнению Ясперса, стоик ошибался,
когда он недостаточно радикально оценивал бессилие человека.
По мнению Ясперса, философское сознание испокон веку
способствовало проникновению сознания в глубочайшие основы человеческого
бытия. Оно секуляризировало религию и сделало действительностью
независимость свободного индивида. Человек не потерял основу, она лишь
глубже освещалась в своей абсолютной историчности. Сомнительной эта
действительность бытия индивида оставалась лишь потому, что этот свет
мог угаснуть и опустеть в чистом сознании, лишенном экзистенции.
С этой точки зрения следует остановиться на понятии «ситуация»,
как оно трактовано Ясперсом. Под ним подразумевается чувство того,
что всякий вопрос ставится исходя из определенной экзистенциальной
ситуации. Познание в этом случае перестает быть созерцанием и
становится завербованностью — ведущим понятием экзистенциализма. У
Ясперса теория «предельной ситуации», т.е. неоспоримых данностей
существования, переводит философское мышление в иное русло,
находящееся в стороне от классических тем.
По мнению Ясперса, человеческая самость (экзистенция, необъек-
тивируемая свободная воля человека) с неслыханной глубиной обна-
237
Мудрость сострадания, мудрость любви
руживается в пограничных ситуациях: смерти, страдания, вины и т.д.
Смерть, Страдание, Борьба, Ошибка— это принципы философии.
Философствование, следовательно, — основа подлинного бытия
человека. Человек, который никогда не может удовлетвориться самим
собой как бытием, все время стремится выйти за свои пределы.
Исследователи отмечали, что гегелевская система была торжеством
общего Разума, которому, казалось, ничто уже не могло быть
противопоставлено: Разум был Бытием, Всеобщностью, Свободой. Между тем
с точки зрения экзистенциализма, который бросил вызов
гегелевскому панлогизму, бытие человека (его экзистенция) недоступно
рациональному познанию и открыто непосредственному переживанию.
Индивид знает, что у Разума есть ответ на все. Но в своей субъективности
человек отвергает холодные умозрительные абстракции.
Человек, который чувствует, верует, существует, не поддается
тирании разума. В то же время и рациональная наука не способна
понять существование, которое является для нее крайней точкой
познания, на границе непознаваемого. Конкретного человека интересует
именно экзистенция. Он пытается понять, кто он такой, чем является
внутри собственной субъективности, которая есть источник,
напряжение, замысел. Субъективность не самодовлеюща. Это — порыв к
трансцендентному, личное влечение к другому, к ценностям, к Богу.
Следовательно, субъективная истина гораздо объемнее, глубже, чем
рациональное доказательство, потому что она представляет собой
опыт, прожитую жизнь, существование.
Практична ли в этом смысле философия? С одной стороны, она
не приносит каких-либо результатов, одинаково годных для всех.
Несмотря на тысячелетние усилия, философия в отличие от науки не
указала на общезначимое и полезное. Напротив, она представляет
собой некий процесс, в ходе которого мыслители продвигаются к
смыслу философии. Не более того. Тот вид определенности, к
которому стремятся философы, не связан с наукой, т.е. он не
равнозначен для любого рассудка.
Свою философию Ясперс называет «философской верой». Она
противостоит традиционному мышлению Декарта, Фихте, Гегеля и других
мыслителей, которые в своем философствовании исключали или
преодолевали веру. Ясперс не отказывается от достижений разума, от
аналитического продвижения к истине. В этом смысле он остается в
русле философии, как она складывалась на протяжении веков. Однако
при этом в позиции Ясперса возникает новый принципиальный
момент — опора на веру.
Что же такое вера? Это то, что наполняет сокровенные глубины
человека, что движет им, через что человек возвышается над самим
собой, соединяясь с истоками бытия. Человек не может жить без веры,
ибо он не просто существо, руководимое инстинктом, не просто вме-
238
П.С. ГУревич. Философия в контексте человеческого существования
стилище рассудка. Человек сопричастен всеобъемлющему, и это
прикосновение к таинству делает его самим собой. Выходя за собственные
пределы, человек, по существу, возвращается к самому себе.
Вера не только противостоит философии, она является также ее
неотторжимым слагаемым. Но вместе с тем вера не отрекается от
разума, который нередко сопутствует ей, дополняет ее. Так рождается
особый тип постижения бытия, который Ясперс называет
«философской верой». Не отвергая аналитического рассуждения, она
демонстрирует удивление перед тайной, предполагает, что загадка остается
нерасшифрованной, сохраняет статус сфинкса. Чтобы осмыслить
проблему, надо мобилизовать не только разум, но и ресурсы веры.
Способна ли на это наука? По мнению Ясперса, не способна,
потому что она не охватывает глубин экзистенции, не может судить о
предельном, бесконечном. Здесь научная истина наталкивается на
собственные пределы, ощущает свою невосполненность. Тогда,
может быть, религия, будучи верой, соприкасается с тайнами бытия?
Религии откровения, несомненно, близки философской вере, но не
отождествляются с нею, так как отвергают показания разума.
Неоспорим, однако, вклад мировых религий, сменивших
мифологическое сознание, в обоснование философской веры. Последняя
помещает себя между мировыми религиями и научным мышлением.
Философия Ясперса не противостоит христианским догматам.
Правда, по мнению Г. Марселя, немецкого философа можно
упрекнуть в непозволительной профанации религиозных понятий. Важно,
однако, подчеркнуть, что «гуманизм личности» невозможно
полностью отождествить с христианским гуманизмом. В то же время
целесообразно отличать от хайдеггеровской и сартровской линии
тенденцию, которая окрашена в религиозные тона; понятие свободы
опирается в ней на трансцендентность, и в этом плане человек
помнит о христианской душе.
Ясперс задает вопрос: возможна ли вообще вера вне религии? По
его мнению, в постановке такого вопроса возникает
философствование. Смысл рефлексии состоит в том, чтобы увериться, исходя из
собственной основы, в своей независимой вере. Там, где религия
утрачена, а она, по словам немецкого мыслителя, может быть только
церковной, существуют либо фантазия и фанатизм суеверия, либо
философствование. Но есть иная вера — вера на основе лишь своего
понимания и благодаря ему. Мыслящая философия стремится
систематически доводить эту веру до ясности и связно говорить то, что
действительно может быть узнано лишь в экзистенции.
Развернув критическое рассмотрение различных версий
философии, как они сложились в европейском сознании, Ясперс отмечает
недостаточность охарактеризованных им трех действенных
мотивов — удивления и постижения, сомнения и достоверности, потерян-
239
Мудрость сострадания, мудрость любви
ности и самостановления. По его мнению, лишь в коммуникации
достигается смысл философии, в котором наконец обоснован смысл
всех смыслов: постижение бытия, раскрытие любви, осуществление
спокойствия.
С философствованием, по мнению Ясперса, человек обретает свои
истоки. С этим связано притязание философии обрести смысл
жизни поверх всех целей в мире. Ясперс формулирует задачу: обосновать
подлинный разум в своей экзистенции. Отсюда проистекает
требование — никогда не низводить человека до средства достижения тех или
иных целей. С тех пор как человек осознал себя философски, по
мнению Ясперса, в нем присутствует нечто вечное.
Однако становление философии будущего, как полагает Ясперс,
невозможно без преодоления неверия, нефилософских ухищрений
философии. Характеризуя те формы мышления, осознания
реальности, которые никогда не достигают бытия, Ясперс отмечает, что
видимость философствования проходит широким потоком через
историю. В качестве примеров философского неверия он рассматривает
демонологию, обожествление человека и нигилизм. Характерно, что
Ясперс прослеживает внутреннюю зависимость между этими видами
неверия. Мистагогия в демонологическом созерцании соединяется с
сотворением кумиров в людях, которым подчиняются, и с
нигилизмом, позволяющим все это стереть. И вместе с тем немецкий
философ предостерегает: в неверии все же скрыта некоторая истина, о
которой в конечном счете следует помнить.
В нашем сознании вера обычно соотносится с религией. Однако
само философское понимание веры гораздо шире. В философской
традиции от Августина до Владимира Соловьева это проявление
человеческой субъективности оценивалось как вершинное, наиболее
значимое. В нашем столетии мыслители заговорили о типе «научной
веры» (Уайтхед) и «философской веры» (Ясперс).
Анализ демонологии у Ясперса интересен не только тем, что
характеризует тончайший слой культуры, который постоянно
находится под угрозой воскрешения мифических образов мышления,
возврата к доосевому сознанию. Такого рода выводы, несомненно, могут
вызвать полемические страсти со стороны современных
исследователей, видящих в возрождении мифа культуросозидающий процесс.
Ясперс же, в противовес Ницше, который усматривал в разрушении
мифа фактор гибели культуры, оценивает этот сдвиг в духовной
жизни человечества позитивно.
Представляется весьма плодотворной мысль Ясперса о том, что
ситуация сегодняшнего дня требует возврата к тем более глубоким
истокам нашего бытия, к тому истоку, когда вера пришла к
человеку в особых исторических образах. Человек не может без веры. Но ее
исторические формы различны. Языческая вера, на воскрешении ко-
240
П.С. Гуревич. Философия в контексте человеческого существования
торой настаивал в свое время Ницше, а сегодня французские «новые
правые», таит в себе опасность неверия. Она не опирается на идею
человека, следовательно, не оценивает веру как специфически
человеческое свойство. Древняя магия не лерсоналистична.
Ясперс предостерегает от возврата в мифическую эпоху, который,
по его мнению, возможен, ибо культурный слой гуманизма еще очень
непрочен. Если это произойдет, утратится самосознание человека. Да
и сам он будет потерян. Тяга к архаическим формам сознания
сегодня выявилась отчетливо не только в богоискательском буме, в
поисках утраченных корней западной цивилизации, в возрождении мифа,
но и в общем устремлении выявить архетипические основы бытия.
Когда человека заменяет демон, благожелательный или злой,
созидательный или разрушительный, растворяется, по мнению Ясперса, и
гуманизм. Демонология, по его словам, — это форма неверия.
Обожествление человека — второй вид неверия — Ясперс
рассматривает, по существу, как форму демонологического воззрения. Как в
безбожии обращаются к демонам, которые воплощают мнимую
трансценденцию, и в этом виде неверия происходит сотворение
кумиров, фетишизация людей во плоти. Философская вера
разоблачает любое обожествление человека. Она ни на минуту не забывает о
конечности и незавершенности человека.
Если демонология и обожествление человека дают суррогат веры,
то открытое неверие Ясперс называет нигилизмом. Этот тип
нефилософии отвергает все содержание веры, всякое толкование мира и
бытия разоблачает как обман. Нигилизм в оценке Ясперса невыносим
как явление. Отвержение ценностей ищет выхода в демонологии и
обожествлении человека.
Как избежать архаических, языческих форм сознания,
разрушающих идею личности? Ведь мы полагаем, что человечество проходит
через различные исторические формы сознания, навсегда изживая те,
которые остаются в прошлом. Между тем, как выясняется, ни миф,
ни архаика не исчезают. Они живут в глубинах общественного
сознания, словно выжидая возможности ворваться в сферу актуального
бытия.
По-видимому, укорененность этих форм сознания определяется
историческими запросами, верой, принявшей извращенный облик.
Вот почему немецкий философ предлагает нам поразмышлять о
бытии человека. В действительности, не зная, что такое человек, как
можно трактовать любовь к нему, как осознать его значимость?
Истинное философствование, по словам Ясперса, не покидает сферы
всеобъемлющего, не забывает о трансцендировании, остается
открытым бытию в пересечении со временем.
В работах Ясперса, как мы видим, освещен широкий круг
вопросов, непосредственно связанный с вопросом: что есть философия?
241
Мудрость сострадания, мудрость любви
Он определяет отличие философии от науки и религии,
рассматривает вопрос о сугубой индивидуальности философского творчества, о
массовом философствовании, об истоках философии как формы
сознания, о философии как коммуникации, о философской вере и
различных формах философского неверия.
Но главное — Ясперс рассматривает философию в контексте
человеческого существования. Он показывает, что человек не может
быть завершенным. Для того чтобы существовать, он должен
меняться во времени, подчиняясь все новой судьбе. В этой
незаконченности обнаруживает свою специфику и философия как
размышление о человеке.
Примечание
Перевод главы из работы: Jaspers К. Was ist Philosophie? München / Zürich, 1976.
242
Габриэль Марсель
В защиту трагической мудрости
Глава I
Чего можно ожидать от философии?
Начну с замечания, которое мне кажется важным. Было бы ошибкой
полагать, что на вопрос: «Чего можно ожидать от философии?» —
может быть дан ответ, приемлемый для любого философа, как это
могло бы быть в случае с той или иной научной дисциплиной или,
тем более, с техникой. В действительности слова «любой философ»
имеют, по-видимому, не более смысла, чем слова «любой художник»
или «любой поэт». Иначе говоря, я думаю, необходимо самым
решительным образом признать, что философия, так же как искусство или
поэзия, предполагает в своей основе то, что можно назвать личной
вовлеченностью, — можно было бы даже сказать, в очень глубоком
смысле этого слова, — призванием. Я беру слово «призвание» в его
этимологическом значении.
Само собой разумеется, что философия, как и любой вид
человеческой деятельности, может быть извращена, может деградировать до
более или менее карикатурной имитации самой себя. Такая опасность
особенно реальна ввиду того, что к философии принято подходить как
к экзаменационному материалу. Именно во Франции, где существуют
классы философии, экзамен на степень бакалавра философии,
преподаватель, занятый подготовкой к этому экзамену, рискует действовать
по примеру своих коллег — историков, специалистов в области
естественных наук и т.д., видя свою задачу в том, чтобы ученики его
попросту могли ответить на письменные либо устные вопросы, которые
им будут заданы в ходе испытаний. Ужасное слово «bachotage»1 очень
точно передает характер той галиматьи, о которой недостаточно
сказать, что она не имеет с философией ничего общего: следует как раз
подчеркнуть, что она является ее противоположностью. Конечно,
может случиться, что те, кто сделал философию своим ремеслом, когда-
то в начале пути слышали призыв, о котором я уже упоминал и
природу которого я попытаюсь раскрыть. Может — но это вовсе не
обязательно. И с другой стороны, не подлежит сомнению, что очень
1б*
243
Мудрость сострадания, мудрость любви
часто это докучное занятие душит в преподавателе, гасит, словно
засыпая пеплом, изначальную искру. Это, однако, отнюдь не является
неизбежным. Я знавал преподавателей, которые сумели сохранить в
себе нетронутым это совершенно особое горение, без которого
философия мелеет, теряет жизненные силы, развеивается в словах.
Данную проблему следовало бы рассмотреть и под другим углом
зрения, а именно — с позиций ученика или слушателя. Подлинное
философское отношение — то, каким Платон его не только
определил, но и наполнил жизнью на долгие века, — это пламя, в свою
очередь пробуждающее пламя. И все же в сфере, подобной нашей,
возможно все. Может случиться, что, несмотря на весьма схоластическое
преподавание, молодой человек, в ком философское начало живет в
качестве возможности, вопреки всему открывает эту реальность, к
которой он тяготеет и к которой, добавил бы я, он уже каким-то
образом принадлежит, сам того не ведая.
По правде говоря, я рискую вызвать у моих читателей неизбежный
вопрос. Мне могут возразить: «Настаивая подобным образом на роли
личного участия в философии, не боитесь ли Вы лишить ее всякой
объективной значимости, свести к игре, полностью подверженной
индивидуальным прихотям?»
Совершенно необходимо быть готовым к этому возражению, с тем
чтобы сразу же устранить путаницу, которая способна привести к
худшим недоразумениям.
Смешение здесь касается самой идеи субъективности. Думается,
мы сможем сделать картину более четкой, сосредоточив наше
внимание на искусстве, которое в некоторых отношениях находится в
ситуации, схожей с философией.
Очевидно, что в основе произведения искусства мы находим — или
полагаем — существование личной реакции, самобытного способа
отвечать на многообразные и в некотором роде невысказанные призывы,
которые та или иная данность адресует сознанию субъекта. Однако не
менее ясно, что эта субъективная реакция сама по себе не представляет
никакой художественной ценности. Такая ценность проявляется лишь
со структурами, конституирующимися в ходе того, что мы называем
творческим процессом, оценить их предстоит не только субъекту, т.е.
в данном случае художнику, но и другим возможным зрителям либо
слушателям. Конечно, было бы неосторожно говорить здесь об
универсальности как о чем-то распространяющемся вширь: эти
структуры, безусловно, не могут быть оценены или даже признаны всеми.
«Все» здесь— понятие пустое, неприменимое. Я отлично помню, как
в пору, когда музыка Дебюсси еще не получила признания, многие
находили, что она лишена мелодичности; сегодня это мнение мы
считаем заблуждением. В такой вещи, как «Пелеас и Мелисанда», мелодия
как раз непрерывна, и именно потому, что она во всем, слушатели с
244
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
непривычки не способны были ее различить. Для них мелодия
означала мотив, который насвистывают, напевают вполголоса по выходе с
концерта или из театра. Но, разумеется, недостаточно, чтобы форма —
в нашем случае мелодия — была воспринята в своей целостности;
нужно еще, чтобы ее признали значащей, несущей смысл, — при том, что
это смысл имманентный, его не передать словами. Во всех случаях
лишь благодаря структуре между субъектами может установиться
коммуникация, которая позволяет говорить о ценности. Факт, что я могу
общаться с другим с первых же тактов 14-го квартета Бетховена и что
это общение не будет исчерпываться единодушными констатациями
по части тональности произведения, способов вступления
инструментов и т.п., — констатациями, которые способен сделать и глухой,
непрофессионал: достаточно было бы для этого просмотреть партитуру.
Если мы восприимчивы к этой музыке, мы признаем, при всей
ущербности слов, которыми обречены пользоваться, что благодаря этим
структурам перед нами предстает определенное качество: здесь и
грусть, и даль (что хорошо передает английский термин remoteness), —
и мы согласимся с тем, что, быть может, никогда еще чувство
бесконечного не получало столь интимно-душевного выражения.
Я задержался на примерах подобного рода, чтобы показать, что в
искусстве субъективность тяготеет к переходу в интерсубъективность,
совершенно отличную от объективности — как ее понимает наука —
и при этом абсолютно преступающую границы индивидуального
сознания, сосредоточенного на самом себе.
Сходные в некотором смысле соображения могут быть высказаны
по поводу того, что мы имеем основание называть философским
опытом. Я готов, не колеблясь, заявить, что нет и не может быть
достойной этого названия философии без того специфического опыта,
природу которого мы должны попытаться определить: так же как не
может быть подлинной музыки там, где отсутствует слух для ее
восприятия... Было бы трюизмом утверждать, что музыка так или иначе
предполагает наличие слухового органа: слово «слух» в эстетическом
плане означает нечто бесконечно более тонкое, определенную
способность оценить отношение, или еще, быть может: позицию
сознания перед лицом того, что ему дано услышать.
Но позиция философа не может быть принципиально иной
природы, нежели трактуемый подобным образом слух.
Только что я употребил слово «позиция», хотя при этом говорил
об опыте. Но в действительности здесь нет противоречия. Ибо
позиция, о которой идет речь, может проявляться лишь в определенном
способе, каким сознание реагирует на то, что следует назвать его
фундаментальной ситуацией.
Здесь надлежит точнее определить самое природу этой реакции.
Мне кажется, ее возможно охарактеризовать как удивление на грани
245
Мудрость сострадания, мудрость любви
беспокойства. Может быть, как это часто бывает, негативные
определения помогли бы нам лучше представить себе это состояние.
Прежде всего ему свойственно не принимать реальность как нечто
безусловно данное. Но что именно здесь понимать под реальностью?
Речь совершенно очевидно идет не о том или ином частном явлении,
объяснение которого хотелось бы получить. Здесь имеется в виду
реальность в ее целостности; или, точнее, проблемой является именно
эта целостность, эта тотальность. И, возможно, следует особенно
акцентировать таинственную связь между мной, вопрошающим, и этим
миром, о котором я задаю себе вопрос. Кто я, вопрошающий, — в
этом мире либо вне его? И в этом смысле должно быть сказано, что
философская мысль — это та, которую перед лицом данного
охватывает своего рода нетерпение, способное перерасти в тревогу.
Обращусь к примеру, который мне кажется одним из наиболее
убедительных. Философской мысли нелегко смириться с фактом, что
то, что мы зовем реальностью, предстает перед нами в определенной
смене явлений. Это означает, что данный порядок — который подчас
может казаться беспорядком — безусловно пробудит в философе
недоверие, ощущение, что у него нет почвы под ногами. Возможно, он
станет спрашивать себя, не идет ли речь всего-навсего о видимости
вещи, которая в других условиях способна явить себя иначе;
следующим вопросом будет: может ли вообще вещь существовать в себе, т.е.
помимо любых способов проявления. Нетрудно показать, что эти
вопросы связаны с другими, касающимися этого «Я», коим я
являюсь, коему дан этот внешний облик. Поскольку я — средоточие этих
видимостей, где гарантия, что сам я являюсь чем-то большим, чем
видимость? И так далее, и тому подобное.
Подобная нить размышлений может привести нас к философии типа
философии Брэдли. Я вовсе не хочу сказать, что всякий философ станет
формулировать свои вопросы именно в этих выражениях. Вспомним о
том, что было сказано выше. Мы теперь уже не можем говорить о
«любом» философе, «любом» художнике или поэте. Такие выражения
пригодны лишь для сферы чистой объективности, той, с которой мы
имеем дело в экспериментальном плане. Например, частицы такого-то и
такого-то химического тела (хлор, натрий и т.п.) неизменно дадут
такую-то или такую-то реакцию, которую зафиксирует любой
наблюдатель. Безусловно, априорные условия, которые пытался определить
Кант, относятся к опыту именно этого рода. Опыт же, о котором идет
речь в нашем случае, связан ли он с деятельностью философа или
художника, абсолютно отличен по своей сути. Можно также сказать, что
он имеет место на совершенно ином уровне реальности.
И здесь происходит нечто весьма примечательное, на чем нам
следует сосредоточить внимание, а именно: опыты философов (либо
художников), самые различные, могут коммуницировать между собой;
246
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
я бы даже сказал, что философский опыт, не способный воспринять
иной опыт, несхожий с ним, с тем чтобы понять его и при
необходимости превзойти, — должен рассматриваться как несостоятельный.
Итак, можно утверждать, что для философского опыта крайне
важно по мере его развития вступать в соприкосновение с другими —
также разработанными, чаще всего выстроенными в систему. Мало того:
такое соприкосновение реально составляет часть данного опыта,
способствуя самопрояснению последнего, его кристаллизации в
понятиях. Это особенно четко выступает у такого мыслителя, как Хайдеггер;
его мысль словно втянута в непрекращающийся диалог с философами-
предшественниками, — не всеми, разумеется, но с теми, с которыми
он ощущает как бы сродство: это великие досократики, Платон и
Аристотель, а из современных философов главным образом Кант, Гегель
и Ницше. В этой связи сошлюсь на весьма красноречивый факт.
Хайдеггер впервые посетил Францию в 1955 г. и был принят в замке
Серизи-ля-Саль, где собралось множество философов и студентов, с тем
чтобы воспользоваться его пребыванием в стране. Все надеялись, что
Хайдеггер прокомментирует наиболее сложные пассажи из своих
сочинений и прояснит их. Каково же было разочарование присутствующих,
когда стало известно, что после вступительного слова, касающегося
философии вообще, он прокомментирует ряд текстов: не своих, а Канта и Гегеля.
Тем, кто робко выразил свое удивление, Хайдеггер ответил, что его метод
состоит именно в прояснении своей мысли путем рассмотрения учений
великих философов, тех, кого он особо штудировал.
Важно заметить, что подобные комментарии у философа столь
самобытного всегда связаны с реинтерпретацией (можно сказать,
творческой) философов, к которым он обращается. В данном случае это
справедливо в особенности в отношении досократиков и Канта.
Теперь, исходя из этого, можно сформулировать общие проблемы,
которые очень волнуют многих философов, в частности во Франции;
проблемы эти касаются самой сущности истории философии. Сегодня,
безусловно, более прозорливо, чем когда-либо прежде, признается
необходимость и в то же время сложность философии истории философии.
Но, как бы то ни было, складывается впечатление, что
философский опыт, начало которого неизбежно напоминает одиноко
звучащее инструментальное соло, стремится в своем развитии
превратиться в концертирующее; он и является таковым в той мере, в какой
противостоит другим, так как это тоже — форма опоры на них. Так
было, например, с взаимоотношением между Кантом и Юмом,
ближе к нашему времени — между Бергсоном и Спенсером; если мне
будет позволено сослаться в этой связи на собственный опыт, то я могу
тоже сказать, что моя философия при своем формировании
противостояла современным неогегельянцам, и особенно Брэдли, как,
впрочем, и французскому неокритицизму.
247
Мудрость сострадания, мудрость любви
«Но, — скажут, возможно, некоторые из моих читателей, — если
мы Вас верно поняли, то думается, что Вы даете довольно странный
и весьма обескураживающий ответ на вопрос, который был
поставлен в начале Вашего исследования. Вы сказали, с одной стороны, что
философия существует лишь для того, у кого есть личный опыт в
этой области, кто, во всяком случае, наделен способностью
воспринимать такой способ мышления. Теперь Вы утверждаете, что
философский опыт предполагает живую коммуникацию, диалог с рядом
других достигших зрелости философских опытов, — т. е., в итоге, с
другими философами. Но не означает ли это, что в философии все
происходит внутри своего рода магического круга, между
привилегированными, или, иначе, в храме, куда непосвященные не могут иметь
доступа? Но ведь нам, когда мы спрашивали о том, чего можно ждать
от философии, важно было знать, что последняя в состоянии дать
именно неспециалистам, профанам, если угодно; ведь мы —
непосвященные. Если же речь идет просто-напросто о своего рода игре
между компетентными лицами, то нас она оставляет безучастными... Ведь
тот, кто не играет в шахматы, равнодушен к партии, проводящейся на
его глазах, поскольку он не знаком даже с правилами игры».
Это возражение обладает тем большим преимуществом, что оно
побуждает меня внести действительно необходимые уточнения.
Прежде всего я должен сказать следующее. Совершенно очевидно,
что было бы ошибкой воображать, будто между философом и не-фило-
софом существует что-либо похожее на водораздел. Такой преграды не
было и в другие эпохи: тем более ее нет сейчас, когда сама литература —
та, которую все читают, или подразумевается, что они ее прочли, —
настолько пронизана философскими идеями, что в действительности
стало невозможно провести между ними какую бы то ни было
демаркационную линию. И это справедливо не только для эссе или романов, но и
для пьес, и для кинофильмов. Пример Сартра в этом смысле
чрезвычайно показателен. Между романами и пьесами Сартра и его
философскими произведениями невозможно провести подлинную границу. То же я
могу сказать и в отношении себя. В этой связи вспоминается и такой
писатель, как Поль Валери, который, хоть он и выставлял напоказ свое
презрение к философии, но в действительности тоже был в некотором
роде философом, даже в области чистой поэзии; причем был им
настолько, что очень точный комментарий к его замечательному
поэтическому сборнику «Чарования» («Charmes») дал не кто иной, как
философ-профессионал Алэн. Но, безусловно, нужно пойти еще дальше и
сказать, что всякому мыслящему существу, в особенности в нашу
эпоху, присуще, — конечно, не постоянно, но минутами, — нечто вроде
зачаточного философского опыта. Я бы охотно уподобил этот опыт
своеобразному трепету перед лицом великих таинственных реальностей,
как-то: любовь, смерть, рождение ребенка и т.п., которые вводят жизнь
248
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
каждого человека в ее конкретное русло. Можно, я думаю, с
уверенностью сказать, что всякое волнение, пережитое человеком лично при
встрече с этими реальностями, представляет собой нечто вроде
зародыша философского опыта. Очевидно, что в огромном большинстве
случаев этот зародыш не только не развивается в артикулированный опыт,
но, по-видимому, и не нуждается в подобном развитии; и тем не менее
верно и то, что почти каждый человек в какой-то высший миг испытал
эту потребность быть озаренным, получить ответ на свой вопрос.
Конечно, следует добавить, что развитие принимает именно такой
характер особенно по мере того, как религия в собственном смысле
этого слова хиреет, или хотя бы по мере того, как изменяется ее
природа и умы все менее довольствуются готовыми ответами, которые в
прежние времена они, как кажется, принимали без возражений.
Может быть, стоило бы еще добавить к этому нечто,
представляющееся мне очень важным, а именно, что сознание людей
заполонили отходы философской мысли — отходы, тиражируемые газетами,
digest или попросту распространяемые в беседах, и что в большинстве
случаев эти отходы могли бы быть сожжены с пользой, наподобие
кухонных отбросов. Приступить к такой процедуре, на мой взгляд, —
одна из немаловажных функций философии.
Тем временем в умах моих читателей может созреть новый вопрос,
еще более нетерпеливый, чем предыдущие.
Мне скажут: «Вы допускаете, что между "не-философом" и
философом может и должна установиться определенная связь. Но о каком
философе идет речь? Непосвященный испытывает чувство тревоги и
беспокойства, оказавшись лицом к лицу со множеством философий,
которые по видимости исключают одна другую. Да и сам факт, что он
должен выбирать между ними (не очень ясно, как и следуя какому
критерию), — как это совместимо с общими для них всех
претензиями выражать истину или истины? И с другой стороны, если философ
когда-то отказывается от этой претензии, не вырождается ли его
занятие тогда в пустую игру? Вопрос можно сформулировать и иначе:
каким образом перед лицом этого хаотического множества еще
возможно говорить о философии в том смысле, в каком говорят о науке!»
Совершенно очевидно, что подобное возражение нельзя игнорировать
и что ответ на него прямо влияет на ответ, который надлежит дать на
вопрос, поставленный вначале: «Чего следует ожидать от философии?»
Я полагаю прежде всего, что надо раз и навсегда покончить с
представлением, которое так или иначе владеет теми, кто это возражение
формулирует, — т.е. с представлением о некой витрине или
экспозиции, где соседствуют различные философии и посетителю остается
выбирать между ними. Одно из наиболее бесспорных преимуществ
мысли, основывающейся на истории, заключается именно в
выявлении абсурдности такого сравнения, поскольку подобное рядоположе-
249
Мудрость сострадания, мудрость любви
ние годится лишь для объектов, вещей; философия же ни в каком
случае не может рассматриваться под таким углом зрения, ибо она есть в
определенном смысле опыт, я бы сказал — почти авантюра духа,
дерзание в рамках гораздо более широкой авантюры, каковой является
человеческая мысль в целом, или даже в лоне чего-то, что, быть может,
трансцендентно по отношению к этой авантюре, в том случае, когда
это проявление Духа и Глагола, когда это теофания.
Но, с другой стороны, то, что было сказано в первой части
настоящего текста (при условии, что это верно понято), ведет к
пониманию и того обстоятельства, что философия мыслима не иначе как в
зависимости от определенной потребности. История философских
доктрин — это в значительной мере еще недостаточно изученная
история потребностей человеческого духа. Эти потребности должны
быть в действительности соотнесены с масштабными конкретными
ситуациями, которые способствовали их пробуждению. К тому же
здесь перед нами исключительно сложный тип взаимоотношений,
который философская рефлексия должна осветить со всей
точностью. Действительно, было бы бессмысленно утверждать, что та или
иная ситуация способна сама по себе породить потребность. Мы не
имеем здесь дела с причинным отношением (как, впрочем, и в куда
более простом случае, когда констатируется, например, что данная
почва благоприятствует произрастанию такого-то вида
растительности больше, чем другого. Глагол «благоприятствовать» здесь
прикрывает исключительно сложный узел отношений).
В этих условиях обманчивое представление о выборе,
направленном на идеальные объекты, нужно заменить идеей совершенно другого
рода, а именно: представлением о различных уровнях, на которых
рефлексия движется в зависимости от одушевляющей ее потребности. Так,
например, философия, сосредоточенная на потребностях человека,
личности как таковой, станет критиковать марксизм не обязательно в
качестве метода, — так как очевидно, что марксистский метод,
приложенный к строго определенным сферам, может быть плодотворным, —
но в его претензии быть тотальным, конечным объяснением жизни и
истории, показывая, что он не способен даже в малейшей степени на
них ответить, что ему остается их только игнорировать.
В этой заключительной части я попытаюсь показать, какой мне
видится та философская потребность, которая, по моему убеждению,
специфическим и настоятельным образом заявляет о себе в нашу
эпоху. При этом я отнюдь не скрываю, что говорю только от своего имени:
но я прошу вспомнить сказанное мной в начале о том, что нет и не
может быть философской рефлексии без личной позиции. Таким образом,
я адресую свое обращение тем, кто более или менее явно движим той же
потребностью, которую я сейчас хотел бы определить. Что же касается
остальных, надо будет, чтобы они достаточно разобрались в этом, что-
250
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
бы спросить себя, возможно ли для них полностью отвергнуть ее или
абстрагироваться от нее. Это значит, что ответ только и может, и должен
быть личным, но что в то же время он касается вопросов,
трансцендентных по отношению к чистой субъективности, если последняя сведена
к простым способам чувствовать, желать или не желать.
Итак, вначале следует отправляться от общего и углубленного
описания той ситуации, в которой сегодня находится человечество, или по
меньшей мере западная часть его — предмет наших наблюдений. Я
воспроизведу здесь страницу одного из моих сочинений, датируемого
1933 г.2, где, однако, мне сегодня нечего ни вычеркнуть, ни изменить:
«Современная эпоха характеризуется, на мой взгляд, тем, что
понятие функции вышло, если можно так выразиться, из своей орбиты:
слово "функция" я беру здесь в самом общем смысле, подразумевая
и жизненные, и социальные функции человека.
Индивид начинает казаться самому себе и другим простым
конгломератом функций. В силу исторически глубинных причин, которые
пока мы можем уловить лишь отчасти, индивид оказался
вынужденным относиться к себе как к совокупности функций, иерархия
которых, однако, кажется ему сомнительной, поскольку ее обоснования
носят самый противоречивый характер.
Функции биологические, прежде всего: нет нужды подчеркивать
роль, которую в этой редукции могли сыграть, с одной стороны,
исторический материализм, с другой — фрейдизм. Затем — функции
социальные: функции потребителя, производителя, гражданина и т.д.
Теоретически между теми и другими, разумеется, есть место
психологическим функциям. Но легко убедиться в существовании
тенденции неизменно интерпретировать психологические функции либо
в связи с биологическими, либо в связи с социальными функциями;
их автономия будет хрупкой, их специфичность станет оспариваться.
В этом смысле то, что Конт отказался отвести психологии место в
своей классификации наук, было своего рода пророчеством.
Мы здесь еще целиком в сфере абстракции; однако в этой области
переход к самому конкретному совершается с исключительной легкостью.
Мне часто случается задаваться тревожным вопросом о том, чем
может быть жизнь или внутренний мир, например, служащего метро,
человека, который отворяет двери или компостирует билеты.
Приходится признать, что одновременно и в нем самом, и вокруг него все
словно соревнуется в том, чтобы довершить отождествление этого
человека с его функциями: я говорю не только о его функции
служащего, или члена профсоюза, или избирателя, я говорю также о его
жизненных функциях. Страшное по существу выражение "использование
времени" здесь обретает реальные черты. Столько-то часов должно
быть отведено такой-то функции. Сон — это тоже функция, которую
должно отправлять, дабы иметь возможность отправлять другие фун-
251
Мудрость сострадания, мудрость любви
кции. То же и в отношении досуга, реабилитации. Врач-гигиенист —
и это вполне в порядке вещей — говорит о пациенте, которому
требуется столько-то часов в неделю на развлечения. Дело касается
психоорганической функции, которой, я полагаю, так же нельзя
пренебрегать, как, например, половой функцией. Нет нужды продолжать;
этих примеров вполне достаточно. Мы видим, как проступает во всем
этом идея таблицы для жизни, детали которой, разумеется,
варьируются в зависимости от страны, климата, рода занятий людей и т.д. Но
главное — существование такой таблицы.
Конечно, подчас дают о себе знать факторы нарушения порядка;
что-то отказывает; таковы несчастный случай в самых различных
своих формах, болезнь. Отсюда — явление, очень распространенное в
Америке и, думаю, в России: индивид, словно часовой механизм,
подвергается периодическому освидетельствованию. Клиника
выступает одновременно в качестве контрольного пункта и ателье по
ремонту. Все с той же функциональной точки зрения рассматриваются
сущностные проблемы, как, например, проблема рождаемости.
Что же касается смерти, то, рассматриваемая с позиций
объективности и функциональности, она выступает как выход из
употребления, провал в непригодность, как абсолютный дефект, брак».
Мне кажется, трудно отрицать, что этот мрачный диагноз с каждым
днем оказывается все более точным и, как я писал тогда в продолжение
его, «помимо печали, вызываемой этим зрелищем у того, кто его
наблюдает, есть еще глухая, невыносимая тоска, ощущаемая тем, кто обречен
жить так, словно его жизнь действительно растворилась в его функциях...
Жизнь в мире, сосредоточенном на идее функции, подвержена отчаянию,
она переходит в отчаяние, потому что на самом деле этот мир пуст, он —
полый внутри; если она противостоит отчаянию, это лишь в той мере, в
какой в лоне этой экзистенции и во благо ее действуют некие скрытые
силы, которые она не в состоянии помыслить либо распознать».
В перспективе, в которой я хотел бы развернуть свое исследование
сегодня, особенно важна последняя фраза: развивая эту мысль,
можно дать определенный ответ на поставленный в начале вопрос.
Что может философия, чего мы можем ожидать от нее в
переживаемый нами момент истории? Прежде всего, вынести диагноз, один
из элементов которого, на мой взгляд, очень существенный, я вам
представил: речь должна прежде всего идти об опасности
дегуманизации, заключенной в интенсивном развитии техники в нашем
сегодняшнем мире. Далее: со всей возможной отчетливостью осознать
глубокое, чаше всего не находящее себе выражения смятение, которое
испытывает человек в этой технической либо бюрократической
среде, где наиболее глубокое в нем не только игнорируется, но
постоянно попирается; помимо того, на путях исключительно бережного,
трудного поиска стремиться определить те скрытые силы, о которых я
252
ГЛ Марсель. В защиту трагической мудрости
только что упоминал. Что это за силы? Им очень трудно дать название,
прежде всего потому, что здесь мы оказываемся в сфере, где слова
слишком часто истерты, обезжизненны. В самых общих чертах могу
сказать, что силы эти — словно излучение бытия: и именно на бытие,
как это было очевидно всем великим философам прошлого и как и
сегодня утверждает Хайдеггер — во многих отношениях наиболее
глубокий философ Германии, а возможно, и Западной Европы, — именно
на бытие, повторяю, должна быть направлена мысль философа.
Но, спросите вы не без беспокойства, когда вы говорите о бытии
как таковом, не находите ли вы себе тем самым прибежище в
абстракции, лишенной всякого конкретного смысла? Я полагаю, следует
ответить, что на самом деле бытие — это именно противоположность
абстракции, и, однако, на уровне языка природа его почти
неизбежно бывает искажена и понятие сливается со своей
противоположностью. В этом — главная трудность, и здесь — причина того, почему в
работе, из которой я заимствовал свои цитаты и которая занимает
центральное место среди моих сочинений, я настойчиво проводил
идею того, что я называю «конкретным приближением». Это
означает, что мы не можем, как я полагаю, в некотором роде «утвердиться»
в бытии, обладать им, как не можем и видеть источник излучения
света. Все, что мы можем видеть, — это зоны, озаренные этим светом.
Это сопоставление бытия и света, на мой взгляд, крайне
существенно, и вряд ли есть необходимость обращать ваше внимание на то, что
оно созвучно здесь евангельскому тексту от Иоанна: «Свет, который
озаряет всякого являющегося в этот мир». В другой своей книге я
говорил о свете, который есть Радость быть светом и которому
человеческое существо в качестве такового причастно, без чего оно
опустилось бы на уровень животного или ниже его.
Здесь я предвижу последнее возражение, на которое хотел бы
сразу же ответить.
«Не совпадает ли этот философский ответ, — скажут мне, вне
всякого сомнения, — с ответом религии? Здесь не очень-то видна грань,
которую Вы можете провести между философией и религией».
Вопрос очень важен, и я бы на него ответил следующим образом.
Я глубоко верю, что существует и должно существовать неявное
совпадение философии и религии, но я полагаю также, что
инструменты, которыми пользуются в том и в другом случаях, совершенно
различны. Религия действительно не может опираться ни на что иное,
кроме Веры. И напротив, я считаю, что инструмент философии — это
рефлексия, и должен признаться, что философские учения,
претендующие на то, что они строятся на интуиции, всегда вызывают во мне
недоверие. Но я стремился показать, что рефлексия может
представать в двух различных, взаимодополняющих формах; одна из них —
чисто аналитическая, редуцирующая: это рефлексия первой ступени;
253
Мудрость сострадания, мудрость любви
другая же, напротив, имеет тенденцию ее восполнить или, иначе
говоря, быть синтезирующей мыслью: именно эта рефлексия имеет
опору в бытии — не в интуиции, а в уверенности, полностью
сливающейся с тем, что мы зовем нашей душой.
Глава II
Ответственность философа в современном мире
Дебаты, которые велись с конца Второй мировой войны, зачастую в
противоречивых условиях, вокруг понятия ангажированной
философии, еще нельзя считать завершившимися. Возможно даже, что
сегодня они серьезнее, чем когда-либо, особенно во Франции, когда
уже поневоле задаешься вопросом, не идет ли речь о самом
существовании философии. Что я имею в виду? Что существование
философии, — я надеюсь суметь это показать, — может быть признано лишь
в том случае, если будет установлено, что она налагает действенную
ответственность в ситуации беспрецедентного кризиса, свидетелями
которого мы являемся вот уже четверть века.
Проблема, на которой я собираюсь сосредоточить внимание,
обнаруживается с того самого момента, как мне приходится задать себе
вопрос: могу ли я быть уверен, что мои читатели или слушатели
вкладывают в слово «философ» тот же смысл, что и я? Или, глубже: что в
моем сознании, для меня самого это слово совершенно свободно от
двойственности?
Остановимся сначала на первом из этих вопросов. Опыт нам
неопровержимо показывает, что слово «философ» берется в совершенно
различных значениях в большей части англосаксонского мира и там, где после
Гуссерля и Шелера стала быстро распространяться феноменология.
Очевидно, будет нетрудно показать, что в прошлом мы найдем в
некотором отношении схожие оппозиции. В конце прошлого века
английский неогегельянец, например, говорил не на том языке,
каким пользовался его коллега, эмпирик, сформировавшийся в школе
ассоцианистов и Спенсера. Это неоспоримо, хотя бы даже по этому
поводу можно было заметить, что элемент истины,
наличествовавший в ассоцианизме, затем вполне мог быть использован в синтезе,
какой мы видим у Брэдли. И тем не менее я мог убедиться, например,
на Конгрессе в Лиме в 1951 г. в беседе с Альфредом Айером,
делегатом от Британии, что когда я говорил о философии рефлексии, эти
термины, имеющие во Франции, безусловно, почтенную традицию,
для него ровным счетом ничего не значили. Позже, общаясь со
студентами Гарварда, я вынужден был констатировать, что их
преподаватели философии, во всяком случае большинство из них,
отговаривали их искать связь между философией, почти исключительно
254
Г. Марсель, В защиту трагической мудрости
аналитической, пользованию которой должно было способствовать
обучение, — и жизнью, проблемами, которые жизнь ставит перед
каждым из нас и которые, видимо, в их глазах относились к сфере
произвольного выбора, никак не соотносимого с философией.
Конечно, и этому можно найти прецеденты. Но что придает
современной ситуации ее собственный, особый характер, так это, кроме
всего прочего, тот факт, что отрасли знания, которые вплоть до
начала века рассматривались как составная часть философии — социология
и психология, разумеется, но также и логика, — в настоящем
претендуют не просто на автономию, но на радикальную независимость.
В этих условиях собственно философия, к несчастью, рискует
выглядеть остатком; ее не сбрасывают со счетов, но всего лишь терпят
в силу традиций, к которым к тому же все меньше и меньше
почтения. У людей, солидно устроенных в жизни, но которые при этом не
без умиления взирают на далекие годы своей учебы, часто можно
встретить идею о том, что философия — это своего рода
интеллектуальная игра, гимнастика, делающая мысль гибкой, что хорошо иметь
за плечами некоторый опыт подобных упражнений, не питая при
этом иллюзий по поводу ее подлинного значения.
Что до меня, то я бы сказал, что если философию ждет такая участь,
то лучше желать ее исчезновения. Если она всего лишь игра, то
недостаточно сказать, что она— вне жизни, реально и всерьез прожитой; она,
кроме того, рискует казаться обманом, ибо всегда выступает с
претензиями, которые могут вводить в заблуждение юные умы и которые в
принятом нами случае должны были бы быть рассматриваемы как лживые.
Со своей стороны, скажу без колебаний, что философия, если она не
имеет резонанса в нашей жизни, сегодня оказавшейся под угрозой во всех
отношениях, лишена значения и не представляет ни малейшего
интереса. Однако надо пойти дальше и сказать, что сам этот резонанс зависит от
позиции, которую философия занимает относительно истины.
В самом деле, не декларировал ли несколько лет тому назад
патентованный философ Сорбонны, пользующийся непререкаемым
авторитетом, в предназначенной для начинающих студентов
телевизионной беседе, что понятие истины обретает вполне определенный
смысл только в науках? Высказаться подобным образом — значит
попросту провозгласить отставку философии. Обращаясь сегодня к
прошлому, мы можем заметить, что среди великих философов нет, по-
видимому, ни одного, кто в своем учении отказал бы истине в праве
гражданства. Даже такой иррационалист, как Шопенгауэр, вне
всякого сомнения, полагал, что в глубине вещей он открыл истину.
Единственное исключение, вероятно, скорее, внешнее, чем
действительное, составляет Ницше, в той мере, в какой его философия может
показаться определенным образом обретающейся не только по ту
сторону добра и зла, но и по ту сторону истинного и ложного. Однако та-
255
Мудрость сострадания, мудрость любви
кая философия может считаться состоятельной лишь в том случае, если
она, несмотря ни на что, признает, что определенный тип истины,
скажем, к примеру, научная истина, должен быть превзойден; но разве это
трансцендирование не ведет неизбежно к восстановлению высшей
истины, несводимой вдобавок к тому, что мы обычно обозначаем этим
словом? Вообразить, что можно уйти от этой необходимости, — значит
вступить на путь, где человек оказывается во власти бреда. Есть
основания думать, что в этом свете безумие Ницше — это не просто событие,
относящееся к компетенции медицины, но что оно несет в себе смысл,
что оно в действительности связано с нарушением запретного.
Однако здесь следует предусмотреть законный вопрос. «Когда Вы
говорите о философе, — скажут мне, — имеете ли Вы в виду
философа вообще или, скорее, кого-то определенного, с кем Вы ощущаете
внутреннюю близость? И если верно именно последнее, то каким
образом Вы могли бы избежать субъективизма? С другой стороны —
есть ли смысл говорить о "философе вообще"»?
Надо признать, что это вопрос существенный и нельзя его
оставить без ответа. Я должен прежде всего особо подчеркнуть, что речь
идет о философе в сегодняшнем мире, т.е. в определенном контексте,
от которого невозможно абстрагироваться. Но совершенно очевидно,
что этого замечания еще недостаточно. Следующий важный вопрос:
имею ли я в виду, говоря о философе, того, кого можно назвать
профессиональным философом, — и вот мы снова в затруднении,
поскольку проблематична сама эта профессионализация: возможна ли она
без внутреннего противоречия?
Когда мы говорим о профессиональном философе, перед нами
встает образ философа дипломированного, которому тем самым дано
право преподавать в официальных или приравненных к ним
заведениях; однако, если подумать, трудно отделаться от какого-то чувства
неловкости, вызываемого мыслью о «дипломе по философии» и об
условиях, при которых такой диплом может быть выдан. Эта неловкость
связана с ощущением — не скрою, вначале смутным —
противоречивости, которое надлежит проанализировать и прояснить. Итак: разве,
произнося слово «философ», не имеем мы в виду свободный по сути
поиск, которому отдается тот, кто его задумал? Нет ли противоречия
в том, что при этом должен мыслиться некий штемпель, которым
удостоверяется извне, допустим, не поиск, но лицо, которое собирается
посвятить себя этому, — штемпель, долженствующий подтвердить его
правомочность? Но применимо ли здесь понятие правомочности?
Объявить правомочным, законным, — но во имя чего и исходя из чего?
И пойдем дальше: какого рода может быть авторитет тех, кто выдает
подобные удостоверения? Ведь философия совершенно очевидным
образом отличается от специализированных отраслей знания, для
которых не существует вопросов подобного рода. Кандидат в преподава-
256
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
тели кафедры математики или истории может единодушно
рассматриваться как выдержавший испытания, установленные математиками
или историками, и таким образом полномочные лица могут на
законной основе признать и затем объявить, что данный кандидат
действительно способен передавать другим знания, которыми он обладает.
Однако нетрудно заметить, что там, где речь идет о философии,
ситуация совершенно иная.
Конечно, можно попытаться ввести здесь различие между
философом в собственном смысле, т.е. философом-исследователем, и
преподающим философию и сказать, что испытания, итог которым
подводит отмеченная мной процедура «штемпелевания», должны лишь
определить, обладает ли кандидат достаточным багажом знаний и
способен ли он передать их другим. С этим можно согласиться, только
если сразу же оговорить, что понятие багажа в данном случае весьма
двусмысленно и что преподавание философии, сводящееся к
подобной передаче, на самом деле ни в какой мере не отвечает требованию,
которому оно должно было бы удовлетворять. В философии гораздо
менее важно преподавать, нежели пробуждать, — но опыт
безусловно говорит о том, что официально установленные экзамены лишь
редко и самым приблизительным образом позволяют выявить,
обладает ли кандидат этим важнейшим качеством.
Итак, мы должны признать, что в самом понятии преподавателя
философии есть нечто амбивалентное по сути, настолько, что можно
всерьез задаться вопросом, не является ли акт, выражаемый словами
сделать своей профессией.., в каком-то роде несовместимым с тем
наиболее интимным, что есть в этом призвании. Когда мы говорим о
философе, мы должны сделать акцент именно на понятии призвания; при
этом приходится согласиться, что точный смысл этого призвания
нелегко определить, если мы, как подобает, станем проводить различие
между ним и призванием преподавателя вообще; при этом я оставляю
в стороне трудный вопрос о том, достойно ли призвание собственно
преподавателя этого наименования и так же ли оно определенно, как,
например, призвание врача, священника или даже инженера.
Что здесь важно видеть, на мой взгляд, — это что
философствование не есть нечто предпринимаемое исключительно для себя,
именно—с целью выйти из состояния неопределенности или смятения
путем достижения некоторого внутреннего равновесия, которым сам
субъект мог бы удовлетвориться. Напротив, скорее, все происходит
так, словно философ разделяет, берет на себя беспокойство или
тревогу других людей, которых он не знает лично, но с которыми
ощущает себя связанным узами братства.
<...> Можно без колебаний утверждать, что у истоков
философского поиска всегда было удивление, определенный способ не принимать
за «само собой разумеющееся», не признавать «совершенно естествен-
17-Я4ЯЙ
257
Мудрость сострадания, мудрость любви
ным» данное, с которым будущий философ имеет дело. Думаю, это
слишком очевидно, чтобы на этом настаивать. Но вот что менее ясно, —
и я, таким образом, возвращаюсь к сказанному выше, — это то, что
подобное сомнение неизменно выступало как направленное на некую
истину, которую предстоит открыть. Правда, слова «некая истина» здесь
не вполне уместны: фрагментарные истины, которые возможно
обособить одну от другой, относятся к науке, а не к философии; скорее, речь
всегда идет об истине, но с момента, когда рефлексия достигла
определенного уровня, вопрос относится уже к самой истине: этим я хочу
сказать, что с данного момента мы задаемся вопросом о значении самого
этого слова одновременно с вопросом об условиях и пределах, в
которых может быть удовлетворено стремление к истине.
Я хотел бы со всей возможной точностью ответить на следующий
затруднительный вопрос. Когда я, философ, говорю о философе —
говорю ли я о самом себе? По-видимому, одно из двух: либо я
действительно имею в виду себя — и в этом случае смешон невольный
маскарад; или же я исхожу, напротив, из констатации различия, но в
таком случае трудно понять, каким образом я соотношу себя с этим
философом, которым, согласно моему утверждению, я не являюсь.
Здесь явно есть дилемма, от которой не уйти. Я полагаю, что,
невзирая ни на что, мне следует принять вторую позицию. Итак, я говорю
не о себе. Но в этом случае я должен признать, что от меня
требуется—а также, если угодно, мне дано — мыслью превзойти то, что я
мог, или мог бы еще сейчас, осуществить. В общем и целом я должен
актуализировать в уме учения столь различных философов, в среде
которых я мыслю себя, однако без претензий сравняться с ними.
Одна из трудностей, с которыми я сталкиваюсь, — в том, что
тщетно пытаться найти для этих мыслителей общий знаменатель,
пусть даже чисто формальный (это разве что — позиция личной
ангажированности в отношении истины или, точнее, в отношении
ориентированного на истину поиска).
Но теперь мне следует приложить это к предмету нашей беседы,
а именно: когда я говорю об ответственности философа, мыслю ли я
себя, свою ответственность? Боюсь, что здесь придется ответить
одновременно и «да», и «нет». Поскольку я помещаю себя в круг
философов, я никоим образом не могу «устраниться» из того, что
собираюсь сказать. Но в то же время, поскольку я осознаю собственную
недостаточность и своего рода неверность, по-видимому,
неизбежную, призванию, которое превосходит мои личные возможности, я,
быть может, должен буду утверждать то, что, как я, к несчастью,
знаю, сам я полностью выполнить не могу. Итак, здесь остается
некая область невосполнимого: признать это — значит в то же самое
время решительно признать, до какой степени всякая гордость или
высокомерие мне воспрещены уже по определению.
258
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
Очевидно, ввиду того, о чем речь пойдет в дальнейшем, здесь я
должен добавить, что, по-видимому, я принципиально не способен
провести жесткую грань между тем, что я мыслю как философ, и тем, что
я говорю как не-философ, хотя, конечно, я обязан делать все
возможное, чтобы достичь здесь большей ясности, более строгого различения.
Эта долгая преамбула была необходима, как мне кажется, дабы
очертить условия, в которых ставится проблема ответственности
философа; проблема сложная, разумеется, однако надо признаться, что эти
посылки были словно запутаны в угоду определенного типа
экзистенциализму; ниже мы будем иметь возможность убедиться в этом.
Первый вопрос, неизбежно возникающий, — в том, чтобы
спросить себя, перед кем ответствен философ; и если предположить, что
на этот вопрос невозможно ответить, то в этом случае сохраняет ли
слово «ответственность» значение, сколько-нибудь поддающееся
определению? Возьмем здесь крайний случай, каковым является
тоталитарное государство, будь то нацистская Германия или Россия
Советов. Здесь вопрос об ответственности на самом деле совершенно
ясен: философ ответствен перед обществом и, точнее, в двух
рассматриваемых случаях, перед единственной партией и теми, кто
является ее детищем, кто кичится, что является единственным хранителем
истины, как бы ни назывался новый Коран, в котором она
сформулирована: «Капитал» или «Mein Kampf».
Однако мы не можем не заметить тут же, что философ, который
таким образом подчиняется порядку, исходящему от «высшей
власти», преступает тем самым условие философского поиска, которое
должно считаться нерушимым: это условие — независимость.
Следует, не колеблясь, обвинить в отступничестве философа, который
ставит себя на службу псевдоистине, объявленной абсолютной. Здесь мы
сталкиваемся с определенной «транспозицией» того, чем мог быть
несколько веков назад теологический догматизм, однако эта
транспозиция происходит в условиях, значительно ее отягчающих,
поскольку этот новый догматизм не может претендовать на то, что он
основывается на чем-либо, напоминающем Откровение.
Однако, сделав акцент на независимости как отличительном
свойстве философского исследования, не избавляем ли мы тем самым
философа от всего, что может быть рассматриваемо как
ответственность? Нет ли здесь тенденции к опасному сближению ситуаций
философа и художника? Ведь в конечном счете трудно согласиться с
тем, что на живописца или композитора как таковых возлагается
ответственность: какого рода она могла бы быть?..
Здесь естественным образом напрашивается возражение:
«общество» не обязательно означает «тоталитарное государство». Нельзя ли
мыслить ответственность философа перед лицом такого сообщества
людей, взятого в более широком смысле, тем самым — более совме-
259
Мудрость сострадания, мудрость любви
стимого со свободой, которая должна быть у истоков всякой
рефлексии, достойной этого названия?
Однако надо ответить на это, что слово «общество» само по себе
чрезвычайно расплывчато. Общества «вообще» не существует. Какое
общество имеется в виду? Речь может идти лишь об определенном обществе,
к которому философ принадлежит, в частности, как гражданин, как
приверженец той или иной конфессии и т.п. Рассмотрим конкретный случай:
ответствен ли философ перед страной, государством? Попытаемся
понять, что кроется под этими, казалось бы, ясными словами. Мы не
замедлим обнаружить здесь узел противоречий. Возьму для примера
конкретный случай, представший перед нами недавно при очень горестных
обстоятельствах. Должен ли был философ воздержаться от разоблачения
массового применения французской армией пыток в ходе войны в
Алжире? Я считаю, что с этим невозможно согласиться. Допустим — что,
конечно, просто-напросто неверно, — что руководители французской
армии считали эти методы необходимыми для победы в войне: следовало ли
в таком случае видеть в этих военачальниках уполномоченных
представителей своей страны? Согласиться с этим очень рискованно. Но, с другой
стороны, публично дисквалифицировать этих руководителей — не
означало ли бы это сыграть на руку неприятелю, оказаться некоторым
образом повинным в измене? Проблема действительно серьезна и вызывает
тревогу. Но, мне кажется, нужно без колебаний признать, что философ,
достойный этого имени, должен был прийти к выводу, что Франция,
прибегающая к таким средствам, в каком-то смысле перестает быть
Францией, иными словами, перестает демонстрировать верность определенному
призванию, которое лучшие умы всегда считали уделом ее народа. Так не
следует ли сказать в таком случае, что ответственность должна была быть
проявлена по отношению к этой Идее, а не по отношению к некой
фактической власти, о которой мы вправе сказать, что она предала Идею?
Однако не следует игнорировать трудности, связанные с таким
подходом: что касается меня, то, публично высказавшись против
применения пыток, я в ту пору возражал против манифеста,
подписанного широкими кругами интеллигенции, который мне казался
равносильным призыву к дезертирству. Надо сознаться, что здесь
мы — на острие ножа, и очень трудно определить, в какой момент
долг изменяет свою природу и признаки.
Во всяком случае, мне кажется, что нужно отбросить возражение,
заключающееся в тезисе, согласно которому тот, кто понимает
ответственность так, как я ее определил, позволяет совершенно
субъективному мнению, простому личному предпочтению взять верх над
незыблемым долгом, а именно — уважать законы страны.
В действительности здесь заново встает главная проблема
платоновской этики, и здесь мы вновь сталкиваемся с дилеммой, которая в
«Горгии», например, приводит к спору между философом и софистом.
260
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
Несколько лет тому назад я попытался показать, что между
истиной и справедливостью существует неразрывное единство, что
погрешить против истины — значит погрешить против справедливости, и
наоборот. В этом отношении нет более разительного примера, чем
пример людей, которые в 1898 г., в условиях риска, заняли позицию
в защиту Дрейфуса против официальной истины, которая на
поверку оказалась ложью.
Мне скажут, что эти люди не были философами. Но здесь важна
позиция, какая подобает философу, конкретно, перед лицом того, что
составляло сущность ситуации, сложившейся вокруг Дрейфуса. Скажу, не
колеблясь, что только софисты могли тогда выступить с осуждением.
Мне кажется совершенно ясным, — и в этом вновь звучит
лейтмотив настоящего очерка, — что великодушие должно быть
отличительным признаком философской мысли, заслуживающей этого
названия. Вуалированию этой истины способствует то, что в великодушии
мы склонны видеть род словесного и, разумеется, эмоционального
кипения, столь свойственного идеологам. Речи нет, дистанция
между философом и идеологом должна быть сохранена любой ценой.
Столь часто бросающийся в глаза недостаток идеологов относится
прежде всего к области упорядочивающей и критической мысли;
однако философ должен неукоснительно соблюдать ее предписания.
Это означает, что великодушие должно оставаться сопряженным с
определенным благоразумием, тем благоразумием, которое, как учит
моральная теология, является такой же добродетелью, как и смелость.
Однако может возникнуть вопрос: характерна ли описанная выше
ситуация хоть в какой-то мере для того, что я назвал современным
миром? На этот вопрос, по-моему, нельзя ответить односложно. Условия,
в которых развернулось «дело Дрейфуса», могут показаться
преодоленными или сильно изменившимися, по крайней мере в странах западной
демократии. В самом деле, ведь они предполагают существование
дискредитированной ныне милитаристской касты. И все же меня смущает
довольно поверхностный характер такого заключения. Во-первых, то,
что мы наблюдаем во многих странах, показывает, что эта каста может
возродиться перед лицом не только конфликта, но даже угрозы его. Но,
главное, было бы очень большой ошибкой думать, что такая каста —
единственное, что может угрожать справедливости и истине, этим
ценностям, которым философ должен оставаться глубоко приверженным.
Достаточно вспомнить о том, что происходило в восточных странах в
сталинскую эпоху и даже, в меньшей степени, после, чтобы понять,
какую опасность представляет победа одной партии, какой бы она ни
была, если эта партия приходит к абсолютной гегемонии.
Недавно я в другой связи писал, что демократию сегодня, без
сомнения, следует рассматривать как единственно возможный способ
существования общества, невзирая на аберрации, всякий раз принимающие
261
Мудрость сострадания, мудрость любви
плохой оборот, и что здесь мы имеем дело с необратимым процессом, как
и в случае с контролем, осуществляемым наукой и базирующейся на ней
техникой над человеческой жизнью. Это всего лишь констатация, не
претендующая на то, чтобы быть ценностным суждением, поскольку весь
наш жизненный опыт и все, что нам еще, без сомнения, предстоит
пережить в различных наших странах, свидетельствует о том, сколь хрупко
при демократическом режиме равновесие; многочисленных причин этого
я здесь не стану перечислять, ограничусь лишь указанием, — поскольку
в моих глазах это один из наиболее угрожающих факторов, — на
развращающую роль денег, которую Пеги (все он же) изобличал с такой
страстью. Но плутократия сегодня не откровенна на собственный счет; она
прибегает к алиби, которое не всегда раскрывается должным образом.
Единственная цель этих кратких замечаний — показать, насколько
бдителен должен быть философ, хотя при этом он, разумеется, ни в каком
случае не должен вступать на легкий путь, поддаваясь соблазну
предвзятости. Достаточно сказать, что ему приходится идти по гребню, что он в
определенном смысле обречен на одиночество. Думаю, что этим
одиночеством ему не следует гордиться. Более того, в одиночестве заключено
другое искушение, которому он должен противостоять.
Однако этих замечаний, на мой взгляд, недостаточно, чтобы
ответить на главный вопрос, который я ставил, говоря об
ответственности философа в современном мире.
Мне кажется, я вижу, с одной стороны, — как уже говорил
вначале, — что этот мир все менее расположен принимать, хотя бы
теоретически, предупреждения и рекомендации философа, а с другой — что это
недоверчивое и даже презрительное отношение таит в себе глубокое
заблуждение, которое именно философ, и только он, может вскрыть.
Возможно, в этой обязанности и заключена его главная ответственность.
В чем состоит это заблуждение? Оно — в представлении, что наш
мир несет в самом себе свое оправдание.
Идея и понятие ситуации уже встречались на этих страницах, но
сейчас следует вернуться к этому в гораздо более широком плане,
чтобы попытаться решить занимающую нас проблему. Я не думаю,
чтобы имело смысл говорить об ответственности философа urbi et orbi, т.е.
во вневременной или вообще чуждой измерению времени
перспективе. Анализ ответственности как таковой позволил бы показать, что она
может реализоваться лишь в измерении длительности, точнее, во
временном контексте. Таким образом — и это необходимо повторить, —
ответственность философа должна быть рассматриваема перед лицом
конкретной современной ситуации. Что это за ситуация?
Мне кажется, надо сказать, что она является следствием
определенного способа захвата власти человеком. Скажем точнее: речь идет о
конкретном кризисе в истории этого захвата власти — истории,
начавшейся с первых завоеваний техники. Ситуация, сложившаяся сегодня, явно
262
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
беспрецедентна, ибо она предоставляет человеку возможность,
опираясь на технику, которую ему удалось в совершенстве разработать,
посредством ее разрушить свое земное обиталище; короче, совершить
самоубийство в масштабе рода человеческого. Да, я уверен, что ужасные
возможности, которые стали реальностью на наших глазах начиная с
1945 г., следует интерпретировать именно в свете идеи самоубийства.
Однако было бы серьезной ошибкой рассматривать данную
ситуацию исключительно с точки зрения science-fiction. Само это
развитие, — как это, на мой взгляд, очень ясно увидел Хайдеггер, —
нужно связать с носящей гораздо более обширный характер эволюцией,
затрагивающей сознание и самое субъективность людей: она
кульминировала в утверждении Ницше «Бог умер». Добавлю, что, со своей
стороны, я бы сделал здесь и другую отсылку — к знаменитой фразе,
которую вложил в уста одного из своих персонажей Достоевский:
«Если Бога нет, то все дозволено». Тот, кто развязал бы атомную
войну, каковы бы ни были мотивы, которыми он попытался бы
оправдать инициативу подобного рода, был бы повинен в покушении, с
которым не может сравниться ни одно преступление в истории. Это
было бы деяние человека, который ipso facto продемонстрировал, что
больше не испытывает уважения ни к чему из того, что вплоть до
наших дней рассматривалось людьми как достойное почитания.
Но можем ли мы поставить точку на этом утверждении? Или
следует задаться вопросом: не способствуют ли все, каждый,
соответственно, на своем уровне, тому, чтобы подобное деяние стало
возможным? Не становятся ли они действительно заранее причастными
этому — каковы бы ни были аргументы, к которым они могут
прибегнуть, дабы оправдать себя? И не приходим ли мы отсюда к выводу,
что находимся в ситуации, где, с этической точки зрения,
единственно приемлемым является абсолютный отказ?
Во всех случаях я бы склонялся к мысли, что перед лицом столь
трагической ситуации, определяющей участь всего человечества,
собственная миссия философа могла бы состоять именно в вынесении
подобного безапелляционного осуждения и что с этой точки зрения
объемистый труд Ясперса, посвященный этой грозной проблеме,
полностью отвечает такому требованию. Соучастник или не
соучастник? Я спрашиваю себя не без тревоги: не здесь ли дилемма, с
которой столкнулся философ, и не уклоняется ли он от своей миссии,
храня молчание или поддаваясь искушению того, что следует назвать
определенного рода приспособленчеством?
Но, откровенно говоря, здесь я должен сделать оговорку или,
точнее, поставить знак вопроса. Не значит ли это избрать легкий путь и
предоставить самому себе, недорогой ценой, сертификат чистоты,
произнося такое осуждение? Не значит ли это с легкостью
абстрагироваться от реальных исторических условий, в которых сегодня нахо-
263
Мудрость сострадания, мудрость любви
дится то, что мы зовем свободным миром? Забыть непростительным
образом, что, если бы Америка не обладала с конца Второй мировой
войны ядерным оружием, Западная Европа, возможно, была бы
полностью захлестнута волной экспансии Советов?
Вывод, который, как мне кажется, отсюда надо сделать: в
подобном случае ответственность философа предстает в двух трудно при-
миримых аспектах.
С одной стороны, нужно, разумеется, чтобы философ неустанно
напоминал об определенных принципах, которые нельзя преступать
и которые он должен строго соблюдать, никогда не поддаваясь
искушению судить различно в зависимости от того, идет ли речь об одном
или о другом лагере; он должен, например, на какой бы стороне он
ни находился, заявить, что бомбардировка Дрездена была военным
преступлением, непростительным коллективным злодеянием.
Но, с другой стороны, философ должен понимать, что, дабы его
утверждения могли быть приняты во внимание, они должны быть
исторически весомы; это означает, что они должны учитывать исторический
контекст, так как если они с ним не соотносятся, они падают в пустоту.
Здесь для философа, как я уже говорил в докладе о мире во Франк-
фурте-на-Майне в 1964 г., содержится убийственное и, я бы сказал,
унизительное противоречие. Но, может быть, в конечном счете есть
необходимость в том, чтобы философу было знакомо это чувство
унижения, так как, без сомнения, для него это единственный способ
быть застрахованным от греха гордыни.
Это общее соображение мне кажется верным, но нельзя, чтобы
оно служило отговоркой. Не будем забывать, что всякая подлинная
ответственность должна претворяться в действие. Однако какую
форму может принять действие в нашем особом и столь тревожном
случае? Я не верю, что это долг философа — или хотя бы даже право —
участвовать в шумливых демонстрациях вроде тех, в которых
принимал участие Рассел в Англии. Я полагаю, не столь важно было ему и
ставить свою подпись под призывами, публиковавшимися в газетах.
И напротив, мне кажется, что философ, каким я его себе
представляю, должен поддерживать контакт с учеными, — в данном случае с
физиками и биологами, — и, с другой стороны, он должен стремиться
(безусловно, это значительное труднее) быть услышанным людьми,
обремененными опасной миссией руководить делами общества.
Только на этом уровне, на этой ступени и с этой серединной позиции
он может, мне кажется, выступать с пользой, к тому же всегда в
ограниченной аудитории, а не перед толпами, собранными в огромных
залах, где страсти разряжаются наподобие электричества.
Как я уже говорил в своем докладе во Франкфурте, надо
рассчитывать на время, на эволюцию, которая определенно совершается в
странах Восточной Европы3. Не будем забывать, что любой внезап-
264
Г, Марсель. В защиту трагической мудрости
ный поворот глубоко подозрителен и опасен. Философ, помнящий о
своей ответственности, должен сотрудничать с глубинными силами
жизни, к тому же с постоянным ощущением своей недостаточности,
слабости. Никогда он не должен позволять себе слыть оракулом: в
подобной области пророческое неизбежно оборачивается
шарлатанством, а что может быть презреннее и смешнее шарлатана, который
сам о том не подозревает?
Но, разумеется, нужно идти гораздо дальше; это неизбежно с
момента, когда мы осознали ставку, которая есть не более и не менее как
жизнь или выживание человечества. Но только уточним, речь здесь идет
не исключительно лишь о его физическом выживании. Для человека
существует много способов саморазрушения или, точнее,
дегуманизации. И здесь вновь долгом философа оказывается безусловная
бдительность. Однако совершенно очевидно, что для него дело не сводится к
несению караула (как это сейчас делается вокруг общественных зданий).
То, что важно прежде всего и что приходится на его (и только на его)
долю, — это осознание того, что есть человек как таковой, и здесь я
обращаюсь к философской антропологии, той, какую мы находим, в
частности, у Мартина Бубера, хотя на этом пути ему, разумеется,
предшествовали многие мыслители. Но что сегодня бросается в глаза с
поразительной очевидностью, так это то, что человек должен
рассматриваться как призвание, а отнюдь не как природа, что имело место еще
до сравнительно недавнего времени. В общих чертах можно сказать, что
заслугой экзистенциалистской философии было то, что она вывела это
на свет. К сожалению, в некоторых конкретных случаях, получивших
широкую огласку, мало сообразующуюся со статусом достойной этого
имени философии, это учение привело к самой роковой путанице,
шарахаясь от радикального анархизма к догматизму, ссылающемуся, —
быть может, без основания, — на марксизм. Вот два рифа, между
которыми экзистенциальной мысли приходится прокладывать себе путь в
неустойчивых и даже опасных условиях. Задача философа
действительно, на мой взгляд, сегодня гораздо сложнее, чем когда бы то ни было
прежде, — и здесь я возвращаюсь к сказанному в начале этого очерка.
По крайней мере частично эти трудности могут быть
проиллюстрированы возражением, которое не замедлят вызвать представленные
мной данные. Мне скажут: «Когда Вы изобличаете процесс
дегуманизации, совершающийся, по Вашему мнению, в современном мире,
Вы руководствуетесь при этом определенной идеей о человеке,
Вашей идеей (которая, кстати, еще требует разъяснения); но на каком
основании Вы претендуете на то, что философ (вообще) должен
разделять эту идею и критиковать, исходя из этой предпосылки, новые
ценности, которые открыты или будут открыты новыми
поколениями, — теми, что как раз отворачиваются от классической концепции,
приверженцем которой Вы являетесь?»
265
Мудрость сострадания, мудрость любви
Вопрос это чрезвычайно важный, его нельзя оставить без внимания.
Добавлю даже, что, на мой взгляд, философ должен хотя бы на время
принять это возражение; я хочу сказать, что его мысль может
оставаться живой, только если она принимает и даже поддерживает эвристику,
дух которой здесь выражен. И я объясню вновь, в самых общих чертах,
позицию, занимаемую мной по проблеме атомного оружия.
Конечно, философ всегда должен стремиться побороть в себе
склонность облегчить себе задачу. Он должен поставить перед собой
вопрос, не является ли идея человека и человеческих ценностей,
которые он поддерживает, плодом чистой субъективности. Но он
должен будет также ответить — ответить самому себе, что то, что важно
здесь, что, единственное, может оправдать данное утверждение или
выбор, это свидетельства, примеры, сохраненные историей; такими
свидетельствами являются, конечно, не только письменные
источники, но еще — и, быть может, в первую очередь— жизни: эти
свидетельства все тяготеют к универсализму, который может
рассматриваться как под углом зрения рациональности, так и под углом зрения
христианства, часто — под тем и другим одновременно. Конечно,
слово «универсализм» слишком абстрактно, но речь идет о духе,
который способен вызвать у людей взаимопонимание и уважение одних
другими, — разумеется, не навязывая при этом эгалитаризма,
относительно которого критическая мысль, главным образом со времен
Ницше и Шелера, показала, что он лежит в основе хаоса и
озлобления. Так стоит ли в самом деле говорить, что дух этот отражает лишь
субъективное требование? Подобное утверждение может строиться
только на злоупотреблении словами. Кроме того, история понятия
«субъективность» показывает, с какой осмотрительностью должно
использоваться это понятие.
К тому же право философа — очертить те пределы, в которых он
считает обновление возможным, а стремление к обновлению —
оправданным.
Я уже пытался показать (это было давно), что жажда обновления,
например, в искусстве всегда сомнительна и безусловно заслуживает
порицания. Новшество в искусстве — это то, что можно встретить
и чего, очевидно, не следует искать; иначе обстоит дело в технике,
где целью инноваций является повышение эффективности. Но в
области этики инновациям, разумеется, нет места. Приведу пример,
который мне кажется характерным.
Вероятно, в истории науки не было большего новатора, чем
Эйнштейн. Но когда перед ним с особой, как мы знаем, остротой
встала проблема совести: осознать, не был ли он виновен, дав людям в
руки средство, оружие, которому они могли найти преступное
применение, — эта проблема встала перед ним в понятиях, можно
сказать, вечных. Если решение этой проблемы окажется возможным, на
266
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
нем никак не отразится безусловная новизна теорий, которые
привели к хорошо известным последствиям.
Мне кажется, можно было бы сказать, — здесь я подхожу к выводу,
вытекающему из этого изложения, бесспорно, часто следующего
окольными путями, — о том, что долг или собственное призвание
философа состоит в поддержании в душе парадоксального равновесия
между духом универсальности, поскольку он воплощен в ценностях,
которые должны быть признаны непреложными, — и личным опытом,
от которого философ не имеет ни возможности, ни даже права
абстрагироваться, так как именно этим опытом обусловлен его
индивидуальный вклад. Конечно, природу этого вклада трудно определить, но,
прежде чем попытаться это сделать, я должен отметить, что он как раз
неотделим от ложащейся на философа ответственности. Слово «вклад»
не слишком удовлетворительно, поскольку оно как бы указывает на
вещь, тогда как речь, скорее, идет о том, чтобы вывести на свет:
философу гораздо важнее вскрыть, нежели показать; и вновь следует
остеречься, поскольку мы здесь не в системе вещей, где показать —
значит указать на то, что уже есть в наличии. Здесь, а именно в том, что
мы можем в целом назвать областью духовного, показать — значит дать
вызреть, иными словами, содействовать росту и преображению.
Недавно, в совершенно ином контексте, я попытался уточнить,
что я подразумеваю под словами «экзистенциальная зрелость».
Основная цель философа, на мой взгляд, состоит в том, чтобы не
только способствовать этому созреванию, но прежде определить его
условия. Поэтому он должен очень тщательно различать, что является
зрелым и что находится уже в процессе разложения. Не преминем
заметить, что таким образом мы вновь отводим место традиционной
идее совершенства, однако подходим к ней с позиций и в
перспективе жизни. Совершенство, отделенное от жизни, — это всего лишь
eidolon, философ не должен ему доверяться.
Возвращаясь еще раз к идее ответственности, я хотел бы сказать,
что, быть может, именно в свете этой идеи экзистенциальной
зрелости можно наилучшим образом постичь ее природу. В самом деле, мы
видим, что ответственность философа в отношении самого себя лишь
ценой абстракции может быть обособлена от его ответственности в
отношении других людей: никогда и ни в каком случае ему не
дозволено отмежевываться от них, предоставляя себе какой-либо
привилегированный статус. На мой взгляд, философ, достойный этого
имени, может быть способен к творческому развитию и даже просто к
самоопределению лишь под знаком этого братства.
267
Мудрость сострадания, мудрость любви
Г.М. Тавризян
Габриэль Марсель
Творчество видного французского философа, драматурга,
литературного и музыкального критика Габриэля Марселя (1889-1973)
охватывает более шести десятилетий, неся на себе печать многих
событий, в первую очередь— двух мировых войн, преломив в себе
целую эпоху. Сложившаяся в новейшей истории философии
критическая традиция относит его к яркой экзистенциалистской плеяде.
Для этого есть много оснований: имя Г. Марселя неотъемлемо от
мощного экзистенциалистского движения, всколыхнувшего
начиная с 20-х годов интеллектуальную жизнь Западной Европы. Более
того, именно Марсель был первым, кто, переживая и осмысливая
беспрецедентный исторический опыт, выдвинул ряд важнейших
положений экзистенциальной философии XX в., по-новому
сформулировав проблемы истории, индивида, взаимоотношений
человека с окружающим миром. Опыт этот нашел свое отражение на
страницах «Метафизического дневника», который Марсель вел начиная
с 1913 г.; здесь запечатлелась эволюция его взглядов, от
неогегельянства к философии живого, чувствующего, «инкарнированного»
индивида; эта точка зрения кульминировала в статье «Экзистенция
и объективность» (опубликованной в заключение «Дневника» в 1927
г. в качестве приложения к нему), название которой явственно
говорит о ее программном характере.
Особенность судьбы учения Г. Марселя в том, что, стоя у истоков
экзистенциализма, философ в самый пик его популярности во
Франции, в середине 40-х годов, отмежевался от него: ему был абсолютно
чужд политический радикализм «левого крыла» французских
экзистенциалистов, как и многое из теоретического содержания
философии Ж.-П. Сартра и его приверженцев.
Термин «христианский экзистенциализм», с которым имя
Марселя, казалось, было связано особенно прочно, сам он считал мало
соответствующим своей философии. Будучи глубоко религиозным
философом, католиком, Марсель постоянно ощущал значительную
отчужденность в отношении томизма; мысль его привлекали Платон,
Августин. Он признается, что Григорий Нисский, греческие отцы
церкви ему ближе, чем св. Фома; современный томизм он
критикует за архаичность.
С 50-х годов за философией Марселя закрепилось название «нео-
сократизм»: оно было дано теми, кто главным в его учении считал
способ постановки вопроса, своего рода майевтику, — при отсутствии
системы как таковой, жесткой последовательности концепций,
обусловливающих одна другую. Конечно, форма беседы, вопросов и от-
268
Г.M. Тавризян. Габриэль Марсель
ветов была в высшей степени характерна для философа, о чем
можно судить уже по приводимым в настоящем издании фрагментам из
его книги.
И все же на последнем этапе творчества Марселя возобладали то
пронизанное любовью к античности, ее духом мистико-пантеисти-
ческое отношение к миру, тот специфический поиск бытия
(сближавшие его с «поздним» Хайдеггером), которые давали основание
назвать учение Марселя «новым орфизмом»; здесь следует учесть
глубокое воздействие на Марселя поэзии P.M. Рильке.
В целом это самобытное учение постоянно находилось в развитии;
в то же время неизменно складывается впечатление, что на этом пути
философ одинок. Этьен Жильсон писал о Марселе: «В философии, как
и во всем остальном, долговечно лишь подлинное; вот почему
Габриэля Марселя всегда будут читать— как Монтеня, Паскаля, Мен де Би-
рана. В его книгах человек непосредственно обращается к человеку...»4.
Действительно, Марсель— пожалуй, единственный среди
философов в этот период, — продолжает истинно французскую
традицию философской культуры: философию «от первого лица», с
ярко выраженным индивидуальным началом, приобщение
читателя-собеседника к драматическим перипетиям рефлексии,
пережитого духовного опыта. Не случайно Марселя в современной
ситуации тревожит то, что сциентификация философии лишила ее
извечно бывших ей свойственными человеческих черт заботы,
мудрости, лишила качества индивидуального размышления, с
которым неразрывным образом связана личная ответственность
мыслителя. Именно в этом свете следует понимать слова Марселя о том,
что опора на искусство, осознание близости с искусством
становится для философии на современном этапе необходимостью, это
вызвано потребностью самой философии, у которой как бы
перекрыто жизненное русло.
Как мыслитель, не столько приверженный доктрине, сколько
сосредоточенный на осмыслении человеческой ситуации, Марсель
отказывает в статусе философии схоластике официальных курсов,
читающихся в университетах, уничижительно отзывается о философском
багаже, — достоянии широкой печати, — ставшем модной тематикой
разговоров. И это отнюдь не потому, что именитый философ,
получающий приглашения выступать с лекциями в прославленных
университетах мира, в Канаде и Японии, США и Латинской Америке,
считает это делом избранных. Напротив, он глубоко убежден, что в
философском постижении мира, человеческого существования
огромное значение имеет душевный опыт, знакомый почти каждому,
пережитый любым из нас хоть раз в жизни. Это рефлексия,
пробуждающаяся при тех или иных событиях экзистенциального характера,
способных глубоко потрясти, заставить взглянуть на мир новыми гла-
269
Мудрость сострадания, мудрость любви
зами. Так, рождение ребенка, любовь, смерть— вот, по Марселю,
подлинные таинства (слово подчеркивает их отличие, их
необъяснимый и всепоглощающий характер) в противоположность проблемам,
составляющим предмет размышлений в науке. Это потрясение,
внезапное преображение окружающего, стремление человека понять
мир — исток всякого философствования, «философский опыт в
зародыше», хотя он редко ложится в основу дальнейшего
систематического философского исследования, поиска.
Однако подобная экзистенциальная направленность
философских размышлений вовсе не означает недооценки Марселем
прошлого философии, отрыва от ее истории. Напротив, связь с
мыслителями самых разных эпох жива, она не хрестоматийна. Так,
неустанный диалог Хайдеггера с близкими ему мыслителями — в
глазах Марселя яркий пример этого жизненно необходимого для
философии подхода, постоянного «обращения» вечных проблем
философии. Для самого Марселя непревзойденным остается
Платон. Характерно, что Марсель особенно подчеркивает значение в
нашу эпоху истории философии.
Опасность, создаваемая функциональным регулированием жизни
и всемерным распространением научно-технического прогресса,
носит специфический характер: наряду с другими отрицательными
явлениями она заключает в себе искушение скуки, истощение
смысловых ресурсов существования. Поэтому, по убеждению Марселя, в
философии следует выдвинуть на первый план все то, что
неопровержимо свидетельствует в пользу бытия: проблемы осязательности,
«вещности» мира, в котором человек существует, тему «инкарниро-
ванности» самого человека, его телесности, равно как и человеческой
открытости, способности к универсальному общению. В передаче
опыта вещности, предметности приоритет должен быть признан за
искусством (Клодель, Сезанн), тогда как открытость человека была
непревзойденным образом выражена Бетховеном в Девятой
симфонии, в заключительной оде «К радости».
Тем самым Марсель как бы делает попытку вернуть философию в
русло жизни и метафизики, того измерения, которое, в соответствии
с христианской концепцией мыслителя, стоит за человеческим
опытом. Он признается, что после переворота, совершенного
экзистенциализмом во второй четверти XX в. и направленного против
определенного рода рационализма, следует вновь призвать «к ясному
осознанию безусловных ценностей, создававшихся в великие
периоды цивилизации, их инвариантного характера», и что нигилизм,
тенденция к разрушению цивилизации — очевидно, самая реальная из
грозящих нам опасностей. Нигилизм этот обрел особенно
тревожащие черты весной 1968 г., в период завершения философом работы
над книгой «В защиту трагической мудрости».
270
Г.M. Тавризян. Габриэль Марсель
В мире функциональности и фактов, прагматических целеполага-
ний и некритического упования на автоматизм прогресса, касается
ли то социального или научно-технического развития, глубокий
метафизический кризис поражает отношение человека к себе, к
собственному существованию, к ближним. В этих условиях проблемы
межличностного общения, взаимопонимания, коммуникаций,
действительно становящиеся к середине века чрезвычайно актуальными
в философской культуре Запада, поглощают внимание Марселя —
философа и драматурга. Здесь он со всей убежденностью отдает
предпочтение искусству. Сложное сплетение человеческих отношений,
выражение их в диалоге, в прямой речи (что, согласно
экзистенциалистской концепции, особенно существенно), где каждый является
субъектом, говорит от своего имени, — вот чем для Марселя важна
драма, в чем ее преимущество перед философскими концепциями. В
этой связи он часто напоминает об отношении к театру С. Кьеркего-
ра. Субъект, подчеркивает Марсель, может быть полноценно мыслим
лишь там, где ему предоставляют слово. Всякая теория в той или
иной мере угрожает интерсубъективности. И лишь специфика
театра позволяет наметить то, чего, по мнению Марселя, сейчас не может
сделать философия: так, театр позволяет «инсценировать мир,
проектировать ситуации, в которых каждому находилось бы место, где
каждый был бы понят»5.
Этот особый мир философии Марселя, в те дни казавшийся
маргинальным (особенно с появлением таких течений, как
структурализм, пришедших на смену философии экзистенции) в отношении
к «магистрали» сциентифицированной философской проблематики
(в том числе и философской антропологии, философии человека),
где-то на рубеже поэзии, растворенности в «бытии», либо,
напротив, в психологических рамках марселевских драм, с их
специфическими нравственными коллизиями, — отнюдь не должен, однако,
наводить на мысль об отстраненности философа от происходящего
в современной ему действительности. Книга, главы из которой
представлены здесь, написана философом уже в преклонном
возрасте. Тем не менее поражает внимательность его взгляда. Это
относится не только к событиям в странах Запада, но и к
происходящему в государствах Восточной Европы. Он отмечает назревающие
перемены, как символ глубинного обновления воспринимает весну
1968 г. в Чехословакии. И хотя Марселю были чужды политические
демарши, которыми была насыщена общественная жизнь Западной
Европы тех лет, и, по собственному признанию, ему случалось
ошибаться, однако он всегда предельно внимательно всматривался в
происходящее, никогда ничего не писал и не говорил в угоду
господствовавшим умонастроениям, рискуя прослыть консерватором,
а то и просто «несовременным». Для него, как об этом можно судить
271
Мудрость сострадания, мудрость любви
уже по приводимым текстам, всегда характерны были живая мысль
и чувство ответственности: ответственности не перед
«сиюминутным», но перед будущим.
Примечания
Перевод с издания: Marcel G. Pour une sagesse tragique et son au-delà, Paris, 1968.
Перевод первой и второй глав осуществлен с незначительными сокращениями.
1 Bachotage (франц.) — поспешная зубрежка к экзамену на степень бакалавра. —
Прим. пер.
2 Речь идет о лекции «Position et approches concrètes du mystère ontologique»,
прочитанной 21 января 1933 г. в Философском обществе в г. Марселе. Эта лекция
была издана в том же году как приложение к пьесе Г. Марселя «Разбитый мир»
(«Le monde cassé». P., Desclée de Brouwer). Впоследствии много раз
переиздавалась. — Прим. пер.
3 С одной стороны, события, развернувшиеся весной в Чехословакии, как
кажется, являются ценным подтверждением сказанному выше; но, с другой —
советская интервенция, совершенная этим летом, показывает — увы! — что в Москве
по существу ничего не изменилось. — Прим. авт.
4 Цит. по кн.: Bourbon Busset J. de. Préface // Marcel G. En chemin, vers quel éveil?
Paris, 1971. P. 9.
5 Entretiens Paul Ricoeur— Gabriel Marcel. Paris, 1968. P. 56.
272
Жак Маритен
Философ во граде
1. Власть философа
1. Философ — человек, ищущий мудрость. Мудрость на самом деле не
является чрезмерно ходовым товаром — в этой сфере никогда не было
перепроизводства. Чем более редким оказывается то, что
предположительно интересует философа, тем более обнаруживается склонность
думать, что общество чрезвычайно нуждается в философе.
К сожалению, трудно сказать, кто он такой, собственно философ:
это достойная уважения абстракция существует лишь в наших умах.
Философов множество, но, как только они начинают
философствовать, выясняется, что они не согласны или делают вид, что не
согласны по поводу всех вещей, в том числе и по поводу первопринципов
философии. Каждый идет своею собственной дорогой. Философы
ставят под вопрос все объекты, относительно которых существует
общее согласие, и их ответы противоречат друг другу. Чего же ожидать
от них, имея в виду благо общества?
Более того, великие философы и истинность философии —
независимые друг от друга ценности. Может оказаться, что и великие
философы заблуждаются. Историки почитают в качестве «отцов
современного мира» двух людей, из которых один, Жан-Жак Руссо, был
великим мечтателем и слабым философом, а другой, Гегель, —
неумелым мечтателем и великим философом. Но именно Гегель втянул
современный мир в ошибки, гораздо более значимые и более
злополучные, нежели те, что принадлежат Руссо.
Это обстоятельство по крайней мере обнаруживает
влиятельность и значение философов там, где речь идет о добре и зле.
(Эзоп, если мне не изменяет память, то же самое говорил о
замечательном органе, каковым является язык.) Если плохой
философ — язва для общества, то каким благословением может быть для
него хорошая философия! Не забудем, кроме того, что, если
Гегель, отрицая превосходство человеческой личности и
трансцендентность Бога, дабы преклонить колени перед историей, был
отцом современного мира, то св. Августин был отцом западной
18-3436
273
Мудрость сострадания, мудрость любви
христианской цивилизации, в которой современный мир,
несмотря на все свои опасения и просчеты, продолжает соучаствовать.
2. Чтобы обсуждать вещи более точно, скажем, что в своем
реальном существовании град не может обойтись без философов. Даже
когда философы ошибаются, они подобны зеркалу в высотах духа,
глубинным потокам, что скрыто работают в человеческом уме в
каждую историческую эпоху (и чем более они велики, тем более
активным и мощным будет сияние этого зеркала). Итак, поскольку мы
являемся мыслящими существами, такие зеркала нам необходимы.
Учитывая это, человеческому обществу лучше разбираться с
ошибками гегельянства с помощью Гегеля, нежели без него, в противном
случае они будут распространяться в обществе как ошибки неявные,
размытые, и хотя они относятся к гегелевскому типу, но предстанут
анонимными и нераспознаваемыми. Великий заблуждающийся
философ подобен маяку на рифах; он говорит морякам: плывите
подальше от меня; он позволяет людям (по крайней мере тем, которые
не были им обольщены) выявлять ошибки, от которых они
страдают, полно осознать их и бороться против них. И в этом состоит
существенная потребность общества, поскольку оно не просто чисто
животное сообщество, но общество личностей, наделенных
интеллектом и свободой.
И хотя философы безнадежно разделены между собой в своем
поиске высшей и направляющей все вещи истины, они, по крайней
мере, ищут эту истину; и сами их несогласия, постоянно
возрождающиеся, свидетельствуют о необходимости такого поиска.
Противоречия не являются доказательством иллюзорности или недоступности
того, что ищут философы. Они суть доказательства того, что этот
объект труден, поскольку обладает решающей значимостью: то, что
наделено решающей значимостью, не является ли единственно
трудным? Платон сказал нам, что прекрасные вещи трудны и что нам не
следует избегать прекрасных опасностей. Род человеческий оказался
бы в опасности и был бы повергнут вскоре в отчаяние, если бы
уклонился от прекрасных опасностей интеллекта и разума. Кроме того,
многие вещи являются спорными и чрезмерно упрощенными в
общих надоевших всем положениях относительно непреодолимых
противоречий, что разделяют философов. Эти противоречия
действительно существуют. Но и в определенном смысле в философии
существует большая преемственность, нежели в науке, поскольку
новая научная теория полностью меняет сам способ постановки
вопроса. Философские же проблемы остаются, напротив, в той или иной
форме всегда теми же; более того, однажды открытые
фундаментальные философские идеи становятся постоянными приобретениями
философского наследия. Они используются различным, подчас
противоположным, образом, но они продолжают оставаться. И наконец,
274
Ж. Маритен. Философ во граде
философы ссорятся так оживленно лишь потому, что каждый из них
увидел истину, которая в большинстве случаев ослепила его взор и
которую он концептуализировал ложным образом, другие же философы
должны осознавать ее каждый в своей собственной перспективе.
2. Чему служит философия?
3. Таким образом, мы приходим к существенному вопросу: чему
служит философия? Философия сама по себе выше утилитарной сферы.
И по этой самой причине философия в высшей степени необходима
людям. Она заставляет их вспомнить о высшей пользе тех вещей,
которые имеют отношение не к средствам, а к цели. Ведь люди не
живут лишь хлебом, витаминами и техническими открытиями. Они
живут ценностями и реалиями, которые возвышаются над временем и
достойны познания сами по себе; они питаются той невидимой
пищей, что поддерживает жизнь духа и заставляет их задуматься не
только о тех или иных средствах, служащих их жизни, но и о самом
смысле существования, страдания и надежды.
Философ во граде свидетельствует о высшем достоинстве
мышления; он демонстрирует то, что в человеке является вечным, он
стимулирует нашу жажду чистого, незаинтересованного познания,
постижения тех фундаментальных реалий — затрагивающих природу
вещей, природу духа, самого человека, Бога, — что выше и
независимо от всего, что мы можем сделать, произвести или сотворить и от
чего зависит вся наша практическая активность, поскольку мы,
прежде чем действовать, мыслим, и ничто не может ограничить поле
нашего мышления; наши практические решения зависят от позиции,
занимаемой нами относительно предельных вопросов, которые
человеческая мысль способна поставить. Вот почему философские
системы, которые не предназначены для практического использования и
применения, обладают, как я отметил вначале, таким влиянием на
человеческую историю.
Сторонники диалектического материализма заявляют, что задача
философии — не в созерцании мира, а в его изменении: философия,
по существу, становится праксисом, инструментом действия, властью
над вещами. Здесь мы имеем дело лишь с возвращением старого
магического смешения познания и власти и с полным непониманием
функции мышления. Философия, по существу, —
незаинтересованная деятельность, ориентированная на истину, притягательную саму
по себе, а не утилитарная активность, направленная на овладение
вещами. И именно поэтому мы нуждаемся в ней. Если философия и
есть одна из сил, которая способствует движению истории и
изменениям, происходящим в мире, это происходит потому, что философия
18*
275
Мудрость сострадания, мудрость любви
в своем предназначении, состоящем в метафизическом
проникновении в бытие, как ничто иное внимательна к выявлению и созерцанию
того, что есть истина в определенных сферах, обладающих
самостоятельной значимостью вне зависимости от происходящего в мире, и как
раз по этой причине она оказывала существенное влияние на мир.
4. Два аспекта деятельности философа во граде обладают, как мне
кажется, особой значимостью сегодня. Они затрагивают Истину и
Свободу.
Чрезвычайной опасностью, которая угрожает современным
обществам, является ослабление чувства Истины. С одной стороны,
люди весьма привыкли мыслить в плане вопросов и ответов и
приспособления к окружающим условиям; с другой стороны, они столь
дезориентированы политической рекламой и пропагандой, искусно
использующими язык, что испытывают соблазн оставить всякий
интерес к истине: для них имеют значение лишь практические
результаты или чисто материальное подтверждение фактов и цифр без
внутренней связи с какой-либо реально постигаемой истиной.
Философ, посвящая себя собственно умозрительной задаче, оставляет
вне своего внимания интересы людей, или социальной группы, или
государства, и напоминает обществу об абсолютном и неколебимом
характере Истины.
Говоря о Свободе, он напоминает обществу, что свобода есть само
условие мыслительной деятельности. И это — требование самого
общего блага общества, которое распадается, как только страх, превращаясь
во внутреннее убеждение, становится своего рода показателем
человеческого ума. Итак, философ, даже если он заблуждается, по крайней
мере свободно критикует то, к чему привязаны его современники.
Сократ дал образец такой критической деятельности, которая внутренне
присуща философии. Даже если град высказал ему свою
признательность в весьма специфической форме, он остается великим примером
философа во граде. Наполеон не без основания ненавидел идеологов, и
диктаторы, повинуясь общему правилу, ненавидят философов.
3. Философия морали
5. Я говорил прежде всего о спекулятивной, или теоретической,
философии, основной ветвью которой является метафизика. Имя
Сократа приводит нас к другому типу философии, а именно к
моральной, или практической, философии.
Здесь потребность общества в философии, в здравой философии,
обнаруживается самым непосредственным и настоятельным образом.
Довольно часто приходится констатировать, что наука снабжает
нас средствами все более могучими, все более удивительными, но эти
276
Ж. Маритен. Философ во граде
средства могут быть использованы и во благо, и во зло. Это зависит
от целей, во имя которых их употребляют. А установление истинных
и подлинных целей человеческой жизни не относится к области
науки. Оно принадлежит мудрости. Другими словами, оно относится к
области философии, и, дабы сказать всю правду, не только лишь к
философской мудрости, но также к мудрости, что исходит от дара
Божьего. С этой точки зрения град испытывает потребность в
философах. В еще большей степени ему нужны святые.
С другой стороны, науки о человеке — психология, социология,
этнология — дают нам неисчислимый и все возрастающий материал
относительно поведения отдельных людей и коллективов, а также о
фундаментальных компонентах жизни и человеческой цивилизации. Это
очень помогает нам в нашем усилии по проникновению в мир
человека. Но весь этот материал, все эти огромные фактические данные не
представляли бы никакой пользы, если бы они не были
интерпретированы способом, позволяющим нам раскрыть, что есть человек. И
именно на долю философа выпадает эта работа по интерпретации.
Я утверждаю, что обществу настоятельно необходима такая
работа. Ведь чистая материальная информация и все возможные жанры
отчетов Кинси относительно человеческих нравов могут, скорее,
расшатать фундаментальные верования любого общества, если они не
сопровождаются правильным пониманием человека, которое зависит
в конечном счете от мудрости и от философии. Лишь философское
познание человека позволяет нам, например, различать то, что
соответствует природе и разуму человека, и то, каким образом люди себя
фактически ведут в большинстве случаев; другими словами,
различать способы поведения, которые действительно нормальны, и
способы поведения, которые статистически превалируют.
6. Наконец, когда осуществляется переход к ценностям и нормам
морали, анализ нашего современного мира заставляет нас
сформулировать следующее замечание: действительное несчастье состоит в
том, что цивилизация страдает от пропасти между идеалом, который
задает основания присущих ей способов жизни и действия и за
который она продолжает сражаться, и внутренним расположением духа,
его наличным состоянием, ей присущим, вносящим в жизнь
неуверенность относительно этого самого идеала. В действительности
психология общества или цивилизации, память об опыте прошлого,
традиции семьи и среды, тип эмоционального темперамента или
вегетативных структур чувственности могут поддержать в
практическом поведении людей уважение и преклонение перед правилами и
ценностями, которые утратили доверие их интеллекта. В подобном
состоянии они, если нужно, готовы умереть, лишь бы отказаться от
совершения какого-либо аморального действия, или защитить
справедливость или свободу, но они ощущают затруднения в обретении
277
Мудрость сострадания, мудрость любви
рационального обоснования понятий справедливости, свободы,
нравственного поведения; эти вещи не имеют более для их умов
объективной и безусловной ценности и, вероятно, даже значимости. Подобная
ситуация возможна, но она не вечна. Придет время, когда люди
отвергнут фактически и на практике эти ценности, относительно
которых они не обладают более интеллектуальными убеждениями. С этой
точки зрения мы понимаем, насколько необходима здравая
философия морали во граде человеческом. Она должна дать или вернуть
обществу интеллектуальное доверие к ценности своих идеалов.
Эти замечания относятся к демократическому обществу в высшей
мере, поскольку основы общества свободных людей тесно связаны с
моральным порядком. Имеется определенное число моральных
принципов, касающихся достоинства человеческой личности, прав
человека, равенства людей, свободы, законности, взаимного уважения и
терпимости, единства человеческого рода и идеала мира между людьми,
с которыми согласна любая демократия; без общего целостного и
аргументированного убеждения относительно этих принципов
демократия не может выжить. Поиск рационального обоснования и
выявления демократической хартии должен занимать не ученых, экспертов,
специалистов и техников, а относиться к компетенции философов. В
этом смысле не лишне сказать, что философ играет в обществе в
отношении принципов столь же важную роль, как и государственный
деятель в отношении политического правления. Оба они, если
ошибутся, могут стать великими разрушителями. Оба они могут быть
подлинными служителями общего блага, если находятся на верном пути.
Ничто не является столь настоятельно необходимым нашему
времени, как здравая политическая философия.
7. Я пошел бы против совести, если бы не добавил, что, с одной
стороны, в условиях замешательства и раздора, в котором
пребывает современный дух, а с другой стороны, принимая во внимание,
что наиболее глубоко стимулирующим демократическую мысль,
как отмечал Бергсон является отзвук во временном порядке
евангельского вдохновения, — философия, в особенности философия
морали и политики, может выполнять свою моральную функцию в
современном обществе (особенно когда речь идет о
необходимости для демократического общества установить подлинно
рациональным образом основные моменты его документальной хартии),
только если она поддерживает живую связь с духом иудеохристи-
анской традиции и мудростью Евангелия, иными словами, только
если она является результатом усилий человеческого разума,
чуткого к наиболее строгим методологическим требованиям и
принципам философии, опирающимся на все достижения современной
науки и направляемым светом высших истин, которые открывает
нам христианская вера.
278
Ж. Маритен. Философ во граде
Я знаю, что понятие христианской веры противоречиво и в высшей
мере сложно. У меня нет намерения обсуждать здесь эту проблему. Я
лишь хотел бы просто отметить, что ее нельзя обойти молчанием. Что
касается меня лично, то, чем более я размышляю об отношениях между
философией и теологией в исторической перспективе, тем более
убеждаюсь, что в конкретном существовании эта проблема благоприятно
решается в понятиях христианской философии.
8. Наконец, последний момент, относительно которого я
попытаюсь дать некоторые пояснения. Речь идет об отношении
философии к человеческим, социальным, политическим делам.
Разумеется, философ может отложить свои философские
исследования, чтобы стать человеком политики.
Но что сказать о философе, который остается просто философом
и действует лишь в качестве философа?
С одной стороны, мы можем предположить без страха обмануться,
что у него отсутствуют опыт, информация и компетентность, которые
присущи человеку действия: для него было бы несчастьем
попытаться заниматься законодательством в социальной и политической
сферах от имени чистой логики, как это делал Платон.
Но с другой стороны, философ не может, в особенности в наше
время, затвориться в башне из слоновой кости; его не могут не
беспокоить дела человеческие — во имя самой философии и тех
ценностей, что философия должна защищать и поддерживать. Он должен
защищать эти ценности каждый раз, когда они подвергаются атаке,
как это было во время Гитлера, когда безрассудные расистские
теории провоцировали коллективное уничтожение евреев или, как это
происходит сегодня, когда миру грозит порабощение
коммунистическим деспотизмом. Философ должен открыто заявлять о своих
взглядах, выражая свою мысль и отстаивая истину, какой она ему
видится. Это может иметь политический отзвук; само по себе это не
политическое действие — это просто практическое применение
философии.
Правду говорят, что трудно пересечь линию переднего края.
Отсюда следует, что никто, даже философы, не может избежать
подобного риска, когда дело касается справедливости и любви и когда не
уклониться от сурового требования Евангелия: haec opportuit facere,
et ilia non omittere — «сие надлежало делать, и того не оставлять»1.
279
Мудрость сострадания, мудрость любви
Б.Л. Губман
Жак Маритен
С именем Жака Маритена (1882-1973) тесно ассоциируется эволюция
неотомизма в XX столетии. Можно с уверенностью сказать, что
именно благодаря его усилиям многие основоположения томизма, «вечной
философии», которая и сегодня остается официальной
мировоззренческой доктриной католицизма, обрели современное звучание, были
интерпретированы в контексте сложившейся в наши дни социокультурной
ситуации. Хотя Маритен неоднократно повторял, что является «палео-
томистом», отвергал применительно к своему учению определение
«неотомистское», очевидна специфика прочтения им воззрений Фомы Ак-
винского, что в первую очередь сказывается в предлагаемом им
понимании природы и функций философского знания.
Католический мыслитель попытался увидеть в Аквинате «апостола
нашего времени», несущего призыв к абсолютным ценностям, столь
необходимым изверившемуся во всем современному человеку.
Фоном для подобного истолкования «ангельского доктора» послужили
собственные жизненные, мировоззренческие и политические
искания Маритена. Родившись во вполне обеспеченной,
добропорядочной интеллигентной семье, Маритен уже в детском возрасте понял,
что далеко не все люди могут наслаждаться благополучием, не
задумываясь о хлебе насущном. Он пережил увлечение социалистической
идеей, с упоением читал Маркса. В стенах Сорбонны собирал
деньги в поддержку подвергавшихся гонениям царизма русских
революционеров. Уже на студенческой скамье у Маритена возникает
неприятие сциентистски-позитивистской философии и определяются
новые привязанности — Ш. Пеги и А. Бергсон. Философские
симпатии Маритена, его понимание истоков кризиса западной культуры
сложились во многом также под влиянием произведений его
любимых писателей — Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. В 1906 г.
Маритен принимает католицизм, а четыре года спустя избирает Аквина-
та в качестве духовного учителя, способного указать выход из тупика
трагических противоречий западной цивилизации.
Став приверженцем «вечной философии», Маритен отнюдь не
превратился в кабинетного мыслителя, занимающегося ее апологией.
Он по-прежнему внимателен к бурям политических страстей,
динамике событий общественной жизни, тем философским
направлениям, что приобретают влияние над умами его современников. Он
глубоко пережил потрясения двух мировых войн, кровавые кошмары
фашистского и казарменно-коммунистического тоталитаризма,
заставившие его задуматься над перспективами человечества,
возможностью воплощения абсолютных ценностей в конкретных делах людей,
280
Б.Л. Губман. Жак Маритен
живущих в нашем столетии. Его ответом на эти животрепещущие
вопросы явилась программа единения христианских и
демократических ценностей, культурфилософский идеал интегрального гуманизма.
Выступая с университетской кафедры, обращаясь в годы борьбы с
фашизмом с яростным его обличением по британскому и
американскому радио, являясь в послевоенные годы послом Франции в
Ватикане, Маритен был верен своему пониманию миссии философа. Его
обращение к наследию «ангельского доктора» не стало аргументом
против современной западной мысли. Всякий, кто возьмет в руки
сочинения французского мыслителя, сможет убедиться в том, что он
был вдумчивым читателем работ представителей католического
модернизма, протестантских авторов, хорошо знал неопозитивистов,
сторонников неорационализма, содержательно интерпретировал
идеи теоретиков экзистенциализма. Маритен был талантливым
полемистом, но спор как отрицание отнюдь не был его страстью. И в этом
опять проявляется его понимание предназначения философа. Жизнь
Маритена — своеобразная иллюстрация вынашиваемых им
представлений о природе философии и ее функциях в обществе, культуре.
Философ, по мысли Маритена, обладает прежде всего мощью
рефлексивной способности, даром видения и концептуального выражения
тех проблем, которые одолевают его современников, не всегда
способных внятно сказать о них. Великие философы отличаются именно тем,
что служат своеобразными зеркалами духовных устремлений,
распространенных в питающей их общественной среде, культуре. Их мысли
оставляют отпечаток на облике той или иной эпохи, и именно в этом
состоит основной признак значимости учений, из которых
складывается история философии. Не только великая истина, высказанная
философом, по справедливому замечанию Маритена, может многому
научить внимающих ему людей: подчас заблуждение, подтвержденное в
своем статусе такового жизнью, в неменьшей степени полезно для
них — становится ясным, какие мыслительные ходы могут повести к
опасным, а порой и фатальным, следствиям, если принять их на
вооружение, руководствоваться ими. Заблуждающийся крупный философ
как бы чеканит знак беды, опознаваемый современниками и
последующими поколениями. Продуктивные идеи, напротив, становятся
общим достоянием, рождая позитивные плоды.
За спорами представителей различных философских направлений
зачастую забывается преемственность, существующая между
мыслительными системами, уходит из поля зрения вопрос о трансляции
идей в истории. Приверженность «вечной философии» отнюдь не
мешает Маритену обратить свое внимание и на это обстоятельство. Он
настаивает на сохранении идейного наследия прошлого,
продолжении его жизни в контексте культуры. Томистская философия, на его
взгляд, отнюдь не закрыта для ассимиляции истин, ставших достоя-
281
Мудрость сострадания, мудрость любви
нием мыслителей, не разделяющих ее положений. Маритен против
одностороннего изоляционизма, не учитывающего проработку
тематических полей, осуществляемую философскими школами
прошлого и настоящего. И в этой его принципиальной позиции
заключается возможность курса на обновление «вечной философии».
Неотомистская концепция Маритена культуроцентрична,
обращена всем своим содержанием на обоснование религиозно-нравственной
перспективы разрешения проблем современной цивилизации.
Подобная установка рождает и особое отношение к истолкованию
природы и функций философского знания. Вполне понятно, что Аквинат
никогда не задумывался над тем, как обогатить «вечную философию»
постоянно нарастающим опытом, аккумулированным
культурно-исторической традицией; он посвятил себя осуществлению конкретной
задачи использования доктрины Аристотеля для обоснования
христианского религиозно-философского видения универсума. Маритен
ищет пути достижения открытости томизма миру современной
культуры, пытается найти в нем импульс, необходимый человеку нашего
столетия. Отсюда и два плана анализа философии, ее миссии,
предлагаемые им. Во-первых, им исследуются задачи философии как
особого рода мировоззренческого знания, функцией которого является
постижение истины и обеспечение духовной свободы. Во-вторых,
философия рассматривается им в ее значимости для практической,
социально-политической деятельности людей, и в этом состоит ее
моральная функция.
Анализируя философию как мировоззренческое знание, Маритен
стремится прежде всего определить ее отношение к позитивной
науке и к теологии в свете принципа гармонии разума и веры. Следует
отметить при этом, что под наукой он вслед за Аквинатом понимает
не только конкретные области знания, но также философию и
теологию. Для аристотелевско-томистской традиции специфично
выделение трех ступеней умозрительного знания. Эту позицию разделяет и
Маритен, располагая на первой ступени абстракции естествознание
и философию природы, на второй — математику, а на третьей,
верхней ступени — метафизику.
Естествознание, в интерпретации Маритена, направлено на
познание индивидуальных субстанций, но не дает понимания их сущности
вследствие опоры на «периноэтическую интеллекцию», заменяющую
сущность знаком. Философия природы, напротив, при посредстве «ди-
аноэтической интеллекции» проникает через знак в сущность объекта.
Математика представляется католическому автору также питаемой «ди-
аноэтической интеллекцией», но дающей знание о количественных
аспектах реальности. Метафизика имеет в качестве объекта чистое бытие
и кроме «дианоэтической интеллекции» базируется также на «ананоэти-
ческой», позволяющей познать по аналогии трансцендентное боже-
282
Б.Л. Губман. Жак Маритсн
ственное бытие. И это роднит ее с теологией. В познании, по Марите-
ну, реализуется принцип поэтапного возрастания свободы от материи.
Говоря о естествознании, французский философ утверждает его
неспособность к онтологическим обобщениям. В своих выкладках он
во многом опирается на истолкование природы естествознания,
предложенное неопозитивизмом. Когда же речь заходит о развитии
естественнонаучных теорий, Маритен склонен обращаться к выкладкам
таких представителей неорационализма, как Э. Мейерсон и Г. Башляр.
Верно осознавая причины кризиса умозрительной натурфилософии,
он тем не менее стремится к восстановлению ее былого, утраченного
влияния. Обновленная философия природы, по его мнению,
призвана интерпретировать данные, доставляемые естествознанием, сквозь
призму извечных принципов томистской метафизики. Создаваемая ею
онтологическая картина природного мира не остается незыблемой,
обновляется каждые 50-70 лет вместе с трансформацией
фундаментальных естественнонаучных представлений.
Математика, по Маритену, занята комбинаторикой идеальных
объектов разума, значительно удаляясь от реальности.
Математизация естествознания видится ему ведущей к созданию своеобразной
псевдоонтологии. Подобные онтологические обобщения встречают
отрицательную оценку Маритена, ибо составляют конкуренцию
натурфилософской картине мира.
Венец умозрительного знания представляет томистская метафизика.
Она рассматривает мир как производный от чистого божественного
бытия. Иерархия ступеней сотворенной материальной действительности
выглядит «пропитанной бытием», сопричастной мистерическому
фонтанированию акта божественного существования. К области
метафизики принадлежит и критико-реалистическая гносеология неотомизма.
Являясь чисто умозрительной дисциплиной, метафизика, по
Маритену, независима по отношению к науке, культуре в целом, хотя и
призвана оказывать на них свое влияние. Зато она неразрывными
узами связана с теологией, сферой веры. Метафизику и теологию, как
подчеркивает католический философ, питает «ананоэтическая интел-
лекция», сверхрациональная интуиция трансцендентного бытия.
Теология предстает объединяющей в себе познавательное и
практическое отношение к миру, способом познания через близость к объекту,
симпатию к нему. Рассматривая ее как часть метафизики, Маритен
выделяет два типа теологической мудрости — рациональную
теологию и теологию любви к Богу. Если первая из них расшифровывает
глас веры, опираясь на рационально-дискурсивные средства, то
вторая апеллирует прямо к мистическому опыту, находя в нем
универсальную опору. Созидая в союзе с теологией общую картину
мироздания, метафизика, согласно Маритену, несет с собою свет истины и
духовной свободы. Этим, однако, не исчерпываются ее функции.
283
Мудрость сострадания, мудрость любви
Философия, утверждает Маритен, призвана указать цель и смысл
человеческой жизни, ибо никакой иной тип знания не в состоянии
этого сделать. Осваивая опыт культурного развития при опоре на
метафизические истины, философия морали учит мудрости.
Мудрость почиталась Аквинатом первой интеллектуальной
добродетелью, благоприобретенным свойством личности. Она, на взгляд
Маритена, означает прежде всего осознание
религиозно-нравственного предназначения личности, позволяя ей стать сопричастной всей
совокупности общезначимых ценностей, приобрести
интеллектуальные, нравственные и теологические добродетели. Миссия философа,
в его понимании, состоит в сообщении перспективы мудрости,
расшифровке содержания универсальных ценностей, столь необходимых
современной культуре.
Призывая осознать значимость нравственных ценностей для
спасения цивилизации, Маритен исходил из всей совокупности
социокультурных проблем XX столетия, нуждающихся в пристальном
внимании. Он был достаточно прозорлив, одним из первых напомнив
своим современникам, что поругание демократии оборачивается в
наши дни отвержением общечеловеческих ценностей, к числу
которых относятся достоинство личности, права человека, равенство
людей, свобода, законность, взаимное уважение и терпимость, единство
человеческого рода и мир. Ценности демократии, на его взгляд,
находят свое подкрепление и в тех ориентирах человеческой жизни,
которые сложились в лоне иудеохристианской традиции и стали
неотъемлемым достоянием европейской культуры.
Философия морали не должна пребывать в заоблачных высях,
отрешившись от мирских треволнений. Маритен выступает за ее
политическую ангажированность: философ — не мудрец, затворившийся
в башне из слоновой кости, ибо его предназначение —
противостояние злу во всех его ипостасях. Этому идеалу служения
философского знания целям гуманистической политики он пытался остаться
верным и сам в течение всей своей жизни.
Вниманию читателя предлагается первая глава книги Ж.
Маритена «Философ во граде», воспроизводящая в названии заголовок всей
книги2. Она раскрывает в популярной форме представления
католического мыслителя о природе и функциях философского знания.
Примечания
Текст представляет собой речь Ж. Маритена, произнесенную 2 января 1953 г. в
Принстонском университете США.
1 Mt., XXIII, 23.
2 См.: Maritain J. Le philosophe dans la cité. Paris, Alsatia, 1960. P. 9-20.
284
H. Бердяев
О назначении человека.
Опыт парадоксальной этики
...Я не собираюсь начать по немецкой традиции с гносеологического
оправдания. Я хочу начать с гносеологического обвинения, вернее, с
обвинения гносеологии. Гносеология есть выражение сомнения в силе и
оправданности философского познания. Гносеология есть раздвоение,
подрывающее возможность познания. Кто отдал свои силы гносеологии,
тот редко доходит до онтологии. Он пошел не тем путем, который
приводит к бытию. Наиболее творческие философы современности, как
Бергсон, М. Шелер, Гейдеггер, очень мало заняты гносеологией.
Человек потерял силу познавать бытие, потерял доступ к бытию и с горя
начал познавать познание. Так и на всем познавательном пути его перед
ним продолжает стоять познание, а не бытие. К бытию нельзя прийти,
из него можно только изойти. Употребляя слово «бытие», я не имею в
виду какой-нибудь определенной онтологии, вроде, например,
онтологии св. Фомы Аквината, предшествующей критической теории
познания. Я совсем не верю в возможность возврата к докритической,
догматической метафизике. Речь идет о переходе к самому предмету, к
самой жизни, о преодолении раздвоения, подрывающего силу
познавательного акта... Догматическая онтология греческой и средневековой
философии не могла устоять от критики разума. И невозможно вернуться
к формам философствования, предшествующим этой критике. Даже
современный томизм, не желающий признавать ни Декарта, ни Канта, ни
всей новой философии, в сущности, принужден быть неотомизмом и
пройти через критику. И все дело тут в том, что критика познания,
рефлексия разума над самим собой есть жизненный опыт, а не отвлеченная
теория, за которую она себя выдает. Сколько бы познание ни
противополагало себя жизни и ни сомневалось в возможности познать жизнь,
оно само изначала есть жизнь, порождено жизнью и отражает судьбы
жизни. Эти судьбы отражает и гносеологическая рефлексия. Это есть
опыт жизни, а опыт жизни не может быть бесследно зачеркнут, он
может быть только изжит и преодолжен более полным опытом, в который
предшествующий опыт непременно войдет. Противоположение
познания бытию как противостоящему ему предмету есть результат уже чего-
то вторичного, а не первичного, есть порождение уже рефлексии. Пер-
285
Мудрость сострадания, мудрость любви
вично же то, что познание само есть бытие и происходит с бытием. Один
из величайших и неоправданных предрассудков гносеологии
заключается в том, что познанию противостоит вне его находящийся предмет,
объект, который в познании долен отражаться и выражаться. Если мы
возвысимся до духовного понимания познания, то нам станет ясно, что
познание есть акт, через который с самим бытием что-то происходит,
происходит его просветление. Не кто-то или что-то познает бытие как
противостоящий ему предмет, а само бытие познает себя и через
познание просветляется и возрастает. Противостоящий же предмет познания
мы видим уже во вторичной сфере1. В самом бытии происходит
расщепление, и оно выражается в познании в форме объективации. Когда я
говорю, что первичным является бытие, то я говорю не о том бытии,
которое уже рационализировано и выработано категориями разума, как то
мы видим в старой онтологии, а о первожизни, предшествующей всякой
рационализации, о бытии еще темном, хотя темность эта не означает
ничего злого. Противостоит познанию как объект лишь то бытие, которое
познанием до этого препарировано и рационализировано. Но сама пер-
вожизнь не противостоит познающему, ибо он в нее изначально
погружен. Выбрасывание познания из бытия есть роковой плод
рационалистического просвещения, не изжитого до конца и не преодоленного. Акт
познания не считается бытийственным актом. Если познание
противостоит бытию как объекту, то познание не имеет никакой внутренней
связи с бытием, оно не входит в историю бытия. Это привело к тому, что
познание было о чем-то, но не было чем-то. Познающий не принимает
всерьез своего познания. Для него перестает существовать мир сущих
идей и остается только мир идей о сущем, нет уже Бога, но есть
разнообразные идеи о Боге, которые он исследует, нет уже сущего добра и зла,
но есть разнообразные идеи о добре и зле, и т.д. В те эпохи, когда
познание было в бытии и происходило с бытием, познающий мог стать и
предметом познания. Платон, Плотин, Бл. Августин, Паскаль, Я. Бёме и т.п.
были не только познающие, они также предмет познания, и очень
интересного познания. Но современный познающий, поставивший себя вне
бытия, не может стать предметом познания, ибо предметом познания
может быть лишь бытие, в бытие же он не входит и не хочет войти, не
хочет, чтобы познание его было актом в бытии, в жизни.
Такое деградированное положение философского познания
соответствует стадии, в которой философия хочет быть наукой и попадает в
рабскую зависимость от науки. Философия проникается черной завистью к
положительной науке, столь удачливой и успешной. Эта черная зависть
не доводит до добра, она приводит к утере достоинства философии и
философа. Философия наукообразная отрекается от мудрости (Гуссерль)
и в этом видит свое завоевание и успех. Трагична судьба философского
познания. Очень трудно философии защитить свою свободу и
независимость. Свобода и своеобразие философского познания всегда подверга-
286
H. Бердяев» О назначении человека. Опыт парадоксальной этики
лись опасности, и притом с разных, противоположных сторон. Если
сейчас философия находится в зависимости от науки, то раньше она
находилась в зависимости от религии. Философии вечно угрожает рабство то
со стороны религии, то со стороны науки, и трудно ей удержаться в
своем собственном месте, отстоять свой собственный путь. И она отстаивает
такую форму независимости, которая должна быть признана ложной.
Ложным является притязание философии быть независимой от жизни и
жизни противоположной. И фактически такой независимости
философия никогда не могла получить. Религиозная вера и религиозная жизнь
познающего не могли не отражаться на его философии, он не мог их
забыть в своем познании. Также философ не может забыть о своих
научных познаниях. Но рабство философа связано совсем не с тем, что у него
есть религиозная вера и научное знание. Рабство это связано с тем, что
религиозная вера и научное знание становятся внешними
повелевающими силами для философского познания. И религия и наука могут
внутренне оплодотворять философское познание, но они не должны делаться
внешним авторитетом для него. От философии требовали то, чтобы она
была сообразной с теологической обработкой веры, то, чтобы она была
сообразной с наукой и даже с математической физикой. Лишь краткие
мгновения философия дышала воздухом свободы. Освободившись от
гнетущей власти теологии, она попадает в еще более тяжкое рабство от
самодержавной и деспотической науки. Но отрицание рабства
философии у гетерономной для нее сферы не означает самозамыкания
философии и разрыва ее с жизнью. Если философ верит в религиозное
откровение, то он не может в своем познании не питаться им. Но откровение
не есть для его философского познания внешний авторитет, оно есть для
него внутренний факт, философский опыт. Откровение имманентно
философскому познанию как внутренний свет. Философия человечна,
философское познание — человеческое познание; в ней всегда есть элемент
человеческой свободы, она есть не откровение, а свободная
познавательная реакция человека на откровение. Если философ — христианин и
верит в Христа, то он совсем не должен согласовывать свою философию с
теологией православной, католической или протестантской, но он может
приобрести ум Христов, и это сделает его философию иной, чем
философия человека, ума Христова не имеющего. Откровение не может
навязать философии никаких теорий и идеологических построений, но
может дать факты, опыт, обогащающий познание. Если философия
возможна, то она может быть только свободной, она не терпит
принуждения. Она в каждом акте познания свободно стоит перед истиной и не
терпит преград и средостений. Философия приходит к результатам
познания из самого познавательного процесса, она не терпит навязывания
извне результатов познания, которое терпит теология. Но это не значит,
что философия автономна в том смысле, что она есть замкнутая,
самодовлеющая, питающаяся из себя самой сфера. Идея автономии есть лож-
287
Мудрость сострадания, мудрость любви
ная идея, совсем не тождественная с идеей свободы. Философия есть
часть жизни и опыт жизни, опыт жизни духа лежит в основании
философского познания. Философское познание должно приобщиться к
первоисточнику жизни и из него черпать познавательный опыт. Познание
есть посвящение в тайну бытия, в мистерии жизни. Оно есть свет, но
свет, блеснувший из бытия и в бытии. Познание не может из себя, из
понятия создать бытие, как того хотел Гегель. Религиозное откровение
означает, что бытие открывает себя познающему. Как же он может быть
к этому слеп и глух и утверждать автономию философского познания
против того, что ему открывается?
Трагедия философского познания в том, что, освободившись от
сферы бытия более высокой, от религии, от откровения, оно попадает в еще
более тяжкую зависимость от сферы низшей, от положительной науки,
от научного опыта. Философия теряет свое первородство и не имеет уже
оправдательных документов о своем древнем происхождении. Миг
автономии философии оказался очень кратким. Научная философия
совсем не есть автономная философия. Сама наука была некогда
порождена философией и выделилась из нее. Но дитя восстало против своей
родительницы. Никто не отрицает, что философия должна считаться с
развитием наук, должна учитывать результаты наук. Но из этого не
следует, что она должна подчиняться наукам в своих высших созерцаниях
и уподобляться им, соблазняться их шумными внешними успехами:
философия есть знание, но невозможно допустить, что она есть знание,
во всем подобное науке. Ведь проблема в том и заключается, есть ли
философия — философия, или она есть наука или религия. Философия
есть особая сфера духовной культуры, отличная от науки и религии, но
находящаяся в сложном взаимодействии с наукой и религией.
Принципы философии не зависят от результатов и успехов наук. Философ в
своем познании не может ждать, пока науки сделают свои открытия. Наука
находится в непрерывном движении, ее гипотезы и теории часто
меняются и стареют, она делает все новые и новые открытия. В физике за
последние тридцать лет произошла революция, радикально изменившая
ее основы2. Но можно ли сказать, что учение Платона об идеях
устарело от успехов естественных наук XIX и XX вв.? Оно гораздо более
устойчиво, чем результаты естественных наук XIX и XX вв., более вечно, ибо
более о вечном. Натурфилософия Гегеля устарела, да и никогда не была
она сильной его стороной. Но гегелевская логика и онтология,
гегелевская диалектика нисколько не потревожены успехами естественных
наук. Смешно было бы сказать, что учение Я. Бёме об Ungrundo'e и о
Софии опровергаются современным математическим естествознанием.
Ясно, что здесь мы имеем дело с совершенно разными и
несоизмеримыми объектами. Философии мир раскрывается иначе, чем науке, и путь
ее познания иной. Науки имеют дело с частичной отвлеченной
действительностью, им не открывается мир как целое, ими не постигается
288
H, Бердяев. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики
смысл мира. Претензии математической физики быть онтологией,
открывающей не явления чувственного, эмпирического мира, а как бы
вещи в себе, смешны. Именно математическая физика, самая
совершенная из наук, дальше всего отстоит от тайн бытия, ибо тайны эти
раскрываются только в человеке и через человека, в духовном опыте и
духовной жизни3. Вопреки Гуссерлю, который делает по-своему грандиозные
усилия придать философии характер чистой науки и вытравить из нее
элементы мудрости, философия всегда была и всегда будет мудростью.
Конец мудрости есть конец философии. Философия есть любовь к
мудрости и раскрытие мудрости в человеке, творческий прорыв к смыслу
бытия. Философия не есть религиозная вера, не есть теология, но не
есть и наука, она есть она сама. И она принуждена вести мучительную
борьбу за свои права, всегда подвергающиеся сомнению. Иногда она
ставит себя выше религии, как у Гегеля, и тогда она переступает свои
границы. Она родилась в борьбе пробудившейся мысли против
традиционных народных верований. Она живет и дышит свободным
движением. Но и тогда, когда философская мысль Греции выделилась из
народной религии и противопоставила себя ей, она сохранила свою связь
с высшей религиозной жизнью Греции, с мистериями, с орфизмом. Мы
видим это у Гераклита, Пифагора, Платона. Значительна только та
философия, в основании которой лежит духовный и нравственный опыт и
которая не есть игра ума. Интуитивные прозрения даются только
философу, который познает целостным духом.
Как понять отношение между философией и наукой, как
разграничить их сферы, как установить между ними конкордат? Совершенно
недостаточно определить философию как учение о принципах или как
наиболее обобщенное знание о мире как о целом или даже как учение
о сущности бытия. Главный признак, отличающий философское
познание от научного, нужно видеть в том, что философия познает бытие из
человека и через человека, в человеке видит разгадку смысла, наука же
познает бытие как бы вне человека, отрешенно от человека. Поэтому
для философии бытие есть дух, для науки же бытие есть природа. Это
различие духа и природы, конечно, ничего общего не имеет с
различением психического и физического4. Философия в конце концов
неизбежно становится философией духа, и только в таком качестве своем
она не зависит от науки. Философская антропология должна быть
основной философской дисциплиной. Философская антропология есть
центральная часть философии духа. Она принципиально отличается от
научного — биологического, социологического, психологического —
изучения человека. И отличие это в том, что философия исследует
человека из человека, исследует его как принадлежащего к царству духа,
наука же исследует человека как принадлежащего к царству природы,
т.е. вне человека, как объект. Философия совсем не должна иметь
объекта, ибо ничто для нее не должно становиться объектом, объекти-
1Q-343£
289
Мудрость сострадания, мудрость любви
вированным. Основной признак философии духа тот, что в ней нет
объекта познания. Познавать из человека и в человеке и значит не
объективировать. И тогда лишь открывается смысл. Смысл
открывается лишь тогда, когда я в себе, т.е. в духе, и когда нет для меня
объективности, предметности. Все, что есть для меня предмет, лишено смысла.
Смысл есть лишь в том, что во мне и со мной, т.е. в духовном мире.
Принципиально отличать философию от науки только и можно,
признав, что философия есть необъективированное познание, познание
духа в себе, а не в его объективации в природе, т.е. познание смысла и
приобщение к смыслу. Наука и научное предвидение обеспечивают
человека и дают ему силу, но они же могут опустошить сознание
человека, оторвать его от бытия и бытие от него. Можно было бы сказать, что
наука основана на отчуждении человека от бытия и отчуждении бытия
от человека5. Познающий человек вне бытия, и познаваемое бытие вне
человека. Все становится объектом, т.е. отчужденным и
противостоящим. И мир философских идей перестает быть моим миром, во мне
раскрывающимся, делается миром, мне противостоящим и чуждым, миром
объектным. Вот почему и исследования по истории философии
перестают быть философским познанием, становятся научным познанием.
История философии будет философским, а не только научным познанием
в том лишь случае, если мир философских идей будет для познающего
его собственным внутренним миром, если он будет его познавать из
человека и в человеке. Философски я могу познавать лишь свои
собственные идеи, делая идеи Платона или Гегеля своими собственными
идеями, т.е. познавая из человека, а не из предмета, познавая в духе, а не в
объективной природе. Это и есть основной принцип философии,
совсем не субъективной, ибо субъективное противостоит объективному, а
бытийственно-жизненной. Если Вы пишете прекрасное исследование о
Платоне и Аристотеле, о Фоме Аквинате и Декарте, о Канте и Гегеле, то
это может быть очень полезно для философии и философов, но это не
будет философия. Не может быть философии о чужих идеях, о мире
идей, как предмете, как объекте, философия может быть лишь о своих
идеях, о духе, о человеке в себе и из себя, т.е. интеллектуальным
выражением судьбы философа. Историзм, в котором память непомерно
перегружена и отяжелена и все превращено в чуждый объект, есть
декаданс и гибель философии, так же как натурализм и психологизм.
Духовные опустошения, произведенные историзмом, натурализмом и
психологизмом, поистине страшны и человекоубийственны.
Результатом является абсолютизированный релятивизм. Так подрываются
творческие силы познания, пресекается возможность прорыва к смыслу. Это
и есть рабство философии у науки, террор науки.
Философия видит мир из человека, и только в этом ее
специфичность. Наука же видит мир вне человека. Освобождение философии от
всякого антропологизма есть умерщвление философии. Натуралисти-
290
H. Бердяев. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики
ческая метафизика тоже видит мир из человека, но не хочет в этом
признаться. И тайный антропологизм всякой онтологии должен быть
разоблачен. Неверно сказать, что бытию, понятому объективно, принадлежит
примат над человеком, наоборот, человеку принадлежит примат над
бытием, ибо бытие раскрывается только в человеке, из человека, через
человека. И тогда только раскрывается дух. Бытие, которое не есть дух,
которое «вовне», а не «внутри», есть тирания натурализма. Философия
легко делается отвлеченной и теряет связь с источниками жизни. Это
бывает всякий раз, когда она хочет познавать не в человеке и не из
человека, а вне человека. Человек же погружен в жизнь, в первожизнь, и
ему даны откровения о мистерии первожизни. Только в той глубине
философия соприкасается с религией, но соприкасается внутренне и
свободно. В основании философии лежит предположение, что мир есть
часть человека, а не человек — часть мира. У человека, как дробной и
малой части мира, не могла бы зародиться дерзновенная задача
познания. На этом основано и научное познание, но оно методологически
отвлечено от этой истины. Познание бытия в человеке и из человека
ничего общего не имеет с психологизмом. Психологизм есть, наоборот,
замкнутость в природном, объективированном мире. Психологически
человек есть дробная часть мира. Речь идет не о психологизме, а о
трансцендентальном антропологизме. Странно забывать, что я,
познающий, философ — человек. Трансцендентальный человек есть
предпосылка философии, и преодоление человека в философии или ничего не
значит, или значит упразднение самого философского познания. Человек
бытийствен, в нем бытие, и он в бытии, но и бытие человечно, и потому
только в нем я могу раскрыть смысл, соизмеримый со мной, с моим
постижением. С этой точки зрения феноменологический метод Гуссерля,
поскольку он хотел преодолеть всякий антропологизм, т.е. человека в
познании, есть покушение с негодными средствами. Феноменологический
метод имеет большие заслуги и вывел философию из тупика, в который
завела ее кантианская гносеология. Он дал плодотворные результаты в
антропологии, этике, онтологии (М. Шелер, Н. Гартман, Гейдеггер). Но
феноменология Гуссерля связана с особого рода онтологией, с учением
об идеальном, внечеловеческом бытии, т.е. с своеобразной формой
платонизма. В этом ее ошибочная сторона. Познание предполагает не
идеальное, внечеловеческое бытие и совершенную пассивность человека,
впускающего в себя предмет познания, мир сущностей (Wesenheiten), а
человека, не психологического, а духовного человека и его творческую
активность. Смысл вещей открывается не вхождением их в человека,
при пассивной его установке к вещам, а творческой активностью
человека, прорывающегося к смыслу за мир бессмыслицы. В предметном,
вещном, объектном мире смысла нет. Смысл раскрывается из человека,
из его активности и означает открытие человекоподобности бытия. Вне-
человеческое идеальное бытие бессмысленно. А это значит, что смысл
291
Мудрость сострадания, мудрость любви
открывается в духе, а не в предмете, не в вещи, не в природе, только в
духе бытие человечно. Феноменологический метод плодотворен,
несмотря на свою пассивность и внечеловечность, и правда его в
направленности на бытие, а не конструкции мысли. Смысл не в объекте,
входящем в мысль, и не в субъекте, конструирующем свой мир, а в третьей,
не объективной и не субъективной сфере, в духовном мире, духовной
жизни, где все активность и духовная динамика. Если познание
происходит с бытием, то в нем активно обнаруживается смысл, т.е.
просветление тьмы бытия. Познание есть сама духовная жизнь. Познание
происходит с тем, что познается.
...Немецкая гносеология всегда говорит о субъекте и объекте, о
субъективном и объективном в познании. Познание есть
объективирование. Познающий же субъект не есть бытие, субъект гносеологичен, а не
онтологичен, он есть идеальные логические формы, совсем не
человеческие, связь которых с человеком остается непонятной. Бытие разлагается
и исчезает, заменяется субъектом и объектом. Познает совсем не «я», не
живой человек «имя рек», не конкретная личность, а гносеологический
субъект, вне бытия находящийся и бытию противостоящий.
Гносеологический субъект не есть человек, не есть бытие. Но и познает он совсем не
бытие, а противостоящий ему объект, коррелятивный субъекту и для
познания специально созданный. Бытие исчезает из субъекта и из объекта.
Само противоположение субъекта и объекта уничтожает бытие. В
объективировании умирает всякая жизнь, исчезает бытие. Познание есть
объективирование, но в объективировании цель познания не
достигается. В этом трагедия познания, которую многие философы отлично
сознавали и формулировали это так: бытие иррационально и индивидуально,
познаю же я всегда рациональное и общее6. Объект оказывается
совершенно чуждым субъекту и противоположным ему. Субъект и объект
находятся в состоянии логической коррелятивности, друг без друга не
существуют и вечно противополагаются и противопоставляются. Если
«Платон», или «первохристианство», или «германская мистика»
делаются для меня объектом познания, то я не могу их понять и не могу открыть
в них смысла. Объективирование будет уже уничтожением, ибо к
смыслу нужно приобщиться, приобщение же не есть объектирование7. Это
совершенно ясно в так называемых «науках о духе», где объективирование
всегда есть смерть истинного познания. В «науках о природе» обстоит
дело несколько иначе, но сейчас это не есть предмет моего исследования.
Основной вопрос гносеологии есть вопрос о том, кто познает и
принадлежит ли к бытию тот, кто познает? Как осмыслить и углубить то
неустранимое предположение познания, что познает человек? Кант и
идеалистическая теория познания утверждают, что познает совсем не
человек, ибо это означало бы психологизм и антропологизм, т.е.
релятивизм в познании, и познается совсем не мир, ибо это означало бы
наивный реализм. Теория познания, идущая от Канта, подменяет проблему
292
H. Бердяев. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики
человека и его силы познавать бытие проблемой трансцендентального
сознания, гносеологического субъекта или мирового духа, божественного разума.
Если же она не говорит о трансцендентальном сознании, то она говорит
о психологическом сознании. Но и трансцендентальное и
психологическое сознание одинаково не есть человек. Теория познания не хочет
изучать человека как познающего, она отдает изучение человека целиком в
ведение психологии или социологии. Между тем как основной вопрос
познания есть вопрос об отношении между трансцендентальным сознанием
или гносеологическим субъектом и человеком, живой, конкретной
человеческой личностью. Кант имеет неоценимые заслуги в проблематике
познания, но он, в сущности, ничего не разрешает, он не преодолевает
скептицизма и релятивизма или преодолевает их призрачно. Априорные
формы должны гарантировать прочность познания и преодолеть
скептицизм, но априорные формы не имеют никакого прямого отношения
к живому человеку, который и познает. Пусть трансцендентальное
сознание имеет твердые и незыблемые основания для познания, но
трансцендентальное сознание совсем не есть человек, человек обречен быть
психологическим сознанием, которое находится во власти релятивизма.
И остается совсем невыясненным, как трансцендентальное сознание
овладевает психологическим сознанием, как психологическое сознание
возвышается до трансцендентального сознания. Мне, как живому
конкретному существу, как человеку, поставившему себе дерзновенную
задачу познавать, нисколько не легче от того, что существует
трансцендентальное сознание, что в нем есть a priori, что скептицизм и релятивизм
в этой внечеловеческой сфере побеждены извечно. Мне важно победить
скептицизм и релятивизм в человеческой сфере, в познающем
человеке, а не в гносеологическом субъекте. Я хочу сам познавать, а не
предоставлять познание гносеологическому субъекту или мировому разуму,
хочу познания как творческого акта человека. Теория познания должна
стать философской антропологией, учением о человеке, а не учением о
трансцендентальном сознании и гносеологическом субъекте, но и не
психологическим или социологическим учением о человеке, а
онтологическим и пневматологическим учением о человеке. Какое для меня
утешение, что существует мировой или божественный разум, если
совсем не выяснен вопрос о действии этого мирового или
гносеологического разума во мне, о моем человеческом разуме. Так же бесплодны и не
нужны все учения о Боге, которые не учат о благодатном действии Бога
на человека и мир. Вот я и спрашиваю, в чем благодатное,
просветляющее действие трансцендентального сознания, гносеологического
субъекта или мирового духа на человека, на живую, конкретную личность, как
раскрывается сила и прочность познания в человеке, и притом в данном
случае, а не в сфере внечеловеческой. Это и есть основной вопрос. Как
у Канта не выяснен этот вопрос, так он не выяснен и у Гегеля. У Гегеля
познает не человек, а сам мировой разум, мировой дух, в конце концов
293
Мудрость сострадания, мудрость любви
само Божество. Правда, самосознание и самопознание Божества
происходят в человеке и через человека. Но какая мне от этого радость?
Может показаться гордым и возвеличивающим достоинство человека
учение о том, что Божество в человеке приходит к самосознанию, что
мировой дух достигает своей вершины через философию, которая есть
дело человека. Но при этом никакой самостоятельности человека не
существует, человек есть лишь функция мирового духа, мирового разума,
Божества, лишь орудие, средство, путь для осуществления совсем не
человеческих целей. <...>
Основной, изначальной проблемой является проблема человека,
проблема человеческого познания, человеческой свободы, человеческого
творчества. В человеке скрыта загадка познания и загадка бытия.
Именно человек и есть то загадочное в мире существо, из мира необъяснимое,
через которое только и возможен прорыв к самому бытию. Человек есть
носитель смысла, хотя человек есть вместе с тем и падшее существо, в
котором смысл поруган. Но падение возможно лишь с высоты, и само
падение человека есть знак его высоты, его величия. Он и в падении
своем сохраняет печать своего высокого положения, и в нем остается
возможность высшей жизни, возможность познания, возвышающегося
над бессмыслицей мира. Антропологизм непреодолим в философии, но
он должен быть повышен в своем качестве. Антропологизм этот
изначально онтологичен. Человек неустраним из познания. Он не устранен
должен быть, а повышен от человека физического и психического до
человека духовного. Разрыв между трансцендентальным сознанием,
гносеологическим субъектом, идеальным логическим бытием и живым
человеком, в сущности, делает познание невозможным. Я — человек —
хочу познавать бытие, и мне нет дела до познания, которое совершается
в сфере внечеловеческой. Я — познающий — изначально пребываю в
бытии и составляю его неотрывную часть. И познаю я бытие в себе, в
человеке, и из себя, из человека. Только бытие в силах познавать бытие. И
если бы познание не было уже бытием, то доступ к бытию был бы ему
закрыт. Познание в бытии совершается и является внутренним
событием в бытии, изменением бытия. Познающий и познание имеют
онтологическую природу. Познание есть внутренний свет в бытии. Потому
познание имеет космогонический характер. Когда философы ищут
интуиции, они ищут познания, которое не есть объектирование, которое
есть проникновение в глубину бытия, приобщение к бытию. И интуиция
может быть понята не пассивно, как у Бергсона или у Гуссерля, а
активно. Познание не есть вхождение бытия в познающего, стоящего вне
бытия. Если познающий в бытии, то познание активно, есть изменение
бытия. Познание есть духовная активность в бытии. Объектирование в
познании означает отчуждение между познающим и познаваемым.
Объектирование и ведет к тому, что и познающий и познание
перестают быть «чем-то» и делаются «о чем-то». «О чем-то» и значит быть объек-
294
H. Бердяев. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики
том. Познающий субъект, которому противостоит бытие как объект, не
может быть «чем-то», он всегда «о чем-то», он изъят из бытия. Когда ваше
познание есть познание «о чем-то», об объекте, то невозможно поставить
в глубине вопрос об онтологической реальности и ценности. При
историческом или психологическом исследовании идей совершенно исчезает
вопрос о том, реален ли мир, который эта идея выражает. Реален ли мир,
в который погружена мысль Плотина? Основной вопрос познания вовсе
не есть познание идей о Боге, а познание Самого Бога, т.е. познание в духе
и самого духа. Но этот вопрос нельзя не только разрешить, но и поставить
при объективировании. В этом отношении есть существенное различие
между науками естественными и науками о духе. В науках естественных
объективирование не убивает предмета познания, ибо природа — предмет
естественных наук, есть продукт объективации. Физика, делающая
открытия, имеет дело с самими реальными предметами, а не с их отражением
в человеческих идеях и мыслях. В естественных науках объективирование
и есть установка реального предмета. Естественные науки не производят
такого опустошения, какое производит историческое и психологическое
исследование духа, в котором объектирование есть умерщвление
реального предмета, ибо этот реальный предмет совсем не есть
объективированный предмет. Науки естественные оправданы уже своей практической
плодотворностью. Этой практической плодотворности не могло бы быть,
если бы они не имели отношения к реальности.
В философских и гуманитарных знаниях, в исследованиях явлений
духа такой практической плодотворности нет. Познание духа, самого
духа, а не человеческих мыслей и душевных состояний, не может быть
объектированием. В познании духа, которое и есть философия,
должно быть внутреннее родство познающего со своим предметом,
должно быть признание реальности духа, должен быть творческий
духовный опыт. Познание истины есть приобщение к истине и жизнь в ней,
познание правды есть приобщение к правде и жизнь в ней. Познание
духа есть «что-то», а не «о чем-то». <...>
Тайна познания в том, что познающий в акте познания
возвышается над предметом познания. Познание всегда есть творческое
овладение предметом и возвышение над ним. Это следует уже из того, что
познание должно изливать свет, распространять его в бытии и над
бытием. Поэтому в познании бытие возрастает. Этическое познание
неизбежно стремится к нравственному улучшению бытия. Это не значит,
конечно, что познающий должен воображать себя стоящим на
нравственной высоте. Но это значит, что он должен иметь нравственный
опыт и через него добывать себе свет, хотя бы луч света. С такой
теорией познания связан глубокий трагизм познания. Познание Бога нам
трудно и в известном смысле даже невозможно, оно неизбежно
должно прийти к методу апофатическому и обнаружить тщету и бесплодие
метода катафатического. Бог не может быть предметом познания, по-
295
Мудрость сострадания, мудрость любви
тому что человек в акте познания не может возвыситься нал Богом.
Нельзя пролить свет на Бога, можно только получать свет от Бога. В
познании этическом мы не только впускаем в себя и отражаем
этическую правду, мы неизбежно и создаем ее, творим мир ценностей. Бога
же мы не можем создавать, мы можем только к нему приобщиться,
можем служить ему своим творческим деянием, отвечая на его призыв.
Познание есть великое дерзновение. Познание есть всегда победа над
древним, изначальным страхом, ужасом. Страх делает невозможным
искание истины и познание истины. Познание есть бесстрашие. <...>
И еще нужно сказать про познание, что оно горько и что на эту горечь
нужно согласиться. Кто любит лишь сладкое, не может познавать.
Познание может давать минуты радости и высочайшего подъема, но
плоды познания горьки. Познание человека в нашем мировом зле есть уже
изгнание из рая, утеря райской жизни.
...Человек есть великая загадка для самого себя, потому что он
свидетельствует о существовании высшего мира. Начало
сверхчеловеческое есть конститутивный признак человеческого бытия. Человек есть
существо, недовольное самим собою и способное себя перерастать.
Самый факт существования человека есть разрыв в природном мире и
свидетельствует о том, что природа не может быть самодостаточной и
покоится на бытии сверхприродном. Как существо, принадлежащее к
двум мирам и способное себя преодолевать, человек есть существо
противоречивое и парадоксальное, совмещающее в себе полярные
противоположности. С одинаковым правом можно сказать о человеке,
что он существо высокое и низкое, слабое и сильное, свободное и
рабье. Загадочность и противоречивость человека определяются не
только тем, что он есть существо, упавшее с высоты, существо земное,
сохранившее в себе воспоминание о небе и отблеск небесного света, но
еще глубже тем, что он изначально есть дитя Божье и дитя ничто, ме-
онической свободы. Корни его на небе, в Боге и в нижней бездне.
Человек не есть только порождение природного мира и природных
процессов, и вместе с тем он живет в природном мире и участвует в
природных процессах. Он зависит от природной среды и вместе с тем
он гуманизирует эту среду, вносит в нее принципиально новое
начало... Творческий акт человека в природе имеет космогоническое
значение и означает новую стадию жизни космической. Человек есть
принципиальная новизна в природе. Проблема человека совершенно
неразрешима, если его рассматривать из природы и лишь в
соотношении с природой. Понять человека можно лишь в его отношении к
Богу. Нельзя понять человека из того, что ниже его, понять его
можно лишь из того, что выше его. Поэтому проблема человека во всей
глубине ставилась лишь в религиозном сознании. Во всех теологиях
есть антропологическая часть. Философской антропологии в
настоящем смысле слова не существует. Но всегда существовала религиозная
296
H. Бердяев. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики
антропология. Антропология христианская учит о том, что человек
есть существо, сотворенное Богом и нося шее в себе образ и подобие
Божье, что человек есть существо свободное и в своей свободе
отпавшее от Бога и что, как существо падшее и греховное, он получает от
Бога благодать, возрождающую и спасающую. Есть оттенки,
различающие антропологию католическую, протестантскую и православную.
Согласно католической антропологии, человек сотворен естественным
существом, лишенным сверхъестественных даров созерцания Бога и
общения с Богом, и лишь отдельным актом благодати ему сообщены
сверхъестественные дары... В грехопадении человек теряет именно эти
сверхъестественные дары, но как существо естественное он остается
сравнительно мало поврежденным. Такого рода антропология совсем
не раскрывает учения об образе и подобии Божьем в человеке и может
быть источником натуралистического понимания человеческой
природы. У св. Фомы Аквината был сильный элемент натурализма. Человек
оказывается не духовным существом. Согласно классической
протестантской антропологии, грехопадение совершенно извратило и
уничтожило человеческую природу, помрачило разум человека, лишило его
свободы и поставило всю его жизнь в зависимость от благодати. Для
такой точки зрения натуральное не может быть освящено,
просветлено и преображено, и потому натурализм торжествует победу с другого
конца. Антропология православная мало разработана, но для нее в
центре стоит учение об образе и подобии Божьем в человеке, т.е.
человек сотворен духовным существом. В грехопадении богоподобная и
духовная жизнь человека не уничтожена, а лишь повреждена, образ
Божий в человеке замутнен. Эта точка зрения наиболее
противоположна натурализму. Христианская антропология учит не только о ветхом
Адаме, но и о Новом Адаме, Христе-Богочеловеке, и потому это
антропология богочеловеческая. Идея Богочеловека стоит в центре
христианской антропологии. Человек есть существо, сотворенное Богом,
человек есть существо, отпавшее от Бога, и человек есть существо,
получающее благодать от Бога. Таков круг христианской антропологии.
Эта антропология унижает человека как тварь, и идея греха подавляет
в ней идею образа-подобия Божьего в человеке. Но христианская
антропология ставит проблему человека в глубине, и она ясно видит,
насколько человек есть существо парадоксальное, она бесконечно выше
всех антропологии философских. <...>
Тип естественнонаучного антропологического учения, которое видит
в человеке продукт эволюции животного мира, самый несостоятельный.
Но так же несостоятелен и антично-греческий тип антропологического
учения, для которого человек есть носитель разума. Греческая
философия хотела открыть в человеке высшее, устойчивое, возвышающееся над
изменчивым миром разумное начало. В этом была несомненная истина,
но ее вульгаризовала философия просвещения. С не меньшим основани-
297
Мудрость сострадания, мудрость любви
ем можно было бы сказать, что человек есть существо иррациональное,
парадоксальное, принципиально трагическое, в котором сталкиваются
два мира, полярно противоположные начала. Это гениально раскрыл
Достоевский, который был великим антропологом. Философы и ученые
очень мало дали для учения о человеке. Антропологии мы должны
учиться у великих художников, у мистиков и у очень немногих одинаковых и
мало признанных мыслителей. Шекспир, Достоевский, Л. Толстой,
Стендаль, Пруст гораздо больше дают для понимания человеческой
природы, чем академические философы и ученые психологи и социологи. А
наряду с ними нужно поставить немногих мыслителей — в прошлом Бл.
Августина, Я. Бёме и Паскаля, в XIX веке Бахофена, Л. Фейербаха, Кир-
кегардта, в наше время М. Шелера. В науке же первое место
принадлежит Фрейду, Адлеру, Юнгу. <...> Есть еще самое распространенное в
современной Европе антропологическое учение — понимание человека как
существа социального, как продукта общества, а также как изобретателя
орудий {homo faber). Это учение имеет сейчас больше значения, чем
учение естественно-биологическое. Мы его находим у Маркса и Дюркгей-
ма. Социальность превращает животное в человека. Социальное учение
о человеке конкурирует в современном европейском сознании с
учением рационалистически-просветительным. Антропология неизбежно
ставит человека между Богом и природой или между культурой и природой,
и в зависимости от того, как она определяет эти соотношения,
слагаются ее типы. Антропология должна выделить человека из природы. И она
это делает, или признавая, что он есть существо, в котором
пробуждается разум, или признавая его существом социальным и цивилизованным,
в котором непосредственная природа перерабатывается культурой. Во
всех случаях человек признается существом, преодолевшим природу и
возвышающимся над ней. И лишь антропология декаданса тоскует об
утерянной природной силе и зовет человека вернуться к первобытной
природе. Вечным и непревзойденным является лишь иудеохристианское
учение о человеке как о существе, сотворенном Богом и носящем образ
и подобие Творца, но и оно не раскрыло полностью и до конца учение
о человеке и не сделало всех выводов из учения христологического,
осталось более ветхозаветным, чем новозаветным. Антропология
христианская должна раскрыться как учение о человеке-творце, носящем образ и
подобие Творца мира. Это означает раскрытие учения о человеке как
существе духовном и свободном, способном возвышаться над природой и
подчинять ее себе. Но эта антропология страшно усложняется
раздвоением человека, его падением и греховным состоянием. Человек есть
существо падшее и греховное, раздвоенное и жаждущее исцеления и
спасения, и человек есть существо творческое, призванное к продолжению
миротворения и получившее для этого дары свыше. <...>
Ни один из известных нам типов антропологических учений не
может быть признан удовлетворительным и исчерпывающим. Науч-
298
H. Бердяев. О назначении человека« Опыт парадоксальной этики
но наиболее сильно определение человека как создателя орудий {homo
faber). Орудие, продолжающее человеческую руку, выделило человека
из природы. Идеализм определяет человека как носителя разума и
ценностей логических, этических и эстетических. Но в такого рода
учениях о человеке остается непонятным, каким же образом соединяется
природный человек с разумом и идеальными ценностями. Разум и
идеальные ценности оказываются в человеке началами
сверхчеловеческими. Но как нисходит сверхчеловеческое в человека? Человек тут
определяется по принципу, который не есть человеческий принцип. И
остается непонятным, что есть специфически человеческое. Пусть
человек есть разумное животное. Но ни разум в нем, ни животное не есть
специфически человеческое. Проблема человека подменяется какой-
то другой проблемой. Еще более несостоятелен натурализм, для
которого человек есть продукт эволюции животного мира. Если человек
есть продукт космической эволюции, то человека как существа
отличного, ни из чего нечеловеческого не выводимого и ни на что
нечеловеческое не сводимого, не существует. Человек есть преходящее
явление природы, усовершенствовавшееся животное. Эволюционное
учение о человеке разделяет все противоречия, все слабости и всю
поверхность эволюционного учения вообще. Верным остается то, что
человеческая природа динамична и изменчива. Но динамизм
человеческой природы совсем не есть эволюция. Этот динамизм связан со
свободой, а не с необходимостью. Не более состоятельно
социологическое учение о человеке, хотя человек бесспорно есть социальное
животное. Социология утверждает, что человек есть животное,
подвергшееся муштровке, дисциплине и выработке со стороны общества. Все
ценное в человеке не присуще ему, а получено им от общества,
которое он принужден почитать как божество8. Наконец, современная
психопатология выступает с новым антропологическим учением,
согласно которому человек есть прежде всего больное существо, в нем
ослаблены инстинкты его природы, инстинкт половой и инстинкт
власти, подавлены и вытеснены цивилизацией, создавшей болезненный
конфликт сознания с бессознательным. В антропологии идеализма,
натуралистического эволюционизма, социологизма и психопатологии
схвачены отдельные существенные черты — человек есть существо,
носящее в себе разум и ценности, есть существо развивающееся, есть
существо социальное и существо больное от конфликта сознания и
бессознательного. Но ни одно из этих направлений не схватывает
существо человеческой природы, ее целостность. Только библейско-хри-
стианская антропология есть учение о целостном человеке, о его
происхождении и его назначении. Но библейская антропология сама по
себе недостаточна и не полна, она ветхозаветна и строится без христо-
логии. И из нее одинаково может быть выведено и возвышение и
унижение человека. В христианской мысли была разработана антрополо-
299
Мудрость сострадания, мудрость любви
гия католическая. Но она вся основана на резком различении
природы и благодати, акта творения и акта сообщения ему благодати.
Такого рода антропология учит о человеке как существе природном, а
не духовном и потому не раскрывает учение об образе и подобии
Божьем в человеке. Унижает человека и протестантская антропология
школы К. Барта9. Она прежде всего настаивает на том, что человек
греховен, ничтожен и бессилен и все божественное ему трансценден-
тно. Заслуга этой антропологии, следующей за Киркегардтом, в том,
что она видит в человеке существо парадоксальное и трагическое.
В основе христианской антропологии лежат две идеи: 1) человек
есть образ и подобие Бога-творца и 2) Бог вочеловечился, Сын
Божий явился нам как Богочеловек. Но из этих основных христианских
идей не были сделаны все антропологические выводы. Как образ и
подобие Творца, человек сам есть творец и призван к творчеству, к
творческому соучастию в деле Творца. Человек есть не только
существо греховное и искупающее свой грех, не только существо
разумное, не только существо эволюционирующее, не только существо
социальное, не только существо больное от конфликта сознания с
бессознательным, но человек есть прежде всего существо творческое.
Это в нераскрытом и одностороннем виде заключено в понимании
человека как существа, изготовляющего орудия. Но человек есть
существо творящее в том лишь случае, если он есть существо
свободное, обладающее творческой свободой. В человеке есть два
принципа, и лишь совмещение и взаимодействие этих двух принципов
создает человека. В человеке есть принцип свободы, изначальной,
ничем и никем не детерминированной свободы, уходящей в бездну
небытия, меона, свободы потенциальной, и есть принцип,
определенный тем, что он есть образ и подобие Божье, Божья идея, Божий
замысел, который она может осуществить или загубить. Божье
откровение сообщается и действует в мире через человека. Человек
страстно и мучительно хочет услышать голос Божий, но голос Божий
слышен лишь в человеке и через человека. Человек есть посредник
между Богом и самим собой. Бог всегда говорил через человека,
через Моисея, через пророков, через великих мудрецов, через
апостолов, учителей церкви, святых. Иного пути к Богу, как через
человека, нет. Человек несет в себе божественное начало, слово Божье. И
как существо свободное, он несет в себе творческое начало, слово
Божье творчески-активно, а не пассивно-рецептивно. Бог выражает
себя в мире через взаимодействие с человеком, через встречу с
человеком, через ответ человека на Его слово и Его призыв, через
преломление божественного начала в человеческой свободе. Отсюда
необычайная сложность религиозной жизни человека. В человеке есть то,
что называют тварным ничто и что и есть несотворенное в нем, т.е.
свобода. Человек произошел от Бога и от праха, от Божьего творения
300
H. Бердяев. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики
и от небытия, от Божьей идеи и свободы. В этом сложность
человеческой природы и ее полярность. Совмещение в человеке
противоположных начал определяется не только грехопадением, как часто думают,
но и изначальной двойственностью происхождения и человеческой
природы. Стихийный и иррациональный элемент в человеке есть не
только результат падения человека, но есть прежде всего результат
свободы, предшествующей бытию и миротворению меонического
начала, скрытого за всем бытием. Человек есть существо загадочное не
только потому, что он не есть продукт процессов природного мира,
что он есть Божье творение, дитя Божье, но и потому, что он есть
дитя свободы, что он вышел из бездны бытия, из ничто.
Грехопадение есть лишь возврат от бытия к небытию, есть свободное
сопротивление Божьему творению и Божьей идее о человеке. Грехопадение не
может быть объяснено в категориях Творца и твари, оно невозможно
как восстание твари против Творца. Тварь не может отпасть от
Творца, не может найти силы для этого и не может породить самой
мысли об этом. Грехопадение объяснимо лишь из третьего принципа, из
свободы несотворенной, из небытия, предшествовавшего бытию, из
той меонической бездны, которая не есть ни Творец, ни творение и
которая не есть бытие, сосуществующее бытию Божьему. Это и есть
последняя тайна, скрытая за бытием...
<...> Учение о человеке есть прежде всего учение о личности.
Истинная антропология должна быть персоналистичной. И вот
основной вопрос — как понять отношение между личностью и
индивидуумом, между персонализмом и индивидуализмом? Индивидуум
есть категория натуралистически-биологическая. Личность же есть
категория религиозно-духовная. Я хочу строить персоналистичес-
кую, но отнюдь не индивидуалистическую этику. Индивидуум есть
часть вида, он вышел из вида, хотя он может изолировать себя от
вида, противопоставить себя ему и вести борьбу с ним.
Индивидуум порожден биологическим родовым процессом. Индивидуум
рождается и умирает. Личность же не рождается, она творится Богом.
Личность есть Божья идея и Божий замысел, возникший в
вечности. Личность для природного индивидуума есть задание. Личность
есть категория аксиологическая, оценочная. Мы говорим об одном
человеке, что у него есть личность, а о другом, что у него нет
личности, хотя и тот и другой является индивидуумом. Иногда даже
натуралистически, биологически и психологически яркий индивидуум
может не иметь личности. Личность есть целостность и единство,
обладающее безусловной и вечной ценностью. Индивидуум может
совсем не обладать такой ценностью и единством, может быть
разорванным, и все может быть в нем смертным. Личность и есть образ
и подобие Божье в человеке, и потому она возвышается над
природной жизнью. Личность не есть часть чего-то, функция рода или
301
Мудрость сострадания, мудрость любви
общества, она есть целое, сопоставимое с целым мира, она не есть
продукт биологического процесса и общественной организации.
Личность нельзя мыслить ни биологически, ни психологически, ни
социологически. Личность — духовна и предполагает
существование духовного мира. Ценность личности есть высшая иерархическая
ценность в мире, ценность духовного порядка. В учении о
личности основным является то, что ценность личности предполагает
существование сверхличностных ценностей. Именно
сверхличностные ценности и созидают ценность личности. Личность есть
носитель и творец сверхличностных ценностей, и только это
созидает ее цельность, единство и вечное значение. Но понимать это
нельзя так, что личность сама по себе не есть ценность, а лишь
средство для ценностей сверхличных. Личность сама есть
безусловная и высшая ценность, но она существует лишь при
существовании ценностей сверхличных, без которых она перестает
существовать. Это и значит, что существование личности предполагает
существование Бога, ценность личности предполагает верховную
ценность Бога. Если нет Бога как источника сверхличных
ценностей, то нет и ценности личности, есть лишь индивидуум,
подчиненный родовой природной жизни. Личность есть по
преимуществу нравственный принцип, из нее определяется отношение ко
всякой ценности. И потому в основе этики лежит идея личности.
Имперсоналистическая этика есть cotradictio in adjecto. Этика и есть
в значительной степени учение о личности. Центр нравственной
жизни в личности, а не в общностях. Личность есть ценность,
стоящая выше государства, нации, человеческого рода, природы, и
она, в сущности, не входит в этот ряд. Единство и ценность
личности не существует без духовного начала. Дух констатирует
личность, несет просветление и преображение биологического
индивидуума, делает личность независимой от природного начала. Но
менее всего личность есть отвлеченная идея и норма, подавляющая
и порабощающая живое, индивидуальное, конкретное существо. В
личности идея или идеальная ценность есть конкретная полнота
жизни. Духовное начало, конституирующее личность, совсем не
означает отвлеченного бескровного спиритуализма. Столкновение
добра и зла, как и столкновение ценностей, существует лишь для
личности. Трагедия всегда связана с личностью, с пробуждением
личности, с борениями личности. Личность создана Божьей идеей
и свободой человека. И жизнь личности не есть самосохранение,
как в индивидууме, а самовозрастание и самопреодоление. Само
существование личности предполагает жертву, и нет жертвы без
личности. Психологический индивидуализм, столь характерный
для XIX и XX веков, менее всего означает торжество личности и
персонализма.
302
ТА Кузьмина
Мыслитель экзистенциального типа
H.A. Бердяев (1874-1948) — крупнейший русский философ,
оставивший огромное творческое наследие, столь же оригинальное, сколь и
универсальное по своей значимости. В 1922 г. H.A. Бердяев, наряду
со многими другими деятелями русской культуры и науки, был
выслан из Советской России. На Западе он стал одним из самых
известных русских философов. Его произведения переводились, как
правило, на несколько языков (некоторые книги переводились на 14-16
языков). Он активно участвовал в интеллектуальной жизни Европы,
был лично знаком со многими философами. Достаточно назвать
такие имена, как Ж. Маритен, М. Шелер, Г. Марсель, Э. Жильсон, Э.
Мунье, А. Моруа, М. Бубер, Л. Блюм. С некоторыми из названных
мыслителей Бердяева связывали долгие и плодотворные узы
сотрудничества. «Я лично знал почти всех французских философов моего
времени», — писал Николай Александрович (Самопознание. М.,
1990. С. 263).
Особые и самые тесные связи были у Бердяева с религиозными
мыслителями различных направлений. Это и католики, и
протестанты, и представители англиканской церкви. Его самого
воспринимали как философского выразителя православной мысли. С последним
суждением Бердяев не соглашался вполне, ибо его отношение к
православию было неоднозначным, осложненным идейной ситуацией в
существовавшей тогда церкви. И тем не менее издаваемый им в
Париже в течение 14 лет журнал «Путь» создавался им помимо всего
прочего и «для творческих проявлений мысли на почве православия»
(Там же. С. 239). Но каким бы свободным и недогматическим ни
было отношение Бердяева к существовавшей тогда
православно-церковной идеологии, он считал себя не просто религиозным
философом, но мыслителем, в центре духовного опыта которого стоят
христианство и специфические традиции русской религиозной мысли.
Высоко оценивая достижения европейской философии, указывая на
глубокие внутренние связи с ней (особенно с немецкой философией, в
первую очередь с Кантом и немецкой мистикой), Бердяев в то же время
осознавал себя продолжателем «русских» тем (критика рационализма,
изначальная экзистенциальность мышления, идея Богочеловечества,
эсхатологическое восприятие судеб истории и др.), которые получили у
него оригинальное и творческое развитие (собственно бердяевская идея
несотворенной свободы, трактовка человеческого творчества как
антроподицеи, вопрос о верховенстве личности и ее трагическом конфликте с
миром, тема объективации и др.). Бердяев с горечью отмечал, что его
идеи «плохо воспринимались» (Самопознание. С. 262). Относилось это
303
Мудрость сострадания, мудрость любви
и к его гуманистическим идеям. «Я пытался проповедовать
человечность в самую бесчеловечную эпоху», — писал он (Там же. С. 204).
Повсеместная и радикальная (а в итоге, надо признать,
нигилистическая) критика гуманизма не принималась Бердяевым. Сам
много написавший о кризисе европейского гуманизма,
приводившего зачастую к антигуманизму, видевший ограниченность
исторических форм гуманизма (в первую очередь «ренессансного»), Бердяев в
то же время не перестает утверждать (т.е. философски
обосновывать) человечность человека, но это утверждение осуществляется в
четко осознанной религиозно-христологической перспективе, в
терминах богочеловеческого (теоандрического) антропологизма.
«Утверждение самодостаточности человека, — писал H.A. Бердяев в
"Самопознании", — оборачивается отрицанием человека, ведет к
разложению начала чисто человеческого на начало, притязающее
стоять выше человеческого ("сверхчеловек"), и на начало, бесспорно
стоящее ниже человеческого. Вместо бого-человечества
утверждается бого-звериность» (С. 202). Бердяев так оценивал свое философское
вероисповедание: «Мое религиозно-философское миросозерцание
может быть, конечно, истолковано как углубленный гуманизм, как
утверждение предвечной человечности в Боге. Человечность
присуща Второй Ипостаси Святой Троицы, в этом реальное зерно
догмата. Человек есть существо метафизическое» (Самопознание. С. 202).
«Я, — писал Бердяев в той же работе, — самое христианство
понимал как углубленный антропоцентризм» (Там же. С. 177-178). В этом
своем «пафосе человечности» (Там же. С. 202), философском
утверждении «человечности, получившей метафизическое значение» (Там
же. С. 202), Бердяев осознавал себя одиночкой (и в этом видел свое
отличие от известных европейских
философов-экзистенциалистов — Хайдеггера, Ясперса, Кьеркегора и др.).
Вообще религиозная философия для Бердяева — наиболее
адекватная форма проявления духовного и свободно-творческого опыта
мысли и жизни, а философия в целом способна существовать лишь
как экзистенциальная в своей основе. «Я всегда был мыслителем
экзистенциального типа, был им, когда это выражение еще не
употребляли», — писал он о себе в «Самопознании» (С. 197).
Экзистенциальный опыт как основание философствования —
это, в понимании Бердяева, исходные основополагающие интуиции
о бытии, мире и человеке, которые должны быть положены в
основу объяснения объективного мира, а не наоборот. Объяснить
феномены экзистенциального опыта нельзя, их надо брать только в их
неразложимой целостности как таковые (их нельзя, как указывал
Бердяев, доказать, их можно лишь показать), здесь не нужен анализ,
а возможна лишь феноменология духовного опыта. О
специфичности последнего говорят, например, невозможное для объектного
304
Т.А. Кузьмина. Мыслитель экзистенциального типа
мира тождество части целому, первенство единицы перед общим,
основание универсального в индивидуальном и т.п., входящие в
совокупность персоналистической проблематики в целом.
«Экзистенциальная философия, — писал Бердяев, — прежде
всего определяется экзистенциальностью самого познающего субъекта.
Философ экзистенциального типа не объективирует в процессе
познания, не противополагает объект субъекту. Его философия есть
экспрессивность самого субъекта, погруженного в тайну
существования» (Самопознание. С. 263). Экзистенциальный опыт отнюдь не
есть разновидность субъективистских переживаний, это
действительно погружение в «тайну существования», не объективирование (не
создание культурных объектов), а трансцендирование, выход в
«иное», духовное измерение. Вот почему для Бердяева так важна была
проблематика объективирования, вернее, отличения сферы
объективизации как сферы вторичной от исходного живого духовного
опыта. «Я пишу, — говорил он о себе, — и не как ученый, и не как артист,
я не стремлюсь объективировать своего творчества, я хочу выразить
себя, крикнуть другим, что услыхал изнутри. Творчество и
писательство для меня не столько объективирование, сколько
трансцендирование... Я не создаю объектов, но я выхожу из себя в другое» (Там же.
С. 208). Бердяев здесь оказывается, с одной стороны, наследником и
творческим продолжателем традиций русской философии (начиная с
И. Киреевского и А. Хомякова), а с другой — оригинальным и
самостоятельным мыслителем, созвучным в своих основных интенциях
экзистенциально-феноменологическим исканиям современной
европейской философии (Гуссерлю, Ясперсу, Хайдеггеру, Шелеру и др.).
Несколько слов о работе, из которой взят предлагаемый читателям
отрывок. Книга «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики»
занимает в творчестве H.A. Бердяева особое место. Сам Николай
Александрович выделил ее, считая не только «самой систематической», но
и «наиболее совершенной своей книгой» (Там же. С. 197, 208).
Помимо оформления антропологической концепции как
теоретической основы философии и ее предмета, эта книга ценна, и это
важно подчеркнуть, и как утверждение нравственного ядра философии.
Здесь Бердяев также следует основной направленности русской
философской мысли, рассматривая этику не как обоснование
определенных социальных нормативов или социологию нравов, а как
неотъемлемую часть метафизики. В то же время Бердяев
неоднократно с горечью отмечал размывание этого ядра в современной
культуре как на Западе, так и в России.
Отсутствие морально-этического измерения в идейных исканиях
начала века, превалирование эстетизма и, как следствие, отказ от
выбора, понимаемого Бердяевым как принципиально значимый
метафизический акт, он справедливо расценивал как следствие кризиса
ЭЛ _ 1/1 ос
305
Мудрость сострадания, мудрость любви
культуры, ее дехристианизации. Что касается России, то это
размывание морально-метафизической основы мысли есть, по Бердяеву,
одна из важнейших духовных причин победы «демонического зла
коммунизма» (Самопознание. С. 226). «Русский ренессанс связан был
с душевной структурой, которой не хватило нравственного
характера. Была эстетическая размягченность. Не было волевого выбора», «в
ренессансе начала XX века было слишком много языческого» (Там
же. С. 137, 133). И наконец, о специфическом продукте XX века —
тоталитаризме: «Тоталитарный коммунизм, как и тоталитарный
фашизм и национал-социализм, требует отречения от религиозной и
моральной совести, отречения от высшего достоинства личности как
свободного духа». И как вывод: «Современный тоталитаризм есть
обратная сторона кризиса христианства» (Там же. С. 227).
Примечания
Печатается с издания: Бердяев Н. О назначении человека. Опыт парадоксальной
этики. Париж, 1931.
1 Н. Гартман в своей книге «Metaphysik der Erkenntnis» приходит к тому? что
познающий субъект есть часть бытия и что разум погружен в темное
трансинтеллигибельное, которое ему трансцендентно, но которому он имманентен.
2 См., например, книгу: Edäingnton Л. La nature du monde physique. Ссылаюсь на
французский перевод.
3 Так, Гейдеггер в «Sein und Zeit», самой замечательной философской книге
последнего времени, всю свою онтологию строит на познании человеческого
существования. Бытие как забота (Sorge) открывается лишь в человеке. На другом
пути стоит французская философия наук у Мейерсона, Бруншвига и др.
4 См. мою книгу «Философия свободного духа».
5 Взгляд, развиваемый Мейерсоном в его книге «De l'explication dans les sciences»
(«Об объяснении в науках») об онтологическом характере наук, мне
представляется ошибочным. Наука — прагматична.
6 Это особенно подчеркнуто школой Виндельбанда и Риккерта.
7 То, что Леви-Брюль считает характерным для mentalité первобытного общества,
т. е. приобщение к познаваемому, соучастие в нем, и есть, в сущности,
настоящее познание бытия. См. его замечательную книгу «Les fonctions mentales dans les
sociétés inférieures».
8 См.: Durkheim Э. Les formes élémentaires de la vie religieuse.
9 Особенной остротой отличается мысль Э. Бруннера. См. его «Der Mittler» и
«Gott und Mensch».
306
Эмманюэль Мунье
Краткое введение.
К вопросу о личностном универсуме
Слово «персонализм» вошло в обиход недавно. В 1903 г. Ренувье
обозначил им свою философию. Впоследствии, однако, оно вышло из
употребления. В Америке это слово стало использоваться вслед за Уолтом
Уитменом, который обратился к нему в «Демократических далях» (1867). В
начале 30-х годов термин «персонализм» вернулся во Францию, правда,
уже в ином контексте — для обозначения первых исследований
журнала «Эспри»1 и родственных ему групп («Новый порядок»2 и др.),
возникших в условиях политического и духовного кризиса, который разразился
тогда в Европе. Лаланд в пятом издании своего «Философского
словаря» (1947)-* узаконил слово «персонализм» в качестве понятия. «Ларусс»4
вопреки реальному смыслу сделал слово «персонализм» синонимом
эгоцентризма. Мы видим, что персонализм шел путем неопределенным и
извилистым — это было учение, которое постепенно обретало себя,
определяя направление собственного движения.
Итак, то, что сегодня называют персонализмом, отнюдь не новое
изобретение. Универсум личности — это универсум человека, и было
бы странным, если бы до наступления XX в. никто не занялся его
исследованием, пусть даже используя другие понятия. Современный
персонализм, как мы увидим далее, укоренен на почве давней традиции.
Персонализм не есть система
Персонализм — это философия, а не только позиция; философия, но
не система.
Разумеется, персонализму не обойтись без систематизации.
Мышление должно быть упорядочено: понятия, логика, схемы
используются не только для того, чтобы фиксировать и передавать мысль,
которая в противном случае распалась бы на отдельные смутные интуиции;
они служат для глубинной переработки самих интуиции и
одновременно являются инструментами анализа и изложения5. Именно потому,
что персонализм прибегает к систематизации своих идей, он является
не только позицией, но и философией.
20*
307
Мудрость сострадания, мудрость любви
Центральное положение персонализма— это существование
свободных и творческих личностей, и он предполагает наличие в их
структурах принципа непредсказуемости, что ограждает от жесткой
систематизации. Ничто не может быть столь противоположным этому
принципу, как распространенное сегодня стремление к строго
упорядоченному мышлению, к сугубо функциональному, автоматическому
действованию в соответствии с принятыми решениями и
инструкциями, как отказ от исследований, полных сомнения и риска. Кроме
того, новая рефлексия не должна слишком поспешно и жестко
ограничивать круг собственных проблем.
Таким образом, говоря в целях удобства о персонализме как
единичном явлении, мы тем не менее утверждаем, что существуют различные
виды персонализма, и отдаем должное каждому из них. Христианский
и агностический персонализм, например, значительно отличаются друг
от друга по своим внутренним структурам, и они ничего не выиграли
бы, если бы искали какого-то единого для себя пути. У них есть много
общего, если говорить об определенных сферах мышления,
фундаментальных позициях или некоторых практических выводах, касающихся
индивидуального или коллективного опыта, и этого достаточно, чтобы
обозначить их одним общим термином.
Общее представление о личностном универсуме
От нас ждут, что мы начнем изложение персоналистской философии
с определения личности. Однако определять можно только внешние
по отношению к человеку предметы, те, что доступны наблюдению.
Если исходить из этого, то личность не есть объект. Личность — это то
в каждом человеке, что не может рассматриваться как объект. Вот мой
сосед. Он весьма специфически воспринимает собственное тело, и этот опыт
мне недоступен. Но я могу наблюдать его тело извне, изучать его
особенности, наследственные признаки и болезни, короче говоря, я
рассматриваю его как некий материальный предмет — с точки зрения
физиологической, медицинской и т.п. Мой сосед — служащий, у него и вид служащего,
и психология служащего, и я могу изучать его в качестве такового, хотя все
перечисленное не исчерпывает его полностью. Он еще и француз, буржуа,
одержимый социалист, католик и т.д. К тому же мой сосед не просто
некий Бернар Картье, но вполне определенный Бернар Картье. Я могу
тысячей способов определять его в качестве единичного индивида, и это
помогает мне понять и — что весьма важно — приноровиться к нему, узнать,
как мне вести себя с ним. Но всякий раз я имею дело с отдельными
аспектами его существования. Множество фотографий, как бы мы их ни
располагали одну по отношению к другой, не дадут нам человека, который
ходит по земле, о чем-то думает, имеет те или иные желания. Было бы
308
Э. Мунье. Краткое введение» К вопросу о личностном универсуме
ошибкой считать, будто персонализм требует изучать каждого человека в
отдельности, исходя из его мельчайших отличий. «Лучший из миров»0 у
Хаксли тот, где полчища медиков и психологов берутся описывать
каждого индивида, опираясь на подробнейшие сведения о нем. Властно
формируя человека, сводя людей к хорошо отлаженным и четко действующим
механизмам, этот сверхиндивидуализированный мир тем не менее
противостоит личностному универсуму, поскольку все в нем обустроено,
ничто не создается вновь и не пускается в приключения, как это бывает там,
где есть свобода и ответственность. Он превращает человеческий мир в
огромный и идеально организованный питомник.
Нельзя, следовательно, человека ставить в один ряд с камнями,
деревьями, животными, понимая его как дерево, способное
перемещаться в пространстве, или как коварного хищника. Личность— это
не объект, пусть даже самый совершенный, который, как и всякие
другие, мы познавали бы извне. Личность— единственная
реальность, которую мы познаем и одновременно создаем изнутри.
Являясь повсюду, она нигде не дана заранее.
Однако не будем обрекать личность на неизвестность. Богатый опыт
личности, разлитый в мире, непрестанно выражается в творчестве
ситуаций, правил и установлений. Внутренние ресурсы личности не
предопределены заранее: то, что она выражает, не исчерпывает ее, то, что
обусловливает, не порабощает. Существенно отличаясь от доступного
наблюдению объекта, она не является ни имманентным субстратом, ни
субстанцией, определяющими наше поведение, ни абстрактным
принципом, руководящим нашими конкретными поступками. Все это было
бы так, если бы речь шла о способе существования объекта или об
иллюзии объекта. Личность есть живая активность самотворчества,
коммуникации и единения с другими личностями, которая реализуется и
познается в действии, каким является опыт персонализации. И ничто не
может навязывать личности этот опыт или понуждать к нему. Заставить
человечество пробудиться от глубокого сна, отказаться от жалкого
прозябания может только тот, кто понял смысл личностного существования
и зовет к его вершинам. Если индивид не внемлет этому зову, если не
вступает на путь личностной жизни, он теряет смысл жизни, как
теряет чувствительность бездействующий орган. Тогда он ищет этот смысл
в бесплодном умничаний или бегстве от действительности.
Главную мысль персонализма можно выразить двояко.
Можно начать с изучения мира объектов или доказывать, что
личностный способ существования есть наивысшая форма существования
и вся эволюция природы ведет к возникновению творчества,
знаменующего собой завершение Вселенной. Отсюда следует, что суть
Вселенной — в процессе персонализации, а безличные или в той или иной
мере обезличенные реальности (материя, живые существа, идеи) — это
результат того, что природа, ступив на путь персонализации, замедлила
309
Мудрость сострадания, мудрость любви
свое движение. Насекомое, уподобляющее себя сучку, дабы забыться
в неподвижности, является прообразом человека, укрывающегося в
конформизме, чтобы не отвечать за свои поступки, человека,
погружающегося в общие рассуждения или сентиментальные излияния,
только бы не сталкиваться ни с миром, ни с людьми. В той мере, в какой
это описание остается объективным, оно дает лишь приблизительное
представление о реальности, изначально не являющейся объективной.
Другой путь — когда кто-либо из нас сам станет открыто жить
личностной жизнью, пытаясь увлечь за собой тех, кто живет
подобно деревьям, животным или механизмам. Бергсон в этой связи
«взывал к герою или святому». Но это не должно вводить в заблуждение:
личность может родиться в глубинах и самой униженной жизни.
Здесь обнаруживается главный парадокс личностного
существования: оно есть собственно человеческий способ бытия и вместе с тем
должно быть нескончаемым завоеванием; сознание медленно
высвобождается из мира минералов, растений и животных, которые продолжают
жить в нас. История личности будет идти параллельно истории персо-
нализации. Она будет развертываться не только как сознание, но — во
всей своей полноте — и как усилие по гуманизации человечества.
Краткая история понятая личности
и условий ее существования7
Если говорить только о Европе, то здесь понятие личности,
зародившееся еще в античности, пребывает в эмбриональном состоянии вплоть до
начала христианской эры. Античный человек неотделим от ближайшего
окружения и семьи, он подчинен слепой и безымянной Судьбе, стоящей
выше самих богов. Рабство не шокирует даже самые возвышенные умы
того времени. Философы ценят одно обезличенное мышление и его
неизменный порядок, управляющий и природой и идеями. Своеобразие
считалось тогда чем-то вроде изъяна в природе и сознании. Платон
пытался свести индивидуальную душу к тому, что причастно и природе и
социуму: отсюда его «коммунизм». Для него, как и для Сократа,
индивидуальное бессмертие — это всего лишь прекрасная и смелая гипотеза.
Аристотель утверждал, что реально только индивидуальное, но его бог не
в состоянии ни индивидуально желать чего-либо, ни познавать с
помощью особенных сущностей, ни любить избирательной любовью.
Согласно Плотину, всякая индивидуальность создана как бы по ошибке, и
спасение виделось им в возврате к утраченному Единому и Вневременному.
Тем не менее греки обладали острым чувством человеческого
достоинства, что порой нарушало их бесстрастный порядок. Об этом
свидетельствуют свойственное им чувство гостеприимства и культ умерших.
Софокл, по крайней мере однажды (см. «Эдип в Колоне»), пытался за-
310
Э. Мунье. Краткое введение. К вопросу о личностном универсуме
менить идею слепой Судьбы идеей божественной справедливости,
основанной на различении. Антигона8 взывает к вечности, свидетельствуя
против произвола власти. В «Троянках»9 идея неизбежности войн
противопоставляется представлению об ответственности людей. Сократ на
место утилитарных речей софистов ставил всепроникающую иронию,
приводящую собеседника в замешательство, подвергающую сомнению
как его знание, так и его самого. Слова «Познай самого себя» явились
первым революционным призывом персоналистского содержания. Но
в тех условиях этот призыв мог получить лишь слабый отклик. Наконец,
не следует забывать ни Мудреца из «Никомаховой этики», ни стоиков
с их смутным предчувствием Caritas generis humani10.
Христианство с первых своих шагов решительно выдвигает на
первый план понятие личности. Сегодня нам трудно представить,
какой переворот это произвело в мыслях и чувствах греков.
1. В то время, когда множественность для духа была
неприемлемым злом, христианство возводит ее в абсолют, утверждая творение
ex nihilo11 и предназначение каждой отдельной личности. Высшее
существо, опирающееся в своих деяниях на любовь, уже не
тождественно мировому единству, порождаемому некой абстрактной идеей;
единство мира создается его безграничной способностью
бесконечно умножать эти отдельные акты божественной любви.
Множественность не является свидетельством несовершенства; напротив, она
рождена от избыточности и любви и несет их в себе. Но еще долгое
время дерзкая мысль о множественности душ будет наталкиваться на
пережитки античного мировосприятия, и даже Аверроэс
испытывает потребность вообразить душу, общую всему роду человеческому.
2. Человеческий индивид не является лишь средоточием ряда
реальностей общего характера (материя, идеи и т.п.), он представляет
собой неделимое целое, единство которого важнее множественности,
ибо имеет корни в абсолютном.
3. Над личностями господствует уже не абстрактная власть
Судьбы, не Царство идей или Безличная идея, равнодушные к
индивидуальным судьбам, но Бог, который сам, хотя и в высшем смысле,
является личностью и отдал «часть себя», чтобы взять на себя судьбу
человека и изменить ее; вместе с тем он предлагает каждой
личности внутренне приобщиться к божественному; Бог, который
утверждает себя, не отторгая человека (современный атеизм в лице
Бакунина и Фейербаха убежден в обратном), а, напротив, даруя ему свободу,
подобную собственной, и воздавая великодушием за великодушие.
4. Глубинный смысл человеческого существования состоит не в
том, чтобы слиться с абстрактной всеобщностью Природы или
Царством идей, но в том, чтобы переменить «тайну своей души» (/х€тш>ох),
чтобы принять в нее Царство Божие и воплотить его на Земле. Тайна
души, которая решается на такой личностный выбор, на подобное
311
Мудрость сострадания, мудрость любви
преобразование Вселенной, неприкосновенна; о ней никто не может
судить, никто не знает ее, даже ангелы, только Бог.
5. К такому поступку человек призван в свободе. Он — существо
сотворенное, но его основополагающим началом является свобода.
Бог создал творение настолько совершенное, насколько это вообще
возможно. Однако он предпочел призвать человека, чтобы тот,
пользуясь свободой, сам взрастил свою человечность и чтобы жизнь
его стала отражением жизни божественной. Подлинное и полное
осуществление свободы предполагает также и право человека
отказаться от своего предназначения, иными словами, не исключает его права
на греховность. Поэтому грех не только не является пороком — его
отсутствие вело бы человека к отчуждению.
6. Подобная абсолютизация личностного начала не отделяет
человека ни от мира, ни от других людей. Вочеловечение Бога освящает
единство земли и неба, плоти и духа, искупительную жертву человеческого
деяния, осененного благодатью. Таким образом, единство человеческого
рода оказывается полностью утвержденным и дважды оправданным:
каждая личность создана по образу и подобию Божию, каждая личность
призвана участвовать в создании мистического тела Церкви, осененного
милостью Христовой. Коллективная история человечества, о которой
греки не имели ни малейшего представления, отныне приобретает свой,
по сути космический, смысл. Сама концепция Троицы, дававшая пищу
для споров на протяжении двух столетий, приводит к идее о Высшем
Существе, внутри которого осуществляется диалог личностей, что уже
само по себе является отрицанием одиночества.
Такое видение было слишком новым и радикальным, чтобы
сразу обнаружились все его последствия. Представ в глазах христиан
зародышем историчности, оно приведет их к мысли и о конце истории.
На протяжении всего Средневековья социально-идеологические
предрассудки греческой античности оказывают этому видению
постоянное сопротивление. Потребовалось несколько веков, чтобы перейти от
реабилитации раба в сфере мысли к его действительному освобождению;
что касается идеи о равенстве душ, то мы до сих пор не пришли еще к
реальному равенству социальных возможностей; там, где речь идет о
многочисленных массах, духовное не в состоянии опережать телесное; не
знающая техники феодальная эпоха не дает средневековому человеку
возможности освободиться из плена тяжелого физического труда и
полуголодного существования и создать гражданское общество по ту
сторону социально-сословных перегородок. Хотя христианство с самого
начала активно вступило в борьбу с разного рода дуализмом, мысль о
нем до сих пор сохраняется в нашем восприятии. В период раннего
Средневековья эта тенденция поддерживала живучесть платоновских
заблуждений, которым противостоял реализм Альберта Великого и
Фомы Аквинского, вновь заговоривших о достоинстве материи и един-
312
Э. Мунье. Краткое введение. К вопросу о личностном универсуме
стве человеческого начала. Между тем уже во II-VI вв. понятие
личности начинает постепенно заявлять о себе благодаря тринитарным и хри-
стологическим спорам; оно оказалось более созвучным греческой
духовности, тогда как римский юридический ригоризм, придававший
понятию личности большую формальность, в глубине своей продолжал
ему сопротивляться. Каждое значительное учение добавляло этому
понятию новые штрихи. Однако концептуально-логическое наследие греков,
со своими градациями и всеобщностями, затрудняло его становление.
Обычно с Декартом связывают современный рационализм и
идеализм, растворяющие конкретное существование в идее. При этом не
учитывают всего содержательного богатства декартовского Cogito,
способного принимать решение. В качестве акта субъекта и интуиции
ума Cogito является утверждением бытия, останавливающего
нескончаемое движение идеи и настоятельно полагающего себя в
существовании. Эти пути уже были проложены волюнтаризмом от Оккама до
Лютера. Философия отныне перестает быть уроком для заучивания,
какой она была в поздней схоластике, и превращается в
размышление о личности, к которому она призывает всех и каждого. Подобно
Сократу, она направляет свою мысль к существованию12.
В то же время молодая буржуазия расшатывала сковывавшие ее
феодальные структуры. Но застывшему в своей неподвижности
обществу она противопоставила изолированного индивида, тем самым
положив начало экономическому и духовному индивидуализму,
тягостные последствия которого мы ощущаем еще и сегодня. Декарт
своим Cogito также посеял семена метафизического идеализма и
солипсизма, всходы которых подрывали классический персонализм от
Лейбница до Канта и кантианцев, несмотря на множество глубоких
идей, которые принесло с собой их развитие.
Гегель навсегда сохранит за собой славу великого и чудовищного
творца всемогущей и безличной идеи. Все вещи и все существа
растворяются в ней. И не случайно в конечном итоге Гегель
провозглашает полное подчинение индивида государству. Но не следует
забывать и того, чем персонализм обязан Лейбницу и Канту, а диалектика
личности — всему рефлексивному направлению идеалистической
мысли. Паскаль, отец современной диалектики и экзистенциального
сознания, стал бы величайшим из величайших мэтров, если бы
влияние янсенизма не толкало его к проповеди высокомерного
одиночества, что произошло впоследствии и с Кьеркегором. Стоит помнить
и о Мальбранше, о его «Трактате о нравственности»; о Руссо,
разделяющем непоследовательный рационализм просветителей, сбитом с
толку индивидуализмом, но возродившем значение одиночества и
заложившем основы воспитания личности. Отметим также
актуальность Гёте, который ищет в деятельности динамическое единство
духа и материи. В XIX в. необходимо выделить трех мыслителей, при-
313
Мудрость сострадания, мудрость любви
знание к которым приходит лишь в следующем столетии, —
настолько трудно им было дышать в идейном климате своего времени.
Мен де Биран является непосредственным предшественником
французского персонализма. Он отвергает механицизм идеологов
Просвещения, растворявших конкретное существование в псевдоэлементах
мышления, и ищет «Я» в усилии, посредством которого мы воздействуем на
мир. Этот опыт, представляющий собой единство внутреннего
побуждения и мускульных усилий, выявляет во всяком сознании его связь с
непреложной и объективной реальностью; нельзя, следовательно,
противопоставлять сознание и реальность; любое сознание выходит в
пространство, утверждает себя в нем. Идеи Мен де Бирана замечательным
образом высветили истоки личности и сферу ее проявления.
Кьеркегор, в свою очередь, выступая против Системы, олицетворяемой
Гегелем, и против ее спиритуалистических истолкований, говорит о
неотвратимости возникновения свободы. Глашатай парадоксального,
драматического величия человека, боровшийся против опьяняющего
буржуазного комфорта и прекраснодушия, он, к сожалению, не смог отказаться
от горделивого одиночества и выйти к миру и к людям. Тем не менее на
закате эпохи, готовой согласиться на любое порабощение в обмен на
своего рода вегетативное спокойствие, Кьеркегор довел до наивысшего
значения смысл свободы, радикальным образом связав ее с абсолютом.
Маркс с иных, чем Кьеркегор, позиций упрекал Гегеля за то, что он
сделал субъектом истории абстрактный дух, а не конкретного
человека, свел к Идее живую реальность человеческого существования.
Согласно Марксу, такое отчуждение является следствием отчуждения,
господствующего в капиталистическом мире, который превращает
трудящегося человека-производителя в объект истории и тем самым
как бы отторгает его от него самого, равно как и от природного мира.
Наступление на обезличивающие силы, начатое в XIX в., можно было
бы, вероятно, назвать революцией в духе Сократа; оно пошло по двум
направлениям: от Кьеркегора, призывающего человека, выбитого из
колеи научными открытиями и насилием над окружающей средой, к
осознанию права на субъективность и свободу; от Маркса, который
разоблачает мистификации, порождаемые социальными структурами,
выросшими из материальных условий существования, и напоминает
человеку, что мало болеть за свою судьбу — ее надо строить, засучив
рукава. Роковой разрыв! Обе линии в дальнейшем расходятся все
больше и больше, и задача нашего века, думается, состоит не в том, чтобы
соединять их там, где они не могут соединиться, а в том, чтобы стать
выше расхождений, подняться к единству, которое было отвергнуто.
В свете великих событий XIX в. необходимо было бы проследить, как
постепенно созревали социальные условия для подлинно
человеческого существования. При всех оговорках относительно Великой
французской революции очевидно, что она знаменует собой важнейший этап
314
Э. Мунье. Краткое введение. К вопросу о личностном универсуме
социального и политического освобождения, хотя и ограниченного ее
индивидуалистическим контекстом. С этого момента некоторого рода
фатальность начинает набирать силу. С одной стороны, находя
благоприятную почву в победно шествующем капитализме, стремительно
развивается индивидуализм. Либеральное государство закрепляет это
развитие в своих кодексах и институтах, проповедуя вместе с тем
моральный персонализм (в кантовском духе) и персонализм политический
(буржуазного толка) и создавая таким образом конкретные условия для
социального, экономического, а вслед за ними и политического
порабощения народных масс. Романтизм содействует всестороннему
развитию чувств индивида, однако заводит его в такие тупики, где ему не
остается ничего иного, как выбрать безысходное одиночество или утрату
желаний. Отступая перед лицом этой новой опасности и боясь проявить
свои разрушительные силы, мелкобуржуазный мир стремится скрыть их
за ширмой сомнительных удовольствий, установить господство
осмотрительного индивидуализма. Но как раз в это время бурное развитие
техники раздвигает узкие границы жизни индивида, открывает перед ним
широкие перспективы, вовлекая в коллективные отношения. Теряюший
опору индивидуализм страшится одновременно и анархии, в которую
погружается, и коллективизма, который ему угрожает. Он пытается
прикрыть свои тылы идеей «защиты личности». Уже Ренувье считал в равной
мере опасными как страсть к метафизике, так и поиск единства
политическими средствами. Личность для него— это прежде всего отрицание,
неприсоединение, возможность противостоять, испытывать сомнения,
сопротивляться опьянению мышлением и, соответственно, отвергать все
формы утверждающейся коллективности — теологические или
социалистические. Это, разумеется, вполне здоровая реакция на опасность, но
она рискует оказаться во власти анархизма. Именно последний обрек на
бесплодность поиски Прудона. Страстный анархизм Ницше
драматизировал ситуацию, усилив негативные тенденции, которые впоследствии
войдут составной частью в экзистенциалистские концепции.
Между тем действительный выбор происходит отнюдь не между
слепым имперсонализмом, этой разросшейся губительной раковой
опухолью, и потерявшими надежду гордецами, которые будут стоять на
своем. Страх перед этими мистическими чудовищами стал рассеиваться,
когда началась разработка более богатого понятия личности, ее
отношений с миром и его творениями. Речь идет прежде всего о Лотце, о
работах Макса Шелера и М. Бубера, появившихся во французском
переводе и совпавших по времени с выходом книг Бердяева, который не захотел
приносить в жертву ни свободу духа, ни технику, как в свое время
Бергсон, не отрекшийся ни от свободы, ни от строгой науки. Вслед за Лабер-
тонъером Морис Блондель говорит о диалектике духа и действия,
разрушающей все спиритуалистические мистификации. В то время как в лирике
Пеги начинают звучать все темы, которые мы проанализируем ниже,
315
Мудрость сострадания, мудрость любви
Ж. Маритен для решения актуальных проблем обращается к
разоблачительному реализму, заимствуя его у С». Фомы; Габриэль Марсель и К. Яс-
перс, один христианин, другой — агностик, вносят существенный вклад в
описание структур личностного универсума. К ним весьма близок и П.-Л.
Ландсберг, жизнь и творчество которого были насильственно прерваны.
Если иметь в виду собственно персоналистские исследования,
которые начиная с 1932 г. постоянно публикует журнал «Эспри», то на них
оказывали влияние, с одной стороны, экзистенциалистские, с другой —
марксистские разработки. Экзистенциалисты настоятельно требовали
обсуждения персоналистских проблем: свобода, внутренний мир
личности, коммуникация, смысл истории. Марксисты призывали
современное мышление освободиться от идеалистических мистификаций, стать
на твердую почву в осмыслении реальных проблем человека и связать
самую возвышенную философию с актуальными вопросами
современности. Таким образом, можно говорить о трех близких персонализму
направлениях: экзистенциалистском (к нему примыкают Бердяев, Ландс-
берг, Рикёр, Недонсель), марксистском (нередко конкурирующем с
первым) и более традиционном, связанном с французской
рефлексивной традицией (Лашьез-Рей, Набер, Ле Сенн, Мадинье, Ж. Лакруа).
За пределами Франции во многих странах формируются течения,
провозглашающие себя персоналистскими. Есть и такие, близкие к ним,
концепции, которые прямо не заявляют о своей приверженности идеям
персонализма. В Англии называют себя персоналистскими несколько
журналов, а также группа Дж.Б. Коатса. Они ищут вдохновения прежде
всего у Дж. Макмарри, Дж. Мидлтона Мюрри, Н. Бердяева и М. Бубе-
ра; не следует забывать и о Ньюмене. Религиозный субъективизм,
политический либерализм и антитехницизм (в духе Рёскина и Г. Рида)
нередко уводят их в сторону от французского персонализма, однако диалог с
ними возможен. В Голландии рожденное в 1941 г. в лагере заложников
персоналистское движение развивалось исключительно в политическом
плане и пыталось построить «новый социализм» силами
«Нидерландского народного движения», которое впоследствии пришло к власти и
слилось с социалистической партией. В США также набирает силу
довольно заметное персоналистское направление (от Ройса и Хоуисона до
Боуна, Брайтмена и Флюэллинга). В Швейцарии, где еще жива память
о Секретане, выходят «Швейцарские тетради "Эспри"». Близкие
персонализму группы создаются и в странах, освободившихся от фашизма.
Поскольку личность является не объектом, который можно было
бы отделить от мира и изучать извне, но центром, на который
должна ориентироваться объективная Вселенная, нам необходимо
сосредоточить свой анализ на создаваемом ею универсуме, выявить
его структуры и различные аспекты, постоянно помня о том, что это
всего лишь наше видение реальности. Каждый обладает истиной не
иначе, как во взаимосвязи со всеми другими.
316
И.С. Вдовнна
Персонализм - подлинная философия XX века
Эмманюэль Мунье (1905-1950), основоположник и ведущий теоретик
французского персонализма считает, что философия есть прежде всего
размышление о человеке. В работе «Введение в экзистенциализмы»
(1948) он писал: «Строго говоря, философия по сути своей
экзистенциальна и не может быть никакой другой. Существование и
существующие — вот подлинный предмет философских исследований»13. При этом
Мунье отдает себе отчет в том, что предмет философии менялся на
протяжении ее многовековой истории, как менялись и сами представления
о человеке и его существовании. Тем не менее историю философии в
целом Мунье рассматривает как процесс вызревания идеи о собственно
человеческом существовании, о личности, которая стала центральной
темой в персонализме (от лат. persona — личность). Формулирование
этой идеи оказалось настоятельным именно в начале XX в., когда, с
одной стороны, само существование человека было поставлено под вопрос,
с другой — создавались условия для «универсального» развития
человека, для его становления личностью. Есть и еще одна сторона дела:
преодолеть кризис и использовать предоставляемый историей шанс можно
только при том условии, что сам человек начнет жить, как личность.
Понятие личности Мунье с самого начала соотносил с понятием
цивилизации, и одной из фундаментальнейших проблем
персонализма стала «драма цивилизации», выступившей против человека, и
драма человека, потерявшего смысл своего существования, меру
человеческого. Мунье в этой связи призывал людей задуматься о
качественном содержании их цивилизации, а сам намеревался создать
«метафилософию», которая объединяла бы в себе все ценное,
наработанное философией на протяжении истории своего
существования, и предлагала бы целостное осмысление проблем человека и его
бытия. Мунье горячо верил в то, что идеалы личностной
философии, воплощаясь в жизнь, преобразуют все ее сферы —
экономическую, политическую, социальную, философскую, религиозную,
нравственную, эстетическую.
Цивилизаторское значение личностной философии Мунье видел
также в том, что ей свойственна воспитательная функция.
«Персонализм, — подчеркивает эту мысль Поль Рикёр, — по своему
происхождению есть педагогика общественной жизни, связанная с
пробуждением личности»14. Пробуждение человека — излюбленное выражение
Мунье, когда речь заходит о воспитательной миссии персонализма.
Он намеревался разработать в рамках «личностной философии»
такую концепцию человека, которая стала бы программой для
воспитательного процесса цивилизации в целом.
317
Мудрость сострадания, мудрость любви
Итогом раздумий Мунье о предназначении человека-личности
стала его концепция «вовлеченного существования», призывающая
людей к активной жизни, к ответственному, осмысленному,
творческому выполнению гуманистической миссии на Земле. Залогом
подлинности человеческих деяний Мунье считал необоримую веру
в обновление, которое дается ценой неимоверного напряжения
сил в борьбе со всем неподвижным, устоявшимся, закостенелым.
Стремление человека к бытию высшего порядка (трансцендирова-
ние) он объявлял собственно и исключительно человеческим
свойством.
На вопрос о качествах личности Мунье искал ответ у Сократа и
Цицерона, Фомы Аквинского и Аристотеля, Декарта, Канта,
Фихте, Шелера, Кьеркегора, Хайдеггера, Ясперса, Марселя,
Достоевского, Л. Толстого, Бердяева, Маркса и других выдающихся умов
человечества. Вместе с тем основоположник французского персонализма
понимал, что, какими бы авторитетами он ни подкреплял свое учение
0 личности, оно не может претендовать на бесспорность и
окончательность своих выводов. Посвятив всю свою жизнь разработке
личностных принципов, на которых, по его убеждению, должна строиться
человеческая цивилизация, Мунье завещал критически воспринимать
его суждения и непременно соотносить их с реалиями самой жизни.
Персонализм — это философия XX в., считал он, и придет время,
когда она уступит свое место другой концепции, вызванной к
жизни новыми потребностями цивилизации.
Примечания
Перевод с издания: Mounter Е. Le personnalisme // Oeuvres. T. 3. Paris, 1962. P. 429-439.
1 Журнал «Эслри» («Esprit») основан в 1932 г. См. подборку номеров, а также:
Mounter Е. Manifeste au service du personnalisme. Paris: Aubier, 1936; Qu'est-ce que
le personnalisme? Paris: Editions du Seuil, 1947; Personnalisme catholique // Esprit,
1940, février —mars—aprîl; последняя работа опубликована отдельным изданием:
Mounter Е. Liberté sous conditions. Paris: Editions du Seuil, 1946.
2 «Новый порядок» («Ordre Nouveau») — общественно-политическое движение во
Франции 30-х годов, руководимое Р. Ароном (Агоп) и А. Дандьё (Dandieu); как
и персонализм, выступало от имени личности, за духовное обновление
капитализма: близкие персонализму идеи развивали также представители молодежных
объединений «Планы» («Plans») «Французский журнал» (La Revue française»),
«Противостояние» («Reaction») и др. — Прим. пер.
3 Имеется в виду «Технический и критический словарь по философии» («Vocabulaire
technique et critique de la philosophie») под редакцией A. Лаланда (Lalande).
Первое издание вышло в 1926 г. — Прим. пер.
4 Французское издательство, основанное в Париже в 1852 г. педагогом и
лексикографом П. Ларуссом (Larousse); специализируется на издании энциклопедий,
энциклопедических словарей и т.п. — Прим. пер.
5 См.: Lacroix J. Système et existence // Vie intellectuelle. 1946, juin.
318
И.С. Вдовина. Персонализм — подлинная философия ХХвека
6 Речь идет о сатирической антиутопии американского писателя О. Хаксли
«Прекрасный новый мир» (1932). — Прим. пер.
7 Описание этой истории можно найти в статье: Plaquevent J. Individu et personne.
Esquisse des notions // Esprit, 1938, janvier. Во Франции и США готовятся
работы, посвященные истории персонализма.
к Антигона — героиня греческой мифологии, вошедшая в историю в качестве
символа верности долгу; по ее убеждению, приказ смертного человека не может
отменить неписаных, но прочных божественных законов. — Прим. пер.
9 «Троянки» — трагедия древнегреческого драматурга Еврипида (ок. 480-406 г.
до н.э.). — Прим. пер.
10 «Любовь к роду человеческому» (лат.).
11 «Из ничего» (лат.).
12 См.: Chastaing M. Descartes, introducteur à la vie personnelle // Esprit, 1937, juillet.
u Mounter E. Introduction aux existentialismes.
14 RicœrR L'Histoire et venté. P., 1964. P. 138.
319
Мудрость сострадания, мудрость любви
Эмманюэль Левинас
Философия, справедливость и любовь
«Лицо Другого было началом философии». Говоря так, утверждаете ли
Вы, что философия рождается не в опыте конечного, а скорее, в опыте
бесконечного как призыв к справедливости? Философия, стало быть,
начинается до самой себя, в жизненном мире, предшествующем
философскому дискурсу?
— Я хотел этими словами подчеркнуть следующее: вселенная
смысла, представляющаяся мне первичной, есть как раз то, что приходит к
нам из межличностного отношения, что рождается из этого отношения,
и Лицо со всем тем, что можно обнаружить при анализе его значений,
является началом интеллигибельности. Разумеется, здесь тотчас же
вырисовывается и вся этическая проблематика, но у нас еще нет основания
говорить о философии. Философия — это теоретический дискурс, и я
думаю, что теория предполагает больше. Необходимость в
теоретической позиции возникает тогда, когда мне надлежит ответствовать не
только перед лицом другого человека, но и перед находящимся рядом с ним
лицом третьего человека. Сама встреча с Другим уже есть моя
ответственность за него. Ответственность за Другого — это более строгое
название того, что обычно именуют любовью к ближнему, любовью без
Эроса, милосердием, любовью, где нравственное доминирует над
страстью, любовью без вожделения. Мне не очень по душе затасканное и
опошленное слово «любовь». Речь идет о том, чтобы взять на себя
судьбу Другого. Именно это и есть «видение» Лица, наше отношение к
первому встречному. Будь он моим единственным собеседником, у меня
были бы одни только обязательства! Но в мире, где я живу, наряду с
«первым встречным» всегда есть и третий, и он тоже мой «другой», мой
ближний. Так что мне необходимо знать, кто из них впереди: не
является ли один гонителем другого? Разве не надлежит сравнивать людей
при всей их уникальности? Еще до того, как я беру на себя судьбу
Другого, существует справедливость. Я должен вынести суждение там, где
мне пришлось уже взять на себя ответственность. Именно здесь
кроется необходимость теории, здесь рождается забота о справедливости,
которая лежит в основе теоретического рассуждения. Справедливость
возникает, если только мы сталкиваемся с Лицом Другого, она рождается
320
Э. Левинас. Философия, справедливость и любовь
из чувства ответственности за Другого; справедливость предполагает
оценку и сравнение того, что в принципе не подлежит сравнению,
поскольку каждое бытие уникально; любой Другой уникален. В заботе о
справедливости непременно возникает понятие беспристрастности,
лежащее в основе объективности. В какой-то момент заявляет о себе
необходимость «взвесить», сравнить, поразмыслить, и философия в этом
смысле есть мудрость, родившаяся в глубинах первоначального
сострадания; философия — и я здесь не злоупотребляю словами — это
мудрость сострадания, мудрость любви.
— Чужд ли опыт смерти Другого и, в каком-то смысле, опыт
собственно смерти этическому восприятию ближнего?
— Теперь Вы ставите проблему: «Что есть в Лице?» С моей точки
зрения, Лицо вовсе не пластическая форма, какой, например,
является портрет. Отношение к Лицу — это одновременно отношение к
абсолютно слабому, к тому, кто совсем не защищен, кто наг и обездолен,
это отношение к лишению и, следовательно, к тому, кто одинок,
подвластен крайнему одиночеству, называемому смертью; стало быть, за
Лицом Другого всегда стоит смерть Другого и, в каком-то смысле,
подстрекательство к убийству, желание идти до конца, полностью отринуть
Другого и, как это ни парадоксально — одновременно Лицо есть
призыв: «Не убий!» Последнее можно и дальше растолковывать, но факт
остается фактом: я не могу оставить Другого умирать в одиночестве, он
как бы взывает ко мне, следовательно, — и это чрезвычайно важно для
меня — отношение к Другому, вопреки Мартину Буберу, не
симметрично: когда я, согласно Буберу, говорю Ты другому Я, то передо мною
предстоит такое Я, которое также говорит мне Ты; здесь мы имеем
отношение взаимности. Я же, напротив, считаю, что отношение к Лицу
асимметрично: мне с самого начала неважно, как Другой относится ко
мне, это его дело; для меня же он прежде всего тот, за кого я ответствен.
— А у палача есть Лицо?
Это уже проблема зла. Когда я говорю о справедливости, я тем
самым ввожу понятие борьбы со злом, отказываюсь от идеи
непротивления злу. Если вопрос о самозащите все еще стоит на повестке дня, если
«палач» — это тот, кто угрожает ближнему и в этом смысле призывает к
насилию, то он не имеет Лица. Однако моя главная мысль заключается
в том, что я называю асимметрией интерсубъективности: данная
ситуация имеет отношение только к Я. По этому поводу я всегда вспоминаю
Достоевского. Один из его персонажей говорит: мы все ответственны за
все и за всех и я ответствен более, чем все другие. Не оспаривая этой
мысли, я тотчас же добавляю к ней заботу о третьем и, стало быть, о
справедливости. Здесь открывается вся проблематика палача: она
вытекает из справедливости и из необходимости защитить другого человека,
моего ближнего, а вовсе не из угрозы, какой я сам подвергаюсь. Если бы
не было справедливости, то моя ответственность не имела бы пределов.
321
Мудрость сострадания, мудрость любви
Определенная доля насилия необходима, что обусловлено
справедливостью. Если же мы говорим о справедливости, то надо признать и судей,
и все институты наравне с Государством — ведь мы живем в
гражданском обществе, а не только в ситуации «лицом-к-лицу». И наоборот,
только исходя из моего отношения к Лицу, или из отношения к
Другому, можно говорить о законности или незаконности Государства.
Государство, которое изначально руководствуется собственными
законами, где невозможны межличностные отношения, — это тоталитарное
государство. Но у государства есть границы. Правда, Государству,
которое, с точки зрения Гоббса, возникает из-за ограничения насилия, а
не милосердия, невозможно установить пределы.
— Обязательно ли Государство связано с насилием?
Государству в той или иной мере свойственно насилие, но оно
может нести в себе и справедливость. Это вовсе не означает, что нельзя
так или иначе избегать насилия. То, что заменяет насилие в
межгосударственных отношениях, что можно доверить переговорам,
словам, весьма существенно, однако, нет основания утверждать, что
любое насилие незаконно.
— Может ли пророческое слово идти наперекор Государству?
— Да, если это чрезвычайно смелое, дерзновенное слово. Ведь
пророк всегда держит речь перед царем; пророк не скрывается в подполье,
он не готовит тайно революцию. В Библии — и это удивительно —
царь признает такую откровенную оппозицию. Что за странный царь!
Исайя и Иеремия подвергаются насилию, но не стоит забывать, что
существуют и лжепророки, угрожающие царям. И только истинный
пророк нелицеприятно обращается и к царю, и к народу, взывая к
нравственности. Разумеется, в Ветхом Завете нет изобличения Государства
как такового. Там есть протест против простого уподобления
Государства мирской политике... То, что шокирует Самуила, когда к нему
обращаются с просьбой дать царя Израилю, так это само желание иметь
царя, как его имеют прочие народы. Во Второзаконии содержится
учение о царской власти, а Государство предполагается сообразным с
Законом. Мысль о нравственном Государстве — библейская мысль.
— Это было бы наименьшим злом?
— Нет, речь идет о мудрости народов. Другой имеет к Вам
отношение даже тогда, когда Третий причиняет ему зло, и, следовательно, Вы
стоите перед необходимостью справедливого выбора и, быть может,
выбора насилия. Третий здесь не случаен. В каком-то смысле все другие
присутствуют в Лице Другого. Если бы нас в мире было всего двое, то не
было бы никаких проблем: Другой всегда был бы передо мной. В
некотором отношении — сохрани Бог, только б мне не пришлось прибегать
к этому правилу повседневно — я ответствен за Другого, даже когда он
наводит на меня скуку или травит меня. Поскольку мы сегодня много
говорим о пророках — в Плаче Иеремии есть место, где утверждается:
322
Э. Левинас. Философия, справедливость и любовь
«Подставляет ланиту свою бьюшему его». Но я ответствен и за то, что
преследуют моих близких. Если я принадлежу к какому-нибудь народу,
то народ этот, как и родственники мои, — также мои близкие. Эти
близкие, не состоя со мною в родстве, имеют право на мою защиту.
— Вы говорили об асимметричности, отличающей Ваше понимание
взаимности отношений от буберовского...
— Будучи гражданами, мы все связаны друг с другом, но эта
структура более сложна, чем отношение «лицом-к-лицу».
— Это так, но разве в изначальном межчеловеческом отношении не
было опасности, что в дальнейшем там, где не будет взаимности, не
будет и доброты? Противоречат ли друг другу справедливость и доброта?
— Эти отношения близки друг другу. Я попытался показать, что
справедливость рождается из милосердия. Справедливость и
милосердие могут показаться чуждыми друг другу, если представлять их
как два последовательных этапа; в действительности же они
неотделимы друг от друга и возникают одновременно, если, конечно, речь
не идет о необитаемом острове, где нет человечества, нет «третьих».
— Можно ли утверждать, что опыт справедливости предполагает
опыт любви, откликающейся на страдание Другого? Шопенгауэр
отождествлял любовь с состраданием и видел в справедливости момент
любви. Что Вы думаете на этот счет ?
— Все это так. Однако я уверен, что сочувствующее страдание,
страдание от того, что страдает Другой, — это всего лишь один аспект
значительно более сложного и одновременно более целостного
отношения — ответственности за Другого. В действительности я
ответствен за Другого даже тогда, когда он совершает преступление,
когда другие люди становятся преступниками. В этом для меня сущность
иудейского сознания. Но я думаю также, что это и сущность
человеческого сознания как такового: все люди ответственны одни за
других, и я — больше всех других. Для меня важнее всего здесь
асимметрия, выраженная следующим образом: все люди ответственны одни
за других, и я — больше всех других. Эти слова принадлежат
Достоевскому, и я, как видите, не перестаю их повторять.
— Л каковы отношения между справедливостью и любовью?
— Справедливость вытекает из любви. Это вовсе не означает, что
справедливость с ее требовательностью не может обернуться против
любви, понимаемой с точки зрения ответственности.
Предоставленная самой себе, политика создает собственные закономерности.
Любовь всегда должна присматривать за справедливостью. В иудейской
теологии (что касается меня, я не следую безоговорочно этой
теологии) Бог — это Бог справедливости, но его основной атрибут —
сострадание. Если говорить языком Талмуда, Бог— это Rachmana,
Сострадающий. Данная тема изучена в раввинской экзегезе. Почему
существуют два повествования, касающиеся творения? Потому что
«*■!*
323
Мудрость сострадания, мудрость любви
Вечное (названное в первом повествовании Elohim) возжелало
сначала — все это, конечно же, апология — создать мир, опираясь
только на справедливость, что оказалось невозможным. Второе
повествование ссылается на вмешательство сострадания.
— Стало быть, любовь изначальна?
— Любовь изначальна, но я говорю это отнюдь не только в
теологическом смысле. Я редко употребляю слово «любовь», оно затаскано
и многосмысленно и потому отдает жестокостью: такой любовью
можно управлять. В своей последней книге я пытаюсь вне всякой теологии
поставить вопрос о том, в какой момент мы слышим слово Божие. Оно
вписано в Лицо Другого, оно присутствует в момент встречи с Другим;
это — двойственный опыт слабости и требовательности.
Действительно ли это Слово Божие, спрашивающее с меня как с ответственного за
Другого? Здесь возможен выбор, поскольку чувство ответственности не
подлежит передаче. Ответственность, которую Вы передаете кому-то,
уже не ответственность. Я могу поставить себя на место любого
человека, но .никто не может заменить меня, и именно в этом смысле я
избран. Вернемся еще раз к цитате из Достоевского. Я всегда считал, что
избранность ни в коем случае не является привилегией. Она —
фундаментальная характеристика человеческой личности, обладающей
моральной ответственностью. Ответственность — это индивидуация, сам
принцип индивидуации. На место проблемы: «Человек
индивидуализируется благодаря материи либо форме», — я ставлю вопрос об
индивидуации через ответственность за Другого. Это довольно сурово: все,
что в такой морали связано с утешением, я оставляю религии.
— Принадлежит ли доброта религии?
— Когда мы признаем ответственность принципом человеческой
индивидуации, то к этому необходимо добавить, что именно Бог
помогает быть ответственным. Это и есть доброта. Но чтобы измерить
Божию помощь, надо без его вмешательства хотеть делать то, что надо
делать. Здесь для меня нет никакой теологии. Я говорю об этике, т. е.
о человеческом как таковом. Я полагаю, что нравственность не
является изобретением лишь людей белой расы, т. е. той
эволюционировавшей части человечества, которая в школе читает греческих авторов.
Единственная абсолютная ценность — это человеческая способность
отдавать «другому» приоритет над собой. Я не верю в существование
такого человечества, которое было бы готово отказаться от этого идеала,
и его следовало бы объявить идеалом святости. Я не говорю, что
человек— святой, но утверждаю: человек понял, что святость неоспорима.
Здесь — начало философии, это и есть рациональное,
интеллигибельное. Говоря так, не удаляемся ли мы от реальности? Нет, не удаляемся.
Будем всегда помнить о нашем отношении к книгам, — т.е. к
вдохновенному языку — свидетельствующем только об этом. Книга книг и вся
литература есть, вероятно, не что иное, как предчувствие Библии или на-
324
Э. Левинас. Философия, справедливость и любовь
поминание о ней. Мы можем с подозрением относиться к нашим
книгам, видеть в них результат графомании или лицедейства, забывая о
глубинности нашего отношения к книге. Книги есть у всего
человечества, хотя бы только — книги, созданные для книг: вдохновенный язык
поговорок и пословиц, басен и вообще фольклора. Человеческое
бытие не только в мире, оно не только in-der-Welt-Sein (бытие-в-мире), но
также и zum-Buch-Sein (бытие-к-книге), в отношении к вдохновенному
Слову, к этому столь же существенному для нашей жизни окружению,
что и улицы, дома, одежда. Несправедливо говорить о книге как о
чистом Zuhandenes (подручном), как о том, что всегда под рукой, как о
физическом предмете. Мое отношение к книге вовсе не прагматично: она
для меня не то же, что молоток или телефонный аппарат.
— Касаясь отношения между философией и религией, не считаете ли
Вы, что в истоке философии находится интуиция бытия, близкая религии?
— Поскольку я уверен, что отношение к Другому есть начало
интеллигибельное™, то я сказал бы, что не могу описать отношение к
Богу, не указывая на него как на того, кто вовлекает меня в это
отношение к Другому. Когда я беседую с христианином, то всегда
ссылаюсь на гл. 25 Евангелия от Матфея: отношение к Богу
представлено здесь как отношение к другому человеку. И это не метафора: Бог
реально присутствует в Другом. В моем отношении к Другому я
слышу Голос Божий. Это не метафора и не просто исключительно
важный момент, буквально — это истина. Я не говорю, что Другой есть
Бог, но в лице Другого я читаю Слово Божие.
— Речь идет о посреднике между Богом и нами?
— Нет, вовсе нет, это не посредничество, это — то, благодаря чему
звучит Слово Божие.
— И нет различия ?
— Ну, это уже область теологии!
— Каково отношение между Autre и Autrui?1
— Для меня Autrui — это другой человек. Хотите немного теологии?
В Ветхом Завете, как Вам известно, Бог спускается к людям. Бог-Отец
спускается к людям, и об этом говорится в Бытии (9; 5; 15), Числах (11;
17), Исходе (19; 18). Отец и Слово здесь нераздельны. Именно через
Слово, в форме нравственного закона, или закона любви, осуществляется
нисхождение Бога и от Лица Другого исходит заповедь, прерывающая
ход мира. Почему в присутствии Лица я чувствую себя ответственным?
Когда Каина спрашивают: «Где Авель, брат твой?», — он отвечает:
«Разве я сторож брату моему?» Лицо Другого — это образ среди многих
образов; Слово Божие, которое оно несет, остается неузнанным. Не
стоит принимать ответ Каина за насмешку над Богом, как не стоит считать
его чем-то вроде ответа ребенка: «Это не я, это другой». Ответ Каина
искренен. В его ответе нет морали, в нем — одна лишь онтология: я — это
я, а он — это он. Мы — онтологически разные вещества.
325
Мудрость сострадания, мудрость любви
— В этом отношении к Другому, как Вы уже сказали, сознание
теряет свой приоритет...
— Да, субъективность, будучи ответственностью, есть одновременно
и подчиненная субъективность; в некотором смысле гетерономия здесь
сильнее автономии, но гетерономия в данном случае не есть ни рабство,
ни закабаление; так же, как и определенные сугубо формальные
отношения, когда они наполняются содержанием, могут иметь более
основательный смысл, чем формальная необходимость, которую они
обозначают. Если Б находится в подчинении у Л, то это говорит о несвободе Б\
но если /> — это человек, а Л — Бог, то здесь нет подчинения, напроти-
в, это — призыв к человеку. Нет нужды в постоянной формализации:
Ницше полагал, что если Бог существует, то существование Я
невозможно. На первый взгляд бесспорно, что если А управляет Б, то Б уже
не автономно и нет более субъективности. Но если, размышляя, Вы не
остаетесь на формальной позиции, а исходите из содержания, то
ситуация, называемая гетерономией, приобретает совершенно иное
значение. Сознание ответственности сразу же связано с обязательством:
оно — не в именительном, оно, скорее, в винительном падеже. Оно
«призывно» (ordonné); слово ordonner во французском языке обладает
особым смыслом: приняв сан священника, человек становится
призванным, однако в действительности он наделяется определенной властью.
Слово ordonner означает одновременно «получить приказание» и «стать
посвященным». Именно последнее я имею в виду, когда говорю, что в
отношении к Другому приоритет уже не принадлежит сознанию или
субъективности. По моему мнению, сегодня существует оппозиция тем
концепциям современной философии, где имеется тенденция
рассматривать человека в качестве простого придатка или момента
онтологической рациональной системы, лишенного собственно человеческой
характеристики. Ведь даже у Хайдеггера Dasein в конечном счете — это
структура бытия вообще, довольствующегося своим «назначением
быть», или «актом и фактом бытия». Человеческое не исчерпывается
тем, что оно есть смысл бытия; человек — это существующий,
заключающий в себе бытие, и, как таковой, он есть проявление бытия; только
он один интересует философию. В некоторых структуралистских
концепциях выявляются правила, чистые формы, универсальные
структуры, совокупности, обладающие столь же холодной правильностью, что
и математические действия. И они управляют тем, что является
собственно человеческим. У Мерло-Понти есть превосходный текст, где он
анализирует способ, каким одна рука соприкасается с другой. Одна рука
сжимает другую руку; та рука сжимает эту; следовательно, рука
одновременно и сжимается другой рукой и сама ее сжимает2. Это — структура
отражения: все происходит так, как если бы посредством человека
пространство соприкасалось с самим собой. Знаменательна здесь, как
представляется, сама структура не-человеческого (не-гуманистического, не
326
Э. Левинас. Философия, справедливость и любовь
так ли?), где человек— всего лишь один из фрагментов. Тем же
недоверием к гуманизму пронизана в современной философии борьба с
понятием «субъект»: в этом случае стремятся отыскать принцип интелли-
гибельности, который больше не включал бы в себя человеческое,
стремятся, чтобы субъект сопрягался с принципом, чуждым заботе о
человеческой участи. Однако когда я говорю, что в отношении к Другому
сознание теряет свой приоритет, то имею в виду иное: хочу сказать,
напротив, что в понимаемом таким образом сознании речь идет о
пробуждении человечества. Сознательность человека вовсе не в его
возможностях, а в его ответственности, в сострадательном отношении к Другому, в
согласии с ним, в обязательстве перед ним; именно Другой первичен, и
здесь вопрос о моем суверенном сознании лишен приоритета. Я ратую —
и такою название одной из моих книг — за «Гуманизм другого человека»3.
Есть еще одна глубоко волнующая меня вещь. Утверждая приоритет
отношения к Другому, я порываю с традиционной (плотиновской)
идеей о совершенстве единства. Моя мысль заключается в том, чтобы
трактовать социальность независимо от идеи об «утраченном» единстве.
— Отсюда вытекает Ваша критика западной философии как эгологии?
— Да, именно как эгологии. Если Вы читали «Эннеады»4, то там
Единое не обладает самосознанием: если бы оно обладало
самосознанием, оно было бы уже множественно, оно утратило бы совершенство.
В познании нас всегда двое: даже если мы одиноки или заняты
самопознанием — это уже разрыв. Различные отношения, в какие могут
вступать человек или бытие, оцениваются, как правило, мерой их
приближения к единству или удаления от него. Но что такое отношение?
Что такое время? Разложение единства, утрата вечности. Во всех
религиях существуют теологи — и их множество, — считающие, что
добродетельная жизнь — это слияние с Богом, т. е. возвращение к единству.
В утверждении же отношения к Другому, в ответственности за
Другого речь идет о совершенстве социальности, если говорить на языке
теологии — о близости к Богу, о совместном бытии с Богом.
— В этом совершенство множественности?
— Да, это совершенство множественности, которое, конечно же,
можно понимать и как деградацию единого. Снова сошлюсь на
Библию: к сотворенному человеку обращен призыв: «Размножайся!» На
языке морали и религии это означает: тебе будет кого любить, ты не
сможешь жить только для себя. Мужчина и женщина были сотворены
одновременно, «...мужчину и женщину сотворил их» (Быт.: 1,27).
Однако для нас, европейцев, для Вас и для меня, всегда существенно
приближение к единству, главное для нас — это слияние. Говорят, будто
любовь и есть слияние, будто любовь празднует победу в слиянии. Ди-
отим же в «Пире» Платона говорит, что любовь как таковая — это
полубожество, поскольку она есть лишь разделение и желание Другого5.
— С этой точки зрения, каково различие между Эросом и Агапе?6
ЪП
Мудрость сострадания, мудрость любви
— Я вовсе не фрейдист, стало быть, я не считаю, что Агапе
вытекает из Эроса. Но я не отрицаю того, что сексуальность является
важной философской проблемой и что смысл разделения человеческого
на мужское и женское не сводится только к биологической основе.
Прежде я полагал, что инаковость связана с женским началом. На деле
же это весьма странная инаковость: женщина не противоположна
мужчине; женское не противостоит мужскому; это не похоже на другие
различия. Это не то же самое, что противоположность света и тени.
Различие здесь не случайно, и его основание надо искать, опираясь на
любовь. Сейчас я не могу высказаться подробнее; но как бы то ни
было, я думаю, что Эрос — этот совсем не Агапе, а Агапе — не
производное от Эроса и не является результатом его угасания. До Эроса было
Лицо; Эрос сам возможен только как отношение между Лицами.
Проблема Эроса — это философская проблема, и касается она вопроса об
инаковости. Тридцать лет назад я написал книгу «Время и Другой», где
признавал, что женское — это сама инаковость; я и теперь не
отказываюсь от этой мысли, но я никогда не был фрейдистом. В книге
«Тотальность и бесконечность»7 есть глава об Эросе, и в ней Эрос
описывается как любовь, которая превращается в наслаждение, в то время
как Агапе я оцениваю с точки зрения ответственности за Другого.
— Вы говорите, что «ответственность за Другого рождается по эту
сторону моей свободы». Это — проблематика пробуждения. Пробудиться —
значит осознать свою ответственность за Другого, осознать себя вечным
должником по эту сторону свободы. Пробудиться и ответствовать — это
одно и то же? Осознать себя должником — это и есть «ответствовать» ?
Иными словами, разве между «осознать себя» и «ответствовать» нет
акта свободы (возможность злого намерения, уклонения «от ответа»)?
— Здесь важно, что отношение к Другому есть пробуждение и
отрезвление, что пробуждение есть обязательство. Вы скажете мне: разве
этому обязательству не предшествует свободное решение? Для меня
существенно, что именно ответственность за Другого есть более изначальная
вовлеченность, чем прочие решения, самые памятные и
значительнейшие для человека. Очевидно также, что человек может и не
пробудиться навстречу Другому, что он способен и на зло. Зло просто-напросто
свойственно бытию, движение же к Другому означает, напротив,
прорыв человеческого в бытие, «инобытие». Я вовсе не уверен в том, что
«инобытию» обеспечено триумфальное шествие; могут наступить такие
времена, когда человеческое полностью угаснет; однако человечество
дало бытию идеал святости. Идеал святости вступает в противоречие с
законами бытия. Действия и взаимодействия, возмещение растраченных
сил, восстановление равновесия вопреки войнам и «жестокостям»,
которые скрываются за нашими равнодушными словами, вещающими о
справедливости, — таков закон бытия. Он действует бесстрастно,
неукоснительно, без срывов. Таков порядок бытия. Я не питаю никаких
328
Э. Левинас. Философия, справедливость и любовь
иллюзий на этот счет, так уже не раз было, и это может повториться.
Человечество познало сближение, но эта связь может оборваться. Оно
создало политический порядок, где законы бытия могут вновь
возобладать. У меня нет никаких иллюзий насчет будущего. Я не исповедую
оптимистическую философию, говорящую о цели истории. Религии,
вероятно, известно, что будет дальше. Человеку же надлежит
действовать вопреки угрожающим ему опасностям. Это и есть пробуждение
человеческого. Ведь в истории были и праведники, и святые.
— В бытии есть также и инертные силы, и они могут помешать
человеку пробудиться и ответствовать Другому?
— Инертность, разумеется, является мощным законом,
действующим в бытии. Но в том же бытии возникло человеческое, значит оно
смогло сломать инертность. Надолго ли? На мгновенье? Человеческое —
это «скандал» в бытии, для реалистов оно — «болезнь» бытия, но не зло.
— Безумие креста?
— Да, наверное. Если хотите, это соответствует только что
высказанной мной мысли, сходные идеи есть и в иудейском мышлении, и в
самой истории еврейского народа. Мысль о кризисе бытия, я считаю,
касается чего-то специфически человеческого и точно совпадает с
пророчествами. В самой структуре пророчества открывается
временность, порывающая с «косностью» бытия, с вечностью, понимаемой
как непреходящее настоящее.
— Это — открытие времени ?
— Да, время существует, и его, конечно, можно постичь, исходя из
того, что предстает, из настоящего, где прошлое — не что иное, как
удержанное настоящее, а будущее — грядущее настоящее. Тогда пред-ставле-
ние становится фундаментальной модальностью мышления. Однако
исходя из нравственного отношения к Другому, я предвижу временность,
где прошлое и будущее обретут собственное значение. В моем
ответственном отношении к Другому прошлое Другого, которое никогда не было
моим настоящим, «касается» меня, оно не является для меня и пред-став-
лением. Прошлое Другого и в некотором роде вся история человечества,
к которой я никогда не принадлежал, в которой никогда не
присутствовал, в моем ответственном отношении к Другому становится моим
прошлым. Что касается будущего, оно не является предвосхищением того
настоящего, которое, совсем готовое, поджидает меня как неустранимый
закон бытия, так, словно оно уже наступило, а временность — это всего
лишь совпадение времен. Будущее — это время про-рочества, которое
является также императивом, нравственным законом, посланником
вдохновения. Будущее — это отнюдь не то, что просто-напросто наступит.
Именно эту мысль я попытался изложить в работе, которая вскоре
увидит свет. Бесконечность времени меня не страшит, она, я уверен, есть
движение к Богу; но я также уверен, что конкретное время лучше
вечности, обостряющей, идеализирующей «настоящее»...
329
Мудрость сострадания, мудрость любви
U.C. Вдовина
«Философия - это мудрость сострадания»
Известный философ современности Эмманюэль Левинас (1906-1995) —
автор большого числа работ, посвященных анализу этической
проблематики с позиций феноменологии и экзистенциализма. Левинасу близки
также взгляды А. Бергсона, Ж. Валя, В. Янкелевича, А. де Веланса на
специфику человеческого существования. Вместе с тем свою
экзистенциально-феноменологическую концепцию Левинас строит на религиозной
основе иудеохристианского содержания; она в целом созвучна идеям
«диалогической философии» М. Бубера, Ф. Розенцвейга, Г. Марселя.
Большое влияние на формирование Левинаса как философа оказала
русская классическая литература — произведения Пушкина, Гоголя,
Л. Толстого, Тургенева и — особенно — Достоевского. Глубинным
мотивом левинасовской философии является его
субъективно-личностный протест против тоталитарной системы фашизма, все ужасы
которой мыслитель испытал на себе в качестве узника нацистского
концлагеря.
Уже в конце 20-х годов Левинас, прослушав курс лекций Гуссерля,
выступил с идеей «дополнить феноменологию понятием
существования», использовать феноменологический метод при исследовании
различных сфер человеческого опыта, и прежде всего морального.
Левинас, таким образом, увидел в феноменологии дисциплину этическую,
где обосновывается позиция человека по отношению к собственному
существованию, которое неразрывно связано с существованием
другого человека, человеческого сообщества в целом.
Наиболее перспективной из феноменологических идей Левинас
признает мысль об интенциональности сознания. При этом Левинас,
интерпретируя понятие интенциональности, освобождает его от
«конкретного залога» — объекта, предмета и т.п. и источник
одухотворяющей силы интенциональной жизни видит в обращенности человека к
другой субъективности, наделенной не только теоретическим
сознанием, но и полнотою душевной жизни. Так проблема «другого»
становится центральной в феноменологическом учении Левинаса.
Вслед за Шелером и Хайдеггером он распространяет интенцио-
нальный анализ на духовно-эмоциональную жизнь индивида,
считая такие внутренние переживания человека, как забота,
беспокойство, тревога, осмысление смерти («состояния души» у Хайдеггера),
суверенной сферой феноменологии. Здесь Левинас опирается
также на идеи позднего Гуссерля — его феноменологическую
психологию, исходным пунктом которой является непосредственно
практическая жизнь, зафиксированная в понятиях «жизненный мир»,
«интерсубъективность» и др.
330
И.С, Вдовина. »Философия — это мудрость сострадания»
В понятии интенциональности, по Левинасу, резюмируется
духовно значимая работа, и, чтобы увидеть истинный смысл того или
иного объекта, надо учесть по возможности все аспекты этой работы. Речь
идет о том, пишет философ, чтобы «поместить объект в совокупность
духовной жизни», во все ее «горизонты» и «выразить мир в понятиях
субъективного опыта». Тогда истина будет не в созерцании или
познании реальности — она станет способом бытия, «располагающего
реальность в соответствии со смыслом, какой она имеет для субъекта».
Заслугу экзистенциалистской философии феноменолог Левинас
видит в том, что она сумела вывести философское мышление за
пределы субъект-объектных отношений, представив субъект и объект в
качестве полюсов интенциональной жизни, но не ее содержанием, и
тем самым превратила феноменологический метод в метафизический.
Философы-экзистенциалисты, используя гуссерлевское понятие
интенциональности, поставили вопрос о «транзитивности»
существования. Так же как в феноменологии мышление есть мышление о чем-то,
так, согласно экзистенциализму, глагол «быть» всегда сопровождается
прямым дополнением: я есть мое страдание, я есть мое прошлое, я есть
мой мир. Акт существования благодаря экзистенциализму
понимается как интенция. Такую трактовку существования Левинас находит
уже у Бергсона: бергсоновское понятие жизни, или длительности, не
сводимое к линейному времени, считает он, «буквально
скалькировано с транзитивности мышления».
Развивая экзистенциалистскую трактовку идеи
интенциональности (трансцендирования) и связывая ее с понятием смысла, Левинас
стремится найти новый, по сравнению с предшествующей
философией, предел трансцендирующей активности субъекта. Последняя,
по его мнению, не выводится из отношения человека к бытию, даже
если трактуется как открытость человеческого сознания миру, как его
способность к творческому мышлению, как преодоление данного,
выход за пределы наличного и т.п.
Подлинно человеческую способность к трансцендированию
Левинас обнаруживает не в отношении человека к миру (хотя в этом
отношении она проявляется), а в опыте общения с другим человеком,
с иной субъективностью, нежели его собственная. Трансценденция,
по мнению французского феноменолога, неразрывно связана с
человеческой субъективностью, в которой раскрываются новые
отношения, отличные от тех, какие объединяют человека с бытием.
В отношении одной субъективности к другой Левинас находит
пафос, какого, по его убеждению, никакая онтология содержать в себе
не может. Пафос этот направлен за пределы бытия, для другого. Как
пишет известный французский историк философии Ж. Валь, «мысль
Левинаса направлена на бытие, скорее — против бытия, поскольку он
признает превосходство существующего над бытием...» «Освобожде-
331
Мудрость сострадания, мудрость любви
ние» от бытия является для Левинаса синонимом
«незаинтересованного» отношения одного человека к другому.
Человеческое общение, по Левинасу, — это «близость близкого»,
способность человека сопереживать другому, делить с ним его печали,
тревожиться его тревогами, остро реагировать, если его травят, наносят
оскорбления, попирают его права. Такой опыт возможен благодаря
изначальной способности человека встать на место другого, заменить его.
Близость как основа человеческого общения есть непосредственное
отношение двух своеобразных субъективностей, она возникает
естественно и абсолютно пассивно и предшествует вовлечению, она более
прошлая, чем любое a priori. Близость не только не сводится к сознанию, но
«пересекает сознание против его течения», «вписывается в него как
чуждое ему свойство». Французский феноменолог определяет чувство
близости как метаонтологическую и металогическую страсть, которой
сознание захвачено до того, как оно становится образным и понятийным.
На уровне изначального опыта близости различие между «Я» и
«Другим» конституируется как отношение один-для-другого, и
именно оно является метафизической способностью трансцендиро-
вания: «Это не мысль о... а мысль для...». Из первоначального
опыта близости, не поддающегося никакому контролю, Левинас
выводит практику и познавательную деятельность, мир культуры вообще.
Один-для-другого — так французский феноменолог формулирует
проблему трансценденции, определяя ее как высшую способность и
отличительный пафос человеческой субъективности, а этику— как
«дело человеческое, и только Человеческое». Именно на этой
основе, по мысли Левинаса, возникает философия, которая есть
«мудрость сострадания», «мудрость любви».
Примечания
Беседа с Эмманюэлем Левинасом. Philosophie, justice et amour. Entretien avec
Emmanuel Levinas// Espprit. N 8-9. 1983. P. 8-17.
1 Э. Левинас употребляет как равнозначные по смыслу прилагательное autre
(другой, иной) и местоимение autrui (другой).
2 См.: Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 131-132.
3 Levinas Е. Humanisme de l'autre homme. P., 1972 (русск. перевод: Левинас Э.
Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1998. — Прим. пер.
4 «Эннеады» — книга трактатов Плотина (204-270), римского
философа-платоника, основателя неоплатонизма. — Прим. пер.
5 См.: Платон. Пир. 20ld — 212b.
6 Агапе (греч.) — любовь в широком смысле слова, жертвенная любовь к
ближнему.
7 Levinas Е. Totalité et l'infini. P., 1961.
332
Незавершенное, нерешенное
Теодор Адорно
Актуальность философии
Тот, кто сегодня останавливает свой выбор на философском труде
как на профессии, должен прежде всего отказаться от иллюзии,
которая всегда питала философские проекты: будто мышление
способно познать тотальность действительного1. Никакой оправдывающий
все и вся разум не может более обнаружить себя в действительности,
порядок и образ которой отвергает любые его притязания. Только в
полемике эта действительность открывается познающему целостной,
на деле же, пребывающая в развалинах и руинах, она дает мало
надежды на то, что станет когда-нибудь праведной и справедливой.
Философия, которая уже сегодня видит действительность таковой,
окутывает ее туманом и оправдывает ее наличное состояние2. Подобная
функция философии подразумевается самим вопросом, который
сегодня называют радикальным и который все же есть самый
нерадикальный: вопросом о бытии — как его выразительно формулируют
новые онтологические проекты3, и он, несмотря на все оговорки,
лежит в основе идеалистических систем, хотя эти проекты
предполагают их преодолеть4. Этот вопрос подразумевает, что бытие вообще
соразмерно и подвластно мышлению, что идея сущего познаваема. Но
соразмерность мышления бытию как целостности нарушается, и
поэтому идея самого сущего становится непознаваемой: она могла бы
сиять ясной звездой только над «округлой», замкнутой
действительностью и, возможно, во все времена витала перед человеческим
взором, с тех пор как за образы нашей жизни поручается история. Но
сегодня философская идея бытия потеряла былую силу: это не более
чем пустой, формальный принцип, архаический сан которого
позволяет облагородить любое содержание. Нельзя уже полноту
действительности как целостности приписать идее бытия, придающей смысл
этой действительности, и нельзя также смонтировать идею сущего из
элементов. Она утрачена для философии вместе с ее претензией на
целостность действительного.
Об этом свидетельствует сама история философии. Кризис
идеализма равнозначен кризису философской претензии на целостность.
Автономный рацио — и это составляло главный тезис всех идеалис-
335
Незавершенное, нерешенное
тических систем — должен был развить понятие действительности и
саму действительность исходя из самого себя. Этот тезис можно
считать снятым. Неокантианство Марбургской школы, которая, строго
говоря, пыталась добыть содержание действительности из логических
категорий, обнаружило свою систематическую завершенность, из-за
чего утратило всякое право на действительность и замуровало себя в
формализмах, откуда любое содержательное определение спасается
бегством в призрачный конечный пункт бесконечного процесса3.
Философия жизни Зиммеля, с ее психологической и иррационалис-
тической ориентацией, в пределах идеализма противоположная
Марбургской школе, сохранила, правда, контакт с действительностью, но
утратила всякую способность к толкованию неустранимой эмпирии
и удовлетворилась слепым, темным, природным понятием
жизненного, которое она безуспешно пыталась возвысить до неясной мнимой
трансценденции сверхжизни6. Наконец, юго-западная школа Риккер-
та, примиряющая крайности, надеялась обрести в ценностях более
конкретные и удобные философские масштабы, чем те, которыми
обладали марбуржцы, и разработала метод, удерживающий эмпирию
в сомнительных отношениях с этими ценностями. К тому же
координаты и происхождение ценностей оставались неопределенными; они
располагались где-то между логической необходимостью и
психологической множественностью, ни к чему не обязывающие в
действительности, непроницаемые в духовном плане, мнимая онтология,
которая так же избегала вопроса: «Откуда — ценности?», как и
вопроса: «Для чего— ценности?». В стороне от грандиозных проектов
идеалистической философии трудились научные философии: с
самого начала презрев основной вопрос идеализма о сознании
действительности, они действовали исключительно в рамках пропедевтики
конкретных наук, в особенности естествознания, и надеялись
обрести твердую почву в данностях, будь то данности сознания или
конкретно-научного исследования. Утратив связь с историческими
проблемами философии, они упустили из виду, что их собственные
утверждения во всех своих предпосылках тесно сплетены с
историческими проблемами и проблемной историей и не могут быть
решены независимо от них7.
В этой ситуации выявилось усилие философского духа, которое
обрело имя феноменологии: достигнуть сверхсубъективного связного
порядка бытия, расправившись с идеалистической системой, но
продолжая использовать инструмент идеализма, автономный рацио.
Глубочайший парадокс всех феноменологических интенций заключается
в том, что посредством категорий посткартезианского субъективного
мышления они надеются овладеть той объективностью, которой эти
интенции в своих истоках противоречат. То, что феноменология
Гуссерля берет свое начало именно в трансцендентальном идеализме,
336
Т. Адорно. Актуальность философии
вовсе не случайность, и поздние феноменологии могут тем менее
отрицать этот первоисток, чем более они пытаются его скрыть.
Собственно, продуктивное открытие Гуссерля... — более важное, чем
оказавший чисто внешнее влияние метод «усмотрения сущности» —
состоит в том, что он познал и обогатил понятие невыводимой
данности, как его выработали позитивистские направления, в его
значении для фундаментальной проблемы соотношения разума и
действительности. Он отверг психологическое понятие первоначального
созерцания и в разработке дескриптивного метода вернул философии
надежность точного анализа, которую она давно отдала на откуп
конкретным наукам. Но нельзя не заметить (и то, что Гуссерль этого не
скрывал, свидетельствует о чистосердечной откровенности
мыслителя), что гуссерлевские анализы данностей в своей совокупности все
еще принадлежат к неясно выраженной системе
трансцендентального идеализма, идею которого в конечном итоге сформулировал
именно он. Приговор разума признается последней инстанцией в
отношениях разума и действительности, и все гуссерлевские дескрипции
пребывают в пределах этого разума. Гуссерль избавил идеализм от
крайних спекуляций и привел его к величайшей, доступной для него,
мере реальности. Но он не взорвал этот идеализм. В царстве
Гуссерля, как и у Когена и Наторпа, господствует автономный дух; правда,
Гуссерль отказался от притязаний на продуктивную силу духа,
притязаний кантовской и фихтевской спонтанности и довольствовался
(как и Кант) тем, что стремился овладеть сферой, доступной духу8.
Для традиционного понимания истории философии последних 30 лет
это самоудовлетворение гуссерлевской феноменологии выглядит как
благоразумие, т.е. как начало пути, который, в конце концов, привел
к осуществлению порядка бытия, формально содержащегося в гус-
серлевском описании ноэтически-ноэматического отношения. Я
должен решительно опровергнуть эту точку зрения. Переход к
«материальной феноменологии» был совершен только по видимости и с той
степенью надежности, которую обеспечивала именно правовая
основа феноменологического метода. Когда в дальнейшем у Макса Шеле-
ра вечные основополагающие истины пришли в движение, чтобы в
итоге из-за бессилия своей трансценденции оказаться изгнанными,
то можно было, конечно, усмотреть в этом натиск нескончаемо
вопрошающего мышления, которое только в переходе от заблуждения к
заблуждению и становится относительной истиной. Но загадочное и
волнующее развитие Шелера можно, пожалуй, точнее понять сквозь
призму категории индивидуальной духовной судьбы. Она же
свидетельствует, что переход феноменологии из формально-идеалистического в
материальный и объективный регион не может пройти бесследно и
не вызвать сомнений и что образы надысторической истины,
которые эта философия когда-то беспрекословно спроецировала в под-
00 _ Я43А
337
Незавершенное, нерешенное
тверждение замкнутого католического учения, оказываются
неясными и неустойчивыми, когда они разыскиваются именно в той
действительности, понимание которой как раз исключает программу
«материальной феноменологии». Мне кажется, что последний
поворот Шелера наименее правомочен, поскольку прыжок от вечных
идей к действительности — во избежание его феноменология и
вышла в материальную сферу — признается только
материально-метафизически и действительность передоверяется слепому «давлению»,
отношение которого к небу идей остается темным и проблематичным,
и надежда почти исчезает. У Шелера материальная феноменология
диалектически сама себя снимает: от ее онтологического проекта
остается только неприкрытая метафизика насилия; предельная
вечность, которой располагает его философия, есть безграничная и
необузданная динамика. В аспекте этой самоотмены феноменологии
учение Мартина Хайдеггера представляется также иначе, чем это
кажется сначала. Место вопроса об объективных идеях и объективном
бытии у Хайдеггера, по крайней мере в опубликованных сочинениях,
занимают субъективные идеи; требование материальной онтологии
редуцируется к субъективности, и в ее глубинах изыскивается то, что
не было обнаружено в открытой и полной действительности. Отнюдь
не случайно и в философско-историческом смысле, что Хайдеггер
поддержал именно последний проект субъективной онтологии,
выдвинутый западноевропейским мышлением: экзистенциальную
философию Серена Киркегора9. Но проект Киркегора обнаружил свою
иллюзорность. Прочно обоснованное в субъективности бытие
оказалось не в состоянии осуществить неутомимую киркегоровскую
диалектику; последняя истина, которая ей открылась, была истина
отчаяния, и субъективность распадалась; объективное сомнение своими
заклинаниями превращает проект бытия, основанного на
субъективности, в проект ада; из этого ада нельзя спастись иначе, как через
«прыжок» в трансценденцию, которая, однако, являет себя
неподлинным, бессодержательным субъективным мыслительным актом и
находит свое высочайшее оправдание в том парадоксе, что здесь
субъективный дух вынужден пожертвовать самим собой и, чтобы
возродить веру, черпает свое содержание случайным для объективности
образом— исключительно в слове Библии10. Только провозглашая
принципиально недиалектическую и додиалектическую
«прирученную» действительность, Хайдеггер смог избежать подобных выводов.
Прыжок и диалектическое отрицание в субъективном бытии и у
него не имели никакого оправдания: только анализ феноменов, в
котором удерживалась связь Хайдеггера с феноменологией и
утверждалось принципиальное отличие от идеалистической спекуляции,
жертвуя субъективностью духа, наложил запрет на трансценденцию веры
и ее спонтанного схватывания и вместо этого признал единственной
338
Т. Адорно. Актуальность философии
трансценденцией витальное «так-бытие», слепое и темное: бытие к
смерти. С хайдеггеровской метафизикой смерти феноменология
скрепила печатью развитие, которое начал Шелер учением о
натиске. Нельзя умолчать и о том, что таким образом получил завершение
витализм, о котором феноменология возвестила у самых своих
истоков. Трансценденция смерти у Зиммеля отличается от
хайдеггеровской только тем, что она облачена в психологические категории там,
где Хайдеггер использует онтологические; но по сути — именно в
анализе феномена страха — какое-либо различение здесь
совершенно невозможно. С этим пониманием перехода феноменологии в
витализм согласуется то, что Хайдеггер смог избежать второй
неотвратимой для феноменологической онтологии угрозы — со стороны
историзма: он онтологизировал само время, принял его в качестве
составляющей сущности человека; в результате стремление
материальной феноменологии отыскать вечное в человеке парадоксальным
образом себя снимает: в ранге вечности пребывает только время.
Онтологическому притязанию удовлетворяют исключительно
категории, посредством безраздельного господства которых феноменология
намеревалась освободить мышление: откровенная субъективность и
лишенная покровов временность. С понятием «заброшенность»,
которое преподносится как предельное условие человеческого бытия,
жизнь становится до такой степени слепой и бессмысленной, как это
было только в философии жизни, и смерть придает ей не так уж
много позитивного смысла и там, и здесь11. Притязание мышления на
тотальность адресуется самому мышлению и, в конце концов, там и
терпит крах. Возникает потребность осознать ограниченность хайдег-
геровских экзистенциальных категорий заброшенности, страха и
смерти, которые ни в коей мере не могут исчерпать полноты
живущего: чистое понятие жизни взрывает хайдеггеровский онтологический
проект. Во второй раз философия беспомощно останавливается перед
вопросом о бытии. Она так же бессильна описать бытие в качестве
фундаментального и своеобразного, как прежде была бессильна
вывести его из самой себя.
Я коснулся новейшей истории философии не для того, чтобы
описать общую духовно-историческую ситуацию, но потому, что только
в историческом переплетении вопросов и ответов приоткрывается
вопрос об актуальности философии12. А именно — актуальна ли
вообще сама философия после краха неявных устремлений к большим и
тотальным системам? Под актуальностью понимается при этом не ее
смутная «способность платить или не-платить по счету» на основе
разрозненных представлений о духовной ситуации эпохи, но, скорее,
следующее: существует ли еще после провала последних грандиозных
усилий соразмерность между философскими вопросами и
возможностью ответа на них? Не является ли собственным результатом новей-
22*
339
Незавершенное, нерешенное
шей истории принципиальная невозможность ответить на
кардинальные философские вопросы? Сказанное следует понимать не
риторически, но буквально: каждый философ, который обеспокоен сегодня
истиной, а не надежным сохранением существующего духовного и
общественного состояния, встречается с опасностью ликвидации
самой философии13. Этим была серьезно озабочена и наука, особенно
логическая и математическая; эта серьезность имела свое оправдание
в том, что долгое время конкретные науки, в том числе
математическое естествознание, не решались самостоятельно разрабатывать свой
понятийный аппарат, доверяясь идеалистическим теориям познания
и безропотно присоединяясь к их критике познания. С помощью
акцентированного познавательно-критического метода это подхватила
прогрессирующая логика — я имею в виду Венскую школу, которая
шла от Шлика и сегодня поддерживается и развивается Карнапом и
Дубиславом и действует в тесном контакте с Расселом — оправдывать
в конечном счете все подлинное, развивающееся знание опытом и все
предложения, которые каким-то образом выходят за пределы его
отношений, сводить к тавтологиям. Сообразно с этим кантовский вопрос о
возможности синтетических суждений a priori был бы совершенно
беспредметным, поскольку таких суждений вообще нет. Любое нарушение
границ верифицируемого опыта наказуемо; философия получает статус
исключительно упорядочивающей и контролирующей инстанции
конкретных наук, не будучи в состоянии добавить к естественнонаучным
данным что-либо существенное. К идеалу такой безоговорочно
научной философии — не только для Венской школы, но и для любой
позиции, которая могла бы защитить философию от притязаний на
исключительную научность, — присоединяется, как добавление и
приложение, понятие философской поэзии, чье безразличие по
отношению к истине сопровождается враждебностью к искусству и
эстетической неразборчивостью; лучше уж окончательно ликвидировать
философию и изгнать ее из сферы конкретных наук, чем спешить к ней
на помощь с поэтическим идеалом, который представляет собой лишь
скверно «украшенное» одеяние фальшивых мыслей14.
Нужно сказать, что все-таки тезис о принципиальной
разрешимости всех фундаментальных философских вопросов в конкретных науках
сегодня никоим образом не утверждается без каких-либо сомнений, что
он философски не так беспредпосылочен, как сам себя преподносит. Я
напомню только о двух проблемах, которые невозможно разрешить,
руководствуясь этим тезисом: одна — проблема смысла самой «данности»,
фундаментальной категории всего эмпиризма, для которого всегда
остается открытым вопрос о соответствующем субъекте, вопрос,
побуждающий к ответу с точки зрения философии истории, потому что
субъект данности не является идентичным, трансцендентальным,
выведенным за скобки истории, но принимает соответственно истории
340
Т. Адорно. Актуальность философии
образы меняющиеся и исторически определенные. Эта проблема в
рамках эмпириокритицизма, в том числе современного, вообще не
была поставлена— здесь лишь наивно заимствовался кантовский
исходный пункт. Другая проблема эмпириокритицизму известна, но
решена произвольно и без требуемой логической строгости: это
проблема другого сознания, «другого Я», которое открывается для эмпиризма
исключительно через аналогию и может обосновываться задним
числом на основе собственных переживаний; и это в то время, как эмпи-
риокритический метод уже в языке, которым он оперирует, и
благодаря постулату верифицируемости необходимо предполагает другое
сознание. Только постановкой этих двух проблем учение Венской
школы вступает в то философское пространство, от которого оно
хотело бы держаться подальше. Однако сказанное не отрицает
чрезвычайной важности этой школы. Я усматриваю ее значение не в том, как
осуществился задуманный ею спроектированный перенос философии
в науку, а в том, что она бескомпромиссно определила научный
характер философии и тем самым обозначила контуры того, что в
философии подчиняется другим инстанциям, нежели логические и
естественнонаучные. Философия не превращается в науку, но под натиском
эмпиризма изгоняет все те постановки вопросов, которые, будучи
специфически научными, подлежат юрисдикции отдельных наук и лишь
затуманивают философские проблемы. Я не хочу сказать, будто
философия прерывает или ослабляет контакты с отдельными науками.
Совсем наоборот. Материальная полнота и конкретность философским
проблемам придается только благодаря тем или иным состояниям
конкретных наук. Философия ставит себя выше отдельных наук не
потому, что воспринимает их «результаты» как готовые и размышляет о
них, сохраняя дистанцию по отношению к ним. Философские
проблемы — и это в известном смысле неизбежно — разрешаются в опреде-
леннейших конкретно-научных вопросах. Философия отличается от
науки не более высокой степенью всеобщности, как это утверждает
еще сегодня банальное мнение. И не абстрактностью категорий. И не
качеством материала. Различие заключается, скорее, в другом: в том,
что конкретная наука воспринимает свои глубочайшие и предельные
основания в виде неразложимых и неизменных, в то время как
философия уже первое встречающееся ей состояние понимает как знак,
который ей надлежит разгадать. Проще говоря, идея науки есть
исследование, идея философии — толкование (Deutung)15. При этом остается
мучительный, возможно, неизменно сохраняющийся парадокс:
философия постоянно должна истолковывать, претендуя на истину, но она
не обладает надежным ключом толкования; ей не доступно ничто,
кроме мимолетных, исчезающих намеков, проступающих в
загадочных фигурах сущего и их причудливых переплетениях. История
философии есть история именно таких переплетений; поэтому-то она
341
Незавершенное, нерешенное
выдает так мало «результатов» и должна постоянно начинать все
заново; поэтому-то она не может обойтись без помощи наитончайшей
нити, которую прядет старина и которая, может быть, дает
возможность превратить шифр в текст. Но нельзя никоим образом связывать
идею толкования с проблемой «смысла», хотя в большинстве
случаев их путают. Во-первых, это не задача философии — «выдавать»
такой позитивный смысл, изображать действительность «полной
смысла» и оправдывать ее. Любое такое оправдание сущего запрещается
разорванностью самого бытия. Если наши образы восприятия могут
стать фигурами (констелляции. — Г. С), то мир, в котором мы
живем и который конституируется вовсе не из непосредственных
образов восприятия, не есть это сущее. Текст, который должна читать
философия, — неполный, противоречивый, прерывистый, и во
многом здесь повинна слепая демония; поэтому, может быть, именно
такое чтение является нашей задачей, именно в таком чтении мы
сможем лучше познать демонические силы, чтобы их изгнать. И далее,
идея толкования не требует признания второго, «заднего» плана
бытия, который открывается будто бы посредством анализа
являющегося. Дуализм интеллигибельного и эмпирического,
зафиксированный Кантом и в послекантовской перспективе апеллирующий
к Платону, небосклон идей которого неизменно проникнут этим
духом, — этот дуализм свойствен, скорее, идее исследования, чем
толкования, — идее исследования, которая предполагает сведение
исследуемого вопроса к данным и известным элементам, не
содержащим ничего, кроме ответа.
Кто толкует таким образом, что за феноменальным миром ищет
мир в себе, лежащий в основе первого и «подпирающий» его, тот
ведет себя так, как будто в загадке хочет найти копию бытия,
лежащего в основе загадки и отражаемого ею; в то время как разрешение
загадки возможно, лишь когда ее содержание молниеносно освещается
и исчезает, не застывая где-то «позади» и не отождествляясь с этим
скрытым планом16. Подлинное философское толкование не задается
целью познать готовый, застывший смысл, лежащий позади вопроса,
но как бы заливает светом сам вопрос и тут же его рассеивает. И как
разрешения загадок появляются, когда единичные и рассеянные
элементы вопроса приводятся в различные сочетания, пока не образуют
фигуру, в которой выявляется разгадка и вопрос исчезает, — так и
философия сочетает свои элементы, воспринятые у науки, в
меняющихся констелляциях, или, чтобы выразить это в менее
астрологических и научно актуализированных терминах, — в меняющихся пробных
конфигурациях, пока они не образуют фигуру, которая читается как
ответ, а вопрос исчезает17. Задача философии заключается не в том,
чтобы исследовать скрытые и наличные интенции действительности,
точное оформление которой есть задача науки (см.: Benjamin W.
342
Т. Адорно. Актуальность философии
Ursprung der deutschen Trauerspiel. Berlin, 1928. S. 9-44, особенно § 21
и § 33)1S; задача философии непременно связана с такими трудными
вопросами, в ответе на которые только и может заявить о себе ее все
освещающая способность. Можно усмотреть здесь на первый взгляд
удивительную и поразительную близость между толкующей
философией и тем способом мышления, который самым решительным
образом отклоняет представления об интенциальном характере
действительности, — материализмом19. Толкование того, что не обладает
интенциальностью, посредством сопоставления аналитически
изолированных элементов и прояснения действительного в результате
такого толкования — это и есть программа любого подлинно
материалистического познания, программа, которой материалистический
опыт следует тем точнее, чем дальше он отходит от какого-либо
«смысла» своих предметов и чем менее относит самого себя к
имплицитному, а именно религиозному, смыслу. Потому что толкование
уже давно отмежевалось от вопроса о смысле, или, что то же самое,
символы философии ныне обречены. Если философия призвана
побуждать к отказу от вопроса о тотальности, это прежде всего
означает, что она не должна действовать исходя из символической функции,
посредством которой до сих пор, по крайней мере в идеализме,
особенное как бы репрезентировало всеобщее; она должна отдавать на
произвол судьбы грандиозные проблемы, величие которых
определялось их поручительством за тотальность, в то время как толкование
располагается между сложными узлами больших проблем20. Если такое
истинное толкование осуществляется исключительно посредством
сочетания мельчайшего, то оно не принимает никакого участия в важном
шествии значительных в традиционном смысле проблем или
действует только таким образом, что «прикрепляет» их к конкретному
состоянию, которое прежде те проблемы репрезентировало символически.
Создание конструкции малых и безынтенциальных элементов
причисляется, таким образом, к основополагающим предпосылкам
философского толкования; поворот к «осадкам мира явлений», который
провозглашал Фрейд, обретает ценность вне психоанализа, в виде
поворота прогрессирующей социальной философии к экономике —
не столько из соображений ее эмпирического преимущества,
сколько из имманентного требования обратиться к самому философскому
толкованию. Если бы философия сегодня вопрошала об абсолютном
отношении вещи в себе и явления или, выражаясь более
совершенно, о смысле бытия вообще — она либо стала бы формально
необязательной, либо распалась бы на множество возможных и
произвольных мировоззренческих позиций. Предположим все же — я даю в
качестве мысленного эксперимента пример, не настаивая на его
реальной осуществимости, — предположим, что имеется возможность
так сгруппировать элементы социального анализа, что их связь обра-
343
Незавершенное, нерешенное
зует фигуру, в которой любой единичный момент снимается, фигуру,
которую, разумеется, не находят готовой, но которая подлежит
созиданию: товарная форма. Этим, правда, не была бы разрешена
проблема вещи в себе. Но она не разрешается и в том случае, когда
определяются социальные условия, при которых она обнаруживается, как на
это надеялся еще Лукач21, потому что истинное содержание
проблемы принципиально отличается от исторических и психологических
условий, из которых она вырастает. Однако возможно, что при
удовлетворительной конструкции товарной формы проблема вещи-в-
себе вообще улетучилась бы, что историческая
(сконструированная. — Г. С.) фигура товара и стоимостного обмена оказалась бы
подобной источнику света, освещающему образ действительности,
скрытым смыслом которой была бы тщетно искомая вещь-в-себе,
потому что действительность не имеет никакого «заднего плана»,
отделенного от ее однократного и первичного исторического явления. Я не
хотел бы здесь настаивать на каких-то материальных утверждениях, но
только хотел бы наметить направление, позволяющее определить
задачи философского толкования. Если эти задачи будут верно
сформулированы, то обозначатся предпосылки для решения принципиальных
философских вопросов, явной постановки которых я хотел бы пока
избежать. Функция, связывавшая традиционный философский
вопрос с внеисторическими и символическими идеалами, реализуется
исторически и несимволически. В результате можно принципиально
иначе осмыслить отношение онтологии и истории — не онтологизи-
руя с помощью искусственных приемов историю как тотальность в
виде откровенной историчности, устраняя всякое специфическое
напряжение между толкованием и предметом и возрождая
замаскированный историзм.
Согласно моему пониманию, история не была бы больше сценой,
где вступают в игру идеи, самостоятельно себя снимающие и
исчезающие, но роль идей выполняли бы сами исторические образы, и их
связь без интенции составляла бы истину, тогда как прежде истина
выступала интенцией истории22. Однако я определенным образом
компрометирую здесь понятие, потому что нигде всеобщие высказывания
не бывают столь сомнительными, как в философии, которая
намерена из самой себя вывести абстрактные и всеобщие положения и для
которой важны исключительно их движения. Вместо этого я хотел бы
обозначить вторую существенную связь толкующей философии и
материализма. Я сказал, что решение загадки не есть ее «смысл» и оба
они могли бы существовать самостоятельно; что ответ хотя и
содержится в загадке, но находится в строгой оппозиции к ней, что
решение предполагает создание композиции из элементов загадки,
которая не нагружена смыслом, но бессмысленна до тех пор, пока не
обнаруживается точный ответ. Начинающееся здесь движение со
344
Т. Адорно. Актуальность философии
всей серьезностью осуществляет материализм — серьезностью,
поскольку материализм требует не оставаться в замкнутом пространстве
познания, но обратиться к практике. Толкование действительности и
ее снятие связаны друг с другом. Не столько в понятии снимается
действительность, сколько конструирование образа действительности
влечет за собой требование ее реального изменения. Преобразующие
жесты игры загадок, а не ответ, дающий прообраз решений, — вот
чем располагает материалистическая практика. Это обстоятельство
связывает материализм со словом, философски обозначенным как
диалектика. Лишь диалектически кажется мне возможным философское
толкование23. Когда Маркс упрекал философов, что они только
различными способами объясняют мир, и, возражая им, утверждал, что
речь должна идти о его изменении, то это положение вытекало не
только из политической практики, но приобретало законность также
на основе философской теории24. В уничтожении-осуществлении
вопроса впервые доказывает себя на деле подлинность философского
толкования, в то время как чистое мышление не может этого осуществить,
поскольку проходит мимо практики. Было бы излишним настойчиво
открещиваться от прагматизма, в котором теория и практика
переплетаются таким же образом, как и в диалектическом мышлении.
Насколько отчетливо я осознаю невозможность полного
осуществления программы, которую я вам преподнес, — невозможность,
проистекающую не столько из недостатка нашего времени, сколько
из принципа: нельзя осуществить предложенную программу во всем
ее объеме — настолько отчетливо я усматриваю свой долг в том, что-
бы дать вам некоторые указания. Прежде всего: идея философского
толкования не капитулирует перед опасностью ликвидации.филр.сд.г
фии, о которой свидетельствует крах последних тотальных
Философских проектов. Потому что строгое исключение всех — в
традиционном смысле — онтологических вопросов, отказ от инвариантных
всеобщих понятий, таких, к примеру, как понятие человека25, от
любых представлений о самодостаточной тотальности духа, в том
числе от в себе завершенной «истории духа», концентрация
философских вопросов на конкретных исторических образованиях, от которых
философия не должна быть отлучена, — эти постулаты становятся
уделом того, что прежде повсюду называли философией. Так как
современное философское мышление, во всяком случае официальное,
до сих пор держится в отдалении от этих требований или, как бы идя
на уступку, пытается смягчить и ассимилировать некоторые из них,
то одной из настоятельнейших и актуальнейших задач сегодня
является радикальная критика господствующего философского
мышления. Я не ошиаюсь^прехав.НЁХфодукхивной-негатшй+ости —
выражение, которое Готфрид Келлер охарактеризовал когда-то как
«пряничное». Философское толкование может быть действительно
345
Незавершенное, нерешенное
продуктивным, только если оно диалектично, и первую мишень для
диалектической атаки предлагает та философия, которая
обращается к проблемам, кажущимся ей необходимыми, вместо того чтобы
добавлять новые ответы ко множеству старых. Но только
принципиально недиалектическая, направленная на внеисторическую истину
философия может грезить об устранении старых проблем, предавая
их забвению и бойко начиная все заново. Это и есть иллюзия
начала, и именно она подлежит критике, прежде всего в хайдеггеровской
философии. Только в теснейшем союзе с новейшими опытами в
философии и при использовании философской терминологии может
осуществиться действительное изменение философского сознания26. В
этом союзе используется конкретно-научный материал,
преимущественно социологически, актуализируются незначительные, безынтен-
циальные и все же связанные с философским материалом элементы,
поскольку возникает потребность в их перетолковании. Говорят, что
один из влиятельнейших философов современности ответил на
вопрос об отношении философии к социологии сравнением: в то время
как философ, подобно архитектору, создает проект дома и
способствует его осуществлению, социолог действует как вор, влезающий в окно
верхнего этажа и подбирающий все, что ему попадает под руку. Мне
нравится это сравнение, но я высказываюсь также и за контакты
философии с социологией27. Ведь этот просторный философский дом
давно уже обветшал в своем фундаменте и угрожает не просто рухнуть
на тех, кто находится в нем, но и завалить все вещи, которые в нем
хранятся и которые невозможно возместить. Когда вор похищает
полузабытые вещи, он делает хорошее дело, поскольку он их спасает, но
едва ли он будет хранить их долго, потому что для него они не
представляют особой ценности. Конечно, признание социологии
толкующей философией нуждается в ограничении. В толкующей философии
речь идет о том, чтобы подобрать ключ, позволяющий раскрыть
двери действительности. Вот только с размерами ключа все не так просто.
Старый идеализм остановил свой выбор на слишком большом: ключ
даже не попал в замочную скважину2*. Чистый философский
социологизм, напротив, облюбовал слишком маленький: ключ, кажется,
подошел, но дверь даже не приоткрылась29. Большинство социологов
настолько увлеклись номинализмом, что в результате их понятия стали
слишком незначительными, чтобы они могли соотноситься с другими
понятиями и вступать с ними во взаимодействие. Осталась лишенная
следствий ограниченная связь «это — здесь» определений, которая
вызывает насмешки со стороны любого строгого познания и которая не
поддается сколько-нибудь критическому апробированию.
Именно так устраняют понятие класса, заменяя его
бесчисленными описаниями единичных групп, будучи не в состоянии охватить их
одним всеохватывающим единством, поскольку в эмпирии как тако-
346
Т. Адорно. Актуальность философии
вой они выступают в виде явлений; так обстоит дело и с одним из
важнейших понятий — идеологией, поскольку всячески умаляют его
значение, толкуя как упорядочивание определенного содержания
сознания определенных групп и не задаваясь вопросом об истинности
или неистинности самого этого содержания. Такого рода социология
граничит со всеобщим релятивизмом, чуждым философскому
толкованию, для разоблачения которого оно использует диалектический
метод. Говоря об овладении философским понятийным аппаратом, я
не без умысла веду речь о монтаже, пробном расположении, о
констелляции и конструкции. Потому что исторические образы не
извлекают смысл вот-бытия из скорлупы, а решают и разрешают его
вопросы, и эти образы никак не суть самоданности. Их нельзя найти уже
готовыми в истории: не требуется никакого усмотрения и никакой
интуиции, чтобы их обнаружить, они не есть и магические
исторические сущности, которые надо было бы принимать и обожествлять.
Скорее, они должны быть созданы человеком и находят свое
оправдание единственно в том, что действительность уплотняется вокруг них
с поразительной очевидностью. Этим они решительно отличаются от
архаических, мифических прообразов, как их фиксировал
психоанализ, а Клагес намеревался представить в качестве категорий нашего
познания. Они (исторические образы. — Г. С.) многими своими
чертами могут напоминать мифические прообразы, но они отличаются и от
них: те описывают свою судьбоносную дорогу к вершинам
человеческого; эти же сподручны и постижимы, они — инструменты самого
человеческого разума, даже если они представляются в качестве
магнетических центров объективного бытия. Это модели, с помощью
которых разум подступается к действительности, испытывая ее и
экзаменуя, к действительности, которая не подчиняется закономерностям,
но тем охотнее подражает модели, чем вернее она отчеканена30.
Можно усмотреть здесь прежний опыт и вернуться к старой концепции,
которую сформулировал Бэкон и над которой всю жизнь неутомимо
трудился Лейбниц: концепцию, которую идеализм осмеял как
причуду: ars inveniendi. Любое другое понимание модели было бы
гностическим и безответственным. Но органом этого ars inveniendi является
фантазия. Это — строгая фантазия, и местопребывание ее — материал,
поставляемый науками; и она выходит за их пределы исключительно
тогда, когда они образуют новые сочетания; и это их движение она
должна изобрести сама, исходя из самой себя. Если идея
философского толкования, которую я попытался развить перед вами, правомочна,
то можно представить ее как требование постоянно находить решение
вопросов преднайденной действительности с помощью фантазии,
которая по-новому ставит вопрос, не выходя за его пределы.
Пожалуй, я догадываюсь, что многие, может быть большинство из
вас, не согласны с тем, что я вам здесь преподнес. Не только научное
347
Незавершенное, нерешенное
мышление, но и, скорее, даже фундаментальная онтология
оспаривают мое представление об актуальных задачах философии. Но
мышление, которое исходит из отношений вещей, а не только из их
изолированной определенности как таковой, озабочено не тем, чтобы
доказывать свое право на вот-бытие, игнорируя очевидные
возражения и претендуя на безупречность; это право оно обеспечивает
своей продуктивностью в том смысле, в котором Гёте «держал у руки»
понятие. И все же я должен сказать еще кое-что по поводу самых
серьезных возражений, которые сформулировал не я, — они были
высказаны представителями фундаментальной онтологии и побудили
меня к разработке теории, после чего я придерживаюсь
исключительно практики философской интерпретации. Вот главное возражение:
в основе моего понимания также лежит понятие человека, проект
вот-бытия; только я из-за непреодолимого страха перед мощью
истории опасаюсь высказать это суждение четко и последовательно,
оставляя его завуалированным, вместо этого я придаю исторической
фактичности ту мощь, которая, собственно, была присуща
инвариантам, онтологически основательным строительным блокам:
отправляю богослужение в честь исторически продуцированного бытия,
увожу философию от каких-либо константных масштабов, вовлекаю ее
в эстетическую игру образов и превращаю prima philosophia в
философскую эссеистику. Относительно этих возражений я могу ответить, что
признаю большинство из них вполне содержательными и считаю их
философски оправданными и законными. Я не хочу сейчас
обсуждать, лежит ли в основе моей теории определенное понимание
человека и вот-бытия. Но я не вижу необходимости настаивать
именно на таком понимании как единственном. Это идеалистическое
требование абсолютного начала, как его может осуществить чистое
мышление, оставаясь в пределах самого себя; это картезианское
мышление, которое ставит перед собой задачу объяснить мышление
из его предпосылок и его аксиом. Но философия, которая уже не
настаивает на собственной автономии, не стремится выводить
действительность из рацио, но ставит под вопрос
автономно-рациональное законодательство, обращаясь к бытию, которое ему не
адекватно и не может быть рационально спроектировано как
тотальность, — такая философия не будет безоглядно
придерживаться курса рациональных предпосылок, но приостановится там, где
дает о себе знать неукротимая действительность; если же
философия движется далее, в регион предпосылок, то они могут быть
достигнуты только формально и ценой той действительности, в
которой и возникают подлинные задачи философии.
Продуктивность мышления может доказать себя на деле только
диалектически и конкретно-исторически. Мышление и конкретность
вступают во взаимодействие в моделях. Озабоченный формой такой
348
Т. Адорно. Актуальность философии
коммуникации, я охотно заимствую идею эссеизма31. Английские
эмпирики, как и Лейбниц, называли свои философские сочинения
эссе, потому что власть вновь открываемой «свежей»
действительности, на которую направлялось их мышление, всегда принуждала их к
риску. Но уже послекантовское столетие, не подчиняясь власти
действительности, утратило вкус к экспериментальному риску. Поэтому
эссе было изгнано из большой философии и перекочевало в эстетику,
неопределенность которой не допускала точного, конкретного
толкования, — впрочем, им давно не располагала и традиционная
философия — страница величественных проблем. Полностью
разочаровавшись в большой философии, опыт вынужден был смириться со своим
устранением; если он при этом связывает свою будущность с
конкретными, проблематичными несимволическими толкованиями
эстетического эссе, то, мне кажется, это не подлежит осуждению, если объект
здесь избран правильно: дух, пожалуй, не в состоянии произвести или
понять тотальность действительности; но он может проникнуть в
малое и через малое раздвинуть пределы непосредственно сущего.
349
Незавершенное, нерешенное
ГГ. Соловьева
Современный Сократ
До сих пор одно только упоминание имени Теодора Адорно (1903-
1969) и у нас и на Западе приводит в негодование одних и
умиротворяет других. Все, на что бросал он свой взгляд, становилось
радиоактивным. Вибрация, производимая им в духовной и политической
жизни XX столетия, была столь ощутимой, что даже непонимание,
вражда, проклятия и открытая клевета не смогли ее приуменьшить.
Немецкий философ Теодор Адорно — современный Сократ.
Античный мыслитель сравнивал себя с оводом, который своим жалом не дает
покоя зажиревшему коню, своему народу. Так и Адорно, задыхаясь в
тяжелой атмосфере тоталитарного общества, сконцентрировал взрывную
энергию негативности, вызвал ее молниеносные разряды. Трагедия XX
столетия — тоталитаризм, «конечное общество бесконечной муки», где
«индивиды бредут, прислонившись друг к другу, прикованные цепью, не
смея поднять голову». В своем печальном походе они не чувствуют
утраты индивидуальности и субъективности, сливаясь, отождествляясь со
всеобщим, не осознавая, что всеобщее их грабит, прессует, истязает, словно
орудием пытки. Разомкнуть проклятую тождественность, избавить
индивидов от сладостных иллюзий — в этом видел свою задачу Адорно.
Его философия смущала, беспокоила, оставалась непонятной,
дразнящей, насмешливой, воспринималась как дерзкая пощечина и
возмутительное оскорбление. Вместо строгих, размеренных, хорошо
продуманных рассуждений в манере академической философии — клочковатый
стиль, распадающаяся логическая ткань, разрывы, кружения... Вместо
привычно ожидаемой философской системы — фрагменты, афоризмы,
модели. Вместо однолинейной дедуктивной связи понятий — водоворот
сравнений, антитез, метафор. Что хочет сказать этот странный,
загадочный человек? Почему он затягивает нас в текст и не дает возможности
высвободиться? Почему коварно расставляет логические капканы?
В мире, где тотальность алчно поглощает индивида, остается, по
убеждению Адорно, лишь мерцающий свет надежды — критическое
мышление. И сама негативная теория — о ней и идет речь в
предлагаемом эссе Адорно — приобретает статус практики: встряхнуть,
пробудить, разорвать путы, связывающие с тотальностью, наметить разломы
и разрывы. Текст Адорно — не просто текст, предназначенный для
чтения: от него исходит магическая сила, воздействующая на читателя.
Негативная метафорика, риторические игры, искусное внушение — все это
приемы практического исцеления через шок, сеанс наглядного
демонтажа нормативных предписаний и логических табу традиционного
дискурса, процедура реального освобождения природного импульса,
подавленного технологической культурой. Мефистофельская диалектика...
350
Г.Г. Соловьева. Современный Сократ
Но ее создатель внешне вовсе не похож ни на Сократа, ни на
Мефистофеля. Кроткие, страдальческие глаза, застенчивая улыбка, детская
беззащитность... Нежность внутренне согревала его бунтующую мысль.
Адорно вынес эту нежность из детства, единственно спокойного и
счастливого времени в его трагической жизни. Сын богатого еврейского
предпринимателя Оскара Визенгрунда, принявшего протестантизм,
Тедди воспитывался двумя женщинами: его мать, Мария Калвели-Адор-
но, итальянка по происхождению, была довольно известной певицей, а
ее сестра, Агата, — прекрасной пианисткой. Адорно рос в атмосфере
любви, где ничто не омрачало светлого праздника жизни. Брошенный
в мир из хрустального дворца детства, он не смог стать окончательно
взрослым, солидным, уравновешенным, всезнающим — он остался
ребенком, но сумел избежать, однако, инфантильности.
Источник его философского творчества — жизнь, полная
страданий. На заре все складывалось счастливо: две страсти обуревали
юного Адорно — музыка и философия. Он мог стать известным
исполнителем и композитором и подавал надежды в философии, психологии,
социологии, обучаясь во Франкфуртском университете. Две страсти
слились в дальнейшем в одну — музыкальная философия,
мыслительная практика, ориентированная на музыку, избранную парадигмой
всей культуры. Молодой Адорно жил в атмосфере творческих
исканий интеллектуалов 20-х годов. Вена, культурная столица того
периода, многочисленные и разнообразные встречи, дискуссии, увлечение
Лукачем и через него — интерес к диалектике Гегеля и Маркса,
мессианские надежды, связанные с русской революцией.
Закончив университет и активно занимаясь социологией музыки,
Адорно становится приват-доцентом в родном университете. Ничто,
казалось, не предвещало бури. И все же она грянула: фашизм.
Франкфуртский институт социальных исследований с неомарксистской
программой, возглавляемый другом Адорно Максом Хоркхаймером,
эмигрирует сначала в Женеву, а затем в Нью-Йорк. Адорно же не верит в
предстоящее изгнание. Но лаконичное предписание, отстраняющее его
от преподавания, кладет конец сомнениям. Детство кончилось
безвозвратно. Впереди были годы эмиграции, мучительного разрыва с
привычным культурным окружением, неуверенность в завтрашнем дне,
необходимость все начинать сначала в чуждой по духу Америке. Там он
будет работать вместе с другими сотрудниками Института над
социологическими проектами (коллективный труд «Авторитарная личность»),
напишет вместе с Хоркхаймером знаменитую «Диалектику
просвещения», обдумывая причины трагического финала европейского
культурного движения. Там ужаснется массовому истреблению людей в
Освенциме и будет оплакивать смерть самого близкого друга, Вальтера
Беньямина. Освенцим стал импульсом и раной всех его философских
рефлексий, причиной субъективного страдания и шифром его филосо-
351
Незавершенное, нерешенное
фии истории и теории познания. В общественное сознание вошла
мысль Адорно о том, что после Освенцима недостойно писать стихи и
философствовать в прежней бесстрастной академической манере.
Вернувшись в Германию после войны, Адорно возглавил
Франкфуртский институт социальных исследований и снова занялся
преподаванием во Франкфуртском университете. В последующие два десятилетия
его популярность неизменно возрастала. Будучи теоретиком,
методологом, он писал многочисленные эссе по литературе XX в., творчеству
Джойса, Пруста, Кафки, Беккета, музыкальные монографии,
посвященные Шёнбергу, Бергу, Веберну. Именно через эти сочинения его
философские идеи завоевывали умы и сердца интеллектуалов. Но Адорно не
только читал лекции и писал книги. Он выступал по радио и
телевидению, публиковался в газетах. Его фотографии — совсем как
изображения кинозвезд — украшали обложки иллюстрированных журналов.
Он получает литературную Премию немецких критиков, Гётевскую
и Шёнберговскую медали, избирается председателем Немецкого
общества социологов, одну за другой издает философские, социологические,
педагогические книги— «Философия новой музыки» (1949), «Minima
Moralia» (1951), «Призмы. Критика культуры и общества» (1955),
«Жаргон подлинности» (1964), «Негативная диалектика» (1966) и многие
другие. И что совсем необычно для философа такого элитарного,
сложного стиля, — оказывает столь мощное влияние на политическую жизнь
послевоенной Европы, что его философия, по общему признанию,
становится реальным компонентом политической жизни Европы.
Казалось, жизнь состоялась, все осуществилось. Слава, почитание,
успех. Но это был опасный, рискованный успех. Правда жизни Адорно
обнаружилась в последний год: он жалил, он шокировал, его тайно
ненавидели, и при первой возможности судьба жестоко расправилась с
ним. Новые левые, экстремистски настроенная молодежь, восприняли
его идеи слишком прямолинейно, в духе леворадикального бунтарства,
в то время как сам философ всегда был против любого насилия. Кумир
молодежи, предвестник негативности как прорыва тоталитарных
структур, позволил полиции очистить институт от бунтующих студентов, а
позже выступил свидетелем на процессе во Дворце юстиции.
Это был конец славе, конец жизни. Студенты превратили
свидетеля в обвиняемого. Вчерашние восторженные ученики бросали
колкие насмешливые реплики по поводу конформизма бывшего мэтра.
Адорно покинул Франкфурт посрамленный, свергнутый с
пьедестала, растоптанный и униженный. Из Швейцарии он прислал письмо
с просьбой преобразовать лекции в семинары — студенты не
позволяли ему больше читать курс. В ответ на согласие администрации
пришло печальное известие — теперь уже о бессрочной ссылке...
Разряд негативности поразил в первую очередь его самого.
Но то, что Адорно считал делом своей жизни, — пробить брешь в
352
Г. Г. Соловьева. Современный Сократ
мнимой тождественности всеобщего, сломить диктат тотальности —
принесло свои плоды. Сегодня мы живем в мире нарастающего
плюрализма экономической и социальной жизни, образования тысяч и
тысяч культурных островков, не теряющих, однако, тенденции к
единству и взаимопониманию. Мир открытый, незамкнутый, и в
этом смысле «негативный»...
Основное философское устремление Адорно — защитить индивида
от гнетущего давления тотальности — конкретизируется в проекте
нового типа рациональности. Негативная теория Адорно ускользает от
традиционных философских «единиц измерения». Он — не идеалист и не
материалист; с равной степенью убедительности опровергает монизм во
всех его оттенках и окрасках. Он не рационалист и не иррационалист —
примеривает маску Гегеля, но затем решительно ее срывает. Новый тип
рациональности имеет совершенно другие культурные основания:
вместо отношения господства и подчинения внешней природе, а
следовательно, и внутренней, говорится о дружеском, ласкающем общении с
природой, не упускающем, однако, технологической координаты.
Замысел Адорно вызывающе парадоксален: восстановить в
философской деятельности право на аффекты, интуицию, импульсивность
и фантазийность, не утратив при этом опыт рефлексии и понятия.
Это означает — выйти в «непространственное пространство
несчастливого счастья», к поэтической логике и несистематической теории.
Или выразить страдание, ускользающее и неуловимое, на языке
понятия и всеобщности, сохраняя краски индивидуальности, ее
неотождествленность со всеобщим. Адорно не только грезил, но и нашел
новые логические, философские средства для осуществления своей
программы. Страдание не столько представляется в понятии, но
изображается на мыслительной сцене, а автор философского текста
является одновременно драматургом и актером.
«Актуальность философии» — вступительная лекция Адорно,
открывшая курс его лекций во Франкфуртском университете (май 1931 г.).
Из неопубликованной переписки с Беньямином следует, что автор
намеревался при публикации посвятить текст своему другу. Однако
публикация состоялась много позже, когда Беньямин уже ушел из жизни.
«Актуальность философии» — не просто одно из многочисленных эссе
Адорно, каких у него сотни. Это раннее сочинение носит ярко
выраженный программный характер —• и по теме, и по ее разработке. В маленьком
эссе контурно высказаны ключевые идеи нового философского проекта.
Они, как зерна, брошенные в благодатную почву, дали хорошие всходы,
принесли впоследствии богатый философский урожай. Комментарий
составляет второе измерение предлагаемой публикации — в нем сообщается
о судьбе идей и мыслей, рассыпанных в эссе щедрой рукой.
Перевод «Актуальности философии» вместе с комментарием
ставит задачей создать целостную картину экспериментаторства Адорно,
14 _ 'ЫЪЛ
353
Незавершенное, нерешенное
одного из крупнейших современных мыслителей, тексты которого
долгое время не переводились на русский язык, а немецкие
оригиналы были предусмотрительно сосланы в преисподние спецхранов.
Сегодня философия Адорно переживает на Западе второе рождение,
она оказала несомненное влияние на современную философскую
мысль, включая постмодернистские направления.
Примечания
Перевод с издания: Adorno Т. Aktualität der Philosophie. G.S.Bd. i. Fr./am Main, 1973.
1 С первых же строк Адорно вовлекает читателя в лабиринт парадокса: он
намерен говорить о философии, ее актуальности, но сразу же отвергает традиционное
понимание философствования как обретения целостности и непогрешимой
разумности. Как возможна философия в исторический момент, где самой
действительности отказано в праве на тотальность и где философия, казалось бы,
должна беспомощно умолкнуть?
В зрелых сочинениях эта мысль формулируется в виде тезиса «целое
негативно», вызывавшего множество противоречивых толкований и послужившего одним
из мнимых доказательств «абстрактного негативизма» теории Адорно. Однако
философ подразумевает прежде всего расколотость, трагичность реальности в XX в.;
мир превратился в концлагерь, где каждый живущий платит штраф длиною в
жизнь. Тезис «целое негативно» определил характерные черты адорновского
мышления. «Интерпретировал ли он литературную форму эссе или исследовал
общественную физиогномию авторитарного типа, это утверждение остается движущим
стержнем его диагностических анализов», (Zinp В. Selbsterhaltung und ästhetische
Erfahrung // Materialen zur ästhetischen Theorie Th. VV. Adornos. Fr./am M., 1980. S. 187).
2 Самый страшный грех «большой» философии — бесстрастное, глубокомысленное
согласие с существующим жизненным порядком, считает Адорно. Внутренний нерв
философии, характеристическая черта, отличающая ее от всех наук, — напряженное
отношение к действительности, активное сопротивление реальным жизненным
формам. Идея критичности многократно трансформируется у Адорно,
приобретает смысл негативности, нетождественности и становится подлинным лейтмотивом
его философствования, пронизанного страстным желанием «разомкнуть» жесткие
мыслительные схемы, услышать живой голос человеческого страдания.
3 Имеется в виду онтологический проект Мартина Хайдеггера, одного из
крупнейших мыслителей XX в. В то время, когда Адорно готовился к вступительной
лекции, Хайдеггер уже опубликовал свое самое знаменитое произведение
«Бытие и время» (1927). Это сочинение считается одним из труднейших по мысли и
по философской стилистике — новаторские философские идеи высказываются с
помощью необычных словесных конструкций. Взвешивая и оценивая на
«философском рынке» концепции прошлого и настоящего, Адорно особенно
пристрастно отнесся к фундаментальной онтологии Хайдеггера. Полемика настолько
захватила его, что выплеснулась на страницы его «Негативной диалектики» и
составила отдельный том «Жаргон подлинности».
Адорно не стеснялся в выражениях, упрекая Хайдеггера в «прокламации
насильственного порядка как здоровья». «Человек должен иметь субстанцией свое
бессилие и ничтожество... Его историческое состояние перемещается в чистую
человеческую сущность, утверждается и одновременно увековечивается» (Jargon der
Eigentlichkeit. Fr./am Main, 1967. S. 56). Резкий тон Адорно, убедительность его
аргументации не возымели, однако, действия: Хайдеггер будто не слыхал упреков и ни
разу не ответил на теоретические выпады соперника. Тем не менее отношения их
354
Г. Г. Соловьева. Современный Сократ
были достаточно напряженными, и исследователи долгое время были убеждены в
отсутствии каких-либо возможностей диалога. Однако в последние годы эта точка
зрения изменилась. Именно публикация ранних сочинений Адорно, в том числе
«Актуальности философии», убедила, что, несмотря на наступательную критику
фундаментальной онтологии, ранние проекты Адорно обнаруживают
«ошеломляющие параллели с хайдеггеровской философией бытия» (Р. Бубиер).
4 Идеализм во всех его исторических формах вызывает у Адорно сильнейшую
аллергию: по своей природе все идеалистические системы замкнуты и
тавтологичны, поскольку пытаются вывести все содержание из понятия. По этой причине
гегелевская диалектика качественно себя изменяет — вместо конкреции,
особенного, она получает лишь понятие особенного. (У Адорно есть, правда, и другая
интерпретация гегелевской диалектики. В «Drei Studien zu Hegel», работе,
написанной до «Негативной диалектики», он обнаруживает в гегелевских текстах
«борьбу» с закостенелой грамматикой и логикой и создает нетривиальный образ
Гегеля, прямого предшественника новаций негативного мышления.) Согласно
Адорно, открытость и творческую силу может иметь только материалистическая
философия, ориентированная на «преимущество объекта». Свой истинный
интерес философия должна найти там, «где Гегель, согласный с традицией,
сообщил о своей незаинтересованности: у лишенного понятия единичного и
особенного; у того, что со времен Платона выпроваживалось как преходящее и
незначительное и на что Гегель наклеил этикетку ленивого существования»
(Negative Dialektik. Fr./am Main, 1966. S. 18).
5 В то время как Адорно однозначно критически относится к неокантианству,
рисунок его восприятия Канта гораздо сложнее. Кант был первым философским
авторитетом для Адорно в юности. Его «философский учитель» во Франкфуртском
университете Ганс Корнелиус представлял неокантианскую теорию познания,
правда, с эмпирическим, психологическим уклоном, идушим от Маха и Авенариуса. Но
адорновское понимание философии Канта определялось, скорее, не влиянием Кор-
нелиуса, а творческим контактом с другом юности 3. Кракауэром, вместе с которым
еще в гимназии Адорно зачитывался «Критикой чистого разума». Диалог с Кантом
занимает значительное место в адорновском мыслительном пространстве. Одна из
центральных моделей «Негативной диалектики» создается в противостоянии,
одобрении и опровержении кантовской концепции свободы, смысла жизни и счастья.
ь Некоторые исследователи придерживаются мнения, что Адорно со своей
«Негативной диалектикой» примыкает к философии жизни, поскольку подвергает разум
уничижительной, все сокрушающей критике, считая его ответственным за страшные
злодеяния культуры, воплощенные для него в образе Освенцима, отторгнувшего у
миллионов людей право на естественную смерть (см.: Давыдов Ю.Н. Критика
социально-философских воззрений Франкфуртской школы. М., 1978). Однако Адорно
критикует не разум как таковой, а только искалеченный, технологический рацио,
основанный на принципе подавления природы — внешней и внутренней. И эта критика
«помраченного разума» подразумевает поиски новой рациональности, способной
преодолеть репрессивный стиль в отношениях с природой и восстановить,
реабилитировать непосредственный, импульсивный жизненный пласт опыта с сохранением
преимуществ понятийности и всеобщности. Философский проект Адорно не повторяет
поэтому мотивов философии жизни, но имеет собственную неповторимую мелодию.
7 Настаивая на «преимуществе объекта», Адорно последовательно отграничивает
свою точку зрения от позитивизма. Кульминационным моментом многолетнего
спора с позитивизмом считается дискуссия на съезде западногерманских
социологов, где с докладами на одну и ту же тему «О логике социальных наук»
выступили Адорно и Поппер (1968). Введение к опубликованной позже книге, содержащей
материалы дискуссии, называют одним из программных сочинений Адорно.
Действительно, в нем кратко и четко противопоставляются два подхода, две
философские стратегии. По мнению Адорно, позитивистская схема, набрасываемая, словно
355
Незавершенное, нерешенное
«решетка», на живой, нерегламентированный опыт, заранее определяет его
границы. Выбор координатной системы, отметающей факты, всегда произволен, и
познание «из любви к ясности и точности теряет то, что оно хочет познать», т.е.
фактичность и объективность {Adorno Т. Zur Logik der Sozialwissenschaften // Der
Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Luchtcrhand, 1970. S. 127).
к Темой своей диссертации Адорно избрал феноменологию Гуссерля — это
исследование опубликовано впервые в 1 томе его философских сочинений, но носит
явно выраженный ученический характер. Гуссерлю посвящается и более зрелый
труд Адорно «Метакритика теории познания», где усилия направляются прежде
всего на опровержение «философии первоистока» в любом ее варианте,
идеалистическом и материалистическом. Это означает, что принцип монизма,
стремление вывести мир из единого принципа, будь то сознание или бытие, является, по
Адорно, надуманным и несостоятельным и неизбежно ведет к примату разума,
даже если «то первое называют бытием, материей или субстанцией» (Adorno Т.
Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Stuttgart, 1956. S. 193).
9 К идеям Киркегора тяготеет не только фундаментальная онтология, но и
негативная диалектика Адорно — факт, проливающий свет на драму отношений двух
великих современных мыслителей. Именно философствование Киркегора
открывает те мыслительные горизонты, где встречаются, казалось бы,
непримиримые оппоненты, Хайдеггер и Адорно: несмотря на все различия, адорновская
мыслительная модель «структурально та же, что и у Хайдеггера» (Schnadelbach H.
Dialektik der Vernunftkritik //Adorno-Konferenz. Fr./am Main, 1983. S. 79).
10 Диалектику Киркегора Адорно обдумывал еще в юности, испытывая
магическое притяжение датского мыслителя. В 30-е годы он пишет книгу, посвященную
эстетике Киркегора (она была издана впервые в 1933 г. и появилась в день,
когда Гитлер захватил власть). На ее восприятие, писал позже Адорно, сразу же
легла «тень политического нездоровья». Через 30 лет ее переиздали, дополнив речью
Адорно к 150-летию Киркегора (Adorno Т. Kierkegaard. Konstruktion des ästhetischen.
Fr./am Main, 1966). Идея адорновской интерпретации диалектики Киркегора
необычна: обнаружить в гегелевском противнике, притязающем на господство
автономного «Я» и провозгласившем тезис об истине субъективности, матрицы три-
адичности и абсолютной тотальности.
" Хайдеггеровский переход из мира заботы и домашности к подлинной
экзистенции, открывающей бытие, оспаривается Адорно со всей решительностью в
«Жаргоне подлинности». Смерть признается у Хайдеггера, говорит Адорно, «зерном
самости», и учение о подлинности имеет в смерти не только свою меру, но и свой
идеал. Но «как совершенно чуждая субъекту, смерть есть модель всего
овеществления» (Adorno Т. Jargon der Eigentlichkeit. Fr./am Main, 1967. S. 107).
12 Адорновская философия намеренно остается в модусе вопрошания,
философской майевтики. Фундаментальная структура традиционного мышления
заключается в ориентации на ответ. Тот, кто отрицает, критикует, должен иметь в
кармане предположительный результат — как быть, как устроить все к лучшему.
Негативная диалектика откровенно насмехается над этим классическим
требованием. Она настаивает на том, что «нечто фальшиво, даже если ничего лучшего
нельзя предположить» (Schurz R. Ethik nach Adorno. Fr./am Main, 1985. S. 180).
13 Защитой от грозящей опасности может быть только кардинальное
переосмысление природы философского знания, настаивает Адорно. Опыт самого
трагического столетия выталкивает бесстрастно-академическую философию,
претендующую на абсолютность и универсальность. И Адорно проектирует новый тип
рациональности, восстанавливающий целостность, жизненность философского
опыта. На языке понятия, всеобщности должно быть выражено человеческое
страдание, причем так, чтобы не потерять своей уникальности: между понятием
и страданием принципиально сохраняется нетождественность, и это составляет
первоначальный смысл центральной категории «Негативной диалектики».
356
Г.Г. Соловьева. Современный Сократ
14 Адорно именует проектируемый им тип рациональности эстетическим. В
отличие от диалектики гегелевского типа, ориентированной на науку, он придает
отношениям категорий и понятий эстетическое измерение — многозначность,
неопределенность, загадочность. Своеобразие адорновской теории «заключается в
переходе критики разума в эстетику, т.е. в эстетическое становление самой теории»
(Schnadelbach H. Dialektik der Vernunftkritik // Adorno-Konferenz. S. 67). «Важным
для обсуждения мышления Адорно является положение, что его корни — в
эстетическом, а не в круге критической теории» {Knapp G. Т. W. Adorno. Berlin, 1980.
S. 13). Однако Адорно не приемлет «поэтической болтовни». Эстетическая теория
не отступает ни на шаг с понятийных рубежей, создавая новые формы
философского обобщения, изображения понятия.
15 На первый взгляд Адорно послушно следует за Дильтеем, одним из основателей
герменевтики. Однако Auslegung Дильтея и Deutung Адорно по существу своему
противоположны. Для Дильтея Auslegung— метод, позволяющий проникнуть во
внутренний мир индивида или культуры, мир состоявшийся, в себе завершенный,
уникальный и неповторимый. Для Адорно, напротив, нет и не может быть
ничего состоявшегося: законченного исторического бытия, сделанного, завершенного
произведения, сбывшегося внутреннего мира, подлежащего истолкованию и
раскрытого для понимания, словно написанная книга. Книга истории, как и
человеческой индивидуальности, еще только пишется. Понимать для Адорно— значит
отрицать наличное, со-конструировать данное, поддерживать его жизнь
толкованием, никогда не претендуя на окончательность и завершенность. «Понимают
единственно там, где понятие трансцендирует то, что оно хочет понять» {Adorno Т.
Ästhetische Theorie // Gesammelte Schriften. Bd. 7. Fr./am Main, 1970. S. 489).
16 Западная метафизика, следуя Платону, стремилась за явлением открыть
сущность, за реальным — идеальное, за означающим — означаемое. Адорно одним из
первых решился покончить с философским измерением глубины, открыть
«географию» поверхности, где разыгрываются все философские события, где за
означающим не скрывается означаемое, смысл. В этом, как и во многом другом, за
первооткрывателем Адорно следуют современные философы-постмодернисты,
которые стремятся снять противопоставление подлинного и неподлинного,
устранить бытие в качестве предельного означаемого.
17 Констелляция — важнейшее понятие эстетической рациональности, одна из
экспериментальных форм понятийности, пытающейся «выразить невыразимое» и
«сказать несказанное», т.е. придать индивидуальному понятийный статус. Термин
заимствован из астрономии, где он означает «созвездие», двойное движение звезд
относительно друг друга и движущегося центра. Констелляция у Адорно
противопоставляется линейной логической связи, строго однозначному следованию из пер-
вопринципа и дополняется понятием «паратаксис», навеянным поэтикой позднего
Гельдерлина, немецкого поэта, современника Гегеля, признанного только сегодня.
Руководящий принцип традиционной рациональности лучше всего
выражается метафорой дерева — единый корень, общий ствол, от которого расходятся
ветви. Этому образу культуры Адорно противопоставляет констелляцию:
равнозначность координированных моментов разрушает «вертикальную» схему
дискурсивной логики и добавляет «горизонтальное» мыслительное измерение.
Свободный духовный опыт обрывает скучные непрерывные нити рассуждений,
обнаруживает «бреши», «люки», превращая текст в переживание.
,х Вальтер Беньямин — немецкий философ и историк культуры, близкий друг
Адорно, погибший в 1940 г. при переходе франко-испанской границы. Идеи
конфигуративного мышления и природной истории, существенные для
эстетической рациональности, навеяны Беньямином, которого можно назвать вторым
«Я» Адорно. Не только первый период творчества Адорно, но и его последующие
поиски отмечены влиянием Беньямина. Ему Адорно посвятил книгу «Über Walter
Benjamin» (Fr./am Main, 1970).
357
Незавершенное, нерешенное
,v Философское кредо Адорно — дискутируемый в литературе вопрос. По
мнению одних, в адорнизме «материалистическая аргументация остается
вызывающе абстрактной» (Scheible И. Geschichte im Stillstand // Theodor W. Adorno. Text Kritik.
München, 1977. S. 99). И даже более того, «несмотря на утверждаемое
преимущество объекта... адорновский теоретико-познавательный идеал является
идеалистическим» (Massing О. Adorno und Folgen. Neuwied — Berlin, 1970. S. 96).
Другие же, в частности историк и теоретик Франкфуртской школы, ученик
Адорно А. Шмидт, настаивают на принципиальной материалистичности
негативной диалектики, считая, что материализм у Адорно не носит рекламно-плакатного
характера, но порождается самим существом его подхода. Действительно, в
основе эстетической рациональности лежит идея о дружественном, ласкающем
отношении к природе, о восстановлении в правах принципа телесности, радости — в
этом смысле Адорно, безусловно, придерживается материалистической позиции.
20 Путь негативной диалектики, говорит Адорно, пролегает через «ледяную пустыню»
абстракций, но ее основное устремление — достичь «конкреции», которая была
предана забвению современной философией. В констелляции акцент делается именно на
экстремальности особенных моментов. Они не выводятся из понятия, не
суммируются и не поглощаются всеобщим, напротив, их свободное проявление составляет
условие их единства: чем экстремальнее моменты, тем напряженнее силовое поле их
взаимодействия, всеобщности. Эта идея сегодня чрезвычайно актуальна: фрагмента-
ризация культурной, социальной и экономической жизни сопровождается острой
потребностью в формировании единого взаимосвязанного мира.
21 Венгерский философ Д. Лукач оказал большое влияние на молодых
интеллектуалов Франкфуртской школы, побудив их вновь обратиться к диалектике
Гегеля в 20-е годы, когда имя Гегеля упоминалось все реже и почти все
философские направления старались разрушить мосты между гегелевской диалектикой и
современным мышлением. Однако речь идет о раннем Лукаче и его
произведениях «Теория романа», «Душа и форма» и «История и классовое сознание», где
доминируют мотивы осуждения овеществленного наличного бытия и мышления.
Что касается зрелого Лукача, то франкфуртцы, в особенности Адорно, выступили
с резкой критикой его взглядов, считая, что «апробированный диалектик»
пришел к соглашению с теми структурами, против которых сам же протестовал
(Adorno Г. Erprobte Versöhnung// Noten zur Literatur II. Fr./am Main, 1958).
22 Адорно подхватывает идею Беньямина о том, что в основе новой философии
истории должны лежать не дискурсивные связи технологического рацио, а
многозначные содержательные отношения, образец которых может дать только
эстетика. Прошлое не уходит, но остается в настоящем на равных, а будущее
просвечивает в конфигуративном отношении прошлого и настоящего — «диалектика
в состоянии штиля».
23 Главный теоретический труд Адорно называется «Негативная диалектика».
Философ считает, что все традиционные проекты диалектики, т.е. свободного, нерегламен-
тированного духовного опыта, оказались несостоятельными, поскольку их ответом на
обещания творческого, незавершенного поиска всегда являлись законченные,
отшлифованные системы, искореняющие новаторский дух. Поэтому речь должна идти не
о реформировании устаревших мыслительных структур, но о новой заре,
возвещающей рождение подлинной диалектики, которая в принципе может быть только
негативной, дозволяющей сомнения и опровержения. «Диалектика есть последовательное
сознание нетождественного» (Adorno Т. Negative Dialektik. S. 15).
24 Франкфуртская школа первого периода ориентировалась на марксизм в
интерпретации Лукача и Корша: предполагалось осуществить комплексное изучение
современного общества, его культуры и социальных форм на основе
преимущественного анализа экономических отношений. Однако начиная с программной для
школы книги «Диалектика просвещения», написанной Адорно совместно с Хор-
кхаймером, наметился перелом: в центре оказался метафизический, внеэкономи-
358
Г.Г. Соловьева. Современный Сократ
ческий субъект господства и формируемая им квазиреальность со своей логикой,
диалектикой и историей: «Опыт фашизма, сталинизма и американской культурной
индустрии, проявления угрожающей тенденции к "тотальной интеграции",
"фальшивой тождественности всеобщего и особенного" не позволяют больше
соизмеряться с марксистскими категориями» (Braun С. Kritische Theorie versus Kritizismus.
Berlin; New York, 1983. S. 11).
25 Хотя нетождественное, дразнящее и уклончивое мышление Адорно не поддается
реферированию и однозначному выделению главных тенденций, все же можно
обозначить мысль, вокруг которой концентрируются все философские,
эстетические, педагогические, социологические и историко-философские произведения
Адорно, — это проблема индивидуальности и свободы единичного, протест
против сведения индивида к экземпляру всеобщего. В проекте негативной
рациональности примирение с внешней природой подразумевает прежде всего
раскрепощение самого индивида, его внутренней природы, телесности, что поможет ему,
избавленному от однозначности и замкнутости «самости», ускользнуть из-под
диктата всеобщего. «Человек» же традиционно означал именно «самость», субъект
власти, завершенный, твердый, мужской характер, против чего и восстает Адорно.
2* В двухтомном труде «Философская терминология» Адорно попытался дать
введение в философию как введение в терминологию. При этом он не претендовал
на то, чтобы представить каталог и индекс всех терминов, а выбрал только те из
них, в которых сконцентрировались важнейшие проблемы, подчеркивая, что
философская работа есть главным образом работа критики философского языка
(Adorno Т. Philosophische Therminologie. Bd. 1-2. Fr./am Main, 1973-1980).
27 Адорно, как и все представители Франкфуртской школы, никогда не был
чистым теоретиком. Он начинал свою деятельность с социологии музыки (статьи
«Об общественном положении музыки», «О характере фетишизма в музыке и
регрессии слушания») и стал в дальнейшем одним из крупных современных
социологов (сборник статей «Призмы. Критика культуры и общество», статьи
«Общество», «Поздний капитализм или индустриальное общество? »). Для Адорно
как социолога характерно обращение к проблематике культуры и
акцентирование острых политических проблем.
2К Адорно имеет в виду то, что идеалистические системы слишком высоко
воспарили к облакам, поклоняясь всеобщему, понятию, Абсолюту, и не смогли
вставить «ключ» такого размера в скважину скромной двери земного бытия.
24 Противоположные направления, высказавшие недоверие понятию, напротив,
оказались слишком земными, эмпирическими, со слишком маленьким «ключом».
30 Одна из форм негативного философствования — моделирование: высказав
доминирующую идею, философ создает на ее основе модели решения ключевых
философских проблем. «Негативная диалектика», говорит Адорно, представляет собой
«ансамбль модельных анализов». Простое воспроизведение, копия реального
негатива, была бы только удвоением фальши, тиражированием уродливости,
разъясняет Адорно. Нельзя успокаиваться на «идентификации с не-здоровьем»,
производить клише. «Ни фотография не-блага, ни фальшивая святость не описывают
позиции современного искусства по отношению к омраченной действительности»
(Adorno Т. Ästhetische Theorie. S. 35-36). Оно должно отрицать, не копируя
обезображенный лик, но противопоставляя ему иное, моделируя в констелляции новые
образы и отношения.
31 Адорно отказывается от обоснования диалектики в виде научной системы, от
подобострастного следования научным идеалам, что традиционно
отождествлялось с рациональностью. Философская теория, считает он, должна обрести
новые формы, избавленные от назойливых регламентации. К таким формам он
относит прежде всего эссе, посвятив обоснованию этого тезиса блестящую работу
«Эссе как форма» (Der Essay als Form // Noten zur Literatur. Fr./am Main, 1958).
359
Незавершенное, нерешенное
Юрген Хабермас
Философия как местоблюститель и интерпретатор
Мастера мысли снискали себе сегодня дурную славу. О Гегеле она
ходит уже давно. Поппер разоблачил его как врага открытого общества
еше в 40-е годы. То же самое утверждается, повторяясь вновь и вновь,
и о Марксе. В последний раз от него отреклись как от лжепророка
«новые философы» в 70-х годах. Сегодня эта участь постигла даже
Канта. Насколько я могу судить, его впервые стали трактовать в
качестве мастера мысли, т.е. как мага ложной парадигмы, от
интеллектуального гнета которой мы должны избавить себя. Здесь число тех,
для кого Кант остался Кантом, может оказаться преобладающим. Но
взгляд за пределы этих стен убеждает нас в том, что авторитет Канта
блекнет — и переходит, уже не впервые, к Ницше.
Кант действительно ввел в философию новый модус обоснования.
Он рассматривал достигнутый современной ему физикой прогресс
познания в качестве знаменательного факта, который должен
интересовать философов не как нечто случающееся и наличествующее в
мире, но как подтверждение, удостоверяющее познавательные
возможности человека. Физика Ньютона нуждалась в первую очередь не
в эмпирическом объяснении, но в объяснении в смысле
трансцендентального ответа на вопрос: как вообще возможно опытное познание.
Трансцендентальным Кант называет исследование, направленное на
априорные условия возможности опыта. При этом речь идет о
доказательстве того, что условия возможного опыта идентичны условиям
возможности объектов опыта. В качестве первой задачи, таким
образом, выступает анализ вообще всех наших всегда уже интуитивно
употребляемых понятий предметов. Этот вид объяснения имеет
характер неэмпирической реконструкции тех предварительных
действий познающего субъекта, которым нет альтернативы: никакой
опыт не должен мыслиться в качестве возможного при иных
предпосылках. В основе трансцендентального обоснования лежит,
следовательно, вовсе не идея вывода из принципов, но, напротив, та идея,
что мы способны удостовериться в незаместимости определенных,
интуитивно всегда уже осуществленных согласно неким правилам
операций.
360
Ю. Хабермас. Философия как местолюбитель и интерпретатор
Ну а дурную славу мастера и господина мысли Кант снискал себе
потому, что при помощи трансцендентальных обоснований им была
создана новая дисциплина, теория познания. Тем самым он как раз
и дал новую дефиницию задачи или, лучше, профессионального
призвания философии, притом сделав это весьма претенциозным
образом. И тут в первую очередь есть два аспекта, в которых это
призвание философа стало для нас сомнительным.
Непосредственно сомнение связано с фундаментализмом теории
познания. Если философия считает себя способной на познание до
познания, она полагает между собой и науками некую собственную
область и благодаря этому выполняет функции господства. Именно
тем, что она претендует на окончательное разрешение вопроса о
фундаментальных основах наук, на окончательную, раз и навсегда
данную, дефиницию границ доступного опыту, философия указывает
наукам их место. И, кажется, принимая на себя эту роль указывателя
места, она претендует на слишком многое.
Но и это еще не все. Трансцендентальная философия не
исчерпывается теорией познания. Критика чистого разума наряду с анализом
оснований познания берет на себя и задачу критики ложного
употребления нашей приноровленной лишь к явлениям познавательной
способности. Место субстанционального понятия разума в
метафизической традиции у Канта занимает понятие различенного в своих
моментах разума, единство которого имеет теперь не более чем
формальный характер. Кант отделяет практический разум и способность
суждения от теоретического познания и ставит каждую из этих
способностей на ее собственный фундамент. Тем самым он отводит
философии роль высшего судьи также и в отношении культуры в целом.
Благодаря тому что философия, как позже скажет Макс Вебер,
разграничивает между собой и одновременно легитимирует внутри их границ
культурные ценностные сферы науки и техники, права и морали,
искусства и его критики, исходя единственно лишь из формальных
признаков, она ведет себя как высшая судебная инстанция не только по
отношению к наукам, но и по отношению к культуре в целом1.
Существует, таким образом, связь между фундаменталистской
теорией познания, которой философии предоставляется роль некоего
указывателя места наукам, и навязанной культуре в целом аисторич-
ной понятийной системой, которой философия обязана не менее
сомнительной ролью судьи, вершащего суд над подвластными ему
территориями науки, морали и искусства. Без трансцендентально-
философского удостоверения фундаментальных основ познания
повисло бы в воздухе также и то представление, согласно которому
«философ способен разрешать questtones juris относительно притязаний
остальных областей культуры... Если мы отказываемся от мысли, что
философ способен познать нечто о познании, чего никто иной не в
361
Незавершенное, нерешенное
состоянии с тем же успехом познать, то это означает, что мы более не
исходим из того, что его голос может претендовать на то, чтобы быть
выслушанным в первую и в последнюю очередь всеми остальными
участниками разговора. Это равным образом означало бы, что мы
более не верим в то, что существует нечто такое, как "философский
метод" ex officio, позволяющий профессиональным философам иметь
интересные воззрения относительно, например, респектабельности
психоанализа, легитимности сомнительных законов, разрешения
моральных конфликтов, "фундированное™" вкладов
историографических школ или направлений литературной критики и тому подобного»2.
В своей впечатляющей «Критике философии» Р. Рорти
развертывает метафилософскую аргументацию, заставляющую нас
усомниться в том, способна ли в самом деле философия к исполнению преду-
готованной ей мастером мысли Кантом роли указывателя места и
судьи. Менее убеждают меня те выводы, которые делает из этого
Рорти: утверждение, что вместе с отказом от обеих этих ролей философия
должна сложить с себя обязанности «хранителя рациональности».
Философия должна, если я правильно понимаю Рорти,
расплатиться за свою новую скромность тем самым притязанием на разум, с
которым философское мышление как таковое и пришло в этот мир. С
отмиранием философии должно также сойти на нет и убеждение, что
трансцендирующая сила, которую мы связываем с идеей истинного
или безусловного, является необходимым условием гуманных форм
совместной жизни людей.
В кантовском понятии формального и в себе
дифференцированного разума уже заложена теория модерна. Для последней характерен
отказ от субстанциальной рациональности, присущей религиозным и
метафизическим толкованиям мира, с одной стороны, и, с другой —
доверие к процедурной рациональности, из которой наши
обоснованные точки зрения, будь то в сфере объективирующего познания,
морально-практических воззрений или эстетической оценки,
заимствуют свои притязания на значимость. Теперь я спрашиваю себя:
действительно ли подобное понятие модерна должно быть
неразрывно связано с требованиями фундаменталистского обоснования,
выдвигаемыми теорией познания, и разделить их судьбу?
В дальнейшем я намерен рассказать лишь одну историю, в
которой найдет себе место и критика философии, осуществляемая Рорти.
На этом пути наверняка не удастся разрешить наш спор, но, может
быть, удастся прояснить некоторые из его предпосылок. Я начну с
гегелевской критики кантовского фундаментализма; ею
трансцендентальный модус обоснования заменяется иным, диалектическим (1).
Затем я буду следовать основным направлениям критики обоих этих
способов обоснования; и притом в первую очередь — той
самокритике, которая развертывается, следуя линии Канта и Гегеля (2); затем —
362
Ю. Хабермас. Философия как местолюбитель и интерпретатор
той более радикальной, направленной одновременно и против
Канта, и против Гегеля критике, с которой выступили прагматизм и
герменевтическая философия (3). На эту ситуацию некоторые, и далеко
не самые незначительные, философы откликаются тем, что вовсе
ликвидируют до сих пор сохранявшееся философией притязание на
разум (4). В противоположность этому я намерен защищать тезис,
согласно которому философия, даже отказавшись от проблематичных
ролей определения места и высшего судии, может сохранить свое
притязание на разум в более скромной функции блюстителя места и
интерпретатора — и должна его сохранить (5).
(1). Диалектический способ обоснования обязан своим
возникновением полемике Гегеля с трансцендентальным способом
обоснования. Для моего краткого рассмотрения было бы вполне достаточным
напомнить о том, что в первую очередь Гегель солидаризуется с тем
упреком, согласно которому Кант всего лишь использовал уже
наличествующие и «подобрал исторически» уже существующие чистые
понятия рассудка в своей таблице форм суждений, не дав им никакого
обоснования. За ним осталось доказательство того, что априорные
условия возможности опыта являются «необходимыми». Гегель периода
«Феноменологии» стремится устранить этот изъян с помощью
генетического подхода. В трансцендентальной рефлексии, являвшейся для
Канта одноразовым коперниканским переворотом, Гегель открывает
механизм превращения сознания, постоянно функционирующий в
истории происхождения духа. В субъекте, который сознает самого себя
и в котором преломляются один облик сознания за другим,
осуществляется тот опыт, в соответствии с которым то, что первоначально
противостоит ему в качестве в-себе-сущего, может стать содержанием
только в тех формах, которые он сам прежде того уже сообщил
объекту. Опыт трансцендентального философа повторяется естественным
образом в становлении для-него в-себе-бытия. Гегель называет
диалектической реконструкцию переработки этого повторенного опыта,
которым порождаются все более комплексные структуры, и в конце
концов, не только та форма сознания, которая исследовалась Кантом, но
и ставшее самостоятельным и даже абсолютным знание, что
позволяет феноменологу Гегелю присутствовать при генезисе всего лишь пред-
найденных Кантом структур сознания.
Правда, Гегель навлекает на себя возражения, подобные тем, что
он выдвигал против Канта. Ведь реконструкция последовательности
форм сознания еще нисколько не является доказательством той
имманентной необходимости, с которой якобы одна из них
проистекает из другой. Этот дезидерат Гегель вынужден восполнить при
помощи иных средств, а именно в форме логики; тем самым он, однако,
закладывает основы абсолютизма, который далеко превосходит
требования, предъявляемые Кантом к философии. Гегель периода «Ло-
363
Незавершенное, нерешенное
гики» ставит перед философией энциклопедическую задачу
понятийного освоения рассеянного по всем наукам содержания.
Одновременно Гегель делает эксплицитной ту теорию модерна, которая была
всего лишь задумана в кантовском понятии разума, и развивает ее в
критику раздоров распадающегося в самом себе модерна. Этим
философии вновь присваивается исполненная актуальности и
всемирно-исторического значения роль по отношению к культуре в целом.
Именно таким образом Гегель и еще более его ученики навлекают на
себя то самое подозрение, которым первоначально и был
сформирован образ мастера и господина мысли3.
Но метафилософская критика мастеров мысли, направляется ли
она против гегелевского абсолютизма или против кантовского
фундаментализма, есть продукт более поздней эпохи. Она идет по следам
той самокритики, которая уже с давних пор осуществлялась
последователями Канта и Гегеля. Я хотел бы коротко напомнить о двух
линиях этой самокритики, поскольку обе они, как мне кажется,
продуктивным образом дополняют друг друга.
(2). Линия критики кантовского трансцендентализма в очень
огрубленной форме может быть представлена аналитической позицией
Стросона, конструктивистской — Лоренцена и критицистской —
Поппера. Аналитическая рецепция кантовского подхода избавляет
себя от претензии на последнее обоснование. Она с самого начала
отказывается от той цели, которой надеялся достигнуть Кант при
помощи дедукции чистых понятий рассудка из единства самосознания, и
ограничивается лишь выявлением понятий и правил, лежащих в
основе любого опыта, который может быть представлен в элементарных
высказываниях. Анализу подвергаются тут всеобщие и необходимые
концептуальные условия возможного опыта. Не стремясь к
доказательству объективной значимости этих фундаментальных понятий и
пресуппозиций, данный вид анализа тем не менее сохраняет
универсалистские притязания. Для того чтобы последние могли быть выполнены,
трансцендентальная стратегия обоснования подвергается
перепрофилированию в смысле процедур тестирования. Гипотетически
реконструированной понятийной системе, долженствующей служить основой
опыта в целом, если она верна, не должно существовать никакой
разумной альтернативы. Но в таком случае каждый раз, когда
предлагается какая-либо альтернатива, должно быть показано, что последней
всегда уже используется сама оспариваемая ею гипотеза. Подобного
рода способ аргументации нацелен на доказательство
неопровержимости понятий и предпосылок, выявленных в качестве
фундаментальных. В этом варианте ставший скромнее философ-трансценденталист
берет на себя одновременно и роль скептика, пытающегося
продуцировать фальсифицирующие контрпримеры4; он ведет себя, другими
словами, как испытывающий гипотезы ученый.
364
Ю. Хабермас. Философия как местолюбнтель и интерпретатор
Конструктивистская позиция пытается иным образом восполнить
возникающий отныне в перспективе трансцендентальной философии
дефицит обоснования. Она с самого начала признает
конвенциональный характер основной понятийной организации нашего опыта,
используя при этом, однако, средства конструктивистской критики
языка для критики познания5. Обоснованными в таком случае считаются
конвенции, которые создаются лишь поддающимся проверке способом;
тем самым основы познания, скорее, закладываются, чем обнажаются.
Критицистская позиция, как это представляется, полностью
порывает с трансцендентализмом. Следствием из трилеммы Мюнхгаузена
между кругом, бесконечным регрессом и апелляцией к последним
очевидностям6 может быть только отказ от фундаментального
обоснования вообще. Идея обоснования заменяется тут идеей
критической апробации. Правда, возведенная в ранг эквивалента
обоснования, критика сама теперь является приемом, которым мы не можем
пользоваться беспредпосылочно. Поэтому вместе с дискуссией о не
могущих быть опровергнутыми правилах критики в самую
сердцевину критицизма возвращается в ослабленной версии кантовский модус
обоснования7.
По линии гегельянства движение самокритики развивается до
известной степени параллельно. Наличествующие здесь позиции можно
было бы разъяснить на примере материалистической критики познания
ранним Лукачем, отказывающим диалектике природы в праве на
обоснование и ограничивающим его лишь произведенным человеком
миром; далее — на примере практицизма Карла Корша или Ханса Фрейе-
ра, переворачивающих с ног на голову классическое соотношение
теории и практики и связывающих реконструкцию общественного
развития с корыстной целью фабрикации будущего состояния общества; и
наконец, — на примере негативизма Адорно, усматривающего во
всеобъемлющем контексте логического развития всего лишь
подтверждение тому, что чары разбухающего до социальной тотальности
инструментального разума уже более не удастся рассеять.
Я не намерен здесь вдаваться в подробное описание этих позиций.
Но интересно отметить, что обе линии критики на весьма
продолжительных отрезках развертываются параллельно друг другу. И
начинается ли самокритика с сомнения в кантовской трансцендентальной
дедукции или с сомнения в гегелевском переходе к абсолютному знанию,
в обоих случаях она направлена против притязания на то, что
категориальный аппарат или модель прогрессирующего формирования
человеческого духа могут быть представлены как необходимые, вслед за чем
как, с одной стороны, конструктивизмом, так и, с другой—
практицизмом осуществляется один и тот же поворот от рациональной
реконструкции к производящей практике, каковым поворотом затем и
должна быть предоставлена возможность теоретического воспроизве-
365
Незавершенное, нерешенное
дения этой практики. В конечном итоге критицизм и негативизм
сходятся в том, что, отвергая трансцендентальный и диалектический
способы познания, они парадоксальным образом ими же и пользуются.
Обе эти радикальные попытки отрицания могут быть также поняты и
таким образом, что ни одного из этих модусов обоснования не
удается упразднить, не впадая при этом в самопротиворечие.
Этим сравнением параллельно развивающихся попыток
самокритичного ограничения притязаний трансцендентального и диалектического
способов обоснования на первый план выдвигается следующий вопрос:
должны ли уступки со стороны обеих программ обоснования просто
суммироваться, тем самым усиливая предубеждения скептического
характера в отношении обоснования, или же — не являются ли как раз уступки по
части целей доказательства с обеих сторон условием того, что
редуцированные стратегии обоснования могут начать дополнять друг друга,
вместо того чтобы, как прежде, друг другу противостоять? Тому, как мне
кажется, может послужить — как для философов, так и для тех, кто хотел
бы таковым остаться, — поучительной моделью генетический
структурализм Жана Пиаже. Пиаже понимает «рефлектирующую абстракцию» в
качестве механизма научения, позволяющего объяснить процесс
перехода в онтогенезе от предыдущей ступени когниции к ее последующей
ступени, причем когнитивное развитие протекает тут, ориентируясь на де-
центрированное миропонимание. «Рефлектирующая абстракция» сходна
с трансцендентальной рефлексией в том, что она доводит до сознания,
дифференцирует и реконструирует на ближайшей более высокой ступени
рефлексии первоначально скрытые в содержании познания формальные
элементы в качестве деятельностных схем познающего субъекта. В то же
время этот механизм научения обладает некой функцией, сходной с той,
которую у Гегеля имеет сила негации, диалектически снимающая формы
сознания, как только они вступают в противоречие с самими собой8.
(3). Во всех шести вышеупомянутых мною позициях преемников
Канта и Гегеля сохраняется, хотя и выдвигаемое теперь уже более
осмотрительно, притязание на разум — и этим отличаются Поппер и Ла-
катош от Фейерабенда, Хоркхаймер и Адорно от Фуко. Ими все еще
высказывается нечто об условиях неизбежности трансцендирующего,
выходящего за пределы всех локальных и темпоральных ограничений
притязания на значимость тех мнений, которые мы считаем
оправданными. И именно это право на разум есть то, что ставится теперь под
вопрос критикой мастеров и господ мысли. Последняя, таким образом,
поистине есть дискурс в защиту отставки философии. Для того чтобы
дать объяснение этому радикальному повороту, я должен более
детально остановиться еще на одном направлении критики, одновременно
обращенном как против Канта, так и против Гегеля.
Выдвигаемое прагматической и герменевтической философией
сомнение в праве философского мышления на обоснование и самообоснова-
366
Ю. Хабермас. Философия как местолюбитель и интерпретатор
ние идет гораздо дальше, нежели сомнение критиков, сохраняющих
преемственность по отношению к Канту и Гегелю. Эти философские
направления вообще покидают тот горизонт, в котором движется
философия сознания с ее ориентированной на восприятие и представление
предметности моделью познания. Место обособленного субъекта,
обращенного к предметам и даже, в рефлексии, превращающего в предмет
самого себя, занимает тут не только идея опосредованного языком и
соотнесенного с действием познания, но также и взаимосвязь
повседневной практики с повседневной коммуникацией, в которой с самого
начала задействованными являются интерсубъективные и одновременно
кооперативные познавательные механизмы. И тематизируется ли теперь
эта взаимосвязь в качестве формы жизни или жизненного мира, как
практика или опосредованная языком интеракция, в качестве языковой
игры или диалога, как культурный фон, традиция или
Wirkungsgeschichte*, решающим тут является то, что отныне все эти common-sense-no-
нятия приобретают особый статус, прежде зарезервированный
исключительно за фундаментальными эпистемологическими понятиями, не
претендуя, однако, на выполнение тех же функций и таким же образом,
как это предписывалось последними. И здесь речь идет не просто о том,
что измерения действия и языка должны быть предпосланы когниции.
Правильнее было бы сказать, что целенаправленная практика и
языковая коммуникация берут йа себя совершенно иную
понятийно-стратегическую роль, чем та, которая досталась в свое время саморефлексии
в философии сознания. Они выполняют функцию обоснования лишь
постольку, поскольку с их помощью потребность в знании основ
отвергается в качестве неоправданной.
Ч.С. Пирс оспаривает возможность радикального сомнения с тем
же самым намерением, с каким Дильтей оспаривает возможность
нейтрального понимания. Проблемы всегда навязывают себя нам
лишь в определенных ситуациях; они предстают перед нами в
качестве чего-то до известной степени объективного потому, что мы не
способны располагать, по желанию, целостностью наших
практических жизненных взаимосвязей. Аналогично поступает и Дильтей. Мы
не понимаем символическое выражение без предварительного
интуитивного понимания его контекста потому, что мы не в состоянии по
нашему произволу превращать в эксплицитное знание бесспорно
присутствующее тут знание нашего культурного фона. Любое
решение проблемы и любая интерпретация находятся в зависимости от
необозримой сети предпосылок; и эта сеть именно из-за своего
одновременно и холистского, и партикулярного характера не может быть
выявлена анализом, имеющим своей целью всеобщее. Это — та линия
аргументации, на которой критике подвергаются равным образом как
миф данного и, следовательно, различение между чувственностью и
рассудком, созерцанием и понятием, формой и содержанием, так и
367
Незавершенное, нерешенное
различение между аналитическими и синтетическими суждениями,
между априори и апостериори. Эта текучесть кантовских дуализмов
все еще напоминает гегелевскую метакритику; однако благодаря
связанным с ней контекстуализму и историзму также отсекается
окончательно и возможность возврата к Гегелю.
Достигнутое на путях прагматического и герменевтического
способов исследования неоспоримо. Тут и отказ от ориентации на
результаты работы сознания осуществлен в пользу установки на объективации
действия и языка. И отказ от фиксации на познавательной функции
сознания и на изобразительной функции языка, на визуальной
метафорике «зеркала природы» осуществлен тут в пользу концепта
оправданных мнений, распространяемого, вместе с Витгенштейном и
Остином, на все поле иллокуционарных сил, таким образом, на все, что
может быть сказано, — а не только на содержание констатирующей
факты речи. «Говорить о том, как обстоит дело с чем-либо»,
становится тем самым специальным случаем выражения «говорить нечто»10.
Но являются ли эти прозрения совместимыми лишь с одной
трактовкой прагматизма и герменевтической философии, навязывающей
отказ от правопритязаний философского мышления на разум и тем
самым на отставку самой философии, — или же эти прозрения
знаменуют собой начало новой парадигмы, хотя и приходящей на смену мен-
талистской языковой игре философии сознания, но не аннулирующей
осваиваемых и умеряемых в ходе их самокритики модусов
обоснования, разработанных философией сознания? За неимением
убедительных и, главное, простых аргументов я не могу дать прямого ответа на
этот вопрос; и снова прибегаю к нарративному изложению.
(4). Маркс хотел снять философию для того, чтобы воплотить ее
в действительность, — он был до такой степени убежден в
истинности содержания гегелевской философии, что очевидные, но Гегелем
не признаваемые расхождения между понятием и действительностью
воспринимались им в качестве нетерпимых. Нечто совсем иное
связывается сегодня с жестом прощания с философией.
Расставание с философией происходит в наше время в трех более
или менее ярких формах. Простоты ради я хотел бы назвать их
терапевтической, героической и спасительной формами прощания.
Витгенштейн научил нас понятию терапевтически направленной
против самой себя философии. Философия есть болезнь, которую сама
же она и должна однажды вылечить. Философами были смешаны все
функционирующие в повседневной жизни языковые игры. Таким
образом, приводящая себя самое к исчезновению философия оставляет
в конечном итоге все так, как оно есть; ибо масштабы своей критики
она заимствует у самодостаточных, практически отыгранных
жизненных форм, в которых она застает самое себя. Если нужно, чтобы
существовал наследник уволенной в отставку философии, то наиболее мно-
368
Ю. Хабермас. Философия как местолюбитель и интерпретатор
гообещаюшим кандидатом тут является
культурно-антропологическое полевое исследование: история философии будет когда-нибудь
представлена им в качестве малопонятного образа действий так
называемых философов— странного и, к счастью, вымершего племени.
(Возможно, что однажды Р. Рорти станут прославлять как Фукидида
подобной традиции исследования, который смог приступить к делу
лишь после того, как подействовала терапия Витгенштейна.)
По сравнению с квиетистским расставанием терапевтически
настроенных философов осуществляемое Жоржем Батаем или Хайдеггером
разрушение истории философии и духа выглядит, скорее, героическим.
И с этой точки зрения также ложные привычки мышления и жизни
сконцентрированы в нормативных формах философской рефлексии; но
заблуждения метафизики и обо всем выносящего свое решение
мышления, подлежащие сегодня деконструкции, не исчерпываются тут
притворно простодушными категориальными ошибками и нарушениями
практики повседневности — они имеют эпохальный характер. Это более
драматизированное расставание с философией обещает не просто
исцеление, но сохраняет в себе нечто от гельдерлиновского пафоса спасения
в момент наивысшей опасности. Девальвированный философский
способ мышления не должен быть предложен по сниженной цене, он должен
уступить место иному медиуму, предоставляющему возможность не-дис-
курсивного возвратного восхождения в непредмыслимость суверенитета
или бытия.
Наиболее незаметное прощание с философией происходит в его
сальвационной форме, чему могут послужить примером многие
значительные интерпретаторские достижения герменевтически
преломленного неоаристотелизма. Правда, эти примеры никоим образом не
являются однозначными, поскольку декларируемой целью тут является
спасение старых истин. С философией расстаются тут, скорее, из-под
полы, как раз во имя ее консервации, что означает: освобождая ее от
каких-либо систематических притязаний. Учения классиков не
воспроизводятся тут ни в качестве вклада в дискуссию о реальном
положении дел, ни в качестве филологически и исторически обработанного
образовательного материала. Ассимилирующее освоение обращается с
текстами, некогда призванными репрезентировать накопленное
знание, скорее, как с источниками просветления и воскрешения.
В той мере, в какой современная философия развертывается в этих
формах, она удовлетворяет требованию, проистекающему из критики
мастера и господина мысли Канта, в особенности — фундаментализма
его теории познания: она, несомненно, более не притязает по
отношению к наукам на ставшую сомнительной роль некоего предписывате-
ля места. Постструктуралистские, позднепрагматистские и неоистори-
цистские направления обнаруживают тенденцию к узкому и
объективистскому пониманию науки. В противовес верному идеалам
ОА_ ЪА1А
369
Незавершенное, нерешенное
научной объективности познанию они хотели бы в первую очередь
отвоевать место сфере либо просветляющего, либо пробуждающего,
но наверняка не-объективирующего мышления, избавляющегося от
ориентации на притязания, обладающие всеобщей и подлежащей
критике значимостью, уже более не имеющего своей целью
образование консенса11 в смысле неоспоримых результатов, мышления,
выпадающего из универсума обоснованных точек зрения, не стремясь
при всем том к отказу от признания авторитета продуманных
позиций. Позиция, которую занимает в отношении наук увольняющая
себя в отставку философия, сходится с экзистенциалистским
разделением труда, как оно пропагандировалось начиная с Сартра и Яс-
перса и кончая Колаковски: сфере науки противостоят философская
вера, жизнь, экзистенциальная свобода, миф, воспитание и т.д. Все
эти противоположности имеют тождественную структуру, даже если
то, что Макс Вебер назвал культурным значением науки,
оценивается тут то более негативно, то более позитивно. Континентальные
философы склонны, как известно, драматизировать опасности
объективизма, в то время как англосаксонский мир поддерживает более
нормальные отношения с инструментальным разумом.
Интересный вариант этой темы вводится Ричардом Рорти путем
противопоставления нормальному дискурсу не-нормального. Соответствия
норме устоявшиеся науки достигают в фазе общепризнанного
теоретического прогресса; тогда становится известным способ, при помощи
которого решаются проблемы и улаживаются спорные вопросы. Такие
дискурсы Рорти называет соизмеримыми — здесь можно полагаться на
обеспечивающие консенс масштабы. Несоизмеримыми или
ненормальными дискурсы остаются до тех пор, пока спорны основные
ориентации. Если же эти несоизмеримые диалоги ведутся теперь, уже не
преследуя цель перехода к нормализованному состоянию, но отступая от
стремления к универсальному согласию и довольствуясь надеждой на
«интересное и плодотворное не-согласие», — как только, таким образом,
ненормальные дискурсы становятся самодостаточными, они
приобретают качества, которые Рорти обозначает словом «edifying». В эти
наставительные диалоги философия выливается после того, как она отреклась
от своего назначения: решать проблемы. В версии Рорти она сочетает в
себе тогда разом все добродетели, которые она обрела на путях
терапевтически облегчающего, героически преодолевающего и
герменевтически пробуждающего расставания с философией: незаметно
разрушительная сила праздности объединяется тогда с элитарной фантазией
языкового творчества и мудростью традиции. Тяга к образованию
реализуется тут, правда, за счет стремления к истине: «Поучающие
философы не в состоянии положить конец философии, но все же могут
воспрепятствовать тому, чтобы она начала идти по проторенной тропе
науки»12. Это распределение ролей может, несомненно, рассчитывать на
370
Ю. Хабермас. Философия как место любитель и интерпретатор
симпатию в той мере, в какой философия освобождается им от
необоснованно приписываемого ей статуса высшей судебной инстанции в
делах науки и культуры. Тем не менее я не нахожу его убедительным,
потому что даже прагматистски и герменевтически осведомленная о
своих границах философия совершенно не могла бы удержаться в
наставительных диалогах по ту сторону наук, не будучи тотчас же
втянутой в кильватерную струю аргументации и таким образом вновь — в
дискурс обоснования.
То, что экзистенциалистское или, сказали бы мы, эксклюзивное
разделение труда между философией и наукой не работает и не может
работать, показывает именно та дискурсивно-теоретическая
формулировка, которую она получает у Рорти. Если значимость точек зрения не
может измеряться в конечной инстанции не чем иным, как
достигаемым путем аргументации согласием, то в таком случае как раз все, о
чем мы вообще можем спорить, покоится на весьма шатком
фундаменте. И тогда вопрос о том, колеблется ли почва рационально
мотивированного согласия под ногами участников аргументативной дискуссии
в области физики немного менее, чем в случае дискуссии в области
морали или эстетики, является настолько вопросом степени, что
нормализация дискурсов уже не может быть тут предложена в качестве
избирательного критерия науки и философско-образовательной беседы.
(5). Для приверженцев эксклюзивного разделения труда
предосудительными всегда являлись те традиции исследования, в которых
особенно отчетливо воплощался внутри наук философский элемент. Марксизм
и психоанализ, которым может быть поставлено в вину гибридное
смешение нормальных и ненормальных дискурсов, должны считаться
псевдонауками уже только потому, что они не укладываются в
постулируемое разделение труда — и у Рорти это ничуть не иначе, чем у Ясперса.
Однако мое знание истории социальных наук и психологии убеждает
меня в том, что оба эти подхода не являются чем-то нетипичным; они
знаменуют собой, и вполне удачно, тот тип теорий, которым в
определенный момент закладываются основы новых традиций исследования.
То, что относится к Фрейду, относится в этих дисциплинах и ко всем
теоретикам-первооткрывателям, например к Дюркгейму, Г.Х. Миду,
Максу Веберу, Пиаже и Хомски. Всеми ими, если это выражение
вообще имеет какой бы то ни было смысл, в ситуацию специального
исследования подобно взрывному тезису была введена подлинно
философская мысль. Симптомообразующая функция вытеснения,
учреждающая солидарность функция священного, формирующая
индивидуальность функция принятия на себя роли, модернизация как
рационализация общества, децентрация как следствие
рефлектирующего абстрагирования от действий, овладение языком как гипотезо-
образующая активность — каждое из этих ключевых слов является
залогом какой-либо подлежащей философскому раскрытию мысли и
24*
371
Незавершенное, нерешенное
одновременно поддающейся эмпирической обработке, но
универсалистской постановки вопроса. Этим объясняется также и то
обстоятельство, почему именно эти теоретические подходы регулярно
навлекают на себя эмпиристские контратаки. Все это — циклы истории
науки, которые никоим образом не свидетельствуют о том, что всем
этим дисциплинам присуще стремление к некой точке конвергенции,
являющейся одновременно и точкой единой науки; они
свидетельствуют скорее о том, что гуманитарные науки получают статус
философских, чем о победоносном шествии объективистских подходов
наподобие нейрофизиологического, этого на удивление любимого
детища философов-аналитиков.
Естественно, что по этому поводу могут выдвигаться в лучшем
случае лишь суггестивные предположения. Но если эта перспектива не
обманчива, то не совсем ошибочным было бы спросить, не могла ли
философия обменять роль указывателя места на роль блюстителя места —
некоего держателя места для эмпирических теорий с сильными
универсалистскими притязаниями, попытки которых все вновь и вновь
предпринимаются продуктивными головами в частных дисциплинах. Это в
первую очередь относится к использующим метод реконструкции
наукам, которые исходят из дотеоретического знания компетентно
судящих, действующих и говорящих субъектов, а также из транслируемых в
культуре систем знания для того, чтобы выявить предположительно
всеобщие основания рациональности опыта и суждения, действия и
языкового взаимопонимания. Вполне ощутимая поддержка в этом может
быть оказана умеренными в своих притязаниях трансцендентальным и
диалектическим способами обоснования; ведь на них могли бы все еще
опираться те гипотезы, реконструкции, которые подлежат дальнейшей
переработке в эмпирических контекстах. Примеры такого вовлечения
философии в научную кооперацию я наблюдаю повсеместно там, где
философы заняты в качестве разработчиков теории рациональности, не
выдвигая никаких фундаменталистских и уж тем более всеобъемлюще-
абсолютистских претензий. Они работают тут, напротив, в фаллибили-
стическом13 осознании того факта, что отныне того, на что некогда
считалась в одиночку способной философия, следует ожидать только от
удачного сочетания различных теоретических фрагментов.
Под углом зрения своих собственных исследовательских
интересов я вижу, что подобного рода кооперация намечается между
исследованиями в области теории и истории науки, между теорией
языковых актов и различными подходами в сфере эмпирической языковой
прагматики, между теорией неформальной аргументации и
различными подходами к исследованию аргументации естественной,
между когнитивистскими этиками и психологией развития морального
сознания, между философскими теориями действия и
исследованием онтогенеза деятельностных компетенций.
372
Ю. Хабермас. Философия как местолюбитель и интерпретатор
Но если верно то, что философия вступаете подобного рода
неэксклюзивное разделение труда с гуманитарными науками, то уж в
таком случае, судя по всему, ею тем более ставится на карту ее
собственная идентичность. Р. Шпаеманн не так уж неправ, настаивая на
том, «что всякая философия выдвигает притязание на практическую
и теоретическую тотальность. Не выдвигать ее — значит не
заниматься философией»14. Разумеется, философия, прилагающая все усилия
для выявления рациональных основ познания, деятельности и языка,
даже если это происходит на основе разделения труда, все же
сохраняет тематическую связь с целым. Но как быть с теорией модерна, с
тем доступом к целому культуры, который обеспечили себе Кант и
Гегель своими безразлично фундирующим или абсолютизирующим
понятиями разума? Ведь вплоть до гуссерлевского «Кризиса
европейских наук» философией из ее статуса высшей судебной инстанции
выводились также и функции общей ориентации. И если она теперь
слагает с себя роль судьи в делах культуры точно так же, как и в
делах науки, не отказывается ли она тем самым вдобавок еще и от той
соотнесенности с тотальностью, на которую она могла бы и должна
была бы опираться в качестве «хранителя рациональности»?
Однако с культурой в целом дело обстоит точно так же, как и с
науками; культура не нуждается ни в каком обосновании и ни в каком
распределении по разрядам. В эпоху модерна начиная с XVIII
столетия ею были порождены из самой себя как раз те структуры
рациональности, которые Максом Вебером совместно с Эмилем Ласком
были обнаружены и описаны в качестве ценностных сфер культуры.
С возникновением современной науки, позитивного права и
выводимых из принципов светских этик, с возникновением ставшего
автономным искусства и институционализировавшейся искусствоведческой
критики выкристаллизовались сами по себе и без содействия
философии вышеуказанные три момента разума. Равным образом не прибегая
к руководству со стороны критики разума, учатся сыновья и дочери
модерна тому, как им продолжать далее усовершенствование культурного
наследия, расщепляя его в соответствии с каким-либо одним из этих
аспектов рациональности на вопросы истины, вопросы справедливости
или вопросы вкуса. Об этом свидетельствуют сами эти, в высшей
степени интересные, процессы вычленения. Науки мало-помалу
отделываются от элементов картин мира и отказываются от интерпретации
природы и истории в целом. Когнитивистские этики исключают проблемы
благой жизни и сосредоточиваются на строго деонтических,
поддающихся обобщению аспектах, так что от благого в наличии остается
только справедливое. А ставшее автономным искусство настаивает на все
более и более чистом выражении фундаментального эстетического
опыта, в котором деконцентрированная, изъятая из
пространственно-временных структур повседневности субъективность вступает в общение
373
Незавершенное, нерешенное
с самой собой — субъективность освобождается тут от конвенций
повседневного восприятия и целеполагающей деятельности, от
императивов труда и практической пользы.
Эти примечательные односторонности, по которым распознается
след модерна, не нуждаются ни в обосновании, ни в оправдании; но
они порождают проблему опосредования. Как может сохранить свое
единство рассредоточенный в своих моментах по различным
регионам культуры разум и каким образом могут удалившиеся в высокие
формы эзотерии эксперт-культуры поддерживать связь с
коммуникативной практикой повседневности? Философское мышление, еще не
отвратившееся от темы рациональности и еше не избавившее себя от
анализа условий безусловного, обнаруживает себя стоящим перед
лицом этой двоякой потребности в опосредовании.
Проблемы опосредования возникают в первую очередь в сферах
науки, морали и искусства. Здесь образуются встречные движения. Так,
необъективистские исследовательские подходы в гуманитарных науках, не
ставя под угрозу примат вопросов истины, утверждают значимость также
и представленных в моральной и эстетической критике позиций. Так,
дискуссией по проблемам этики ответственности и убеждений и более
полным учетом утилитаристских мотивов в универсалистских этиках
вовлекаются в игру позиции калькуляции последствий и интерпретации
потребностей, принадлежащие компетенции когниции и экспрессии.
Наконец, для поставангардистского искусства характерна примечательная
синхрония реалистических и политически ангажированных направлений
с аутентичным продолжением классического модерна. Результатом
этого явилось окончательное препарирование своеобразия эстетического; но
вместе с реалистическим и ангажированным искусством на уровне
изобилия форм, вызванного к жизни авангардом, вновь обретают значимость
моменты когнитивные и морально-практические. Создается впечатление,
будто радикально дифференцированные в подобного рода встречных
движениях моменты разума стремятся указать на некое их единство, которое,
разумеется, должно было бы быть вновь обретено лишь по эту сторону
эксперт-культур, — таким образом, в повседневности, а не в чем-то
потустороннем, на почве и в безднах классической философии разума.
В практике повседневной коммуникации когнитивные
истолкования, моральные ожидания, экспрессии и оценки и без того уже с
необходимостью пронизаны друг другом. Поэтому процессы
взаимопонимания в жизненном мире нуждаются в культурной традиции во
всем ее объеме, а не только в благословенных плодах науки и
техники. Так что философия могла бы вновь сделать актуальной свою
соотнесенность с тотальностью в роли обращенного к жизненному
миру интерпретатора. По меньшей мере она могла бы помочь вновь
привести в движение, подобно тому как приводят в движение
упорно заклинивающий механизм, застопорившуюся совместную игру
374
Ю. Хабермас. Философия как местолюбитель и интерпретатор
когнитивно-инструментального с морально-практическим и
эстетически-экспрессивным15. По крайней мере, можно обозначить ту
проблему, которая встанет перед философией в том случае, если она
откажется от роли инспектирующего культуру судьи в пользу роли
интерпретатора и посредника. Каким образом могут быть открыты
герметически закупоренные в виде эксперт-культур сферы науки,
морали и культуры и, без ущерба для их специфической
рациональности, присоединены к обнищалым традициям жизненного мира таким
образом, чтобы разъединенные моменты разума в практике
повседневной коммуникации соединились в новое равновесие?
Здесь критика мастеров мысли могла бы в последний раз выразить
свое недоверие и задать вопрос: что дает право философу не только в
недрах самих научных систем в некоторых их пунктах резервировать
место для претенциозных теоретических стратегий, но и предлагать
теперь к тому в придачу еще и свои услуги в качестве переводчика,
посредничающего между миром повседневности и модернистской
культурой, изолировавшейся в своих автономных областях? Я думаю, что
именно прагматическая и герменевтическая философия отвечают на
этот вопрос признанием за сообществом тех, кто кооперируется
между собой и говорит друг с другом, авторитета эпистемы. Эта практика
повседневной коммуникации делает возможным притязающее на
общезначимость взаимопонимание — и это в качестве единственной
альтернативы более или менее насильственному воздействию друг на
друга. Но так как притязания на общезначимость, которые мы связываем
в беседе с нашими убеждениями, всегда направлены за пределы
соответствующего контекста, так как они всегда указывают за пределы
ограниченных в пространстве и времени горизонтов, любая
домогающаяся согласия или репродуцирующая его коммуникация должна
опираться на потенциал осязаемых оснований, но именно оснований.
Основания состоят из особого вещества; они вынуждают нас занимать
либо позитивную, либо негативную позицию. Тем самым в условия
ориентированного на взаимопонимание действия оказывается
вмонтированным момент безусловного. И этот момент есть то, что отличает
общезначимость, которой мы домогаемся для наших точек зрения, от
всего лишь социального признания привычной практикой16. То, что
мы считаем правомерным исходя из перспективы первого лица,
является вопросом обоснованности, а не функцией жизненных
привычек. Поэтому существует некий философский интерес в том, чтобы
видеть в наших практиках социального оправдания нечто большее,
чем просто сами эти практики17. Тот же самый интерес кроется и за
тем упорством, с каким философия продолжает настаивать на своей
роли хранителя рациональности — роли, которая, знаю по своему
собственному опыту, во все возрастающей степени доставляет только
одни неприятности и не дает более никаких привилегий.
375
Незавершенное, нерешенное
ИЛ. Фарман
«Для чего нужна философия?» (Ю. Хабермас)
В свете нынешних дискуссий о человеческой рациональности и ее
критериях, о социально-культурной обусловленности знания и
познания особый интерес представляют такие философские
концепции, в которых предпринимаются попытки по-новому
проанализировать взаимоотношения между познающим разумом и современным
миром и тем самым осветить некоторые острые мировоззренческие и
методологические вопросы. С таких позиций могут быть
рассмотрены работы выдающегося философа и социолога ФРГ Юргена Хабер-
маса (Jügen Habermas, род. в 1929 г. в г. Дюссельдорфе). Виднейший
теоретик Франкфуртской школы, во многом наследовавший взгляды
ее основателей М. Хоркхаймера, Т. Адорно, Г. Маркузе и др.,
Хабермас немало своих работ посвятил исследованию специфики
философской мысли в условиях научно-технического прогресса,
трансформации связей научного познания с философией в ситуации
кризиса традиционных методов познания, в том числе марксизма, а
также позитивистских и других концепций, ориентированных на
естественнонаучную модель познания.
Еще в работах 60-70-х годов, принесших автору мировую
известность, «Теория и практика» («Theorie und Praxis», 1964), «Техника и
наука в качестве "идеологии"» («Technik und Wissenschaft als "Ideologie"»,
1968), «О логике социальных наук» («Zur Logik der Sozialwissenschaften»,
1979), Хабермас выявил все усиливающуюся тенденцию к
превращению науки и техники, способствующих индустриализации
общественного труда, во всеобщую форму жизнедеятельности людей;
проанализировал процесс проникновения науки и техники в самые различные
жизненные области, в том числе в институциональные, и указал на его
последствия, проявившиеся в том, что наука и техника приобрели
новые функции: социальные, экономические и политические.
Сосредоточив внимание на негативных сторонах этого процесса, Хабермас
развил вызвавший полемику известный тезис Г. Маркузе о том, что
техника и наука взяли на себя функции господствующей власти,
стали «идеологией», что произошло слияние техники и господства,
рациональности и угнетения, и обосновал вывод, согласно которому
современная технология и связанный с ней прирост производительных сил
обеспечили все расширяющиеся полномочия власти, которая
постепенно вобрала в себя все области культуры. Хабермас обратил
внимание на очевидный парадокс, состоящий в том, что эта экспансия не
воспринимается как несвобода, как нечто иррациональное,
поскольку она выступает как необходимое подчинение рациональному
техническому аппарату. В условиях «постиндустриального» общества, утвер-
376
И.П. Фарман. «Для чего нужна философия?»
ждал Хабермас, должны быть подвергнуты критико-рефлексивному
осмыслению не только сами эти явления, но и те традиционные
методы познания, которые оказались неадекватными существенно
изменившейся социальной действительности с ее историческими сдвигами,
напряженностью, противоречиями.
Это прежде всего касается философии, которая апологетична
по отношению к существующему и в силу этого не может
претендовать на соответствие истинным целям познания —
способствовать правильной ориентации человека в мире и установлению
подлинно человеческих отношений. Вместе с тем Хабермас подверг
критике и притязания научного познания на выражение
целостного взгляда на мир, и его эффективность в качестве всеобщей
методологии на том основании, что оно опирается главным образом на
логико-математический аппарат и оказывается несостоятельным в
решении общественно-исторических вопросов, раскрытии
духовного мира современного человека, культуры в целом. Разделяя
мнение основателей школы о распаде «абсолютной» философии,
«устаревании» марксизма, поддерживая их лозунг «критическая
теория вместо философии», Хабермас обосновал необходимость
разработки социальной философии, суть которой должна состоять не
только в методологии, но и в социальном учении о современном
обществе, опирающемся на широкие конкретные социальные
исследования. Уже в течение трех десятилетий он активно работает
в этой области, создавая теорию, которая — в отличие от логико-
позитивистской методологии — строится с учетом воздействия
ценностно-практических факторов на познавательный процесс.
Она содержит не только критический анализ современной
общественной ситуации, но и исследование основополагающих
понятий критического самосознания индивида, а также ряд «проектов»,
направленных на поиск социальных преобразований.
Так, еще в своей ранней работе «Структурные изменения
общественности» («Strukturwandel der Öffentlichkeit», 1962) Хабермас
охарактеризовал кризисные тенденции в усвоении и функционировании
культуры как системы морально-правовых,
образовательно-воспитательных и других норм, а также поднял одну из важнейших тем
социальной философии в целом: о необходимости формирования
активного действия общественности как социально-правового института,
ее реполитизации — способности освободиться от ложных
идеологических догм и вести открытый диалог по вопросам политической и
государственной власти, содействовать либерализации и
демократизации общественной жизни. В связи с этим особое внимание
уделялось проблемам эмансипации, образования, языкового общения,
коммуникации, которые стали определяющими для всей
философской деятельности Ю. Хабермаса.
377
Незавершенное, нерешенное
В свете наших сегодняшних усилий по демократизации общества
и образования представляют интерес и работы философа, связанные
с его преподавательской деятельностью, а также массовым
движением студенчества — «новыми левыми» — в конце 60-х годов: «Студент
и политика» (в соавторстве), «Университет в демократии —
демократизация университета», «Движение протеста и реформа высшей
школы». В первой обобщен проведенный совместно с коллегами опыт
социологического исследования политического сознания
франкфуртских студентов, в двух других — идеи и проекты
демократических преобразований, а также опыт борьбы студенчества за свои
права, от нигилистических крайностей которой Хабермас, наряду с Т.
Адорно и Г. Маркузе, решительно отмежевался.
Общественно-политические события конца 60-х годов укрепили
убеждение Хабермаса в несостоятельности существующей
философии как мировоззрения; усилилось и его критическое отношение к
теории познания на современном этапе (условно он называет ее
теорией модерна, при этом имея в виду и развитие научного познания в
Новое время вообще). Он готов отрицать ее роль и значимость на том
основании, что уже с середины XIX в. она утратила свою
самостоятельность под напором различных «теорий наук», так что из нее
почти полностью элиминировались важнейшие философские вопросы:
нравственного совершенствования жизни, социально-правовых норм
и др. В работе «Познание и интерес» («Erkenntnis und Interesse», 1968)
Хабермас подробно прослеживает процесс сведения теории познания
к теории науки и усматривает его начало уже в философии Гегеля.
Поскольку приводимый текст посвящен вопросам, связанным с этой
концепцией, остановимся на ней несколько подробнее.
В немецкой классической философии, отмечает Хабермас,
сложилось понятие, в сущности, необусловленного познания, в котором
тождество субъекта и объекта является необходимым условием
существования истины. У Канта проблема обоснования знания решалась
исходя из обусловленности познания структурой индивидуального
сознания. Его последователи развили его мысли, в результате чего
оказалось, что субъект может познать в полной мере лишь себя.
Гегелевская система претендовала на знание целостности и представляла
диалектику целостности, но это было возможно только на основании
того, что суть познавательного процесса в ней усматривалась в
самосознании абсолютного духа, а в связи с этим мистифицировались и
познавательные интенции в целом: они оказывались направленными
на мир, понятый не как объективная реальность, а как продукт
объективного духа. Таким образом, в соответствии с общими
гносеологическими установками процесс развития познания истолковывался в ней
идеалистически. Однако Хабермаса интересовала не исторически
изжившая себя догма, а то, каким образом немецкий идеализм — в отли-
378
И.П. Фарман. «Для чего нужна философия?»
чие от позитивистской философии — пытался обосновать единичное
знание через познание целого. Согласно этому учению, претензия на
единичное знание, на безусловную истину допустима лишь в той мере,
в какой может считаться осуществленным познание целого.
Гегелевская система полностью определялась этой предпосылкой: либо
вообще невозможно никакое подлинное знание, либо возможно знание
целостного субъекта. В соответствии с представлением, что все
познание есть самосознание тождественного самому себе бесконечного
субъекта, в логике Гегеля раскрываются понятия как обусловленные
таким тождеством. Исходя из этих положений, Гегель толкует
природу, мир, человеческую историю. Именно таким пониманием познания,
исходящим из тождества субъекта и объекта, он и обосновывает
разумность действительного. Иначе: в гегелевской системе процесс
познания сущности совпадает с процессом создания самой этой сущности,
поскольку философ исходил из тождества мышления и бытия, что и
определило идеалистический характер гегелевской системы.
С падением основной догмы, исторически закономерным и
неизбежным, когда разработанные идеалистической гносеологией
подходы к анализу действительности вступили в противоречие с практикой
современного познания, на первый план выдвинулись научные
теории, исходящие из материалистических посылок: субъект и объект
стали рассматриваться как материальные системы, между которыми
осуществляется реальная связь. Однако эти теории утратили
метафизический смысл единства с бытием, имели весьма различное
происхождение и результаты, выраженные в форме систематизированных
с разных точек зрения и теоретически обусловленных,
опосредованных опытных знаний, которые уже не могли претендовать на
целостность. Ввиду этого в современной теории познания резко встала
проблема соотношения эмпирического и теоретического и
способности последнего адекватно отражать действительность.
Хабермас считает, что и марксизм с его критицизмом, будучи
главным образом экономическим учением, также не способствовал
развитию современной теории познания. Более того, Маркс говорил о
процессе «упразднения философии» в смысле его практического
осуществления, который сейчас дошел до утраты им собственного предмета,
поскольку историческое развитие перефразировало основной вопрос
философии: вместо ответа на вопрос о соотношении бытия и сознания
требуется ответ на вопрос, почему они таковы. Это обстоятельство, по
мнению Хабермаса, коренным образом меняет и назначение
философии, и направление познавательного процесса, которые должны стать
критической социальной теорией.
Много интересных соображений по этому поводу Хабермас
высказал в книге «Философско-политические профили»
(«Philosophischpolitische Profile», 1971), посвященной памяти Т. Адорно и содержа-
379
Незавершенное, нерешенное
шей очерки о таких выдающихся представителях «большой», по
словам автора, философии, как М. Хайдеггер, Ф. Шеллинг, Г. Марку-
зе и др., ставивших вопрос: «Для чего еще нужна философия?»
Сам Хабермас, отвечая на этот вопрос, разработал несколько
концепций, основные положения которых можно свести к следующему. На
основе «пересмотра» марксистской диалектики производительных сил и
производственных отношений он выдвинул программу преобразования
исторического материализма, исходя из того что открытые марксизмом
диалектика базиса и надстройки, а также некоторые другие
закономерности исторического процесса в современных условиях «не работают».
Производительные силы стабилизируют систему и утрачивают значение
революционного фактора; производственные отношения уступают
место могущественному аппарату, который и управляет не только
производством, но и обществом в целом. Не экономика является базисом,
определяющим характер надстройки, напротив, политика управляет
экономикой. С учетом этих радикальных сдвигов Хабермас и
выдвигает свои «проекты» интерпретации общественного развития посредством
категорий «труд» (или «целерациональное действие») и «интеракция»,
понимая под первой абстрактно-инструментальное и стратегическое
действие (в любой системе, в отличие от марксистского понимания
труда), под второй — сферу коммуникации, взаимодействия личностей,
языкового общения и т. д. Усилия Хабермаса направлены также на
поиски новой рациональности, но не в сфере науки и техники, а в
сфере «интеракции». Раскрывая новые условия и роль человека в
современном мире, Хабермас апеллирует к критическому самосознанию
индивида; активно полемизируя с позитивистами, предлагает
объединить познание и «эмансипационный интерес» в его гуманистическом
понимании с целью исследования перспектив более удачной, истинной
жизни. Отсюда и его обращение к нетрадиционной методологии —
герменевтике, саморефлексии, психоанализу. [См. его работы «Проблемы
легитимизации в условиях позднего капитализма» («Legitimationsprobleme
im Spätkapitalismus», 1973), «К реконструкции исторического
материализма» («Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus», 1976).]
Хабермас ищет новые подходы к решению стоящих перед обществом
задач, прежде всего социальных, которые «чисто» научным путем не
решаются. В связи с этим он предлагает обратиться не только и не столько
к так называемому специальному знанию, сколько к сфере культуры в
целом. Он обосновывает требование рассматривать общество не как
общественно-экономическую формацию, а как социокультурный
феномен, который может быть адекватно интерпретирован посредством нрав-
ственно-социального анализа. Хабермас, говоря его словами,
доказывает «теоремы» новых возможностей, позитивных альтернатив,
связанных в изменением социально-культурной структуры. Он
выступает за формирование нового типа познания и познавательного инте-
380
И.П. Фарман. «Для чего нужна философия?»
реса, все активнее обращающегося к человеку, его личностному
аспекту, и пытается раскрыть те социальные механизмы, которые определят
его мировоззрение. Так, в работах 80-х годов Хабермас развивает
«теорию коммуникативного действия» (в 2 т., одноименного названия), в
основе которой лежит философское и социологическое исследование
«опыта непосредственной коммуникации» (одно из ключевых понятий
социальной философии Хабермаса). Анализируя соотношение личных и
общественных интересов — один из важнейших философских вопросов
во все времена, — он предпринимает попытку выйти на новый
познавательный опыт путем, с одной стороны, более глубокого изучения
интерсубъективной индивидуальности, с другой — возможности
активного функционирования личности в свободных ассоциациях общественности,
в деятельности которых, в свою очередь, и может находить свою
реализацию коммуникативная практика образования, мнений, воли и т.д.
Общество, интегрированное не рынком, а такими ассоциациями,
могло бы стать политически активным и в то же время свободным от
господства, считает Хабермас.
В 1989 г. Ю. Хабермас, выступающий с лекциями во многих
университетах мира, сделал несколько докладов в Москве,
пользовавшихся большой популярностью. Переводы книг философа у нас, к
сожалению, не изданы. Заинтересовавшихся его личностью и
творчеством мы отсылаем к немногим имеющимся публикациям на русском
языке: «Понятие индивидуальности». Доклад на XVIII Всемирном
философском конгрессе («Вопросы философии». 1989. № 2),
«Философский спор вокруг идеи демократии» (В сборнике «Гуманизм,
наука, техника». М., 1990. Ч. I), предисловие к книге В. Фариеса о М.
Хайдеггере (1989). Интервью: «Философ — диагност своего времени»
(«Вопросы философии», 1989. № 9); «Модерн — незавершенный
проект» («Вопросы философии», 1992. № 4); «Демократия. Разум.
Нравственность: Московские лекции и интервью». М., 1995.
Примечания
Доклад на конгрессе Международного гегелевского общества. Штутгарт, июнь 1981.
1 «Критика... которая заимствует все решения из основных правил, ею же самой
и вводимых, и чей авторитет никем не может быть оспорен, дает нам покой
законосообразного состояния, в котором все наши споры мы не можем вести
иначе, как только посредством судебно-процессуального их разбирательства» (Кант
И. Критика чистого разума. В 779).
2 Rorty R. Der Spiegel der Natur. Fr./am Main. 1981. 424 f.
3 Рорти одобрительно перефразирует мнение Эдуарда Целлера: «Гегельянством
философия изображалась в качестве дисциплины, которой иные дисциплины каким-то
образом не только усовершенствовались, но и проглатывались вместо того, чтобы быть
ею обоснованными. Вдобавок к тому философия была превращена им в нечто слишком
популярное, важное, интересное для того, чтобы она могла быть действительно про-
381
Незавершенное, нерешенное
фессиональной; оно требовало от профессоров философии воплощения мирового духа,
а не просто лишь работы по их "специальности"» (Der Spiegel der Natur. S. 153).
4 Schönrich G. Kategorien und transzendentale Argumentatiion. Fr./am Main. 1981. Kap. IV. 182
ff; Bittner A. Art. «Transzendental» // Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Bd. 5. München.
1974. 1524 ff
3 Gethmann G.F., Hegselmann R. Das Problem der Begründung zwischen Dezisionismus und
Fundamentalismus // Z. allgem. W. Theorie VIII. 1977. 342 ff
6 Albert H. Traktat über kritische. Vernuft. Tübingen. 1975.
7 Lenk H. Philosophische Logikbegründung und rationaler Kritizismus // Z.f.philos. Forschg.
24. 1970. 183 ff
8 Kesserling Th. Entwicklung und Widerspruch. Ein Vergleich zwischen Piagets genetischer
Erkenntnistheorie und Hegels Dialektik. Fr./am Main. 1981.
4 Одно из основополагающих понятий философской герменевтики Х.-Г. Гадаме-
ра, не поддающееся адекватному переводу на русский язык, подобно тому, как не
поддается переводу, например, хайдеггеровское понятие «Da-sein». — Прим. пер.
10 Rorty R. Der Spiegel der Natur. S. 402. В оригинале сказано: «Saying something... is
not always saying how things are» (Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, 1979.
P. 371).
11 Понятие «консенс» (совместно с его антонимом, понятием «диссенс») является
одним из ключевых понятий концептуального аппарата «теории
коммуникативного действия», разрабатываемого Ю. Хабермасом начиная с 80-х годов. — Прим. пер.
12 Rorty R. Der Spiegel der Natur. S. 418.
13 Аллюзия на фаллибилизм (учение о погрешимости), одну из фундаментальных
гносеологических установок, присущую как аналитической традиции в целом,
так и критицизму К. Поппера в частности. Подобного рода «точечные
вкрапления» обширного философского фона в отдельные фразы вообще свойственны
философскому стилю Хабермаса последних лет. — Прим. пер.
м Spaemann R. Der Streit der Philosophen // H. Lübbe (Hrsg.). Wozu Philosophie?
Berlin. 1978. S. 96.
15 Habermas J. Die Moderne — ein unvollendetes Projekt // Kleine politische Schriften MV.
Fr./am Main. 1981. 444 ff.
16 Vgl. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. I. Fr./am Main, 1981.
17 Rorty R. Der Spiegel der Natur. S. 422.
382
Часть жизни как таковой
Мераб Мамардашвили
Феноменология - сопутствующий момент
всякой философии
Я начну с такого утверждения, что феноменология, очевидно, есть
момент всякой философии. И в этом смысле философия является как
бы бесконечной культурной формой. То есть она содержит в себе
некоторые уже заданные ее целостностью моменты или зерна, которые
могут когда-то и кем-то выявляться, развиваться с помощью
понятий, но сами возможности этого развития будут содержаться уже в
самом факте конституирования философии. И эта ее живая
непрерывность не зависит от знания тех или иных существующих
источников. Приведу пример.
Возьмем кантовскую проблему, имея в виду именно этот
указанный феноменологический момент. Я сформулирую ее очень грубо:
если разумом можно задавать первопонятие, то мы погибли. Иными
словами, если мы можем бытийные определения получать из
мышления, из понятий, то эти бытийные определения будут
определениями и представлениями одного-единственного мира. Причем такого,
в котором будет отрицаться как раз сам факт существования моего
живого восприятия меня как мыслящего существа, стремящегося к
тому, чтобы осуществить когитальный акт: я мыслю, я существую. В
смысле Декарта. Отсюда вся проблема антиномий у Канта с его
стремлением к осуществлению именно этого самодостоверного и
единственно важного для философа акта «я есмь».
Но при этом я хотел бы сказать, что сам Кант отнюдь не опираася
непосредственно на Декарта, не исходил из этой его формулы.
Воспроизводя картезианскую революцию в самоопределении мысли, Кант
воспринимал Декарта, скорее, как автора субъективного идеализма,
как автора доказательства существования внешнего мира исходя из
собственного существования. Более того, основную проблему Канта,
которую я перед этим сформулировал, можно переформулировать и
так: существует ли причинная связь между А и Б в общем виде? А
это — тоже декартовская проблема. Проблема отсутствия
непрерывности жизненного времени, или теория дискретности временных
моментов. Невытекания из предыдущего момента никакого
следующего. Ну, например, если я добр сегодня, то это не причина того, что я
25-3436
385
Часть жизни как таковой
буду добр завтра. Или если я добр сегодня, то это не следствие моей
доброты вчера. Как говорил Декарт, на воспроизводство субстанции
нужна не меньшая сила, чем на ее творение. Это знаменитая теория
непрерывного творения мира, творения так называемых вечных и
неподвижных истин, что, казалось бы, является парадоксом, ибо если
истины вечны и неподвижны, то они не могут твориться.
Так вот, эту декартовскую проблему Кант берет у Юма, считая ее
Юмом сформулированной великой задачей и совершенно не видя ее
у Декарта, хотя, повторяю, это основная декартовская проблема. Это
говорит о том, что уже существует культурный код в философии,
независимый от знания источников и зависимый лишь от появления
феномена личности, без которого философия невозможна, а феномен
личности, в свою очередь, означает воспроизводство в точках
индивидуального человеческого существования именно вот этого
построения самого себя вокруг несомненного невербального существования
своего мыслящего состояния в мире, о котором я говорил в связи с
постулатом «я мыслю, я существую», осуществляющим фактически
онтологическое бытийное укоренение сознания (представляющееся
«онтологическим доказательством» бытия Божьего). В не
завершаемый без этого мир (в том числе в причинную связь А— Б)
вписывается человек; в нем должно быть для него место, место для его
онтологически завязывающего акта. А потом оказывается, что это
включение и есть место, на котором можно расположить, вместить
мир (например, на «врожденных идеях»).
Следовательно, если существует такой феномен, как лицо (в
отличие от вещи), то мы должны предположить, что этот феномен и
связанная с ним философская культура имеют некоторый бесконечно
открытый код. Не замкнутый, состоящий из конечного (сколь
угодно большого) числа элементов, а открытый. И это важно, поскольку
культуры, имеющие такой открытый код, выполняют некоторый
онтологический закон, который можно сформулировать так: текст (а
кстати, код есть онтологический текст сознания), всякий текст может
читаться только текстом. Отсюда и идея непрерывного, снова и
снова возобновления, рождения у Декарта и априорно-синтетической
«добавки» у Канта. То есть, чтобы прочитать то, что есть в коде,
нужно самому строить текст. Например, в связи с тем, что говорилось о
Гуссерле, несомненно, что текстом, читающим текст, у Гуссерля была
та форма (или конструкция, архитектоника), которая выступала у
него как представление о внутреннем времени. Это был некоторый
формализм, посредством которого можно было рождать мысли,
прочитавшие текст. Без него нельзя было бы прочитать текст. А
прочитанное уже существовало (повторяю, независимо от анализа и знания
философского источника), существовало необратимо так, что нельзя
было мыслить, как если бы Декарта, например, не было. Ибо, если
386
M. Мамардашвили. Феноменология — сопутствующий момент всякой философии
перейти к более личному: скажем, то, что я знаю о феноменологии, в
смысле проблемы, у меня совсем не из Гуссерля. И неважно, знал ли
я о том, что в других понятиях все это делалось уже у Гуссерля.
Очевидно, живое существование мысли не зависит от того, знаю ли я ее
текстологически или нет. Опять же согласно тому правилу, что текст
читается только текстом; то есть как раз филологически его нельзя было бы
прочитать. Очевидно, я тоже строил какой-то свой текст и должен был
неминуемо его строить, чтобы таким образом прочитать то, что уже есть
в философии. И это естественно, ибо речь идет о феномене, о
феноменальной материи мысли, как она (снова и снова) рождается в
собственном воплощающем существовании человека мысли.
Вообще мне кажется, что в нашу философию феноменологические
проблемы вошли независимо от освоения нами Гуссерля. Они вошли,
скажем, через то смещение всей проблематики философии, которое в
XX в. наблюдается совершенно отчетливо, к проблематике, которую я
бы условно назвал «проблематикой тела», и толчок к этому дал в свое
время Маркс. После Маркса (кстати, через Маркса у нас это и шло, у
меня во всяком случае) философия сместилась к интуиции «тела», то
есть предметно-деятельных структур, «предметностей мысли» как
живой, внементальной реальности души. Это и означало интуитивное
понимание того, что в мире существуют структуры, размерно большие
или бесконечно меньшие, чем двумерное целесообразное
рациональное действие. Ее ино- и многомерность не могли быть представлены
на линейной плоскости этого последнего, то есть действия,
разлагающего, воссоздающего мир по модели, или модулю, сознанием и волей
управляемой связности целей и средств, где все сочетания элементов
и последовательностей между ними не ускользают от рефлексии
человека. Но, собственно говоря, именно это толкование рациональности
как раз и проникло в социологию, и повсюду (хотя в самой
философии, если принять во внимание то, как я определил Канта жило
совсем иное понимание рациональности). Так же, как и декартовское
понимание рациональности иное. То есть сама философия всегда
отлична от своих собственных культурных эквивалентов, посредством
которых она получает хождение и распространение в том или ином
обществе или в той или иной культуре.
Выделение же того, что я условно назвал
«деятельно-предметными образованиями» (возможны и другие термины), означает указание
на включенность, имплицированность в мысли некоторых целостно-
стей, обладающих самодеятельностью, своей размерностью не
совпадающих с модулем рационального действия и уходящих в какие-то
глубины, объемы; именно они требуют какой-то
феноменологической процедуры. Ибо все они опосредуются некоторым собственным
(этого, конкретного, индивидуального человека) первичным
воплощающим существованием.
25*
387
Часть жизни как таковой
Это уже собственно феноменология. Мне кажется, любая
феноменологическая проблема всегда есть возрождение исходной ситуации
мыслителя. Ведь когда я говорю, что феноменологическая мысль
связана с каким-то «телом», то я говорю тем самым, если
воспользоваться выражением Гёте, что всего мышления недостаточно для мысли. То
есть ситуация мысли всегда есть ситуация добавления к логическому
акту мышления некоторого независимо от него данного
фактического основания. Добавляемая фактичность, или проблема синтеза, как
говорил Кант. Существование в мышлении таких образований,
которые суть фактические данные, ниоткуда не выводимые и
неразложимые. Например, чистая форма созерцания, которую можно лишь
принять. Или — в более широком смысле — то, что называется разумом,
поскольку разум есть прежде всего практический разум, согласно
Канту. То есть существование таких образований, которые, с одной
стороны, разумны, ну, так же как все примеры третьих субстанций, как
некоторые истинные мысли соединения тела и души. Они разумны, но
получить их, с другой стороны, логически мы не можем, ибо
наталкиваемся неминуемо на антиномии, на логические противоречия, имея
в исходном начале несовместимые неоднородности.
Следовательно, всякий действительно исполненный акт мысли
можно рассматривать как событие. Событие, отличное от своего же
собственного содержания. Помимо того что мысль утверждает какое-
то содержание, сам факт утверждения и видения этого содержания есть
событие. Событие мысли, предполагающее, что я, как мыслящий,
должен исполниться, состояться. Причем элементом такого события
является, например, и то, что Кант называет чувством разума. Казалось
бы, странная вещь. Или, кстати, у Пруста потом появится такая
замечательная оговорка: он назовет разум бесконечным чувствованием.
Очень странно, почему разум — чувствование? Обычно мы различаем
эти вещи. А оказывается, здесь имеется в виду как раз то событийное
измерение, измерение вот этих событий порядка мысли, в котором
состояния мысли, случаясь, не могут быть тем не менее сымитированы,
искусственно повторены и продлены мыслью и являются в этом
смысле абсолютными. Абсолютная индивидуальность! И вот такого рода
индивидуальность и составляет, как мне кажется,
феноменологическую проблему. Является вечной проблемой, существующей в
философии и потребовавшей в XX в. специальной техники для того, чтобы
возродиться. Эта последняя и стала называться феноменологией уже в
узком, специальном смысле этого слова.
Чтобы пояснить сказанное с позиций теперь уже гуссерлевской
феноменологии, обратимся вновь к тому, что я сказал вначале. А
именно: если бы мир задавался понятием, то мы бы погибли. Что это
значит? Это значит, что мы никогда бы не могли быть другими.
Прежде всего. А феноменологическое наблюдение над мышлением
388
M. Мамардашвили. Феноменология — сопутствующий момент всякой философии
показывает (это было известно еще Платону), что вся проблема и
состоит в том, чтобы к моменту события, к моменту встречи, которая
может быть только удачей, то есть к моменту «кайроса», я должен
быть другим, чем был до него. Поэтому Кант и предупреждает, что
причинная связь в мире есть всегда лишь мое представление. А
утверждение, что мир может задаваться первопонятием, означает, что он
был бы не представлением, а самим миром, и к тому же неминуемо
одним, в котором, скажем, понятия пространства и времени
совпадали бы с реальным пространством и временем, и тогда в таком мире не
было бы места для акта мысли, венчающего собой феномен свободы.
Ибо пространство для прорыва в свободу существует лишь там, где
есть зазор; тот зазор, который я назвал бы punctus cartesianus.
Именно зазор между первым шагом творения и вторым шагом
воспроизведения, на который нужна сила не меньшая, чем на акт творения.
То, что после воспроизведения, повторяю, не вытекает ни
дедуктивно, ни физически из предшествующего момента.
Итак, возвращаясь к кантовской формулировке, я бы сказал, что
мир или бытие всегда должны нами фиксироваться как неустранимые,
но и не требующие в то же время нашего познания из некоего
неопределенного «икс», который определяется каждый раз в зависимости от
того, каково добавление. То есть от того, какой произошел синтез.
Никакие продукты синтеза не совпадают или не изоморфны этому «иксу».
Поэтому мы должны его все время сохранять, помнить о нем (что,
кстати, означает помнить... будущее). Это знаменитая «вещь в себе»,
или неопределенная бесконечность, которая должна фигурировать
постоянно на фоне нашей мысли, потому что определенность последней,
как уже сказано, всегда есть только там, где неопределенная
бесконечность определилась синтетически, добавлением. А это добавление в
разных мирах разное. Следовательно, человек, который способен
фиксировать себя как деятельное событие в мире, венчающее свободу,
должен быть способен одновременно к феноменологической
редукции. То есть к придерживанию всех своих актов с тем, чтобы
избавиться от конкретных определений того или иного мира —
психологических, социологических и т.д. И в этом смысле проблема феноменологии
для меня есть проблема чистой мысли, которой присущ вот этот
скандал фактичности разума. Не фактов как таковых, о которых разум что-
то говорит, а скандал фактичности самого разума. Ибо он всегда так
или иначе связан с независимым добавлением, с разрешенной
неопределенностью, а не с логическим имманентным мышлению и миру
определением, и мыслить мы можем только на постоянном фоне этой
неопределенности. На фоне того, что полагается миром в себе, вещью
в себе или деятельностью в себе.
Но если это так, то тогда из подвеса любых предметных
представлений (а они должны быть подвешены, потому что я мыслю, только
389
Часть жизни как таковой
находясь в мысли, т.е. в «топосе» мысли) я не могу еще с третьей
какой-то стороны, с внешней этому позиции посмотреть на себя,
выполняющего акт мысли. Если я нахожусь в мысли, то я мыслю о
мысли и ни о чем другом. Это некая беспредметная и бессубъектная
мысль. И она — условие экзистенциального акта человеческого
существования как возможного события в мире. И она же — основание
трансцендентального среза мира или трансцендентального сознания,
с позиций которого мы рассматриваем говоримое как возможность
того мира, о котором говорится. И где источники наших
теоретических представлений и источники опыта совпадают. Или, вернее, где
теория и опыт имеют один и тот же источник. Ибо нечто нельзя
испытать эмпирически человеку как конечному, особому существу
(например, и сама чистая мысль не является представимым реальным
или психологическим состоянием или переживанием какого-либо
человека), не имея конструктивных приставок для опыта (а не опыта).
В этом смысле чистая мысль никакого отношения к особой природе
человека не имеет. Кант, в частности, говорил, что физика есть не
опытное исследование, а исследование для опыта, имея в виду, что
она есть создание конструкций, посредством которых впервые мы
можем испытать то, чего без них никогда не могли бы испытать как
эмпирические человеческие существа в своем опыте. В культуре в
широком смысле таковыми являются, например, символические
конструкции. Скажем, конструкция, заданная символом бескорыстной
любви или чистой веры и т.д. В самом деле, ведь чистая вера
невозможна как реальное психологическое состояние какого-либо
человеческого существа. Так же как невозможна и бескорыстная любовь. И
тем не менее мы живем в поле, сопряженном с этими символами,
производящими в нас человеческие состояния, в том числе и
бескорыстной любви, чистой мысли и т.д. Поэтому я и начал свое
выступление с определения философии как формы, позволяющей нам
испытать то, что без нее мы не могли бы испытать. То есть рождаться
второй раз, согласно древнему символу «второго рождения».
390
M. Мамардашвилн. Феноменология — сопутствующий момент всякой философии
Сознание и цивилизация
Тема, вынесенная в заголовок, конечно, очень многозначна,
вызывает обилие ассоциаций, но для меня она конкретна и связана с
ощущением современной ситуации, которая меня беспокоит и в которой
я вижу черты, похожие на какую-то структуру, могущую оказаться
необратимой и этим вызывающую у меня ужас, но и одновременно
желание подумать, увидеть за этим какой-то общий закон. И вот со
смешанным чувством ужаса и любопытствующего удивления я и хочу
высказать свои соображения на этот счет.
Чтобы задать тон размышления, можно так охарактеризовать их
нерв. У меня ощущение, что среди множества катастроф, которыми
славен и угрожает нам XX в., одной из главных и часто скрытой от
глаз является антропологическая катастрофа, проявляющаяся совсем
не в таких экзотических событиях, как столкновение Земли с
астероидом, и не в истощении ее естественных ресурсов или чрезмерном
росте населения, и даже не в экологической или ядерной трагедии. Я
имею в виду событие, происходящее с самим человеком и связанное
с цивилизацией в том смысле, что нечто жизненно важное может
необратимо в нем сломаться в связи с разрушением или просто
отсутствием цивилизованных основ процесса жизни.
Цивилизация — весьма нежный цветок, весьма хрупкое строение,
и в XX в. совершенно очевидно, что этому цветку, этому строению,
по которому везде прошли трещины, угрожает гибель. А разрушение
основ цивилизации что-то производит и с человеческим элементом,
с человеческой материей жизни, выражаясь в антропологической
катастрофе, которая, может быть, является прототипом любых иных
возможных глобальных катастроф.
Она может произойти и частично уже происходит в силу
нарушения законов, по которым устроены человеческое сознание и
связанная с ним «пристройка», называемая цивилизацией.
Когда в списке глобальных катастроф, составленном знаменитым
писателем-фантастом А. Азимовым, я нахожу среди десятка катастроф
возможное столкновение Земли с «черной дырой», то невольно думаю,
что подобная дыра уже существует, причем в весьма обыденном,
хорошо известном нам смысле. Что мы довольно часто в нее ныряем, и все,
что, пройдя ее горизонт, попадает в нее, тут же исчезает, становится
недоступным, как и полагается в случае встречи с «черной дырой».
Очевидно, существует какая-то фундаментальная структура сознания,
в силу чего наблюдаемые разнородные, внешне друг с другом никак не
связанные микроскопические, макроскопические и космические
явления предстают как далеко идущие аналогии. В каком-то смысле эти
явления можно рассматривать как метафоры свойств сознания.
391
Часть жизни как таковой
Этими метафорами «недоступности», «исчезновения»
«экранирования» я и воспользуюсь для пояснения своих мыслей. Но сначала
приведу одно стихотворение Г. Бенна в фактически подстрочном
моем переводе. Глубина прозрений этого поэта связана с
реальностью самолично проделанного и изнутри пережитого им опыта жизни
в условиях определенной системы, опыта, который в принципе
отсутствует у внешнего, удаленного наблюдателя. Но вот какова судьба
этого «внутреннего знания» и носителя его — человека — в
стихотворении, которое не случайно называется «Целое»:
Часть в опьянении была, другая часть — в слезах,
В какие-то часы — сиянье блеска, в другие — тьма,
В одни — все в сердце было, в другие ж — грозно
Бушевали бури — какие бури, чьи?
Всегда несчастлив и редко с кем-то,
Все больше был укрыт, раз в глубине варилось это,
И вырывалися потоки, нарастая, и все,
Что вне, к нутру сводилось.
Один сурово на тебя глядел, другой был мягок,
Что строил ты, один то видел, другой —
Лишь то, что разрушал.
Но все, что видели они, — виденья половинки:
Ведь целым обладаешь только ты.
Сперва казалось: цели ждать недолго:
И только ясной будет вера впредь.
Но вот предстало то, что должно было,
И каменно теперь из целого глядит:
Ни блеска, ни сияния снаружи,
Чтоб напоследок приковать твой взор —
Гологоловый гад в кровавой луже,
И на реснице у него слезы узор.
Завершающий образ этого стихотворения и его внутренние
связки вьются вокруг «целого» или ощущения «целого», переживаемого
поэтом как особое возвышенное умонастроение и владение сутью
мировой тайны, что я и называю недоступным удаленному,
внешнему наблюдателю «внутренним опытом» особого рода странных
систем, в котором — и в этом все дело — человек, его носитель,
недоступен и самому себе. Ибо, в сущности, человек не весь внутри (в теле,
мозге, мысли) и идет к самому себе издалека и в данном случае ни-
392
M. Мамардашвили, Феноменология — сопутствующий момент всякой философии
когда не доходит. Эти связки стихотворения в том или ином виде
будут проступать в дальнейшем изложении.
Принцип трех «К»
Все последующее я сконцентрирую вокруг определенного принципа,
позволяющего охарактеризовать, с одной стороны, ситуации, которые
я назову описуемыми или нормальными (в них нет мистики «целого»,
фигурирующей в стихотворении, хотя они представляют собой
целостности), а с другой — ситуации, которые я назову неописуемыми,
или «ситуациями со странностью». Эти два типа ситуаций
родственны или зеркально взаимоотобразимы, в том числе и потому, что все,
в них происходящее, может выражаться одним и тем же языком, то
есть одним и тем же составом и синтаксисом предметных номинаций
(наименований) и знаковых обозначений. «Внутреннее знание» есть
и в том и в другом случае. Однако во втором случае оно
вырождается фактически в систему самоимитаций. Язык хотя и тот же, но
мертвый («...дурно пахнут мертвые слова», — писал Н. Гумилев).
Неописуемые (не поддающиеся описанию) ситуации можно
назвать и ситуациями принципильной неопределенности. При
обособлении и реализации этого свойства в чистом виде они как раз и
являются теми «черными дырами», в которые могут попадать целые
народы и обширные области человеческой жизни.
Принцип, который упорядочивает ситуации этих двух типов, я
назову принципом трех «К» — Картезия (Декарта), Канта и Кафки. Первое
«К» (Декарт): в мире имеет место и случается некоторое простейшее
и непосредственно очевидное бытие «я есть». Оно, подвергая все
остальное сомнению, не только обнаруживает определенную зависимость
всего происходящего в мире (в том числе в знании) от собственных
действий человека, но и является исходным пунктом абсолютной
достоверности и очевидности для любого мыслимого знания. В этом смысле
человек — существо, способное сказать «я мыслю, я существую, я могу» —
и есть возможность и условие мира, который он может понимать, в
котором может по-человечески действовать, за что-то отвечать и что-то
знать. И мир, следовательно, создан (в смысле своего закона
становления), и дело теперь за тобой. Ибо создается такой мир, что ты можешь
мочь, каковы бы ни были видимые противо-необходимости природы,
стихийно-естественные понуждения и обстоятельства.
В этих формулировках легко узнается принцип «cogito, ergo sum»,
которому я придал несколько иную форму, более отвечающую его
действительному содержанию. Если принцип первого «К» не реализуется
или каждый раз не устанавливается заново, то все неизбежно
заполняется нигилизмом, который можно коротко определить как принцип
«только не я могу» (могут все остальные — другие люди, Бог, обстоя-
393
Часть жизни как таковой
тельства, естественные необходимости и т.д.). То есть возможность
связана в таком случае с допуском некоторого самодействующего, за
меня работающего механизма (будь то механизм счастья,
социального и нравственного благоустройства, высшего промысла, провидения
и т.д.)- А принцип cogiio утверждает, что возможность способна
реализоваться только мной при условии моего собственного труда и
духовного усилия к своему освобождению и развитию (это, конечно,
труднее всего на свете). Но лишь так душа может принять и прорастить
«высшее» семя, возвыситься над собой и обстоятельствами, в силу чего
и все, что происходит вокруг, оказывается не необратимо, не
окончательно, не задано целиком и полностью. Иначе говоря, не
безнадежно. В вечно становящемся мире для меня и моего действия всегда есть
место, если я готов начать все сначала, начать от себя, ставшего.
Второе «К» (Кант): в устройстве мира есть особые
«интеллигибельные» (умопостигаемые) объекты (измерения), являющиеся в то
же время непосредственно, опытно констатируемыми, хотя и далее
неразложимыми образами целостностей, как бы замыслами или
проектами развития. Сила этого принципа в том, что он указывает на
условия, при которых конечное в пространстве и времени существо
(например, человек) может осмысленно совершать на опыте акты
познания, морального действия, оценки, получать удовлетворение от
поиска и т.п. Ведь иначе ничто не имело бы смысла — впереди (да и
сзади) бесконечность. Другими словами, это означает, что в мире
реализуются условия, при которых указанные акты вообще имеют
смысл (всегда дискретный и локальный). То есть допускается, что
мир мог бы быть и таким, что они стали бы бессмысленными.
Осуществление и моральных действий, и оценок, и ищущего
желания имеет смысл лишь для конечного существа. Для
бесконечного и всемогущего существа вопросы об их осмысленности сами собой
отпадают и тем самым решаются. Но и для конечного существа не
всегда и не везде, даже при наличии соответствующих слов, можно
говорить «хорошо» или «плохо», «прекрасно» или «безобразно»,
«истинно» или «ложно». Например, если одно животное съело другое,
мы ведь не можем с абсолютной достоверностью сказать, благо это
или зло, справедливо или нет. Так же как и в случае ритуального
человеческого жертвоприношения. И когда современный человек
пользуется оценками, нельзя забывать, что здесь уже скрыто
предполагается как бы выполненность условий, придающих вообще смысл
нашей претензии на то, чтобы совершать акты познания, моральной
оценки и т.д. Поэтому принцип второго «К» и утверждает:
осмысленно, поскольку есть особые «умопостигаемые объекты» в устройстве
самого мира, гарантирующие это право и осмысленность.
И наконец, третье «К» (Кафка): при тех же внешних знаках и
предметных номинациях и наблюдаемости их натуральных референ-
394
M. Мамардашвили. Феноменология — сопутствующий момент всякой философии
тов (предметных соответствий) не выполняется все то, что задается
вышеназванными двумя принципами. Это вырожденный, или
регрессивный, вариант осуществления общего К-принципа — «зомби»-си-
туации, вполне человеко-подобные, но для человека в
действительности потусторонние, лишь имитирующие то, что на деле мертво.
Продуктом их, в отличие от Homo sapiens, то есть от знающего
добро и зло, является «человек странный», «человек неописуемый».
С точки зрения общего смысла принципа трех «К» вся проблема
человеческого бытия состоит в том, что нечто еще нужно (снова и снова)
превращать в ситуацию, поддающуюся осмысленной оценке и решению,
например, в терминах этики и личностного достоинства, то есть в
ситуацию свободы или отказа от нее как одной из ее же возможностей.
Иными словами, моральность есть не торжество определенной морали
(скажем, «хорошее общество», «прекрасная институция», «идеальный
человек»), сравниваемой с чем-то противоположным, а создание и
способность воспроизводства ситуации, к которой можно применить
термины морали и на их (и только их) основе уникально и полностью описать.
Но это же означает, следовательно, что имеют место и некоторые
первоакты или акты мировой вместимости (абсолюты),
относящиеся к кантовским интеллигибилям и декартовскому cogito sum.
Именно ими и в них — на уровне своей развитости — человек может
вместить мир и самого себя как его часть, воспроизводимую этим же
миром в качестве субъекта человеческих требований, ожиданий,
моральных и познавательных критериев и т.д. Например, взгляд
художника есть первоакт вместимости и испытания природы как пейзажа
(вне этого необратимого состояния природа сама по себе не может
быть источником соответствующих человеческих чувств).
Фактически это означает следующее: никакое натуральное внешнее
описание, скажем, актов несправедливости, насилия и т.п. не содержит
в себе никаких причин для наших чувств возмущения, гнева, вообще
ценностных переживаний. Не содержит без добавления фактической
(«практической») выполненности или данности разумного состояния.
Того, что Кант называл «фактами разума»: не разумным знанием
конкретных фактов, их, так сказать, отражениями, а самим разумом как
осуществленным сознанием, которое нельзя предположить заранее,
ввести допущением, заместить «могущественным умом» и т.д. И если
такой «факт» есть, он всеместен и всевременен.
Например, мы не можем сказать, что в Африке какое-то племя
живет безнравственно или что в Англии что-то нравственно, а в
России — безнравственно, вне реализации первой и второй частей IC-
принципа. Но если есть и совершились акты первовместимости и мы
находимся в преемственной связи с ними, включены в нее, то тогда
мы можем что-то осмысленно говорить, достигая при этом полноты
и уникальности описания.
395
Часть жизни как таковой
Ситуация неопределенности
В ситуациях же третьего «К», называемых ситуациями абсурда,
внешне описываемых теми же самыми предметными и знаковыми
номинациями, актов первовместимости нет или они редуцированы. Такие
ситуации инородны собственному языку и не обладают человеческой
соизмеримостью (ну, как если бы недоразвитое «тело» одной
природы выражало себя и давало бы о себе отчет в совершенно иноприрод-
ной «голове»). Они похожи на кошмар дурного сна, в котором любая
попытка мыслить и понять себя, любой поиск истины походил бы
своей бессмысленностью на поиск уборной. Кафкианский человек
пользуется языком и следует пафосу своего поиска в состояниях, где
заведомо не выполнены акты первовместимости. Поиск для него —
чисто механический выход из ситуации, автоматическое ее
разрешение — нашел, не нашел! Поэтому этот неописуемо странный человек
не трагичен, а нелеп, смешон, особенно в квазивозвышенных своих
воспарениях. Это комедия невозможности трагедии, гримаса какого-
то потустороннего «высокого страдания». Невозможно принимать
всерьез ситуацию, когда человек ищет истину так, как ищут уборную,
и наоборот, ищет на деле всего-навсего уборную, а ему кажется, что
это истина или даже справедливость (таков, например, господин Е. в
«Процессе» Ф. Кафки). Смешно, нелепо, ходульно, абсурдно, какая-
то сонная тягомотина, нечто потустороннее.
Эта же инородность уже в другом ключе выражается у Кафки и
метафорой всеобщего внутреннего окостенения, например, когда Грегор
Замза превращается в какое-то скользкое отвратительное животное,
которое он с себя не может стряхнуть. Что это, почему приходится
прибегать к таким метафорам? Сошлюсь на более близкий пример.
Можно ли, скажем, применять понятия «мужество» и «трусость»
или «искренность» и «лживость» к ситуациям, в которые попадает
«третий», неописуемый человек (я назову их ситуациями, в которых
«всегда уже поздно»). Ну, например, такой ситуацией являлось до
недавнего времени пребывание советского туриста за границей. Он мог
там попадать в такие положения, когда от него требовалось лишь
проявление личного достоинства, естественности. Просто быть
мужчиной, не показывая своим видом, что ждешь указаний о том, как
себя вести, что ответить на тот или иной конкретный вопрос и т.д. И
некоторые были склонны тогда рассуждать так, что турист, который
не проявил себя как настоящий цивилизованный человек, труслив, а
тот, который проявил, — мужествен. Однако к этому туристу
неприменимы суждения, труслив он или храбр, искренен или не искренен,
по той простой причине, что за границей он оказался на основе
определенной привилегии, и поэтому уже поздно что-то проявить от
себя лично. Это нелепо, над этим можно только посмеяться.
396
M. Мамардашвили. Феноменология — сопутствующий момент всякой философии
Ситуация абсурда неописуема, ее можно лишь передать
гротеском, смехом. Язык добра и зла, мужества и трусости к ней не
относится, поскольку она вообще не в области, очерченной актами пер-
вовместимости. Язык же в принципе возникает на основе именно
этих актов.
Или, скажем, известно, что выражение «качать права» относится
к поступкам человека, который формально добивается закона. Но
если все действия человека уже «сцеплены» ситуацией, где не было
первоакта закона, то поиск им последнего (а он совершается в
языке, который у нас один и тот же — европейский, идущий от
Монтескье, Монтеня, Руссо, от римского права и т.д.) никакого отношения
к этой ситуации не имеет. А мы, живя в одной ситуации, часто
пытались и пытаемся тем не менее понять ее в терминах другой,
начиная и проходя путь господина К. в «Процессе». Действительно, если
есть семена ума, то можно представить себе и волосы ума.
Представим, что волосы у человека растут на голове внутрь (вместо того,
чтобы, как полагается, расти наружу), вообразим мозг, заросший
волосами, где мысли блуждают, как в лесу, не находя друг друга, и ни одна
из них не может оформиться. Это первобытное существование
гражданской мысли. Цивилизация же — это прежде всего духовное
здоровье нации, и поэтому надо в первую очередь думать о том, чтобы не
нанести ей такие повреждения, последствия которых были бы
необратимы.
Итак, перед нами неопределенные ситуации и ситуации первых
двух «К», имеющие один и тот же язык. И эти два типа ситуаций
фундаментально различны. И то неуловимое, внешне неразличимое и
невыразимое, чем отличается, например, слово «мужество» в этих
ситуациях, и есть сознание.
Формальная структура цивилизации
Для дальнейшего понимания связи сознания и цивилизации
вспомним другой сформулированный Декартом закон мышления,
имеющий отношение ко всем человеческим состояниям, включая и те, в
которых формулируется причинная связь событий в мире. По
Декарту, мыслить исключительно трудно, в мысли нужно держаться, ибо
мысль есть движение и нет никакой гарантии, что из одной мысли
может последовать другая в силу какого-то рассудочного акта или
умственной связи. Все существующее должно превосходить себя, чтобы
быть собой в следующий момент времени. При этом то, что я есть
сейчас, не вытекает из того, что я был перед этим, и то, что я буду
завтра или в следующий момент, не вытекает из того, что я есть
сейчас. Значит, мысль, которая возникает в следующий момент
времени, там не потому, что начало ее или кусочек есть сейчас.
397
Часть жизни как таковой
Цивилизация есть способ обеспечения такого рода «поддержек»
мышления. Она обеспечивает систему отстранений от конкретных
смыслов и содержаний, создает пространство реализации и шанс для того,
чтобы мысль, начавшаяся в момент /4, в следующий момент Б могла бы
быть мыслью. Или человеческое состояние, начавшееся в момент А, в
момент Б могло бы быть человеческим состоянием. Приведу пример.
Сегодня наблюдается какая-то упоенность специальным
мышлением. Считается, что именно оно и есть настоящее мышление,
осуществляющееся как бы само собой. К такому выделенному мышлению
можно отнести искусство и любые другие сферы так называемого духовного
творчества. Однако умение мыслить — не привилегия какой-либо
профессии. Чтобы мыслить, необходимо мочь собрать не связанные для
большинства людей вещи и держать их собранными. К сожалению,
большинство людей по-прежнему, как и всегда, мало к чему сами по
себе способны и ничего не знают, кроме хаоса и случайности. Умеют
лишь звериные тропы пролагать в лесу смутных образов и понятий.
Между тем, согласно принципу первого «К» («я могу»), чтобы
держаться в мысли, нужно иметь «мускулы мысли», наращиваемые на базе
некоторых первоактов. Другими словами, должны быть проложены
тропы связного пространства для мышления, которые есть тропы
гласности, обсуждения, взаимотерпимости, формального законопорядка.
Такой законопорядок и создает пространство и время для свободы
интерпретации, собственного испытания. Есть закон названности
собственным именем, закон именованности. Он — условие исторической
силы, элемент ее формы. Форма, по существу, — единственное, что
требует свободы. В этом смысле можно сказать, что законы
существуют только для свободных существ. Человеческие учреждения (а
мысль— тоже учреждение) есть труд и терпение свободы. И
цивилизация (пока ты трудишься и мыслишь) как раз и обеспечивает, чтобы
нечто пришло в движение и разрешилось, установился смысл и ты
узнал, что думал, хотел, чувствовал, — дает для всего этого шанс.
Но тем самым цивилизация предполагает, следовательно, и
наличие в себе клеточек незнаемого. Если не оставлять места проявлению
не вполне знаемого, цивилизация, как и культура (что, по сути, одно
и то же), исчезает. Например, экономическая культура производства
(то есть не только материальное воспроизводство конечных благ,
умирающих в акте их потребления) означает, что неправомерна такая
структура управления, которая определила бы, когда крестьянину
сеять, и распределением этого знания охватывала бы все пространство
его деятельности. Повторяю, должен быть допуск на автономное
появление в каких-то местах вещей, которых мы не знаем и не можем
знать заранее или полагать их в какой-то всеведущей голове.
Еще один пример. К. Маркс говорил, что о природе денег
сказано столько же глупостей, сколько о природе любви. Но, допустим,
398
M. Мамардашвили. Феноменология — сопутствующий момент всякой философии
что природа денег неизвестна и закреплена в формальном
цивилизованном механизме, что люди освоили деньги как культуру настолько,
что можно не просто считать, но и с их помощью что-то производить.
Почему это возможно? По одной простой причине: в этом случае
предполагается, что обмен денег на покупаемый продукт сам, в свою
очередь, не требует времени, поскольку в них уже закреплено
трудовое время. И такое поведение — цивилизованное. Такая абстракция
закреплена самой цивилизацией в цивилизованном устройстве
человеческого опыта. А поведение похожее, но «зазеркальное» —
нецивилизованное. Когда культурного механизма денег нет, то появляется и
существует зазеркальное поведение с деньгами, которое состоит в
том, что если, скажем, заработано 24 рубля (т.е. вложено 8 часов
труда), то, чтобы их потратить, нужно затратить еще 10 часов, т.е. еще 30
рублей. В таком сознании, разумеется, отсутствует понятие денег как
ценности. В этом случае, пользуясь законом денежного знака, мы не
можем просчитать экономику, организовать рациональную схему
экономического производства. А мы пользуемся денежными знаками
и, более того, попав в это денежное Зазеркалье с теми же, казалось бы,
предметами, решили «квадратуру круга»— умудрились, не зная.цену
деньгам, стать корыстными и хитрыми.
Итак, цивилизация предполагает формальные механизмы
упорядоченного, правового поведения, а не основанные на чьей-то милости,
идее или доброй воле. Это и есть условие социального, гражданского
мышления. «Даже если мы враги, давайте вести себя цивилизованно,
не рубить сук, на котором сидим», — этой простой, по существу,
фразой и может быть выражена суть цивилизации, культурно-правового,
надситуативного поведения. Ведь находясь внутри ситуации,
договориться навечно не причинять друг другу вреда нельзя, поскольку кому-
то всегда будет «ясно», что он должен восстановить нарушенную
справедливость. Зла, которое совершалось бы без такой ясной страсти, в
истории не бывало, ибо всякое зло случается на самых лучших
основаниях, и эта фраза вовсе не ироническая. Энергия зла черпается из
энергии истины, уверенности в видении истины. Цивилизация же
блокирует это, приостанавливает настолько, насколько мы, люди, вообще
на это способны.
Короче говоря, разрушение, обрыв «цивилизованных нитей», по
которым сознание человека могло бы успеть добраться до
кристаллизации истины (причем не только у отдельных героев мысли),
разрушает и человека. Когда под лозунгом потустороннего совершенства
устраняются все формальные механизмы, именно на том основании,
что они формальны, а значит, абстрактны в сравнении с
непосредственной человеческой действительностью, легко критикуемы, то
люди лишают себя и возможности быть людьми, то есть иметь не-
распавшееся, не только знаковое сознание.
399
Часть жизни как таковой
Монополия и разрушение сознания
Приведу другой пример такого разрушения. Известно, что система,
называемая монополией, стоит вне цивилизации, так как разрушает
само ее тело, порождая тотальное опустошение человеческого мира.
Не только в том смысле, что монополия поощряет самые
примитивные и асоциальные инстинкты и создает каналы для их проявления.
Достигнутое состояние мысли еще должно «обкататься», как на
агоре, обрасти там мускулами, как обрастает снегом снежная баба,
приобрести силу на осуществление своей же собственной возможности.
Если нет агоры, чего-то развиваемого, то нет и истины.
Хотя перед человечеством издревле стоит задача обуздания
дикости, свирепости, эгоизма собственной природы, его инстинкты,
алчность, темнота сердца, бездушие и невежество вполне способны
аккомодировать мыслительные способности, рассудок и выполняться
посредством их. И противостоять этому может только гражданин,
имеющий и реализующий право мыслить своим умом. А это право,
или закон, могут существовать лишь в том случае, когда средства
достижения целей, в свою очередь, законны, то есть растворенно
содержат в себе дух самого закона. Нельзя волепроизвольными и
административными, то есть внезаконными, средствами внедрять закон,
даже руководствуясь при этом наилучшими намерениями и
высокими соображениями, «идеями». Ибо его приложения распространяют
тогда (и чем шире и жестче приложения, тем они болезненнее)
прецедент и образец беззакония, содержащегося в таких средствах. И все
это — независимо от намерений и идеалов — «во благо» и «во
спасение». Это очевидно в случае всякой монополии. Скажем, так: если я
могу, пусть ради самых высших соображений общественного блага, в
один прекрасный день установить специальную цену на
определенные товары, скрывать и тайно перераспределять доходы, назначать
льготы, распределять товары, во имя плановых показателей менять
предшествующие договоренности с трудящимися и т.д. и т.п., то в тот
же самый день (и впредь — до вечной параллели) это же будет
делаться кем-то и где-то (или теми же и там же) из совершенно других
соображений. Из личной корысти, путем спекуляции, обмана, насилия,
кражи, взятки — конкретные причины и мотивы в структурах
безразличны, взаимозаменимы. Потому что закон един и неделим во всех
точках пространства и времени, где действуют люди и между собой
связываются. В том числе и законы общественного блага.
Следовательно, цели законов достигаются только законными путями! И если
последние нарушаются, то в том числе и потому, что правопорядок
обычно подменяют порядком идей, «истины». Как будто закон сам
по себе существует, а не в человеческих индивидах и не в понимании
ими своего дела. Возможность обойти индивида исключена не в силу
400
M. Мамардашвили. Феноменология — сопутствующий момент всякой философии
гуманистического предпочтения и заботы о человеке, а в силу
непреложного устройства самого бытия, жизни. Только на уровне
сущностного равенства индивидов может что-либо происходить. Здесь
никому ничего не положено, все должны сами проходить путь и
совершать собственное движение «в средине естества», как писал
когда-то Державин. Движение, без которого нет вовне никаких
обретений и установлений. В противном случае будет разрушено и все
производство истины — ее онтологическая основа и природа — и
будет господствовать ложь, другими причинами производимая, но уже
внечеловеческая и тотальная, занимающая все точки социального
пространства, заполняющая их знаками. Игра в зеркалах,
сюрреально-знаковое отражение чего-то другого.
Зеркальный мир
Конечно, появление такой зеркальной игры связано с ее особыми
внутренними «зазеркальными смыслами», когда кажется, что они и в
самом деле обладают какой-то высшей мудростью. Ведь люди при
этом видят целое. Для них внешний наблюдатель всегда не прав.
Вспомним Г. Бенна: «... ведь целым обладаешь только ты».
Один наблюдатель видит то, что разрушают, другой — что строят,
а многие смотрят и перемигиваются: мы-то знаем, что происходит на
«самом деле», «целым располагаем». Вот что такое «внутреннее». Но
для меня эта внутренняя, углубленная в себя жизнь без агоры — то же
самое, что искание истины в уборной. Если бы у меня был талант
Кафки, я бы описал сегодня эти душевные внутренние искания как
фантастические, странные искания истины там, где ее по
онтологическим законам человеческой жизни быть просто не может.
В этом смысле люди неопределенных ситуаций или тотального
знакового инобытия напоминают мне тех, кого Ф. Ницше не
случайно назвал «последними людьми». Действительно (именно об этом
крик его больной христианской совести), или мы будем
«сверхлюдьми», чтобы быть людьми (а два первых принципа «К» и есть
принципы трансценденции человека к человеческому в нем же самом), или
окажемся «последними людьми». Людьми организованного счастья,
которые даже презирать себя не могут, ибо живут в ситуации
разрушенного сознания и разрушенной материи человеческого.
Следовательно, если где-то происходят человеческие события, то
они происходят не без участия сознания; последнее из их состава
неустранимо и несводимо ни к чему другому. И это сознание двоично
в следующем фундаментальном смысле. При введении принципа трех
«К» я фактически давал два пересекающихся плана. План того, что я
назвал онтологией, который не может быть ничьим реальным
переживанием, но тем не менее есть; например, таким переживанием не
26-3436
401
Часть жизни как таковой
может быть смерть, а символ смерти есть продуктивный момент
человеческой сознательной жизни. И второй — план «мускульный»,
реальный — умение жить под этим символом на деле, на основе фактов
первовместимости. И оба эти плана нельзя игнорировать: сознание
фундаментально двоично. В Зазеркалье же, где меняются местами
левое и правое, все смыслы переворачиваются и начинается
разрушение человеческого сознания. Аномальное знаковое пространство
затягивает в себя все, что с ним соприкасается. Человеческое сознание
аннигилирует и, попадая в ситуацию неопределенности, где все
перемигиваются не то что двусмысленно, но многосмысленно,
аннигилирует и человек: ни мужества, ни чести, ни достоинства, ни
трусости, ни бесчестия. Эти «сознательные» акты и знания перестают
участвовать в мировых событиях, в истории. Не имеет значения, что
у тебя в «сознании», лишь бы знак подавал. В пределе при этом
исчезает необходимость и в том, чтобы у людей вообще были какие-то
убеждения. Веришь в совершающееся или не веришь— не имеет
значения, потому что именно подаваемым знаком ты включаешься в
действие и включаешь вращение колес общественного механизма.
В XX в. такого рода ситуации хорошо осознавались в литературе. Я
имею в виду при этом не только Ф. Кафку, но и, например, великого
австрийского писателя, автора романа «Человек без свойств» Р. Му-
зиля. Музиль прекрасно понимал, что в той ситуации, которая была
в грозящей развалиться Австро-Венгерской империи в силу того, что
уже поздно, все, что ни делай, выльется в какую-то белиберду. Ищи
правду или неправду — все одно — пройдешь по уже заданным путям
бессмыслицы. Он хорошо знал, что внутри такой ситуации
действовать и мыслить невозможно — из нее важно выйти.
Чтобы не заставлять читателя слишком серьезно думать над
некоторыми терминами (я имею в виду только термины, а не проблемы; над
проблемой стоит думать серьезно, но мои термины необязательны),
выражу свой опыт «зазеркального существования» так. Вся моя «теория»
сознания может быть сведена к одному семени в одном раннем
переживании. К первичному впечатлению точки встречи цивилизации, с одной
стороны, и глухой жизни — с другой. Я чувствовал, что моя попытка
оставаться человеком в охарактеризованной ситуации гротескна, смешна.
Основы цивилизации были подорваны настолько, что невозможно было
вынести наружу, обсудить, продумать собственные болезни. И чем
меньше мы могли вынести их наружу, тем больше они, оказавшись в
глубине, в нас прорастали, и нас уже настигало тайное, незаметное
разложение, связанное с тем, что гибла цивилизация, что нет агоры.
В 1917 г. рухнул гнилой режим, а нас все еще преследуют пыль и
копоть прогнившей громады, продолжающаяся «гражданская война».
Мир еще полон неоплаканных жертв, залит неискупленной кровью.
Судьбы многих погибших неизвестно за что взыскуют о смысле слу-
402
M. Мамардашвили. Феноменология — сопутствующий момент всякой философии
чившегося. Одно дело — погибнуть, завершая и впервые своей
гибелью устанавливая смысл (например, в освободительной борьбе), и
совсем другое — сгинуть в слепом одичании, так что после гибели
нужно еще доискиваться ее смысла. Но кровь все равно проступает
то там, то здесь, как на надгробьях праведников в легендах, в
совершенно неожиданных местах и вне какой-то понятийной связи.
И мы все еще живем как дальние наследники этой «лучевой»
болезни, для меня более страшной, чем любая Хиросима. Наследники
странные, мало пока что понявшие и мало чему научившиеся на
своих собственных бедах. Перед нами поколения, как бы не давшие
потомства, потому что неродившееся, не создавшее в себе почву,
жизненные силы для прорастания, не способно и рождать. И вот бродим
по разным странам безъязыкие, с перепутанной памятью, с
переписанной историей, не зная порой, что действительно происходило и
происходит вокруг нас и в самих нас. Не чувствуя права на знание
свободы и ответственности за то, как ею пользоваться. К сожалению,
и сегодня еще огромные, обособленные пространства Земли заняты
таким «зазеркальным антимиром», являя дикое зрелище
вырожденного лика человека. Зазеркальные «пришельцы», которых можно себе
представить лишь в экзотической помеси носорога и саранчи,
сцепились в дурном хороводе, сея вокруг себя смерть, ужас и оцепенение
непроясненного морока.
Полуночные и горбатые,
Несут они за плечами
Песчаные смерчи страха
И клейкую мглу молчанья.
И поэтому, когда я слышу об экологических бедствиях,
возможных космических столкновениях, ядерной войне, лучевой болезни
или СПИДе, все это кажется мне менее страшным и более далеким —
может быть, я ошибаюсь, может, воображения не хватает, — чем те
вещи, которые я описал и которые есть в действительности — самая
страшная катастрофа, ибо касается она человека, от которого зависит
все остальное.
26*
403
Часть жизни как таковой
Н.В. Мотрошилова
Цивилизация и феноменология
как центральные темы философии М. Мамардашвили
В пестро-мозаичную, для стороннего наблюдателя непостижимую
картину философского и, шире, интеллектуального становления
разных поколений в отечественной культуре 60-80-х годов мысль Мера-
ба Мамардашвили встроилась в качестве неотъемлемого,
неповторимо своеобразного, а возможно, и одного из наиболее влиятельных и
долговременных, при всей неизбежной динамике,
духовно-нравственных фрагментов. Мировой дух (который, не устаю это
повторять, есть не досужая выдумка философов, а реальность культуры),
проникая сквозь колючую проволоку господствовавшего у нас
идеологического надзора, среди разных своих деяний способствовал
общению многих душ с «классической мужественной душой», как
стремился и сумел воссоздать в себе Мераб Мамардашвили.
Для кого-то это духовное общение стало спасительным и
страстным при-общением ко всему, что говорил и писал Мераб
Мамардашвили — приобщением верных учеников, постоянных слушателей,
последователей, собирателей и хранителей впрок его философского
наследия. Они и составили — не знаю уж сколь многочисленную, но,
несомненно, все более влиятельную, пополняемую и сегодняшней
молодежью — школу Мамардашвили.
В нашей философии вместе с тем работали и работают те, для
кого общение с Мерабом по разным причинам не предполагало ни
скрупулезного овладения всем (сосредоточенным не столько в
книгах и статьях, сколько в стенограммах, на магнитофонных
пленках) богатством его мысли и слова, ни принадлежности к его
школе; но для кого-то удача со-бытия с миром идей и миром
личности Мамардашвили, как и неоценимый дар многолетней
дружбы с ним, превратились в уникальное жизненное со-бытие,
бережно хранимое в умах и душах. Я принадлежу именно к этой
группе, о чем упоминаю лишь для того, чтобы обозначить жанр и
смысл нижеследующих заметок. Ни в какой мере не претендуя на
адекватность и тем более на полноту толкования текстов,
оставшихся от Мераба Мамардашвили, используя лишь малую толику им
написанного и высказанного — опубликованные при жизни книги и
статьи, — попытаюсь схематично обозначить всего лишь свое
видение того, как два важнейших проблемных поля философии
нашего века — цивилизация и феноменология — пересекались,
взаимодействовали в мыслительных поисках, которые со всем
напряжением своего недюжинного ума и со всей честностью своей
души вел Мераб Мамардашвили.
404
H.В. Мотрошилова. Цивилизация и феноменология.«.
* * *
Чисто исторически дело выглядит таким образом, что
феноменологические мотивы почти изначально определяли философствование
Мамардашвили, а тема цивилизации была в наибольшей степени
артикулирована мыслителем лишь в 80-е годы. Вместе с нарастанием
боли, тревоги за «трещины» в хрупком строении человеческой
цивилизации, которые угрожают ей гибелью, вместе с ощущением
«антропологической катастрофы» (здесь и далее в кавычках — термины и
выражения самого Мераба Мамардашвили) тема цивилизации в
последнее время буквально вторглась в философствование
Мамардашвили, заметно потеснив другие, традиционные для него проблемы и
переместив акценты с прежде более академичных, эзотерических по
стилю рассуждений на философско-публицистический жанр. Как у
Гуссерля в 30-х годах тема «европейского человечества» и его
кризиса была тесно связана с проблематикой всей его жизни —
феноменологическим анализом, так у Мамардашвили 80-х годов болезненно
заостренная концепция цивилизации вытекала из прежних
(примыкавших к феноменологическому движению, но вполне
оригинальных) размышлений о сознании. Доказательство этой несомненной
связи легко усмотреть в докладе Мамардашвили 1984 г., так и
озаглавленном «Сознание и-цивилизация»1. Полагаю, что движение
обоих философов к концепции цивилизации и ее кризиса (это было
именно незавершившееся движение — обоим смерть помешала
разработать концепцию полнее, систематичнее, объемнее)
продиктовано не только разразившимися на их глазах историческими
трагедиями фашизма, тоталитаризма или посттоталитаристского хаоса.
Были и остаются весьма действенными и внутрифилософские
причины — собственная логика развития мысли, требовавшая подвести
под причудливые, в обоих случаях весьма изощренные строения
феноменологического анализа сознания наиболее адекватный им
социально-философский, то есть именно цивилизационно-культурный,
фундамент. Как и у Гуссерля, начавшего поиски еще после Первой
мировой войны, но вычертившего абрис фундаментального
основания своей философии (в виде «Кризиса... ») лишь на исходе жизни,
у Мераба Мамардашвили были свои искания и блуждания. Я имею в
виду временную и временну ю дань, выплаченную им, как и
некоторыми другими нашими талантливыми философами, из-за не нами
выбранной, а доставшейся в удел от прошлого «марксистской
родословной». Нет, я вовсе не утверждаю, что тщательное изучение
Маркса, его толкование у раннего Мамардашвили (как и у других наших
философов 60-х и 70-х годов) было начисто «утраченным
временем». Тем более что сам Мераб Мамардашвили в 1988 г. — когда он
«заболел» темой цивилизации и существенно иначе, чем в начале
405
Часть жизни как таковой
60-х, толковал марксизм — нашел возможность без всякой
конъюнктурной суеты воздать должное этой «родословной». Процитирую
слова Мераба, в контексте нашего разговора тем более важные, что
они прямо отвечают на существенный вопрос: откуда и как
проникла в его сознание, в сознание немалого числа философов нашей
страны феноменологическая проблематика. Мамардашвили делает
искреннее признание: «Если перейти к более личному: скажем, то, что
я знаю о феноменологии, в смысле проблемы, у меня совсем не из
Гуссерля. И не важно, знал ли я о том, что в других понятиях все это
делалось уже у Гуссерля. Очевидно, живое существование мысли не
зависит от этого: знаю ли я ее текстологически или нет... Вообще мне
кажется, что в нашу философию феноменологические проблемы
вошли независимо от освоения нами Гуссерля. Они вошли, скажем,
через то смещение всей проблематики философии, которое в XX в.
наблюдается совершенно отчетливо, к проблематике, которую я бы
безусловно назвал "проблематикой тела", и толчок к этому дал в свое
время Маркс. После Маркса (кстати, через Маркса у нас это и шло,
у меня во всяком случае) философия сместилась к интуиции "тела",
то есть предметно-деятельных структур, "предметности мысли" как
живой, внементальной реальности души»2.
Благодаря такому почти эпатирующему признанию
феноменологические штудии Мамардашвили освобождают их автора от
возможного и вообще-то непраздного упрека, состоящего в том, что даже и
при наличии общих отсылок к Гуссерлю в известных мамардашвили-
евских работах по феноменологии трудно обнаружить прямые следы
проработки каких-либо конкретных гуссерлевских или иных текстов
западной и отечественной феноменологической классики.
Феноменология, как она предстает в философии М.
Мамардашвили, отличается тем, что ее, с одной стороны, нельзя числить
разновидностью гуссерлианства или другой какой-либо ветви
западной или отечественной феноменологии. С другой же стороны, при
всей оригинальности трактовки определенное единство с
феноменологической классикой существовало на всех этапах развития
мысли Мамардашвили, что в ряде случаев ясно прочерчивалось им
самим. Теперь попытаюсь (по необходимости кратко и
схематично) ответить на вопрос: в чем суть феноменологии в толковании
Мамардашвили и что нового вносит он в феноменологическую
традицию философствования?
Феноменологию Мамардашвили понимал не как особое, лишь
горстке специалистов нужное и доступное учение, не только и не
столько как специфическую школу или направление
философствования — все равно, ведут ли их родословную от Гуссерля или уходят
глубже в историю, к феноменологии Гёте или Гегеля.
«Феноменология — сопутствующий элемент всякой философии» — так озаглавил
406
H.В, Мотрошилова. Цивилизация и феноменология...
Мераб свое выступление на «круглом столе» «Вопросов
философии», состоявшемся в 1988 г. и посвященном феноменологии.
Тогда же Мамардашвили, пытаясь определить, что такое
«собственно феноменология», предложил именно «несобственное», на
мой взгляд, ее определение — такое, при котором специфика
феноменологии как раз может теряться, но зато действительно через
призму «феноменологического элемента» может преломляться и
светиться суть философствования как такового; Гуссерль тут в самом деле не
единственная и даже не центральная фигура — зато существенным
оказывается то, что встраивает феноменологию XX столетия в ряд
философских усилий Декарта, Канта, Гёте, Маркса, да и вообще
соотносит ее с любым ранее состоявшимся или могущим быть
свершенным актом философствования.
В этом мамардашвилиевском повороте, прикосновении мысли
(используя дальше слова К. Ясперса, сказанные о М. Хайдеггере) «к
живому нерву философствования» вообще, феноменологического
размышления в частности, присутствуют и методологические,
специально-философские, и личностные, смысложизненные, и
социокультурные аспекты.
В теоретико-методологическом, специально-философском
аспекте речь идет о сложнейшей методике и технике исследования
сознания, которая, например, представлена в книге «Классический
и неклассический идеалы рациональности», — и там, где
Мамардашвили тонко проводит и соединительную, но больше
разграничительную линию между кантовским (классическим) «явлением» и
(условно говоря) гуссерлевским (неклассическим) «феноменом».
(«Условно говоря» — это выражение употреблено потому, что ма-
мардашвилиевское толкование феномена, отчасти восходя к
Гуссерлю, к гуссерлианской феноменологии отнюдь не сводится.)
При этом необходимо учитывать, что для Мамардашвили
различение «явления» и «феномена» — своего рода несущая конструкция
в теоретическом построении, направленном на спецификацию
классического и неклассического типов рациональности, а
следовательно, и типов философствования.
«... Явление, — писал Мамардашвили — есть технический,
специальный термин, а не слово обыденного языка и восприятия. Не
все, что приходит к нам извне, испытывается, ощущается —
явлено... явлено то, для чего есть модели, что смоделировано... »\
Классическое в философии (что не тождественно всему
содержанию философской классики, в которую периферийно входили
элементы, подготавливавшие не-классическую позицию)
Мамардашвили понимал как «некоторую онтологию ума, наблюдающего
физические тела», но оперирующего именно с явлениями и
соответственно содержащего «в упакованном виде» правила, общие
407
Часть жизни как таковой
предпосылки, допущения философского характера4. «Физическое
тело» и его явленность — вот что, согласно Мамардашвили, стояло
в центре классического философствования и на модели
наблюдения за чем долгое время пытались ориентировать также и
структурирующие модели сознания. Главными принципами тут стали:
сведение «физического тела» к явлению, а содержания последнего —
к возможностям пространственного наблюдения (откуда
проистекало фактическое отождествление «объективности» и
«пространственное™» с «материальностью»); принцип непрерывности
воспроизводимого опыта, «перенос наблюдения по всему полю, то
есть возможность в любой точке пространства наблюдения быть
рефлексивно непрерывным носителем интеллигибельного
содержания происходящих там (вообще осознаваемых) событий,
явлений»5. Мамардашвили назвал все это сцепление идей и подходов
«ментализмом выпотрошенных явлений».
Здание метафизики — онтологии классического типа
рациональности, — в чем Мамардашвили усматривал, говоря его словами,
«старую проблему»6, поэтому должно было иметь и своим фундаментом,
и как бы увенчивающим шпилем идеализирующие,
спиритуалистические допущения.
При всем господстве идеалов очевидности, наблюдаемости,
измеримости, моделируемости и т.д., взлелеянных классической наукой и
ее философией, последние парадоксальным, но совершенно
необходимым образом должны были восходить к утверждению самых
различных идеалов — «абсолютов» — от «абсолютного пространства», от
предположений высшего, предельного понимания (которое
«вменяется» спиритуалистически и самим вещам, телам), «гипотетически
максимально мощного интеллекта» до постулирования всех и
всяческих «предустановленных гармоний», «истинных соответствий»,
«бесконечных скоростей», «мгновенных передач взаимодействий» и т.д.
«Вытягивание» из построенных самой классикой картины мира и
образов сознания неклассических измерений и проблем началось,
согласно трактовке Мамардашвили, еще в эпоху господства
классической науки-философии и часто было реакцией выдающихся ученых и
философов на явно осмысленные или не явно ощущаемые трудности,
парадоксы классического миропонимания. И выразилось оно в том,
что он назвал «феноменологическим сдвигом»: так обозначилось все
более набирающее силу состояние науки и философии, при котором
место «явления» (и его моделей) стал постепенно занимать
«феномен», а на смену господству «ментализма выпотрошенных явлений»
пришла феноменологическая ориентация. Естественно, что при
таком — «достаточно сильном» — утверждении М. Мамардашвили
должен был уделить самое пристальное внимание философско-методо-
логическому определению сути «феномена».
408
H.В. Мотрошилова. Цивилизация и феноменология...
Вот одна из мамардашвилиевских дефиниций (к сожалению, не
обладающая ни непосредственной ясностью, ни изяществом
литературной формы): «Феноменом, — писал философ, — будем называть
то обладающее чувственной тканью образование сознания, которое
выступает в объективирующем расцеплении ментального понима-
тельного сочленения от бытия, в котором мы не можем сместиться к
представлению (как психическому объекту), содержащемуся в этом
сращении и соотнесенному с предметными референтами,
доступными и внешнему (или абсолютному) наблюдателю. Феномены
локальны по отношению к тотальной перспективе (или замкнуты по
отношению к ней) и независимы: субъект может лишь добавлять их к
внешним наблюдательным и логическим определениям — они есть
или их нет»7.
По крайней мере, два примера, приведенные Мерабом в
процитированной только что книге о рациональности, позволяют очертить и
отличие феномена от явления, и суть «феноменологического сдвига».
Возьмем, предлагает Мамардашвили, в качестве примера «явление
движения Солнца по небосклону»8. Как о нем рассуждают —
вращаясь вокруг явления и проникая «за явления» в его сущность —
классическая наука (астрономия) и философия, достаточно хорошо
известно. Это подробное объяснение того, почему человек видит Солнце
движущимся вокруг Земли, тогда как «в действительности», «на
самом деле» Земля вращается вокруг Солнца, и т.д. Но вот
Мамардашвили ставит нас перед вопросом: влияет ли и как влияет наше знание
об этом «в действительности» на работу нашего же сознания? Ответ
отрицательный: никак не влияет. Ибо сознание в его существовании,
в его бытийности сохраняет «не сводимое и далее не разложимое ядро
представления неподвижной Земли» — и его уже не может изменить
никакой «свет науки». Существует, говоря словами Мераба, «видение
движущегося Солнца в целостной взаимосвязи жизни», что,
собственно, и есть один из исходных феноменов человеческого
сознания, «ухватить» которые можно не через объяснение, а только через
особое описание.
Если классическая философия, ориентирующаяся на явления,
«срезает», по выражению Мераба, или редуцирует все необратимое,
сиюминутное, субъективное, бытийное в пользу однотипного,
объективного, знаемого, уловимого, общезначимого, то
неклассическая феноменологическая мысль редуцирует как раз последнее. В
примере с движением Солнца феноменолог редуцирует, слой за
слоем, исторически изменчивые научно-теоретические объяснения, а
также и все, что относится к явлению и его объяснениям через
«переделывание», «потрошение» явления во имя поиска отличной от
него сущности. А после такого, уже феноменологического,
«срезания», редуцирования происходит обращение к необратимым, одно-
409
Часть жизни как таковой
разовым, неповторимым «актам» сознания как актам самой жизни,
самого существования.
«Ситуация мысли, — резюмировал все это Мамардашвили,
выступая за «круглым столом» феноменологов, — всегда есть ситуация
добавления к логическому акту мышления некоего независимо от него
данного фактического основания. Добавляемая фактичность, или
проблема синтеза, как говорил Кант... Следовательно, всякий
действительно исполненный акт мысли можно рассматривать как событие.
Событие, отличное от своего же собственного содержания. Помимо
того что мысль утверждает какое-то содержание, сам факт
утверждения и видения этого содержания есть событие. Событие мысли,
предполагающее, что я, как мыслящий, должен исполнить, состояться»9.
Вот теперь, я думаю, уже можно предметнее разобраться в том, где
и как Мераб Мамардашвили продолжает линию гуссерлевской
феноменологии, а где и каким образом уже вносит в понимание сознания
не-гуссерлевские, пост-гуссерлевские (возможно, и пост-хайдегге-
ровские) философские элементы. Фиксирование специфики и
«состава» феномена и параллельное (краткое, но весьма убедительное)
обоснование характера и необходимости феноменологической
редукции, осуществляемые у Мамардашвили, как правило, без
огромного количества аналитических различений, подробностей и часто
в не-гуссерлевской терминологии, тем не менее по своему
основному смыслу тяготеют к гуссерлианству. Но тут же Мамардашвили
пролагает в поле феноменологии свою собственную дорогу. В
цитате, приведенной в начале, речь шла о феноменологии как
выделении в анализе «предметно-деятельных» образований. Казалось бы,
именно их имели в виду Гуссерль (когда он отделял «слои»
феномена, подлежащие редукции, от феноменологически существенных
слоев и когда строил концепцию интенциональности и интенцио-
нального анализа сознания) и Хайдеггер (когда он акцентировал
внимание на «самораскрываемости» и бытийственной уникальности
феномена). Классическая феноменология здесь постоянно и весьма
продуктивно балансировала на грани вычленения логически- и гно-
сеологически-фиксируемого (соответственно аналитически богатого,
систематизируемого) содержания и апелляций к невыразимому,
неповторимому, уникальному сознанию-бытию и его «исчезающим»
актам. А также на грани упорной борьбы с «психологизмом» (в
периоды увлечения логикой и в феноменологических произведениях логи-
цистского толка) и «прыжков» с логико-аналитико-феноменологичес-
кой вышки в глубины психологизированной феноменологии.
Но для Мамардашвили, чем дальше, тем больше, на первый план
стало выступать не то, что «деятельно-предметные образования»
(скажем, интенциональные структуры), обладая спецификой по сравнению
с привычными, классическими мыслительно-рефлективными образо-
410
H.В. Мотрошилова. Цивилизация и феноменология...
ваниями, все же сохраняют (для Гуссерля это было первостепенно
важно) самостоятельность по отношению к конкретным актам
мысли, к психике, условиям жизни данного индивида. А напротив, как
раз то, что, выражаясь словами Мамардашвили, все они, эти
образования, «опосредуются некоторым собственным (этого, конкретного,
индивидуального человека) первичным воплощающим
существованием»10. Здесь-то, по-моему, и стала пролегать дорога, которая все
более уводила М. Мамардашвили от Гуссерля и Хайдеггера и усиливала
его интерес не к философско-феноменологическим текстам (уже «по
определению» нацеленным на всеобщее, даже в
индивидуально-неповторимом, бытийственном), а к литературно-феноменологическим
образцам, где именно индивидуальность, неповторимость бытийственно-
го события и соответствующего состояния, переживания сознания
станет главным предметом интереса, а «возвратное переживание»
необратимо утраченного времени — способом художественного и,
одновременно, феноменологического описания. Таким образом, прустов-
ская (или кафкианская) ориентация Мамардашвили возникла, как я
полагаю, не случайно, а в силу все более четкого акцента его
феноменологических штудий на бытийно-событийном измерении сознания. И
еще — все более сильного тяготения всего философствования к
вопросу о мыслящей (соответственно предметно действующей) личности,
которая «должна исполниться, состояться»11. Это, в свою очередь, было
тесно связано с нараставшей тревогой за то, что «исполниться,
состояться» в качестве личностей не удается очень многим людям, что,
говоря другими словами, целые страны, нации и все человечество в
конечном счете стоят перед лицом «антропологической катастрофы».
Тревога эта возникала по вполне конкретным
социально-историческим и житейским поводам, но конкретная озабоченность у философа
ранга Мамардашвили не могла не перерастать в поистине
метафизические Боль и Заботу. Феноменология сознания органично
подталкивала к новым раздумьям о судьбах цивилизации.
И тогда Мамардашвили четко осознал, что тема цивилизации,
цивилизованности (соответственно — дикости, одичания), подобно теме
феноменологии, — не особый, экзотически-периферийный сюжет
философствования, а проблемное измерение философии как таковой, с
первых шагов появившееся в ней и (под разными названиями)
сохранившееся до наших дней, когда его значение неизмеримо усилилось.
Органичный, по моему мнению, поворот от феноменологии
сознания как всеобщего момента философствования к цивилизацион-
ному, и тоже всеобщему, элементу философии лучше всего
усматривается в известной броской мамардашвилиевской формуле трех «К»:
речь идет о Картезии, Канте, Кафке.
Ссылка на картезианское «cogito, ergo sum» в данной связи имела
своей целью высветить тот аспект интерпретации формул «я есть», «я
411
Часть жизни как таковой
мыслю» (что не столь уж необычно для мировой и отечественной
философии), благодаря которому более традиционное абстрактно-
гносеологическое толкование перерастало в личностно-нравствен-
ное, а потом — в общецивилизационное обоснование. «Человек, —
говорил и писал, толкуя Картезия, Мамардашвили, — существо,
способное сказать "я мыслю, я существую, я могу", и есть возможность
и условие мира, который он может понимать, в котором может
по-человечески действовать, за что-то отвечать и что-то знать. И мир,
следовательно, создан (в смысле своего закона становления), и дело
теперь за тобой. Ибо создается такой мир, что ты можешь мочь, каковы
бы ни были видимые противо-необходимости природы,
стихийно-естественные понуждения и обстоятельства»12. Принцип cogito
становился, таким образом, не только принципом свободной мысли, но и
принципом ответственности человека за себя и за созданный им мир,
принципом нравственной и духовной вменяемости «Я», мыслящего и
потому в человеческом смысле существующего.
Второе «К» (Кант), в толковании Мамардашвили, указывает на
условия, при которых человек, это конечное, смертное, по всем
меркам животного мира слабое и беззащитное существо, чья жизнь
могла бы стать бессмысленной и перед лицом бесконечности
(«впереди» и «сзади» его жизни простирающейся), — это существо творит
вокруг себя и обретает особый осмысленный мир, который
предполагает выбор, оценки, решения, свободу. Предполагает потому, что
рождающийся человек попадает не только в мир природы с ее
жесткими каузальными связями, но и застает, а отчасти и творит
собственными усилиями мир «интеллигибельных» (умопостигаемых)
объектов. Последние, согласно Мамардашвили, суть «объекты
(измерения), являющиеся в то же время непосредственно, опытно
констатируемыми, хотя и далее неразложимыми образами целостностей,
как бы замыслами или проектами развития»13.
Если первые два «К» (принципы, особенно четко выраженные
Картезием и Кантом) суть «позитив» — ибо они повествуют о
становлении живого, человеческого в человеке, то через третье «К»
(мир Кафки) в духовно-нравственный мир, а также и в его интел-
лектуально-философско-нравственные интерпретации врывается
«негатив» (или, как говорит Мамардашвили, «вырожденный, или
регрессивный, вариант осуществления общего К-принципа»14).
Здесь формы и продукты имеют вид «зомби»-ситуаций, лишь
человекоподобных, а на деле мертвых; в отличие от homo sapiens, т.е.
знающего добро и зло, в мир приходит «человек странный»,
«человек неописуемый». «Смешно, нелепо, ходульно, абсурдно, какая-
то сонная тягомотина, нечто потустороннее»15, — определяет
Мамардашвили, ссылаясь на действия господина К. в «Процессе»
Кафки, в ситуации абсурда.
412
H.В. Мотрошилова. Цивилизация и феноменология...
В дальнейшем Мамардашвили более подробно выявляет
связующие нити между сознанием, его главными структурами и
основоположениями человеческой цивилизации, расставляя, разумеется, свои
акценты, впрочем, по моему мнению, хорошо согласующиеся с
текстами и внутренней ритмикой мысли великих философов прошлого.
Так, у Декарта Мераб справедливо находит, «вычитывает», что ли,
переход «я мыслю» в «я могу», трактуемое не в смысле абстрактного
волевого акта, а в значении общецивилизованного, в пространстве
общества, истории, нравственности, культуры выполняемого и напряженно
удерживаемого осмысленного, ответственного действия. В этой связи
Мамардашвили говорит о «мускулах мысли», о напряженности
мыслительного поиска и умении «держать мысль», т.е. мыслить и,
соответственно, действовать связно и последовательно. «Другими словами, —
продолжает Мераб, — должны быть проложены тропы связного
пространства для мышления, которые есть тропы гласности, обсуждения,
взаимотерпимости, формального законопорядка... Человеческие
учреждения (а мысль— тоже учреждение) есть труд и терпение свободы. И
цивилизация (пока ты трудишься и мыслишь) как раз и обеспечивает,
чтобы нечто пришло в движение и разрешилось, установился смысл и
ты узнал, что думал, хотел, чувствовал... »,6. Вместе с этим, согласно
Мамардашвили, цивилизация, все более основываясь на принципах
свободы и формальных механизмах «упорядоченного, правового
поведения», оставляет простор для «клеточек незнаемого», для
самостоятельного, автономного действия людей — что также в конечном счете
восходит к структурам первых двух «К». А также, к сожалению,
оставляет место для хаоса, дикости, катаклизмов истории, превращающих
принцип свободы в «драму свободы». Цивилизация, в интерпретации
Мамардашвили, лишь постольку способна стать «обществом свободных
производителей» (и, следовательно, людей, способных научиться если
не полностью устранять, то сдерживать и предотвращать процессы за-
зеркального экономического абсурда), поскольку человек, причем в
самых повседневных, по видимости элементарных производительных,
организационных, коммуникативных действиях, не будет надеяться на
невозможное — «перескочить через труд свободы, через бремя развития
самого себя» и, добавим, через труд-бремя напряженного,
последовательного, максимально точного мышления. Препятствий на этом пути
много даже в относительно цивилизованных странах и исторических
состояниях. Что же до переживаемого нами и некоторыми другими
странами антицивилизационного хаоса, то о нем философ сказал ясно
и точно: «Страшные идолы страсти, почвы и крови закрывают мир,
скрывая тайные пути порядка, и оторваться от этих идолов и встать на
светлые пути мысли, порядка и гармонии очень трудно»17.
Вовсе не случайно М. Мамардашвили связал бесконечный
процесс высвобождения от зла, дьявольщины, антицивилизационных
413
Часть жизни как таковой
апокалипсисов, движения к цивилизованности человеческих дел,
устроений и отношений с фундаментальными идеями христианской
культуры. «Эта культура, — писал он, — принадлежит людям,
которые способны в частном деле воплощать божественное и
бесконечное. Говоря "частное", я имею в виду сапожника, купца, рабочего и
т.д. В противоположной культурной ситуации вы имеете дело с
феноменом, суть которого состоит в фантастическом безразличии
человека к собственному делу»18. В такой — «противоположной» — ситуации
опасно ослабевает как в сознании индивида, так и в менталитете
нации, страны, человечества в целом энергия мышления, рассудка и
разума. А уж тут злое, дьявольское сразу теснит божественное.
«Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Достаточно потерять эту
энергию мысли, максимально доступного человеку напряжения всех
его сил... Нужно освободить этот тайный божественный образ, но
задача тут современная — она состоит ведь и в том, чтобы люди стали
способны к современному труду»19.
Кому-то, возможно, стремительное движение мысли Мамардаш-
вили от декартовского cogito или сложных, абстрактных раскладок
кантовских «Критик» к вычленению структур цивилизации
представится неоправданной социологизацией историко-философского
наследия. А кто-то, напротив, найдет размышления Мамардашвили о
цивилизации элементарными и неоригинальными. Дело, однако, в
том, что Мамардашвили, излагая свои идеи в предназначенных для
широкого читателя интервью, как раз и хотел придать им
достаточно понятную форму, стремился дать выход мыслям и чувствам,
тревожившим многих людей. Мы, пожалуй, и не заметили, что именно
через выступления, работы Мераба последних лет (и, разумеется,
других сходно мысливших авторов) аксиомами нашего сознания стали
общецивилизационные установления — взамен еще недавно
засорявших его стереотипов классово ориентированного антимышления или
новояза вчерашних и сегодняшних зомби.
Что до упрека в «социологизации» (а его не раз приходилось
слышать от ревнителей «метафизической чистоты» философии), то и с
ним я не могу согласиться. Мне представляется вполне точным
связующий сознание, цивилизацию, демократию вывод Мераба, которым я
и хочу закончить эти свои заметки: «...демократическое,
цивилизованное поведение — а не сентиментальные требования гуманистов —
выражает саму суть законов сознания и устройства человеческого
общежития в соответствии с ним. А нарушение этих законов неудачной
социальной формой, неудачным способом общения людей, цензурой,
предрассудками, стереотипами, навязываемыми извне нормами,
душащими человеческую свободу, — все это создает зоны напряжения,
роковые узлы, которые или развязываются драматическим образом, или
ведут человечество к вырождению и гибели»20.
414
H.В. Мотрошнлова. Цивилизация и феноменология...
Примечания
Выступление за «круглым столом» по теме «Феноменология и ее роль в
современной философии» («Вопросы философии». 1988. № 12. С. 55-59).
1 См.: Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М.. 1990. С. 107-121.
2 Там же.. С. 102.
3 Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности.
Тбилиси, 1984. С. 19.
4 Там же. С. 6.
5 Там же. С. П.
6 Там же. С. 30.
7 Там же. С. 29.
«Там же. С. 27.
9 Там же. С. 103.
10 Там же.
11 Мамардашвили М. Как я понимаю философию. С. 103.
12 Там же. С. 110.
13 Там же. С. 110.
14 Там же. С. 111.
15 Там же. С. 112.
'* Там же. С. 115.
17 Там же. С. 210.
"Там же. С. 169.
19 Там же. С. 210.
20 Там же. С. 77.
415
Часть жизни как таковой
Николай Трубников
Философская проблема.
Ее гуманистические основания и критерии
Если философия усиливает и утверждает
наше первоначальное ощущение, что мы и
природа — единое целое, если она
превращает это ощущение в глубокое, спокойное со-
зерцание, тогда я приветствую философию.
И. В. Гёте
Современная научно-техническая революция выдвинула множество
проблем, в том числе и философских. Она же по-новому
заставляет осмысливать и старые, так сказать, извечные философские
проблемы. Новое качество науки и техники — а в условиях
научно-технической революции приходится иметь дело именно с этим —
качественно новой связью связывает человеческое мышление и мир,
вплетая эту связь в один тугой узел с мощным развитием
современного естествознания и техники, с преобразованием традиционных
форм человеческой деятельности и укладов жизни, со всеми теми
изменениями, какие претерпевает весь современный мир.
Буколическая картина мира, до начала нынешнего века лишь
эпизодически прерываемая отдельными очагами цивилизации, стала
достоянием невозвратного прошлого. Человек живет в другом мире. Он
по-другому видит его. По-другому видит себя в мире. По-другому
мыслит себя и мир.
Какова же новая роль философии в этом новом мире и в этом
новом видении мира? Каково ее новое место, и имеет ли она это новое
место? Нужна ли еще? Ставит ли наша сегодняшняя
действительность не только общенаучные проблемы, разрешимые в
общенаучном же порядке, но и специфически философские, решение которых
возможно только в составе философского познания, и никакого
другого? Не просто те или иные проблемы, традиционно решаемые
философией и зафиксированные в качестве философских лишь
эмпирически, но такие, сама постановка которых и решение и теоретически
не могли бы быть какими-либо иными?
Эти вопросы являются главными для предлагаемой статьи.
Проницательному читателю, конечно, ясно с самого начала, что
обсуждение таких вопросов в философском журнале предполагает
недвусмысленный ответ в пользу философии. Однако такому
читателю должно быть ясно и то, что обосновать такое недвусмысленное
решение в этих новых условиях не так-то уж легко.
Попытка наметить общий характер и основания этого
положительного решения как раз и составляет содержание предлагаемой статьи.
416
H. Трубников. Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
***
Для того чтобы обосновать это решение, мы прежде всего должны
спросить себя: что представляет собой философская проблема как
таковая? Каковы ее существенные признаки? Каков ее исходный
смысл? Какова ее необходимая форма? Каков ее источник? Мы
должны спросить себя: правда ли, что именно отвлеченность и даже
предельная отвлеченность отличает философские проблемы и
философию вообще от так называемых конкретных наук и конкретных
научных проблем? Правда ли, что в отличие от всякого иного рода
научной деятельности differentia specifica философии заключается как
раз в отсутствии какой бы то ни было специфики, какой бы то ни
было определенности вообще?
Ясно, что прежде всего нужно исследовать существо той или иной
проблемы именно как философской, отличив ее как от проблемы
частного и частнонаучного порядка, так, равным образом, и от проблем
общенаучного порядка, коль скоро такие тоже имеются. А для этого
необходимо, очевидно, не просто идти к истокам того или иного
традиционного философского вопроса, к его началу, но к тем именно
истокам и тому началу, откуда он ведет свое происхождение именно
в качестве философского, и уже оттуда проследить за его дальнейшей
судьбой, за претерпеваемым им процессом и посмотреть, каков же
его действительный характер, так ли этот вопрос отвлечен от
реальности, так ли слабо связан с жизнью, как это иногда кажется.
Обычно считается, что философия изучает наиболее общие законы
и формы объективного мира и человеческого мышления. И это верно.
Но этого еще недостаточно, потому что существуют, например, такие
науки, как математика, которые также изучают наиболее общие
законы и, может быть, еще более общие, чем философия. С другой
стороны, существуют и такие традиционные философские дисциплины, как
теория и методология познания, которые изучают хотя и общие
законы, но лишь некоторой специальной области — познания, не
отличаясь в этом отношении от других специальных наук1.
Очевидно, мало сказать, что философия изучает наиболее общие
законы. Следует, очевидно, показать, каков специфический характер
ее изучения и ее общности, чем эта ее общность отличается от
общности других наук. И следует еще добавить, почему она все-таки
изучает эти законы, если и человеческое мышление, и мир изучаются
другими науками, например психологией и физикой.
Попробуем поставить какой-нибудь традиционный вопрос
философии в его наиболее общей форме: что есть, например, само по себе
время или что есть само по себе пространство?
Казалось бы, именно эти вполне отвлеченные вопросы, ответ на
которые дал бы нам чистое знание в его наиболее общем виде, то есть
m _ оачй
417
Часть жизни как таковой
такое знание, откуда каждый мог бы легко черпать общее
содержание для самых различных приложений, и есть вопросы
философские. Однако мы видим, что это не так. Отвлеченная форма этих
вопросов задает нам и столь же отвлеченную форму ответа на эти
вопросы. Такую форму, какая, по существу, вовсе не является
ответом, ни к чему не приложима и не применима, потому что приложи-
ма и применима буквально ко всему. Такие вопросы (а вопрос — это,
как говорится, часто не меньше, чем половина ответа) определяют
столь же отвлеченные ответы — банальности вроде того, что время
есть наиболее общая форма бытия, а пространство, как и время, тоже
есть наиболее общая форма бытия. Конечно, такая философия,
которая занимается тем, что обобщает данные естествознания и
общественной практики и сводит свое содержание к наиболее общим
банальностям, также иногда встречается, однако вряд ли именно она
составляет содержание и смысл всякой философии вообще. Такое
обобщение вряд ли помогло бы философии продержаться в качестве
самостоятельной области человеческой духовной деятельности хотя
бы один день из ее многовекового пути. И в этом смысле история
философии, а в ней история того или другого философского
вопроса, рассмотренная не только с точки зрения одних результатов,
отвлеченных от процесса их достижения, но прежде всего с точки зрения
самого этого процесса, его исходных пунктов и предпосылок, со всей
убедительностью опровергает достоинство и смысл такой
философии, как и сам этот предрассудок относительно предельной
общности, а по существу, предельной отвлеченности, философии и
философского отношения к миру вообще. И даже больше того. История
философии, рассмотренная как реальный процесс, а значит, и в
связи со своими мотивами и истоками, дает совершенно другую
картину философского развития, картину, несравненно более живую и
жизненную, жизненно-связанную и жизненно-значимую.
Повторим наши вопросы: что есть время само по себе? Что есть
само по себе пространство?
Задавая такие вопросы, надо хотя бы минуту заставить себя быть
последовательным до конца и спросить: а что есть проблема сама по себе?
Что есть ответ сам по себе? Что есть, наконец, само это «само по себе»?
Разве не сомнительно, что возможно существование «самого по
себе вопроса» и «самого по себе ответа», коль скоро никакая
проблема никогда не есть «сама по себе», но всегда чья-то проблема и
проблема него-то, коль скоро она возникает в определенной связи с чем-
то и ради чего-то требует разрешения. Но точно так же и всякий
ответ всегда есть чей-то ответ, кому-то и о чем-то, ответ на какой-то
вопрос. И если мы будем до конца последовательными в проведении
этой точки зрения «самого по себе», то есть точки зрения объектив-
ности, — а эта точка зрения есть первое условие всякого рода науч-
418
H. Трубников, Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
ности, — мы вынуждены будем запретить вопросы, заданные в столь
отвлеченной форме. Мы принуждены будем к этому, потому что сама
эта форма — форма строгой объективности, — доведенная до конца,
запрещает такой вопрос, а с ним и самое себя как такую форму (и в
этом-то и заключается парадокс объективности), потому что то, что
существует «само по себе», само по себе никогда не нуждается ни в
каких вопросах, как не нуждается и ни в каких ответах. То же, что
нуждается и в том и другом, всегда есть нечто иное, чем «само по
себе», чем «сама по себе объективность». То, что нуждается в
вопросах и ответах, всегда есть нечто такое, что тем или иным способом
относится к объективности, тем или иным образом связано с ней,
спрашивает ее и выслушивает ее ответы и, спрашивая и выслушивая
ответы, выносит решение о том, как к ней относиться дальше, чем
ответить этой объективности и о чем ее еще спросить.
Мы могли бы сказать, что это отношение к объективности есть
отношение субъекта и отношение субъективное. Однако мы могли бы
это сказать лишь в том случае, если бы эти термины (субъект и
объект) не связывали нас ходячим толкованием, способным не
столько прояснить действительное отношение к объективности,
сделав его понятным, сколько исказить и извратить это отношение,
поскольку субъект и субъективное как раз и понимаются по большей
части как нечто искаженное и извращенное, искажающее и
извращающее, чему и следует противопоставить принцип строгой
объективности, чистой науки и т.д., как будто объективность только того и
ждет, чтобы поскорее отдаться тому, кто ее только пожелает.
Именно поэтому нам приходится здесь отказаться на время от
этих категорий и совершить иное движение, которое рано или поздно
поможет нам сформулировать эти категории, коль скоро в них
возникнет нужда, но здесь оставит наши руки свободными для дела,
какое нам предстоит проделать.
Достаточно будет заметить, что «объективность», точка зрения
предмета «самого по себе», какую мы могли бы противопоставить
здесь «субъективности» естественного (вненаучного) отношения
человека к миру, есть достаточно большое допущение, если она,
конечно, не есть, как у Гегеля, «объективность некоторой субъективности»,
что тоже мало продвигает нас без специальных разъяснений к
пониманию существа дела, есть нечто внутренне незавершенное, то есть
определенного рода философическая условность, которая, правда,
позволяет науке избежать «дурной бесконечности» определений и
разрешает ей, хотя бы и при помощи не слишком уж «хорошей»
конечности незавершенного и искусственно оборванного, все-таки
осуществлять движение мысли и достигать научных результатов.
Ясно, что эта форма объективности может быть принята нами как
не-абсолютная, то есть в несколько фигуральном и, так сказать, «пик-
419
Часть жизни как таковой
викистском» смысле. Может быть принята отнюдь не как то, что
таковым является «на самом деле» и «само по себе», но лишь в смысле «как
бы» и «допустим, что». Однако эта позиция, заключающаяся прежде
всего в том, чтобы сознательно отделиться от всякой предвзятой точки
зрения и брать предмет «сам по себе», пускай даже «как бы сам по себе»,
есть необходимая и ценнейшая форма научности «самой по себе». Без
нее вообще нет никакой науки в положительном смысле, ибо
положительный смысл науки как раз и заключается в том, чтобы рассматривать
предмет как таковой, получать объективное знание, не примешивая к
нему и процессу его достижения каких-либо предвзятых соображений,
которые бы не относились к исследованию предмета, и только к нему.
В этой условности «объективности» заключается поэтому не одна
только «слабость» объективного подхода к предмету, вызванная
самой ее незавершенностью, тем, что ее предмет утрачивает в ней свою
необходимость быть предметом, но прежде всего немалое
преимущество этого подхода, немалая сила научного мышления, разрешающего
себе все-таки абстрагироваться от «оснований», то есть от того, что не
есть предмет «сам по себе», но все-таки есть «пред-мет», нечто
«предложенное» и «под-лежащее» исследованию.
Что эта форма является условной и незавершенной, видно хотя бы
из того, что ее предмет в качестве предмета научной деятельности
имеет это «пред», имеет интерес. Если бы он не имел такового, то
есть не вызывал его — а интерес есть то, что вызывается в нас
предметом, а не то, чем он обладает сам по себе, — он никогда не стал бы
предметом никакого исследования. И лишь этот интерес, который
вызывает предмет, но которым он сам по себе не обладает, есть
единственно допустимая в науке предвзятость.
Этот интерес, эта предвзятость есть отношение к предмету. И дело
не в том, что это отношение существует как бы до того, как
существует предмет в качестве предмета научного изучения. Дело в том, что в
этом интересе, в этом отношении предмет уже в силу этого
отношения не есть «сам по себе».
И если этот исходный интерес, это пред-взятое отношение к
предмету как бы элиминируется в форме научной предвзятости,
доводится, так сказать, до предела отвлеченности, до «чистого научного
интереса» к предмету «самому по себе», то и это делается тем не менее
не иначе, чем на основе того предположения (также вполне пред-взя-
того пред-положения), что предвзятость и объективность есть нечто
несовместимое и взаимоисключающее.
Таково научное отношение к предмету.
Иным, принципиально иным и противоположным в этом пункте
является отношение философское.
Та предвзятость, тот интерес к предмету, которые в науке
доводятся до предела абстрактного, в философии, что бы она иной раз ни
420
H, Трубников. Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
воображала о себе и как бы ни обольщала себя «строгой научностью»
и «объективностью» своего подхода к предмету и миру вообще,
подобно тому как наука обольщает себя «непредвзятостью» своего,
доходит здесь, в философии — и чем «выше» является та или иная
философия, тем полнее и ярче это в ней выражается, — до предела
конкретности, доводится до полноты человеческого отношения к
предмету и миру вообще, отношения, по-человечески предвзятого и
по-человечески заинтересованного уже не в предмете «самом по
себе», но в предмете для человека и по отношению к человеку, в
связи с ним, с его практикой.
Именно с этим обстоятельством, с этой противоположностью
принципов находится в прямой связи тот любопытнейший факт, что
конкретное и абстрактное в положительных науках и в философии
часто обнаруживают прямо противоположный смысл. Конкретное в
качестве научно-конкретного оказывается при этом абстрактным с
точки зрения философии и наоборот. Известно, сколько путаницы,
сколько взаимных обвинений и взаимных непониманий это
породило. Существо же дела заключается в том, что научно-конкретное
реализуется не иначе, чем в анализе, а потому и в
философски-абстрактном, тогда как философски-конкретное — лишь в синтезе, потому
что здесь оно есть связанное, в отличие от научно-конкретного, то
есть выделенного из связи, извлеченного и рассмотренного, так
сказать, per se, «само по себе», что на языке философии со времен
Платона и Аристотеля как раз и определяется как абстрактное.
Именно поэтому поиск исходного философского интереса к
предмету, в частности и к нашей «проблеме проблемы», отсылает нас не к
анализу, но к синтезу. Он отсылает нас не к точкам зрения и
«мнениям», но к тем более широким и общим потребностям и интересам, чем
потребности и интересы науки и даже философии «самой по себе», в
которых эти точки зрения и мнения сложились и которые заданы
самым широким и общим (а философски общее и есть связанное, не
отвлеченное, но при-влеченное, не вы-бранное, но со-бранное, со-бор-
ное, как когда-то называли это в старой русской философии),
широким и общим контекстом человеческой жизни, практики, взятой
во всем ее доступном нашей мысли объеме.
Этот поиск отсылает нас, таким образом, к тем потребностям и
интересам, которые заданы общим процессом и общим контекстом
человеческого бытия, к его физической и социально-исторической
действительности. И здесь всякий результат движения мысли
приобретает философский смысл лишь в том случае, когда он связывается
с живым созерцанием и непосредственным переживанием ее
процесса и интересами человеческой жизни вообще.
Вместе с тем противоположность положительно-научного и
философского отношения к миру и предмету вообще не есть противо-
421
Часть жизни как таковой
положность взаимного исключения или опровержения. Если такое
иногда и случается, то это всего лишь плод определенного рода
недоразумения, непонимания сущности научного и философского.
Конечно, философия и наука противоположны в своем отношении к
миру. Но действительная их противоположность внутри одного и
того же единого человеческого отношения к миру,
противоположность взаимно необходимого, напоминающая ту взаимно
необходимую противоположность полов, которая лишь в единстве и связи
имеет смысл, в том самом единстве, где эти противоположности
реализуются не иначе, чем «друг через друга», оставляя за пределами
этого единства как для одной, так и для другой пустоту и
бессмысленность «неистинного» существования.
Вряд ли это такой уж большой секрет — разговоры о том, что
время философии прошло, что она больше не нужна, коль скоро мы
имеем развитую науку, что если она и нужна, то следует ее
радикальным образом перестроить, положив в ее основу принципы строгой
научности, и т.д. Конечно, философия имеет в своем составе
некоторые области, которые нуждаются в этой перестройке, она имеет свои
недостатки, и наука может предъявлять к ней свои требования (как и
философия свои науке), показывая (в том и другом случае), почему
состояние одной не удовлетворяет другую. Однако это отрицание
собственного смысла философии не имеет достаточных оснований.
Не нужна лишь такая философия, которая подменяет науку, пытаясь
перестроить ее по своему образу и подобию. Но не нужна и такая,
которая перестраивает по образу и подобию науки себя и, таким
образом, утрачивает философский характер. Поэтому это отрицание
философии, ее необходимости, ее нужности и т.д. есть скорее всего
продукт плохой философии — а такая действительно никому не
нужна и даже вредна, — ее неспособности выявить свою сущность, свою
необходимость, свою несводимость к науке и научности вообще.
Философское отношение есть особая форма человеческого
отношения к миру. Философия в качестве определенного рода
мировоззрения есть то, чем человек обладает до того, как создает школы (в
том числе и философские), подобно тому как человеческое познание
мира вообще есть то, чем человек обладает до того, как образует
институты (в том числе и такие общественные институты, как наука).
Философия как такая форма отношения, как мировоззрение, как то,
чем человек обладает с самого начала, поскольку не только
материально относится к миру, но и обладает мышлением о мире и
относится к миру также и посредством мышления, то есть идеально, как,
имея органы материального взаимодействия с миром, имеет при их
посредстве и материал знания и знает материальный мир,
независимо от того, существует ли для него наука в ее сегодняшнем виде, —
философия как определенного рода концепция жизни (развитая или
422
H. Трубников. Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
неразвитая, не в этом пока дело), как связанное с тем или иным
пониманием человека мироведеные или, что одно и то же, как связанное
с тем или иным пониманием мира человековедение — позволяет
человеку понимать, а не только знать, позволяет (в качестве такой
концепции) осмыслить эту связь знания с действительностью. Не с
действительностью «самой по себе», но с действительностью его бытия,
истолковать эту действительность в свете знания, как и знания в
свете этой действительности, то есть включить знание (а в развитых
случаях и науку) в общую картину человеческой жизнедеятельности,
придав ему роль связующего звена между человеком и миром и
проведя тем самым ту предвзятую человеческую и в этом смысле
заинтересованную и субъективную точку зрения, которая оказалась под
запретом (во всяком случае, под самым радикальным ограничением) в
чисто познавательном (научном) отношении к миру и в которой здесь
не только не усматривается ничего дурного, но, напротив, которая
кладется здесь в самое основание философского отношения к миру.
И дело вовсе не в том, что философия как бы узурпирует эту
миссию связи человека и мира. Дело в том, что именно то мышление,
которое берет на себя эту миссию, оказывается в силу самой этой
задачи, которую оно так или иначе решает, философским, ибо решение
именно этой задачи дает нам философию как таковую. И когда
философия связывает человека с его потребностями и интересами, с одной
стороны, и мир, понятый не «сам по себе», но как мир человеческого
бытия — с другой, дан ли он, как сейчас, при помощи развитой науки
или только в виде ограниченного опыта непосредственного
осуществления жизни, в единую систему человеко- и мироведения, заданную
изучением мира и заданную миру (в том числе и его изучению)
посредством практического человеческого взаимодействия с миром,
практической человеческой деятельности, только тогда философия и
сохраняет свой смысл и свое право на существование. Если философия не
делает этого, она не нужна. Если она плохо делает это, значит нужна
другая философия. Если философия, даже самая хорошая, допускает
пробелы в этой связи, перерывы в этой линии, эти пробелы и
перерывы тотчас восполняются звеньями неофициальной, доморощенной,
какой угодно мудрости, потому что жить в мире и так или иначе не
относиться к нему, не по-нимать его, то есть быть человеком и не быть
философом, невозможно.
И философия может делать это, связывать человека и мир,
потому что она с самого начала по-нимает — неважно, хорошо или
плохо, — с самого начала связывает, исходит из «идеи связи», которая,
как известно, зародилась «тысячелетия назад». Потому что для нее ни
человек, ни мир, ни человеческое знание о мире никогда не есть
«сами по себе» — в этом и заключается ее исходная философская,
прямо противоположная научной, предвзятость. И даже больше того.
423
Часть жизни как таковой
С точки зрения философии человек и мир, как и само человеческое
знание о мире, любой предмет вообще «сам по себе» лишь
постольку, поскольку «не сам по себе», поскольку находится в универсальной
связи с миром, оставаясь вне этой связи таковым лишь «по
названию», как отсеченная от тела рука лишь по названию — это
утверждал еще Аристотель — является таковой.
С самого начала исходя из идеи связи человека и мира, с самого
начала рассматривая всякий предмет как существеннейшим и
теснейшим образом связанный с миром, философия кладет этот принцип
связи в свое основание и оказывается в состоянии воспроизвести
даже в условиях дифференцированной науки — конечно, в
мышлении, и в этом также заключается и сила философии, и ее слабость,
несамодостаточность— эту универсальную связь и зависимость, и
прежде всего связь человека и мира. И когда она это делает, тогда она
и сохраняет за собой самостоятельное значение, тогда она
приобретает достоинство общей системы человеческого познания мира, а
потому и свое самостоятельное и в гуманистическом (с точки зрения того,
«что нужно человеку») отношении более высокое положение,
поскольку ее отношение есть более целостное по сравнению с науками,
которые, собственно, и возникают в составе этой целостности и не
могут быть поняты иначе, чем частные, и с наукой вообще,
предметом которой является лишь одно, хотя и важное, центральное,
связующее и т.д. звено — но не более, чем звено — в этой трехчленной
системе по-нимания: человек, знание и мир.
Философия в ее нынешнем состоянии, в отличие, например, от
времен досократиков в древнегреческой философии или от
европейской докантовской философии, не создает специального знания о
мире. Не добывает знания. Она лишь строит при помощи знания,
какое добывают науки и какое добывается помимо науки в опыте
человеческой жизнедеятельности, общую картину мира, необходимую
человеку, чтобы жить в мире и ориентироваться в его явлениях. И если
философия домысливает что-либо «от себя», как домысливала она во
времена Пифагора и Лейбница, то она допускает эти домыслы (и
вынуждена это делать, не имеет права не делать этого) лишь там и
постольку, где и поскольку ей недостает положительного знания,
чтобы получить более или менее связную и полную картину мира. А
недостает ей знания только там, где его недостает науке, то есть там,
где научных форм знания оказывается недостаточно.
Отсюда понятно, что обвинения философии в допускаемых ею
«философских домыслах», чем иногда любит потешить себя так
называемое положительное знание, есть, по существу, самообвинение
этого знания, его самоуличение в собственном грехе неделания, в
собственной неполноте и недостаточности. «Философские домыслы»
не есть поэтому признак «научной слабости» философии, которая
424
H. Трубников. Философская проблема. Ее гуманистические основания н критерии
должна быть сильной прежде всего философски. Они есть признак
научной слабости самой науки, ее неспособности выработать нужное
для полной картины мира положительное знание или, если она «для
себя» его имеет, ее неумения представить это знание в нужной,
пригодной для этой картины, «наглядной» форме, позволяющей
включить это знание в необходимую для человеческой ориентации
картину мира.
Предлагая же иной раз с немалой долей высокомерия «не-нагляд-
ные» формы, наука ставит себя в глупое положение провинциала,
испытывающего злорадное чувство превосходства над жителем столиц,
когда тот не понимает его местных «онацыть» и «шелешпёнок». В лучшем
случае в положение педанта-топографа, который ради «строгой истины»
захотел бы изобразить земную поверхность в размерах и формах
«натуры» и отказался бы от употребления масштабов и условных знаков2.
Так обстоит дело с философией в ее связи с наукой.
Принцип «восхождения к основаниям», к «истокам»
философского знания позволяет, таким образом, понять философский процесс,
историю философии, как и само человеческое мышление о мире и
его историю, не как нечто независимое от мира и самостоятельное по
отношению к более широкому и общему процессу человеческой
жизнедеятельности, не как нечто такое, что определено лишь
«внутренними» потребностями «познания самого по себе», лишь зависящими от,
так сказать, «кухни научного познания» теоретико-познавательными
или научно-методологическими интересами, но как процесс
постижения жизни в понятиях. Постижения не «жизни философии» самой по
себе или «жизни науки» самой по себе, и только, но прежде всего той
широкой физической и социально-исторической данности, которая
составляет мир человеческой жизни и включает и философию, и
науку, и многое другое, «что и не снилось нашим философам»3, в
формах того осмысленного и осмысливающего эту данность духовного
целого и синтеза, какой оказывается во всякий данный исторически
определенный и исторически же преходящий момент доступным
философскому познанию мира.
Так обстоит дело со всякой действительной философской
проблемой и со всякой действительной философией, ибо ее проблемы, по
существу, всегда есть проблемы не только философские, всегда есть
проблемы более нем философские, если под философией понимать
некоторую специальную область духовной деятельности, есть
проблемы человеческой жизнедеятельности, человеческой жизни.
Мы можем, конечно, отвлекаться от этого принципа. Мы можем,
еще не осмыслив его, углубляясь лишь в анализ и позабыв о синтезе,
прослеживать, как от одного имени к другому, от Платона к
Аристотелю, от Канта к Гегелю, от неокантианства к Бергсону, от Дильтея и
Гуссерля к Шпенглеру и Хайдеггеру и т.д. изменяется содержание той
425
Часть жизни как таковой
или иной философской проблемы и ее формулировки. Мы можем
проследить прогресс в одном отношении и упадок в другом, вскрыть
«непоследовательность» одного с точки зрения «последовательности»
другого и т.д., но мы никогда из «самой по себе истории философии»,
из борьбы философских мнений — а сама по себе, то есть
независимо от жизни, существующая философия никогда не есть что-либо
большее, чем эта борьба мнений, — не выведем, если не обратимся к
реальности, синтезу и целому, того ее движущего импульса и
источника, каковые и составляют ее действительное начало, сообщая
движение и ускорение ее мысли и заставляя ее трудиться над ее
специфическим «философским предметом» и «материалом».
В этом смысле поиск оснований, первых истоков проблемы есть
первый и важнейший методологический принцип философского
познания в самом строгом смысле этого слова. Этот поиск, и только он,
позволяет определить тот необходимый, а часто и единственный
пункт, где философия не просто вступает в живой и
непосредственный контакт с действительностью, с самой реальностью
человеческого бытия, но где она рождается как философия, то есть как
специфически человеческая духовная деятельность, как специфически
человеческое синтетически-аналитическое, как называл это Гегель,
отношение к миру; где она рождается именно из этого связующего
контакта мысли с действительностью, если не успела родиться
прежде, или возрождается для новой жизни там, где уже существует; где
она приобретает или еще раз подтверждает свое неотъемлемое право
на существование.
Короче говоря, это тот самый пункт, где тот или иной вопрос
приводится в прямую связь с проблемой смысла и сущности
человеческого бытия. И если мы заметим, что далеко не всякий из
человеческих вопросов может быть поставлен в такую связь, это значит лишь
то, что далеко не всякий из них есть философский вопрос, и если
далеко не всякая философия такой вопрос ставит, это значит, что
далеко не всякая из человеческих деятельностей, желающих именовать
себя философией, имеет право на это имя.
Именно здесь, именно в этом пункте, в этой постановке вопроса
в связь (вовсе не обязательно в непосредственную, обязательно лишь
в прямую) с проблемой смысла и сущности человеческого бытия мы
получаем вопрос философии (вопрос об отношении человеческого
мышления и мира, знания и действительности и т.д.). И именно здесь
философия «человеческого бытия» смыкается с «человеческим
бытием» философии; «философия жизни» — можно было бы сказать, если
бы это выражение было свободно от груза философской традиции, —
и «жизнь философии» обнаруживает свое исходное единство, а
всякий их новый контакт возрождает это единство и позволяет всякий
раз заново, новым светом одной осветить темноту другой. Именно
426
H. Трубников. Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
здесь то и другое сливается в единое, единой мыслью определенное
и на единый предмет направленное содержание, которое и
предстает перед нами как философское в прямом и собственном смысле
слова. Где то и другое имеет этот философский смысл и где само здание
философии вырастает перед ищущей мыслью не как разрозненная и
все менее обозримая груда заблуждений, осколков мысли,
разбившейся о каменную твердыню мира, — мысли, так и не сложившейся
в стройное его изображение, но как все более отчетливо
просматривающийся, постоянно возобновляемый и столетиями, как Кельнский
собор, незавершаемый и незавершимый, сначала едва заметный, а
чем дальше, тем более отчетливый, замысел, набросок человеческой
и человечески значимой, имеющей непосредственный жизненный
смысл, картины мира с его вершинами и безднами, с его
просветленной и лишь на этой картине просветляющейся тьмой.
Реализация этого принципа позволяет, таким образом, исходя как
раз из этого чуть ли не единственного пункта, обозреть процесс
философии не как нечто, лишь в слабой степени связанное с так
называемой реальной жизнью и почти самодостаточное и самодвижущееся,
но, напротив, как процесс «ореальнения» — да не взыщется за это
слово ни на этом, ни на том свете! — человеческой мысли, человеческого
духа и одновременно как процесс человеческого осмысления
реальности, ее одухотворения, то есть как вполне взаимный процесс
преобразования реальности в мысль и мысли в реальность, как процесс не
только приведения мысли в согласие с действительностью, но и
приведения действительности в согласие с мыслью, как процесс взаимного
согласования мышления и мира, имеющий вполне очевидный
жизненно-значимый и жизненно-заинтересованный смысл.
И именно тут, в этом исходном пункте, в этом основном вопросе
философии или в этом прочтении основного вопроса философии
раскрывается вместе с тем та простая и великая мысль, что вся
философия, все лучшее, наиболее глубокое и духовно чистое, что
заключено в человеческом мышлении о мире, имеет смысл и цену лишь как
способ и попытка гуманистически осмыслить мир, понять его в
связи с человеком, как способ и попытка осмыслить человека в его
связи с миром, как способ и попытка одухотворить реальность
человеческого бытия, сделать реальность содержанием его духа и вступить
с миром в по-человечески осмысленный и по-человечески
одухотворенный контакт, сделав себя и мир из связанных игрой случая или,
как думали когда-то, прихотью чьей-то злой или доброй воли со-уз-
ников бытия в со-юзников, способных понять друг друга и помочь
друг другу* а в конечном счете — и для каждого из них — самому себе:
самому себе — человеку и самому себе (посредством человеческой
мысли и человеческой деятельности) — миру, потому что именно
таким в самой своей глубокой, наиглубочайшей основе является отно-
427
Часть жизни как таковой
шение человека и мира. В нем человек откосится к миру как к миру
своего человеческого бытия и к себе как к человеку-этого мира. И в
нем же мир относится к себе как к гуманистически, посредством
этого человеческого к себе отношения, осмысленному миру. И это
первое и последнее из человеческих отношений к миру есть, быть может,
первое и последнее из возможных для мира отношений к самому
себе.
Предельно непосредственное отношение человека к миру
оказывается в этом смысле предельно опосредованным — через
человеческую историю и культуру — отношением мира к самому себе. Первая
человеческая проблема — последней космической проблемой,
величайшей из проблем вообще.
И только понимание этого отношения может дать сегодня
прочное основание человеческому самоуважению, без которого нет ни
нравственности, ни оптимизма, ни понимания объективной,
вселенски значимой ценности человеческой жизни.
Определение этого пункта позволяет, таким образом, найти не
только первоисток философской мысли, но и провидеть ее общее
направление, позволяет найти ее внутреннее динамическое, к миру устремленное
начало — необходимое начало всякой подлинной философии.
Лишь в свете такого отношения к миру, то есть sub specie humamiaîis,
процесс философского развития может быть понят как жизненно
необходимый процесс, не как экстенсивный процесс накопления
«философских данных», не как процесс случайной смены имен,
обладатели которых приходят, чтобы встать на плечи
предшественников и увидеть на несколько метров дальше, чтобы уличить прошлое
в недостатке зрения и ошибках и описать собственное видение
мира, выработав собственные ошибки и задав, таким образом,
работу последующим поколениям философов, но как вполне
необходимый процесс (настолько, конечно, насколько сам процесс
человеческой жизни, сама история человечества есть нечто необходимое)
гуманистического становления мира, как процесс, тысячью зримых
и незримых нитей связанный с жизнью и миром и лишь двумя-тре-
мя, как ближайшее родословие, лежащими на поверхности, часто
внешними, как покрой платья, — с той или иной философской
школой или направлением.
Понимание этого принципа, отчет в нем и проведение его в жизнь
в философском исследовании позволяют вместе с тем в «частном
деле» философии — в исследовании отношения человека и мира,
знания и действительности, мышления и бытия и т.д. — видеть
существенно важный и необходимый элемент общего человеческого
отношения к миру и человеческого дела, человеческой миссии в мире, не
предмет духовной роскоши, но дело первой человеческой
необходимости — важнейший элемент в осуществлении процесса человечес-
428
H. Трубников. Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
кой жизни. И именно это отношение оказывается в этом смысле
исходным началом гуманистического отношения к миру, в том числе и
философско-гуманистического отношения и философского
познания, каким бы отвлеченным оно ни показалось иной раз
малоискушенному взгляду.
***
Гуманистическое отношение к миру является исходным
человеческим отношением. Гуманистические критерии — последними из
человеческих критериев вообще. Об этом иной раз просто неловко
говорить, но об этом слишком легко и слишком часто забывают,
рассматривая те или иные частные критерии эстетизма, научности
и т.д. Как в конце концов, так и с самого начала мир существует
вовсе не для того, чтобы человек любовался им, как не
существует и для того, чтобы люди могли познавать его и развивать науку.
Человек также живет в мире не только для того, чтобы
любоваться им или преобразовывать его исключительно на эстетических
началах, как не живет для того, чтобы познавать и только
познавать. Каким бы художественно значимым ни был критерий
эстетизма, этот критерий отступает перед критерием гуманизма, и то
лучшее, что знает искусство, исходит как раз из этого отношения,
из того, что подлинно прекрасным может быть лишь
гуманистически прекрасное.
Иное дело с критерием научности. Не секрет, что в современном
мышлении Запада все большее распространение приобретает
специфическая идеология сциентизма, особенно заметная и ярче всего
проявляющаяся именно в научной среде (впрочем, отголоски ее
встречаются иногда не только на Западе). Эта идеология кладет критерий
научности в основание человеческого отношения к миру и
представляет критерии научности как высшие и окончательные критерии не
только человеческого познания, — а научность есть высший
критерий познания, и с этим было бы просто бессмысленно и даже
вредно спорить, — но и всякой человеческой деятельности, чуть ли не
самого процесса человеческой жизни. А это уже подмена критериев,
чреватая, как говорится, весьма серьезными последствиями.
Дело в том, что человек живет в мире с самого начала не для
того, чтобы познавать его, и прежде всего не для этого, каким бы
«высоким» и «рыцарски благородным» ни показалось ему это дело
«чистого познания», «бескорыстного познавательного отношения
к миру», «служения чистой истине» и т.д. Человек живет в мире и
вынужден познавать его, как вынужден пахать землю и сеять хлеб,
если не может вкушать плоды прямо с дерева. Только эта его
жизнь, ее возможности и условия, необходимость сохранять эти
429
Часть жизни как таковой
условия и расширять эти возможности, насколько это оказывается
возможным, — а именно этому и служит наука, — задает первые, не
производные от других вопросы и в первую очередь требует ответа.
Она же задает и последние вопросы. И только она может быть
истолкована как нечто исходное и окончательное в общем составе
человеческой жизнедеятельности. В конце концов, если и существуют
какие-либо более высокие начала, которые могут быть, как
говорится, «дороже жизни», как совесть и отечество, человеческое
достоинство и борьба за человеческое освобождение и т.д., то ведь все эти
начала суть не что иное, как определения человеческой жизни в ее
гуманистическом смысле, и никоим образом не следует понимать под
окончательной ценностью человеческой жизни стоимость ее
полуживотного существования, лишенного определений материальной и
духовной культуры. Можно и нужно иметь в виду гуманистическую
ценность человеческой жизни, такой, которая так или иначе
формирует и так или иначе включает эти определения в свое содержание
или должна, по крайней мере в идеале и перспективе, включать в
него всю совокупность гуманистических ценностей.
***
Сказанным определяется отношение критериев гуманизма и
научности. Именно человеческая жизнь, условия и возможности ее как
гуманистического в этом принципиальном смысле осуществления,
а не знание как таковое, занимающее чрезвычайно важное, но слу-
жебно важное и промежуточное положение между человеком и
миром, есть в этом смысле исходное и окончательное, самоценное и
самоцельное. Критерии научности, необходимые и окончательные
в пределах науки, оказываются здесь хотя и необходимыми, но не
окончательными в гуманистическом плане. Поэтому, каким бы
благородным ни казалось нам дело «чистого познания», каким бы
белым ни был халат служителей «чистой истины» и чистым это
стремление к истине, чем любит сегодня пощеголять сциентизм —
одна из новейших и утонченнейших идеологий агуманизма, —
принцип «чистого познания» в его логически завершенной форме
тоже может оказаться вполне агуманистическим, если с самого
начала не будет исходить и до самого конца не будет доводить
принцип гуманистической ценности научной истины. Отвергая этот
принцип, превращая познание в окончательную цель, в нечто
самоцельное и самоценное, сциентизм не может не превратить тем
самым человека лишь в инструмент и средство этого познания
ради познания, не может не обречь человека на гуманистически
бессмысленное, как Сизифов труд, и гуманистически
разрушительное существование.
430
H. Трубников. Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
Самоценность и самоцельность человеческой жизни и личности,
ценности гуманистической культуры, выработанные тысячелетним
тяжким опытом человечества, были бы отвергнуты здесь лишь внешне
«более чистым» способом. По существу же и здесь «сциенция» стала бы
столь же враждебной человеку и человечеству «потенцией» и «силой»,
как и всякая иная агуманистическая потенция и сила. И человек должен
поэтому противопоставить ей исходные основания и конечные
критерии гуманизма, потому что больше не может противопоставить ничего.
«Scientia potentia est» — в этом лозунге научного Возрождения
сегодня, в условиях величайшей научно-технической революции,
может прозвучать угроза и вызов человечеству, если критерием этой
революции будут лишь критерии научности и техницизма, если она не
станет одновременно революцией гуманистической.
28.11.1974
431
Часть жизни как таковой
Е.П. Никитин
Николай Николаевич Трубников
14 февраля 1929 г. — 19 мая 1983 г. День первый — День последний.
А между ними — большая (не мерою физической, но мерой
человеческой), сложная, наполненная событиями жизнь. Событиями
духовными. Открытиями смыслов и закрытиями бессмыслиц.
Он известен читателю значительно меньше, чем заслуживает. Его
наиболее интересные и зрелые, «собственно трубниковские» работы
практически не печатались. Стоило ему открыть себя, как для него
закрылся путь к читателю. За свои последние 12 лет он издал всего
две-три статьи, да и те порой были заредактированы до
неузнаваемости. Еще обиднее то, что отчасти поэтому он написал гораздо
меньше, чем мог и хотел написать.
Правда, казалось, что поначалу все складывалось нормально и
благополучно. Учеба на философском факультете МГУ, аспирантура
в секторе диалектического материализма Института философии АН
СССР (научный руководитель— Э.В. Ильенков), успешная защита
(1965) и опубликование кандидатской диссертации («О категориях
"цель", "средство", "результат"». М., 1967) и, наконец, работа в
секторе. Еще будучи аспирантом, он начинает писать статьи по
гносеологии для коллективных трудов сектора (см.: Познание как форма
предметной деятельности // Историко-философские очерки. М.,
1964; Бесконечный процесс углубления познания закономерной
связи явлений // Ленин об элементах диалектики. М., 1965). Это были
хорошие, добротные статьи, но в них он еще во всем следует своему
руководителю — и в понимании характера проблем философии (в
духе определенной интерпретации идеи совпадения диалектики и
теории познания), и в методах анализа, и в манере письма.
Но вот в конце 1970 г. он пишет и затем предлагает вниманию
коллег по работе доклад «Философия и методология науки (о
сегодняшнем понимании предмета и специфики философского знания)»,
обозначавший крутой перелом в его творческом развитии. В ряде
отношений доклад был очень странным, однако последующие работы,
сходные с ним в этом смысле, но значительно более обстоятельные и
обоснованные, снимали ощущение странности (правда, лишь у
ближайших друзей автора, ибо обычно он давал читать эти работы только
им). Каковы же эти «странности»?
Начать с того, что доклад, по сути дела, представлял собой статью,
правда, за одним исключением. Известно, что любой наш
«нормальный» философ, садясь писать статью, изначально следил за ее
«проходимостью», то есть смотрел на нее одновременно и глазами
«редактора»; доклад же явно писался без участия этих «вторых глаз».
432
Е.П. Никитин. Николай Николаевич Трубников
Поскольку столь же, а порой и более раскованными оказались и
последующие работы, напрашивался вывод: человек поборол в себе
«внутреннего цензора» и заботился лишь о том, чтобы по
возможности ясно и верно изложить то, что думает.
Странным было и содержание. Докладчик упрекал философов в
излишнем увлечении методологией науки и гносеологией. По тем (да
еще и по нынешним) временам это могло восприниматься как
ретроградство, ибо оживление нашей философской мысли, начавшееся
в середине 50-х годов, пожалуй, в наибольшей мере проявилось
именно в области методологически-гносеологической. К 70-м годам
именно здесь были получены результаты, едва ли не полностью
исчерпывавшие собой всю тогдашнюю перестройку философии. Но он
не был ретроградом. Напротив, он, по сути дела, звал к
дальнейшей — более широкой и фундаментальной — перестройке. Ни в коей
мере не подвергая сомнению важность
методологически-гносеологических исследований и результатов, он только возражал против
сведения к ним всей философии. Она не имеет права ограничиваться
«обслуживанием» науки (в процессах своего функционирования) или
«обобщением» данных науки (в процессах своего роста), но должна
соотноситься с более широким — предельно широким — контекстом
жизни (публикуемая здесь статья и статья «О соотношении философии
и специально-научного знания» (1976)). И дело не только и даже не
столько в том, что, вопреки многочисленным позитивистским
заклинаниям и прогнозам, философия в «век науки» отнюдь не потеряла
своей самоценности, а, напротив, приумножила ее и потому не
должна терять и чувства собственного достоинства. Дело в том, что ныне,
когда мир раздирают страшные противоречия, тесно связанные с
глубокими рассогласованиями в самом духовном мире — например,
между наукой и нравственностью, да и внутри самой нравственности
(Наука и нравственность (о духовном кризисе европейской культуры) //
Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. М, 1990
(статья написана в 1972 г.), — философия призвана решать куда более
важные и неотложные проблемы, фокусирующиеся в проблему жизни
и смерти человека и человечества.
Эту последнюю он и назвал тогда в докладе центральной в той
«фундаментальной философской мироведческо-мировоззренческой
проблематике», к первоочередному решению которой призывал
философов. Здесь тоже была странность: ведь известно, что над
вопросом о смысле жизни и смерти бились очень многие, и в том числе
величайшие, умы прошлого и тем не менее ничего не добились;
поэтому «самая передовая и единственно научная философия»
отказалась рассматривать его, как когда-то наука отказалась
рассматривать проблему вечного двигателя. Но Трубников не спасовал перед
этим. Он нашел интересные способы уточнения вопроса и даже по-
28-3436
433
Часть жизни как таковой
своему решил его. Интересно и то, что при этом он пробовал себя
в разных жанрах (пробовал проблему разными жанрами) духовного
творчества. Здесь и художественные произведения (рассказы,
повесть), и литературно-философское эссе «Притча о Белом Ките» (см.:
Вопросы философии. 1989. № 1), и собственно философские
трактаты: «Время человеческого бытия» (М., 1987), «Проблема смерти,
времени и цели человеческой жизни (через смерть и время к вечности)»
(см.: Философские науки. 1990. № 2), «[Проспект книги о смысле
жизни]» (см.: Кинтэссенция. Философский альманах. М., 1990) и др.
Но как мог человек по существу на 180 градусов изменить
направление своих мыслей о назначении философии? Теперь из его
архива мы совершенно точно знаем, что на самом деле никакого
изменения и не было. Это был прирожденный философ. Философ
милостью Божьей. Проблема смысла жизни и смерти глубоко затронула его
еще в отрочестве и навсегда завладела им (см.: [Проспект книги о
смысле жизни] // Квинтэссенция. М., 1990. С. 429-432). Так что была
удивительная, хотя и не видная постороннему взору, верность себе. И
еще был постоянный поиск. И одно не противоречит другому, ибо этот
поиск направлялся на отыскание такой постановки проблемы, такого
ее решения и, наконец, такого концептуального и лингвистического их
выражения, которые бы возможно более соответствовали его
глубинной внутренней интуиции. В этом отношении интересна запись,
сделанная им при чтении бердяевского «Смысла истории»: «То, что он
пишет, необыкновенно близко мне. Кое-что я писал и говорил
"другими словами", говорил хуже, неинтереснее, но говорил то же самое.
Хотя бы в "категории" особенного, в которой я хотел найти выход из
абстрактных единичностей и всеобщностей. <...> Почему же
теоретическая структура, которую я изучал, осваивал, в которой мыслил,
оказалась недостаточной? Почему я все больше испытывал мучительное
чувство неистинности ее, хотя, казалось бы, все было верно, все
укладывалось в ее принципы и критерии? Вот в этом-то и дело, что в ее
принципы и ее критерии. Ее принципы и ее критерии не были моими
принципами и критериями. А те, которые были моими, мне были
неизвестны, я их только узнавал. {Узнавал, вспоминал совсем по Платону!)
Где же они были? И что они есть? Вот предмет размышления! Может
быть, и на самом деле существует столько эссенциальных логик,
сколько существует людей?»
Но, может быть, он и не пытался публиковать свои работы?
Пытался. И за одну из таких попыток он заплатил жизнью. Речь идет о
книге «Время человеческого бытия», первый вариант которой был
написан еще в 1973 г. Путь к печатному станку ей преградила
масса самых различных людей — от директора института до «черных»
рецензентов — единых, впрочем, в одном: в стремлении судить его
«именем современной науки». Чудовищно неправедный суд! Идея
434
Е.П. Никитин. Николай Николаевич Трубников
книги — идея качественного отличия времени человеческого бытия
от времени бытия биологических, а тем более физических
объектов — самым безупречным и наглядным образом вытекала из таких
фундаментальнейших концепций науки XX в., как концепции
органической связи времени с движущейся материей и его
относительности. А кредо «судей» сводилось к концепции универсальности
(читай: абсолютности) физического времени. Тем самым его,
стоявшего на позициях науки и философии XX в., судили именем науки
и философии века XVII. Книгу не пускали. Он тяжело переживал
это, хотя и продолжал работать как над «запланированным», так и
над своим заветным. Дух его выдержал все. Увы, тело оказалось не
столь всесильным...
Изломанный духовный путь. И выправленный. Трагическая
судьба. И счастливая.
Примечания
Статья написана для журнала «Вопросы философии», но не опубликована.
1 Именно потому мы отвлекаемся здесь от теории познания — важной и
традиционной, но не специфической для философии, служебной в ее составе
дисциплины, производной от ее фундаментальной проблематики.
2 Это хорошая аналогия. Карта земной поверхности должна быть удобной для
ориентирования и достаточно полной, но не чрезмерно, чтобы не потопить
необходимое в частностях. А для этого она должна быть компактной, что
допускается применением различных масштабов, и наглядной, чему служат
генерализация ее содержания и употребление общепонятных условных знаков. Никому не
нужна «карта» в масштабе 1:1. Никому не нужна и такая, хотя бы и в нужном
масштабе, где представлена полная, как на фотографии, копия земной
поверхности. Специалисты знают, какое кропотливое, огромного навыка требующее
дело — дешифрование аэрофотоснимков. И уж, конечно, она должна быть
достаточно «свежей», а не составленной «по рекогносцировкам Главного Его Импер.
Вел. Штаба», ибо картина земной поверхности также склонна к тому, чтобы
некоторым образом изменяться.
3 «Много есть в мире такого, друг Горацио, что и не снилось нашим
философам» — этими словами шекспировского Гамлета иной представитель
положительного знания любит помахать как перчаткой перед носом философа. В
наивной своей эрудиции он не предполагает, что словоупотребление времен
Шекспира и наше могут не совпадать. Так это и есть в данном случае. Например,
главный труд Ньютона «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» в
современном словоупотреблении должен носить название «Математические начала
естественных наук», ибо ни о какой философии или натурфилософии в нашем
понимании здесь нет речи. В Новое время, вплоть до Канта, то, что сегодня
называется философией, носило имя метафизики. Физикой (натурой) называли
не науку, но объект науки, природу, изучение которой было предметом
философии. Остатки этого словоупотребления сохранились в некоторых старых
европейских университетах до начала нынешнего века. Вернер фон Браун, например, —
а эрудит-естественник знает, кто этот человек, — в свое время защитил
диссертацию по аэродинамике и получил «искомую степень» доктора философии.
28е
435
Указатель имен
Указатель имен
Августин 21, 27, 33, 82, 84, 85, 98, 141, 240, 269, 274, 286, 298
Авенариус Р. 63, 355
Аверроэс (Ибн Рущд) 311
АгассиДж. 139
Адлер А. 298
Адорно Т. 10, 335, 350-359, 366, 376, 378, 379
Азимов А. 391 Айер А. Дж. 81,255
Ален (Алэн) 248
Альберт Великий 312
Аристотель 103, 104, 148, 151, 152, 155, 158, 183, 230, 234, 236,
247, 282, 290, 310, 318, 421, 424, 425
Арон Р. 318
Бакунин М. А. 311
Барт К. 300
Батай Ж. 369
Бахофен И. Я. 298
Башляр Г. 283
Беккет С. 352
Бенн Г. 391, 401
Беньямин В. 342, 352, 353, 557
Берг А. 352
Бергсон А. 203, 219 - 223, 248, 280, 285, 294, 310, 315, 330, 331,
425
Бердяев Н. 285, 303-306, 315, 316, 318
Беркли Дж. 80, 103, 132, 134, 207 - 212, 223
БернайсД. 122
Бетховен Л. ван 60, 245, 271
Бёме Я. 286, 288, 298
Бибихин В. 181
БлейкУ. 101
Блондель М. 315
Блюм Л. 303
Бозанкет Б. 33
БоунБ. П. 316
Брайтмен Э. 316
Браун В. фон 435
Брейе Э. 183
Брукнер Э. 306
БрюнсвикЛ. 306
436
Указатель имен
Брэдли Ф. Г. 33, ПО, 246, 248, 255
Бэкон Ф. 216, 347
Бубер М. 265, 303, 315, 316, 321, 323, 330
Бубнер Р. 355
Вайсман Ф. 7, 65, 79, 83, 117 - 121, 722, 123, 124, 126
Валери П. 248
Валь Ж. 330,331
Ван Гог В. 227
Вебер М. 361, 370, 371, 373
Веберн А. 352
Веланс А. де 330
Вернадский В. И. 222
Визенгрундт О. 351
Виндельбанд В. 306
Витгенштейн Л. 6-8, 15, 20, 33-41, 44, 56, 65, 77, 80-82, 94, 109, 110,
116-120, 122, 126-128, 142, 368, 369
ГадамерХ.-Г. 159, 382
Гайденко П. П. 236
Галилей Г. 111
Гартман Н. 291,306
Гегель Г. В. Ф. 54, 56, 70, 128, 148, 151. 157, 168, 194, 195, 238, 247,
274, 275, 288-290, 293, 313, 314, 351, 353, 555, 358,
360, 362-364, 366-368, 373, 378, 379, 406, 419, 425,
426
Гедель К. 96
Гейзенберг В. 111
Гераклит ПО, 149-152, 192, 289
Гееиод 133
Гёльдерлин И. X. 227, 357
Гёте И. В. 39, 102, 189, 313, 348, 388, 406, 407, 416
Гильберт Д. 61,79, 115,122
Гиппократ 224
Гитлер А. 130,279
Гоббс Т. 208, 322
Гоголь Н. В. 330
Гомер 129, 133
Григорий Нисский 269
Гумилев Н. 393
Гуссерль Э. 6, 8, 254, 286, 289, 291, 294, 305, 330, 336, 337, 356,
386, 387,405-407,410,411,425
Давыдов Ю. Н. 355
Дандьё А. 318
Дебюсси К. 244
Декарт Р. 8, 55, 67, 115, 116, 133, 156, 207, 208, 222, 231, 234,
236, 238, 285, 290, 313, 318, 385, 386, 393, 397. 407,
411-413
Державин Г. Р. 400
Джемс У. 219
Джойс Дж. 352
Дильтей В. 59, 219, 223, 357, 367, 425
437
Указатель имен
Достоевский Ф. М.
Дрейфус А.
Дубислав
Дюркгейм Э.
Евклид
Еврипид
Жид А.
Жильсон Э.
Зенон
Зиммель Г.
Ильенков Э, В.
Йейтс У. Б.
Кант И.
Кантор Г.
Кальвели-Адорно М.
Карнап Р.
Кауфман Ф.
Кафка Ф.
Келлер Г.
Кеплер И.
Киреевский И.
Киссель М. А.
Клагес Л.
Клодель П.
Коатс Дж. Б.
Коген Г.
Кодуа Э. И.
Койре А.
Колридж С. (Кольридж)
Кондорсе Ж.
Конт О.
Корнелиус Г.
Корш К.
Кракауэр
Краус О.
Крафт В.
Кун Т.
Къеркегор С.
(Киркегор, Киркегард,
Керкегор)
Лабертоньер Л.
Лакатос И. (Лакатош)
Лакруа Ж.
33, 263. 280, 298, 318, 321, 323, 324, 330
261
340
298, 306, 371
84, 101
318
145, 154
270, 303
88, 103
339
432
88, 727
5, 6, 8, 72, 33, 35, 67, 76, 77, 81,84, 85, 112, 116,
126, 140, 148, 217, 219, 246, 247, 285, 290, 293,
313, 318, 337, 342, 355, 360-364, 366, 367, 369,
378, 381, 385-390, 393-395, 410-412, 425, 435
97, 100
351
7, 42, 62, 64, 65, 79, 81, 137, 138, 340
79
352, 393, 394, 396, 401, 402, 411, 412
345
97
305
236
347
271
316
337
236
140
102
193, 200
62, 63, 194,251
355
358, 365
3,355
61
79, 126
139
7, 33, 141, 272, 298, 300, 304, 313, 314, 318, 338,
315
139, 140, 366
316,318
124,
303,
373,
,356
448
Указатель имен
Лаланд А.
Лангер С. К.
Ландсберг П. Л.
Ларусс П.
Ласк Э.
Лашьез-Рей
Леви-Брюль Л.
Левинас Э.
Лейбниц Г. В.
Ленин В. И.
ЛеСенн Р.
Лихтенберг Г. К.
Локк Дж.
Лоренцен П.
Лотце Р. Г.
Лукасевич Я.
Лукач Д.
Лютер М.
Мадинье Г.
Макмарри Дж.
Мальбранш Н.
Мамардашвили M К.
Маритен Ж.
Маркс К.
Маркузе Г.
Марсель Г.
МахЭ.
Мейерсон Э.
Мен де Биран
Мерло-Понти М.
Мид Г.Х.
Мидлтон Дж.
МилльДж. Ст.
Моно Ж.
Монтень М.
Монтескье Ш.
Моруа А.
Моцарт В. А.
Музиль Р. 402
Мунье Э.
Мур Дж. Э.
Муссолини Б.
Мюрри Дж.
Набер Ж.
Наторп П.
Недонсель М. Г.
Нейрат О.
Ницше Ф.
Ньюмен Дж. Г.
307, 318
74
316
318
373
316
306
10, 320-332
77,81, 116,313, 347, 349,424
130,432
316
88
128
364
315
90
344, 351,358, 365
313
316
316
116, 208, 313
11, 385,404-415
10, 274, 280-284, 303, 316
157, 280, 298, 314, 318, 345, 351, 360, 368, 379, 387,
398, 405-407
376, 378, 380
9, 10, 239, 243, 269 - 272, 273, 303, 316, 318, 330
63, 79, 132, 133, 355
283, 306
270, 314
9, 326, 332
371
316
63
131, 133
270, 397
397
303
60
10, 303,307, 317-319
33,83, 104, 110,121
130
316
316
79, 337
316
79, 126
7, 33, 60, 82, 88, ПО, 121, 152, 157, 240, 241, 247,
256, 263,266, 315, 360, 391
316
439
Указатель имен
Ньютон И. 73, 86, 97, 116, 134, 360, 435
Оккам У. 313
Ортега-и-ГассетХ. 10, 183, 196-199, 200
Остин Дж. 368
Парменид 150, 152, 192
Паскаль Б. 101, 121, 141, 270, 286, 298, 313
Пеги Ш. 262, 280, 315
Пиаже Ж. 366, 371
Пикассо П. 115
Пирс Ч. С. 367
Пифагор 140, 289, 424
Планк М. 79
Платон 8, 30, 33, 68, 72, 84, 102, 104, 110, 124, 125, 140, 148,
150-152, 155, 163, 164, 184, 185, 224, 230, 234, 236,
244, 247, 269, 279, 286, 289, 290, 292, 310, 327, 332,
342, 355,357, 389,421,425,434
Плотин 223, 286, 295, 310,332
Поппер К. 7, 123, 137 - 141, 742, 355, 360, 364, 366, 382
Прудон П. 315
Пруст М. 87, 121,298,352,388
Птолемей 113
Пушкин А. С. 330
РайлДж. 102, 109
Рассел Б. 16, 33, 34, 41, 80, 127, 130, 265, 340
Рейхенбах Г. 138
Ренувье Ш. 307,315
РёскинДж. 316
Рид Г. 316
Рикёр П. 316, 317, 318
Риккерт Г. 306, 336
Рильке P.M. 116,270
РойсДж. 316
Розенцвейг Ф. 330
Рорти Р. 362, 369-371, 381, 382
Руссо Ж. Ж. 274,313, 397
Сартр Ж.-П. 9, 10, 159, 162, 174 - 180,181, 182, 248, 269, 370
Сезан П. 271
Скиннер Б. Ф. 133
Скот Д. 208
Сократ 34, 39, 69, 71, 72, 124, 125, 148, 150, 185, 205, 236,
277, 310, 311, 313, 314, 318, 350,351
Соловьев В. 240
Соловьев Э. Ю. 236
Софокл 310
Спенсер Г. 63, 248, 254
Спиноза Б. 67, 84, 101, 112, 116, 124 - 126, 168, 207, 222
Стендаль 298
Стросон П. 364
Тейяр де Шарден П. 222
440
Указатель имен
Толстой Л. Н.
Трубников H.H.
Тургенев U.C.
Тюрго А. Р. Ж.
Уайтхед А. Н.
Уитмен У.
Уотсон Дж. Б.
Фалес
Фариес В.
Фей гель Г.
Фейерабенд П.
Фейербах Л.
Фергюсон Р.
Ферма П.
Фихте И. Г.
Флюэллинг Р. Т.
Фома Аквинский
Франко Б.
Фреге Г.
Фрейд 3.
Фрейер X.
Фукидид
Фуко М.
33, 280, 298, 318, 330
11, 416, 432-435
330
193, 200
240
307
133
229
381
79, 126
139, 366
298,311
193
53
70, 128, 151,238,318
316
269, 280, 282, 284, 285, 290, 297, 312, 316. 318
196
16,80,94,96,98, 114
128,298,343,371
365
369
366
Хабермас Ю.
Хайдеггер М. (Гейдеггер)
Хаксли О.
Хомский А. Н. (Хомски)
Хомяков А.
Хоркхаймер М.
Хэмпшайр С.
10, 11, 360, 376-382
6, 8-10, 56, 61, 65, 141, 145, 159-161, 247. 253, 263,
270, 271, 285, 291, 304, 305, 306, 318, 326, 330, 338,
339, 354-356, 369, 380, 381, 407, 410, 411, 425
309, 318
371
305
351, 358,366, 376
117,722
Цезарь Г. Ю.
Целлер Э.
Цильзель Э.
Цицерон
49,55
381
79
199, 318
Чемен К.
121
Шекспир В.
Шелер М.
Шелли П. Б.
Шеллинг Ф.
Шеффер В.
Шёнберг А.
Шлик М.
Шмидт А.
Шопенгауэр А.
В. И.
298, 435
254, 266, 285, 291, 298, 303, 305, 315, 318, 330, 337
339
87,121
70, 151, 157, 380
114,722
352
7, 41, 62, 66, 79 - 82, 117, 118, 722, 126, 137, 340
358
33, 78, 84 - 87, 256, 323
441
Указатель имен
Шпаеманн Р. 373, 382
Шпенглер О. 219, 223,425
Шредингер Э. 742
Эзоп 274
Эйнштейн А. 73, 75, 79, 111.115, 134, 267
Эпиктет 231
Юм Д. 80, 103, 112, 124, 125, 129, 131, 132,247,386
Юнг К. Г. 298
Юшкевич П. С. 332
Янкелевич В. 330
Ясперс К. 159, 224, 236 - 242, 264, 304, 305, 316, 318, 370, 371,
407
442
Содержание
Что такое философия? 5
Поиск ясности
Людвиг Витгенштейн. Мысли о философии. Фрагменты из работ
(Пер. М.С. Козловой) 15
М.С. Козлова. Необычное дело философа.
ПодходЛ. Витгенштейна 33
Рудольф Карнап, Преодоление метафизики логическим
анализом языка (Пер. А.В.Кезина) 42
М. С. Козлова. Философия — совокупность псевдопроблем.
Точка зрения позитивизма. Рудольф Карнап 62
МорицШлик. Будущее философии (Пер. И.В. Борисовой) 66
М. С Козлова. В поисках новой философии.
К размышлениям М.Шлика 79
Фридрих Вайсман. Как я понимаю философию
(Пер.В.М.Литвинского) 83
В. М. Литвинский. Прорыв к постижению как цель философии 117
Карл Поппер. Какой мне видится философия.
(Пер. Н.Г. Кротовской) 123
М.С.Козлова. Родство философии и науки. К. Поппер 137
Сама себе интеллектуальный закон
Мартин Хайдеггер. Что это такое — философия?
(Пер. ЕВ. Ознобкиной) 145
Е.В. Ознобкина. Путь в философию — по Хайдеггеру 159
Жан-Поль Сартр. Бытие и Ничто. Заключение (Пер. Т.М. Тузовой) 162
Т.М. Тузова. Ж.-П. Сартр: бытие — это то, на что
вы отваживаетесь 174
Хосе Ортега-и-Гассет. Из рецензии на книгу Эмиля Брейе
«История философии» (Пер. А. Б.Зыковой) 183
А.Б. Зб//сова.ХгсеОртега-и-Гассет 196
Мудрость сострадания, мудрость любви
Анри Бергсон. Философская интуиция (Пер. И.И. Блауберг) 203
И.И. Блауберг. Анри Бергсон 219
Карл Ясперс. Введение в философию (Пер. В.И. Кононова) 224
П. С. Гуревич. Философия в контексте человеческого
существования 236
443
Габриэль Марсель. В защиту трагической мудрости
(Пер. Г.М. Тавризян) 243
Г.М. Тавризян. Габриэль Марсель 269
Жак Маритен. Философ во граде (Пер. Б.Л. Губмана) 274
Б.Л. Губман. Жак Маритен 280
Н. Бердяев. О назначении человека.
Опыт парадоксальной этики 285
ТА. Кузьмина. Мыслитель экзистенциального типа 303
Эмманюэль Мунье. Краткое введение.
К вопросу о личностном универсуме (Пер. И.С. Вдовиной) 307
И.С. Вдовина. Персонализм — подлинная
философия XX века 317
Эмманюэль Левинас. Философия, справедливость и любовь
(Пер И.С Вдовиной) 320
И. С Вдовина. «Философия — это мудрость сострадания» 330
Незавершенное, нерешенное
ТеодорАдорно.Актуалъностъ($шосо<\м\\(Пер. Г.Г. Соловьевой) 335
Г.Г. Соловьева. Современный Сократ 350
Юрген Хабермас. Философия как местоблюститель
и интерпретатор (Пер. M.М. Кузнецова) 360
И. П. Фарман. «Для чего нужна философия?» 376
Часть жизни как таковой
Мераб Мамардашвили. Феноменология —сопутствующий
момент всякой философии 385
Н.В. Мошрошилова. Цивилизация и феноменология
как центральные темы философии М. Мамардашвили 404
Николай Трубников. Философская проблема.
Ее гуманистические основания и критерии 416
Е.П. Никитин. Николай Николаевич Трубников 432
Указатель имен. Составители М.Я. Кротов, И.А. Осиновская 436
Путь в философиюо
Антология
Корректор Н.С.Сотникова
Компьютерная верстка Ю.В. Балабанов
Изд. лиц. ИД №01018 от 21 февраля 2000 г.
Издательство «ПЕР СЭ»
129366, Москва, ул. Ярославская, 13, к. 120
Тел./факс: (095) 216-30-31
e-mail: perse@psychol.ras.ru
Лицензия ЛР № 071351 от 23.10.96
Издательство Фонда поддержки науки и образования
«Университетская книга»
Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 10
Подписано в печать 01.09.2000. Гарнитура Тайме
Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28. Уч.-изд. л. 31,21
Тираж 3000 экз. Заказ № 3436
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.