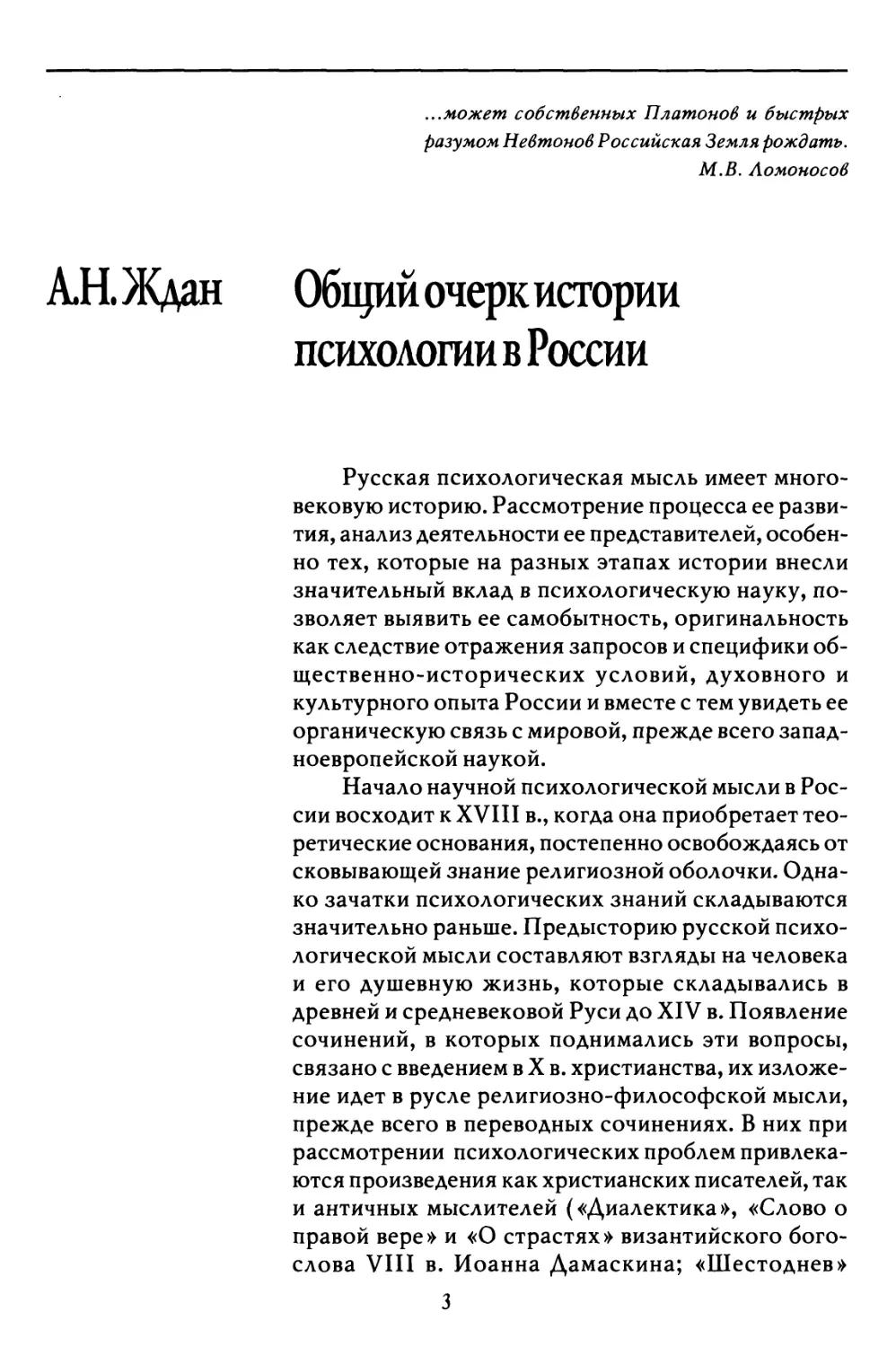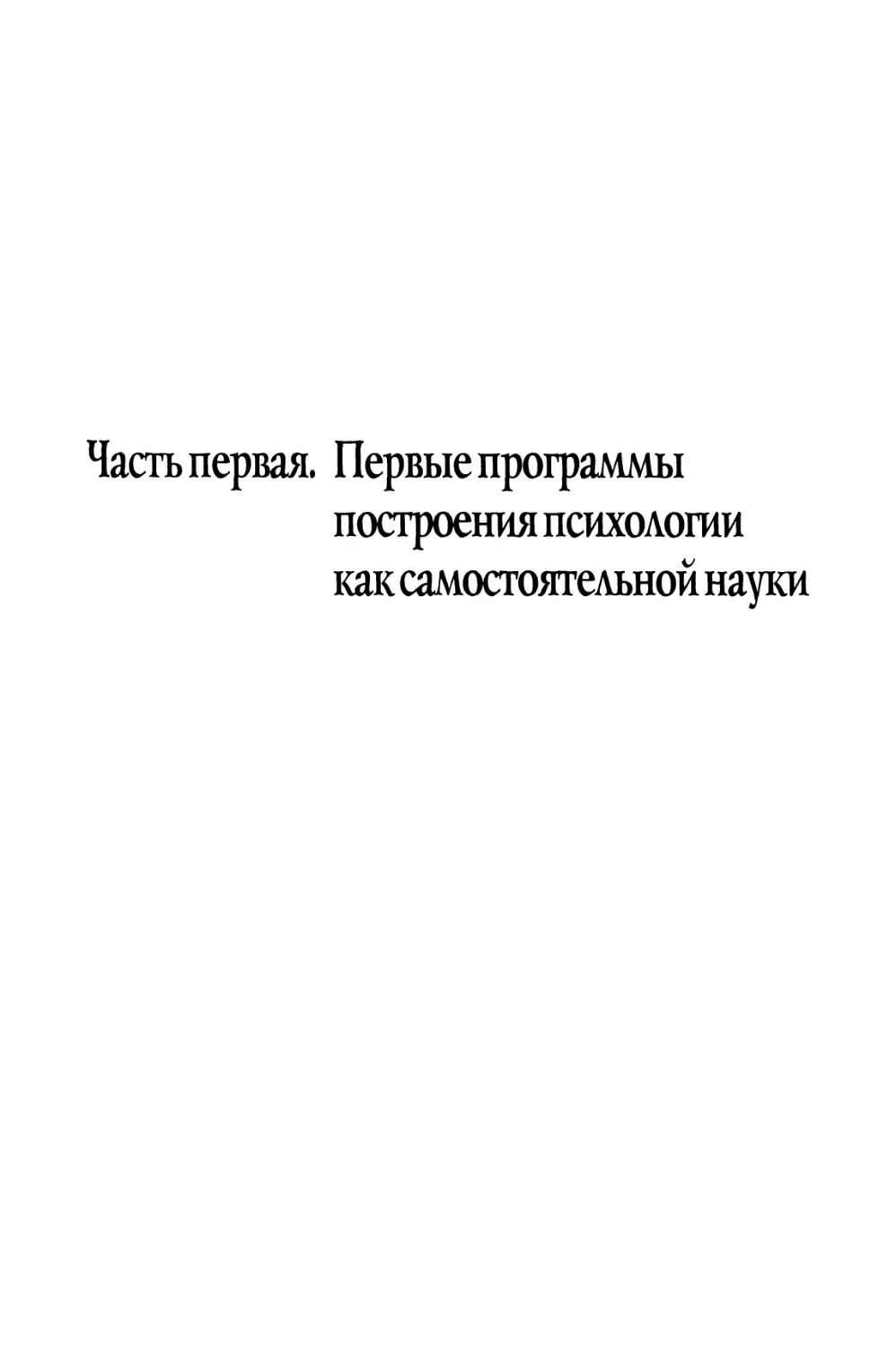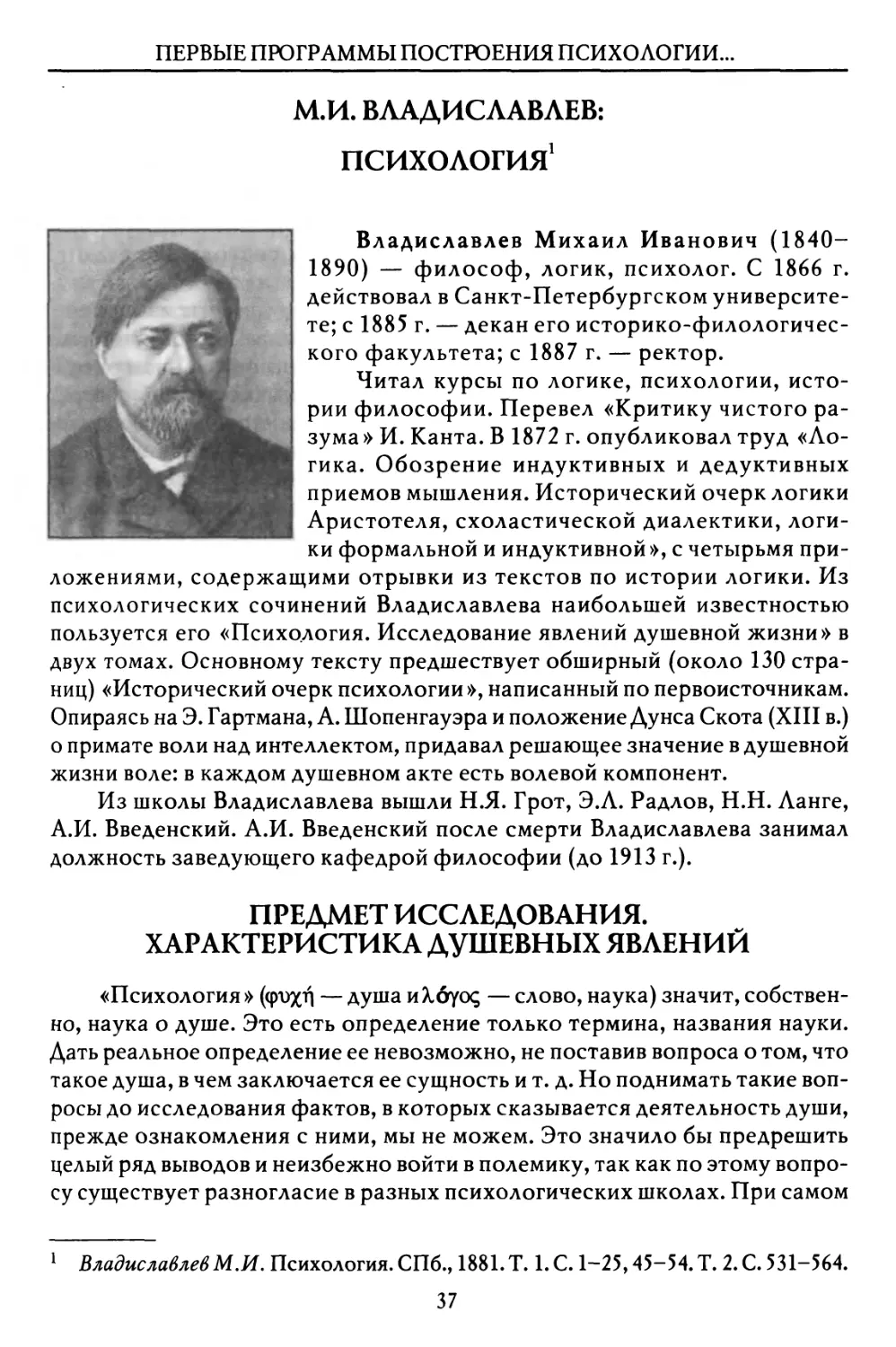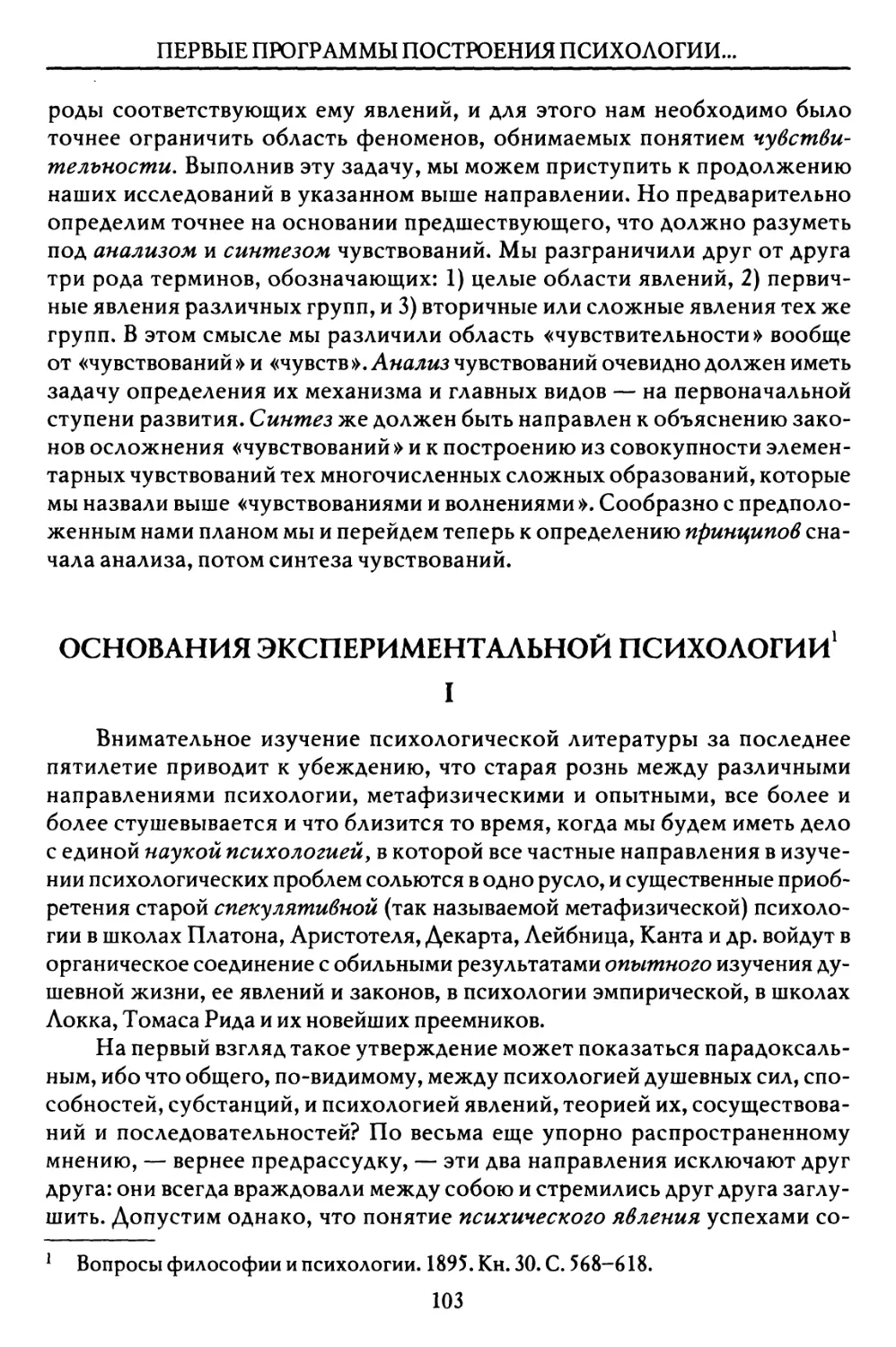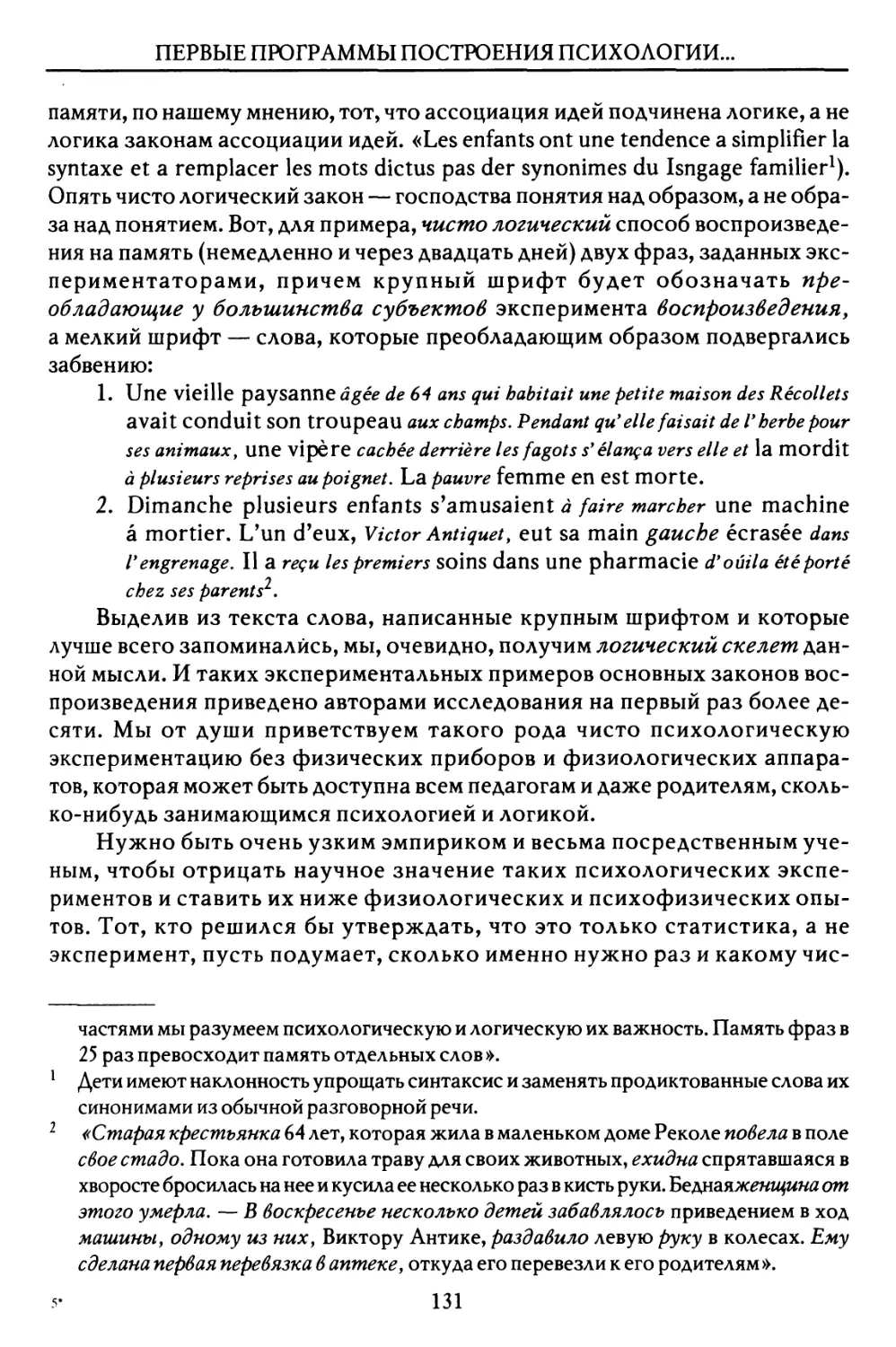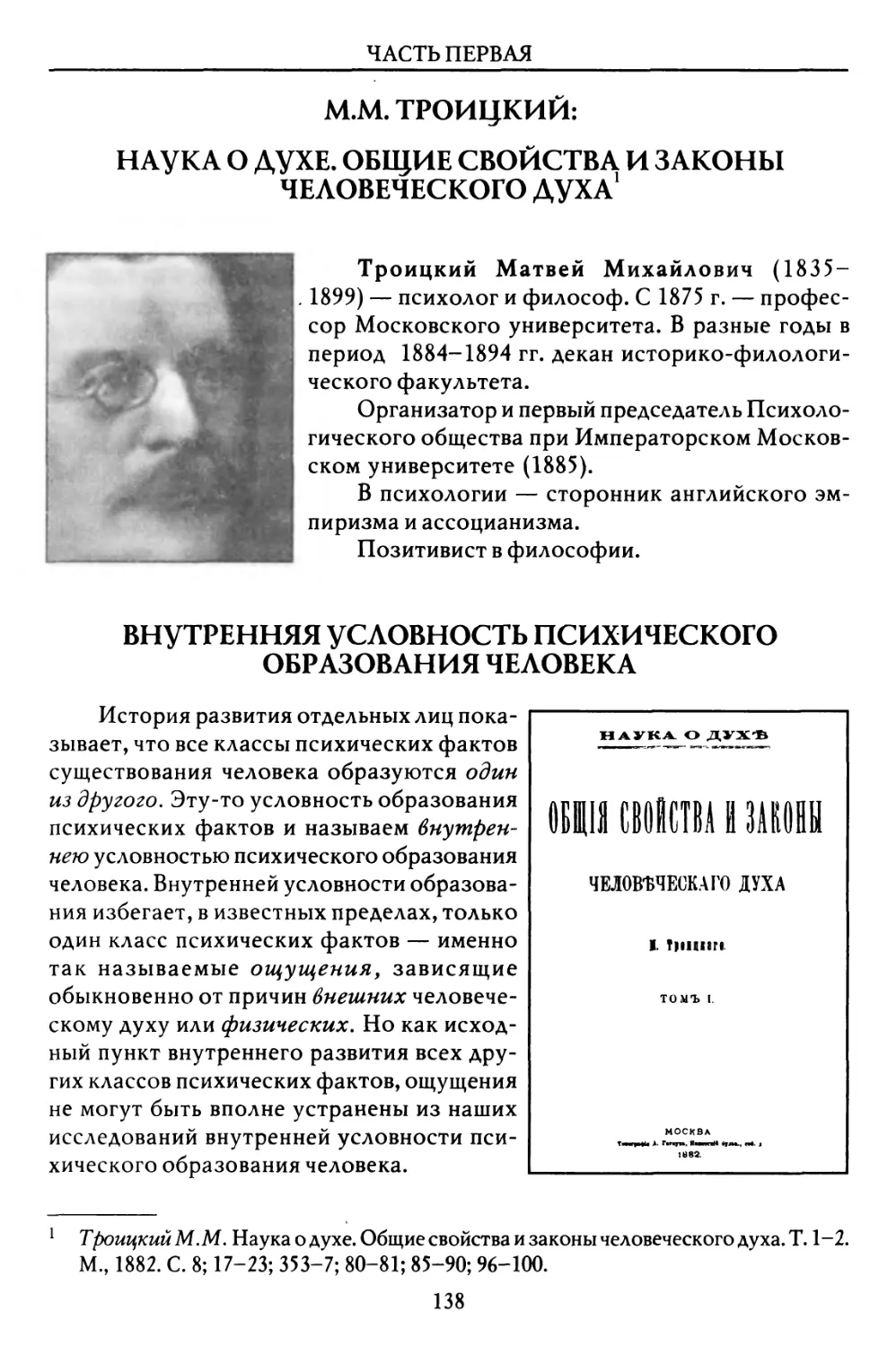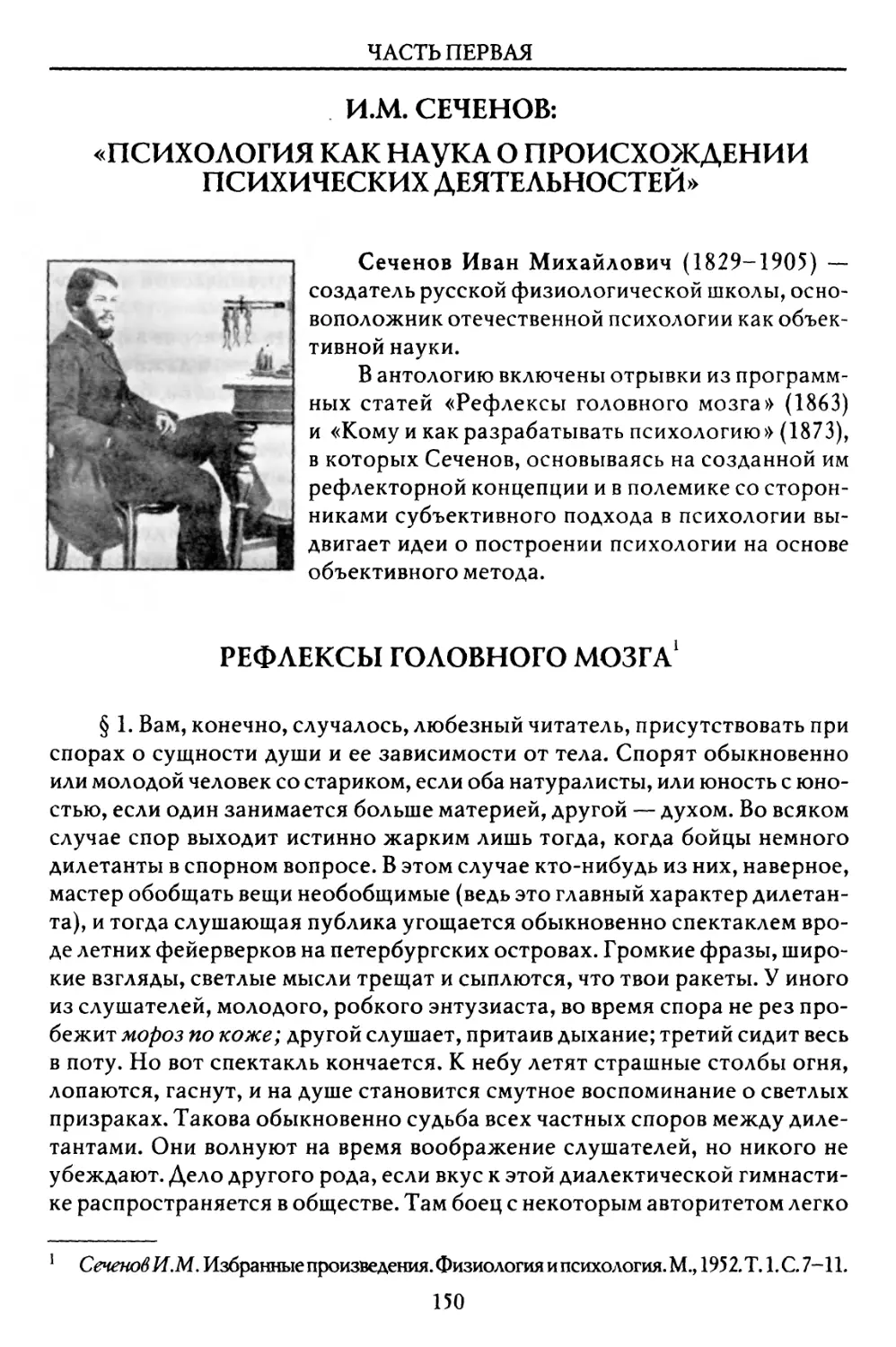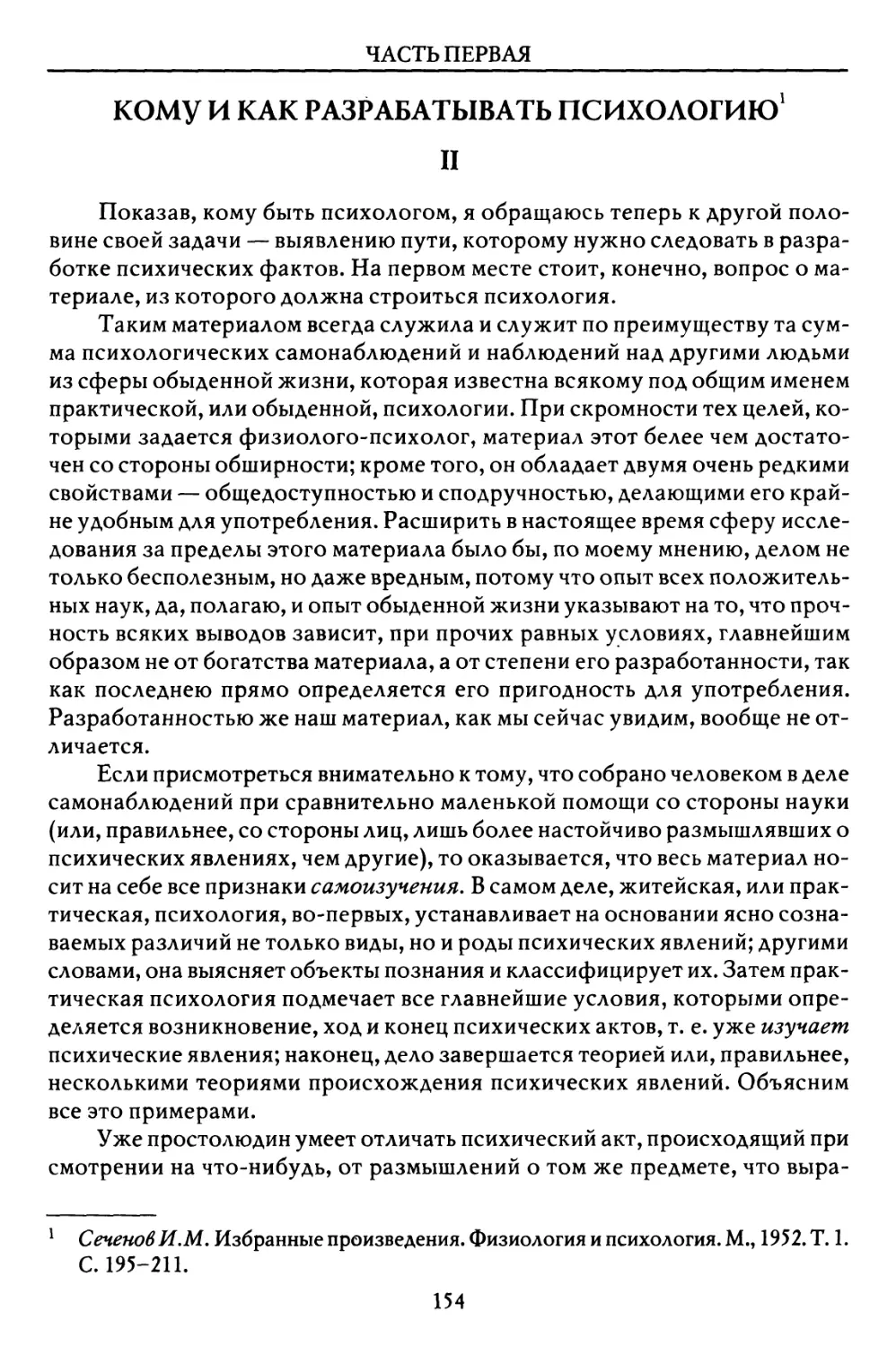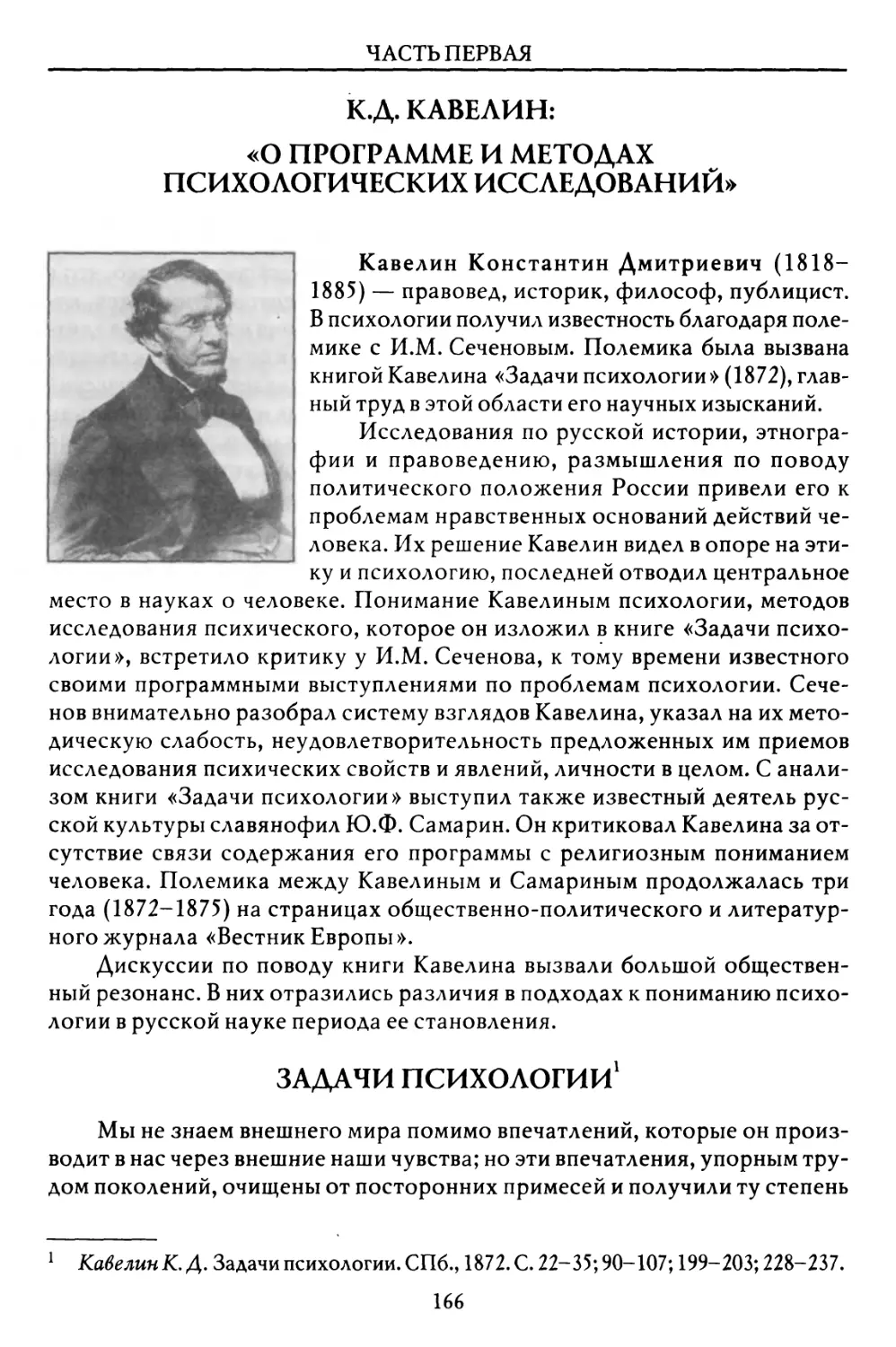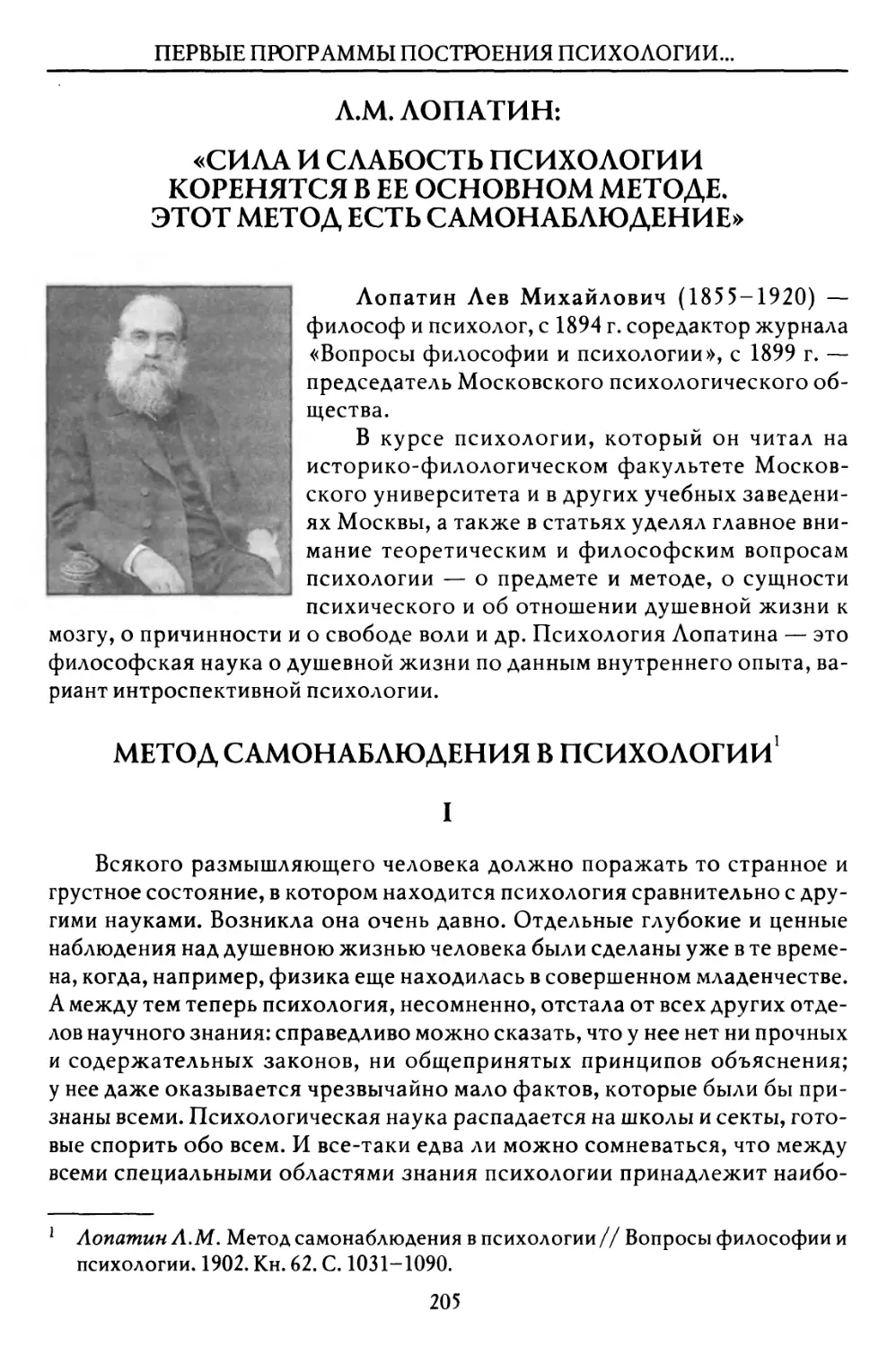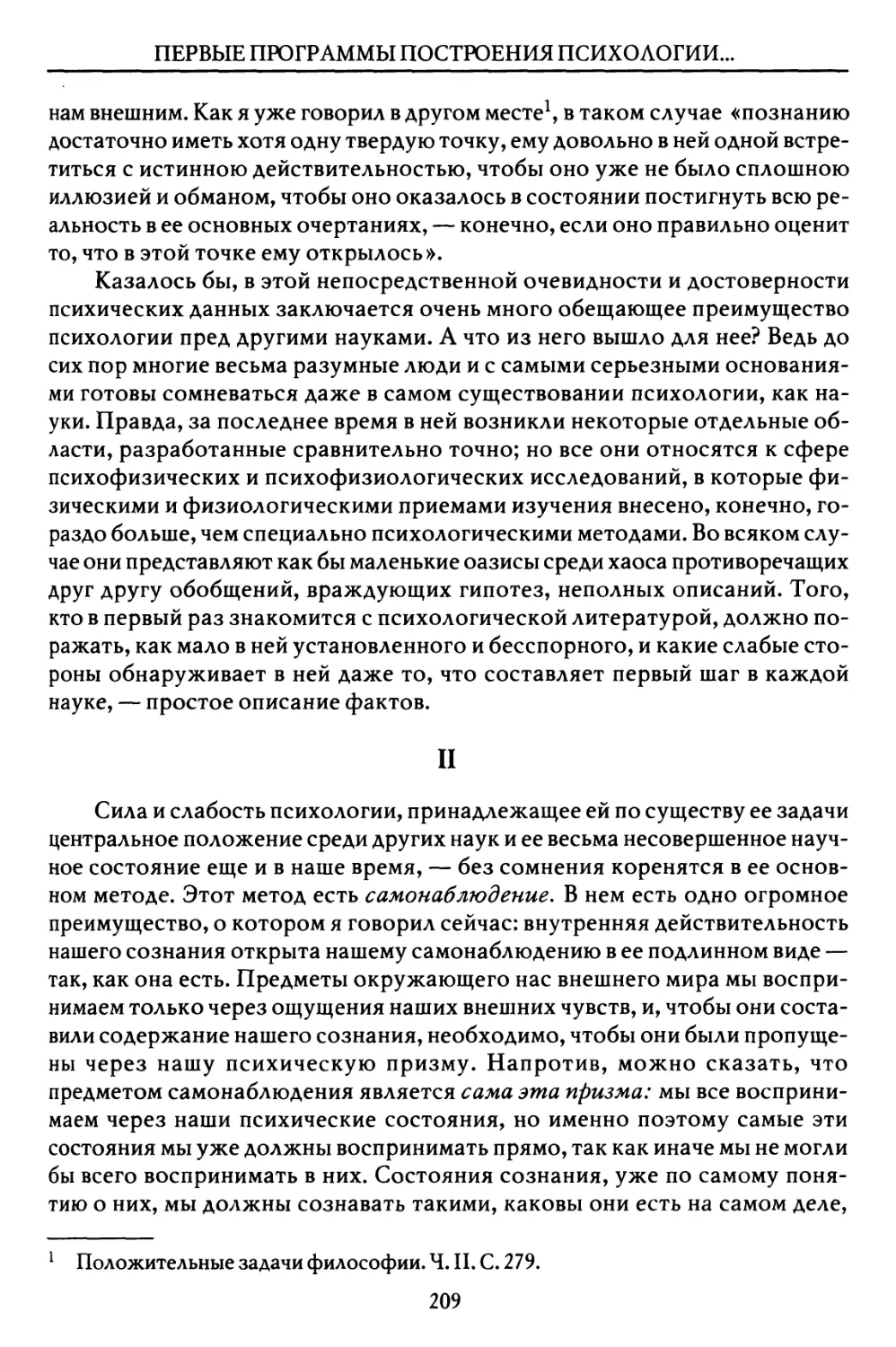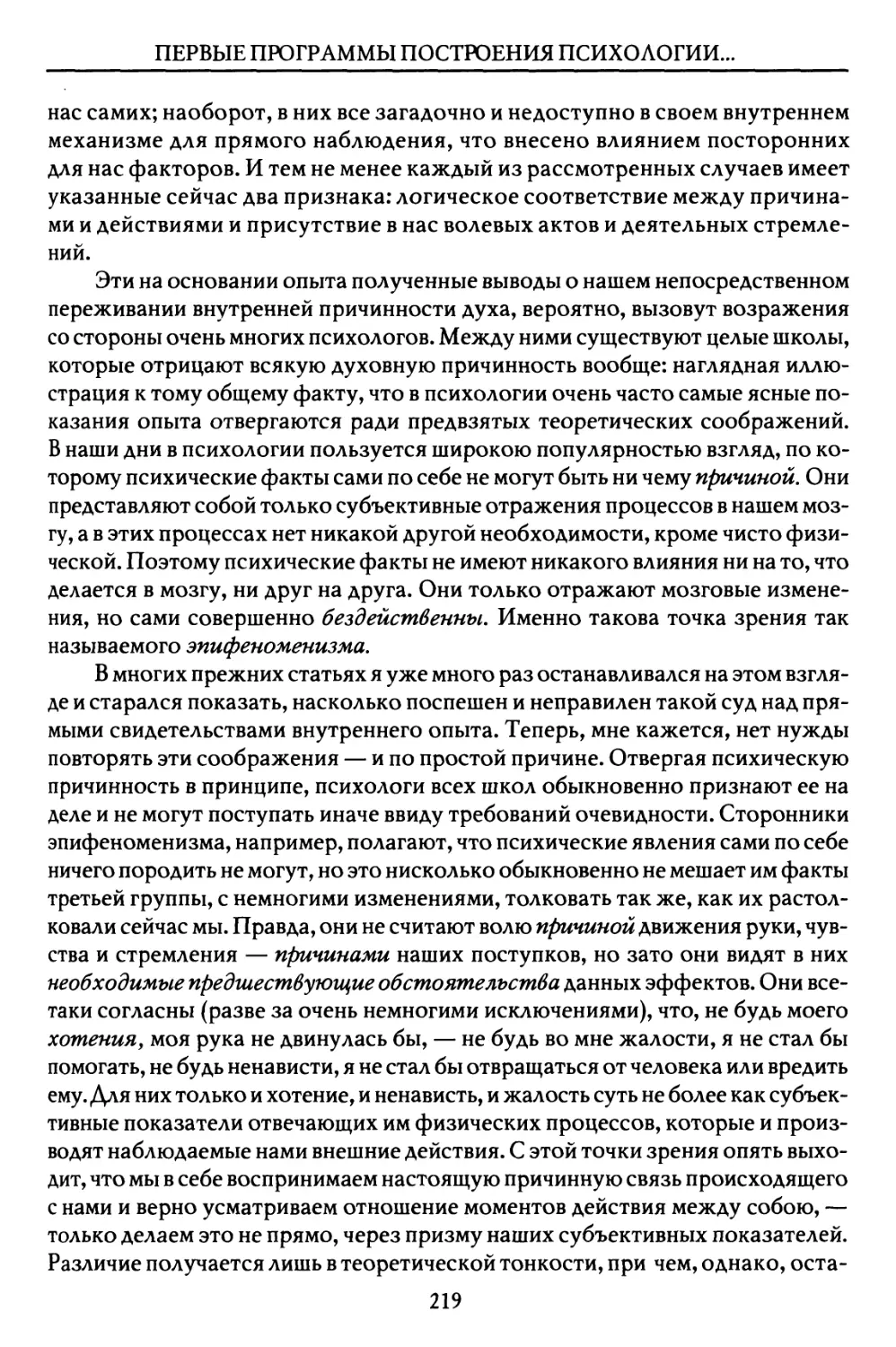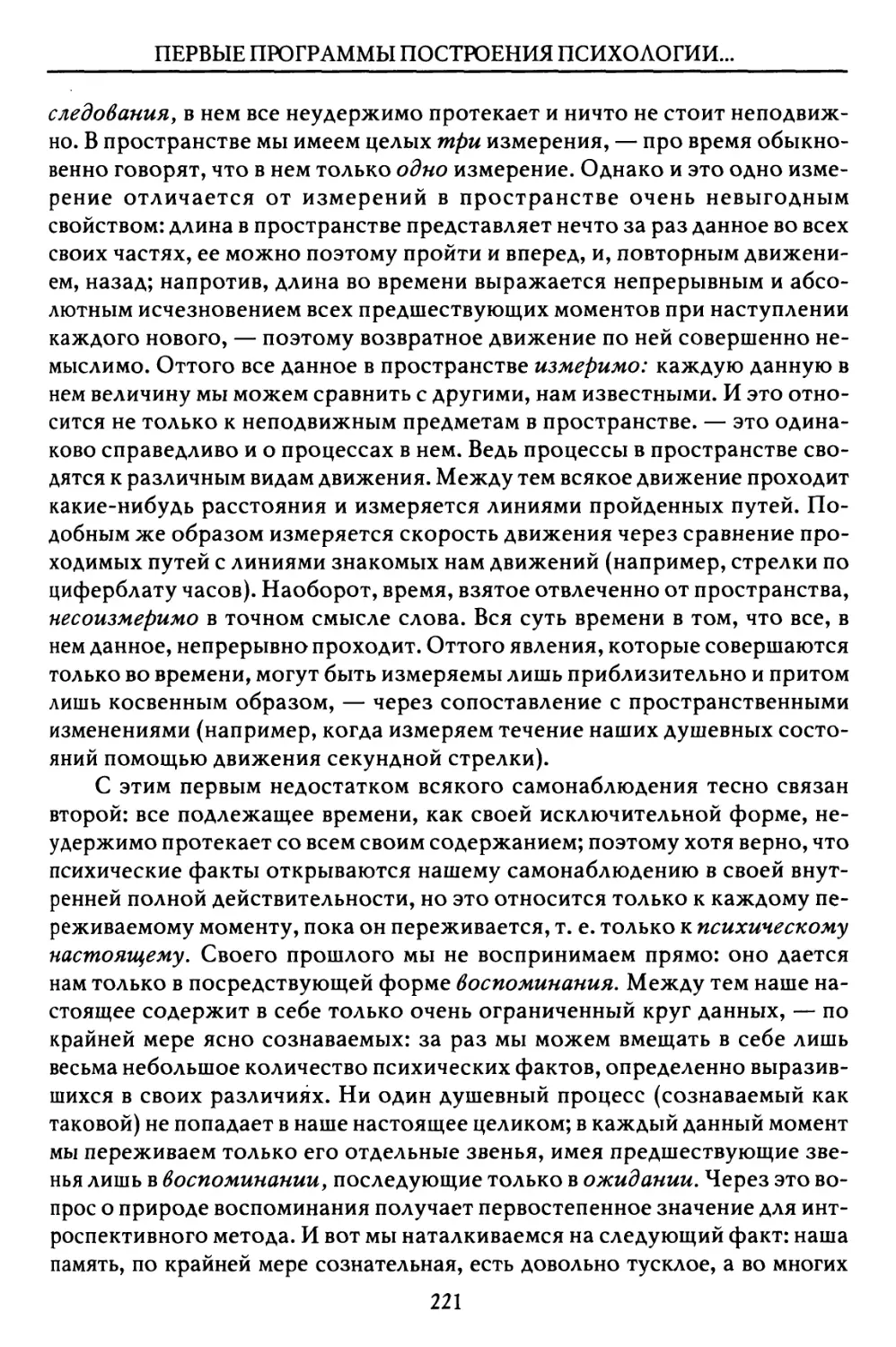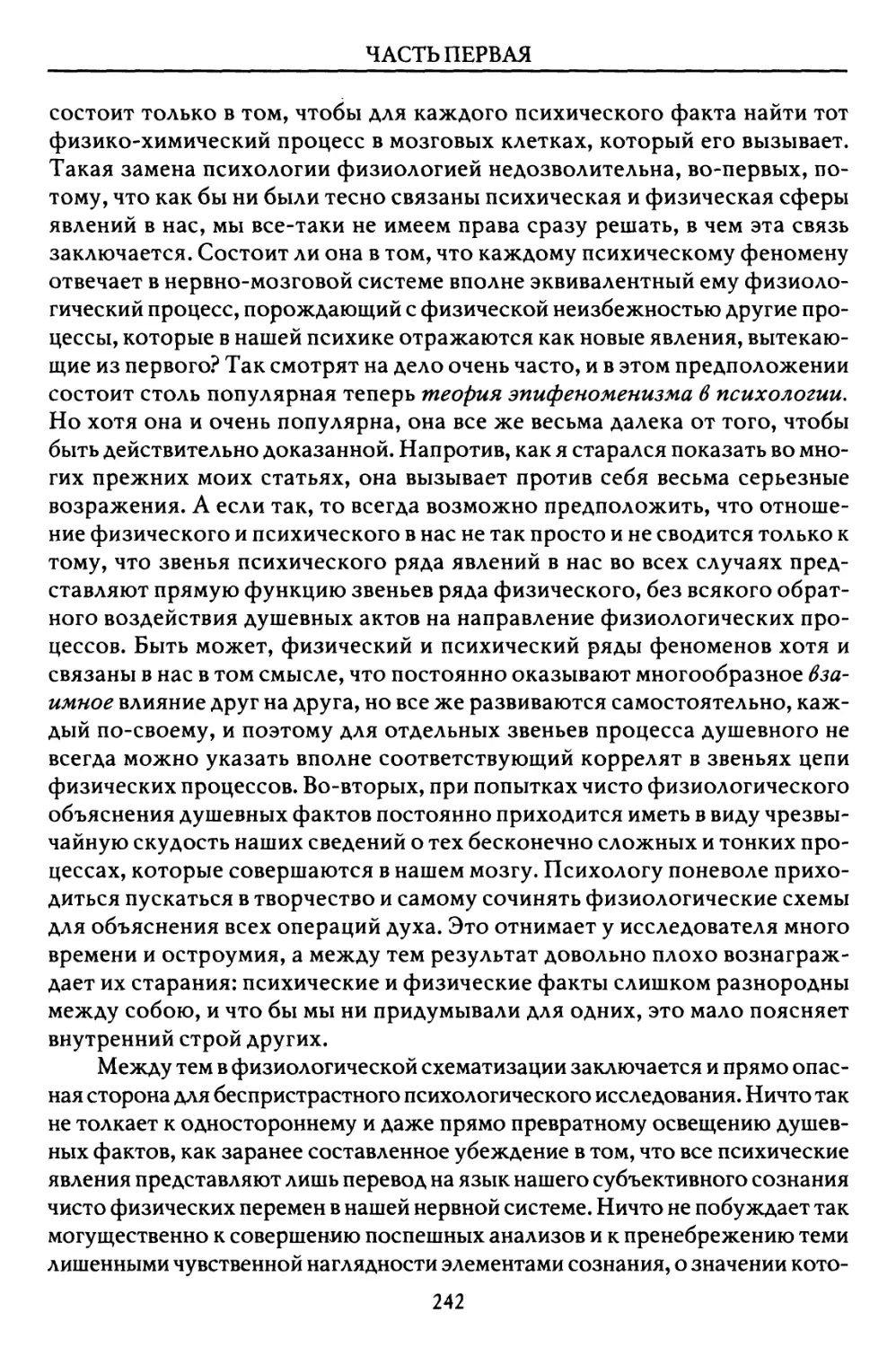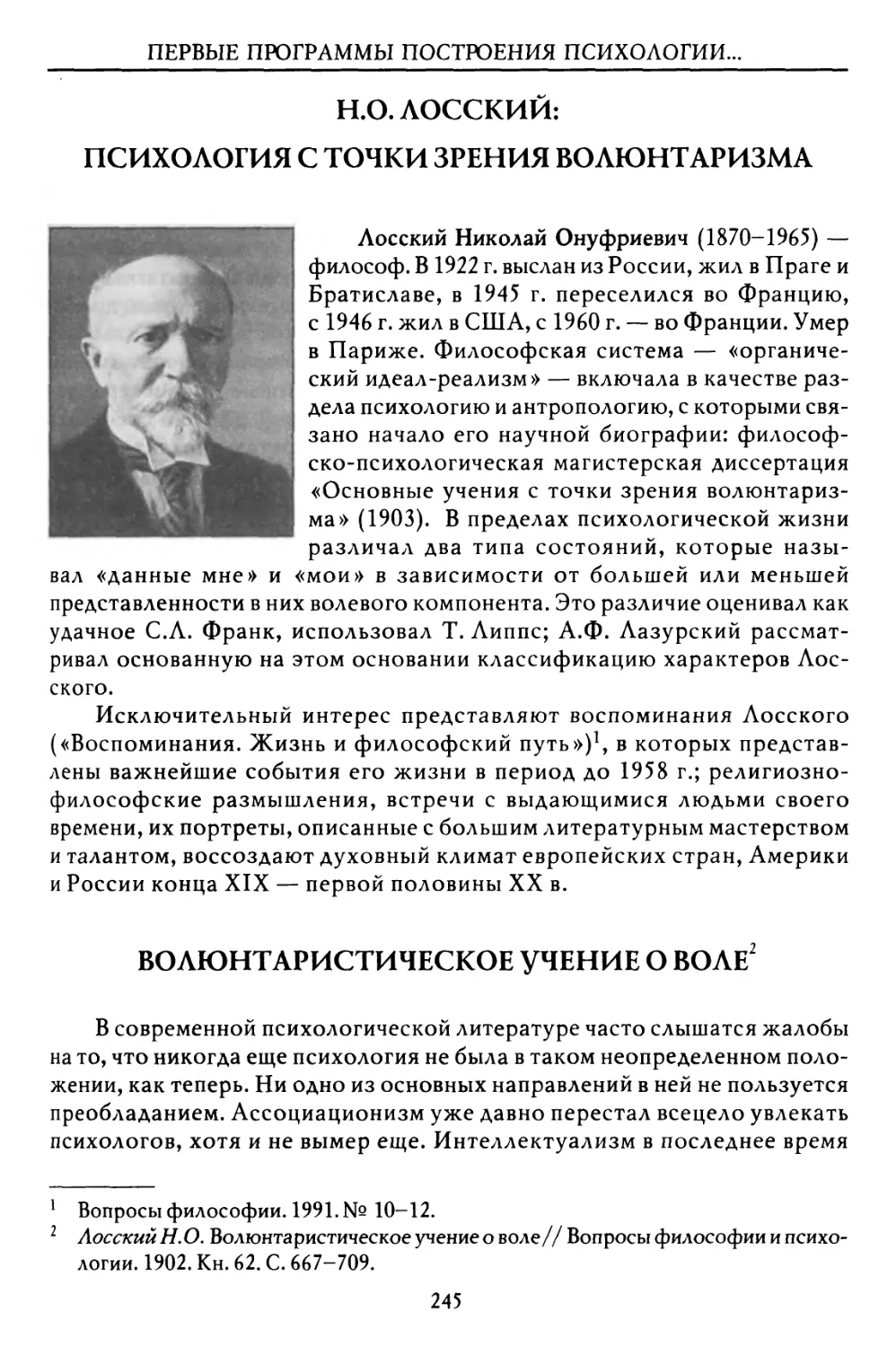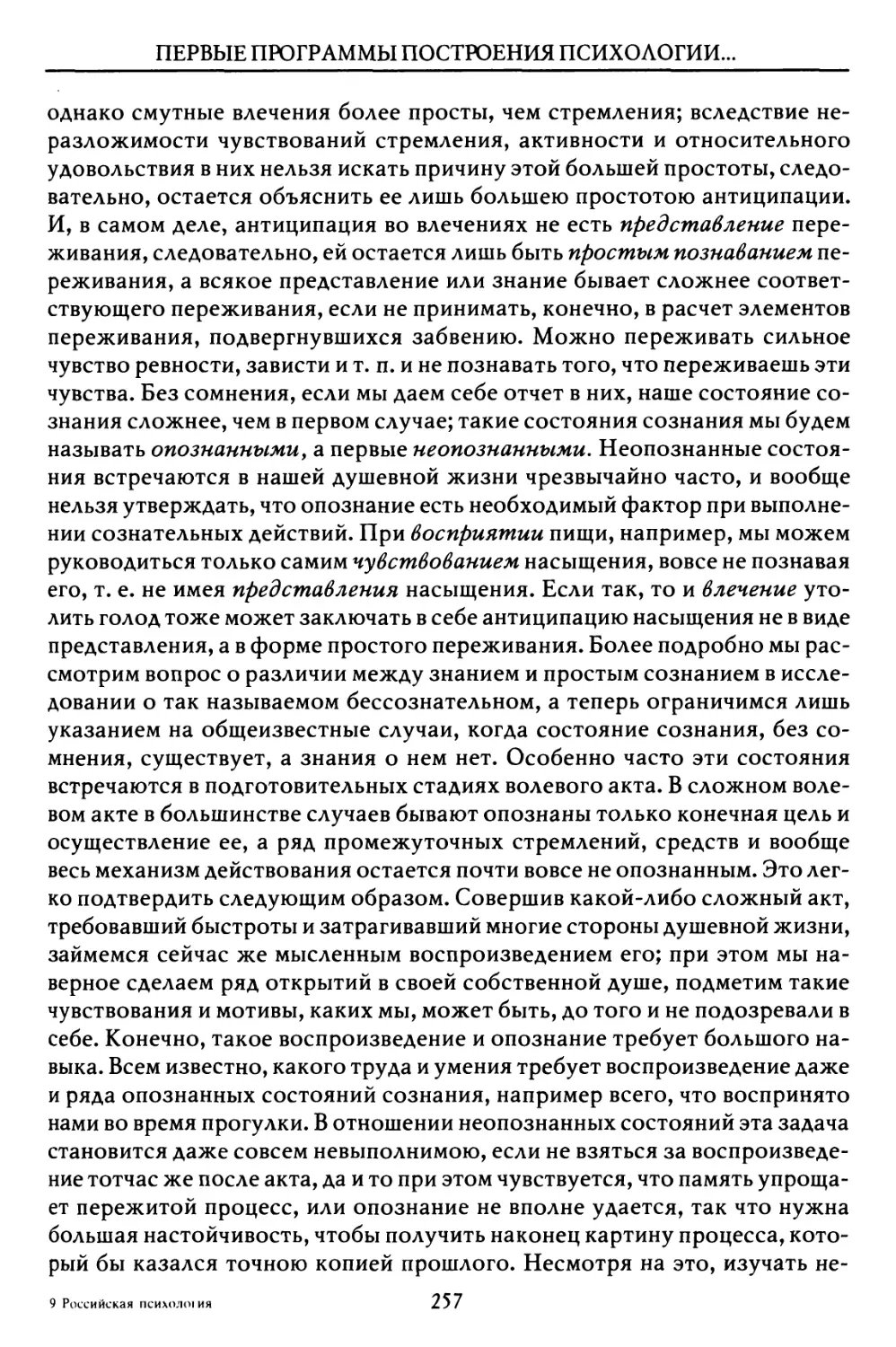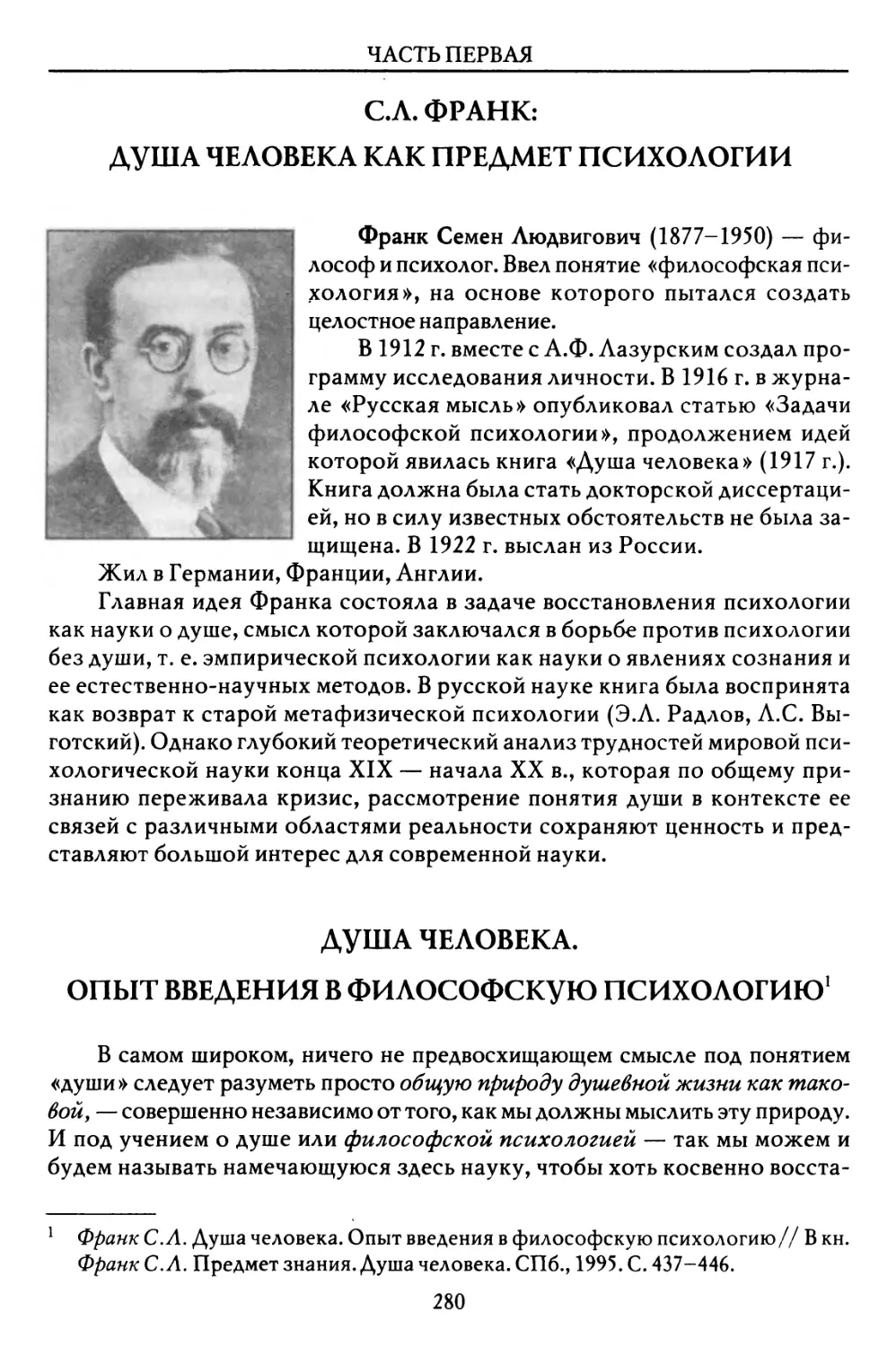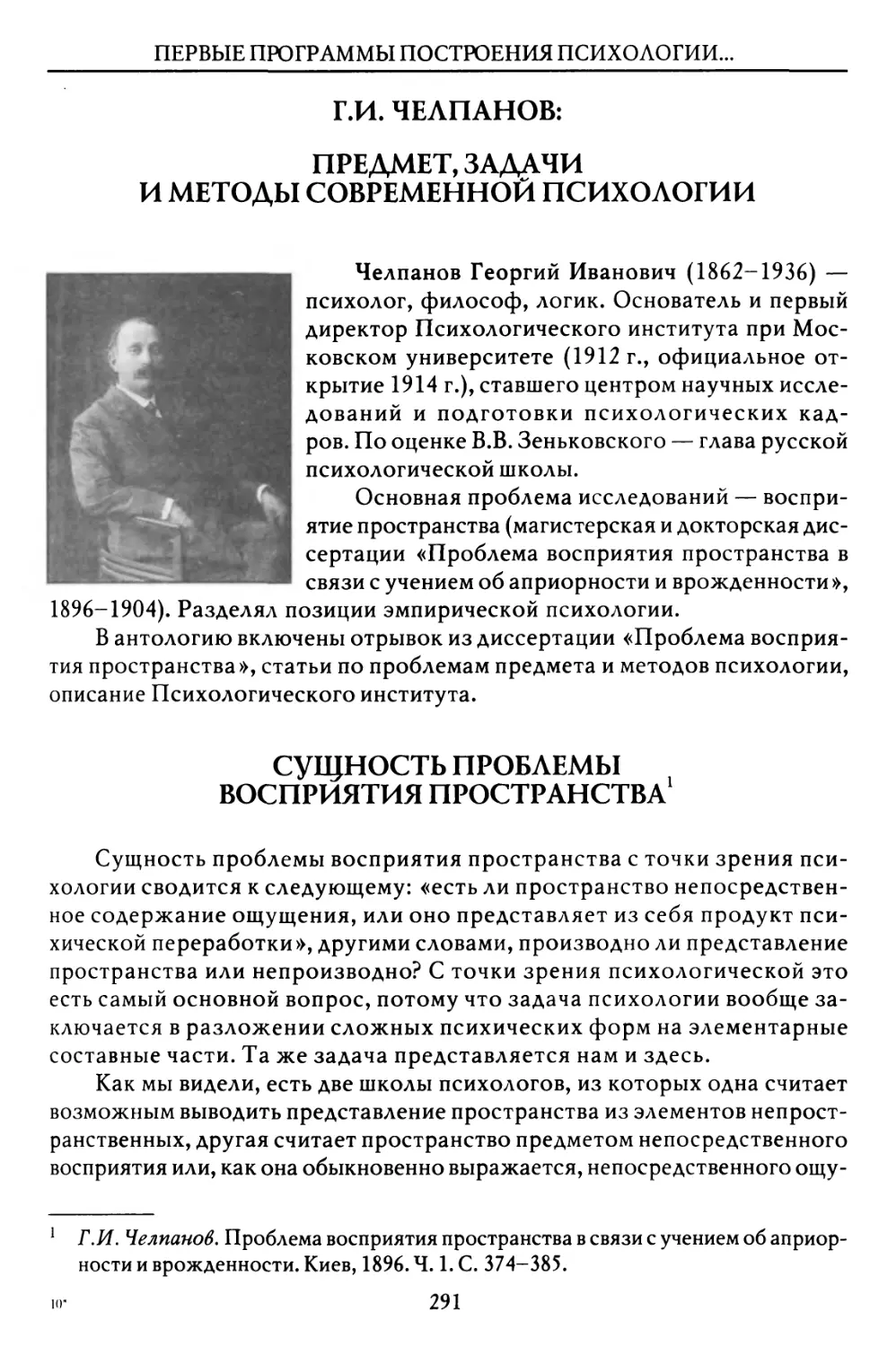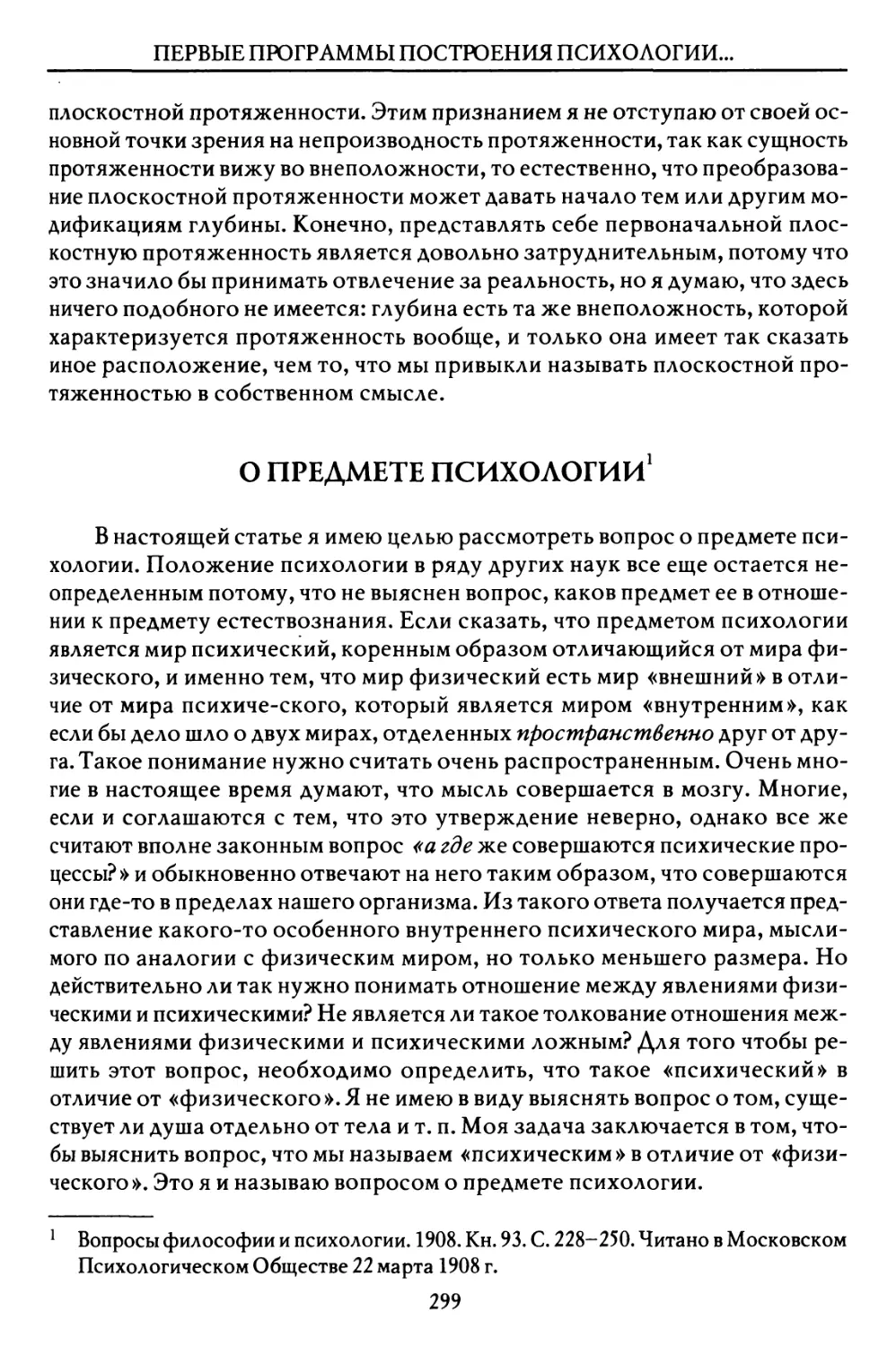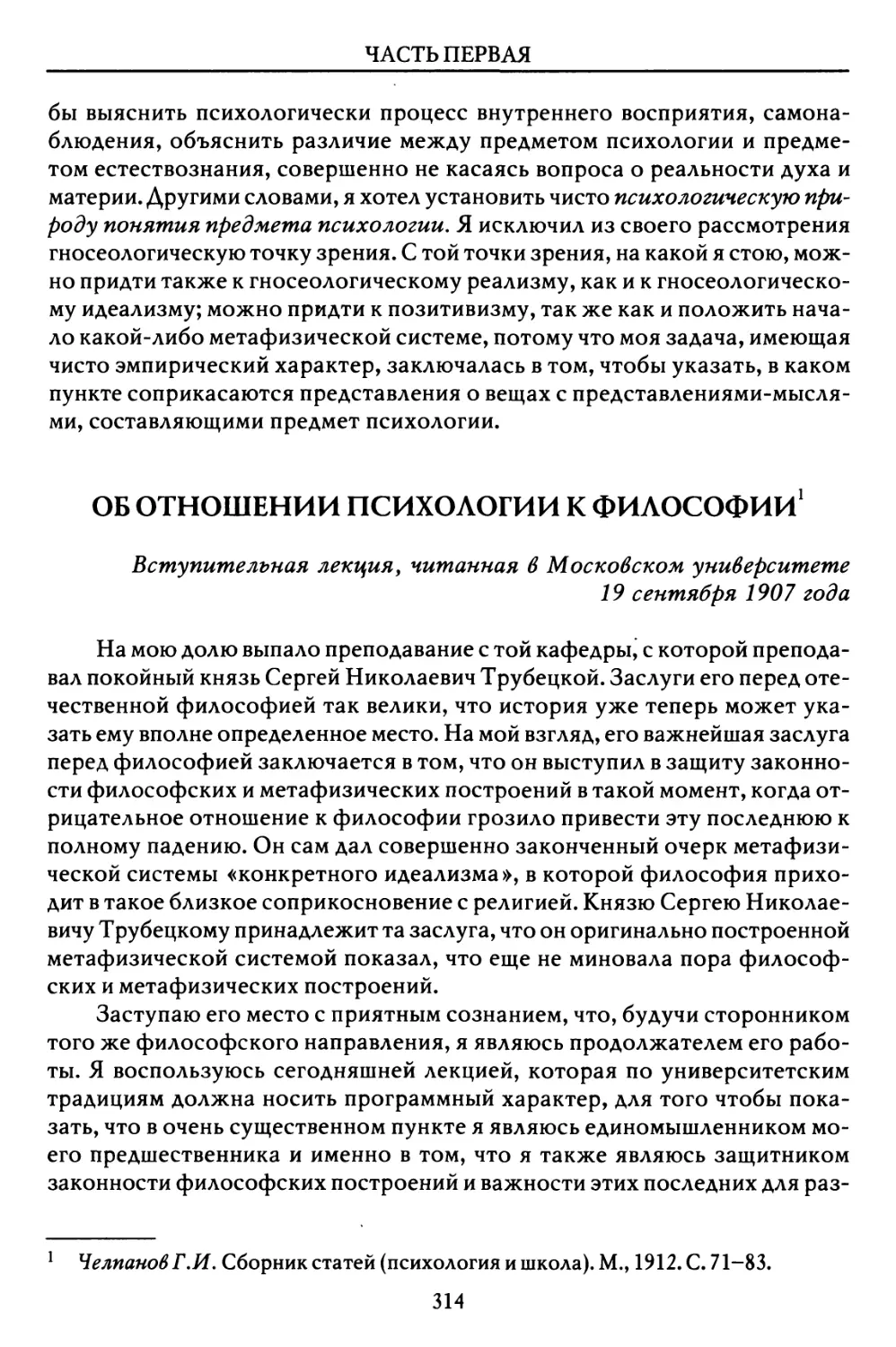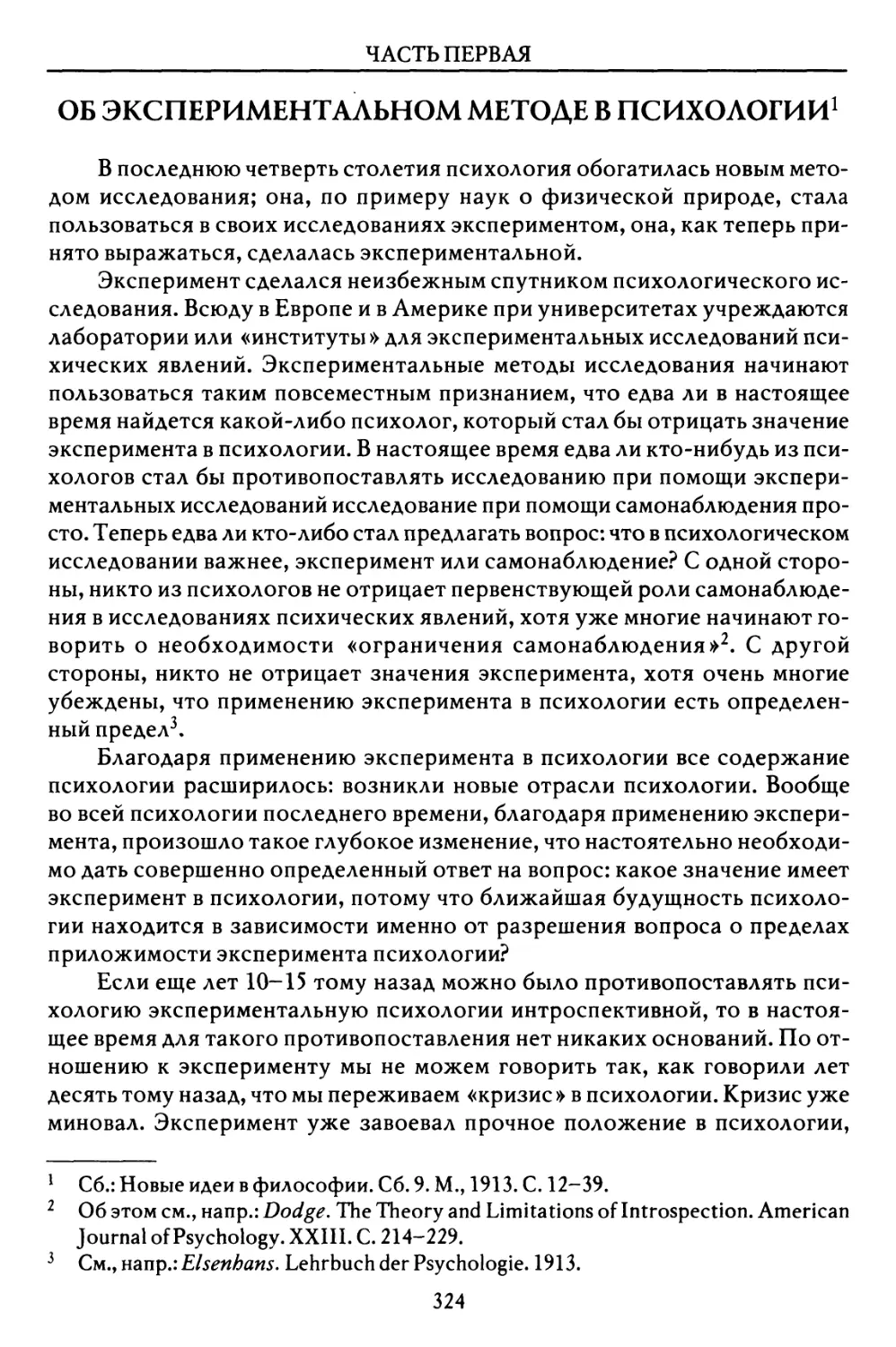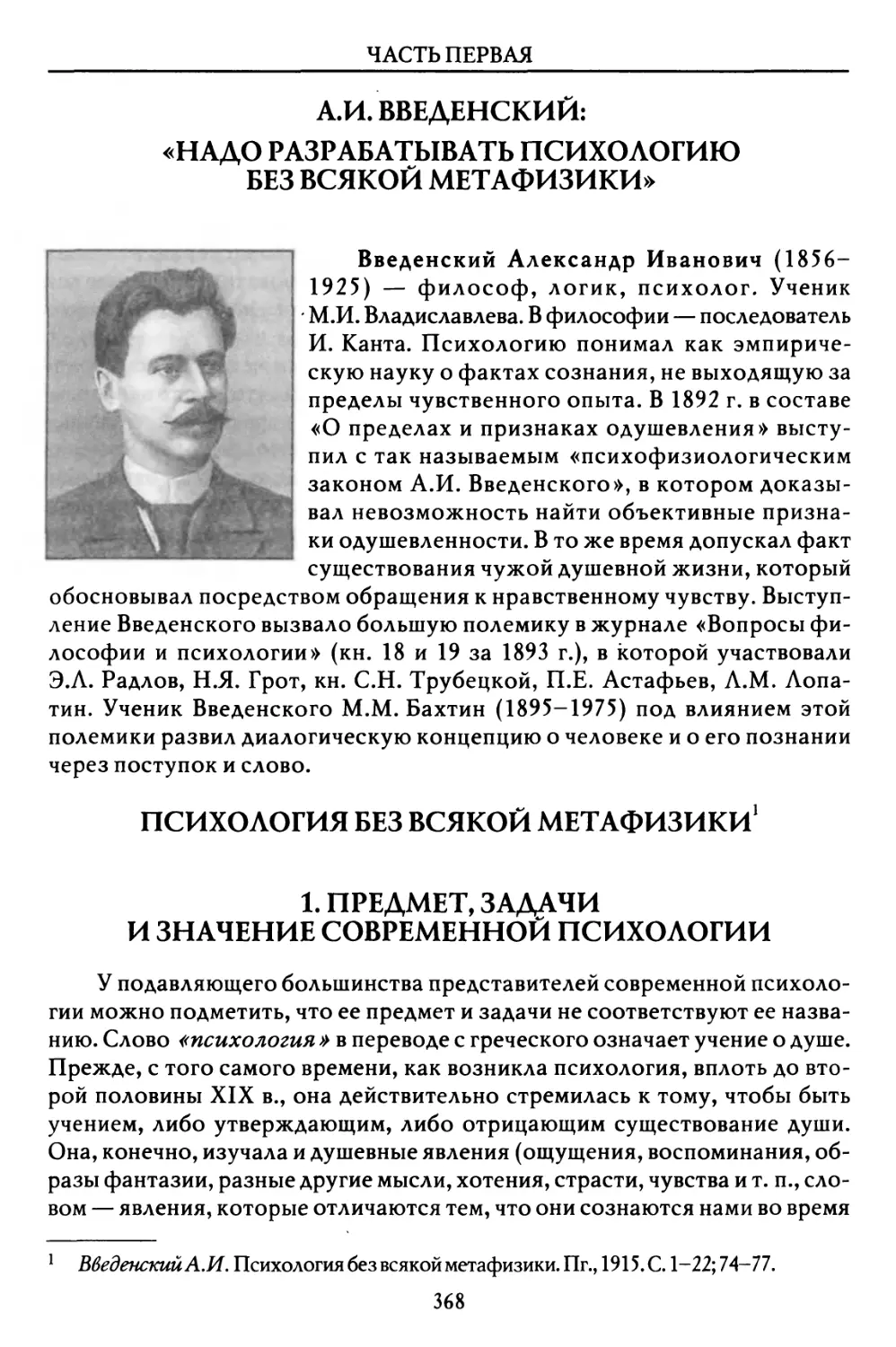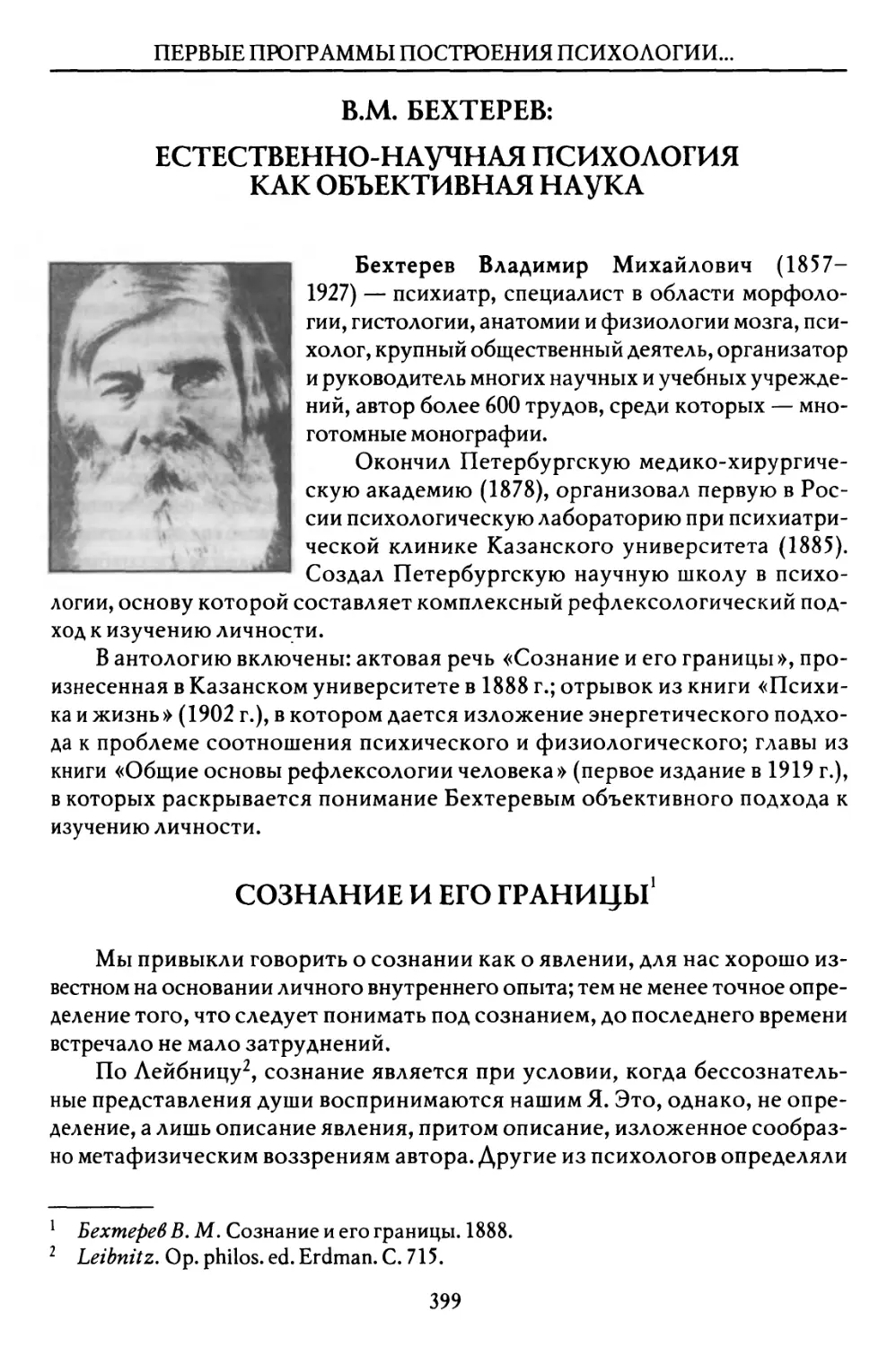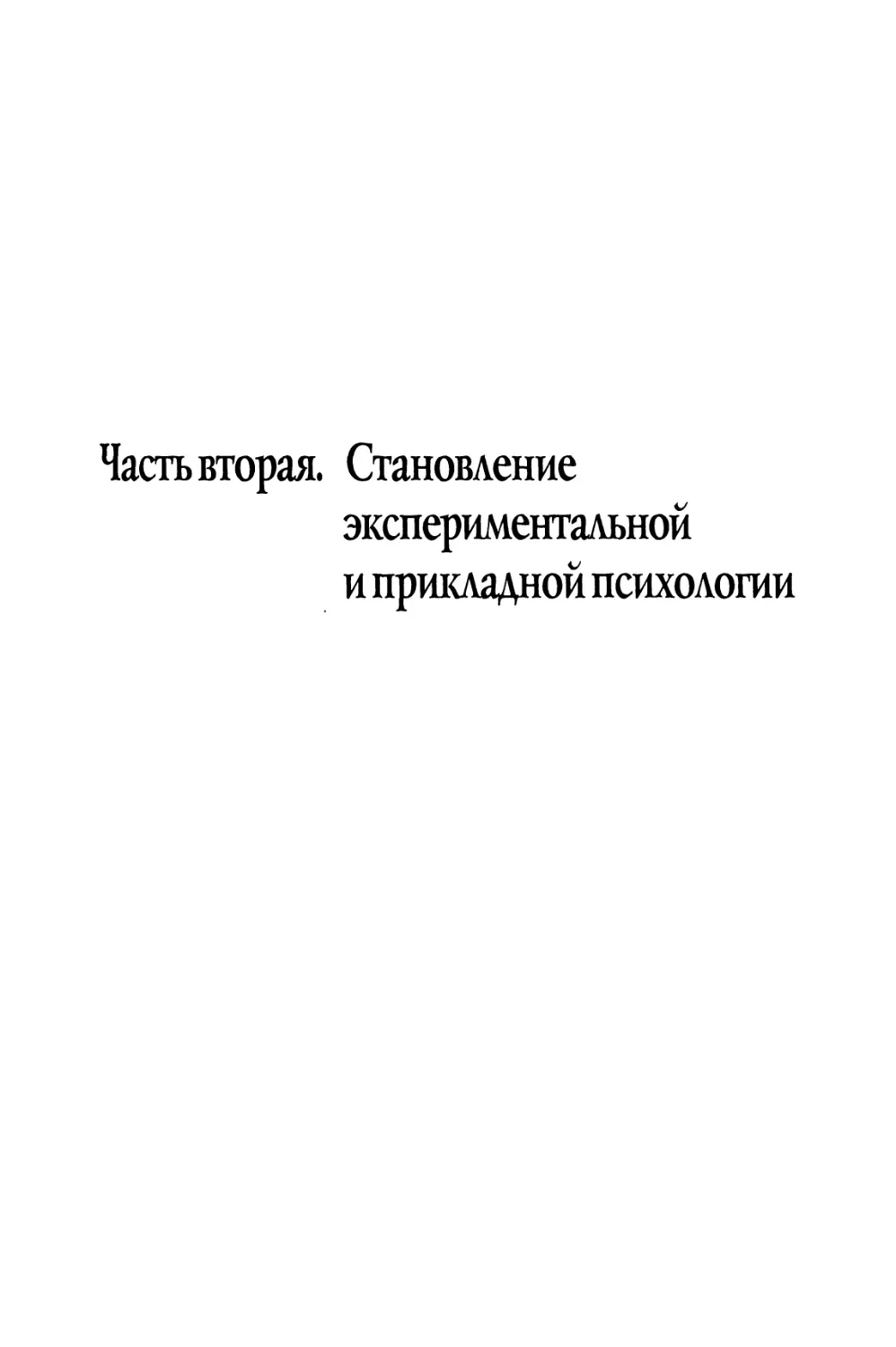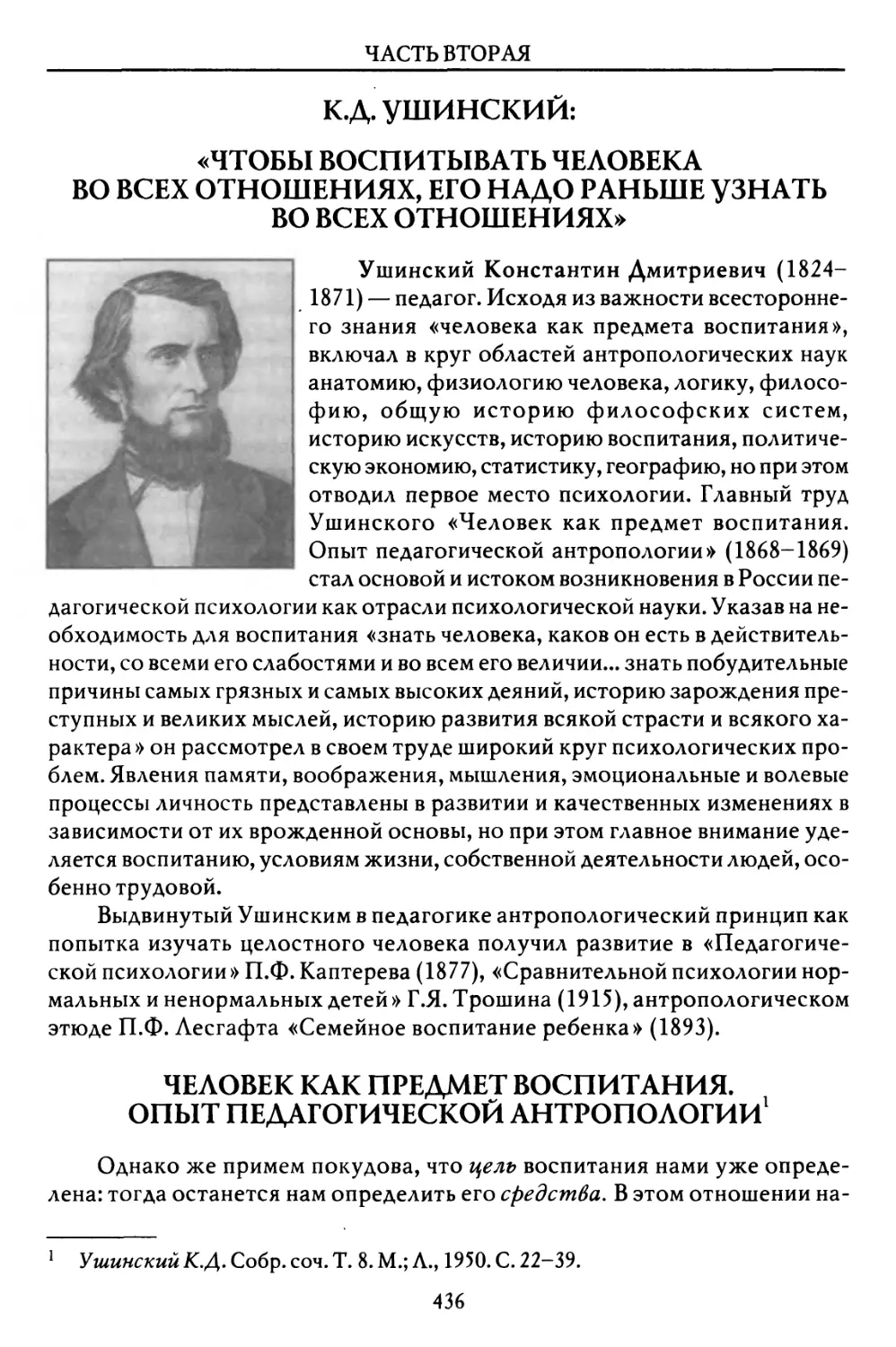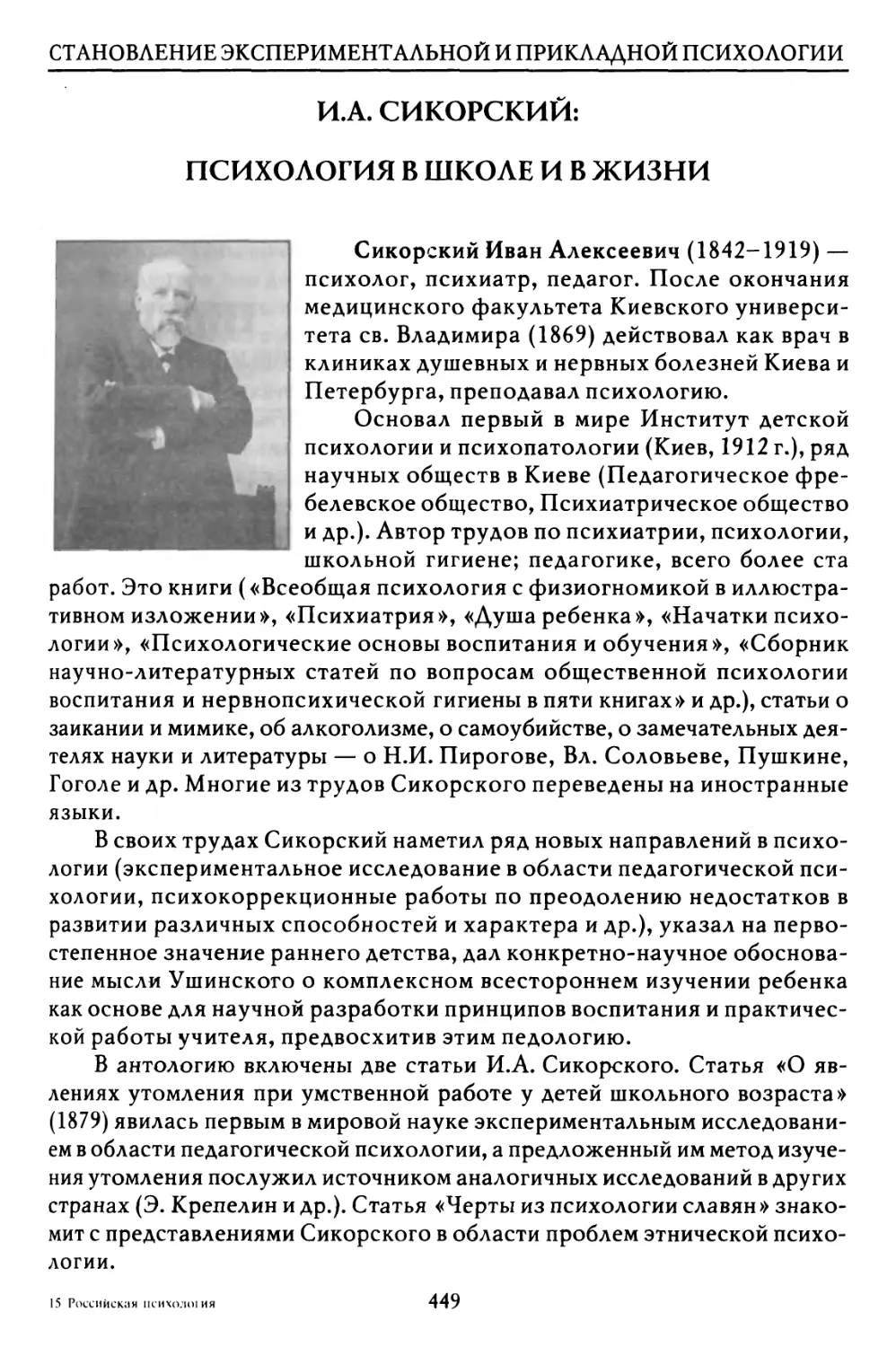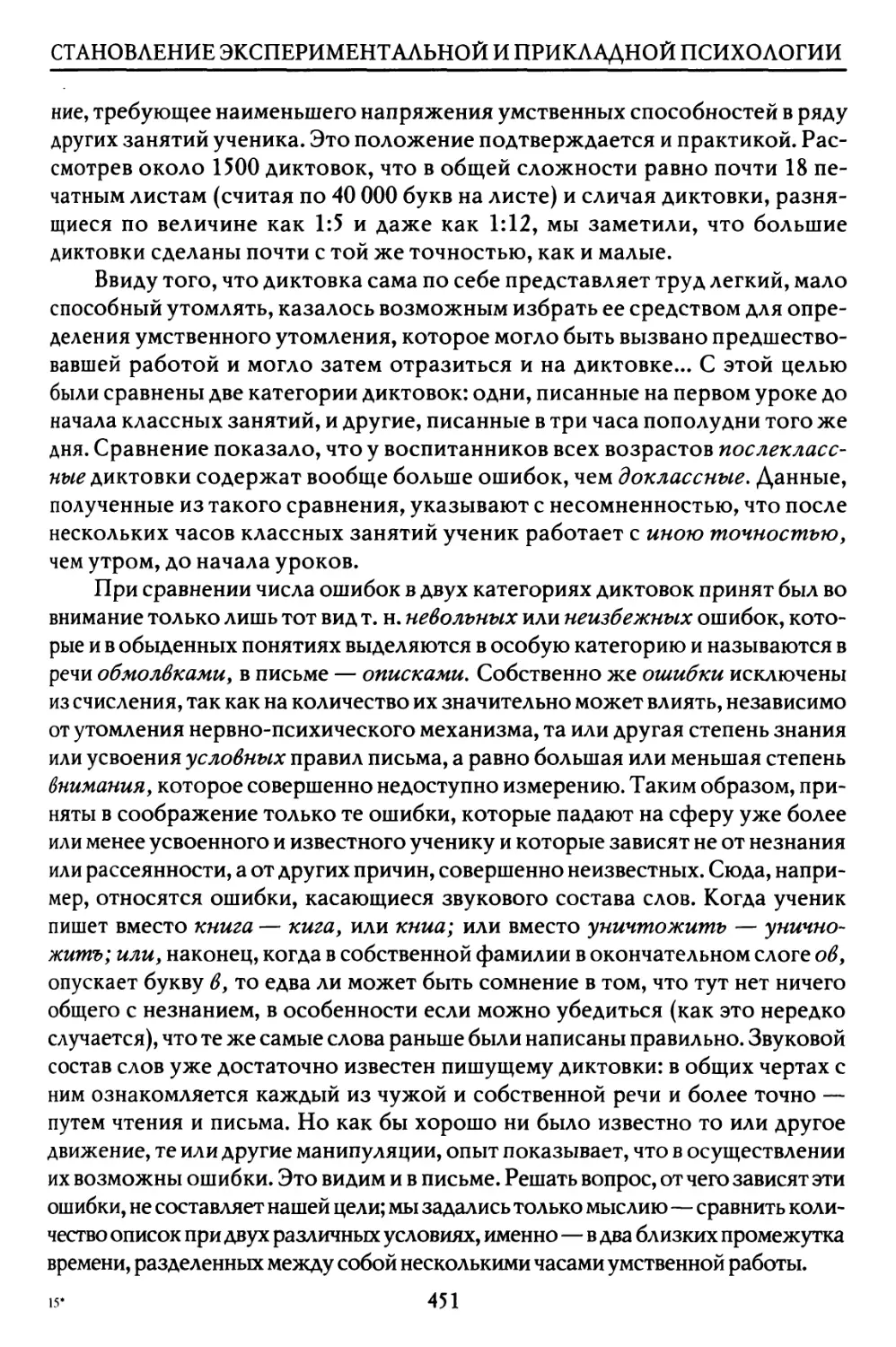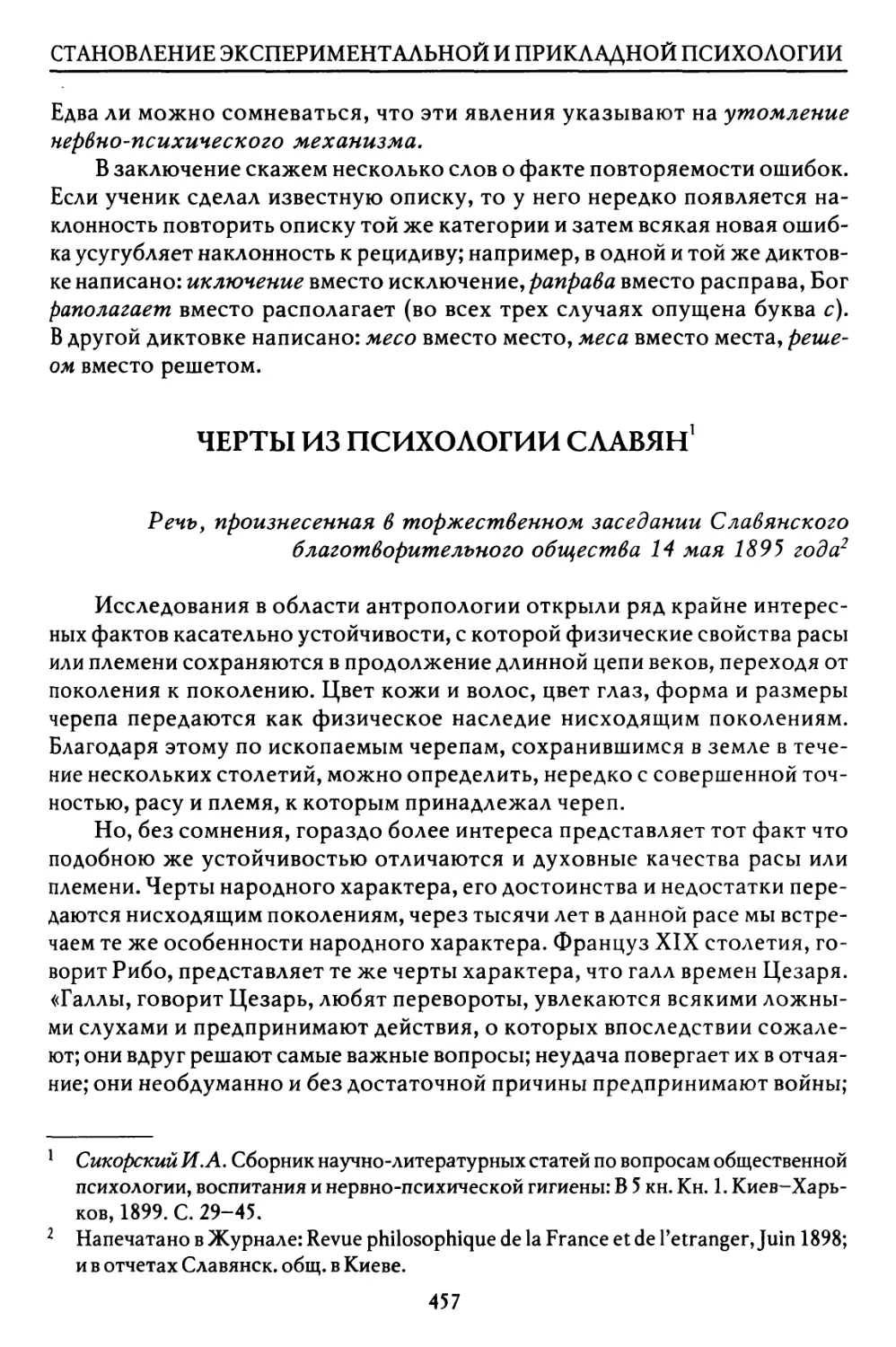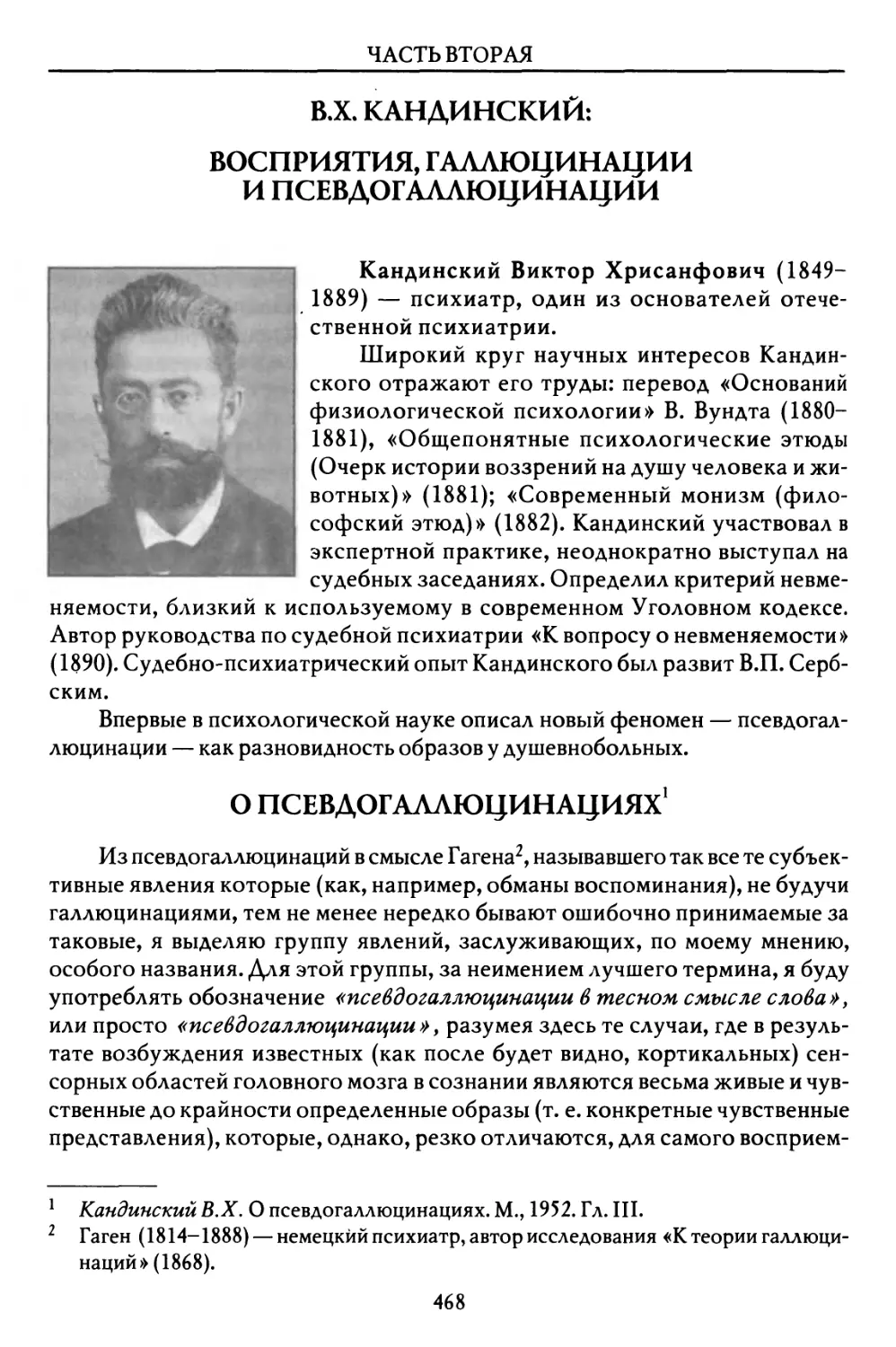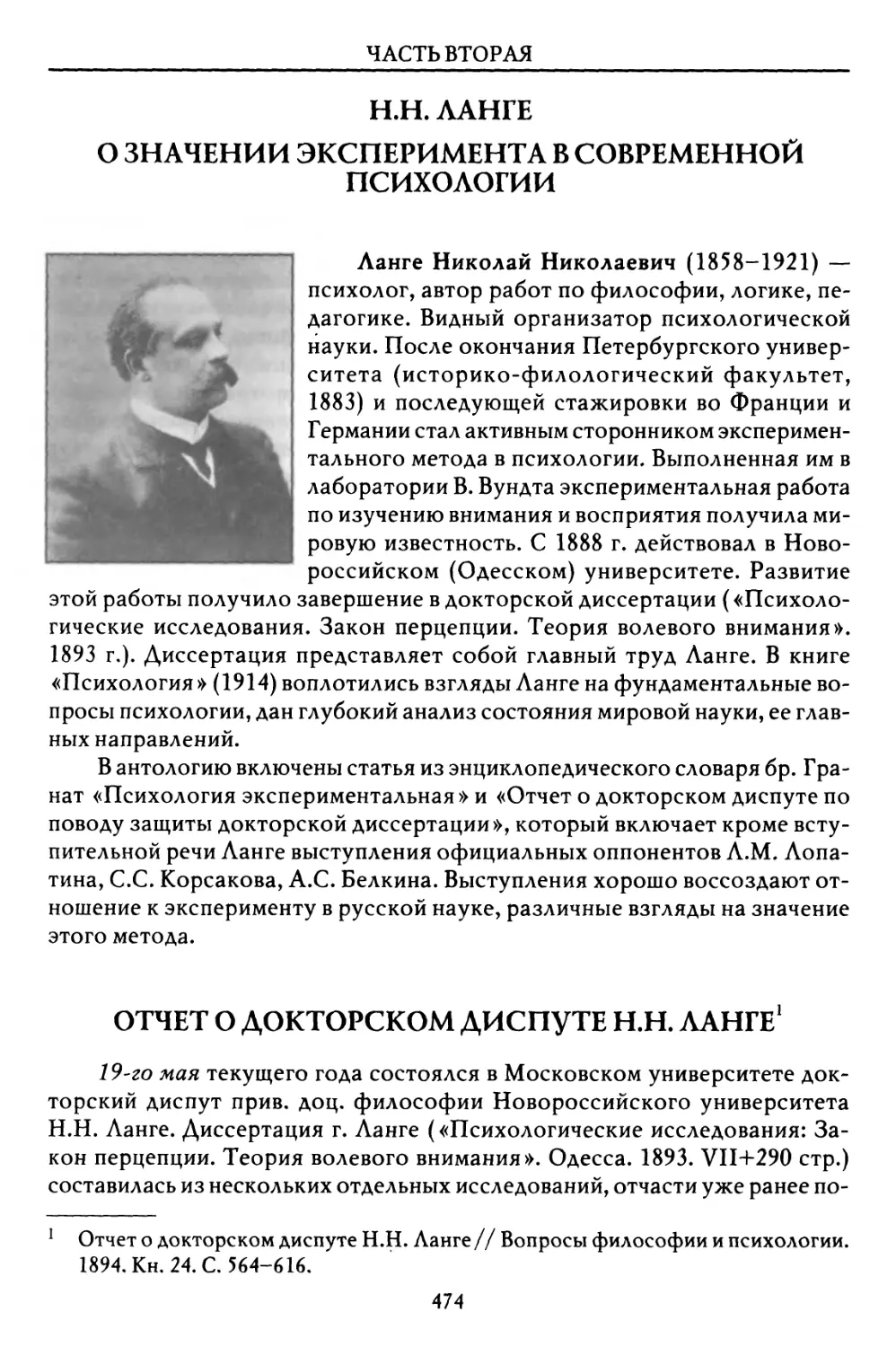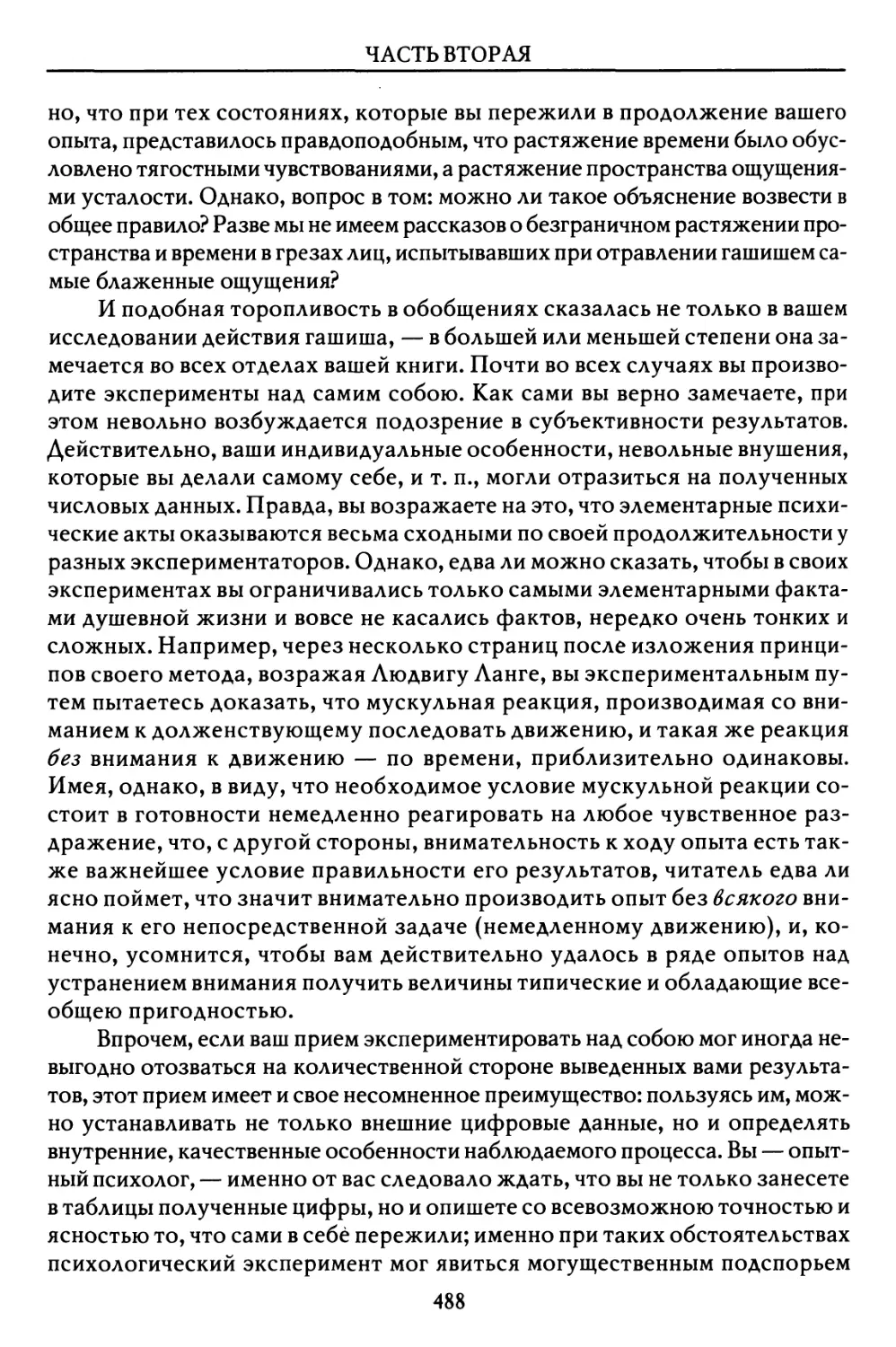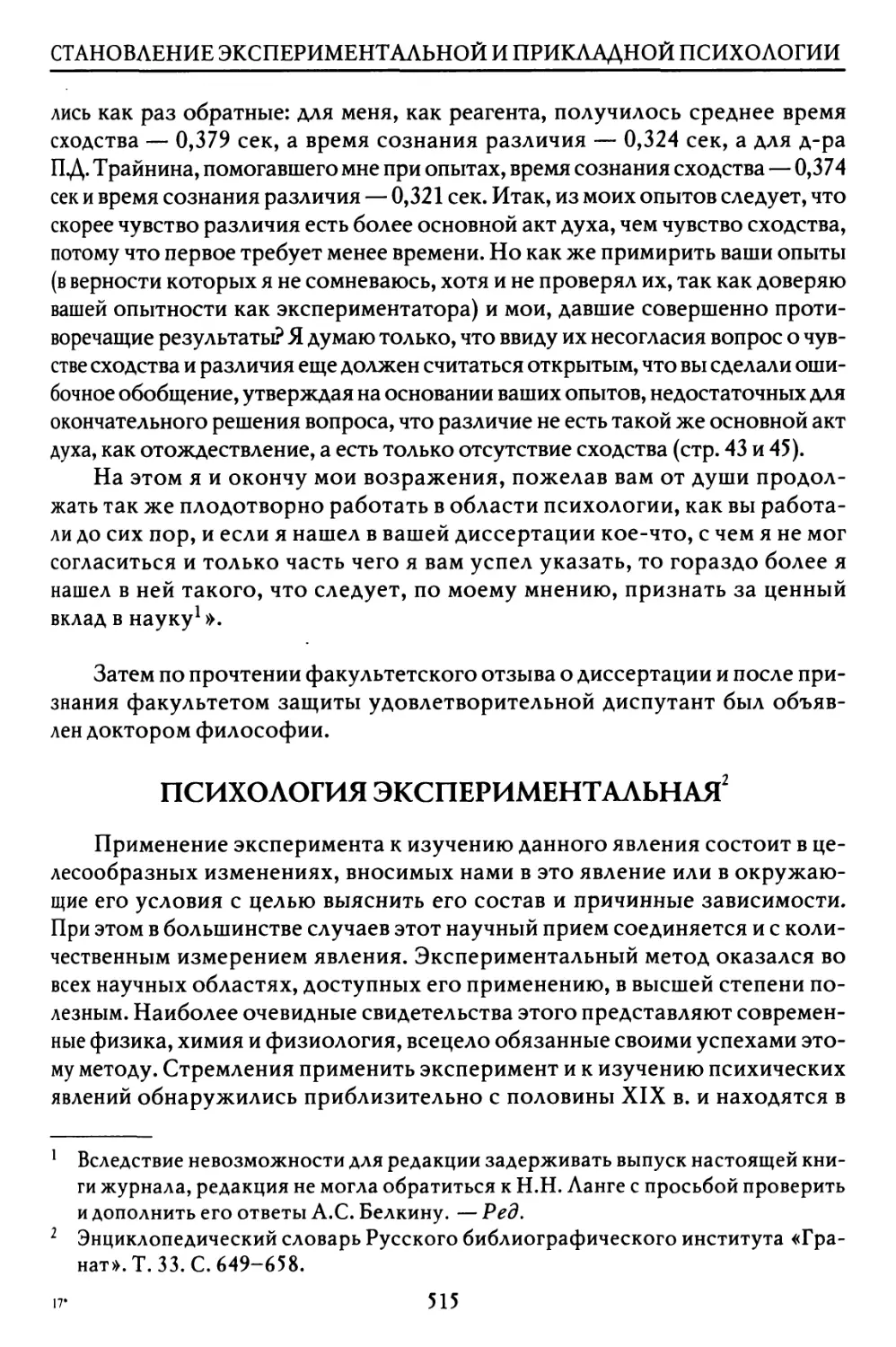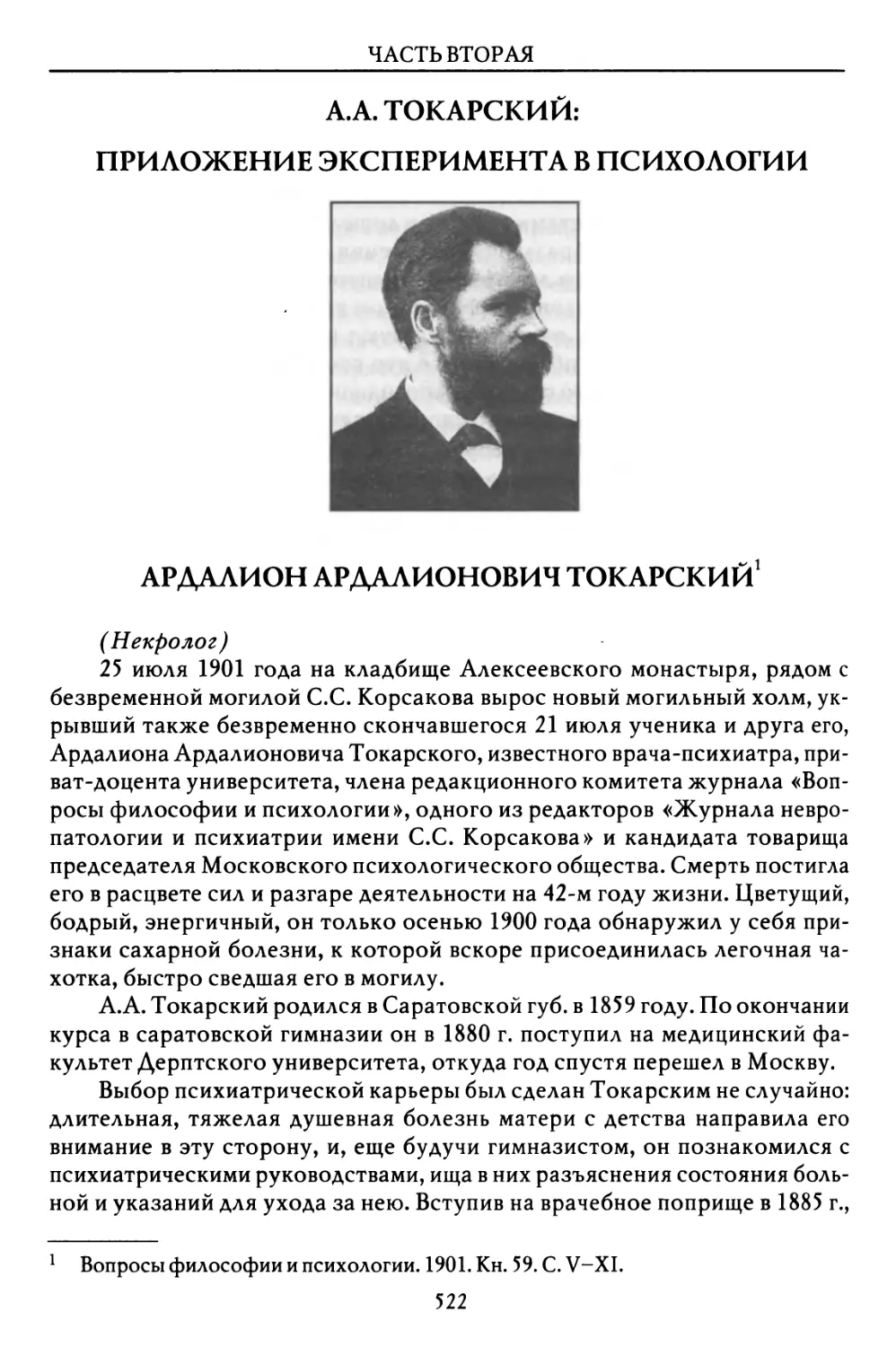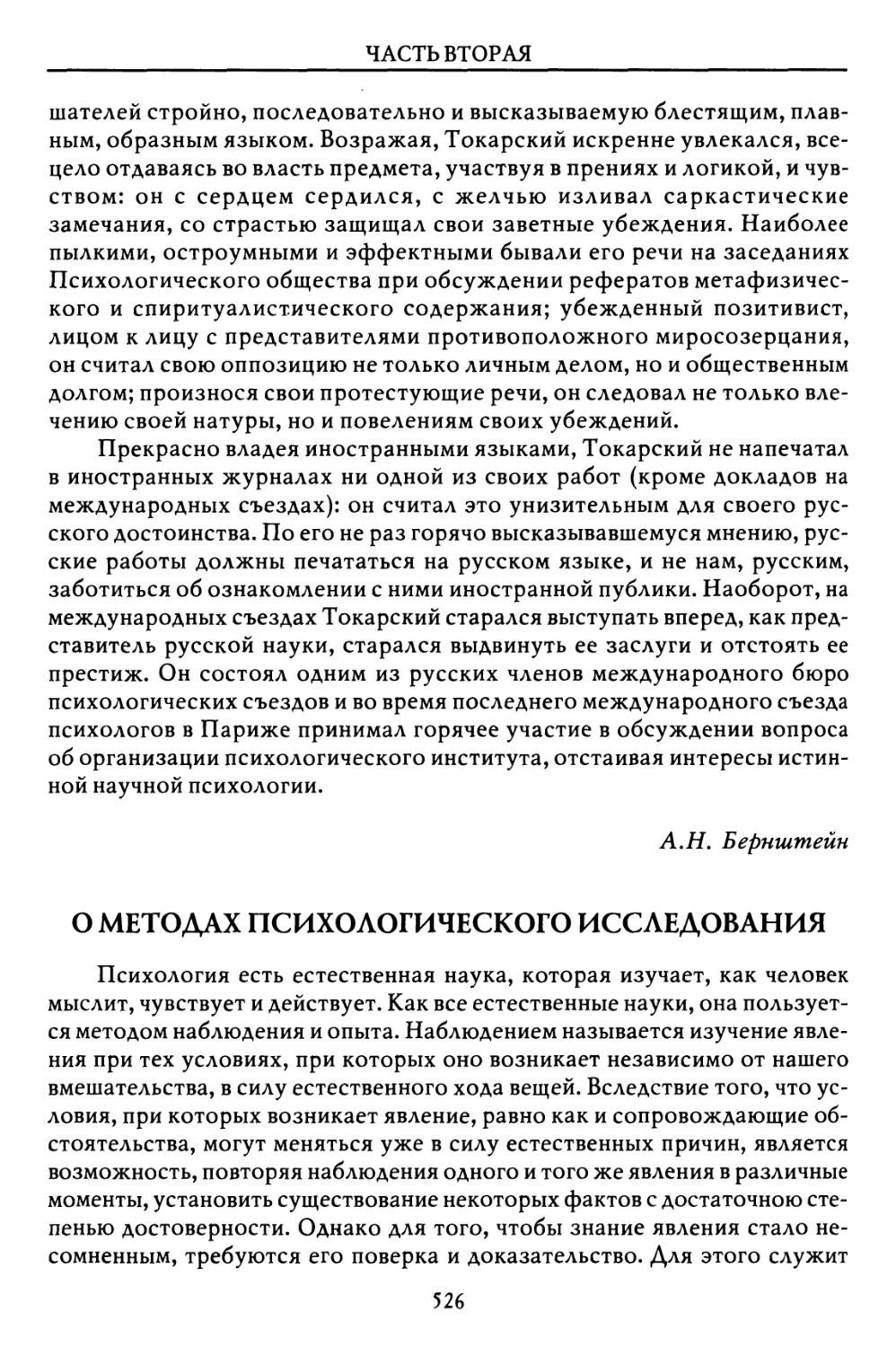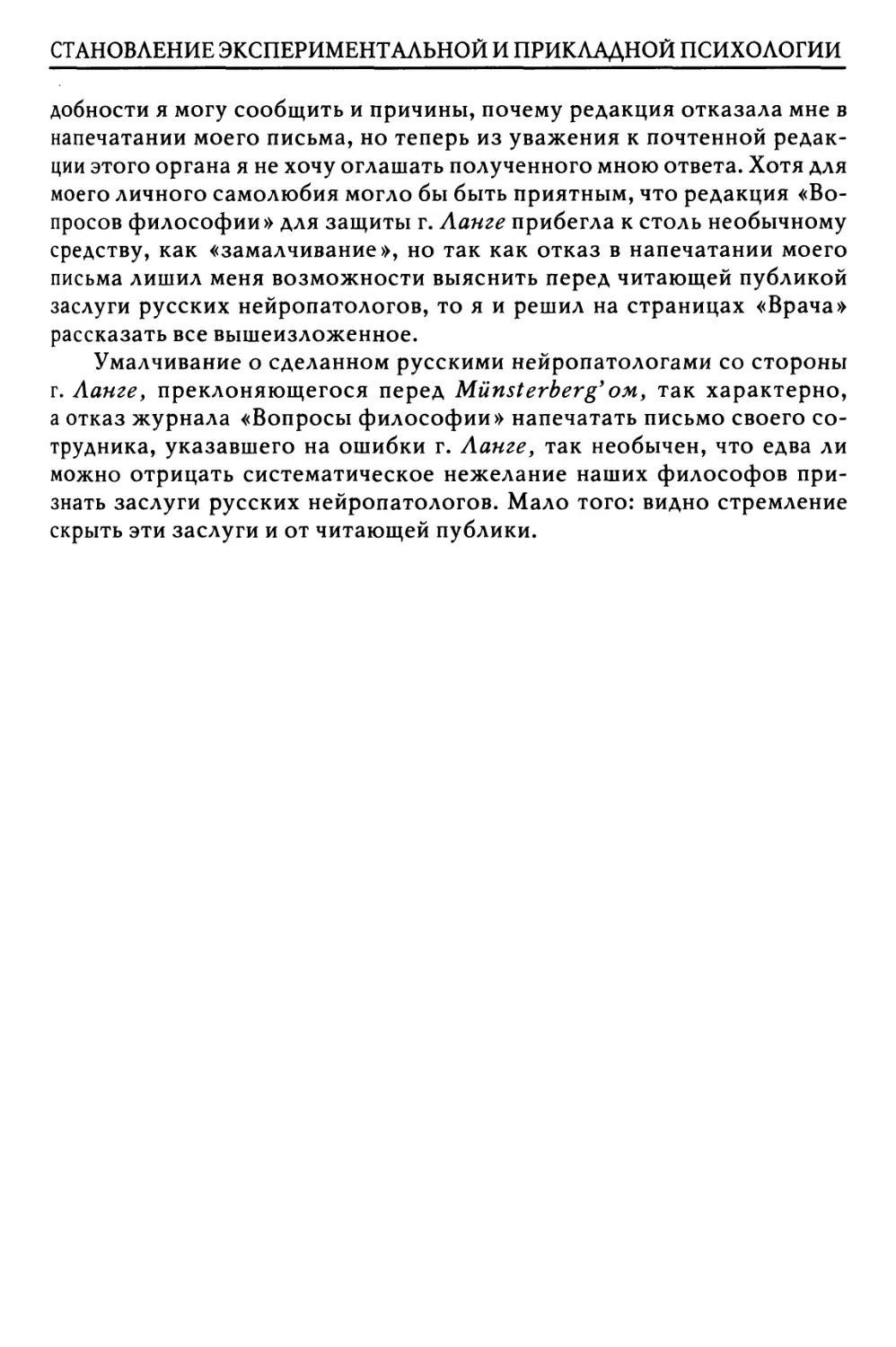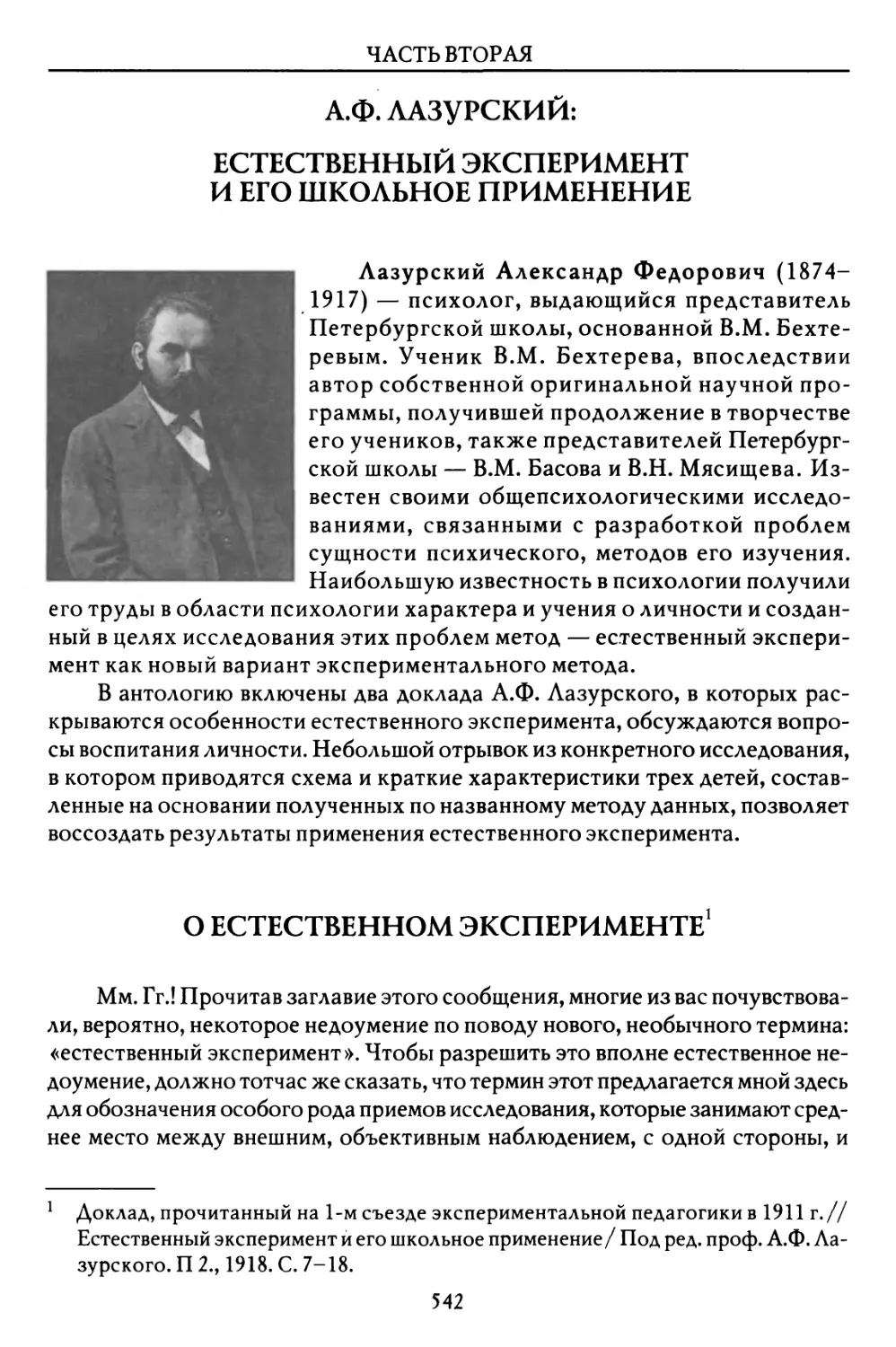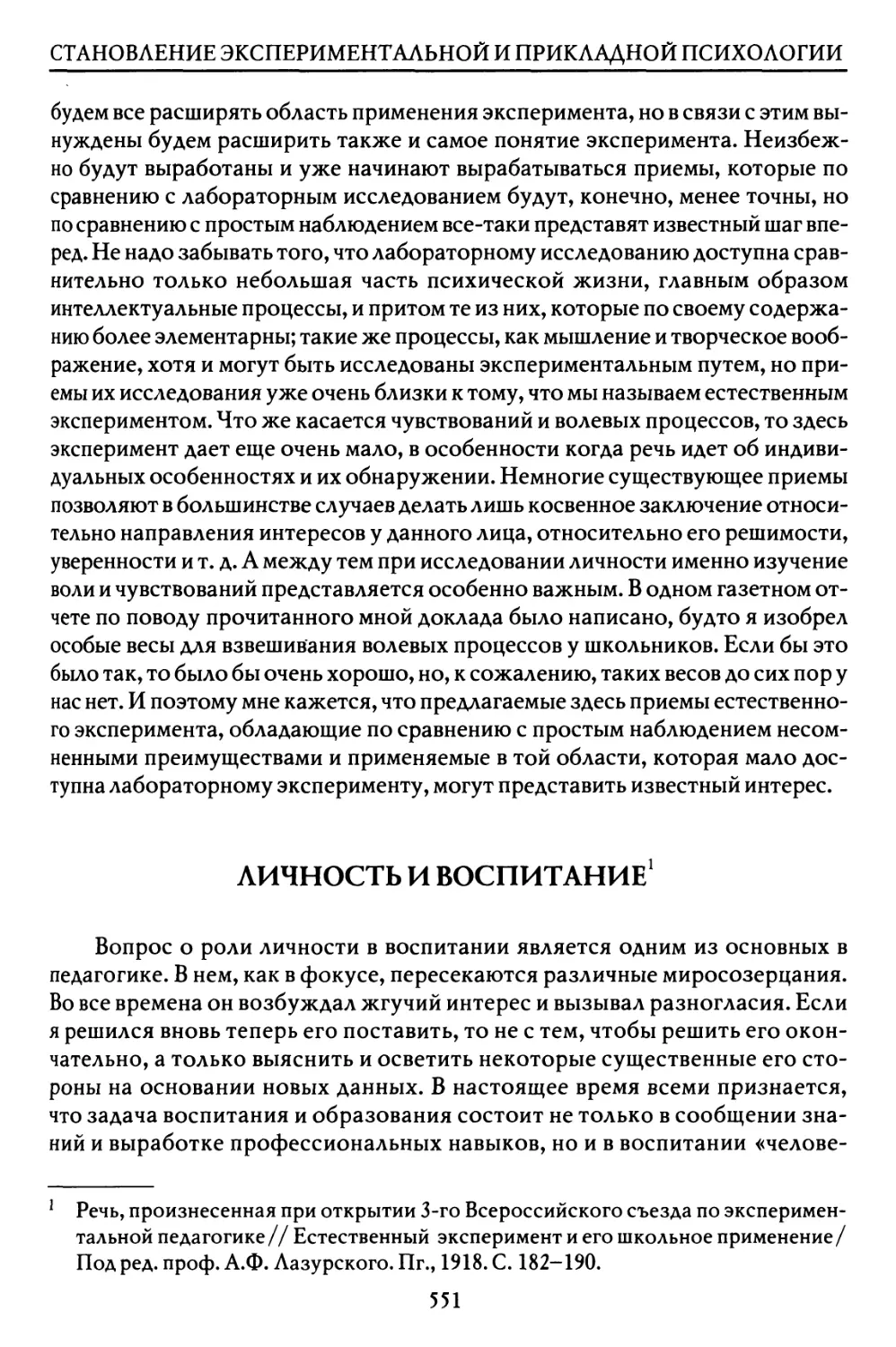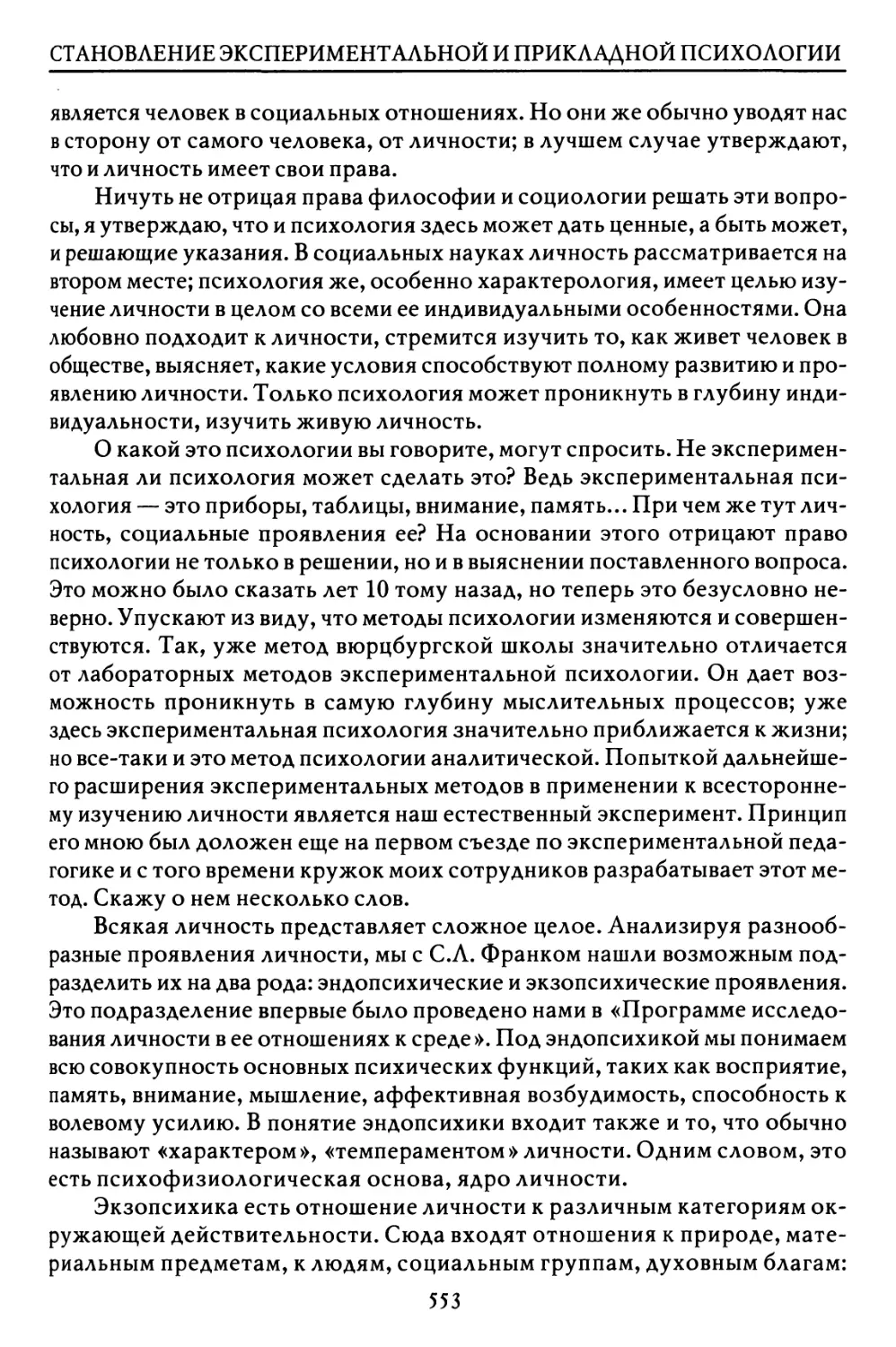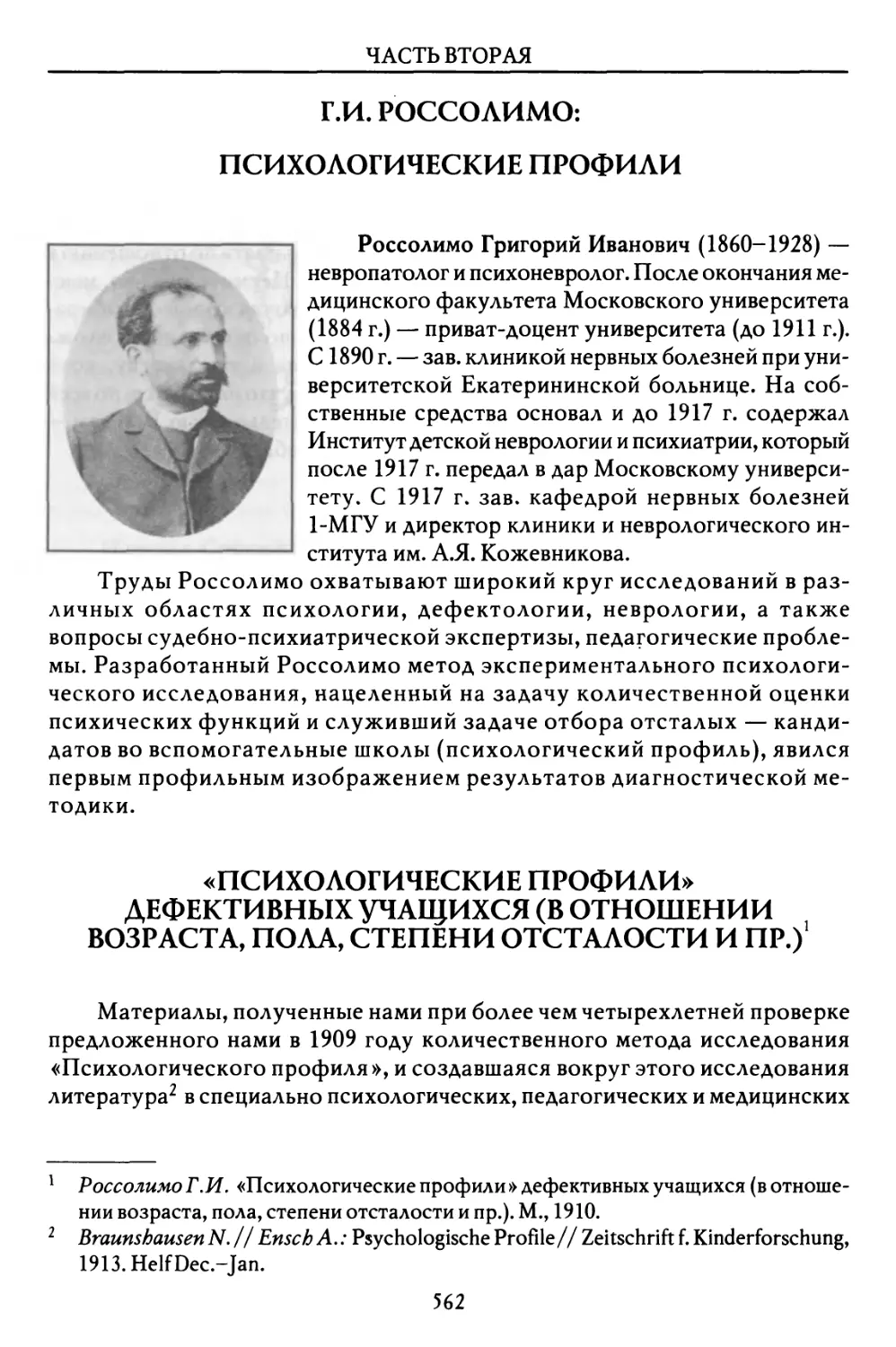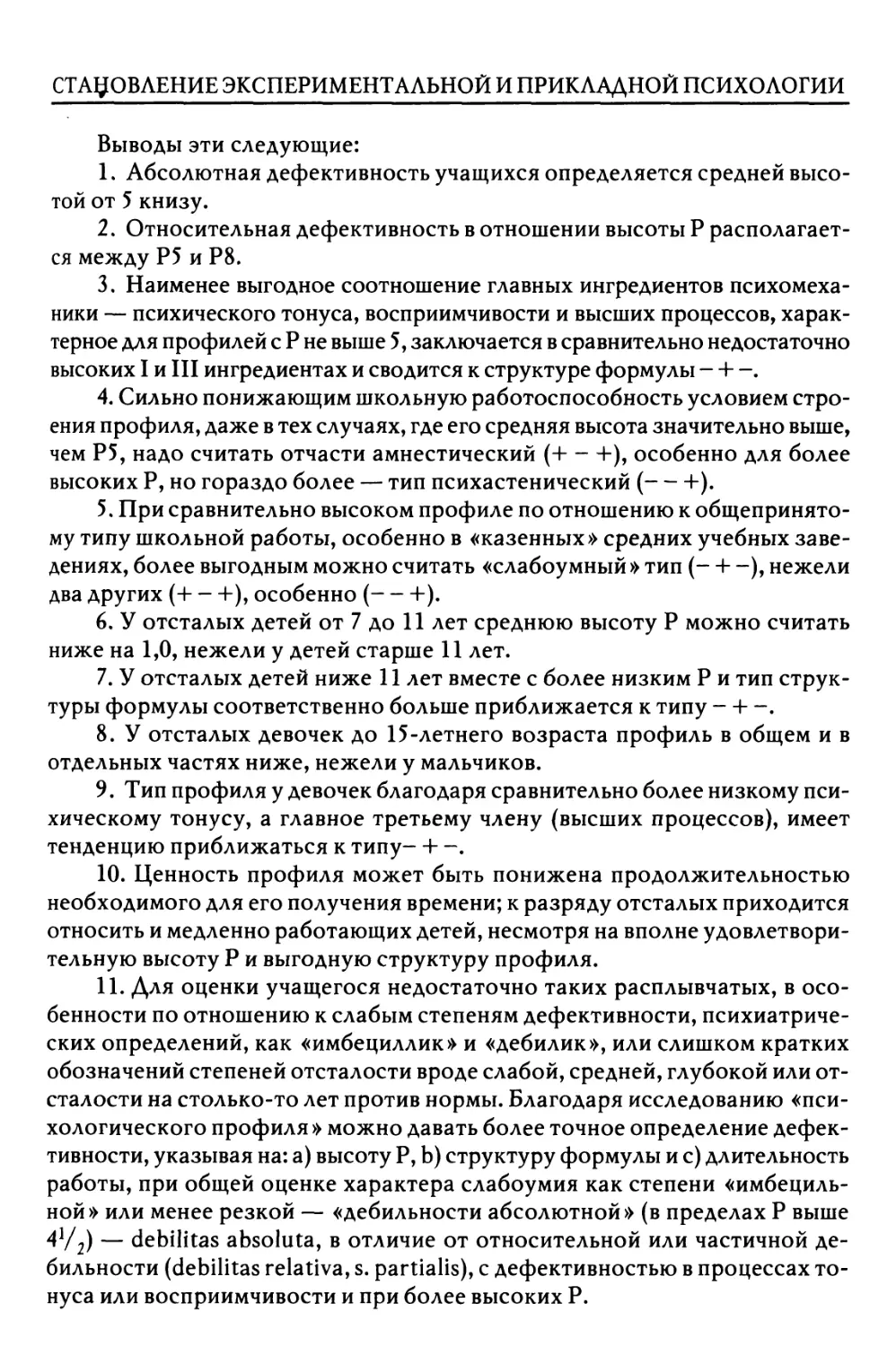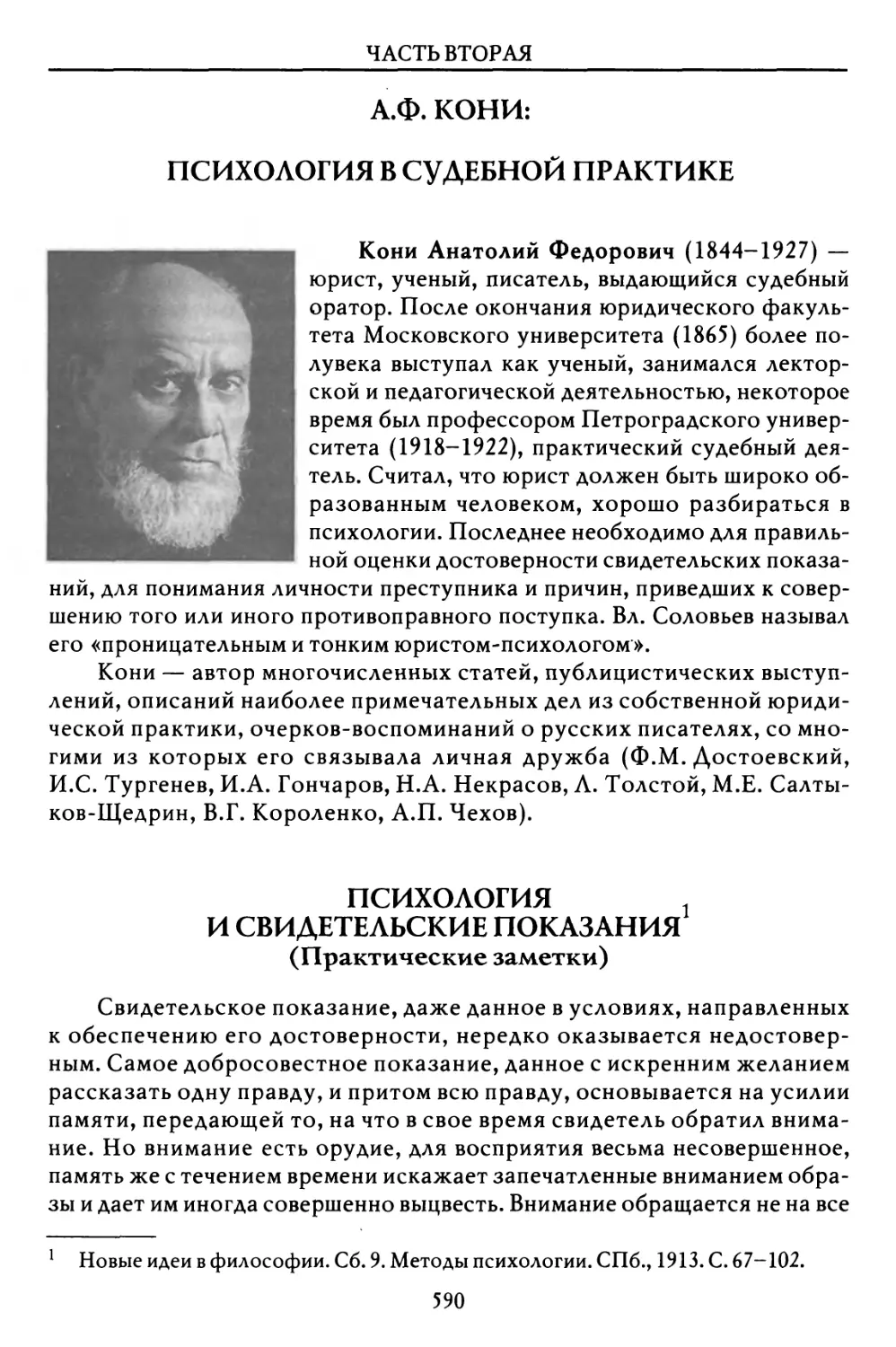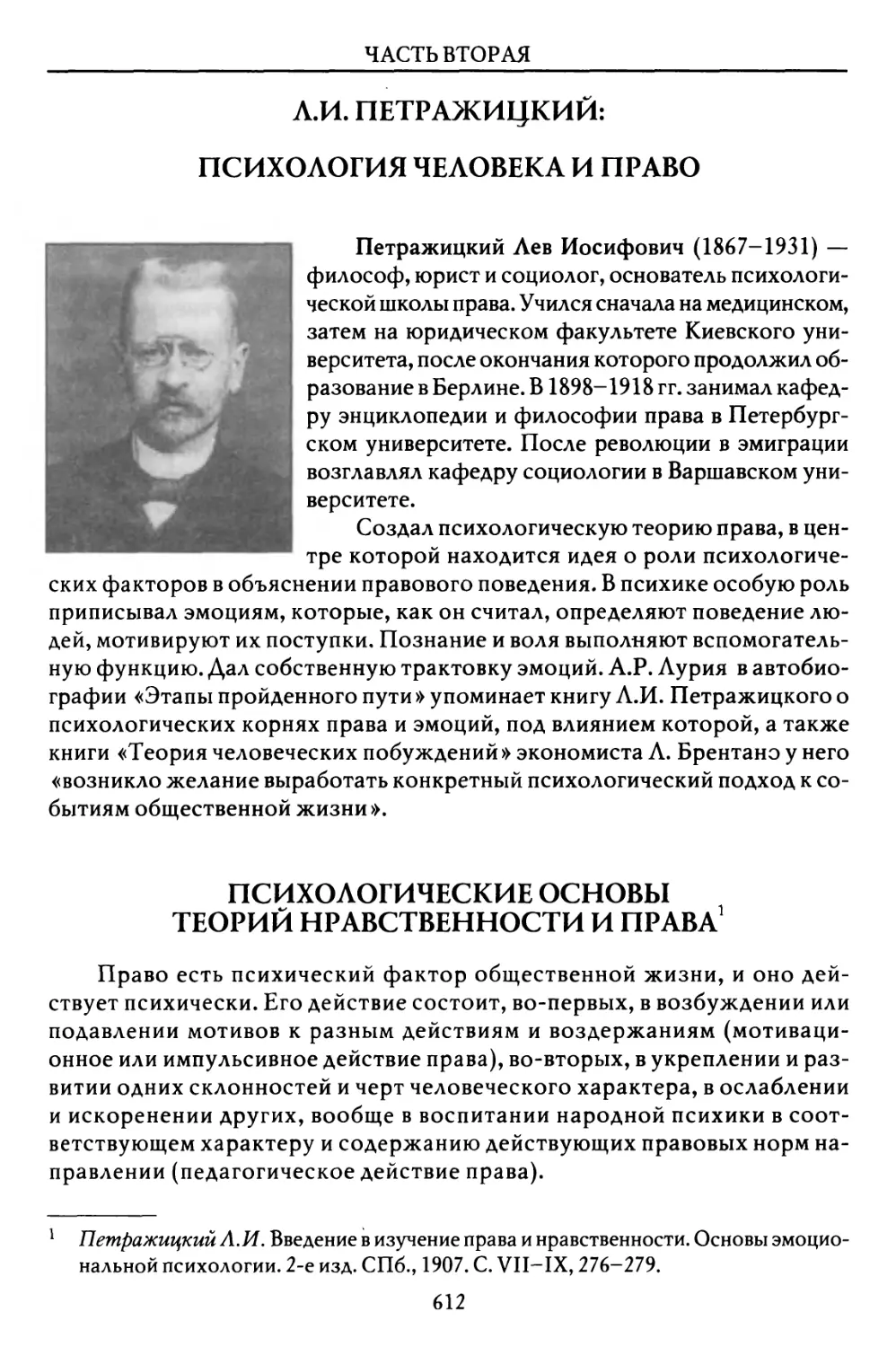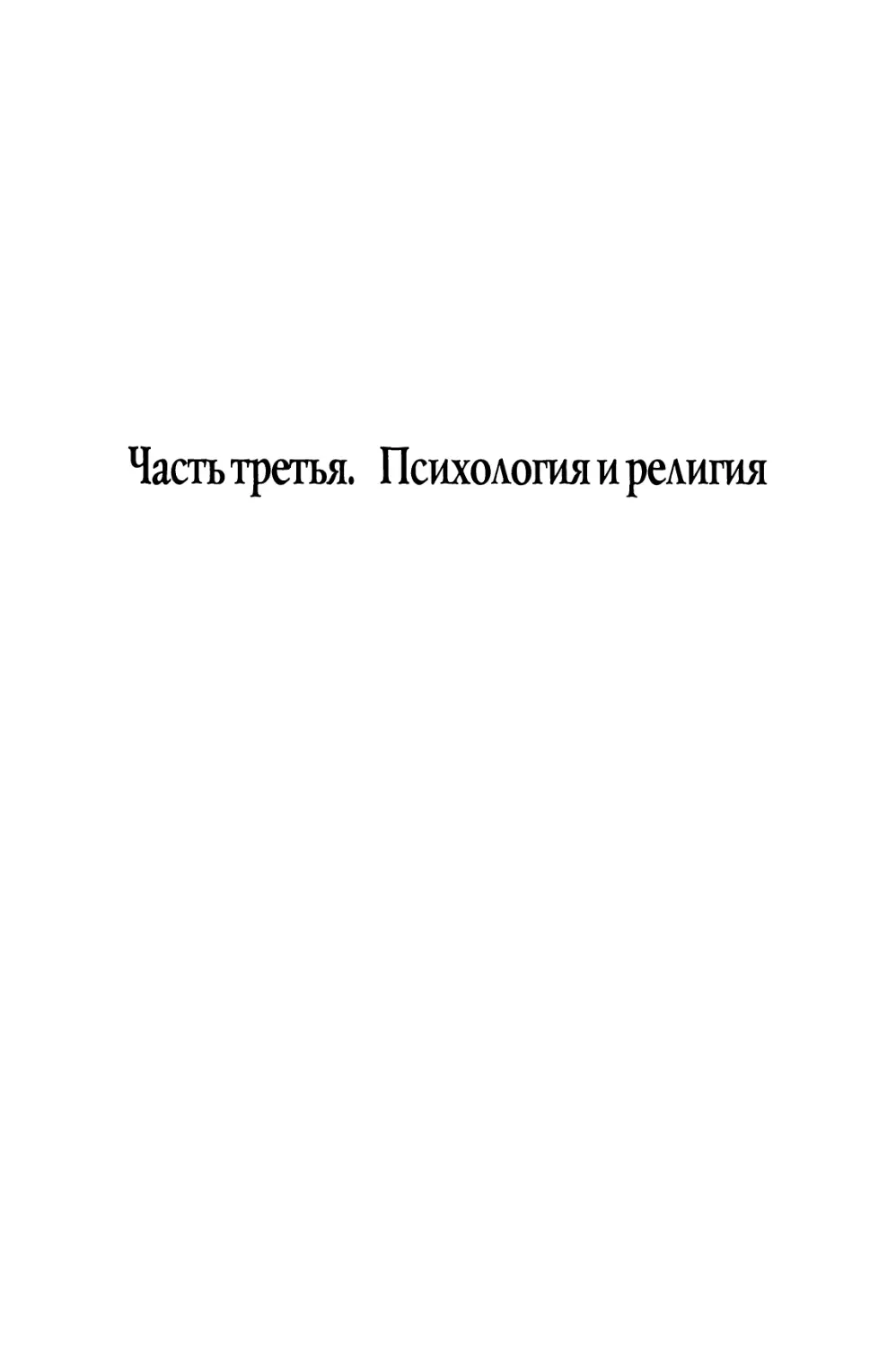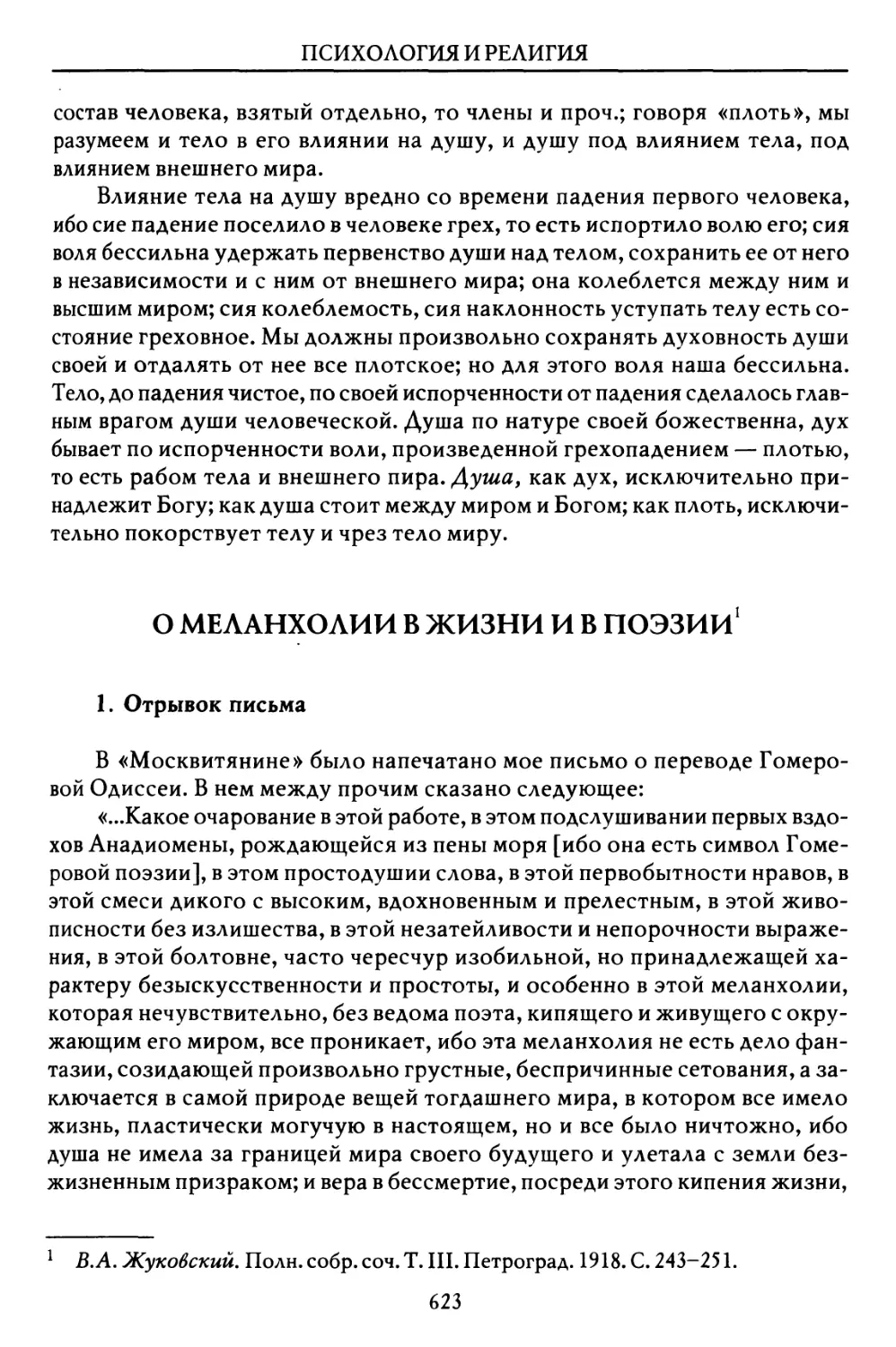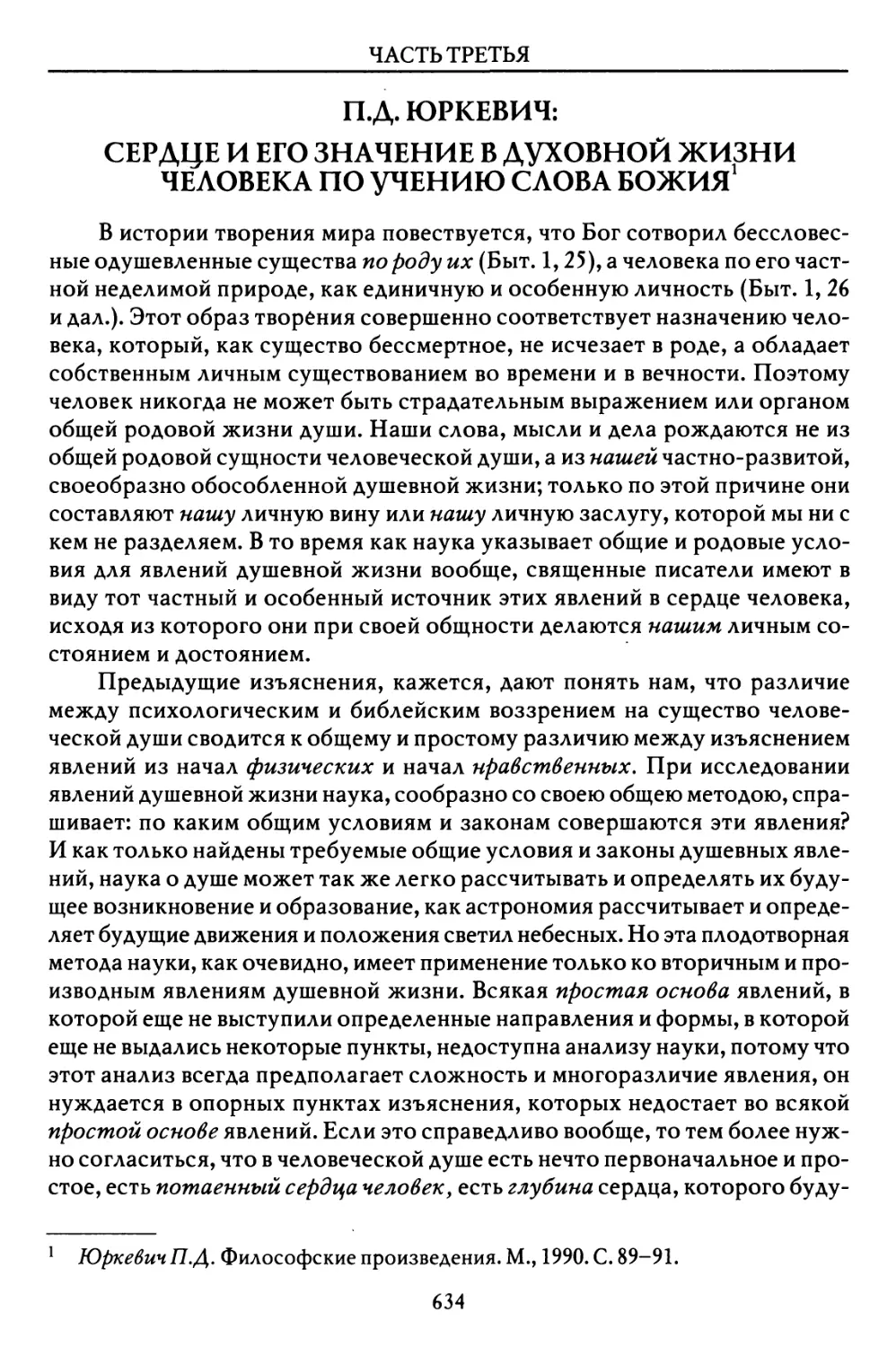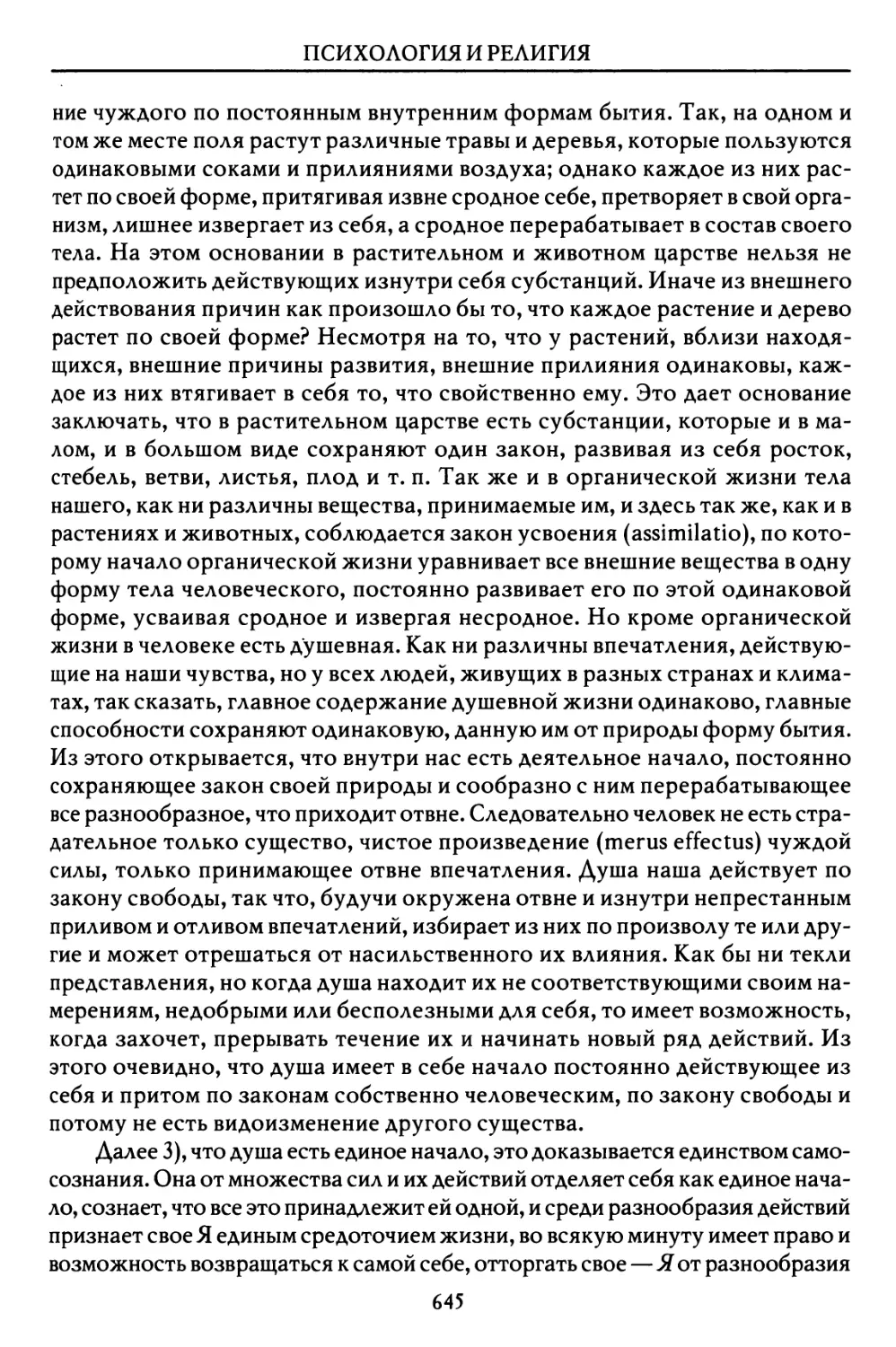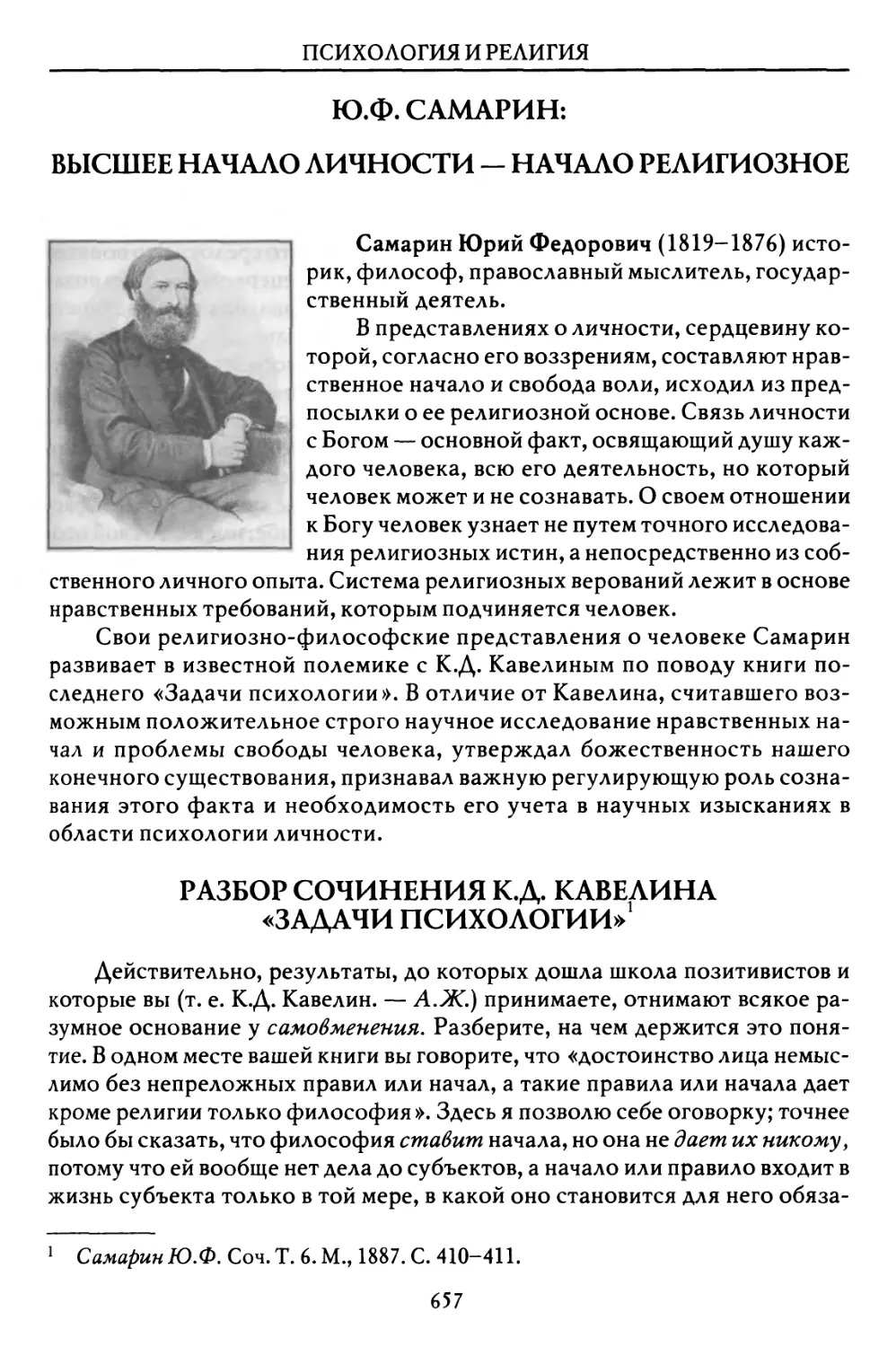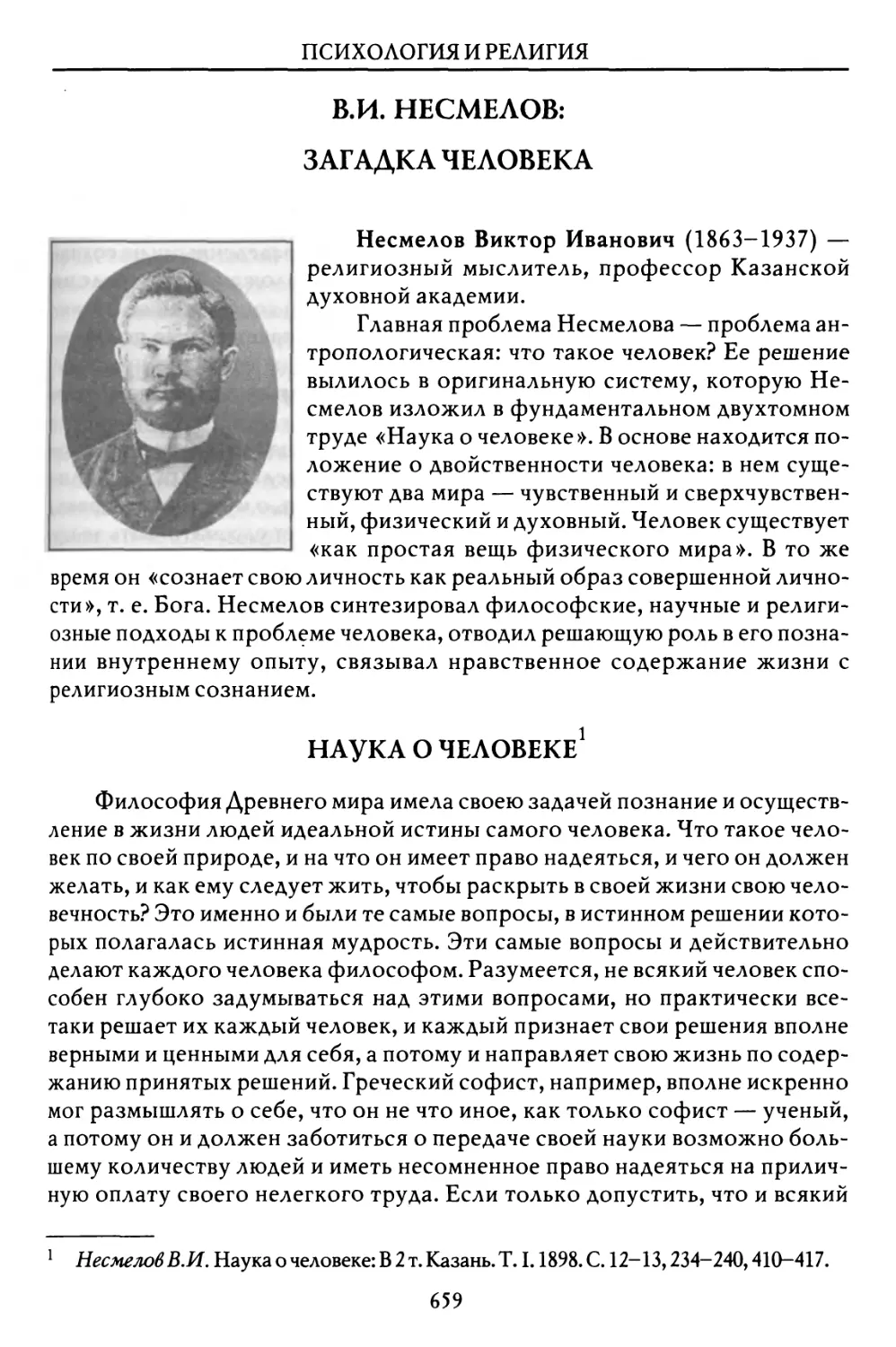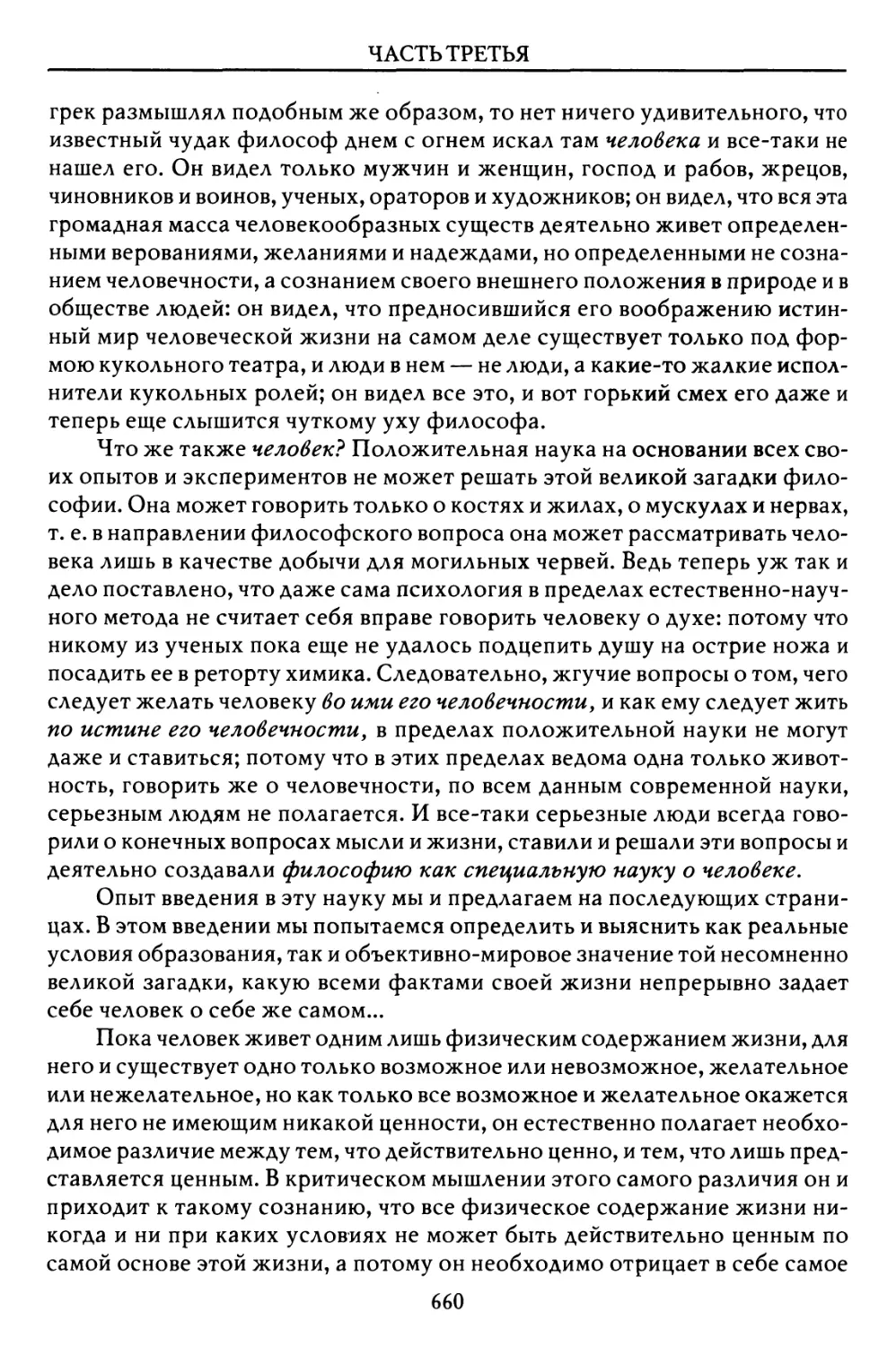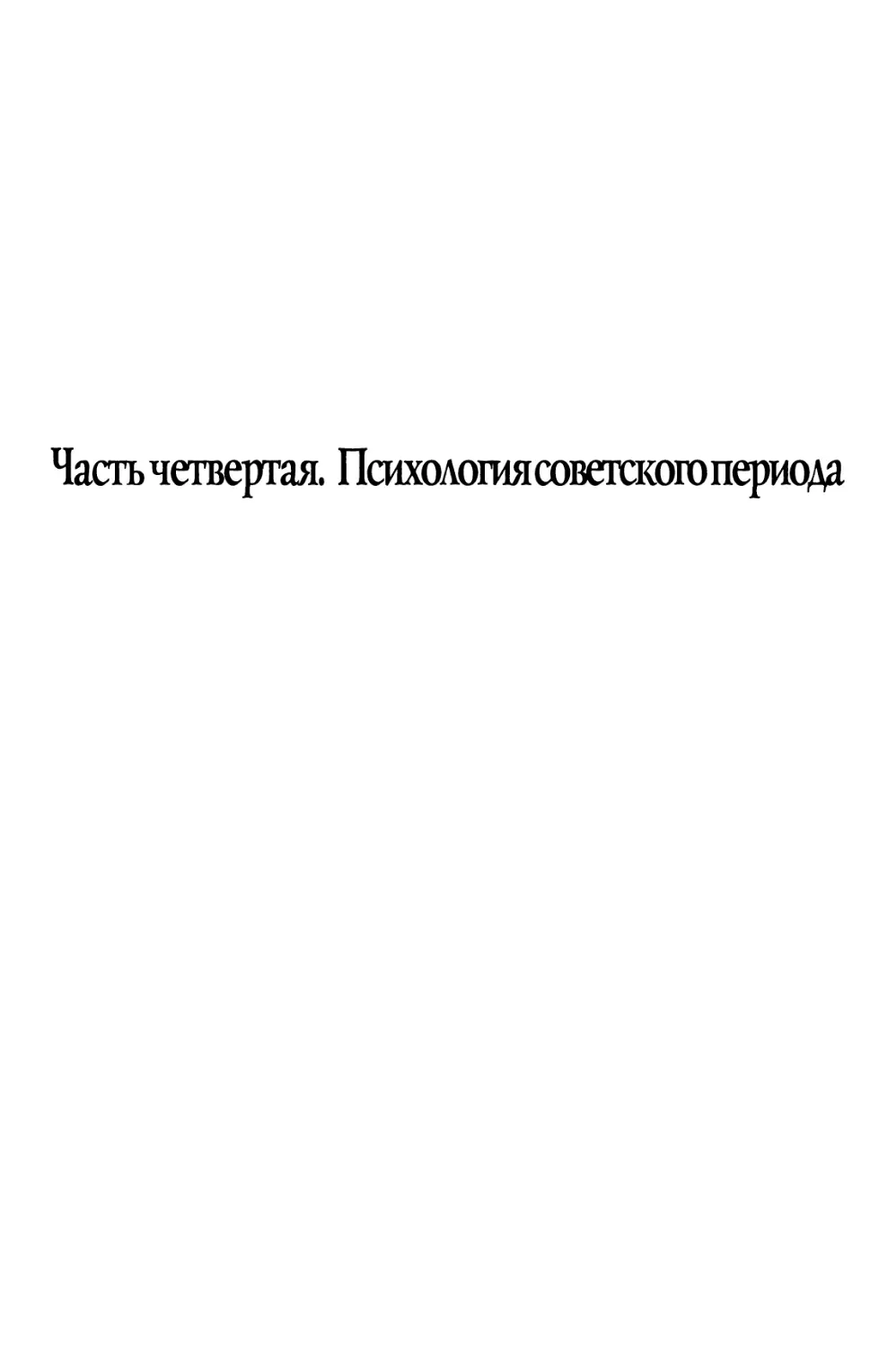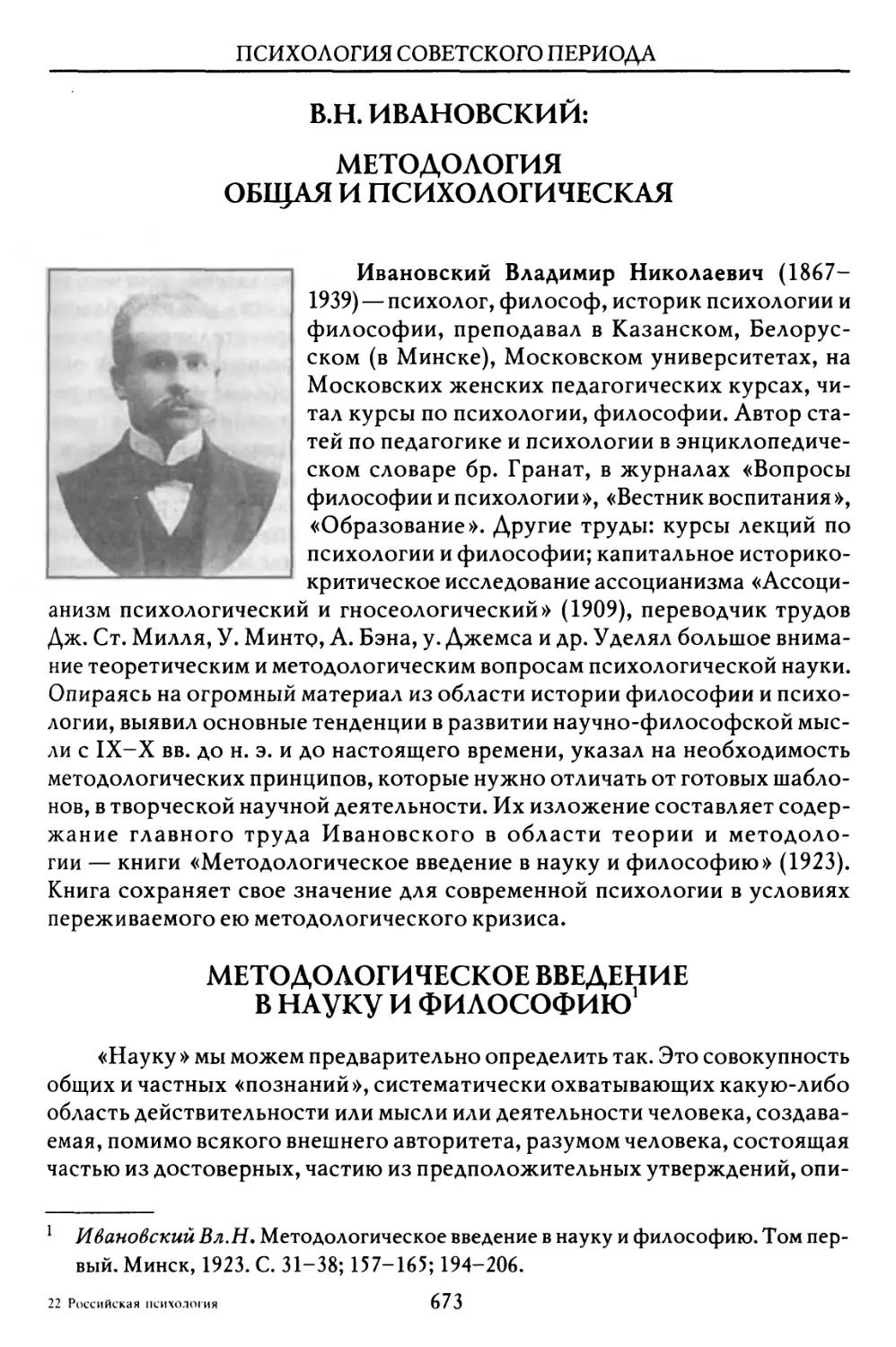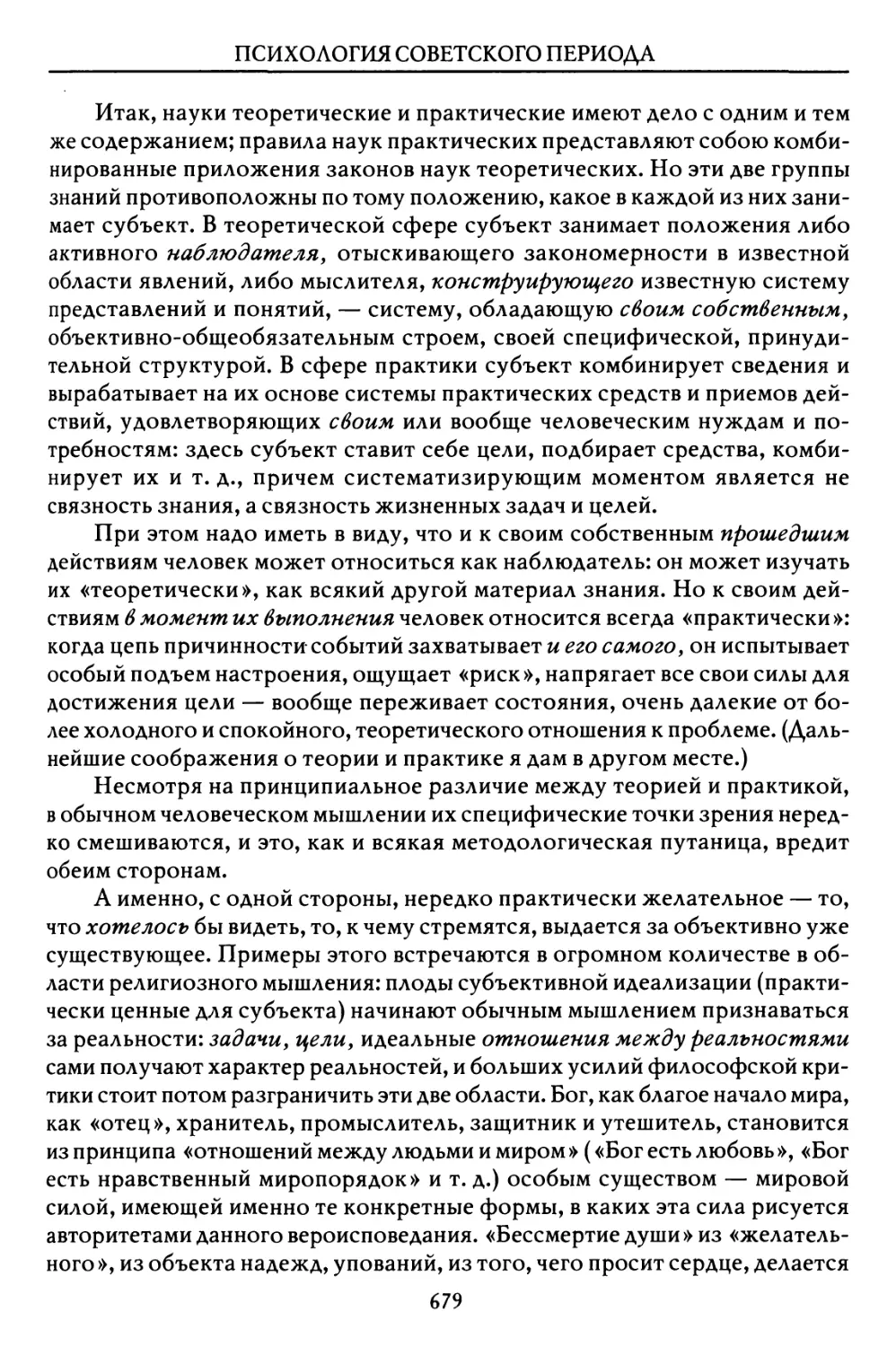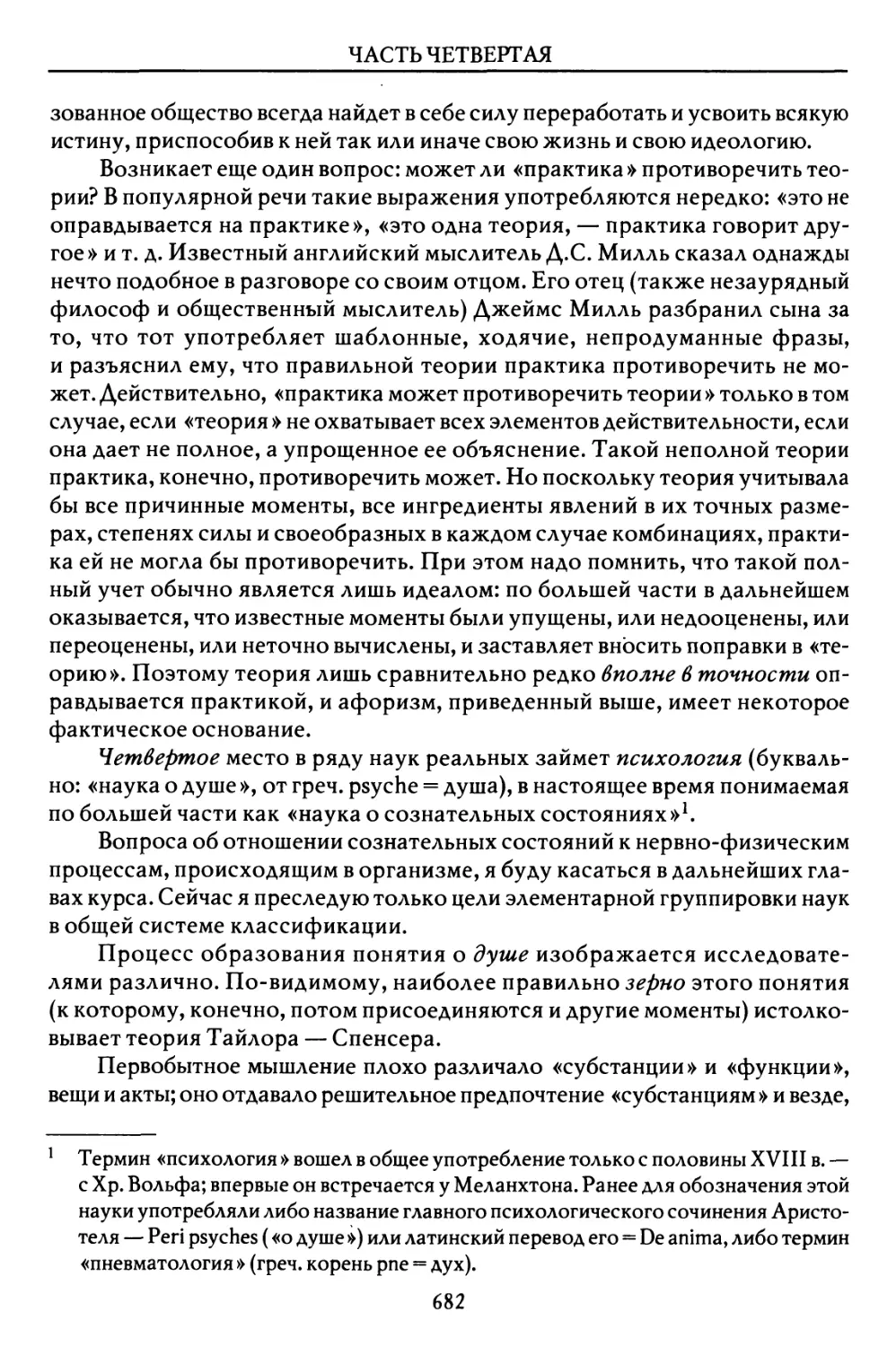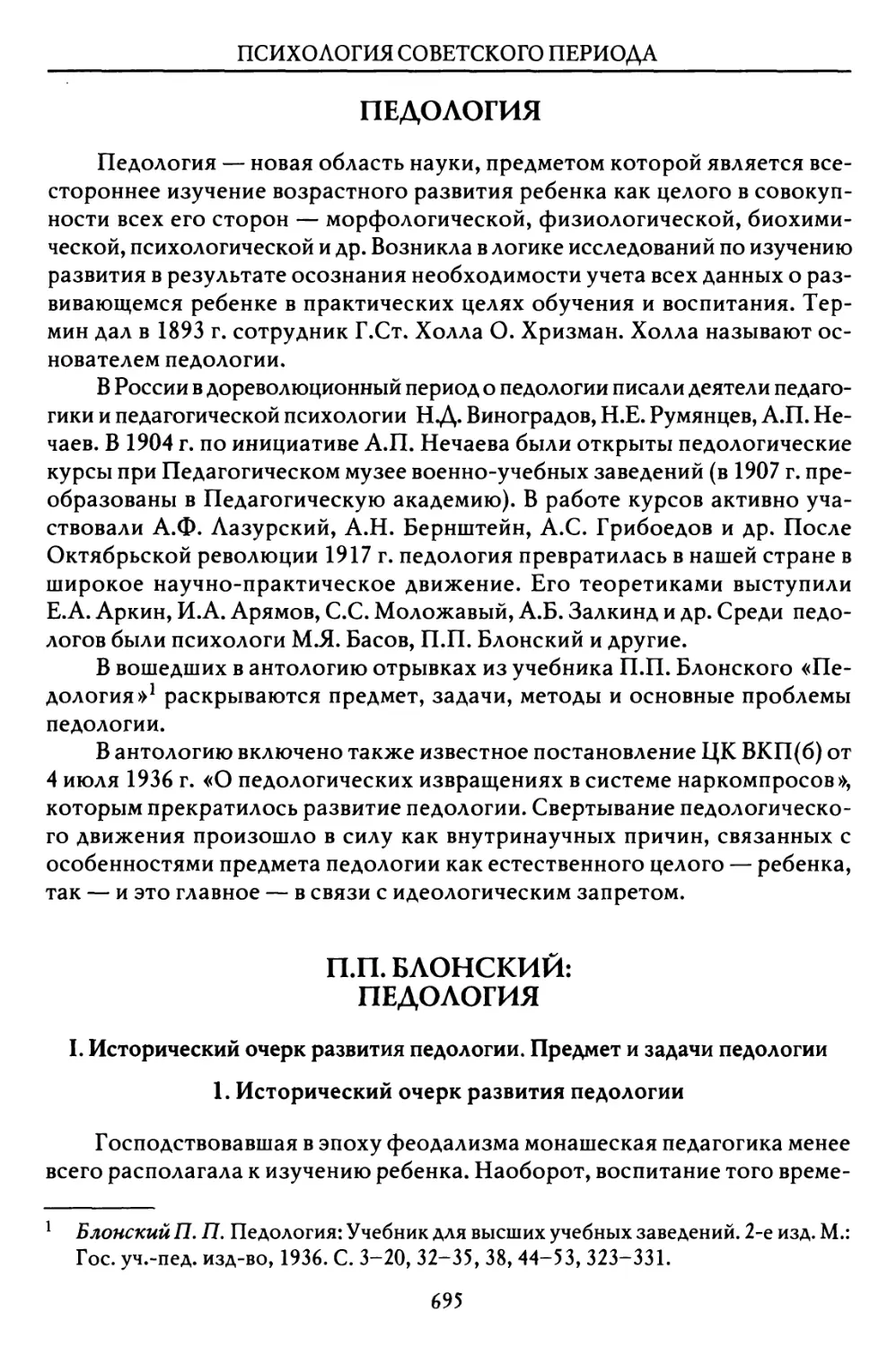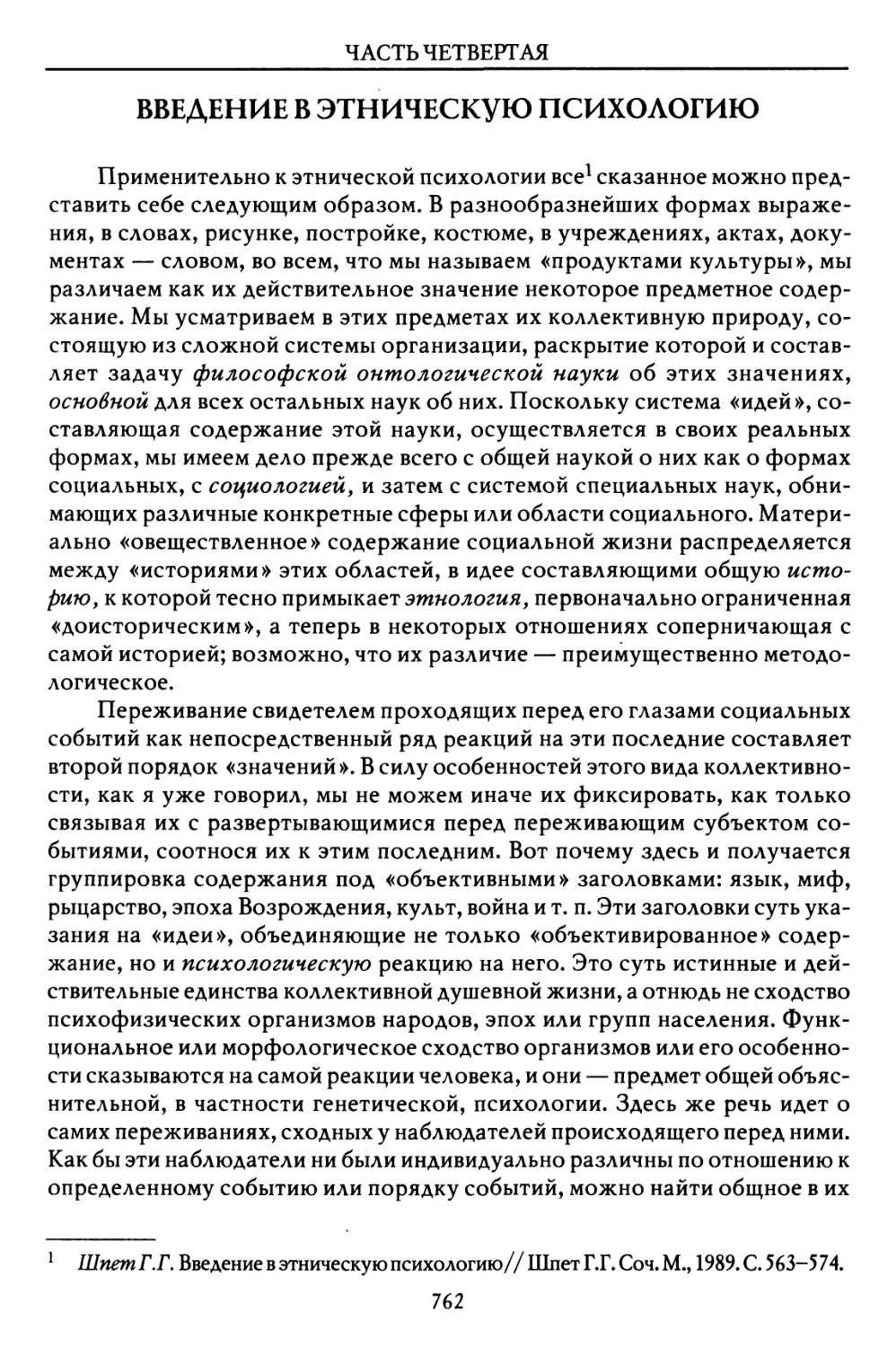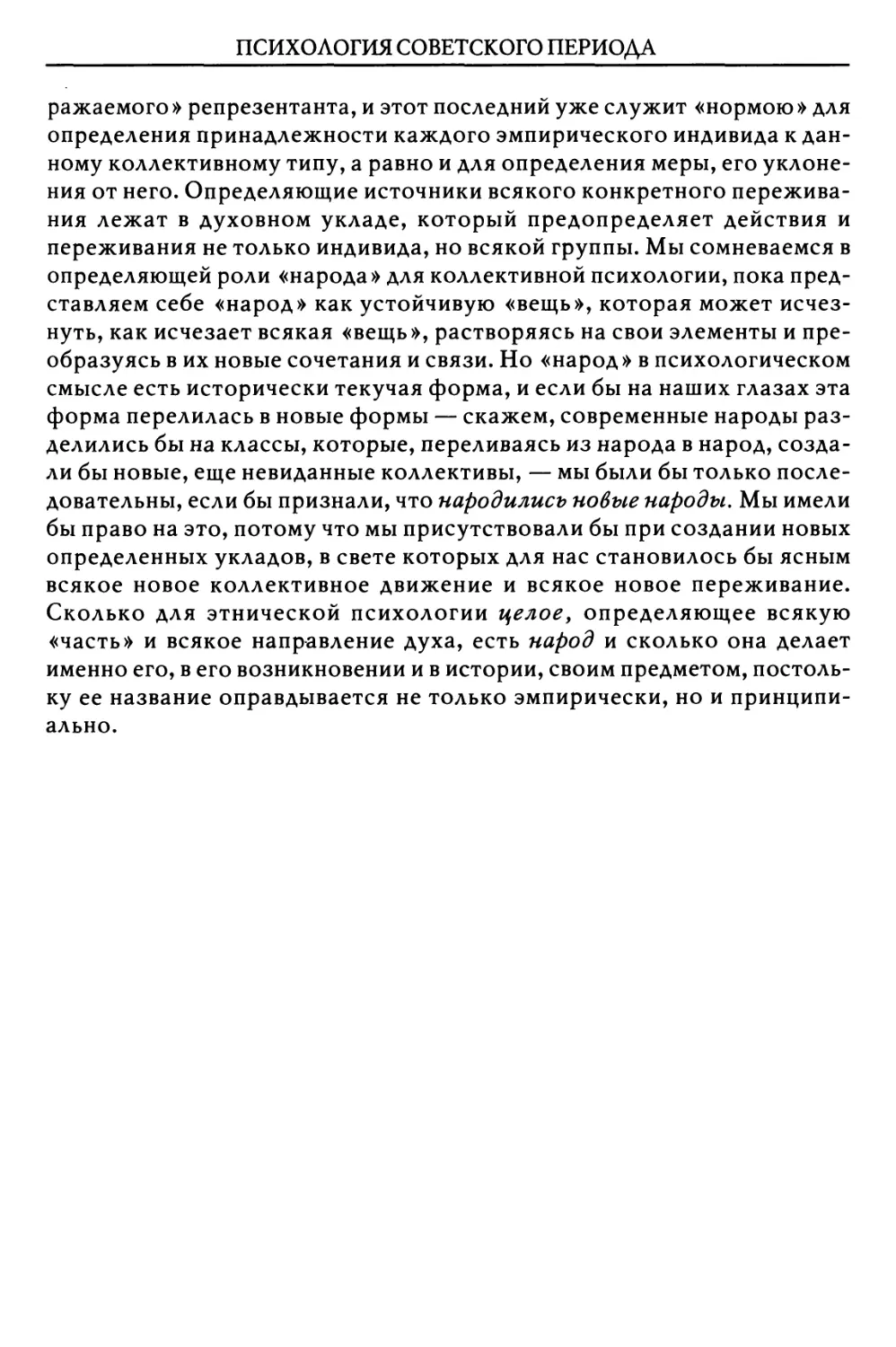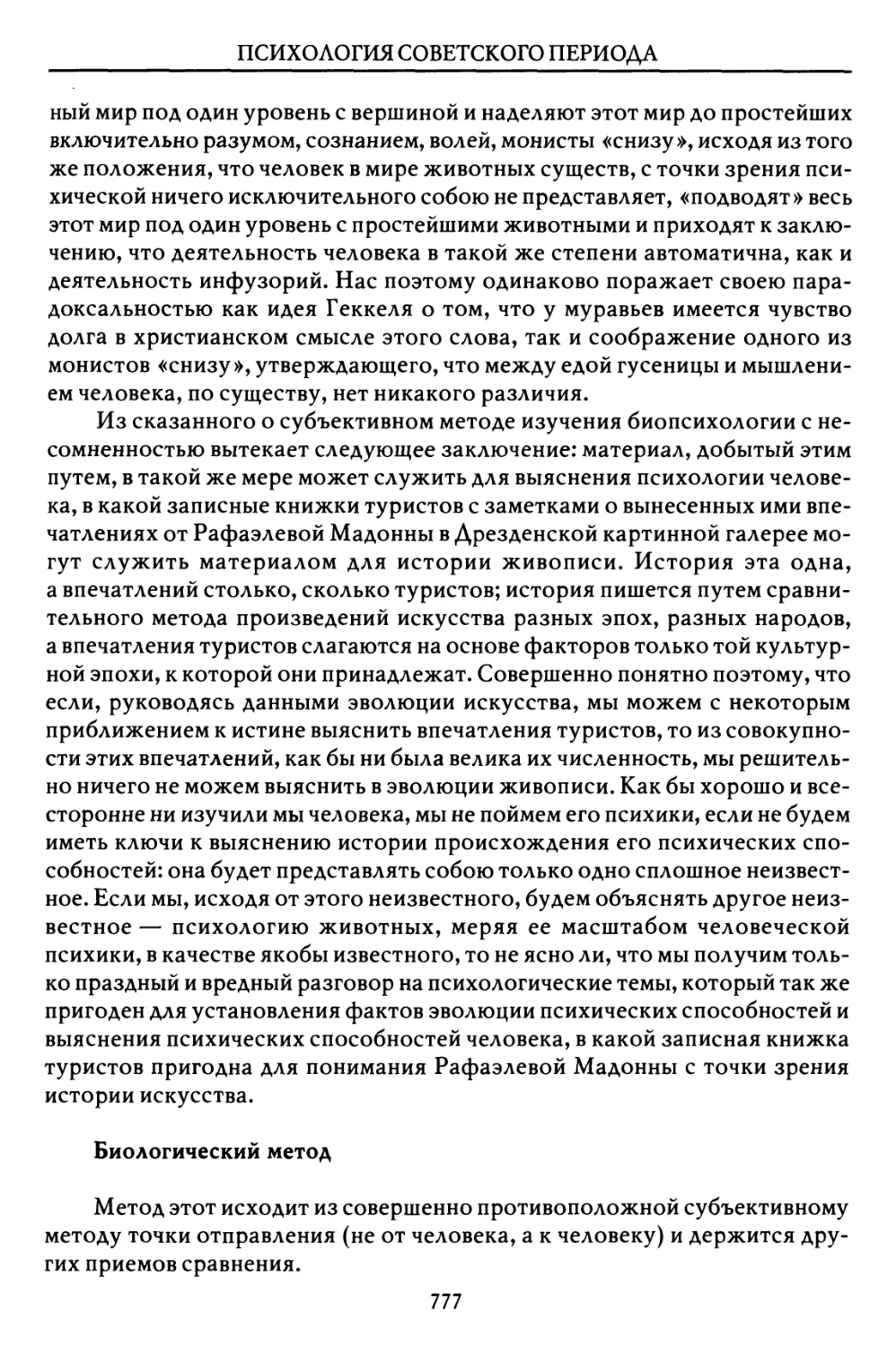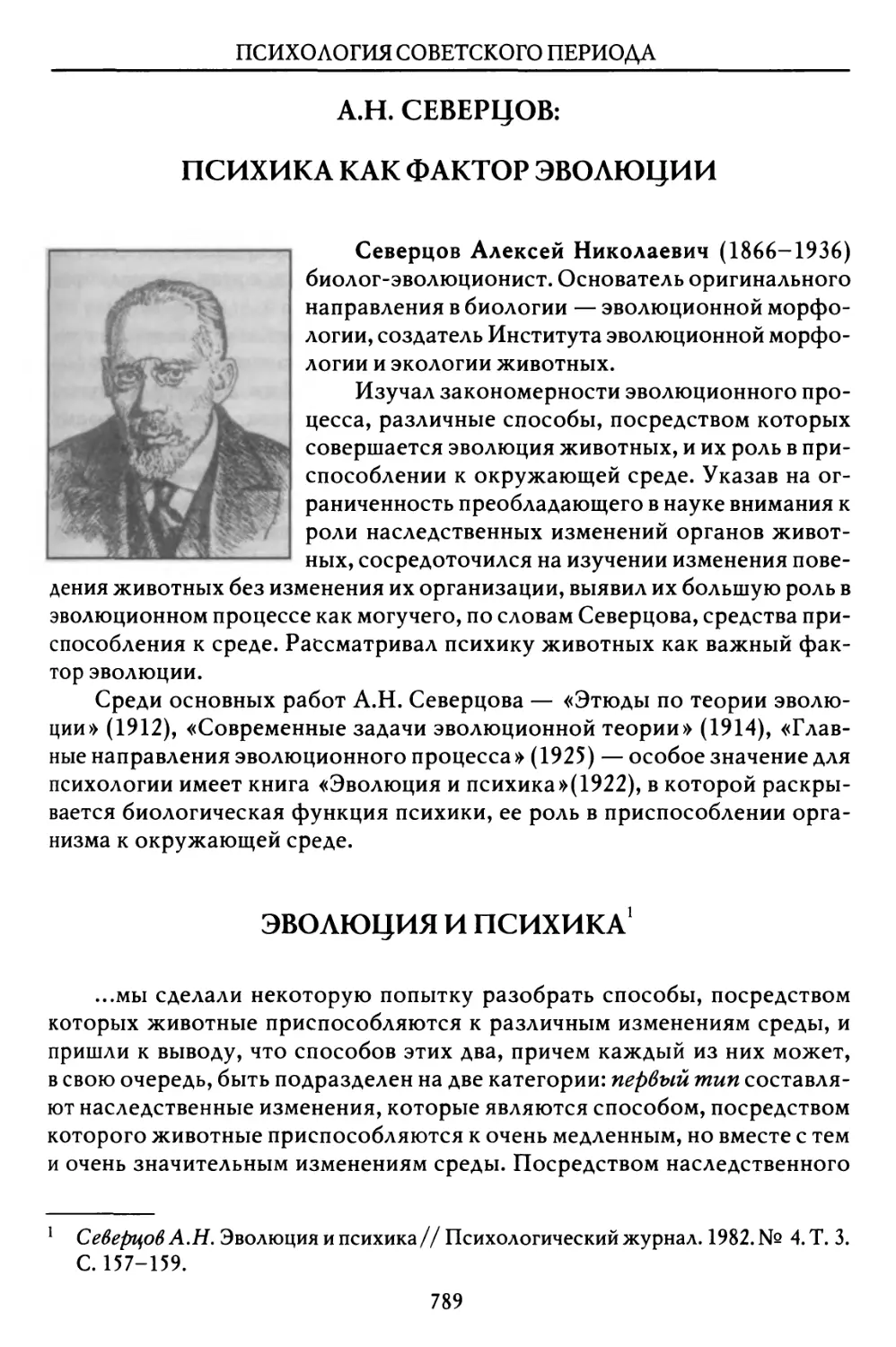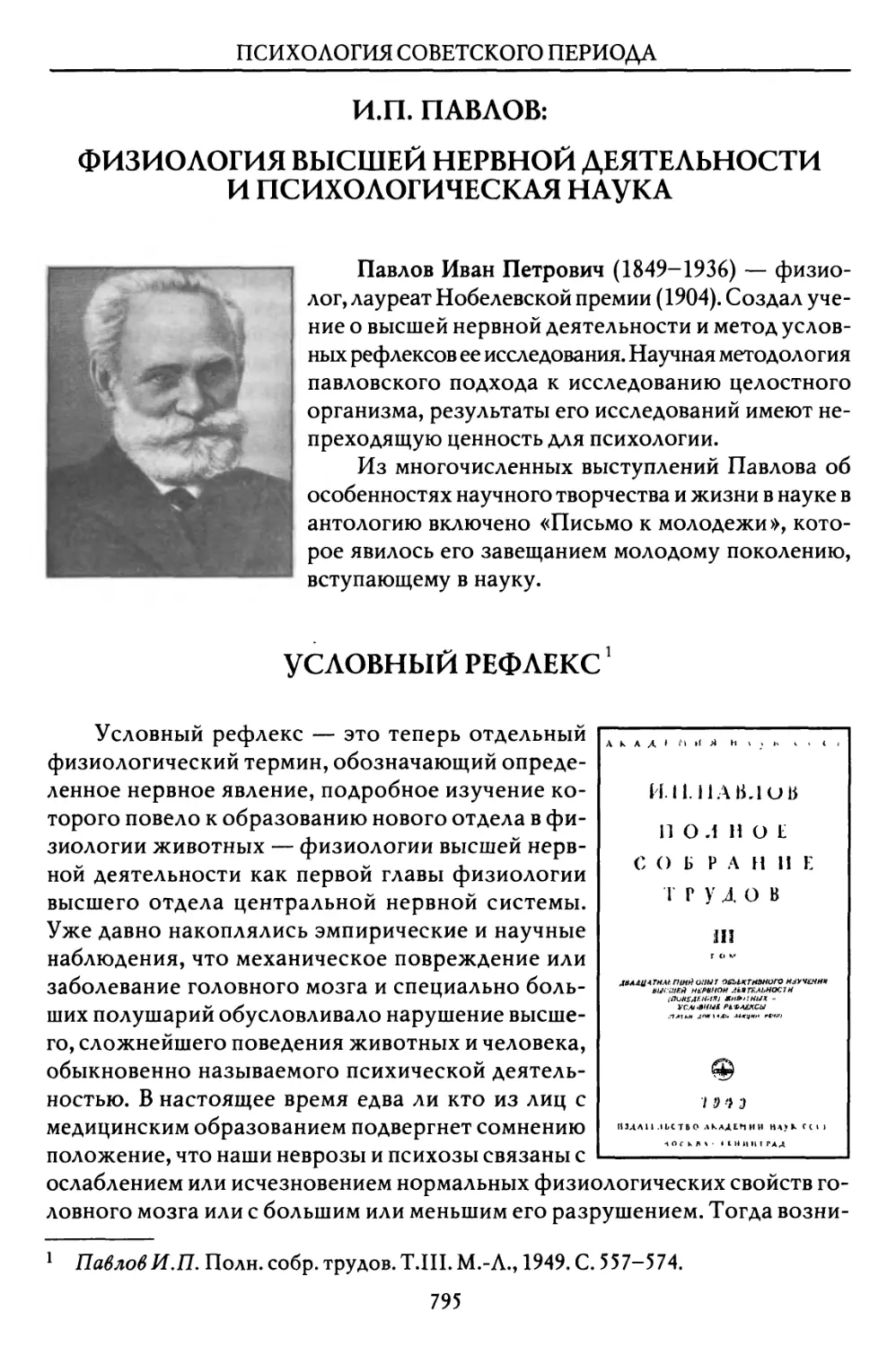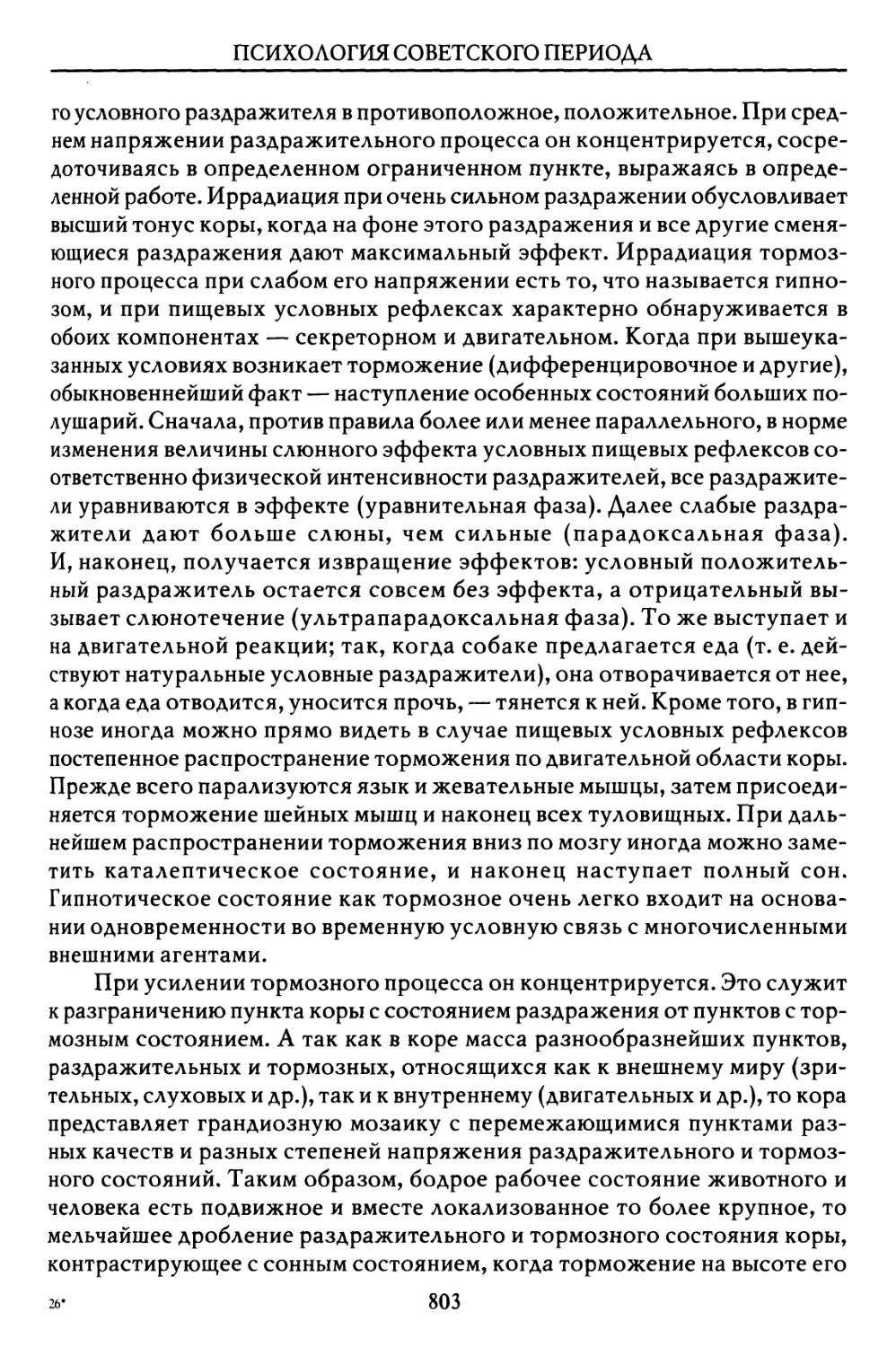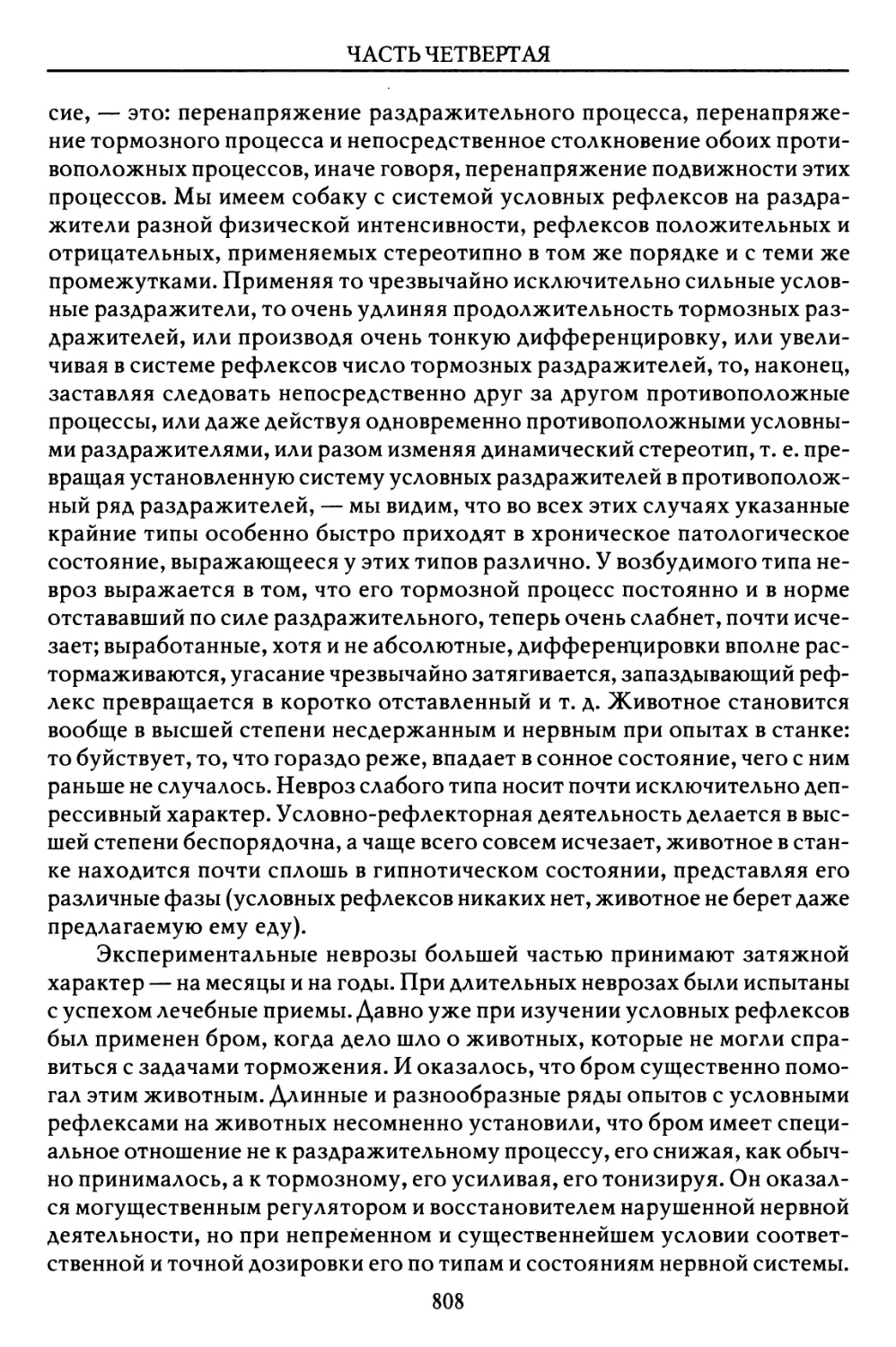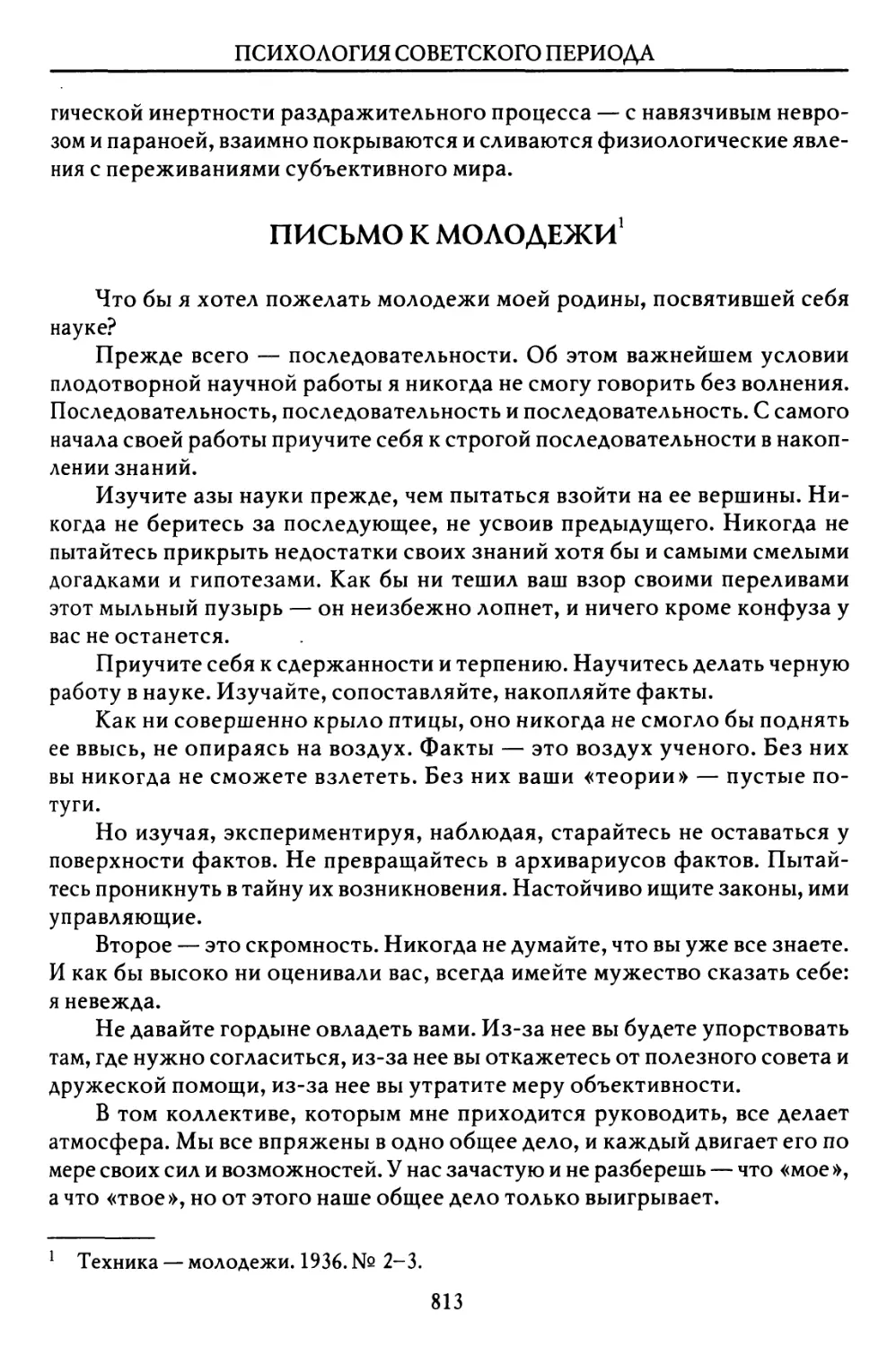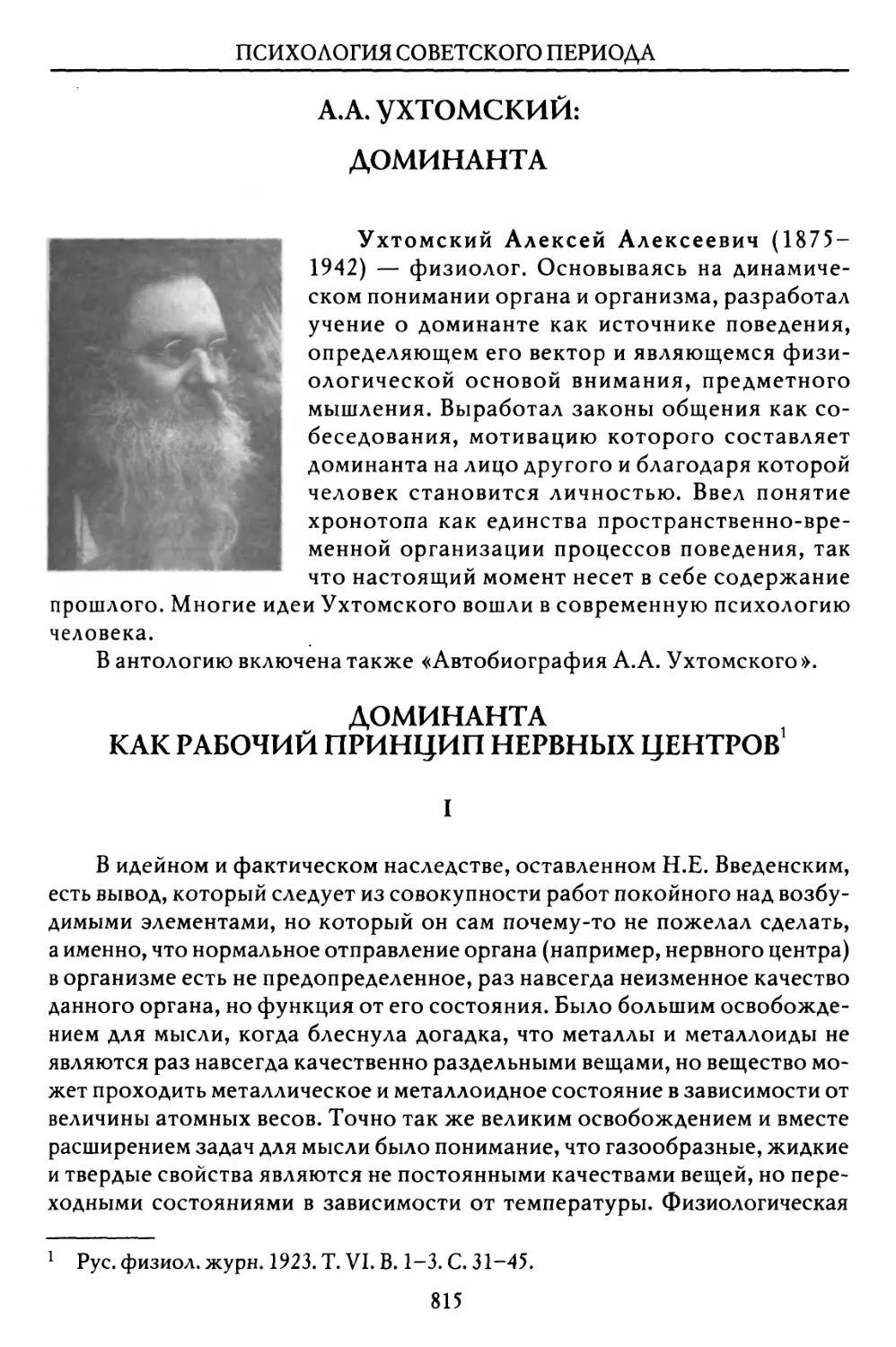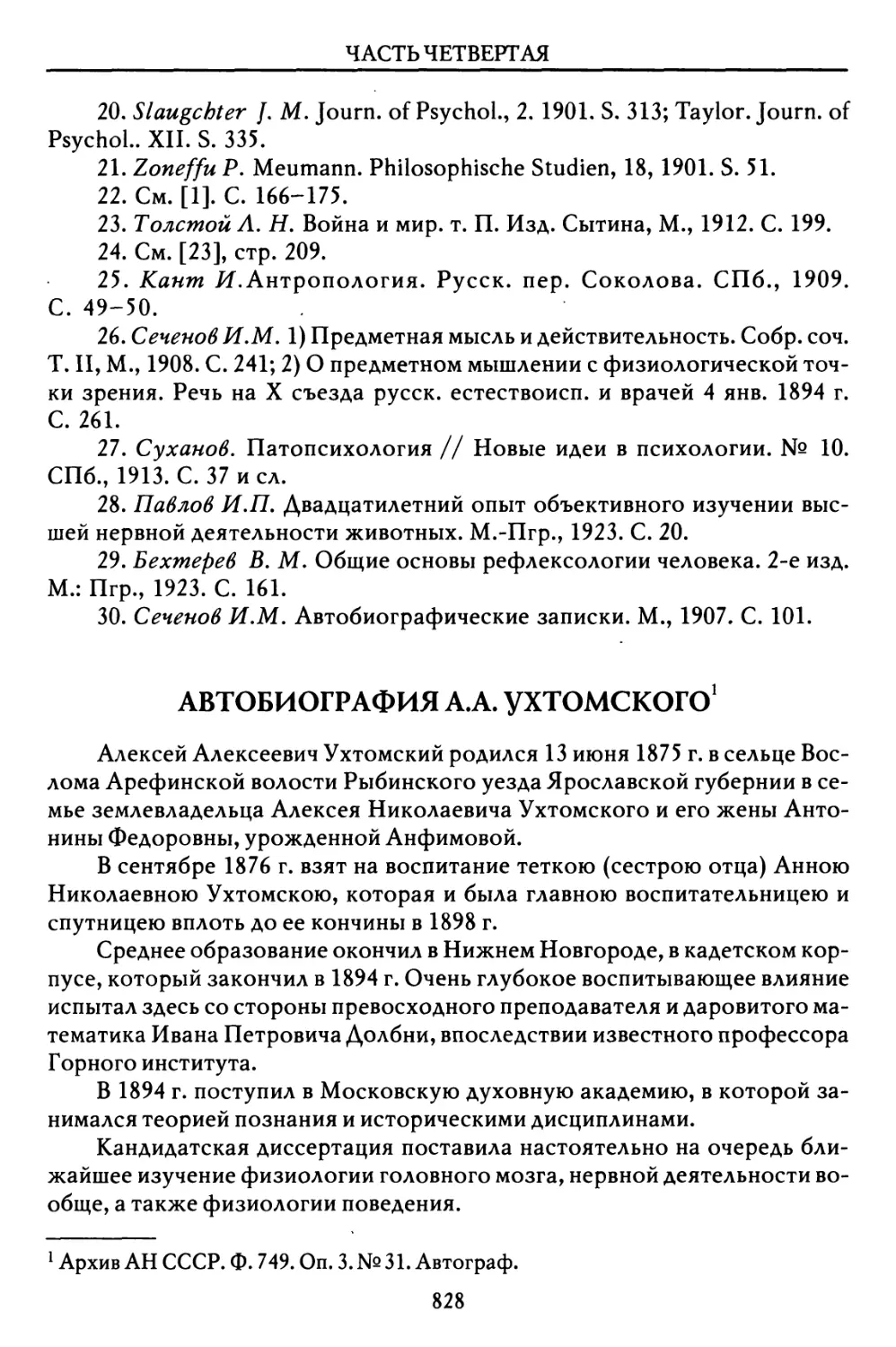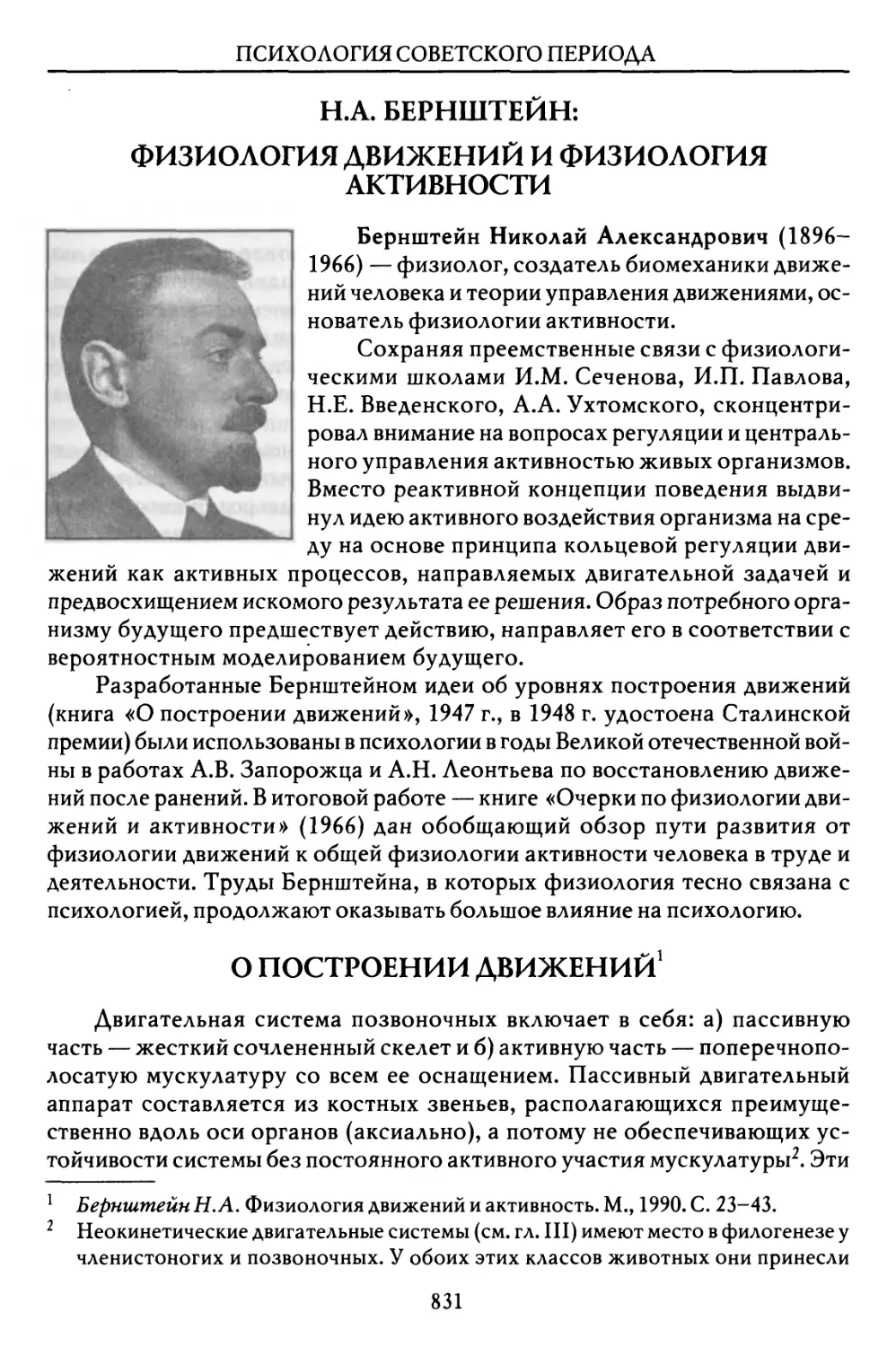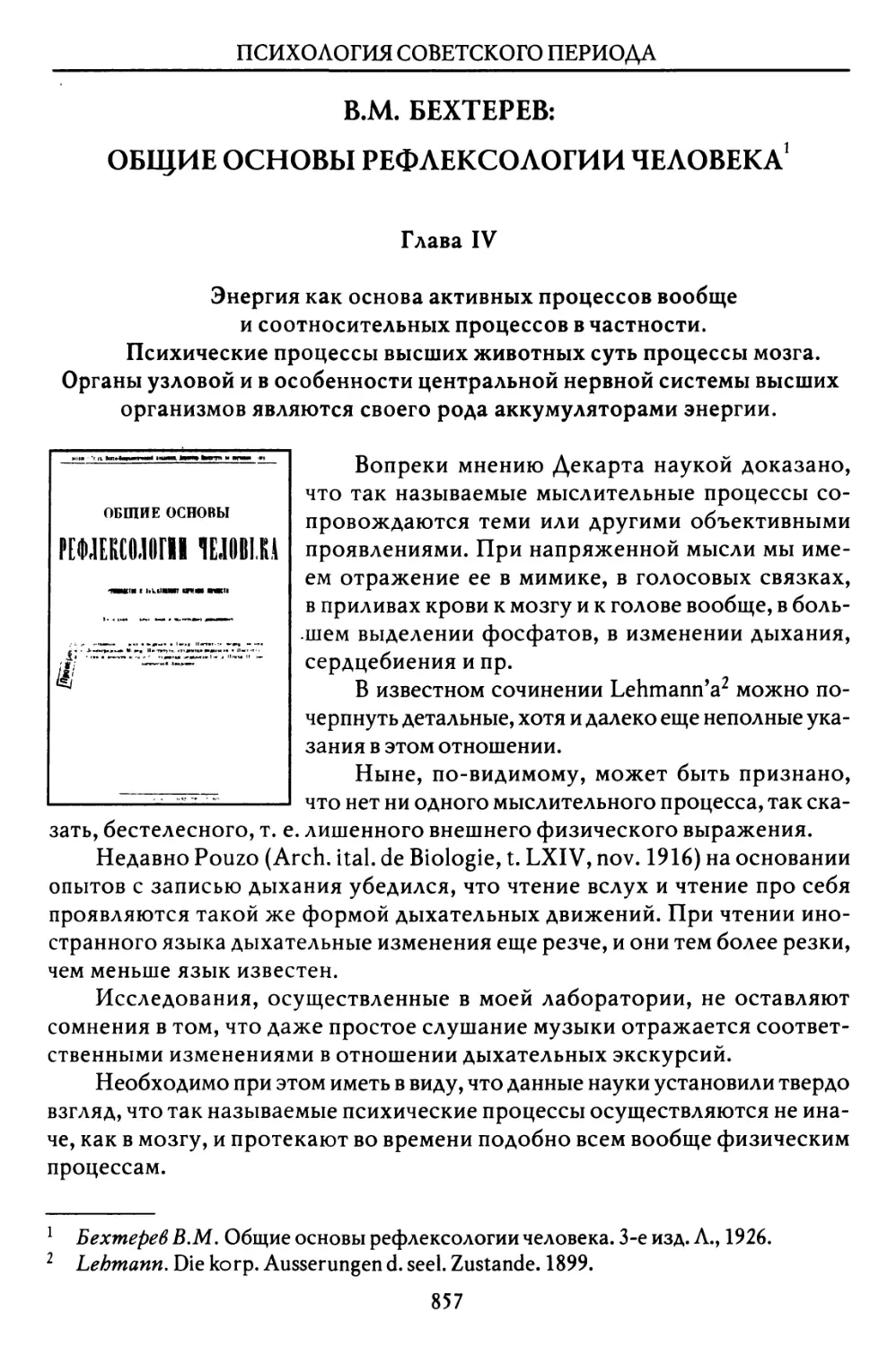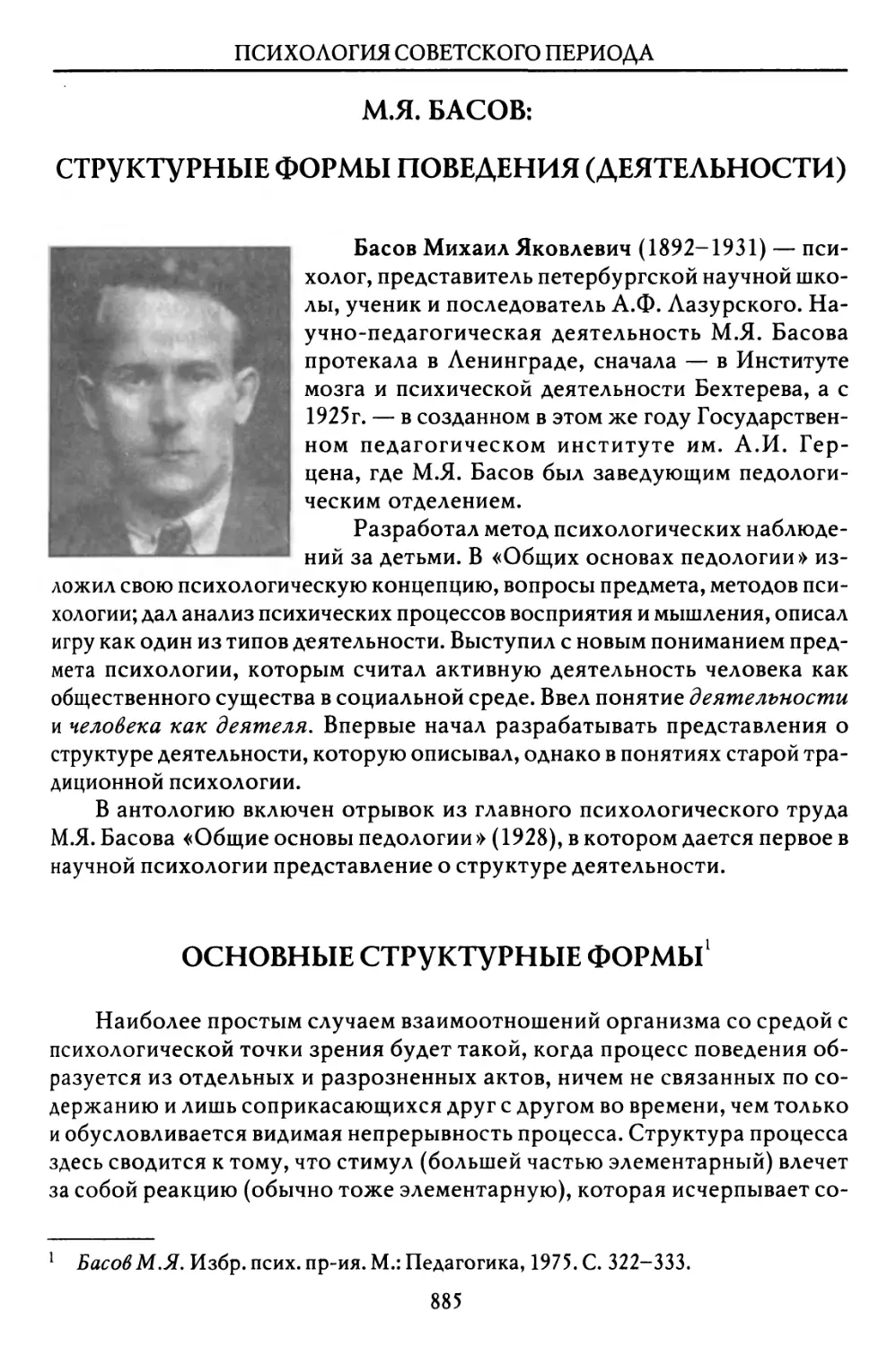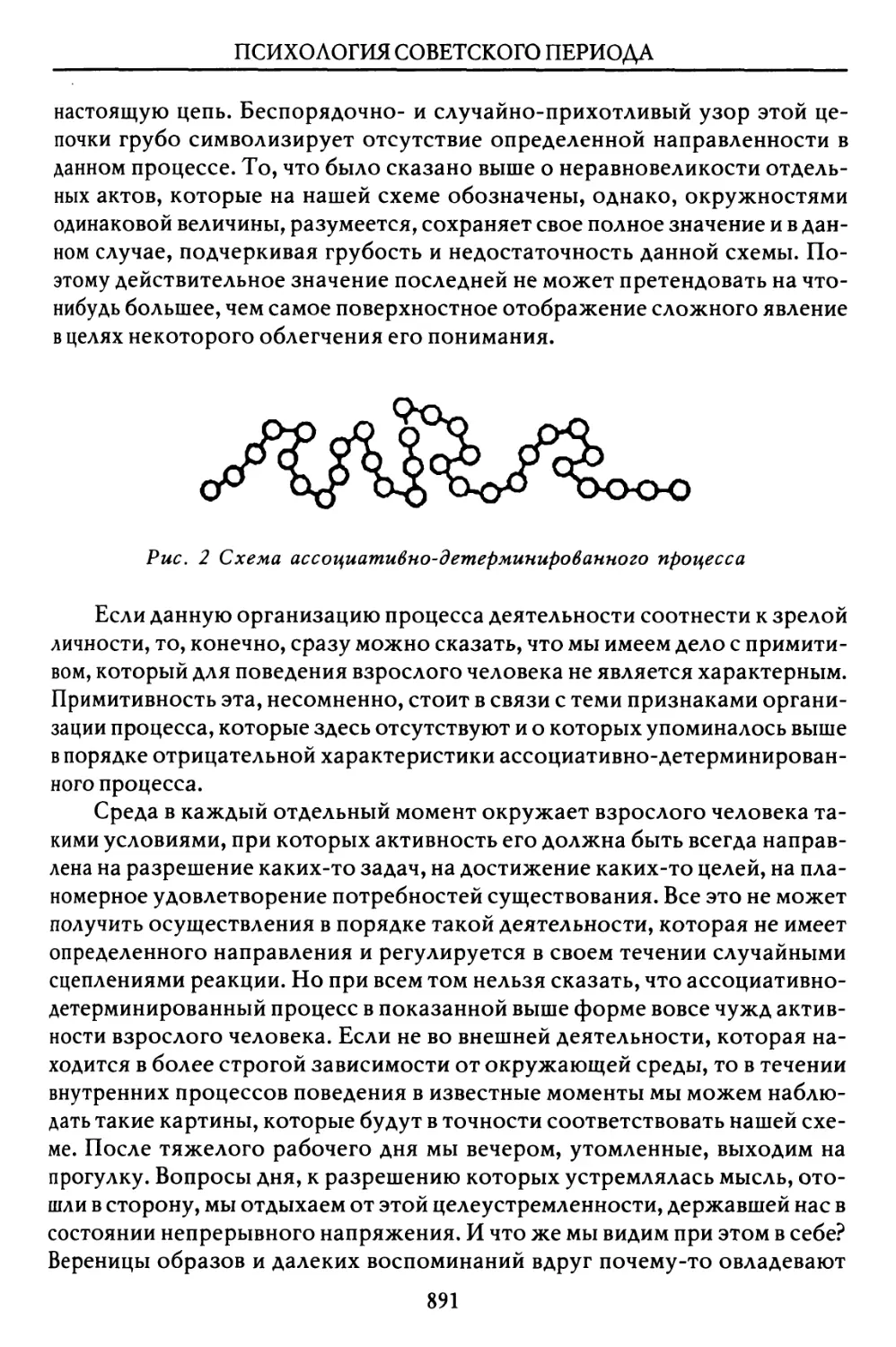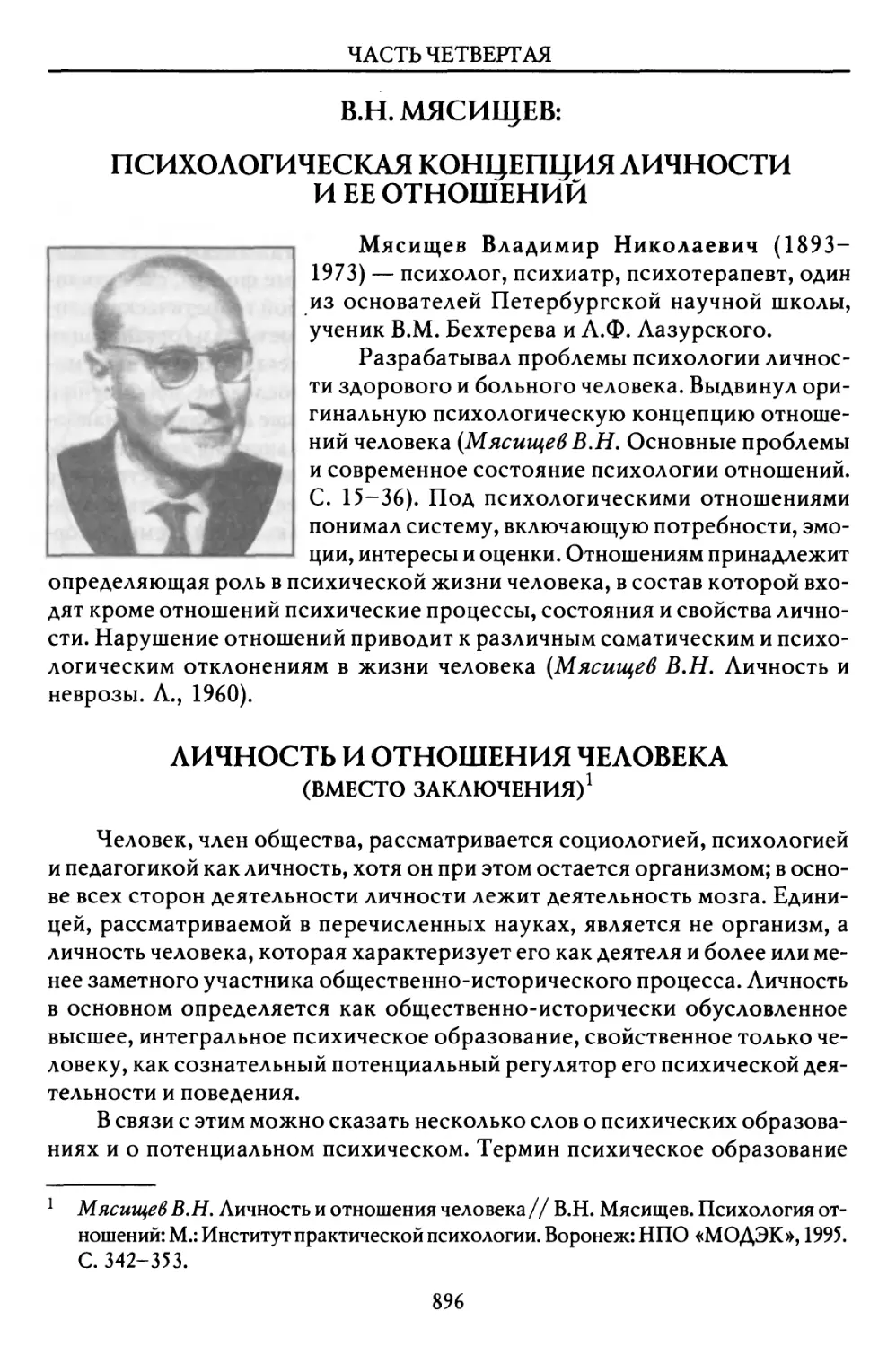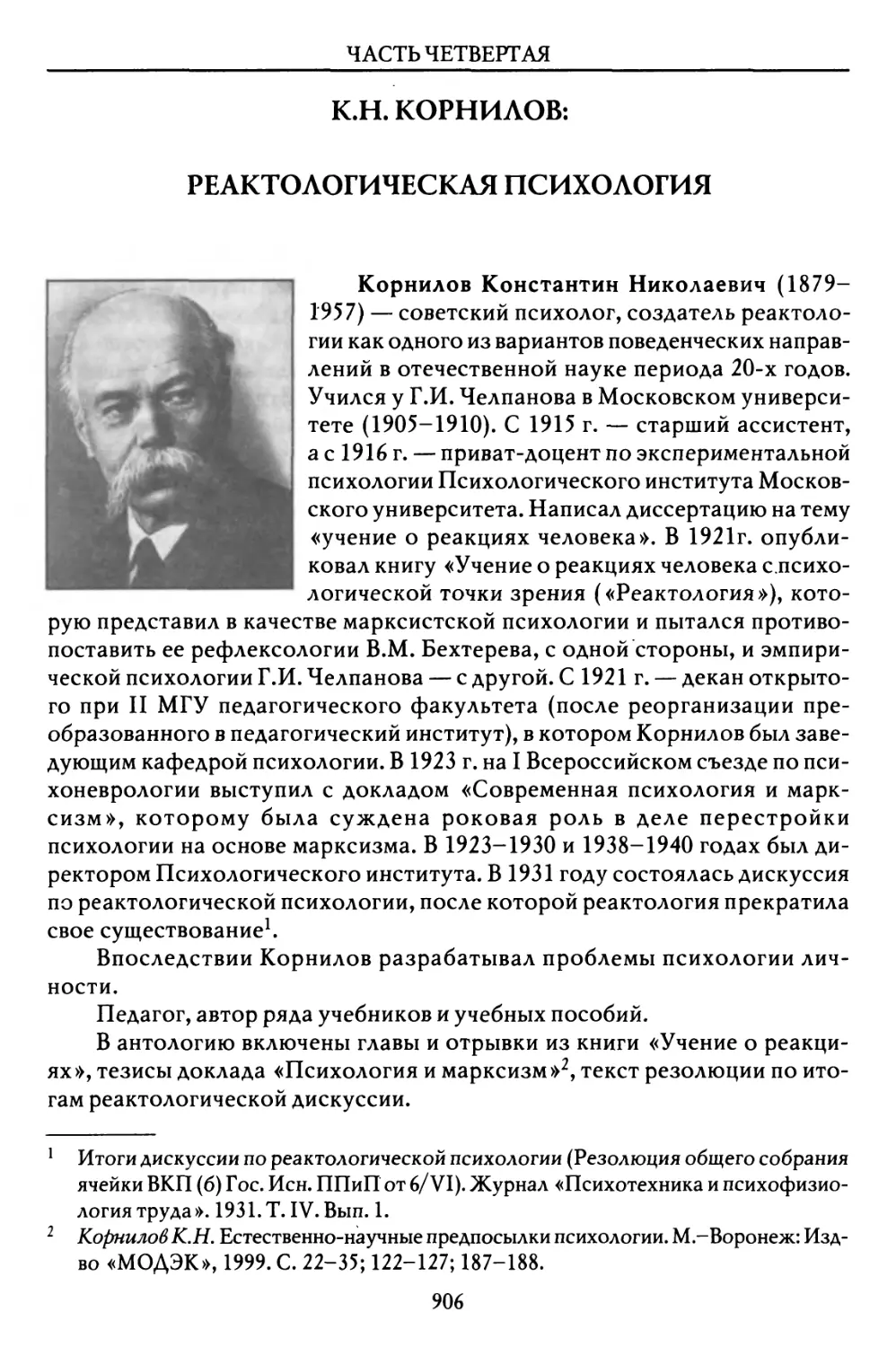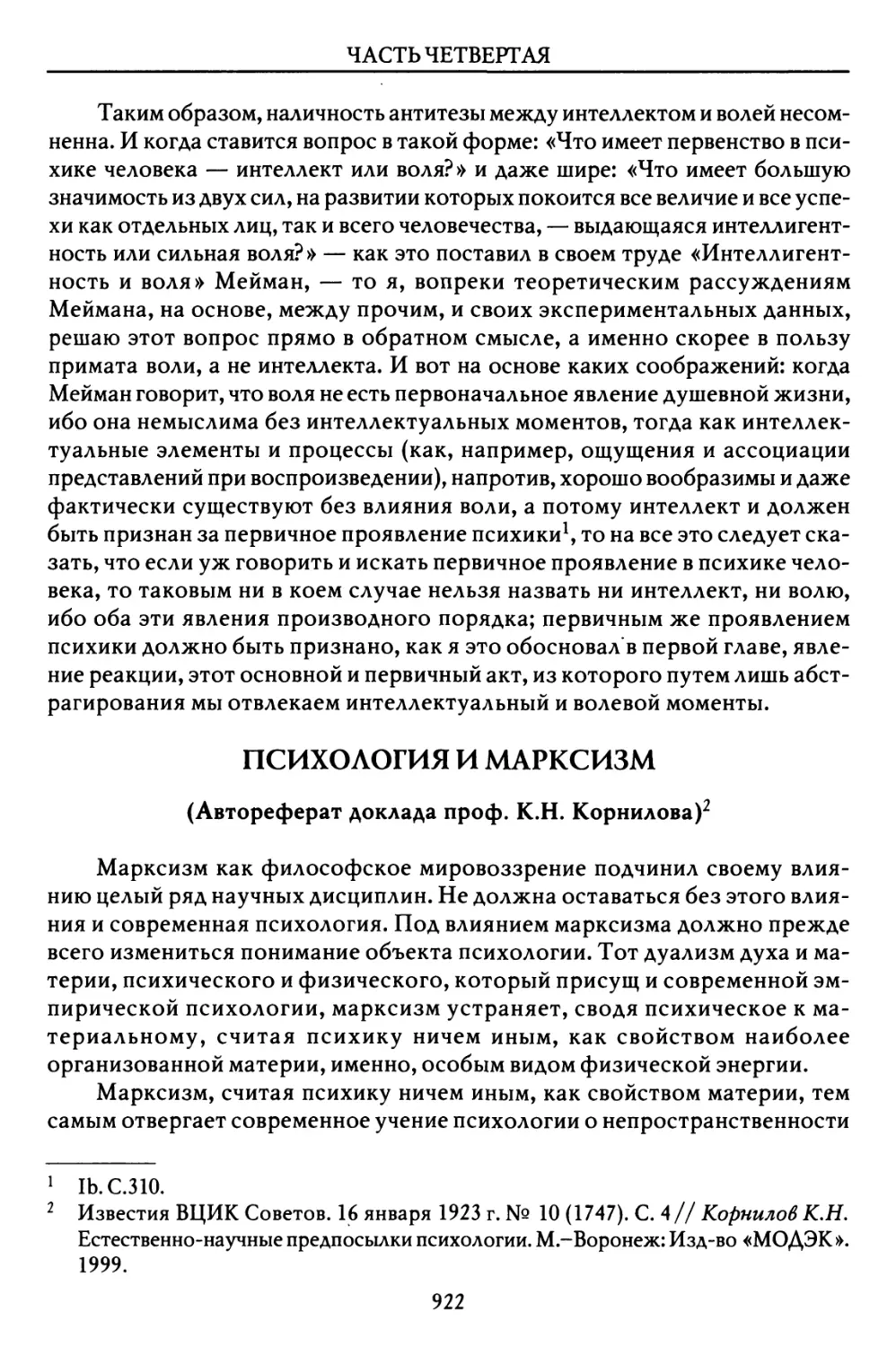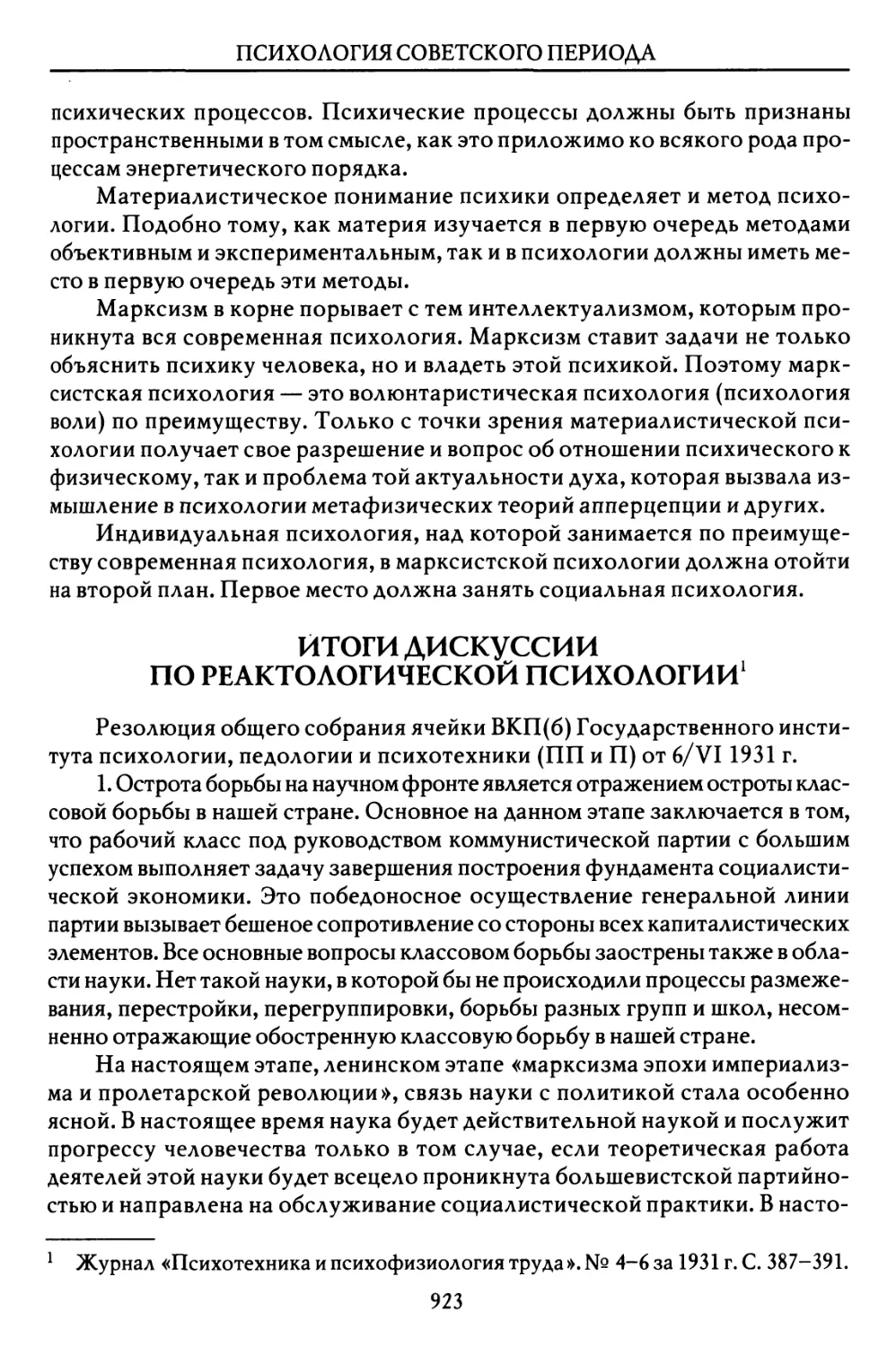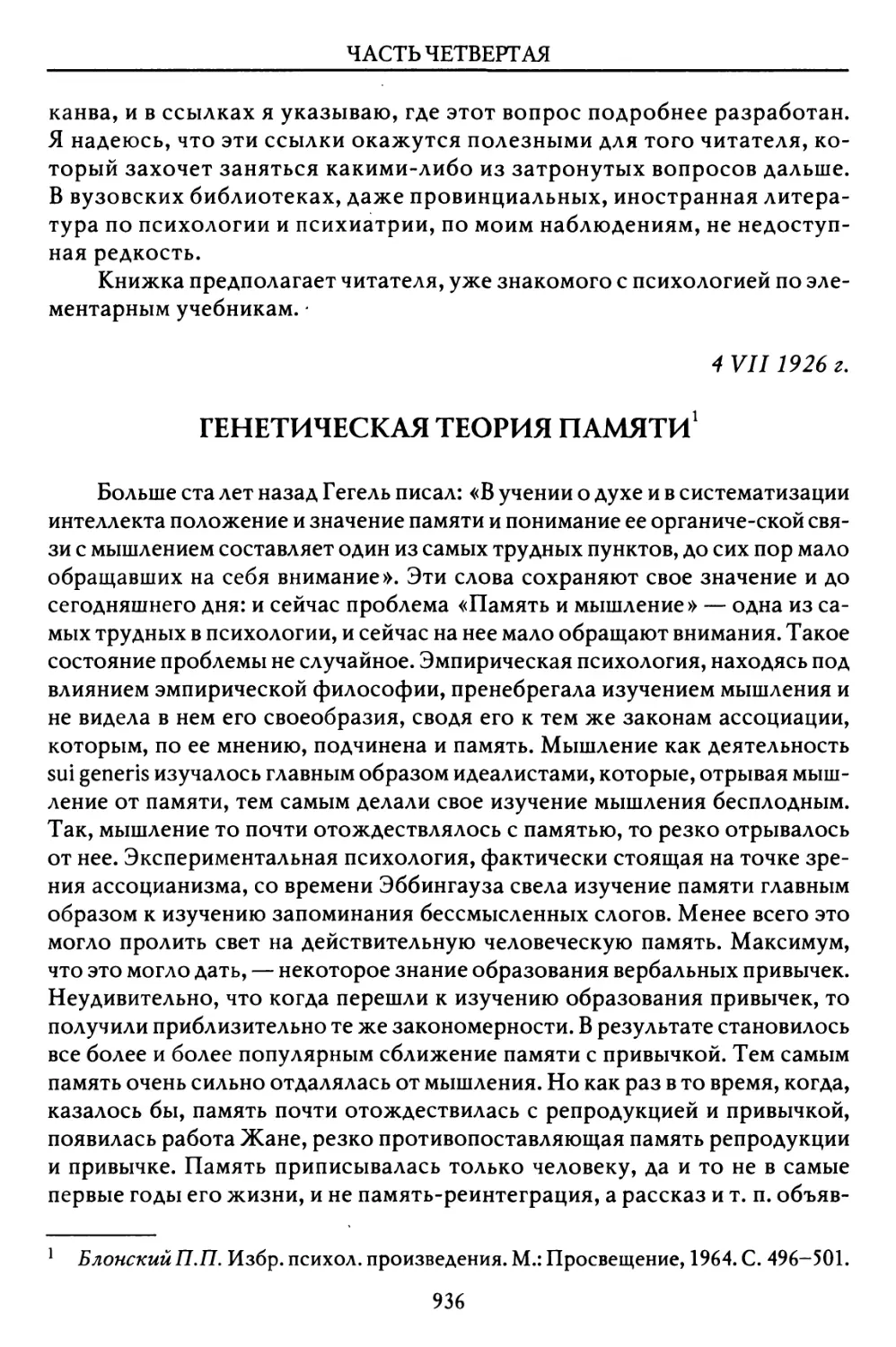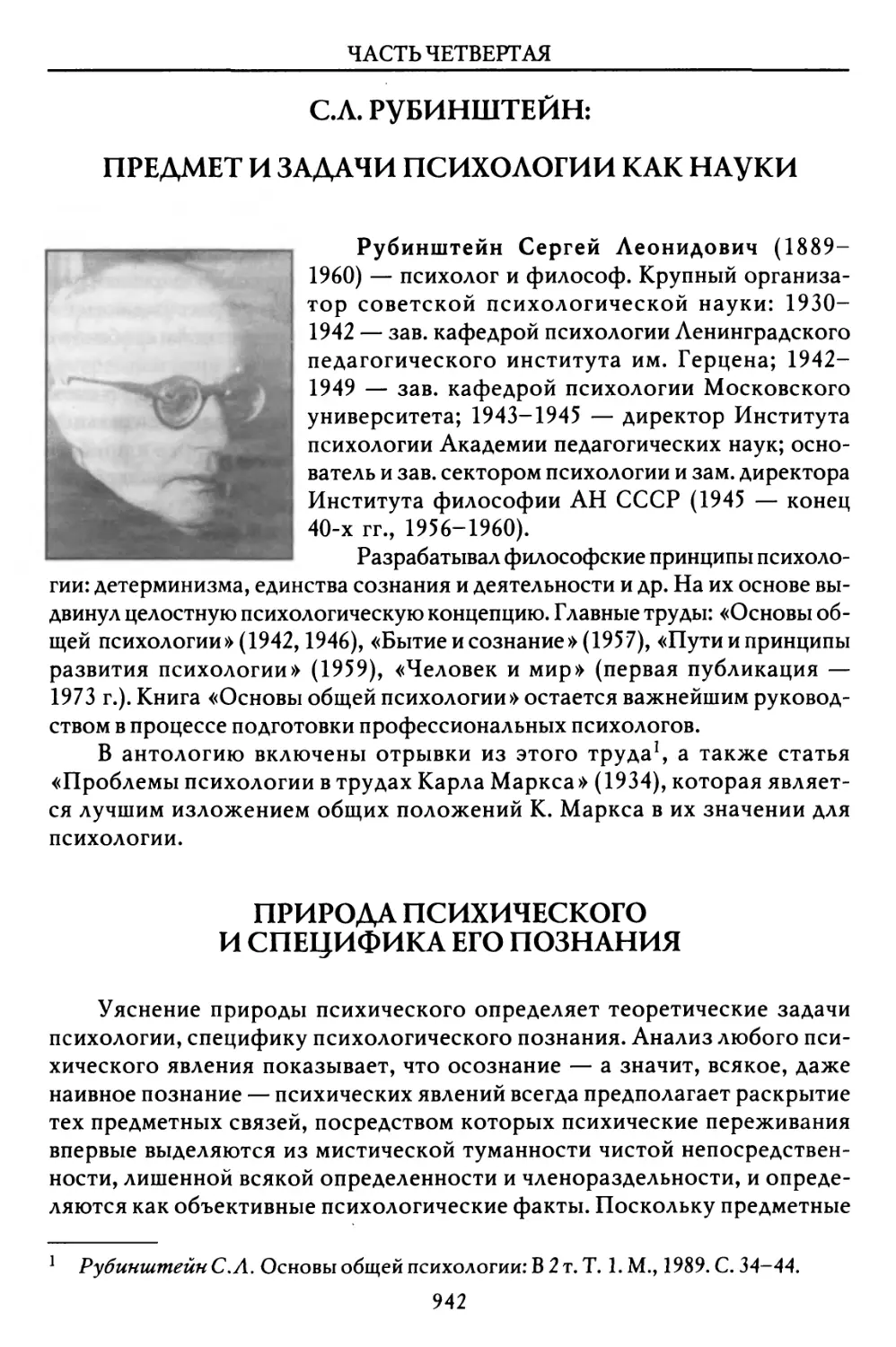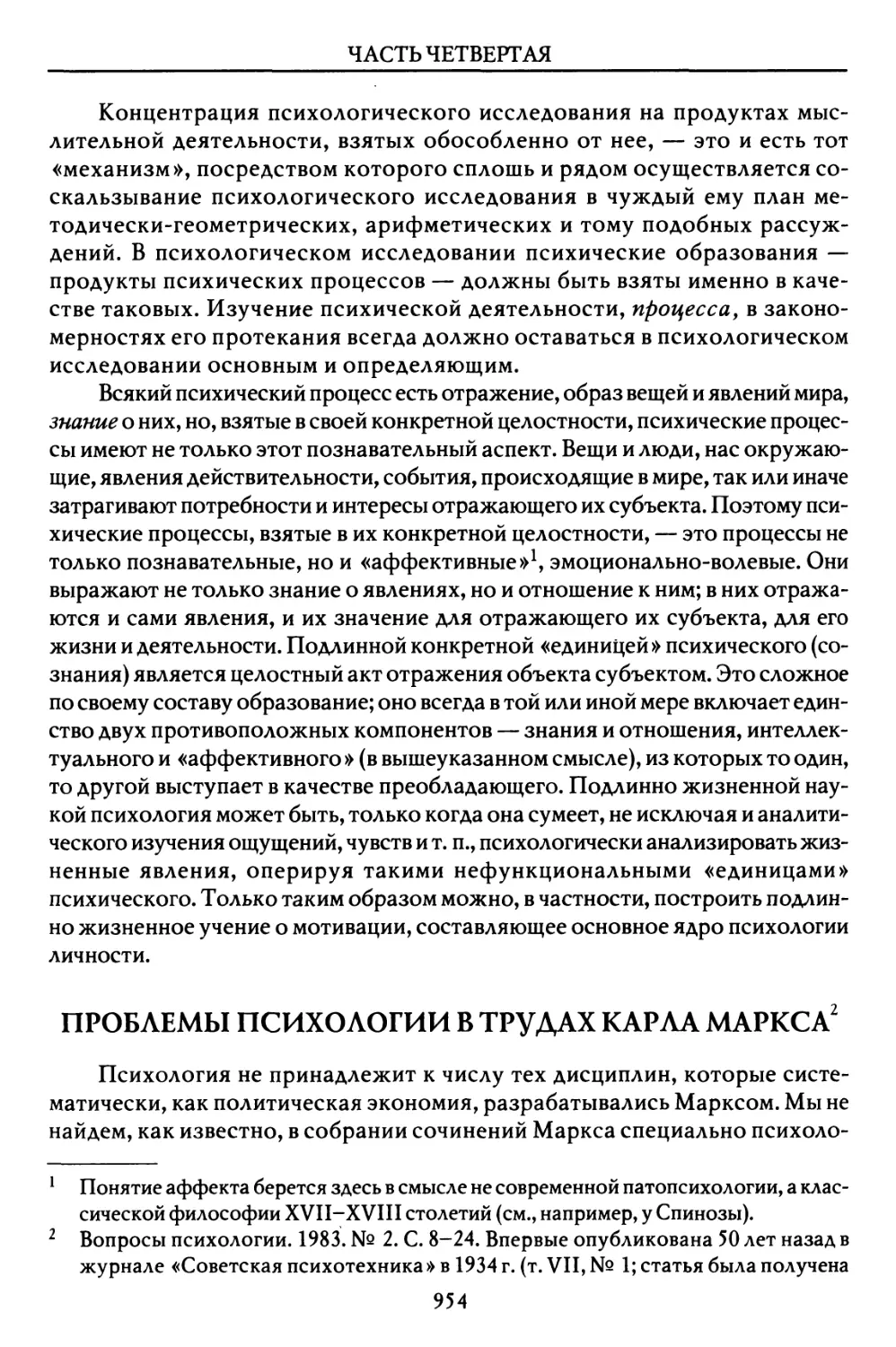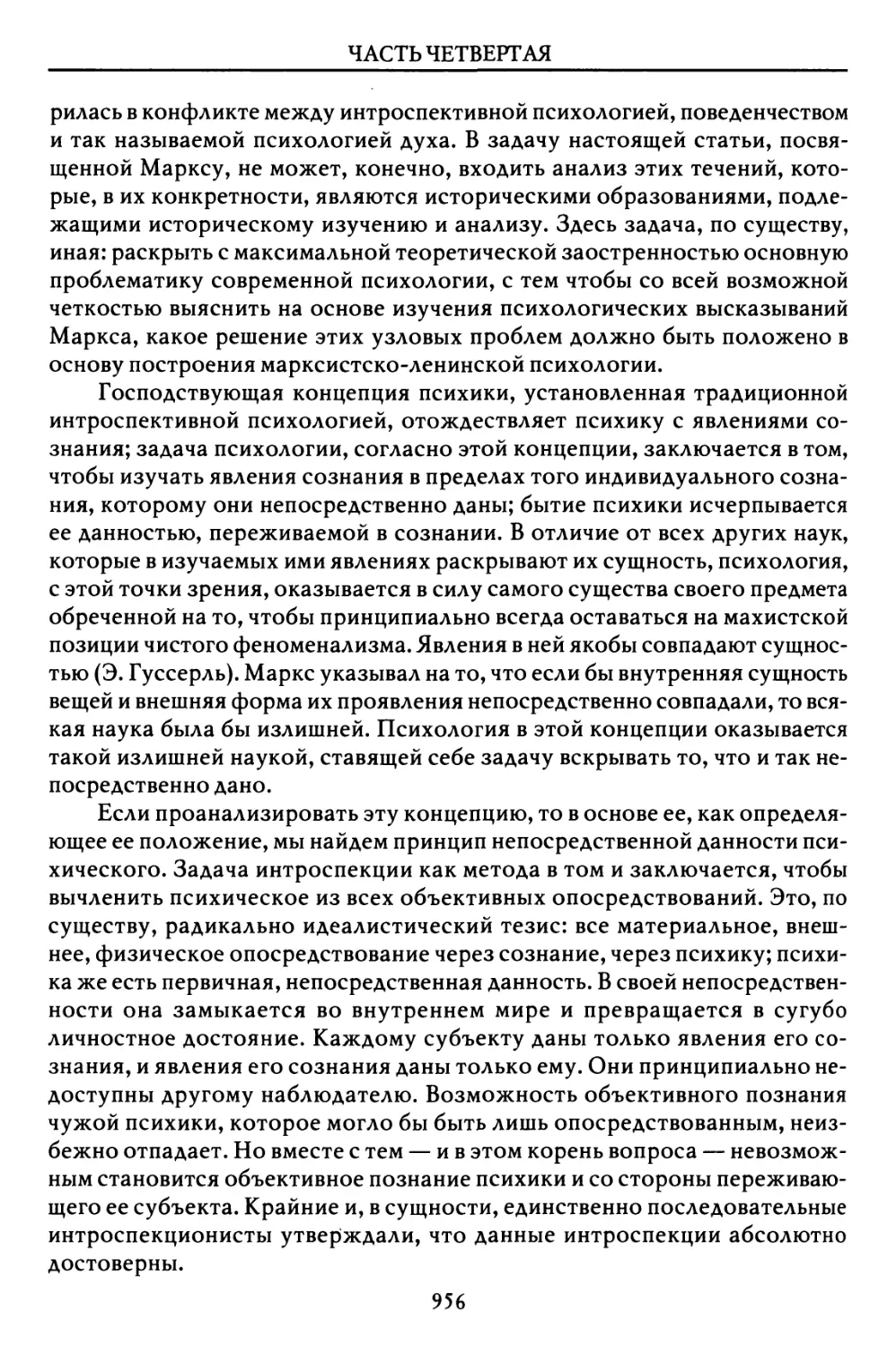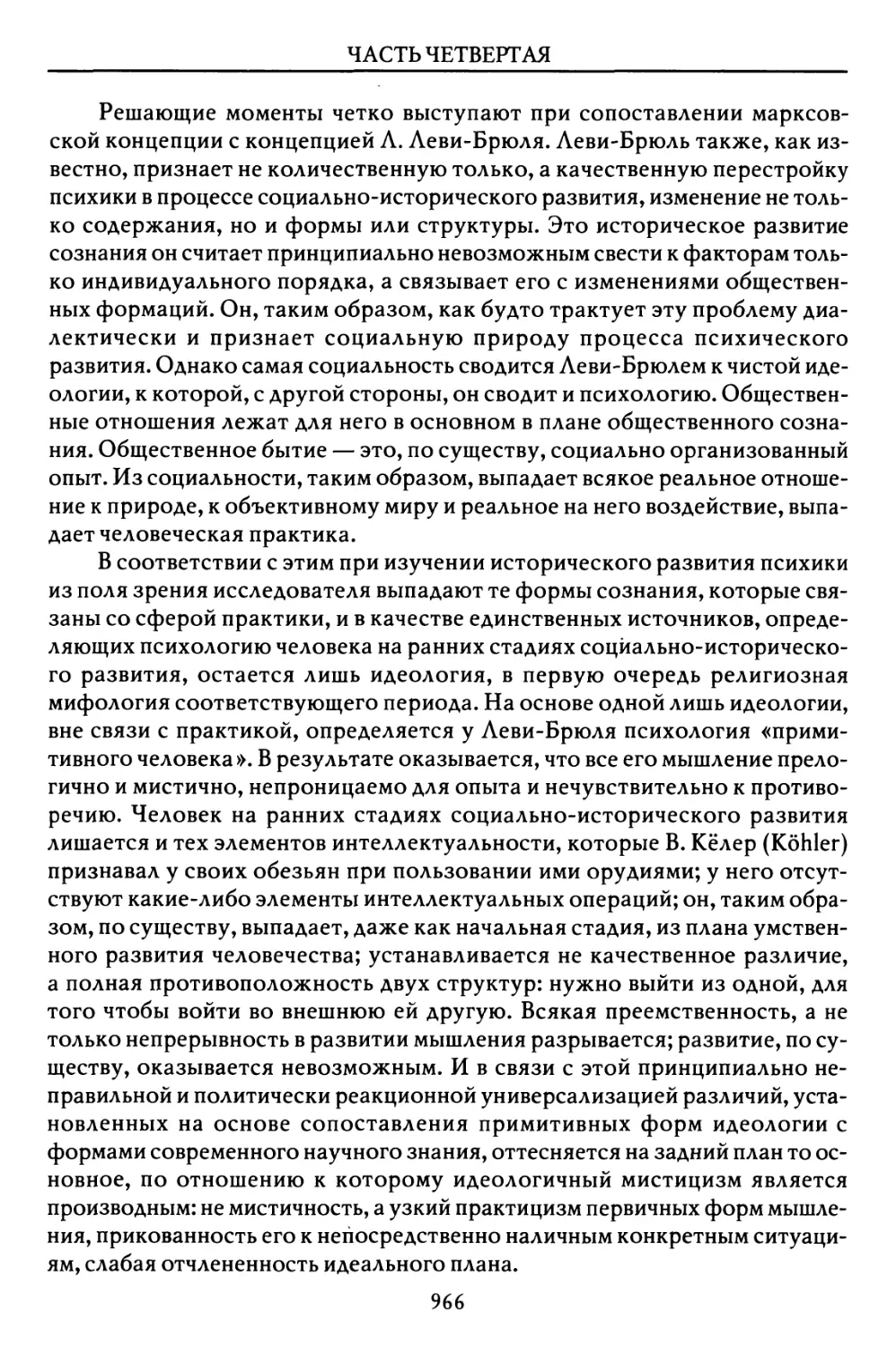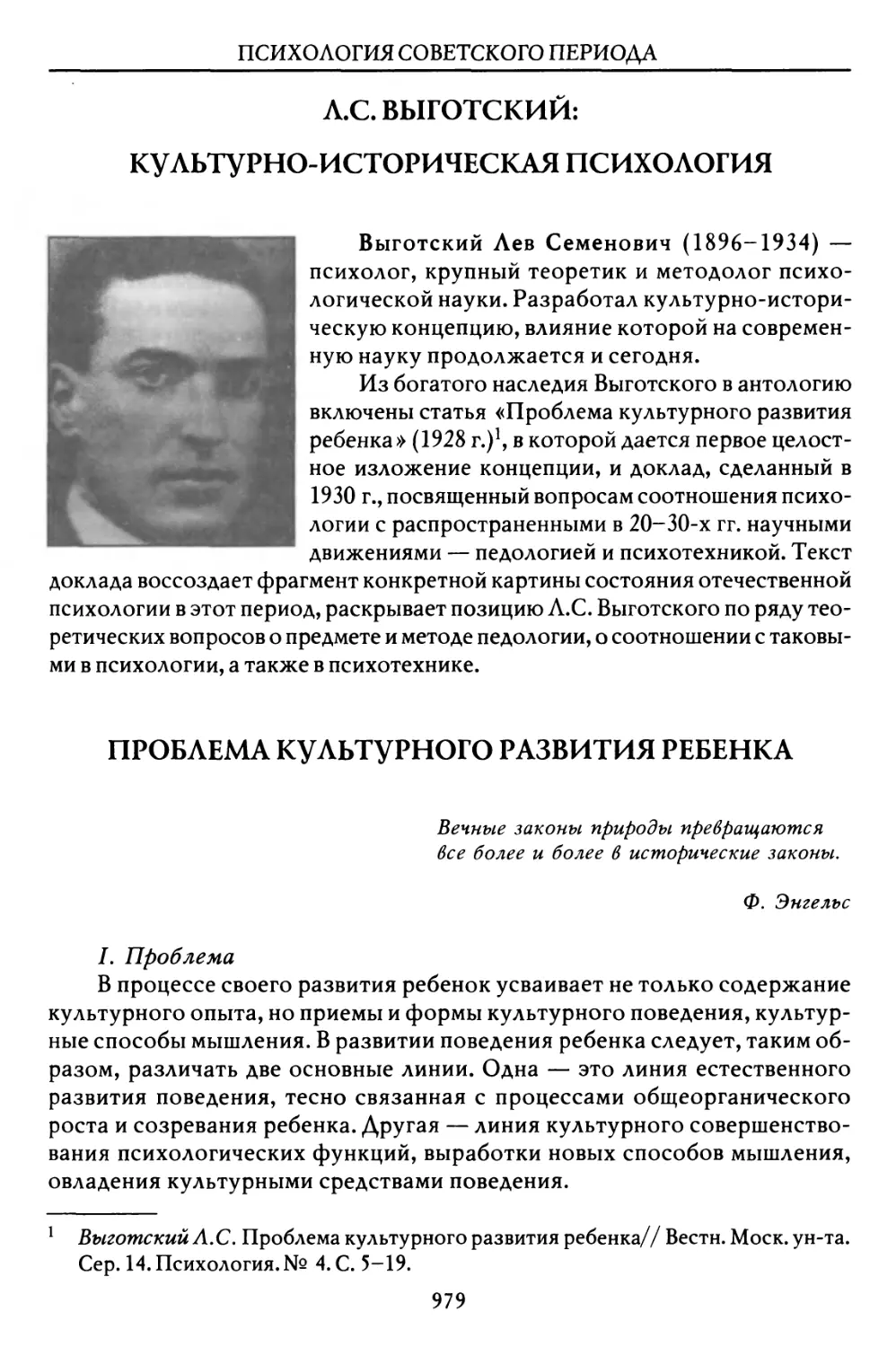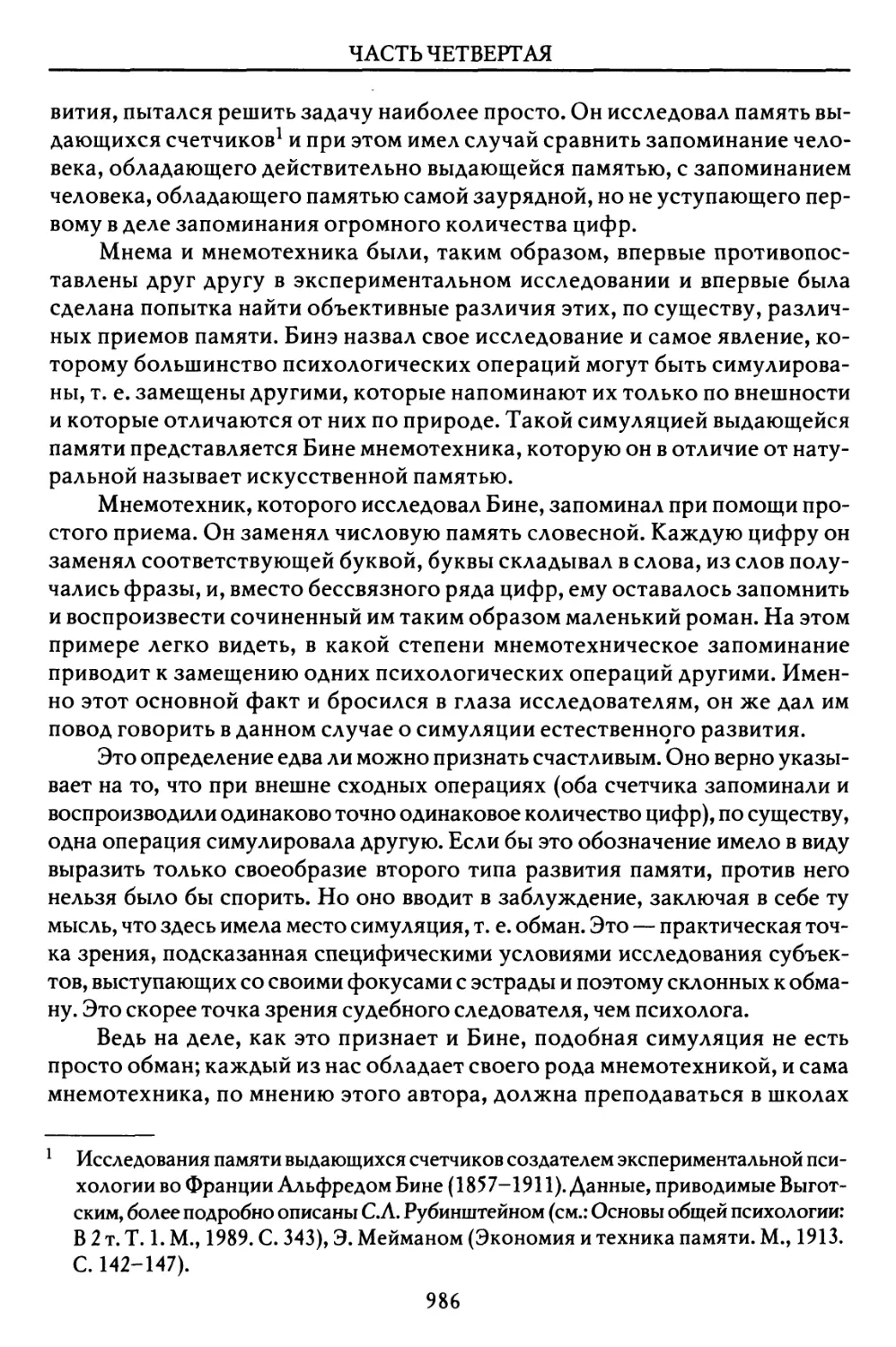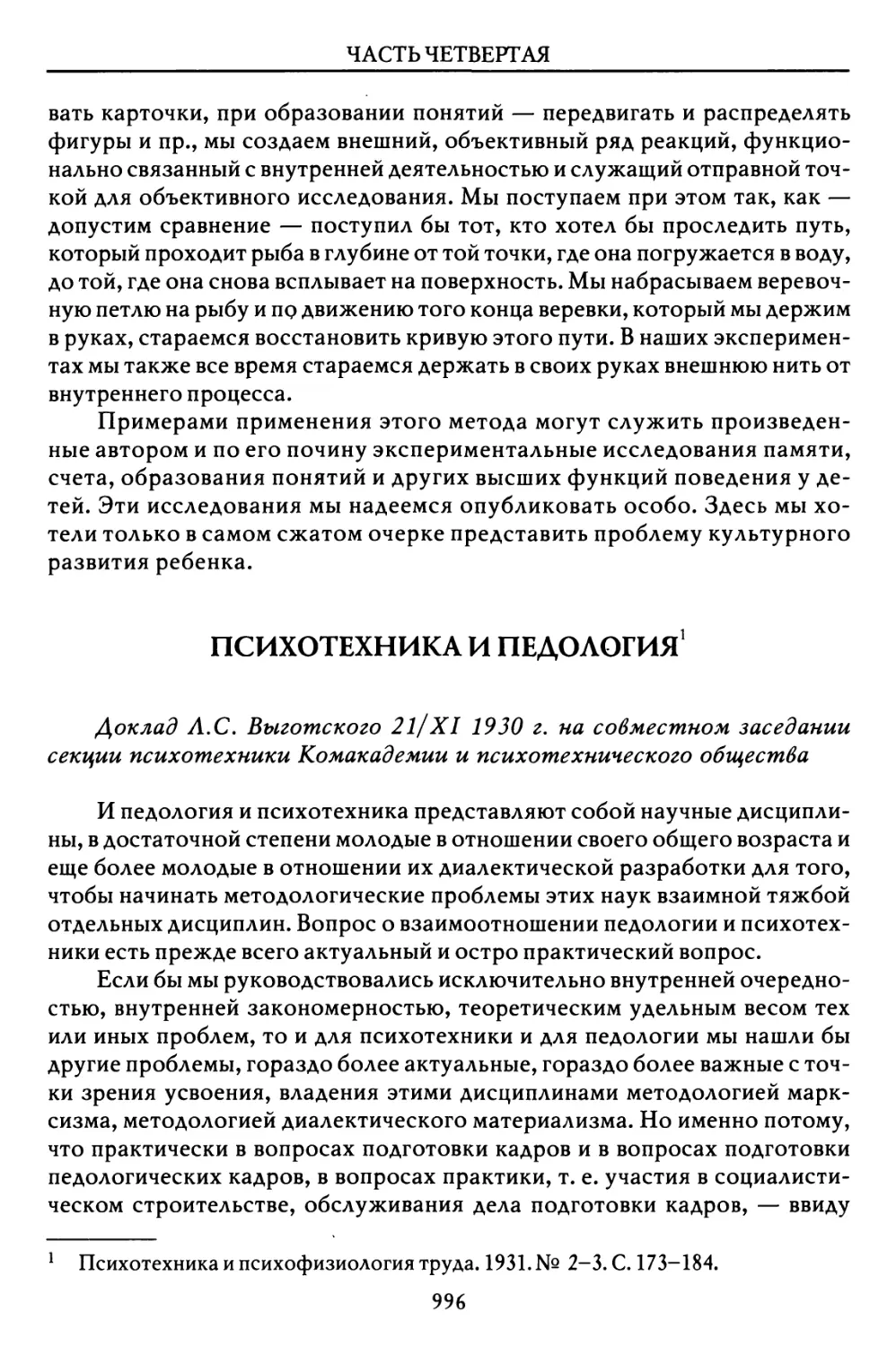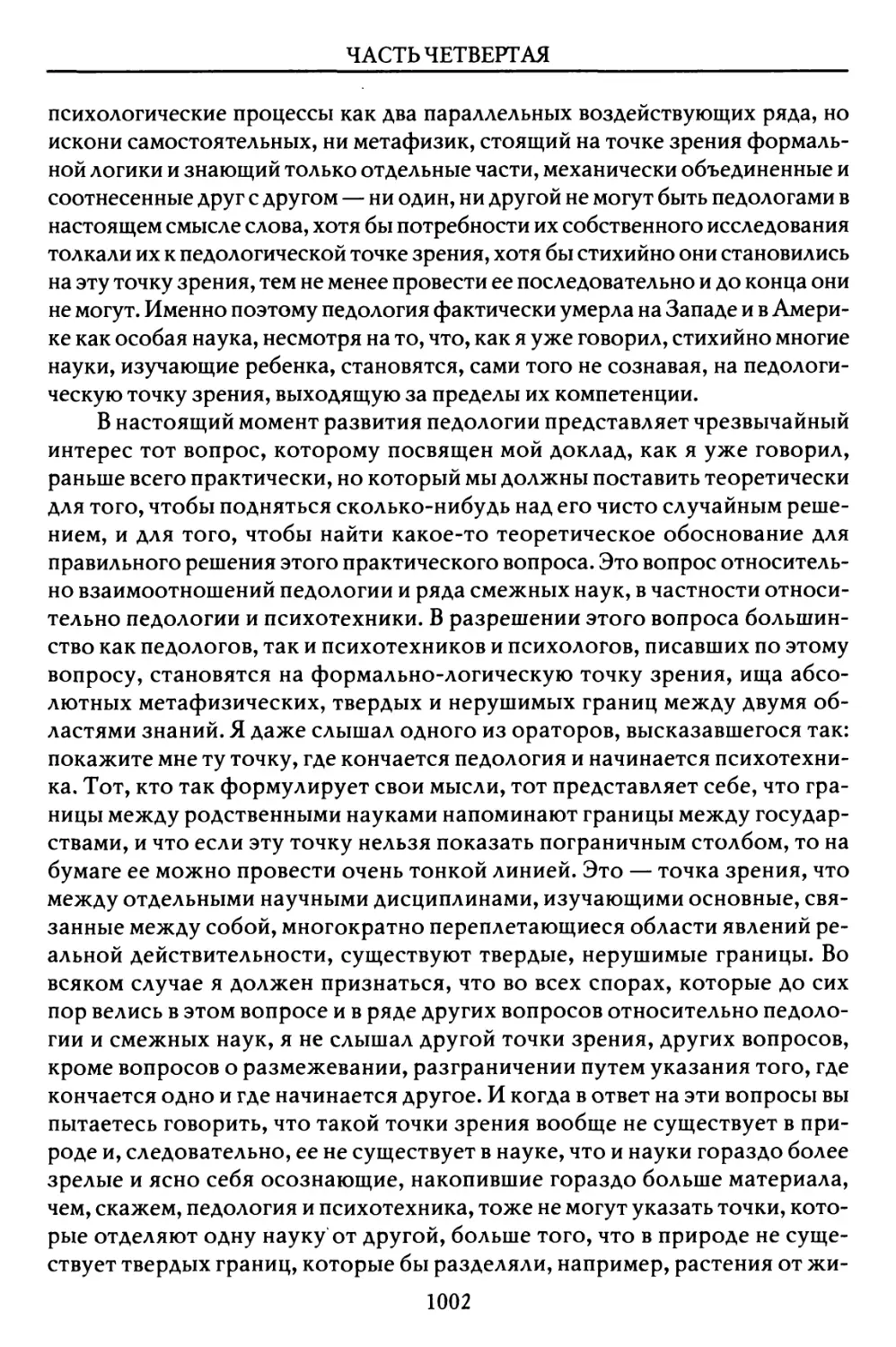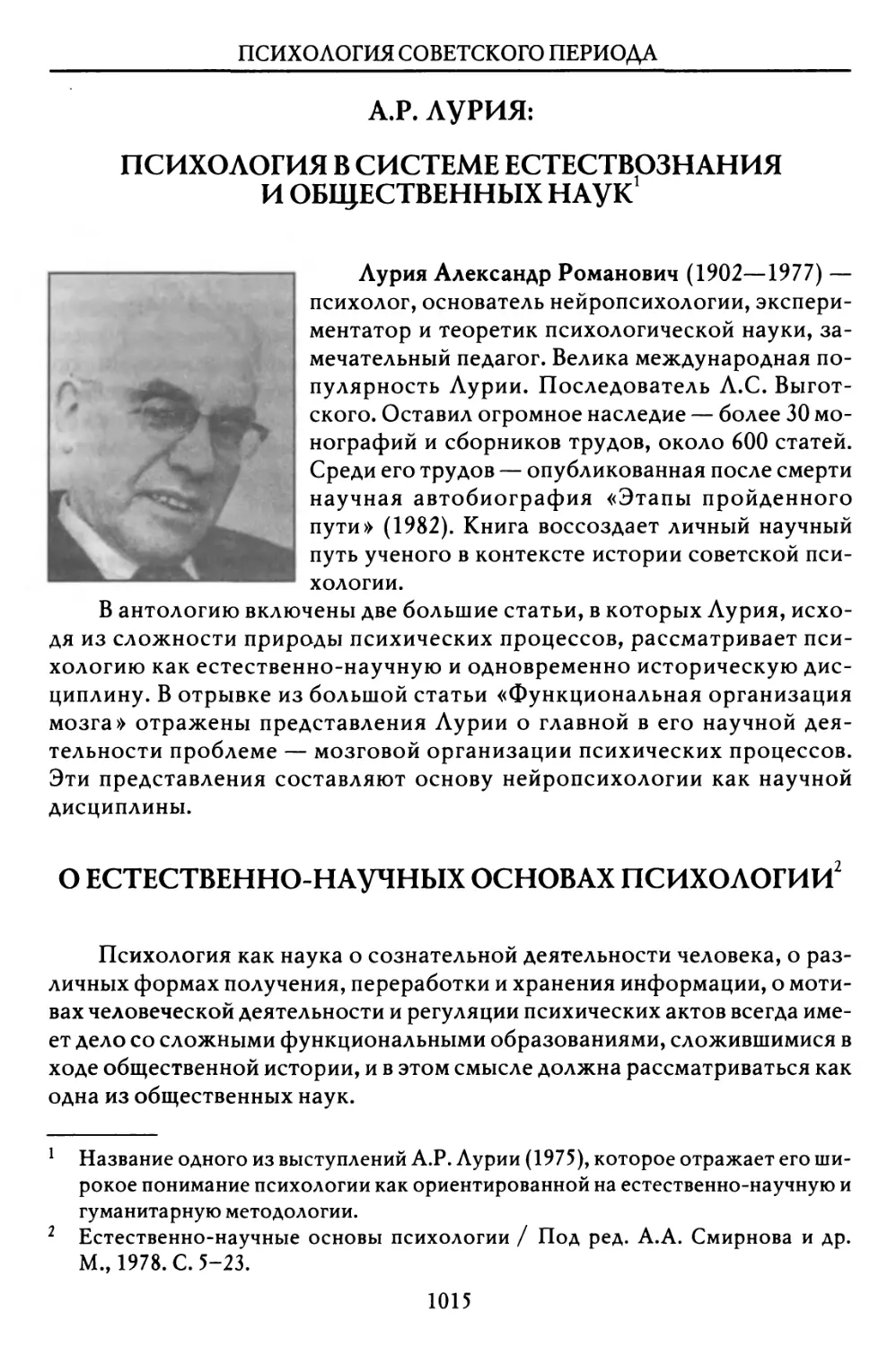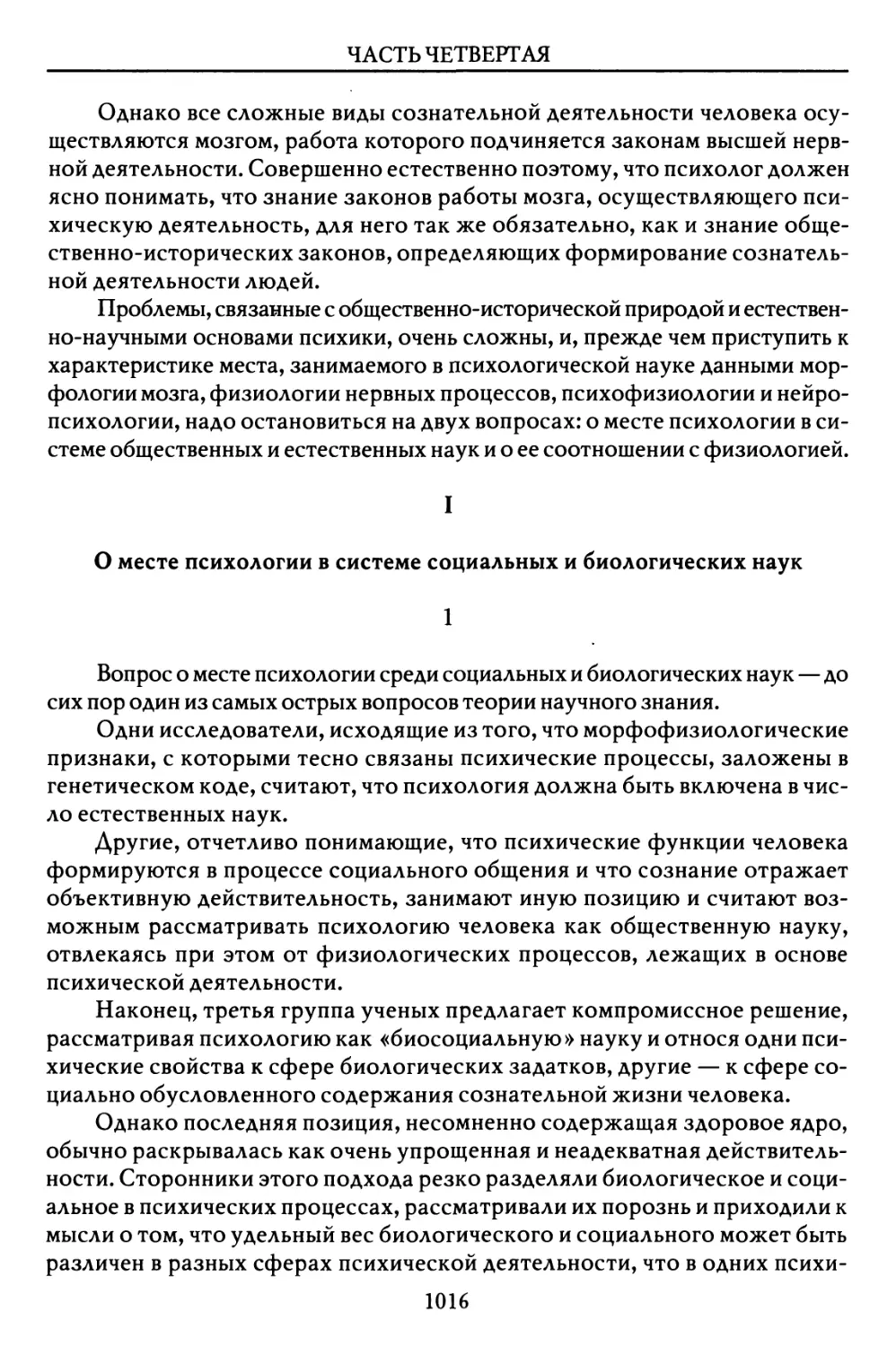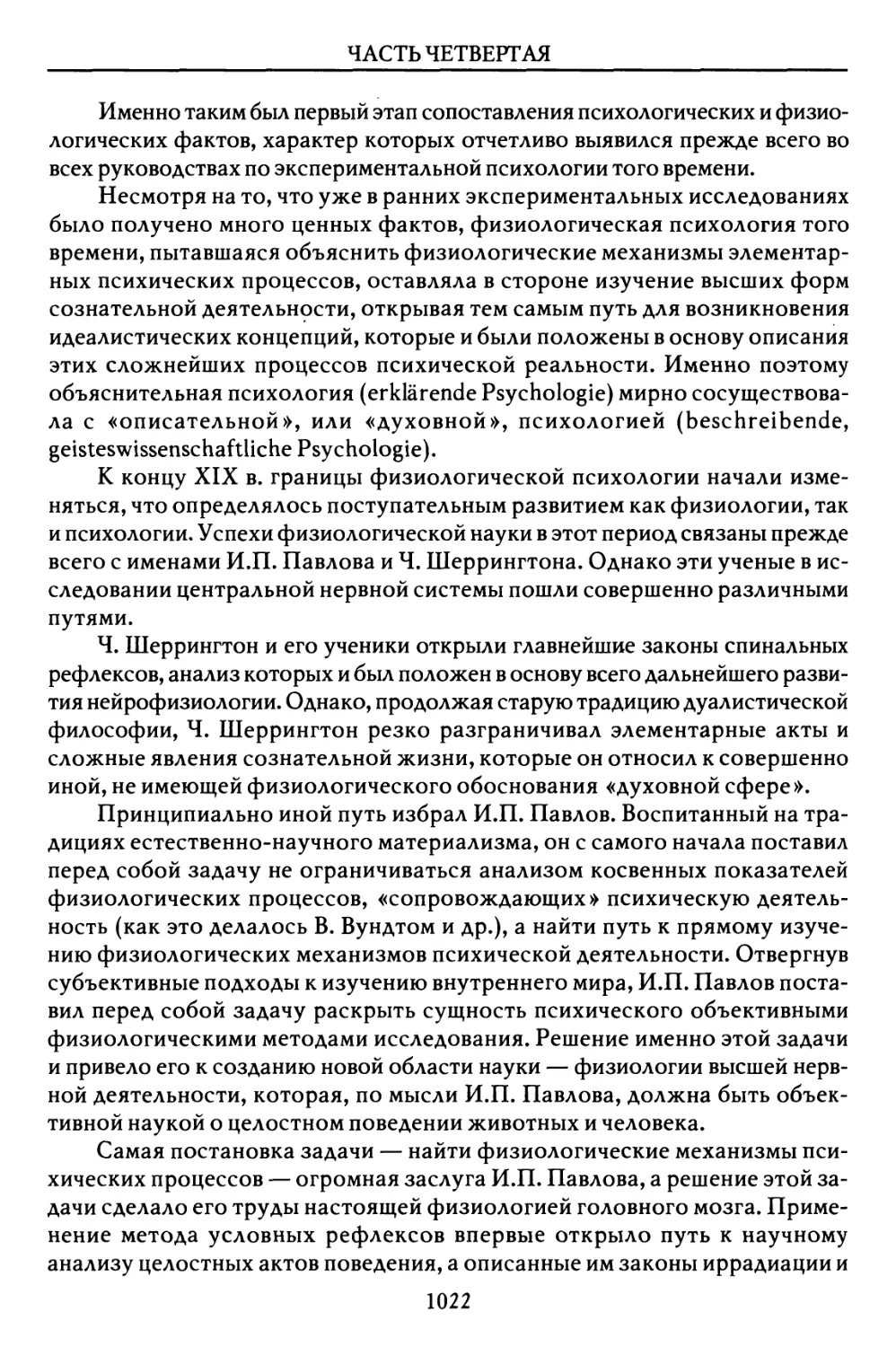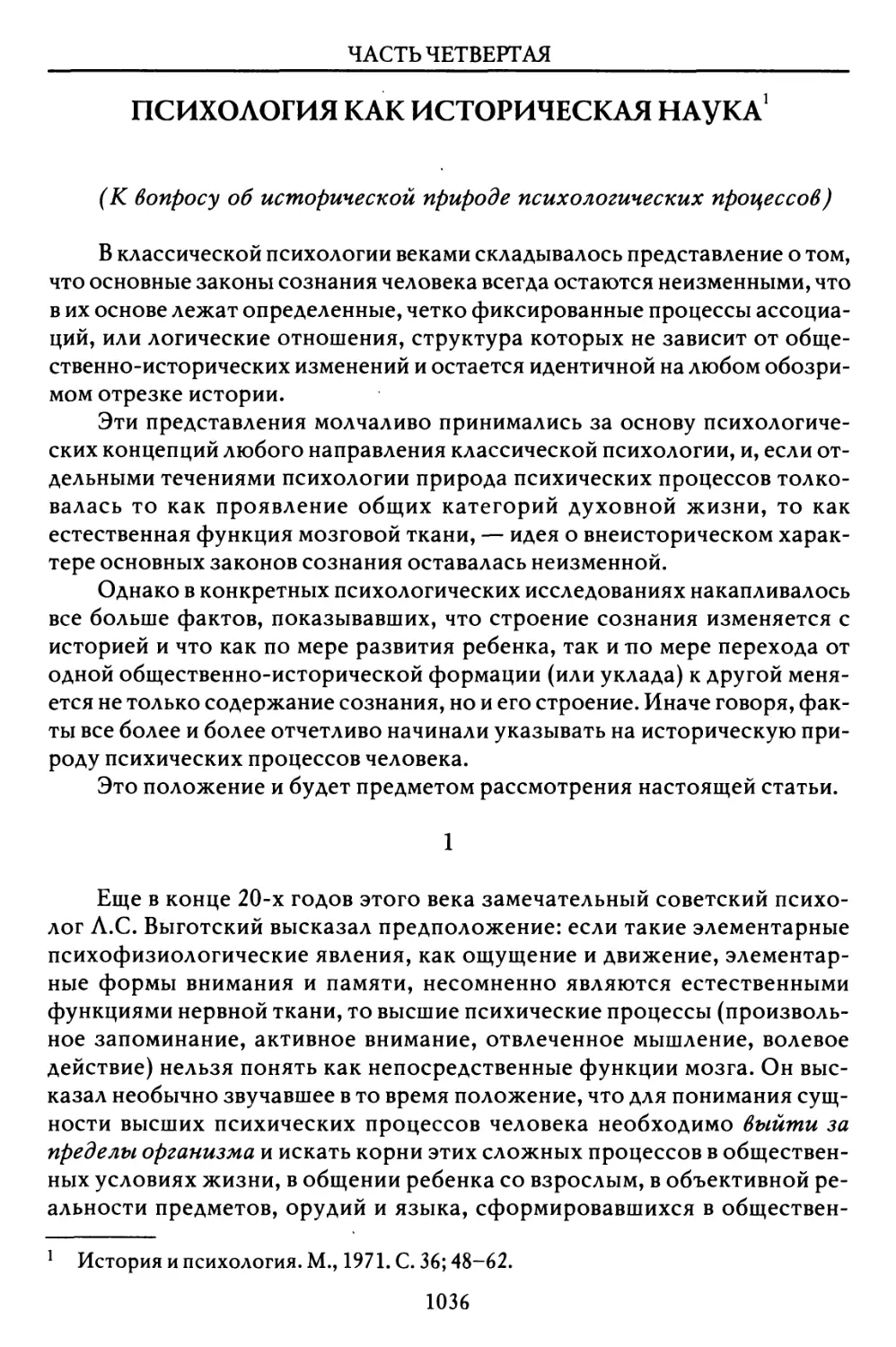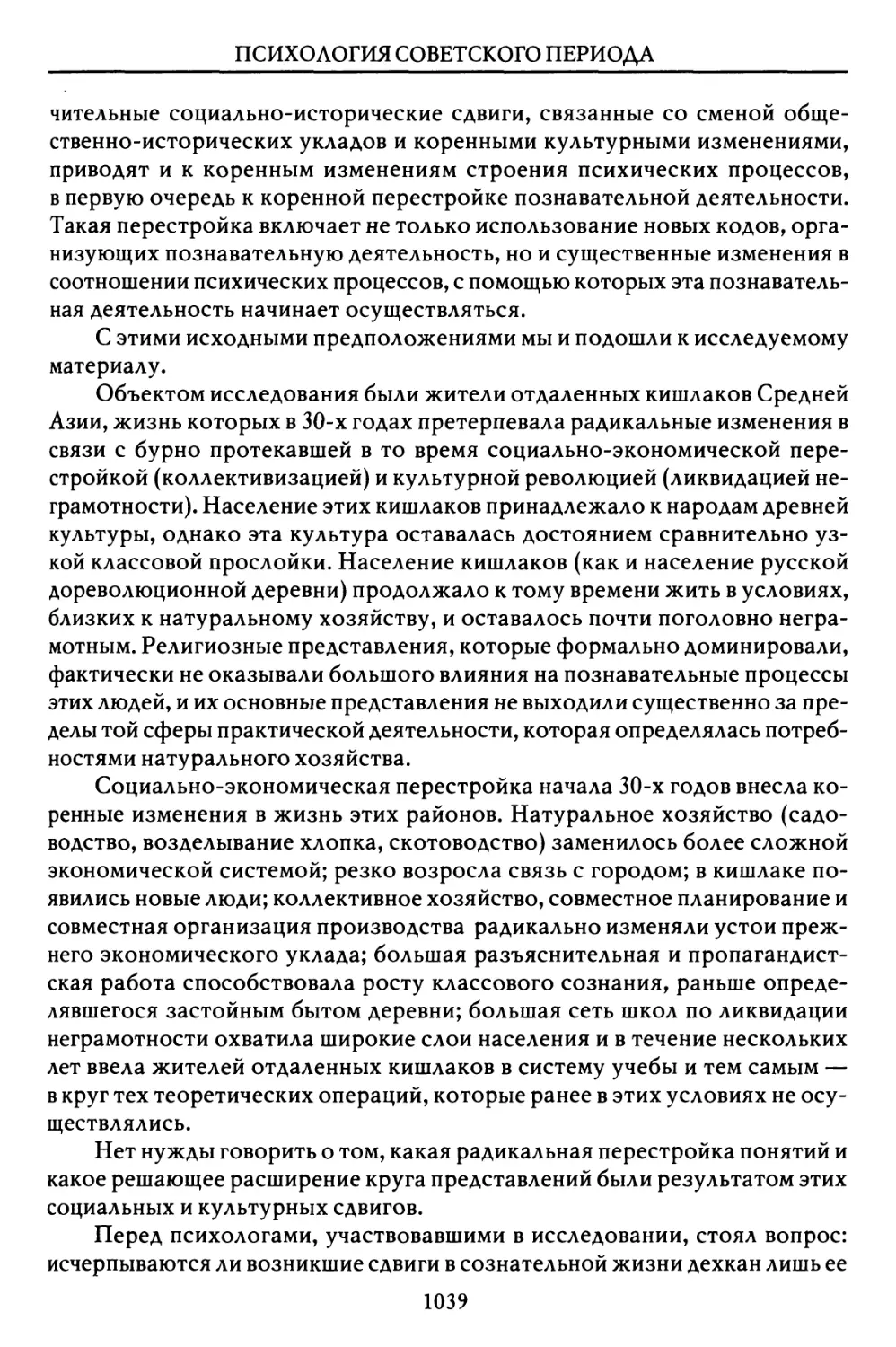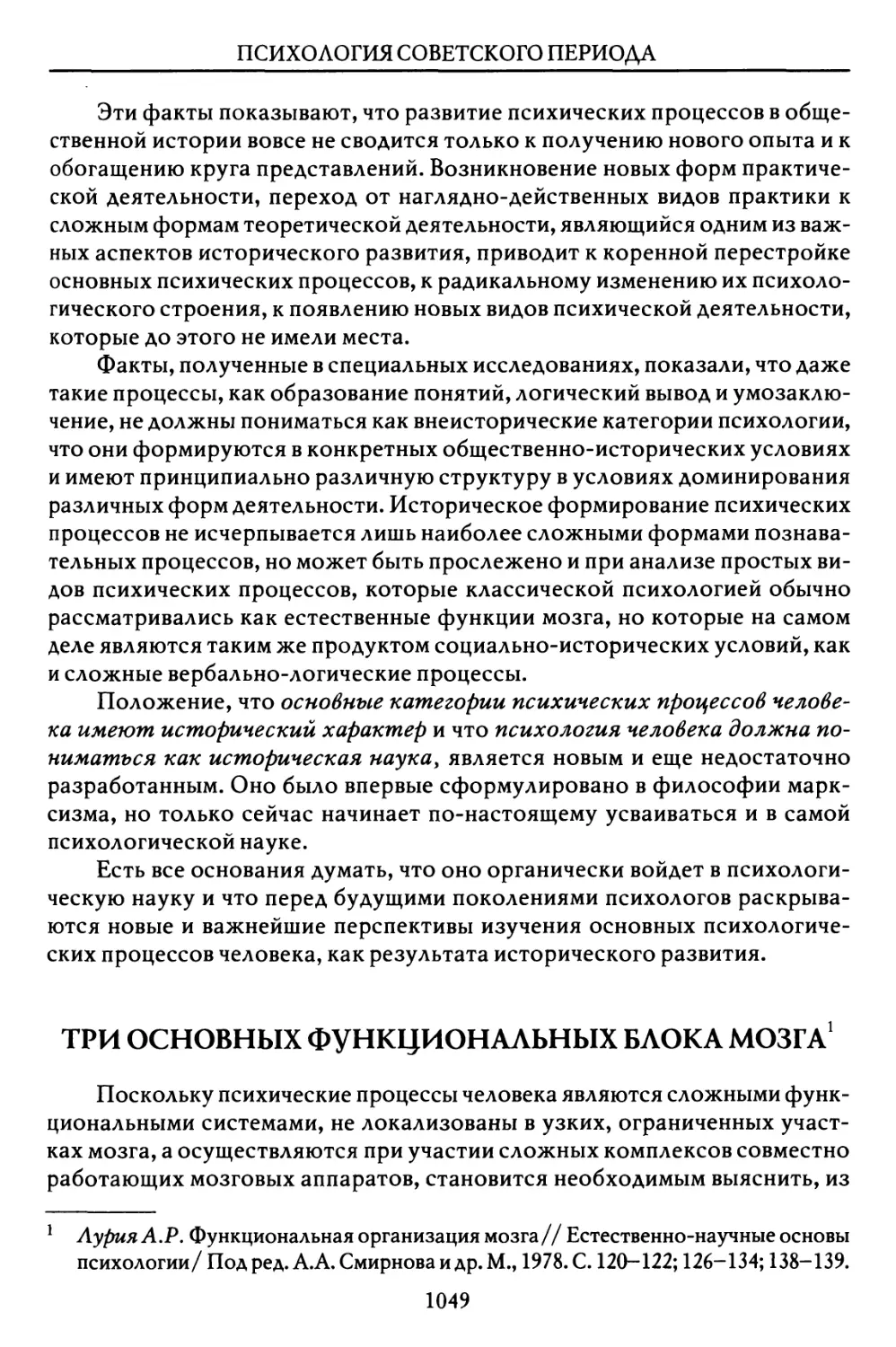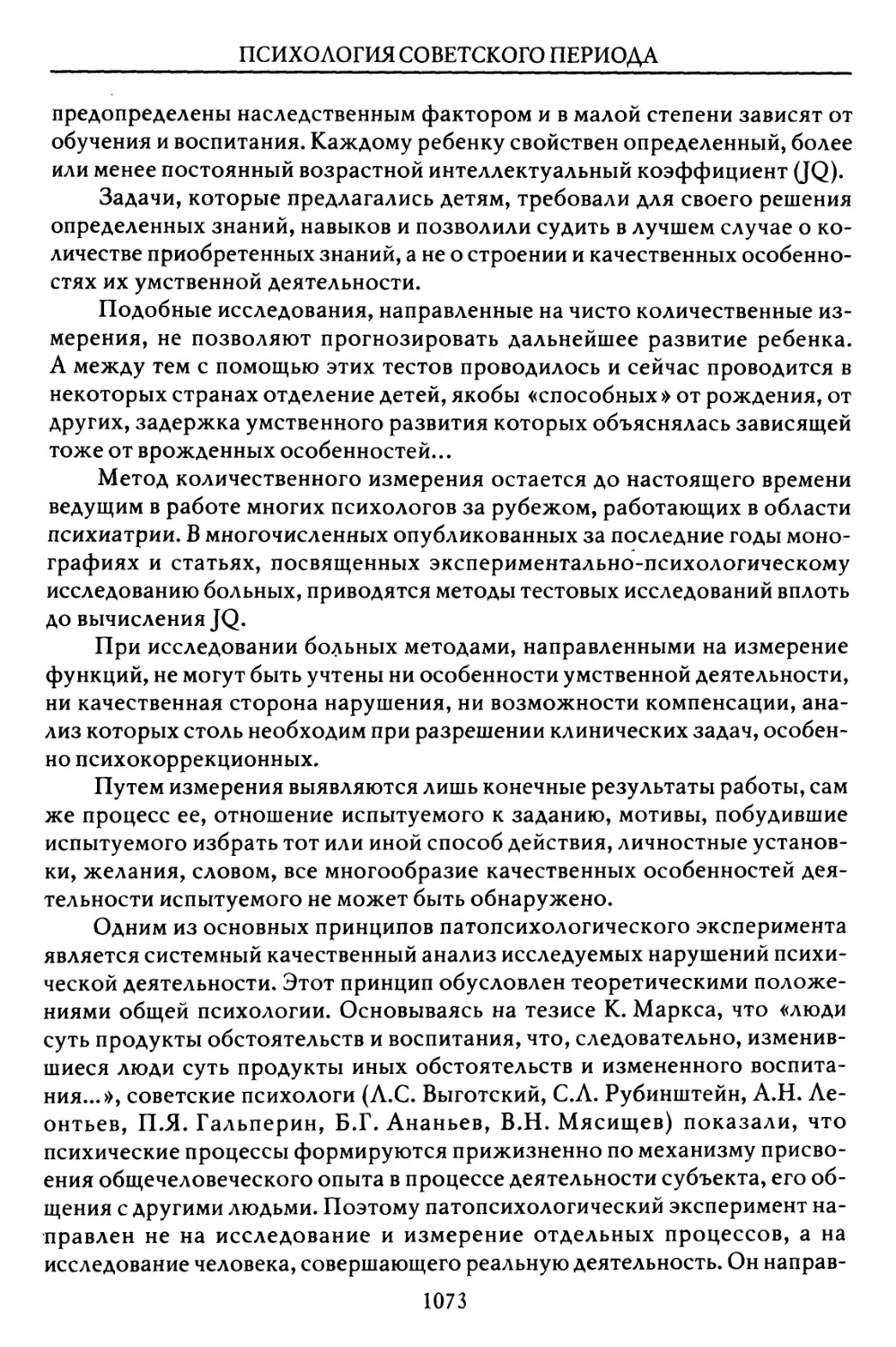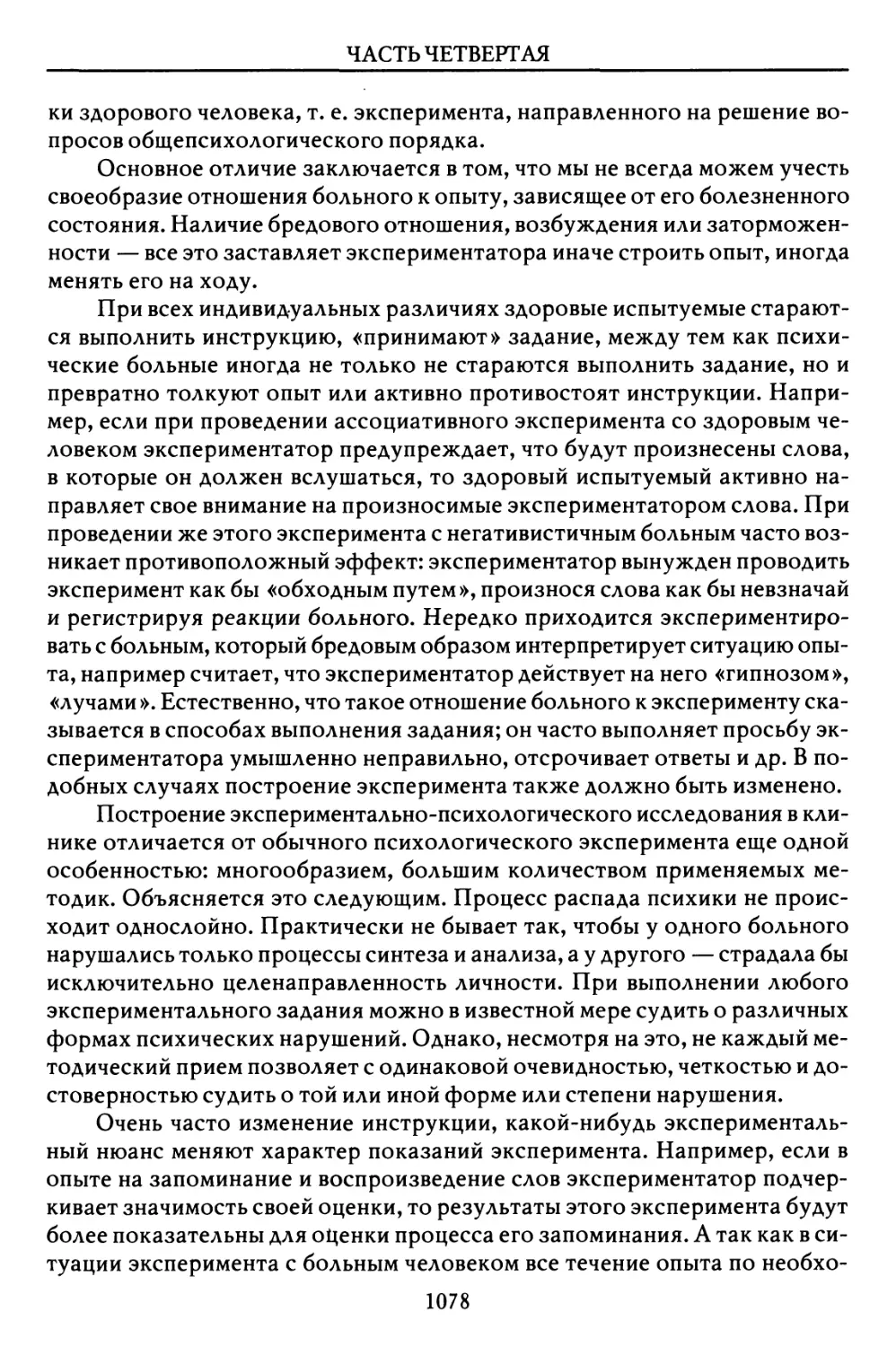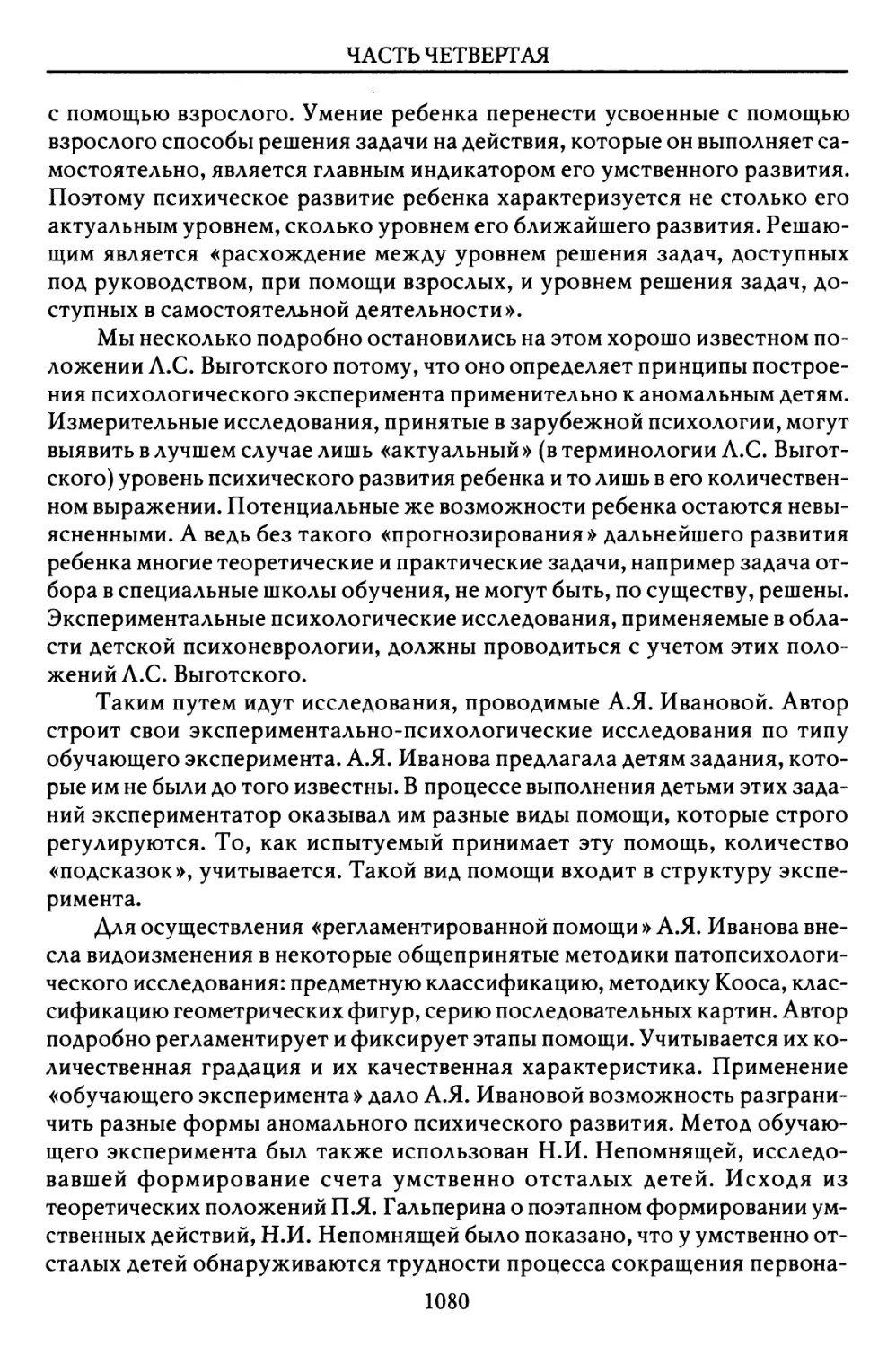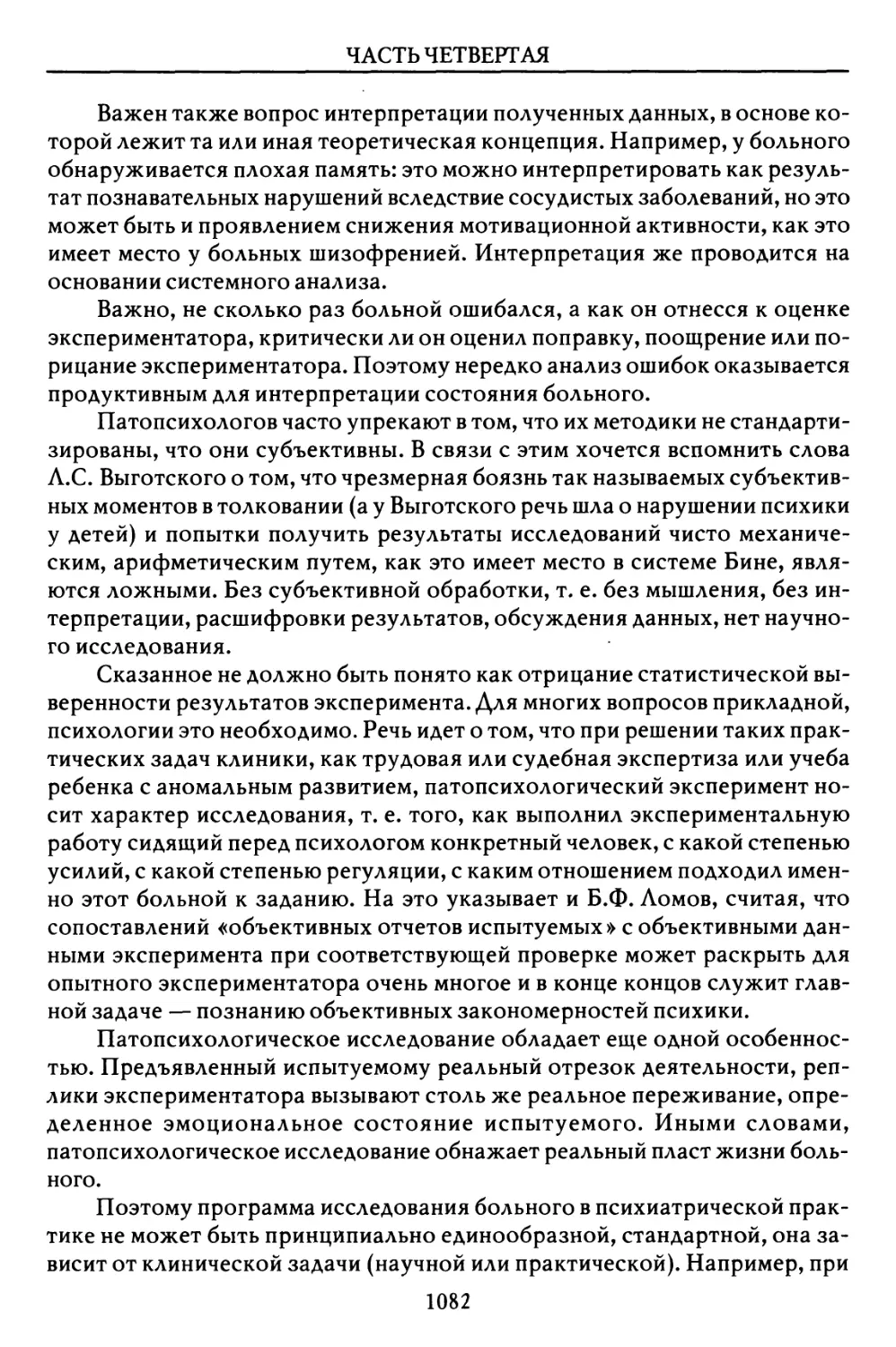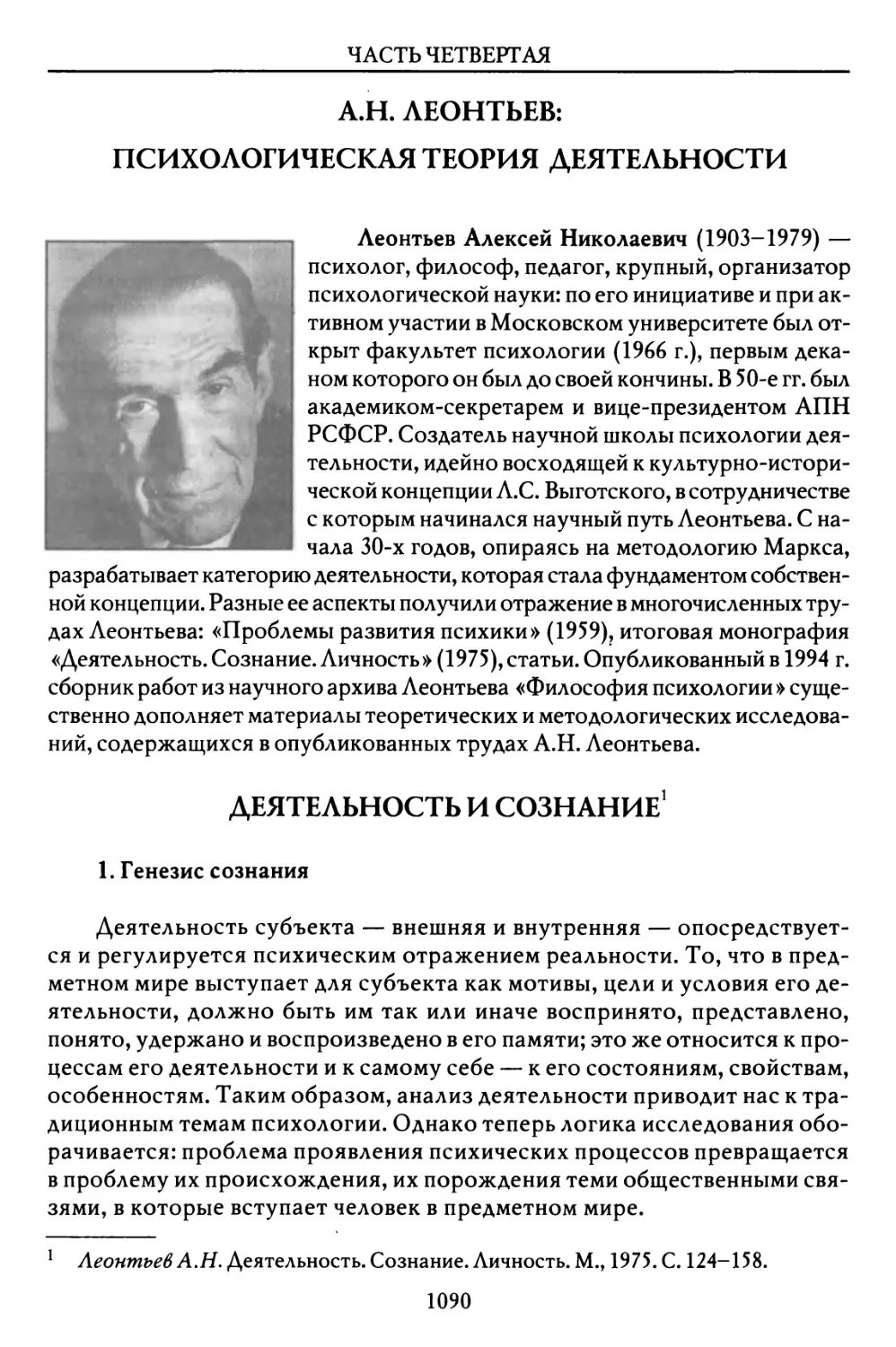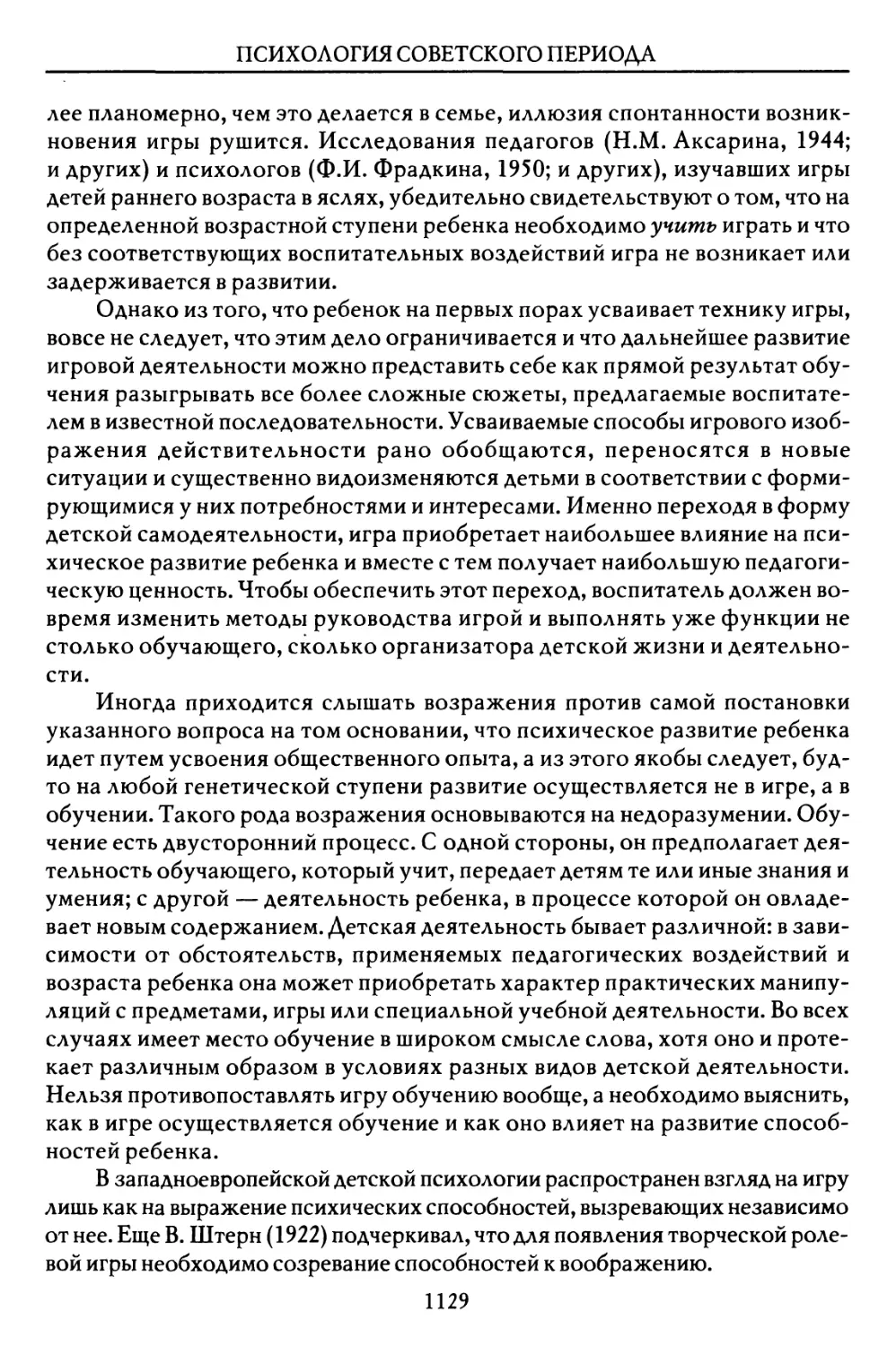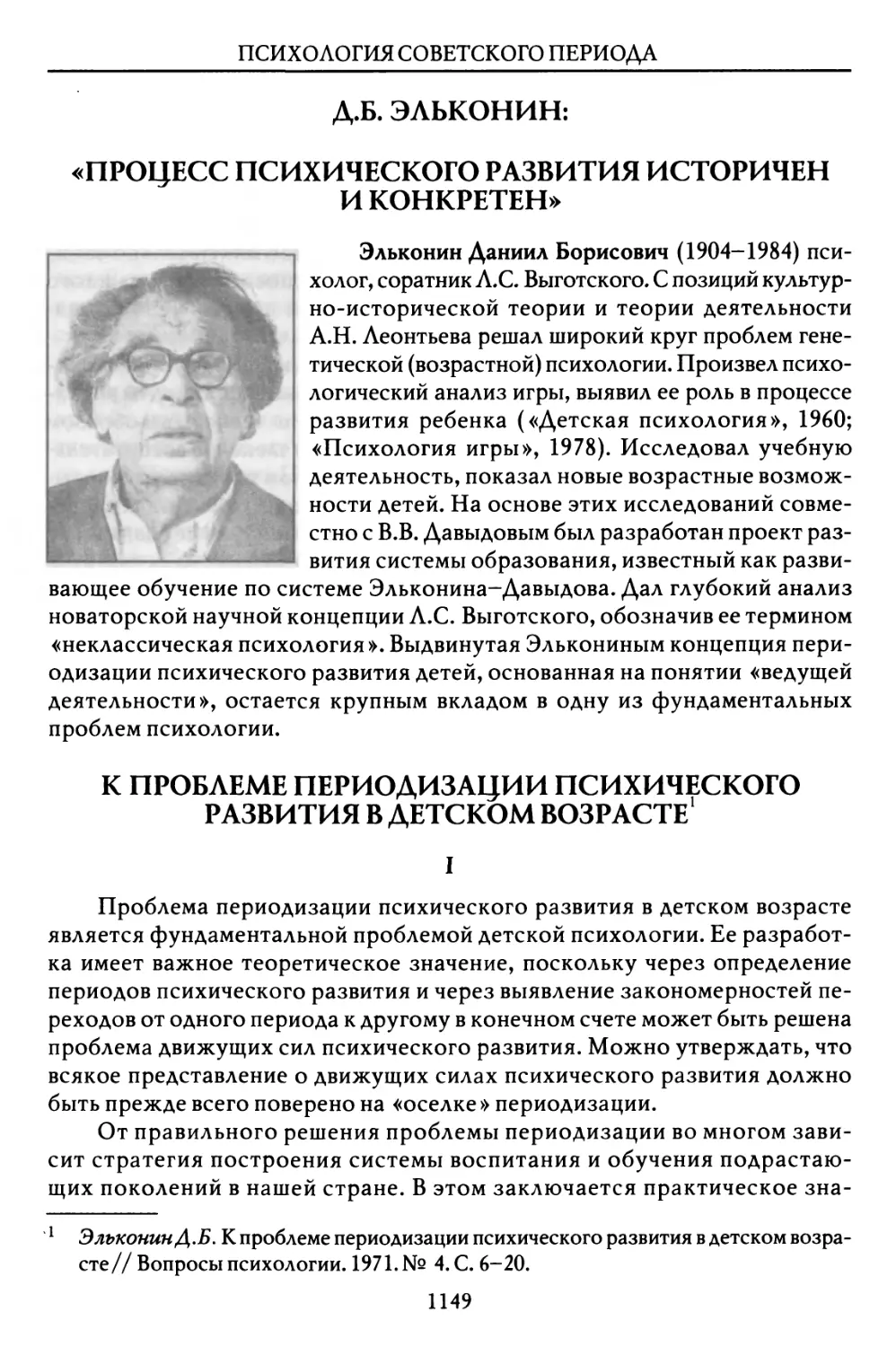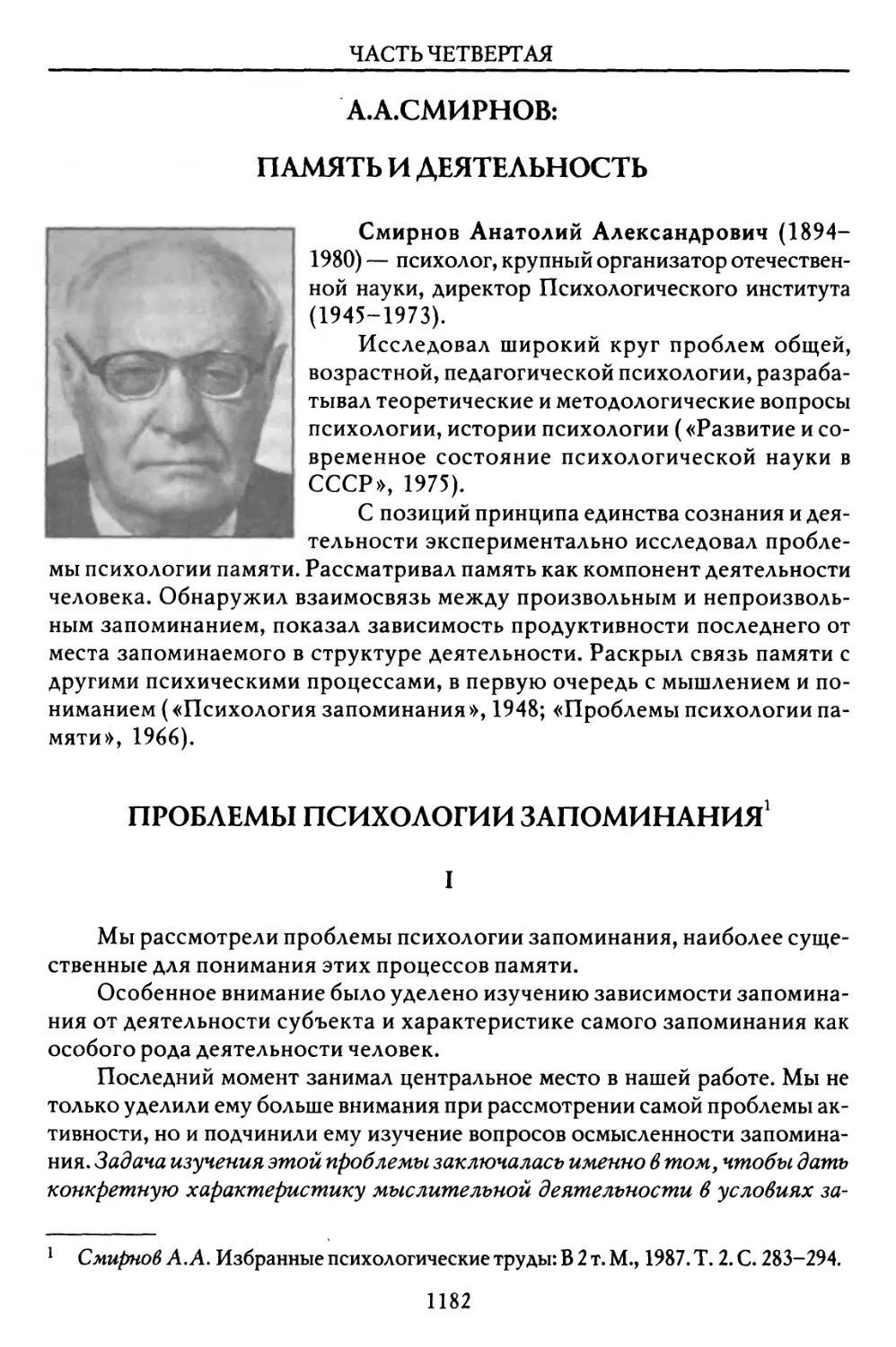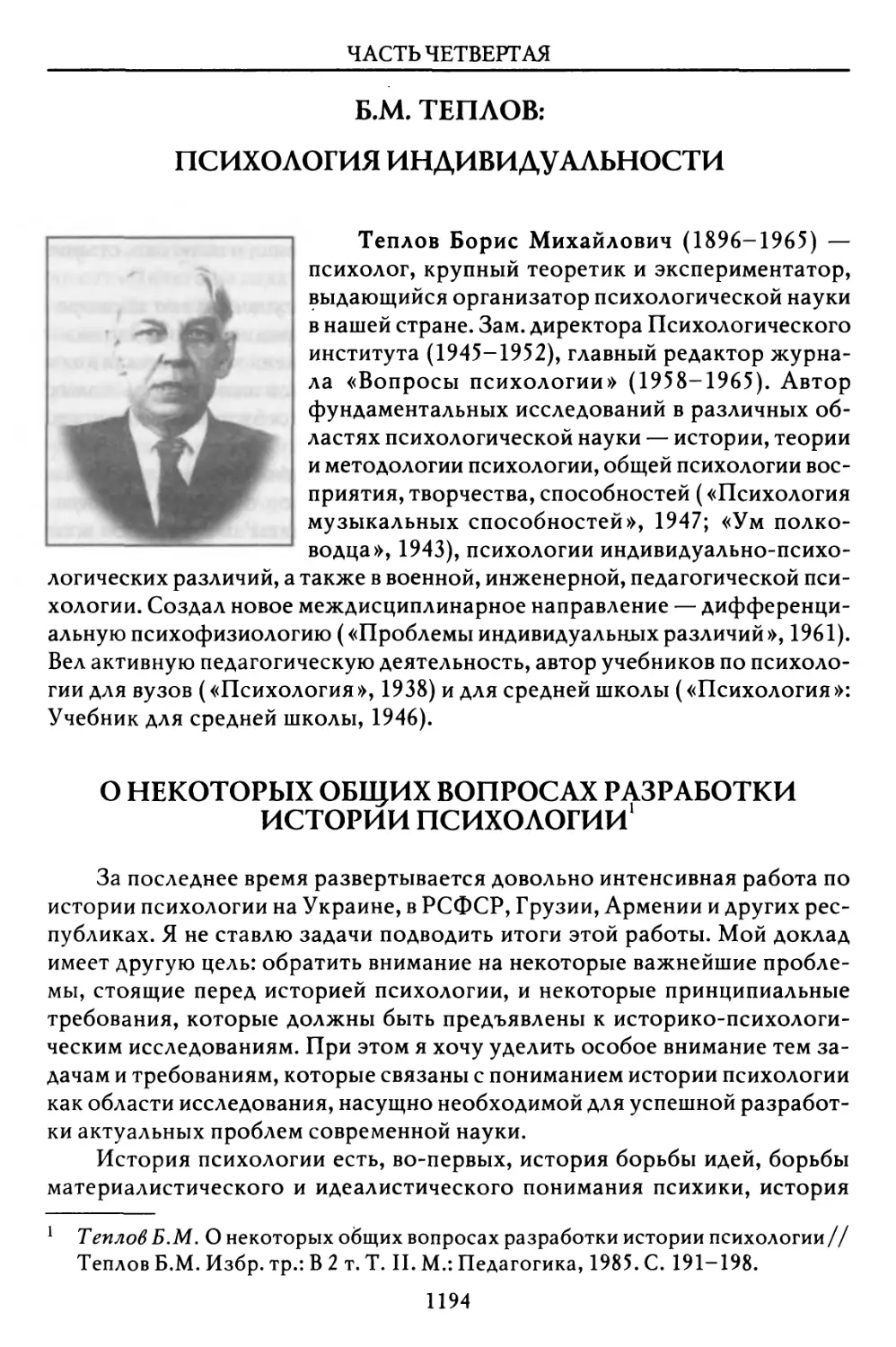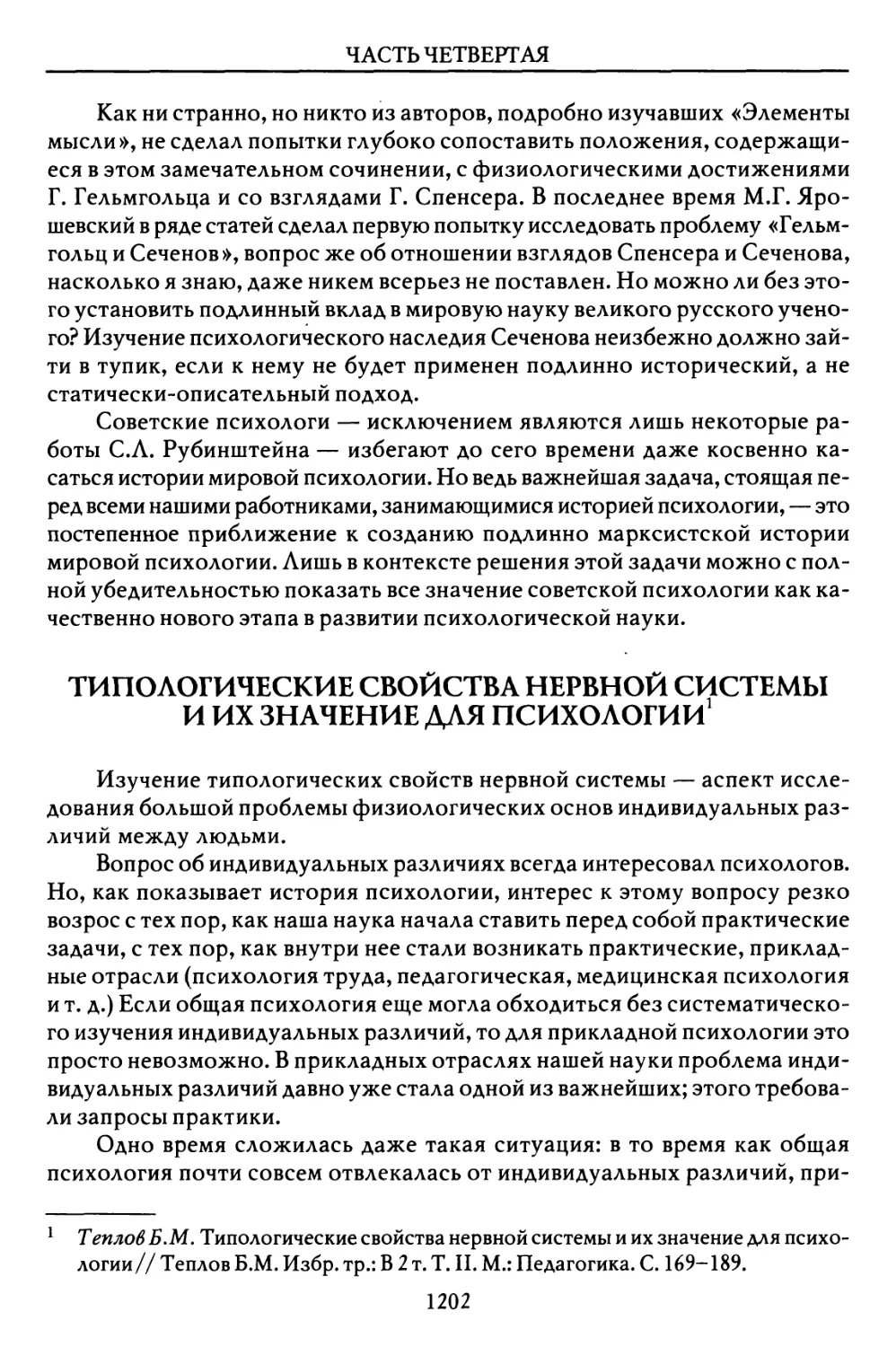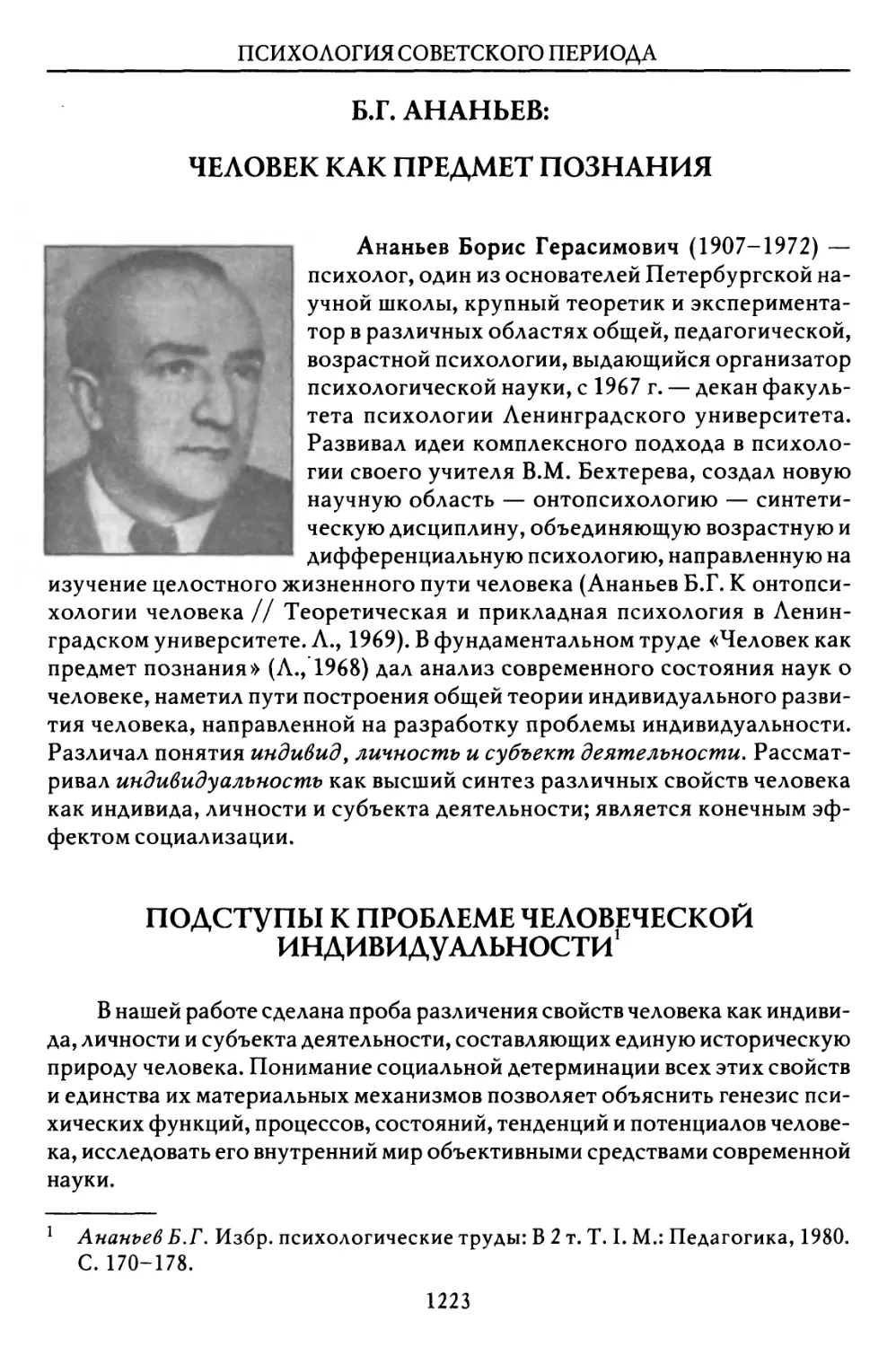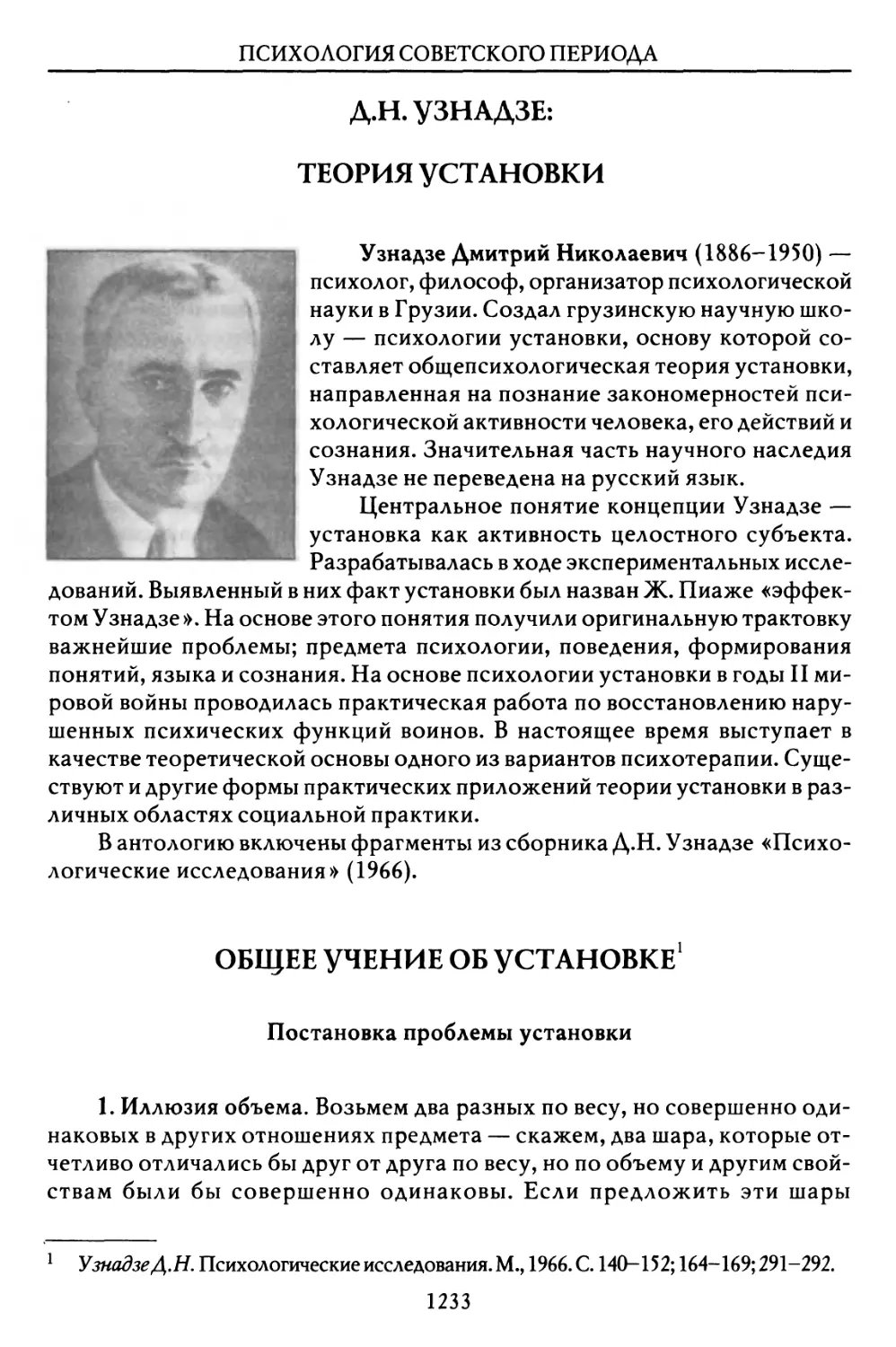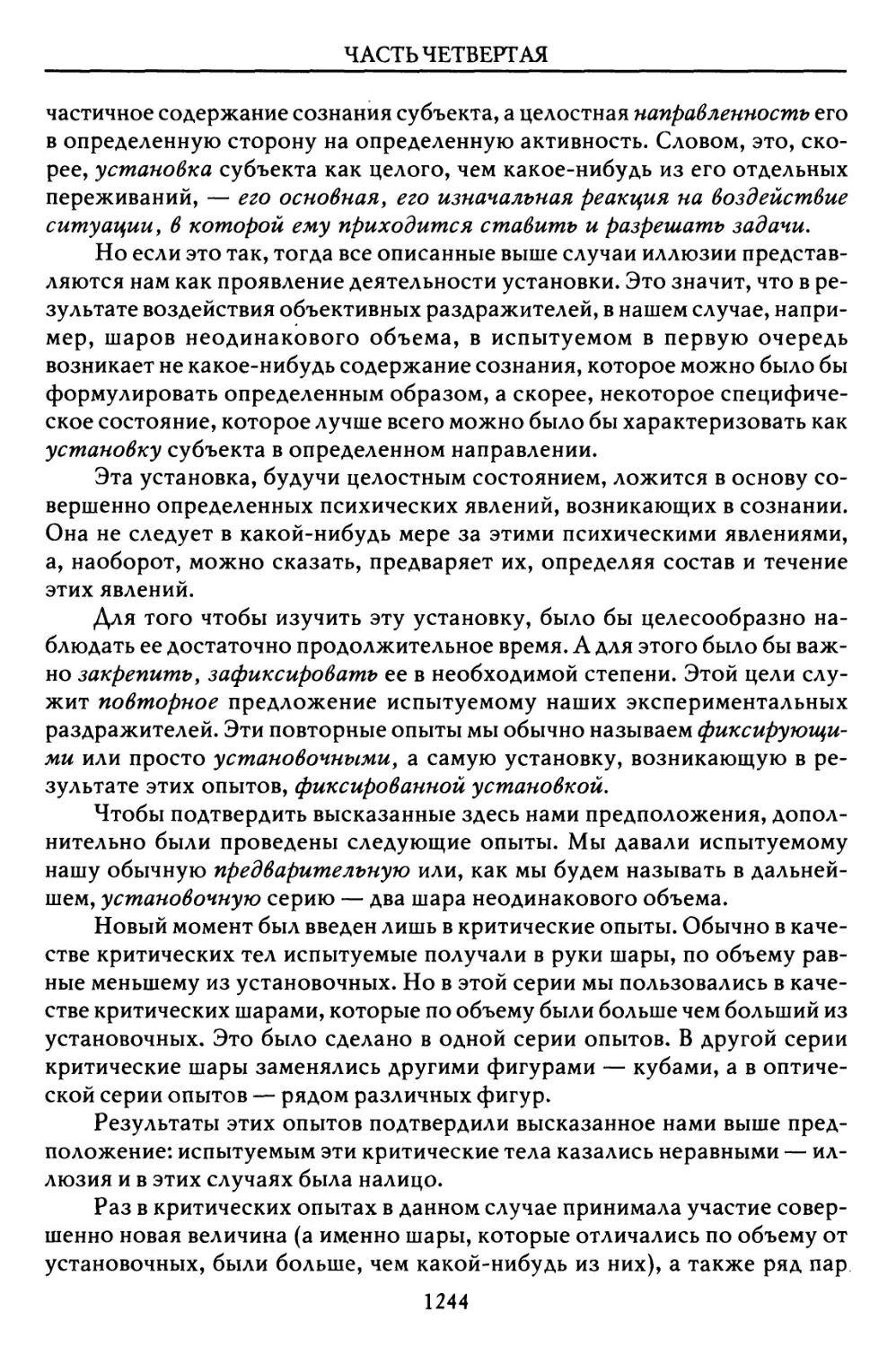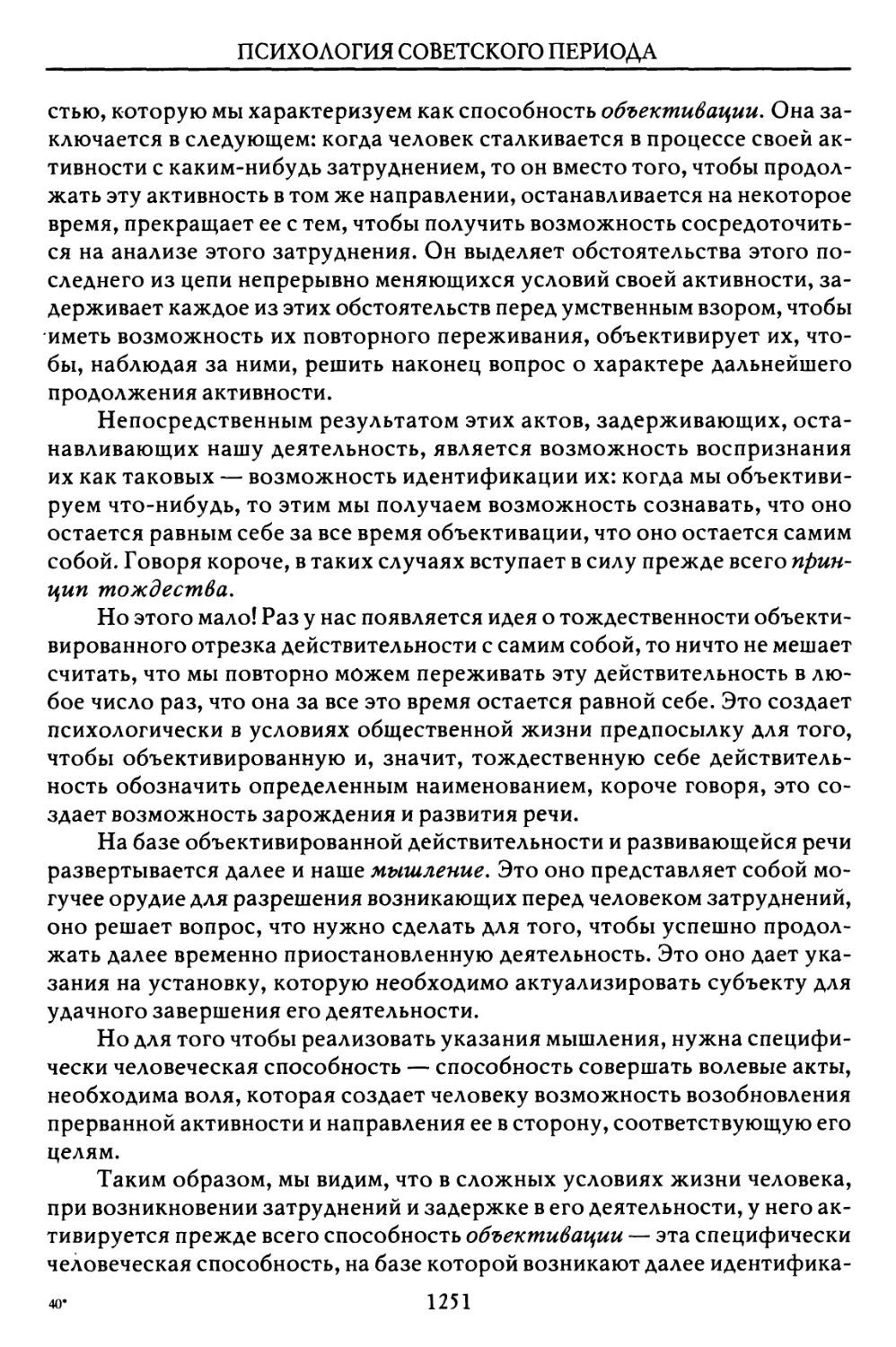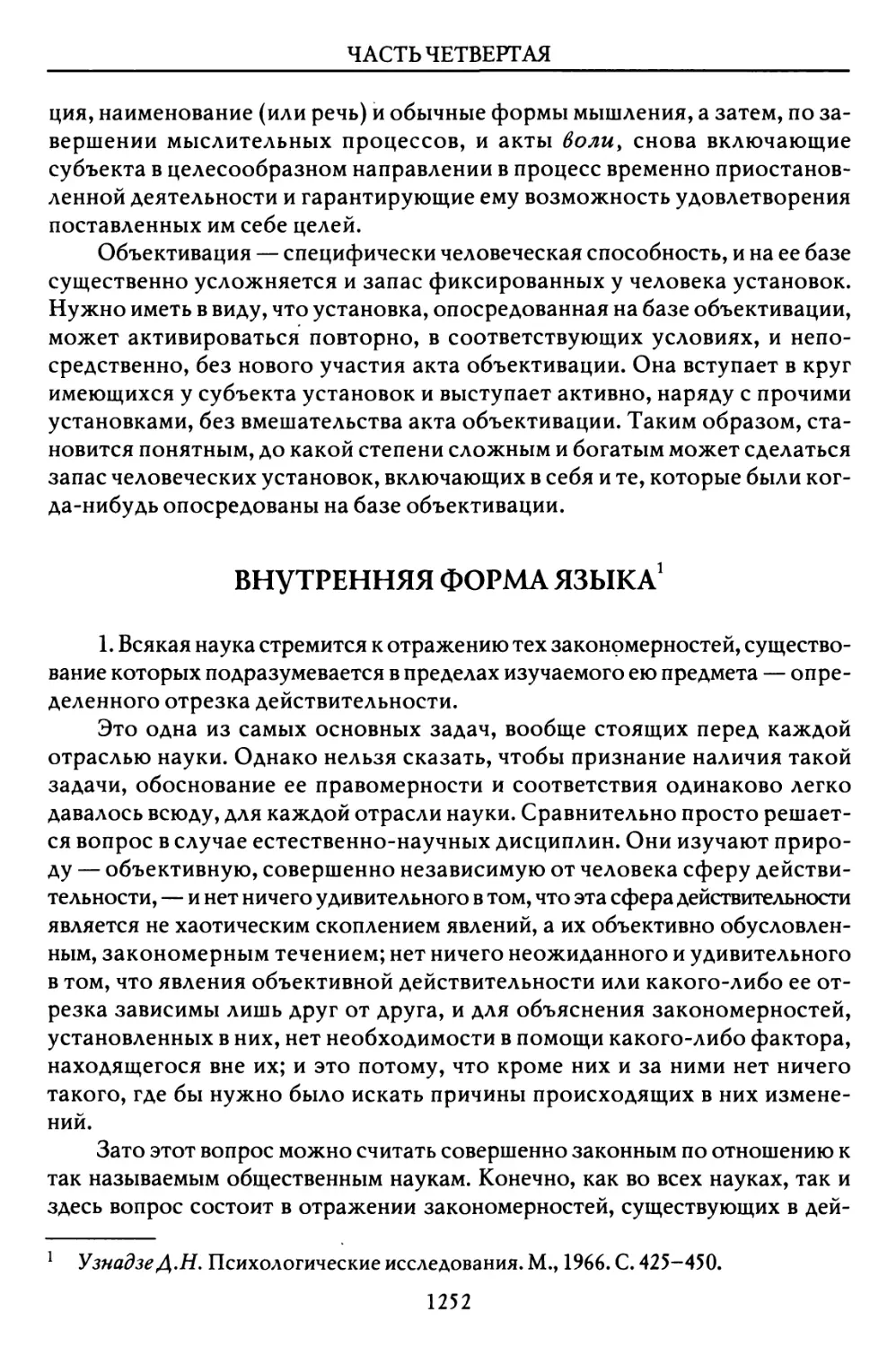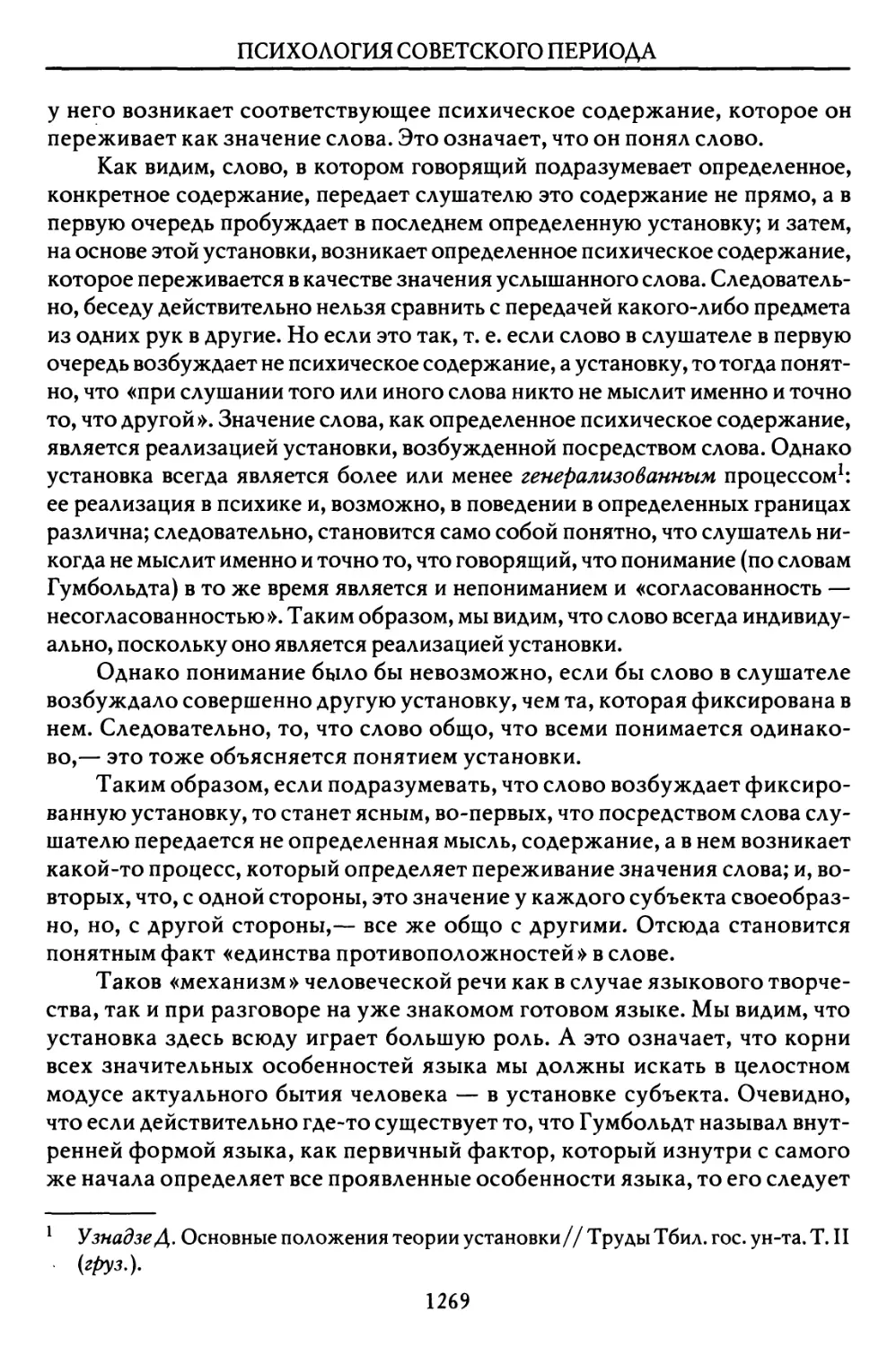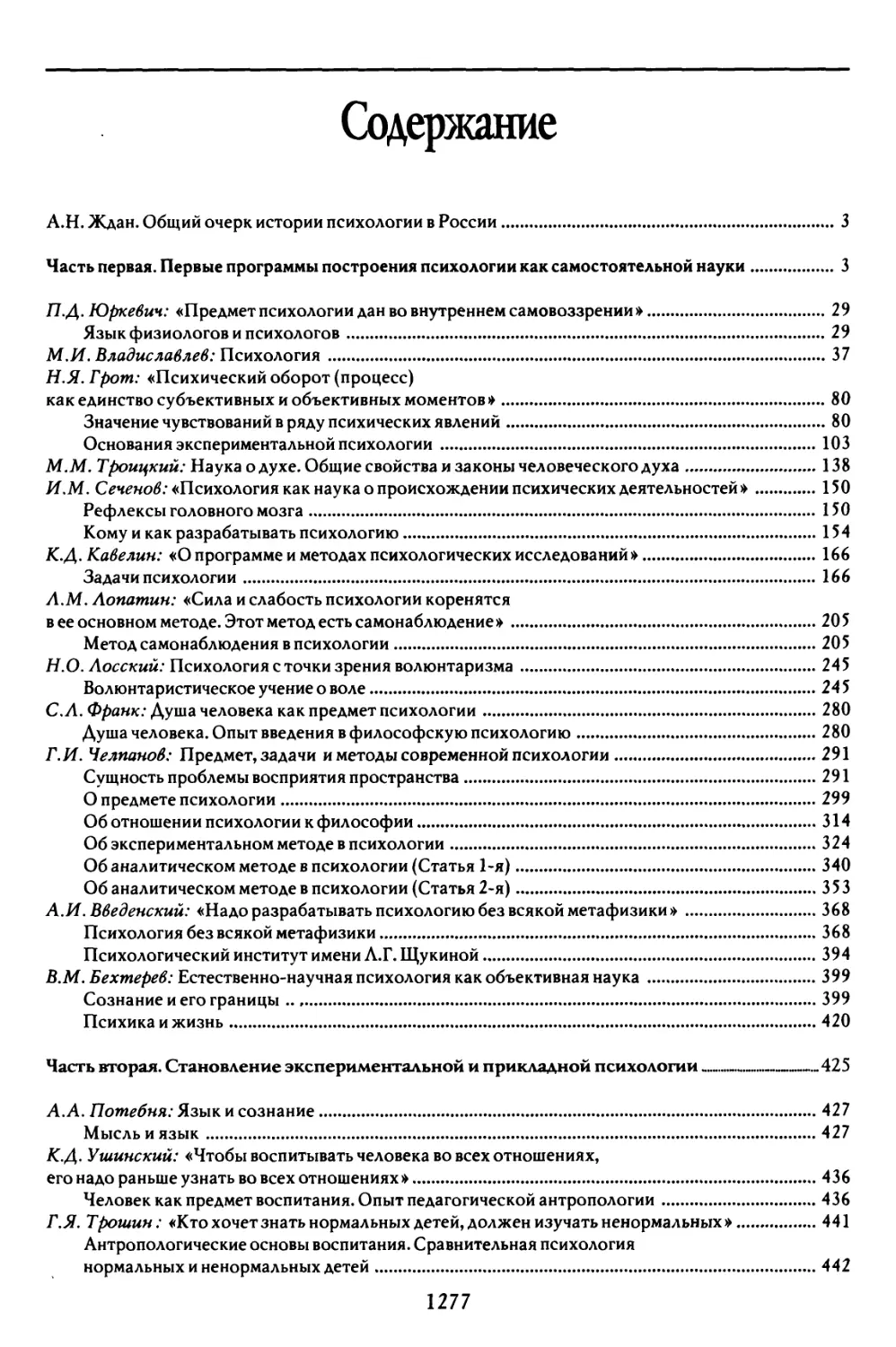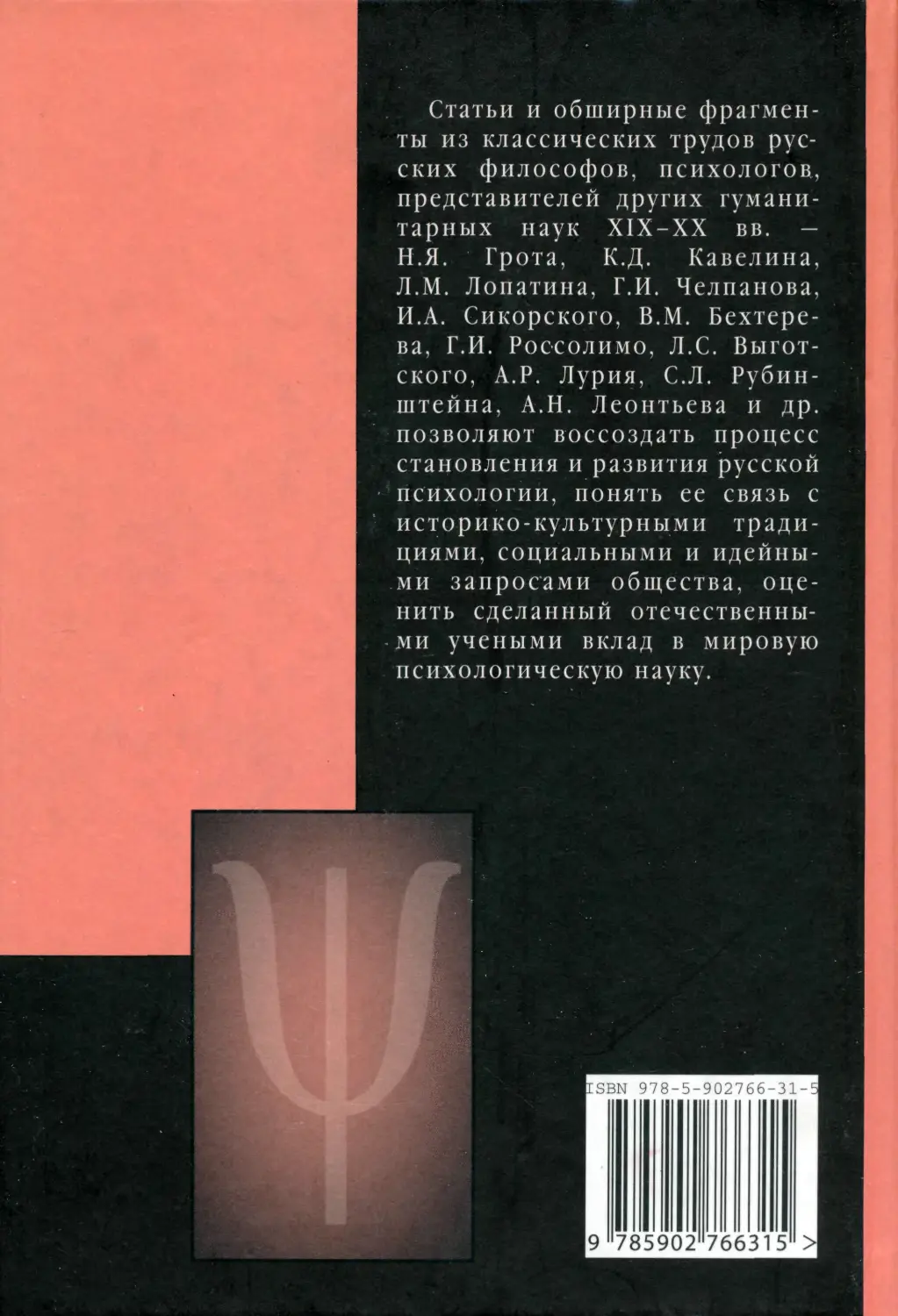Author: Ждан А.Н.
Tags: психология статьи и фрагменты классические труды русские философы психологическая мысль мировая психология
ISBN: 978-5-8291-1085-7
Year: 2009
Text
РОССИЙСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
антология
кадемическии
проект
А. Н. Ждан
РОССИЙСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
АНТОЛОГИЯ
Автор-составитель А.Н. Ждан
Москва
Академический Проект
2009
Москва
Альма Матер
2009
Российская психология: Антология/ Авт.-сост. А.Н. Ждан. — М.:
Академический Проект; Альма Матер, 2009. —1279 с. — («Summa»).
ISBN 978-5-8291-1085-7 (Академический Проект)
ISBN 978-5-902766-31-5 (Альма Матер)
Антология включает статьи и обширные фрагменты из классических трудов русских
философов, психологов, деятелей культуры и других социальных наук XIX-XX вв. —
Н.Я. Трота, К.Д. Кавелина, Л.М. Лопатина, Г.И. Челпанова, И.А. Сикорского, В.М.
Бехтерева, Г.И. Россолимо, Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и
других выдающихся представителей русской психологической мысли. Тексты позволяют
воссоздать процесс становления и развития русской психологии, понять ее связь с
историкокультурными традициями, социальными и идейными запросами общества, оценить
сделанный отечественными учеными вклад в мировую психологическую науку.
Для специалистов в области психологии, философии и смежных наук, студентов и
аспирантов гуманитарных факультетов, а также всех, кто интересуется развитием отечественных
психологических школ.
ISBN 978-5-8291-1085-7
ISBN 978-5-902766-31-5
© Ждан А.Н., 2008
© Оригинал-макет, оформление.
Академический Проект, 2008
© ООО Альма Матер, 2008
...может собственных Платонов и быстрых
разумом Невтонов Российская Земля рождать.
М.В. Ломоносов
АН Ждан Общий очерк истории
психологии в России
Русская психологическая мысль имеет
многовековую историю. Рассмотрение процесса ее
развития, анализ деятельности ее представителей,
особенно тех, которые на разных этапах истории внесли
значительный вклад в психологическую науку,
позволяет выявить ее самобытность, оригинальность
как следствие отражения запросов и специфики
общественно-исторических условий, духовного и
культурного опыта России и вместе с тем увидеть ее
органическую связь с мировой, прежде всего
западноевропейской наукой.
Начало научной психологической мысли в
России восходит к XVIII в., когда она приобретает
теоретические основания, постепенно освобождаясь от
сковывающей знание религиозной оболочки.
Однако зачатки психологических знаний складываются
значительно раньше. Предысторию русской
психологической мысли составляют взгляды на человека
и его душевную жизнь, которые складывались в
древней и средневековой Руси до XIV в. Появление
сочинений, в которых поднимались эти вопросы,
связано с введением в X в. христианства, их
изложение идет в русле религиозно-философской мысли,
прежде всего в переводных сочинениях. В них при
рассмотрении психологических проблем
привлекаются произведения как христианских писателей, так
и античных мыслителей («Диалектика», «Слово о
правой вере» и «О страстях» византийского
богослова VIII в. Иоанна Дамаскина; «Шестоднев»
3
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
Иоанна экзарха Болгарского; «Изборники» 1073 и 1076 гг. и др.). Наряду с
этими развиваемыми в контексте христианского вероучения знаниями (хотя
и в них наблюдаются отступления от чистого религиозной трактовки души)
складывались также реалистические, основанные на жизненных
наблюдениях описания психологических фактов и явлений.
Первые опыты создания отечественной литературы по вопросам
психологии связаны с именем русского православного церковного деятеля и
мыслителя Нила Сорского (1433-1508). Его «Устав», написанный как
наставление монахам, включает трактат о человеческих страстях и содержит
тонкие наблюдения. Выделяются стадии в развитии страстей, даются
практические советы по овладению страстями на разных стадиях их развития.
В 1-й половине XVI в. в сочинениях Максима Грека и других авторов
психологическая мысль делает новый шаг вперед по рациональному
освещению общих проблем сущности души, познавательных деятельностей,
страстей, воли. В XV-XVI вв. в связи с распространением ересей (стригольников,
«нового учения» Феодосия Косого и др.) появляются сочинения, в
которых в ортодоксально-христианское понимание души вносятся
существенные коррективы, а некоторые авторы доходят до признания смертности
души.
В XVII в. психология становится отдельным от теологии предметом
преподавания в Киево-Могилянской академии (образована в 1632 г.
Петром Могилой) и созданной по ее образцу Московской
славяно-греко-латинской академии (80-е гг. XVII в., в 1814 г. преобразована в Московскую
духовную академию). Сохранились рукописи читаемых в Киевской
академии психологических курсов. Среди них — «Трактат о душе» профессора
Иннокентия Гизеля (1645-1647), «Психология или трактат о душе»
профессора Иннокентия Поповского (1702). В них с большой полнотой и
систематически раскрываются психологические вопросы. В их решении
ряд идей созвучны западноевропейской мысли (например, идеи Гизеля о
роли ощущений как источнике разумного познания сходны с учением
Локка и др.). В Московской академии, которая до учреждения Московского
университета была центром высшего образования в России, ее первые
руководители и преподаватели философии братья Лихуды в психологии
выступали истолкователями «Трактата о душе» Аристотеля на основе его
комментариев, написанных Фомой Аквинским.
В XVIII в. наступил новый этап в истории России. Петровские
реформы, модернизация самодержавного строя, тенденции европеизации
страны, развитие науки и ее секуляризация, образование Академии наук (1724),
открытие Московского университета и двух гимназий при нем (1755),
труды В.Н. Татищева по отечественной истории, издание летописей явились
важными факторами, под влиянием которых начался процесс становления
русской научной психологии. На основе складывающихся веками
воззре4
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
ний на природу души и в контексте развернувшегося в России
просветительского движения (H.H. Поповский, А.Н. Радищев, Н.И. Новиков,
В.Н. Татищев, Д.С. Аничков, СЕ. Десницкий, Я.П. Козельский, П.С.
Батурин, Г.С. Сковорода и др.) формируются достаточно целостные
психологические представления. Развивается психолого-педагогическое
направление с его идеей о ведущей роли учения в развитии человека. В связи с
решением практических задач в области воспитания и обучения,
признанием зависимости психического развития человека от просвещения и
обучения, развивал психологические идеи В.Н. Татищев («Разговор о пользе наук
и училищ», 1733; «Духовная моему сыну», 1733). В связи с потребностями
государства и общества в научном знании народов, населяющих Россию,
организуется изучение народов Восточной Сибири. Материалы об их
обычаях, быте, нравах, семейном укладе и т. п., методы сбора данных дали
начало развитию научных этнопсихологических знаний в России.
М.В. Ломоносов (1711-1765), отправляясь от практических нужд
своего времени, в работах по физике и риторике развивал оригинальные
психологические идеи в контексте достижений мировой и отечественной
науки и философии, часто в спорах с их выдающимися представителями
(например, с Хр. Вольфом, курс психологии которого он слушал в
Германии, с некоторыми положениями И. Ньютона и др.). Ломоносов дал
материалистическую трактовку ощущений и восприятий, выдвинул
трехкомпонентную теорию цветового зрения («Слово о природе света», 1757).
Оригинальными являются рассуждения Ломоносова о воображении и
страстях, развиваемые им в связи с вопросами ораторского искусства
(«Краткое руководство к риторике», 1744 и 1748).
Я.П. Козельский (1728-1794) в своих философских и
психологических взглядах («Философические предложения», 1768) следовал идеям
Ж.Ж. Руссо, Ш.А. Монтескье, К.А. Гельвеция, что не мешало ему
критически к ним относиться (в частности, осуждал призыв Руссо к
«натуральной простоте»). Н.И. Новиков (1744-1818), крупный организатор
издательского дела в России, в своей публицистике и статьях, публикуемых в
издаваемых им журналах, отразил наиболее спорные вопросы о природе
души, особенно психофизическую проблему. В 1796 г. опубликована
первая русская книга, специально посвященная психологии, — трактат И.
Михайлова «Наука о душе». Ее автор произвел систематизацию
психологических знаний л духе английского эмпиризма Дж. Локка. Избегая
умозрительных вопросов о душе, он сформулировал четыре
психологических закона, в которых обращал внимание на зависимость душевной
жизни от воздействия предметов внешнего мира на органы чувств.
В условиях усиления крепостного гнета проблему человека поставил
А.Н. Радищев (1749-1802), в трудах которого психологические темы
занимают большое место. В автобиографической повести «Филарет
Милос5
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
различиях (вертикальная походка, развитой мозг и т. п.), но связывается
прежде всего с особенностями человеческого бытия: общественными связями
между людьми, трудовой деятельностью. В решении философских и
психологических проблем Радищев опирался на мировую философию и науку,
используя их достижения и критически относясь к ряду положений,
таких как, например, дуализм Р.Декарта, отрицание природных
способностей у К. Гельвеция и др.
На развитие русской психологической мысли 1-й половины XIX в.
значительное влияние оказали идеи немецкой идеалистической философии,
особенно Ф.В. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля. В это время выходит ряд трудов
по психологии: Д.М. Велланского «Биологическое исследование природы
в творящем и творимом ее качестве, содержащее основные очертания
всеобщей физиологии» (1812), его же «Физиологическая программа о
внешних чувствах» (1819); П. Любовского «Опытное душесловие» (1815);
А.И. Галича «Картина человека» (1834); О. Новицкого «Руководство к
опытной психологии» (1840) и др. В этих трудах в значительной степени под
влиянием идей Шеллинга человек и его качества рассматриваются в
антропологическом плане в связи с явлениями физического мира, а сама душа
предстает в единстве всех ее духовных начал— представлений, страстей,
воли и др. В них немало фактических данных. В то же время в изложении
большое место занимают широкие аналогии, предположения,
метафизические размышления. В книге Галича содержится интересный материал по
проблемам мотивации, страстей как оснований поступков, в которых
происходит объективация субъективной жизни человека, обнаруживается
этическая направленность его поведения. Галич подчеркивает оригинальность
русской психологической мысли, высоко оценивая произведения И.
Михайлова, П. Любовского, Д. Козельского.
6
тивый» о герое повести сказано, что он
«упражнялся во всех частях философии,
наипаче прилепился к учению о душе, или
психологии». В главном философском и
психологическом сочинении «О
человеке, его смертности и бессмертии»
стремился ответить на кардинальный вопрос
о том, что по своей природе есть душа и
возможно ли ее предсуществование и
бессмертие. Большое место в его трудах
занимают проблемы развития психики,
положения о роли воспитания в развитии
разума, о специфике психологии
человека в сравнении с животными, которая
усматривается не только в телесных
А.Н. Радищев (1749-1802)
Вершина развития русской
психологической мысли XVIII в.
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
Во 2-й половине XIX в. в связи с успехами естествознания, особенно в
физиологии нервной системы и органов чувств, психология выделяется в
самостоятельную науку — область знания о психических явлениях и
процессах, получаемого с применением научных методов исследования.
Возникает экспериментальная психология. Процесс оформления психологии в
самостоятельную науку в России происходил в сложных условиях.
Переживаемый Россией кризис крепостничества, завершившийся отменой
крепостного права (в результате крестьянской (1861) и других буржуазных реформ)
и утверждением капитализма, получил отражение в столкновениях и спорах
между различными направлениями общественно-исторической мысли, в
различных течениях в философии, а также в художественной литературе,
которая в России всегда была источником философско-этических и
психологических знаний. В рамках этих споров осмыслялись проблемы своеобразия
России, ее культуры и философии в сопоставлении с западноевропейской
мыслью и философией (особенно западничество и славянофильство,
почвенничество и «боготворчество» Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого). На
развитие психологических идей оказывали влияние различные
направления философской мысли.
В 80-е и последующие годы складывается самобытная русская
религиозная философия, в рамках и на основе которой развивалась и
психология (А.И. Введенский, И.О. Лосский, Н.Я. Грот, Л.М. Лопатин, С.Л. Франк
и другие). Одним из источников психологических учений выступала также
философия русских революционеров-демократов В.Г. Белинского (1811-
1848), А.И. Герцена (1812-1870), H.A. Добролюбова (1836-1861), Н.Г.
Чернышевского (1828-1889), М.А. Антоновича (1835-1918). Особенно
заметное влияние на психологию оказали Герцен и Чернышевский. Важным
источником философско-этической и психологической проблематики в
России была художественная литература. Проза В.А. Жуковского,
Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, произведения A.C.
Пушкина, Ф.И. Тютчева, A.A. Фета исключительно богаты психологическими
идеями. Под влиянием достижений в области филологии и лингвистики
(В. Даль, A.A. Потебня) глубокую и оригинальную разработку получили
психологические проблемы сознания и мышления в их соотношении с
языком, изучение которых затем продолжили Д.Н. Овсянико-Куликовский и
Г.Г. Шпет.
С успехами мировой науки и отечественного естествознания
(К.Ф. Рулье, K.M. Бэр, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев, И.М. Сеченов и
др.) и в связи с антропологической философией Чернышевского в русской
психологии возникает мощное естественно-научное направление,
получившее признание за рубежом. В полемике с подходом к объяснению
психических явлений с опорой на универсальные естественно-научные
принципы, П.Д. Юркевич (1827-1874) в статьях «Язык физиологов и психологов»
7
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
Уведомление
Б.А. Фохту (1875-1946)
о принятии его в члены
Московского психологического
общества
(1862), «Из науки о человеческом духе»
(1860), написанных по поводу
психологических взглядов Чернышевского и статьи
Антоновича «Современная физиология и
психология» (1862), критикует содержащуюся в
них форму материалистического подхода к
изучению психических явлений, с которой
отождествляет материализм в целом.
Попытку рассматривать психологию по образцу
естествознания Юркечвич расценивает как
сведение психологии к физиологии, при котором
уничтожается специфика психических
явлений и их познания. В противопоставлении
этой позиции отстаивал мысль о наличии в
человеке особого нематериального начала—
души и о самостоятельности психологии —
науки о внутреннем чувстве как особом
источнике психологического познания.
Ту же линию на самостоятельность психологии как основанной на
самонаблюдении области знания проводили М.И. Владиславлев
(«Современные учения о душе», 1866, и «Психология», 1881); Г. Струве
(«Самостоятельное начало душевных явлений», 1870); 1СД. Кавелин («Задачи психологии»,
1872). Их труды способствовали осознанию самостоятельности психологии,
чем подготавливали почву для ее выделения в отдельную науку. Однако
они не открывали реальных путей для решения этой назревшей задачи,
оставляя психологию опирающейся лишь на самонаблюдение.
Критикуя умозрительный характер психологических построений в
духе немецкого идеализма и сочувственно относясь к тем, кто защищал
единство психологии и естественных наук, профессор философии и
декан историко-филологического факультета Московского
университета М.М. Троицкий (1835-1899) требовал «приноровления к природе
духа методов физических наук», проводил линию на английский
эмпиризм и ассоцианизм («Немецкая психология в текущем столетии, т. 1 —
1867, т. 2 — 1883; «Наука о духе», 1882). По его инициативе в 1885 г.
было создано Московское психологическое общество при Московском
университете. Общество стало крупным центром разработки и
популяризации психологических знаний в России (закрыто в 1922 г.). Оно
развернуло широкую издательскую деятельность, частью которой явилось
основание в 1889 г. Н.Я. Гротом журнала «Вопросы философии и
психологии» (последняя, 141-142-я книга вышла в 1918 г.).
Н.Я. Грот (1852-1899) был крупным организатором русской
психологической науки 80-90-х гг. XIX в. В одном из главных своих трудов
8
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
«Психология чувствований в ее истории и главных основах» (1880),
посвященном исследованию проблемы чувств — первом в отечественной
науке на эту тему, — отстаивал линию на самостоятельность
психологии. Здесь же выдвинул оригинальную общепсихологическую теорию
психического оборота. В ней он дал новое понимание психических
процессов как целостных приспособительных актов, включающих четыре
фазы: внешнее впечатление, его переработку в психическое явление
разной сложности, возникновение стремлений. Завершающей фазой
является действие или деятельность во внешней среде. Здесь содержалась
важная идея рассмотрения психики в связи с действием во внешней
среде. В творчестве Грота нашли отражение важнейшие проблемы
психологии, касающиеся сущности психического, методов психологического
познания. Грот оценил введение в психологию экспериментального
метода как переворот, вместе с которым наука приобретает орудие
точного изучения и познания фактов душевной жизни. В решении вопросов
воли и свободы воли, нравственных начал в жизни человеческой
личности психологические воззрения Грота сливались с этическими
проблемами, приобретали захватывающую завершенность.
Русский физиолог и психолог И.М. Сеченов (1829-1905) выступил
с первой в России целостной программой развития психологии как
самостоятельной науки, основу которой составила его новаторская
рефлекторная концепция психического. В программе Сеченова, вызвавшей
интересную полемику в отечественной науке (К.Д. Кавелин, Ю.Ф.
Самарин) и культуре (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский), заложены основы
объективного детерминистского анализа психической деятельности. На
основе преобразованного им понятия рефлекса Сеченов разработал новое
понимание психического, которое противопоставлял представлению о нем
как объекте интроспекции (самонаблюдения). Рефлекс трактовался
Сеченовым как целостный, психически регулируемый акт поведения,
связывающий организм со средой («Рефлексы головного мозга», 1863).
Психическая деятельность рассматривалась по типу рефлекторного процесса: подобно
рефлексу, психические акты вызываются внешнем воздействием,
продолжаются центральной деятельностью и завершаются движением, поступком,
речью и др. Тем самым радикально менялось понимание предмета
психологии, который отныне не сводился к непосредственно данным фактам
сознания, начинающимся и кончающимся в его недрах. Психология
определялась как наука о происхождении (в смысле протекания) психических
деятельностей («Кому и как разрабатывать психологию», 1873). При этом
важнейшая роль отводилась генетическому методу, позволяющему
проследить становление сознания и тем самым объяснить его.
Подход Сеченова к научному познанию поведения и психического
получил дальнейшее развитие в крупных научных школах отечественной
на9
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
составили естественно-научные основы психологических знаний. Их
органический сплав стал отличительной особенностью отечественной науки о
поведении в противоположность американскому бихевиоризму, в
современном Павлову варианте исключавшему психическое из области
научного познания.
В психологической концепции Бехтерева, которая на протяжении его
научной деятельности претерпела существенную эволюцию
(экспериментальная психология, 80-90-е гг. XIX в.; объективная психология, 1904;
рефлексология, 1917), намечена грандиозная программа по объединению
различных наук — неврологии, психиатрии, анатомии и физиологии мозга,
психологии, синтез которых призван составить комплексное знание о
человеческой личности в ее здоровых и болезненных проявлениях.
Объективный естественно-научный анализ поведения человека, его психики
описывался в понятиях «соотносительной деятельности», элементом которой
является сочетательный рефлекс. Один из сотрудников Бехтерева видный
русский психолог А.Ф. Лазурский (1874-1917) развивал новаторский
взгляд на развитие личности и методы ее исследования («Классификация
личностей», 1922), выступил поборником психологии индивидуальных
различий, явился основателем этой отрасли в отечественной науке («Очерк
науки о характерах», 1909).
Идеи объективной биологической психологии отстаивал H.H. Ланге
(1858-1921), ученик Владиславлева, один из основоположников
экспериментальной психологии в России. В «Психологических исследованиях»
(1893), используя экспериментальный метод, выдвинул концепцию
восприятия как фазового процесса и моторную теорию внимания. В 1896 г. Ланге
открыл психологическую лабораторию при Новороссийском университете
(Одесса). В последнем опубликованном труде — книге «Психология» — дал
сводный очерк психологии, сформулировал принципы психологии как
на10
уки, получивших всемирное признание:
в учении И.П. Павлова (1849-1936) о
высшей нервной деятельности, в объективной
психологии и рефлексологии В.М.
Бехтерева (1857-1927), в сравнительной
психологии В.А. Вагнера (1849-1934), учении о
доминанте A.A. Ухтомского (1875-1942).
Павлов, первый русский лауреат
Нобелевской премии (1904), создал учение о высшей
нервной деятельности (поведении) живых
существ. Открытые им законы высшей
нервной деятельности, понятия условного и
безусловного рефлексов, первой и второй
сигнальных систем и др. прочно вошли в науку,
Портрет И.П. Павлова
кисти М.В. Нестерова
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
уки, у которой два лика, как у Януса: один — обращенный к физиологии и
естествознанию, другой — к наукам о духе.
Важная роль в становлении отечественной психологии принадлежит
Г.И. Челпанову (1862-1936). Его психология— вариант эмпирической
интроспективной концепции, основу которой составляет теория
параллелизма психических явлений и физиологических процессов («Мозг и душа »,
1900), самонаблюдение в сочетании с экспериментом и другими методами.
Историческую заслугу Челпанова составило основание им первого в
России и одного из лучших в мире Психологического института при
Московском университете (1912). На базе института развернулись научные
исследования и осуществлялась подготовка высококвалифицированных кадров
профессиональных психологов, многие из которых в дальнейшем стали
видными психологами (A.A. Смирнов, СВ. Кравков, П.А. Шеварев,
H.A. Добрынин, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов и другие). Результаты
исследований нашли отражение в публикациях, в том числе в изданиях: Г.И.
Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве. М., 1916;
Психологическое обозрение. 1917-1918. № 1-4; Психологические исследования /
Труды Психологического института при Московском университете (Т. 1.
Вып. 1-2. М., 1914). Челпанов является автором многочисленных научных
трудов и учебников (по психологии, логике, экспериментальной
психологии, философии). В 1923 г. Челпанов был отстранен от руководства
институтом и от работы в нем в связи с оценкой его психологии как
несоответствующей марксизму, став одной из первых жертв идеологических
репрессий, обрушившихся в тот период в нашей стране на науку. Свое
отношение к марксизму Челпанов выразил в опубликованных в 1924-1927 гг.
пяти брошюрах. В них он отстаивал тезис о независимости психологии от
философии, защищал положение о возможности согласовать
эмпирическую психологию с марксизмом, полагая, что только социальная
психология должна быть марксистской. Челпанов выступил с предложением об
организации Института социальной психологии (1926). Предложение
осталось без ответа.
В русле естественно-научного и экспериментального направлений в
русской науке сложилось стремление превратить психологию в жизненно
важную науку. Этому движению способствовало создание в 80-90-х гг. XIX в.
психологических лабораторий в разных городах России при практических
учреждениях, в основном — в психиатрических клиниках (в Казани — В.М.
Бехтеревым, в Москве — С.С. Корсаковым и A.A. Токарским, в Киеве— И.А.
Сикорским, в Юрьеве (Дерпте) — В.Ф. Чижом, в Харькове — П.И. Ковалевским
и др.). Существенно отметить, что с психологами тесно сотрудничали
психиатры и невропатологи: H.H. Баженов, С.С. Корсаков, В.П. Сербский,
П.Б. Ганнушкин, Г.И. Россолимо и др. В деятельности многих из них
большое место занимала психология (например, описание основных типов
nail
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
1881). Их последователи в психологии — А.Н. Нечаев, Н.Е. Румянцев,
П.Ф. Каптерев, И.А. Сикорский, Г.Я. Трошин — стали основателями
детской и педагогической психологии в России. В контексте идеи о
необходимости целостного знания о ребенке в России зарождается
педология как комплексная наука о развивающемся ребенке, в которой
психология является только одной из наук о нем, хотя и главной
(В.М.Бехтерев, А.П.Нечаев, Н.Е.Румянцев и другие). В процесс своего
становления вступило важнейшее направление прикладных исследований —
патопсихология и дефектология (В.Ф. Чиж, С.А. Суханов, Г.И. Россолимо,
A.A. Крогиус). Психология распространилась и на другие области
социальной практики.
К началу XX в. русская психология превратилась в разветвленную
область научного знания, как прикладного, так и теоретического характера.
Продолжая традиции русской мысли, она достигла в своем развитии
уровня, соответствующего мировой науке. В то же время сосуществование в
русской психологии различных теоретических подходов —
эмпирического, интроспективного, с одной стороны, различных течений в рамках
философской психологии («психология без всякой метафизики» А.И.
Введенского, волюнтаристическая психология Н.О. Лосского, философская
психология A.M. Лопатина и С.А. Франка) — с другой, а также
интенсивное развитие естественно-научно ориентированных концепций — было
свидетельством раскола отечественной психологии, ее кризиса. В книге «Душа
человека» (1917) Франк предпринял попытку снять противостояние
раз12
тологических характеров в монографии
П.Б. Ганнушкина «Клиника психопатий: их
статика, динамика и систематика», 1933).
С.С. Корсаков в своей психиатрической
практике опирался на психологию (см., например,
его «К психологии микроцефалов, 1894;
«Болезненные расстройства памяти и их
диагностика», 1890, и др.).
В последней четверти XIX в. в
отечественной науке формируются прикладные
направления. Происходит процесс
становления педагогической и детской психологии в
контексте идеи зарубежных и отечественных
ученых о необходимости для педагогики
основываться на изучении психического мира
ребенка. Важную роль в развитии этих
направлений сыграли
психолого-педагогические труды педагогов, особенно К.Д.
Ушинского (1842-1871), Н.И. Пирогова (1810-
С.С. Корсаков (1854-1900)
Психиатр, основоположник
Московской психиатрической
школы. Описал форму
расстройства памяти
у больных корсаковским
психозом
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
ных течений и восстановить психологию в ее старом смысле как науку о
душе. Эта попытка была оценена современниками как возврат к
умозрительной метафизической психологии (Э.Л. Радлов, Л.С. Выготский) и не
получила дальнейшего развития.
После революции 1917 г. психология включилась в решение задач
социалистического строительства. В этих условиях большое распространение
получила прикладная психология. С начала 20-х гг. разрабатывались теория и
практика психотехники [И.Н. Шпильрейн (1891-1937), С.Г. Геллерштейн
(1896-1967), НА Левитов (1890-1971), А.К. Гастев (1882-1938) и другие],
ориентированной на исследование профессий, психодиагностику и
профессиональный отбор, борьбу с производственным травматизмом и аварийностью и
др. Создавались институты по изучению проблем труда. В психологических
институтах, в различных ведомствах и на отдельных промышленных
предприятиях открывались многочисленные психотехнические лаборатории. Было
организовано Всесоюзное психотехническое общество. Одновременно
большое развитие получила педология как наука о целостном развитии ребенка,
охватывающая все стороны этого развития — телесную и психическую.
Теоретические основы педологии разрабатывали как педологи [А.Б. Залкинд
(1888-1936)), так — и это главным образом — и психологи (П.П. Блонский
(1884-1941), МЛ. Басов (1892-1931), Л.С. Выготский (1896-1934) и др.].
Широкое распространение получила практическая работа педологов, прежде
всего в школе. Основные направления деятельности педологической
службы в школе включали изучение учащихся, диагностику и комплектование
классов на этой основе, разработку практических мероприятий по
рационализации занятий, выявлению причин неуспеваемости, работу с
трудными детьми, ознакомление педагогов с основами педологии. Широко
использовались тестовые испытания, по результатам которых давались практические
рекомендации по переводу детей во вспомогательные школы, число которых
быстро увеличивалось. Вследствие допущенных ошибок при их
комплектовании в них попадали вполне нормальные, но педагогически запущенные
дети. В контексте экономической и политической ситуации конца 20-х —
начала 30-х гг., начавшихся «разоблачительных дискуссий », обвинений
советских ученых в увлечении буржуазными теориями в 30-х гг.
психотехника и педология были запрещены. Закрыты журналы «Педология» (1928-
1932) и «Советская психотехника» (1932-1934, издававшаяся с 1928 г. под
названиями «Психофизиология труда и психотехника» (1928) и
«Психотехника и психофизиология труда» (1929-1931). В соответствии с
постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях
в системе наркомпросов » все сочинения с грифом «педология » оказались
под запретом, попали в «спецхраны». В их числе оказались работы,
публиковавшиеся как педологические, но фактически посвященные важнейшим
психологическим вопросам детской и педагогической психологии:
анали13
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
зу особенностей различных возрастных периодов развития, методам
комплексного изучения ребенка, в частности методу тестов, вопросам
психологии труда и т. п. Из научного обращения надолго — до конца 50-х гг. —
были исключены классические труды Л.С. Выготского, М.Я. Басова,
П.П. Блонского и др., что существенно отразилось на развитии
отечественной психологии. Сейчас даже трудно представить, что выросло целое
поколение психологов, никогда не читавших книг Л.С. Выготского и знавших
о нем лишь из рассказов и лекций его учеников.
В ситуации провозглашения марксизма официальной идеологией в
науку вошла специфическая для русской психологии проблема
«психология и марксизм». В контексте ее разрешения возникли новые
теоретические концепции и школы. Первыми заявили о себе в качестве марксистских
такие направления, как реактология К.Н. Корнилова (1921), психология
как наука об истории поведения П.П. Блонского (1921), а также
рефлексология Бехтерева (1917). Все эти направления объединяло критическое
отношение к психологии как субъективной науке по предмету и методу,
оторванной от практики. Вместе с тем опыт создания новой психологии на базе
марксизма этими авторами остался незавершенным: многие
психологические построения были лишь внешне соединены с высказываниями о
психике теоретиков марксизма. Реактология Корнилова и рефлексология
Бехтерева прекратили существование после разгромных дискуссий —
реактологической (1931) и рефлексологической (1929). В своих
последующих трудах Блонский сосредоточился на проблемах общей и педагогической
психологии («Развитие мышления школьника», 1935, «Память и
мышление», 1935). К.Н. Корнилов после реактологической дискуссии
сосредоточился на исследованиях по педагогической и возрастной психологии в
русле традиционных представлений о психологии как науке о психике,
продолжая при этом руководствоваться марксистской методологией и
требованиями, предъявляемыми в 40-50-х гг. к науке со стороны
официальной идеологии.
Опираясь на философию марксизма, психологи М.Я. Басов, Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн, АН. Леонтьев, А.Р. Лурия и другие создали
концепции, обогатившие науку новыми пониманиями предмета психологии, ее
методов и основных проблем. Так, Басов в 1927-1928 гг. ввел в
психологию термин «деятельность». В качестве предмета психологии выдвинул
понимание человека как активного деятеля в среде. Он начал изучение
строения деятельности, описал пять ее форм, которые различал по характеру
связей между отдельными актами деятельности. В описании этих форм
следовал традиционной психологии и использовал ее терминологию.
Выготский вошел в историю мировой и отечественной
психологической науки как основатель школы неклассической
культурно-исторической психологии. Предметом психологии Выготского было сознание
чело14
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
века, специфической формой которого являются высшие психические
функции. Опираясь на созданные им методологические принципы
психологического исследования, прежде всего принцип историзма, и
сконструированный им новый экспериментально-генетический метод, изучал развитие
высших психический функций. Сформулировал законы развития высших
психических функций, сделал вывод о ведущей роли обучения в
психическом развитии. Из школы Выготского вышли многие выдающие психологи:
А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин,
A.B. Запорожец, Л.В. Занков, НА. Менчинская и др.
Опираясь на психологические идеи Выготского об историческом
происхождении психических функций, А.Р. Лурия (1902-1977) осуществил
новаторские исследования в различных областях психологии — общей,
детской, психофизиологии, дефектологии. Он создал новую область
нашей науки — нейропсихологию («Мозг человека и психические
процессы»: В 2 т.), стал основоположником отечественной нейропсихологической
школы (Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова, Э.Г. Симерницкая, Н.К. Киященко
(Корсакова) и др.). Предметом нейропсихологии является важнейшая
междисциплинарная проблема — «мозг и психика», вокруг которой не
утихают острые дискуссии. Созданная Лурией нейропсихология получила
международное признание.
С.Л. Рубинштейн (1889-1960) в фундаментальных теоретических и
экспериментальных исследованиях разрабатывал
философско-психологические проблемы. Итогом стали сформулированные им
общепсихологические методологические принципы единства сознания и деятельности,
детерминизма, развития, личности как субъекта деятельности. Согласно
принципу единства сознания и деятельности, психология изучает психику
через деятельность и тем самым исследует психологические особенности
деятельности. Книга Рубинштейна
«Основы общей психологии » на
общероссийском психологическом конкурсе 2000 г.
признана самой читаемой в XX в.
отечественной книгой по психологии.
Концепция Рубинштейна получила дальнейшее
развитие как в теоретическом плане, так и
в конкретных экспериментальных
исследованиях в трудах учеников (A.B.
Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская,
Д.Б. Богоявленская, И.С. Якиманская и
АР-)-
A.B. Брушлинский (1933-2002)
Академик РАО, нлен-корр. РАН,
директор МП РАН (1989-2002)
Деятельность как предмет и метод
психологических исследований
разрабатывал А.Н. Леонтьев (1903-1979), со-
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
трудник Выготского, а с начала
30-х гг. — создатель собственной
научной школы, впрочем идейно
связанной с теорией Выготского.
Им исследовались проблемы
развития психики («Проблемы
развития психики»), структура
деятельности («Деятельность.
Сознание. Личность»),
производилось экспериментальное изучение
процессов восприятия, памяти,
мышления, внимания. Леонтьев
был крупным организатором
психологической науки. При его
непосредственном участии в 1966 г. в
Московском университете был
открыт психологический факультет,
первым деканом которого он был
до своей кончины. На основе
теории деятельности Леонтьева и
других вариантов деятельностного
подхода разрабатывались такие отрасли психологической науки, как
социальная психология (Г.М. Андреева, A.B. Петровский), детская (A.B. Запорожец,
Д.Б. Эльконин), педагогическая (В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина),
инженерная психология (В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов), патопсихология (Б.В.
Зейгарник), зоопсихология (К.Э. Фабри) и др.
Новое понимание предмета психологии как различных форм
ориентировочной деятельности субъекта в проблемных ситуациях выдвинул
П.Я. Гальперин (1902-1988). Эта концепция позволяет объективно
исследовать психическую деятельность на всех ее эволюционных уровнях,
открывает пути использования результатов исследовательской работы для
решения практических задач широкого диапазона.
Развивая традиции школы Бехтерева, ее комплексный подход к
исследованию психологических проблем, Б.Г. Ананьев (1907-1972) разработал
систему, в центре которой — проблема человека, процесс его индивидуального
развития. Один из создателей университетского психологического
образования в нашей стране, Ананьев основал крупную научную школу. Разработка
проблемы индивидуальных психологических различий на основе павловских
идей стала главной темой творчества Б.М. Теплова (1896-1965),
основоположника советской дифференциальной психофизиологии, автора
капитальных исследований и по другим вопросам, в том числе — истории психологии,
психофизиологии и психологии восприятия, музыкальных способностей и др.
В.В. Давыдов (1930-1998)
Академик РАО, директор
Института общей и педагогической
психологии АПН СССР (1973-1983,
1991-1992). Вице-президент Российской
академии образования (1989-1991).
Создал (вместе с А.Б. Элькониным)
систему развивающего обучения,
известную под названием «система
Эльконина-Давыдова »
16
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
Работу по изучению вопросов
психофизиологических основ индивидуальных различий
после смерти Теплова возглавил В.Д.
Небылицын (1930-1972). Исследования
индивидуальных особенностей человека в школе
Теплова-Небылицына продолжаются по сей
день.
Оригинальная психологическая школа
сложилась начиная с 20-х гг. в Грузии. Ее
теоретической основой является
общепсихологическая теория установки, разработанная
основателем школы Д.Н. Узнадзе (1886-1950). Факт
предварительной психологической подготовки
человека к определенному действию,
обозначенный термином «установка», послужил
отправным пунктом многочисленных
экспериментальных исследований, выступил
объяснительным принципом изучения психических
явлений. Ж. Пиаже назвал этот феномен
«эффектом Узнадзе».
В годы Великой отечественной войны
преобладающей в психологии стала оборонная
тематика. Изучение воинского труда, совершенствование маскировки и другие
исследования психологов оказывали непосредственную помощь армии. В
эвакогоспиталях развернулись практические работы по восстановлению бое- и
трудоспособности раненых: проводилась коррекция речевых расстройств,
нарушений гнозиса и праксиса, организовались профконсультация и трудовое
обучение инвалидов, сложилась система трудовой терапии. Психологи
сотрудничали с физиологами — Л.А. Орбели, П.К. Анохиным, H.A. Бернштейном.
Теоретической основой этих работ были сложившиеся в предшествующие
годы концепции A.C. Выготского, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, Д.Н.
Узнадзе, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, которые
убедительно показали свою жизненность и практическую значимость.
Одновременно происходило организационное укрепление психологии.
В 1942 г. создаются кафедры психологии на философском факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова (зав. С.Л. Рубинштейн) и в Ленинградском
университете. На их базе вскоре открываются отделения по подготовке
профессиональных психологов. В феврале 1945 г. решением Президиума Академии
наук СССР в Институте философии АН СССР создан сектор психологии.
В 1941 г. в Тбилиси при Грузинской Академии наук был создан сектор
психологии, который возглавил Д.Н. Узнадзе. В 1943 г. на его основе
сформировался Институт психологии (директор Узнадзе). Институт стал центром
17
В.П. Зинченко (р. 1931)
Академик РАО. Один из
основателей отечественной
инженерной психологии
и эргономики. Разработал
(совместно с A.B.
Запорожцем) концепцию
перцептивных действий.
Крупный теоретику
методолог и организатор
психологической науки
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
разработки фундаментальных научных проблем в русле грузинской
школы психологии установки. В 1945 г. Г.С. Костюк (1899-1982) организовал в
Киеве научно-исследовательский институт психологии (ныне Институт
психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины). В 1946 г. вводится курс
психологии в средних школах. В 1942 г. труд С.Л. Рубинштейна «Основы
общей психологии» был удостоен высшей награды — Сталинской премии.
В годы войны продолжалось интенсивное развитие теоретических
оснований психологии. На основе деятельностного подхода разрабатывались
проблемы возникновения и развития психики в филогенезе (А.Н.
Леонтьев, H.H. Ладыгина-Коте, Н.Ю. Войтонис, Г.З. Рогинский), и в
онтогенетических исследованиях, а также проблемы истории психологии (Б.Г.
Ананьев), способностей (Б.М. Теплов), памяти (П.И. Зинченко, A.A. Смирнов),
ощущений (СВ. Кравков, Б.Г. Ананьев). С.Л. Рубинштейн углубляет
учение о сознании. А.Н. Леонтьев развивает исследования содержания,
структуры и видов деятельности. Возникают новые отрасли психологии —
военная психология, нейропсихология (А.Р. Лурия) и др.
В послевоенный период негативную роль в развитии отечественной
психологии сыграли организованные партийными органами идеологические
дискуссии второй половины 40-х — начала 50-х гг. по философии (1947),
биологии (1948), языкознанию (1950), физиологии (1950), политэкономии
(1951). Особенно пагубное влияние оказала лысенковщина, наложившая
вето на изучение принципиальных проблем психологии, в частности
биологических основ поведения и его наследственных предпосылок.
Негативным было влияние дискуссии по вопросам языкознания, в итоге которой
психология столкнулась с необходимостью приспосабливать свои
исследования к навязанным свыше установкам. Отрицательно сказалась на
психологии Объединенная научная сессия Академии наук СССР и Академии
медицинских наук СССР, посвященная проблемам физиологического
учения И.П. Павлова (28 июня — 4 июля 1950 г.), так называемая «павловская
сессия», на которой под предлогом защиты павловское учение было, по
существу, извращено и догматически истолковано. На сессии 1950 г.
физиолог М.М. Кольцова заявила: область исследований в психологии
совпадает с физиологией высшей нервной деятельности человека — тем самым
она отождествила психическое с физиологическим. Признание
своеобразия психических процессов и специфических закономерностей психики
Кольцова квалифицировала как «метафизическую постановку вопроса».
Аналогичную позицию занимали и другие физиологи. Возникла тенденция
недооценки психологии как самостоятельной науки, опасность подмены
ее собственных закономерностей — физиологическими.
Эта ликвидаторская по отношению к психологии тенденция встретила
критику со стороны ведущих психологов на той же сессии в выступлениях
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, А.Р. Лурии и была окончательно
преодо18
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
лена на проведенном АН СССР в 1962 г. совещании по философским
вопросам физиологии высшей нервной деятельности и психологии. Наряду с
этой преодолевалась и другая тенденция, обнаружившаяся в некоторых
психологических исследованиях и выражавшаяся в упрощенном внешнем
применении физиологических закономерностей к объяснению
психологических фактов, в догматизме при использовании учения Павлова и др.
Преодолению негативных влияний названных дискуссий
способствовали совещания по вопросам психологии, прошедшие в 1952, 1953 и 1955 гг.
По существу, это были психологические съезды с участием
представителей смежных с психологией наук. Совещания проходили под лозунгом
перестройки психологии на основе павловского учения в борьбе с его
ошибочными толкованиями некоторыми физиологами. На них обсуждались
состояние и пути развития психологической науки в нашей стране,
результаты исследовательской работы в области теории и практики. На совещании
1953 г. П.Я. Гальперин выступил с докладом «Опыт изучения формирования
умственных действий », который явился первым изложением психологической
концепции, разрабатываемой им в последующие годы и известной под
названием учения о планомерном поэтапном формировании умственных действий
и понятий. На совещании 1955 г. два заседания были посвящены проблеме
установки; впервые после двадцатилетнего перерыва в исследованиях было
проведено специальное заседание по вопросам психологии труда.
После павловской сессии 1950 г. продолжалось освоение наследия
Павлова психологами. В последующие годы оно постепенно приобретало
нормальные формы и было плодотворным в области разрешения задачи
нахождения физиологических механизмов психических процессов.
Крупные открытия в области новой физиологии — теория функциональных
систем П.К. Анохина (30-70-е гг.) и физиология активности H.A.
Бернштейна (начало 30-х — 60-е гг.), подвергнутые на павловской сессии 1950 г.
несправедливой критике, получили подлинное признание в качестве
основы для объяснения физиологических механизмов приспособительного
поведения животных и высших форм сознательной деятельности человека.
Примером подлинно творческого применения в психологии идей Павлова
о свойствах нервной системы и типах высшей нервной деятельности
явились работы Б.М. Теплова и его сотрудников В Д. Небылицына, Э.А.
Голубевой и других о физиологических механизмах
индивидуально-психологических различий. Фундаментальные исследования типологических
особенностей высшей нервной деятельности человека и их психологических
проявлений в итоге воплотились в создание нового научного направления —
психофизиологии индивидуально-психологических различий, известного
как школа В.М. Теплова — В.Д. Небылицына. На основе павловского
учения психологами и физиологами был проведен широкий круг исследований
физиологических механизмов восприятия (E.H. Соколов), речи (Н.И.
Жин19
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
кин, А.Н. Соколов), высших умственных процессов (Е.И. Бойко) и др.
Важное значение для дальнейшего развития учения о физиологических
механизмах сложных форм психической деятельности имели исследования
E.H. Соколова и О.С. Виноградовой, посвященные динамике
ориентировочного рефлекса у человека. Плодотворным оказалось введение E.H.
Соколовым понятие «нервная модель стимула» (1959). Им обозначалось
физиологическое отражение, нервные образцы всех компонентов условного
рефлекса (раздражителя, реакции, подкрепления). В целом исследования
физиологических механизмов психической деятельности способствовали
разрешению важнейшего теоретического вопроса —
психофизиологической проблемы, от правильного решения которой зависела судьба
психологии как самостоятельной науки.
Развитию психологии способствовало создание журнала «Вопросы
психологии» (1955), который стал органом коллективного творческого
обсуждения научных проблем, обмена опытом работы в различных
психологических учреждениях страны. Уже в 1956 г. на его страницах была
организована дискуссия по психологии установки. Начиная с первого номера,
журнал освещает также развитие психологической науки за рубежом.
Будучи в те годы единственным отечественным психологическим
журналом, он и в настоящее время сохраняет лидерство среди остальных
журналов. По итогам общероссийского психологического конкурса
«Профессиональные итоги столетия» в 2000 г. журнал «Вопросы психологии» стал
победителем в номинации «Самое популярное (читаемое) периодическое
профессиональное издание по психологии».
В 1957 г. при Академии педагогических наук РСФСР (организована в
октябре 1943 г., с 1966 г. преобразована в Академию педагогических наук
СССР, действовала до конца 1991 г., в декабре 1991 г. на ее базе создана
Российская академия образования) учреждено Общество психологов СССР
(с 1994 г.— Российское психологическое общество при Российской
академии наук). Общество объединяет профессиональных психологов,
проводит конференции, съезды и совещания, обсуждения научных и
организационных вопросов, связанных с его задачами— способствовать развитию
теоретической и практической психологии, осуществлять функцию
интеграции профессионального психологического сообщества. На съездах
Общества психологов (I съезд состоялся в 1959 г., а последний, VII — в 1989 г.)
и съездах РПО (I съезд — учредительный — 1995, II — 1998 г., III — 2003 г.)
обсуждаются фундаментальнее проблемы психологической науки:
вопросы методологии, теории и истории развития различных областей —
психофизиологии, общей, педагогической, социальной психологии, психологии
аномального развития, нейро- и патопсихологии; направления развития
практической психологии в промышленности, бизнесе, управлении,
образовании, в системе здравоохранения, права и др.
20
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
Свидетельством интенсивного развития отечественной психологии в
области теории явился выход в свет книг С.Л. Рубинштейна: «Бытие и
сознание» (1957), «О мышлении и путях его исследования» (1958),
«Принципы и пути развития психологии» (1959). В этих трудах, а также в посмертно
опубликованной книге «Человек и мир» (1973) нашло выражение
подлинное единство психологии и философии, столь характерное для
отечественной науки на всем протяжении исторического пути ее развития. В середине
50-х гг. возобновляется издание трудов Л.С. Выготского. В 1956 г. вышел
том под названием «Избранные психологические исследования», в
котором опубликованы важнейшие труды этого выдающегося психолога: книга
«Мышление и речь», впервые увидевшая свет после смерти автора в 1934 г.,
а также ряд статей, представляющих собой экспериментальные и
теоретические исследования 1928-1934 гг. по проблемам психического
развития ребенка. В 1960 г. вышел еще один том, «Развитие высших психических
функций», который объединил в себе работы: «История развития высших
психических функций», «Лекции по психологии», «Поведение животных
и человека», а также ряд докладов. С выходом этих двух томов началось
возвращение в науку трудов Л.С. Выготского, влияние которых на
решение ее основных проблем становилось определяющим. В 1982-1984 гг.
было завершено издание собрания сочинений Выготского в шести томах.
Итоги исследований отечественных психологов по основным
разделам психологической науки в период с 1917 и до конца 1950-х гг.
подведены в двухтомном труде «Психологическая наука в СССР» (т. I, 1959 г.,
т. II, 1960 г.). Его авторами выступили ведущие психологи, основатели
крупных научных школ: А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, E.H. Соколов, П.А.
Шеварев, Ф.Н. Шемякин, Д.Г. Элькин, Н.Ф. Добрынин, П.И. Зинченко,
A.A. Смирнов, С.Л. Рубинштейн, Г.С. Костюк, П.Я. Гальперин, А.Н.
Соколов, А.Р. Лурия, Е.И. Бойко, Б.М. Теплов, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес,
П.Р. Чамата, В.Н. Мясищев, A.C. Прангишвили, Р.Г. Натадзе, П.М.
Якобсон, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, H.A. Менчинская, С.Г. Геллерштейн,
К.К. Платонов, П.А. Рудик, А.Ц. Пуни, Б.В. Зейгарник, Ж.И. Шиф,
H.H. Ладыгина-Коте, М.В. Соколов и некоторые другие. Данное издание
воссоздает достаточно полную целостную картину разрешения
теоретических вопросов и результатов экспериментальных исследований в
различных областях психологии: общей, сравнительной, педагогической,
возрастной, психологии труда, спорта, патопсихологии и др. Исключительную
ценность представляет библиография, которой завершается каждая
статья: с почти исчерпывающей полнотой в ней представлена практически вся
литература, отражающая развитие отечественной науки.
Крупным событием, способствовавшим организационному
укреплению психологии, явилось создание факультетов психологии в Московском
и Ленинградском университетах (1966). С открытием факультетов
суще21
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
ственно углублялась и расширялась специализация в подготовке
психологических кадров, новое развитие получила научно-исследовательская
работа в университетах.
В августе 1966 г. в Москве проходил XVIII Международный
психологический конгресс, впервые проведенный в нашей стране. В конгрессе
участвовало более 4 тысяч ученых из разных стран мира, среди которых
Ж. Пиаже (Швейцария), П. Фресс (Франция), Н. Миллер (США), Р. Шовен
(Франция), Ю. Конорский (Польша), X. Дельгадо (США), К. Прибрам
(США), В. Грей Уолтер (Англия), Э. Гибсон (США), Д. Бродбент (Англия),
С. Флорес (Франция), Ю. Нюттен (Бельгия), Ю. Бронфенбреннер (США),
Дж. Брунер (США), Р. Кетгел (США), т. е. практически все выдающиеся
психологи мира. Конгресс стал свидетельством успехов психологической
науки в нашей стране, возрастающего интереса к ней ученых разных стран
и вместе с тем выявил различия в подходах к решению ряда проблем —
к пониманию развития психики в его соотношении с обучением, вопросов
социальной психологии и др.
Отражением возросшего статуса психологической науки в обществе,
свидетельством ее авторитета в системе наук стала организация Института
психологии в системе Академии наук СССР в 1971 г. (первый директор —
Б.Ф. Ломов). Институт входит в состав Отделения философии,
социологии, психологии и права Российской академии наук. Деятельность этого
научно-исследовательского учреждения определяется системным
подходом, разработанным Б.Ф. Ломовым, и характеризуется гармоничным
сочетанием фундаментальных и
прикладных работ, разнообразием
конкретно-научных подходов к изучению
актуальных проблем, среди которых
центральной стала проблема субъекта.
В 1980 г. начинает издаваться
«Психологический журнал». Его
создание произошло в условиях
расширения фронта психологических
исследований и было направлено на обучение
оперативному обмену научной
информацией, своевременную публикацию
результатов выполняемых работ в
фун22
даментальных и прикладных областях
психологической науки и пограничных
с ней отраслях знания. Новый журнал
был призван содействовать
дальнейшему развитию отечественной
психологической науки.
Б.Ф. Ломов (1927-1989)
Член-корр. АПН СССР, член-корр.
АН СССР, директор Института
психологии АН СССР (1972-1989),
основатель и главный редактор
«Психологического журнала »
(1980-1989)
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
В условиях интенсивного развития психологии, расширения ее
междисциплинарных связей в 70-х гг. развернулись дискуссии по
методологическим и теоретическим проблемам психологии: о предмете психологии и
ее категориальном строе («Вопросы психологии», 1971, № 4-6, 1972,
№ 1); по проблеме бессознательного (Международный симпозиум в
Тбилиси, 1978 г.; издано 4 тома трудов под названием «Бессознательное.
Природа. Функции. Методы исследования». I-III тт. — 1978, IV— 1985).
Дискуссии стали формой рефлексии по поводу важнейших вопросов
психологической науки, и прежде всего, по точному выражению участника
дискуссии М.Г. Ярошевского, того, «чем психология должна заниматься,
какова ее «собственная» область и какими концептуально-методическими
средствами следует ее разрабатывать».
К концу 80-х гг. в отечественной науке сложилась система
методологических принципов, составляющих теоретико-методологическое основание
экспериментальных и теоретических исследований. Ее наиболее
существенными составляющими являются следующие положения: идеи системного
подхода, ориентирующие исследователя на изучение психики как
иерархической системы различных уровней в их многообразных связях и
отношениях; принципы детерминизма (согласно которому любое психическое
явление причинно обусловлено); принцип развития (требующий
рассмотрения психического как развивающегося процесса, выделения в нем
качественно различных стадий или фаз, раскрытия детерминации развития);
принцип отражения как выражение связи содержания психического
(образа, идеи, переживания и др.) с материальным миром; требование к
изучению психических явлений и процессов как опосредованных личностью,
отражающих не только те или иные предметы, отношения, но и выявляющих
их смысл и значение для человека, и некоторые другие. Эти проблемы
анализа категориального аппарата стали предметом крупных исследований
70-х, 80-х гг. Среди них выделяется фундаментальный труд Б.Ф. Ломова
«Методологические и теоретические проблемы психологии» (1984),
посвященный рассмотрению базовых категорий психологической науки —
отражения, деятельности, общения, а также проблеме соотношения
биологического и социального в детерминации психики. В книге раскрывается,
как, базируясь на этих методологических основаниях, в различных
научных психологических школах и областях психологии — общей,
педагогической, детской и др. — выполнялись эмпирические исследования,
формировались новые направления и отрасли психологии: инженерная (первая
лаборатория была создана в Ленинградском университете Б.Ф. Ломовым,
1959 г.), космическая, социальная, психология научного творчества и др.
Ломовым показано, что отечественная (советская) психология, опираясь
на мощный фундамент естественно-научных знаний о мозге, его
морфологии и физиологии нервных процессов, в то же время рассматривала
психи23
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
ку в ее неразрывной связи с общественно-историческими условиями
жизни и деятельности людей.
Со смертью основателей классических школ (А.Р. Лурия — 1977 г.,
А.Н. Леонтьев — 1979 г., A.B. Запорожец — 1981 г., Д.Б. Эльконин — 1984 г.,
П.Я. Гальперин — 1988 г.) отечественная наука лишилась своих лидеров,
а новые не появились, в развитии психологии наметились трудности. К тому
же возрастающая потребность в практической психологии вылилась в
возникновение центров психологической службы, число которых стало опережать
возможности их обеспечения квалифицированными профессиональными
кадрами. В целом наметился процесс снижения уровня психологической науки и
практики.
В новых социальных условиях, сложившихся в России в связи с
распадом СССР в 1991 г., в психологической науке произошли значительные
изменения. Начался процесс переоценки психологии советского периода, ее
школ и направлений, но прежде всего — ее методологических оснований,
ядро которых сложилось на базе марксизма. Поскольку марксизм нередко
навязывался науке партийно-государственной идеологической машиной,
ее крушение вызвало у ученых реакцию в форме отказа от марксизма. Отход
от марксизма, его критика в форме вычисления плюсов и минусов учения
Маркса, выявления ограничений его возможностей применительно к
исследованию психологических проблем сочетался с интенсивным поиском
новых философских ориентации. Единая методология уступила место
методологическому плюрализму, утверждающему разнообразие возможных
теоретико-методологических оснований исследовательской и
практической деятельности. В отечественную науку, особенно в такие ее области,
как психология личности, психологическое консультирование,
психотерапевтическая практика, проникли такие философские направления , как
экзистенциализм, феноменология, религиозная философия и т. п. Они стали
рассматриваться в качестве теоретико-методологической основы
исследовательской и практической деятельности, той базы, которая позволяет
расширить поле психологических проблем, охватить различные аспекты
человеческого опыта в конкретности индивидуального случая. Деятельностный
подход как универсальная объяснительная теория начал утрачивать свои
позиции, сохраняя при этом неограниченный потенциал, что
обнаруживается в тех теоретических и практических исследованиях, которые
продолжают опираться на него. В его адрес были выдвинуты обвинения, истоки
которых восходят к его связи с идеями Маркса. В то же время за рубежом стал
возрастать интерес к теории деятельности. Свидетельством этого являются
Международные конгрессы по теории деятельности и
культурно-исторической психологии, проводимые с 1986 г. регулярно, раз в 4 года, в разных
странах по инициативе зарубежных коллег. Первый конгресс проходил в 1986 г.
в Берлине (Германия), второй — в 1990 г. в Лахти (Финляндия), третий — в 1995 г.
24
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ
в Москве (Россия), четвертый — в 1998 г. в городе Орхус (Дания), пятый —
в 2005 г. в Севилье (Испания). Создано Международное общество ISCRAT
(International Society for Cultural Research and Activity Theory). Растет
популярность за рубежом культурно-исторической концепции A.C. Выготского,
которую один из ее американских сторонников — М. Коул — назвал «наукой
будущего». М. Коул стал редактором и переводчиком трудов A.C.
Выготского и А.Р. Лурии, пропагандистом нашей психологической науки за рубежом.
В современной отечественной науке усилился интерес к школам
зарубежной психологии. Широкое распространение получили направления
психоаналитического толка, особенно юнгианство. Они овладели умами
многих исследователей, проникли в психотерапевтическую практику, в сферу
преподавания. Огромными тиражами издаются труды 3. Фрейда, А.
Адлера, К. Юнга, Э. Фромма, К. Хорни и др. Переведены труды психологов и
других направлений. К настоящему времени в русских переводах
публикуется не только классика, но и произведения современных зарубежных
авторов, в том числе учебники.
Подводя итоги развития отечественной психологии с 90-х гг. XX в. по
настоящее время, в качестве главной особенности можно было бы назвать
изменение ее общей тональности: устойчивость и единообразие
психологических систем, за которыми в советский период закрепился статус
подлинно научных, сменились широкой палитрой подходов и концептуальных
построений; директивный тон с его претензиями на истину вместе с
уничтожающей критикой иных взглядов, обычно квалифицируемых как
ложные, даже враждебные, уступил место спокойному приятию различных
точек зрения, признаваемых нормальным состоянием науки. Таким
образом, в психологии налицо новые тенденции. Они вызваны объективными
причинами разного характера, как вненаучными, так и коренящимися в
собственной логике развития науки. Ограничения, долгое время
сдерживавшие свободную творческую деятельность, прежде всего искаженные
формы взаимодействия идеологии и науки, были сняты; внутренняя
логика развития науки, расширение ее проблемного поля и прикладных
областей потребовали пересмотра принципов психологического исследования,
сложившихся в науке в течение советского периода.
Однако было бы неправильно трактовать эти новые процессы как потерю
преемственности в развитии отечественной науки, отказ от исторического
наследия. Созданные в советский период научные школы-концепции С.Л.
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, A.C. Выготского, А.Р. Лурии, П.Я. Гальперина,
A.B. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Б.Г. Ананьева, Б.М. Теплова, Д.Н. Узнадзе,
их теоретико-методологическая направленность, разработанный в их рамках
арсенал методических средств, принципов и методов психологического
исследования сохраняют определяющее влияние в современной психологии. Связь
с традициями отечественной научной и философской мысли охватывает
так25
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
же направления и подходы, сложившиеся в дореволюционной России.
Литература последних лет свидетельствует о том, что в науке с энтузиазмом и в то
же время критически осваиваются представления о душе и путях ее научного
понимания в трудах русских религиозных философов С.Л. Франка, H.A.
Бердяева, А.И. Введенского, Л.М. Лопатина, Вл. Соловьева, Н.О. Лосского и
других. В науку возвращаются труды Г.И. Челпанова, Г.Г. Шпета и других
выдающихся психологов прошлого.
Освоение нашего богатого наследия позволяет воссоздать
объективную картину развития русской философской и психологической мысли,
преемственная связь с которой осознается современными психологами как
необходимая и плодотворная.
Настоящая книга содержит статьи и фрагменты из трудов известных
деятелей русской науки и культуры, отражающие развитие русской
психологической мысли в период от середины XIX в., когда складывались
первые научные программы психологии как самостоятельной науки, до конца
70-х гг. XX в., когда в основном завершилось формирование важнейших
школ советской психологии. Книга состоит из вводной статьи и четырех
частей.
ВI части представлены материалы, воссоздающие основные
варианты первых программ построения психологии как самостоятельной
научной дисциплины. В них отчетливо выступают глубокие различия в
представлениях о задачах, методах, назначении психологии, о специфике ее
проблем, об отношении к философии и естествознанию, характерном для
русской психологической мысли периода ее становления.
Содержание II части составляют тексты, в которых освещается
процесс освоения и развития экспериментальных методов в русской науке.
Представлены также некоторые материалы о развитии психологических
знаний в таких областях, как лингвистика, медицина, педагогика,
юридическая практика.
Подход к проблемам психологического познания в русле
религиозной мысли составляет содержание III части. В различных как по степени
систематичности, так и по широте и глубине анализа текстах их авторы
защищают положение о невозможности разрешения проблем психологии
без опоры на религию.
IV часть посвящена советскому периоду. В эту часть вошли труды
известных советских психологов, создателей и крупных представителей
различных научных школ. Методологические, теоретические и прикладные
исследования отражают состояние психологической науки 30-70-х гг. XX в.
Август 2008 г. АЛ. Ждан
26
Часть первая. Первые программы
построения психологии
как самостоятельной науки
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
П.Д. ЮРКЕВИЧ:
«ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ ДАН
ВО ВНУТРЕННЕМ САМОВОЗЗРЕНИИ»
Юркевич Памфил Данилович (1827-1874) —
философ, профессор Московского универистета
(с 1861 г.), декан историко-филологического
факультета (1869-1873), учитель Вл. Соловьева.
Читал лекции по логике, психологии, истории
философии, педагогике. В полемических статьях
«Из науки о человеческом духе» (посвящена
критическому анализу сочинения Н.Г.
Чернышевского «Антропологический принцип в
философии»), 1860 г.; «Язык физиологов и психологов»
(написана по поводу статьи М.А. Антоновича
«Современная физиология и психология», 1862 г.)
развивает свои воззрения на природу психических явлений, защищает тезис
об их качественном отличии от физиологических процессов. Ошибку
материализма видит в том, что необходимую связь между ними материализм
смешивает с генетической зависимостью и таким образом механически
выводит психическое из физиологического. Взгляды Юркевича имели
особый смысл в контексте происходящего во второй половине XIX в. процесса
выделения психологии в самостоятельную науку.
ЯЗЫК ФИЗИОЛОГОВ И ПСИХОЛОГОВ1
Предположение, что жизнь нашего тела и жизнь нашего духа есть одна
и та же жизнь, нисколько для нашего наблюдения не сокращает огромного
расстояния между качествами явлений душевных и телесных. Поэтому
психологи и физиологи, понимающие значение науки, прежде всего заботятся
не о слитии этих явлений в одной общей теории, но о правильном
разделении их и об изучении тех отношений, в которых они даны для
непосредственного наблюдения. Задача эта только для поверхностного ученого
может казаться легкою.
Декарт, которого простые и ясные анализы имели могущественное
влияние на развитие европейской философии, рассматривал человеческое тело
как машину, которая имеет все условия и средства для того, чтобы ходить,
Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1980. С. 382-383,398-403,464-465.
29
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
есть и дышать. Он полагал даже, что первый крик ребенка после рождения,
его жесты и гримасы, искание грудей, — все это может происходить без
участия души, из одного телесного устройства, потому что и в
последующей жизни часто происходят подобные явления или против воли, или
бессознательно. В этом учении, которому Декарт неосновательно давал
значение метафизического взгляда, заключается прямое указание на ту методу
исследования, которая резко разграничивает ведение физиологическое от
психологического. Духовное начало обнаруживает свою деятельность в
стремлениях, чувствованиях, мыслях, — вот круг душевных явлений,
данных в опыте. Духовное начало из этих элементов созидает науку и
искусство, созидает семейство, общество, историю, — вот организмы, сущность
которых есть духовное начало. Нужно ли еще предполагать, что это же
самое духовное начало, которое строит эти высшие организмы, есть вместе
источник и организма телесного, что как в последствии времени оно
создало науку и искусство, так в часы своего бессознательного существования
оно занималось изобретением и построением нервов, костей, мускулов и
всех частей тела? Во всяком случае, это предположение отличается такою
смелостью, что наука опытная не может основываться на нем. С другой
стороны, по взгляду Декарта, тело есть машина, только нарочито
устроенная, то есть машина, которая происходит не из случайной встречи
физических деятелей. Действительно, современный физиолог находит в
животном теле молотки, рычаги, клапаны, цедилки, заслонки, веревки, режущие
ножи, трущие жернова, капиллярные сосуды, химические реторты; только
все эти снаряды подчиняются здесь общему плану, каждый из них
помещается на особенном месте и в особенной системе, каждый из них
находится к остальным в отношениях, раз навсегда определенных, будем ли мы
брать во внимание пространство, время или способ и размеры
деятельности этих механизмов. Наконец, Декартово объяснение крика, жестов и
гримас ребенка в первые месяцы жизни прямо указывало на присутствие
закона рефлективных движений, — закона, который открыт так поздно
вследствие трудности отрешиться от воззрений жизненных, поэтических,
от понимания явлений в целостном и единичном образе.
Такие умы, как Боэргав, сразу оценили достоинство Декартова
учения. Но большинство в Англии и во Франции находило в этом учении
сухость и безжизненность. «Декарт разделяет то, что природа соединила,
Декарт видит в теле машину мертвую, без археев, без жизненных духов,
без животворящего эфира, без жизненной силы. Его философия
противоречит нашему ежедневному чувству», — таковы были общие воззрения
против этой разделяющей методы.
И действительно, с этой методой, как и со всеми научными методами,
которые поставляют человека в более или менее искусственное
положение, особенно не мирится одно чувство, живое, глубокое,
многозначи30
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
тельное. В ежедневной жизни и деятельности мы вносим изменения
нашего тела в круг нашей личности и поставляем их в самое внутреннее
отношение к нашему я, к нашей ни с кем не разделяемой чувствительности. Разрез
на моей руке есть не просто предмет моего наблюдения, как разрез,
происходящий на стене или на коре дерева; нет, он чувствуется как боль, как
страдание души, как мое внутреннее изменение...
Самые грубые опыты удостоверяют нас, что головоспинной мозг
находится в непосредственной и ближайшей связи с явлениями
чувствительности, что этот тянущийся веревкою мозг есть как бы гомерическая
золотая цепь, посредством которой Зевс обнаруживает свою силу и на
которой он держит и поднимает всех остальных богов мира. Кто хочет
отличать здесь существующий факт от его неизвестной, предопытной истории,
тот не будет спрашивать далее, каким образом в этой цепи начинает
обнаруживаться сила Зевса, каким образом в мозгу начинается являться
чувствительность, как везде, так и в настоящем случае вопрос о том, каким
образом нечто начинает быть или являться, не может быть решен с
научною достоверностью. Если очень часто при механическом изъяснении
явлений природы мы и воображаем, будто мы узнали самое начало явления,
будто мы подсмотрели происхождение того, что прежде не существовало
ни в какой форме, ни в каких элементах, то мы забываем, что в этом случае
мы имели уже целый ряд условий, из которых происходит явление, и что,
спрашивая о начале его, мы на самом деле искали только последних
дополняющих условий, при содействии которых явление приняло свою
окончательную форму. Так, говоря, например, что печень вырабатывает желчь,
физиолог выражает этим только свое знание о последних условиях,
которые изменили уже существующие элементы и сообщили им форму
названных явлений. Но попытайтесь поставить в физике вопросы вроде
следующих: каким образом нечто не имеющее массы начинает быть или делаться
массою, каким образом нечто непротяженное начинает делаться
протяженным, из каких непосредственных элементов состоят
пространственные вещи? Вы видите, что эти вопросы о начале выводят нас за пределы
всякого возможного опыта. Теперь, кто спрашивает о происхождении
чувствительности из элементов, которые пока еще сами по себе не
чувствительны, тот высказывает этим только неопределенную и плохо понятую
потребность метафизического знания, — потребность, которой не
удовлетворяют ни опыты физиологические, ни анализы психологии. Конечно,
нам было бы желательно доискаться, каким образом начинает быть дух,
как иной физик задумывается над вопросом, каким образом начинает быть
материя. Но опыты молчат упорно, когда мы приступаем к ним с этими
вопросами. Поэтому философы, которые хотели не столько доставить нам
полное знание о существе вещей, сколько внести определенность и ясность
в понятия, применяемые нами к изучению явлений, останавливались на
31
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
факте, который далее был необъясним, именно на факте, что как,
например, протяженность характеризует явления внешнего опыта, так
чувствительность характеризует явления опыта внутреннего, что как все
способное сделаться предметом нашего опыта в мире внешнем должно быть дано
в пространстве или в пространственных отношениях, так и содержание
наших внутренних опытов может существовать для нас, для нашего
наблюдения только в элементе чувствительности. Этот взгляд господствует в
истории философии под различными частными определениями.
Кому, впрочем, не известны попытки, деланные в наше время для
разрешения вопроса о начале чувствительности с помощью обыкновенных
физиологических опытов? «Мысли, — говорит Фохт, — находятся в мозгу в
таком же отношении, как желчь к печени или моча к почкам». «Мозг, —
замечает Молешотт, объясняя Фохта, — так же необходим для рождения
мыслей, как печень для приготовления желчи и почки для выделения мочи ».
«Как нет желчи без печени, — говорит Бюхнер, надеясь исправить
небольшую, по его мнению, неточность в выражениях Фохта, —как нет мочи без
почек, так нет мысли без мозга: душевная деятельность есть функция
мозговой субстанции». В этом физиологическом языке особенно привлекает
незнакомого с делом читателя необыкновенная простота объяснения;
рождается приятное чувство, что задачи, затруднения, собственно, и не
существует здесь; все дело оказывается так просто и так ясно. «Итак, —
заключает читатель и почитатель Бюхнера, — ларчик отворяется просто, и старые
философы попусту ломали свои умные головы».
Мозг должен изготовлять чувствительность и мышление или выделять
эти продукты, как печень изготовляет желчь, как почки отделяют мочу. Но
так как печень изготовляет желчь не из ничего, а из элементов уже
существующих, так как почки выделяют мочу не из ничего, а из смеси уже
готовой, то не худо бы поискать, из каких уже существующих элементов мозг
изготовляет, из какой уже существующей смеси он выделяет
чувствительность и мышление. Если мы можем указать на элементы желчи прежде их
явления в виде желчи, то также не худо бы препарировать мозг и
проследить в нем элементы чувствительности до появления их в виде
чувствительности. Теперь, когда с этой ученой целью выступите вы из области
самосознания в мир мозговой субстанции, вас сразу и без всякой подготовки
встретят материальные качества цвета, запаха, плотности, массы,
протяженности, вам представятся извилины и пространственные движения
определенного вещества, — словом, все, что так знакомо вам из
рассмотрения вещей, отдаленных от вас и лежащих вне вас. Вы недовольны этой
встречей, вы надеялись найти во время путешествия по стране мозговой
субстанции зачатки, зародыши, элементы или кусочки чувствительности,
надеялись найти хотя отрывки того непространственного движения,
которое вы знаете из игры вашей фантазии, из потока ваших представлений,
32
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
надеялись подсмотреть или пощупать материальную смесь, которая
деятельностью мозга превращается в боль, в радость, в глупую или умную
мысль, как, например, деятельностью печени определенная материальная
смесь превращается в желчь. Задачу, кажется, поставили вы ясно и честно,
но самый тщательный анализ «мозговой субстанции» не подвигает вас ни
на один шаг к ее решению; самые микроскопические элементы
деятельности мозга также не похожи на чувствительность, на радость, на глупость,
как и его большие массы. Бюхнер успокаивает вас, повторяя на каждой
странице своей брошюры «Сила и вещество»: «Это пока еще не открыто,
анализ пока еще не показал, как это происходит, однако не подлежит
сомнению, что оно именно так происходит». «Старые философы» между тем
замечают вам, что в вашей неудаче никто не виноват, кроме вас самих, что
вы поставили задачу честно, но неясно. Изучая голосовые органы и их
мозговые центры, вы решились не только подсмотреть их определенные
положения и пространственные движения, но еще думали найти в них элементы
звуков, тонов, музыки. Вы не обратили внимания на то, что звуки, тоны,
музыка, — все это существует не в голосовых органах и изменениях их, а в
вашей чувствительности, которая возбуждается этими изменениями. Итак,
упорный опыт опять отбросил вас в страну чувствительности и
самосознания. По безотчетной привычке, которая навязывается вам
физиологическими опытами, вы все еще хотели бы сказать, что чувствительность
«изготовляется» мозговой субстанцией. Так как с привычкой бороться трудно и
наше мнимое мышление большей частью есть воспроизведение связей
между представлениями не логическое, а основанное на привычке, то вы
можете пользоваться и этим языком. Только едва ли вы и теперь скажете, что
самосознание «изготовляется» мозгом, как желчь — печенью, потому что
элементы желчи даны прежде их переработки деятельностью печени: в
желчи вы находите в другой раз и в другой форме то, что вы наблюдали уже
вне ее; но тут, в самосознании, вы не застаете тех элементов, которые так
впечатлевали на вас при изучении мозга. Если оно вышло из деятельности
мозга, то, во всяком случае, вы видите, что от его выхода не осталось
никаких следов, что мост позади его уничтожен. Вы убеждаетесь вообще
только, что деятельность мозга условливают формы чувствительности; но тут
вам приходится спросить Кантовым тяжелым языком: каким же образом
эти условия условливает свое условное? В самом деле, в этом вопросе
заключается вся сущность дела. И если вы не захотите сделаться выспренним
метафизиком, то вы возвратитесь к случаю, на который однажды вы уже
наталкивались, именно вы скажете, что мозг «изготовляет» мышление не
так, как печень желчь, а так, как движение голосовых органов
«изготовляет» звуки и тоны, то есть мозг изготовляет мышление, поскольку его
деятельность уже застает чувствительность как явление, с вашей точки зрения
необъяснимое. Следовательно, вопрос о том, как начинает быть дух,
оста2 Российская психология 33
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ется для физиолога и психолога неразрешенным. И тот и другой по
необходимости предполагают его.
Льюис пользуется языком более счастливым. Чувствительность не
изготовляется мозгом, нет, она, по мнению физиолога, есть свойство
нервного узлового вещества (Т. II. 19). Это свойство зависит от тканей
головного и спинного мозга, а не от их соединения в различные формы или от их
анатомического размещения; и так как нервные центры не различаются
строением тканей, так как «в мозгу головном, продолговатом и спинном
находится одна и та же общая им ткань» (Т. II. 18), то отсюда заключает
Льюис, что чувствительность есть свойство всех нервных центров (Т. П.
69). Как прежняя психология предполагала, например, что воля есть
общая и далее не определяемая душевная способность или душевное
свойство и что частные желания происходят, когда эта способность
возбуждается различным образом, так, по взгляду Льюиса, ощущения цветов, тонов,
запахов, тепла, боли и т. д. происходят, когда общая и далее не объяснимая
чувствительность нервных центров возбуждается различными стимулами.
Частные, определенные и различные ощущения суть отправления нервных
центров, а чувствительность, ровная, одинаковая, не распадающаяся на
разные качества, составляет, как мы сказали, общее свойство, общую
принадлежность этих центров (Т. IL 19, 27, 82, 95 и др.). Может быть, мы
увидим, что и этот язык представляет свои неудобства, однако же не
подлежит сомнению, что он ставит физиолога в выгодное положение по крайней
мере в одном очень важном случае. Льюис не тешит нашей фантазии
повестью о том, как мозг «изготовляет» или «выделяет» чувствительность и
сознательность, как материальные процессы, совершающиеся в мозгу,
превращаются в психические и каким образом физические и химические изменения
мозговой субстанции начинают делаться ощущением, болью, радостью,
сознанием, духом. Льюис предполагает, что чувствительность есть
существующий факт, данный вместе с животною организацией, данный сразу и
непосредственно, данный без всякой истории, как простое свойство известных
частей ее. Чувствительность есть свойство нервных центров, она есть нечто
свое для них, а не отдаленное последствие материальных изменений мозга.
Если внешние стимулы рождают ощущения красок, тонов, запахов и т. д., то
они могут это потому только, что застают в животной организации готовую
чувствительность, застают наперед данный «психический элемент» и
своими влияниями возбуждают его. Сообразно с этим Льюис смотрит на факт
чувствительности как на явление, историю и происхождение которого не
может рассказать никакой физиологический анализ (Т. I. 49). Он находит
только, что в животном организме «элемент чувствительный и элемент
механический чудным образом связаны между собой» (Т. И. 136).
Но зато ни физиолог, ни психолог не могут согласится с учением
Льюиса в том, что и нервные волокна имеют особенное, также простое
свой34
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ство, которое Льюис предлагает назвать нервностью. Нервность, говорит
он, просто означает свойство, присущее нервному волокну, свойство,
вследствие которого волокна эти, будучи раздражаемы, возбуждают
сокращение в мышце, отделение в железке, ощущение в узловом центре (Т. II. 15).
В другом месте он называет это свойство «способностию » нервных нитей и
замечает, что способность эта удерживает «один и тот же основной
характер», каковы бы ни были отправления нервных волокон. Если в одном
случае деятельность нерва возбуждает, например, ощущение света, в другом
производит сжатие кулака, в третьем — поток слез, то эти совершенно
различные отправления делаются возможными только потому, что разные
стимулы, раздражая нервы, «приводят в деятельность» их нервность,
всегда удерживающую свой основной характер. Этим учением Льюис прежде
всего хочет сказать, что нервы не суть простые проводники, передающие
впечатления от оконечностей центрам и переносящие душевные
возбуждения из центров на оконечности, что, напротив, они «имеют собственную
силу» (Т. И. 11). Когда нерв раздражается внешним стимулом, то он «не
передает этого раздражения нервному центру, в нем возбуждается его
собственная нервность», и эта-то нервность возбуждает чувствительность
центра (Т. II. 16)...
Мы не думаем, что наши замечания, как они ни длинны, сокращают
расстояние между языком психологии и языком физиологии.
Определения вроде того, что ощущение есть ответ нервного центра на внешний
стимул, что действие есть ответ телесных органов на стимул внутренний,
также что действие, подлежащее контролю, есть ответ телесного органа на
ощущение мозговое, — все такие определения долго будут являться в
физиологии как достаточно ясные и основательные. Физиолог смотрит на
вещи, которые подлежат его изучению, со стороны. Он видит в них
явления, которые существуют в пространстве и изменяются во времени, не имея
никакого отношения к нашему сознанию. В этих вещах ровно ничто не
изменяется от того, знаем ли мы о них или нет. Наше знание по отношению к
ним посторонний зритель, а не элемент, в котором они существуют.
Следуя этой привычке чисто объективного наблюдения при изучении
душевных явлений, физиолог видит в ощущениях, представлениях, идеях
процессы или изменения, которые существуют не во внутреннем элементе, а
существуют просто, как и все вещи на свете, в определенном пространстве
и в определенное время. С этой точки зрения он находит понятным, что
чувствительность есть свойство нервных центров, что ощущение есть
возбужденное состояние этих центров, что различные душевные
деятельности размещаются по различным частям мозга, что одно ощущение
разрешается в другое, что ощущение может быть пространственным двигателем
руки, ноги и т. д. Хотя Льюис, как мы не раз видели, очень хорошо
понимает особенность психических явлений, которые, говоря вообще, суть
фор2- 35
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
мы, положения и состояния сознания и которые вне этого элемента не
существуют еще как-нибудь на манер вещей и их процессов, однако мы
имели случай убедиться, что и он часто отдается физиологическим привычкам,
часто смотрит на психические явления как на какие-то нематериальные
вещи, которые, пожалуй, мог бы непосредственно видеть и посторонний
зритель, если 6 ему удалось подступить к местам, где они находятся.
Отсюда у него тот физиологический язык, которым психолог не всегда может
пользоваться. Все влияние этого физиологического взгляда
обнаруживается в учении Льюиса о чувствительности спинного мозга и о его теории
рефлексивных движений. Общие относящиеся сюда положения уже
известны нам: чувствительность есть свойство каждого нервного центра,
следовательно, и спинного мозга. Все действия или движения рефлективны;
но так как ощущения составляют источник их, то рефлектируется не
физиологическая перемена нерва чувствительности на нерв движения, нет, на
этот нерв рефлектируется ощущение, которое происходит в нервном
центре, когда возбуждает его физиологическая перемена нерва
чувствительности. Внешний стимул раздражает нерв чувствительности, это
раздражение передается нервному центру и возбуждает его чувствительность,
которая вследствие этого делается ощущением. Это ощущение
рефлектируется на нерв двигательный, и разрешается таким образом в движение
телесных органов. Но в какой мере эти положения достоверны или
сомнительны, какие выгоды или неудобства представляют они для психологии,
к каким общим воззрениям на жизнь телесную, душевную
предрасполагают они, — все это вопросы очень сложные. Они могут послужить
предметом особой статьи, а теперь увлекли бы нас слишком далеко от
предположенной задачи.
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
М.И. ВЛАДИСЛАВЛЕВ:
психология1
Владиславлев Михаил Иванович (1840—
1890) — философ, логик, психолог. С 1866 г.
действовал в Санкт-Петербургском
университете; с 1885 г. — декан его
историко-филологического факультета; с 1887 г. — ректор.
Читал курсы по логике, психологии,
истории философии. Перевел «Критику чистого
разума » И. Канта. В 1872 г. опубликовал труд
«Логика. Обозрение индуктивных и дедуктивных
приемов мышления. Исторический очерк логики
Аристотеля, схоластической диалектики,
логики формальной и индуктивной», с четырьмя
приложениями, содержащими отрывки из текстов по истории логики. Из
психологических сочинений Владиславлева наибольшей известностью
пользуется его «Психология. Исследование явлений душевной жизни» в
двух томах. Основному тексту предшествует обширный (около 130
страниц) «Исторический очерк психологии», написанный по первоисточникам.
Опираясь на Э. Гартмана, А. Шопенгауэра и положение Дунса Скота (XIII в.)
о примате воли над интеллектом, придавал решающее значение в душевной
жизни воле: в каждом душевном акте есть волевой компонент.
Из школы Владиславлева вышли Н.Я. Грот, Э.Л. Радлов, H.H. Ланге,
А.И. Введенский. А.И. Введенский после смерти Владиславлева занимал
должность заведующего кафедрой философии (до 1913 г.).
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДУШЕВНЫХ ЯВЛЕНИЙ
«Психология » (ф\)%т| — душа и koyoq — слово, наука) значит,
собственно, наука о душе. Это есть определение только термина, названия науки.
Дать реальное определение ее невозможно, не поставив вопроса о том, что
такое душа, в чем заключается ее сущность и т. д. Но поднимать такие
вопросы до исследования фактов, в которых сказывается деятельность души,
прежде ознакомления с ними, мы не можем. Это значило бы предрешить
целый ряд выводов и неизбежно войти в полемику, так как по этому
вопросу существует разногласие в разных психологических школах. При самом
1 ВладиславлевМ.И. Психология. СПб., 1881. Т. 1. С. 1-25,45-54. Т. 2. С. 531-564.
37
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
начале наших исследований мы ограничимся указанием предмета их:
психология есть наука о душевных явлениях. Как ни далеко расходятся
психологи в ответах на вопросы науки, но все они могут сойтись на этом
указании: наша наука, несомненно, должна иметь дело с душевными явлениями.
Характеристичные черты душевных состояний
Остановимся прежде всего на характеристике душевных явлений.
Во-1-х, они составляют ряд фактов, известных нам достоверно; мало
того, из всех явлений только они нам достоверно известны. Принято
ссылаться на темноту, сложность и запутанность душевных состояний; говорят
что их мы знаем менее всего и что они в высшей степени трудны для
исследования. Но тогда как объяснение их, действительно, труднейшая научная
задача, знакомство с качественной стороною их дается нам легко, и этом
отношении жалобы на трудность познавания их неосновательны. Мы отлично
знаем про себя, что значит ощущать красный, зеленый цвета, слышать тон,
обонять запах и т. д.; также мы хорошо знаем, что значит представлять,
мыслить, чувствовать, желать. И что эти явления действительно существуют,
что они суть реальные факты, это достоверно нам известно: мы их
переживаем, мы в самом деле волнуемся чувствованиями, двигаемся на дела
хотениями и желаниями. Пусть наши ощущения будут иллюзиями или
галлюцинациями и представления — фантазиями, не соответствующими ничему
реальному, но нельзя отрицать того факта, что они существуют и
переживаются нами; положим, все это есть сновидение, но это сновидение есть и
существует. Мы утверждаем, однако, более, мы говорим, только душевные
явления одни несомненно существуют для нас и о всяком другом внешнем
бытии мы знаем лишь через них. Нам кажется, что несомненно существует
дом, в котором мы живем, перо, которым пишем, существо, с которым мы
постоянно обращаемся, и вообще внешний предметный мир, область наших
наблюдений и опытов. Но как мы знаем о всем этом? Прямых сведений от
внешних предметов до нас дойти не может, и каковы они сами по себе, — это
нам остается и остается неизвестным. Мы знаем о них, потому что получаем
ощущения, возбуждаемые ими в наших внешних чувствах, потому что из
ощущений и по поводу их образуем представления и понятия; знаем о связи
и зависимости их, потому что в состоянии думать о ней и т. д.; мы познаем
внешний мир, поскольку он действует на нас и возбуждает те или другие
состояния в нас. Если он достоверно известен нам, то лишь потому, что за
существование его ручаются нам психические явления, переживаемые нами,
и в этом смысле мы утверждали выше, что они составляют единственный род
достоверно известных фактов.
Во-2-х, мы называем их внутренними, а не внешними явлениями. Называя
душевные явления внутренними, мы разумеем не то, что они совершаются не
38
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
где-либо вне нас, но внутри нас. Это различение было бы случайное и касалось
бы места их происхождения; по нему, всякое душевное состояние другого
существа было бы для нас внешним явлением; притом мы не выяснили бы тогда
различия душевных явлений от физиологических: и последние совершаются
внутри нашего тела, внутри нас. Название «внутренние » имеет здесь тот смысл,
что душевные состояния наблюдаются и изучаются не внешними чувствами,
а внутренним чутьем, даются в самонаблюдении. Невозможно их видеть
глазом, слышать ухом, осязать, обонять или замечать вкусом; только в сознании
нашем мы понимаем, что значить переживать душою то или другое состояние.
Эта черта радикально отличает их от всех внешних факторов. Она указывает,
что образ познавания последних совершенно иной, чем душевных состояний.
Способы и приемы, годные для изучения внешних факторов, не всегда могут
быть применены к исследованию состояний души. И здесь нельзя утешаться
тем соображением, что лишь теперь, пока психологическая наука еще слаба,
не развита широко, мы должны ограничиваться внутренним наблюдением, но
что, с прогрессом ее, мы в состоянии будем изучать психические факты, как
внешние. Никакие улучшения в микроскопе и телефоне не дадут возможности
видеть в мозгу, как совершается мышление, или слышать, как волнуется душа
в момент того или другого чувствования: никакой чувствительный инструмент
не даст возможности непосредственно следить за нарождением и
возрастанием душевных явлений.
В-З-х, душевные явления несоизмеримы с физическими, химическими и
механическими явлениями. Понятие несоизмеримости взято из математики:
в ней называются несоизмеримыми линии, в которых невозможно отыскать
никакой столь малой части, на которую они могли делиться без остатка. Но в
математике трактуется о несоизмеримости величин, в психологии же, говоря
о несоизмеримости явлений внешних с внутренними, мы предполагаем
несоизмеримость качественную. В этом смысле мы утверждаем что ощущение
зеленого цвета само по себе не имеет зеленого цвета, желтого — не желто;
ощущение тона само по себе не звучит, как тон, — кислого и сладкого не кисло и не
сладко само по себе, равно как шероховатого и гладкого не шероховато и не
гладко. Представление треугольника не имеет ни сторон ни углов, — линия не
есть сама линия, — фунта или пуда не есть ни фунт ни пуд. Мы говорим о
сочетании душевных явлений, союзе мыслей, связывании частных понятий
общим, частных положений общим суждением, слитии хотений и желаний в
одном влечении и т. д., но не можем и подумать, чтобы в фактах связи, союзов,
слития душевных состояний было что-либо, хотя отдаленно, похожее на
химические сочинения элементов, или на механическое связывание одних частей
механизма с другими, чтобы результат психического процесса мог быть
объясняем как объясняется действие материального механизма. В душевных
явлениях есть связь и последовательность, есть законность, но они прилагаются на
почве sui generis и особым способом. В душевных фактах мы имеем своего рода
39
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
таинство: невесомая и не измеримая на физические меры, мысль тем не менее
говорит нам о весе, фигуре, величине предметов и чрез бесцветное, беззвучное,
лишенное вкуса, запаха и всякого осязательного качества ощущения мы
познаем и цвета и звуки и вкусы и запахи, шероховатость и гладкость внешних
предметов.
Несоизмеримость душевных явлений с физическими, химическими и
механическими есть следствие того факта, что первые суть явления внутреннего
познавания, а вторые — внешнего. Не познаваясь глазом, ухом и никаким
внешним чувством, состояния души не могут иметь цвета, быть слышимы, иметь
вкус, запах или какое либо осязательное качество; наоборот, внешние
явления, познаваясь лишь внешними чувствами, не могут иметь качеств и
признаков явлений внутренних: поэтому характерных качеств внутренних явлений
невозможно переносить на внешние и обратно, признаков последних на
первые. Какой вывод отсюда может сделать метафизика, это нас здесь не
касается: быть может, она найдет, что явления, несоизмеримы вследствие различия
познавания субъектом, могут и не быть существенно или субстанционально
различны, и так как материя дана нам как понятие, как ощущаемое, а не как
что-либо реальное, и внутренние явления первее нам известны, чем что-либо
внешнее и собственно только они одни достоверны для нас, быть может,
окончательный вывод метафизики будет в пользу признания духа и состояния его,
как единственно существующих фактов. К этому вопросу мы возвратимся в
третьем томе наших исследований. Теперь же, характеризуя душевные
явления, мы просто констатируем факт, что упомянутые два рода явлений не
соизмеримы один с другим.
Наконец, следует указать еще и ту характеристичную особенность
душевных явлений, что они могут сознаваться. Говорим, могут сознаваться, но
не сопровождаются сознанием. По разным соображениям, которые будут
приведены в своем месте, мы считаем необходимым допустить в обширных
размерах бессознательную жизнь души: все роды душевных состояний могут
быть бессознательными. Но в настоящем случае для нас безразлично, все или
только некоторые из них сознаются; довольно и того, что некоторые из них
сопровождаются сознанием и что все они, при благоприятных условиях,
могут сознаваться. Эта черта самая характеристическая для душевных фактов:
она не встречается ни в каком внешнем явлении; она означает, что субъект не
только переживает известное состояние, но и относит его к себе; при всякой
сознательной деятельности он себя подстановляет, как причину ее, и в себе не
только объединяет многоразличные состояния, но и признает свое единство.
Невозможно представить себе, чтобы единство сознания могло быть
производимо каким-либо органом, состоящим из частей и протяженным. Такой
орган давал бы столько сознаний, сколько в нем молекул или атомов; тогда в
человеке было бы несколько сознаний ощущений, чувствований и несколько
желающих и стремящихся центров.
40
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Логика Психологии. План ее
Итак, предмет нашей науки суть душевные состояния. Как их изучать?
В ответ на вопрос мы считаем нужным дать краткий очерк Логики Психологии.
Хотя психические явления составляют особый род фактов, но они все же
суть факты: они не только происходят, случаются, но их достоверность даже
первее, чем внешних фактов. Следовательно, они должны подлежать
научному исследованию и Психология в отношении своего предмета поставлена
также, как и всякая наука, имеющая дело с положительными явлениями. То
обстоятельство, что она должна заниматься явлениями внутренними, а не
внешними, конечно, ставит ее в особое положение относительно источника
сведений, приемов исследования, но отнюдь не освобождает ее от
обязанности пользоваться общими для всех наук методами и вести дело исследования,
как бы она имела дело с внешними явлениями, тем более что как скоро мы от
самонаблюдения обращаемся к наблюдению духовной жизни в других
существах, то мы изучаем их как внешние (хотя они не теряют от того внутреннего
своего характера). Следовательно, как все естествоведные науки развиваются
с помощью индукции, так и психология этим приемам должна дать
надлежащее приложение. Как наука о положительных фактах, она должна дать
широкое приложение индукции; как система, стремящаяся свести обобщения к
немногим общим положениям, дабы из них дедуктивно вывести частные, она
должна применять к делу дедукцию. Последняя тема более уместна в нашей
науке, что она, как мы увидим ниже, есть наука и философская.
Начать свое изложение психологической Логики мы должны с
вопроса об источнике психологических сведений. По особому характеру
исследуемых нашей наукой фактов первоначальный источник, откуда мы
почерпаем сведения о них, не может быть тот же самый, откуда мы узнаем о
внешних явлениях. Поэтому наши последующие заметки о Логике
Психологии должны распадаться на следующие три части: 1) источник
психологических сведений, 2) индукция и 3) дедукция в психологии.
Источник психологических сведений
Общие источники, откуда всякая наука получает содержание для своих
обобщений, суть наблюдение и опыт. Наблюдение есть умственное
следование за фактами в том виде, в каком представляет их нам природа; напротив,
опыт есть искусственное произведение факта, согласно целям и намерению
исследователя. Ввиду огромных преимуществ опыта пред наблюдением
являются попытки приобщить и Психологию его выгодам: только когда она
будет вся основана на опыте, говорят, можно будет дать ее выводам
желательную точность и поставить ее в ряд положительных наук. Но прежде, чем
рассуждать, в какой мере и как применимы в нашей науке опыт и
наблюде41
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ние, мы должны указать на особый характер всякого психологического
наблюдения, происходящий из особого свойства психических явлений.
Значение самонаблюдения
Мы видели, что душевные состояния суть внутренние, а не внешние
явления и что они не могут быть наблюдаемы внешними чувствами, но даны
только в самонаблюдении. Оно обозначается в науке различными
названиями: самонаблюдение, самосознание, внутреннее чувство, внутренний опыт.
Все они означают тот факт, что мы можем делать самих себя предметом
наблюдения и внутренне знакомиться с душевными, переживаемыми нами,
состояниями. Некоторые из приведенных названий указывают, что на
подобие того, как существуют внешние чувства и внешний опыт для
ознакомления с внешними предметами, есть внутренний опыт и внутреннее чувство для
узнавания душевных состояний. Разумеется, никакого особого органа для
этой цели мы предполагать не можем. Как самонаблюдение производится,
это мы укажем ниже; теперь же остановимся на значении, какое оно имеет
вообще для нашей науки.
Оно есть краеугольный камень, на котором зиждется все здание
Психологии. Сведения о качественной стороне психических явлений даются
только самонаблюдением. Что значит ощущать тон, видеть зеленый,
желтый и т. д. цвета, думать думу, страшиться, гневаться, стыдиться или
желать и хотеть — это превосходно нам известно из самонаблюдения. Кому
какое-либо душевное состояние не дано в нем, тот ни из каких других
источников не пополнит своего знания. Слепорожденный и глухонемой не
могут в своем внутреннем опыте ознакомиться с цветами и тонами; зато
никакая наука в свете не восполнит этого пробела. Из физики они могут
узнать о дрожаниях светового эфира, могут узнать, какое количество
колебаний его или воздуха производят тот или другой цвет или тон; но это ни
мало не пособит им узнать качество цвета или тона. И Психология не
может взять на себя невозможную задачу: учить кого бы то ни было, что
значит ощущать, мыслить, чувствовать, желать; фактическое знакомство с
этими состояниями предполагается ею у всякого. Она может и должна
взяться за решение других задач, как это мы в свое время увидим.
Какое бы приложение мы ни давали опыту и наблюдению,
пользование этими научными источниками основывается на самонаблюдении. Если
мы что-нибудь понимаем в наблюдении над другими людьми и животными,
то лишь благодаря внутреннему опыту. Как другой человек радуется или
печалится мы прямо глазом этого не видим. Нам кажется, что печаль или
радость отпечатлеваются на лице, разливаются в целом теле. Но что, в
сущности, мы видим? ничего более, кроме движений в мускулах лица, блеска
глаз, движений и положений тела; как происходит радость или печаль и что
42
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
они такое, остается для нас невидимым. Невозможно видеть и слышать, как
другой человек видит или слышит. То же самое замечание применимо к
наблюдениям над животными: ни радостей, ни боли, ни ощущений, ни
представлений их мы непосредственно наблюдать не можем; мы видим и замечаем
только одни движения, изменения в их глазах, позах тела и т. под.
Понятна нам духовная жизнь других людей и животных только чрез
самонаблюдение. Основанием для понимания ее служит наше знание,
какие состояния как переживаются и какого рода влияние обнаруживают
они в теле. Мы знаем по внутреннему опыту, как то или другое чувство
сказывается в организме, какие движения его происходят при тех или
других желаниях и т. д. Этим знанием мы пользуемся для истолкования
чужой духовной жизни. Видя внешние выражения на лице, в глазах,
телодвижениях другого человека, мы по аналогии (от сходных действий к сходным
причинам) делаем заключение к произведшим их состояниям. При
истолковании духовной жизни животных мы также прибегаем к аналогии,
только другого рода: от сходных причин к сходным действиям. Мы
предполагаем, что так как глаза животного устремлены на предмет, то оно видит его,
как видим мы, что удар палки причиняет боль ему, как причиняет и нам,
следовательно, визг собаки, например, есть выражение боли, что как в
ответ на ласку и утоление голода мы остаемся благодарными, так и
благодарно нам животное, которое мы кормим и ласкаем и т. д.
При наблюдении других людей имеет огромное значение язык: чрез
него мы главнее всего знакомимся с их душевными движениями и
состояниями и узнаем о существовании таких, которые редко и неясно
выражаются в теле, например о мыслях. Но основанием правильного
истолкования речей других людей служит также самонаблюдение. Мы знаем по
внутреннему опыту, какое слово выражает какие мысли движения сердца,
желания, — какой оттенок речи, последовательность ее, повышение
голоса и т. д., что именно означают. Знание всего этого образовалось
вследствие долгого наблюдения над самими собою, наблюдения того, какие
душевные состояния и как выражались в слове. Когда мы слышим речь, мы
понимаем смысл и значение ее и, пользуясь самонаблюдением, правильно
истолковываем душевные состояния говорящего.
Что, действительно, самонаблюдение есть основание для
истолкования обнаружений духовной жизни как других людей, так и животных,
это доказывается следующими двумя фактами. 1) Каждый понимает
состояние других в той мере, в какой сам испытал их. Если бы они
передавались нам прямо, или мы наблюдали их подобно качествам реальных
предметов, то мы узнавали бы их все одинаково и не было бы разностей в нашем
понимании духовной жизни друг друга, не могло быть полного
непонимания. Но известно, как часто вследствие неправильного истолкования
мы придаем превратный характер душевным состояниям другого,
припи43
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
сываем неверное настроение, извращаем почти весь духовный образ
своего ближнего.
2) Необходимостью основываться на самонаблюдении и прибегать к
аналогиям, при наблюдении духовной жизни животных, объясняется тот факт,
что в разное время разные наблюдатели очень расходились в воззрениях на
нее. Декартовская школа считала их просто движущимися автоматами,
многие из современных физиологов приписывают им духовную жизнь в
размерах человеческой. Относительно предметов очевидных, которых свойства
находятся пред глазами всех, противоположных взглядов быть не может; но
они естественны, когда надобно довериться аналогиям: одни наблюдатели
могут совсем не доверять им, другие простирать доверие до слишком
далеких пределов. Декарт и его школа полагали что животное дает только
аналоги душевных состояний, но души не имеет; современные же зоологи под
всякое внешнее действие его подкладывают мотивы и представления человека.
Одни идут далеко в аналогиях, другие не делают ни одного шагу, и по
обстоятельствам дела, прямого опровержения ни тех ни других быть не может.
Фактов, прямо доказывающих существование души у животных, нет: ибо
таковые не могут быть даны в чувственном наблюдении; мы наблюдаем лишь
их движения. Душевная жизнь животных весьма вероятна, вот все, что
можно сказать о ней. Где затем остановиться в аналогии, их действия считать ли
результатом такого склада, как человеческий, или гораздо меньшего, и
насколько, на это нет прямых указаний в опыте.
Способ самонаблюдения
Как производится самонаблюдение? Прямое состоит в сосредоточении
внимания на тех или других переживаемых душевных состояниях: например
переживая гнев, радость, обдумывая что-нибудь или желая, мы
останавливаем внимание на этих состояниях, замечаем их особенности, анализируем
их и т. д. Но такое самонаблюдение возможно только в весьма редких
случаях и de facto едва ли когда производится. Чтобы так наблюдать себя,
необходимо субъекту двоиться в самом себе: в одно и то же время быть
действующим лицом и предметом наблюдения. Когда состояние до некоторой степени
интенсивно, оно поглощает нашу энергию: занятые им и сосредоточивая на
нем внимание, мы не можем в то же время настолько отрешиться от него,
чтобы быть в состоянии изучать его. Почти неизбежным результатом
решимости наблюдать свое состояние бывает то, что последнее становится вялым
и скоро исчезает. Известно, как всякие попытки блюсти за собою мешают
развиваться той деятельности, за которою мы хотели бы наблюдать.
Спокойно обдумывая вопрос и отдавшись мыслительному процессу, ничем не
развлекаемые, мы можем глубоко входить в дело; но стоит мыслителю
думать о том, как это он думает, и он сейчас же ослабит энергию своего
мышле44
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ния; только тот оратор хорошо говорит, который, доверяя себе, не особенно
наблюдает за собою, как он говорит; самый лучший оратор, если станет
наблюдать, как являются фразы, мысли, непременно будет путаться и
сбиваться с толку. Поэтому понятна мудрость древних аскетов, советовавших
наблюдать за собою в минуты возбуждения, сильного чувства или желания.
Возможно самонаблюдение косвенное, по воспоминанию. Независимо
от нашего произвола, память запоминает наблюдаемые вещи, действия и
события; она запоминает ощущаемое, т. е. внутренние духовные состояния, и так
же точно она может усвоять все другие душевные состояния в том порядке, в
каком они совершаются: так мы запоминаем порядок и способы развития
мысли, чувствования, хотения и желания. Будучи постоянными зрителями часто
повторяющихся собственных состояний, мы, независимо от намерения,
накопляем огромный запас знаний о своих состояниях. Обыкновенным путем
мы вызываем их в своей памяти и потому, никогда намеренно не наблюдавши
за собою, мы оказываемся очень хорошо знающими себя, понимающими
значение и качество состояний, ход их развития, порядок, смену их и т. д. К этому
косвенному самонаблюдению в огромном большинстве случаев и должен
прибегать психолог. Свои обобщения он должен делать, опираясь на
припоминание того, как именно он переживал то или другое состояние.
Итак, самонаблюдение и внутреннее понимание душевных явлений,
данных в нас самих, есть краеугольный камень здания нашей науки. На нем
основывается истолкование всякого психологического опыта и
наблюдения; не было бы самонаблюдения, немыслимы были бы и последние.
Обратимся теперь к вопросу о значении опыта и наблюдения в нашей
науке и размерах, в каких они могут быть приложены в ней.
Приложение эксперимента в психологии
Современное естествоведение опирается преимущественно на опыт и
чрез него достигает желательной точности выводов и опасений. Так как
душевные явления тоже суть факты, то явилось естественное желание, чтобы и
они были, по возможности, подвергнуты экспериментам и изучены точно.
Высказываются даже такие мнения, что психология никогда не станет
точною наукою, пока не даст такое же приложение у себя эксперименту, какое
он получил уже в физике, например, или в химии. Такие желания сами по
себе очень хороши: ибо кто же из психологов не хотел бы сообщить своей
науке наибольшую точность. В приложении к ощущениям это желание до
некоторой степени осуществлено и получены значительные результаты. Если
бы оказалась возможность еще расширить приложение эксперимента в
психологии, тем лучше. Но следует помнить, что в душевной жизни есть особые
условия и обстоятельства, делающие опыт неприменимым к большинству
душевных состояний.
45
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Опыт имеет то первое преимущество пред наблюдением, что он дает
возможность умножать количество фактов. Но умножать их по произволу
возможно лишь в том случае, когда мы вполне распоряжаемся ими и
можем искусственно воспроизводить их. В таком ли мы положении
относительно душевных явлений? Во-1-х, есть эксперименты теоретически
возможные, но практически не осуществимые, потому что мы не имеем права
делать их. Было бы любопытно повторить известный, приписываемый
между прочим одному из фараонов, опыт над детьми и лишить несколько детей
всякого человеческого общения, чтобы произвести филологические и
социальные наблюдения; равно любопытно было бы видеть, при каких
условиях возникают в человеке те или другие мозговые явления, какими
последствиями в организме сопровождаются сильные волнения, например
страх. Но одни опыты опасны для жизни наблюдаемого, и потому мы не
имеем никакого права приносить человека в жертву науке, другие
подвергали бы страданиям, а может быть, и действительным опасностям
умственное и физическое здоровье человека и потому были бы безнравственны.
Во-2-х, многие душевные факты не могут быть воспроизводимы по
произволу, потому что не находятся в нашей власти. Нельзя по произволу
гневаться, страшиться, стыдиться, когда нет к тому реальных поводов. Нельзя
делать опыты над талантами или гениями, потому что такого рода явления
принадлежат к числу самых редких в человеческом обществе. Высокие
чувства чести, нравственного негодования, благоговения, высокого
эстетического наслаждения так редко возникают в людях, что их скорее следует
считать дарами свыше, чем обыденными фактами, производимыми по произволу.
Невозможно в широких размерах воспользоваться и вторым
преимуществом опыта, именно, что он дозволяет нам изолировать явления.
Естествоиспытатель, уединяя физическое явление и заставляя его совершаться
при точно им установленных условиях, получает указание, какая причина
его производить и по какому закону психолог в ином положении. Многих
явлений он не может изолировать так, как следовало бы, чтобы опыт стал
поучителен. Невозможно заставлять человека переживать одно какое либо
чувство, независимо от деятельности мысли или воли, и невозможно
заставить человека желать без представления объекта хотения; в зрелом и
развитом человеке даже процесс ощущения совершается при деятельном участии
представлений и рефлексии. Выделять одну сторону душевной жизни от
другой на подобие того, как выделяется одно физическое явление от другого,
нет никакой возможности. Притом сложность душевных явлений такова,
что, если бы эксперимент и был реально приложен к ним, мы столь же мало
знали и после эксперимента, как до него. Мысль может возникать путем
логическим, чрез ассоциацию, вследствие волнений, по поводу желаний; одно
и то же явление возникает вследствие многих причин, как под ним
экспериментировать? Мы желали бы испробовать, как известные условия влияют на
46
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
душу человека: как человек воспитывается и чего можно достигнуть одною
строгостью. Опыт в этом случае не повел бы к решительным выводам,
потому что характер человека слагается вследствие многих условий, а главнее
всего зависит от первоначальных причин, лежащих в натуре каждого
человека. Если бы мы и решились экспериментировать в этом деле, то из
полученных данных ничего обстоятельного вывести было бы невозможно.
Приложение наблюдения в психологии
По условиям своего предмета, Психология всегда будет опираться
преимущественно на наблюдение. Оно вовсе не такой дурной источник
сведений, как это кажется некоторым экспериментаторам. Во многих, даже
положительных, науках преимущественно на нем основываются выводы и
обобщения. Правильно организованное наблюдение и осмотрительность в
заключениях, нужная, впрочем, и при экспериментах, могут дать ценные
психологические обобщения. Предметом наблюдения может служить
душевная жизнь других существ, многие обобщения можно извлекать из
искусства и языка.
Наблюдение над другими людьми и способ его
Мы постоянно наблюдаем душевную жизнь других людей, особенно тех,
с которыми близки духовно, или сталкиваемся по условиям жизни. Часто
мы интересуемся тем, что происходит в душах, которых любим или
ненавидим, и наблюдательно относимся к событиям их духовной жизни.
В языке мы имеем средство для обмена мыслей, чувств и желаний, и чрез
него получаем сведения о происходящем в душе другого. Таким образом
скапливается богатый запас психологических сведений, которые могут
служить полезным дополнением к знанию душевной жизни, данному в
самонаблюдении. Разумеется, наблюдательность должна быть развита в
психологе и наблюдением над самим собой он должен проверять наблюдения над
другими. Но всякие подобные заметки случайны и не методичны. Живя в
семье, обществе, соприкасаясь с различными людьми и переживая с ними
события, трудно всегда двоиться, переживать с другими события и
наблюдать их. Чем интереснее разговор, факт, случившийся в обществе, тем менее
может быть развито наблюдательности, тем более непосредственный
интерес поглотит внимание. Нелегко далее сохранять положение наблюдателя в
жизни, тем более что люди, охотно дозволяя переживать с собою события,
не охотно являются в роли наблюдаемых. Поэтому методического тут
ничего быть не может. Как и самонаблюдение, наблюдение других людей
должно происходить как бы украдкою, больше в памяти должен собираться запас
знаний того, как люди вообще действуют, переживают состояния и т. д.
47
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Чтобы наблюдение над другими людьми приносило пользу науке,
необходимо его вести методически и по плану. Есть ли возможность это
устроить? думаю, что есть. Можно предлагать вопросы разным лицам. Мною
было предложено несколько вопросов (37) лицам разных слоев общества.
Предметы вопросов составляли условия возникновения некоторых
чувствований. Напечатанные вопросы я решился предложить многим из своих
знакомых, наудачу, только чтобы иметь опыт, что может из этого выйти.
Относительно цветов я предложил несколько вопросов женской аудитории (когда
читал на высших женских курсах психологию). Полученные ответы убедили
меня, что этим способом можно кой к чему прийти и что есть своего рода
законность в таких душевных явлениях, которые, по-видимому, у каждого
индивидуума совершаются по своему. Так как у меня в этом деле есть уже
маленькая опытность, то я позволю себе, в видах успеха подобных
исследований, несколько остановиться на нем.
Прежде всего я замечу о составлении вопросов. Не говорю уже о том,
что вопрос должен иметь грамматическую точность, что разумеется само
собою, но он должен обнаруживать ясно, какого рода ответ вы ожидаете от
спрашиваемого лица: последнее должно сразу, по прочтении вопроса, понять,
чего вы собственно от него хотите. Для этой цели вопрос не должен быть
слишком общ: ответ на него не должен требовать от спрашиваемого лица
широкого обобщения. Так как психологу может многое казаться субъективно
ясным, что для других далеко не таково, то, по моему мнению, следует,
прежде широкого распространения вопросов, обратиться в образованному
дружественному лицу, на котором первом и испробовать, в какой степени
удовлетворительно составлены вопросы. Далее, чтобы направить внимание
спрашиваемого на сторону дела, именно интересующую психолога, следует,
как мне кажется, определить несколько ответов. Конечно, ставить вопрос
интересно только относительно тех фактов, которые допускают какие либо
числовые определения. Поэтому ответ может быть намечен так, что
отвечающему останется проставить желаемую цифру, дробь; иначе, во многих
случаях, или ответ дастся не тот, какого вы желали, или многих затруднит
(особенно дам) редакция ответа и вы можете совсем не получить его. Для обеспечения
успеха необходимо принять некоторые меры к контролю ответов. Для этого
необходимо ставить несколько вопросов по поводу одного и того же
состояния, разных случаев его возбуждения. Ошибка отвечающего в одних случаях
может быть проверена суждением его же относительно других.
Конечно, я от всего сердца желал дать своим вопросам самое широкое
распространение и первоначально думал, что у меня будут собраны массы
ответов. Однако я скоро убедился, что это дело гораздо труднее, чем
представлялось с первого взгляда. Некоторые лица, по своему развитию, никак не
могут понять научной цели, для которой вопросы предлагаются, не в состоянии
отвлечься от конкретных случаев или обсудить их; для многих, затрудненных
48
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
всякого рода умственною деятельностью, неприятен лишний труд
обдумывания ответов. Можно опасаться, что некоторые выставят в ответе первое, что
придет в голову, и таким образом лишать значения добросовестные,
обдуманные ответы. На это следует уже наперед идти, что многие лица совсем не дадут
никаких ответов и забудут, что вы их о чем то просили. Поэтому думать о
распространении вопросов в массах нет никакой возможности: если бы
ответы и получились, то им едва ли можно питать доверие и основывать на них
какое либо обобщение. Следует обращаться прежде всего к хорошим и
образованным знакомым, характеру которых и способности отвечать можно
доверять, или к таким лицам, которые вообще, по своему характеру и положению,
могут понять и оценить научную цель. Разумеется, где можно, полезно
присоединять личные объяснения смысла вопросов, или распространять их чрез
таких лиц, которые, при нужде, могут дать требуемые объяснения.
Замечу еще, как ни желательно распространить такое методическое и
систематическое наблюдение, но не следует при этом вдаваться в
крайности. Во-1-х, мне кажется, не следует предлагать за раз массу вопросов,
потому что добросовестные ответы на них будут тогда серьезным трудом,
которого мы, психологи, не в праве от всякого требовать. Во-2-х, следует
опасаться, чтобы подобные вопросы не обратились в бесцельное и,
главное, недобросовестное расспрашивание, которое может без нужды
беспокоить серьезных людей. Поэтому право ставить вопросы едва ли может
быть предоставлено всякому, и, следовательно, спрашиваемые имеют
полное право каждый раз решать, по своему усмотрению, следует ли им
отвечать или нет. В-З-х, спрашивающий должен, по возможности, внушить
отвечающим, что им не следует отвечать совсем необдуманно, как попало,
равно и слишком много рефлектировать над вопросами. В последнем
случае легко может случиться, что отвечающие будут убеждать себя, что
следует отвечать в известном смысле, и ответят не то, что подсказалось им по
опыту и самонаблюдению, а то, как, по их мнению, всего вероятнее должно
быть. Такие ответы не будут иметь полной цены.
Как обращаться с полученными таким образом ответами, об этом мы
будем говорить ниже. Заметим теперь, что этот способ наблюдения открывает
науке новый и весьма ценный материал, и надлежащее пользование им может
осветить многое в духовной жизни: например, могут быть несомненно
открыты законы возрастания чувствований, каковую попытку я представлю в своем
месте. Когда получится значительное количество ответов, можно будет
приступить к решению вопроса, как велики колебания в чувствительности разных
индивидуумов, разных классов общества и, быть может, если бы были
сравнены ответы, данные лицами разных национальностей, то и разных народов1.
Вопросы, уже предлагавшиеся мною разным лицам, я перепечатываю в конце
книги в надежде, что некоторые из благосклонных моих читателей ответят на них
49
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Наблюдение над животными
Необходимо расширить наблюдения на низшие существа, на животных.
Рассуждая теоретически, весьма интересно было бы наблюдать душевные
явления в их простейшей форме. У человека они осложняются: высшие
формы развития перемешиваются с низшими; человек, несомненно, более видит
в предмете, чем любое животное, потому что в процессе ощущения его
участвует рефлексия: многое из того, что мы видим, принадлежит ей, а не
ощущению; страстные состояния духа у человека умеряются чувством долга,
в его любви есть стремление к прекрасному, чего нет у животного. Оно
ощущает просто или с малым участием представлений, оно отдается своим
стремлениям прямо, и борьбы между желаниями, столь обыкновенной в
человеческом существе, у него не бывает. Если бы мы могли наблюдать животных
так, как наблюдаем других людей, то наши психологические обобщения,
конечно, получили бы большую точность.
Так как животный мир, по обширности своего распространения, по
разнообразию форм деятельности и условий, при которых она
совершается, имеет сам по себе огромный интерес, то, конечно, он заслуживает
тщательного и внимательного наблюдения. Психология, в обширном смысле,
есть наука о душевной жизни не одного только человека, а всех доступных
нашему наблюдению существ; следовательно, она должна была бы
обнимать и душевные состояния всех классов животного мира.
Но любопытное обстоятельство: несмотря на появление новых
сведений о душевной жизни животных, точность выводов о ней нисколько от
этого не увеличилась. Улучшение анализа душевных фактов, если и
совершилось, то никак не в связи с успехами знакомства с духовною стороною
животных. Отчего, до сих пор, давнишнее уже соприкосновение человека с ними,
например с домашними животными, не пролило света ни на одно душевное
состояние? Конечно, оттого, что относительно такого рода наблюдений мы
поставлены в особые условия. Как мы видели, прямо и непосредственно
духовную жизнь животного мира видеть мы не можем. Душевные состояния
животных тем более скрыты от нас, что мы не имеем такого средства для
взасами и, быть может, подвигнут к тому тех из своих знакомых, которые
удовлетворяют вышеупомянутым условиям. Чтобы не затруднять переписыванием
вопросов, я покорнейше прошу при ответе проставлять только № вопроса. Для
надлежащей оценки ответов, я принужден просить, чтобы они сопровождались по
крайней мере общими указаниями местности, где живет отвечающий, и
общественное или служебное его положение. Само собою разумеется, что отвечающему
нечего опасаться, где бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах,
быть гласно упомянутым. Ответы адресовать в С.-Петербургский университет,
профессору Владислав леву.
50
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
имного обмена с ними мыслей, какое язык доставляет нам при сношениях с
людьми. Следовательно, в наблюдениях приходится по внешним
обнаружениям в животных догадываться, что в них происходит. И так как никакими
положительными фактами проверить своих выводов не можем, то в конце
концов последняя опора при истолковании действий животных состоит в
вероятной гипотезе, что при равных условиях и причинах животные переживают
состояния, подобные нашим.
Так как о духовной жизни животных мы должны заключать по аналогии
себе, то мы не столько в наблюдениях ее можем искать средства для
разъяснения своей и вообще человеческой жизни, сколько, наоборот, тщательным
изучением последней можем надеяться пролить свет и на душевные состояния
животных. Не для афоризма только мы говорим, что человек тогда шире и
полнее поймет их, когда многосторонне и точнее ознакомится с самим собою.
Всякий шаг в изучении человека будет иметь с тем шагом и в животной
Психологии. Хотя явления животной жизни проще в своем составе, чем явления
человеческой, но они несравненно далее от нас, чем последняя, и лишь когда
мы разберемся в фактах своей жизни, можем, с пользою для дела,
приниматься и за объяснение духовной деятельности животных.
Искусство как источник психологических сведений
Богатый клад психологических сведений и материалов представляет
искусство. В произведениях живописи и скульптуры мы имеем
изображения разных состояний и настроений души, как необыкновенных,
вызываемых важными поводами, так и мелких, сопровождающих обыденные
приключения ежедневной жизни. Но, можно сказать, сокровище разных
тонких наблюдений над человеческою душою заключается в поэзии в
собственном смысле, в эпических, лирических и драматических
произведениях, рассказах, повестях и романах. Поэзия есть нечто в роде второго мира
психических фактов, постигнутых по воображению и рассказанных в
последовательности, в какой они совершаются в жизни. Какое, например,
знание души человеческой у Шекспира, у Гёте, Мольера и Виктора Гюго,
наших Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского и т. д.
Однако, тоже странное явление, до сих пор Психология мало
пользовалась поэзией для своих выводов и ничего не могла разъяснить ею, все равно
как и наоборот, поэзия почти ничем не могла с пользою позаимствовать от
Психологии. Происходит это от того, что, с одной стороны, поэзия вовсе не
имеет и не может иметь в виду каких либо научных целей, а с другой — сама
Психология далеко еще не в том состоянии, чтобы смогла воспользоваться
для своих целей поэзией.
Поэзия изображает ход душевных состояний в их естественной
последовательности и описывает их в более или менее художественной форме.
51
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Последнее обстоятельство уже имеет немалое влияние на умаление
научного значения материала, ею доставляемого. Мы требуем от поэзии не только
верности действительности, но и художественности изображения и потому
дозволяем ей иногда усиление, иногда смягчение красок в картинах, когда
это требуется художественностью изображения. Как живопись могла дать
Дарвину очень мало ценных указаний для изучения выражения
чувствований, так и художественные типы и лирические изображения, создаваемые
для особых целей, не могут служить для прямых каких-либо
психологических обобщений. Притом поэзия, изображая душевную жизнь ряда
личностей, останавливается только на важных, или вообще нужных для ее целей,
элементах развития душевных процессов; поэтому она многого
недоговаривает, предоставляя пополнение пробелов воображению читателя или
зрителя; она опускает не важное и незначительное для нее, а с ним часто
промежуточные звенья между выдающимися душевными состояниями. Затем, она дает
такого же рода материал, как и самонаблюдение: она рассказывает события,
описывает состояния в такой мере, поскольку они или даны были в
самонаблюдении самого поэта, или постигнуты воображением его, следовательно,
в сущности, она дает сырой материал, как и вообще наблюдение самого себя
и других людей, и не представляет никакого объяснения своего материала.
Психология, с своей стороны, вовсе не в таком положении, чтобы
пользоваться поэзией для своих целей. Те части ее, которые трактуют
об общих процессах душевной жизни, например ощущении,
представлениях, рефлексии т. д., мало могут касаться конкретных случаев этой
деятельности, специальных направлений деятельности ума, чувства и
воли, т. е. таких случаев, которые по преимуществу дают содержание
для поэта. Общая часть Психологии может пользоваться поэзией лишь
для разъяснений, брать примеры блестящих описаний различных
состояний, описаний, требующих, однако, некоторых поправок. Те же
отделы, которые прямо ставили бы Психологию с поэзией лицом к лицу,
например об индивидуальных формах духовной жизни, о
темпераментах и т. п., совсем не разработаны и ничего достойного внимания не
могут представить поэзии.
Психологи всегда будут выражать одни бесплодные желания
воспользоваться искусством для своих целей и никогда не пойдут далее
извлечений нескольких строк из того или другого произведения поэзии, что будет
зависеть от вкуса и случайных знаний лица, пока не примутся за изучение
поэзии, согласно с своими целями, систематически и методически.
Следует начать с точного психологического описания и анализа типов того или
другого писателя: например шекспировские типы, несмотря на массу
исписанной о них бумаги, не описаны еще удовлетворительно, как следовало
бы с точки зрения Психологии, и еще менее анализированы. Когда такая
работа была бы сделана для важнейших авторов, то можно бы было
при52
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ступить к классификации типов, и эта работа была бы полезна для вопроса
об индивидуумах, о течениях в общественной жизни, о духовном строе
общества т. д. Если позволят время и обстоятельства, то я намерен сделать
опыт такой работы по отношению к одному из наших важнейших
писателей: например, несомненно, что романы Достоевского заслуживают такой
работы, и анализ, описание и посильное объяснение его типов могут
раскрыть некоторые глубокие стороны человеческой природы.
Помощь психологу со стороны языка
Сокровища психологических наблюдений и обобщений скрыты в
языке. Именуя психические состояния и процессы, язык часто брал для этой
цели слова от каких-либо физических действий, что особенно заметно в
названиях более высоких и тонких психических состояний: например,
сокрушение духа от крушити, разбивать на части, попечение — пещись,
воскресение — кресити, т. е. высекать огонь, понятие — имати, яти т. е. хватать
руками. Для психолога важно подметить, какое первое было впечатление,
вынесенное народом из наблюдения того или другого душевного явления,
состояния, процесса, почему он и уподобил в своем воображении последние
некоторым физическим состояниям и действиям. Разные названия, теперь
имеющие специальный смысл, и притом научный, первоначально имели иное
общее значение, и наоборот, теперь имеющие общий смысл, прежде имели
частное значение. С течением времени внимание говорящих переносилось с
одной стороны обозначаемого предмета на другую и слово получало иное
значение. Эти изменения в названиях разных духовных состояний
происходили от расширения психологической наблюдательности народа, влагавшей
в психологические термины в разное время различный смысл.
Не только в истории языка, но и современном его складе и составе
заключаются обильные для психолога материалы. Слово кроме прямого
значения может иметь несколько других частных оттенков. Все это
отыскать возможно, только проследив различные случаи его употребления в
живой речи, фразах и выражениях; из разных случаев употребления слова
оказывается, что в одном случае выдвигается одно значение, в другом —
другое, в третьем — третье. Например, мы говорим: не смеяться, а уважать
следовало бы такое-то лицо; следовательно, в этом случае смех означает
признание предмета малым, ничтожным; в другом случае противополагаем
смешной рассказ скучному, серьезному: здесь смех означает забаву; иногда
мы говорим, что не смеяться следовало бы, а пожалеть человека; как нечто
противоположное жалости, он означает недоброжелательство, злорадство,
ненависть. Давая слову, означающему душевное состояние, то или другое
значение, язык руководится, конечно, бессознательным анализом сложного
состояния и потому иногда выдвигает один элемент его, иногда другой. Если
53
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
с этой стороны заглянуть в язык, то окажется, что всякий народ имеет свой
психологический анализ, свою психологическую теорию и что он глубже
понимает сложность душевных состояний, чем научная Психология. Смысл
состояния, означаемого тем или другим названием, можно иногда открыть,
только проследив, что обозначает им язык в различных фразах и
выражениях. Например, что значит чувство нежности, столь важное вообще в жизни
сердца? Мы говорим: нежный вкус, в смысле деликатности и тонкости его,
нежный цвет также в этом смысле; мы нежны с детьми, с произведениями
искусства, боимся дотронуться до них, чтобы как не порушить их и т. д.;
нежным мы называем предмет деликатный, могущий легко быть
порушенным, хрупкий, а вместе с тем и дорогой, ценный; следовательно, чувство
нежности будет то состояние сердца, при котором мы относимся к предмету
как деликатному, легко могущему быть порушенным, дорогому и ценному.
Синтаксическая сторона языка, касающаяся психологического
материала, может дать весьма много указаний; например, язык следит за тонкими
оттенками желаний и хотений, сознает разные степени чувствований и т. д.
Фразы, касающиеся душевных состояний, суть выражения взглядов языка на них
и смотря по тому, как он их представляет себе, такой дает оборот и
выражению: например, ты сделай, я желал бы, чтобы ты сделал, сделать бы тебе, если
бы ты сделал! Очевидно, различные состояния желания обозначаются в этих
четырех случаях. Употребление «ся, себе, свой» указывают, как в сознании
важна сторона самопредставления и как часто мы себе представляем самих
же себя, как постороннее существо. Употребление залогов, наклонений,
видов, времен, глаголов, обозначающих психологические состояния, может
указать, какого рода влияние воли язык предполагает на душевные состояния,
как обширна может быть изменчивость в них. Как, например, понять
выражение: бойся нарушить закон, если не предположить, что язык повелевает
страшиться не в смысле чувства (что невозможно), а в смысле волевого элемента,
заключающегося в страхе, и состоящего в устранении себя, бегство от
опасности, в данном случае от нарушения закона. И этот взгляд языка на страх
глубокий; он, можно сказать, предупредил научный анализ.
Язык, в смысле психологического источника, имеет то преимущество
пред искусством, что он уже обладает психологическим анализом, что
работа, из которой состоит почти вся психологическая современная наука,
в нем уже до некоторой степени произведена. Если бы подметить, какое
понятие язык имеет о различных душевных состояниях, какие в них находит он
элементы, какая связь между ними предполагается при тех или других
оборотах речи и т. д., то мы имели бы своего рода теорию Психологии,
составленную сотнями миллионов людей, т. е. совокупностью лиц, говоривших и
говорящих известным языком.
Дело изучения языка с психологической целью требует
систематического и методического приема. Мне кажется, за него следует приняться по плану.
54
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Первое, с чего нужно начать, — это пересмотр по лексиконам всех слов,
имеющих прямое психологическое значение. Этот один пересмотр может
раскрыть глаза на многое; найдутся многие признанные языком состояния,
которые Психологией не упоминаются, но принятые в классификацию, навели бы
Психологию на новые обобщения. Далее, все названия душевных состояний
следует проследить в историческом отношении и отыскать, какое значение
имели они в древне-церковном языке. Русские и церковно-славянские
названия следовало бы сравнить с существующими в других славянских наречиях.
Затем следует проследить за употреблением важнейших психологических
названий и подметить, какое понятие язык соединяет с состояниями, им так или
иначе называемыми. Наконец, труднейшую часть исследования составляет
синтаксический материал. Требуется проследить употребление форм, оборотов
речи как в отношении психологического материала языка, так и особенно тех
форм, которые выражают оттенки душевных состояний.
Успех этих исследований во многом будет затруднен у нас. Лексиконов,
которым можно доверяться, без которых невозможно, однако, вести дело,
у нас хороших нет. Академический — требует такой бережности и такого
филологического знания русского языка, чтобы знать, где следует им
пользоваться и где нет, что едва ли возможно психологу безбоязненно брать его в
руки. Словарь Даля, тоже страдающий многими недостатками, все таки
лучший лексикон, с которым можно начать исследование. Но так как нет
лексикона церковно-славянского языка и вообще древнерусского, то придется
обратиться уже к памятникам и самому исполнить лексико-графическую
работу. Нет далее не только сравнительных лексиконов по славянским
наречиям вообще, но и хороших настояще — ученых лексиконов по одному
какому либо наречию. Советуя другим предпринять эту работу, я не
отказываюсь, однако же, сам, при удобных обстоятельствах, приступить к ней. В
надежде на помощь некоторых друзей, которых солидным знаниям в русской
филологии я вполне доверяю, я думаю, между прочими занятиями,
обратиться к этой работе и подготовлять материал, а потом
сосредоточиться над его объяснением и выводом из него заключений.
Конечно, филологические работы могут расшириться еще далее.
Любопытно сравнить, как другие языки смотрят на психические состояния,
какая сторона в них выдвигается вперед разными народами. Французское
douter и немецкое zweifeln означают сомнение, но француз и немец
понимают его, как раздвоение мнения, причем субъект не знает, на которое
решиться. Наше русское сомнение происходит от мнения, думать, и предлога
«с» означающего движение; следовательно, сомнение означает, что субъект
сдвинулся с мнения, неустойчив в нем. Наше удивление (дивь, дивить —
смотреть) означает скорее желание внимательно смотреть, рассматривать
что либо; французское etonnement означает состояние оглушения, когда
человек поражен размерами впечатления. Наше название выражает
влече55
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ние человека к большему и лучшему бытию, французское — состояние
человека, незнающего, что значит впечатление. Если бы так сравнить разные
языки, то вышло бы, что разные народы различно смотрят на душевные
состояния и различный анализ лежит в основе их языков. Это был бы
настоящий материал для Психологии народов.
Итак, что касается до источников психологических сведений, то мы не
имеем права жаловаться на их скудность. Прежде всего, самонаблюдение,
далее, опыт и наблюдение над другими людьми, над животными, искусство и
язык дают нам огромный материал и вопрос весь в том, как с ним справиться...
Психология как система
Конечная цель развития нашей науки так же, как и прочих наук: стать
логически цельным составом знаний, в котором разнообразные познания,
приобретенные по методам, поставляются в взаимную связь и каждое из
них получает свое определенное место, т. е. стать системою. Форма ее
вообще видоизменяется, смотря по состоянию знания и по различию целей
познания: система может быть классификацией или описательною,
объяснительною и истолковательною.
Психология как описательная система
Классификации или описательные системы имеют в виду
расположение материала науки в систематическом порядке и точное описание его.
Они вносят строй и порядок в наши знания и дают возможность найтись
среди разнообразия их. Они суть своего рода конспекты, с помощью
которых мы одним умственным движением обозреваем бесчисленное
множество явлений. С целью классифицирования наука собирает материал,
анализирует, систематизирует и затем описывает его в подробностях.
По состоянию и характеру своего материала Психология прежде всего
должна стремиться быть удовлетворительною описательною системою.
Душевных явлений огромное множество. Как разнообразны обнаружения
индивидуальной человеческой жизни, животных, как много их родов и видов!
Чтобы ориентироваться среди них, необходимо свести их в группы, расположить в
порядке. Для этой цели психолог собирает в одно целое разнообразный свой
материал, и, разумеется, весьма не маловажная задача, по возможности,
подметить всякое несколько важное душевное состояние. Не скажу, чтобы она
была закончена: религиозные настроения, например, совершенно
игнорируются, чувства зависти и ревности не находят еще места в наших системах;
расположение по родам и видам в некоторых областях душевной жизни далеко не
удовлетворительно: например, трудно дать удовлетворительную
классификацию чувствованиям, по их чрезвычайному разнообразию и разносторонности.
56
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Описание и характеристика душевных состояний должны быть
понимаемы психологом, как важное научное дело. Здесь он должен приложить
свой анализ, дабы видеть впоследствии, что в душевном состоянии
существенно и что он должен объяснить; при характеристике его откроется,
в чем оно роднится с другими фактами и чем отличается от них; из
отношений его к другим сходным и различным может до некоторой степени
открыться значение, какое оно может иметь в ряду других явлений. Надобно
сознаться, что анализ состава их далеко не удовлетворителен в
Психологиях, да почти и не делается; в описаниях нет определенного приема, т. е.
ничего подобного существующему в классификациях Ботаники и Зоологии. Это
все пробелы, которые должны быть по возможности пополнены.
Психология как объяснительная наука. Первообразные
и эмпирические законы в ней
Но психология не может ограничиваться одними целями
классификации: она должна заниматься объяснением изучаемых явлений,
следовательно, быть объяснительною системою. В этом отношении она имеет цели и
задачи, общие ей с точными науками. Явления, изучаемые ею, реальны в
преимущественном смысле: ибо чрез них мы знаем о всех внешних фактах.
Эти явления возникают и уничтожаются, в зависимости от причин,
следовательно, подчиняются закону причинности; психологическая причинность
управляется известными законами. Психология, стремящаяся объяснить свой
круг явлений, должна открыть законы, управляющие их связью и развитием.
Логика различает два рода законов: первообразные и эмпирические.
Первыми именуются неизменные способы действий, управляющие
обширною областью явлений: таков закон тяжести. Они указывают не только
факт зависимости одного явления от другого, но и самый способ
действования природы; точно определяя последний, законы стремятся
выразиться в математической формуле. Эмпирические законы простираются на одну
какую-либо группу фактов и обобщают только некоторые стороны их.
Надобно сознаться, что Психология не обладает таким первообразным
законом, который для психических явлений был бы тем, чем закон тяжести
для физических. Закон относительности, состоящий в том, что мы сознаем
все относительно, по сравнению одного состояния с другим, не заслуживает
названия первообразного, как многие думают о нем: дабы переживать
чтолибо относительно, необходимо иметь уже состояния, т. е. что-либо
пережить абсолютно. Упомянутый закон идет к жизни рефлективной,
основывающейся на сравнивании представлений; как мы увидим ниже, из
относительного сопоставления впечатлений с так называемыми мерами возникают
многие чувствования и желания, но не все, и даже те, которые этим путем
возникают, не всегда являются из сравнительного сопоставления. Если бы
57
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
удалось возвести разные данные в измерениях ощущений, чувствований и
желаний к одной какой-либо формуле, то мы имели бы вывод для
психического мира, по значению своему приближающийся к закону тяжести в
физической области явлений. Но как в природе не все явления управляются
законом тяжести (свет, теплота, электричество), и рядом с ним существует масса
других законов, управляющих сложением и разложением элементов,
сложением, разложением и прекращением движений, так и в духовном мире
должно быть разнообразие первообразных законов. Как тяжесть означает
взаимное притяжение частиц материи и управляет ими, так, быть может,
закон гармонии управляет отношениями живых существ.
Первоначальные законы, мы сказали, стремятся выразиться в
математических формулах. Нет причин полагать, что психологические первоначальные
законы не нуждаются в математической точности. Если душевные явления
возрастают с правильностью и увеличение их, по степеням и силе,
совершается не случайно, а по какому-либо закону, то, говоря теоретически,
необходимо ожидать, что есть свой закон возрастания и происхождения их и он может
быть выражен математически. Нечто подобное мы имеем в обобщениях
Фехнера относительно ощущений, и, как надеемся доказать, должно быть что-то
в этом роде в чувствованиях и желаниях. Следовательно, вопрос о
приложении Математики в Психологии решается утвердительно. Где она может
помочь психологу формулировать факты, там ее услуга в высшей степени
желательна. Когда Психология достигнет такого положения, что в состоянии будет
ясно определять отношение психических отправлений, то наступит время
приложения в ней и высшей Математики. До сих пор попытки воспользоваться
услугами ее для Психологии (Гербарт) не привели ни к какому результату.
Длинные исчисления, предпринятые Гербартом и Дробишем относительно
взаимоотношения представлений, не дали вывода, который был бы признан
достоянием науки. Может быть, причина бесплодности заключалась в
неправильности основных положений, от которых отправлялись оба эти психолога.
Не обладая первоначальными законами, Психология богата
эмпирическими обобщениями. В этом отношении ей не приходится завидовать
какойлибо другой науке. Почти во всех частях своих наша наука может представить
ценные обобщения зависимости фактов: одни из них выражают обобщения
сосуществования и преемства психических явлений, например закон
смежности, управляющий сменою представлений; другие указывают преемство
между действиями и отдаленными их причинами: таково, например,
обобщение зависимости памяти от достоинства внешних чувств, многие детальные
замечания о выражении чувствований в теле, об условиях возрастания
чувствований в степени и силе и т. д.; третьи обозначают последовательность или
сосуществование между действиями одной и той же причины, остающейся
неизменно: таковы все замечания о сочетаниях свойств и особенностей в
индивидуумах, когда разбираются характеры и темпераменты их.
58
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
До законов и обобщений всякого рода наша наука доходит как
индуктивным, так и дедуктивным путем. Несмотря на массу ценных знаний о духовной
жизни, уже добытых ею, психологической индукции предстоит еще много дела.
Еще более работать в будущем для психологической дедукции, и притом не
поскольку Психология есть наука философская, а поскольку она есть
объяснительная система. Много остается явлений не проанализированных, и
можно сказать, предстоит еще безграничная возможность синтеза. Психология
должна поставить различные духовные деятельности во взаимную связь,
второстепенные вывести из главных и т. д.; тогда, быть может, откроются новые
горизонты психологического ведения и явится возможность дедуктивной
формы, если не для всех частей Психологии, то по крайней мере для некоторых.
Психология как философская наука
Изучая связь причин и действий в душевном мире, Психология
удовлетворяет только одной потребности: знать, какой факт каким другим
условливается и каков способ развития душевных явлений. В этом отношении она
преследует задачи и цели реальных наук. Но есть другая научная потребность —
знать смысл и значение совершающихся кругом нас явлений, и поскольку
Психология берет на себя эту задачу, она есть наука истолковательная, или
идеальная, или философская. Она может быть названа первым названием,
поскольку истолковывает смысл и значение психических явлений. Второе имя
прилагается к ней потому, что, исследуя смысл психических фактов, она
стремится открыть идею их: ибо смысл и значение чего-либо могут отражаться
только в ней. Она может быть названа поэтому философскою наукою: ибо
философия занимается изучением сущего именно с указанной целью и
истолковывает фактический мир с точки зрения смысла и значения его.
Конечно, прежде всего возникает вопрос: есть ли какая надобность в
подобной точке зрения на душевные явления и вообще в такого рода
изучений их? Не есть ли оно своего рода ненужная и бесполезная роскошь? Мы
полагаем, напротив: невозможно обойтись без него.
1) Душевные явления чрезвычайно разнообразны. Между высотами
духовной жизни, встречаемыми в гениях, и низменностями ее в низших
животных существуют бесконечно многие видоизменения форм духовной
деятельности. И если обратить внимание на бесконечно многие вариации
душевных состояний, начиная с самых возвышенных помыслов, стремлений и
чувствований до самых низших и грубых, то окажется также разнообразие
состояний одной формы в одном и том же индивидууме. Возможно ли,
чтобы они все имели одну цену и одно значение, чтобы они одинаково выражали
напряжение жизни и деятельности, чтобы различные состояния одного рода
одинаково выражали идею этого рода и т. д.? Но как скоро мы начнем
отдавать себе отчет в относительном совершенстве или несовершенстве
душев59
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ных состояний, в их высоте и низменности, мы будем отыскивать значение и
смысл идей их, следовательно, изучать с философской точки зрения.
2) Взаимоотношение и самое бытие душевных деятельностей не
может быть понято и объяснено, если не обратить внимания на смысл и
значение их. Ощущения суть бессмысленный факт, если не вникнуть в значение
их для познания окружающего мира. Особенно, воображение есть
чистейшая бессмыслица в духовной жизни, если не поставить деятельности его в
отношение к воле и не видеть в нем средства для удовлетворения
некоторых важных стремлений ее; таковым оно и было в психологиях,
рассматривающих его обыкновенно фактически, и оттого, я думаю, анализ
воображения до сих пор не давал хотя сколько-нибудь удовлетворительного,
результата. Непонятна деятельность ума, если не видеть в ней никаких
целей и стремлений, и еще менее можно понять чувствования и формы их,
если не сравнить их с состояниями воли, а главное, не поставить вопроса,
какая же в конце концов цель их. Только с точки зрения цели возможно
хотя несколько понять, почему есть такой, а не другой склад и тип
духовной жизни, для чего существуют такие, а не другие способы деятельности
души и т. д. Фактическая сторона психической жизни легче понимается и
объясняется, когда мы обратим внимание на смысл подробностей ее: ибо в
человеческой душе нет ни одной черты, которая не была бы рассчитана на
какую-либо потребность, или не была бы приспособлена к окружающему
ее строю бытия.
Наконец, 3) не забудем и того, что существуют глубочайшие
потребности духа, требующие подобного рода изучения как вообще сущего, так и
особенно нашего духовного бытия. Невозможно допустить с точки зрения
нравственной, чтобы психическая область фактов была лишь одним
образцом смены явлений, механически следующих одно за другим, и ничем
более, и что духовный строй не имеет никакого призвания в мире, не служит
никакой цели, и существа, им наделенные, не имеют никакого
нравственного назначения. Невозможно допустить отсутствие целей в душевной
жизни с религиозной точки зрения. Нет возможности допустить
случайное происхождение мира, и предполагая в основании всех фактов и
явлений энергию высочайшей Сущности, мы должны признать, что в формах
нашего духовного бытия осуществились некоторые идеи и что как
индивидуумы призваны к бытию не в виде бессмысленного факта, так и духовная
жизнь во всей ее совокупности имеет какую-либо свою цель.
Следовательно, Психология должна быть наукою и философскою: она
должна взяться за изучение смысла и значения душевных событий; она не
может обойтись без точки зрения цели. Конечно, было бы слишком гордо
утверждать, что последняя нам известна и что ее легко открыть; но отчасти
она открывается нам самым психическим строем. Из цели должны быть
выведены как факты, так и содержание духовного бытия.
60
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Укажем теперь вкратце задачи Психологии как научной системы. Она
должна 1) классифицировать душевные явления и описать их, 2) отыскать
законы, управляющие развитием, связью, последовательностью их и
3) раскрыть смысл и значение форм душевной деятельности. В одно и то же
время она есть описательная, объяснительная и истолковательная наука.
Надеемся, что после наших рассуждений читателю ясно, есть ли наша
наука реальная, индуктивная, или дедуктивная. Она есть реальнейшая из наук,
как по своему содержанию, которое имеет для нас вполне достоверный
характер и по которому мы убеждаемся в реальности всех внешних явлений, так и по
своим методам и приемам, тожественным с точными и так называемыми
реальными науками. Она есть индуктивная наука: ибо в обширных размерах
пользуется источником сведений, общим для всех индуктивных наук,
методами и приемами их и имеет одинаковые с ними цели. Стремясь, как и все другие
науки, к открытию законов, действующих в духовной области явлений,
притом самых общих и высших, из которых могли бы быть выведены частные, она
идет к дедуктивной форме, окончательной цели всех положительных наук, и
так как она есть, сверх всего, наука философская, выводящая самые законы и
порядок явлений из целей и смысла духовной жизни, то ее можно назвать
дедуктивною наукою по преимуществу.
Необходимость различения в Психологии реального
и философского способов исследования
Называя Психологию наукою положительною и в то же время
философскою, мы стоим однако за выделение одних способов от других. Как
наука положительная, она должна пользоваться методами и приемами точных
наук и, главное, быть столь же осторожною и осмотрительною в своих
выводах, как и они. Мы не должны и упоминать о целях того или другого явления,
пока оно не исследовано как факт. Дедуктивное конструирование его, без
предварительного аналитического исследования подробностей, было бы
совсем не научным действием, полным теоретических опасностей всякого рода.
В этой своей части Психология столь же крепко должна держаться точных
приемов, как Анатомия и Физиология, и так же мудро налагать на себя
воздержание от преждевременных дедукций, как это делают эти науки. Как в
естествоведении дедукция оканчивает дело индукции, выводы последней
заменяет более общими, отыскивает связь между различными законами и
затем общий высший закон, из которого выводятся частные, и все это делается
на почве, подготовленной тщательным наблюдением, исследованием и
анализом, так и в Психологии дедукция должна вступить в свои права, уже после
индуктивной разработки ее материала: не ранее должен наступать момент
философского анализа и синтеза психических фактов, как сделается все
возможное в положительной части исследования. Только не смешивая
различ61
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ных задач, способов изучения и точек зрения и не принимая
телеологического рассуждения за индуктивное объяснение, мы в состоянии будем в
продолжение всего долгого научного пути идти неуклонно к научным целям.
Место Психологии в ряду философских дисциплин
Так как Психология есть наука между прочим и философская, то мы
скажем несколько слов о ее месте в системе Философии и отношении к
некоторым философским наукам. Философия исследует или сущее, по скольку оно
есть и является, или долженствующее быть, полагаемое волею какого-либо
существа. Как наука о долженствующем быть, она есть или Эстетика, или
Этика. Сущее открывается нам как явление внешнее, познаваемое внешним
чувством, или как явление внутреннее, дающееся в сознании. Поэтому
философское учение о сущем, или философская Физика, распадается на две
дисциплины: Философию природы и Психологию. Следовательно, наша наука как
философская дисциплина есть собственно часть философской Физики.
Философия природы и Психология составляют собственно
теоретическую Философию. Но так как и внешнее бытие и духовная жизнь суть равно
бытие и предполагают вопросы о субъектах, носителях его, взаимоотношении
и т. д. и невозможно допустить, чтобы каждая из упомянутых наук решала
означенные вопросы только для своего ограниченного круга бытия и со своей
особенной точки зрения, то эти вопросы выделяются в особый ряд
исследований, общих для обеих наук, и дают происхождение самостоятельной
философской дисциплине, именуемой Метафизикой. Она исследует, что должно
разуметь под бытием, предполагает ли оно одного носителя его или многих,
что значит становление и происхождение, взаимодействие, что значит
пространство и время, из которых первое есть форма явления внешнего бытия,
а второе — внутреннего. Так как Психология говорит о духовном бытии,
о происхождении, появлении, возрастании и развитии духовного состояния,
о взаимодействии духов, последовательности их действий и т. д., то она
должна при этом прилагать к обсуждению принципы, уже утвержденные
Метафизикой, и истолковывать свои факты по разуму и смыслу последней науки.
Следовательно, принципиально философская Психология зависит от
Метафизики. Однако нельзя опускать из виду и того обстоятельства, что сама
Метафизика в своих умозрениях отправляется от факта духовной жизни. Что
такое внешнее бытие, прямо и непосредственно мы не знаем: оно открывается
нам через события внутренней духовной жизни. Понимание сущего,
понимание различия субъекта и объекта даются нашему уму прежде всего в
приложении к нам; по себе самим судим мы, что значит жить, быть, как состояние
возникает, прекращается и т. д. Психологическое самонаблюдение дает,
следовательно, материал для метафизических выводов, анализа и синтеза и
условливает понимание самих метафизических понятий. В этом последнем
62
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
отношении, Психология в обширном смысле, не как философская
дисциплина, а как вообще наука о душевных явлениях и их субъектах, занимает
центральное положение, условливает саму Метафизику и целую систему Философии.
Общий взгляд на деятельность воли
Прежде чем перейдем к заключительному вопросу о свободе
человеческой воли, представим общую картину жизни воли.
Волю мы понимаем не как беспредметную общую силу, которая,
кроме движения и напряжения, ни к чему другому не способна, а приписываем
ей первоначальное положительное содержание в виде определенных
хотений и влечений. Являясь в свет, воля не только понимает направления
вообще, в каких она должна действовать, но знает и то, чего главным образом
следует остерегаться и от чего отклоняться. Это содержание воли,
первоначальное и глубочайшее, должно признать первоначальною натурою
человека, или самыми первыми выражениями ее.
На основании таких глубоких влечений и хотений развиваются в
субъектах наклонности, стремления, страсти. Они имеют более
определенный характер, чем первоначальные влечения и хотения: последние
слишком общи; они означают направления, которых должна держаться воля, но
круг предметов, как ряд целей, ими не указывается. В наклонностях,
стремлениях и страстях обозначается уже более или менее самый круг вещей и
род деятельности, к которому призывается индивидуум Творцом и
который всего более свойствен натуре индивидуума. Являются и привычки, т. е.
постепенно образуется волевой механизм, посредством которого
обыкновенная рутина жизни проделывается без труда и напряжения, без
сознательного усилия, следовательно, без утомления для души.
Человек знакомится с окружающею действительностью; его ум
развивается, следуя своим законам, и постепенно открывает ему содержание
явлений, их порядок и зависимость. Соприкасаясь с реальными явлениями, воля
применяет конкретно свои общие хотения и влечения. Вещи и явления
получают значение, как материал для практической деятельности, как цели
стремлений; у индивидуума завязываются крепкие связи с окружающим обществом,
он вступает в Иерархию духов, представляемую обществом и Государством.
На основании первоначального содержания воли развивается бесконечное
множество третичных желаний и хотений. Вступает в свои права и тело с его
нуждами и потребностями. Желания являются, крепнут, исчезают, являются
вновь. По-видимому, бесконечно меняющийся калейдоскоп не управляется
ничем, кроме случая. Но движения воли определены ее первоначальным
содержанием. Под поверхностью капризно сменяющихся желаний и хотений
идут глубокие течения как главные руководящие направления, к которым,
как бы ни уклонялась воля в сторону, она неизбежно возвращается.
63
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Однако человек не локомотив, движущийся по раз навсегда проложенным
рельсам. Он может уклоняться в сторону от первоначальных, данных
природою и потому верных, направлений воли. Для него возможны разнообразные
отклонения: он может давать неверное, фальшивое конкретное применение
первоначальным влечениям и хотениям; он может чрезмерно развивать одни
пред другими. Так, физиологическая и интеллектуальная воля
удовлетворяется некоторыми впечатлениями на ум и тело, вследствие чего и возникают
разнообразные физические и интеллектуальные наслаждения; субъекту дано в них
руководство для оценки и выбора впечатлений. И вот он, как бы забыв, что
существуют прямые цели, другие ценные хотения и влечения, начинает заботиться
всячески о наслаждениях, средство превращает в цель и все на свете ценит
только с точки зрения наслаждения. В воле есть хотение жизни, нехотение падения
пред другими, хотение собственной ценности, чрез которые природа, очевидно,
имела в виду облегчить существам возможно беспрерывную и успешную
деятельность среди других существ и вообще явлений. Но эти влечения могут
превращаться в эгоистическое береженье самого себя, наклонность казаться
только ценностью, а не быть ею, гнаться за внешним почетом, без старания быть
внутренне достойным его. Субъект может развить преимущественно пред
другими только одни какие-нибудь влечения и при том те, которые более или менее
эгоистичны, или давать в разных случаях неверное приложение своим
влечениям. Он приложит к делу хотение жизни в пылу битвы, забыв свой долг пред
Отечеством и Царем, не захочет падения в глазах людей, недостойных
уважения, и потому примется за ложь и хитрость, будет образовывать союз любви с
дурными элементами общества и радоваться по поводу удачи в злом своем
намерении. Забыв или не желая признать, что человек есть существо ограниченное
и что он живет в обществе, которое своими законами обуздывает личный
эгоизм, субъект может дать неограниченное применение своим влечениям и
хотениям, например своему нехотению противодействия, своему отвращению от
некоторых союзов, и потому нарушить безопасность других лиц, оскорбить и
пытаться уничтожить своего врага и всякое противодействующее лицо.
Таким образом являются искусственно образовавшиеся наклонности,
стремления, страсти, являются многочисленные и разнообразные извращения
первоначальных хотений и влечений. Упражняемые влечения превращаются в
твердые и закоренелые привычки, расширяются в конкретном применении; не
упражняемые и не применяемые глохнут, становятся мало привычны.
Неправильные приложения их также превращаются в привычки и субъект
укрепляется в зле. Так как первоначальное равновесие воли нарушено и
развитие пошло или односторонне, или даже прямо неверным путем, то в сознании
образуется как бы вторая натура, другой человек, искусственно создавшийся.
Первоначальные глубокие влечения и хотения так крепко связаны с природою
души, что исчезнуть из нее не могут и при всем пренебрежении некоторыми из
них, они все таки существуют в душе и ни чем не могут быть вытравлены из нее.
64
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Как бы ни зарылся глубоко человек в своем эгоизме, он не может, однако,
иногда не сознавать (могут напомнить ему и факты в обществе, с которыми ему
приходится встречаться), что ему самому следовало б жить не отдельною, а общею
жизнью с себе подобными, что истинная любовь к другому существу
самоотверженна, что есть долг и совесть, есть внутреннее достоинство, высший мир,
источник истины, красоты и блага. Этот голос слышится в нем самом, потому
что влечения и хотения, говорящие так, в нем существуют. Таким образом в
субъекте является внутреннее раздвоение, наличная деятельность кажется ему
изменою самому себе, оказываются внутренние противоречия между
крайними приложениями и выводами односторонних влечений или неверными
приложениями и глубокими, хотя глухо себя заявляющими, потребностями духа.
С каждым шагом вперед в этом направлении усиливается противоречие и
внутренний раздор, и человек запутывается наконец в желаниях и хотениях,
приводящих его в столкновение с обществом и государством. При таком
ненормальном положении личности, возможны фатальные скопления энергии в
желаниях поверхностных, неглубоких, которые, быв осуществлены, служат
знаком падения человека в нравственном и общественном отношениях.
Какой же возможен для личности выход из этого положения? Весь этот
искусственный мир хотений и желаний, сложившийся в душе вследствие
одностороннего и неправильного приложения первоначальных данных воли
к действительности, имеет бытие, пока воля утверждает его и он сейчас же
уничтожается, когда она станет отрицать его. Но отрицать его она может
только тогда, когда приступит к переопределению себя и возвратится снова
на первоначальные хотения, влечения и т. д. такое возвращение бывает
недобровольное и добровольное. Когда субъект запутывается в поверхностных и
ненормальных желаниях до того, что уже начинает быть вредным для
общества или государства членом, вступают в свои права последние: лишая
свободы и наказывая страданиями, они более или менее успешно принуждают
своего члена возвратиться к переопределению себя и обратному принятию актов
воли, доведших его до падения. Иногда же возвращение бывает
добровольное. Человек находит наконец, что, продолжая действовать в прежнем духе,
он все более и более путается в безысходных противоречиях, что внутренние
нелады с самим собою становятся все больше и больше и что так дальше
жить нельзя. Собираясь со всею энергией в себе, он решительно отрицает все
фальшиво наросшее в его воле и начинает новую жизнь, на основе глубоких
первоначальных данных своей воли. Это и есть возрождение, восстание
личности, превращение ее в нового человека. Впрочем, иногда общество и
государство не считают возможным для личности такого рода обновление, именно
когда она дошла до совершения некоторых ужасных преступлений.
Отнимая у человека жизнь или осуждая на пожизненную каторгу за тяжкие
злодеяния, государство, очевидно, предполагает, что для него уже невозможна
нормальная деятельность и что необходимо ей положить конец.
3 Российская психология
65
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Внимание. Сознание. Самосознание
Что такое внимание? Когда мы говорим о невнимательности
слушателя, то отсутствие чего, собственно, предполагаем в нем? Он пропускает мимо
ушей все, что мы ни говорим ему; невнимательный человек не видит, что
надобно видеть и т. д. Невнимание есть несосредоточенность души,
и, напротив, внимание к чему бы то ни было есть сосредоточение ее на
известных впечатлениях или душевных состояниях. Внимательный зритель или
слушатель сосредоточивается умственно на внутренних процессах, блюдет
за чувством, стремлением, ходом мысли, за органическим процессом,
о котором сведения получает через органическое ощущение, за способом
своих действий, порядком их и т. д. Всякое духовное состояние, доступное
сознанию, может быть предметом внимания.
Сущность процесса внимания состоит в сосредоточении воли на том или
другом духовном состоянии. Мы говорили уже о волевых элементах в
умственной деятельности и сердечной: без воли ум не может двигаться и если
переходит от одного предмета к другому, полагает и отрицает, то
принуждается к тому волею; равно, нет сердечного движения без воли: чувствования
суть показатели состояния и отношений ее к тем или другим впечатлениям.
Она же движет нашими внешними чувствами, направляет их туда-сюда.
Когда деятельность внешнего чувства направляется волею на известный
предмет, так что субъект хочет видеть его или слушать и т. д., то и говорят, что
человек слушает, смотрит с вниманием. Когда человек мыслит и хочет
мыслить об известном предмете, сосредоточивая на процессе свою энергию, то
о нем говорят, что он внимательно мыслит. Так как деятельности внешних
чувств и ума, сами по себе, развиваются до некоторой степени
самостоятельно от воли, и хотя процессы их стоят в тесной связи с нею, однако сами
по себе отличны от волевых состояний, то мы резко различаем внимание от
ощущений и мышления и практически предполагаем, что для
присоединения его к ним требуется особый акт и нарочное усилие воли. Но в
чувствованиях единение сердца с волею так тесно, что волевой элемент есть почти
conditio sine qua поп всякое чувствование, и потому мы не предполагаем, что
чувствование нуждается в каком-либо внимании: оно и без особого усилия
субъекта есть уже в чувстве. Смешно говорить, что испугавшийся должен
внимательно думать о предмете страха, разгневавшийся — о предмете гнева,
застыдившийся — о предмете стыда и т. д. Еще менее уместно говорить про
желающего, что ему следует быть внимательным к предмету хотения. Чего
мы хотим и желаем, о том, естественно, и думаем.
Так как сосредоточение воли на том или другом процессе приносит с собою
энергию, то внимание, направленное на любое душевное состояние, увеличивает
его силу. Это подтверждается опытом. Внимательно и невнимательно
смотрящие или слушающие, в сущности, получают одинаковые по качеству ощущения
66
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
света и звуков. Но невнимательный наблюдатель не замечает многого, что
замечает внимательный, и тогда как невнимательный слушатель пропускает многие
слова и предложения, внимательный все слышит. Не то чтобы внимание
заставляло зрителя видеть один цвет вместо другого или повышало высоту тона;
но, оставляя их неизменными, оно усиливает ощущение; невнимание же
ослабляет его. И в умственном процессе внимание также усиливает энергию
движений ума, ускоряет самый процесс; напротив, невнимание ослабляет
энергию ума, делает его апатичным и замедляет скорость движений его.
Ослабленная энергия ощущений не позволяет субъекту легко сознавать их, и потому
все, что в них обыкновенно, не превышает обыденного уровня силы их,
теряется для сознания: невнимательный субъект слышит и видит только в половину;
при отсутствии сосредоточения на предмете мысли, субъект опускает из виду
некоторые подробности, не замечает различий его или сходства с другими
предметами; напротив, сосредоточенная энергия придает ясность и отчетливость
обыкновенным ощущениям, и сосредоточенное умственное оглядывание
предмета делает ум чутким к сходству и различию его от других предметов, к
подробностям его, к признакам. Так как внимание придает силу душевным
состояниям, к которым оно присоединяется, то при нем могут сознаваться такие
состояния, которые при обычном ходе духовной жизни бывают
бессознательны. Известен факт, что постоянное сосредоточение внимания на телесных
ощущениях, что встречается при некоторых органических расстройствах,
заставляет доходить до сознания субъекта многие болезненные ощущения из
разных пунктов тела: обыкновенно слабые, они в моменты внимания
становятся достаточно энергичны, чтобы сознаваться. Равно понятно, почему
аскеты, внимательные к самим себе, могли чрез сосредоточение внимания
наследить и изучить такие движения сердца и воли в себе, которые для простых
смертных, не относящихся к ним внимательно, остаются незаметны.
Внимание может быть добровольным и не добровольным, активным и
пассивным. Оно может быть намеренно прилагаемо к тому или другому
душевному действию, например когда мы внимательно слушаем, читаем,
размышляем потому, что сознательно хотим производить эти действия. Но оно
может быть и непроизвольное: например сила ощущений привлекает
внимание к себе: мы невольно обращаем внимание на сильный свет, звук и т. д. Здесь
воля мгновенно сосредоточивает свою энергию на ощущении, потому что
впечатление глубоко затрагивает физиологическую волю (см. выше). Во всяком
сильном ощущении непременно дается возбуждение последней, и потому оно
не может оставаться без внимания со стороны ее. Когда же сильные
впечатления действуют продолжительно и истощают нервы или превращают
возбуждение воли в привычное и, следовательно, малосознательное, то внимание к
ним ослабляется и субъект перестает заниматься им (мельник на мельнице).
Внимание есть основа сознания и самосознания. Невозможно
сознавать что бы то ни было и не быть внимательным к сознаваемому состоянию;
у 67
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
равно не возможно сознавать себя и быть в этот момент невнимательным к
самому себе. Но так как внимание шире сознания и самосознания, то нельзя
утверждать наоборот; внимание может, как мы сейчас увидим, быть
бессознательным.
Сознание. Этот термин употребляется в обширном и тесном значениях.
По мнению многих психологов и обыкновенному словоупотреблению,
сознавать значит переживать то или другое душевное состояние, так что об
ощущениях, мыслях, состояниях сердца и воли говорят, что они суть состояния
сознания. В тесном значении под сознанием подразумевается отнесение
переживаемых субъектом состояний к себе, к своей личности. По первому
значению, акты сознавания даны вместе со всяким душевным состоянием и
неотделимы от него; по второму — оно есть акт особенный, в большинстве
случаев, но не всегда, присоединяющийся к переживаемому состоянию.
Не предрешая вопроса в каком-либо направлении, мы ознакомимся
прежде всего с фактами и тогда увидим, какое толкование следует дать термину.
Можно переживать состояние и не относить его к себе: таковы состояния
ребенка в первые дни после рождения: он переживает ощущение тепла или
холода, света и звуков, боли, но, разумеется, нет в нем и мысли относить их к
себе. Он просто переживает, но не думает, что это его личные состояния, так
как у него нет еще ни малейшего представления о своей личности, даже о
своем теле. И взрослый субъект может до такой степени быть поглощен
впечатлением, что он вполне себя отождествляет с ним, забывает о себе и потому,
как говорят, теряет сознание. Даже можно не сознавать состояний средней
силы: например, волнуясь чувством гнева, мы одновременно переживаем
волнение, имеем волевые элементы и представляем объект гнева. Но
обыкновенно одна которая-либо составная часть гнева сознается нами: или гневающийся
сосредоточивается на отталкивании от объекта гнева и желании вреда ему и
только его сознает, не сознавая других элементов своего состояния; или
думает о разгневавшем субъекте, забывая о всем остальном, или занят своими
антипатическими чувствами к объекту гнева. Он может моментально
переходить от элемента гнева к другому, в каждый момент сознавая только одно
состояние. Но что же делается с другими состояниями, когда субъект сознает
только одно? Можно ли предположить, что в момент сознания одного
элемента гнева исчезают из души два другие, несознаваемые? Они развиваются своим
чередом, хотя и не сознаются. Но, конечно, можно переживать состояния и
относить их к себе, считать их своими: таково большинство душевных состояний.
Мы полагаем, что акты сознания суть особые действия духа, не
зависимые от других душевных состояний, переживаемых нами. На основе чего
они развиваются?
Познавание состояний невозможно без внимания. Кто внимательно
мыслит предмет, тот может и.сознавать свою мысль, кто полувнимательно
относится к делу, тот пропускает без сознания многие мысли. Но познавание не
68
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
есть только внимание: мы видели, что степени чрезвычайного напряженного
внимания бывают бессознательны, да и вообще можно быть длительно
занятым духовною деятельностью и в то же время не сознавать, что именно мы
переживаем свои состояния. Чтобы явилось сознание, необходимо, дабы к
вниманию присоединилась мысль о себе, как субъекте или деятеле известных
состояний. Внимание может быть сосредоточено на чем-либо одном или
быстро переходить от одного состояния к другому, но во всяком случае оно
предшествует сознанию и есть его необходимое условие. Когда субъект, обращая
внимание на свои состояния, начинает относить их к себе и думать о себе как
деятеле их, он сознает эти состояния.
Как показывают факты, сознание связано с энергией или силою
душевных состояний. Чтобы которое-либо из них сознавалось, для этого
требуется, чтобы оно имело известный minimum энергии. Когда оно не имеет его, то
и сознаваться не может. В главе об ощущениях мы видели, что впечатления
тогда только возбуждают сознательные ощущения, когда достигают
известного объема, и мы нашли minimum для различных внешних чувств. Но
спрашивается, неужели впечатление, лишь немного не достигшее minimum'a,
никакого ощущения не производит? Оно должно возбуждать физиологический
процесс в нервах, в мозге и, следовательно, состояние в душе, подобное
ощущению, но последнее, по слабости своей, не может сознаваться. Далее, там
же мы видели, что мы сознаем различие между ощущениями только в том
случае, когда различие между впечатлениями достигает определенной
нормы, для разных чувств различной. В этом случае мы имеем эмпирический
факт, прямо указывающий, что когда различие между ощущениями слабо,
то оно не замечается нами, хотя оно существует: никто ведь не скажет, что
при меньшем против нормы различии в впечатлениях ощущения от двух
абсолютно различных впечатлений совершенно равны: они различны, но
слабое различие не сознается. Затем, кто не знает фактов, что многое в нас
бессознательно мыслится, связывается, расчленяется, выводится без малейшего
сознательного усилия со стороны субъекта, неведомо для него. В
бессознательной глубине души совершаются изменения убеждений, взглядов,
происходят глубокие течения мыслей, и только иногда, к изумлению субъекта,
открывается, что перемены совершались без его ведома. Только те из
мыслей становятся сознательными, которые случайно или по особым усилиям
воли ad hoc получают достаточную для того силу, энергию. Далее, по всей
вероятности, многие, глубокие даже, чувствования переживаются, не
сознаваясь нами: они могут быть очень слабы, не иметь достаточного minimum'a
энергии, чтобы сознаваться субъектом. Мы в свое время разбирали вопрос о
бессознательных хотениях и влечениях, отвращениях и нехотениях и
показали, что они должны быть бессознательно хранимым душою достоянием.
Слабые состояния, хотя бы они были глубокие и высокие по степени, не
сознаются, потому что, по слабости своей энергии, они неуловимы для
созна69
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ния субъекта. С другой стороны, излишек энергии также препятствует
познаванию состояний. Впечатление может поглощать все наше внимание до такой
степени, что лишает нас способности сознавать, что мы в этот момент делаем.
Глубочайшее сосредоточенное мышление, поглотившее, как говорят, всего
субъекта, не позволяет ему сознавать в этот момент себя и свои действия. То
же самое говорят о творчестве, особенно о моментах художнического
вдохновения. Сильные порывы чувства, например исступленный гнев, ужас,
радость, горе, сильнейший стыд и подобные аффективные состояния, лишают
человека способности сознавать свои состояния. Величайшее сосредоточение
воли на объекте, когда субъект, так сказать, весь отдается хотению, влечению
и т. д., сопровождается также бессознательностью. Субъект все это
переживает, проделывает как и всегда, но не сознает того, что делает.
Относительно слабых состояний душевных не может быть недоумений,
почему они не сознаются: они неуловимы для сознания. Но почему
необыкновенно сильные состояния перестают сознаваться? На это можно представить
следующие два основания. Во-1-х, когда энергия души сосредоточена на одном
каком-либо состоянии, будет ли то ощущение, мысль, чувство, хотение, то для
нее нет уже возможности в этот момент думать о себе, о том, что переживаемое
состояние принадлежит ей. Сильное сосредоточение энергии на одном
состоянии исключает возможность рефлективного акта, и так как он необходим для
сознания и есть существенный элемент его, то невозможность первого ведет за
собою невозможность и второго. Когда душа вся поглощена чувством или
желанием, ей некогда думать, что эти состояния принадлежат ей. Во-2-х, при всех
необыкновенных по силе состояниях теряется возможность контроля и
самообладания. Власть воли над душевными состояниями тогда исчезает; к
необыкновенному сильному состоянию воля ничего не может от себя прибавить, или от
него убавить, или как-нибудь видоизменить его: она не господствует над
состоянием, а подчиняется ему. Тогда оно становится вне воли, и так как последняя
составляет самую природу души, то вышедшее из под контроля воли состояние
становится как бы не принадлежащим душе и не сознается ею.
Действительно, сознание имеет прямую связь с волею. Сознавать
действие или состояние значит считать его принадлежащим себе,
следовательно, иметь к нему отношение своею волею. Это не значит непременно хотеть
его, но иметь отношение к впечатлению волею может означать и нехотение
или просто терпение необходимости его, например, когда оно вынуждается
внешними обстоятельствами. Одних состояний душа хочет, других не
желает и отвращается, к третьим относится пассивно, вынуждается к ним
внешними впечатлениями, и такого рода вынуждение душа допускает охотно,
приучившись к тому долгою жизнью под внешними влияниями. Все
состояния, которые имеют то, или другое, или третье отношение к воле, подлежат
до некоторой степени контролю воли: она может усиливать их энергию или
ослаблять ее, и потому они сознаются, т. е. приписываются волею себе. Но
70
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
чрезвычайно сильные и слабейшие, чем обыкновенные, состояния стоят вне
воли: одни по своей неуловимости и малости, другие потому, что
захватывают всю душевную энергию и по своей громадной силе не могут быть ни на
одну йоту изменены волею: они потому изъемлются из-под контроля воли,
стоят вне отношений к ней и не сознаются.
Предположение, что источник сознания следует искать в воле,
объясняет нам некоторые стороны его.
Во-1-х, оно объясняет нам связь сознания с вниманием. Полное
отсутствие последнего делает невозможным первое: чтобы сознавать какое бы то
ни было состояние, надобно прежде обратить на него хотя бы мимолетное
внимание, так что во всяком акте сознания дан и акт внимания. Но
последнее, как мы видели, тесно связано с волею, с сосредоточением ее энергии на
душевном состоянии. Такое же до некоторой степени сосредоточение
энергии воли есть и в сознании, при котором душа признает состояние своим,
себе принадлежащим. С другой стороны, понятно, почему глубочайшее
внимание исключает сознание: в минуты первого воля чрезвычайно
сосредоточивается на известной деятельности, на ощущении или мышлении, и потому
происходит то же самое, что бывает при сильнейшем хотении: оно
изъемляется из-под контроля воли по своей силе и становится бессознательным.
Во-2-х, упомянутая связь сознания с волею объясняет нам, почему
сознание может быть намеренно направлено на различные душевные
состояния: я могу произвольно сознавать то или другое свое ощущение, то
или другое чувство и состояние воли. Так как сознание предполагает
внимание как необходимую почву, без которой оно явиться не может, а
внимание может быть актом произвольным, то таковым же может быть и
сознание. Конечно, оно иногда развивается и невольно, когда внешние
обстоятельства и сила состояний принуждают нас сознавать их: например
сильное чувство боли неизбежно привлекает к себе внимание и сознание.
В-З-х, так как сознание может быть произвольным, то оно может
сопровождаться контролем сознаваемых состояний, сдерживанием, умерением их,
а иногда усилением. Язык слово «сознание» часто отождествляет с волевым
контролем состояний, а «бессознательность» — с отсутствием его.
Действовать с сознанием значит иметь возможность самообладания, управления
собою; действовать бессознательно значит быть лишенным этой способности.
Наоборот, способность контроля, самообладания и самоуправления язык
иногда отождествляет с сознанием: например о ребенке до известного
возраста говорят, что он не может действовать с полным сознанием; очевидно,
в этом случае предполагается, что в сознании есть не только отнесение
состояния к себе, но и управление собою и всеми своими состояниями.
Здесь само собою возникает вопрос: как душа может переживать
бессознательные состояния и в каком виде они переживаются? Не есть ли
бессознательное, например, представление или чувствование в своем роде
71
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
contradictio in adjecto1 и как может душа одновременно быть в многих
состояниях? Но с фактами ничего не остается делать, как признать их, как бы
они ни казались нам странными. Ввиду множества фактов из всех областей
душевной деятельности мы не видим надобности нарочно, во что бы то ни
стало, избегать предположения, что бессознательные состояния
существуют. Как они возможны и как переживаются душою, этот вопрос даже
странен. Мы часто воочию видим и сами подчас испытываем, как такие состояния
переживаются. Ведь-бывают же и с нами минуты глубокого, нераздельного
внимания, сильнейшего умственного погружения в некоторые задачи и
вопросы, сильнейших сердечных движений. Факты на лицо, что бессознательные
состояния существуют и переживаются душою. Таким же способом
переживаются состояния бессознательные по слабости энергии. Они занимают
душу, требуют от нее незначительного напряжения, но слабость энергии
нимало не мешает им существовать.
Что же касается до того возражения, что бессознательные состояния души
суть своего рода contradictio in adjecto, то оно в данном случае неуместно. Если
бы мы говорили, что ощущение не ощущается, чувство не чувствуется,
представление не представляется и т. д., то мы допускали бы указанное
противоречие. Но ведь что мы утверждаем? Мы говорим, что состояние душевное может
существовать и быть вне воли, не быть относимым ею к лицу, следовательно,
быть сознаваемым. Акт отнесения состояния к себе может быть вместе с
состоянием и может не быть с ним; душевное состояние может существовать с
таким актом, но ничего особенно не теряет и без него. Нужно отбросить мысль,
ставшую аксиомою у некоторых психологов, что не сознавать состояния
значит не иметь его. В огромном числе душевных фактов акт сознания дан вместе
с ними: но, как мы видели, он может и отделяться, не быть данным вместе с
состоянием, и последнее существует без него.
Но не окажется ли тогда новый странный вывод, что душа одновременно
может переживать множество состояний? Об этом мы уже говорили в главе о
памяти и здесь сделаем краткое напоминание читателю о сказанном.
Необходимо различать одновременное сознавание многих состояний от переживания
их. Мы соглашаемся, что первое невозможно. Сознание состояния
невозможно без внимания к нему, последнее — без сосредоточения энергии воли; чтобы
сознавание произошло, необходимо, чтобы воля отнесла к себе известное
состояние. Но сосредоточение ее не может происходить одновременно на
многих состояниях. Здесь мы готовы приложить общий закон физики, что
одновременное движение одного и того же тела в разных направлениях,
исключающих одно другое, невозможно. Воля не может направлять свою энергию на
два, на три состояния, и, следовательно, одновременное сознавание многих
состояний немыслимо. Однако мы не видим основания, почему этот принцип
Противоречие между определяемым словом и определением (лат.).
11
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
должен прилагаться вообще к состояниям души. Тело может иметь
несколько движений: например земля имеет поступательное вокруг солнца, вращение
около своей оси и движение общее вместе со всею нашей Солнечной системой.
И можно представить еще, что она могла бы вращаться по экваториальной
оси; в одно и то же время она притягивается солнцем и стремится по
касательной; один и тот же атом в одно и то же время может возбуждать колебания
светового эфира, воздуха, быть непроницаемым и т. д., следовательно, имеет
одновременно различные состояния, в силу которых он и обнаруживает себя
различным многосторонним образом. Ничто не мешает и душе быть в
различных состояниях одновременно, лишь бы они не исключали одно другое;
так как бессознательные состояния представляют силу напряжения весьма
малую, то нельзя думать, что душа не могла бы вынести трату энергии на такие
состояния и чтобы эти траты были огромные. Как постоянное поглощение
света или отражение его не утомляют и не истощают сил тел, которые делают то и
другое, и равно, тело не утомляется от того, что оно постоянно гладко или
шероховато, потому что эти явления в них суть обыкновенные состояния
взаимодействия, к которому они призваны своим бытием, в чем сказывается их
жизнь и деятельность, так и первоначальные состояния воли, мысли и
движения их, чувствования разных степеней продолжают actu быть в душе,
взаимодействуя одно на другое, комбинируясь в новые сочетания и т. д. И душа не
томится тем, не истощается. В этом и состоит жизнь ее, и в этой
бессознательной области совершаются глубокой важности явления, которых, быть может,
лишь незначительная доля присвояется волею субъекта себе, т. е. сознается.
Сознание мы назвали присвоением своих состояний себе; самосознание,
к которому мы теперь обратимся, следует назвать присвоением себя самого
себе же самому. Наподобие того, как в сознании мы относим к себе
многоразличные свои состояния и действия, так в самосознании мы относим свою
живую и действующую личность к себе самому и отождествляем с собою то, что
живет и действует в нас. Постараемся отдать отчет в различных элементах
самосознания. Во-первых, в нем прежде всего есть акт сознания, т. е.
отнесения различных состояний к себе при сознании себя самого, предполагается,
что субъект относит к себе свои состояния, т. е. присваивает их себе: если бы
такого присвоения не было не могло быть и самосознания; оно не имело бы для
себя почвы, повода и не могло бы реализоваться в каком-либо содержании.
Во-вторых, присутствие сознания в самосознании предполагает и
присутствие внимания, как conditio sine qua поп1 сознание. В самосознании внимание
направляется не только на содержание психической жизни и деятельности, в
которой сказывается природа самосознающего существа, но и преимущественно
на причину их, субъекта, как виновника всякой деятельности. Без внимания
невозможно было бы сознание, как присвоение себе своей деятельности,
невозНепременное условие (лат.).
73
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
можно было бы умственное сосредоточение на себе, как субъекте различных
своих состояний, следовательно, невозможно и самосознание.
В самосознании есть теоретический элемент: мысль о себе, как
причине и субъекте своей жизни и деятельности или своих состояний вообще.
Это самопредставление выражается в нашем «я», подстановляемом нами
при наших состояниях, как их причина, субъект, основа.
Но одно теоретическое представление себя как причины своих состояний
еще не может объяснить нам всего самосознания. Теоретический элемент
объясняет, что в нем мы выделяем себя как причину своих состояний и
отличаем себя в этом качестве от всех других предметов. Но если бы существовало
одно самопредставление, наше различение себя от других предметов было бы
столь же холодно и теоретично, как мы различаем стул от стола, дом от книги.
Между тем противополагая себя другим предметам, мы с особенною силою
производим такое противоположение и как бы особенно чувствуем эту
отдельность от всего иного, свою самостоятельность и обособленность.
Поэтому мы должны отыскать еще другой, более важный элемент самосознания,
который служит истинною основою указанного противоположения себя
всему внешнему и постороннему. Каков должен быть этот элемент, на то
указывает нам присутствие внимания и сознания в самосознании.
Мы видели, что в двух первых принимает участие воля: внимание есть,
собственно, сосредоточение ее на впечатлении или душевном процессе;
сознание есть присвоение состояния волею субъекта себе. Следовательно,
если они входят в содержание самосознания, то в нем должна участвовать
и воля. После произведенного нами анализа чувства и воли, нам нетрудно
отыскать, какое значение она имеет для самосознания.
В состояниях и актах воли субъект дан реально, как стремящееся
существо, которое присваивает их себе как свои действия и состояния. Содержание
и смысл многих волевых состояний имеет прямое отношение к самому
стремящемуся субъекту. Человек хочет жизни, но, конечно, для себя, и это «себя »
является ему рельефно в минуты опасности; он не хочет противодействия себе,
и это себе живо понимается им в минуты гнева. Удовлетворяя своему
желанию большего круга деятельности, или неудовлетворяясь в нем, он опять живо
понимает, о чьем круге деятельности тут идет дело. Человеческое «себя, себе »
выставляется во всех влечениях, хотениях, нехотениях, отвращениях, как
исходный и конечный пункт, из которого движение исходит и к которому в
конце концов оно примыкает. Это особенно следует заметить о чисто личных
влечениях и хотениях: например, нехотение падения в глазах других, желание
ценного бытия пред другими, удовлетворение и неудовлетворение,
стремление к насыщению воли прямо и не посредственно указывают стремящемуся
субъекту его самого, как единственный и исключительный предмет, которого
интересы должны быть в этих стремлениях соблюдены. Различные состояния
воли при тех или других хотениях и влечениях отражаются в чувствованиях,
74
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
и в них субъект имеет реальные факты, в которых на первом плане также
выступает он сам как предмет, о котором при чувствованиях идет дело.
Из всех влечений, хотений и состояний воли особенно близкое
отношение к самосознанию имеет хотение ценности и значительности своего бытия,
то хотение, которое служит основанию чувства силы. Как мы видели в своем
месте, оно развивается в связи с ощущением мускульной силы и энергии.
В чувстве силы зрелого человека являются элементы нравственные: оно есть
чувство интеллектуальной энергии, мощи характера. Это чувство имеет
место в духовной жизни потому, что человек хочет для себя значительного и
ценного бытия, и оттого оно неизменно почти является как в действительно
ценном и сильном существе, так и реально не ценном, но все-таки
воображающем себя таковым. В этом хотении и основанном на нем чувстве силы всего
яснее дается субъекту факт его личности: в них он всего сильнее и живее
должен чувствовать и признавать собственную самость. Что,
действительно, с указанным состоянием воли и чувства всего более связано
самосознание, это доказывается зависимостью подъема и падения его от чувства силы.
Мы говорим о гордом, надменном самосознании и низменном, смиренном.
В первом случае сознавание себя делается настойчивей и напряженней, чем
во втором: гордый и надменный как бы рельефно выставляет себя напоказ
всем, тогда как смиренный человек как бы едва смеет заикнуться о себе пред
другими. Но малое и большое самоуважение и самочествование
основываются на чувстве силы. Оно мало и ничтожно в субъекте пред значительно
превосходящею его нравственною или физическою силою и велико пред
меньшею. Пред низшею и меньшею братией субъект настойчиво и усиленно
сознает себя и чувствует свою ценность, пред авторитетами, реальными или
воображаемыми, самосознание менее напряженно: его энергия падает.
Такие акты и состояния воли и затем чувствования так живо и
настойчиво напоминают субъекту о нем самом, что мы, не колеблясь, должны
признать волевые элементы самосознания главными и первостепенными.
Самопредставление развивается уже на основании их и только дает форму и
определяет подробности факта, данного в воле. Без него мы теоретически
дошли бы до холодного различения себя и своего тела от других предметов,
но живости и настойчивости самосознания не было бы, т. е. не могло б быть
настоящего самосознания. Важность для него волевого элемента так
велика, что существо, лишенное способности доходить до ясных представлений
и, следовательно, ясного самопредставления, но способное стремиться к
чему-либо для себя или отвращаться, нельзя считать лишенным
самосознания. Его индивидуальность и «я» даны в этих стремлениях, и оно должно
живо чувствовать себя и понимать, что это значит — стремиться для «себя ».
Так как основа самосознания дана во влечениях, хотениях и вообще
состояниях воли прежде всего, то нам легко найти содержание самопредставления и
показать, почему оно должно заключать в себе такие, а не другие элементы.
75
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Во-первых, в духовной жизни каждого индивидуума имеет огромное
значение физиологическая воля. Ее состояния обнаруживаются в наслаждениях
и страданиях телесного характера, ее действия — в хотениях и влечениях
(голод, жажда, стремление к покою и деятельности), ее энергия — в чувстве
мускульной силы. Физиологическая воля развивается прежде всякой другой
формы воли, так что она прежде всего напоминает субъекту о нем самом. Но
напоминая ему о нем самом, она в то же время постоянно напоминает и о теле,
которое есть главный предмет ее желаний и влечений. Благодаря двойному
осязанию мы приучаемся еще в раннем детстве выделять свое тело от всяких
других посторонних предметов. Но одно двойное осязание могло бы научить
нас смотреть на него, как на что то особенное и даже странное среди других
предметов, если бы внутри него действующая физиологическая воля не
напоминала о субъекте, нас самих, для которых нужно одно или другое, третье,
если бы в энергии мускулов и вообще жизненных физиологических процессах
не оказывалась энергия воли, тоже напоминающая нам о себе как пункт, из
которого исходят все движения ее. Это последнее обстоятельство и есть
главная причина, почему мы считаем тело своим и отождествляем себя с ним. На
первых порах развития, пока моральная и интеллектуальная деятельность не
развита, самосознание отождествляется с представлением собственного тела
как причины душевных состояний, как места, где совершаются душевные
явления, или, точнее, обиталища того «себя», «я», которое всегда
подстановляется в жизни и деятельности как нечто хотящее, не хотящее, страдающее,
удовлетворяющееся и т. д. Именно потому, что воля так много занята нуждами и
потребностями тела и ее сила постоянно сказывается между прочим как
гибкость, эластичность и энергия телесной силы, и деятельности организма,
представление тела, т. е. собственной фигуры, входит и в зрелое
самопредставление и самосознание. Когда мы думаем о себе, называем себя мы всегда
представляем себя как известный нам телесный образ, известного объема,
известной подвижности, силы и т. д.
Во-вторых, многие хотения и влечения имеют предметом своим
ценность и многозначительность бытия и деятельности субъекта. Одни из них
связаны, как мы видели, с положением лица в Иерархии духов,
следовательно, с отношениями его к другим существам, другие — просто с бытием лица
в качестве ценного и значительного существа. При всяком таковом хотении
и влечении субъекту фактически дается он сам как предмет, о котором идет
в них дело и для которого совершается весь процесс. Поэтому в
самосознании должно быть сознавание, с одной стороны, ценности и значительности
собственных сил, с другой — значительности места и положения,
занимаемого субъектом в общественной или служебной Иерархии. Так как воля есть
primum movens1 в деятельности ума, воображения и чувства, то вся гибкость,
Первоначально движущее (лат.).
76
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
сила, успешность духовной деятельности, а равно и вся сила характера,
энергии хотений и влечений, присвояется ею себе, и это есть самосознание
абсолютной ценности духа. А так как деятельность субъекта имеет большей
частью отношение к окружающей Иерархии духов и при этом действующая воля
везде подставляет себя как то, для кого все делается ею, то она усвояет себе
положение, занимаемое лицом в Иерархии, даже положение бывшее или
имеющее быть, если только субъект считает, что оно необходимо наступить.
И действительно, зрелое самосознание субъекта содержит в себе сознание
собственной ценности и значительности и равно своего положения внешнего
как деятеля общественного или государственного.
В-З-х, в самосознании субъекта должно быть теоретическое
представление себя как существа живого, самобытно и отдельно существующего от
других предметов. Тот же ум, который различает предметы один от
другого и признает одни из них существами живыми и действующими,
представляет себя как существо, само по себе живущее и действующее. Этот
теоретический элемент самосознания может варьироваться: самопредставление есть
представление себя в одних случаях, как причины активных действий, в
других — как пункта, до которого впечатления должны достигнуть, чтобы быть
воспринятыми, и только в образованных и развитых людях достигает высоты
понятия существа, противоположного по своему качеству всему мертвому,
неодушевленному миру и даже телу, которое имеет значение лишь органа духа.
На этой ступени самосознание становится философским.
Очень редко субъект развивает полное самосознание, т. е. в едином акте
духа присваивает себе физическую свою деятельность вместе с телом,
ценность и значительность духовного существования, понимая себя при том как
существо, действующее и воспринимающее впечатления. Самый развитый
человек лишь в редкие минуты возвышается до такой философской формы
самосознания. Обыкновенно для житейских нужд и потребностей мы
обходимся самым низшим самосознанием в его, так сказать, физиологической форме:
мы довольствуемся представлением своей телесной фигуры как места, до
которого достигают впечатления. Действуя как представительское лицо или
общественный деятель, субъект всего более склонен сознавать свою ценность и
значительность как члена Иерархии; возвращаясь мыслью на свою
собственную деятельность, на размер своих духовных сил, он склонен сознавать
ценность и значительность свою безотносительно. В моменты самопознавания,
когда мы оглядываемся вообще на себя, мы сознаем себя как существо,
особное и отдельное от материального мира.
При всяком акте сознавания своих состояний мы усваиваем их себе и
одно и то же себя подстановляем как субъекта ко всякому действию воли в
практической и теоретической деятельности. Далее, мы переживаем как факт,
что при всех стремлениях и актах воли дело идет об одном и том же предмете,
именно нас самих. Мы отождествляем этого действующего субъекта с тем,
77
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ради которого совершается всякая действительность. И так как во всех
приключениях жизни и деятельности делается отождествление, то субъект
сознает себя единою тожественною личностью. На указанном факте
основывается единство и тожество сознания. Первое основывается на том, что сколько
бы и какие разнообразные состояния ни переживала личность, всегда она
подстановляет одного субъекта, которому принадлежат все эти разнообразные
состояния. И так как действующая в разных случаях личность признает себя
одним и тем же субъектом, ради которого действуется, то самосознание
всегда сохраняет тожество. Понятно, что в конце концов тожество и единство
самосознания основываются на том факте, что во всех состояниях прямо или
посредственно действует одна и та же воля: она усвояет себе состояния,
которые сама производит или на которые имеет влияние, и, будучи одной и той же
господствующей и управляющей силой в душе, она дает основу для сознания
единого и нераздельного, всегда тожественного «я» «себя». Тот вопрос,
каким образом мы сознаем прошедшую деятельность и отожествляем
настоящее «я» с прошедшим, легко разрушается. Одна и та же воля признает себя
одною и той же как в настоящем, так и прошедшем: прошедшее в душе есть в то
же время настоящее: в душе сохраняются все состояния, ею пережитые, и
многие из них могут быть усилены в своей энергии до степени сознаваемости
волею. Распоряжаясь прошедшим, она легко может усвоять себе его. Вот
почему сохраняется тожество и единство сознания, несмотря на важные и
значительные изменения в теле, совершающиеся в нем в продолжение разных
возрастов: изменяется, и притом существенно, орган духа, но воля остается
одна и та же, господствующая и управляющая в области тела и духа,
возвращающаяся на себя как при переживании наличных состояний, так и
оживлении прошлых, и потому сознание остается все одним и тем же.
Указанный взгляд может объяснить разные возможные ненормальности в
сознании. О них будет у нас речь в последствии, при анализе патологических
психических явлений. Но теперь можно остановиться только на некоторых.
Бывают нарушения единства сознания: известно, что иногда больные говорят о
поселившихся в них существах, принимают себя за совсем других личностей,
воображают себя императорами, богачами и т. д. Иногда прерывается тожество
сознания, например, оправившись от духовной болезни, человек не сохраняет
тожества сознания в здоровом состоянии с сознанием, бывшим во время
болезни. Мы представим в следующем томе свой взгляд на душевные болезни, на
вероятный источник нарушения психического равновесия и здоровья. Но и здесь,
не изображая своего взгляда в подробностях, можем воспользоваться своею
теорией самосознания для объяснения патологических форм его.
Здоровое сознание и нормальное самосознание основываются, как мы
сказали, на воле, усвояющей себе свои состояния и себя саму. Она может усвоять
состояния, на которые простирается ее влияние, которые может усиливать и
ослаблять, направлять и т. д. Если, вследствие патологических изменений
моз78
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
га, в душе будут возбуждаться состояния вневолевые, т. е. которые стоят вне
контроля, хотений и даже нехотений воли, то усвоять их себе она, естественно,
не может. Таким образом, галлюцинации, возникающие хотя субъективно, но
без хотения, контроля и какого бы то ни было участия воли, она относит не к
себе, а объясняет их объективными причинами и притом так настойчиво, что,
несмотря на теоретическое признание их объективной невозможности, воля
не признает их своими, следовательно, признает объективными и, как
известно, всегда берет верх теоретическими убеждениями. Когда вследствие
болезней внутренних органов, или частей нервной системы являются нужды и
потребности, возбуждающие в душе желания, хотения, представления, которые
составляют в своем напряжении, или содержании, или направлении контраст и
резкое различие с обычными, нормальными влечениями и хотениями, воля
отказывается признавать такие, собственно ее же, состояния своими и относит
их к особому существу, будто бы поселившемуся внутри души. Здесь воля не
может отождествить себя с тем «себя », о котором идет дело в ненормальных
состояниях. Ввиду многих фактов мы думаем, что возможно временное или
навсегда ослабление в субъекте господства воли над своими же собственными
актами и состояниями и вообще над духовной деятельностью. Поэтому
раздвоение самосознания может случиться не только по физиологическому
поводу, но и психическому, вследствие ослабления господства воли над
душевными вообще и ее же собственными состояниями, почему они не усвояются ею
себе и кажутся ей действиями какого-то другого субъекта. Как бывает
ослабление ее господства, так, несомненно, случаются факты неестественного
сосредоточения ее энергии на одном каком-либо роде влечений, всего чаще,
например, на хотениях и влечениях, имеющих дело с ценностью и значительностью
своего бытия, целого своего существа. Пока такое сосредоточение еще лишь
делается, субъект борется против нового сознания, и воля, признавая
ненормальность своего положения, отвергает начинающееся изменение в себе. Но
когда оно получит силу и закончится, то воля перестает уже усвоять себе
прежнее действие и состояние и сознает себя в новом качестве как необыкновенно
высокую или значительную личность. Понятно, что при болезненном
состоянии, глубоком и продолжительном, развивается особая физиологическая воля
и вообще психическая жизнь получает особый колорит, направление, даже
особое содержание: все это совершенно отлично от колорита, направления и
содержания психической жизни при здоровом состоянии. Хотя одна и та же
воля действовала при нормальном и здоровом состояниях, но в одном случае,
под неестественными влияниями, она производила одни состояния и акты,
а возвратившись к нормальному положению, она производит другие, такие
же, которые прежде производила, до болезненного расстройства тела и духа,
и потому здоровая воля не может усвоить себе состояний нездоровой, и,
наоборот, болезненная не усвояет действий и состояний здоровой. К этому
любопытному пункту мы еще возвратимся в следующем томе.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Н.Я. ГРОТ:
ПСИХИЧЕСКИЙ ОБОРОТ (ПРОЦЕСС) КАК ЕДИНСТВО
СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ МОМЕНТОВ
Грот Николай Яковлевич (1852-1899) —
философ, психолог, профессор Московского
университета (с 1886 г.), председатель Московского
психологического общества, один из организаторов и
первый редактор первого в России
психологического и философского журнала «Вопросы
философии и психологии» (с 1889 г.). В магистерской
диссертации «Психология чувствований в ее
истории и главных истоках» (1879-1880)
рассматривает психику в широком биологическом контексте как
форму взаимодействия организма с окружающей
средой в функции приспособления к ней.
Значительную часть исследования составляет исторический обзор учений о
чувствах и аффектах от Античности до середины XIX в. Большое внимание
уделял этическим и нравственным проблемам. Был в дружбе с Л. Толстым,
вообще круг общения Грота был чрезвычайно широк, в него входили
многие выдающиеся деятели русской философии и культуры.
Сочувственно отнесся к введению в психологию экспериментального
метода.
В антологию включена глава из книги «Психология чувствований» и
статья «Основания экспериментальной психологии» (1895).
ЗНАЧЕНИЕ ЧУВСТВОВАНИЙ В РЯДУ ПСИХИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ1
Термин чувствования, по нашему мнению, должен обнимать собою
только, но за то и всю совокупность явлений удовольствия и страдания,
т. е. все те пассивные психические состояния, которые можно
рассматривать как продукт субъективной оценки действующих на нервную систему
раздражений, какой бы источник они ни имели — внешний или внутренний.
Хотя многие из современных психологов, как мы видели, дают именно
такой объем разбираемому термину, но мотивировать свое определение
Н.Я. Грот. Психология чувствований в ее истории и главных основах. СПб., 1879-
1880. С. 418-443.
80
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
одними обычаями предшественников мы,
конечно, не вправе, ибо мы могли также
убедиться, что некоторые другие
психологи и в настоящее время дают тому же
термину иное значение — то более широкое,
то более узкое. Стало быть, мы обязаны
сами доказать, что данное нами
определение наиболее правильно. Для этого едва ли
разумно было бы возвращаться к
определениям других писателей, несогласным с
нашим, ибо критика таковых могла бы
привести нас только к отрицательным
результатам: в конце концов мы не могли бы
поручиться, что сверх рассматриваемых
нами не остается уже ни одного
определения чувствований, которое бы не было
лучше и удобней нашего, а этот факт мог бы
бросить тень сомнения на все наши
последующие выводы. Поэтому больших результатов мы достигнем, если,
рассмотрев общие основания и приемы психологической терминологии,
сделаем сами применение этих приемов в виду специальной цели, нами
предложенной.
Главная особенность психологической терминологии, сравнительно с
терминологиями других наук, заключается в том, что она должна
предшествовать всякому описанию и анализу частных явлений. В науках,
имеющих дело с раздельно существующими в пространстве предметами,
изобретение научных терминов, как известно, обыкновенно составляет
конечный результат описания и анализа, ибо, исследуя «вещественные»
предметы и их свойства, наука при помощи наглядного или
демонстративного метода всегда может сделать подлежащим своих описательных и
аналитических предложений самый предмет, заменяя «термин»
указательным местоимением в соединении с предикатом самого общего и ничего не
предрешающего характера. «Это растение имеет такие-то и такие-то
особенности устройства», говорит, например, ботаник, описывая вновь
открытый им цветок или дерево, и при этом глазам слушателей или читателей он
представляет самый оригинал или точную копию с него. Подобным же
наглядным методом в своих описаниях могут пользоваться кроме ботаники и
зоология, и анатомия, и минералогия, и геология, и астрономия, не говоря,
уже о некоторых отраслях математики В других науках, например в
физике и химии, наглядный метод имеет менее широкое применение, а именно
большею частью только при словесных описаниях и объяснениях; но зато
изображение самих объектов исследования в «книгах» по химии и физике
81
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
возмещается часто изображением аппаратов, при помощи которых эти
объекты добываются, и подробным указанием на приемы этого
добывания. Поэтому подлежащим описания в этих науках является все-таки
такой х, который может быть легко превращен читателем (по указанному
методу) в наглядную и конкретную величину. Рядом с физикой и химией
такой же прием может употреблять в своих описаниях и физиология,
в которой, впрочем, применение демонстративного метода еще
значительно облегчается ближайшею связью ее с анатомией. Следовательно, во всех
точных науках изобретение видовых и родовых названий легко может быть
отложено до окончания описания и анализа, и это, естественно, облегчает
задачи научной терминологии. Совершенно иной порядок вещей имеет
место в психологии. Здесь нет средств применить наглядный или
демонстративный метод, ибо никакой фигурой нельзя изобразить тех процессов,
которые совершаются в сознании, а тем менее возможно непосредственно
демонстрировать эти последние. Поэтому, чтобы иметь объект для
описания и анализа, психологу необходимо нужен готовый термин, который бы
и мог служить для него подлежащим описательных предложений; иначе
сказать, терминология в этой области науки должна предшествовать
всякому исследованию. Впрочем, против этого положения нам возразят,
пожалуй, что всякий психический акт имеет внешнее, более или менее ясное,
выражение в чертах лица и фигуре тела и что именно таким внешним
выражением можно воспользоваться для введения наглядного метода и в
область психологии. Нам даже укажут на атлас Дюшенна (Duchenne.
Mecanisme de la physionomie humaine. 2-me ed. Paris. 1876) и отчасти на труд
Дарвина о выражении волнений (Darwin. The expression of the emotions in
man and animals. Lond. 1872), как на живое доказательство применимости
такого наглядного метода и к психологии. К сожалению, такое возражение
не имело бы ни малейшей силы, ибо, не говоря уже о трудности и почти
невозможности вполне изолировать друг от друга отдельные психические
состояния и их выражения, не надо забывать, что, в сущности, только одни
волнения, из числа всех психических актов, и выражаются в таких резких
формах, которые могут быть наглядно изображены: смена феноменов
мышления, самой богатой области душевной деятельности человека, лишь
редко обнаруживается, например, ясными внешними знаками. Стало быть,
даже при устранении всех прочих препятствий наглядный метод мог бы
быть применяем только в весьма тесных рамках к психологическим
описаниям. Но и этого мало: в области психических процессов внешние,
доступные чувствам, проявления деятельности далеко не составляют еще
полного выражения ее механизма; психические процессы имеют еще
внутренние выражения — в так называемой области сознания, и, только
благодаря ассоциации этих внутренних выражений с внешними, возможно
понимание и толкование; но если так, то терминология все-таки должна
82
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
предшествовать анализу, ибо описание внешних выражений приобретает
смысл только в связи с описанием внутренних состояний, а для этого
последнего непременно нужны готовые термины (ряд готовых предикатов).
Поясним свою мысль примером. Дюшенн, объясняя рисунки своего
атласа, употребляет обыкновенно такие формулы: «на левой стороне лица —
сокращение мышцы, сморщиваются брови, взгляд вверх и наружу, рот
открыт: крайнее выражение боли до степени истощения, субъект
по-видимому изнемогает от страдания, голова Христа; направо — сокращение
лобной мышцы, со взглядом, слегка косым (oblique), вверх и внутрь и со ртом,
немного открытым: воспоминание любви — экстатический взгляд». Если
мы спросим себя, почему Дюшенн знает, что сокращение мышцы выражает
высшую степень страдания, сокращение второй — воспоминание любви, а не
наоборот, то ответ может быть один: он это знает из внутреннего опыта,
т. е. во внутреннем опыте он уже предварительно различил оба описанные
состояния, дал им отдельные названия и связал последние с
соответствующими этим состояниям выражениями. Но может быть только
наименование специальных психических состояний должно предварять описание
и анализ, а общие, родовые термины чувствований, волнений, ощущений
и т. д. могут являться потом, как результат этого описания и анализа?
Однако и такое предположение не оправдывается: каким образом Дарвин,
например, мог написать целую книгу о выражении «волнений »ив этой книге
описывать выражение таких состояний, как страдание, страх, радость,
любовь, гнев и т. д., если бы он не имел предварительного понятия о том, что
такое волнение, т. е. если бы он не имел готового термина, которой бы
служил для объединения в один класс известного ряда специальных
психических состояний? Нам скажут на это, что и анатом, посвящая отдельную
монографию описанию мышц, и ботаник, делая то же относительно какого-нибудь
вида растений, должны также иметь предварительное понятие о
содержании употребляемых ими видовых названий и соединять в уме своем эти
названия с известными группами специальных предметов. Хорошо, но ведь и
анатом, и ботаник опираются в этом случае на общепризнанную уже
терминологию, которая в свое время была добыта все-таки путем
специального описания и анализа, явилась результатом последнего. Психолог же
таких оснований не имеет, так как он лишен самой возможности описывать и
объяснять, если он предварительно не выработал терминологии. Этими
соображениями и объясняется лучше всего, почему до сих пор психологи
так мало согласны между собою в употреблении психологических
терминов. Единственным прямым источником различения для них является
внутренний опыт; но в этом источнике лежит чуждый науке элемент
субъективности, вредное влияние которого сказывается уже в течение более двух
тысячелетий, безуспешно прошедших для выработки однообразной,
неизменной психологической терминологии.
83
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Итак, вывод, что психологическая терминология должна
предшествовать всякому описанию и исследованию психических явлений,
оказывается совершенно неизбежным; но в таком случае неизбежно также
признание, что единственным прямым источником для установления
этой терминологии может быть только внутренний опыт,
представляющий, однако, шаткие основания для научного решения задачи. В этих
двух положениях очевидно заключается противоречие, которое не
представляет, по-видимому, никаких выходов для психолога: «Для
научного описания и анализа психических явлений нужна прочно
установленная психологическая терминология, но такая прочная терминология не
может быть заимствована из единственно остающегося (сверх
описания и анализа) прямого источника различения психических явлений,
т. е. из внутреннего наблюдения, самосознания». Остается,
по-видимому, сложить оружие и признать себя побежденным. Но такой исход был
бы слишком печален, да и невероятен, — пришлось бы предположить,
что область психических явлений должна быть навсегда исключена из
сферы научного исследования, а с этим выводом ум человеческий едва
ли может помириться. Поэтому постараемся найти какой-нибудь
новый выход из указанного нами противоречия.
Наука учит нас, что если нельзя прямым путем решить какую-нибудь ее
задачу, то надо употреблять пути косвенные. Кроме того, она же учит нас, что
выводы одной науки часто добываются при содействии другой. Так, например,
современная физиология беспрестанно обращается к содействию химии и
физики. Психология тоже в наше время стала прибегать к помощи других наук,
например физиологии и биологии, и такой прием, по справедливому
замечанию Рибо, отнюдь не означает, чтобы физиология могла поглотить
психологию: «по закону логической необходимости, высшая наука опирается на
низшую». Стало быть, убедившись в недостоверности прямых источников,
психолог может еще надеяться косвенным путем, из данных наук,
исследующих в общем тот же самый объект (хотя и с других сторон), выработать
прочные основания для терминологии своей науки. Сомнение возбуждает только
один факт: физиологии, в союзе с анатомией, еще самой далеко не удалось
выяснить все свойства и отношения тех отправлений организма, которые
находятся в тесной связи с психическими процессами; ничего выше контраста
сенсорных и моторных отправлений центров физиология пока не знает.
Вопрос, например, о том, в какой мере чувствования физиологически отделимы
от ощущений и есть ли особый центр (или центры) для чувствований,
находится, как мы видели, и теперь еще почти в том же положении, в каком был сто лет
тому назад. Помощь физиологии в нашем деле, стало быть, лишь весьма
ничтожна. Впрочем, это обстоятельство не должно лишать нас всякой надежды:
физиология пока по преимуществу наука частная; исследуя порознь каждое
специальное отправление той или иной ткани организма, она должна и
психо84
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
логу оказывать помощь по преимуществу в специальном анализе, — при
выработке более специальных различений. В общих различениях своих
психология должна опираться не на физиологию, а на биологию, т. е. на общую
науку о жизни и ее развитии, так как психическая жизнь, несомненно,
составляет только частную область целой жизни организма. Биология же,
конечно, может оказать требуемое содействие, ибо вследствие характера
своих приемов, широко сравнительных, она значительно опередила
физиологию в определении законов существования и развития организмов. Для
нас, впрочем, помощь биологии необходима лишь в весьма скромных
размерах. Достаточно будет заимствовать из нее общее определение жизни,
чтобы за тем из этого определения вывести определение психической
жизни и ее элементов. Но так как такое общее определение жизни биология,
несомненно, может нам дать, то мы и вправе надеяться, что дедуктивным
путем, из данных биологии, мы в состоянии будем извлечь основания для
прочного установления важнейших психологических терминов.
Однако, приступая к выполнению подобной задачи, мы прежде всего
должны изменить постановку вопроса. Первоначальною целью нашею было —
определить, какое значение всего правильнее давать термину «чувствований ».
Прямо ответить на этот вопрос биология, конечно, не в состоянии, ибо своим общим
учением о жизни она может выяснить характер составных элементов
психической жизни только в отношении их к целому и в связи друг с другом, а не
порознь. Вследствие этого терминология вообще отступает на второй план и
на первый план выступает классификация, — наименование должно
подчиниться распределению. Жалеть об этом, конечно, нечего, ибо терминология
вполне достигает своих целей и становится окончательною, научною, только
тогда, когда она в то же время представляет «прочную организацию наших
сведений, а не простое средство для ориентирования» (ср. Спенсер. Основы
биологии. СПб., 1870. Гл. XI). Но такого вида она достигает только тогда,
когда подчиняется классификации, а не управляет ею. Отлично выражает эту
мысль Дж. Ст. Милль, когда рассуждает о двух родах классификации. «В
одной (классификации), — говорит он, — сопоставление предметов в группы и
распределение их на разряды есть действие лишь случайное, вытекающее из
употребления названий, данных с другой целью, именно: выразить только из
свойств вещей. В другой классификации — главная цель заключается в
сопоставлении и распределении, а называние есть действие второстепенное и не
только не управляет более важным, а преднамеренно бывает ему подчинено...
С этой точки зрения классификация есть мера для возможно лучшего
приведения в порядок, в нашем уме, идей о предметах: она причиною, что идеи
сопровождают одна другую или следуют одна за другой в таком порядке,
который дает нам наибольшую власть над приобретенным уже нами знанием и всего
прямее ведет к дальнейшему его приобретению (Система логики. СПб., 1866.
Т. II. С. 258)». Следовательно, если мы, пользуясь обобщениями биологии,
85
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
сделаем естественное распределение элементов психической деятельности
и основания для установления смысла важнейших терминов заимствуем из
этого естественного распределения, то мы выполним по отношению к
психологии такую задачу, решение которой составляет главный залог успешного
развития каждой науки. Впрочем, мы не желаем сказать этим, чтобы
психология до сих пор никогда не пытались поставить свою терминологию в
зависимости от классификации главных факторов психической деятельности.
Читатель мог убедиться, напротив (из исторического отдела), что уже в древности
в учении о частях и о способностях души проявилось стремление превратить
психологическую терминологию в строгую организацию всех сведений о
духовной деятельности человека. Вообще учение о способностях во все века
выходило именно из подобного стремления. Но самая точка зрения и приемы,
которые должны были привести к разрешению означенной задачи, были
неправильны, и оттого результаты не могли быть удовлетворительными. Только
с тех пор, как понятие «способности» потеряло свое обаяние и принципом
распределения психологического материала стала одна лишь «разнородность
явлений сознания», сделалась возможна замена прежних неправильных
приемов более правильными, а потому и попытки психологов могли бы привести к
лучшим результатам. К сожалению, все попытки правильной классификации
именно с этого времени были оставлены вследствие ложно-эмпирического
убеждения, что в анализе явлений надо непременно долгое время
довольствоваться изучением частных фактов, воздерживаясь от всяких систем. Это
убеждение, может быть, и правильное в отношении ко всем другим ветвям знания,
как мы видели, совершенно неудоприменимы к области психологии. Поэтому
и психологи-эмпирики обыкновенно начинают свои психологические
трактаты с распределения психических явлений на классы и с установления
психологической терминологии; но они только ничем не мотивируют своего
распределения и соответствующих наименований, предоставляя читателю доискиваться
«мотивов». Бен например все труды свои начинает почти одними и теми же
словами, что «душа отличается тремя атрибутами или свойствами, а именно
чувством, волею и умом», но отчего именно эти свойства должны считаться
коренными, остается неизвестным. Впрочем, не все современные психологи
эмпирического направления так односторонни. Иные (например, Маудсли
и Спенсер) стараются найти более осмысленное распределение психических
явлений, но при решении этой задачи хотят опираться только на точные
сведения о строении и отправлениях организма, выработанные анатомией и
физиологией, эта точка зрения самая новая, но, к сожалению, по крайней мере
в настоящее время, как мы заметили, еще не вполне применимая, ибо
анатомия и физиология нервной системы имеют такие существенные пробелы,
которые служат непреодолимым препятствием для пользования ими.
Поэтому-то мы и предпочли обратиться к более широким и плодотворным
обобщениям биологии.
86
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Имея намерение, на основании общего определения жизни,
выработать естественное распределение элементов психической деятельности, мы,
однако, предварительно должны решить еще один вопрос, а именно: какой
общий характер имеют эти элементы? Для решения этого вопроса
достаточно и тех фактов, которые дает нам самонаблюдение. Во-первых, мы
знаем из нашего внутреннего опыта, что все наши психические состояния в
действительности весьма сложны, что каждое содержит в себе известное
число простых элементов, что всякое так называемое «чувство»,
например, вытекает из множества «ощущений» и влечет за собою ряд
«выражений», что «желание» точно так же всегда является итогом нескольких
«ощущений» и «чувствований» и прочего. Словом сказать, на основании
простого воспроизведения в своем сознании тех состояний, которые в
предшествующее время составляли содержание нашей психической жизни, мы
можем заключить, что развитие психического процесса подобно действию
весьма сложной машины, элементы которого никогда не бывают даны в
опыте порознь, а всегда вместе, и обнаружить которые можно только
путем особых приемов анализа. Но какого же именно характера эти
элементы, с какими другими элементами в природе можно их сравнить? И для
решения этого вопроса также нет надобности прибегать к сложному
анализу, — подобно тому, как и для определения общего характера
«химических элементов» еще не нужно «химического анализа»: и без точного
химического анализа мы знаем, что элементы химических тел должны быть
также «телами». Ведь элементы всегда бывают подобны целому:
химические тела не могут состоять из звуков, как музыкальная гармония не
может иметь элементов химических тел. Поэтому, если мы знаем из
внутреннего опыта общий характер психической деятельности в ее целом, то и общее
свойство ее элементов с тем вместе должно быть легко определимо.
Назовем же пока все внутренние обнаружения психической деятельности
психическими явлениями и постараемся определить, какой общий характер
должны иметь эти явления. Сначала пойдем отрицательным путем. С
«телами» внешней среды психические явления не имеют ничего сходного,
ибо почти все тела мы представляем себе доступными оценке по крайней
мере двух чувств — зрения и осязания, что вовсе не возможно по
отношению к психическим явлениям. Рядом с телами мы различаем «явления
внешнего мира», доступные только зрению или слуху, но не осязаемые:
таковы — явления света, звука, теплоты, электричества. Очевидно: с
этими физическими явлениями психические явления тоже нельзя
сравнивать, ибо последние недоступны никаким внешним чувствам. Кроме тел
и явлений точная наука еще может иметь дело с «процессами», каковы —
пищеварение, дыхание, кровообращение, рост, воспроизведение,
которые часто не бывают прямо доступны чувствам, а только представляют
особые изменения других доступных чувствам предметов. С такими
87
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«процессами» психические явления очевидно имеют аналогию, ибо и они
представляют собою особого рода изменения в доступном чувствам
предмете — организме и, несомненно, должны быть приурочены к различным его
тканям, без участия которых ни одна психическая деятельность не
совершается. Итак, психические явления могут быть уподобляемы с известной
точки зрения физическим процессам и только и могут быть доступны
научному исследованию.
Теперь остается решить еще один вопрос: можно ли рассматривать
психические явления как ряд отдельных и самостоятельных процессов в
организме или нет? Без сомнения, психические явления в отдельных организмах, хотя
бы одного и того же вида, представляют ряд самостоятельных процессов.
Точно так же психические явления в одном и том же человеке, отделенные по
времени друг от друга более или менее продолжительной остановкой
психической деятельности (например во время сна) представляют более или менее
самостоятельные процессы. Наконец, если сравнить два психических
явления — в одном и том же организме и в один и тот же период деятельности,
но все таки значительно отдаленные по времени, то можно если не всегда,
то часто рассматривать их тоже как самостоятельные друг от друга
процессы. Но если речь идет о смежных во времени явлениях, то тут уже
трудно один процесс отделить от другого: два психических процесса не могут
происходить одновременно или последовательно, не входя в
непосредственное соприкосновение друг с другом и не связываясь в один, более или
менее цельный, процесс. Если же так, то говорить о психических явлениях,
а тем более о их элементах, как об отдельных и самостоятельных
процессах, было бы совершенно неправильно и несогласно с действительностью.
Но в таком случае приходится рассматривать элементы психической
деятельности только как фазисы одного непрерывного психического
процесса, и именно эти фазисы или моменты и необходимо определить прежде
всего для выяснения механизма психической деятельности. Однако
несомненно все-таки, что психический процесс имеет начало и конец, помимо
тех, которые определяются утренним пробуждением организма от сна и
вечерним погружением его в сон. Обыкновенно такое начало усматривают
в ощущениях органов чувств, конец — в отдельных действиях или
движениях организма по поводу ощущений. Правильно ли или нет такое
воззрение, мы увидим впоследствии; но так или иначе, общий оборот психической
деятельности в течение дня слагается из целого ряда переходящих друг в
друга частных оборотов, с самостоятельными началами и концами. Элементы этих
частных оборотов и совпадают с упомянутыми фазисами или моментами
психического процесса. Стало быть — вопрос, поставленный нами выше,
окончательно решен. Нам надо определить, сколько отдельных моментов и
какие именно имеет каждый правильный оборот психической
деятельности, входящий в состав общего психического процесса, непрерывно
разви88
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
вающегося в течение известного периода сознания? Определение этих
моментов и будет решением главного вопроса об «элементах» психической
деятельности.
Определения жизни, даваемые биологами, не всегда совпадают
между собою. Этот факт естественно объясняется возможностью в этом деле
весьма разнообразных точек зрения. Для нас очевидно: наилучшую
службу может сослужить такое определение, которое бы выходило из самой
широкой точки зрения и совмещало бы в себе до некоторой степени все
другие определения. Такую широкую точку зрения мы находим в гипотезе
современных «эволюционистов», выходящих из принципа постепенного
развития из самых простейших форм в наиболее сложные. С этой точки
зрения жизнь, как ее определяет Герберт Спенсер, есть «беспрерывное
приспособление внутренних отношений к внешним» (Основы биологии.
Главы IV и V, особ. с. 57). Ручательством в правильности этого определения
служит не только «естественная история», но и «культурная» история
совокупности организмов высшего типа, т. е. человечества,
свидетельствующая тоже о постоянном приспособлении внутренней жизни народов и
отдельных личностей к условиям внешней среды. Однако мы полагаем, что
определение Спенсера сделается еще более точным, если к нему прибавить
несколько слов. Дело в том, что в приведенном определении вполне ясно
выражены, так сказать, результаты жизни и тем самым задачи ее, но не
обозначен путь достижения этих результатов. Если мы скажем, что жизнь
есть «взаимодействие организма с окружающею средою, имеющее
результатом приспособление внутренних отношений к внешним», то общий смысл
определения Спенсера очевидно не изменится,—оно только выиграет в
точности и полноте. Теперь предстоит из этого общего определения жизни
извлечь специальное определение психической жизни. Психическая жизнь
есть, без сомнения, один из видов взаимодействия организма с
окружающею средою с целью приспособления внутренних отношений к внешним.
Таких видов вообще, как тоже учит нас биология, два: одно
взаимодействие имеет задачу приспособления отношений матери или организма к
матери или веществу окружающей среды, другое — иметь в виду
приспособление отношений сил и движений организма к силам движения вокруг
него. Этот контраст обыкновенно выражается терминами органическая или
растительная жизнь и животная жизнь. Биша, если не ошибаемся,
первый положил основания этому различию. Мы, однако, полагаем, что если
стать на точку зрения взаимодействия, то удобнее будет упомянутые
термины заменить другими, более точно выражающими природу двоякого
процесса жизни. Для определения органической жизни и без того
существует другой термин обмена веществ. Такой же термин можно
подыскать и для выражения природы животной жизни: если мы скажем «обмен
движений», то мы довольно близко подойдем к этой природе; еще лучше
89
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
будет сказать «обмен впечатлений», ибо понятие «силы» не довольно
конкретно, а понятие «движение» слишком широко, — ведь всякий обмен есть
тем самым уже движение или ряд движений; притом при взаимодействии
животных организмов, о котором здесь и идет главным образом речь,
всякая внешняя сила возбуждает внутреннюю, и обратно, только при
посредстве впечатлений, сознательных или бессознательных. Впрочем, название
здесь не так существенно. Для нас важно только то, что главных видов
взаимодействия организма со средою два и что контраст обмена веществ и
обмена сил или впечатлений вполне совпадает с контрастом «физической»
и «психической» жизни организма. О взаимной связи и постоянной
зависимости этих двух видов обмена мы считаем излишним теперь говорить и
перейдем прямо к вопросу о главных моментах психического
взаимодействия.
Во всяком взаимодействии одного предмета с другим, даже если оба
принадлежат к неорганической природе, надо различать момент действия
на предмет, т. е. претерпевания им на себе действия другого предмета, от
момента собственного действия его, т. е. противодействия или ответного
действия. Затем надо различать внешний и внутренний момент каждого
взаимодействия одного предмета с другим. Внешний момент есть, иначе
сказать, момент непосредственного взаимодействия предмета с другим
предметом, внутренний момент есть момент посредственного
взаимодействия — между частями данного предмета, имеющий задачей
переработать сообщенный предмету внешний импульс сообразно с внутренними
условиями, ему присущими. Такая внутренняя переработка импульса тоже
имеет место не только в организме, но и в неорганической материи, ибо
только ею и можно объяснить известный факт превращения движения из
одного в другой, — когда, например, какой-нибудь химический элемент
под влиянием света изменяет свой запах, когда лучистая теплота вызывает
увеличение объема какого-нибудь тела, когда электричество, встречая
сопротивление, превращается в теплоту и т. д. В организмах, особенно
животных, представляющих более сложное внутреннее строение, такое
превращение одних сил или движений в другие, под влиянием внутреннего
взаимодействия частей, бывает еще более значительно и заметно.
Достаточно указать, например, на возможность превращения световых
впечатлений, действующих на глаз и имеющих источником фотографическое
изображение «умершего друга », в ряд внутренних волнений, вызывающих
сокращение различных мускулов лица, выделение желез (слезы) и т. д.
Стало быть, остается только указать, по крайней мере в применении к
психической деятельности организмов, на характер отношений между
моментами действия и противодействия, с одной стороны, и моментами внешнего и
внутреннего взаимодействия — с другой. Что момент внешнего
соприкосновения со средою составляет необходимую принадлежность как действия,
90
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
так и противодействия, для всякого очевидно, ибо сначала предмет а
действует на организм А, — потом, в ответ на это, организм А действует или по
крайней мере старается действовать обратно на предмет а. Надо только решить,
присущ ли и внутренний момент развития как действию на организм, так и
противодействию его. Несомненно, что прежде всего «приспособление
внутренних отношений к внешним» состоит в переработке впечатления извне в
такое внутреннее впечатление же, которое бы соответствовало наличным
внутренним условиями существования организма. Без этого превращения
впечатление не может сделаться мотивом для одного ответа организма
предпочтительно перед каким-нибудь другим. Затем, точно так же несомненно и
то, что внутреннее впечатление, прежде чем превратиться в наружное
движение или действие, должно вызвать ряд внутренних движений, которые бы
послужили импульсом для внешних. Таким образом, каждый полный оборот
психического процесса должен заключать в себе четыре момента, или фазиса:
1) внешнее впечатление на психический организм;
2) переработка этого внешнего впечатления во внутреннее;
3) вызванное этим внутренним впечатлением, такое же внутреннее
движение;
4) внешнее движение организма навстречу предмета.
Необходимо теперь придумать более точные наименования или
«технические термины» для обозначения этих моментов. Наименований таких
можно придумать много, и мы только укажем на самые подходящие: контраст
моментов действия и противодействия, по нашему мнению, всего удобнее
выразить терминами восприимчивости и деятельности, ибо вся пассивная
жизнь организма подходит к типу того, что принято называть «восприятием »,
вся активная жизнь обратно подходит к типу так называемых «действий».
Контраст внешних и внутренних моментов развития психического процесса
удобнее всего выразить обычными терминами: объективный и субъективными,
ибо в моментах внешнего взаимодействия главная роль принадлежит
«объектам», в моментах внутреннего взаимодействия выражается, напротив,
самобытная природа «субъекта ». Таким образом, различие упомянутых моментов
психического процесса можно передать следующими наименованиями:
1) момент объективной восприимчивости;
2) субъективной восприимчивости;
3) субъективной деятельности;
4) объективной деятельности.
Эти наименования, однако, еще слишком отвлеченного характера. Они
выражают общий характер явлений, относящихся к тому или другому
моменУдержать термины «внешний » и «внутренний » потому неудобно, что самые
явления «объективной » восприимчивости, как мы увидим ниже, необходимо делить на
два класса — внешние и внутренние.
91
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ту в том или другом обороте психической деятельности, но они неудобны для
обозначения самих этих явлений. В применении к явлениям можно было бы,
правда, дать иную форму тем же самым наименованиям, употребляя по
очереди термины: объективное восприятие, субъективное восприятие,
субъективное действие и объективное действие. Но такие термины представляли
бы значительные неудобства: во-первых, потому, что каждый из них
состоит из двух слов, во-вторых, потому, что те же слова повторяются в
различных наименованиях; не говоря о неудобстве длинных названий, если
только можно заменить их более краткими, — факт повторений мог бы
сделать эти названия сбивчивыми и повести к частым недоразумениям.
Поэтому параллельно приведенным обозначениям моментов
психического процесса мы предложим другие названия для самих «явлений», им
соответствующих, и для этого обратимся к обычной психологической
терминологии. Придумывать новые названия было бы излишне, если можно
обойтись со старыми, применив их только к новой норме распределения.
Однако, предполагая черпать термины из обычного психологического
языка, мы должны сделать одно замечание. До сих пор мы искали «элементов»
психической деятельности, в противоположность более «сложным»
образованиям, только с точки зрения состава каждого психического оборота
в отдельности. Если мы сравним друг с другом всю совокупность
психических оборотов, то мы должны будем еще с иной точки зрения
противополагать элементарные психические феномены сложным. Дело в том, что эти
обороты, а стало быть, и их элементы при сравнении друг с другом
представляют опять различную степень сложности. Этот факт
обусловливается тем, что ни один оборот психической деятельности по прекращении
своем не исчезает бесследно для развития психической организации. После
каждого оборота остаются следы, и эти следы, входя по законам
ассоциации в соприкосновение с элементами новых оборотов, постепенно
увеличивают их сложность. Ввиду этого, необходимо различать обороты,
подходящие к типу первоначальных психических преемств, не осложненных
следами прежних преемств, от оборотов, представляющих такое
осложнение. Конечно de facto строгого разграничения тех и других в развитом
организме сделать невозможно, ибо число переходных ступеней от одного типа
к другому бесконечно. Но это не мешает различать тот или другой тип в
идее, ибо, несомненно, возможны все-таки в действительности и такие
обороты (хотя бы при наличии жизни), которые совершенно независимы от
следов прежних оборотов. Наконец, и в организмах, вполне развитых,
можно все-таки противополагать «сравнительно простые» обороты
«сравнительно сложным». Это-то различие и надо иметь в виду при приурочивании
названий психических явлений к наименованиям различных моментов
психического оборота. Иначе сказать, ввиду контраста первоначальных и
осложненных явлений необходимо будет создать два ряда наименований,
92
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
соответствующих двум типам психических оборотов. Мы полагаем, что
следующие две группы терминов будут в состоянии всего лучше
удовлетворить этой цели: Психическая деятельность.
1.
2.
3.
4.
Ее моменты:
Объективная
восприимчивость
Субъективная
восприимчивость
Субъективная
деятельность
Объективная
деятельность
Первоначальные
психические явления
Ощущения
Чувствования
удовольствия
или страдания
Стремления
Движения
Осложненные
психические явления
Представления
и понятия (идеи вообще)
Чувства и волнения
Желания и хотения
Действия и поступки1
Мотивы руководившие нами в этом распределении наименований
слишком понятны, чтобы подробно останавливаться на них, ибо, в сущности, мы
не изменили ни одного обычного значения терминов, а только
воспользовались преобладающими чертами этого значения для ограничения
содержания отдельных наименований сообразно с принципами 1) деления
психического процесса на моменты и 2) противоположения простых и сложных
явлений психической деятельности. Впрочем, целесообразность этой
терВ первый раз мы изложили эту классификацию психических явлений почти в тех
же выражениях в упомянутой не раз статье Revue philos. (1878 Sept., p. 253). He
знаем, какое впечатление она произвела в то время на читателей. Но замечательно,
что теперь, ровно через год после нашей статьи, появилась в том же журнале (1879,
Octobre, p. 371-386) целая статья г. Рибо <Ю движениях и их психологическом
значении», в которой он высказывает между прочим несколько мыслей, весьма
напоминающих наши слова в упомянутой статье. Так, говоря о трех фазисах
психонервного процесса, из которых последний есть движение, он продолжает: Cette
derninre bhase — celle de la reaaction — a ete oublifte par les anciens psychologues.
развитие этого убеждения в почтенном ректоре Rev. Philos., или оно образовалось
самостоятельно, для дела безразлично. Мы только хотели указать на почин наш в
этом деле и вместе с тем на факт совпадения наших взглядов с выводами всеми
уважаемого вожака французских психологов-эмпириков нашего времени. Жаль
только, что г. Рибо у напирая на психологическое значение движений, почти
исключительно говорит лишь о «мускульных ощущениях ». На той же точке зрения стоит
и г. Рише в своей заметке (De Tinfluence des mouvements), помещенной в Rev. Phil.
(Decembre 1879) по поводу статьи Рибо.
93
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
минологии может быть вполне доказана только при помощи поверки ее
действительным употреблением в психологических анализах, а такая
поверка, для которой недостаточно единоличного опыта, составляет дело
будущего. Заметим еще, что недурно было бы иметь и ряд таких терминов,
которые бы объединяли собою первоначальные и осложненные явления,
соответствующие каждому моменту психического оборота, в одну область.
Этой цели могли бы удовлетворять, по-видимому, обычные термины:
1) ума или познания;
2) чувствительности;
3) воли;
4) деятельности (в тесном значении слова).
Но только, употребляя такие наименования, надо остерегаться
приписывать им прежнее реальное значение, т. е. значение особых способностей или
сил души. Распределение психических феноменов по моментам психического
оборота особенно непримиримо с гипотезой «отдельных способностей ».
Теперь, ввиду принятой нами классификации психических явлений,
уже не подлежит сомнению, что термин чувствований действительно
должен обнимать собою только всю совокупность явлений удовольствия и
страдания, т. е. все те пассивные психические состояния, которые можно
рассматривать как продукт субъективной оценки действующих на нервную
систему впечатлений. Цель настоящей главы, стало быть, выполнена. Но
мы считали бы этот очерк незаконченным, если бы не подвергли
рассмотрению еще два вопроса, а именно:
1. О том, какие новые стороны представляет наша классификация
элементов психической деятельности сравнительно с господствующею
в наше время классификацией, и насколько отдельные черты ее
сходны с предложениями некоторых старых и новых психологов.
2. О степени неизменности указанного нами преемства психических
явлений или моментов психического процесса, т. е. о том,
возможны ли какие-нибудь отклонения от этого преемства.
Особенности нашей классификации сравнительно с наиболее
распространенным в наше время делением душевной деятельности на три области
(мышления, чувства и воли, см. Бэна) суть следующие:
1. В классификации своей мы руководимся не субъективными
данными самонаблюдения, а объективными критериями: направления
взаимодействия и большей или меньшей непосредственности его.
2. В основу различений явлений на классы мы прежде всего ставим
противоположность простых и сложных психических образований
и вследствие этого изменяем отчасти термины при распределении
первоначальных классов духовных явлений.
3. Мы вводим в число основных психологических понятий новое
понятие «деятельности» в тесном значении слова, т. е. проводим еще не
94
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
признанное в наше время противоположение воли(стремлений,
желаний) и деятельности (движений, действий) и, тем самым, на место
обычной трихотомии, предлагаем тетрахотомию психических
явлений, деление их на четыре раздельных класса.
Читателю, ознакомившемуся предварительно с историческими
частями нашего сочинения, должно смутно представляться, что все эти
особенности классификации не совершенно новы, что в системах, разнообразных
в историческом отделе, он встречал отдельные намеки на все идеи,
лежащие в основе нашего нового распределения. Поэтому мы считаем своею
обязанностью напомнить ему, кем или в какой форме все эти намеки были
высказываемы.
Во-первых, что касается до критериев классификации, то уже в
древнем противоположении страдательных и деятельных, пассивных и
активных состояний души (разумения и воли) мы имеем намек на подчинение
такой классификации принципу «направлений»; более сознательно этот
принцип направлений в развитии психического процесса был применяем в
нашем веке некоторыми немецкими писателями, каковы Круг и Шмидт.
Дихотомия Круга сознательно опиралась на различие направлений —
от объекта к субъекту и обратно. Шмидт с этой же точки зрения отличает
познание от стремления. У Шмидта же мы находим намек и на другой
принцип, состоящий в различении большей или меньшей непосредственности
взаимодействия между организмом и средою, ибо он еще делит
психические деятельности по внутренней их природе на чувство и представление,
как субъективную и объективную сторону духа. Если, несмотря на такие
два принципа, принятая им классификация не удовлетворяет
потребностям точного различения психических явлений, то виною тому служит
односторонний выбор терминов. Понятия чувства и представления могут
служить типическим выражениям субъективного и объективного моментов,
но не исчерпывают явлений, этим моментам соответствующих. То же
самое можно сказать о терминах познания и стремления. Итак Шмидт
только не сумел поставить во взаимную связь двух отмеченных им принципов и
применить их на деле. Кроме Шмидта, — Биунде и за ним Гамильтон,
критикуя систему Круга, правильно противополагают входящий и выходящий
моменты психической деятельности — моменту имманентному, т. е.
непосредственные моменты взаимодействия — посредственным, но к
сожалению они вслед за тем сами отказываются от принципа «направлений»,
находя его несостоятельным. Такой странный взгляд (и соответственные
возражения этих писателей) объясняются тем, что им было чуждо понятие
«моментов» психического оборота, что они рассматривали каждое психическое
явление, как выражение самостоятельного процесса (хотя в акте чувственного
восприятия, например, противодействие составляет уже иной момент, чем
действие, и, собственно говоря, уже не принадлежит к чувственному
«воспри95
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ятию»). Итак принципы нашей классификации не новы — мы только дали этим
принципам новое выражение и развитие. Во-вторых, что касается до
противоположения простых и сложных явлений при распределении содержания
психической деятельности, то и это противоположение очень старо. Уже в
древнем учении о ступенях психической жизни, которое всего
последовательнее было выражено Аристотелем, мы имеем первые намеки на такой
контраст. Понятие чувственной души и разумной, лежавшие в основании
классификации душевных сил — у Аристотеля, Плотина, в Средние века и
в школе Вольфа, соответствуют контрасту двух групп психических
явлений — первоначальных и сложных. В нашем веке более сознательно этот
контраст развил Фр. Авг. Карус, который противополагал три класса
элементарных психических явлений: ощущений, чувствований и стремлений —
трем классам сложных явлений, относящихся к областям ума, чувства и
воли. Но, во-первых, у него недоставало терминов для объединения
отдельных классов сложных явлений как таковых; во-вторых, в его
классификацию не вошли понятия движения и действия; в-третьих, и он не
довольно вникнул в идею «моментов» психического процесса. КромеКаруса,
мы встречали у отдельных писателей стремление заменить в классификации
элементов психической деятельности названия сложных явлений
названиями более простых, первичных. Так, например, Лотце предпочитает
термину «представления »термин «ощущения», «из которых развивается вся
высшая умственная деятельность». Стало быть, противоположение
простых явлений сложным также не ново, — мы только применили его в более
широких размерах, чем это делали другие писатели.
Наконец, в-третьих, новое понятие «деятельности» тоже не вполне
оригинально: Аристотелевское понятие особой способности движения
представляет намек на ту же идею. В Новое время многие писатели
понятию воли предпочитали понятие «деятельность» или употребляли их
синонимически, например, в XVIII в. Тетенс (Thätigkeitskraft), в XIX в. Фриз
(Thatkraft), Нейбиг (Handlungen), Дробиш (Thätigkeiten), Кавелин
(действия). Новейшие физиологи часто даже вовсе изгоняют понятие «воля»
из системы основных психологических понятий, признавая только
движения или действия, руководимые или не руководимые размышлением и
выбором (и только в этом значении — произвольные и непроизвольные).
Однако, в простой замене понятия воли понятием деятельности или в
безразличном употреблении этих терминов еще не лежало настоящего
различения, т. е. противоположения этих понятий. Это различение или
сопровождается признанием еще одного момента деятельности —
«наклонностей» (penchants primitifs, inclinations), или происходит в ущерб других
различений; например, у Дидро рядом с способностью желания нет особой
способности чувства. Таким образом, различение воли и деятельности
обыкновенно не имеет последствием правильной тетрахотомии душевных
96
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
явлений. Исключение, как мы увидим ниже, представляет только
распределение Аристотеля. Но это, однако, не значит, чтобы тетрахотомия
душевной деятельности тоже не имела своих приверженцев в старой и новой
психологии, — она только опиралась на другие основания: так, например,
старое деление души на ум и волю, и каждой из этих главных способностей
на высшее и низшее проявление представляло только особое сочетание
принципа направления с принципом различения простых и сложных
образований. Далее, у австрийских психологов, последователей Якоби,
например Лихтенфельса и Прохазки, тетрахотомия опиралась на такое же
различение чувственной и сверхчувственной сферы как восприятия, так и
стремления. У Гарнье правильность тетрахотомии нарушилась тем, что три
класса активных состояний души противополагались только одному
классу пассивных (intelligence); у Шмидта, наоборот, вся тетрахотомия
основывалась исключительно на понятиях, соответствующих пассивным
деятельностям души (две области чувства и представления). Наконец, у Джона
Ст. Милля деление душевных явлений на четыре класса опирается на
признание самостоятельности «ощущений» рядом с мыслями,
возбуждениями и желаниями, — иначе сказать — его тетрахотомия является
результатом неправильного соподчинения классов простых явлений с классами
сложных. Итак, в рассмотренном нами только что отношении отдельные
мысли тоже стары, но подробное развитие их имеет совершенно новые
основания и характер. Только у одного Аристотеля мы находим такое
распределение понятий, которое весьма близко подходит к нашему.
Действительно, у Аристотеля мы встретили и точку зрения
направлений (контраст страдательных и деятельных состояний души), и
противоположение совокупности первичных явлений — совокупности вторичных
(чувственные и разумные силы), и различение внутренней деятельности
(стремление) от внешней (движение). Наконец, если мы припомним, что
результатом применения всех этих принципов было признание четырех
«моментов» в деятельности чувственной души, а именно моментов
ощущения, чувствования удовольствия и страдания, стремления и движения,
то мы действительно в праве снова повторить уже высказанное нами
однажды суждение, что Аристотель во многих отношениях был
дальновиднее даже некоторых светил современной психологии. В классификации
Аристотеля были только следующие недостатки:
1. Рядом с чувственною и разумною областью психических
отправлений он признавал еще область отправлений растительных, для
которых не было основания включать в сферу психической
деятельности.
2. Различая четыре момента в деятельности чувственной души, он
делил деятельность разумной души только на два момента
(страдания и действия);
4 Российская психология
97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
3. Основою его правильной, во многих отношениях, классификации
была все-таки неправильная гипотеза реальных способностей
души, отразившаяся отчасти неблагоприятно и на характере
терминологии.
4. Некоторые обозначения, принятые Аристотелем, основанные на
особых психологических представлениях его эпохи, не вполне
соответствуют принципам современной эмпирической психологии.
Например, название «разумной» души заключает в себе чуждую
современной психологии практическую идею, а отсюда — не
довольно широкий термин «ума » для всех сложных душевных
отправлений. Название второго момента чувственной деятельности —
страдание — тоже недостаточно: надо было объединить эти два
понятия в одном, но Аристотель этого не сделал.
Теперь мы выяснили вполне отношение предложенных нами
принципов распределения психических явлений к принципам предшествующих
классификаций элементов психической деятельности. Все наши принципы
стары, но новое выражение их, новое их сочетание и более широкое
развитие дали в результате оригинальное в целом распределение элементов
психической жизни, которое вызвало, в свою очередь, и более точное
разграничение психологических терминов. Личная заслуга наша, стало быть, очень
невелика.
В заключение обратимся наконец к вопросу: насколько теория четырех
моментов каждого психического оборота, т. е. закон указанного нами
преемства психических явлений, может допускать отклонения на практике?
Во-первых заметим, что при дальнейших осложнениях психической
деятельности начало и конец каждого оборота могут сделаться независимыми от
непосредственного взаимодействия между субъектом и объектами. Факт
оставления ощущениями следов в организме и возможность воспроизведения
этих следов по внутренним законам ассоциации, т. е. независимо от прямого
влияния объектов, имеет последствием ряд таких психических оборотов,
начало которых, по-видимому, субъективное у внутреннее. Точно так же
различные движения и действия под влиянием такого внутреннего
сосредоточения психической деятельности постепенно теряют значение действий
организма, направленных непосредственно на какие-нибудь определенные
объекты. Этот закон превращения движений есть тот первый принцип
образования выражений внутренних состояний (на место целесообразных
движений), о котором говорит Дарвин в своем сочинении «О выражении волнений »
(ср. Ch. I: the principle of serviceable associated Habits). Однако в указанных
случаях правильное преемство моментов психического процесса, в сущности, не
нарушается, и все дело ограничивается лишь кажущимся разрывом между
субъектом и окружающею средою. Но разрыв этот именно только
кажущийся, ибо первоначальный источник объективных восприятий, которые дают
на98
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
чало психическим оборотам нового типа, а равно и первоначальная цель
движений в этих оборотах, находятся в объектах, в окружающей среде, и такое
соотношение всегда может быть обнаружено путем психологического
анализа. Бывают, однако, часто и такие отклонения от правильной схемы развития
процесса, которые могут быть истолкованы только действительным или
кажущимся выпадением отдельных моментов из данных психических преемств.
Это выпадение моментов может быть сведено к следующим шести главным
случаям:
1) выпадают оба средние звена процесса.;
2) выпадает одно из средних звеньев;
3) отсутствует первое звено процесса;
4) отсутствуют два первых звена;
5) отсутствует последнее звено оборота;
6) отсутствуют оба последних звена.
Все эти случаи, как мы сейчас увидим, возможны и объясняются
различными феноменами в развитии психического организма.
Оба средние звена чаще всего выпадают, так как многочисленные
рефлекторные движения и действия человека именно представляют
большею частью прямое следование движения за ощущением, действия или
поступка за идеей. Объясняется такое нарушение в преемстве психических
явлений или большою интенсивностью развития процесса, когда между
ощущением и действием не успевает наступить оценка, или же частым
повторением тех же преемств и превращением движения, служащего
ответом на ощущение, в автоматическое. Очевидно, однако, что в обоих
случаях выпадение только кажущееся: в первом случае оценка обыкновенно
происходит так быстро, что субъект не успевает себе отдать отчета в ней,
не успевает, так сказать, сознать ее, ибо в следующую затем минуту
обыкновенно обнаруживаются все-таки все явления, такую оценку
сопровождающие. Так, например, если, видя падающую нам на голову штукатурку
дома, мы быстро отскакиваем в сторону, то по миновании опасности
являются все последствия страха, которого мы, по-видимому, не ощущали в
себе, как мотива для сделанного нами скачка, т. е. сильное биение сердца,
бледность лица, иногда даже трясение членов и т. д. Конечно, все эти
явление представляются уже, строго говоря, моментами нового оборота,
вызванного хотя бы и слабым воспроизведением испытанного только что
ощущения; но самое это воспроизведение со всеми его последствиями является
несомненно результатом внутреннего волнения, не успевшего вполне
выразиться в промежутке между ощущением и движением. Во втором случае
выпадение потому только кажущееся, что первоначальною связью между
ощущениями и движениями в рефлексах все-таки служила какая-нибудь
субъективная оценка, которая хотя и была постепенно вытеснена из сферы
сознания, но тем не менее является единственным объяснением связи
меж4*
99
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ду ощущением и действием. Часто эта оценка даже никогда и не
принадлежала личному сознанию того субъекта, в котором обнаруживается преемство
такого неполного типа, ибо многие рефлекторные движения унаследованы от
прежних поколений. Но как бы то ни было, эта оценка все-таки
когда-нибудь имела место и задача науки — восстановить первоначальный тип
преемства. Дарвин, например, задается именно такою проблемою в
упомянутом нами сочинении. Таким образом, привычка и интенсивность оборота
объясняют первое изуказанных отклонений.
Выпадение одного из средних звеньев объясняется тоже привычкою,
а именно ассоциациею, т. е. слиянием двух средних моментов в один:
поглощением одного другим. Отсюда понятие инстинктов, т. е. таких психических
преемств, в которых момент чувства, т. е. субъективного восприятия, вполне
поглощается моментом стремления — субъективного движения. Отсюда
также, обратно, возможность прямой последовательности между чувствованием
и движением. Чувствование боли, например, часто прямо вызывает движение
с целью удалить ее причину: такой факт объясняется тем, что
последовательность боли, стремление прекратить ее и движения в виду этой цели так часто
повторялась, что наконец чувствование совершенно поглотило стремление и
прямо связалось с движением. Но и в этих случаях очевидно: выпадение
звеньев более кажущееся, чем действительное, ибо объяснить прямую связь
первого и третьего, второго и четвертого моментов можно только при помощи прежде
бывших правильных преемств.
Третий случай — отсутствие первого момента — чаще всего объясняется
подобным же поглощением ощущения чувствованием. Впрочем, некоторые
сочетания ощущений и чувствований с несомненным преобладанием
последних по-видимому неизбежно вытекают уже из первоначальной организации
субъекта. Так, например, в тех оборотах, импульсом для которых служат не
внешняя среда, а ткани самого организма, играющие тоже роль особого рода
«внешней » среды в отношении к сознанию, — ощущение часто поглощается
чувством и притом, по-видимому, в силу самой организации. Например, так
называемые чувствования голода и жажды, несомненно, содержат в себе
объективный элемент ощущения, т. е. смутного знания о том, что происходит в
заинтересованных тканях, но этот объективный элемент почти совершенно
поглощен субъективным. В тех же случаях, когда такое поглощение не
обусловлено организацией, оно может быть вызвано чрезмерною
интенсивностью ощущения, превращающей его непосредственно в сильную боль или
удовольствие. Бывает, однако, и так, что ощущение по-видимому отсутствует
потому, что внимание наше в данный момент было поглощено другими
ощущениями. Тогда новый оборот тоже часто начинается прямо с чувства;
например, если мы сильно увлечены разговором, то можем и не заметить, как
на нашу щеку села муха, и замечаем прямо лишь ту боль, которую вызвало ее
укушение. Ощущение в этом случае, несомненно, было, ибо было известное
100
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
раздражение кожи, но это ощущение было так слабо, что оно не достигло
нашего сознания. Ввиду этого и ввиду присутствия слабой доли ощущения и при
поглощении его чувством можно сказать, что и тут нарушение преемства
более кажущееся, нежели действительное.
Отсутствие двух первых звеньев цепи встречается очень редко, ибо
редко бывает, чтобы стремление не имело источником либо сознательного
ощущения, либо чувствования. Но, однако, некоторые инстинктивные
стремления вызываются «бессознательными» ощущениями и
чувствованиями, как, например, стремление любить при наступлении зрелости
человека. Такое стремление любить, часто не имея никакого объекта и никаких
вообще сознательных импульсов, все таки выражается рядом действий,
косвенно направленных к указанной природою цели (например,
кокетливое украшение своего лица девушкою). Здесь очевидны первые два
момента, т. е. ряд ощущений и субъективная их оценка, принадлежат области
бессознательного — из этой области бессознательного прямо выплывает в
сознание смутное стремление, заставляющее действовать, а именно искать
подходящего объекта для более полного и сознательного общения (см. по
этому вопросу Hartmann. Philos. D. Unbew. 6-te Aufl.1874. B.H: Das Unbew.
in d. geschlechtl. Liebe, особ. Р. 206). Впрочем, и в этом четвертом случае
бессознательность первых двух моментов может зависеть не от условий
организации, а от отвлечения внимания в другую сторону: иногда, не отдавая себе
отчета в наших ощущениях и чувствованиях, ибо наше сознание занято другим
делом, мы вдруг замечаем в себе желание переменить положение тела или
перейти в другую комнату и тут только уже начинаем сознавать, что мы
неловко сидели или что в означенной комнате был спертый воздух. Однако
стремление, как мы видели, всегда имеет, если не сознательный, то бессознательный
источник в каких-нибудь ощущениях или чувствах.
Пятый и шестой из отмеченных случаев основаны на возможности
перерыва в развитии психического процесса. Бывает иногда, что новые
впечатления с силою врываются в сферу сознания, когда развитие старого оборота
не пришло к концу. Если эти новые впечатления очень сильны, то внимание
отвлекается от прежних впечатлений, и, таким образом, последний или два
последних момента оборота остаются недовершенными. У
«впечатлительных» субъектов подобные перерывы бывают чаще, чем у сосредоточенных.
Однако нарушение последовательности моментов и тут обыкновенно
бывает только кажущееся: окончание прерванного оборота или наступает позже,
когда субъект освоился с новыми впечатлениями, или оно присоединяется к
окончанию новых оборотов, которое в таком случае является
равнодействующей двух направленных в разные стороны действий, или, наконец,
окончание прерванного оборота все-таки происходит своим чередом и только
характер его изменяется, т. е. сознательные и целесообразные движения и
действия обращаются в автоматические и бесцельные.
101
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Из всех этих фактов мы можем заключить, что если в правильном
преемстве психических явлений и бывают отклонения, то последние
имеют более видимый, чем действительный, характер: одни моменты
могут быть слабее других и могут поглощаться этими последними; иные
моменты надо искать в области бессознательных психических
отправлений, между тем как другие принадлежат сознанию; наконец,
дополнительных звеньев преемства надо иногда искать в прошедших или
будущих оборотах. Все это дает нам право признать общею основою смены
психических явлений закон, что ни одно чувствование не может
возникнуть без участия ощущения, как ни одно стремление — без
участия чувствования, ни одно движение — без участия стремления. Тот же
закон применим и к смене сложных психических явлений, и поэтому его
можно формулировать так: ни одно психическое явление, простое или
сложное, не может возникнуть без настоящего или хоть прошедшего
участия явления, соответствующего предыдущему моменту в
правильном типе психического оборота.
Мы, впрочем, не рассмотрели еще тех случаев, когда из психического
процесса выпадают два несмежных звена (1-е и 3-е или 2-е и 4-е), или когда
один из моментов является настолько преобладающим, что поглощает все
остальные; но в этих случаях очевидно должны быть приняты те же
объяснения, как и в предшествующих, и потому мы считаем возможным не
подвергать их особому разбору. Притом случаи второй категории почти
невозможны, ибо всякое стремление и всякое движение должны иметь свою
«причину», как мы выражаемся, в ощущениях или чувствованиях; с другой
стороны, всякое ощущение и всякое чувствование точно так же должны
иметь свое действие или «выражение» в тех или других стремлениях,
желаниях, движениях или поступках.Только поверхностному и неразвитому
наблюдателю некоторые психические явления могут казаться
изолированными. Но если так, то приведенный закон можно дополнить обратным
положением, что ни одно психическое явление, простое или сложное, не
может не вызвать за собою в настоящем или хоть в будущем того
явления, которое соответствует последующему моменту в правильном
типе психического преемства. Иначе сказать, в каждом психическом акте
научный анализ должен уметь открыть четыре раздельных момента, хотя
бы ему пришлось для этого разлагать слитные образования на их
элементы, обращаться за помощью к области бессознательной психической
жизни или даже прибегать к изучению прошедших и будущих психических
преемств. Это и составляет главную задачу психологического анализа,
результаты выполнения которой могут служить наилучшей поверкой
приемов и методов психолога. Но мы значительно отклонились в сторону —
подобный анализ не составляет нашей задачи. Мы намерены заняться
подробнее исследованием одного только момента психического процесса и
при102
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
роды соответствующих ему явлений, и для этого нам необходимо было
точнее ограничить область феноменов, обнимаемых понятием
чувствительности. Выполнив эту задачу, мы можем приступить к продолжению
наших исследований в указанном выше направлении. Но предварительно
определим точнее на основании предшествующего, что должно разуметь
под анализом и синтезом чувствований. Мы разграничили друг от друга
три рода терминов, обозначающих: 1) целые области явлений, 2)
первичные явления различных групп, и 3) вторичные или сложные явления тех же
групп. В этом смысле мы различили область «чувствительности» вообще
от «чувствований » и «чувств ». Анализ чувствований очевидно должен иметь
задачу определения их механизма и главных видов — на первоначальной
ступени развития. Синтез же должен быть направлен к объяснению
законов осложнения «чувствований » и к построению из совокупности
элементарных чувствований тех многочисленных сложных образований, которые
мы назвали выше «чувствованиями и волнениями». Сообразно с
предположенным нами планом мы и перейдем теперь к определению принципов
сначала анализа, потом синтеза чувствований.
ОСНОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ1
I
Внимательное изучение психологической литературы за последнее
пятилетие приводит к убеждению, что старая рознь между различными
направлениями психологии, метафизическими и опытными, все более и
более стушевывается и что близится то время, когда мы будем иметь дело
с единой наукой психологией, в которой все частные направления в
изучении психологических проблем сольются в одно русло, и существенные
приобретения старой спекулятивной (так называемой метафизической)
психологии в школах Платона, Аристотеля, Декарта, Лейбница, Канта и др. войдут в
органическое соединение с обильными результатами опытного изучения
душевной жизни, ее явлений и законов, в психологии эмпирической, в школах
Локка, Томаса Рида и их новейших преемников.
На первый взгляд такое утверждение может показаться
парадоксальным, ибо что общего, по-видимому, между психологией душевных сил,
способностей, субстанций, и психологией явлений, теорией их,
сосуществований и последовательностей? По весьма еще упорно распространенному
мнению, — вернее предрассудку, — эти два направления исключают друг
друга: они всегда враждовали между собою и стремились друг друга
заглушить. Допустим однако, что понятие психического явления успехами
со1 Вопросы философии и психологии. 1895. Кн. 30. С. 568-618.
103
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
временной научной психологии будет существенно переработано1, и тогда,
без сомнения, должно будет измениться отношение между психологией
эмпирической и метафизической. Может оказаться, что и спекулятивная
психология всегда изучала и часто правильно освещала так называемые
«явления» психической жизни, а психология эмпирическая лишь
накопляла новые факты для правильного истолкования «законов» этих явлений и
для уразумения их «сущности».
Несомненно, что и старая эмпирическая психология в широкой
степени опиралась на некоторую метафизическую теорию о непереходимой
пропасти между субстанцией и ее явлениями, и тем самым молчаливо
признавала бытие субстанций вне и позади явлений. Если допустить, что это
противоположение, основанное на неправильной психологии познания,
отжило свое время и что сама психология как наука призвана его
устранить и переработать, то станет ясно, что чисто метафизический спор
между психологией эмпирической и спекулятивной потеряет всякое значение
и что ближайшею задачей науки психологии будет, минуя это спор,
заимствовать и ввести в область материалов своих все те глубокие и верные
психологические наблюдения и сообщения, которые были сделаны великими
психологами и душеведами всех веков, к какому бы направлению они ни
принадлежали, т. е. как бы они ни рассуждали об отношении субстанции к
явлениям душевной жизни. Все эти последние рассуждения —
метафизиков и эмпириков — носили гипотетический характер и были обобщениями
приблизительными. Для представителя науки психологии важны в них не
конечные гипотетические выводы2, а те факты и наблюдения, которые их
вызывали и в них обобщали. Другими словами, психологические теории
суть тоже факты и документы для психологии, как науки, и изучение
истории психологии есть в то же время изучение и путь к разрешению
многих существенных психологических проблем.
Переворот в судьбах психологии, о котором мы говорили,
готовится на почве нового, третьего, направления этой науки, которое
крепнет и развивается в наши дни называется экспериментальным*\
Экспериментальная психология не довольствуется непосредственным
Такою переработкой заняты многие психологи нашего времени. См. ниже статью
А.М Лопатина «Явление и сущностьв жизни сознания » и нашу статью
«Жизненные задачи психологии» в кн. IV «Вопросов» (1890).
В духе спиритуализма, материализма и параллемума, дуализма, монизма или
плурализма.
Весьма замечательно, что во всех трудах лучших современных представителей
экспериментальной психологии, в Германии, Франции, Англии и в Америке,
замечается широкая примирительная тенденция по отношению к метафизической
психологии. Проблема о душе не только уже не изгоняется безусловно из опытной
104
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
наблюдением душевных явлений и умственною переработкой
наблюдений в обобщения и гипотезы, а ставит себе задачею искусственно
направлять эти явления и сознательно допрашивать природу со стороны
психического ее существования и содержания. Экспериментальная
психология имеет дело не с субстанциями и явлениями, а с фактами душевной
жизни и деятельности, и факты эти гораздо шире и разнообразнее, чем
психические явления, с которыми имела дело старая эмпирическая психология1.
Документы, раскрывающие факты человеческой психической
жизни, весьма многочисленны; они широко и обильно разбросаны вокруг
нас, и мы их еще почти не изучали, не допрашивали; вся литература
человеческая, все искусство, вся наука, религия, философия, все
исторические деяния людей, их быт, нравы и законы, произведения
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, поэзии, формы государственной и
общественной жизни — все это психические факты и документы
мышления, творчества, чувства, воли людей, и мы еще не изучали их
психологически.
Не изучали потому, что не умели изучать, допрашивать, т. е.
психологически экспериментировать2. Все эти психологические документы суть
создания человеческих личностей в их единичной или коллективной
рапсихологии и философии, но делаются часто попытки новой постановки ее на
почве опыта, как вообще попытки основания новой «опытной » метафизики (Ср. Fouillue:
L'avenir de la metaphysique fondee sur Гехрёпепсе, Paris., 1889. Wundt: System der
Philosophie. Leipzl. 1889). Для психологии особенно характерны в этом отношении,
кроме известных воззений Вундта, некоторые главы в сочинении американского
психолога Джемса: Principles of Psychology (1890), а также недавно вышедшее сочинение
выдающегося американского психофизиолога Лэдда: Philosophy of Mind. An essay in
the metaphysics of psychology. London,1895.
Уже по окончании этой статьи и сдаче ее в набор мы получили от нашего товарища,
А.И. Введенского, изданный под его редакцией в С.-Петербурге перевод
прекрасной книжки Бине, Анри, Куртье и Филиппа: «Введение в экспериментальную
психологию», пер. Е.И. Максимовой «по тексту, исправленному и дополненному
В. Анри для русского издания ». В этой полезной книжке, на которую мы еще
имеем возможность сделать в корректуре несколько ссылок, говорится между
прочим: «Экспериментальная психология независима от метафизики; но она не
исключает метафизических изысканий. Сама она не предполагает никакого определенного
решения великих проблем жизни и духа; сама она не имеет никаких стремлений —
спиритуалистических, материалистических или монистических; она — наука о
фактах природы и больше ни о чем ». С. 172.
Мы разумеем здесь между прочим возможность экспериментировать над
впечатлениями, чувствами и мыслями, которые возбуждают в людях создание мысли и
творчества прежних поколений, и изучать экспериментально процессы мышления,
творчества и т. д. в настоящем их применении.
105
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
боте. Но умели ли мы до последнего времени изучать психологически
чужую душевную личность в ее восприятиях и деятельностях, в
переживаемых ею душевных процессах, в ее развитии, в ее мышлении, — в ее
творческой и созидательной работе, — в ее наклонностях, стремлениях и
поступках?
Психолог, не только метафизик, но и эмпирик старой школы, замыкался
в себе, и чаще всего со стороны — иногда урывками, тайком — наблюдая
ближних, не допрашивая как следует ни себя, ни их, собирая отрывочные
наблюдения, он строил теории и более или менее смелые гипотезы, которых не
проверял и не давал средства другим проверить, ибо не сообщал обыкновенно
документов, на основании которых делал свои выводы.
Задача и основной смысл экспериментальной психологии
заключается именно в том, чтобы прекратить эту замкнутую, скрывающую концы
свои, работу самонаблюдения и наблюдения и поставить все обобщения
психологии на почву точного изучения, допрашивания, проверки, как это
делают другие науки опыта. Значит ли это, что психология
экспериментальная должна навсегда отказаться от решения важнейших для
человеческого духа проблем, которые ставила психология метафизическая?
Нисколько: проблемы психологии во всей своей своеобразности останутся
такими точно, какими они были до сих пор, ибо эти проблемы — не
выдумка, а реальный факт. Они сами суть факты психологии человека и как
таковые подлежат изучению и решению помощью экспериментального
метода.
Следует ли далее из того положения, что психология должна стать
экспериментальной наукой, заключать, что ее методы должны быть аналогичны
методам так называемых физических наук и должны состоять только в
изучении физических и физиологических условий психических состояний,
процессов и продуктов? Отнюдь нет: психические факты останутся навсегда
особыми, психическими фактами, совершенно отличными от физических и
физиологических, и требующими особых приемов и методов изучения.
Психофизика и психофизиология — только преддверие настоящей
экспериментальной психологии, которая будет изучать экспериментально чисто
психические факты в их своеобразной природе — как факты сознания,
мысли, чувства, хотения и психического действия. В этом направлении уже
работают многие представители экспериментальной психологии на
Западе, изучая, например, экспериментально процессы восприятия, памяти,
ассоциации идей — в их психическом содержании и отношениях, независимо
от сопровождающих их физиологических процессов. Ведь и физиология
своеобразно изучает некоторые физиологические процессы, независимо от
химических и физических моментов, которые в них входят.
Это не значит, что психолог должен быть невеждою в физиологии и
анатомии организма. Не следовало бы в наше время ни одному образованному
106
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
человеку, а тем более ученому, да еще психологу, пребывать в неведении
относительно строения и функций человеческого и вообще животного организма.
Элементы анатомии и физиологии, как и всех прочих естественных наук,
должны скоро стать предметом общего образования. Тем не менее задачи
экспериментальной психологии существенно шире задач психофизиологии и
психофизики, и последние могут входить в состав первой только как части, составляя
переходную область между « экспериментальной физиологией» и
«экспериментальной психологией». Для этого, чтоб убедиться в этом вполне,
необходимо разобрать своеобразные черты психологического наблюдения и
психологического эксперимента — в отличие от физического наблюдения и
эксперимента.
II
Психическое наблюдение, на какой бы ступени оно ни стояло, на какой бы
объект ни обращалось, есть прежде и главнее всего самонаблюдение, но не в
смысле старого приема самосозерцания нашего «я » — в отвлеченных его
свойствах, способностях и отрешенной от вещества субстанциальности, а лишь в
том смысле, что отдельные психические факты в их собственно психическом
содержании, как факты ощущения, представления, чувства, хотения и прочее,
даны только самосознанию и никакими внешними чувствами наблюдаемы быть
не могут. Внешними чувствами мы можем наблюдать только проявления и
выражения душевных состояний, а не самые эти состояния, которые как
таковые даны только в самосознании каждого субъекта. В этом основном
положении согласны между собою все современные психофизиологи Запада и все
представители психологии экспериментальной. «Наши ощущения, эмоции и
желания представляют наше личное достояние, доступное только нам самим »
(Бине. С.185). Да едва ли такая элементарная истина и может возбуждать
какие-либо сомнения и разногласия.
Поэтому, если мы делаем наблюдения над чужою душевною жизнью по ее
выражениям и проявлениям, то с процессами этой душевной жизни можем
знакомиться только в той степени, в какой мы одарены способностью симпатически
переживать сами, реально или идеально (с помощью воображения), эти чужие
душевные состояния. При этом, как мы увидим далее, для постановки такого
изучения чужой душевной жизни на почву экспериментальную весьма существенно,
если не безусловно необходимо, добровольное и сознательное участие в
зкспериментеАрутих лиц, душевная жизнь которых изучается, — участие,
выражающееся в сообщения ими экспериментатору, тем или другим способом, своих
самонаблюдений. Все науки естественные, до физиологии включительно, наблюдают и
изучают факты природы при помощи внешних чувств, преимущественно же
зрения. Но видеть факты психические невозможно, ибо они не имеют никаких
пространственных очертаний, никаких физических форм, цветов и других подобных
107
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
свойств. Поэтому психические факты доступны наблюдению только путем
внутреннего чувства, называемого самосознанием, и могут быть изучаемы только при
участии самонаблюдения. Доступные же внешним чувствам выражения их в
движениях, мимике, слове, письменах и иных знаках, суть лишь символы, толкование
которых неизбежно в известном смысле субъективно, т. е. основано опять на
самонаблюдении нашем, на наблюдении нами в себе душевных состояний, которые мы
сами переживаем по поводу этой символики чужих душевных состояний,
непосредственно нам недоступных. Отличие экспериментальной психологии от
простой наблюдательной заключается в том, что для устранения субъективности в
толковании чужих состояний мы прибегаем к показаниям и свидетельствам самих
лиц, их переживающих, так что самонаблюдение из единичного становится
коллективным. Свое самонаблюдение мы проверяем самонаблюдениями других
людей и, искусственно вызывая в целом ряде субъектов (с их собственного согласия)
те или другие психические перемены, явления и процессы, исследуем — на
основании их показаний — состав, взаимную связь и причинную зависимость душевных
фактов1. Таков общий смысл и таковы общие особенности психологической
экспериментами. Рассмотрим теперь подробнее элементы, которые в нее входят.
Первым и главным элементом ее, как мы уже показали, является
самонаблюдение. Спрашивается: может ли самонаблюдение быть орудием
точного и объективного изучения психических состояний и фактов? Со
времени Огюста Конта многие естествоиспытателя и представители точной
науки повторяют банальную фразу о недостоверности (субъективности) и
даже невозможности самонаблюдения. Недостоверно оно потому, что
когда субъект наблюдает самого себя, а не природу вне себя, то неизбежно
вносит в толкование душевных состояний свои субъективные
(индивидуальные) особенности, состояния в известном индивидуальном складе
представлений, понятий, чувств, стремлений, склонностей, верований и проч.
Невозможно же оно потому, что, в сущности, когда в сознании что-либо
происходит, то все внимание сосредоточено на переживаемом душевном
состоянии и мы не можем его наблюдать иначе как по воспоминанию, так
как если перенесем центр тяжести сознания на это наблюдение, то
наблюдаемое состояние исчезнет или так ослабнет, что уже точное воспринятие
его как реального факта станет невозможно. На этих софизмах, весьма
напоминающих древние софизмы элейца Зенона о летящей стреле и об
Ахиллесе и черепахе, направленные «против реальности движения»,
основано несправедливое недоверие к самонаблюдению, как органу познания
душевных состояний.
Если добросовестно психологически разобрать элементы внешнего
наблюдения, то вопросы о степени достоверности, объективности и
возможности того и другого придется решить не только в смысле равноправности обоих
1 О коллективном или сравнительном самонаблюдении см. у Вине. С. 15 6,15 8 и след.
108
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
способов изучения действительности, но даже в смысле некоторых
существенных преимуществ самонаблюдения.
В области внешнего чувства и основанного на нем наблюдения
физических явлений возможны тоже ошибки, происходящие от иллюзий чувств, а так
же совершенно субъективного или предвзятого толкования восприятий.
Вообще необходимо сознать ясно и раз навсегда, что субъективность и
объективность — свойства ума, а не восприятия, что они наступают только с
момента толкования восприятий, т. е. отнесение их к объектам, которые суть
лишь представления, составленные из других восприятий, и соотнесение
отдельных восприятий друг с другом. Еще Давид Юм полтораста лет тому назад
совершенно правильно утверждал, что возможность заблуждения всецело
лежит в операциях мысли, а не вне ее, т. е. в возможности неправильного
отнесения идей к впечатлением, с которыми они не имеют ничего общего, и
обратно. Сами по себе, и ощущения, и представления, и идеи как психические факты все
одинаково реальны и истинны. Субъективность сводится к неправильному
толкованию отношений между ними и причинами, их вызвавшими,—под влиянием
известных чувств, склонностей и вообще индивидуальных особенностей душевного
склада наблюдателя и истолкователя. Но эта субъективность в равной мере
возможна при толковании и внешних, и внутренних восприятий, и если мы благодаря
логическим свойствам и законам нашего ума способны отрешаться от нее в
толковании внешних восприятий, то в той же мере можем быть объективны в
анализе и в истолковании внутренних восприятий. В психологии личный интерес
может даже иногда содействовать точности и глубине самонаблюдений1.
Что же касается до возможности точного «самонаблюдения », то она
доказывается самою возможностью точного «наблюдения», ибо всякое
наблюдение есть прежде всего форма самонаблюдения. Ведь мы можем
наблюдать мир только сквозь призму своих ощущений», т. е. наблюдая
свои ощущения, как душевное состояние, вызываемое внешними нам
событиями и переменами. Мы познаем в их качествах и отношениях мир и его
явления. Если мы при этом умеем точно различать и отожествлять свои
ощущения как показатели и символы внешних фактов, то только в силу
способности нашей к точному и отчетливому самонаблюдению. Наблюдая
что-либо: химическое вещество или процесс, физическое явление,
предмет неодушевленный, растение, животное, органическую клетку в
микроскопе и прочее, мы наблюдаем только свои ощущения, т. е. непрерывно
самонаблюдаем, и если мы не замечаем, что имеем при этом дело с двумя
различными фактами — своим психическим состоянием, которое
направСр. Вине. «Введ. в эксперим. Психологию». С. 161: «Мы выдвигаем на первый план,
по их значению, такие самонаблюдения, которые производятся каким-либо лицом
в видах его личного интереса, например самонаблюдения в формах признания или
исповеди, делаемой врачу, священнику, начальнику».
109
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ляем, изменяем и регулируем, и его содержанием, как символом внешних
событий, — то это происходит от непривычки анализировать свои
психические процессы. Но если так, то есть если никакое наблюдение не
обходится без самонаблюдения, то почему самонаблюдение возможно и может
быть точно, только когда оно имеет объектом ощущения наших внешних
чувств? Очевидно, что коренная способность «точного объективного
самонаблюдения» должна простираться и на восприятие нами наших
представлений, чувствований, эмоций, стремлений, как объективных фактов
внутреннего опыта. Нам говорят, что для психологического
самонаблюдения нужно постоянное раздвоение сознания и внимания. Но способность
такого раздвоения есть именно основное свойство нашей «психики», как
говорят натуралисты, т. е. нашего сознания, ума, души, — какой бы термин
мы ни употребили. Раздвоение на субъект и объект, на наблюдателя и
наблюдаемое — самый первоначальный факт сознания, ибо всякий объект
есть наше же душевное состояние — наше ощущение, чувствование,
представление или иное психическое состояние: ведь «нет никакого объекта
вне субъекта — вне наших психических состояний, называемых
восприятиями». И как нет надобности ни в каком искусственном раздвоении
сознания, чтобы следить за своими ощущениями, восприятиями,
относящимися к внешнему миру, так нет никакой надобности в таком раздвоении,
чтобы правильно следить за своими психическими состояниями, как
таковыми, и наблюдать их свойства и отношения. Конечно, точное, отчетливое
и безошибочное их различение, отождествление и вообще наблюдение
есть дело навыка, опыта, развития и даже некоторого искусства, но ведь
то же самое можно сказать и о способности точного восприятия и
анализа внешних ощущений: и она не дается сразу и составляет результат
навыка, упражнения и развития. В точном наблюдении явлений
природы с помощью наших внешних чувств люди науки упражняются и
изощряются давно. В точном же наблюдении своих психических состояний, —
их течения, связи, взаимной зависимости, — до сих пор более изощрялись
художники, особенно художники слова, чем люди науки. Нельзя хорошо
научиться тому, что отрицаешь и признаешь бесплодным. Люди же науки,
даже иногда психологи, сознавали необходимость приобретения особых
навыков, опыта и искусства в самонаблюдении. Иногда, правда,
способность глубокого объективного самонаблюдения, как и всестороннего и
отчетливого внешнего наблюдения, есть прямо особый талант, и в этом
отношении некоторые гениальные художники слова проявляли удивительную
проницательность и превосходство свое над психологами и философами.
Но и среди последних Платон, Аристотель, Декарт, Спиноза, Локк, Кант,
Шопенгауэр и десятки других обладали своего рода гениальностью или
выдающимся талантом самонаблюдения, изощрявшимся до необычайной
тонкости путем упражнения. Отсюда — возможность как объективной
ПО
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
правды в художественном воспроизведений психических типов,
характеров и явлений, так и объективной (научной) истинности психологических
наблюдений и обобщений глубоких мыслителей. Если прибавить к этому,
что психологическое самонаблюдение благодаря экспериментальной
методе приобретает и средство проверки фактов и обобщений, добытых
одной личностью, фактами внутреннего опыта других личностей, то станет
ясно, что самонаблюдение как орудие научного исследования в
основаниях своих стоит нисколько не ниже наблюдения. Нужно только сознавать
ясно различие объектов того и другого и необходимость такого же
изощрения самонаблюдения, какого достигло внешнее наблюдение.
Различие объектов сводится к тому, что внешнее наблюдение имеет дело
с протяженными величинами, количествами и мерами, к которым сводятся в
конце концов и все качества этих объектов. Самонаблюдение имеет дело с
фактами сознания, которые не сводимы на «протяженные » величины, меры и
количественные отношения. Есть, правда в области самосознания три рода
отношений, которые по видимому можно считать в той или другой степени
количественными: это — отношение душевных состояний по интенсивности
(степени ясности, отчетливости), по продолжительности (времени течения и
пребывания в сознании) и по степени сложности и простоте (элементы и более
или менее сложные продукты). Но мера всех этих отношений особая,
внутренняя, называемая субъективной в том смысле, что она дана в «субъекте»,
в самосознании, и что к ней никак неприложимы пространственные
измерения. Это значит, что если и можно говорить о количественных отношениях и
величинах в самосознании, то совсем с особой точки зрения. Эти количества и
величины совершенно реальны, но несоизмеримы с количествами и
величинами внешних чувств, называемыми «физическими». Но если мы вдумаемся в
основания понятий «количества и величины », как они даны в абстрактной
математике, то признаем, что эти понятия и не включают в себя первоначально
идеи конкретных пространственных отношений. Последние составляют лишь
форму и частный случай первых. Поэтому неприложимость к сознанию
протяженных мер не исключает возможности особого количественного анализа
психического содержания, имеющего свои психические единицы и
измерения. Так, уже психофизики показали возможность принятия за простую
единицу при измерении явности и интенсивности психического состояния едва
заметное (для самосознания) увеличение этой ясности. При измерении
времени психических процессов есть тоже едва заметная для самосознания единица
скорости душевных явлений, которая не всегда может быть сопоставлена с
мерами физического движения (быстрота смены представлений и картин в
сновидении). При измерении сложности душевных состояний есть свои
простейшие единицы — ощущения, как элементы представлений, представления как
элементы понятий, понятия как элементы суждений, суждения как элементы
умозаключений и т. д. Такими же единицами в области эмоций являются
про111
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
стейшие чувствования удовольствия и боли, в области желаний и хотений
составляющие их элементарные стремления, и проч.
Таким образом, и в сфере анализа сознания возможны известная
механика и даже — химия, конечно совсем другого рода, чем в области
анализа физических движений вещества и его явлений. Следовательно, и
самонаблюдение может быть в своем роде точным, особенно если научные
обобщения психологии, на нем основанные, будут экспериментально
проверяться путем сличения множества индивидуальных
самонаблюдений.
Но самонаблюдение не только может быть точным и доступным
экспериментальной проверке, как и наблюдение внешних явлений
(физических перемен и движений): оно имеет даже известные преимущества перед
наблюдением в смысле точности и отчетливости. Внутренние восприятие
психических явлений и процессов непосредственны: мы сознаем факты
своего сознания так, как они на самом деле даны, — в этом и заключается
особенность психических явлений как предметов опыта и познания.
Напротив того, явления внешнего мира мы воспринимаем не
непосредственно, а как мы показали выше, через призму своих психических состояний,
а именно ощущений, которые суть только символы физических событий и
перемен, а не самые эти события. Физическое явление, как движение в той
среде, которую мы называем веществом, производит раздражение
периферических частей нашего организма. Эти раздражения через различные
посредствующие органические ткани передаются периферическим окончаниям
нервов, от последних через нервные волокна идут известные нервные токи
в систему центральных органов — и мы ощущаем непосредственно
известные органические процессы в мозговой коре. Как бы ни был совершенно
устроен и приспособлен к восприятию внешних материальных движений
весь этот сложный нервный механизм, несомненно, что ощущения внешние
как психические события — суть отдаленное и многократно отраженное
эхо физических движений среды, тогда как восприятия внутренние,
состоящие в сознании фактов нашего сознания, ничем не опосредствованы и
имеют дело с природой объекта, как он дан сам по себе, — а не с символами
его. Поэтому сознание свое мы знаем и можем наблюдать и изучать
гораздо полнее и точнее, чем внешний мир, и если мы в нем что-либо
отожествляем и различаем, то ничего не может быть достовернее такого
отожествления и различения. И если другой нам говорит: я теперь чувствую другое,
чем прежде, или то же самое, то мы можем ему гораздо более верить, чем
если гистолог нам говорит, что он видел в микроскопе две различные
клетки. Тут могла быть иллюзия зрения, а в самосознании сознание другим
человеком различия его состояний есть уже ео ipso факт различия.
Трудность для экспериментальной психологии вовсе не в орудии изучения
психологического содержания — самонаблюдении, так как внутренний опыт
112
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
не может обманывать (сама иллюзия есть несомненное душевное
состояние и делается иллюзией лишь в процессе толкования связи этого
душевного состояния с тем или другим фактом внешнего мира, известным из
других восприятий). Трудность для экспериментальной психологии
заключается в способности передачи, объяснения, описания моего
душевного состояния другому лицу и в правильном истолковании им моего
душевного состояния. Для этого нужны символы словесные,
письменные или иные, и в эти символы может быть вложено мною и
экспериментатором разное содержание, отчего и произойдут ошибки в толковании
им самых фактов и процессов, которые он во мне наблюдает. Это
содержание приводит нас к необходимости тщательнее рассмотреть условия
наблюдения чужой душевной жизни — по ее знакам, выражениям и
проявлениям.
III
Наблюдение и истолкование чужих душевных состояний, в
противоположность самонаблюдению, не только гораздо труднее и сложнее
внешнего наблюдения физических фактов, но оно в известных случаях прямо
невозможно и не может зависеть от доброй воли и искусства наблюдателя.
Особенная сложность его заключается в том, что к тому механизму
внешнего восприятия, который мы выше описали, присоединяется еще весьма
сложный механизм выражения своего душевного состояния другим
субъектом, или психическим существом, — в физических знаках и
символах. Этот механизм выражения имеет все те же моменты, как и механизм
восприятия, но они даны в обратном порядке. Психическое состояние
производит известные изменения в центральной нервной системе,
передаваемые по нервам в мышцы, которые и производят соответственное
физическое движение, извне нами наблюдаемое, — будь это движение мышц лица,
органа речи или других органов наблюдаемого субъекта. Если такие
движения рефлекторны, то они имеют, конечно, известное постоянство,
правильность и закономерность, дающую возможность судить о душевном
состоянии другого существа. Но ведь такие рефлекторные выражения,
преобладающие у животных и у маленьких детей и соответствующие
более простым, часто бессознательным или полусознательным душевным
состояниям, постепенно ослабевают и вытесняются произвольными и
намеренными, руководимыми сознанием выражениями душевных состояний у
людей взрослых, развитых, достигших самосознания. Но тут-то и
наступают всевозможные трудности для наблюдателя.
Важнее всего то, что человек развитой в большей или меньшей степени
научается не только отчетливо выражать, но и скрывать свои душевные
состояния — ощущения, мысли, чувства, эмоции, стремления, желания,
намере113
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ния. Слово, как самое важное орудие выражения душевных состояний, есть в
то же время лучшее орудие притворства, скрытности. L'art de la parole, —
справедливо заметил Даламбер, — est si pras de Tart du mensonge1. «Чужая душа —
потемки », если только человек сам желает, чтоб она была потемками для
окружающих. Очевидно: для наблюдения чужой душевной жизни необходимо,
чтобы другой человек добровольно и искренно допустил нас к этому
наблюдению, а там, где мы наблюдаем душевную жизнь других существ без их
согласия, тайком, урывками, мы в состоянии приходить только к догадкам и к самым
общим и приблизительным выводам, могущим иметь только практическое, а не
теоретическое, т. е. научное, значение. Оттого люди обыкновенно так плохо
понимают друг друга, так мало знают, так неверно толкуют, приписывая
другим не те мысли, чувства, мотивы деятельности, которые действительно их
одушевляют. «Судить по себе» — самое обычное дело; вкладывать в другого
свое психическое содержание — для многих роковая неизбежность.
Истинное понимание чужих душ дается только людям с самым богатым,
разнообразным и глубоким собственным душевным содержанием. Гениальные сцены
Достоевского — разговоры следователя Порфирия Петровича с
Раскольниковым и три свидания Ивана Карамазова со Смердяковым могут служить
лучшей иллюстрацией той фатальной невозможности проникнуть в чужую душу
«без согласия наблюдаемого субъекта» и той высшей проницательности,
которою обладают некоторые художники с богатым собственным душевным
содержанием — в понимании изгибов чужой душевной жизни, о которых мы
только что говорили. Психологическое наблюдение над другими, без их
участия, по остроумному выражению. Достоевского, делает в результате
«психологию о двух концах ». Свободное красноречие прокуроров и адвокатов
находит себе пищу в шаткости результатов психологического наблюдения чужих
душевных процессов, а суд присяжных — глубоко психологическая попытка
«методом коллективного самонаблюдения » исправить ошибки «внешнего »
психологического наблюдения, ибо «суд совести » есть, конечно, прежде всего
суд, основанный на самонаблюдении.
Но и помимо трудности познавания чужой душевной жизни при
помощи внешнего наблюдения, без воли и согласия наблюдаемого лица, есть
другие непреодолимые затруднения в этом роде психологического
познания. Затруднения эти заключаются: 1) в грубости средств, которыми
обладает человек для выражения своей душевной жизни, 2) в разнообразии
индивидуальных способов внешнего выражения одних и тех же душевных
процессов и явлений, 3) в полной возможности субъективного толкования
чужих душевных состояний.
Грубость и бедность средств, которыми обладает человек для
выражения своих душевных состояний, лучше всего подтверждается тем
факИскусство слова подобно искусству выдумки (фр-).
114
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
том, что способность более или менее адекватного (т. е. точного и
отчетливого) выражения сложных душевных процессов, идеально или реально
переживаемых субъектом, считается высшим и самым трудным искусством.
Все мы более или менее отчетливо переживаем и понимаем душевную
жизнь тех людей, которые изображаются великими писателями в их
художественных и особенно в драматических произведениях; но правдивое
выражение этих понимаемых нами душевных процессов в мимике, жестах,
движениях, в интонации речи, в модуляциях голоса есть редкое искусство,
которое приобретается некоторыми актерами, при особых природных
талантах, долгим и упорным трудом. И мы ценим в актерах именно их
способность своею тонкою игрой заставлять всех зрителей переживать более
или менее полно душевную жизнь изображаемых им лиц. Большинство
людей не только не обладают способностью и искусством передавать
идеально переживаемую чужую душевную жизнь, но и отчетливо отражать в
выражениях свою собственную реальною психическую жизнь, когда они
даже искренно хотят, чтобы другие ее поняли и проявили к ней сочувствие.
Как больно страдают от этой неспособности — верно и ясно передать свои
мысли, чувства, желания — не только маленькие дети, но позднее
школьники и школьницы, потом влюбленные и мечтающие юноши и девицы,
затем и иные взрослые и разумные люди, для которых завладеть искусством
передачи своих идей, настроений и стремлений — неодолимо трудная
задача. Зависит это от природной бедности и условности средств выражения.
Мимика физиономии, жестов и движений отражает у большинства
людей лишь самый общий тон переживаемых ими чувствований, эмоций,
аффектов. Тонкие и быстрые переливы чувств, вариации в смене желаний и
волнений и, особенно, сложные процессы мысли мимика неспособна
выразить. Поэтому толкование игры величайших актеров, при всей ее тонкости
и совершенстве, все-таки бывает весьма разнообразно и противоречиво в
подробностях. Слово — самое сильное и богатое ресурсами орудие
выражения душевной жизни; но и оно передает только общие итоги и общие
этапы реального душевного процесса, а не все тончайшие изгибы душевной
деятельности и моменты умственного или даже эмоционального процесса.
Вместе с тем слово как средство отчетливого выражения душевной жизни,
очень сложное искусство, которым обладают немногие и которое
приобретается сравнительно поздно. Чтобы правильно пользоваться словом для
выражения своих душевных состояний, надо глубоко владеть словом,
уметь взвешивать слова, знать все оттенки их значения, подбирать их в
известной связи и последовательности. Вся эта работа и самое произнесение
слов требуют известного времени, далеко не соответствующего скорости
смены самих мыслей и других душевных процессов. Поэтому самый
лучший оратор-импровизатор в своей быстрой и плавной речи передает только
итоги своих умственных операций и душевных настроений, а не весь
реаль115
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ный процесс мысли и чувствований, в нем совершающийся. Для передачи
этого последнего у человека, если б он и пожелал этого, нет пока никаких
средств. Оттого даже когда привычные мыслители-диалектики спорят друг
с другом, то они редко совершенно точно понимают друг друга и иногда,
после долгого обмена мнениями, приходят к счастливому открытию, что
они в существе дела согласны между собою и «спорили только о словах».
А мысли их уже были даны готовыми сначала, но не было средств их
выразить так ясно и отчетливо, чтобы передать друг другу сразу.
Такие факты, конечно, зависят не только от бедности способов
выражения душевного процесса (и мимика, слово между прочим всегда
отстают в развитии своем от развития внутренней душевной гибкости),
но и от «относительности значения» всех знаков и символов
выражения. Разнообразие языков, их грамматического и даже логического строя
ясно указывают на то, что слово — совершенно условный и
относительный знак понятия. Но и между индивидуумами, пользующимися, для
выражения психической жизни своей одним и тем же языком,
возможно большое разногласие в способе пользования словами, оборотами речи
и теми или другими грамматическими построениями для выражения
мыслимых ими понятий, слагающихся в их уме суждений и
умозаключений, а потому — часто — взаимное непонимание людей основано
только на различном понимании слов и терминов. Мимика лица и жестов
тоже не заключает в себе ничего абсолютного и непосредственно
закономерного. Как остроумно доказал Дарвин в сочинении «О выражении
чувствований у человека и животных», даже некоторые, самые
привычные и общие способы выражения душевных состояний у людей суть не
что иное, как наследственные привычки и глубокие переживания из иных
эпох развития человеческого существа. Попытки целого ряда
серьезных и талантливых писателей (кроме Дарвина) создать точную науку о
выражениях, — писателей, между которыми достаточно упомянуть
Лафатера в XVIII ст., Чарльза Белля («Анатомия и физиология
выражений», 1806), Лемуана, Грасиоле, Дюшенна («Механизм физиономии»)
и д-ра Пидерита («Мимика и физиономия»), пока не увенчались
успехом. Опыты, начатые Дюшенном1 с целью определить путем искусственного
раздражения отдельных мышц лица и их групп, однообразные для всех людей
системы мышечных сокращений, соответствующие определенным эмоциям,
чрезвычайно интересны, но вряд ли дадут какие-либо научно ценные результаты.
Ведь способы мимического выражения все-таки останутся в значительной
степени индивидуальными. Это доказывается уже различием нравов у
разных народов и в разных классах общества относительно способов
взаимного приветствия, манер и приемов держать себя в обществе и выражать
См. его атлас в упомянутом сочинении.
116
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
друг другу симпатию, антипатию, уважение, презрение, ненависть и т. д.
Но и у того же народа в том же обществе и той же семье способы
индивидуального выражения чувств и волнений, передачи мыслей, и прочее, —
весьма разнообразны. Одни люди плачут, когда другие смеются, — одни
выражают бурно и ярко ничтожные чувства и слабые эмоции, другие выражают
слабо глубокие чувства и сильные аффекты, а третьи совсем их скрывают в
себе, или даже умеют выражать противоположное тому, что чувствуют.
Все зависит от темперамента, характера, преобладающих склонностей и
идей. Оттого даже великие актеры выражают одни и те же драматические
положения, порывы страсти и иные душевные движения различными
способами и манерами, хотя часто одинаково совершенно. Подобно тому, как одну и
ту же мысль можно выразить разными словами и их комбинациями не только
на различных, но и на одном и том же языке, так и путем мимики одни и те же
душевные состояния — эмоции, чувства, стремления — могут быть
выражаемы различными путями и способами, которые в целом своем составе
одинаково верно передают общий тон душевного состояния, но однако, как мы видели,
еще не выражают тонких индивидуальных оттенков и изгибов душевной
жизни данного субъекта в данный момент его сознания.
Поэтому-то возможно и неизбежно совершенно субъективное
толкование чужих душевных состояний по их выражениям в слове и мимике.
Чужое выражение лишь постольку является символом чужого душевного
состояния, поскольку оно заставляет самих нас идеально переживать это
самое душевное состояние. Таким образом, в наблюдении и истолковании
чужой душевной жизни все дело сводится именно к тому, что я сам
переживаю душевное состояние, аналогичное душевному состоянию
ближнего. Тожества тут никогда не может быть, а может быть именно только
большая или меньшая аналогия, и в конце концов наблюдение, очевидно все-таки
и здесь сводится к самонаблюдению. Возможно широкое и разнообразное,
частое и внимательное наблюдение чужих душевных состояний и
процессов чрезвычайно полезно и важно для психолога в том отношении, что оно
заставляет его идеально переживать под влиянием общения с другими
субъектами целый ряд таких душевных состояний, которые могли бы в его
собственном сознании и опыте никогда и не встретиться, — так что этим
путем значительно и даже необозримо расширится сфера его
самонаблюдений. Но совершенно ясно, что было бы непростительной иллюзией
предполагать, что, наблюдая других, мы наблюдаем их подлинную душевную
жизнь, а не свою собственную, ими порождаемую, И тут-то выступает на
сцену важность известной организации, т. е. природных способностей и
таланта человека — путем воображения и внутреннего творчества
постоянно идеально перевоплощаться в другие личности и объективно жить их
жизнью. Это — дар, особенно свойственный гениальным художникам,
актерам и некоторым психологам и мыслителям, — природный дар,
требую117
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
щий однако развития, работы и достигающий настоящей высоты
«искусства » лишь в редких личностях. Замечательна при этом та черта, что самые
лучшие художники-наблюдатели, обладающие способностью тонкого
наблюдения чужой душевной жизни и переживания ее, тем не менее иногда
весьма неудовлетворительно, как и все смертные, понимают и толкуют
душевные процессы тех реальных личностей, с которыми сталкиваются и даже
живут под одним кровом, в непрерывном общении1.
Это непонимание близких людей со стороны великих
художниковпсихологов иногда даже пропорционально высоте их таланта творческого
перевоплощения в чужие психические личности, что особенно наглядно
доказывает верность мысли, что художник воспринимает и переживает не
реальные чужие душевные процессы, а лишь свои собственные, идеально
построенные силой воображения и понятые глубиной самонаблюдения.
Любопытно, что даже и в жизни простых смертных заурядным является
факт «наименьшей степени» понимания душевной жизни самых близких
людей: муж часто не понимает жену, жена не понимает мужа, родители не
понимают детей, дети — родителей, тогда как те же люди иногда
сравнительно хорошо умеют понимать и толковать душевный склад тех ближних,
с которыми реже сталкиваются. Отчего это происходит? А именно оттого,
что в толкование чужой душевной жизни всегда входят элементы личного
переживания, воображения, рассуждения и умственного творчества: при
частом общении все более и более накопляется этих чисто субъективных
элементов, которые глубже и ярче запоминаются, нежели чисто
объективные факты и проявления чужой душевной жизни, и потому пропорция
субъективных элементов в их отношении к объективным все более и более
возрастает, и может наступить момент, когда уже никакие новые
«объективные» проявления настоящей душевной жизни окружающих не в
состоянии вытеснить ложного и извращенного «субъективного » образа
личности близкого нам человека. Тогда и наступает часто та катастрофа полного
душевного разрыва, которая так известна из наблюдения жизненной
практики, и которая является обычной основой семейных драм: непримиримых
ссор между родственниками и домашними, между старыми друзьями и
близкими товарищами.
Из сделанного нами краткого очерка основ и свойств процесса
наблюдения чужой душевной жизни, надеемся, достаточно выяснился тот
факт, что главную основу этого наблюдения составляет опять
самонаблюдение, и что для выполнения задачи строго научного анализа чужой
душевной жизни, на основании ее выражений, помимо
самонаблюдения, нет никаких точных и незыблемых критериев. Правда, мы
обладаем как будто бы способностью какого-то непосредственного, не
поддаИсторические примеры таких фактов достаточно многочисленны и всем известны.
118
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ющегося никакому рациональному анализу, но иногда замечательно
тонкого проникновения в чужую душевную лабораторию и — по глазам,
по неуловимым в отдельности черточками мимического выражения,
интонациям голоса и т. п. — умеем верно отгадывать душевное состояние и
мысли других людей, даже если они самым тщательным образом
скрывают их от нас; но можно ли использовать такой, иногда исключительной,
способностью для целей научного изучения и анализа? Чем объяснить
указанные только что факты? Особыми ли, неизвестными еще науке
путями и органами психического общения, аналогичными тем, которые лежат в
основе гипнотического воздействия и подчинения гипнотизированию
чужой волей и сознанием, или обычными, особенно интенсивно и быстро
происходящими (незаметными для самосознания) процессами восприятия,
умозаключения и творчества, которые совершаются в наблюдателе и
обнаруживают особенную, но совершенно нормальную чуткость его нервной
системы? Предоставляем решение этого любопытного вопроса будущей
психологии. Во всяком случае, факты доказывают, что подобное
интуитивное чтение в чужих душах — мыслей, чувств, настроений, намерений
все-таки в редких случаях бывает безошибочно, но гораздо чаще приводит
к промахам и роковым недоразумениям. Отсюда ясно, что дело сводится в
конце концов к тому же процессу самонаблюдения, т. е. симпатического
переживания и наблюдения в своем самосознании душевных состояний
других субъектов, под влиянием неуловимо быстрой ассимиляции
душевных настроений. Если мужчина по взгляду женщины (или обратно)
угадывает ее сильную любовь, или непонятным для него путем, по взгляду же,
обнаруживает, что другой человек ему солгал, или по неуловимой мимике
верно определяет, что именно хотел сказать его собеседник, хотя — на
основании слов его — этого решить было невозможно, или отгадать
чужую, тщательно скрываемую душевную тревогу, заботу, надежду, то во
всех этих случаях он все-таки наблюдает непосредственно свои
собственные мысли, чувства, волнения, симпатически пробужденные общением с
другим человеком. И потом, если он часто отгадывает верно, то еще чаще
ошибается, воображая превратно, что его любят, когда его только
жалеют, что его серьезно обманывают, когда его морочат и над ним
подсмеиваются, что его боятся, когда его на самом деле презирают, что его
ближний страдает нравственно, когда в действительности у него только болит
и ноет зуб...
«Чужая душа — потемки», и всякое наблюдение есть только
видоизмененное самонаблюдение. Таков общий результат нашего анализа.
Оттого хорошие люди считают дурных хорошими, а другие приписывают
хорошим дурные мотивы. Суждение о реальной жизни других людей всегда более
или менее субъективно, и объективным может быть только очищенное
логическою мыслию от всяких субъективных элементов самонаблюдение.
119
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Отсюда вытекает необходимость совершенно своеобразного толкования и
особенной постановки психологического эксперимента. К анализу
вопроса об основах и задачах психологической экспериментации на
указанной нами почве мы теперь и перейдем.
IV
Возможен ли вообще чисто психологический эксперимент? Вопрос мы
ставим таким образом потому, что опыт последних десятилетий в
достаточной мере доказал возможность и пользу смешанных — психофизических и
психофизиологических — экспериментов. Однако в нашей науке
господствуют еще довольно сбивчивые понятия об отношении этих форм эксперимента к
чисто психологическим опытам. «Психофизический эксперимент, — говорит
Вундт1, — ставит себе задачей производить путем физических воздействий
изменения в состоянии сознания, из которых можно было бы делать
заключения относительно происхождения, состава и течения «во времени »
психических процессов. Поэтому его цели совершенно отличны от целей
физиологического эксперимента, который исследует всегда только физические
жизненные процессы, между тем как в психофизическом эксперименте
физиологические воздействия служат исключительно для исследования
психических явлений и их законов. Этот эксперимент пользуется поэтому всегда
внутренним восприятием (innere Wahrnehmung), которое он, однако,
старается освободить от неустойчивости, какой оно само по себе отличается, строго
урегулированною принудительностью физиологических воздействий »2.
Психофизический эксперимент, — продолжает Вундт далее, — ставит себе три
логические задачи: 1) выяснение отношений, в которых элементарные
психические феномены находятся к сопровождающим их физическим и
физиологическим процессам (метод психофизики в тесном смысле), 2) исследование
психологического состава и законов образования сложных представлений,
3) исследование течения (пробега — Verlauf) «во времени» представлений по
их количественным и качественным отношениям»3. «Последние два метода
относятся к экспериментальной психологии в собственном смысле. Здесь
физическое воздействие является вспомогательным средством для вызывания
известных психических реакций ».
Изложенные воззрения Вундта на отделы и задачи экспериментальной
психологии, конечно, особенно интересны, так как нет сомнения в том, что
именно неутомимым исследованиям этого германского ученого мы обязаны
1 Logik. II. Methodenlehre. Lpz., 1883. С. 483.
2 Там же. С. 484.
3 Этот отдел экспериментальной психологии в последнее время получил
преимущественное название психометрии.
120
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
развитием и обособлением экспериментальной психологии в отдельную
специальную науку с обширным числом новых задач, методов точного
исследования и с остроумными приспособлениями в виде множества психофизических
приборов, что и привело к учреждению в европейских и американских
университетах десятков богато снабженных психофизических кабинетов и
лабораторий. Но несмотря на большой авторитет Вундта, мы осмеливаемся
высказать мысль, что Вундт дает недостаточно точное и ясное определение задач
настоящей психологической экспериментации, путая в одном смутном
понятии психофизики вообще настоящую психофизику с психофизиологией и
«экспериментальной психологией» в тесном смысле, от чего зависела
отчасти односторонность и недостаточная плодотворность (в психологическом
отношении) работ, которые производились до сих пор, как в его лаборатории,
так и в других, устроенных по ее типу1.
Главных ошибок Вундта в определении задач и разграничении
областей экспериментальной психологии две. Одна заключается в том, что,
безусловно признавая общее положение, что «вся психология основана на
внутреннем опыте2, он все-таки преувеличивает вспомогательное
значение внешнего опыта в психологической экспериментации. Другая состоит
в том, что он не различает достаточно ясно трех совершенно раздельных
задач в области психической экспериментации в обширном смысле слова.
Скажем сначала о последней ошибке. Изучая душевную жизнь, мы
можем логически ставить себе три задачи, но не те, о которых говорит
Вундт, а именно I) определение зависимости и связи психических
явлений и процессов с физическими явлениями и воздействиями среды,
2) определение связи и зависимости душевных явлений и процессов от
физических процессов и анатомических условий в организме, 3)
определение чисто психических отношений — связи и зависимости между
Когда мы писали эту главу, мы еще не имели в руках недавно вышедшей
переработанной Вундтом 2-й части II тома его Methodenlehre (Stuttgart, 1895). Теперь нам
удалось достать ее. Хотя здесь В. значительно расширяет взгляд на
психологический экспер. и его перспективы, но все же повторяет мысль, что во всех психологич.
экспериментах непременно нужны «physische Einwirkugen» и что «im diesen Sinne
kann es natürlich nur psychophysische Experimente geben», хотя изучение
физических воздействий только Hilfsmittel, а не Zweck (См. главу «Die allgemeine
Bedeutung der experimentellen Methode für die Psychologie »). Точно так же в
другой главе (Die Physiologie als psychologische Hillfswissenschaft und die Psychophysik)
он по прежнему настаивает на том, что «Alle experimentellen Methoden der
Psychologie nehmen die Physiologie in Anspruch», что в эксперим. психологии
«es keine rein psychischen, sondern nur psychophysische Objectegiebt» (c. 227). Мы
с обоими взглядами несогласны.
Там же (1-е изд.). С. 482 и след. Ср. 2-е изд. С. 170 и след.
121
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
психическими явлениями, законами процессами как таковыми1.
Первая область исследований составляет содержание психофизики. Сюда
относится, например, проблема Фехнера о зависимости интенсивности
ощущений от интенсивности раздражений, а также проблема
психометрии, состоящая в определении времени различных психических
реакций на более или менее сложные внешние раздражения. Вторая область
есть область психофизиологии. Сюда относятся, например,
исследование проблем локализации душевной деятельности в мозгу и других
центрах нервной системы; исследование строения и функций
периферических органов ощущения в связи с ролью их в процессах восприятия,
а в частности, например, исследование значения мышечного чувства
в представлениях о пространственных отношениях и протяженных
величинах; исследование вопроса о действии ядов на сознание через
посредство производимых ими изменений в нервной системе; исследование
зависимости различных психических расстройств от патологических изменений
в строении и функционировании нервной системы и т. п. Третья область
есть собственно область психологии, и сюда относится всестороннее
изучение законов связи, зависимости и иных отношений всех психических
процессов и явлений между собою в отношении состава, преемства, способов
возникновения и развития и т. д. Вундт называет и эту область изучения,
насколько оно может быть, по его мнению, поставлено на строго
экспериментальную почву, «психофизикой в обширном смысле ». Но правильно ли
такое расширение понятия «психофизики»?
Несомненно, что Вундт, а за ним и десятки и даже сотни его
последователей, впадают здесь в странное недоразумение. Из того факта, что
психическое взаимодействие субъектов, взаимное их психическое влияние друг
на друга и искусственное пробуждение в других лицах новых психических
состояний, для целей экспериментального исследования, происходит при
посредстве физической среды и с участием физиологических процессов, —
отнюдь не следует, что это влияние, воздействие и их эффект в сознании
должно называть «психофизическими ». Ведь из того факта, что
психические состояния, т. е. ощущения, восприятия, представления и даже
процессы мышления, являются необходимыми условиями (conditio sine qua non)
в опытах физика, химика и физиолога, мы не делаем заключения, что
физику (науку о явлениях вещества) надо называть психофизикой, химию —
псиВ упомянутом втором издании 2-й части II тома Methodenlehre (с. 173 и ел.) Вундт
уже и сам говорит о третьей стадии в развитии экспериментальной методы в
психологии, когда признана была возможность изучать отношения и связи чисто
психических процессов между собою, а не с физическими и физиологическими
процессами, хотя и придает наблюдению этих последних и пользованию ими, как
средством, то преувеличенное значение, на которое мы только что указали.
122
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
юхимией, физиологию растений и животных — психофизиологией и т. д.
{этих науках мы изучаем физические, химические и физиологические
процессы и явления в веществах и организмах, хотя и при посредстве своих
щущений и вообще психических процессов (ибо иное изучение и познание
iero-либо и невозможно), но совершенно независимо от вопроса о природе
>тих последних и о непосредственном влиянии их на химические,
физичегкие и физиологические учения науки. Точно так же, если в
психологиче:ком наблюдении и даже в самих психических процессах и психическом
взаимодействии субъектов присутствуют известные физические и
физиоюгические моменты, то это еще не значит, что психологию следует
называть психофизикой или психофизиологией, как скоро она задается целью
изучения чисто психического содержания того или другого субъекта
независимо от сопровождающих физических и физиологических процессов.
Иначе мы спутаем все понятия наук: история окажется тоже органической
химией и физиологией, так как в организмах исторических деталей
совершаются химические и физиологические процессы, филология окажется
физикой и физиологией, так как в развитии языка играет роль звуковой
элемент и участвуют органы речи, гистология окажется психологией
зрения, так как ее наблюдения слагаются при помощи зрительных ощущений,
и проч.
Физическое и психическое в природе и познании — неразделимы;
различные роды физических процессов (например механических, чисто
физических, химических и т. д.) тоже взаимно переплетаются в реальных
фактах жизни природы. Но предметы и задачи наук все-таки различаются
тщательно, сообразно объектам, ими изучаемым и мысленно отлекаемым
из того реального единства «природного существования», в котором они
сложно перепутаны.
Чистая экспериментальная психология, как и вообще психология, есть
поэтому та наука, которая изучает законы и связи душевных явлений,
состояний, фактов, — совершенно независимо от значения и характера
физических и физиологических явлений и процессов, сопровождающих
психическую деятельность и психическое взаимодействие субъектов.
И в этой психологии, как мы выше показали, главную роль играет
самонаблюдение, или внутренний опыт, а внешний опыт имеет значение
совершенно побочное, — как в химии и физике, наоборот, главная роль принадлежит
внешнему опыту, тогда как внутренний, посредством которого мы
несомненно отдаем себе отчет, в своих «ощущениях химических физических явлений »
и в мыслях о них1, имеет значение второстепенное. Недостаточное сознание
этого факта было второй роковой ошибкой Вундта, которая всецело
объясняется тем, что он, в сущности, разделяет отчасти предрассудок позитивистов и
См. выше с. 109.
123
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
материалистов о коренной «субъективности, недостоверности, и неточности »
самонаблюдения как органа познания1. Ему кажется, что внутренний опыт, на
котором зиждется, однако, «вся психология », и основанное на нем
объективное наблюдение психической жизни может быть объективным и точным
«только под условием принудительного воздействия строго урегулированных
физиологических условий психической деятельности ». Но можно ли сказать, что,
например, «экзаменатор», проводящий экзамен допроса ученика
с целью определения уровня его познаний в известном предмете, который он
потом оценивает точною цифрою балла, да еще часто с минусом или плюсом в
придачу, — озабочен «принудительным урегулированием физиологических
условий своего умственного общения с учеником? » Нам скажут, что этот
эксперимент и не бывает никогда точным, вследствие чего баллы, — да еще с
минусами и плюсами, — столь же игрушечно-точные измерения действительных
познаний учеников, как и показания известных игрушечных «thermometres
d'amour » или лепестков маргаритки относительно действительной силы
страсти молодых людей разного пола друг к другу. С этим мы волне согласимся.
Но такие неточные чисто психологические эксперименты (без примеси
физики и физиологии) нисколько не исключают возможности более и даже
совершенно точных, хотя и столь же отдаленных от приемов физики и
физиологии. В экзаменных экспериментах нисколько не соразмерены
результаты оценки (общий вывод о познаниях ученика в языке или в известном
отделе математики, выражаемый баллом) с действительными средствами,
которые употребляются для их получения. Но если точно соразмерять
психологические задачи с путями и средствами, которые даны для решения,
то a priori можно предполагать, что получаемые результаты будут точны и
строго научны.
Поэтому мы теперь несколько видоизменим и подробнее разберем
вопрос, поставленный в начале настоящей главы, а именно: возможен ли
чисто психологический, но совершенно точный, научно достоверный
эксперимент, как путь к решению разнообразных психологических проблем?
V
Прежде всего нужно обозреть возможные виды или формы
настоящего психологического эксперимента, независимо от вопроса о его
точности и научной достоверности. Теоретически психологический эксперимент
можно делить на три главные вида: 1) эксперимент над собою, над своими
собственными психическими состояниями, процессами и деятельностью,
2) эксперимент над другими психическими существами без их ведома,
согласия и участия, 3) эксперимент над другими психическими существами с
См. во 2-м изд. главу «Die zufällige innere Wahrnehmung».
124
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
их ведома, согласия и при их сознательном участии. Возможны ли на
самом деле все эти формы психического эксперимента и каково их значение?
Экспериментом или опытом в обширном смысле слова называется
«всякое произвольное изменение человеком каких-либо явлений для
получения предполагаемого определенного результата, проверяемого
сознанием». Например, если человек сеет в землю семена растения, чтобы получить
это растение, и проверяет результаты, то он совершает эксперимент. Если
он устраивает печь, чтоб она нагревала его жилье, то он производит
эксперимент. Если художник расставляет предметы так, чтоб они производили
известное художественное впечатление, то он делает эксперимент. В
науке экспериментом называется такое произвольное изменение явлений,
которое могло бы дать в результате возможность более достоверного и
полного их познания. Но цель познания есть только одна из
многочисленных целей, которую может себе ставить экспериментатор, когда он
намеренно производит новые явления или изменяет отношения существующих.
Поэтому научный эксперимент есть только частная форма эксперимента в
обширном смысле.
В этом обширном смысле слова вся наша психическая жизнь,
насколько она произвольна, т. е. направляется и видоизменяется волей в виду
известных целей, есть «непрерывная цепь экспериментов над собою» и,
точно так же все наше активное психическое воздействие на других людей и на
другие существа вообще, насколько оно имеет сознательною целью
изменение их душевных состояний и поступков, есть «ряд экспериментов
второго и третьего из указанных выше видов»1.
Мы экспериментируем над собою, когда идем в театр или на концерт,
чтобы доставить себе удовольствие смотрением пьесы или слушанием
музыки. Мы совершаем психологический эксперимент, когда берем книгу и
читаем ее для того, чтобы чему-либо научиться или просто развлечься.
Всякое путешествие, ради развлечения, есть психологический эксперимент над
собою. Изложение своих мыслей в письме или в статье есть тоже
психологический эксперимент, но уже не только над собою, а и над другими людьми,
«для которых» пишешь. Игра актера есть психологический эксперимент его и
над собою, насколько она должна явиться точным и правдивым
воспроизведением известного типа, характера или психического положения, и над
зрителями, на которых игра эта должна произвести известное психическое действие.
Такой же «двойной психологический эксперимент » — над собою и над
другими — производят все художники, ораторы, педагоги, когда они творят,
излаЧто касается до нашей пассивной психической жизни, то Вундт справедливо
замечает, что вся она есть род эксперимента, производимого над нами природой (jeder
Sinneseindruk ist gewißermassen ein Experiment, das die Natur an uns anstellt, стр. 175,
2-го изд.)
125
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
гают, учат. Всякий спор и умственное состязание есть также двойной
эксперимент — над собою и другими. Психологические эксперименты над другими
мы можем делать с их ведома, участия и согласия, или без их ведома и участия,
даже против их воли — насильно. Воспитание является совокупностью
экспериментов того и другого порядка: наказание есть, например, всегда
«насильственный» психологический эксперимент. В судебное следствие, которому
подвергаются виновники преступления, входит всегда ряд экспериментов
второго порядка. Допрос свидетелей и очная их ставка могут заключать в себе также
черты эксперимента «без согласия и сознательного участия » тех, кто ему
подвергается. Экзамен, устный и письменный, есть обыкновенно эксперимент,
производимый с согласия и участия экзаменующегося, точно так же, как и эксперимент
актера, музыканта, писателя, и художника вообще, — над зрителем, слушателем,
читателем и созерцателем художественного произведения.
Мы не будем умножать этих примеров, имевших целью только
показать, как разнообразны, обильны и повседневны чисто психологические
эксперименты человека над собою и другими людьми, совершенно
чуждые всякого психофизического и психофизиологического элемента.
Всеми этими и другими им подобными способами искусственного изменения
психического содержания, — своего и чужого, — можно пользоваться
для целей психологического изучения. Вопросы, которые подлежат
теперь нашему обсуждению, состоят в том: 1) какое относительное
значение для науки, т. е. для точного и вполне достоверного теоретического
познания психических явлений и законов, могут иметь эксперименты трех
указанных видов, 2) как их обставить и организовать ради этой
научной задачи?
Рассмотрим сначала первый вопрос. Чисто психологические
эксперименты, совершаемые человеком над самим собою, имеют обыкновенно
практическое значение. Человек стремится в этих опытах доставить себе
известное удовольствие, обогатить свой ум знаниями, переработать свои
навыки и привычки, подавить известные чувства и склонности, выработать
свою волю и характер, выразить и воплотить в формы свою мысль, свое
чувство, продукты своего творчества, свои стремления и намерения.
Эксперименты над своею психическою жизнью могут иметь и теоретическую
задачу «научного самопознания», и есть, конечно, люди, которые, видя
главную свою цель и находя особенное удовольствие в познании законов
душевной жизни, способны отвлекаться в экспериментах над своими
психическими процессами от всякого практического интереса и даже
приносить эти практические свои интересы в жертву теоретической задаче
познания душевных явлений.
Но эти люди представляют редкое исключение даже среди
психологов, посвятивших всю свою жизнь познанию психологических законов.
Несомненно, что такие люди должны иметь кроме светлой головы и
науч126
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
но-философской эрудиции, большую дозу самообладания.
Рефлектирующие над каждым своим психическим процессом люди встречаются
иногда не только среди психологов, философов и художников, но и среди
остальных смертных. Но последние не умеют и не могут объективно и строго
научно обставлять эксперименты над своею душевною жизнью.
Поэтому, за крайне редкими исключениями, изолированный психологический
эксперимент над своею душевною жизнью не может иметь научно
объективной цены. Эксперимент над собою может приобретать настоящую
научную цену только при постоянной поверке его психологическими
экспериментами над другими людьми и существами; сам же по себе он может
только содействовать более глубокой научной постановке вопросов и
уяснению проблем психологии, но не может окончательно оправдывать
их решения.
При естественном взаимном недоверии людей психолог даже и не
поверит результатам эксперимента не только непсихолога, но и другого
психолога над самим собою, если они не проверены самолично, или не
подтверждены опытами других людей, — точно так же, как настоящий химик,
физик и гистолог не поверят результатам личного эксперимента своего
коллеги, если он не проверен ими самими или не подтвержден опытами
целого ряда других лиц и авторитетов науки.
Если спросить себя, что дает вообще характер «полной
достоверности экспериментальным выводам науки», то ответом будет, что эта
достоверность приобретается в науке, как и в судебном процессе,
показаниями свидетелей. Если бы даже сам покойный Гельмгольц констатировал
известное новое физическое явление или факт, если бы Менделеев
открыл новое химическое соединение, Вальдейер новую органическую
клетку в мозговой коре, если б покойный Пастер открыл новую патогенную
бактерию, то мы бы им не поверили до тех пор, пока их наблюдения и
выводы не подтвердили бы другие специалисты по физике, химии,
гистологии и бактериологии. Следовательно, и эксперименты психолога над
самим собою нуждаются в подтверждении других психологов или
других психических субъектов, испытавших те же явления, процессы и
психологические факты, которые добыты «самоэкспериментацией
психолога». Нельзя делать окончательные выводы в науке на основании изучения
экземпляров предмета или явления, виденных одним только ученым, но
никому им не показанных. А психолог- экспериментатор свои подлинные
душевные явления никому показать не может. Поэтому в психологии,
более чем во всякой другой науке опыта, настоящее научное значение
может иметь только коллективный эксперимент. При этом, конечно,
показания специалистов и вообще лиц, более развитых и имеющих навык
в наблюдении и анализе явлений внутреннего опыта, важнее показания
неспециалистов и особенно людей, не привыкших к самонаблюдению,
127
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
например детей, — хотя специалист-психолог, экспериментируя над
собою, может иногда, как и натуралист, например физик, под влиянием
излюбленной теории впасть в заблуждение. Для устранения такого
заблуждения и нужна взаимная поверка самонаблюдения.
Общий наш вывод тот, что чисто психологические эксперименты над
собою, хотя они не только возможны, но могут иметь существенную
теоретическую цену, в смысле пособия при постановке научно-психологических
проблем, не имеют, однако, решающего значения для науки психологии без
экспериментальной проверки выводов посредством коллективного опыта.
Экспериментальная психология, несомненно, нуждается в «сравнительном
экспериментальном изучении психических явлений и процессов многих
психических существ». Но каковы условия и смысл этого изучения?
Ввиду всего сказанного нами выше о шаткости основ внешнего
психологического изучения чужой душевной жизни на основании ее выражений
и проявлений, совершенно ясно, что эксперимент над этой чужою
душевной жизнью без ведома, согласия и участия других существ, подвергаемых
экспериментации, не может иметь большой научной цены. И
действительно, если другое лицо нисколько не будет помогать нам, добровольно и
сознательно, в уяснении того, что оно душевно испытывает под нашим
влиянием и воздействием, то мы не будем иметь никакого ручательства в том,
что наше толкование его психических процессов, на основании их
выражений, строго объективно и правильно. Как можем мы об этом знать? Может
быть, мы судим по себе, или извращаем факты под влиянием предвзятой
теории, или неверно толкуем выражения? Объективного научного
критерия в таких опытах не может быть. Мы хорошо знаем трудное положение
экзаменатора, когда ученик не хочет или не может обнаружить пред ним
своих познаний, неприятное положение врача, когда больной не желает
рассказать ему своих ощущений, тяжелое положение судьи, когда
подсудимый искусно притворяется или запирается. Ключ от чужой души всегда
спрятан в сердце или в уме ее обладателя.
Несомненно, что если возможна научная чисто психологическая
экспериментация, то только на почве коллективного самонаблюдения, т. е.
добровольного и сознательного участия в психологическом эксперименте
нескольких лиц, самонаблюдения и показания которых могут быть
проверены друг другом. Но не безразлично при этом, как мы уже указали, какие
лица и в каких условиях участвуют в эксперименте. Ввиду некоторых
особенностей самонаблюдения, чрезвычайно важно правильно обставлять
указанные эксперименты — предупреждать в них обманы и самообманы.
И это общее правило приводит нас к необходимости более подробного и
тщательного анализа вопроса о способе организации чисто
психологических экспериментов для целей научного изучения психических явлений,
процессов и их законов.
128
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
VI
Двумя примерами мы попытаемся уяснить конкретную обстановку
этих экспериментов.
Десять лет тому назад, в 1884 или 85-м году, мы делали коллективные
психологические эксперименты вместе со студентами Новороссийского
университета, нашими слушателями, для определения форм и законов
ассоциации представлений. Читая курс психологии и разбирая законы
ассоциативного воспроизведения представлений, мы пришли — на основании
самонаблюдений и некоторых экспериментов над собою — к тому
убеждению, что законами смежности, последовательности, сходства и контраста
вовсе не исчерпываются все типы ассоциаций представлений и их
ассоциативного воспроизведения в памяти. Не говоря о причинной связи, которая
не совпадает с простою последовательностью представлений во времени и
которая признавалась некоторыми психологами ассоциативной школы за
особый принцип ассоциативного воспроизведения представлений, есть,
повидимому, ряд других логических отношений, управляющих
ассоциативным воспроизведением представлений, например их отношения
подчинения и соподчинения. Если я по поводу слова «дом» вспоминаю образ своего
дома в деревне, где я живу летом, то я от символа общего понятия
перехожу к конкретному символу частного представления, которое в него
входит. Если я по поводу произнесенного слова «болонка» мысленно
перехожу к представлению «лягавой», то это может совершиться не по закону
сходства или смежности, а по логическому закону соподчинения: ведь оба
представления связаны в понятии «собаки». Проверить присутствие или
отсутствие этого логического элемента в процессах ассоциации мы пробовали
экспериментально и должны сознаться, что для нас лично эти эксперименты
стали решающим фактором в дальнейших психологических воззрениях и
построениях. (Я лично с тех пор стал отвергать чисто механическую точку
зрения в объяснении законов душевных явлений). Предлагая двум-трем
десяткам слушателей записывать на бумаге по поводу нескольких
десятков слов, произнесенных на расстоянии известного числа секунд, первые
приходившие им в голову образы или представления, мы наглядно
убедились при совместном разборе нескольких сот записей, что процесс
ассоциативного воспроизведения представлений подчинен не механическим,
а чисто логическим законам. Пространство (смежность), время
(последовательность), причинность (зависимость), тожество и противоположность
(сходство и контраст), подчинение и соподчинение — таковы логические категории
ассоциативных соединений, и их решительно невозможно всецело подвести
под эмпирические законы ассоциации идей, придуманные английскими
психологами. Скорее прав Кант, что есть в нашем уме априорные логические и
психологические формы распорядка представлений. Таков был результат
на5 Российская психология
129
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ших экспериментов. Само собою разумеется при этом, что голые записи, как
объективные факты, не могли иметь никакого значения для выводов.
Приходилось проверять расспросами участвующих предполагаемый
действительный ход их мысли почти в каждом отдельном ассоциативном сочетании, и
некоторые случаи отвергать как негодные, вследствие невозможности проверки
их путем самонаблюдения участников эксперимента. Поэтому эксперимент
был именно коллективным самонаблюдением}. Мы впоследствии не имели
случая возобновить эти эксперименты, да и вообще придавали им тогда
чисто отрицательное, критическое значение приема доказательства
односторонности и неполноты ассоциативной теории: в то время мы даже
несколько сомневались в общем научном значении эксперимента в
психологии. Но вот явилось неожиданное экспериментальное же подтверждение
значения указанных опытов.
В сборнике «L'annee psychologique, Beaunis& Binet», первый том
которого (за 1894 г.) появился в начале нынешнего года в Париже, напечатано,
замечательное по широте приемов, оригинальное экспериментальное
исследование французских ученых Бине и Виктора Анри над законами памяти. Дело
идет об опытах письменного воспроизведения по памяти отдельных
произнесенных слов и целых фраз. Опыты производились и в низших классах училищ
над учениками, и в лаборатории над специально приглашенными для этого
лицами. Ввиду важного участия самонаблюдения в толковании объективных
данных (записей) последние эксперименты, конечно, должны иметь большие
значения. Результатом явились остроумно составленные статистические и
графические таблицы, а вывод из опытов над памятью фраз получился весьма
существенный и оригинальный, вполне подтверждающий общий вывод,
сделанный нами из произведенных в Новороссийском университете
экспериментов над процессом ассоциации. Память, как и ассоциация идей, как доказали
опыты Бине и Анри, подчинена известным логическим законам. «Les pertes de
memoire, — portent sur les parties accessoires du redt et non sur ses parties essentielles,
qui se trouvent ainsi comme dissequees; par parties essentielles, il faut entendre Celles
qui ont une importance psychologiquee et aussi celles qui ont une importance
logique. La memoire des phrases, — говорится ранее, — est vingt cinq fois
superieureä la memoire des mots isoles2) (L'annee psychologique, I, стр. 58-59).
Общий смысл этих выводов экспериментального анализа воспроизведений
Такие опыты над ассоциациями идей производились позднее и в лаборатории
Вундта (см. работу Е. W. Scripture в Philosophische Studien, 1891. VII. В. I Heft). Если
они не привели к одинаковым результатам, то потому, что задача
экспериментаторов была несколько иная (чисто психологическая). Здесь не место излагать эти
опыты подробно.
«Потери памяти относятся к второстепенным частям рассказа, а не к
существенным, которые этим путем как бы отсекаются одна от другой. Под существенными
130
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
памяти, по нашему мнению, тот, что ассоциация идей подчинена логике, а не
логика законам ассоциации идей. «Les enfants ont une tendence a simplifier la
syntaxe et a remplacer les mots dictus pas der synonimes du Isngage familier1).
Опять чисто логический закон — господства понятия над образом, а не
образа над понятием. Вот, для примера, чисто логический способ
воспроизведения на память (немедленно и через двадцать дней) двух фраз, заданных
экспериментаторами, причем крупный шрифт будет обозначать
преобладающие у большинства субъектов эксперимента воспроизведения,
а мелкий шрифт — слова, которые преобладающим образом подвергались
забвению:
1. Une vieille paysanne ägee de 64 ans qui habitait une petite maison des Recollets
avait conduit son troupeau aux champs. Pendant quy eile faisait de V herbe pour
ses animaux, une vipere cachee derriere les fagots s'elanga vers eile et la mordit
ä plusieurs reprises au poignet. La pauvre femme en est morte.
2. Dimanche plusieurs enfants s'amusaient ä faire marcher une machine
ä mortier. L'un d'eux, Victor Antiquet, eut sa main gauche ecrasee dans
Vengrenage. II a recu les premiers soins dans une pharmacie d'ouila eteporte
chez ses parents .
Выделив из текста слова, написанные крупным шрифтом и которые
лучше всего запоминались, мы, очевидно, получим логический скелет
данной мысли. И таких экспериментальных примеров основных законов
воспроизведения приведено авторами исследования на первый раз более
десяти. Мы от души приветствуем такого рода чисто психологическую
экспериментацию без физических приборов и физиологических
аппаратов, которая может быть доступна всем педагогам и даже родителям,
сколько-нибудь занимающимся психологией и логикой.
Нужно быть очень узким эмпириком и весьма посредственным
ученым, чтобы отрицать научное значение таких психологических
экспериментов и ставить их ниже физиологических и психофизических
опытов. Тот, кто решился бы утверждать, что это только статистика, а не
эксперимент, пусть подумает, сколько именно нужно раз и какому
чисчастями мы разумеем психологическую и логическую их важность. Память фраз в
25 раз превосходит память отдельных слов ».
Дети имеют наклонность упрощать синтаксис и заменять продиктованные слова их
синонимами из обычной разговорной речи.
«Старая крестьянка 64 лет, которая жила в маленьком доме Реколе повела в поле
свое стадо. Пока она готовила траву для своих животных, ехидна спрятавшаяся в
хворосте бросилась на нее и кусила ее несколько раз в кисть руки. Ъелраяженщина от
этого умерла. — В воскресенье несколько детей забавлялось приведением в ход
машины, одному из них, Виктору Антике, раздавило левую руку в колесах. Ему
сделана первая перевязка в аптеке, откуда его перевезли к его родителям ».
5*
131
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
лу наблюдателей посмотреть в микроскоп, чтобы убедиться в реальном
существовании известной клетки или бактерии. Одного раза, и
наблюдений одного наблюдателя тоже недостаточно. Вся наука основана на
статистике наблюдений, утверждений и уверенностей. Вся наука —
продукт коллективного наблюдения или же самонаблюдения. Другой
науки и не существует.
Но все-таки надлежит спросить себя, при каких условиях этого рода
эксперименты могут быть наиболее производительны для науки.
Бине и Анри при изложении системы своих экспериментов о
памяти откровенно рассказывают о тех помехах, какие встречали их опыты, — в
привычке учеников школы лгать учителям, списывать и лицемерить. В последнее
время в литературе психологии начинают входить в обычай вопросники,
обращенные к неизвестным лицам и просящие указаний этих лиц
относительно их самонаблюдений и субъективных опытов в той или другой
области психологических исследований (например, в области явлений
психической наследственности, ощущений, памяти, иллюзий,
правдивых галлюцинаций, состава сновидений и прочее)1. Все эти вопросники,
однако, не могут иметь почти никакого научного значения, — это все
равно, что обращаться к людям с вопросами о химическом составе
воздуха, о физических законах света и т. п. В психологических экспериментах
ученый прежде всего должен иметь дело с определенною личностью или
личностями. Если они ему не известны, то их показания не имеют для
него цены. Сознательный обман и бессознательный самообман могут
извратить результаты любого опыта2.
Первое правило всякого психологического эксперимента:
возможность полного доверия к личности, подвергаемой психологическому
испытанию, как и этой личности к психологу-экспериментатору, для чего,
конечно, необходимо непосредственно друг друга знать. Второе правило:
пользоваться каждым субъектом для эксперимента только в пределах его
психического развития, сознания и самосознания, которое определимо
опять лишь при непосредственном знакомстве (экспериментальным путем).
История «Вопросников» (которые ввел англ. ученый, друг Дарвина, Галыпон) и
главные психологические темы, которые при их помощи исследовались,
излагаются в упом. выше книжке Бине: Введение в эксперим. психологию. СПб.,1895.
С. 167, след.
Это отчасти признают и Вине, и Куртъе, указывая на малую достоверность
показаний лиц незнакомых и ответов анонимных (стр. 161), а также на малую цену
«вопросников », помещаемых в журналах, на которые отвечают единицы из сотен и
тысяч людей. Но не оттого ли ответы редки, что публика сама сознает их малую
цену для психологов, которые не знают и которым она не доверяет, ибо сама лично
не знает их?
132
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Если бы мы, экспериментируя над двенадцатилетним
мальчиком-гимназистом, попросили его дать нам отчет в его философском миросозерцании
и логических элементах последнего, то это было бы явным абсурдом, но
такой вопрос можно задать зрелым людям с известным философским
развитием. Допрашивая экспериментальную природу, мы не делаем ошибок
перспективы, ибо имеем с ней дело непосредственно. Физиолог не
спрашивает розовый цветок о его органах чувств и об организации его нервных
центров. Того же метода должно держаться в области «психической
экспериментации ». Нужно допрашивать психологически в пределах данного
и доступного субъекту, на основании наших непосредственных
наблюдений, психического содержания. Но и при таком ограничивающем условии
психологическая экспериментация может дать самые богатые результаты,
так как задачи экспериментальной психологии разнообразны,
всеобъемлющи и чрезвычайно глубоки. Мы теперь только наметим путь к их
открытию и уяснению, и со временем вернемся к более подробному обозрению
этих задач.
VII
Если бы педагоги, юристы и врачи были в то же время психологами, то
они могли бы быть отличными экспериментаторами в области душевной
жизни, так как они и без того, по самым профессиям своим, принуждены
постоянно психологически экспериментировать над другими существами,
с целью изучения их психической жизни или воздействия на нее. Если же
они теперь редко пользуются этими экспериментами для научных
обобщений, то обыкновенно потому, что не знают психологии, часто даже не
интересуются ею и не умеют правильно ставить задач, которые могли
подлежать их экспериментальному научному исследованию. В особенно
благоприятных условиях для психологической экспериментации находятся
педагоги. И несомненно, что успех их собственной деятельности был бы
гораздо значительнее, если б они экспериментально изучали душевную
жизнь своих учеников и воспитанников. Этим путем они лучше узнавали
бы почву, на которой сеют знания и принципы, и могли бы выработать
более сознательные и вернее достигающие своей цели приемы воздействия
на души воспитываемых. Со временем так и будет. Школы сделаются
именно обширными лабораториями для всевозможных психологических
экспериментов, ибо теперешнее обучение и воспитание, производимые
ощупью, без всяких сознательных психологических правил, без надлежащего
знания личности каждого воспитываемого и обучаемого, с
калейдоскопической сменою предметов преподавания и внушаемых ученикам взглядов,
без сомнения, — совершенная аномалия. Если такое воспитание не
окончательно уродует детей, их мышление, миросозерцание и характер, то
толь133
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ко потому, что интеллектуальная и нравственная природа их борется
против вредных воздействий школы и часто торжествует в этой борьбе, как
успешно борется физический организм против действия ядов и бактерий.
Всякий учитель, строго говоря, обязан быть
психологом-экспериментатором в известной области психологических вопросов и проблем.
Математику дан прекрасный случай экспериментально изучать логические
законы мышления, состав и законы умозаключений. Историку дана
возможность экспериментально изучать законы памяти и ассоциации идей,
а также природу нравственных чувств и стремлений детей. Филологу, с своей
стороны, удобно исследовать экспериментально и законы логической
работы мышления, насколько она выражается в построении речи и в
пользовании словом, как орудием мысли. Физику и натуралисту должно
экспериментально изучать ощущения и наблюдательные способности детей.
Необходимо только уметь ставить психологические задачи, умело
пользоваться самообладанием детей, направляя его в надлежащую сторону и
постепенно изощряя его, и заставлять работать над этими задачами весь класс,
заинтересовывая его результатами. При этом, конечно, нужны и
письменные ответы (тут же в классе) как средство объективной регистрации
фактов, и устные, которые должны служить способами анализа и проверки
добытого материала на почве самонаблюдения учащихся.
Задачи учителя-экспериментатора могут быть такие.
Учитель-математик, изложив ученикам теорему или математическое
правило, разъяснив предварительно законы умозаключения, сообщить
письменно порядок суждений и умозаключений, какими ученик способен
оправдать данную теорему или правило. Сличение и тщательный разбор
ответов может дать важные результаты для психологии мышления и для
логики, причем путем устных расспросов можно уяснить логические или
эмоциональные основания того или другого пути, который избрала мысль
каждого ученика в решении проблемы. Историк может предлагать
ученикам записывать своими словами сделанный им рассказ какого-либо
исторического события, и такие опыты будут совершенно аналогичны тем
которые производили Бине и Анри и которые были вкратце изложены нами
выше. Историк же может предлагать ученикам давать письменно
нравственную оценку очерченных им лиц или событий, и это даст обширный
материал для психологии нравственного чувства и вообще характера
детей, их нравственных воззрений и стремлений, для этики индивидуальной
и общественной (характер ответов по слоям общества, к которым
принадлежат дети). Филолог может тоже экспериментировать над памятью слов
и фраз, а также над логическими процессами мышления при упражнении
детей в переводах, пересказах и опытах пользования ими теми или другими
грамматическими правилами и стилистическими оборотами. Натуралист,
например физик, может делать разнообразнейшие опыты над
ощущения134
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ми детей и их наблюдательными способностями, предлагая письменное
описание виденных ими явлений, самостоятельную иллюстрацию
изложенных им ранее физических законов, и т. д. Исчерпать все задачи
педагогической экспериментации мы здесь не можем и не намерены. Без сомнения,
всякий педагог, познакомившись с содержанием наук — психологии,
логики, этики, найдет сам, без нашей помощи, множество вопросов, которые
могут подлежать экспериментальному исследованию при содействии
учеников различного школьного возраста. Эти опыты, если они будут
основаны на тщательных расспросах учеников относительно их самонаблюдений,
не только будут давать чрезвычайно важные материалы для научной
психологии, но, как мы уже сказали, будут помогать самим учителям в
понимании детской и юношеской души и в руководстве ее развитием.
Те же и другие им подобные, и даже гораздо более сложные задачи
экспериментального анализа могут быть осуществляемы психологом над
взрослыми и могут быть обставляемы более тщательно и
целесообразно в особо приспособленных для того лабораториях и кабинетах. Эти
опыты, ввиду всего сказанного нами выше, только тогда приобретут
настоящее научное значение, когда они будут производиться и над
взрослыми, вполне сознательными, привыкшими к точному самоблюдению
и приобретшими искусство точно и верно передавать испытываемые
ими душевные состояния. Вот почему для психологических
экспериментов нужна правильно организованная лабораторная обстановка,
нужны «психологические кабинеты». «Психологический кабинет,
справедливо говорят Бине и Куртье, не только мастерская, где
ученый-психолог экспериментирует над состояниями сознания при помощи
усовершенствованных инструментов; кабинет должен служить также и
общим центром правильно организованной работы, где бы могли быть
классифицируемы все психологические материалы, каково бы ни было
их происхождение»1. Мы не отрицаем важности пользования во многих
из указанных выше опытов различными физическими приборами и
приспособлениями — хронометрами и т. п. Мы только убеждены в том, что
и при этом пользовании можно ставить для экспериментального
исследования и решения чисто психологические, а не непременно
психофизические и психофизиологические проблемы, и сама школа Вундта это
признает, изучая экспериментально состав представлений,
качественСм. «Введ. в экспер. психологию», стр. 157. Заметим при этом, что для чисто
психологических экспериментов нужна тоже особая обстановка: тишина, спокойствие,
отсутствие развлекающих впечатлений и лишних предметов, не говоря о всех
прочих приспособлениях. Об устройстве психол. кабинетов Боны и Бине в Париже,
Вундта в Лейпциге и американских кабинетов см. там же и в приложении:
Психологические кабинеты в Северо-Американских Штатах.
135
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ные категории их ассоциаций, явления памяти и т. п. Не надо только
называть эти проблемы психофизическими и не надо смотреть на
физические инструменты, при этих опытах употребляемые, как на момент,
решающий их характер. Если учитель будет пользоваться показаниями
секундной стрелки своих часов для того, чтобы произносить на
правильных промежутках времени слова, которые ученики должны запомнить,
то опыт от этого не превратится из чисто психологического в
психофизический.
Точно так же можно пользоваться для регулирования
психологических экспериментов хроноскопом Гиппа, хронометром Дарсонваля,
хронографом Марея и проч., не изменяя при этом психологического
характера опытов. И если психолог-специалист будет это делать, то он не
превратится от этого ни в физика, ни в физиолога. Весьма в моде
доказывать, что только физик или физиолог может быть
психологом-экспериментатором. Но этот предрассудок мы, кажется, достаточно
опровергли. Филолог не должен быть часовщиком, чтоб уметь пользоваться
(в экспериментах над памятью слов) секундной стрелкой. Научиться
пользоваться всякими физическими инструментами ради целей
психологического эксперимента для образованного человека, прошедшего
гимназический и университетские курсы, — совсем не мудрость. Но быть
для этого психологом и философом, и даже филологом и историком —
по образованию и мышлению, пожалуй, более необходимо, чем быть
физиком и физиологом.
Не нужно самому уметь делать инструменты, которыми в жизни
или в видах науки пользуешься. Барометра не сумеет сделать почти ни
один сельский хозяин, а пользоваться им он отлично умеет. Хороший
охотник — не ружейный мастер, могущий соорудить хорошее ружье.
Иногда даже очень умные люди впадают в странные недоразумения. Так,
некоторые почтенные физиологи нашего времени доказывают, что
настоящим психологом-экспериментатором может быть только
физиолог, но пора бы сдать в архив столь несостоятельное утверждение,
совершенно аналогичное тому, что хорошим знатоком музыки может быть
только хороший органист. Всякое дело требует своего специалиста,
и психолог должен быть прежде всего психологом а не физиологом, а
если он также знает и физиологию, то тем лучше, — всякое знание
расширяет горизонт человека, и мы уже сказали выше, что совершенное
незнание анатомии и физиологии для современного образованного
человека вообще постыдно, как было бы постыдно совершенное
незнание им арифметики, геометрии, алгебры, физики, грамматики, изящной
литературы, истории, и т. п.
В настоящее время идет речь об учреждении при русских
университетах «кабинетов экспериментальной психологии», которые уже почти
136
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
везде существуют на западе. Весьма было бы грустно, если бы при
организации этого молодого еще дела в России мы впали в нелепое
заблуждение, что экспериментальная психология есть только психофизика или
психофизиология, что кабинеты экспериментальной психологии
должны быть не самостоятельными учреждениями, а филиальными
отделениями физиологических или физических лабораторий, что в них могут
работать только профессора и студенты естественного или
медицинского факультетов, а не философы и филологи. Что за перегородки
между отделами знания, что за узкая нетерпимость и исключительность!
Нынешнее факультетское деление в университетах вполне отжило свое
время1. Наука одна, и вся наука в ее целом стремится стать опытной и
экспериментальной, с одной стороны, спекулятивной и
метафизической — с другой. Чисто опытная наука — без спекуляций и
метафизического анализа понятий и проблем самого познания — такая же нелепость,
как прежние чисто метафизические и спекулятивные построения — без
всякой опытной и экспериментальной почвы. В будущем столетии
станут, конечно, экспериментальными и некоторые части науки о праве, и
филология, и педагогика, и станут более спекулятивными и
метафизическими самые чистые опытные науки — химия, физика, физиология.
Пора бросить нелепые споры о словах, всякие клички и огульные
определения, пора отрешиться от кастовых предрассудков хотя бы в
области науки, высшего знания, пора сделать образование более
всесторонним, а научное исследование и обучение — вполне свободным, будет
грустно и стыдно, если русские университеты откажутся от
учреждения кабинетов экспериментальной психологии только потому, что
нельзя будет достигнуть соглашения по вопросу о том, при каком
факультете должна состоять эта полезная и необходимая наука.
Задачей нашего очерка было показать, что назрело время для
признания и разработки совершенно самостоятельной науки —
экспериментальной психологии, а к какому факультету будет причислена
кафедра этой науки и необходимая для нее лаборатория — не все ли равно?!
Экспериментальная психология — именно та наука, которая должна
обнаружить всю несостоятельность и отсталость перегородок,
существующих вопреки всякой логике между нынешними факультетами
русских университетов. Экспериментальная психология, как, впрочем,
и все философские науки, должна быть предметом преподавания на всех
факультетах: в психологической подготовке нуждаются и юристы, и
медики, и натуралисты, и математики, и филологи, и историки.
Его пора бы заменить широкой и разнообразной группировкой вспомогательных
наук ( из программ всех факультетов) около главной, наиболее интересующей
студента, какою может быть каждая наука, преподаваемая в университете.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
М.М. ТРОИЦКИЙ:
НАУКА О ДУХЕ. ОБЩИЕ СВОЙСТВА И ЗАКОНЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА1
Троицкий Матвей Михайлович (1835-
. 1899) — психолог и философ. С 1875 г. —
профессор Московского университета. В разные годы в
период 1884-1894 гг. декан
историко-филологического факультета.
Организатор и первый председатель
Психологического общества при Императорском
Московском университете (1885).
В психологии — сторонник английского
эмпиризма и ассоцианизма.
Позитивист в философии.
внутренняя условность психического
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
История развития отдельных лиц
показывает, что все классы психических фактов
существования человека образуются один
из другого. Эту-то условность образования
психических фактов и называем
внутреннею условностью психического образования
человека. Внутренней условности
образования избегает, в известных пределах, только
один класс психических фактов — именно
так называемые ощущения, зависящие
обыкновенно от причин внешних
человеческому духу или физических. Но как
исходный пункт внутреннего развития всех
других классов психических фактов, ощущения
не могут быть вполне устранены из наших
исследований внутренней условности
психического образования человека.
Троицкий М.М. Наука о духе. Общие свойства и законы человеческого духа. Т. 1-2.
М., 1882. С. 8; 17-23; 353-7; 80-81; 85-90; 96-100.
138
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Внутренняя условность образования психических фактов
открывается легче, если эти факты рассматриваются как факты психических
отношений человека. Последние могут быть разделены на следующие
классы: 1) отношения страдательные и деятельные; 2) мысленные и
действительные; 3) производительные и непроизводительные,
В чувствах человека заключаются все формы его реального сознания,
помимо чувств есть только разнообразие идеального, мысленного
сознания; так что, выводя первичные идеи человека из его чувств, мы выводим
первичные формы мысленного сознания непосредственно из всех форм
сознания действительного. При таком взгляде на чувства содержание их
как первоисточника идей не представится скудным. В богатстве этого
содержания легко убедиться при обозрении главнейших классов наших
чувств. С этой целью мы удержим известное деление их на два порядка:
ощущения и волнения. Ощущения дают идеи ощущаемого. Ощущаются
собственно удовольствия и страдания, вызываемые внешними,
непсихическими влияниями на нервы; отсюда почерпаются идеи всех болей, всех
страданий и всех тяжелых и неприятных состояний тела, равно как и всех
приятных возбуждений его, всех телесных наслаждений. К этому
собственному содержанию ощущений и получаемых из них идей
присоединяется другое, дополнительное. Как чувства не только приятности или
неприятности внешних влияний, но и некоторых специальных последствий
их, ощущения становятся приятными и неприятными чувствами света,
цветов, звуков, запахов, вкусов и т. д. Это дополнительное содержание
ощущений служит богатейшим источником идей так называемых внешних,
или чувственных, качеств, равно как и идей физического напряжения и
движений.
Обилие идей, получаемых человеком из ощущений, внушило
некоторым ученым надежду вывести из этих идей все остальные, без помощи
всякой другой психической деятельности страдательного свойства.
Предпринятые с этой целью исследования не оправдали такой надежды; но опыты
пополнения этого источника первичных идей доказали, что гораздо легче
подметить, чем исправить, недостаток так называемого сенсуализма. Со
своей стороны, не находя других форм реального сознания, кроме чувств,
мы полагаем, что к ощущениям человека, как источнику его первичных
идей, нельзя прибавить другого источника, кроме так называемых его
волнений, или чувств, вызываемых внутренними, психическими влияниями
на его нервную систему.
Волнения дают идеи всего, что чувствуется в волнениях. Таким
образом, волнения новости, удивления, страха, нежности, дают идеи нового,
дивного, страшного, нежного. Чтобы получить понятие о богатстве идей
приобретаемых человеком из этого источника, следует перейти от
волнений, доступных общему замечанию, к волнениям, на которые редко
обра139
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
щается внимание даже специалистов в этом отделе научных знаний.
Таковы — волнения, играющие важнейшую роль в умственных операциях и
испытываемые слишком часто, чтобы сохранить свойственное им
первоначально качество приятности и неприятности; это — чувства торжества и
чувства разницы, со всеми их видами и подразделениями. Из этого именно
источника получаются идеи того же и иного, одинакового и различного,
равного и неравного, сходного и не сходного, подобного и не подобного;
и прочее. Таковы, далее, волнения вызываемые различными формами
действий и психического напряжения. Сюда принадлежат, например, чувства
действия и противодействия, чувства свободы и стеснения, — откуда
получаются соответственные идеи действий, противодействий или
препятствий, свободы, стеснений. Сюда же относятся и те волнения, которые в
сочетании с вызывающими их различными формами психического
напряжения, носят название хотений, желаний, влечений, любви, ненависти,
отвращений. Из этого класса волнений берут свое начало идеи так
называемых явлений воли. Наконец, мы должны упомянуть и о том,
необозримо широком отделе чувств, который играет такую роль в оценке нашего
поведения, нашей деятельности и производительности. Сюда принадлежат
эстетические чувства красоты, гармонии, грации; и т. д. Сюда относятся
нравственные чувства долга, правды, виновности; и т. д. Из этих
различных форм живого эстетического и нравственного сознания берут свое
начало первичные идеи изящества и нравственности.
Представленный нами краткий перечень основных классов ощущений
и волнений человека достаточно указывает на богатства этого источника
его первичных идей.
Перейдем теперь к прямым условиям образования вторичных идей
человека. Прямая условность вторичных идей видна из самого названия
или определения этих идей; потому что вторичными идеями называются
такие которые образуются непосредственно не из психической
действительности, а из идей, и в последнем анализе — из первичных идей.
Дальнейшим указанием на прямые условия образования вторичных идей может
служить объяснения того, как эти идеи образуются из первичных.
Образование вторичных идей из первичных заключается в преобразовании
последних, которое имеет различные формы: первичные идеи то разлагаются, то
слагаются, то изменяют свое положение в ряду других идей, то
претерпевают превращения, вследствие условий, или в соответствии со своими
сопровождениями; и т. д. Всякое преобразование идей происходит или в силу
тех широких законов их течения, которые называются законами
ассоциации, или вследствие умственных операций. Таким образом, сложение идей
может быть достигнуто и без всякой умственной работы, — например под
влиянием чужой речи, или других соответственных впечатлений; но оно же
бывает последствием умственной операции называемой умственным
син140
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТЮЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
тезом. Точно так же превращение идей может быть чисто страдательной
формой мышления, как это доказывается сновидениями; но оно же может
быть последствием умственной работы, как это наблюдается, например,
в науках, искусствах и изобретениях.
Остается указать прямые условия образования умственных
операций. Одно из таких условий открывается в характере зависимости
умственных операций от предметов. В противоположность действиям реальным,
которые являются в прямой зависимости от предметов, умственные
операции условленны ими только косвенно, как косвенные отношения к
предметам, — отношения через идеи в одних мыслях, в уме. Эта косвенная
условность умственных операций указывает на идеи как прямое условие этих
операций. Действия над предметами в идеях обусловлены присутствием
идей, и преимущественно течением идей по законам ассоциации. Такими
условиями умственных действий служат на первый раз идеи первичные,
в содержании которых отражается содержание наших реальных
отношений, наших действительных наблюдений и опытов; и только с
образованием идей вторичных то же значение получают последние.
Второе столь важное условие умственных операций открывается из
самого определения их как отношений деятельных, или действий. Идеи,
необходимые для умственных операций, не составляют действий, хотя бы
даже были идеями действий. Умственные операции являются тогда, когда
в предложение идей, только что образовавшихся из реальных психических
фактов, или течение идей по законам ассоциации, привходит элемент
действия, сообщающий этому страдательному мышлению характер
мысленных действий. Последнее условие умственных операций достаточно
разъяснится с указанием, во-первых, на источник, во-вторых, на формы,
и в-третьих, на законы привходящих действий.
Действия над предметами в идеях вытекают из общего источника всей
психической деятельности человека, — из чувств и идей, как удовольствий
и страданий, — и суть не что иное, как влияние этих психических фактов на
продолжение идей, и их течение по законам ассоциации. Это влияние не
устраняет, а только видоизменяет работу законов ассоциации и
обнаруживается при этом в двоякой форме: в форме содействия и в форме
противодействия течению идей по этим законам. Последствия такого
вмешательства можно предвидеть из самого характера психических
деятелей. Чувства и идеи, действуя как удовольствия и страдания, или как
отношения критические к течению идей по законам ассоциации, должны
сообщать последнему те черты, какие отвечают их критическому
характеру. Самый способ влияния идей и чувств отличается простотою.
Содействие течению идей ограничивается простым замедлением течения одной
или многих идей, замедлением, сообщающим дальнейшей работе законов
ассоциации то направление, какое вызывается характером действующих
141
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
идей и чувств. Таким-то образом, идеи действия получают характер
представлений, воображений, припоминаний; чувства сходств и разниц,
вызываемых текущими идеями и их преобразованиями, обусловливают
возникновение других умственных операций, каковы: сравнение; различение,
уподобление, обобщение. Наоборот, противодействие течению идей по
законам ассоциации состоит в ускорении его, доводящем текущие идеи до
неразличимости. Сюда относятся те умственные операции, которые
заключаются в разнообразных формах подавления идей, каковы: исключение
идеи из ряда других'идей; отвлечение мысли от предмета; уклонение от
дум; насильственный обрыв последних; и т. д. Наконец, по вопросу о
законах рассматриваемого нами влияния чувств и идей следует прибавить, что
оно подчинено между прочим тому широкому закону психических фактов,
который мы называем законом произвольности.
ПСИХИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
Психическая производительность человека есть так называемое его
творчество. Творчество человека разделяется на два главных вида:
мысленное, идеальное, и действительное, реальное, Мысленным
творчеством мы называем созидание в уме или в мыслях чего-нибудь
оригинального, т. е. отличного от наблюдаемого в действительности. К таким
мысленным созданиям принадлежат, например, греческие боги Олимпа,
небесная музыка пифагорейцев, атомы Демокрита, идеи Платона,
Дантов ад; и т. д.
В истории развитии отдельных лиц, представляемой первоначальным
образованием основных классов психических фактов, содержатся
несомненные доказательства внутренней условности последних. Все чувства, за
исключением ощущений, составляющих исходный пункт его
психического образования; все идеи его, вся его психическая деятельность и
производительность, реальная и умственная; все формы его психической
готовности, и все виды возвратности его психических отношений; кратко, все классы
психических фактов представляют различные формы внутренние
развития психического существования человека, иначе сказать — различные
направления первоначального образования психических отношений друг из
друга.
Единственный вопрос, на котором можно остановиться в этом месте
заключается в следующем: как относится к представленной нами
классификации психических фактов популярное деление их на сердце, ум и
волю? На это заметим прежде всего, что популярные названия этого рода
по своим значениям не представляют ничего такого, что бы не
обнималось нашей классификацией психических фактов. При всем
разнообра142
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
зии их значений, мешающих введению таких выражений в состав точной
терминологии, названия эти в приложении к человеческому духу означают
главным образом три вещи: во-первых, психическая способность
человека, или данные в нем условия психических фактов; во-вторых, те и другие
классы психических фактов; и, в-третьих, свойства этих классов. Таким
образом, сердце человека означает: способность волнений, или условия
чувств высшего порядка; далее, класс волнений, — чувства страха, гнева,
нежности, и т. д.; и наконец, свойства волнений, — например, их
интенсивность, выражаемую словами чувствительность и нечувствительность, и
наблюдаемую в боязливости, раздражительности, или бесстрашии, доброте;
и т. д. Ум человека означает: способности или условия идей, умственных
операций, мысленного творчества, равно как и некоторых форм реальных
действий и реального творчества; далее, самые акты умственных и
некоторых реальных отношений; и, наконец, свойства этих актов, — например,
памятливость, понятливость, сообразительность, находчивость,
изобретательность, наблюдательность, осторожность, искусство; и т. д. — Воля
человека означает также, во-первых, способности психических готовностей;
в тесном смысле — одних активных, — хотения, нехотения, желания, и т. д.;
в более широком — активных и реактивных вместе, — хотения, любви,
ненависти, и т. д.; и еще в более широком — готовностей деятельных и
страдательных, — хотения, любви, терпенья, и прочее; во-вторых, более или менее
широкие классы психических готовностей; и в-третьих, свойства наблюдения в
различных видах психического напряжения, каковы: терпеливость,
привязчивость, решительность и нерешительность; и т. д.
ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯУСЛОВНОСТЬ
ПСИХИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В предыдущем очерке первоначального образования психических
фактов мы объяснили его внутренние условия, открываемые при изучении
истории отдельных лиц без отношения к истории человеческих обществ.
Этими условиями далеко не определяются все условия психического
образования людей: за внутренними условиями последнего скрываются внешние,
ближайшим образом общественные, заключающиеся в общественных
явлениях и их законах. История общественности людей есть
главнейший источник культуры их личности.
В предыдущих главах мы рассмотрели условность образования
психических фактов существования человека; в настоящей рассмотрим
условность их продолжения или сохранения.
Продолжение или сохранение психических фактов существования
людей особенно выделяется в явлениях их личности, — именно в
сохранении каждым собственной личности в течение жизни.
143
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Сохранение личности означает постоянство или неизменность
личности, сложившейся или образовавшейся известным образом.
Постоянство личности людей издавна обращало на себя внимание исследователей
духа, по своему контрасту с преемственностью всех его явлений, или с
его непрерывными изменениями, представляющимися в смене этих
явлений. Некоторые наблюдатели явлений личности, занятые сменою
психических фактов, пришли к убеждению, что постоянство, или, выражаясь
принятым термином, тожество, личности людей ограничивается одною
идеею такого тожества, свойственно каждому человеку, — идеею высшей
степени важности, но не отвечающею делу или действительности. Между
тем другие авторы настаивали на реальности этой идее; и эта
настойчивость их находит свое оправдание в самых фактах личности,
показывающих, что мысль человека о тожестве собственной личности есть только
идеальная вершина ее реального образования и реального сохранения, —
идеальное выражение реального постоянства всех форм образовавшейся
личности, — или психических явлений, представляющих эти формы.
ПРЕВРАЩЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Превращение личности человека не составляют вообще чего-нибудь
анормального. Тожество личности, как отрицание ее превращений, есть
тожество только зрелой, образовавшейся личности. Простой наблюдатель
развитии личности смутно чувствует то, что открывает тонкий анализ
психолога, — а именно, что полное развитие личности достигается длинным
рядом психологических превращений. Таким образом, высшие чувства
человека как лица, именуемые волнениями, образуются путем превращения
между прочим его ощущений или низких чувств, и идей; таким же путем
почерпаются — личные идеи из личных чувств; личные готовности — из
личных чувств, идей и действий. То же и с культурными формами
личности. Общие формы превращаются в специальные вследствие образования
новых, специальных форм психического существования человека; а эти
последствия образуются одна из другой таким же путем превращений, как
и его общие формы, примыкая к величайшему из всех превращений
психических фактов, — превращению прямых психических отношений в
символические. Таким образом, естественная и культурная личность человека
достигает своей зрелости путем многочисленных превращений.
Постоянна, тожественна только личность образовавшаяся — и опять, насколько
она образовалась. Потому что даже в период личной зрелости человека
рядом с известным тожеством личности продолжаются некоторые
превращения ее. Никто не решится утверждать, чтоб образование личности
человека оканчивалось непременно в какой-нибудь определенный возраст
его жизни; чтобы, например, оканчивался когда-нибудь для всякого лица
144
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
тот процесс превращения общих форм личности в специальные, который
бывает последствием культуры внутренних условий личности.
Итак, тожество личности людей, как отрицание ее превращений,
означает сохранение только того что окончательно образовалось в ней, — или всех
форм ею достигших зрелости. Между тем факты дают нам право утверждать,
что даже и эти формы — формы вполне зрелой, или образовавшейся,
личности, не застрахованы от превращений, как скоро условия этих форм, их
характера или индивидуальных свойств, подвергаются изменениям.
Превращения образовавшейся личности наступают, во-первых, с
некоторыми изменениями внутренних условий психологического
существования человека. Личность есть определенное, индивидуальное последствие
определенной суммы условий или причин, данных в психических фактах
собственного существования каждого человека. Очевидно, что с
изменением этих условий, должно изменяться и их последствие; неудивительно,
далее, что такие изменения последнего, т. е. личности человека или ее
сложившихся форм, могут доходить и доходят в некоторых случаях до
превращения этих форм. Факты показывают, что нет такой формы личности,
которая бы не могла подвергнуться превращению при некоторых
изменениях ее внутренних условий: превращениям подвергаются личные формы
как чувств, так и идей-, как действий и творчества, так и психических
готовностей и способностей.
Возьмем для примера одну из форм личной чувствительности,
именно форму страха. Чувства страха, или впечатлительности к этому
волнению, различны у различных лиц: одни весьма мало поддаются этим
волнениям, у других они и часты и сильны. Первым приписывается смелость;
последним — робость, боязливость, трусость. Каким бы постоянством
ни отличалась смелость лиц смелых, и робость лиц робких, постоянство
это условно, и длится только до тех пор, пока продолжаются эти условия.
Такие условия бывают и чисто внутренними. Личная смелость людей
объясняется в иных случаях свободою от некоторых суеверий; в других она
зависит от непрерывных успехов в какой-нибудь отрасли деятельности; в
третьих — от физической или умственной силы; и т. д. Уничтожьте эти
внутренние условия личной смелости — и вы тотчас же получите
превращение личной впечатлительности к страху. Человек сделавшийся
суеверным в некоторых отношениях, может сделаться и робким в
соответственных обстоятельствах. Смелость, нажитая рядом успехов, теряется от
последующего ряда неудач; смелость, зависящая от чувства силы,
исчезает с утратою последней. То же прилагается и к другим формам личной
чувствительности человека — гневу, смеху, стыду, симпатии и т. д.
Раздражительность и кротость, веселость и угрюмость, стыдливость и наглость,
жалостливость и жестокость, как бы ни казались постоянными в
характере лица, постоянны только при постоянстве их условий. Мнение о
безус145
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ловной прочности таких свойств личности есть один из вредных
предрассудков: он отнимает средства к воспитанию лучших свойств человеческого
сердца, и внушает беспечность к их охранению.
Что сказано о чувствах человека, то прилагается и к действиям его. Все
формы личной деятельности способны превращаться с переменою
внутренних условий. Есть формы личной деятельности, свойства которых по своей
непрочности, не получили, на языке людей, никакого общего названия.
Таковы личные свойства действий, вызывающих в других волнения и готовность, —
свойства, которые отмечают, называя лиц дивными, страшными, милыми,
увлекательными; и т. д. Но такою же условностью постоянства отличаются и
те формы личных действий, свойства которых обозначаются обыкновенно
именем личного нрава или нравов; к таким свойствам принадлежат личное
упорство и уступчивость, душевная твердость и мягкость, усердие и
нерадивость и степенность, а также покорность, раболепство,
почтительность, благодарность; и т. д. Личное упорство, например, исчезает под
влиянием чувств жалости, идей приличия, долга; и т. д.
Те же замечания прилагаются и к личным формам мышления,
творчества, готовностей, способностей и возвратных отношений. Личная
предусмотрительность и осторожность теряются от сильной любви и
привязанностей; личная памятливость утрачивается от недостатка
упражнения тех или других психических способностей; привычные манеры
научного и художественного творчества изменяются под влиянием новых
генеральных наблюдений и идей; личная сдержанность, вытекающая из
отрицательного влияния каких-нибудь чувств и идей, исчезает с утратою
этих чувств и с исчезновением этих идей; личная решительность, бывшая
плодом господства каких-нибудь живых побуждений, теряется, как скоро
последние утрачивают свою живость или когда к этим побуждениям
прибавляются какие-нибудь новые, расходящиеся с ними; и т. д.
Превращения образовавшейся личности наступают, во-вторых, с
переменами общественными, как скоро последние вызывают изменения во
внутренних условиях личного существования людей. Таким образом,
замечено, что многие свойства лиц исчезают и появляются с переменою их
общественного положения; исчезают те личные свойства, которые
косвенно поддерживались их прежним общественным положением, и
появляются другие, или как отрицание прежних свойств, или как следствие новых
условий, открывшихся с новым общественным положением, — и
появляются другие — или как отрицание прежних свойств, или как следствие
новых условий, открывшихся с новым общественным положением.
Пословица: honores mutant mores1 отметила превращения личных свойств с
переходом людей на высшее положение в обществе. Обобщение,
представПочести изменяют характер человека (в дурную сторону).
146
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ляемое этой пословицей, не противоречит фактам, но недостаточно
широко; такие перемены касаются, во-первых, не одних только нравов, но
и других свойств личности, т. е. свойств его мышления, творчества,
способностей, готовностей и возрастных отношений; во-вторых, такие
превращения вызываются не только общественным возвышением, но и
общественным падением людей. Другою причиною превращений личности
бывают глубокие изменения в общественной среде лиц, или в тех
обществах, ассоциациях, к которым они принадлежат, — в семействах,
родстве, знакомствах, корпорациях, государстве. Утраты мужа, жены,
родителей, детей, друзей, товарищей', государственные события, —
реформы и перевороты, — способны производить потрясения самых
основ личности, измененяя коренным образом личные свойства людей.
Самые резкие превращения личности происходят, в-третьих, с
изменениями физических условий личного существования людей.
Физические бедствия человека, как голод, мор, пожары, наводнения;
болезни соматические и психические; преждевременное истощение и
старчество, — все это способно вызвать глубокие превращения
человеческой жизни, совершенно изменяя ее сложившиеся формы.
Физическая условность психического образования человека
очевидна. Подтверждением такого заключения служат, с одной стороны,
основная роль ощущений в истории психического образования человека, так как
ощущения являются первичным источником его действий, волнений и
идей, с другой — прямая зависимость внешних чувств от устройства их
органов, нервной системы и мозга. Наконец, к тому же заключению
приводят наблюдения над уклонениями от нормального развития нервной
системы и мозга, порождающими идиотство или глупость; широкие
наблюдения над процессом психического существования животных,
параллельным прогрессивному развитию их мозга и нервной системы,
равно как и вероятное участие человека в этой прогрессивной истории
живых существ на нашей планете.
Настойчивое раскрытие органической условности психических
фактов, или зависимости духа от материи, никогда не пользовалось
сочувствием большинства людей; это объясняется между прочим самым
характером некоторых учений о такой условности или зависимости.
По мнению, весьма распространенному между
естествоиспытателями, материя есть начало деятельное в природе, а дух нечто
страдательное; материя с ее атомами и силами есть производитель всех
явлений со всеми их законами, в том числе и явлений психических, или того
что люди называют духом, а дух есть одно из многих произведений
материи.
Большинство людей, не отрицая органической или материальной
условности психических фактов, упорно сопротивляется такого рода
обоб147
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
щению многих естествоиспытателей, сомневаясь в верности
предполагаемого ими распределения ролей между материей и духом — в
исключительной деятельности материи и решительной пассивности духа.
Такое мнение не отвечает нашим суммарным впечатлениям, получаем
ли их от явлений физических или материальных, и психических или
духовных. Если материя и дух находят у людей различную оценку —
материя ценится сравнительно низко, а дух сравнительно высоко: то это
вытекает главным образом из убеждений, что материи свойственно быть
материалом и орудием, а духу — властью, деятелем и образователем.
Такие впечатления можно бы без дальнейшего признать и ошибочными,
если б они не находили поддержку в данных научного анализа. Взгляд
на исключительную деятельность материи решительно противоречит
господству фактов психических над фактами физическими,
наблюдаемому в многочисленных отраслях человеческой деятельности и
производительности, в которых порядок физических явлений получает вид,
отвечающий идеальной работе и чувствам человека. Еще менее такой
взгляд мирится с господством духа в области самого духа, с
устроенным им порядком общественности, с видами человеческого
законодательства, и с научным установлением норм не только психической
деятельности и производительности, но и физического развития. Без
сомнения, подобные факты и заставили многих древних и новых
философов отказать материи во всякой деятельности, приписывая ее
исключительно духу или уму.
То же сомнение вызывается и тем утверждением, будто материя
есть производитель духа, а дух есть произведение материи, и будто все
законы природы суть в строгом смысле законы материи и никогда —
духа. Бесспорно, есть факты, располагающие к такого рода
заключениям; но есть также и другие, которые расходятся с ними и ведут к
заключениям противоположным. К фактам такого рода принадлежат между
прочим, во-первых, факты образования вторичных законов духа, т. е.
его чувств, действий и т. д., в силу первичных законов ассоциации и под
влиянием психической оценки самого качества психических фактов;
и во-вторых, преобразование этих вторичных законов духа, или
навыков, в наследственные предрасположения, или прирожденные законы
психического существования. Переход навыков из приобретенных в
наследственные защищается многими авторитетами; а это означает
переход вторичных законов духа в неизмененные законы органической
материи. Такой переход дает право предполагать, что все законы
органической материи, законы ее устройства и функций, могли быть
первоначально вторичными законами образующегося духа. А так как
последнее — происхождение критического или чисто духовного, то этим
самым дается право на утверждение, что законы органической материи
148
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
суть первоначально законы духа — или что дух есть собственная
причина всех установившихся органических явлений, или собственный
производитель органического вещества. Так как, далее, границы между
органическим и неорганическим условны: то это заключение допускает более
широкое обобщение, отдающее вообще материю во власть духа. И такое
обобщение будет вполне согласно с известными фактами власти
человеческого духа над материею окружающей человека органической и
неорганической среды.
Таким образом, есть факты, способные внушить сомнение в
исключительной деятельности и производительности материи, и даже вести к
заключениям противоположным. Ввиду тех и других фактов,
позволительно думать, что условность духа и материи есть обоюдная или
взаимная; что первоначальная роль деятеля принадлежит скорее духу и
что материя, первоначально и в целом, играет роль только его органа.
Оценивая мнения об отношениях между материею и духом, мы
повидимому вращаемся в круге вопросов о самом «существе» духа и
материи. На деле это не так; под материею, о которой до сих пор
говорилось, разумелись только материальные явления; точно так же, и под
духом разумелись одни психические явления. Вопросы об отношениях
материальных и психических явлений может быть решены независимо
от вопросов о «существе» материи и духа, об их нефеноменальной
сущности, или о том, что такое дух и материя «сами в себе».
Из этого, однако, очевидно, что вопросы о материи и духе как
явлениях, еще не затрагивают вопросов об их нефеноменальном существе;
и то или другое решение первых не составляет никакого предрешения
последних. Условность человеческого духа в смысле психических
явлений, или с феноменальной точки зрения, не подлежит ни малейшему
сомнению. Но так ли все это и на самом деле, как является нам;
действительно ли индивидуальный дух человека начинает существовать только
с первым психическим явлением индивидуального существования
человека, и разрушается с последними явлениями этого рода в процессе
его смерти: — это вопросы, которые отнюдь не предрешаются
феноменологиею духа, — вопросы величайшей практической важности, по
своей связи с жаждою лучшей, совершеннейшей жизни, свойственной
культурному человеку, и с вопросами об ответственности человека перед
Высшим Судом.
На эти вопросы вера и религия образованного человечества всегда
давала свои ответы, далеко расходящиеся с внушениями простых
явлений духа и материи. Что касается науки, то ее отношения к этим
вопросам очерчиваются учением о той относительности психических
фактов существования человека, которую называют ограниченностью
человеческого духа.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
И.М. СЕЧЕНОВ:
«ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ПСИХИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ»
Сеченов Иван Михайлович (1829-1905) —
создатель русской физиологической школы,
основоположник отечественной психологии как
объективной науки.
В антологию включены отрывки из
программных статей «Рефлексы головного мозга» (1863)
и «Кому и как разрабатывать психологию » (1873),
в которых Сеченов, основываясь на созданной им
рефлекторной концепции и в полемике со
сторонниками субъективного подхода в психологии
выдвигает идеи о построении психологии на основе
объективного метода.
РЕФЛЕКСЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА1
§ 1. Вам, конечно, случалось, любезный читатель, присутствовать при
спорах о сущности души и ее зависимости от тела. Спорят обыкновенно
или молодой человек со стариком, если оба натуралисты, или юность с
юностью, если один занимается больше материей, другой — духом. Во всяком
случае спор выходит истинно жарким лишь тогда, когда бойцы немного
дилетанты в спорном вопросе. В этом случае кто-нибудь из них, наверное,
мастер обобщать вещи необобщимые (ведь это главный характер
дилетанта), и тогда слушающая публика угощается обыкновенно спектаклем
вроде летних фейерверков на петербургских островах. Громкие фразы,
широкие взгляды, светлые мысли трещат и сыплются, что твои ракеты. У иного
из слушателей, молодого, робкого энтузиаста, во время спора не рез
пробежит мороз по коже; другой слушает, притаив дыхание; третий сидит весь
в поту. Но вот спектакль кончается. К небу летят страшные столбы огня,
лопаются, гаснут, и на душе становится смутное воспоминание о светлых
призраках. Такова обыкновенно судьба всех частных споров между
дилетантами. Они волнуют на время воображение слушателей, но никого не
убеждают. Дело другого рода, если вкус к этой диалектической
гимнастике распространяется в обществе. Там боец с некоторым авторитетом легко
Сеченов ИМ. Избранные произведения. Физиология и психология. М., 1952. Т. 1. С. 7-11.
150
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
делается кумиром. Его мнения возводятся в догму, и, смотришь, они уже
проскользнули в литературу. Всякий, следящий лет десяток за
умственным движением в России, бывал, конечно, свидетелем таких примеров, и
всякий заметил, без сомнения, что в делах этого рода наше общество
отличается большою подвижностью.
Есть люди, которым последнее свойство нашего общества сильно
не нравится. В этих колебаниях общественного мнения они видят
обыкновенно хаотическое брожение неустановившейся мысли; их пугает
неизвестность того, что может дать такое брожение; наконец, по их
мнению, общество отвлекается от дела, гоняясь за призраками. Господа эти,
с своей точки зрения, конечно, правы. Было бы, без сомнения, лучше,
если бы общество, оставаясь всегда скромным, тихим,
благопристойным, шло неуклончиво к непосредственно достигаемым и полезным
целям и не сбивалось бы с прямой дороги. К сожалению, в жизни, как в
науке, всякая почти цель достигается окольными путями, и прямая
дорога к ней делается для ума лишь тогда, когда цель уже достигнута.
Господа эти забывают, кроме того, что бывали случаи, когда из
положительно дикого брожения умов выходила со временем истина. Пусть они
вспомнят, например, к чему привела человечество средневековая мысль,
лежавшая в основе алхимии. Страшно подумать, что осталось бы этим
человеком, если бы строгим средневековым опекунам общественной
мысли удалось бы пережечь и перетопить, как колдунов, как вредных
членов общества, всех этих страстных тружеников над безобразною
мыслью, которые бессознательно строили химию и медицину. Да, кому
дорога истина вообще, т. е. не только в настоящем, но и в будущем, тот
не станет нагло ругаться над мыслью, проникшей в общество, какой бы
странной она ему ни казалась.
Имея в виду этих бескорыстных искателей будущих истин, я решаюсь
пустить в общество несколько мыслей относительно психической
деятельности головного мозга, мыслей, которые еще никогда не были высказаны в
физиологической литературе по этому предмету.
Дело вот в чем. Психическая деятельность человека выражается, как
известно, внешними признаками, и обыкновенно все люди, и простые, и
ученые, и натуралисты, и люди, занимающиеся духом, судят о первой по
последним, т. е. по внешним признакам. А между тем законы внешних
проявлений психической деятельности еще крайне мало разработаны даже
физиологами, на которых, как увидим далее, лежит эта обязанность. Об
этих-то законах я и хочу вести речь.
Войдемте же, любезный читатель, в тот мир явлений, который
родится из деятельности головного мозга. Говорят обыкновенно, что этот
мир охватывает собою всю психическую жизнь, и вряд ли есть уже
теперь люди, которые с большими или меньшими оговорками не
принима151
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ли бы этой мысли за истину. Разница в воззрениях школ на предмет лишь
та, что одни, принимая мозг за орган души, отделяют по сущности
последнюю от первого; другие же говорят, что душа по своей сущности
есть продукт деятельности мозга. Мы не философы и в критику этих
различий входить не будем. Для нас, как для физиологов, достаточно и
того, что мозг есть орган души, т. е. такой механизм, который, будучи
приведен какими ни на есть причинами в движение, дает в
окончательном результате тот ряд внешних явлений, которыми характеризуется
психическая деятельность. Всякий знает, как громаден мир этих
явлений. В нем заключено все то бесконечное разнообразие движений и
звуков, на которые способен человек вообще. И всю эту массу фактов
нужно обнять, ничего не упустить из виду? Конечно, потому что без этого
условия изучение внешних проявлений психической деятельности было
бы пустой тратой времени. Задача кажется на первый взгляд
действительно невозможной, а на деле не так, и вот почему.
Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой
деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению —
мышечному движению. Смеется ли ребенок при виде игрушки,
улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине,
дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон
мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательными
фактом является мышечное движение. Чтобы помочь читателю
поскорее помириться с этой мыслю, я ему напомню рамку, созданную умом
народов и в которую укладываются все вообще проявления
мозговой деятельности, рамка эта — слово и дело. Под делом народный
ум разумеет, без сомнения, всякую внешнюю механическую
деятельность человека, которая возможна лишь при посредстве мышц. А под
словом уже вы, вследствие вашего развития, должны разуметь,
любезный читатель, известное сочетание звуков, которые произведены
в гортани и полости рта при посредстве опять тех же мышечных
движений.
Итак, все внешние проявления мозговой деятельности
действительно могут быть сведены па мышечное движение1. Вопрос чрез это
крайне упрощается. В самом деле, миллиарды разнообразных, не
имеющих, по-видимому, никакой родственной связи явлений сводятся на
деятельность нескольких десятков мышц (не нужно забывать, что
большинство последних органов представляют пары как по устройству, так
и по действию; следовательно, достаточно знать действие одной
мышЕдинственные относящиеся сюда явления, которые не могли быть объяснены до
сих пор мышечным движением, суть те изменения глаза, которые
характеризуются словами: блеск, томность и пр.
152
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
цы, чтобы известна была деятельность ее пары). Кроме того, читателю
становится разом понятно, что все без исключения качества внешних
проявлений мозговой деятельности, которые мы характеризуем,
например, словами: «одушевленность», «страстность», «насмешка»,
«печаль», «радость» и пр., суть не что иное, как результаты большего или
меньшего укорочения какой-нибудь группы мышц — акта, как всем
известно, чисто механического. С этим не может не согласиться даже
самый заклятый спиритуалист. Да и может ли быть в самом деле иначе,
если мы знаем, что рукою музыканта вырываются из бездушного
инструмента звуки, полные жизни и страсти, а под рукою скульптора
оживает камень. Ведь и у музыканта и у скульптора рука, творящая жизнь,
способна делать лишь чисто механические движения, которые, строго
говоря, могут быть даже подвергнуты математическому анализу и
выражены формулой. Как же могли бы они при этих условиях вкладывать
в звуки и образы выражение страсти, если бы это выражение не было
актом чисто механическим?
Чувствуете ли вы после этого, любезный читатель, что должно
прийти наконец время, когда люди будут в состоянии так же легко
анализировать внешние проявления деятельности мозга, как анализирует
теперь физик музыкальный аккорд или явления, представляемые свободно
падающим телом?
Но до этих счастливых времен еще далеко, и, вместо того чтобы
гадать о них, обратимся к нашему существенному вопросу и
посмотрим, каким образом развиваются внешние проявления деятельности
головного мозга, поскольку они служат выражением психической
деятельности.
Теперь, когда читатель, вероятно, согласился со мной, что
деятельность эта выражается извне всегда мышечными движением, задача наша
будет состоять в определении путей, которыми развиваются из
головного мозга мышечные движения вообще1.
Приступим же прямо к делу. Современная наука делит по
происхождению все мышечные движения на две группы — небольные и
произвольные. Стало быть, и нам следует разобрать образ происхождения и
тех и других. Начнем же с первых как с простейших, притом, для
большей ясности читателю, разберем дело сначала не на головном мозге, а на
спинном.
Дыхательные и сердечные движения не имеют прямого отношения к нашему делу,
а потому на них не обращено внимания.
153
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КОМУ И КАК РАЗРАБАТЫВАТЬ ПСИХОЛОГИЮ1
II
Показав, кому быть психологом, я обращаюсь теперь к другой
половине своей задачи — выявлению пути, которому нужно следовать в
разработке психических фактов. На первом месте стоит, конечно, вопрос о
материале, из которого должна строиться психология.
Таким материалом всегда служила и служит по преимуществу та
сумма психологических самонаблюдений и наблюдений над другими людьми
из сферы обыденной жизни, которая известна всякому под общим именем
практической, или обыденной, психологии. При скромности тех целей,
которыми задается физиолого-психолог, материал этот белее чем
достаточен со стороны обширности; кроме того, он обладает двумя очень редкими
свойствами — общедоступностью и сподручностью, делающими его
крайне удобным для употребления. Расширить в настоящее время сферу
исследования за пределы этого материала было бы, по моему мнению, делом не
только бесполезным, но даже вредным, потому что опыт всех
положительных наук, да, полагаю, и опыт обыденной жизни указывают на то, что
прочность всяких выводов зависит, при прочих равных условиях, главнейшим
образом не от богатства материала, а от степени его разработанности, так
как последнею прямо определяется его пригодность для употребления.
Разработанностью же наш материал, как мы сейчас увидим, вообще не
отличается.
Если присмотреться внимательно к тому, что собрано человеком в деле
самонаблюдений при сравнительно маленькой помощи со стороны науки
(или, правильнее, со стороны лиц, лишь более настойчиво размышлявших о
психических явлениях, чем другие), то оказывается, что весь материал
носит на себе все признаки самоизучения. В самом деле, житейская, или
практическая, психология, во-первых, устанавливает на основании ясно
сознаваемых различий не только виды, но и роды психических явлений; другими
словами, она выясняет объекты познания и классифицирует их. Затем
практическая психология подмечает все главнейшие условия, которыми
определяется возникновение, ход и конец психических актов, т. е. уже изучает
психические явления; наконец, дело завершается теорией или, правильнее,
несколькими теориями происхождения психических явлений. Объясним
все это примерами.
Уже простолюдин умеет отличать психический акт, происходящий при
смотрении на что-нибудь, от размышлений о том же предмете, что
выраСеченовИ.М. Избранные произведения. Физиология и психология. М., 1952. Т. 1.
С. 195-211.
154
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
жается в словах видеть и думать. Не много образования нужно и для того,
чтобы понять, что между актом реального видения предмета и
воспоминанием о нем должно существовать родство. Еще маленькое усилие мысли,
и третьей родственной формой является и представление об общих
признаках родственных предметов — понятие. Рядом с этими элементами
всякого мышления сознание отличает душевные движения совершенно
другого характера, которым придает родовое имя чувства (чувство удовольствия
или отвращения, ожидание, страх, радость, тоска, печаль, восторг и пр.)
и в то же время распределяет в различные группы, соответствующие видам
и разновидностям, руководствуясь при этом степенью их напряженности
(чувство и страсть), то большею или меньшею ясностью (спокойное
чувство и аффект), то общим характером реакций, вызываемых ими в теле
(чувство возбуждающее и гнетущее) и пр. В деталях эта классификация не
может не представлять, конечно, крупных недостатков, так как
непосредственное наблюдение скользит лишь по самой поверхности явлений; но в
общем, особенно по отношению к установке родовых признаков, она
верна. Кто не знает в самом деле, что чувство отличается от представления или
мысли стремительностью, субъективностью, неспособностью
расчленяться, что на этом основании оно не поддается прямому описанию на словах,
несмотря на резкость, с" которой часто сознается, и пр.
Этими двумя основными формами (ум и чувство) резюмируется для
самосознания вся чисто духовная сфера человека, если отбросить в
сторону внешнее проявление ее, т. е. поступки. И нужно признаться, в этой части
своей задачи, т. е. в установлении родов и видов психических процессов,
практическая психология оказывается часто очень тонкой
наблюдательницей.
С неменьшим успехом подмечает она условия происхождения
психических явлений. Чтобы убедиться в этом, достаточно будет указать на
память как основное условие всей психической жизни; на внимание как
необходимое условие, чтобы акт пришел в сознание; на анализ обстоятельств,
вызывающих воспоминание, определяющих сочетание представлений,
большую или меньшую яркость чувства и пр. Сюда же относятся наблюдения
над связью между различными психическими актами и поступками
человека, выражающиеся главнейшим образом в том, что один ряд проявлений
признается инстинктивным, роковым, другой — сознательно разумным,
один — невольным, другой — произвольным и пр.
До сих пор практический психолог остается на почве наблюдений,
и если по временам с ним и случаются грехи, то винить его можно разве
лишь в том, что он иногда слишком доверчиво относится к голосу
самосознания, забывая вечно поучительный пример вращения вокруг Земли
Солнца. Но отсюда сознание начинает уже теоретизировать, т. е. силится
объяснить себе самую суть происхождения психических актов. Спросите,
155
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
например, любого человека, принадлежащего к так называемому
образованному сословию, но не занимающегося науками, что он думает о
происхождении мысли и чувства, и вы, наверное, получите ответ, что
способностью мыслить мы обязаны уму, а способностью чувствовать — чувству или
чувствительности. А многие прибавят, может быть, и теперь, что ум
сидит в голове, а чувство — в сердце. Спросите его, далее, что ему известно
о связи между мыслями и желаниями, с одной стороны, поступками
человека — с другой, и он, ответит вам, что так как человек волен поступать
и согласно своими мыслями и желаниям и наперекор им — значит, между
ними и поступками должна стоять особая свободная сила, которая и
называется волей. Такою же объясняющею силою является у него в
теоретической части воображение, сочетающее, и иногда очень прихотливо,
различные представления между собой; в такую же силу превращается и
память, бывшая до тех пор неопределенным условием сохранения
впечатлений; то же проделывается с вниманием и пр. В конце же концов
выходит, что образованный человек объясняет различные стороны
психических актов совершенно так же, как объясняет дикарь непонятные ему
явления физической природы; вся разница между ними в том, что у
одного производящая причина есть созданная его воображением сила, а у
второго эта причина — какой-нибудь дух.
Из такого взгляда на психологический материал вытекает уже сама
собою необходимость строго отличать конкретные продукты наблюдений
от всего, что носит на себе характер теоретических умствований или
поползновений объяснять суть дела. Но этим, к несчастью, не дается еще
возможности различить во всех случаях обе категории фактов друг от друга,
так как в основе теорий практической психологии лежат часто верно
схваченные факты, а, с другой стороны, теории эти нередко имеют на первый
взгляд очень осмысленную логическую форму, несмотря на то, что в
основе их лежат положительные фикции. Главнейшим, если не исключительным,
источником ошибок последнего рода служит пагубная привычка людей
забывать фигуральность, символичность речи и принимать диалектические образы
за психические реальности, т. е. смешивать номинальное с реальным,
логическое с истинным. Чтобы сделать для читателя понятными средства к
устранению этих зол, я принужден разобрать дело на примерах.
Очень наглядным примером ложного толкования верных фактов
может служить учение практической психологии о воле. В основе его лежит
следующие наблюдения. У человека родится один раз истинное желание
сделать что-нибудь, и он, как бы повинуясь его голосу, удовлетворяет это
желание соответственным поступком; другой раз это же самое желание,
под влиянием ли других определяющих мотивов или как будто по капризу,
не выражается никакой внешней реакцией, никаким поступком, и,
наконец, в третьем случае за желанием возникает действие, не только не
соот156
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ветственное требованиям желания, но даже прямо противоположное им.
В последнем случае характер поступков может видоизменяться от
человека к человеку (и даже у одного и того же человека при разных условиях) до
чрезвычайности; но, во-первых, видоизменяемость эта имеет всегда для
нормального человека определенные границы, за которыми поступок
становится уже безумным, продуктом умопомешательства, невменяемым
проявлением несвободной воли; во-вторых, случай, когда поступок прямо
противоречит требованиям желания, остается все-таки наиболее резким и
решительным в деле установления теории воли. В угоду этой теории я даже
усилю факты, отбросив для последних двух случаев вмешательство
определяющих мотивов, — тогда воля становится, очевидно, еще независимее,
являясь исключительным деятелем в деле определения поступка. В этой
форме наш пример получает следующий вид: в первом случае из желания
родится целесообразное действие; во втором — реакции никакой не
происходит; в третьем — действие противоречит по смыслу мотиву.
Если относиться к этим фактам объективно (а это есть единственно
научный способ относиться к явлениям), то наблюдение не открывает в них
абсолютно ничего нового, кроме только что перечисленных элементов, и в
этом смысле я не делаю ни малейшей натяжки, сопоставляя избранный
мною психологический пример со следующим рядом из физического мира.
Огонь, как известно, может согревать тела, может и не согревать их
(например, тающий лед или снег)и, наконец, может производить охлаждение,
если между ним и телами находится сильно нагревающаяся жидкость.
Факты эти общеизвестны со стороны условий их происхождения, и
потому никому не приходит в голову снабжать огонь способностью
видоизменять из самого себя или при посредстве особого свободного деятеля
производимые им эффекты; но стоит вообразить себе, что человек не знает
этих промежуточных условий, видя только с одного конца огонь, а с
другого — его действие, и аналогия между обоими примерами будет вовсе не
шуточная. Дело и заключается именно в том, что в запутанных явлениях с
вмешательством воли от обыденного человеческого сознания ускользают
условия, определяющие тот или другой характер действий, и оно, вместо
того чтобы отнестись к фактам объективно, научным образом, создает
особую, ничего не объясняющую силу. Не естественнее ли во всех подобных
случаях искать разъяснения дела в форме той связи, которая, несомненно,
существует между начальной причиной явления и его концом?
С этой точки зрения все теории обыденной психологии, насколько в
основе их лежат реальные факты, должны рассматриваться на ряду с
неопределенными условиями происхождений той или другой формы
явлений.
Такое отношение к фактам, как ничего не предрешающее, нисколько
не может вредить разъяснению их, а между тем, будучи принято как
прин157
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
цип, оно сразу устраняет тьму недоумений в деле практической оценки
психических фактов со стороны их реальности.
В пример же злоупотребления речью я возьму несколько отрывков из
философствований обыденной психологии о природе человека.
1. Человек как отдельное звено в мироздании, как замкнутое в себя
целое может быть противоположен всему остальному в мире,
обособлен от всего, что находится вне его. В этом смысле человек есть
особь, неделимое (целое), единица.
2. Если обозреть всю сумму явлений, происходящих в человеке, то он
оказывается состоящим из двух начал, действующих не по одним и
тем же законам.
3. Как существо телесное он подчинен законам материального мира,
как существо духовное он стоит вне их.
4. Телесною стороною он раб материи, духовную — он властелин ее.
5. Человек властен не только над своим телом, управляет не только
своими поступками, но власть его распространяется даже на
мысли, желания, страсти и пр.
6. В этом смысле человек есть существо свободное, определяющее
действия из самого себя.
Если прочитать все эти тирады, то сразу они кажутся простыми,
понятными, соответствующими целому ряду общеизвестных фактов и даже
не лишенными некоторой последовательности, насколько природа
человека может быть определена рядом афоризмов. Но стоит только вдуматься в
реальную подкладку перечисленных положений и взвесить, насколько слова
соответствуют делу, и большинство афоризмов превращается в ряд
абсурдов. В самом деле, понятие о человеке как неделимом, особи, единице, по
самому смыслу этих наименований, не может быть ни чем иным, как
абстракцией от фактов его физической обособленности в природе; стало быть,
во всех случаях, когда говорится о человеке как неделимом целом,
единице, под словом человек нельзя разуметь ничего другого, кроме его
физической природы. С этой точки зрения все последующие афоризмы, в
которых подлежащими является слово «человек», были бы очевидными
абсурдами. Так, второе положение превратилось бы в невозможное
уравнение: телесная форма человека = самой себе + душа, а остальное — в не
передаваемую на словах бессмыслицу. Но положим, что понятию человек
соответствует сочетание души и тела; тогда уже во всех случаях и следует
принимать, что человек = душе + тело.
С этой точки зрения 1-е положение было бы невозможно, 3-е и 4-е были
бы нелепостью (потому что одно и то же нечто не может в одно и то же время
быть подчинено известным законам и стоят вне их, быть рабом материи и в
то же время властелином ее), а 5-е имеет вообще смысл только как образ,
потому что власть предполагает всегда два субъекта — властвующего и
158
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
подчиняющегося, и, следовательно, в нашем случае пришлось бы от
суммы, состоящей из души и тела, оторвать в качестве подчиненного не только
все тело, но и часть души. Как ни смела подобная операция, но она очень
часто производилась над бедной природой человека по счастью, только на
словах!
Вообще же грехи, известные всем под общим именем игры в слова,
проистекают главнейшим образом из того обстоятельства, что человек, будучи
способен производить над словами как символическими знаками предметов и их
отношений те же самые умственные операции, как над любым рядом реальных
предметов внешнего мира, переносит продукты этих операций на почву
реальных отношений. Бывают, например, случаи, что в психологию переносятся
крайние продукты отвлечения или обобщения, и тогда в науке появляются в
виде реальностей пустые абстракты вроде «бытия», «сущности вещей» и пр.
Другой раз ум, подкупаясь расчленяемостью речи, бесконтрольно принимает
соответственную расчленяемость и по отношению к реальным процессам,
обозначаемым словом; отсюда происходит столь частое смешение логических
сторон мышления с психологическими и вообще смешение логического (на
словах) с истинным. Наконец, бывают даже такие случаи, когда человек,
додумавшись, как говорится, до чертиков, начинает прямо облекать в
психическую реальность какую-нибудь невинную грамматическую форму; сюда
относится, например, знаменитая по наивности и распространенности игра в «я ».
Понятно, однако, что все эти грехи становятся грехами только потому, что
перенесение фактов и выводов из области имен в область реальных предметов
делается бесконтрольно, за неимением у обыденного сознания никаких
общих критериев для определения истинных психологических реальностей.
В самом деле, естественные науки развиваются тоже при посредстве слова,
облекающего в определенную форму все их выводы и обобщения, а между тем
игра в слова здесь почти невозможна, и этим они обязаны, конечно, тому
обстоятельству, что диагностические признаки материальных реальностей
прочно установлены.
Явно, что и в нашем случае слово перестанет быть источником
ошибок у как только наука установит ясно и определенно общие
признаки психических реальностей.
Таким образом, вопрос об общих приемах критической оценки
материала, поставляемого обыденной психологией, заканчивается вопросом,
что нужно разуметь под психической реальностью, которая одна может и
должна быть объектом психологического исследования.
Этот вопрос я разделяю на две половины. В первой постараюсь
показать, что следовало бы изучать как психическую реальность, а во второй,
что можно изучать как таковую.
Выше, проводя параллель между нервными и психическими актами,
я старался доказать их родство между собою с целью доказать
возмож159
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ность разработки последних по аналогии с первыми. При этом речь шла
почти исключительно о внешних признаках актов, об элементах явлений
того и другого рода; но за такой аналогией проявлений предполагались,
конечно, и более существенные сходства — аналогии производящих
причин. Другими словами, если в нервном акте существенным и единственно
реальным является сумма тех материальных процессов, которые
происходят в том или другом отделе нервной системы, то и в психических актах
единственно реальным может быть только соответственная сторона
фактов. В этом смысле психическая реальность получила бы крайне
определенную, так сказать, осязательную форму, и дело отличения психической
реальности от психологической фикции сделалась бы таким же легким,
как, например, для физика дело отличия светового эфира от воздуха.
К несчастью, сведения наши о нервных процессах1, даже для случая
наиэлементарнейших рефлексов, почти равны нулю. Мы знаем лишь
материальную форму, в сфере которой происходит явление, некоторые из
условий его нормальной видоизменяемости, умеем воспроизводить явление
искусственно с тем или другим характером, знаем, какую роль играет в
целом явлении та или другая часть снаряда, и т. д.; но природа тех
движений, которые происходят в нерве и нервных центрах, остается для нас до
сих пор загадкой. Поэтому разработка или по крайней мере выяснение этой
стороны нервных и психических явлений принадлежит отдельному
будущему; мы же осуждены вращаться в сфере проявлений. Тем не менее мысль
о психическом акте как процессе, движении, имеющем определенное
начало, течение и конец, должна быть удержана как основная, во-первых,
потому, что она представляет собою в самом деле крайний предел
отвлечения от суммы всех проявлений психической деятельности, предел, в сфере
которого мысли соответствует еще реальная сторона дела; во-вторых, на
том основании, что и в этой общей форме она все-таки представляет
удобный и легкий критерий для проверки фактов; наконец, в-третьих, потому,
что этой мыслью определяется основной характер задач, составляющих
собою психологию как науку о психических реальностях. В первом
смысле, т. е. как основа научной психологии, мысль о психической
деятельности с точки зрения процесса, движения, представляющая собою лишь
дальнейшее развитие мысли о родстве психических и нервных актов, должна
быть принята за исходную аксиому, подобно тому как в современной
химии исходной истиной считается мысль о неразрушаемости материи.
Принятая как проверочный критерий, она обязывает психологию вывести все
Слово «нервный процесс » с этой минуты не нужно смешивать со словом «нервное
явление »; последний термин я буду употреблять для обозначения внешних
проявлений нервной деятельности, а под первым стану разуметь недоступный нашим
чувствам частичный (молекулярный) процесс в сфере нервов и нервных центров.
160
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
стороны психической деятельности из понятия о процессе, движении. Если
это удается по отношению ко всем типическим формам (конечно, сначала
на простейших примерах) психической деятельности, например по
отношению к различным сторонам чувствования и мышления с их внешними
проявлениями, значит, исходная точка верна. В этом случае все наиболее
сложное, не подходящее под принятую рамку, должно быть смело
оставлено под вопросом для будущего.
Наконец, в смысле определения общего характера задач наш принцип
требует, чтобы психология, подобно ее родной сестре физиологии,
отвечала только на вопросы, как происходит то или другое психическое
движение, проявляющееся чувством, ощущением, представлением, невольным
или произвольным движением, как происходят те процессы, результатом
которых является мысль, и пр.
Теперь все главнейшие орудия исследования у нас налицо, и можно
уже приступить к делу. С чего, однако, начать, где копнуть в том
бесконечно разнообразном материале, который составляет психическую
жизнь? Для первого приступа, казалось бы, лучше всего взять
психическую деятельность какого-нибудь одного человека за маленький
промежуток времени, например за один день, и хоть присмотреться к ее
внешней физиономии. Кто не знает эту картину? Если иметь в виду только ту
сторону ее, которою она отражается в сознании, то психическая жизнь
является родом волшебного фонаря с беспрерывно меняющимися
образами, из которых каждый держится в поле зрения много что секунду или
доли ее, маленькая иногда, как тень, и обыкновенно, уступая место
другому образу, без всякого темного перерыва. Это есть непрерывная цепь
сменяющих друг друга ощущений, чувств, мыслей и представлений,
принимающая то звуковую, то образную или другую форму, — цепь, до
такой степени сплоченная, что сознание отличает в ней пустые промежутки
лишь с крайним трудом, притом в исключительных случаях. И цепь
тянется в такой форме ежедневно, от пробуждения до засыпания; самый
сон не всегда прерывает ее, заменяя образы ночными грезами. Если же
присматриваться к тем влияниям, которые действуют на человека в
течение дня извне, и сопоставить их с продуктами сознания, то в некоторых
случаях между ними можно открыть более или менее легко причинную
связь (когда, например, человек думает непосредственно о виденном,
слышимом, осязаемом и пр.); но чаще, т. е. для большинства звеньев цепи,
такую связь открыть непосредственно невозможно, так что они
являются с виду как бы самобытными продуктами сознания. Не менее сложным
и запутанным представляется отношение между продуктами сознания и
явлениями в двигательной сфере: в течение всего дня в теле замечается
непрерывный ряд движений, которые тоже сменяют друг друга
обыкновенно без ощутимых промежутков, и одни из них появляются как-то
бес6 Российская психология 161
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
цельно, машинально, а между тем стоят в очевидной связи с душевными
движениями (мимика лица и тела); другие принадлежат явственно к
заученным движениям и целесообразны по отношению к определяющим их
в данную минуту мотивам, а между тем и в них чувствуется какая-то
машинальность (сюда относятся, например, все заученные комбинации
движений ремесленника); третьи служат непосредственным воплощением
того, что происходит в сознании (речь); четвертые появляются, наоборот,
без всякого повода и отношения к нему (привычные движения) и пр. и пр.
Все же, взятое вместе, представляет такую пеструю и запутанную картину
без начала и конца, которая во всяком случае заключает в себя крайне мало
приглашающего начать исследование с нее1. В самом счастливом случае
человек вынесет из рассматривания ее только недоумение, представляет
ли психическая жизнь один цельный акт, тянущийся без перерыва всю
жизнь, с сравнительно маленькими промежутками ночного затмения
сознания, или картина эта есть результат сплочения в цепь отдельных
звеньев, совершавших некогда в теле в форме одиночных актов.
Такое недоумение не может, по счастью, продолжаться долго. Есть
очень простой способ убедиться в том, что из обоих воззрений верно
только последнее. Для этого стоит лишь рассматривать картину психической
деятельности не за один только день, а за большой промежуток времени.
При этом оказывается, что в ряду образов, повторяющихся изо дня в день
с утомительными однообразием, выскакивает вдруг нечто новое,
какоенибудь образное представление, чувство, мысль, положенная на слова,
и т. д. Делается проверка, и выходит, что новый гость, втеснившийся в
картину, есть приобретение дня — встреча нового лица, вызванные им
ощущения, новая мысль, прочитанная в книге, и т. д. Еще поучительнее сравнение
картин психической деятельности у образованного человека и
простолюдина: у первого она богата и образами и красками, а у второго все
содержание ее вертится почти исключительно вокруг вопросов о материальном
существовании. Еще один шаг книзу, и вы встречаетесь с сознанием ребенка,
которое, как известно, представляет род канвы, на которой мало-помалу
выводят узоры реальные встречи с внешним миром и воспитание. Не ясно
ли после этого, что дневная картина психической деятельности взрослого
человека должна была слагаться мало-помалу из отдельных актов,
возникавших в различные моменты существования?
Последний вывод делает уже совершенно очевидным, что дневная
картина психической деятельности человека не может быть взята за исходный объект
исследования. Тем не менее взгляд на нее все-таки полезен, потому что из него
естественно вытекает следующая группировка задач нашей науки:
Тем не менее в Германии нашлись-таки люди (Гербарт и его последователи),
которые приняли эту картину за исходный пункт исследования и взялись распутать ее.
162
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
1) психология должна изучать историю возникновения отдельных
элементов картины;
2) изучать способ сплочения отдельных элементов в непрерывное
целое и, наконец,
3) изучать те пружины, которыми определяется каждое новое
возникновение психической деятельности после существовавшего
перерыва.
Или, переводя эти образы на более научный язык:
1) психология должна изучать историю развития ощущений,
представлений, мысли, чувства и пр.,
2) затем изучать способы сочетания всех видов и родов психических
деятелъностей друг с другом, со всеми последствиями такого
сочетания (при этом нужно, однако, наперед иметь в виду, что
слово сочетание есть лишь образ) и, наконец,
3) изучать условия воспроизведения психических деятелъностей.
Явления, относящиеся во все три группы, издавна рассматриваются
во всех психических трактатах1, но так как в прежние времена
«психическим » было только «сознательное », т. е. от цельного натурального
процесса отрывалось начало (которое относилось психологами для
элементарных психических форм в область физиологии) и конец, то объекты
изучения, несмотря на сходство рамок, у нас все-таки другие. История
возникновения отдельных психических актов должна обнимать и начало
их, и внешнее проявление, т. е. двигательную реакцию, куда относится
между прочим и речь. В учении о сочетании элементов психической
деятельности необходимо обращать внимание на то, что делается с началами
и концами отдельных актов. Наконец, в третьем ряду задач должны
изучаться условия репродукции опять-таки целых актов, а не одной
середины их.
Теперь читатель, конечно, вправе ожидать от меня, чтобы я доказал на
деле применимость изложенных общих начал к аналитическому изучению
всех главнейших сторон психических деятельностей; иначе меня
справедливо можно было бы упрекнуть в том, что я, колебля веру в старые пути
науки и как бы указывая на новые, не беру на себя, однако, труда доказать,
что по этим новым путям наука действительно может двигаться. Это я и
постараюсь сделать, но со следующей оговоркой.
В «Рефлексах головного мозга » я уже пытался раз применить эти
самые принципы к разработке всех главнейших форм психической
деятельности, но так как в сочетании много раз настойчиво говорилось, что все
явления разбираются только со стороны способа их происхождения, то у
1 В самом деле во вторую группу задач относится так называемый процесс
ассоциации психических деятельностей, а в третью — процесс репродукции.
6« 163
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
читателя, знакомого с содержанием этой книги, могла до сей поры
совершенно справедливо держаться в голове мысль, что этот этюд в самом
счастливом случае мог доказать только приложимость физиологических
аналогий к чисто внешней стороне психических деятельностей. Теперь же,
когда выяснено, почему психология как наука может касаться в настоящее
время именно только этой стороны явлений, взгляд на дело должен,
очевидно, измениться. Научная психология по всему содержанию не может
быть не чем иным, как рядом учений о происхождении психических
деятельностей. С этой точки зрения все выводы в «Рефлексы головного
мозга », которые я продолжаю считать верными, получают значение
доказательств применимости представленных мною теперь общих начал.
Смотря на дело таким образом, я мог бы, следовательно, ответить на
совершенно законное требование читателя указанием на то, что уже было прежде
сделано мною. Но я поступлю иначе.
Мысль о возможности подвести все главнейшие формы психической
деятельности под тип рефлекторных процессов я развивал в «Рефлексах
головного мозга» на постепенно усложняющихся частных примерах, причем
моими руководящими мыслями были следующие соображения: очень
многие случаи психических явлений носят явственный характер рефлексов:
стало быть, позволительно предположить, что, когда психический акт является
без всякого выражения извне (движением) или, наоборот, двигательный
конец его усилен, случаи эти могут быть подведены под рефлексы с
угнетенным или, наоборот, усиленным концом. Первому случаю оказалась
соответствующей мысль, второму — аффект, страстное движение. Когда эта цель
была достигнута, мне уже оставалось только выяснить на примерах понятие
о произвольности движений, и основная цель была достигнута.
Ту же самую основную мысль я буду развивать и теперь, но иначе.
Я стану следить исторически за психическим развитием человека
(конечно, единичного) с его рождения на свет, постараюсь подметить
главнейшие фазы его (т. е. развития) в том или другом периоде и вывести всякую
последующую фазу из предыдущей. Таким образом, ход мысли, как
более общий, будет обнимать явления полнее, и гипотетические выводы
прежнего труда подкрепятся доводами. При этом я считаю, однако, нужным
оговориться, что не коснусь здесь ни природы так называемых
впечатлений, или, правильнее, рефлексов, ни природы репродукции их, так как
эти явления выяснены были мною прежде и прибавить в этом отношении
что-нибудь существенно новое я не могу. Прошу только читателя
держать в уме, что ассоциация есть результат частого повторения
нескольких последовательных рефлексов, а репродукция любого психического
акта — не что иное, как фотографическое повторение одного и того же
процесса при количественно измененных условиях возбуждения
чувствующего снаряда.
164
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
III
В младенчестве и детском возрасте все психические явления носят
характер рефлексов. Единственные, очень крупные переломы в
последующем психическом развитии составляют: развивающаяся мало-помалу
мысленная способность и произвольность действий. Анализ мышления как
процесса, в связи с его реальным субстратами, показывает, однако, что в
акты мышления не привходит никаких новых элементов, помимо тех,
которыми определяется переход конкретного ощущения из состояния
слитности в более и более расчлененную форму; и так как опыт ясно указывает
на то, что начало процесса расчленения ощущений падает на младенческий
возраст и что процесс идет отсюда без существенных изменений вплоть до
случаев отвлеченного мышления, то этим доказывается, что мысленная
деятельность не представляет перелома ни с какой существенной стороны
в ходе психического развития человека. Физиологический анализ
произвольных движений и перенесение данных этого анализа на психическую
почву приводит к тому же результату и в отношении произвольности
человеческих действий
Вопрос о том, происходят ли все психические деятельности по типу
рефлексов или нет, решается с общей тонки зрения утвердительно, если
можно доказать, что исходные формы, из которых вырастает вся
психическая жизнь, представляют акты, совершающиеся по этому типу,
и что природа процессов не извращается и во все последующие фазы
психического развития.
Чтобы решить первую половину мысли, я приглашаю читателя
вдуматься серьезно в основное требование разума от всякой науки, чтобы она
изучала реальности, и взглянуть с этой точки зрения, где и в чем лежит
начало психического развития человека. Ответ ясен: начало падает на
младенческий возраст.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
К.Д. КАВЕЛИН:
«О ПРОГРАММЕ И МЕТОДАХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Кавелин Константин Дмитриевич (1818—
1885) — правовед, историк, философ, публицист.
В психологии получил известность благодаря
полемике с И.М. Сеченовым. Полемика была вызвана
книгой Кавелина «Задачи психологии» (1872),
главный труд в этой области его научных изысканий.
Исследования по русской истории,
этнографии и правоведению, размышления по поводу
политического положения России привели его к
проблемам нравственных оснований действий
человека. Их решение Кавелин видел в опоре на
этику и психологию, последней отводил центральное
место в науках о человеке. Понимание Кавелиным психологии, методов
исследования психического, которое он изложил в книге «Задачи
психологии», встретило критику у И.М. Сеченова, к тому времени известного
своими программными выступлениями по проблемам психологии.
Сеченов внимательно разобрал систему взглядов Кавелина, указал на их
методическую слабость, неудовлетворительность предложенных им приемов
исследования психических свойств и явлений, личности в целом. С
анализом книги «Задачи психологии» выступил также известный деятель
русской культуры славянофил Ю.Ф. Самарин. Он критиковал Кавелина за
отсутствие связи содержания его программы с религиозным пониманием
человека. Полемика между Кавелиным и Самариным продолжалась три
года (1872-1875) на страницах общественно-политического и
литературного журнала «Вестник Европы».
Дискуссии по поводу книги Кавелина вызвали большой
общественный резонанс. В них отразились различия в подходах к пониманию
психологии в русской науке периода ее становления.
ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ1
Мы не знаем внешнего мира помимо впечатлений, которые он
производит в нас через внешние наши чувства; но эти впечатления, упорным
трудом поколений, очищены от посторонних примесей и получили ту степень
Кавелин К. Д. Задачи психологии. СПб., 1872. С. 22-35; 90-107; 199-203; 228-237.
166
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
объективности, какая составляет непременное условие и основание
положительного знания. Кто думает, что мы изучаем и исследуем реальный,
внешний мир, каков он сам по себе, тот очень ошибается. Наше знание
этого мира есть точное знание получаемых от него впечатлений. Такое знание
не есть мечта и призрак, потому только, что один и тот же предмет или
явление постоянно производят в нас одни и те же впечатления. Конечно,
мы не имеем никаких средств убедиться, что это действительно так, но
заключаем из того, что выводы из одних впечатлений, сделанные с должною
точностью, осмотрительностью и поверкой, оправдываются и
подкрепляются другими впечатлениями. Если б впечатления, производимые в нас
внешними предметами и явлениями не находились с последними в
известном постоянном и правильном соответствии, то не только астрономы не
могли бы безошибочно и точно предсказывать солнечные и лунные
затмения, архитекторы строить дома, инженеры — мосты, врачи — лечить и т. д.,
но не было бы вообще никакой науки и люди не узнавали бы друг друга.
Стало быть, положительное изучение так называемых реальных
предметов и явлений улетучивается, при ближайшей поверке, в психические
действия над психическими фактами.
Обратимся теперь к последним. Мы видели, что они не только
совершаются в душе, но принимают также деятельное участие в реальных
предметах и явлениях, выражаются в них, приурочиваются к ним, приводят их в
тысячи новых сочетаний. Это более или менее заметно на всех созданиях
человеческих рук, — этой второй природе, воздвигаемой человеком над
той, которая живет помимо его действия и вмешательства, а также и на тех
изменениях, которым подвергается человеческое тело под влиянием
психической жизни. В обоих случаях мысль, чувства, деятельность человека
обнаруживаются и становятся доступными для внешних чувств. Только
благодаря такому обнаружению психической жизни во внешних
предметах и явлениях становится возможным, на ряду с знанием природы, и
положительное знание духовной стороны человека. Только на основании
внешних проявлений психической жизни мы можем говорить о праве, об
искусстве, о философии, о науке, о религии, о политике, об истории и т. д.
Будь мы ограничены одним самонаблюдением, мы бы ничего не знали о
психическом мире, кроме тех его явлений, которые происходят в нашей
душе и открываются нашему сознанию; но человек рано стал замечать
обнаружение души, внешние следы ее жизни и деятельности; над ними ему
пришлось точно так же упорно и долго работать, прежде чем они могли
послужить прочным основанием науки. Подобно внешним впечатлениям
материального мира, и их пришлось сперва установить и определить
точным образом в их объективной действительности, очистить от
посторонних примесей, от произвольных толкований, от искажений времени, от
умышленных и неумышленных ошибок тех, которые их передавали или
167
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
толковали. Как в науках о природе большое и видное место занимают
способы точного наблюдения предметов и явлений, точно так же и в науках о
человеке критика источников, т. е. психических следов во внешних
предметах и явлениях, играет первостепенную роль и составляет основание,
без которого наука о духовной стороне человека невозможна.
Из сказанного видно, что психические факты совсем не так шатки и
недоступны для положительного изучения, как многие думают, и что так
называемые положительные, точные науки не имеют, в этом отношении,
никакого преимущества перед науками о психической стороне человека.
Как те, так и другие основывают свои выводы на критически обработанных
впечатлениях; разница только в том, что первые имеют дело с
впечатлениями, непосредственно получаемыми от физического мира, последние — с
впечатлениями, получаемыми от внешних следов психической жизни и
деятельности. Благодаря объективной определенности этих следов стала
возможна даже история верований, языка, политических учений и
учреждений, искусств, наук, философии, культуры. Сравнивая однородные явления
у разных народов и у одного и того же народа в различные эпохи его
исторической жизни, мы узнаем, как эти явления изменялись, и подмечаем
законы таких изменений, которые, в свою очередь, служат материалом для
исследования законов психической жизни и деятельности. Все науки
подготовляют, таким образом, материал для психологии, и от степени
совершенства его выработки зависит большая или меньшая положительность
психологических исследований.
До сих пор мы отвечали материализму разговорному, салонному,
обиходному. Материализм, предъявляющий притязания на научное значение,
не останавливается на приведенных нами возражениях, а смотрит на дело
глубже. Он признает психические явления, их значение и влияние; не
спорит и против того, что их можно изучать как и реальные факты; но видит в
этих явлениях не более как непроизвольные, необходимые последствия
физиологической организации и жизни человека, и, следовательно, в ней
предполагает источник, коренную причину и условие психической жизни.
По этому взгляду, психические явления не более как отправления
физического организма человека, подобно тому, как пищеварение есть отправление
желудка; следовательно, нет никакого основания, да и никакой надобности,
предполагать особый психический мир и душу, как самостоятельный центр и
источник психической жизни. Все психические явления объясняются или
могут быть объяснены физиологическою деятельностью или
патологическим состоянием тех органов, в которых сосредоточивается так
называемая психическая жизнь. Анатомия и физиология доказали, что
впечатления и физические ощущения приводятся к головному мозгу нервами чувств;
от их устройства и состояния и от внешних аппаратов, чрез которые они
приходят в соприкосновение с окружающим миром, зависят все наши
впе168
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
чатления и ощущения, из которых слагаются психические явления;
действия наши точно так же находятся в полной зависимости от нервов
движения. Психическая жизнь, со всеми ее явлениями, заключена в головном и
спинном мозге; если мозг правильно устроен и находится в нормальном
состоянии, то и психическая жизнь совершается нормально; при
малейшем же его расстройстве обнаруживаются ненормальные психические
явления, которые вполне зависят от рода и степени патологического
состояния мозга. Человеку приписывается свободная воля, возможность
произвольных движений; а физиология открыла, что вследствие многообразных
соединений нервов чувств с нервами движений, впечатления и физические ощущения
сами собою, без всякого участия не только воли, но и сознания, сообщаются от
первых к последним и производят разнообразные, непроизвольные
движения, которые потому и называются рефлексами. Мы воображаем, что силою
воли подавляем в себе движения; но они подавляются помимо нашей воли и
нередко сознания, такими же рефлексами, при помощи особых
задерживающих аппаратов. Таким образом, множество движений и действий, которые
считаются результатом деятельности свободной воли, оказываются на
поверку непроизвольными, машинальными. Судя по этому, можно с полным
основанием предположить, что и все прочие действия, которые, за
необъяснением их механизма, мы продолжаем считать произвольными и приписываем
воле и душе, на самом деле окажутся, с дальнейшими успехами анатомии и
физиологии, такими же непроизвольными и рефлективными. Стало быть,
мысль о душе и производимых ею каких-то особых явлениях, различных
от явлений реального мира, оказывается гипотезой совершенно излишней
и ненужной. Психическая жизнь совершается на физиологической
подкладке и в полной зависимости от физиологических условий; психические
явления пропитаны влияниями внешнего мира; взаимодействие
физического и духовного элементов так постоянно и очевидно, что однородность
их едва ли может подлежать какому-нибудь сомнению. Все это убеждает,
что душа и приписываемые ей явления не что иное, как продолжение
телесного организма, а духовная жизнь человека, — дальнейшее развитие
физического существования. Следовательно, если психология и затем еще нужна
и возможна, то приличное ей место отыщется разве только в конце
физиологии, в виде описания мозговых и нервных отправлений. Относим же мы
всех животных к внешней природе и не признаем за ними духовной жизни
и особой психической деятельности; а между ними многие, по своей
интеллигенции, чувствам и кажущимся произвольным действиям, чрезвычайно
напоминают человека, и чем ближе мы изучаем организацию, нравы и
образ жизни животных, тем близость их к человеку в этом отношении
выказывается ярче и разительнее.
Этот взгляд очень распространен между образованными людьми, потому
что опирается на положительные и бесспорные факты. Что психическая жизнь
169
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
и деятельность обусловлены физическими, материальными фактами; что
нормальная психическая деятельность и правильность психических
отправлений находятся в тесной зависимости от состояния телесного организма, об
этом нет и не может быть спора. Признавая всякое действие человека
роковым, необходимым последствием внешних, физических условий,
материалисты вводят всякое действие человека и вообще всякое психическое
явление в круг реальных фактов. Материалистический взгляд принимает
за точку отправленияту, совершенно правильную и верную мысль, что если
психические явления могут оказывать действия на реальный мир, и
наоборот, если реальные предметы имеют влияние на психический мир, то оба
должны быть однородны; иначе они не могли бы находиться в такой тесной
между собой связи и взаимодействии. В чем же заключается их
однородность? В психическом начале? Но все попытки вывести и объяснить
реальный мир из психического оказались безуспешными; итак, думают
материалисты, остается предположить, что психические явления объясняются
физиологическими условиями, реальной природой. На возможность
такого объяснения есть много указаний. Множество представлений,
несомненно, образуются в нас из внешних впечатлений и физических ощущений;
очень вероятно, думают материалисты, что и все остальные наши понятия и
чувства произошли из того же источника. Всего убедительнее говорят в
пользу такого предположения аналогические с человеком явления в
органической природе, и в особенности в царстве животных. Последние имеют,
в низших породах, нервные узлы, а в высших, подобно человеку, мозговую
и нервную системы; чем эти органы развитей и совершенней, тем ближе
животные подходят к человеку по своим психическим отправлениям. Если
мы не признаем самостоятельной, самодеятельной психической жизни в
животных и ищем ее объяснения в физиологических условиях и
устройстве, то на каком основании будем мы приписывать самостоятельное
психическое начало человеку? Что он представляет высшую ступень в
сравнении с животными, не дает еще нам права делать для него изъятия из общего
правила и объяснять его большую развитость причинами, которых мы не
признаем в применении к остальному миру.
Несмотря на всю кажущуюся убедительность этих доводов,
материализм не разрешает задачи, потому что выводы его основаны на
недоказанных гипотезах и на ошибочных заключениях из бесспорных фактов.
Начнем с того, что тесная связь психической и материальной жизни,
конечно, указывает на то, что их источник один. Но неудачные опыты
идеализма открыть этот источник в психической жизни не только не
уполномочивает искать в реальном мире разрешения догадки, но, как мы думаем,
совсем напротив, должны бы заранее отнять всякую надежду достигнуть
этой цели путем изучения внешней природы. Для непредубежденного ума,
психические и реальные явления суть факты двух различных порядков. Их
170
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
единство — искомое науки, неизвестное X, и не может быть объяснено
одним их них, а разве обоими вместе. Почему же, спрашивается, вероятнее
возможность объяснить психическую жизнь физиологическими
условиями, чем реальные явления психическими? О целом заключать можно
только по совокупности частей, а не по одной какой-нибудь его части. Когда
речь идет о неорганических предметах, можно еще, до некоторой степени,
заключать о целом по какой-нибудь части его, но и в таком случае
заключение легко может не оправдаться; в применении же к явлениям
органическим оно просто невозможно. Прибавим, что реальный мир мы знаем по
одним впечатлениям и физическим ощущениям, т. е. как психическое
явление. Что такое материальный мир, что такое материя, мы не знаем, как не
знаем, что такое психический мир и душа. Признаки того и другого мира
мы определяем, только сравнивая их между собою и противополагая один
другому; без того, мы бы не знали даже и этих признаков. Ясно, что
пытаться объяснять, а тем более выводить психическую жизнь из физической,
и наоборот, значит попасть в заколдованный круг или вертеться в
беличьем колесе, из которого нет выхода.
Не более убедителен и тот вывод, будто зависимость психической
жизни от физиологических условий есть аргумент против ее
самостоятельности и самодеятельности. Не подлежит сомнению, что психическая жизнь
возможна только при известном состоянии мозга и нервов, что с
ненормальным их состоянием или разрушением и оно выражается в
ненормальных явлениях или совсем прекращается. Но почему из этого должно
следовать, что психическая среда не может иметь самодеятельности, — этого
никак нельзя понять. Каждый организм, растение или животное, имеет свою
долю самобытности и самодеятельности; но и тот и другой, кругом,
вполне, зависят от окружающей среды, и не находя в ней необходимых условий
для существования или нормальной жизни, искажаются, чахнут и
умирают. Не говорим мы, однако, видя этот факт, что растительные или
животные организмы не что иное, как отправление среды, в которой живут. На
каком же основании станем мы делать такое заключение о психической
жизни и деятельности? С точки зрения положительной науки и по
правилам точной индукции мы, кажется, не имеем к тому никакого повода.
Кроме этих отрицательных доводов против материализма есть и
положительные. Очевидные бесспорные факты показывают, что в душе
нашей происходят своего рода процессы, которых нельзя объяснить иначе,
как самодеятельностью души.
Наши представления о внешних предметах или телесных
впечатлениях не простые, непосредственные оттиски впечатлений внешнего мира,
а, как мы увидим ниже, результат сложной психической работы.
Ссылаемся на очень любопытные исследования Вундта, которого никто не
заподозрит в антиматериалистических предрассудках. Будь психические явления
171
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
в непосредственной зависимости от условий и законов внешней природы,
представления были бы фотографическими оттисками впечатлений
внешнего мира. Если же они результат психической работы, то из этого следует,
что по принятии впечатлений в нас совершается какой-то процесс своего
рода, при помощи которого впечатление переделывается в представление.
Стало быть, есть особая психическая среда и особая психическая жизнь,
которая от соприкосновения с внешним миром только возбуждается к
своеобразной деятельности.
Но в душе человека существуют не одни представления. Рядом с ними
есть множество других психических явлений и фактов, которые имеют
более или менее далекое отношение к непосредственным впечатлениям и
ощущениям, а другие, по-видимому, не имеют с ними никакой связи.
Материалисты едва ли согласятся признать их, вместе с некоторыми
психологами, за прирожденные, непосредственные данные нашей психической
природы. Что же они такое? Продукты? Но тогда надо признать, что в душе
совершаются свои, ей свойственные процессы, которые приводят в новые
сочетания поступающий в душу материал, а это прямо указывает на
самостоятельную психическую деятельность. Статуи, бюсты, картины,
рисунки иногда действительно передают до некоторой степени, хотя и условно,
те впечатления, которые производят на наше зрение внешние предметы и
явления; но зато множество других представляют небывалые в мире
сочетания впечатлений. Не говоря об идеальных изображениях, возьмем
изваяния и картины, представляющие голову медузы, минотавра, крылатых
быков, химеру, драконов, сирен, сатиров, фавнов и т. п.: разве они не
живые, осязательные доказательства того, что между психическим
творчеством и реальными, непосредственными впечатлениями лежит целая
бездна? Но если даже внешние образы, создаваемые нами и впечатления
реальных, физических предметов могут так существенно разниться
между собою, то что сказать о мыслях, взглядах, движениях души, страстях,
которые мы тоже выражаем во внешних предметах?
Самое простое наблюдение над нашею ежедневною жизнью приводит
к тому же результату. Без всякого внешнего повода мы иногда
припоминаем давно забытое. Это значит, что оно из нашего психического резервуара,
или хранилища, подымается на поверхность и представляется нашему
внутреннему зрению. То же происходит в нас, когда мы узнаем уже знакомый
нам внешний предмет или явление. Впечатление его на наши чувства
вызывает из того же резервуара, или хранилища, представление наше о том
предмете или явлении; сравнивая полученное впечатление с сложившимся уже
представлением, мы признаем их совершенное сходство, и это называется
узнать знакомый уже предмет или явление. Такой же процесс происходит
в нас, когда мы встречаем предмет или явление, которых до того времени
совсем не знали или забыли; мы сравниваем тогда полученное новое
впе172
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
чатление с однородными и сходными представлениями, которые
находятся в нашей душе и затем определяем, что оно такое, куда его отнести, какие
его отличительные признаки и какие общие с другими, т. е. узнаем его, но
как нечто новое, чего мы прежде не знали. Все эти и подобные им
психические процессы доказывают самостоятельную, хотя в большинстве случаев
и бессознательную, деятельность души.
Далее. Мы уже заметили выше, что психическая жизнь и деятельность
имеют свои собственные, им исключительно свойственные способы
выражения и что душа может особенным образом принимать впечатления и
возбуждаться к деятельности. Письмена и ноты, конечно, внешние,
материальные предметы, но они служат условными знаками, символами, которые
совсем не то значат для психической жизни, что представляют в качестве
материальных предметов. Это значение их очень удачно выражается в
средневековых сказаниях о каббалистических словах и формулах, которыми
вызываются духи. Письмо, книга, ноты как материальный предмет совсем
не то, что в них открывает душа, потому что ими условно выражаются
самые тайные движения психической жизни, передаются самые
животрепещущие ее мотивы; оттого-то они психическим, а не материальным своим
смыслом так глубоко нас затрагивают, часто имеют на нас потрясающее
действие. Психические влияния, сообщения, сношения происходят при
посредстве внешнего мира и физических предметов, как психическая жизнь
совершается в материальных органах; но эти сообщения нельзя считать
тождественными в внешними предметами и явлениями.
То же самое подтверждает бесчисленная, разнообразная масса
психических явлений и вытекающих из них внешних действий человека,
которые происходят без всяких непосредственных внешних влияний и
побуждений, под одним лишь влиянием психических мотивов. Каждый человек
преследует какую-нибудь цель; но самая материальная и внешняя цель,
возникшая вследствие таких же материальных и внешних побуждений,
является уже психическим деятелем, и ее достижение, приискание и выбор
для того средств могут происходить в нас совершенно независимо от
внешних влияний и побуждений, даже наперекор им. Эта способность к
самостоятельной деятельности, эта возможность инициативы по внутренним
побуждениям доказывает, что психическая жизнь может возбуждаться к
деятельности и из самой себя, при помощи данных и фактов, которые в ней
самой содержатся. Когда мы говорим, что человек погружен в самого себя,
в свои мысли, мы предполагаем в нем способность обращаться к фактам и
явлениям своей психической жизни. Справедливо или нет, что весь
психический материал заимствуется нами из внешнего мира, — это другой
вопрос, который мы рассмотрим в своем месте; но если б это и было
действительно так, то психическая самостоятельность и самодеятельность этим
нисколько не опровергаются; растения берут же свой материал из царства
173
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ископаемых и воздуха, животные — из ископаемого и растительного царств;
однако и в тех и в других признается самостоятельная деятельность и
жизнь, несмотря на то, что они питаются извне. Что мы признаем за
растениями, животными и человеком в материальном отношении, то должны мы
признать и за психическою жизнью, которая тоже представляет
органическое целое, самостоятельное и самодеятельное, хотя и вырастает на почве
физического мира и заимствует из него первоначальный свой материал.
Материализм не отрицает всех этих фактов, но объясняет их
по-своему. То, что мы называем психическим процессом, то в его глазах нервный
или головной рефлекс, который не предполагает ни особой психической
среды, ни участия воли и совершается механически, вследствие внешних
впечатлений или физических ощущений. Это предположение как будто
подкрепляется тем, что множество психических процессов совершается
не только без всякого участия воли, но даже совершенно бессознательно.
Открытие рефлексов и аппаратов, задерживающих рефлексы,
пролило свет на совсем до тех пор темную и непонятную область
непроизвольных движений и объяснило их механизм; но мы не думаем, чтоб это
великое открытие объясняло все психические явления.
Что непроизвольные движения существуют, что они совершаются
механически, — это было известно задолго до научных "наблюдений над
психическими явлениями. Открытие рефлексов и задерживающих аппаратов,
как сказано, только объяснило их механизм, их причины и доказало, что
известные движения, которых значение мы не понимали в других (о своих
движениях мы всегда точно знаем, произвольны они или нет), могут быть
непроизвольными, хотя и кажутся произвольными. Круг наших
положительных знаний чрез это расширился. Но можно ли, не отступая от точного
метода исследования, заключить отсюда, что произвольных движений вовсе
нет, что все движения человека, без изъятия, непроизвольны? Во-первых,
мы знаем из ежедневного опыта, что множество непроизвольных
движений могут быть и произвольными. Часто, в бреду и во сне, мы говорим
бессознательно, следовательно, непроизвольно, то, что говорим с полным
сознанием и преднамеренно, когда не спим и совершенно здоровы; во-вторых,
из того же опыта мы знаем, что движение может быть непроизвольным,
хотя мы его и вполне сознаем; такова зевота, таковы конвульсивные
движения; наконец, из опыта же мы знаем, что множество сознательных и
произвольных движений после частых повторений могут мало-помалу
обратиться в непроизвольные и бессознательные, а это показывает, что закон и
формула рефлексов еще недостаточно выяснены. Что они имеют
физиологическое основание — это, после сделанных точных научных
наблюдений и опытов, совершенно бесспорно; но загадкою остается, какие именно
рефлексы даны самою природою и какие выработаны привычкою,
которой, как сказано, предшествует множество сознательных и произвольных
174
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
движений. То же следует сказать и о деятельности задерживающих
аппаратов; толчком для их деятельности могут служить и рефлексы, и
сознательный акт воли, в чем нетрудно убедиться каждому, кто даст себе труд
наблюдать за своими собственными движениями.
Из сказанного следует, что оба открытия, при всей своей важности
для науки, не дают никакого права отвергать произвольные движения,
другими словами, отвергать самодеятельность души как источника действий.
Наконец, материализм указывает на животных как на доказательство,
что нет ни основания, ни возможности, ни надобности, предполагать в
человеке особое психическое начало и психическую самодеятельность.
Приравнение человека к животным стало в наше время одною из
любимейших тем. Она повторяется на всевозможные лады и вошла, так
сказать, в плоть и кровь взглядов и убеждений значительнейшего
большинства современного образованного общества. Все так ею проникнуты, что
мы теперь едва уже сознаем, чем, собственно, разнится человек от
остального мира. Между тем именно сравнение человека с животным есть довод
не в пользу, а скорее против материалистических воззрений.
Прежде думали, что человека отличает от остальной внешней
природы дар слова; но этот признак нельзя считать характеристическим для
человеческого рода, потому что мы не знаем, ведут ли животные между
собою разговор или нет. Многие данные не оставляют никакого сомнения в
том, что животные, особливо одной породы, понимают друг друга и умеют
взаимно сообщать не одни половые влечения, но и разные доступные им
ощущения и впечатления. Значит, у них, по-видимому, есть свой язык, нам
непонятный, как наш непонятен им, и, следовательно, в этом отношении,
человек мог бы отличаться от животных только большим совершенством,
большим развитием своих способностей.
Говорили также, что человек мыслит, а животные не мыслят. Но
выражение «мыслить» слишком неопределенно и неточно. Если под
мышлением разумеет соображение, то тысячи наблюдений доказывают, что
животные тоже мыслят. Их соображения часто поражают соею сложностью и
тонкостью. Стало быть, и в этом отношении, за человеком остается только
преимущество большей степени развитости. Впрочем, кому не приходило
в голову, глядя на иного извозчика и его лошадь, на иного пастуха и его
собаку, что животное бывает иногда умнее и способнее человека.
Специфического различия человеческой породы от животных искали
также и в других признаках, например, в способности человека жить
семьей и обществом, в развитии в нем чувства, в уменьи приспособлять
внешнюю природу к своим нуждам и потребностям; но ближайшее знакомство
с нравами и привычками животных показало, что этими же свойствами,
качествами и способностями одарены и различные породы животных, так
что вся разница состоит опять только в формах выражения и в большей или
175
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
меньшей степени развития, причем, как сказано, нередко преимущество
остается на стороне животных, а не человека.
Единственное, чем человек действительно, коренным образом,
отличается от всего остального мира, — это способность его выражать во
внешних предметах психические свои состояния и движения, передавать в
образах и знаках совершающиеся в нем психические явления, неподлежащие
внешним чувствам. Ни одно, даже самое развитое и совершенное животное
не может изваять статую, нарисовать картину, начертать план или фасад,
положить звуки на ноты, написать письмо или книгу. В этого рода
деятельность человека не находит даже подражателей между животными.
Рассмотрим ближе эту замечательную особенность.
Когда скульптор или живописец оригинала лепит статую или рисует
портрет, нам кажется, будто он воспроизводит, одни за другими, черты
предмета, который находится перед его глазами: на самом же деле он
воспроизводит только то представление, которое в нем образовалось из
впечатлений, произведенных в нем оригиналом, и притом воспроизводит очень
недостаточно односторонне. Статуя, картина, только в известном
отношении, с известной точки зрения, есть подобие, вдобавок очень
несовершенное, действительного предмета, как он нам представляется, так что
простой человек и не замечает сходства статуи или картины с оригиналом, как
бы оно, для привычного глаза, ни было поразительно. Лучшим
доказательством, что не предмет, а представление о предмете воспроизводится в
статуе или картине, служит то, что статуи делаются, картины пишутся и без
оригинала. Имея его перед глазами, художник только освежает, оживляет
свое представление, которое он хочет выразить, закрепить во внешнем
предмете.
Возьмем далее ноты. Они не представляют даже и подобия того
впечатления, которое ими выражается, как статуя или картина. Мы уже
заметили, что нет ничего общего между звуком и тою точкою, крючком и т. д.,
по которым умеющий читать ноты узнает его с первого взгляда и может
воспроизвести. Между впечатлениями звуков и нотами, которые их
представляют, существует только условное соответствие. Чтоб распознать
сходство портрета или бюста с оригиналом нужна только некоторая
привычка глаза, т. е. нужно освоиться с теми переменами, которые
происходят в непосредственном впечатлении предмета, при передаче его в
мраморе, дереве, на полотне или бумаге. Но чтоб написать или разбирать ноты,
одного такого навыка недостаточно; нужно знать условное значение
каждого знака, потому что сам по себе он не изображает впечатления звука.
Письмена идут еще дальше. Они не только изображают впечатления,
доступные чувствам, подобно статуе или картине, но даже психические
факты и явления, вовсе не имеющие непосредственного характера.
Подобно нотам, письмена — условные знаки, не имеющие, сами по себе, ничего
176
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
общего с выражаемыми предметами; но в нотах знаки представляют
непосредственные впечатления звуков и ничего больше; а буквы, хотя тоже
выражают звуки, но такие, которые сами по себе ничего не значат, а
представляют, иногда по одиночке, большею же частью в известных
сочетаниях, какой-нибудь предмет, явление, действие, ощущение и т. п.; звуки
являются тут посредниками, без которых легко и обойтись: не прибегая вовсе
к голосу, мы при помощи одних письмен можем сноситься между собою и
узнаем дела и мысли давно умерших людей.
Таким образом, статуи, картины, ноты, письмена, — факты
осязательные, реальные, доступные внешним чувствам, — свидетельствуют
несомненным образом о том, что сверх деятельности, общей с животными,
человек имеет еще свою особенную, характеристическую, ему одному
исключительно свойственную воспроизводить представления во внешнем
образе, приурочивать психические состояния, чувства, мысли, словом,
психические факты и события к известным внешним условным знакам, по
которым они могут быть узнаны и воспроизведены. Такая деятельность
человека показывает, во-первых, что он одарен каким-то психическим
зрением: не имей он способности видеть находящихся или происходящих
в нем психических фактов, он не был бы в состоянии выражать их в образе
или условном знаке, они вовсе бы для него не существовали и он не имел бы
об них ни малейшего понятия. Что психические факты выражаются в
образах и условных знаках, показывает, во-вторых, что психические явления
имеют в нашей душе действительное существование и свою точную
определенность и объективность. Без этого нельзя было бы говорить о более
или менее точном и совершенном выражении их во внешнем образе или
знаке и был бы невозможен спор о том, соответствует или не соответствует
образ или знак тому или другому психическому факту, или какое
настоящее значение этих образов и знаков. Сравнивая между собою
художественные или литературные произведения, мы отдаем предпочтение одним
перед другими, потому что одни глубже, лучше, точнее, чем другие передают
психическую действительность, которую изображают; должна же эта
действительность иметь свою, точно обозначенную, определенную и
очерченную форму, свою объективность; иначе как бы мы могли сравнивать между
собою ее изображения и поверять, схожи ли они с оригиналом и в какой
мере?
Мы рассмотрели теперь все основания материализма и видели, что ни
один из них не может быть принят положительным знанием, потому что
они выведены не согласно с правилами индуктивного метода, на авторитет
которого материалисты обыкновенно ссылаются. Но этого мало: самое
доставление задачи и исходная точка материализма крайне сбивчивы и
шатки. Материализм отрицает свободную волю, находя, что она несовместима
с законом необходимости; но не странно ли, что он ссылается при этом на
177
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
естественные законы и науки физической природы, тогда как
необходимость естественных явлений как нельзя лучше уживается рядом с
психическою свободою воли и между тою и другою нет собственно никакого
противоречия? Мысль, что душа есть особого рода самодеятельный организм,
должна вызвать возражения со стороны и идеалистов, и реалистов — этих
последних представителей средневекового дуализма. Первым такой взгляд
покажется слишком материальным, потому что он сближает душу с
внешней природой; им душа все еще представляется чем-то неопределенным,
неуловимым, не подлежащим никаким законам, чем-то состоящим в
каких-то, тоже очень неопределенных, отношениях к телу и остальной
природе. Но если душа и психическая жизнь действительно таковы, то как
могут они быть предметом научного исследования? Между тем идеалисты,
очень непоследовательно, строят о таких неопределенных предметах
целые теории, которым силятся присвоить научное значение. С другой
стороны, реалисты, страстно и односторонне отрицающие туманные учения
идеализма, вероятно, очень подозрительно взглянут на признание души за
самостоятельный, самодеятельный источник явлений особого рода; в
подобном воззрении им, без сомнения, будут мерещиться отжившие тезисы
идеализма. И те и другие, судя о взгляде по готовым шаблонам и крепко
держась за свои учения в виду противника, одинаково недружелюбно встретят
всякую попытку развязать узел, завязанный давным-давно, при совершенно
ином состоянии наук и остающийся до сих пор нераспутанным только
благодаря бесчисленным старым и новым недоразумениям и предрассудкам.
Однако когда-нибудь, рано или поздно, а придется его распутывать. С вопросом
о психической жизни тесно связаны самые близкие, самые дорогие
нравственные интересы человеческого рода. Идеалисты и реалисты,
отворачиваясь от положительных, несомненных фактов, не подходящих под их
воззрения, оказываются равно несостоятельными вывести психологию на
прямой путь; но и те и другие, с различных точек зрения, предъявляют
требования, которые вытекают из самого существа дела и не могут быть
безнаказанно пренебрежены или отвергнуты. Вся задача состоит теперь в том,
чтоб понять эти требования и дать им место в науке. Мы это и стараемся
сделать, выставляя гипотезу, что душа есть живой организм. Такая
гипотеза, как мы думаем, разрешает все споры и недоумения; только она одна в
состоянии придать явлениям психической жизни значение
положительных данных, доступных научному исследованию. Постараемся объяснить
нашу мысль.
Прежде всего останавливает на себе внимание тот факт, что одни из
явлений, в которых обнаруживается жизнь и деятельность человека,
происходят вследствие внешних влияний и возбуждений, механически, по
законам материальной природы; другие, напротив, вызываются,
по-видимому, самостоятельною деятельностью особого рода, идущею из человека
178
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
независимо от внешних возбуждений и которая вносит в его жизнь и
отправления новые условия, видоизменяющие необходимый ход явлений.
Общее сознание уже давно открыло эти два противоположные, друг другу
на встречу идущие тока, и все явления первого порядка приписало телу,
второго — душе; но когда отсюда возникли вопросы, что же такое душа и
тело, в каком отношении они находятся друг к другу и где разделяющая их
черта, — наука, после долгих тщетных попыток и блужданий, должна была
наконец отказаться от разрешения этих вопросов. Чем больше
накоплялось данных, чем разностороннее и глубже они исследовались, тем больше
и больше выяснялось, что границу между душою и телом провести
невозможно, — так они тесно между собою связаны и взаимно проникают друг
друга; что притивополагать их точно так же невозможно, во-первых,
потому, что они непосредственно между собою соединены; во-вторых, потому,
что душа и тело, как они представляются общему сознанию,
несоизмеримы, не имеют решительно ничего между собою общего; в-третьих, — и это
главное, — потому, что психические явления, насколько они
соприкасаются с внешним миром и могут быть наблюдаемы в связи с материальными
фактами, не что иное, как своеобразные видоизменения этих фактов, и
никакого особого, им собственно принадлежащего не имеют: психические
явления, обнаруживающиеся в материальных фактах, отличаются от
последних только иною их группировкой. Анализируя наши ощущения,
мысли, представления, движения воли, обращенные к материальному миру,
мы находим, что они — то же самое что соответствующие им явления
материального мира, только в других сочетаниях, вследствие чего имеют
другой вид и форму. Итак, с точки зрения внешнего мира душа есть не что иное,
как центр, из которого идут процессы, претворяющие материальные
факты, преобразующие их форму, или особого рода аппарат, чрез который и
посредством которого совершается это превращение. Процесс таких
превращений, насколько мы можем его проследить, происходит таким
образом: сначала душа, под влиянием впечатлений окружающего мира, и
ближайшем образом тела, воспроизводит в себе представления и мысли,
соответствующие этим впечатлениям, разлагает их, приводит в новые
сочетания и в этом новом виде возвращает во внешний мир, создавая для него
чрез это образцы новых, небывалых явлений; по этим образцам
переделывается и перестраивается потом окружающая человека среда и самое тело.
Впрочем, чрез такое творчество ничего во внешней природе материально не
прибавляется и ничего не убывает; законы ее остаются ненарушимо те же
самые; образуются только новые комбинации и формы, невозможные без
участия человека. Такое взаимодействие материального мира и души
представляет не более как особый вид органической жизни; как всякий
организм принимает в себя пищу извне, перерабатывает ее, обновляется ею и
затем возвращает ее из себя в других сочетаниях, так и душа принимает из
179
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
вне впечатления, удерживает их в себе, перерабатывает и преобразует ими
материальную среду, в которой живет. Чтоб быть таким преобразующем
центром в материальном мире, душа необходимо должна находиться с ним
в теснейшей, неразрывной связи, составлять его неорганическую часть,
продолжение, высшую ступень; иначе нельзя себе представить, каким
образом душа и тело могли бы действовать друг на друга. Вот причина,
почему дуализм, развившийся постепенно и незаметно из первоначального
различения души от тела в резкое противоположение их друг другу, был
отброшен наукою и заменен представлением о единстве человеческой
природы. Это воззрение уже пустило глубокие корни в современном сознании
и теперь лежит в основании всех научных исследований и миросозерцании.
Если результаты его покуда так шатки и сомнительны, несмотря на
богатство научно разработанного материала и наблюдений, то причины должно
искать единственно в том, что дуализм, побежденный в принципе,
продолжает до сих пор крепко держаться в головах в виде бессознательного
предрассудка. Материалисты и реалисты, судя о психической жизни только по
ее явлениям, обращенным к материальному миру, видят в душе не более
как механизм, приданный телу и принимающий известное участие в его
жизни по законам физической природы. Взгляд их односторонен,
неполон, но он выведен из самых строгих и точных исследований. Вместо того
чтоб его дополнить, спиритуалисты и идеалисты закрывают глаза перед
очевидными фактами и потому, в споре с ними, побеждены. Возможно ли в
самом деле, не вводя в заблуждение себя и других, отрицать, что
психические состояния и самая психическая жизнь находятся под непрерывным и
сильным влиянием материальных условий и фактов? Душа глубоко вросла
своими корнями в материальный мир, вплетена в него бесчисленными
нитями; почва ее и начальные ее мотивы вполне физического свойства;
чувство, по природе своей, пропитано материальными элементами, и оттого
так сильно действует на физический организм; мало того: способность к
умственным нравственным привычкам, в которых скрывается причина
известного склада ума, нравственных наклонностей, нравственного
характера, указывает на материальную основу души. Во всех названных явлениях,
которые мы привыкли считать за самые идеальные ее стороны, выражается
лишь накопление психических упражнений и опытов, их капитализация,
совершенно сходная с накоплением следов физических упражнений в
привычках тела и его органов. Источник и закон их очевидно один и тот же,
и если душа способна по привычке, непреднамеренно действовать в данных
случаях известным, а не другим образом, то нельзя отрицать, что это ее
свойство сближает ее с внешней природой, которая также непроизвольно,
по привычке, производит, при известных условиях, одни и те же известные
явления. Обратимся ли к ходу развития отдельного человека, или целого
народа, или всего рода человеческого — и здесь мы найдем подтверждение
180
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
той истины, что психическая жизнь сплетена с материальной
неразрывными узами. В самом начале душа дремлет. Первые признаки психической
жизни обнаруживаются медленно, и лишь мало-помалу она
высвобождается из-под подавляющих материальных влияний, которые, чем дальше
назад, ближе к началу, тем царят полновластнее и нераздельнее. Много
проходит времени, пока душа, возмужав и окрепнув, начинает жить
самостоятельною жизнью, становится самодеятельною, центром и
источником своеобразных явлений. Достигнув этой степени развития, она
обращается на внешний мир и перестановкою его естественных условий
производит в нем новые, невиданные дотоле сочетания. Такая переделка
окружающей среды возможна лишь потому, что, выработавшись из-под
материального мира, став выше его, душа остается запечатленною
материальным характером, по крайней мере стой стороны, которой она
обращена к природе и находится с нею в непосредственных
соприкосновениях. Отвергая эти несомненные факты, из боязни компрометировать
психическое начало и его самостоятельность, спиритуалисты и
идеалисты теряют почву под ногами и доставляют своим противникам легкую
победу. Психическое начало не требует вовсе, для своей защиты,
отрицания фактов, доказанных наукою.
Вот в чем, по нашему мнению, заключается слабая сторона идеализма,
которая и должна быть отброшена наукою. Коренные недостатки
реалистических воззрений — совсем другого рода. Реалисты теряют из виду, что
психическая жизнь и деятельность не исчерпываются одними
отношениями души к материальному миру. За той ее стороной, которая обращена к
внешней природе, существует другая, недоступная внешним наблюдениям
и опытам, не имеющая прямого отношения к материальным фактам. Эта
сторона не может быть предметом исследований по материальным данным
и открывается только психическому зрению, которого тоже нельзя
объяснить никакими материальными фактами. Мало того: вся
преобразовательная, творческая деятельность человека во внешнем мире представляется
внешним чувствам только в своих результатах; психические процессы,
подготовляющие образцы новых сочетаний условий и фактов в материальной
среде, скрыты от внешних чувств; источник и механизм самопроизвольных
движений точно так же недоступен внешним наблюдениям. Материалисты
и реалисты отвергают эту сторону психической жизни совершенно
неправильно; они только не могут ее видеть, как они не могут, исследуя одни
внешние, материальные факты, подойти к свободной воле и ее явлениям.
С реальной точки зрения источники и главные двигатели психической
жизни теряются в неизвестной дали, куда внешние чувства не проникают, и
реалисты, конечно, не правы, отвергая достоверность того, что недоступно
внешним чувствам, когда есть другой орган, психическое зрение, которым
обусловлено самонаблюдение и которому это недоступно открыто и
види181
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
мо. Но как же отвечает на это отрицание идеализм? Вместо того, чтоб
поднять нить исследований там, где она для реалистов обрывается, и
попытаться другими путями проникнуть к самым источникам психической
жизни, недоступным для реального знания, идеалисты тщетно усиливаются
отвоевать у естествознания то, что ему принадлежит прочно и несомненно;
им бы следовало знать, что отношениями к материальному миру
деятельность души далеко не ограничивается; что за пределами мира,
подлежащего внешним чувствам, психическому зрению открывается целый мир
другого порядка. Здесь душа точно так же действует на самое себя, как во
внешнем мире — на материальную природу. Преобразуя внешнюю свою
обстановку, человек переделывает и самого себя. Таким образом, в душе
заключается источник ее самостоятельности и самодеятельности; она дает
человеку точку опоры не только для борьбы с окружающим, но и с самим
собой. Над видимым материальным миром, в душе человека создается
другой, невидимый, идеальный мир — мир представлений и мыслей, которому
человек подчиняет свое личное, индивидуальное существование, по
требованиям и законам которого он воспитывает, перерабатывает, переделывает свою
интимную психическую жизнь. Во взаимных отношениях этого
невидимого мира и личных, индивидуальных наклонностей человека, в их
столкновениях и борьбе, которая представляется нам в виде внутренней борьбы
чувства с разумом и его решениями, заключается весь смысл и высокий
интерес нравственной жизни человека. Бывают эпохи, когда перевороты в
установившихся формах жизни отодвигают этот интерес на второй план,
когда критика этих форм, расшатанных и отживших свое время,
поглощает все силы, всю деятельность; в такие эпохи, индивидуальная жизнь,
лишенная точки опоры, теряет как будто значение, не имеет цели, пуста и
бесцветна; но тогда рука об руку с нравственным распадением и
ничтожеством людей идет и коренное распадение самых оснований общественной
жизни, а это рано или поздно вынуждает снова стремиться к воссозданию,
на обновленных началах, индивидуальной психической жизни, вынуждает
опять обратиться к той почве, на которой строится и стоит все здание
общественности. Таково наше время, и здесь-то должно искать причины того
отсутствия идеалов, той убыли души, на которую мы так горько жалуемся.
Верования и воззрения людей запутались в безысходных противоречиях;
почва колеблется под ногами; все стало зыбко и непрочно; вместе с тем и
человек изверился, психически измельчал, дошел до поразительного
бессилия и ничтожества. Странно и жалко видеть, что в такое время
идеалисты и реалисты во имя давнишнего спора, не имеющего больше смысла,
отстаивают с настойчивостью, достойною лучшего дела, обветшалые и
невозможные тезисы. Пора, кажется, перестать отрицать бесспорные
научные выводы и упорно отвергать столько же несомненные факты потому
только, что они не подлежат внешним чувствам. Единство человеческой
182
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
природы, к которому приводят ныне самые разносторонние научные
исследования, нисколько не будет нарушено, если мы, на основании таких же
исследований, допустим, что в человеке заключаются два организма,
развившиеся из одного общего корня и вследствие того тесно между собою
соединенные и взаимно друг на друга действующие, но в то же время
различенные, живущие кроме им обоим общей и своею особою жизнью и
производящие, каждый, своеобразные явления. В свойствах этих организмов и
их взаимодействии заключается, как мы думаем, вся суть человеческой
природы и объяснение всех ее разнообразных проявлений.
Но если душа есть действительно организм, то спрашивается: какая
его природа, или каков он по своему существу и чем разнится, в этом
отношении, от физического организма, с которым так тесно связан? Эти
вопросы когда-то сильно волновали умы, но потом постепенно упали. Мы уже
сказали выше, что тело и душу нельзя противополагать друг другу, потому
что многие черты, долго считавшиеся исключительною принадлежностью
одной материальной природы, оказываются, при ближайшем
рассмотрении, общею принадлежностью и физической, и психической жизни; так
многие несомненно психические явления совершаются по определенным
законам, с неизбежною правильностью, напоминающею роковую
необходимость явлений материального мира; точно так же, многое совершается в
душе бессознательно, хотя мы и думаем, что бессознательность есть
свойство одной внешней природы. Резкое противоположение материального
психическому и попытки определить сущность, природу того и другого
возникли в исходе Средних веков, когда сложилось представление о
материи, только как о чем-то косном, протяженном, неоживленном,
непроницаемом, подлежащем внешним чувствам, а другие ее свойства и
принадлежности еще не обратили на себя внимание. Такое огранич.енное, неполное
представление образовалось под влиянием самых отвлеченных из
отвлеченных наук, математики и механики, которые имеют дело только с этими,
действительными или предполагаемыми свойствами и принадлежностями
внешней природы и опускают из виду все другие, до которых им нет дела.
В исходе Средних веков, когда другие отрасли естествознания, кроме
математики и механики, или не существовали, или находились в
младенчестве, иного представления о материи и быть не могло. При таком взгляде и
при убеждении, что материя противоположна душе, определить природу
или существо последней казалось легко: стоило только приписать ей
свойства, противоположные свойствам материи. Но с тех пор многое
существенно изменилось. Самое представление о материи вообще исчезло из
положительных наук, и удержалось, по преданию и привычке, только в
философии и психологии, этих хранилищах разного средневекового
хлама. Физика и химия, естественная история, анатомия и физиология
показали, что неоживленной материи вовсе не существует, что материя, в этом
183
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
смысле, есть отвлеченное понятие, существующее только в нашей голове,
а не в действительности. Электричество, магнетизм, гальванизм, теплота,
химическое сродство, растительная и животная жизнь — материальные
явления, не подходящие под математическое и механическое определение
материи. Наконец, знакомство с органическою жизнью нанесло этому
представлению о материи окончательный удар, а с тем вместе в самом
основании пошатнуло дуалистическое противоположение души внешней
природе. Организм — предмет сравнительно новый в науке и еще невыясненный
вполне; но судя уже по тому, что мы об нем знаем, можно предвидеть, что
его дальнейшее изучение коренным образом изменит взгляд на природу и
материальную жизнь вообще. Всякий организм представляет собою
какой-то узел, как бы особую форму, около которой группируются
разнообразные процессы; она обусловливает их, определяет известный их
круговорот, оставаясь одною и тою же, несмотря на более или менее быструю и
полную замену одних материальных составных частиц организма
другими. Этот узел, эта форма решительно спутывает все наши предвзятые
понятия о материи. Самый тщательный анализ не открыл доселе в
физических организмах ничего такого, что не находилось бы в природе вне их,
только в других сочетаниях; между тем организм не есть сумма этих
составных частей, что-то особое, какой-то особый образ, в условиях
которого, нам совершенно неизвестных и непонятных, совершается материальная
жизнь. Что эта форма вполне принадлежит физической природе — не
подлежит сомнению после исследований Дарвина, который доказал
теснейшую ее зависимость от внешней обстановки и условий; но между
представлением о материи, к которому приводят физические организмы, и понятием,
какое сложилось вследствие изучения математики и механики, лежит
целая бездна; форма организма, определяющая его развитие и отправление,
точно такая же реальная действительность, как и те свойства, которые мы
до сих пор приписывали материи; а между тем эта форма не имеет ни
одного их этих свойств. В виду организмов, средневековое противоположение
души телу окончательно пало за неимением точки опоры. Успехи
естествознания привели к убеждению, что неоживленной материи вовсе не
существует, что неорганическая природа теснейшим образом связана с
органической, что последняя представляет бесчисленное множество организмов,
более или менее развитых, что ряды их тянутся, переплетаясь между
собою, от неорганического мира до человека, который физически
представляет самый развитой и относительно совершенный из всех организмов.
Сравнивая организмы между собою, мы не в состоянии определить, чем
они отличаются друг от друга по существу, по своей природе; видим
только, что одни устроены так, другие иначе; что одни перерабатывают только
неорганический материал, другие, сверх того, и органический; притом одни
претворяют органический материал только известнаго рода, другие
не184
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
скольких или даже всяких родов. Откуда происходят эти различия, как и
почему образовались такие или другие органические формации — на эти
вопросы наука, пока, не в состоянии отвечать; а если существо физических
организмов составляет для нас пока тайну, то нечего и задаваться
вопросом, чем различаются физические и психические организмы по своей
сущности или природе; по крайней мере в настоящее время о разрешении таких
вопросов нельзя и думать.
Кроме этих вопросов есть в психологии другие, к ним близкие и более
нам доступные, которые в порядке нашего изложения стоят первыми на
очереди и для разрешения которых уже собрано довольно, отчасти
критически разработанного материала: мы разумеем вопросы о свойствах и
способностях души и о строении душевного организма. По удивительной
путанице всех психологических понятий, которою отличается наше время, на
определение существа или природы души тратилась, еще недавно, бездна
бесплодного труда и усилий; а ее свойства, ее особенности, ее внутреннее
строение, которые выражаются в множестве психических фактов,
доступных для исследования, оставлены в стороне нерассмотренными. Между
тем если душа есть самостоятельный и самодеятельный организм, то
явления и факты, в которых проявляется психическая жизнь и деятельность,
должны обусловливаться его свойствами и особенностями его
внутреннего строения и могут быть объяснены только им, и наоборот: по свойствам и
характеристическим особенностям психических явлений и фактов мы
можем составить себе хотя приблизительно понятие о внутренней
организации души. Предмет этот потому ближайший на очереди, что операции
мышления, произвольность движений и другие психические процессы, которые
мы будем рассматривать ниже, находятся в тесной зависимости от
организации души и уже предполагают знакомство с нею. Что касается материала
для исследования этого предмета, то он гораздо богаче, чем обыкновенно
думают. По странному предрассудку, обязанному своим
происхождением младенческому состоянию психологии, мы воображаем, что круг
психологических исследований ограничен одними фактами, добытыми чрез
самонаблюдение; но жизнь души выражается во внешнем творчестве,
вообще во всей внешней деятельности человека; объективными следами его
психической жизни наполнено все, что его окружает, и из сравнения их с
фактами и явлениями природы, возникающими без участия человека, мы
легко можем открывать характеристические особенности и самые законы
психической жизни. Слова и речь, сочетание звуков, художественные
произведения, наука, обычаи и верования, материальные создания,
гражданские и политические уставы, памятники исторической жизни — словом все,
в чем только выражается деятельность человека, служит, в этом смысле,
материалом для психологических наблюдений и исследований; надо
только уметь им пользоваться; историки придумали же способы извлекать из
185
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
народных обычаев, легенд, мифов скрывающиеся в них исторические
факты; они научились снимать с них оболочку, сотканную психической
обработкой; в психологических исследованиях все внимание, напротив,
должно быть обращено именно на эту обработку, потому что она-то и содержит
в себе объективный след психической деятельности, по которому и
должно изучать свойства, особенности и законы психической жизни. Греки из
наблюдений над словом и речью вывели формы и законы мышления; точно
таким же образом должна быть создана и психология, и только тогда она
станет положительной наукой.
Чтоб ознакомиться со свойствами и внутренним строением
душевного организма, следует, разумеется, рассмотреть прежде всего те факты,
которые считаются отличительными характеристическими признаками
психического элемента, выражают его по преимуществу. Такими
фактами, как мы видели, считаются три: идеальность, сознательность и
самопроизвольность или воля. Но из них идеальность, как мы уже заметили и еще
подробно объясним впоследствии, есть продукт психических операций и
процессов, которые, в свою очередь, обусловливаются известными
свойствами и строением души; поэтому последние не обнаруживаются
непосредственно в идеальности и недоступны в ней для наблюдения. То же
самое должно сказать и о воле; к тому же реалисты, как известно, отрицают
волю и самодеятельность души, а на спорных фактах нельзя основать
исследования. Итак, остается сознательность, с которой мы и начнем
рассмотрение условий психической жизни.
Что такое, спрашивается, сознательность или сознание? Оно и есть то,
что мы не раз называли внутренним, психическим зрением, — именно акт,
отправление способности видеть особенным образом, без помощи
физического глаза то, что невидимо для него заключается или происходит в
нашей душе. Когда я рассматриваю свое лицо в зеркале, я вижу его
физическим зрением; но когда я сознаю свою мысль, чувство, желание или
намерение, то очевидно, что я вижу их, но вижу особенным образом,
потому что видеть физически, материально свою мысль, чувство, желание или
намерение — нельзя. Нам скажут: угадываем же мы чувства, мысли, цели
других людей, хотя и не видим их физически, внешним образом; для этого
нам служат внешние признаки, в которых выражаются психические
состояния и факты: стало быть, чтобы знать их, нет надобности ни в каком
внутреннем зрении: они узнаются по внешним данным, как и все остальное. Все
это, конечно, так. Заметим одно: то, что мы сами думаем, чувствуем,
желаем или замышляем, мы сознаем ясно и определенно без помощи внешних
признаков, непосредственно, внутренним образом; значит, мы имеем
способность, помимо внешних чувств, узнавать то, что заключается или
происходит в нашей душе. Внешние признаки, в которых выражаются
психические состояния и движения других людей, имеют для нас смысл потому,
186
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
что мы сами в себе испытываем такие же состояния и знаем или видим их
психически; по наведению (аналогии) мы заключаем о них и в других
людях; не знай мы их по собственному опыту, мы и не подозревали бы, что
такие-то психические состояния и движения обнаруживаются в таких-то
внешних признаках, что между теми и другими существует известное,
правильное, постоянное соответствие, и потому, когда таких внешних
признаков нет, например когда мы их не видим физически, или когда человек
умеет так искусно скрывать свои внутренние состояния и движения, что они
вовсе не выступают наружу во внешних признаках, мы не знаем и не можем
знать что происходит в его душе; тогда чужая душа для нас — потемки,
скажем здесь кстати, что название «внутреннее, психическое зрение» не
совсем точно. Описанная выше психическая способность соответствует не
одному зрению, но и другим внешним чувствам; но название это вошло в
употребление, и мы его удерживаем за неимением лучшего.
Рассказывают, что люди, погруженные в магнетический сон,
способны отчетливо и ясно видеть внутреннее строение тела, все его внутренние
органы и внутренние физические процессы и отправления. Если эти
рассказы справедливы, то магнетическое ясновидение, в ряду физических
явлений, представляет факт аналогический с психическим зрением: как
ясновидящий непосредственно, без помощи физического глаза, видит и знает,
что заключается и делается внутри его тела, так мы знаем и видим
непосредственно что содержится или заключается в нашей душе и что
недоступно для внешних чувств.
Но мы видим непосредственно не только свои мысли, чувства,
желания и намерения: мы как бы видим психически самих себя. В этом,
ближайшим образом, выражается различие между сознанием и самосознанием.
Когда человек думает о себе, когда он говорит: «Я», ему представляются
не физические его особенности, не психические свойства, а та, если можно
так выразиться, единица, — невидимая, неподлежащая внешним чувствам,
к которой сходятся и из которой вытекают все физические и психические
особенности, делающие его таким-то, а не другим человеком, т. е. им
самим, самим собою. В частичке «Я» выражается, что человек внутренне,
психически, видит самого себя. Это состояние его можно выразить так: он
смотрит на самого себя как на что-то постороннее, другое, сознавая в то же
время, что это другое есть он сам. Чтоб наглядно, хотя и не совсем точно,
представить себе это состояние, припомним ощущение, какое
испытываем, глядясь в зеркало: в нем отражается наш образ; этот образ нечто для
нас постороннее, внешнее, другое; но мы знаем, что это другое — мы сами,
что мы и он — одно и то же.
Сознание, а тем более самосознание предполагают в душе два
свойства: память и способность раздвояться внутри себя, оставаясь в то же
время единой и цельной. На эти свойства указывает самое простое
соображе187
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ние. Видеть психически можно только то, что есть, находится в нашей душе,
что отпечатлевшись, сохранилось или удержалось в ней; а как психическое
зрение есть обращение души на то, что в ней же самой происходит или на
самою себя (в самосознании), то значит, она способна раздвояться в себе,
оставаясь нераздельной и цельной.
Остановимся на этих двух свойствах.
Слово «память», не совсем верно выражает способность души,
которую мы здесь разумеем. Память часто смешивается в разговоре с
воспоминанием; но воспоминание есть очевидно то же, что сознание, и было бы
невозможно, если б в душе не сохранились, не были удержаны полученные
впечатления. Способность их удерживать, сохранять мы и имеем здесь в
виду как основное, прирожденное свойство души, от которого
воспоминание находится в полной зависимости и от которого оно происходит, при
участии двух таких же прирожденных способностей: психического зрения
и внутреннего раздвоения души.
Память, в смысле свойства души сохранять впечатления, есть одно из
первых, основных условий психической жизни. Последнюю нельзя себе
без нее и представить. Если б в душе вовсе не сохранялось то, что на нее
действует, и каждое впечатление без следа исчезало вместе с удалением
предмета или явления, которые произвели впечатление, то человек не мог
бы ничего сопоставлять, сравнивать и различать, не мог бы узнавать
знакомое, не имел бы ни представлений, ни мыслей; словом, он стоял бы ниже
всех животных, которые, будучи психически менее развиты, чем человек,
умеют однако различать предметы и узнавать их. Нет ни одного
психического акта, который бы не предполагал памяти. Без нее было бы
невозможно самое представление о душе как о чем-то самостоятельном и
самодеятельном.
Говоря о способности души сохранять впечатления, мы обыкновенно
подразумеваем одни впечатления внешнего мира, материальные, и не
замечаем, что способность эта точно так же применяется и к фактам
психическим, не подлежащим внешним чувствам; однако нет ни малейшего
сомнения в том, что мы удерживаем в душе не только черты человека,
с которым познакомились, слышанный разговор или музыкальную пьесу,
но и мысль, которая нам пришла в голову, чувства, желания, которые
когда-то испытывали, намерение, созревшее в душе. Это показывает, что не
одни внешние предметы, но и психические явления, недоступные внешним
чувствам, производят в душе впечатления, которые в ней тоже
сохраняются. Способность удерживать этого рода впечатления, которые мы, в
отличие от внешних, назовем психическими, имеет гораздо более обширное
применение, чем может показаться с первого взгляда. Нет такого психического
отправления, операции, процесса, нет душевного движения, факта
психической жизни, который бы не производил в душе впечатления и в ней не
188
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
сохранялся. Если мы имеем понятие о сознании и самосознании, о любви и
ненависти, о представлении и мысли, об уме, воле, душе и т. д., то
единственно потому, что все эти психические предметы и явления, будь они
первоначальные факты или продукты психических процессов и операций,
отпечатлеваются в душе и сохраняются, так что могут представляться
сознанию. Таким образом, душа имеет удивительное свойство отражаться в
самой себе со всеми малейшими подробностями того, что она есть и что в
ней происходит и со всеми результатами и последствиями ее
деятельности. По этим отражениям или психическим впечатлениям, сохранившимся в
душе, мы и имеем возможность, поверяя их, восстановляя, обрабатывая
критически, научным образом, подобно тому, как обрабатываем следы внешней
психической деятельности, изучать психическую жизнь и ее явления.
Внутреннее зрение и способность души получать и сохранять
психические впечатления указывает на свойство ее раздвояться внутри себя,
оставаясь единой и цельной. Как память сохраняет и удерживает в душе факты,
которые представляются сознанию и самосознанию, так раздвоение души,
остающейся в то же время единой, дает нам возможность их видеть и знать,
что они находятся в душе, или видеть себя и знать, что видим себя, а не другого.
Если б душа не имела способности раздвояться, оставаясь нераздельной и
целой, то человек не мог бы видеть того, что заключается и происходит в его
душе, не мог бы психически смотреть в самого себя; если б душа, раздвояясь,
не оставалась в то же время нераздельной, то человек не мог бы сознавать
самого себя, думать или говорить о себе «Я »; раздвоившись внутренне, он
психически распался бы на две посторонние друг другу половины и казался бы
самому себе чем-то посторонним, чуждым и внешним; но так как он сознает,
что это постороннее и другое — он сам, то отсюда видно, что несмотря на
раздвоение, душа его остается нераздельной и цельной.
Ничего подобного этому свойству мы не встречаем в физическом мире.
Напрасно стали бы мы искать в нем подобий или аналогических явлений,
чтоб наглядно осязательно на внешнем образе, пояснить психический факт:
всякая попытка такого рода привела бы к чудовищным нелепостям. Когда
мы смотримся в зеркало и видим в нем самих себя, то и зеркало и наш в нем
образ — действительно внешние, посторонние нам предметы, совершенно
от нас отделенные. Совсем другое представляет сознание и самосознание:
сознавая свое чувство, мысль, намерение, мы в то же время знаем, что они
находятся в нас, в нашей душе; сознавая себя, мы знаем, что это мы сами.
Если б мы надумали объяснить способность психического раздвоения и ее
последствия примерами из материального мира, то пришлось бы
допустить, что предмет может выделяться из самого себя, или что выделенная
часть может быть равна целому и быть сама этим целым, или что целое
может оставаться целым и по выделении из него части; но все подобные
представления, в применении к физическому, материальному миру,
совер189
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
шенно невозможны, а в психическом им соответствуют очень
обыкновенные и бесспорные факты, которые каждый может наблюдать в себе и
других, — так они просты и очевидны. Что эти факты не имеют ничего общего
с материальными, подтверждает только, что психический организм
составляет особый вид организмов, так же не похожий на физические, как
органические предметы не похожи на неорганические или животные на
растения.
Таковы основныесвойства и внутреннее строение душевного
организма. В них условие и причина его самостоятельности и самодеятельности.
Оттого, что душа способна удерживать в себе всякого рода
впечатления и видеть их, обращаться с ними психически, она и создает в себе
особый идеальный мир, и может жить в нем. Этот идеальный мир и служит
человеку точкой опоры против внешней обстановки, делает его
самостоятельным в отношении к материальному миру.
Вследствие того, что душа отражает в себе свои движения и даже
самое себя, оставляет в себе впечатления собственной жизни и
деятельности, в ней и содержится бесчисленное множество представлений, понятий и
мыслей, ей исключительно принадлежащих, которых прототипа или
подобия мы напрасно стали бы искать во внешнем мире.
Потому, что душа способна обращаться к самой себе и ко всему, что в
ней заключается, как к предмету исследования, возможна психическая
переработка всякого рода впечатлений, внешних и психических, в новые
формы, возможны разнообразнейшие сочетания материала, который
находится в душе в виде впечатлений, представлений, понятий и мыслей.
Постепенная выработка их и всякое усовершенствование хорошего и худого,
в душе и во внешних созданиях человеческого творчества, обязано своим
происхождением этой способности. То что мы называем развитием,
прогрессом, предполагает последовательную поверку мыслей, чувств, действий, их
теоретических и практических результатов. Единственно от такой поверки
зависит постепенная их выработка, улучшение, совершенствование; поверка
же возможна только при способности человека отделиться от своих мыслей,
чувств, действий и сделать их предметом своего внутреннего зрения,
предметом рассмотрения и обсуждения. Благодаря этим способностям каждая мысль,
чувство или действие могут пройти через поверку, полученный результат или
вывод стать, в свою очередь, предметом нового рассмотрения и исследования,
и так далее.
Тем, что душа способна, раздвояясь, обращаться к самой себе и к тому,
что в ней же самой содержится, объясняется ее самодеятельность и
самопроизвольность — источник свободной воли. В материальном мире все
отношения между предметами могут быть только внешними, потому что
каждый из этих предметов существует сам по себе, независимо от других,
и находится, напротив, в тесной зависимости от различных внешних
обсто190
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ятельств и случайностей, вполне чуждых его отношениям к другим
предметам. Совсем иначе установляются такие отношения в душе; она
содержит в самой себе предмет, к которому становится в отношения; предмет
находится в той же самой среде, которая к нему обращается; в
самосознании предметы, между которыми установляются отношения, даже
совершенно совпадают: душа, раздвояясь в себе, вступает в отношения с
самою же собою. В этом и заключается причина психической инициативы
и вместе свободной воли. Благодаря этой способности души человек
может, без всякого внешнего повода, принять то или другое решение,
предположить себе ту или другую цель и стремиться к ее достижению, что
было бы немыслимо без описанных характеристических особенностей
психического организма.
Особенности эти просвечивают во всем, что делает человек, и потому
ими объясняется множество загадочных явлений. Остановимся на
некоторых из них, наиболее характеристичных.
Часто случается, что мы хотим что-нибудь припомнить и не можем,
перебираем в голове множество предметов и находим, что ни один из них
не тот, которого нам нужно, который желаем вызвать к сознанию. В этих
случаях мы очевидно и помним о чем идет речь и не помним; если б мы вовсе
не помнили предмета, который хотим вызвать к сознанию, мы не могли бы
отыскивать его в душе, не могли бы сравнивать его с другими и находить,
что все они не то, что нам нужно; но в то же время мы и не помним предмета,
иначе тотчас бы его припомнили. В приведенном случае очевидно, что
полученное впечатление более или менее изгладилось или потускнело в душе.
Но каким образом можем мы поставить себе задачею припомнить
полузабытое? Возможность такого акта подтверждает двойственность души.
Припоминание есть акт сознания или внутреннего зрения; душа усиливается
рассмотреть в самой себе полустертое впечатление, зная, что оно в ней есть
и что оно потускнело.
Другое психическое явление, на которое мы хотим здесь указать, еще
страннее. Случается, что посреди разговора, одному из собеседников вдруг
покажется, будто то, что в это время делается и говорится, когда-то уже
происходило точно таким же образом и в той же самой обстановке.
Совершенное тожество того, что совершается и что припоминается в эту минуту,
бывает до того поразительно, что припоминающему кажется, будто он
может предсказать то, что сейчас будет говорится и делаться. Такое
состояние продолжается, впрочем, один какой-нибудь миг и затем вдруг
прекращается, так что не успеешь на нем остановиться, как оно уже исчезло.
Мы думаем, что объяснения этого загадочного явления должно искать в
той же способности души раздвояться, оставаясь единой. В
обыкновенном, нормальном состоянии душа относится к себе, при раздвоении, как к
чему-то постороннему и внешнему, или, говоря наглядно, хотя и очень
не191
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
точно, она как будто одной своей стороной или половиной видит то, что
совершается в другой; затем, при новом состоянии раздвоения, то, что она
увидела, делается, в свою очередь, предметом рассмотрения. Оба эти акта
последовательно сменяются один другим. Но если, вследствие причин и
условий, нам пока неизвестных, обе стороны или половины души, в самую
минуту деятельности, будут находиться в живом взаимодействии, и то, что
мы видим или слышим, т. е. результат психического зрения, в то же
мгновение сделается предметом нового рассмотрения, то нам должно казаться,
будто то, что совершается, уже происходило когда-то прежде. Минутность
и неуловимость этого ощущения указывает на происхождение этого
психического миража.
Тою же двойственностью души объясняем мы себе способность
людей получать, от одного и того же предмета, два разнородных впечатления:
одно прямое, действующее на внешние чувства, материальное, другое —
иносказательное, символическое, условное, которое мы соединяем с
впечатлением иногда случайно, но которое не состоит с ним в необходимой,
неизбежной связи. На человека, вовсе не знакомого с письменами или
нотами, письмо или нотная тетрадь произведут только то впечатление, какое
они могут дать как материальные предметы; а умеющий читать или
разбирать ноты, т. е. знающий условное значение письмен и нот, кроме
материального впечатления этих предметов, получает еще психическое
впечатление того, что они собою условно выражают. Письмо и нотная тетрадь
послужат ему только поводом к такому впечатлению.
В способности души раздвояться, оставаясь нераздельной, должно,
как мы думаем, искать объяснения и тех разнообразных состояний, когда
человек, умышленно и сознательно, противоречит самому себе: чувствует
и думает одно, а говорит и наружно показывает совсем другое.
Произвольная деятельность предполагает, что вся жизнь души не
исчерпывается мыслями, обобщениями и отвлечениями, которые в ней
заключаются, но имеет, кроме того, еще и особое, независимое от них
существование. Следовательно, центр произвольной деятельности должен
находиться в самой душе, из нее самой должен идти толчок,
превращающий безразличную, холодную мысль в мотив деятельности. Только при
таком условии возможно произвольное ее отношение к мыслям,
отвлечениям и обобщениям. Условие это дано в самом устройстве психического
организма. Мы видели, что душа есть организм, способный, вследствие
своей двойственности, обращаться на самого себя. Благодаря способности
раздвоения, душа, когда ее ничто не волнует, может настраивать сама себя так
или иначе и сообразно со своим настроением черпать из самой себя то, что
ей нужно, что соответствует ее настроению. Взять из себя тот или другой
мотив она может потому, что все они в ней заключаются; остановиться
произвольно на одном из них она может потому, что ее деятельность и
пред192
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
мет произвольного ее выбора совершенно совпадают. Вот почему каждому
стоит только захотеть действовать произвольно, и он может остановиться,
без всякого другого внешнего или внутреннего побуждения, на той или
другой мысли и обратить ее в мотив действия. Когда процесс произвольной
деятельности совершается, почин лежит не во влияниях мыслей,
отвлечений и обобщений на душу, а наоборот, инициатива исходит от души,
которая, сообразно со своим настроением, произвольно вызывает из себя те
или другие мысли, обобщения и отвлечения.
Но, возразят нам, как доказать, что душа может произвольно
настраивать себя так или иначе? Ее расположение остановиться именно на той,
а не на другой мысли, избрать мотивом деятельности именно такое-то, а не
другое обобщение или отвлечение может ли считаться за совершенно
произвольное? Не будет ли правильнее и естественнее предположить, что
такое расположение и настроение — результат различных материальных и
психических влияний и обстановки, которых мы только не в состоянии
открыть и проследить?
Такое предположение, конечно, очень возможно и даже очень
вероятно. Вырастая и развиваясь посреди физической обстановки, совершая жизнь
на материальной подкладке и находясь в теснейшей связи и беспрерывном
взаимодействии с материальными условиями существования, психический
организм непрерывно испытывает на себе влияние окружающей среды,
которая не может оставаться чуждой ее настроениям и расположениям.
Но признавая эти влияния и их необходимость, мы не можем согласиться с
заключениями, которые из них обыкновенно выводятся. Материалисты и
реалисты не ограничиваются указанием на общие душевные состояния,
настроения и расположения, которые бывают результатом таких влияний,
но, специализируя свой взгляд, предполагают, что не только общее
душевное состояние, но и каждый, по-видимому, свободный выбор того или
другого мотива есть роковое, необходимое последствие того или другого
материального влияния на душу. Такой взгляд естественно вытекает из того,
что материалисты и реалисты не признают существования психического
организма и подводя все психические отправления под законы механики,
глубоко искажают смысл этих отправлений. Растительные и животные
организмы тоже находятся под непрерывным влиянием внешней обстановки;
но никому не приходит в голову предполагать непосредственную связь
между этими влияниями и продуктами органической и животной жизни.
Такая жизнь существенно состоит в принятии и претворении влияний и в
творческом воспроизведении их, в видах и формах, свойственных данному
организму. Последний есть та среда, тот узел, в котором влияния
преломляются, поглощаются и воссоздаются в новом виде. Органическая жизнь
души представляет точно такое же явление. Между действиями, которые
она на себе испытывает, и ее творческими созданиями нет
непосредствен7 Российская психология 193
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ной связи и преемственности, нет необходимой, роковой, непрерывной цепи
причин и следствий, потому что их разделяет среда, принимающая
влияния и преобразующая их в новые формы, существенно зависящие от
особенностей и свойств этой среды. Вот почему душевное настроение или
расположение может быть результатом внешних влияний; но оно тем не менее
есть, в свою очередь, и самостоятельная причина психических явлений,
которых источник заключается в самой душе, а не в тех влияниях, которые
она перед тем испытывала. Что это действительно так, доказывается
наблюдениями. Мы знаем, что известные ненормальные душевные
состояния, будучи последствием известных внешних влияний, располагают к
известным же ненормальным действиям и поступкам, хотя по виду они и
кажутся произвольными. В этих случаях психическая деятельность
является необходимым последствием известного психического расположения,
а последнее, в свою очередь, таким же необходимым последствием
известных внешних влияний. Таким образом, между последними и психическими
продуктами действительно существует прямая, необходимая связь
причины и следствия, хотя душа и является между ними посредствующим
термином; но за то мы и считаем такую пассивную роль души явлением
ненормальным; в нормальном же состоянии, она, напротив, овладевает влияниями,
которые получает извне и остается свободною к произвольной творческой
деятельности, выражающейся в произвольных поступках.
Так объясняем мы себе произвольную деятельность. Она, как мы
старались показать, естественно вытекает из условий душевного организма,
психической жизни и ее законов и есть только высшее выражение, последнее слово
душевной жизни. Без свободы произвольная деятельность немыслима;
свобода же души, как следует из всего, сказанного нами выше, не есть готовая,
данная, прирожденная способность, а развивается мало-помалу, вместе с
развитием душевного организма и психической жизни. Мы видели, что человек лишь
мало-помалу различает себя от окружающего материального мира. В этом
различении уже заключаются первые зародыши самостоятельного
отношения человека к окружающей среде. Затем он идет далее и различает в себе тело
от души. Это новый шаг к психической самостоятельности и свободе. После
того человек постепенно научается различать свои представления и мысли от
самого себя, иначе сказать, начинает понимать, что они не составляют всей его
душевной жизни, что она от них нечто иное, существующее само по себе.
Продолжая анализ далее и далее, человек доходит до различения от души ее
внутренних процессов и операций, которые в ней отражаются и создают особый
мир внутренних, психических впечатлений. Рядом таких-то постепенных
различений душа воспитывается к самосознанию и свободе. Обособившись от
внешней обстановки, от тела, в котором живет, от внешних впечатлений, от
отражений внутренних процессов и событий, душа относится к ним как к
внешнему, постороннему, чуждому и вследствие того вынуждена наконец в самой
194
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
себе искать точку опоры не только против материального мира, но и против
самой себя. Ее двойственность дает ей к тому возможность. Таким образом,
весь ход психической жизни есть ряд постепенных освобождений души,
воспитывающих ее к произвольной деятельности. Процесс мышления, зачатки
которого скрываются уже в непроизвольном разложении первоначальных
впечатлений и их перегруппировке, создает в душе противоположение
единичных впечатлений представлениям, а представлений — тем обобщениям и
отвлечениям, которые из них образовались. Как представление освобождает
от непосредственного впечатления, так точно и обобщение, и отвлечение —
от единичного представления. Опираясь на непосредственные впечатления,
душа свободно относится к представлениям и мыслям; опираясь на
представления и мысли, она становится в свободное отношение к единичным
впечатлениям. То же самое вытекает для души и из противоположения представлений
и мыслей чувствам, стремлениям, желаниям и страстям. Их борьба рождает и
воспитывает психическую свободу, потому что, противополагая мысли
чувствам и чувства мыслям, душа по необходимости становится посредником
между ними, решителем их столкновений и борьбы.
Итак, психическая свобода, составляющая необходимое условие
произвольной деятельности, является результатом целого длинного ряда
освобождений, начало которых скрывается в необходимом, роковом действии
на душу различных влияний, но которые, вследствие особенностей
душевного организма и психической жизни, рождают в душе самостоятельность
и самодеятельность. Эти черты, вызванные сперва необходимостью,
впоследствии развиваются и укрепляются опытом, упражнениями, навыком и
обращаются как бы во вторую природу, почему и были приняты
идеалистами и метафизиками за прирожденные свойства души, неподлежащие
дальнейшему анализу. Здесь главная причина недоразумений, которым учение
о произвольной деятельности до сих пор подает повод. Отрицание
произвольных поступков и свободы было ответом на догматическое их
объяснение метафизиками и идеалистами и естественным последствием
признания особого принципа воли, как коренной, прирожденной способности
души. Эти недоразумения отпадут сами собою, лишь только мы признаем
самостоятельность и самодеятельность души за результат, высшую точку
постепенного и последовательного развития психического организма и
душевной жизни. В самом деле, для принципа психической
самостоятельности и свободы как особого начала человеческой деятельности нет места в
науке. Все первые движения психической жизни запечатлены
материальными элементами, совершаются под влиянием материального мира и по
его законам; только существование психического организма с его особыми
свойствами даст этому действию и этим влияниям другой оборот —
производить ряд новых явлений, неизвестных в материальном мире. Оттого, пока
психический организм не развился и не окреп, душевная жизнь едва-едва
г 195
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
себя заявляет. Долго душа не имеет другого содержания, кроме того,
которое получает чрез внешние впечатления; долго она не сознает ни себя, ни того,
что в ней совершается. Точно так же и деятельность ее сперва ограничивается
одними непроизвольными действиями, вызываемыми внешними,
материальными влияниями. Но по мере того как душевный организм растет и крепнет,
все это изменяется, а с тем вместе созревает его самостоятельность и
самодеятельность. К внешним впечатлениям прибавляются психические,
внутренние, возможные лишь с той минуты, когда душа приходит к более и более
ясному и отчетливому сознанию самой себя и того, что в ней содержится и
происходит. В сфере деятельности этот постепенный рост души выражается в
том, что рядом с непроизвольными действиями, вызываемыми внешними
влияниями, появляются действия произвольные, возникающие по инициативе
самой души, независимо от внешних побуждений. Воспитанная влияниями и
необходимостью, душа получает навык обращаться на себя, жить с собою, без
помощи внешних толчков и побуждений. Условием для такого
сосредоточения психической жизни на самой себе служит то, что, выработавшись сначала
с помощью внешних влияний, она получает свое собственное содержание
и, обращаясь к нему, обращается уже к самой себе, потому что это
содержание находится не вне ее, а в ней самой. Здесь источник и ее самодеятельности;
ибо, обращаясь к тому, что в ней заключается, душа благодаря ее
двойственности обращается на себя, другими словами, душевная деятельность и
предмет, на который она направлена, совпадают, тожественны.
В таком виде представляется произвольная деятельность с научной
точки зрения.
Естествознание, правда, выработало превосходный научный метод;
но оно останавливается именно там, где начинается вопрос о нравственной
личности и не идет далее; далее говорят уже не естественные науки, а
философский реализм. Естествознание, имея дело только с природой и
материальными фактами, признает за прочный, несомненный результат только
то, что, по тщательном исследовании, строго вытекает из этих данных.
Естествоведение, как наука положительная, берется за объяснение
психических, внутренних, духовных явлений только в той мере, как они
обнаруживаются во внешних фактах, и показывает, как эти явления
преломляются в материальной среде, под действием материальных условий и законов
физической природы. В этой сфере заслуги естествознания, особливо в
последнее время, огромны. Оно выяснило и беспрерывно более и более
выясняет материальные условия человеческого существования и
деятельности, играющие такую решительную роль во всех явлениях психической
жизни, когда они переходят в материальную среду. Но что такое сама
психическая жизнь, ее законы, явления и процессы, — этого естествоведение
не касается и по свойству Своей задачи, по материалу, над которым
работает, и не может касаться. Это не его дело.
196
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Одна только психология, став положительной наукой из
философской, какою была до сих пор, в состоянии, исследуя факты и явления
психической жизни при помощи точного научного метода, разрешить задачу,
на которую не дают ответа ни современная философии, ни естествознание.
Еще Локк и Кант пытались поставить ее на этот путь, но не довели начатого
ими великого дела до конца. Их критические исследования остановились
на полдороге. Надо их довершить, и тогда человек снова выйдет на торный
путь, с которого сбился.
Психология исследует идеи и человеческую деятельность в самых
источниках, где они зарождаются. До сих пор наука указала только
материал, из которого слагается мысль и деятельность; но при каких условиях, по
каким законам этот материал вырабатывается в мысли, в идеи, в социальные
формы и принципы — на это мы либо мало обращаем внимания, либо
смотрим односторонне и ошибочно. Факт нам известен, но мы не знаем, как он
совершается. Вот где и начинается задача психологии. Она раскрывает
невидимую деятельность души, проникает в тайны камеробскуры, чрез
которую проходят все факты и явления, преобразуясь в идеи и начала. Этим она
и идет на смену философии, которая останавливается на общих и
отвлеченных идеях и началах, не будучи в состоянии исследовать далее.
Психология проникает глубже в данные, которые изучает философия; она
анализирует их, показывает, как они образовались, потому что видит в них
продукты психических процессов и отправлений, и объясняет, каким
образом, по каким законам, эти продукты возникли. Обе, и философия и
психология, занимаются разрешением одной и той же задачи, но подходят к
ней с противоположных сторон. Предмет философии — продукты
душевной жизни, как объективные данные; предмет психологии — способы и
законы происхождения этих продуктов. Она объясняет общие и
отвлеченные понятия и начала психической жизнью и процессами. Философия,
согласно со своим взглядом на предмет, пытается, но тщетно, доискаться
до нравственной личности, потому что берет за точку отправления мир идей
и отвлеченностей как первоначальное данное, неподлежащее
дальнейшему анализу. Психология, напротив, рассматривая их как психические
продукты, старается объяснить самый процесс их происхождения в
человеческой душе и тем возвращает ей первенствующее, центральное место в
действительном мире, которое принадлежит ей по праву; ибо если идеи и
начала не что иное, как сознательные или бессознательные продукты
психической жизни, то они, разумеется, теряют то безусловное объективное
значение, которое старалась им придать философия, и центр тяжести,
естественно, должен быть перенесен в ту среду, в которой они
перерабатываются в идеальную форму.
Становя нас совсем на другую точку зрения, недоступную для
философии, психология, и только она одна, объясняет удовлетворительным
197
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
образом существо идей, обобщений, отвлеченностей и их отношения к
действительности. Мир идей, мыслей действительно существует, но
особенным образом, идеально, психически, а не реально. Мысли, начала — не
исключительно личные, субъективные явления, не свободные творческие
создания человека, потому что представляют собою продукты
психической переработки данного материала, которая совершается известным,
правильным образом, по определенным законам. В этом смысле невозможно
отрицать у мира идей,»обобщений и отвлеченностей своего рода
объективности. Всего осязательнее она в понятиях и представлениях о реальных
предметах. Но в то же время нельзя, не впадая в грубые ошибки, видеть в
идеях, обобщениях и отвлеченностях не более как психическую обработку
одних материальных внешних явлений, сводить весь мир и начал на
психическое выражение только материальных данных и поверять первые
исключительно только последними — нельзя потому, что идеи, мысли, начала
вырабатываются не из одних материальных, а также и из психических
данных, которые точно таким же образом, как и материальные, проходят чрез
психические процессы.
Это обстоятельство, именно что идеи, мысли, начала только особая
форма, особый вид существования материальных и психических фактов,
показывает, как ошибалась философия, отыскивая в идеях, мыслях, началах
безотносительную, безусловную истину. В самом деле, если они представляют
действительные — реальные или психические — факты в психической
обработке, то их истинность далеко не безусловная, а такая же положительная,
как и всякой научной истины, то есть определяется их соответствием тем
фактам, которые в них являются в психической обработке. Когда начало, мысль,
идея вполне соответствуют всем фактам, к которым относятся, то они
истинны, но не безусловно, потому что с переменою фактов и они должны
измениться. Если даже все без изъятия факты, определяющие предмет, приняты в
соображение при образовании идеи, мысли, начала, то в таком случае последние
все же не станут, вследствие того, безусловными истинами, потому что они
обусловлены положительными данными, суть не что иное, как психическое
выражение, психическая форма их существования. Зная материал, из
которого они образовались, зная психические процессы, которыми они выработаны,
мы относимся к ним как к положительным данным, происхождение которых
нам известно или может быть узнано.
Такой взгляд упраздняет воображаемую противоположность между
идеями и действительностью, не впадая в ошибки материалистов и идеалистов,
отрицавших или идеальный или реальный мир. Психология объясняет их
взаимные отношения и, проводя между ними точную границу, над чем напрасно
трудилась философия, восстановляет в нашем сознании утраченную связь
причин и последствий между идеальным и реальным миром, которые на самом
деле составляют вместе одно органическое целое. Вот почему одни
психоло198
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
гические исследования, веденные строго научным образом, могут
окончательно решить запутанный спор идеализма с реализмом и возвратить каждому из
них принадлежащее ему место и значение.
Пойдем теперь далее. Если то, что мы считаем за объективный реальный
и за такой же объективный идеальный мир, есть на самом деле продукт
психической переработки фактов внешней природы и нашей душевной жизни, то
объективность того и другого мира есть только относительная и существенно
зависит от среды, в которой совершается переработка тех и других фактов.
Идеал объективности есть полное, совершенное соответствие
действительных фактов с тою формою, какую они получают, пройдя чрез психический
процесс мышления. Из-за такого полного соответствия люди бьются от
начала истории, беспрестанно к нему приближаясь и никогда его не достигая. Если
оно когда-нибудь и будет достигнуто, то все-таки человек будет обладать
только совершенно верным противнем1 действительного мира, но никак не самою
действительностью непосредственно, как это ему думается. Происходит же
это от того, что и мир идеальный, и мир реальный, какими мы их знаем,
слагаются, с одной стороны, из элементов чисто объективных, а с другой — из того,
что мы от себя к ним привносим. Постепенное различие того и другого,
большее и большее уменье распознавать их и обозначает успехи науки и знания. Но
уже из этого видно, что оба мира, и реальный и идеальный, как мы их знаем, не
имеют и не могут иметь для нас ничего законченного и беспрестанно
изменяются по мере того, как изменяемся мы сами.
Этот психологический вывод, подтверждаемый всем развитием науки и
действительной жизни, коренным образом изменяет взгляд на отношения
человека к окружающему и к самому себе. Материальная природа и мир
идей, не имея, в том виде, как они ему представляются, ничего неизменного и
непреложного, не могут иметь и того характера роковой необходимости,
который приписывается первой — реалистами, второму — идеалистами.
И реальный, и психический мир мы знаем только в психической обделке,
в тех сочетаниях, какие они имеют в нашей душе и только по недоразумению
и незнанию приписываются самой объективной действительности,
считаются ее принадлежностью. Эти сочетания на самом деле принадлежат нам и
потому могут нами самими изменяться и, как мы знаем, действительно
изменяются с успехами знания и практической опытности.
Таким образом, психология устраняет один из призраков, парализующих
деятельность человека, — призрак исключительного господства роковой
необходимости, фатализма, судьбы, которая будто бы делает тщетными все наши
усилия расположить факты и условия, направить обстоятельства так, как бы
нам хотелось. Необходимость в смысле неизменной связи причин и их
последствий есть основный закон всего существующего. В объективном
смыс1 Портрет (устар.). — Прим. ред.
199
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ле нет ни случайности, ни произвола; самая энергическая воля не в силах
изменить законов материальной или психической природы. С этой точки
зрения конечно можно доказывать, что роковая необходимость исключительно
и неограниченно царит в мире. Но останавливаясь на этом выводе и отрицая
произвольность и случайность, мы, сами того не замечая, уходим из мира
действительных фактов в мир отвлеченностей и застреваем в нем. В
действительности данные условия бесспорно являются роковыми причинами
явлений и фактов; но сочетания условий беспрестанно изменяются, а с тем вместе
изменяются и их необходимые, роковые последствия. Данные причины не
успели еще произвести то, что необходимо должно было от них произойти,
как они уже видоизменились, вследствие изменения сочетания условий.
Сочетания же образуются различным образом. Они составляют или прямой,
необходимый результат целого ряда, или цепи причин и их последствий, или
результат взаимного пересечения и столкновения таких рядов, или,
наконец, последствие преднамеренной группировки условий. В первом случае мы
называем явление, составляющее необходимое последствие данных
условий, необходимым, во втором — случайным, в третьем — произвольным,
хотя оно и в первом, и во втором, и в третьем случае есть непременно роковое
последствие данных условий и, следовательно, необходимо. Если Земля, по
законам механики, вертится и около Солнца и на своей оси, то
периодическая смена дня и ночи есть явление необходимое, роковое. Если в то время,
когда я сплю, на меня обрушится потолок, мы назовем такое явление
случайным; однако на самом деле и оно есть тоже необходимое, роковое
последствие данных условий; называем же мы его случайным только потому,
что оно произошло вследствие взаимного столкновения двух различных
рядов причин и последствий, которое и произвело новое, третье сочетание
условий с его необходимыми последствиями; наконец, если я, по задуманному
плану, построю дом, то этот дом будет фактом произвольным, хотя
очевидно, что он мог быть выстроен только при известном сопоставлении условий,
действующих, как всегда, необходимым образом.
Итак, необходимость исключает произвольность и случайность
только в отвлеченном смысле; в действительности они существуют рядом, не
мешая друг другу, потому что в ней на первом плане не отвлечения и
обобщения, а единичные факты и их взаимные единичные отношения. Но эти
факты и отношения, пройдя чрез процесс мышления, отпадают.
Человек имеет дело только с сочетаниями условий. Он принимает
деятельное участие в разложении одних из них, в образовании новых и в этом
смысле сам творит необходимость и судьбу. Тайна произвольных действий
состоит вовсе не в невозможной и немыслимой отмене законов природы,
материальной или психической, а только в разложении и сочетании
условий, которые необходимо, роковым образом, производят известные
материальные или психические явления и факты. Большим или меньшим
знани200
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ем и пониманием законов таких сочетаний и их последствий, большим или
меньшим искусством и умением разлагать и составлять такие сочетания и
определяется степень культуры. Чем человек менее развит, чем менее в
нем выработаны психические элементы, тем он более зависит от данных
сочетаний условий, тем пассивнее к ним относится; но по мере того, как
психическая жизнь в нем развивается, он относится к ним все
самостоятельнее и самодеятельнее, заменяя их своими, произвольными, и тем
устраняя одни явления, вызывая другие, ему нужные и желательные. Пределы
такого творчества человека, конечно, существуют; но мы до сих пор их не
знаем; по мере его развития они отодвигаются все далее и далее.
Из сказанного следует, что все, что нас окружает, не есть произведение
одной роковой необходимости или случайности, а вместе, и в значительной
степени, плод нашей произвольной и свободной деятельности. Человек
преобразует природу, общественную и психическую жизнь, не отступая ни на
йоту от законов, которых изменить не властен. История каждого человека,
народа и всего рода человеческого есть постепенное накопление и наслоение
сочетаний условий необходимых, случайных и произвольных, с
возрастающим, более и более успешным стремлением упразднить или по крайней мере
уменьшить число или хоть ослабить действие сочетаний, образовавшихся
помимо участия человека, необходимых и случайных, и наоборот, создавать,
умножать и упрочивать произвольные, образованные им самим. Одно
незнание и непонимание смысла истории и вообще хода человеческих дел
могло внушить ложную мысль, будто все то, что совершается, так и должно
было совершиться и иначе не могло быть. Преклонение перед
свершившимся фактом, перед торжествующей силой бывает очень часто полезно и даже
справедливо практически, ввиду данных обстоятельств; но оно совершенно
ошибочно теоретически и, как общий принцип, не выдерживает критики.
Деятельное участие человека в ходе истории, в развитии общественности
отнимает у них характер безусловной необходимости, значение
механического процесса. Человек всюду вносит свои сочетания данных и условий,
которые изменяют положение дел. Из тысячи возможных сочетаний он
выбирает то или другое, которое не всегда непременно бывает самое лучшее и
наиболее пригодное для достижения известной, желаемой цели. Потому-то
деятельность человека и подлежит суду, и вопрос, что было бы, если б
исторические деятели поступили так, а не иначе, совсем не так суетен и
бесплоден, как в наше время привыкли думать. Наука, рано или поздно, должна
признать за историческими деятелями личную инициативу, их способность
и право вводить в действительность новые сочетания условий и данных, как
это давно уже признается за людьми в ежедневной жизни простым здравым
смыслом и общим сознанием.
Но не одни исторические фигуры, крупные исторические личности
деятельно участвуют в истории, в судьбах обществ и человеческого рода.
201
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
По тому же закону, который мы старались объяснить, и на том же самом
основании в них вносит свой вклад каждый человек, как бы ни была
незаметна его деятельность, как бы ни было микроскопически мало то, что он
творит в своей сфере. Из этих невидимых крупинок слагаются в
направления и настроения общественной жизни, те стремления, которые в данную
минуту, при известных обстоятельствах, обращаются в неудержимую силу
и определяют судьбы народов и истории. В этом смысле каждый человек,
как бы ни было скромно и неизменно его общественное положение,
работает, сознательно или бессознательно, для общего дела, есть деятель
истории и развития. Мы обманываем себя, думая, что идеи двигают и творят
историю; ее творят люди, человеческие единицы, которых труд и работа,
в их результатах, слагаются в условия исторической жизни. Идеи только
выражают эти условия; они потому только тогда и бывают сильны, когда
условия служат им могучей подкладкой. Оттого-то одни и те же идеи
сегодня — великие двигатели, завтра — пустые фразы.
В непрестанном деятельном участии каждого человека в судьбах
обществ и всего человеческого рода и коренятся те великие нравственные
начала, которые сопровождают его от колыбели чрез всю историю, то
затемняясь и тускнея, то снова освещая и поддерживая его на трудовом пути
с удвоенной силой, яркостью и убедительностью. Люди верили, верят и
всегда будут твердо верить, что никакое преступление, совершаемое
отдельным лицом или целым народом, не избегнет, рано или поздно,
заслуженной кары, хотя бы в лице потомков и последующих поколений; что зло,
неправда когда-нибудь упразднятся, и добро, правда, истина будут
безраздельно царить в человеческих обществах. Психология дает возможность
объяснить эти верования, на которые мы теперь смотрим свысока, как на
ребяческие мечты. С психологической точки зрения, вся история есть
непрерывающийся ряд попыток и усилий людей как можно лучше приладить
внешнюю природу, условия и формы общежития и, наконец, самих себя к
своим потребностям, нуждам и желаниям. Историческое развитие есть не
что иное, как безустанная критика сделанных с этою целью попыток и
усилий и безустанная замена сделанного новым, более удовлетворительным,
если и не на самом деле, то по намерению и мысли людей. Плод этой работы
многих веков и тысячелетий выражается в последовательной замене
данных сочетаний материальных и психических фактов и общественных форм
другими. Однажды сгруппированные известным образом, эти факты и
формы действуют уже по объективным законам и вследствие того сами собою
изменяют множество других сочетаний и групп, помимо предвидения и воли
человека, как выстрел, пущенный по нашей воле, летит по законам физики,
независимо от наших намерений и желаний. «Логика фактов», как ее
назвали недавно, вызванная толчком, идущим от нас, перетрагивает и
видоизменяет целые ряды сочетаний и групп, находящихся или в прямой, или в
202
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
более или менее отдельной связи с тем сочетанием или группою условий,
которую мы изменили по своему усмотрению. Вот почему каждое наше
действие, как бы оно ни было, по-видимому, незначительно, передается
всей сомкнутой цепи причин и последствий и производит более или менее
важные изменения в данных сочетаниях и группах фактов и форм; а так как
эти сочетания и группы обусловливают быт людей, так как множество их
придуманы и созданы людьми для удовлетворения известных их
потребностей и желаний, то каждое изменение данной группировки,
произведенное одним человеком, более или менее отзывается на всех остальных.
Отсюда и вытекает, что все, что нами делается во вред другим, осуждено, рано
или поздно, на разрушение. Малейший нарушенный интерес, если только
он сам не составляет нарушения интересов, польз и выгод других, мстит за
себя, рождая, рано или поздно, ненормальные, болезненные явления в
общежитии и потребность устранить их причину, т. е. ту группу, то сочетание
фактов, которое производит эти явления. Далее: развитие
общественности есть последовательный ряд попыток приискать такие сочетания
общественных форм, при которых нужды, требования и интересы всех и
каждого, от мала до велика, были бы удовлетворены. Таков идеал, к которому
неудержимо стремится род человеческий, постепенно к нему
приближаясь и никогда его вполне не достигая. К нему, волей-неволей, прилаживает
человек свои личные, индивидуальные стремления, цели и идеалы,
отбрасывая одни, создавая другие и перерождаясь постепенно с
изменяющимися условиями общественной жизни. Такое взаимодействие
общественности и каждого отдельного лица, вследствие которого оба изменяются,
и объясняет, почему в будущем люди предугадывают полное соответствие
и равновесие обоих элементов, наступление вожделенной минуты, когда и
общежитие, и каждое отдельное лицо совершенно приладятся друг к
другу. Конечно, и на этом пути возможно только беспрестанное приближение
к идеалу. Идеал как обобщение и отвлеченность только указывает цель и
освещает путь.
Высказанные мысли требуют еще многих разъяснений. Но мы здесь
остановимся. Подробное рассмотрение и исследование нравственных
начал с положительной точки зрения есть задача не психологии, а этики,
столько же заваленной разным хламом и ветошью, как и психология. Мы
коснулись учения о нравственности только для того, чтоб на нескольких
примерах показать, какую важную роль правильное объяснение
психической жизни играет в разрешении сложных вопросов этики. Мы убеждены,
что только в психологии, возведенной на степень положительной науки,
разработанной при помощи положительного научного метода, можно
отныне найти прочные основания учения о нравственности, которых не в
состоянии дать современные философские взгляды, исключающие самую
возможность этики, ни метафизика и идеализм, отрезавшие себе всякий
203
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
переход к индивидуальной человеческой личности. Важность приема едва
ли кто решится оспаривать, особливо в настоящее время. Учение о
нравственности держится на предании, которое, однако, видимо, слабеет. Что
станется с личным существованием, когда оно совсем потеряет силу?
Человек, составляющий исходный пункт, начальную клетчатку
общественности, лишится тогда всякой точки опоры в своей деятельности; а между
тем, судя по ходу вещей, история по-видимому снова приближается к
одной из тех заключительных фаз целых периодов, когда, как было уже
несколько раз, лицо более и более обособляется, выдвигается вперед и
становится главным определяющим элементом общественности. В такую
минуту в нем должны быть сосредоточены все те силы, которые еще не так
давно распределялись между многими исторически данными общежития.
Требования от отдельного человека, сообразно с тем, с каждым днем
становятся больше и серьезнее, а он более, чем когда-нибудь, расслаблен и
пуст. Инстинктивно чувствуя эту разладицу, мы боимся взглянуть ей
прямо в глаза и то прячемся за прошедшее, то со слепой верой спешим к
будущему, усиливаясь остановить или ускорить ход истории, ее вечное
разложение и созидание. Но оставаясь при нашей путанице мыслей, при тех
глубоких внутренних противоречиях, которые при малейшем внимании так
резко бросаются в глаза, мы ничего не выигрываем от замедления или
ускорения хода истории. Надо перестать убаюкивать себя фразами,
которым мы сами больше не верим, искренне и строго проверить наши взгляды
и доискаться, путем науки и положительного знания, до причин нашей
нравственной скудости при огромном умственном богатстве. Такое
исследование приведет нас к психологии, потому что в нашей душе, в ее жизни и
отправлениях скрываются источники наших радостей и печалей, истины и лжи,
добра и зла, правды и неправды.
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Л.М. ЛОПАТИН:
«СИЛА И СЛАБОСТЬ ПСИХОЛОГИИ
КОРЕНЯТСЯ В ЕЕ ОСНОВНОМ МЕТОДЕ.
ЭТОТ МЕТОД ЕСТЬ САМОНАБЛЮДЕНИЕ»
Лопатин Лев Михайлович (1855-1920) —
философ и психолог, с 1894 г. соредактор журнала
«Вопросы философии и психологии», с 1899 г. —
председатель Московского психологического
общества.
В курсе психологии, который он читал на
историко-филологическом факультете
Московского университета и в других учебных
заведениях Москвы, а также в статьях уделял главное
внимание теоретическим и философским вопросам
психологии — о предмете и методе, о сущности
психического и об отношении душевной жизни к
мозгу, о причинности и о свободе воли и др. Психология Лопатина — это
философская наука о душевной жизни по данным внутреннего опыта,
вариант интроспективной психологии.
МЕТОД САМОНАБЛЮДЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ1
I
Всякого размышляющего человека должно поражать то странное и
грустное состояние, в котором находится психология сравнительно с
другими науками. Возникла она очень давно. Отдельные глубокие и ценные
наблюдения над душевною жизнью человека были сделаны уже в те
времена, когда, например, физика еще находилась в совершенном младенчестве.
А между тем теперь психология, несомненно, отстала от всех других
отделов научного знания: справедливо можно сказать, что у нее нет ни прочных
и содержательных законов, ни общепринятых принципов объяснения;
у нее даже оказывается чрезвычайно мало фактов, которые были бы
признаны всеми. Психологическая наука распадается на школы и секты,
готовые спорить обо всем. И все-таки едва ли можно сомневаться, что между
всеми специальными областями знания психологии принадлежит
наибоЛопатинЛ.М. Метод самонаблюдения в психологии// Вопросы философии и
психологии. 1902. Кн. 62. С. 1031-1090.
205
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
лее важное место. И это не только потому, что она стремится раскрыть нам
наш собственный внутренний мир и путем беспристрастного анализа
обнаружить те стимулы, которые движут и направляют нашу мысль, наше
чувство и нашу волю. Значение психологии представляется, может быть, еще
более серьезным ввиду того особого положения, которое она, по своему
предмету, получает в общей системе человеческих знаний: это положение
следует назвать центральным.
Здесь приходится остановиться на истине огромной важности: мы
всё знаем только через призму своего собственного духа. Это
бесспорный и очевидный факт. Всякий предмет дается нам только в наших
ощущениях, восприятиях, представлениях, идеях, суждениях. Что,
например, значит воспринять предмет, — положим, его видеть? Мы тогда видим
его, когда в нашем сознании сочетались различные зрительные
ощущения света, цвета и формы и когда эти наличные ощущения сопоставлены
нашим сознанием с прошлыми ощущениями от того же предмета или от
предметов, с ним однородных. Другими словами, в этом, казалось бы,
простом акте усмотрения лежащей пред нами вещи мы имеем очень
сложный и чисто психический процесс. Или что значит вообразить предмет
(положим, лицо знакомого нам человека, отсутствующего в настоящее
мгновение)? Опять и в этом случае мы имеем очень сложный душевный
процесс чисто внутреннего воспроизведения всех деталей
вспоминаемого образа, замеченных нами в наших опытах. Нечего настаивать,
насколько еще более сложными являются процессы нашего отвлеченного
понимания каких-нибудь общих истин о вещах, нашего логического
доказательства научных положений о них и т. д. Ввиду всего этого
представляется совершенно несомненным следующее общее утверждение: мы
никаких объектов не знаем прямо, мы все познаем через психические
символы или значки.
Но раз это так, то уразумение природы и законов наших психических
процессов получает принципиальное значение для оценки всякого
другого нашего познания. Несколько примеров поясняет мою мысль.
Геометрия, положим, изучает основные свойства и законы пространства и
формы в пространстве. Но что же такое пространство? Существует ли оно в
самой природе или оно только нам кажется в ней? Есть ли оно
изначальное вместилище всех вещей, существующее абсолютно, данное раньше
всего на свете, как думал, например, Ньютон, или оно только наше
субъективное представление, под углом которого мы все воспринимаем, как
учили Кант и Шопенгауэр? И если оно существует помимо нас, то совсем ли
оно такое, как мы его представляем, или у него есть свойства, быть
может, даже измерения, о которых мы ничего не подозреваем и которых мы
даже неспособны вообразить себе? Всем известно, какие горячие споры
идут об этом, между тем можно ли надеяться решить эти вопросы, если
206
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
мы не будем иметь ясного понимания того, как воспринимаем мы
пространство и как образуется в нас представление о нем. Я не хочу этим
сказать, что если мы решили проблему о происхождении нашей идеи о
пространстве, то тем самым мы получили все нужные данные для
решения вопроса об его объективной, метафизической природе. Но все же едва
ли подлежит сомнению, что, когда мы не знаем даже того, что такое идея
пространства в нас, мы едва ли можем питать сколько-нибудь
основательную надежду проникнуть в его сущность, как оно дано помимо нас.
Или возьмем другой пример. Физика изучает общие законы вещества. Но
что такое вещество? Есть ли оно сама в себе протяженная субстанция,
как учил Декарт? Или оно состоит из абсолютно непротяженных и
неделимых точек, которые, однако, носятся в пространстве, как думал
Боскович? Или оно ни то и ни другое, а само в себе оно есть абсолютно
неизвестная основа того, что для нашего чувства является как протяженность,
непроницаемость, инерция, хотя по своей внутренней природе оно не
имеет ничего общего с этими свойствами, как полагают сторонники
феноменизма? Можно ли рассчитывать надлежащим образом осветить эти
вопросы, не уяснив себе сначала того, как слагается наше представление о
физическом веществе, через какие стадии развития оно проходит и какие
именно психологические процессы принимают участие в его
образовании? Как иначе могли бы мы надеяться выделить в нашем обычном
понятии о веществе объективные элементы от чисто субъективных? Вполне
аналогические соображения относятся к нашим понятиям о движении,
энергии, силе и т. д.
Мы все познаем сквозь призму нашего духа, но то, что совершается
в самом духе, мы познаем без всякой посредствующей призмы. В
противоположность явлениям физической природы то, что составляет по
крайней мере нашу сознательную душевную жизнь (а только оно является
прямым предметом психологического изучения), сознается нами, как оно
есть. Это положение настолько очевидно, что едва ли даже нуждается в
доказательствах и подробных пояснениях. Ведь состояние сознания
настолько лишь и есть состояние сознания, насколько оно сознается. Что я
ощущаю и как я ощущаю, то и есть мое ощущение, а чего я не ощущаю, то,
очевидно, и не принадлежит к моему ощущению как таковому. Чего я
действительно желаю, то только и есть мое желание: что я в самом себе
чувствую, то и есть мое чувство. Это истины тожественные; предполагать здесь
какие-нибудь посредствующие призмы между нашим сознанием и тем, что
им сознается, совсем не имеет смысла. А между тем из этого вытекает
чрезвычайно важный вывод: свою сознательную душевную жизнь мы знаем в ее
настоящей, прямой действительности, без всяких посредств; в нашем
непосредственном, внутреннем переживании нам открывается как бы уголок
некоторой абсолютной действительности как она есть сама в себе, а не
толь207
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ко в кажущемся и всегда могущем подлежать сомнению явлении чего-то
другого, как дается нам сплошь вся внешняя реальность. В сфере
непосредственных данных сознания нет уже различия между объективным и
субъективным, реальным и кажущимся, здесь все есть, как кажется и даже
именно потому, что оно кажется: ведь когда что-нибудь нам кажется,
это и есть вполне реальный факт нашей внутренней душевной жизни.
Таким образом, наш внутренний мир есть единственная точка, в которой
бесспорно подлинная действительность раскрыта для нашего прямого
усмотрения.
Из этого вытекает огромное метафизическое значение психологии:
метафизика или онтология есть та область философии, которая
стремится понять существующее в его настоящих, истинных признаках, как оно
есть само по себе, помимо тех искажающих добавлений, которые вносятся
в него для нас ограниченностью и условностью форм нашего чувственного
восприятия и опытного знания. И вот если мы где-нибудь имеем такой опыт,
содержание которого не искажается никакими субъективными
изменениями и добавлениями или в котором непосредственно раскрыта некоторая
совсем подлинная реальность, то это только в психологии. И, наоборот,
в психологии такая реальность дана самым несомненным образом. По
отношению к фактам нашего сознания потому уже-не может быть речи о
субъективных искажениях и прибавлениях, что в них мы имеем дело
именно с субъективным как таковым: в чисто субъективных вещах ложное их
восприятие представляет нечто по существу немыслимое. Допустим даже,
что все наши воспоминания о прежде пережитых состояниях ложны и
призрачны, что на самом деле нет ни времени, ни нашего прошлого; все же в нас
бесспорно дано усмотрение этих призрачных вещей, и наличность этого
усмотрения в нас уже никак нельзя считать субъективным обманом. Что
непосредственно испытывается сознанием, то очевидным образом есть
именно так, как оно сознается, — против этого принципа не может быть
никаких серьезных возражений. А если в самих себе мы познаем нечто
бесспорно действительное, то этим устанавливается весьма большая
вероятность того, что правильно и осмотрительно, исходя от непосредственно
известного в себе, мы можем понять, хотя бы в самых общих очертаниях и
признаках, внутреннюю действительность и всяких других вещей. Чтобы
заранее осудить возможность такого аналогического понимания по самим себе
всякой другой реальности, нужно предположить абсолютную внутреннюю
разрозненность реального мира или (что сведется к тому же) совершенную
неприложимость к нему каких бы то ни было логических категорий и точек
зрения. Но если только мировая жизнь обладает каким-нибудь единством,
если существует хотя какая-нибудь однородность и внутреннее подобие в
элементах действительности, мы с полным логическим правом можем надеяться,
отправляясь от самих себя, постигнуть внутреннюю суть того, что кажется
208
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
нам внешним. Как я уже говорил в другом месте1, в таком случае «познанию
достаточно иметь хотя одну твердую точку, ему довольно в ней одной
встретиться с истинною действительностью, чтобы оно уже не было сплошною
иллюзией и обманом, чтобы оно оказалось в состоянии постигнуть всю
реальность в ее основных очертаниях, — конечно, если оно правильно оценит
то, что в этой точке ему открылось».
Казалось бы, в этой непосредственной очевидности и достоверности
психических данных заключается очень много обещающее преимущество
психологии пред другими науками. А что из него вышло для нее? Ведь до
сих пор многие весьма разумные люди и с самыми серьезными
основаниями готовы сомневаться даже в самом существовании психологии, как
науки. Правда, за последнее время в ней возникли некоторые отдельные
области, разработанные сравнительно точно; но все они относятся к сфере
психофизических и психофизиологических исследований, в которые
физическими и физиологическими приемами изучения внесено, конечно,
гораздо больше, чем специально психологическими методами. Во всяком
случае они представляют как бы маленькие оазисы среди хаоса противоречащих
друг другу обобщений, враждующих гипотез, неполных описаний. Того,
кто в первый раз знакомится с психологической литературой, должно
поражать, как мало в ней установленного и бесспорного, и какие слабые
стороны обнаруживает в ней даже то, что составляет первый шаг в каждой
науке, — простое описание фактов.
II
Сила и слабость психологии, принадлежащее ей по существу ее задачи
центральное положение среди других наук и ее весьма несовершенное
научное состояние еще и в наше время, — без сомнения коренятся в ее
основном методе. Этот метод есть самонаблюдение. В нем есть одно огромное
преимущество, о котором я говорил сейчас: внутренняя действительность
нашего сознания открыта нашему самонаблюдению в ее подлинном виде —
так, как она есть. Предметы окружающего нас внешнего мира мы
воспринимаем только через ощущения наших внешних чувств, и, чтобы они
составили содержание нашего сознания, необходимо, чтобы они были
пропущены через нашу психическую призму. Напротив, можно сказать, что
предметом самонаблюдения является сама эта призма: мы все
воспринимаем через наши психические состояния, но именно поэтому самые эти
состояния мы уже должны воспринимать прямо, так как иначе мы не могли
бы всего воспринимать в них. Состояния сознания, уже по самому
понятию о них, мы должны сознавать такими, каковы они есть на самом деле,
Положительные задачи философии. Ч. II. С. 279.
209
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
потому что в противном случае они не были бы состояниями самого
сознания, а назвать состояниями сознания пришлось бы уже то, через что мы
сознавали бы их.
Но существует и неизбежная ограниченность в методе
самонаблюдения: мы непосредственно знаем только свое собственное сознание, —
чужое для нас закрыто. Непроницаемость индивидуальных сознаний друг
для друга есть бесспорный факт психологии. Принадлежность
переживаемых состояний чужому Я стоит непроходимой стеной для нашего
наблюдения и восприятия. Если бы даже вообразить, что мысли и чувства
другого лица целиком перенесены в нас, мы испытали бы их уже не как
чужие, а как свои собственные. Различие сознающих Я или различие
личностей есть тот абсолютный рубеж, который обособляет все внутренние
психические состояния в бесчисленные замкнутые друг для друга сферы.
Мы не можем заглянуть в чужую душу, мы можем понять то, что в ней
происходит, только путем аналогии: состояние чужого сознания мы
угадываем по аналогии с собственным. Мы видим, что другой человек
мимикой, жестами, голосом, движениями выражает радость или горе. Мы
знаем по себе, что это значит — когда приходится так говорить, прибегать к
такой жестикуляции, так двигаться; и мы приписываем этому человеку
чувства, которые испытали сами. Кто-нибудь сказал нам, что у него
болит зуб; мы вспоминаем, как зуб болел у нас самих, и только через это
понимаем его. И мы приписываем ему тот самый ряд ощущений, который
пережили сами. Мы слышим ряд фраз и схватываем их смысл, пока они
произносятся; и те мысли, которые выражают эти фразы для нас, мы
приписываем уму говорящего. Что происходит во всех этих случаях? Во всех
подобных примерах наблюдаем мы только знаки, действия, выражение
чужой психической жизни; но о внутренних состояниях других людей мы
всегда только догадываемся; мы их приписываем им по аналогии с собой,
но прямо их не видим.
Таким образом, окончательным критерием всякой психической
жизни является для нас наше собственное сознание. Между тем наше сознание
всегда индивидуально — в этом его естественная граница. Мы все
испытываем по-своему и никогда не можем быть уверены, что испытываем совсем
так, как другие. Я знаю, что когда я вижу зеленое, и другие утверждают,
что они также видят зеленый цвет. Но где ручательство, что мы видим при
этом совсем одно и то же? Правда, в данном случае можно с высокой
степенью вероятности утверждать если не абсолютное, то по крайней мере
внутреннюю однородность переживаемых нами и другими людьми ощущений.
Но ведь в нас далеко не все однородно с тем, что испытывают и переживают
другие. В каждом человеке, кроме черт, типичных для всего человеческого
рода, существует бесчисленное множество личных особенностей. На
многое в жизни мы реагируем каждый по-своему, и в этом заключается наша
210
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
личная своеобразность. У каждого свой особый склад ума, памяти,
воображения, характера, сердца. Если б каждый психолог делал свои выводы
только на основании того, что он наблюдает в самом себе, — из такого во
многих отношениях случайного материала какая могла бы получиться
наука о всякой душевной жизни вообще?
Отсюда в психологии возникает вполне законное стремление пополнить
субъективный метод чистого самонаблюдения — объективным. Конечно, мы
не знаем чужой душевной жизни, но мы можем догадываться о ее содержании
по внешним выражениям с такой высокой степенью вероятности, что она во
многих случаях практически переходит в полную достоверность. Мы изучаем
чужую душевную жизнь, насколько она выражается в слове и действии. Мы
изучаем ее этим путем и в своих реальных ежедневных столкновениях с
другими людьми, и в ее отражении в фантазии гениальных художников и поэтов,
и в разнообразных произведениях литературы, и в памятниках истории.
Не будь этих дополнительных источников наших сведений о законах
душевной жизни, мы едва ли достигли бы когда-нибудь до содержательных опытных
обобщений относительно ее внутренних двигателей. Мы делаем применение
этого объективного метода не только в психологии — из его разнообразных
видоизменений вырастает целый ряд специальных психологических
дисциплин: психология детской души, психология душевно больных психология
животных, психология народов, психология обществ, психология
художественного творчества и т. д.
Другое применение объективный метод в психологии находит в
исследовании связей между состояниями психическими и физиологическими.
Так возникает особая наука, носящая название физиологической
психологии. Тесная зависимость душевной жизни от физических перемен в
телесном организме есть непоколебимый факт опыта. Он был замечен с
незапамятных времен и принципиально признавался во всех психологических
теориях, хотя ему давали различное объяснение, освещение и оценку. При
возрастающем знакомстве с функциями мозга этот факт приобретает все
более серьезное значение. Теперь мы знаем, что связь психического с
физическим еще гораздо теснее, чем можно было думать раньше. Она
одинаково обнимает и низшие явления психической сферы и самые высшие. Мы
не знаем таких фактов нашей внутренней жизни, для которых мы имели бы
решительное основание не предполагать абсолютно никакого физического
коррелята. Через это физиологическая психология приобретает очень
важное место среди вспомогательных психологических наук. При оценке ее
значения приходится, однако, иметь в виду и отрицательную сторону дела:
в настоящее время она еще находится едва ли даже не в менее
совершенном состоянии, чем психология интроспективная. Сравнительно хорошо
разработана физиология органов наших внешних чувств, и в этой области
психологическая наука приобрела некоторые твердые обобщения. Но что
211
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
касается внутренних процессов, происходящих в нашем мозге в
соответствии с переживаемыми нами психическими состояниями, об этом теперь
известно немногим больше, чем прежде. По признанию всех серьезных
физиологов, мы здесь имеем еще очень темную,
непроницаемо-таинственную область. Обыкновенно в ней не идут дальше очень шатких гипотез и
весьма неопределенных, иногда совсем произвольных схем1. К
физиологической психологии близко примыкает психология экспериментальная.
Она стремится изучать душевные явления в условиях, которые мы избрали
сами, и таким образом пытается внести в психологию научный опыт.
Повидимому, экспериментальной психологии предстоит большое будущее,
но, кажется, не будет слишком суровым сказать, что до сих пор она еще не
успела оправдать возлагаемых на нее огромных упований. Причина тому
лежит отчасти в чрезвычайной трудности предмета исследования, отчасти
в некоторой ограниченности и случайности задач, которые она себе
ставила до сих пор. От экспериментальной психологии, по-видимому, прежде
всего можно ждать решения проблем двоякого рода: 1) точного
установления связи между физиологическими и психическими состояниями
(наиболее ценное приобретение в этой сфере представляет закон
Вебера-Фехнера о характере зависимости возрастания ощущений от возрастания
раздражений2; 2) исследования отдельных душевных способностей и
фактов в произвольно избранных нами обстоятельствах. Наиболее
могущественным орудием в этой области исследований до сих пор является
гипнотизм с открытою в нем силою внушения.
Но все же надо постоянно помнить, что методы всех этих
дисциплин суть только вспомогательные для коренных задач психологии.
Окончательный ключ ко всему лежит все-таки в самонаблюдении и в том, что
дает оно. Только проверяя показаниями собственного внутреннего
опыСм. мою статью «Спиритуализм, как психологическая гипотеза ».(«Вопросы фил. и
псих. ».Кн. 38).
Важное место между способами экспериментального изучения душевных явлений
занимает психометрия, т. е. измерение душевных процессов. Однако и
относительно этой области исследований можно сказать, что она пока мало оправдала
вызванные ею надежды. 1) В ней не получено каких-нибудь бесспорных
результатов принципиального характера. 2) Устанавливаемые в ней цифры значительно
колеблются у разных исследователей. 3) Смысл этих цифр оказывается весьма
проблематичным. В частности, когда пытаются определить время какого-нибудь одного
психического процесса, на самом деле обыкновенно получают время целого ряда
последовательных процессов. Например, когда пытаются установить время
простой сенсориальной реакции, в действительности определяют время не только этой
реакции, но и тех сопровождающих ее процессов логического, волевого и
эмоционального характера (соображений о задаче опыта, решения сделать или не сделать
данное движение и т. п.), без которых самый эксперимент был бы невозможен.
212
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
та и переводя на его язык, мы можем уразуметь внешние данные о
чужой психической жизни. Эти данные прежде всего важны тем, что
позволяют нам возвыситься над своею индивидуальною ограниченностью,
отличить наше особенное от общечеловеческого в нас, но все же чужие
душевные состояния мы понимаем только тогда, когда нашли нечто им
аналогичное в самих себе: внешнее наблюдение полезно тем, что
заставляет искать этих аналогий в самонаблюдении и понимать их цену. Но
если б наше самонаблюдение совсем замолкло или если б мы совсем
отвернулись от него, внешнее наблюдение ничему бы не научило нас о
душевных фактах. У отдельных философов и ученых неоднократно
возникала мечта совсем покончить с интроспективною психологиею и
всецело заменить ее физиологией мозга и нервной системы. Из этой мечты
ничего не выходило и никогда ничего не выйдет — нетрудно видеть
почему. Вообразим, в самом деле, наблюдателя, не принадлежащего к
человеческому миру (положим, жителя какой-нибудь высшей планеты),
который обладает такой тонкой чувствительностью, что он видит наш
мозг насквозь, во всех его мельчайших движениях, изменениях и
процессах, и который при этом одарен высоким и проницательным умом.
Но представим себе, что он не имеет никакого понятия о том, что люди
переживают внутри себя, — об их ощущениях и мыслях, об их
желаниях, об их любви и ненависти, об их страданиях и радостях. Что же?
Созерцая человеческий мозг во всех подробностях того, что в нем
делается, узнает ли он человеческую психологию и поймет ли человеческую
душу? Очевидно, нет. Он увидит бесконечно сложные движения
бесконечно многих и разнообразных частиц, составляющих наши нервы и
нервные центры, некоторые из этих движений будут ему дотла понятны
во всех своих перипетиях, некоторые в своем окончательном
направлении, быть может, покажутся ему загадочными, но откуда он узнает,
каким из этих движений соответствуют ощущения, каким — понятия
разума, каким — наши чувства, каким — те или другие страсти? Эти
частицы мозгового вещества обладают определенными механическими,
физическими и химическими свойствами, но на них вовсе не написано,
отвечают ли они в своих переталкиваниях ощущениям или мыслям,
желаниям или отвращениям. Между тем физиолог, совсем отказавшийся
от интроспективного метода, попадает в положение этого
предполагаемого небожителя, только с тою важною разницею, что он далеко не
имеет исчерпывающего и полного познаниях о процессах в мозгу: но точно
так же и он в движениях мозга ничего не может увидеть, кроме
движений. Поэтому на практике физиологи, пытающиеся строить
психологию на чисто физиологических данных, всегда отправляются от
какойнибудь заранее усвоенной психологической системы и группируют
физиологический материал сообразно с ее требованиями и
предполо213
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
жениями. При этом качество их работы находится в самой тесной
зависимости от этих заранее усвоенных взглядов1.
III
Без самонаблюдения нет психологии. Тем важнее систематически
решить вопрос о достоинствах и недостатках самонаблюдения, как метода
познания. Важнейшее его преимущество мы уже знаем: мы воспринимаем
психическую действительность так, в ее подлинных признаках. В связи с
ним находится другое, на которое реже обращают внимание: по крайней
мере некоторые душевные явления мы воспринимаем в их настоящей
внутренней связи, в их действительной причинности. В этом заключается
резкое отличие опыта внутреннего от опыта внешнего. В нашем внешнем
восприятии мы усматриваем только следование явлений друг за другом, но не
воспринимаем прямо того, что их связывает друг с другом. Оттого в нем,
при первом знакомстве с каким-нибудь фактом, нужны целые ряды
наблюдений и опытов, чтобы убедиться, что одно явление есть причина
другого. Например, нагретое тело расширяется; но когда мы это видим в
первый раз, откуда мы можем знать, что это от тепла? Камень без поддержки
падает; как много нужно наблюдать и думать, чтобы прийти к идее
всемирного тяготения и т. д. В психической сфере замечается совсем другое: здесь
прямо в отдельных случаях, мы с абсолютной уверенностью усматриваем
причинную связь. Я с сознательной добровольностью двинул рукой, — и я
знаю, что это я ее двинул, что причина ее движения — моя воля, что рука не
сама от себя двинулась и не по возбуждению от посторонней мне силы.
Чтобы увериться в этом, мне едва ли нужно припоминать ряды прошлых
опытов, — ведь и в каждом прошлом опыте я различал добровольность
моих движений только по присутствию моей воли, а, конечно, были в
прошлом и движения невольные, например, по рефлексу, судороге, под
давлением внешней силы и т. п. Или я чувствую жалость к несчастному человеку,
составляю планы, как помочь ему, и осуществляю эти планы. Для меня
непосредственно ясна причинная связь этих явлений: я составляю планы
помочь, потому что жалею, и если б не жалел, нечего было бы мне и
хлопотать. Едва ли что уяснит нам в этом случае наблюдение над аналогичными
внешними фактами. Как бы мы узнали, почему один человек помогает
друЯрким тому примером служит френология; ее поклонники исходили от ложного
психологического представления о душевных свойствах, наклонностях и
страстях, как о простых обособленных и довлеющих себе фактах психической жизни;
и вот, соответственно этому предвзятому взгляду, они для каждого свойства,
каждой наклонности и страсти искали особого места в виде возвышения на
поверхности черепа.
214
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
гому, если бы не наблюдали в самих себе чувства жалости? Или я ненавижу
человека и браню его. Едва ли нужны многие опыты, чтобы убедиться, что
в моей брани воплощается мое чувство к этому человеку. Или я решаю
математическую задачу и на основании известных данных прихожу к
определенному решению. Я при этом твердо знаю, что полученный результат
вызван этими данными и что я потому только пришел к нему, что над ними
напряженно думал и искал соответствующего им решения. Все это я прямо
в себе пережил. Так судим мы и о других людях: сообразно с их
характером и настроением, — одного от них ждем, другого нет. Итак, в очень
многих случаях критерием явлений внутреннего мира в отличие от явлений
мира внешнего служит нам принцип внутренней очевидности связей
между причинами и действиями и прямо усматриваемого соответствия между
теми и другими.
Впрочем и в нашей душевной сфере мы далеко не во всех случаях
воспринимаем внутреннюю связь протекающих в ней явлений. Сплошь и
рядом мы не только ничего на наблюдаем в ней, кроме следования фактов
друг за другом во времени, но и остаемся при этом глубоко убежденными,
что ничего, кроме следования во времени, в ней в данном случае и нет.
Положим, я осматриваю какой-нибудь заинтересовавший меня ящик: я
осмотрю его верх, потом перейду к бокам, потом огляжу низ его, потом его
раскрою и осмотрю внутренность. Через это получится ряд психических
событий, — ряд восприятий различных частей ящика. Но я не только не
буду наблюдать при этом причинной зависимости между отдельными
моментами ряда (например, чтобы восприятие верха было причиной, или
порождало восприятие боков), я буду, наоборот, глубоко уверен, что тут
вовсе и нет никакой причинной связи, а только простая последовательность
явлений. Я мог начать осмотр снизу или с внутренности и увидал бы
решительно то же самое, только в другом порядке. И, напротив, если бы во
время моего осмотра ящика вдруг потух освещающий его свет, ряд моих
восприятий прервался бы, все равно в каком бы порядке я ни осматривал ящик.
Совершенно поэтому ясно, что в данном психическом ряде явления
предшествующие вовсе не суть причины последующих; они только протекают,
но друг друга не порождают. Причина их лежит не в психическом ряде, а в
чисто физических раздражениях нашего глаза, исходящих из внешней
среды. Психически мы имеем здесь только последовательность и ничего
больше. Таких примеров можно было бы привести множество: к ним относятся
все случаи, в которых ряд психических изменений в нас вызывается
прямыми воздействиями физического мира.
Существует другая группа случаев, в которых, хотя причинная
зависимость между данными в нашем сознании психическими фактами и
может быть предположена, но прямо она не усматривается и не наблюдается.
Положим, я попал в местность, в которой не был очень давно, но где живал
215
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
когда-то подолгу. И вот, всматриваясь в окружающую меня обстановку,
я вдруг с необыкновенной ясностью припоминаю какое-нибудь событие,
до такой степени забытое мною, что, кажется, его никогда и не было.
Причина здесь, по видимому, налицо; она заключается в моих теперешних
восприятиях, в том, что я увидел место, где произошло это событие;
воспоминание возникло во мне, как результат действия законов ассоциации идей
по смежности и сходству. Тем не менее я не имею непосредственного
сознания о той интимной связи, которая привязывает мое воспоминание к
переживаемым восприятиям. Я не вижу той неизбежности, которая
заставляет мое воспоминание возникнуть именно в данный момент. Я могу
даже быть очень удивлен, что оно стоит передо мной так ярко, хотя
казалось, что с ним уже давно все кончено. Или возьмем другой случай: я
озабоченно думаю о каком-нибудь вопросе и вдруг нежданно-негаданно в мое
сознание врывается воспоминание о какой-нибудь совершенно ничтожной
и ничего не значащей для меня встрече и развлекает меня. Вероятно, и здесь
мы имеем один из капризов ассоциации идей. Но в чем он состоит, этого мы
обыкновенно совсем не замечаем. Всего чаще мы бываем удивлены и
раздосадованы такой внезапной помехой в нашей внутренней работе.
Но есть еще и третья группа фактов, о которой я только что говорил.
Мы хотим сделать некоторое определенное движение рукой и совершаем
его. Мы любим кого-нибудь, и постоянно думаем об этом лице, желаем с
ним встретиться и делаем все от нас зависящее, чтобы встреча состоялась.
Мы ненавидим кого-нибудь и нам противен всякий успех, которым
пользуется этот человек, особенно если этот успех относится к обстоятельствам,
которые и заставили нас его ненавидеть, — мы стараемся разрушить его
замыслы, — если наша ненависть совсем покорила нашу душу, мы будем
искренно радоваться всякому его горю и несчастию. Напротив, если нам
кого-нибудь очень жаль, мы будем ломать себе голову, как помочь
дорогому для нас человеку, и совершим целый ряд действий, чтобы вывести его из
печальных обстоятельств или по крайней мере облегчить его положение.
Если мы задумались над каким-нибудь трудным теоретическим вопросом,
мы будем перебирать в своем уме все, что относится к интересующей нас
проблеме и будем настойчиво пытаться сопоставить эти данные так, чтобы
из них вышло решение, отвечающее смыслу рассматриваемого вопроса и
т. д. Во всех подобных случаях (а их можно было бы привести очень много)
для нас не может быть сомнения, где причины и где следствия в
переживаемых нами состояниях и совершаемых нами действиях. Мы безусловно
уверены, что если бы мы не хотели заданного руке движения, она сама от
себя не совершила бы его. Мы очень хорошо знаем, что если бы мы не
ненавидели, мы и не хотели бы сделать нашему ближнему неприятности. Мы не
менее хорошо знаем, что если бы данная задача не интересовала нас ни в
каком отношении, мы не стали бы над ней трудиться. Во всех подобных
216
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
примерах причинная связь между явлениями не только угадывается или
выводится, она прямо и непосредственно усматривается и переживается.
Для человека, желающего насолить своему заклятому врагу, незачем
обращаться к учебникам психологии или объяснениям людей, умудренным
житейским опытом, чтобы понять причину своего желания: об этом ему
лучше всего скажет его собственное сердце.
Таким образом, последовательность психических событий в нас
представляет три главных типа: 1) в следовании психических событий друг за
другом мы не только не наблюдаем ничего, кроме простого следования, но
ничего больше и не предполагаем. Причину каждого данного звена ряда
мы полагаем не в предшествующих душевных фактах, а вне психической
сферы, — в физических процессах вне нашего организма или внутри его.
Сюда относится весь наш чувственный опыт, так протекают все наши
ощущения. 2) хотя мы наблюдаем только следование психических событий друг
за другом, иногда для нас довольно неожиданное, мы все-таки
предполагаем ту или другую внутреннюю причинную связь между ними. Сюда
относятся факты возникновения воспоминаний, внезапного пробуждения
новых мыслей, случайной и непроизвольной игры нашего воображения и т. п.
3) мы не только внутренне наблюдаем следование психических фактов друг
за другом, но и причинную связь между ними. Каким же общим свойством
отличаются факты этой третьей группы? Во всех них можно отметить два
признака: во-первых, полное логическое соответствие между
содержанием причины и содержанием следствия (одно, оказывается, выводим из
другого). В самом деле, когда мы известным определенным образом движем
нашей рукой, воспринимаемое нами движение руки есть только
изображение или повторение того движения, которое мы задумали раньше. Когда из
жалости мы кому-нибудь помогаем, смысл наших действий находится в
полном соответствии с нашим общим желанием облегчить чужие
страдание наиболее пригодным для того путем. Когда мы обдуманно и
сознательно решаем какую-нибудь задачу, приемы нашего решения представляют
логически неизбежное следствие самого существа задачи. Так, по крайней
мере, бывает во всех тех случаях, когда мы поступаем целесообразно, т. е.
верно понимаем условия, в которых нам приходится действовать. Однако
и в тех случаях, когда мы заблуждаемся, наши действия находятся в
полном логическом соответствии и с нашими желаниями, и с нашими
ошибками в оценке обстоятельств дела. В этом смысле всякие сознательные
поступки человека имеют по крайней мере субъективную целесообразность.
Во-вторых, непременным признаком фактов рассматриваемой группы
является наличность воли и деятельных стремлений: во всех приведенных
сейчас примерах непременно присутствует наша воля — или в начале или в
середине процесса, — и непременно присутствуют движущие нами
деятельные стремления и побуждения. Понятие деятельности,
активное1\1
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ти, усилия представляет как бы особую психологическую категорию или
высшее неразложимое понятие, извлекаемое из того порядка душевных
явлений, о котором я говорю теперь. В этом понятии мы обобщаем
непосредственно усматриваемое и переживаемое в наших усилиях и
стремлениях их производящее или причиняющее отношение к их эффектам, тот
факт, что именно они, а не что-нибудь другое, суть причины данных
действий: я двинул рукой, потому что хотел этого, и только потому. В иных
случаях это производящее или причинное отношение нашей деятельной
воли к переживаемым нами состояниям, достигает замечательной
наглядности. Положим, я хочу сделать усилие и делаю его. Здесь мое
настойчивое хотение сделать усилие само уже есть своего рода усилие (твердо
выраженное стремление), и, таким образом, в данном случае причина есть
усилие в его зарождении, действие есть усилие в его развитии, причем все
моменты перехода от одного к другому не только протекли перед нами и
пережиты нами, но они проделаны нами, — ведь усилие это наше. Или я
хочу сосредоточиться на чем-нибудь и сосредоточиваюсь. Не имеем ли мы
здесь того же самого? Ведь само хотение сосредоточиться есть уже
неизбежное отвлечение своей мысли от всего другого. Или я хочу о чем-нибудь
не думать, и не думаю или по крайней мере каждый раз удаляю противные
мне представления. Опять и здесь повторное удаление данной мысли есть
только продолжение того первого сопротивления ей, которое я оказал ей
именно тем, что не захотел о ней думать. Во всех подобных случаях мы
имеем лишь различие моментов во времени и достигнутой интенсивности в
однородном содержании, — самом нашем усилии.
В других случаях, напротив, мы уже не имеем такой полной
наглядности переживаемого нами внутреннего причинного процесса; его звенья уже
не имеют качественной однородности; более того, его отдельные моменты,
вытекающие из наших деятельных стремлений и актов нашей воли, хотя и
зависят от этих стремлений и актов, но очевидным образом не от них
одних. Я двигаю рукой по своему желанию; но ведь это лишь до тех пор, пока
рука моя здорова,— если она будет парализована, она будет неподвижна,
несмотря ни на какие мои усилия; хотя, с другой стороны, она была бы
неподвижна и теперь, при своем здоровом состоянии, если бы я не хотел,
чтобы она двигалась. Так и в других примерах — чтобы помочь или
повредить ближнему, надо быть способным к действию; чтобы разрешить
научный спор, надо иметь здоровую и ясную голову и т. д. Во всех этих случаях
наша воля является не единственным фактором, рядом с ней присутствуют
и другие — в виде помогающих или препятствующих ей условий действия.
Вследствие этого не все звенья ряда нам одинаково ясны и понятны,
некоторые, напротив, остаются тусклыми и темными. Как увидим потом, в этом
отношении можно выставить следующее общее правило: наши действия
ровно настолько нам непосредственно понятны, насколько они зависят от
218
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
нас самих; наоборот, в них все загадочно и недоступно в своем внутреннем
механизме для прямого наблюдения, что внесено влиянием посторонних
для нас факторов. И тем не менее каждый из рассмотренных случаев имеет
указанные сейчас два признака: логическое соответствие между
причинами и действиями и присутствие в нас волевых актов и деятельных
стремлений.
Эти на основании опыта полученные выводы о нашем непосредственном
переживании внутренней причинности духа, вероятно, вызовут возражения
со стороны очень многих психологов. Между ними существуют целые школы,
которые отрицают всякую духовную причинность вообще: наглядная
иллюстрация к тому общему факту, что в психологии очень часто самые ясные
показания опыта отвергаются ради предвзятых теоретических соображений.
В наши дни в психологии пользуется широкою популярностью взгляд, по
которому психические факты сами по себе не могут быть ни чему причиной. Они
представляют собой только субъективные отражения процессов в нашем
мозгу, а в этих процессах нет никакой другой необходимости, кроме чисто
физической. Поэтому психические факты не имеют никакого влияния ни на то, что
делается в мозгу, ни друг на друга. Они только отражают мозговые
изменения, но сами совершенно бездейственны. Именно такова точка зрения так
называемого эпифеноменизма,
В многих прежних статьях я уже много раз останавливался на этом
взгляде и старался показать, насколько поспешен и неправилен такой суд над
прямыми свидетельствами внутреннего опыта. Теперь, мне кажется, нет нужды
повторять эти соображения — и по простой причине. Отвергая психическую
причинность в принципе, психологи всех школ обыкновенно признают ее на
деле и не могут поступать иначе ввиду требований очевидности. Сторонники
эпифеноменизма, например, полагают, что психические явления сами по себе
ничего породить не могут, но это нисколько обыкновенно не мешает им факты
третьей группы, с немногими изменениями, толковать так же, как их
растолковали сейчас мы. Правда, они не считают волю причиной движения руки,
чувства и стремления — причинами наших поступков, но зато они видят в них
необходимые предшествующие обстоятельства данных эффектов. Они
всетаки согласны (разве за очень немногими исключениями), что, не будь моего
хотения, моя рука не двинулась бы, — не будь во мне жалости, я не стал бы
помогать, не будь ненависти, я не стал бы отвращаться от человека или вредить
ему. Для них только и хотение, и ненависть, и жалость суть не более как
субъективные показатели отвечающих им физических процессов, которые и
производят наблюдаемые нами внешние действия. С этой точки зрения опять
выходит, что мы в себе воспринимаем настоящую причинную связь происходящего
с нами и верно усматриваем отношение моментов действия между собою, —
только делаем это не прямо, через призму наших субъективных показателей.
Различие получается лишь в теоретической тонкости, при чем, однако,
оста219
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ется вполне непостижимым, откуда в сознании берется такое ясновидение
истинного причинного порядка явлений, хотя мы их воспринимаем не в их
настоящем виде? Ведь по отношению к фактам второй группы (пробуждению
внезапных воспоминаний, неожиданных мыслей и т. д.) это ясновидение
совершенно отсутствует, отчего же оно с неизбежностью возникает там, где
замешана наша волевая сфера? На все эти недоумения доктрина
эпифеноменизма едва ли может дать толковый ответ. Для нас, впрочем, важно другое: во
всяком случае факт внутреннего восприятия причинных связей
совершающегося в нас так или иначе признается всеми, а пускаться в анализ всех его
возможных объяснений было бы теперь неуместным.
IV
Непосредственное восприятие внутренней действительности
душевной жизни и прямое усмотрение причинной связи ее процессов суть такие
преимущества самонаблюдения, которых не имеет никакой другой метод
познания и которые выдвигают философское значение психологии и дают
ей особое положение среди других наук. Однако если велики достоинства
метода самонаблюдения, то не менее того велики и его недостатки. На
одном из них мы уже останавливались: своим самонаблюдением мы невольно
привязаны к индивидуальному содержанию нашей собственной душевной
жизни. Но это далеко не единственный его недостаток: рядом с ним есть
много других, не менее серьезных.
Среди недостатков, принадлежащих самой природе нашего
самонаблюдения сравнительно с наблюдением внешнего мира, прежде всего
приходится остановиться на той общей форме, в которой нам являются
психические факты. Все предметы внешнего опыта даны нам в пространстве,
все факты внутреннего опыта даны нам только во времени. Уже отсюда
получается очень важное различие между науками физическими и
психологией, которое служит не в пользу последней. Ко всем видам и процессам
внешней природы прилагаются законы геометрии и наук, с ней связанных, —
прежде всего, например, механики; напротив, к процессам нашего
внутреннего опыта ни геометрия, ни механика в сколько-нибудь определенном значении
этих терминов не имеют никакого применения. Между тем наше точное
математическое знание каких бы то ни было явлений находится в тесной
зависимости от приложимости к ним геометрически* и механических схем,
вся история науки подтверждает это. Вообще бытие в пространстве
представляет для нашей мысли несравненно более устойчивое
содержание, чем бытие только во времени. В пространстве зараз дано бесконечно
много, притом в очень многообразных и абсолютно определенных
отношениях, — ведь пространство по самому общему смыслу понятия о нем есть
форма сосуществования явлений. Время, напротив, есть общая форма их
220
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
следования, в нем все неудержимо протекает и ничто не стоит
неподвижно. В пространстве мы имеем целых три измерения, — про время
обыкновенно говорят, что в нем только одно измерение. Однако и это одно
измерение отличается от измерений в пространстве очень невыгодным
свойством: длина в пространстве представляет нечто за раз данное во всех
своих частях, ее можно поэтому пройти и вперед, и, повторным
движением, назад; напротив, длина во времени выражается непрерывным и
абсолютным исчезновением всех предшествующих моментов при наступлении
каждого нового, — поэтому возвратное движение по ней совершенно
немыслимо. Оттого все данное в пространстве измеримо: каждую данную в
нем величину мы можем сравнить с другими, нам известными. И это
относится не только к неподвижным предметам в пространстве. — это
одинаково справедливо и о процессах в нем. Ведь процессы в пространстве
сводятся к различным видам движения. Между тем всякое движение проходит
какие-нибудь расстояния и измеряется линиями пройденных путей.
Подобным же образом измеряется скорость движения через сравнение
проходимых путей с линиями знакомых нам движений (например, стрелки по
циферблату часов). Наоборот, время, взятое отвлеченно от пространства,
несоизмеримо в точном смысле слова. Вся суть времени в том, что все, в
нем данное, непрерывно проходит. Оттого явления, которые совершаются
только во времени, могут быть измеряемы лишь приблизительно и притом
лишь косвенным образом, — через сопоставление с пространственными
изменениями (например, когда измеряем течение наших душевных
состояний помощью движения секундной стрелки).
С этим первым недостатком всякого самонаблюдения тесно связан
второй: все подлежащее времени, как своей исключительной форме,
неудержимо протекает со всем своим содержанием; поэтому хотя верно, что
психические факты открываются нашему самонаблюдению в своей
внутренней полной действительности, но это относится только к каждому
переживаемому моменту, пока он переживается, т. е. только к психическому
настоящему. Своего прошлого мы не воспринимаем прямо: оно дается
нам только в посредствующей форме воспоминания. Между тем наше
настоящее содержит в себе только очень ограниченный круг данных, — по
крайней мере ясно сознаваемых: за раз мы можем вмещать в себе лишь
весьма небольшое количество психических фактов, определенно
выразившихся в своих различиях. Ни один душевный процесс (сознаваемый как
таковой) не попадает в наше настоящее целиком; в каждый данный момент
мы переживаем только его отдельные звенья, имея предшествующие
звенья лишь в воспоминании у последующие только в ожидании. Через это
вопрос о природе воспоминания получает первостепенное значение для
интроспективного метода. И вот мы наталкиваемся на следующий факт: наша
память, по крайней мере сознательная, есть довольно тусклое, а во многих
221
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
отношениях и прямо неверное зеркало пережитого нами. Не говоря уже о
бесчисленных индивидуальных различиях в устройстве памяти у отдельных
людей, — наша способность воспоминания уже по своим основным свойствам
обладает важными недостатками как общего, так и специального характера.
Главный ее общий недостаток состоит в неполноте воспроизведения
пережитых процессов. Память наша сохраняет только наиболее резкие и яркие
моменты в них. Например, мелкие детали, хотя они иногда могут иметь очень
существенное значение, обыкновенно теряются для нас бесследно. Это может
испытать на себе каждый, кто, пережив что-нибудь, особенно заинтересован в
том, чтобы вспомнить все подробности протекающего события: он очень
скоро с грустью убедится, что весьма многие пункты в припоминаемой картине
оказываются пустыми и темными. Таким образом, наша память очень многое
пропускает в пережитой нами действительности. Ее другой недостаток в том,
что она нередко положительным образом искажает наше прошлое. В этом
отношении, например, приходится иметь дело с тем, что можно назвать
тенденциозностью нашей памяти. Моменты тяжелые или постыдные в нашем
прошлом обыкновенно плохо удерживаются памятью, — подчиняясь
некоторому побуждению самосохранения, она как бы убегает от них: мы стараемся о
них забыть. Напротив, моменты приятные или хотя и безразличные, но
интересные своим разнообразием запоминаются нами хорошо. Оттого между
прочим наша память в общем имеет наклонность к невольному оптимизму, что
сказывается в любопытных аберрациях памяти: самые тяжелые периоды
нашей жизни иногда не только вспоминаются потом с удовольствием, но
серьезно рассматриваются самими воспоминающими, как время для них очень
счастливое или даже как самое счастливое время в их прошлом. Вероятно, многим
приходилось слыхать от людей, бывших на войне и испытавшим при этом
самые тяжелые ощущения горя, страха, отчаяния, холода, голода, быть может,
жестоких физических страданий от болезней и ран, что это все-таки было
самое счастливое время их жизни. Как объяснить этот факт? Сказывается ли в
такой оценке просто следствие приятного контраста между прежними
волнениями и теперешним спокойствием, который заставляет думать о пережитых
бедствиях с удовольствием? Едва ли дело только в этом: ведь тогда все-таки
сохранялось бы сознание о бедственности прошлого. Скорее здесь мы имеем
более сложный случай: тяжелые моменты былого времени в памяти
испытавших их потускнели и сгладились, а то, что было в нем привлекательного, —
разнообразие впечатлений, подъем душевной энергии, необычайная полнота
жизни, — это все не только осталось в воспоминании, но, быть может, даже и
выросло против своего действительного уровня. В самом деле, надо считаться
и с этим последним фактором: на помощь памяти слишком часто приходит
воображение и дополняет от себя забытые моменты событий. Оно
нечувствительно переделывает прошлое, или украшая его или, напротив, омрачая,
смотря по нашему настроению. Оттого на свете так много бессознательных лгунов.
222
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Рядом с этим приходится указать на важные специальные недостатки
нашей памяти. Далеко не все психические состояния, при равных
условиях, воспроизводятся в нашем воспоминании одинаково хорошо. Напротив,
здесь существует огромная градация ступеней. Если, например, мы
обратимся к ощущениям, то заметим, что мы сравнительно хорошо
воспроизводим в памяти цвета, оттенки, видимые формы, движения, звуки и их различные
сочетания. Но ощущения так называемых низших чувств воспроизводятся
уже гораздо хуже. Попробуем, например, со всею отчетливостью
вспомнить вкус или запах даже какого-нибудь очень знакомого нам вещества
или предмета и мы скоро почувствуем внутреннее затруднение. Мы
заметим, что в нашем воспоминании не хватает чего-то очень существенного.
Если дело идет о запахе, то мы хорошо вспомним его действие на дыхание
(удушлив он или нет), вспомним его осязательное или органическое
действие (острый он или нет), вспомним его отношение к нашему самочувствию
(приятный он или неприятный); но самая суть запаха, его непередаваемое
внутреннее качество, которое мы однако отлично знаем, пока предмет
нюхаем, от нас куда-то ускользнет. Если от него что и останется в нашем
сознании, то нечто весьма неясное, тусклое и неопределенное1. То же самое
относится и к вкусу. Попытаемся вспомнить вкус черного хлеба так же
ясно, как мы, положим, вспоминаем цвет его. Опять и это едва ли удастся
нам; мы вспомним не самый вкус, а скорее его сопровождающие
обстоятельства: вяжущее действие на рот, обонятельное воздействие на
дыхательный процесс и т. д. Но то, что во вкусе есть самого существенного, опять
внутренне куда-то уплывет от нас или получит очень неясный облик.
И это относится далеко не к одним ощущениям обоняния и вкуса:
в душе, пожалуй, гораздо более состояний слабо воспроизводимых, чем
хорошо воспроизводимых. Это не означает, однако, что они совсем
забываются, — раз мы их узнаем при всяком новом восприятии, как давно
знакомые — значит мы их помним, хотя и не можем их отчетливо
воспроизвести воображением2. В этом отношении нужно очень различать между
запоминаемостью душевных состояний и их воспроизводимостью по
произволу. Возьмем чувство боли — оно оказывается в положении
совершенно аналогичным обонятельным и слуховым ощущениям. И тут мы
вспоПравда, в этом отношении, по-видимому, наблюдаются значительные
индивидуальные колебания и различия. Некоторые люди утверждают, что они очень
хорошо воображают себе запахи самых разнообразных веществ. Однако и они
обыкновенно соглашаются, что представляют разные запахи менее отчетливо и ясно, чем,
напр., зрительные образы.
Запахи воспроизводятся в воображении плохо; тем не менее обоняние
справедливо называется чувством памяти, потому что запахи, прежде испытанные, потом
очень живо напоминают обстоятельства, при которых они были восприняты.
223
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
минаем скорее сопровождающие обстоятельства, чем самую боль. Мы
помним, длящаяся она или прерывистая, тупая или острая, режущая или
ноющая, выносимая или совсем нестерпимая, — т. е. мы вспоминаем
свойства ее течения, ее осязательного воздействия, ее отношения к нашему
общему самочувствию, а не то, что составляет в ней для нас самое главное
и от чего зависит все остальное; хотя мы тотчас же узнаем это главное,
когда ощутим боль, испытанную раньше.
Слабо воспроизводимыми оказываются факты и более сложного,
высокого порядка. Попытаемся во всех подробностях и со всею
отчетливостью вспомнить какое-нибудь очень сильное чувство, некогда владевшее
всем нашим существом, но которое теперь уже прекратилось и мотивы для
которого совсем исчезли. Исполнить эту задачу легче, чем вспомнить боль
или запах, но разрешается она все-таки лишь окольным путем: чтобы
вспомнить прежнее чувство, надо усилием воображения совсем отвлечься от
новых обстоятельств нашей жизни и всецело перенестись в прежнюю
обстановку и в прежние житейские отношения. Чем ярче мы их себе представим,
не думая ни о чем другом, тем яснее проснется в нас прежнее чувство, но
уже не в качестве бесстрастной идеи о чувстве, а скорее в виде его хотя и
слабого, но повторного переживания. Как чужие чувства мы понимаем,
только живо поставив себя в положение других людей и принудив себя
внутренне пережить то, что они должны испытывать, так и свои
собственные чувства в прошлом мы воспроизводим ясно через их повторное
симпатическое переживание.
Подобное же замечание можно сделать и об актах нашей воли. Во
время совершения наших действий мы всем существом чувствуем их полную
зависимость от нас и их происхождение из наших внутренних решений и
усилий. Но когда дело кончено, мы часто с недоумением спрашиваем себя:
где же тут была наша добрая воля? И мы нередко готовы свалить на
неизбежное сцепление обстоятельств те самые свои поступки, которые
всецело вменяли себе, когда совершали их. Только путем сосредоточенного и
добросовестного воспроизведения в нашем воспоминании всех
обстоятельств нашего поведения мы можем до некоторой степени воспроизвести
для себя и добровольность их, опять-таки через повторное переживание.
Что акты воли в воспоминании воспроизводятся плохо, это доказывается и
более элементарными фактами. Например, пока я по произволу двигаю
рукою в разные стороны, я совершенно уверен, что сам ею двигаю. Но
когда движение кончилось, я уже могу испытывать сомнение, точно ли я не
был к тому вынужден и действовал по собственному почину? Сомнение
ослабляется здесь только доступностью поверки.
Напротив, легко воспроизводимыми, — кроме ощущений зрительных,
слуховых, некоторых осязательных (в особенности смешанных с
ощущениями мускульного чувства), некоторых чисто мускульных, и кроме всех
224
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
бесчисленных представлений нашего воображения, возникших из
разнообразных комбинаций в этих ощущениях, — оказываются все логические
процессы нашего ума по крайней мере в том, что касается их формальной
стороны и их объективного содержания. Раз мы хорошо усвоили решение
какой-нибудь задачи, мы всегда можем его повторить во всех его деталях.
Раз мы ясно обдумали какой-нибудь предмет, мы не только будем помнить
общий вывод, к которому пришли, но при некотором сосредоточении
мысли можем указать и все основания, которые нас к нему привели, и т. д.
Сейчас высказанные соображения позволяют, по-видимому, сделать
следующее общее заключение: в нашем сознании легче воспроизводятся
объективные его элементы, т. е. то, что в нем относится к внешнему миру
и составляет содержание внешнего опыта, нежели элементы
субъективные, обнимающие чисто внутреннюю область деятельности нашего Я и его
ответных реакций на впечатления извне. Вся психическая жизнь на всех
стадиях ее развития может быть охарактеризована, как непрерывная встреча
нашего субъекта с данным ему объектом. И вот все, что в ней относится к
действию объекта (непосредственное действие объекта — ощущение,
объединяющее разные ощущения восприятия, воспроизводящее восприятия
представления, обобщающее отдельные представления объективное
понятие), легче воспроизводится по своему содержанию, чем отвечающие
этому действию чисто субъективные моменты нашего существования. Так
в ощущениях их тон, т. е. их непосредственно приятное или неприятное
действие на наше самочувствие, воспроизводится труднее, чем их качество,
т. е. данное в них объективное содержание. Оттого чем большую роль в
ощущениях играет тон, тем оно труднее воспроизводимо. В этом, быть
может, заключается главная причина, почему ощущения органические
(например, боли) а также ощущения обоняния и вкуса воспроизводятся
дурно: в них тон несомненно преобладает над качественной стороной1.
Отсюда же должна объясняться сравнительно трудная воспроизводимость во
всем их конкретном содержании наших отдельных чувствований, эмоций,
прошлых желаний, актов воли.
V
Итак, наше психическое прошлое представляется нам не совсем в том
виде, в каком действительно переживались составляющие его внутреннего
состояния. С нами происходит как бы перспективная иллюзия: наиболее
существенное и центральное в моменты переживания потом сглаживается
и стушевывается, — напротив, периферическое и производное в них
выНапример, в области запахов, мы довольно легко представляем себе даже самые
тонкие различия между ароматами отдельных цветов — розы, сирени, ландыша.
8 Российская психология
225
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
двигается в воспоминании на первый план. Эта иллюзия имеет огромное
влияние на односторонность и неточность психических описаний. У
отдельных исследователей при известном складе ума и при известных
предвзятых взглядах она очень помогает игнорировать в душевной жизни то, что в
ней есть самого тонкого, но в то же время и самого важного и основного.
Ввиду этого казалось бы, что нужно особенно дорожить наблюдением
над психическими фактами в самый момент их совершения, т. е. поскольку
они протекают в настоящем. И действительно, до известной степени мы
способны явиться наблюдателями того, что в нас делается сейчас. Нашему
сознанию всегда присуща как бы некоторая сила внутреннего раздвоения,
благодаря которой оно одновременно является и тем, что сознается, и
содержанием сознания. Мы ведь не только чувствуем, думаем, хотим, мы в
то же время и знаем о том, что сейчас чувствуем, или хотим, или думаем.
Это превращение самого себя в предмет сознания есть самосознание.
В некоторой мере эта способность сказывается у нас в каждое мгновение
нашего духовного бытия. Ясное самосознание проявляется в нас далеко не
всегда, но если отчетливое самосознание в нас нередко отсутствует,
некоторая степень самочувствия все-таки должна быть дана во все моменты
нашего внутреннего существования. Если мы совсем не чувствуем себя,
мы не можем чувствовать и ничего другого, — это следовало бы считать
непреложной истиной психологии. Пользуясь этой силой самораздвоения,
мы можем одновременно явиться и деятелями, и зрителями своего
душевного процесса. При известном навыке и самообладании мы можем
присматриваться к протекающему внутри нас потоку психических изменений
и по горячим следам схватывать и отмечать все их оттенки.
И все же этот способ наблюдения за собою в самый момент
переживания психических фактов далеко не заменяет анализа психической жизни
при помощи воспоминания. Прежде всего самонаблюдение в момент
переживания по необходимости должно иметь очень узкий кругозор: мы
должны стараться ограничить свой анализ лишь тем содержанием, которое дано
в настоящем. Я уже не говорю о том, что такая задача, по существу,
невыполнима до конца: настоящее неудержимо переходит в прошлое и, стало
быть, на нем нельзя сосредоточиться как на таковом: всякий психический
факт, как бы несложен и короток он ни был, неизбежно имеет некоторую
длительность, и, следовательно, для нашего сознания в нем непременно
Но едва ли кому-нибудь удастся (по крайней мере в нормальных условиях) вполне
адекватно и с совершенной отчетливостью вообразить сильный запах гноя, совсем
разложившегося трупа и т. п. Дело в том, что весьма существенным элементом
ощущений последней категории является неотделимое от них отвращение к ним.
Их так же трудно вообразить себе, как трудно живо вообразить тошноту, когда не
тошно.
226
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
даны вместе с настоящим содержанием и его протекшие моменты. Нельзя
воспринять абсолютно мгновенного. Всякое наше внутреннее восприятие
какого бы то ни было психического содержания есть синтез целого ряда
моментов. Если мы, например, переживаем зрительное ощущение, то
сначала мы имеем только общий толчок в сознании, который еще не
приурочили ни к какому определенному факту нашей психической жизни. Далее
оно является нам как впечатление зрительного характера вообще, но
также еще весьма неопределенное; затем уже мы его внутренне определяем
как некоторое качество (тот или другой цвет) и, обыкновенно, лишь после
этого мы способны усмотреть форму того, что видим. Эти моменты
протекают очень быстро друг за другом, но все-таки различаются между собой.
Аналогичные соображения относятся и ко всякому другому
психическому состоянию.
Но и помимо этих неизбежных ограничений, самонаблюдение в
настоящий момент и в пределах данного в нем содержания ведет к очень
серьезным недостаткам в получаемых результатах. Здесь мы встречаемся с
фактом огромной важности: психические события в нас, при внимании к ним
с нашей стороны, текут совсем иначе, чем когда такого внимания нет.
Сосредоточенное наблюдение действует на происходящие в нас процессы
ослабляющим или усиливающим, вообще искажающим их образом.
Положим, мы хотим заметить, как мы сердимся, и в момент гнева начинаем
усиленно наблюдать за собою, — мы, конечно, этим путем не узнаем, как
мы обыкновенно сердимся. Ставши сами над собой посторонними
наблюдателями, мы лишим наше чувство и его силы, и его цельности: уже не оно
будет владеть нами, а мы им. Поэтому мы или вовсе не увидим того, чего
ожидаем, или будем сами перед собою разыгрывать роль сильно
сердящегося человека, но без соответствующих ощущений. Или, положим, мы
захотели наблюсти во всех подробностях, как мы размышляем о
каком-нибудь вопросе. Будет великим самообманом с нашей стороны, если мы
подумаем, что в этом случае мы воспримем наш мыслительный процесс в
том виде, в каком он должен совершаться всегда. Напротив, он сразу
облечется в необычные формы: он сделается вялым, неустойчивым,
прерывистым. Ровно настолько, насколько мы заинтересуемся самонаблюдением,
потеряет в интересе тот вопрос, разрешение которого мы в себе
наблюдаем. Наше внимание будет разрываться между различными задачами, и мы
испытаем довольно мучительное внутреннее раздвоение. Результат нашей
умственной работы под усиленным собственным контролем едва ли будет
обладать серьезною ценностью: избыток контроля неизбежно ослабит
энергию нашей мысли. Аналогичное следствие получится и в том случае, если
мы захотим, например, сосредоточенно наблюдать, как именно мы
получаем от чего-нибудь удовольствие. Удовольствие необходимо мы получим
тем меньшее, чем больше будем себя развлекать и отвлекать наблюдением.
8- 227
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В жизни разрушающее действие на нормальный ход психических
деятельностей со стороны напряженного самонаблюдения самих действующих
встречается постоянно. Актер, который в страстной, горячей сцене станет
слишком наблюдать за своими интонациями, наверное сыграет слабо и
холодно. Самонаблюдение разрушит в нем то, что для него должно быть
самым главным: оно разрушит его увлечение. Оратор, который начнет
беспокойно следить за каждым своим словом, всего скорее собьется и запутается
и т. д. Точно так же искажающее и разъедающее влияние рефлексии на
самые простые и естественные чувства составляет факт, слишком хорошо
известный в истории культуры.
При этом нельзя не отметить, что недостатки самонаблюдения в
момент течения психических состояний представляют значительную
аналогию с недостатками самонаблюдения чрез воспоминание, о которых я
говорил выше. Самонаблюдение в момент психических процессов действует
гораздо разрушительнее на то, что я назвал субъективными элементами
душевной жизни, нежели на объективные ее элементы. Между тем
субъективным элементам внутреннего опыта принадлежит господствующая роль
в выяснении связи между психическими состояниями. Положим,
сосредоточенно наблюдаем какое-нибудь зрительное восприятие: от этого оно
только усилится, выделится из среды остальных, протечет медленнее и в то же
время свободнее. Напротив, попробуем уловить во всех деталях как в нас
слагается какое-нибудь решение воли. Своим наблюдательным и
созерцательным настроением мы прежде всего свою волю затормозим. Выйдет то
же, что я указывал относительно воздействия самонаблюдения на наши
душевные движения, страсти, поступки, умственную работу. Весь
внутренний процесс приобретет искаженный облик. Решение воли или совсем
не получится или получится, да не то, какое состоялось бы при
нормальных условиях. Между тем во всех этих примерах мы имели именно
субъективные моменты внутреннего опыта.
VI
В связи с рассмотренными до сих пор недостатками самонаблюдения нам
будет более понятна та важная особенность внутреннего опыта, которая в то
же время есть самый коренной недостаток самонаблюдения вообще, как
метода при изучении психических явлений. Далеко не все психические факты
обладают определенностью и устойчивостью своего содержания — тем, что
можно назвать его наглядностью и удобообозримостью. Существуют целые
ряды фактов, притом обладающих весьма серьезным значением для
психического бытия в его целом, которые неопределенны по существу, которые с
трудом воспроизводятся в воспоминании, которых нельзя вместить ни в
каком представлении со сколько-нибудь наглядным содержанием, которые
не228
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
уловимы в своем развитии и ускользают от сосредоточенного контроля
наблюдающей мысли. И все же это суть факты, которые протекают в нас каждое
мгновение и без которых наш душевный мир не мог бы обойтись ни одной
секунды. Отсюда вытекает странное положение психолога среди других
научных исследователей. В других науках мы всегда легко различаем между
бесспорными фактическими данными и теми предположениями, выводами и
объяснениями, которые на них строятся. В психологии самые факты не
представляют бесспорных данных: напротив, о них спорят больше, нежели о
чемнибудь другом. И спорят не только о их качествах, законах, толковании, —
спорят о самой их наличностиу — притом наиболее основных. Несомненно
данное для одних психологов, оказывается несомненно не данным для других.
Как понять это удивительное свойство психической сферы? Для него едва ли
можно указать другое объяснение, кроме неопределенности, неуловимости,
отсутствия наглядности в очень существенных элементах жизни нашего духа.
Наш ум стремится к наглядному. До некоторой степени верно
сравнение нашего ума с нашим глазом, — наш глаз хорошо видит то, что перед
ним, — внешнее ему, — но он очень дурно воспринимает то, что с ним
непосредственно соприкасается, а тем более, что происходит внутри его.
Конечно, сравнение не есть еще объяснение; но все же дух наш подобен
глазу в том отношении, что он лучше воспринимает данное ему — объект,
нежели свои внутренние движения. Настоящею наглядностью
(обозримостью, определенностью) обладает в нас только то, что относится к
воздействиям внешнего мира и к воспроизведениям этих воздействий. Себя
самих мы чувствуем и сознаем постоянно, в каждом своем действии, в
каждом удовольствии и страдании, в каждой мысли, в каждом желании, и все
же мы не имеем о своем внутреннем Я такого ясного, определенного
образа, какой имеем, например, о стоящем перед нами материальном предмете.
Предположим наблюдателя, ум которого весь охвачен стремлением к
наглядности во всем, что он мыслит, у которого и все миросозерцание
выработалось соответственно этой основной тенденции его ума (такие люди
обыкновенно бывают склонны к материализму), — как это должно
отразиться на его психологических обобщениях? В душевной жизни он
выдвинет на первый план ощущения (ввиду их сравнительной наглядности и
ввиду их ясно наблюдаемой связи с физиологическими процессами) и
воспроизведение ощущений (также наиболее наглядный, внутренний факт).
Все остальное содержание психической жизни он постарается вывести из
этих фактов, игнорируя, а то и прямо отрицая то, чего из них нельзя
построить. Получится законченная психологическая система, но с очень
односторонним содержанием. Типическим представителем такой манеры
объяснять душевную жизнь был самый знаменитый представитель
французской психологии XVIII столетия Кондильяк. Аналогичный случай
поисков за простыми, наглядными, легко измеримыми элементами душевной
229
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
жизни, как ее единственными слагаемыми, представляет психология
Гербарта с ее учением о представлениях, их связях и столкновениях как
единственном содержании психического процесса.
Но и в наши дни стремление найти в наглядных элементах
психической жизни ключ ко всему, что творится в душе, пользуется неменьшим
распространением среди психологов и очень отражается на содержании
отдельных психологических объяснений и описаний. Как на резкий
пример такого стремления при объяснении отдельных областей душевной
жизни, можно указать на теорию чувства у В. Джемса. По этой теории
каждое чувство целиком сводится к сопровождающим его органическим
ощущениям и тем представлениям, которые изображают для нас причину
нашего чувства. Так, обращаясь к прежнему примеру, чувство гнева с этой
точки зрения сводится к ощущениям прилива или отлива крови в лице,
биения сердца, отрывистого дыханья, сжатия кулаков, дрожания
мускулов и т. д. плюс представление об известном лице, нас чем-нибудь
рассердившем. В чувстве гнева кроме этих чисто физических ощущений и кроме
этого представления ничего больше нет. Другие психологи протестуют
против такого слишком простого объяснения: они выдвигают то, что я
назвал бы волевым моментом в чувстве. Ведь если бы данное лицо не вызвало
в нас неудержимого стремления сопротивляться ему, разрушить или по
крайней мере остановить его нежелательные для нас действия, отчего бы
идея о нем так всецело овладела нами и отчего могли бы возникнуть
вызванные ею физические эффекты? Мы не будем теперь решать вопроса о
том, какая из спорящих сторон права в этом деле, — нам тут интересно
другое. Разные чувства, — гнева, страха, жалости, любви, ненависти,
стыда, нежности, любопытства, удивления, — мы переживаем постоянно:
и вот можно спорить и более или менее безнадежно спорить о том, в чем
же, собственно, эти чувства состоят и что мы в них воспринимаем? Нужно
ли лучшее доказательство той печальной для психолога истины, что в
нашем внутреннем мире, хотя он всецело открыт нашему самосознанию,
далеко не все ясно для нас самих и далеко не все вмещается в отчетливые и
определенные формулы.
Возьмем другой пример. Каждый ежеминутно испытывает на себе ту
огромную роль, которая принадлежит во всех психических процессах
деятельности нашего внимания. Как разнообразно и тонко проявляется в нас
его сила, как свободно передвигает она все элементы сознания, как
решительно повышает одни психические процессы и понижает другие, как
загадочно умеет она сосредоточиваться не только на отдельных частях наших
представлений, но и на чисто идеальных сторонах их и отношениях. И ведь
она не приходит к нам откуда-нибудь извне: мы сами ее составляем, мы ее
внутренне переживаем и чувствуем как ряд собственных усилий, во всех
видах ее проявления. Она более чем что-нибудь другое составляет
принад230
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
лежность нашего собственного существа. Казалось бы, относительно
свойств, а тем более относительно существования этой силы в нас не
может быть никаких сомнений и никаких споров. А между тем существуют
психологи, и очень почтенные, которые отнимают у внимания все те
внутренние качества, о которых я говорил сейчас и совсем отвергают его как,
действительную активность нашего субъекта. Для Рибо, например, акты
внимания состоят из чисто физических ощущений мускульного порядка —
наморщивания лба, бровей, стискивания рта и т. д. Кроме этого, в них ничего
нет — все внутренние процессы в нас протекают сами собой. Как мог
возникнуть такой взгляд? Конечно, он продиктован предвзятым воззрением
на общую природу душевных явлений. Но если бы акты внимания
воспринимались нами вполне ясно и отчетливо, как, положим, мы воспринимаем
красный или желтый цвет, — можно ли было бы в описании их так отважно
идти против очевидности?
В совершенно подобном положении находится в современной
психологии и вопрос о воле вообще, по отношению к которой внимание есть
только одна из форм проявления, — быть может самая основная в психическом
процессе. Отрицание воли, как особого факта душевной жизни,
несводимого на другие ее факты, является одним из очень распространенных
психологических предположений в наши дни. Иногда это отрицание получает
очень решительный вид. Так, например, по Мюнстербергу, в волевом акте
всегда присутствуют только два феномена сознания: 1) представление о
будущем эффекте или движении и 2) восприятие достигнутой цели или
выполненного движения. Между этим представлением и этим
восприятием не посредствует ничего психического; переход от одного к другому
совершается механически в недрах нашего мозга, но в сознании он не
отражается нисколько. Эти основные моменты воли могут в нашем сознании
осложняться ощущением и представлением сопровождающих их
движений, логическими процессами выбора мотивов и т. д., но не в них суть воли.
Подобным же образом учит Циген.
Сопоставим эту теорию с учением Джемса о чувстве и постараемся
объединить их. Что тогда выйдет? В чувствах ничего нет, кроме
физических ощущений и представлений о вызвавших их предметах; в воле ничего
нет, кроме ощущений движения и представлений о движении. В
окончательном результате: в нас ничего нет, кроме физических ощущений и их
воспроизведений в форме представления. При этом ни эти ощущения, ни
эти представления никакого влияния на наши реальные действия не имеют.
Мюнстерберг настойчиво утверждает, что причинность наших психических
состояний и наших поступков всецело лежит в автоматических
отправлениях мозга: все наши действия совершались бы совсем так же, как и теперь,
если 6 и не было никаких ощущений и представлений в нашем сознании.
С другой стороны, Джемс выставляет свой знаменитый парадокс: мы
опе231
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
чалены, потому что плачем, приведены в ярость, потому что кого-нибудь
бьем, боимся, потому что дрожим, а никак не наоборот; всякое чувство
есть только сопровождающее обстоятельство, ничего от себя не
прибавляющее добавление к физиологическому процессу.
В этом убеждении, что в нас ничего нет, кроме ощущений и
представлений о них, несомненно, есть своя законченность и простота. Но
возникает невольное и неразрешимое недоумение: отчего тогда наши ощущения
имеют то, что в психологии называется тоном? Отчего эти совсем
пассивные отражения слепых и равнодушных физических процессов приятны нам
или неприятны, окрашены удовольствием или страданием? Откуда это
берется и зачем? По основному закону эволюции, в живых существах
развиваются только такие свойства, которые им полезны. Но какая нам польза
от наших страданий, болезней, мучительных размышлений, усилий
борющейся воли, угрызений совести, — если они ничего не могут изменить в
наших поступках, всегда совершаемых с абсолютным автоматизмом?
Можно, пожалуй, спросить и общее: зачем вся психика в нас, если ей нигде и ни
в чем не принадлежит никакой реальной роли? Помимо всего другого, уже
одни эти простые соображения лишают рассматриваемый взгляд всякого
правдоподобия.
VII
Дальнейший пример я возьму из области того великого спора, начало
которому было положено еще в Средние века: я разумею спор между
номиналистами и концептуалистами или универсалистами.
Универсалисты учат, что в нашем уме кроме представлений о вещах существуют
понятия о них, как некоторые совсем особые психические образования с
универсальным содержанием, с помощью которых мы и мыслим все общие
положения и истины. Например, мы не только имеем представление об
отдельных людях, но и понятие о человеке вообще, у нас не только есть
представление о том или другом треугольнике, но и понятие о всяком
треугольнике вообще и т. д. Не будь этих универсальных концепций в нашем разуме,
наша обобщающая мысль была бы невозможна.
Номиналисты отвечают на это, что мы можем воображать и
представлять только отдельные предметы, только частное содержание со всеми его
индивидуальными особенностями в данный момент. Мы никогда не
мыслим человека вообще, а всегда представляем какого-нибудь
определенного человека или определенных людей с известными особенностями лица,
фигуры, цвета волос и т. д. Мы никогда не мыслим треугольника вообще,
который не был бы ни велик, ни мал, ни прямоуголен, ни остроуголен, ни
тупоуголен; представить что-нибудь подобное совсем невозможно. Мы
всегда имеем в голове какие-нибудь определенные треугольники с
опреде232
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ленными свойствами. Общность нашей мысли заключается не в ее
собственном содержании, а в одинаковости употребляемых нами названий и слов.
Словом человек мы обозначаем всякого человека. Поэтому, говоря
чтонибудь о людях, мы предполагаем, что и думаем о чем-то обнимающем все
человечество. На самом деле этого вовсе нет — в нашем уме всегда бывают
даны только образы отдельных людей, и наша мысль всегда обращается с
ними. То же самое следует сказать и о всех других общих суждениях.
Когда мы их произносим, в нашем уме капризно мелькают отдельные образы,
факты, ощущения и ничего больше. К ним сводится все содержание нашей
мысли.
Номиналистическую теорию я считаю особенно поучительным и в то
же время весьма живучим примером тех очевидных крайностей, к
которым приводит стремление признавать только наглядные элементы в
душевной жизни. Развитая до конца, номиналистическая теория
последовательно должна привести к совершенному отрицанию самой наличности у нас
разума. Она ничего не может поделать со следующим несомненным
психологическим и логическим фактом: ни одно понятие (и можно прибавить —
ни одно умственное действие вообще) не исчерпывается сполна по своему
содержанию каким-нибудь частным представлением или ассоциацией таких
представлений; и, наоборот, существует великое множество понятий и
умственных действий, для которых не существует совсем даже приблизительно
отвечающего их смыслу наглядного образа.
Поясним оба положения несколькими примерами. Предположим, что
мы думаем о какой-нибудь самой простой геометрической истине о
треугольниках, которая относится ко всем треугольникам вообще. Что при этом
происходит в нашей голове? Всего скорее в нашем воображении всплывает
в этом случае представление о каком-нибудь отдельном треугольнике
определенной величины, с определенным отношением сторон и углов,
определенной окраски (положим, нарисованном черными линиями) на
определенном фоне (положим, белом, по воспоминаниям о рисунках в учебниках
геометрии). Может быть, в течение наших размышлений мы представим
два треугольника или несколько (во всяком случае едва ли очень много:
сила нашего воображения вообще ограничена, — и чем больше мы их
представим за раз, тем меньшею отчетливостью будет обладать каждый
отдельный образ). Участие воображения в наших размышлениях этим и
ограничится. А между тем думать мы будем о всяких треугольниках вообще,
о всех треугольниках. Данный, наглядно воображаемый треугольник
будет для нас только примером или иллюстрацией того, на чем
сосредоточилась наша мысль. И мы будем думать в этом отдельном воображаемом
треугольнике не об его цвете и не об его форме, не о величине его сторон или
углов, а только о том, что есть и в каждом другом треугольнике, какого бы
цвета ни был и какой бы величиной ни обладал, и мы допустим в свое
рас233
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
суждение только такие выводы, которые относятся к общей природе всех
треугольников. Я спрошу: как это возможно? Не нужно ли для этого, чтобы в
нашей мысли состоялось решение обратить внимание в данном примере
только на то, что относится ко всем треугольникам вообще, а для этого не
необходимо ли, чтобы в нашем уме так или иначе присутствовала идея о всяких
возможных треугольниках? А ведь это-то и отрицает номиналистическая теория.
Между тем не ясно ли, что если бы в нашем уме был только образ отдельного
треугольника со всемиего конкретными признаками, но не было бы в нас
решения остановиться в нем только на том, что обще всем треугольникам, или не
было бы способности исполнить это решение, то не возникло бы в нас и
никакого геометрического размышления. Наше сознание было бы бездумно
привязано к этому отдельному представлению до тех пор, пока по случайной игре
ассоциаций на место треугольника не стал бы круг или квадрат, а то и такое
представление, которое не имеет ничего общего с геометрическими
фигурами. Итак, для того, чтобы состоялось размышление о геометрической истине,
кроме участия нашей представляющей способности нужен какой-то
дополнительный процесс, весьма отличный от воображения; и он, несомненно, в нас
совершается, но о нем номиналистическая теория не дает никакого ясного отчета.
Но здесь по крайней мере мы имеем такой случай умственного
действия, в котором представление по своему содержанию вполне отвечает
тому понятию, которое мыслится его помощью. Данный треугольник
действительно имеет все свойства треугольника вообще, у него только есть
много и своих свойств, которыми другие треугольники не обладают.
Однако такое соответствие в содержании частных представлений и общих
мыслей дано нашему уму далеко не всегда.
Возьмем другой пример: положим, нас очень заинтересовал вопрос об
экономическом, политическом и культурном значении Москвы, и мы его
всесторонне обсуждаем. Мы можем высказать по этому поводу самые
разнообразные мнения и горячо на них настаивать. Но зададим себе другой вопрос: что
представляется и воображается нам, когда мы говорим — Москва? Какие
представления, воспоминания, образы проходят в нашей голове по ассоциации с
этим словом? И существует ли какая-нибудь связь, и какая именно, между
нашими теоретическими выводами о Москве и теми вереницами образов и
представлений, которые проносятся в нашем уме всякий раз, когда мы мысленно к
ней обратимся? С первого взгляда ясно, что ответить на этот вопрос нелегко.
Разобраться во всех представлениях и картинах, которые промелькнут в
нашей голове по этому случаю, едва ли даже выполнимая задача. Но вот что
несомненно: если мы станем передавать друг другу о том, что вообразилось нам
при слове «Москва», то не только окажется, что у каждого из нас протекли в
уме свои особые ряды воспоминаний и представлений, но что эти
представления будут постоянно меняться и у каждого лица в отдельности при новых
повторениях слова. Кто недавно приехал в Москву, тому всего скорее
вспомнят234
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ся первые впечатления от нее: вид издали, вокзал, ближайшие к нему улицы,
дом, в котором он остановился и т. д. Многим вместо всяких картин просто
представится слово «Москва», изображенное печатными или писаными
буквами. В связи с обсуждаемыми вопросами, может быть, промелькнет в уме
неоднократно географическая карта России. У живущих в Москве уже давно
особенно трудно предугадать течение ассоциаций: тут все зависит от
впечатлений, настроений, случайных воспоминаний. В общем, едва ли можно ждать
отчетливых и раздельных картин при опытах подобного рода: наша фантазия
за раз вмещает лишь небольшое количество раздельных представлений.
А между тем слово «Москва » само по себе не будет вызывать никаких
отдельных представлений в особенности. Поэтому в ответ на такое слово в нас всего
скорее должен получиться пестрый и в то же время неразличимо тусклый хаос
мелькающих образов, обрывков воспоминаний, неясных впечатлений. Одно
будет для нас ясно, если мы хорошенько подумаем, что между этим смутным
и чисто субъективным хаосом в нашем воображении и теми и для нас и для
других вполне понятными суждениями о значении Москвы в современной
России, которые мы будем высказывать в нашей беседе, лежит целая бездна,
через которую едва ли можно перекинуть какую-нибудь связующую нить.
В примере с треугольником, хотя наша мысль и отличалась от представления,
но все же она отправлялась от него: представление давало наглядный образец,
как предмет для прямого анализа мысли. Здесь уже нет такого отношения.
Мысль о большом городе, рассматриваемом при этом ввиду его очень
отвлеченных отношений к тому целому, которому он принадлежит, слишком обща
и сложна, чтобы она могла воплотиться в каком-нибудь наглядном образе.
Протекающие в нас наглядные представления при процессах размышления
этого рода не являются уже органическими звеньями этих процессов, а
оказываются в отношении к ним лишь внешним сопровождающим обстоятельством.
Возьмем еще пример: положим, мы хотим дать определение таким
понятиям, как право, закон, государство, нравственность, и с этою целью
размышляем над ними. Нет никакого сомнения, при обсуждении каждого
из этих понятий в нашем уме будут протекать разнообразные ассоциации
совершенно конкретных представлений, воспоминаний, картин и т. д. Но
возможно ли вообразить себе представления, которые находились бы к
этим понятиям в таких же отношениях, как отдельный воображаемый
треугольник относится к треугольнику вообще? Положим, размышляя о
праве, я вспоминаю вора, которого на моих глазах городовой вел в участок. Но
разве право и городовой, ведущий в участок — одно и то же? Размышляя о
законе, я могу вспомнить книжную полку, уставленную томами свода
законов. Но если я буду иметь в голове только эту полку, разве это мне
чтонибудь уяснит в понятии о законе вообще? Чтобы это воспоминание могло
мне в чем-нибудь помочь, мне нужно иметь понятие о содержании этих
книг, о тех весьма общих правилах и предписаниях, которые в них
содер235
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
жатся, т. е. я должен уже иметь какую-нибудь идею о законе. Слишком
ясно, что в этих случаях конкретное представление и понятие отстоят еще
дальше друг от друга, чем в предыдущем примере. Москву мы все-таки
можем воображать в ее отдельных частях, но ни полка книг, ни городовой
с вором не составляют материальных частей права или закона, ибо и то и
другое суть вещи отвлеченные.
Факт очевидной несоизмеримости между нашей представляющей и
нашей мыслящей способностью заставляет сторонников номинализма
прибегать к теории символизма в мышлении. Смысл этой теории таков: мы никогда
не мыслим наших понятий прямо, а всегда с помощью чувственных символов,
которые сами собою слагаются в нашем уме для каждого понятия. Мы не
можем представить себе бесконечной Вселенной, и вот, чтобы мыслить ее
миниатюрное и символическое подобие, мы воображаем круг или шар, в котором
заключены другие шары или круги, и этот круг или шар заменяет для нашего
ума Вселенную. Мы не можем представить Солнечной системы в ее
действительных размерах — и вот мы воображаем себе в малом размере
геометрические кривые, по которым движутся планеты вокруг Солнца, и маленькие
шарики, изображающие для нас Солнце, планеты и Землю. Мы не можем
представить дерево вообще, но сопоставляя различные породы деревьев и
отбрасывая их отличительные признаки, мы наконец приходим к тусклому
символическому образу, который состоит из палочки, изображающей для нас
ствол, и идущих от нее в разные стороны маленьких палочек, — эта ветвистая
палочка и заменяет для нашего ума идею дерева вообще и т. д.
Не нужно больших усилий критического анализа, чтобы заметить
крайнюю несостоятельность такой теории. Прежде всего очень трудно
оправдать из самонаблюдения, чтобы каждое понятие нашего ума
действительно имело в нашем представлении свой особый сколько-нибудь
постоянный символ. Если такие постоянно сопровождающие наши отвлеченные
понятия образы и существуют иногда, они обыкновенно менее всего
символизируют содержание нашей мысли. Всего чаще таким постоянно
сопровождающим образом является представление о написанном или
напечатанном слове, обозначающем данное понятие. У людей, обладающих так
называемым цветным слухом, таким неизменно сопровождающим
обстоятельством их отвлеченных понятий будет та или другая окраска
звукового состава употребляемых ими слов и т. д. Но даже отдаленное логическое
соответствие между содержанием чувственного символа и отвечающим ему
абстрактным понятием явится скорее исключением, чем правилом.
Однако главное возражение против символической теории
заключается, конечно, не в этом: оно состоит в том простом и ясном соображении,
что символ до тех только пор символ, пока мы понимаем его смысл. А если
значение его для нас затеряно, то он уже не символ, и мы начинаем
относиться к нему по его непосредственному, буквальному содержанию.
Сло236
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
во есть символ выражаемой им идеи; но если мы забыли, что оно значит,
для нас останется только его звуковой состав. Мы можем слушать самые
мудрые речи на непонятном для нас языке, но все же ничего не услышим,
кроме бессмысленного ряда звуков. Все это истины очень простые. А
между тем из них вытекает очень важное заключение: чтобы мыслить
символами, надо понимать эти символы, т. е. кроме символов надо иметь в голове те
понятия, которые ими обозначаются, — без этого у нас не будет никакой
мысли — ни символической, ни несимволической. Другими словами,
чтобы мыслить о чем-нибудь символически, надо о том же самом при этом
думать прямо и по его настоящему смыслу. Как в примере треугольника,
чтобы мыслить геометрическую истину, нужно было, чтобы кроме
представления об отдельном конкретном треугольнике в нашем уме был дан
некоторый дополнительный процесс, так тем более при символах
искусственных и по содержанию далеких от обозначаемых ими весьма
абстрактных понятий (как, например, когда мы воображаем маленький круг в
качестве символа бесконечного мира в его целом) нужен аналогический
дополнительный процесс сопоставления символа с тем, что в нем
символизируется. Кроме чувственных образов в нашем уме должно как-нибудь
присутствовать нечувственное содержание идей — без этого никакой
символизм невозможен.
Но такой вывод обозначал бы полный крах номиналистической
доктрины: согласившись с ним, она признала бы то, в отрицании чего
заключается весь ее смысл. Однако какой же другой выход указать из этих
затруднений? Скажем ли мы, что мы просто не понимаем никаких общих суждений
и никаких отвлеченных идей? Будем ли доказывать, что в нашем уме в
соответствии с отвлеченными терминами проносится хаос совершенно
бессмысленных ассоциаций, которые, однако же, в последнем результате приводят
по неизвестным причинам к употреблению логически целесообразных
новых терминов, хотя и они в нашей голове вызовут опять только тусклый
хаос случайных представлений; так что осмысленность наших общих
рассуждений есть только иллюзия, зависящая от осмысленного сочетания
словесных знаков? Конечно, можно договориться и до этого. Но является
неумолимый вопрос: как может в нас возникнуть такая иллюзия? Пускай
сочетания словесных знаков по отношению к обозначаемому ими
содержанию в высшей степени целесообразны — как могли бы мы это заметить,
если б в нашей голове ничего не было, кроме тусклого хаоса?
Итак, в рассматриваемом споре универсалисты оказываются
правыми. В нашем мышлении действительно присутствуют данные
сверхчувственного характера, не обладающие никакою наглядностью. И все умственные
операции имеют дело с ними: ведь в каждом суждении, если не
подлежащее, то по крайней мере сказуемое имеет непременно общее содержание.
Но, как ни странно это, эти данные настолько неуловимы в своих
психоло237
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
гических качествах, они так легко ускользают от самонаблюдения в своей
особой природе, что существуют до сих пор очень серьезные
исследователи, которые совсем отрицают самое их существование. В этом должен
заключаться величайший урок для психолога в смысле осторожности и
воздержания от поспешных обобщений.
VIII
Теперь мы ознакомились с важными достоинствами и недостатками
самонаблюдения или интроспективного метода в психологии. Его
основное достоинство в том, что для него душевные факты являются в своей
настоящей реальности и что внутренняя связь между ними в очень многих
случаях непосредственно открыта для нашего прямого усмотрения. Его
недостатки коренятся в том, что психические явления очень неустойчивы и
непрерывно протекают во времени, что их нельзя измерить, что они далеко
не сполна воспроизводятся в нашем воспоминании, что их нельзя
наблюдать в момент их совершения, не изменяя их хода, наконец, что многие из
них, и даже особенно важные по своей роли в общем обиходе психической
жизни, оказываются по своему внутреннему существу неопределенными,
лишенными чувственного облика, не имеющими отчётливой наглядности
для нашего внутреннего восприятия. Из этих свойств нашего
самосознания можно вывести некоторые руководящие и предостерегающие правила
психологического исследования, поскольку они ведутся интроспективным
методом. Я укажу важнейшие между ними.
1. К нашему самонаблюдению невозможно применение строгой
научной индукции с экспериментальными методами, при поступлении связей и
последовательностей между явлениями. Строгий эксперимент вообще для
самонаблюдения недоступен. В нашем душевном мире нельзя вызывать
явлений по произволу или даже если мы этого в отдельных случаях
достигаем, никогда нельзя быть уверенным в том, что все обстоятельства опыта
нам известны. Для самонаблюдения оказывается применимою только
простая, популярная индукция, но и по отношению к ней мы не можем быть
убеждены (ввиду плохой воспроизводимости и неуловимости отдельных
психических фактов), что все данные приняты нами во внимание.
2. Для самонаблюдения является широко открытым метод
мысленного анализа, в значительной степени восполняющего и дополняющего
индукцию в ее обычном смысле. Факты душевной жизни между всеми
явлениями действительности отличаются тем, что в них нам нередко бывает
открыта их внутренняя связь. Через это в ней отдельные наблюдения дают
гораздо более, чем в других сферах знания. В каждом отдельном случае
такой непосредственно ясной связи мы можем уследить, что в нем
первоначально и что производно, что причина и что следствие, в чем условие и что
238
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
дано как обусловленное, в чем выражается активность духа и в чем,
напротив, сказывается его пассивность. Всего этого мы достигаем через простое
различение отдельных данных, присматриваясь к тому, что совершается в
нас, это значит, что простое самонаблюдение дает нам во многих случаях
прямо то, что в науках о внешней природе достигается лишь строгим и
детальным применением методов экспериментального исследования: в
самом деле ведь вся задача экспериментальных методов заключается в
установлении причинной связи явлений.
3. Детальное усвоение всех малейших перипетий психического
процесса для самонаблюдения (ввиду неполноты воспроизведения прошлых
явлений) вообще мало доступно. Зато, вследствие сейчас указанной
возможности мысленного анализа отдельных фактов по их внутреннему
значению и смыслу, в сфере самонаблюдения мы способны сразу схватывать
типические черты явлений. Оттого психолог до некоторой степени
оказывается в положении геометра: как геометр, всесторонне исследуя
отдельные примеры, приходит к самым общим заключениям о линиях, углах и
фигурах, так и психолог, мысленно сосредоточившись на отдельных
душевных актах, может усматривать и оценивать их типические свойства и
отношения. В самом деле, при известной доле проницательности,
человек, даже и не знающий логики, мог бы построить ее основные законы и
правила, просто вдумываясь в смысл какого-нибудь одного сложного
рассуждения и мысленно выделяя мотивы, движущие ходом заключений в нем;
ведь и исторически логика возникла из анализа отдельных конкретных
логических актов. Точно так же, пережив один какой-нибудь порыв сильного
чувства, дотоле нам незнакомого, мы не только будем знать, что оно в нас
вызвало в этом отдельном случае, но будем знать и то, чего можно ждать от
этого чувства в будущем или от других людей, когда оно ими овладеет. Кто
испытал сильную борьбу между голосом совести и могущественными
побуждениями личного интереса и выгоды, тот знает, чего эта борьба стоит,
какой твердой воли требует и на какие хитрые софизмы пускается наш
эгоизм, чтобы отстоять себя. Другими словами, он будет иметь о подобных
положениях типическое знание. Таким образом вот два мощных орудия
интроспективной психологии: прямой мысленный анализ и вытекающий
из него типический или обобщающий анализ.
Из сказанного сейчас вытекает важный вывод: несмотря на
сравнительную неопределенность и неуловимость активных элементов нашего
сознания, для интроспективного исследования оказываются наиболее
доступными проявления активности нашего духа. Причина тому понятна:
лишь в проявлениях этого рода нашему самонаблюдению и восприятию
открыть причинный ряд переживаемых состояний в его важнейших
звеньях и в его внутреннем значении; оттого только к этой категории явлений с
полною плодотворностью прилагаются методы прямого мысленного и
239
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
типического анализа. Говоря просто, мы только те психические явления
понимаем вполне, в которых выражаются наши действия — внешние или
внутренние, — наши стремления и побуждения в их взаимной зависимости, наши
влечения и чувства; мы только то хорошо понимаем в себе, что зависит от
нашего собственного Я и выражает его субъективные реакции на окружающий
мир, мы видели тому многочисленные примеры. Напротив, те психические
состояния, к которым наше сознание относится пассивно, которые ему, так
сказать, навязываются извне и помимо его, несмотря на их сравнительно
большую наглядность, гораздо менее открыты интроспективному анализу по
отношению к их внутренним связям, управляющим ими законам и вызывающим
их причинам. Например, точно установить физическую природу
раздражений, вызывающих те или другие внешние ощущения, на основании одного
самонаблюдения, очевидным образом невозможно. Что делается в глазу, когда
мы испытываем зрительные ощущения? Конечно, простое самонаблюдение
при решении этого вопроса ни к чему нас привести не может, кроме самых
общих предположений. Или как бы можно было вывести закон Вебера только
на основании самонаблюдения? Точно так же невозможно путем
интроспекции установить причины наших органических ощущений, возникающих из
процессов и изменений внутри нашего организма; будь иначе, диагноз всяких
болезней был бы прост до чрезвычайности. Обращаясь к другой области, нельзя
лишь на основании самонаблюдения с уверенностью ответить на вопрос, какие
представления еще сохраняются в нашей памяти и какие исчезли из нее
навсегда. Одинаково нельзя самонаблюдением решить, какие причины
вызывают в нас то или другое содержание наших сновидений, их тусклость или
отчетливость, их осмысленность или бессвязность и т. д. Во всех подобных случаях
очевидным образом самонаблюдение нуждается в помощи наблюдения
внешнего и над другими людьми, и над физическими и физиологическими
процессами в нашем организме вообще.
К
Теперь, когда нам известны сильные и слабые стороны
самонаблюдения, которое все-таки, и это надо очень помнить, остается коренным
методом при нашем знакомстве со своим собственным душевным миром, мы
можем остановиться на некоторых предостерегающих правилах,
внимательное выполнение которых, быть может, избавило бы психологию от той
хаотической пестроты противоречащих друг другу теорий и гипотез,
которою она страдала в течение всей своей истории.
1. Психолог должен избегать исключительного сосредоточения всех
своих исследований на наглядных и отчетливых фактах в жизни сознания. Он
должен постоянно иметь в виду душевную жизнь в ее действительном целом,
со всею ее сложностью, подвижностью, нередко — неуловимостью и
неопре240
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТЮЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
деленностью. Он должен помнить, что наглядное, вполне определенное и
отчетливое в ней составляет лишь сравнительно небольшую и далеко не самую
существенную область среди ее разнообразных внутренних двигателей.
2. Психолог должен с большою осторожностью относиться ко всяким
попыткам дать окончательный анализ психических процессов на их
простейших элементах. Стремление разложить сполна всякое сложное явление на его
составные, далее неразложимые части лежит в самом существе науки и в
науках о мире внешнем (механике, физике, химии): оно было главным
двигателем их огромных успехов за последние столетия. Но все же надо помнить, что
оно плодотворно лишь тогда, когда назрела возможность его более или менее
обстоятельного выполнения. В противном случае анализ приведет не к тому,
чего от него ждут, а только к одностороннему и искаженному изображению
фактов. Психолог обязан помнить, как бесконечно сложны даже по
видимости простые психические явления, как много в каждом из них неуловимых,
чисто идеальных моментов и двигателей, и какое, с другой стороны,
органическое, нерасторжимое, внутреннее единство представляет душевная жизнь в ее
целом. В самой идее рассматривать душевную жизнь как простую сумму
независимых друг от друга слагаемых заключается важная научная натяжка: в
душевной жизни возможен только относительный, а никак не абсолютный
анализ (какой, например, бывает в химии), когда мы просто выделяем составные
части из их данного соединения. Во всяком случае, вернейшее средство не
понять психический процесс, это остановиться в нем только на таких элементах,
которые ярко выражены и более других бросаются в глаза. Против увлечения
аналитическими задачами в психологии единственное средство должно
заключаться в возможно большей строгости требований от обратного синтеза.
Каждый данный психический процесс должен строиться из предположенных
его элементов во всей конкретной и жизненной полноте, а не только в
какихнибудь своих отдельных свойствах. В области подобных исследований трудно
быть достаточно скептиком: при чрезвычайной тонкости и сложности
изучаемых явлений малейшее сомнение в возможности действительного выведения
всей совокупности их признаков из их предполагаемых факторов должно
служить решительным препятствием для признания анализа законченным.
Между тем в истории психологии мы замечаем скорее противоположную
тенденцию: требования от обратного синтеза ввиду трудности задачи обыкновенно
бывают очень снисходительны, и нередко только такою снисходительностью
обеспечивается успех отдельных психологических гипотез.
3. Психолог должен тщательно оберегаться от злоупотребления
физиологическими схемами. Тесная зависимость психических явлений в
нашем духе от физиологических процессов в нашем организме, в
особенности в нашем мозгу и нервной системе, есть факт несомненный, и указание
условий такой зависимости представляет весьма интересную тему
научных изысканий. Но все же из этого никак не следует, что задача психолога
241
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
состоит только в том, чтобы для каждого психического факта найти тот
физико-химический процесс в мозговых клетках, который его вызывает.
Такая замена психологии физиологией недозволительна, во-первых,
потому, что как бы ни были тесно связаны психическая и физическая сферы
явлений в нас, мы все-таки не имеем права сразу решать, в чем эта связь
заключается. Состоит ли она в том, что каждому психическому феномену
отвечает в нервно-мозговой системе вполне эквивалентный ему
физиологический процесс, порождающий с физической неизбежностью другие
процессы, которые в нашей психике отражаются как новые явления,
вытекающие из первого? Так смотрят на дело очень часто, и в этом предположении
состоит столь популярная теперь теория эпифеноменизма в психологии.
Но хотя она и очень популярна, она все же весьма далека от того, чтобы
быть действительно доказанной. Напротив, как я старался показать во
многих прежних моих статьях, она вызывает против себя весьма серьезные
возражения. А если так, то всегда возможно предположить, что
отношение физического и психического в нас не так просто и не сводится только к
тому, что звенья психического ряда явлений в нас во всех случаях
представляют прямую функцию звеньев ряда физического, без всякого
обратного воздействия душевных актов на направление физиологических
процессов. Быть может, физический и психический ряды феноменов хотя и
связаны в нас в том смысле, что постоянно оказывают многообразное
взаимное влияние друг на друга, но все же развиваются самостоятельно,
каждый по-своему, и поэтому для отдельных звеньев процесса душевного не
всегда можно указать вполне соответствующий коррелят в звеньях цепи
физических процессов. Во-вторых, при попытках чисто физиологического
объяснения душевных фактов постоянно приходится иметь в виду
чрезвычайную скудость наших сведений о тех бесконечно сложных и тонких
процессах, которые совершаются в нашем мозгу. Психологу поневоле
приходиться пускаться в творчество и самому сочинять физиологические схемы
для объяснения всех операций духа. Это отнимает у исследователя много
времени и остроумия, а между тем результат довольно плохо
вознаграждает их старания: психические и физические факты слишком разнородны
между собою, и что бы мы ни придумывали для одних, это мало поясняет
внутренний строй других.
Между тем в физиологической схематизации заключается и прямо
опасная сторона для беспристрастного психологического исследования. Ничто так
не толкает к одностороннему и даже прямо превратному освещению
душевных фактов, как заранее составленное убеждение в том, что все психические
явления представляют лишь перевод на язык нашего субъективного сознания
чисто физических перемен в нашей нервной системе. Ничто не побуждает так
могущественно к совершению поспешных анализов и к пренебрежению теми
лишенными чувственной наглядности элементами сознания, о значении
кото242
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
рых я уже говорил так много. Ведь при последовательном проведении
эпифеноменистического взгляда мы с самого начала всякую психическую активность
должны признать за простую иллюзию. Мы все явления сознания должны
будем рассматривать, как чисто пассивные отражения в нем разных перемен
вне его. При этих условиях должен непременно возникнуть соблазн
растолковать всю душевную жизнь из того, что я назвал объективными или
периферическими данными сознания, — т. е. из ощущений и воспроизводящих их
представлений, — ведь тогда всякое душевное состояние вообще есть только
субъективное ощущение различных нервных изменений.
X
Главная задача психолога должна заключаться в беспристрастном
описании данных душевной жизни. Как мы уже знаем, эта задача чрезвычайно
трудна ввиду тонкости и сложности психических фактов. В этом отличие
психологии от других наук, в которых описание прямо данного составляет только
вводную и несущественную часть. Но, с другой стороны, отличие психологии
от других наук заключается и в том, что в ней всестороннее описание может
доставить гораздо больше, чем в них: оно раскроет внутреннюю причинность
феноменов, поскольку по крайней мере они зависят от активности нашего-?.
Наконец, ввиду того, что во внутреннем опыте пред нами обнаруживается
истинная и несомненная действительность, такое описание должно открыть очень
важные перспективы для философских выводов общего характера.
Против сделанных здесь выводов можно ждать одного принципиального
возражения. Если психические факты в столь значительной и важной доле
своей оказываются неуловимыми и неопределенными, если к ним не
применимы самые обычные приемы наблюдения и опытного исследования, если в
области чистого самонаблюдения ничего нельзя измерить и вычислить и, стало
быть, она недоступна для математических формул, — какое же может быть
знание о психической жизни? Способна ли вообще психология быть наукою?
Не осуждена ли она самым существом своих задач на то, чтобы оставаться
вечным хаосом противоречивых мнений?
Мне кажется, ответ на эти недоумения прост: тем не менее мы кое-что
знаем о своем духовном мире и даже знаем довольно много, — это факт. Ведь
все наше практическое знание жизни и света, в наибольшей своей части,
слагается из того, что мы знаем о себе и верно догадываемся о других. Житейский
опыт, личный и общественный, любое художественное произведение
литературы, всякое обдуманное знакомство с историческим прошлым, всякая
философская теория, в своих первых посылках неизбежно опирающаяся на
какиенибудь непосредственные данные разума и чувственного опыта, — все это и
многое другое с разных сторон научает нас о том, что творится и содержится в
нас самих. Если б относительно нашего собственного психического мира в
на243
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
шем уме ничего не было, кроме дикого хаоса противоречивых заблуждений,
мы ничего не могли бы ни понять, ни совершить в жизни. А раз мы кое-что о
себе знаем, — а в будущем, вместе с умственным и духовным ростом
человечества, можем надеяться узнать и еще больше, — то мы, несомненно, можем
систематизировать свое знание, установить градацию и связь между более или
менее общим, и более или менее достоверным. И, конечно, мы это сделаем тем
лучше, чем менее будем подчиняться предвзятым взглядам на дело. С другой
стороны, принципиальная оценка главного источника и предмета
психологических споров может значительно смягчить противоречивость и шаткость
отдельных психологических обобщений. Такое систематическое, по
обдуманному и ясно сознанному методу построенное знание о нашей душе не имеет ли
все логические права быть названным наукою?
Однако совсем другой вопрос, может ли психология стать наукою в том
точном, — употребляя выражение Дюбуа-Реймона, — астрономическом
смысле, в каком мы называем науками механику или физику? Дойдет ли
когданибудь психология до такого совершенства, что будет безошибочно
предсказывать, в какой час и минуту в данном человеке возникнет та или другая идея
или будет им совершен тот или иной поступок, — подобно тому как астроном
предсказывает, когда должно быть затмение Луны или Солнца? На это
надежда в самом деле очень плохая. Но разве только для одной психологии? Есть ли
хоть малейшая вероятность, чтобы такой астрономический облик получили
когда-нибудь история или социология? Достигнет ли его когда-нибудь
биология — ведь теперь ей еще очень далеко до этого. Помимо всего другого, такой
астрономический облик немыслим там, где наше познание имеет дело с
неограниченною сложностью данных, В этом смысле нужно признать, что
некоторые науки самым существом своих задач осуждены быть не точными и не
астрономическими. Науки о духе относятся к этой категории наук. Означает
ли это, что мы должны от них отказаться? Ведь неточное и не могущее давать
абсолютных предсказаний знание не значит еще ложное знание.
Не надо забывать и важного преимущества в науках о духе. В
психологической области мы не имеем исчерпывающих и математически предопределяющих
ход явлений формул, но зато нам открыта внутренняя качественная сторона этих
явлений: мы с абсолютною достоверностью знаем, что значит думать, хотеть или
чувствовать. В науках точных наблюдается нечто обратное: в них формулы даны в
изобилии, но зато они только в сущности и даны. Формулы действия
электричества, например, установлены с поражающей строгостью, но разве не загадка, что
такое само электричество, — разве тут все нам ясно и теперь? Формулы движения
тел даны. Но что такое тело, что такое вещество, что такое движение, что такое
пространство? Ведь это все загадочные, неизвестные данные, и когда для нас
настанет их абсолютное понимание, да и настанет ли когда-нибудь?
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТЮЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Н.О.ЛОССКИЙ:
ПСИХОЛОГИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЛЮНТАРИЗМА
Лосский Николай Онуфриевич (1870-1965) —
философ. В 1922 г. выслан из России, жил в Праге и
Братиславе, в 1945 г. переселился во Францию,
с 1946 г. жил в США, с 1960 г. — во Франции. Умер
в Париже. Философская система —
«органический идеал-реализм» — включала в качестве
раздела психологию и антропологию, с которыми
связано начало его научной биографии:
философско-психологическая магистерская диссертация
«Основные учения с точки зрения
волюнтаризма» (1903). В пределах психологической жизни
различал два типа состояний, которые
называл «данные мне» и «мои» в зависимости от большей или меньшей
представленности в них волевого компонента. Это различие оценивал как
удачное С.Л. Франк, использовал Т. Липпс; А.Ф. Лазурский
рассматривал основанную на этом основании классификацию характеров
Лосского.
Исключительный интерес представляют воспоминания Лосского
(«Воспоминания. Жизнь и философский путь»)1, в которых
представлены важнейшие события его жизни в период до 1958 г.;
религиознофилософские размышления, встречи с выдающимися людьми своего
времени, их портреты, описанные с большим литературным мастерством
и талантом, воссоздают духовный климат европейских стран, Америки
и России конца XIX — первой половины XX в.
ВОЛЮНТАРИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ВОЛЕ2
В современной психологической литературе часто слышатся жалобы
на то, что никогда еще психология не была в таком неопределенном
положении, как теперь. Ни одно из основных направлений в ней не пользуется
преобладанием. Ассоциационизм уже давно перестал всецело увлекать
психологов, хотя и не вымер еще. Интеллектуализм в последнее время
Вопросы философии. 1991. № 10-12.
Лосский Н.О. Волюнтаристическое учение о воле// Вопросы философии и
психологии. 1902. Кн. 62. С. 667-709.
245
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
очень часто встречает отпор со стороны волюнтаризма, но не падает
вследствие этого. Психофизиологическое направление пользуется
большим успехом, но его материалистический характер вредит свободе
исследования многих чисто психологических проблем. С ним поэтому
вступает в борьбу психология, требующая чисто психологического
исследования явлений и отвергающая попытки выводить психические
явления из непсихических (Bewußtseinspsychologie; сюда можно отнести и
психологию, широко пользующуюся понятием бессознательной
психологической жизни).
Каждое из старых направлений оказало такие очевидные услуги
психологии, что невольно внушает почтение к себе. Новые теории
стремятся не только переработать содержание психологии, сколько отвоевать
себе какую-либо частную область в ней и приобретают эклектический
характер. Таким образом, неопределенным становится не только
положение психологии в целом, но и каждого направления в частности.
Между тем некоторые из этих направлений, например волюнтаризм,
начинающий теперь понимать голову, требуют совершенно определенной
системы взглядов и могут быть согласованы с результатами
исследований, произведенных представителями других направлений, лишь путем
переработки этих исследований. Поэтому работы, посвященные
вопросу, какие системы взглядов необходимо требуются или исключаются тем
или другим направлением, могли бы существенно способствовать
оценке этих направлений. Настоящая работа предпринята с целью
подвергнуть именно такому исследованию волюнтаризм. Необходимо для этого
направления точки зрения на волю, личность, течение душевных
процессов, связь между душевными и телесными процессами будут изложены
в особых почти самостоятельных исследованиях. Первое из них,
предлагаемое вниманию читателя, посвящено волюнтаристическому учению
о воле.
I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛЮНТАРИЗМА
Волюнтаризм есть направление в психологии, утверждающее, что все
явления душевной жизни, относимые индивидуальным сознанием на
основании непосредственного чувства к «Я», протекают по образцу волевых
актов, что волевые акты суть типичная форма процессов сознания. Иными
словами, в жизни Я нет состояний сознания, а есть только
целестремительные акты, поступки. Таково предварительное определение
волюнтаризма, еще не обрисовывающее его физиономии, так как каждый из
терминов в этом определении требует особого пояснения.
246
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Психологические понятия основываются в волюнтаризме, как
направлении строго эмпирическом1, на тщательном наблюдении над реальным
содержанием душевной жизни, и каждому из них соответствует какая-либо группа
фактов, находимых в сознании каждого человека. Поэтому, знакомясь с
волюнтаризмом, мы обязаны отбросить все принесенное с собою содержание
понятий воли, волевого акта, поступка, Я и т. п., и посмотреть, какие факты
нам предлагают обозначать этими именами. Исходным пунктом при этом
должны служить явления, называемые действиями по сознательному выбору: они
состоят из наиболее дифференцированных элементов и потому особенно
пригодны для перечисления фактов, мыслимых в понятии волевого акта.
И. ЭЛЕМЕНТЫ ВОЛЕВОГО АКТА
Рассмотрим следующий случай: мы пишем научный реферат, в комнату
входит наш знакомый и зовет пойти прогуляться; мы отвечаем, что охотно
пошли бы полюбоваться весенним солнцем и небом, но у нас мало времени, так
как работу непременно нужно окончить сегодня; потом нам приходит в
голову, что получасовая прогулка освежит нас, мы будем быстрее работать и
успеем дописать доклад; как только является это соображение, мы встаем и идем
гулять. Сложный внутренний процесс заканчивается переменою в нашем
психофизическом целом: у нас является ряд движений, осуществляющих
прогулку, и ряд новых состояний сознания, связанных с чувством
удовлетворения или неудовлетворения (например, если оказалось, что погода начала
портиться). Этой перемене предшествовал ряд стремлений, из которых одни,
как нам кажется, составляют условие возникновения перемены, а другие,
наоборот, противодействуют возникновению ее. Иными словами, нам кажется,
что перемена причиняется нами, поскольку у нас есть эти предшествующие
состояния сознания, и возникает тогда, когда причиняющие состояния
оказываются сильнее удерживающих. Заметим при этом, что нам не кажется, будто
стремление само действует, а мы пассивно созерцаем его деятельность; мы
чувствуем, что мы сами, поскольку у нас есть стремление, порождаем
перемену. Волевыми мы будем называть те действия, в которых есть все три
указанных элемента: 1) мое стремление, 2) чувствование моей деятельности,
активности2, 3) перемена, которая кажется мне результатом моей деятельности.
Чувствование активности связывает стремление и соответствующую
ему перемену и как бы показывает мне, какое мое состояние сознания
составляет причину перемены. Эта важная составная часть описываемого нами
1 См. Вундт. Очерк психологии. Перев. под редакцией Грота. С. 23-24.
2 Словом «чувствование » мы будем называть всякое «непредметное » содержание
сознания, которое не хотим или затрудняемся поместить в какую-либо
определенную рубрику.
247
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
процесса неразложима, одинакова по качеству, хотя и различна по
интенсивности в различных действиях. Например, если мы припоминаем забытую
фамилию или подыскиваем возражения на трудный вопрос в серьезном
философском споре, чувствование усилия у нас интенсивнее, чем в том случае,
когда мы, следуя призыву товарища, тотчас встаем, чтобы отправиться гулять, но
во всех этих деятельностях чувствование активности по качеству одинаковое.
Это утверждение, пожалуй, может вызвать возражения лишь потому, что
сознание активности никогда не существует в обособленной форме и
потому его качество трудно определить: нельзя сознавать себя просто
деятельным, можно лишь сознавать себя деятельно припоминающим,
размышляющим, рассматривающим и т. д. Недифференцированность чувствования
активности и спора его очень вредит изучению его, так как такие состояния
сознания легко ускользают от внимания наблюдателя.
По поводу нашего анализа нас легко могут обвинять в том, что мы
взялись только перечислить факты, находимые в сознании, а на самом деле
вместо этого построили целую теорию: может явиться предположение,
будто мы уже говорили о Я, как субстанции, об активности Я и о том, что
стремления составляют причину перемен в Я. В действительности ничего
подобного не было: мы говорили лишь о чувствовании активности (которое
может быть иллюзиею), а не о способности действительно производить
перемены в мире и в себе; о стремлениях мы говорили, что нам кажется (быть
может, это чувствование ложное), будто они именно находятся в причинной
связи с переменами, следующими за ними. Упоминая о Я, мы имеем в виду
лишь не подвергнутое еще нашему анализу чувствование, присутствием
которого характеризуются все состояния сознания, называемые моими
состояниями. Собственно говоря, все содержание каждого индивидуального сознания
окрашено этим чувствованием; однако если всмотримся ближе, окажется, что
некоторые состояния очень интенсивно и в целом своем составе чувствуются,
как «мои », а другие лишь отчасти кажутся «моими ». Анализируя последние,
можно бывает выделить в них элементы, вовсе не окрашенные упомянутыми
чувствованием, т. е. вовсе не мои, а как бы данные мне, найденные мною.
Например, если я смотрю на хорошо знакомую мне чернильницу на своем
столе, то цвет, форма и т. п. элементы этого восприятия вовсе не кажутся
мне моими состояниями сознания; они даны, я готов назвать их своими
лишь постольку, поскольку мое внимание направлено на них. Наоборот,
процесс отыскивания ответа на какую-нибудь задачу-шутку, например на
вопрос, как построить из шести спичек четыре угольника, может быть очень
деятельным, так что в нем не моими, данными кажутся только случайные
побочные отрывки мыслей, возникающие по ассоциации идей. Каждый из
элементов волевого акта, именно большинство стремлений, чувствование
активности и большинство перемен, могут встречаться также в сознании
как не мои, как данные мне состояния сознания.
248
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Так как с помощью анализа можно отделить, если не реально, то
мысленно, элементы мои от данных мне, то мы различаем понятия Я и
индивидуальное сознание: под словами «индивидуальное сознание» мы
разумеем совокупность всех состояний сознания, переживаемых каким-либо Я,
а под словом «Я» лишь ту часть индивидуального сознания, которая
чувствуется, как моя.
Итак, до сих пор мы занимались лишь описанием фактов, но, без
сомнения, мы делаем это для того, чтобы со временем перейти к теории,
к учению о действительной активности сознания. Однако эта задача еще
далеко впереди: раньше нам нужно исследовать элементы волевого акта,
стремлений, чувствования активности и перемен и определить виды
волевых актов.
1. СТРЕМЛЕНИЯ
Нам предстоит теперь задача определить необходимые составные
части всякого стремления. Этот труд в значительной мере облегчен для нас
превосходным сочинением Пфендера (Pfänder) Phänomenologie des Wollens
(Leipzig, 1900). Пфендер задался в нем целью определить лишь, избегая
всяких теорий воли, состав стремлений вообще и важнейшего вида их,
хотений, в частности; вопросом о переменах, следующих за стремлениями,
т. е. об актах, он вовсе не занимается. Результаты его анализа настолько
точны и убедительны, по нашему мнению, что нам остается только
передать их и дополнить своими соображениями о некоторых наиболее
простых стремлениях, не принятых, по нашему мнению, в расчет Пфендером.
Во всяком стремлении, говорит Пфендер, есть представление о
какомлибо переживании, составляющем предмет стремления. Представление
служит для нас заместителем этого переживания, так как внимание
сосредоточено не на тех его свойствах, которые придают ему характер
представления, а на тех, которые у него общи с замещаемым переживанием. При
этом содержание представления, общее с замещаемым переживанием,
представляется как находящееся в настоящем, т. е. как прошедшее,
будущее или не локализованное во времени, хотя само представление, конечно,
находится в сознании в настоящем времени1. Присутствием такого
представления не исчерпывается еще явление стремления. В нем замечается
еще всегда определенное отношение к чувствованиям удовольствия и
неудовольствия. Обыкновенно предполагают, что предметом стремления
бывают всегда переживания, заключающие в себе воспоминания
(представления) о прежних удовольствиях или, вернее, относительных
удовольствиях, доставленных соответствующими переживаниями. Пфендер приводит
Pfänder. Phänomenologie des Wollens. S. 1—36.
249
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ряд соображений, показывающих, что такие представления о прежних
приятных переживаниях, хотя и входят очень часто в стремления, вовсе не
составляют необходимого элемента их. В действительности в стремления
входит нечто совершенно иное по существу, именно не представление о
приятном переживании, а относительно приятное представление о
переживании, т. е. представление о переживании, которое было, может быть,
и неприятным, но теперь в воспоминании сопровождается чувствованием
(не представлением) относительного удовольствия. Это чувствование
относительного удовольствия есть удовольствие более сильное, чем
удовольствие от некоторого другого представления, или же удовольствие в
противовесе неудовольствию от некоторого другого представления, или же
неудовольствие, менее сильное, чем от некоторого другого представления.
Трудный вопрос, какое другое представление, связанное с другим
чувствованием, всегда существует налицо в стремлении, Пфендер решает
следующим образом: «Стремление возникает когда мы переходим от представления
небытия к представлению бытия переживания; оно проходит, когда
антиципация переживания вполне достигнута. Следовательно, во время стремления
происходит движение от представления небытия к представлению бытия
переживания». Стремление существует только в том случае, если этот переход от
представления А к не-А или наоборот связан с чувствованием
«относительного удовольствия». Само собою разумеется, эта относительность,
обыкновенно, не познается, а только фактически существует1. Однако
представление, вызывающие чувствование относительного удовольствия, еще
не составляет стремления. Например, если мы с удовольствием
представляем себе какое-либо будущее событие и совершенно убеждены в том, что
оно осуществляется без наших усилий, наше состояние вовсе не относится
к категории стремлений. Состояние сознания можно назвать стремлением
только в том случае, если к перечисленным выше элементам
присоединяется своеобразное, неразложимое далее чувствование тяготения
(Hindrängens), чувствование стремления, как его называет Пфендер2.
Если во всяком стремлении есть «движение от представления небытия к
представлению бытия переживания », причем последнее предпочитается
первому, то, следовательно, в каждом положительном стремлении заключается в
скрытой форме отрицательное стремление (Widerstreben), стремление
избежать какого-либо состояния, находящегося к первому в отношении
противоречащей противоположности (от А к не-А или наоборот). Мы будем
пользоваться этими описательными терминами, так как всякий простой термин,
относящийся к этой категории явлений, например термин «отвращение »,
обозначает не простое стремление, а стремление, осложненное эмоциею, что
мо1 Pfänder. Phänomenologie des Wollens. S. 37-61.
2 Ibid. S. 60-70.
250
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
жет повести к заблуждениям. По нашему мнению, именно термин Widerstreben
виноват в том, что у Пфендера в его анализе отрицательных стремлений есть
одна маленькая неточность, которую мы отметим далее.
Отрицательное стремление, скрывающееся во всяком положительном,
легко может выступить наружу, и такие случаи особенно пригодны для
анализа. Если мы идем вечером по лесу и нам немного, чуть-чуть жутко, то, заметив
впереди на дороге человека, хотя бы и не особенно интересного для нас, мы
стремимся догнать его. При этом наше состояние в одних случаях имеет
характер положительного, а в других отрицательного стремления. Когда оно
относится к первой категории, внимание сосредоточено на том, чтобы идти
вместе, а когда оно относится ко второй категории, внимание сосредоточено
на том, чтобы избежать одиночества.
В первом случае внимание направлено на то состояние, к которому мы
стремимся, а во втором на то, от которого мы хотим удалиться: в
отрицательном стремлении мы как бы оборачиваемся к месту, куда направляется наше
движение, и смотрим на ту точку, от которой удаляемся. Нередко одно и то же
положение в жизни в зависимости от направления внимания, вызванного
сопутствующими обстоятельствами, переживается то как положительное, то
как отрицательное стремление. Можно даже выучиться производить
искусственно такие превращения (как можно выучиться воспринимать некоторые
простые схематические рисунки геометрических тел то как обращенные к нам
выпуклостью, то как обращенные к нам вогнутостью) путем перемещения
фокуса внимания. Теоретически такое превращение, конечно, возможно
всегда, но в действительности оно встречается или искусственно достигается
преимущественно лишь в том случае, 1. если состояния А и не-А сами по себе оба
имеют цену для нас (обыкновенно, одно из этих состояний получает для нас
цену только вследствие стремления достигнуть или избежать другого
состояния). Если действие, избавляющее нас от какого-либо состояния, не
настолько сложно, чтобы выполнение его требовало полного внимания к нему (так
что, выполняя его, можно повернуться к нему спиною), например, в
приведенном нами случае, если нам жутко, а встретившийся человек вовсе не
интересен, у нас является, когда мы его догоняем, отрицательное стремление, не
легко превратимое в положительное; если встретившийся человек интересен нам,
то является положительное стремление, не легко превратимое в
отрицательное. Если, встретившись с разъяренным быком, мы убегаем домой, то
вероятнее всего во время бегства мы будем испытывать отрицательное стремление;
но если при этом мы переходим через речку по узенькой жердочке, наше
отрицательное стремление заменится во время перехода положительными и
другими отрицательными стремлениями.
Кроме разницы в направлении внимания, отрицательное стремление
отличается, по мнению Пфендера, еще тем, что в нем антиципация
избегаемого состояния сопровождается все возрастающим относительным
не251
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
удовольствием, тогда как в положительном стремлении она вызывает все
возрастающее относительное удовольствие1.
С этим мнением нельзя согласиться: если неприятное состояние
сопровождается действительным активным стремлением избежать его
(отрицательным стремлением), а не покорным созерцанием, то внимание
сосредоточено на убывании его, и это убывание связано с чувствованием
относительного удовольствия. Следовательно, состав отрицательных
стремлений в этом отношении не отличается от положительных
стремлений. Однако разница между теми и другими настолько велика, что
объяснить ее одним различием в направлении внимания нельзя; поэтому
необходимо допустить, что они различаются еще характером самого чувствования
стремления2: в отрицательном стремлении мы испытываем не тяготение,
а отталкивание.
Определив состав стремлений вообще, Пфендер переходит к
исследованию важнейшего вида стремлений — хотений. Кроме элементов, входящих в
каждое стремление, в хотении есть ряд новых моментов, прежде всего
чувствование возможности осуществить предмет стремления собственною
деятельностью. Где нет чувствования, например, если предметом стремления
служит «хорошая погода завтра», там мы имеем дело не с хотением, а с
желанием, надеждою и т. п. В связи с этим, конечно, необходимо, чтобы мы
также представляли себе эту собственную деятельность и чтобы она тоже
сделалась предметом стремления3. Эта собственная деятельность может быть
косвенною, например когда мы стремимся послушать музыку и уговариваем
кого-либо сыграть нашу любимую пьесу, или же она может быть определена в
момент хотения лишь в крайне общей, неясной форме, например, когда мы
стремимся решить задачу, и тем не менее наличность представления о
собственной деятельности и готовность к ней придает первоначальному
стремлению характерную новую окраску. Состояние сознания, получающееся
вследствие этого, заслуживает того, чтобы выделить его в особую рубрику и
обозначить особым термином. Само собою разумеется, прямого соответствия
между хотением и возможностью выполнения его нет. Чрезвычайно часто
загнанные судьбою, измученные неудачами и т. п. люди ограничиваются
желаниями там, где у них могло быть хотение, и наоборот, люди самоуверенные или
неопытные проявляют определенно выраженное типичное хотение в
отношении событий, находящихся на самом деле и прямо и косвенно вне их власти.
Перечисленными элементами не исчерпывается еще состав тех
состояний, которые Пфендер называет хотениями. Нередко стремление,
осложненное представлением о собственной деятельности и готовностью к ней
1 Pfänder. Phänomenologie des Wollens. С. 70-81.
2 См. Пфендер. С. 80.
3 Там же. С. 82-104.
252
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
наталкивается на представление о каком-нибудь нежелательном
последствии этой деятельности; тогда мы начинаем колебаться, наше стремление
становится связанным. Наоборот, в других случаях, даже и после такого
столкновения первоначальное стремление остается победоносным и
чувствование положительного стремления сохраняет или приобретает
характер «полной или относительной свободы или решительности». Только
такие стремления Пфендер называет хотениями1.
Кроме того есть один элемент, включаемый Пфендером в хотения. Его
удобнее всего указать, рассматривая случаи, когда хотение возникает как
результат практического (теоретического) обсуждения и выбора. Если
пьяница сидит перед стаканом водки и колеблется, не воздержаться ли на этот
раз, а потом вдруг эти колебания прерываются тем, что он схватывает
стакан и выпивает водку, то этот поступок не есть результат хотения: в нем нет
волевого решения, оно совершается против воли, оно осуществляется
победоносною страстью. Иной характер со стороны чувствований имеют те
поступки, которым, как и в данном случае, предшествуют борющиеся
стремления, причем Я сначала колеблется, на которую сторону стать, а потом
«становится на сторону одного стремления и, более или менее успешно
отталкивая другие стремления, делает одно из стремлений исключительно
своим». Поступок, описанный выше, может относиться к второй
категории, если он закончится выпивкой, например, после такого соображения:
«Э, к черту кисло-сладкую мораль! Хочется выпить, так и пей ». Итак,
«волевое решение состоит в том, что победоносные стремления суть в то же
время стремления, на сторону которых стало Я, или которые оно в конце
концов сделало своими. Если наоборот, нами овладеет страсть, то это
значит, что победили стремления, на сторону которых не стало Я или которые
Я не сделало своими»2. Различая эти два вида стремлений, Пфендер
называет одни из них «моими стремлениями», а другие «стремлениями во
мне». Разницу между ними он описывает так: «Стремление, называемое
"моим стремлением", кажется прямо исходящим из Я, а не вынужденным
или навязанным нашему Я со стороны чего-либо отличнаго от Я. Иными
словами, в «нашем стремлении» мы чувствуем себя стремящимися
свободно, из себя к представляемому переживанию; короче, мы чувствуем себя
в этом стремлении спонтанными. Наоборот, в случае «стремления в нас»,
хотя оно также в конце концов есть «наше » стремление, мы чувствуем себя
не свободно из себя стремящимися, не спонтанно стремящимися, а
вынужденными или побуждаемыми к этому стремлению чем-то отличным от
нашего Я».3
1 Pfänder. Phänomenologie des Wollens. С. 105-108.
2 Там же. С. 125.
3 Там же. С. 128.
253
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Мы с особенным удовольствием приводим эти соображения Пфендера,
так как находим в них сходство с чрезвычайно важным для нас различием
состояний сознания «моих » и «данных мне ». Однако Пфендер насчитывает
только две категории стремлений и видит разницу между ними в том, что одни из
них как бы причиняются нашим Я самостоятельно, а другие тоже как бы
причиняются нашим Я, но под влиянием давления извне. Между тем мы находим,
что в одних случаях стремление как бы исходит из Ясамостоятельно
действующего, в других случаях оно тоже как бы исходит из Я, но под влиянием
давления извне, не свободно, а в третьих случаях стремление как бы вовсе не
исходит из Я, оно уже существует как состояние сознания без содействия Я,
которое только присматривается к нему; такое состояние сознания может быть
названо «моим» лишь постольку, поскольку мое внимание направлено на
него. — Выражения вроде «стремления борются во мне», страсть увлекает
меня» мы считаем не простыми метафорами, а точным описанием некоторых
чувствований. Чтобы подчеркнуть оттенки различных состояний сознания, мы
покажем на модификациях одного и того же примера три описанные формы
стремлений. Если у пьяницы, сидящего перед стаканом водки, борьба с собою
прерывается неожиданно для него самого тем, что он судорожно хватает
стакан водки и выпивает его, то мы имеем дело здесь с типичным «данным во мне
стремлением ». Если из такого стремления возникает поступок, то и он имеет
характер данного во мне; подобные поступки мы будем обозначать термином
«поступок во мне ». Само собою разумеется, такое течение явлений возможно
лишь в простейших случаях и приводит лишь к примитивнейшим поступкам.
Если пьяница борется со стремлением выпить, но совершенно
подавленный этим стремлением, когда оно овладевает всем полем сознания,
наконец сам обдумывает, где бы можно было достать водки, вспоминает, что
бутылка стоит в шкафу, достает ее и выпивает, причем до самого конца
всетаки не становится на сторону стремления выпить, а действует как бы
под влиянием гипнотического внушения, то стремление обдумать, как
достать водки, можно назвать «вынужденным моим стремлением», а самое
обдумывание «вынужденным моим поступком ». Доставание водки из
шкафа и выпивание ее может при этом быть или «поступком во мне» или
«вынужденным моим поступком». Если пьяница сидящий перед стаканом
водки, заканчивает борьбу с угрызением совести презрительным восклицанием
по адресу морали, то, почти наверное, у него к «данному стремлению»
выпить присоединилось собственное свободное стремление выпить. Это
присоединившееся стремление есть мое стремление и следующий за ним
поступок есть «мой поступок». Конечно, это не типичный пример «моих
стремлений», так как Я в этом случае только делает своим данное уже
стремление или присоединяет к нему свое стремление. Более типичные
примеры «моих стремлений» встречаются, например, в тех случаях, когда
честолюбец совершает какой-либо поступок с целью выдвинуться.
254
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Присоединение «моих» стремлений и поступков к «данным» и
«вынужденным» стремлениям и поступкам может подготовить почву для
появления в будущем вынужденных или даже данных во мне поступков
необычайно сложных, так что даже не веришь, что они относятся к этой
категории. Сильная любовь, борющаяся с чувством долга в семейном
человеке и навязывающаяся его сознанию, как бы против воли, точно бы
какойто злой демон, может вынудить его обдумывать план достижения цели.
Такое вынужденное обдумывание в редких случаях может привести к
построению сложного хитрого плана, потому что вынужденная деятельность
постоянно прерывается, в ней как бы не участвуют все силы Я. Однако
стоит только явиться мысли: «Отчего же не подумать? Ведь это ничего: я все
равно этого не сделаю», и тотчас же положение меняется: борьба
прекращается, вынужденное обдумывание превращается в мое обдумывание и
становится необычайно оживленным, плодотворным, является хитрый
план, как удалить на время жену, как приблизить к себе любимую особу и
т. п. Наконец, игра фантазии прекращается, человек возвращается к
действительности и строго обрывает себя, опять утверждая, что никогда этого
не сделает. Между тем самое трудное уже сделано: план построен, и когда
страсть нахлынет вновь, воспоминание о плане и выполнение его могут
легко последовать, как вынужденные поступки или даже поступки во мне.
До сих пор мы говорили о стремлениях, имея в виду лишь тот
обширный класс их, который намечен Пфендером и состоит из антиципации
переживания в форме относительно приятного представления в связи с
чувствованием стремления. Только такие сложные, сравнительно, состояния
сознания Пфендер ставит в тесную связь с волевой деятельностью. Если нет
антиципации в форме представления, то мы имеем дело со слепым
влечением (Trieb), и перемена, следующая за таким влечением, не относится, по
его мнению, к области волевых актов: волевыми он называет лишь те акты,
которые следуют за хотениями. С таким построением понятия волевого
акта и с такою классификациею мы не можем согласиться, потому что она
преувеличивает значение одного в данном случае сравнительно не важного
признака, именно познания, и заставляет поэтому ставить слишком далеко
друг от друга явления, по существу сходные. Самым характерным
элементом в стремлениях следует признать чувствование стремления; как только
оно появляется, тотчас же начинается оживление деятельности сознания
по направлению к осуществлению какой-либо перемены, тотчас же так или
иначе (даже и в желаниях) является чувствование активности. Поэтому
если нам встретятся состояния, во всех отношениях сходные с
описанными выше стремлениями и не заключающие в себе только представлений,
мы их все же отнесем в разряд стремлений. Таковы именно слепые
влечения. Войдя с мороза в комнату и увлекаясь разговором, мы можем в то же
время, не отдавая отчета в своем поступке, подойти к печи, от которой
пы255
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
шет теплом, и начать греться. Когда мы отдадим себе отчет в своем
действии, может даже оказаться, что мы его не одобряем, например, потому
что считаем вредным греться прямо у печи после мороза. Точно таким же
образом, беседуя, мы можем подойти к столу с хлебом и начать его есть,
если мы голодны. Если мы очень не любим какого-нибудь человека, мы
можем при одном виде его вдруг почувствовать какое-то смутное
раздражение и сделать ему ряд неприятных замечаний, противоречить ему на
каждом шагу, вовсе не отдавая себе отчета в том, что наше поведение
руководится стремлением раздосадовать его. Увидев некрасиво составленный
букет, человек со вкусом испытывает неприятное чувство, подходит к
букету и, сделав перестановку без всякого предварительного плана в
воображении, сразу придает букету лучший вид. Дети, когда хотят есть или спать,
начинают иногда капризничать, требуют то того, то другого, всем своим
поведением показывают, что они чего-то ищут, чего-то добиваются, но сами
себе не отдают отчета, чего им нужно; опытная няня догадывается, в чем
дело, удовлетворяет их смутное влечение, и они сразу успокаиваются.
Такие чересчур простые потребности, как голод, редко приводит взрослых в
положение ребенка, желающего есть, но неспособного определить, чего
ему хочется, однако некоторыми комбинациями могут быть созданы и
такие положения, как это, наверное, всякий испытал; благодаря своей
простоте они особенно удобны для анализа, которым нам следует заняться
теперь.
Несомненно, в смутных влечениях есть чувствование стремления.
Однако они не исчерпываются этим чувствованием. В самом деле, оно имеет
однообразный характер, между тем как стремления и влечения
бесконечно разнообразны. Следовательно, чувствование стремления и здесь
присоединяется к каким-то другим элементам. Да это и само собою разумеется:
это чувствование есть тяготение к чему-то, и это что-то так или иначе
должно быть дано в сознании, в противном случае мы бы не характеризовали
свое чувствование, как тяготение. Нам остается предположить, что и во
влечениях антиципируется какое-либо переживание. Это подтверждается
тем, что за влечениями, как и за стремлениями, нередко следует ряд
действий, осуществляющих перемену, которая как бы удовлетворяет
влечению, и оно после этого утихает. Эта антиципация, очевидно,
сопровождается также относительным удовольствием, потому что приближение к
удовлетворению влечения сопровождается возрастанием удовольствия,
а удаление убыванием удовольствия. Однако антиципация переживания в
слепых влечениях не есть представление, т. е. не есть познавательное
состояние: в противном случае мы бы не затруднялись указать ее, не
называли бы влечения слепыми и не отличали бы их от стремлений. По-видимому
эта антиципация проще антиципации в стремлениях; и в самом деле мы
нашли в слепых влечениях все те же элементы, которые есть и в стремлениях,
256
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
однако смутные влечения более просты, чем стремления; вследствие
неразложимости чувствований стремления, активности и относительного
удовольствия в них нельзя искать причину этой большей простоты,
следовательно, остается объяснить ее лишь большею простотою антиципации.
И, в самом деле, антиципация во влечениях не есть представление
переживания, следовательно, ей остается лишь быть простым познаванием
переживания, а всякое представление или знание бывает сложнее
соответствующего переживания, если не принимать, конечно, в расчет элементов
переживания, подвергнувшихся забвению. Можно переживать сильное
чувство ревности, зависти и т. п. и не познавать того, что переживаешь эти
чувства. Без сомнения, если мы даем себе отчет в них, наше состояние
сознания сложнее, чем в первом случае; такие состояния сознания мы будем
называть опознанными, а первые неопознанными. Неопознанные
состояния встречаются в нашей душевной жизни чрезвычайно часто, и вообще
нельзя утверждать, что опознание есть необходимый фактор при
выполнении сознательных действий. При восприятии пищи, например, мы можем
руководиться только самим чувствованием насыщения, вовсе не познавая
его, т. е. не имея представления насыщения. Если так, то и влечение
утолить голод тоже может заключать в себе антиципацию насыщения не в виде
представления, а в форме простого переживания. Более подробно мы
рассмотрим вопрос о различии между знанием и простым сознанием в
исследовании о так называемом бессознательном, а теперь ограничимся лишь
указанием на общеизвестные случаи, когда состояние сознания, без
сомнения, существует, а знания о нем нет. Особенно часто эти состояния
встречаются в подготовительных стадиях волевого акта. В сложном
волевом акте в большинстве случаев бывают опознаны только конечная цель и
осуществление ее, а ряд промежуточных стремлений, средств и вообще
весь механизм действования остается почти вовсе не опознанным. Это
легко подтвердить следующим образом. Совершив какой-либо сложный акт,
требовавший быстроты и затрагивавший многие стороны душевной жизни,
займемся сейчас же мысленным воспроизведением его; при этом мы
наверное сделаем ряд открытий в своей собственной душе, подметим такие
чувствования и мотивы, каких мы, может быть, до того и не подозревали в
себе. Конечно, такое воспроизведение и опознание требует большого
навыка. Всем известно, какого труда и умения требует воспроизведение даже
и ряда опознанных состояний сознания, например всего, что воспринято
нами во время прогулки. В отношении неопознанных состояний эта задача
становится даже совсем невыполнимою, если не взяться за
воспроизведение тотчас же после акта, да и то при этом чувствуется, что память
упрощает пережитой процесс, или опознание не вполне удается, так что нужна
большая настойчивость, чтобы получить наконец картину процесса,
который бы казался точною копией прошлого. Несмотря на это, изучать
не9 Российская психология 257
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
опознанные состояния, а, следовательно, и большую часть волевых
процессов, само собою разумеется, приходится лишь на основании свежих
воспоминаний, а не прямого наблюдения. Такой ретроспективный
субъективный метод заключает в себе еще большее количество недостатков, чем
простой субъективный метод, но с этим приходится мириться, потому что
лучшего орудия у нас нет.
Опознавая слепые влечения, мы находим, что они заключают в себе
антиципацию желаемого переживания и отличаются от стремлений,
рассмотренных раньше, только тем, что эта антиципация в них не есть
представление. Поэтому мы будем обозначать их термином неопознанные
стремлениЯу а рассмотренные раньше — термином «опознанные
стремления»; они так же, как и опознанные стремления, бывают или моими,
или данными во мне, или вынужденными стремлениями.
Соответствующие им поступки бывают или опознанными, или неопознанными. Поступки
вытекающие из неопознанных моих стремлений, мы относим к числу
волевых, следовательно, расширяем понятие воли сравнительно с Пфендером,
который считает волевыми только поступки, обусловленные хотениями.
Расширение понятия происходит от того, что мы опускаем познавательный элемент
на основании соображений, которые выясняются далее в обосновании
волюнтаризма. Здесь же мы сошлемся лишь на то, что опознанность всегда
бывает лишь относительную, что всякий поступок и стремление
заключают в себе неопознанные элементы, так что знание не есть признак, на
котором можно было бы основывать коренные подразделения в психологии.
Раньше, чем доказывать эту мысль, мы должны рассмотреть еще одну
замечательную особенность стремлений, состоящую в том, что в душевной
жизни никогда не встречаются одиночные стремления, а всегда целые
системы их. Если у нас является стремление взяться за разработку
какойлибо темы, заданной на конкурсе, мы стремимся точно вспомнить текст ее;
когда это не удается, мы стремимся вспомнить, где лежит книга, в которой
помещена тема; после прочтения книги является длинная серия новых
стремлений, например посоветоваться с тем или другим лицом, обдумать
тот или иной частный вопрос, входящий в тему, записать свои мысли,
отправить по почте рукопись и т. д.; возникновение этих стремлений будет
продолжаться до тех пор, пока или первоначальное стремление не будет
осуществлено или не возникнут более сильные стремления,
удерживающие от всего этого предприятия, например если усталость и опасения за
свое здоровье заставят нас прекратить работу. Ряд стремлений,
возникающих по поводу первоначального стремления, составляет систематическое
целое: все члены его находятся в связи друг с другом и с первоначальным
стремлением. Их можно разбить на три группы: на стремления,
поддерживающие нашу решимость (например в описанном случае честолюбивые
стремления), стремления, ослабляющие ее, и стремления к средствам для
258
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
осуществления первоначального стремления. Последний разряд их мы
будем называть производными стремлениями. Предмет первоначального
стремления мы будем называть конечною целью, а предмет производного
стремления относительною целью. Конечно, производные стремления
могут в то же время относиться к числу поддерживающих или
ослабляющих, если они сами по себе составляют предмет стремления или
отвращения. Однако чаще всего средства сами по себе не бывают предметом
стремления и получают смысл только в связи с первоначальным стремлением.
Завертывая рукопись в бандероль, мы не считаем этот акт конечною целью,
а объясняем его своим намерением отослать рукопись на почту. Точно так
же относимся мы и к самому отправлению рукописи на почту и т. д. Однако
восходя в ряду стремлений, обусловливающих друг друга, мы наконец
дойдем до первоначального стремления и конечной цели, которые
кажутся нам ничем не обусловленными. На вопрос, почему мы ставим такую цель,
мы отвечаем: «так себе», или: «я так хочу, и этого достаточно», или, если
речь идет о чем-либо важном: «ведь само собою разумеется, что этого
следует хотеть».
В определении конечных целей своих поступков мы на каждом шагу
делаем ошибки, обнаруживаемые всем остальным нашим поведением. Эти
ошибки интересны тем, что показывают, как широко распространены в
нашей волевой жизни неопознанные элементы. Честолюбец,
подготавливающий доклад к научному съезду будто бы исключительно из любви к науке,
иногда не только уверяет других, но и сам убежден в чистоте своих
побуждений. Ребенок, получивший в подарок гармонику и наигравшийся уже
вдоволь, берется, увидев, что рабочие пришли с поля, опять за нее, садится на
крыльцо и играет так, чтобы они слышали его; он хвастает своею игрушкою
и сам не знает побуждения, вызвавшего его на крыльцо. Иной раз в
обществе мы готовы уже сказать какую-либо фразу, но вдруг что-то
удерживает нас и потом мы радуемся этому: наш поступок оказывается
тактичным, потому что эта фраза могла бы обидеть одного из присутствовавших;
иногда можно подметить и внешние подтверждения того, что в сознании
было опасение затронуть это лицо, например такое движение по
направлению к этому лицу, как будто бы мы спохватываемся. С возрастанием нашей
опытности чрезвычайно часто цели, казавшиеся нам прежде
первоначальными, сами по себе интересными, перестают играть такую роль и
превращаются лишь в средство для осуществления других более важных целей.
Весьма вероятно, что во многих случаях эти более важные цели уже и
раньше существовали в сознании, но не были опознаны. Например, в детстве
стремления к той или иной пище кажутся ценными сами по себе; для
многих взрослых те же самые стремления превращаются уже лишь в средство
удовлетворения определенной опознанной потребности организма и
интересны лишь с этой точки зрения.
9* 259
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Если присоединить неопознанные стремления к опознанным, то
окажется, что в душевной жизни невозможно найти мимолетное одиночное
стремление. Всегда оно окажется звеном целой системы, в которой мы по
недостатку наблюдательности упустили из виду, или конец. В самом деле,
почти всегда окажется, что оно вовсе не первоначальное, что в основе его
можно с большою вероятностью допустить какое-либо другое
неопознанное стремление. Или же еще легче бывает, что в связи с появившимся
стремлением возникли также стремления к средствам для осуществления его
(часто лишь воображаемым), и эти производные стремления нередко
бывают неопознанными, в особенности если они просты и очень привычны.
Например, если мы хотим взвесить себя на весах, мы подзываем соседа и
просим его положить гири на весы. Несомненно, эта просьба
сопровождается специальным стремлением, но в большинстве случаев оно остается
неопознанным; с этим легко согласиться, если обратить внимание на те
случаи, когда оно становится более продолжительным и сложным вследствие
неудовлетворения. Казалось бы, что мимолетные стремления, не
переходящие в хотение и не осуществляемые нами, могут оставаться и часто
остаются одиночными. Однако и это неверно: если стремление не
развилось далее, то почти наверное вслед за ним возникло какое-либо
противоречащее стремление и подавило его совсем или на время. Например, после
обеда при виде яблока у нас является стремление съесть его, однако вдруг
оно обрывается, и мы забываем о нем; всматриваясь в этот процесс, мы,
наверное, найдем какое-либо побуждение для отмены стремления,
например тягостное ощущение насыщения, вызывающее отвращение к новому
восприятию пищи.
Впрочем, в системах стремлений часто происходят значительные
упрощения: средства для достижений конечной цели, в особенности, если
они очень просты, осуществляются нами иногда без всяких специальных
стремлений к ним; они осуществляются как бы сами собою, так что эти
акты нельзя даже назвать «поступком во мне». Например, услышав крик
журавля, мы поворачиваем голову и глаза, и эти средства, необходимые
для акта видения, вовсе не предваряются специальными стремлениями.
Однако если журавли летят очень высоко и мы хотим непременно
отыскать их, разведение осей глаз, сведение их и т. п. акты могут стать
предметом специальных и даже опознанных стремлений. Если мы видим
возмутительный поступок, и у нас вырывается восклицание: «это безобразие»,
то это средство для выражения негодования почти всегда является без
специального стремления, потому что выражение чувств с помощью речи
есть акт высшей степени привычный для нас. Однако если это восклицание
явится у нас во ответ на вопрос, как мы относимся к такому-то поступку,
причем мы не сразу найдем слова для выражения своего чувства, то,
обыкновенно, этим словам предшествует неопознанное стремление произнести
260
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
их. Мало того, если в обществе обсуждается какой-либо поступок,
который мы хотим назвать безобразным, если эта фраза уже заготовлена нами
и мы ждем лишь, когда обратят на нас внимание, чтобы сказать ее, то этот
же акт предшествуется специальным и притом опознанным стремлением.
Мы исследуем в этой главе свойства стремлений только для того, чтобы
перейти к обоснованию волюнтаризма, и потому можем ограничиваться
следующими добытыми результатами. Два важных свойства стремлений,
большая или меньшая близость к Я и большая или меньшая опознанность, дают
основание для деления их на стремления мои, вынужденные и данные во мне,
а также на опознанные и неопознанные. Следуя Пфендеру, мы рассмотрели
также состав важнейшего вида опознанных стремлений, именно хотений;
однако специфические особенности хотений не имеют существенного
значения для нашего исследования.
2. ЧУВСТВОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И ПЕРЕМЕНА
Чувствование активности служит связующим звеном между
стремлением и соответствующею ему переменою1. Как и другие состояния
сознания, чувствование активности может быть «моим » и «данным мне ».
Типичное чувствование «моей » активности возникает, например, тогда, когда
мы напряженно обдумываем какой-либо трудный вопрос, усиливаемся
припомнить что-либо или совершаем произвольное мускульное движение.
Чувствование данной активности встречается в тех случаях, когда
перемена следует за «данным во мне стремлением»2; однако отличие ее от
чувствования моей активности в этих случаях редко бывает ясно выражено.
В типичной форме оно встречается во многих органических ощущениях
как составная часть их; например, когда мы испытываем одну из тех болей,
которые называются колющими, сверлящими и т. п., мы, поскольку
называем эти боли такими именами, указываем на то, что сознаем присутствие
какой-либо активности, но чувствуем ее как постороннюю, а не свою; этой
активности не предшествует никакое стремление, или, вернее, мы не
замечаем, не опознаем в этом случае никакого стремления. Такое чувствование
внешней активности встречается даже в восприятиях внешнего мира,
например в восприятии камня, разбивающего окно, стремительно мчащегося
курьерского поезда и т. п.
Перемены, следующие за «моими стремлениями» и чувствованием
«моей» активности, бывают трех родов. В одних случаях перемена во всем
своем составе кажется «моею». Если мы обдумываем для маскарада
костюм джентльмена эпохи Людовика XIV и, уже составив план его,
стараемСм. выше II.
См. выше II.
261
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ся представить себе, каков будет он, если к зеленым отворотам рукавов
пришить имеющееся у нас кружево, то этот синтез сознается как мой.
Конечно, представление самого костюма и кружева может при этом
относиться к числу «данных» состояний сознания. Мало того, через несколько
минут после мысленного осуществления синтеза, если мы попытаемся опять
вспомнить его, он почти наверное без труда всплывет в нашем сознании,
как «данное» состояние. В других случаях перемена состоит из элементов
отчасти моих, отчасти данных мне, например, если я обдумываю, как
устроить каталог библиотеки, и при этом отчасти вспоминаю ящики и
карточки подвижных каталогов, отчасти сам создаю новые формы их.
Наконец, в третьих случаях перемена на первых порах тоже кажется вполне или
отчасти моею, однако внимательное наблюдение показывает, что она
состоит исключительно из данных элементов и кажется моею только
потому, что последовала за живым чувствованием «моей» активности;
следовательно, в этих случаях мы живо сознаем, что произвели что-то, но сами
не знаем что. Например, если мы произвольно поднимаем руку, эта
перемена кажется нам «моею»; однако она вся для нашего сознания состоит из
зрительных и моторных ощущений, которые всегда относятся к числу
данных состояний сознания; в этом случае иллюзия принадлежности моему Я
возникает вследствие чрезвычайно живого сознания, что наше усилие не
осталось безрезультатным, что мы что-то произвели, но при внимательном
анализе оказывается, что произведенное нами вовсе не дано в нашем
сознании. Перемены первого рода мы будем называть термином «мой
внутренний акт», перемены второго рода — термином «неполный мой
внутренний акт», а перемены третьего рода — «мой внешний акт». Конечно,
внешние акты не необходимо бывают мускульными. Многие из них вовсе
не обнаруживаются на периферии тела. Например, если мы усиливаемся
припомнить стихотворение, и оно вдруг всплывает в нашем сознании в
готовом виде, то этот процесс в большинстве случаев бывает типичным внешним
актом: мы что-то произвели, однако данная в сознании перемена есть не наш
акт, а какое-то более или менее отдаленное последствие нашего акта.
Большая часть перемен настолько сложна, что относится ко второму
разряду. Однако в этом отношении возможны значительные индивидуальные
различия. Если предложить нескольким лицам исправить, например, такую
фразу: «Сознавая, что сознание преступника в своей вине »... то, наверное, этот акт
у одних лиц будет относиться ко второму, а у других к третьему разряду. Если
он относится к третьему разряду, то он может протекать, например,
следующим образом: внимание сосредоточивается на содержании мысли, не
выраженном раздельными словами, а являющемся в форме какого-то неясного
цельного клубка, и более или менее продолжительное усилие выразить его в
новой форме вдруг сменяется всплыванием в сознании новой готовой фразы
вроде: «Находя, что сознание преступника в своей вине »...
262
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
«Мои внешние акты» нужно строго отличать от одного вида перемен,
принадлежащего к совершенному иному типу, именно от перемен,
являющихся вслед за стремлениями, но без чувствования активности, и вообще
без сознания, что мы произвели их прямо или косвенно. Например, утром,
лежа в постели, мы решаем, что нужно встать, но не можем преодолеть
себя; потом начинаем думать о чем-либо постороннем и вдруг замечаем,
что мы уже встаем. В обществе иной раз мы собираемся что-либо
рассказать, потом решаем, что наш рассказ будет неуместен, но через несколько
минут вдруг замечаем, что язык изменил нам и принялся говорить. Такие
внешние перемены нельзя назвать волевыми, если применять этот термин в
вышеуказанном смысле1, но в то же время нельзя отнести их к числу
рефлекторных или автоматических, потому что им необходимо предшествует
психическое состояние. Мы будем называть эти перемены
психорефлекторными актами. Существование их вовсе не противоречит утверждению
волюнтаризма, что все перемены в сознании, относимые нами к нашему Я,
протекают по типу волевых процессов: в самом деле, психорефлекторные акты в
целом в такой же мере не составляют единой перемены в сознании как,
например, наша мысль о каком-либо отвлеченном вопросе и последовавшее за нею
восприятие боя часов. Иными словами, психорефлекторный акт состоит из
двух различных перемен; это тотчас же становится ясным, если сделать
точное описание того, что мы находим в сознании в подобных случаях,
например в первом из описанных. Сначала у нас было представление об акте
вставания и стремление к нему, а потом явилась перемена, которую нельзя
описать словами «я встал » (где возможно такое описание, там мы имеем
дело с «моим внешним актом», который представляется живым сознанием
того, что я что-то произвел), а точнее будет обозначить словами «я
чувствую себя вставшим, я воспринимаю себя вставшим». Без сомнения, мы
здесь имеем дело с двумя отдельными явлениями в сфере
индивидуального сознания: со стремлением, отмененным или, как кажется, не
заключающим в себе достаточной силы для осуществления перемены, и с
восприятием перемены, по-видимому, происшедшей помимо активности Я. Это
восприятие ничем не отличается от восприятия рефлекторных
сокращений: в самом деле, если мы едим какой-либо чересчур кислый плод, и у нас
начинают рефлекторно сокращаться мускулы лица, мы совершенно таким
же образом воспринимаем эти сокращения, как происшедшие помимо
нашей воли. Поэтому-то мы и обозначили описанные только что процессы
термином психорефлекторные акты, быть может, не совсем удачным в
других отношениях. Многие психологи обозначают подобные явления
термином идеомоторный акт. Однако это понятие у них в одних отношениях шире,
а в других уже того, что нужно нам. Оно шире потому, что под него часто
См. выше II.
263
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
подводятся все движения, следующие за представлением движения, хотя
бы к такому представлению и присоединялось стремление (мой или
вынужденный внешний акт); оно уже в том отношении, что под него
подводятся только акты движения, между тем как отмеченные нами
специфические черты психорефлекторных перемен встречаются и среди
психических явлений, не сопровождающихся переменами на периферии; такие
внутренние психорефлекторные акты особенно часто встречаются в
процесса припоминания1.
Чрезвычайно часто психорефлекторные акты бывают составною частью
«неполных моих внутренних актов» Следовательно, среди этих последних
нужно различать три разновидности: «мой внутренний акт» в одних
случаях сочетается с «моим внешним актом», в других случаях с
психо-рефлекторным актом, а в третьих случаях с тем и другим вместе. Конечно, на
практике различать эти разновидности почти невозможно, потому что для этого
нужна необычайно изощренная способность наблюдать за оттенками
своих состояний.
3. ЧУВСТВОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Осуществление переживания, антиципируемого в стремлении, всегда
сопровождается чувствованием относительного удовольствия,
удовлетворения. Исключения из этого правила бывают лишь кажущиеся. Если
осуществление стремления вызывает неудовольствие, то это значит, что
перемена оказалась противоречащею какому-либо другому, более сильному
стремлению. Человек, ловко подслушивающий чужой разговор, почти
наверное не испытает от этого удовольствия, если услышит в разговоре
дурные отзывы о себе. Точно так же и наоборот. Если мы идем навстречу к
более или менее интересующему нас человеку и вдруг окажется, что это не
он, а ближайший наш друг, надолго уезжавший от нас, то мы наверное
почувствуем не разочарование, а сильное удовольствие. Впрочем, даже и в
этих случаях нередко можно бывает подметить быстрою смену
зарождающегося неудовольствия удовольствием, и наоборот.
4. ВИДЫ ВОЛЕВЫХ АКТОВ
Волевыми актами мы называем все процессы, складывающиеся из
«моих» стремлений, чувствования «моей» активности и перемены
(внутренней или внешней), сопровождающейся чувствованием
удовлетворения или неудовлетворения. Свойства этих элементов, наиболее важные
для обоснования волюнтаризма, мы уже рассмотрели: стремления в
воСм. выше II.
264
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТЮЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
левых актах могут быть «моими» и вынужденными, опознанными и
неопознанными, а перемены могут быть внутренними, неполными
внутренними и внешними. На основании этих признаков можно насчитать
двенадцать видов волевых актов: мои опознанные внутренние акты, мои
опознанные неполные внутренние акты, мои опознанные внешние акты;
мои неопознанные внутренние акты, мои неопознанные неполные
внутренние акты, мои неопознанные внешние акты; вынужденные
опознанные внутренние акты, вынужденные опознанные невольные внутренние
акты, вынужденные опознанные внешние акты, вынужденные
неопознанные внутренние акты, вынужденные неопознанные неполные внутренние
акты, вынужденные неопознанные внешние акты.
Среди неопознанных актов можно различать две разновидности: акты,
в которых только стремления неопознаны, и акты, в которых неопознаны
как стремление, так и перемена. Для нас особенно важна первая
модификация, и почти всегда мы имеем в виду ее, говоря о неопознанных актах.
5. СОСТАВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ: ВОЛЕВЫЕ
АКТЫ, «АКТЫ ВО МНЕ» И СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
С точки зрения данного определения волевых актов все явления в
индивидуальном сознании могут быть распределены в следующие три
группы: волевые акты («мои» акты), акты во мне и состояния сознания.
Волевые акты и виды их уже рассмотрены нами. Актами во мне (поступками во
мне), как уже сказано выше, мы называем психические процессы,
складывающиеся из «данных во мне» стремлений (стремлений во мне) и перемен,
следующих за ними1. По своему составу они во всех отношениях сходны с
волевыми актами, за исключением лишь того, что исходным пунктом их
служит стремление, окрашенное оттенком данности. Акты во мне, как и
волевые, могут быть опознанными и неопознанными; делить их на
внутренние и внешние мы не будем, потому что наблюдение таких оттенков в
этих процессах слишком затруднительно.
Наконец, состояниями сознания мы называем такие психические
явления, которым не предшествуют в индивидуальном сознании никакие
стремления, ни «мои », ни «данные во мне ». Сюда относятся, например, все
ощущения высших чувств: рассматривая какую-нибудь черную
поверхность, мы ощущаем ее цвет как пассивно данное состояние, не
включающее в себя ни каких стремлений; само собою разумеется, поскольку это
состояние становится предметом внимания и изменяется от этого, в нем
тоже есть стремления, оно тоже есть акт, но основной «данный » материал
в этом процессе ни в каком смысле не подходит под понятие акта.
См. выше П.
265
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Интересное промежуточное положение между актами во мне и
состояниями сознания занимаются некоторые органические ощущения, вроде
жажды, усталости, ломоты в костях: в них смутно чувствуется что-то
напоминающее стремления, и в этом состоит главное отличие их от
ощущений органов высших чувств.
III. ВОЛЮНТАРИЗМ
1. ВОЛЕВОЙ ХАРАКТЕР
ВСЕХ «МОИХ» ПРОЦЕССОВ СОЗНАНИЯ
Мы наметили три группы процессов в индивидуальном сознании:
волевые акты, акты во мне и состояния сознания. Если волюнтаризм прав,
утверждая, что все явления душевной жизни, относимые индивидуальным
сознанием на основании непосредственного чувства к Я, протекают по
образцу волевых актов, то это значит, что все «мои » процессы сознания суть
не состояния, а волевые акты, т. е. заключают в себе «мое» стремление,
чувствование активности и перемену, связанную с чувствованием
удовлетворения или неудовлетворения, и, наоборот, все то, что мы отнесли в
рубрику состояний сознания (процессы, не связанные органически со
стремлениями), всегда чувствуется как «данное мне». Нам предстоит, следовательно,
установить чрезвычайно широкое обобщение. До сих пор мы лишь
описывали состав некоторых «моих» процессов сознания и для анализа
выбирали по возможности типичные формы, поэтому наше описание, может быть,
не вызывало возражений. Однако теперь, лишь только мы обобщаем свой
анализ и говорим, что, поскольку непосредственное чувство заставляет нас
включить в свое описание душевного процесса слова «мое состояние», мы
имеем дело с процессом, заключающим в себе стремления и чувствование
активности, это утверждение, наверное, вызовет ряд сомнений. Наше
доказательство этого обобщения будет состоять главным образом в
устранении таких возможных сомнений.
Прежде всего нам могут заметить, что все процессы индивидуальном
сознании без исключения чувствуются как «мои». Мы уже говорили об
этом выше1, и тогда же указали на то, что все же между различными
состояниями сознания существуют огромные различия в отношении градации
этого чувствования: одни процессы сознания, наиболее окрашенные им,
кажутся целиком «моими», другие процессы, наименее окрашенные им,
кажутся моими лишь постольку, поскольку мое внимание направлено на
них, а в остальных отношениях, в особенности со стороны содержания,
целиком кажутся данными мне. Итак, внимание есть самое общее из тех
1 См. П.
266
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
условий, благодаря которым процессы сознания кажутся моими.
Следовательно, если мы хотим установить основное положение волюнтаризма,
мы должны прежде всего доказать, что перемещения фокуса внимания и
перемены, возникающие вследствие этого, подходят под наше понятие
волевого акта. После исследований Вундта эта задача не представляет
особенно больших затруднений.
Во всякий данный момент наше сознание складывается из массы
разнородных состояний, совокупность которых принято называть полем
сознания. В этом поле одна какая-либо более или менее обширная группа
занимает центральное положение в том смысле, что она сознается наиболее ясно и
отчетливо, она составляет фиксационную точку сознания; на ней
сосредоточено внимание, или, говоря языком Вундта, ее мы апперципируем, а
прочие состояния только перципируем. Апперципирование какого-либо
состояния, т. е. переход его с периферии поля сознания в фиксационную точку,
есть, без сомнения, одна из важнейших внутренних перемен: то состояние
сознания, на котором преимущественно сосредоточивается внимание,
оттесняет все другие состояния, становится наиболее ясным и приобретает
господствующее положение в том смысле, что дальнейшее течение
сознательной жизни, например припоминание, мышление, картины воображения,
внешние волевые акты, соответствуют апперципированному состоянию.
Анализируем сначала наиболее сложный вид апперцепции, тот,
который у Вундта носит название активной апперцепции. Предположим, что
мы заняты обдумыванием вопроса об апперцепции, припоминаем теорию
Вундта, между прочим вспомнили терминологию его на русском языке и
хотим восстановить в своей памяти немецкую терминологию; на самой
периферии нашего сознания уже явились термины Blickpunkt и Blickfeld, но в
такой неясной форме, что мы не могли бы их записать и произнести; в этот
момент в поле нашего сознания неожиданно является новый элемент: мы
перципируем едва доносящиеся до нас звуки игры на скрипке; дальнейшее
течение нашей сознательной жизни прямо зависит от того, что мы
апперципируем, если мелодию, то немецкие термины опять забудутся, и, может
быть, надолго; если мы очень заняты работою и стараемся не отвлекаться
от нее, но любим также музыку, то легко может случиться следующее:
сначала мы необдуманно отвлечемся в сторону мелодии, немецкие
термины станут потухать в сознании, но мы, заметив это, тотчас спохватимся и,
сделав какое-то усилие, отвлечемся от мелодии, сосредоточимся на
прежней точке идей, мелодия потухнет в сознании, может быть, совсем,
немецкие термины ясно всплывут, и мы запишем их с чувством полного
удовлетворения. Без сомнения, в этом процессе есть все элементы волевого акта:
перемене предшествовали целых два представления, которые можно
назвать стремлениями: они связаны с тем своеобразным беспокойным
чувством, наличность которого даст нам основание называть их так
(стремле267
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ние окончательно припомнить термины, стремление проследить мелодию).
Перемена сопровождается чувствованием активности и наступает с
чувствованием удовлетворения. Такая перемена заключает в себе элементы
целестремительного акта, именно относится к числу неполных внутренних
опознанных актов. Это акт неполный внутренний, потому что перемена,
следующая за усилием, заключает в себе много «данных» элементов,
повидимому, составляющих более или менее отдаленное следствие усилия,
а не прямой результат его1.
Гораздо чаще встречаются в сознании более простые смены фокуса
внимания, неудачно названные Вундтом пассивною апперцепциею. Если
мы не особенно увлекаемся работою и плохо владеем собою, стоит только
явиться любимой мелодии, хотя бы на самой периферии поля сознания,
и мы тотчас без колебаний, станем усиливаться расслушать ее, а немецкие
термины при этом совсем потухнуть в сознании. Стремление расслышать,
чувствование активности и, наконец, перемена, наступающая с
чувствованием удовлетворения или неудовлетворения, все эти элементы,
несомненно, присутствуют в так называемой пассивной апперцепции; она также есть
целестремительный акт, и описанный случай ее относится к числу
неопознанных неполных внутренних актов.
Наконец, и все остальное содержание сознания, находящееся на
периферии, тоже не лишено участия внимания. Можно найти бесчисленное
количество переходных ступеней, связывающих перципирование с
апперципированием, так что резкой границы между этими процессами вовсе не
существует: они различаются лишь количественно, по степени
осознанности и степени интереса, возбуждаемого переживаемым состоянием.
Последний признак особенно важен: в самом деле не только апперцепция, но
и перцепция совершается лишь в отношении явлений, более или менее
интересующих нас: то, что ни в каком отношении не интересно, вовсе не
попадает в сферу сознания. Поэтому и явления на периферии сознания не
кажутся нам абсолютно данными; даже и они, хотя и в очень слабой иногда
степени, сознаются, как мои, поскольку я созерцаю их, поскольку мое
внимание направлено на них.
Без сомнения, внимание есть один из самых важных внутренних актов.
Однако даже и в самой высшей форме, в форме апперцепирования,
переводящего состояния сознания с периферии в фиксационную точку, оно
производит, по существу, лишь незначительную перемену, именно увеличивает лишь
ясность и отчетливость состояния, но не создает его. Иными словами, в акте
апперцепции мы сознаем себя деятельными, но ясно чувствуем, что не все
создано нами, что основной материал возникшего явления дан нам, и мы играем
лишь роль зрителя, деятельно рассматривающего, но не творящего свой объект.
1 См. II. 2.
268
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Только в том случае, если мы анализируем таким образом
психические явления и различаем в них данные и мои элементы, мнимые
противоречия тезису волюнтаризма могут быть устранены с успехом. При этом
оказывается, что одно и то же психическое явление, поскольку оно
чувствуется как мое, заключает в себе элементы волевого акта, а поскольку
оно чувствуется как данное, вовсе не подходит, да и не должно с точки
зрения волюнтаризма подходить под понятие волевого акта.
Всякое психическое состояние пользуется хотя некоторою долею
внимания Я, следовательно, всякое психическое явление, должно, если не
целиком, то хоть до некоторой степени чувствоваться, как мое, что и
подтверждается наблюдением. Если психическое явление чувствуется как мое,
только постольку, поскольку мое внимание, направлено на него, то оно
заключает в себе минимальное количество элементов активности. Если
психическое явление все целиком чувствуется как мое, и со стороны
формы, и как объект внимания, то оно заключается в себе максимальное
количество элементов активности, оно все целиком подходит под понятие
моего волевого акта. Большинство психических явлений располагается между
этими двумя крайними ступенями, соединяя их бесчисленным множеством
переходных форм. Как и процессы внимания, эти переходные формы
вызывают много опасных для волюнтаризма недоумений, потому что в них
мои элементы перемешиваются с данными. Мы рассмотрим с этой точки
зрения продукты всех главных психических деятельностей в восходящем
порядке, т. е. начиная с продуктов, заключающих в себе в общем
наименьшее количество моих элементов, именно начиная с восприятий.
Всякое восприятие состоит из 1. нескольких, обыкновенно очень
многих (наличных и вспоминаемых) ощущений, 2. объединенных известным
образом, 3. опознанных (например, ощущение зеленого цвета не только
переживается, но и признается за зеленый цвет) и 4. связанных с чувством
объективности и субстанциальности (сознание присутствия объекта).
Каждый из этих элементов мы рассмотрим отдельно.
Все ощущения в восприятии чувствуются как данные нам, а не
произведенные нами. Правда, для того чтобы ощущение перешло в
фиксационную точку сознания, нужно бывает сосредоточить на нем внимание, иногда
повернуть голову и глаза, наконец, для целей восприятия нужно опознать
его. Однако внимание придает лишь большую отчетливость ощущению, но
не кажется причиною возникновения самого ощущения; импульс для
поворота головы и глаз есть, может быть, причина этого движения, но не
зрительных ощущений; наконец, опознание ощущения, наверное, требует
значительной активности во многих случаях, например усиленного
припоминания других ощущений, сопоставления нового со старым и т. п., однако
все эти акты имеют смысл лишь тогда, когда ощущение уже есть,
следовательно, не они производят его, хотя, без сомнения, они придают ему новый
269
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
оттенок. Все ощущения не только органов высших чувств, но и
органические, голода, жажды, усталости и т. п., отличаются этим характером
данности; активные элементы, встречающиеся в них, лишь сопутствуют им,
сообщают им новые оттенки, но не составляют их основы.
Гораздо больше чувствуем мы себя активными при объединении
элементов восприятия в единое целое. Если мы любуемся лесными
пейзажами, пятнами солнечного света на стволах берез, сочетаниями светлой
зелени листвы с темною зеленью хвои, темными углублениями в чаще деревьев,
нам нужно сочетать все эти элементы в сложное единство, части которого
даны (например единство какого-либо отдельного солнечного блика); но
целое вовсе не дано. Вообще, если мы воспринимаем какую-либо простую
хорошо знакомую нам вещь, например лампу на своем столе, то единство
ощущения кажется нам данным, если же вещь сложна и мало нам знакома,
например если мы впервые воспринимаем Страсбургский собор, мы
осматриваем башни, колонны, арки, фрески и, чтобы сделать эстетическую
оценку целого, объединяем эти части в одну общую картину, затрачивая на это
большой труд и во всяком случае сознавая, что это целое не само входит в
наше сознание, а отчасти строится нами под руководством стремлений
охватить целое и объединить его. Это построение заключает в себе все
элементы волевого акта и, обыкновенно, имеет характер неопознанного
неполного внутреннего акта. Без сомнения, в этом отношении существуют
огромные различия между разными людьми и в отношении к разным
вещам: одни способны воспринимать очень сложные вещи, почти не
затрачивая сил на синтез, другие — наоборот; одни легче схватывают сложные
группы знаков, другие — сложные сочетания красок, третьи — сложные
сочетания пространственных форм. Даже у одного и того же человека
активность в процессах восприятия подвержена сильным колебаниям. В
случае усталости, подавленного состояния или смущения приходятся даже,
воспринимая такую несложную вещь, как человеческое лицо, строить ее.
Все сказанное о построении восприятия относится и к опознанию его
элементов. Если мы имеем дело с простым или хорошо знакомым
объектом, то он вместе со своими элементами кажется данным уже в
опознанном виде (например, никаких особенных усилий для опознания зеленого
цвета листвы мы не замечаем в себе). Наоборот, если объект заключает в
себе много нового или если мы утомлены, опознание требует иногда
значительного труда и предшествуется стремлениями узнать определить,
вспомнить, анализировать и т. п. Обыкновенно эти акты относятся к числу
неопознанных неполных внутренних актов.
Наконец, последний элемент восприятия, живое чувство объективности
и субстанциальности (например, деревьев) подобно ощущениям никоим
образом не сознается как произведенное нами; что мы сознаем присутствие
чегото (не качества, а носителя качеств) чуждого нам, навязывающегося нашему Я
270
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
извне. Конечно, поскольку мы обращаем внимание на эти чувства, они в этом
отношении также сознаются как мои, и в этом отношении подходят под
понятие волевого акта.
Наш анализ должен устранить всевозможные мнимые возражения,
возникающие вследствие того, что данные и мои элементы везде тесно
переплетаются в восприятии. Однако одно из таких возражений мы все же разберем
здесь специально. Нам могут заметить, что восприятия некоторых
интенсивных, а также внутренних органических раздражений, вроде грохота
пушечного выстрела, боли от раны, зубной боли и т. п., возникают у нас, казалось бы,
без всякой нашей активности, даже без напряжения внимания, а между тем
чувствуются как мои и находятся в фиксационной точке сознания;
следовательно, они составляют отрицательную инстанцию против нашего обобщения:
это мои сознания, по-видимому, не подходящие под понятие волевого акта ни
в каком отношении. Однако даже и в этих случаях тезис волюнтаризма
подтверждается анализом. Крайне интенсивные и органические раздражения
обыкновенно исходят от причины, так или иначе опасной или важной для нас,
и поэтому на основании приспособления, выработанного продолжительною
эволюциею, должны пробуждать одно из самых мощных стремлений,
стремление к самосохранению. Следовательно, у нас должна быть общая тенденция
легко и моментально сосредоточивать внимание прежде всего на таких
раздражениях, так что даже и в том случае, если внимание раньше было
поглощено другим объектом, мы тотчас же покидаем его. Как это часто бывает,
психологический такт человечества, выразившийся в языке, правильно утверждает,
что от этих раздражений «трудно отвлечь внимание»: в этих случаях мы без
борьбы следуем за примитивнейшим, мощным и почти всегда неопознанным
стремлением. Если бы в жизни не встречалось ни одного примера, когда
раздражения не были бы восприняты вследствие отвлечения внимания в
сторону другим, следовательно, более сильным стремлением, это не
значило бы, что они без помощи внимания и стремлений, сами входят в
фиксационную точку нашего сознания: это показывало бы только, что
стремление к самосохранению и примитивные вытекающие из него (производные)
стремления суть самый мощный двигатель для нас. К счастью, мы можем
найти доказательство в пользу волюнтаризма более веское, чем это
рассуждение. Как ни мало развито человечество, все же некоторые люди, хотя
на время, под влиянием различных других стремлений с такою силою
сосредоточивают внимание на более высоких сравнительно объектах, что
примитивные проявления стремления к самосохранению отступают на
задний план, и интенсивное или органическое раздражение остается
невоспринятым. Всем известны случаи, когда ранее люди в пылу битвы или
драки не замечали своих ран; увлекшись чем-либо интересным, мы не ощущаем
зубной боли, хотя разрушительные процессы в зубах по-прежнему
продолжаются, и т. п.
271
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Исходя из анализа восприятия, мы уже можем высказать следующие
важные положения относительно «моих»и «данных»элементовсознания.
1. Все чувственные элементы сознания (ощущения) относятся к числу
«данных» состояний.
2. Некоторые нечувственные элементы могут быть то моими, то
данными (например, единства ощущений); другие нечувственные
элементы всегда бывают данными (например, сознавание
объективности); третьи нечувственные элементы всегда бывают моими
(например, тот оттенок состояний сознания, который обусловливается
сосредоточением внимания на них).
3. Все мои элементы сознания относятся к числу нечувственных.
В восприятии как мы видели, подавляющее количество элементов
«дано». Таким же характером отличаются и процессы припоминания,
так как в них обыкновенно в высокой степени активны лишь начало и
некоторые промежуточные пункты, а вслед за тем тянутся целые
полосы воспоминаний, возникающих как бы непроизвольно и требующих
лишь активности внимания для апперципирования. Обыкновенно
процессы припоминания объясняют законами ассоциации идей и вовсе не
ставят их в связь со стремлениями Я; однако на деле, если закон ассоциации и
управляет чем-либо, так это только «данным» материалом припоминания,
а поскольку этот материал становится «моим», в особенности поскольку
он переходит с периферии сознания в фиксационную точку, всегда можно
бывает доказать присутствие стремлений и чувствования активности;
иными словами, поскольку процесс припоминания чувствуется как мой,
поскольку он тоже подходит под понятие волевого акта. Для анализа мы
воспользуемся опять уже описанным процессом припоминания терминов
Blickpunkt и Blickfeld. Когда мы думаем о какой бы то ни было вещи,
например теории внимания Вундта, на периферии нашего сознания толпятся в
большем или меньшем количестве более или менее смутно ряды идей,
связанных по ассоциации с апперципируемою идеею; однако появление этих
идей на периферии вовсе не сопровождается чувствованием деятельности
и не относится нами к нашему Я: они возникают у нас так же, как
психорефлекторные акты1; без предшествующего моего акта (апперцепции) эти
идеи не появилось бы на периферии сознания, однако я вовсе не считаю
себя виновником их возникновения; их возникновение вовсе не есть мой
волевой акт. Гораздо определеннее становится чувствование активности с
того момента, когда я апперципирую ту или другую из этих «данных» в
смутной форме идей. При этом в типичном акте припоминания (а не
построения) быстро и отчетливо вступает в фиксационную точку сознания
некоторое сложное целое (например, слово Blickfeld), и синтез его частей
1 См. П. 2.
272
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
чувствуется как «данный» совершенно так же, как в простейших
восприятиях. Следовательно, мы имеем здесь дело, как мы уже решили выше,
говоря об апперцепции вообще, с неполным внутренним актом1.
Отсюда ясно, что если мы хотим наблюдать смену идей, наименее
зависимую от наших стремлений и управляемую одним лишь законом
ассоциации (если такой закон существует), то мы должны насколько
возможно подавить в себе апперципирующую деятельность,
отказаться от всяких определенных своих целей и присматриваться к игре идей,
которая возникнет вслед за этим. Точнее, мы и в этом случае не
отказываемся совсем от апперципирования, а ставим себе очень оригинальную
цель — апперципировать (не особенно интенсивно), все, что всплывает в
поле сознания. При этом искусственном условии начинается безумная
скачка идей, и только она дает настоящие типичные случаи слепого
чередования идей по смежности. Такая же скачка может явиться и в
других случаях ослабления апперципирующей деятельности, например при
усталости, душевной болезни. По мнению Вундта, «у нормального
человека ассоциация в форме ряда, т. е. содержащая более двух членов,
встречается очень редко» и достигается легче всего описанным
искусственным путем2.
Переход состоянии с периферии в фиксационную точку кажется
нам зависящим от наших стремлений. Следовательно, если опираться
на непосредственное чувство, то нужно признать, что смена идей в
фиксационной точке зависит от смены стремлений, а потому основной
закон течения сознательной жизни будет найден тогда, когда удастся
определить закон смены стремлений. Этот вопрос мы рассмотрим
подробно в исследовании, посвященном критике закона ассоциации идей.
До сих пор мы говорили лишь об активности внимания в процессах
припоминания, если бы они не заключали в себе кроме этого никаких
других «моих» элементов, то они должны были бы казаться еще более
пассивными, чем восприятие: весь процесс припоминания состоял бы в
том, что на периферии сознания психорефлекторно появлялись бы идеи,
соответствующие апперципируемым идеям, а мы только
сосредоточивали бы внимание то на той, то на другой из них. На самом деле это не
так; в особенности в тех случаях, если нужная для нашей дальнейшей
деятельности идея не появляется на периферии сознания, можно
заметить, что мы не просто сосредоточиваем внимание на апперципируемой
идее, связанной с искомою по закону ассоциации, а роемся как бы в
сознании, подыскивая другие идеи, связанные с искомою (при этом мы
руководимся непосредственным чувствованием приближения к цели или
1 См. III. I
2 Вундт. Очерк психологии. С. 278.
273
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
удаления от нее), и вообще направляем внимание не только на самые эти
идеи, сколько на их связи с искомою идеею, делая при этом какие-то
своеобразные усилия. Такой процесс припоминания подходит под
понятие внешнего волевого акта1.
Гораздо более напряженною и непрерывною кажется активность Я в
более высоких деятельностях, чем припоминание, например при
построении картин воображения, при размышлении и сложной (не
превратившейся в автоматическую) практической деятельности, которая разлагается на
деятельность воображения, мышления и сокращения мускулов (внешний
волевой акт). Все эти процессы опираются на материал, доставляемый
памятью; следовательно, здесь требуется та же активность, что и в процессах
припоминания, да кроме того всевозможные сравнения, анализы, синтезы,
большинство которых относится нами к нашему Я сопровождается
стремлениями и чувствованием активности. Например, когда мы рисуем
мысленно картину тропического леса, нам сразу припоминаются, если у нас
живое воображение, деревья, задрапированные ползучими растениями,
магнолии, бамбуки и т. п., и синтезы, заключающиеся в этих
представлениях, в большинстве случаев кажутся данными, но чтобы из них получилась
картина роскошного леса, нам нужно из этих материалов построить
целое, и этот синтез, как нам кажется, производим мы сами, согласно своему
стремлению получить картину, подавляющую воображение, или
удовлетворяющую эстетическому вкусу, или типичную для тропиков. Впрочем,
именно при особенно успешной творческой деятельности даже эта
обработка материала памяти отчасти происходит где-то за пределами Я, так
что некоторые новые синтезы, анализы, сопоставления оказываются
«данными», и нам остается лишь апперципировать их. Различие между
талантливыми учеными или поэтами и обыкновенными смертными, быть может,
главным образом состоит в том, что у первых соответственно их
апперцепциям, на периферии сознания сразу являются в огромном количестве
сложные материалы, так что им остается лишь строить из них еще более
сложное целое, а обыкновенному человеку приходится тратить силы на
припоминание и построение еще и этих материалов.
Итак, во всех случаях, рассмотренных нами, мы всегда сознаем себя
лишь, как часть причины психических явлений, разыгрывающихся в нашем
сознании: они в некоторых отношениях сознаются, как «мои» и в этих же
отношениях подходят по понятие волевого акта, так как содержат в себе
все элементы его. Следовательно, для устранения недоразумений
необходим лишь анализ, обособляющий «мои» элементы от «данных мне».
Однако нам могут возразить, что мы до сих пор вовсе не принимаем в
расчет эмоций и чувств, тогда как эта темная область психических явлений
1 См. III. 2.
274
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
заключает в себе, быть может, много отрицательных инстанций против
волюнтаризма. В ответ на это здесь мы скажем только, что анализ «моих» и
«данных» элементов применим и к этим психическим явлениям, причем
всегда можно показать, что «мои» элементы стоят в связи со
стремлениями; например, в такой эмоции, как гнев, чувствуется очень большое
количество «моих» элементов, но наряду с ними в ней же живо чувствуется
количество стремлений, следовательно, воспользоваться ею, как
отрицательною инстанциею против волюнтаризма нельзя. Так как явных
опровержений волюнтаризма эта плохо разработанная область психологии не
дает, то мы считаем себя вправе оставить теперь этот вопрос и рассмотреть
его значительно позже в специальной главе.
Наконец, мы должны устранить еще одно возможное недоразумение.
Так как волевой акт состоит из ряда элементов, которые относительно
самостоятельны или по крайней мере путем анализа могут быть обособлены
мысленно, то легко является соблазн взять отдельно один из элементов
волевого акта и представить его в качестве примера психического явления,
сознаваемого как «мое» и тем не менее вовсе не заключающего в себе всех
составных частей волевого акта. Особенно легко могут подать повод к
такому недоразумению начальный и конечный пункт волевого акта,
стремление и чувствование удовлетворения или неудовлетворения.
Мы нарочно избегаем терминов «удовольствие» и «неудовольствие»,
потому что ими обозначаются чрезвычайно разнообразные психические
состояния, и говорим о чувствовании удовлетворения и неудовлетворении,
чтобы отметить лишь тот приятный или неприятный оттенок соответствия
или противоречия нашим стремлениям, который окрашивает все «мои»
перемены в нашем сознании и настолько прост, что подвергнуть его
дальнейшему анализу нельзя. Само собою разумеется, этот оттенок не есть
волевой акт, но он необходимая составная часть волевого акта. Очень часто в
сознании являются психические состояния, похожие на это чувствование,
но более сложные и сопровождающиеся более или менее явственно
выраженными изменения в деятельности сердца, дыхания и состоянии
кровеносных сосудов1. Об этих состояниях действительно можно сказать, что
они составляют самостоятельное целое. В главе об «Удовольствии и
неудовольствии» мы покажем, что эти состояния сложны, что они относятся
к числу эмоции и, как все эмоции, отчасти состоят из «данных», отчасти из
«моих» элементов.
Наконец, что касается стремлений, мы действительно соглашаемся,
что неосуществленное стремление или система их может сознаваться как
мое состояние сознания, и тем не менее вовсе не заключает в себе всех
элементов волевого акта. Однако этого и следовало ожидать: весьма
возСм. Lehmann, Die Hauptgesetze des menschlichen Gefühlslebens.
275
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
можно, что именно «мои» стремления, поскольку они окрашены
чувствованием принадлежности мне, придают эту окраску и всем следующим за
ними переменам, так что неосуществленное стремление есть
единственный пример психического состояния, которое не заключает в себе всех
элементов волевого акта и тем не менее может сознаваться, как «мое»
состояние сознания: это не волевой акт, а начало волевого акта.
Впрочем, типичных примеров таких неосуществленных стремлений
вовсе нельзя найти. Как мы уже говорили выше, в душевной жизни не бывает
одиночных мимолетных стремлений, стоящих особняком от других
душевных процессов1. Всякое стремление или непосредственно, или как член целого
ряда стремлений, относящихся друг к другу, как средства к целям,
заканчивается волевым актом. Следовательно, было бы несправедливо выхватить из
такого органического целого одно какое-либо стремление и, рассматривая его
отдельно, приводить его как пример психического состояния, не
заключающего в себе всех элементов волевого акта и тем не менее сознаваемого, как
«мое » состояние. Поэтому наше предложение относительно
исключительного положения неосуществленных стремлений нужно формулировать
следующим образом: хотя всякое стремление прямо или косвенно приводит к
волевому акту, однако некоторые стремления, особенно относящиеся к числу
конечных целей2, осуществляются не вполне и тем не менее целиком чувствуются
как мои, и это-то именно обстоятельство наводит на мысль, что стремления
занимают в душевной жизни исключительное положение, что они, даже и вовсе не
осуществившись, могут сознаваться, как мои, и что, может быть, именно «мои »
стремления разливают эту окраску на другие психические состояния.
Надобно заметить еще, что существует целый класс стремлений,
чувствуемых нередко, как вполне самостоятельное целое, как относительно
законченный, обособленный от других психических явлений процесс:
таковы многие опознанные стремления. И на самом деле с точки зрения
волюнтаризма они имеют право на такое положение, потому что стремление,
поскольку оно опознано, заключает в себе нередко полный волевой акт:
опознание стремления есть одно из вспомогательных средств для
осуществления стремления, и совершается очень часто по типу неопознанных
внутренних волевых актов.
Кроме того, бывают еще психические состояния, на первый взгляд
относящиеся к числу стремлений, а на самом деле принадлежащие к разряду
эмоций и заключающие в себе, как все эмоции, зачастую множество внутренних и
внешних волевых актов; таково, например, состояние человека, слишком
поздно приехавшего на вокзал и торопливо, взволнованно бегущего по
платформе к поезду. Об этих состояниях мы будем говорить в главе об эмоциях.
1 См. выше П. I.
2 См. И. 2.
276
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Мы рассмотрели различные возражения, основанные на
недоразумениях, и указали способ для устранения других подобных возражений,
именно обособления, «моих» и «данных» элементов в каждом психическом
состоянии. Опираясь на такой анализ, мы можем без опасения встретить
опровергающие факты признать установленными на основании метода
единственного совпадения следующие обобщения.
1. Всякое психическое состояние, поскольку оно чувствуется как
мое, заключает в себе все элементы волевого акта, мое
стремление, чувствование моей активности и перемену, связанную с
чувствованием удовлетворения или неудовлетворения; такое
состояние кажется мне произведенным мною.
2. Только стремления могут сознаваться как мои даже и в том
случае, когда они не сопровождаются относительными
элементами волевого акта.
2. ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛЮНТАРИЗМА
Если исходным пунктом «моего» психического процесса необходимо
служит «мое» стремление, то мы имеем право утверждать что «мое»
стремление есть причина (вернее, конечно, часть причины) такого процесса.
Поэтому мы можем выразить первое из установленных обобщений в
следующей форме: все сознательные процессы, поскольку мы относим их на
основании непосредственного чувства к своему Я, заключают в себе все
элементы волевого акта и причиняются «моими» стремлениями. Мы
можем теперь также определить волюнтаризм как направление в
психологии, исходящее из этого обобщения.
Итак, чувствование активности, внушающее нам мысль, что сознание
не есть нечто пассивное, что оно может быть источником новых перемен в
мире, не обманывало нас: те причинные связи, которые мы описывали как
кажущиеся, оказываются действительно существующими; боясь
довериться непосредственному чувству, мы установили их при помощи
обыкновенного индуктивного метода единственного совпадения. Однако теперь мы
можем опять придать больше цены непосредственному чувству и имеем
право заявить, что согласие результатов индукции с непосредственным
чувством в высшей степени свидетельствует в пользу волюнтаризма. В
самом деле, всякое эмпирическое знание прямо или косвенно опирается на
данные внешнего или внутреннего восприятия; волюнтаризм может прямо
опираться на этот основной источник эмпирического знания, и в этом
состоит одно из важных преимуществ его перед другими направлениями.
Однако оба метода для обоснования волюнтаризма, как методы, не
застрахованы от возражений. Против индуктивного обобщения по методу
277
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
единственного совпадения можно возразить, что им доказано только
сосуществование двух явлений, а не причинная связь их: быть может, это
сосуществование обусловливается каким-либо третьими явлением,
причиняющим и стремление и перемену, следующую за ним. Так как в сфере
психических процессов такого третьего явления нельзя найти, то
очевидно, это возражение может возникнуть лишь в психологии,
предполагающей, что психические явления могут причиняться и даже всегда
причиняются не другими психическими явлениями, а каким-либо бытием иного
рода. Таким бытием иного рода может быть только бытие материальное
или какая-то неизвестная и непознаваемая сущность (агностическая точка
зрения). Следовательно, указанное возражение может возникнуть или в
материалистической психологии, или в психологии агностицизма. Так как
психология агностицизма вообще должна отказаться от познания
причинных связей и принуждена ограничиваться изучением необходимых
сосуществований, то волюнтаризм не разрушается ею, она не заменяет его
законов другими. Иначе поступает материалистическая психологии: она не
только утверждает, что связи между явлениями, указанными
волюнтаризмом, не имеют причинного характера, но еще и указывает причины этих
явлений, низводящие сознание на степень призрачного бытия, вполне
подчиненного законам механики или вообще материального мира.
Следовательно, для окончательного обоснования волюнтаризма вслед за
индуктивным исследованием нужно еще побороть материализм. Дальше,
рассматривая логически возможные учения о воле, мы постараемся
обстоятельнее показать, что это единственный опасный противник.
Второй источник обоснования волюнтаризма, непосредственное
чувствование активности и связи между психическими процессами, также не
может считаться абсолютно застрахованными от ошибок. В самом деле,
опираясь на восприятия, человечество, например, думало до Коперника,
что Солнце вращается вокруг Земли. Однако, без сомнения, onus probandi
лежит на стороне тех, кто признает то или другое восприятие иллюзиею:
пока астрономия не представила убедительных доводов в пользу теории,
противоречащей этому восприятию, естественно и необходимо было
опираться на него. В таком же положении находится и волюнтаризм. Если в
психологии есть теории, отвергающие причинную деятельность сознания
и объясняющие, каким образом, несмотря на это, в связи с стремлениями
возможна иллюзия активности, то сторонники волюнтаризма обязаны
выйти из состояния покоя и рассмотреть доводы противников; но если
окажется, что доводы их не выдерживают критики, то этого даже и без
помощи индуктивного исследования уже достаточно, чтобы вернуться опять к
свидетельству непосредственного чувства.
Итак, если мы рассмотрим материалистическое учение о душевной
жизни, утверждающее полную пассивность сознания, и покажем, что оно
278
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
не выдерживает критики, и что другие направления в психологии
примиримы с волюнтаризмом, мы получим право считать это направление
достаточно обоснованным. Материалистическую психологию мы рассмотрим в
особом исследовании, а теперь займемся изучением чувствования
активности с психологической точки зрения, в особенности опровержением
противоречащего волюнтаризму учения о том, что чувствование активности
есть моторное ощущение.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СЛ. ФРАНК:
ДУША ЧЕЛОВЕКА КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ
Франк Семен Людвигович (1877-1950) —
философ и психолог. Ввел понятие «философская
психология», на основе которого пытался создать
целостное направление.
В 1912 г. вместе с А.Ф. Лазурским создал
программу исследования личности. В 1916 г. в
журнале «Русская мысль» опубликовал статью «Задачи
философской психологии», продолжением идей
которой явилась книга «Душа человека» (1917 г.).
Книга должна была стать докторской
диссертацией, но в силу известных обстоятельств не была
защищена. В 1922 г. выслан из России.
Жил в Германии, Франции, Англии.
Главная идея Франка состояла в задаче восстановления психологии
как науки о душе, смысл которой заключался в борьбе против психологии
без души, т. е. эмпирической психологии как науки о явлениях сознания и
ее естественно-научных методов. В русской науке книга была воспринята
как возврат к старой метафизической психологии (Э.Л. Радлов, A.C.
Выготский). Однако глубокий теоретический анализ трудностей мировой
психологической науки конца XIX — начала XX в., которая по общему
признанию переживала кризис, рассмотрение понятия души в контексте ее
связей с различными областями реальности сохраняют ценность и
представляют большой интерес для современной науки.
ДУША ЧЕЛОВЕКА.
ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В ФИЛОСОФСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ1
В самом широком, ничего не предвосхищающем смысле под понятием
«души» следует разуметь просто общую природу душевной жизни как
таковой, — совершенно независимо от того, как мы должны мыслить эту природу.
И под учением о душе или философской психологией — так мы можем и
будем называть намечающуюся здесь науку, чтобы хоть косвенно
восстаФранк С.А. Душа человека. Опыт введения в философскую психологию// В кн.
Франк С.А. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995. С. 437-446.
280
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
новить истинное значение названия «психологии» и вернуть его законному
владельцу после упомянутого его похищения, непосредственно уже
неустранимого, — мы должны разуметь именно общее учение о природе
душевной жизни и об отношении этой области к другим областям бытия, в отличие
от так называемой «эмпирической психологии », имеющей своей задачей
изучение того, что называется «закономерностью душевных явлений». В этом
смысле философская психология стоит выше спора между различными
философскими направлениями в психологии, выше противоположности
между «метафизиками» или «эмпиристами» или «критицистами», ибо эти
споры и противоположности составляют само ее содержание. Паскаль
глубокомысленно заметил, что презрение к философии есть само уже особая
философия. По аналогии с этим можно сказать, что даже отрицание «души »
или ее познаваемости есть особое философское учение о душе, ибо оно явно и
бесспорно выходит за пределы компетенции эмпирической психологии как
естественной науки о законах душевных явлений. Даже психическая
атомистика и теория «эпифеноменов» — даже представление о душевных явлениях
как о разрозненных искорках, там и сям вспыхивающих, в качестве побочных
спутников известных процессов в нервной системе — есть философское
учение о душе, хотя, по существу, ложное, чрезвычайно скудное и — что для нас
здесь главное — не осознавшее самого себя (ибо, поскольку оно осознало бы
себя, даже оно должно было бы признать в душевной жизни особую,
специфическую реальность, требующую в этом своем качестве общего описания ее
природы). Суть дела заключается в том, что — поскольку мы вообще не
совершенно слепы и замечаем самый факт душевной жизни — мы — хотим ли мы
того или нет — должны иметь и то или иное мнение об общей природе этой
области, — мнение, по необходимости предшествующее изучению
соответствующих единичных явлений и определяющее задачи, характер и метод
этого изучения. И фактически философская психология лишь в скудной и по
своему внутреннему смыслу неосознанной форме всегда существовала;
существует она и в нашу эпоху, потерявшую сознательный интерес к ее
проблемам (или, скорее, здесь надо говорить о недавнем прошлом). Она
рассеяна, например, в вступительных или заключительных соображениях учебников и
исследований по «эмпирической психологии»,в рассуждениях «О задачах и
методах психологии» (часто наивно воображающих, что можно говорить о задачах и
методах науки, не имея обобщающего, философского знания о ее предмете), во
всякого рода «введениях в психологию » и рассуждениях об общих вопросах
психологии (достаточно вспомнить литературу о «психо-физическом
параллелизме! ») и — last not least1 — в общих философских и гносеологических трудах.
Необходимость и законность философской психологии в этом
широком смысле настолько очевидна, что на нее не стоит тратить лишних слов.
1 Последнее, но не менее важное (англ.).
281
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Гораздо полезнее кажется нам остановиться на общих условиях
современного философского развития, в силу которых философская психология в
планомерном и методическом ее осуществлении становиться неотложным
и насущным требованием времени — требованием, в значительной мере
уже осознанным.
Недалеко еще то время — многим оно представляется еще длящимся и
поныне, — когда казалось, что единственной общей философской наукой
может быть лишь так называемая «теория познания», заменившая собою и
общую метафизику или онтологию, и натурфилософию, и философское
учение о душе. Единственным строго научным — именно непосредственно и
первично данным — объектом философии представлялась с этой точки
зрения лишь природа человеческого сознания или знания; все философские
вопросы сводились к одному — к вопросу об отношении человеческого
сознания к тому, что ему предносится как объективная реальность или предметный
мир. Философия — так любили говорить — должна быть, по примеру
Сократа (вернее сказать, — заметим мы от себя в скобках — по примеру не
очень глубокого цицероновского понимания сократизма), сведена с неба
на землю: вместо того чтобы исследовать абсолютную истину или мир
истинного бытия, она должна заниматься изучением необходимых, в силу
природы человека, человеческих представлений об истине и бытии и
исчерпываться этим изучением. Теория познания, так понимаемая, должна была
быть чем-то промежуточным между общей онтологией и философской
психологией, сразу заменяющим и то и другое. Однако по мере
дальнейшего размышления о природе этой своеобразной универсальной науки стало
обнаруживаться, что точное логическое определение этой промежуточной
области знания совершенно невозможно и что всякая попытка в этом
направлении неизбежно ведет к разрушению или, по крайней мере, реформе
самого замысла этой науки. Движущей силой этого внутреннего кризиса,
характеризующего все развитие современной философии1, был вопрос об
отношении «теории познания» к психологии. Одни, — люди «здравого
смысла», воспитанные на позитивистическом и натуралистическом
образце мыслей, — додумывая вопрос до конца в одном направлении, приходили
к заключению, что теория познания попросту тождественна эмпирической
психологии, т. е. образует часть последней. Ибо если мы ничего не знаем,
кроме человеческого сознания, и так называемое «знание» или «познание»
есть лишь явление сознания, то и теория познания есть психология. Этот
взгляд грозил вообще самостоятельному существованию философии;
нетрудно было также подметить, что в основе его лежала догматическая
метафизика, лишь как бы вывороченная наизнанку и совершенно
извраСм. нашу статью «Кризис современной философии». Русская мысль. 1916 г.,
сентябрь.
282
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
щенная. Считать данные психологии первоосновой всякого знания
значило слепо верить в производное и частное, отрицая достоверность его
общих и первых оснований. Если реальность вообще для нас проблематична,
на чем основано наше убеждение в реальности человека и его сознания?
Если законы логики, понятия закономерности и причинности и т. п.
впервые должны быть выведены из психологии, то как осуществима сама
психология? Поэтому другие мыслители пошли по прямо противоположному
пути, и этот путь стал главным руслом современного течения философии.
Согласно этому течению, теория познания должна быть резко ограничена
от психологии и признана первичной в отношении ее. Но последовательное
проведение этого взгляда приводит — и, можно сказать, принципиально
привело — к разрушению самого замысла «теории познания »*. Ибо
познание есть отношение человеческого сознания к истине и бытию, и если мы не
хотим догматически исходить из частного факта человеческого сознания,
то мы должны признать основной философской наукой не исследование
человеческого познания, а исследование знания в смысле наиболее общего
и логически первого содержания знания. Содержание же знания, взятое
как таковое, то есть вне отношения к факту его познанности человеком или
процессу его познавания, есть не что иное, как само бытие или сама истина.
Так теория познания превращается в теорию знания, а теория знания,
додуманная до конца, — в теорию истины или бытия, и гносеология снова
становится сознательно тем, что бессознательно есть всякая
философия, — общей онтологией.
Это течение выводит общую философию на ее исконный, единственно
верный и плодотворный путь. Но мучительно-болезненный процесс искания и
нахождения этого пути — через отрешение человеческой мысли от
прикованности к субъективной стороне знания, к человеческому сознанию —
обусловил в наши дни новый кризис — кризис психологии или, точнее говоря,
философской проблемы человека как субъекта. Развитие так называемой
«эмпирической психологии», как естественно-научного исследования
душевных явлений в рамках общего предметного, мира т. е. как частной
науки о явлениях объективной природы, идет, правда, своим путем, столь же
мало обеспокоенное судьбами философии, как и все остальное опытное
естествознание. Но философское сознание продолжает мучиться
непреодолимым угрызением интеллектуальной совести, напоминающим, что
победа общей философии, выведшая ее на верный путь, была достигнута
уничтожением, как бы идейным убийством человеческого сознания как живого
внутреннего факта бытия, и что это убийство все же незаконно. Как бы
противоречив ни был замысел старой психологической теории познания,
Как это мы показали в другом месте. См. нашу упомянутую в предыдущем
примечании статью.
283
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
в нем было все же верным то, что человеческое сознание есть для нас не
только как бы внешнее, объективное содержание знания — вроде
кислорода, Солнечной системы или истин математики, — факт, впервые
устанавливаемый наукой как систематическим теоретическим знанием
объективной действительности, а некая самодовлеющая, внутренне и первично
данная нам реальность, истинно слитая с самим субъектом знания.
Признавать душевную жизнь только как частную область мира объектов
значит не замечать целого мира — внутреннего мира самого живого субъекта.
Между тем именно этот субъект как живая, конкретная реальность, исчез,
как бы испарился в процессе (вполне законного с общей точки зрения)
очищения философии от психологизма. Субъект, как живая человеческая
личность или душа, сперва утончился, превратившись в чистую абстракцию
«гносеологического субъекта», «сознания вообще» и т. п., а потом и
совсем испарился, сменившись «царством объективной истины»,
внесубъектным содержанием знания. Грех этого идеального человекоубийства
тяготеет над современной философской мыслью. Нужно воочию проследить
почти судорожные и бесплодные усилия современной гносеологии спасти
утраченную сферу субъективности, как бы оживить убитого, — какие мы
их видим в противоестественных, вычурных построениях, например,
Мюнстерберга или Наторпа1, — чтобы понять всю остроту, с которой
современная научная мысль переживает кризис философской психологии. Уже
прозаическая, чисто научная, чуждая всяких более интимных эмоциональных
запросов проблема познания требует возрождения философской
психологии. Недостаточно заменить теорию познания теорией истины и бытия,
как бы правильна и необходима ни была сама по себе эта замена; на почве
возрожденной общей философии снова возникает старый, теперь уже на
совсем надлежащем месте, вполне законный и неустранимый вопрос: как
же человек, живое индивидуальное человеческое сознание достигает этой
объективной, сверхиндивидуальной истины? После того как была
сломлена гордыня психологического антропологизма, гордыня, в силу которой
человек наивно принимал себя и свое сознание за абсолютную и первичную
основу истины и бытия, проблема человека возникает перед нами снова,
правда, уже как проблема производная, но вместе с тем все же не как
частная проблема науки о действительности или природе, а как
общефилософская проблема живого и непосредственного субъекта,
соотносительного миру эмпирической действительности.
Но когда вопрос так поставлен, когда уяснилось, что собственная
проблема теории познания, в отличие от общей онтологии или антропологии,
тогда становится очевидным, что она лишь частная проблема этой науки,
Münsterberg. Grundriß der allgemeinen Psychologie. 1900. Natorp. Allgemeinte
Psychologie nach kritischer Methode. 1912.
284
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
касающаяся лишь одной из сторон жизни человека. Человек ведь не
только познает действительность: он любит и ненавидит в ней то или иное,
оценивает ее, стремится осуществить в ней одно и уничтожить другое.
Человек есть живой центр духовных сил, направленных на действительность.
Это внутреннее, субъективное отношение человека к действительности, эта
направленность человеческой души на мир, образующая самое существо
того, что мы зовем нашей жизнью, — как бы это ни показалось странным на
первый взгляд, — оставалась совершенно вне поля зрения обычной, так
называемой «эмпирической психологии». В действительности это было не
только естественно, но и неизбежно. Психология как естествознание
знает душевные явления — как мы это уже не раз указывали — лишь с той их
стороны, с которой они стоят в связи с миром внешней, объективной
действительности. Дело тут совсем не в противоположности между так
называемым внешним наблюдением и самонаблюдением. Для обычной позиции
психологии и самонаблюдение есть внешнее наблюдение в том смысле, что
это есть наблюдение явлений как объектов, противостоящих
наблюдающему субъекту и как бы отчужденных от него. Человек как живое
духовное существо в этой позиции раздваивается на субъект и объект; при этом
познающий субъект есть лишь чистый, теоретический взор, чистое
внимание, тогда как сама душевная жизнь развертывается перед этим взором как
отчужденная от него внешняя картина. Поэтому для такого созерцания
неизбежно должно ускользать познание живого субъекта как такового;
его предметом может быть лишь то, что вообще может отчуждаться от
субъекта — разрозненные, оторванные от живого центра единичные
явления душевной жизни, как бы оторванные листья древа жизни, лишенные
внутренней связи с его корнями. Объективное наблюдение (включая в него
и обычное так называемое самонаблюдение, которое было бы точнее
назвать наблюдением собственных душевных явлений) есть анатомическое
вскрытие трупа или анатомическое наблюдение отрешенных от живого
существа души его выделений или отмерших тканей, а не действительное
наблюдение внутренней, субъективной жизни. Между тем живое отношение
человека к действительности — все многообразие явлений любви и
ненависти, утверждения и отрицания, стремлений и отталкиваний — есть именно
та жизнь, которая может быть лишь действительно внутренне
наблюдаема в самом ее переживании, в неразложимом единстве живого знания1,
а не объективно изучаема через внешнее анатомирование или
психологическую вивисекцию. Возьмем для примера такое общераспространенное и
важное явление внутренней человеческой жизни, как влюбленность. Что
может в нем наблюдать так называемая эмпирическая психология? Она
прежде всего набросится, как на самое легкое и доступное, на внешние,
О понятии живого знания см. нашу книгу «Предметзнания». 1915. Гл. XII.
285
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
физические симптомы этого явления — отметит изменения
кровообращения, питания, сна у наблюдаемого лица. Но памятуя, что она есть все-таки
психология, она перейдет и к наблюдению «душевных явлений», она
констатирует изменения самочувствия, резкие смены состояний душевного
возбуждения и упадка, бурные эмоции приятного и тягостного характера,
в которых обычно проходит жизнь влюбленного, господство в его
сознании представлений, относящихся к любому лицу и его действиям, и т. п.
Поскольку психология при этом мнит, что в этих констатированиях она
выразила, хотя бы неполно, само существо влюбленности, — то есть
насмешка над влюбленным, отрицание душевного явления, предлагаемое,
как его описание. Ибо для самого влюбленного все это — лишь симптомы
или последствия его чувства, а не оно само. Его существо заключается,
примерно, в живом сознании исключительной ценности любимого лица, в
эстетическом восхищении им, в переживании центрального значения его
для жизни влюбленного, — словом, в ряде явлений, характеризующих
внутренний смысл жизни. Уяснить эти явления — это значит сочувственно
понять их изнутри, симпатически воссоздать их в себе. Влюбленный
встретит в себе отклик в художественных описаниях любви в романах, найдет
понимание у друга, как живого человека, который сам пережил подобное и
способен перенестись в душу друга; суждения же психолога покажутся
ему просто непониманием его состояния — и он будет прав. Ибо одно
дело — описывать единичные, объективные факты душевной жизни, в
которых выражается или проявляется субъективное внутреннее отношение
человека к миру, а другое — уяснить само это отношение, его живой смысл
для самого субъекта. Мы встречаем здесь то же коренное различие, какое
существует между эмпирической психологией и теорией познания, в
смысле философско-антропологической проблемы. Никакими ощущениями,
чувствами, представлениями нельзя объяснить, ни к каким психическим
явлениям такого рода нельзя свести само познание как переживание или
уловление субъектом смысла познаваемого.
Жизненные явления такого порядка в новейшей философии были
впервые намечены в идее предметной направленности или
интенциональности, оказавшей такое сильное влияние на всю современную
гносеологию и психологию. Замечательно, что лишь неожиданный и
счастливый случай обогатил новейшую мысль этой плодотворной идеей,
которая на наших глазах совершает и отчасти уже совершила
крупнейший переворот в психологии и теории познания. Этот счастливый
случай состоял в том, что один из талантливейших современных
психологов, по религиозным убеждениям верующий католик, Франц Брентано
прошел основательную школу средневековой философской мысли.
Понадобилось углубление в религиозный онтологизм средневековой
мысли, чтобы через идею «интенции» впервые поставить в современной
286
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
философии саму проблему философской психологии или
антропологии, чтобы подойти к человеческой душе не извне, как к совокупности
явлений, совершающихся в известном внешнем порядке и
сопутствующих известным фактам внешнего мира, а изнутри, как к живой
личности, жизнь которой состоит в ряде отношений субъекта к миру и бытию1.
С этим движением, выросшим из самодовлеющей потребности
внутреннего обновления философии и психологии, счастливо встретилось и
сочеталось течение, родившееся из кризиса механистического
натурализма, из потребности освободить от предвзятых, искажающих
философских теорий, философски оправдывать и тем самым использовать
для общего миросозерцания своеобразную позицию исторического и
общественного знания. В ценном учении Виндельбанда и Риккерта, в еще
более глубоком и живом, хотя логически менее стройном и потому
менее оцененном учении Дильтея прежде всего уяснилась совершенная
несостоятельность обычной эмпирической — точнее, натуралистической —
психологии перед лицом проблем и основных понятий истории и
обществоведения. Обнаружился замечательный парадокс современного
состояния так называемого «гуманитарного» знания: историки (в
самом широком смысле), исследователи социальной жизни человека
(экономисты, государствоведы, этнографы , «социологи» и пр.) не
могли никаким образом, даже в минимальной степени, использовать столь
прославленные успехи эмпирической психологии, которая, казалось бы,
должна была давать прочное основание для их построений, и должны
были пользоваться самодельной психологией, созданной для их
собственного употребления2. Наука о человеке в его духовной жизни
безнадежно раздвоилась на обществоведение и натуралистическую психологию и
потеряла единый основополагающий центр. Школа Виндельбанда-Риккерта
пытается внести реформу своим учением о ценности, как
основополагающем философском понятии; это учение, правда, внесло больше
путаницы, чем ясности, в теорию знания и общую философию, но
подчер1 Как известно, большинство наиболее глубоких современных психологов, по
крайней мере немецких, прямо или косвенно отразили это влияние философской
психологии Брентано: Штумпф и Гуссерль, Пфендер и Липпс последнего периода,
Мейнонг и Г. Шварц — философские дети или внуки Франца Брентано; косвенно —
через влияние Гуссерля, бесспорное несмотря на полемику с ним, — учением
Брентано определены и ценные достижения «вюрцбургской » психологической школы.
1 Мы оставляем в стороне явления, в которых обнаружилось в самих гуманитарных
науках влияние ложного натурализма — философско-исторические концепции
типа учения Бокля или — в наше время — Лампрехта. По своему значению
явления этого рода принадлежат в исторической науке к уже преодоленному
прошлому. Философия здесь, как обычно, отстала от практически уже осуществленного
развития специального знания и должна его догонять.
287
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
кнуло действительно существенный и забытый момент, необходимый
для философской психологии1. У Дильтея философско-исторический
интерес к живой человеческой личности и проблемам ее жизни привел к
построению первой программы психологии как науки, основанной на
подлинном внутреннем наблюдении1, к созданию особой «науки о
духе»3, основанной на внутреннем «понимании» (Verstehen) в смысле
живого знания, в противоположность отвлеченно-логическому
постижению (Begreifen) наук о предметной действительности типа
естествознания. Эти учения впервые дают надежду найти ответ на философские
вопросы, поставленные развитием общественно-исторического знания,
или по крайней мере свидетельствуют о том, что поняты сама
законность и важность этих вопросов.
Так, с двух разных сторон, современное научное развитие
неотразимо свидетельствует о потребности в философской психологии в
указанном выше смысле и ставит ее на очередь. Но само осуществление
этой задачи еще впереди; оно требует еще не выполненного пересмотра
ряда господствующих философских понятий, действительного
уяснения лишь вдалеке, как бы в тумане брезжащих горизонтов нового или,
вернее, забытого мира внутренней реальности человеческого духа.
Мы резюмируем здесь кратко намеченную предыдущими
соображениями программу задачи и методов философской психологии.
Общей задачей философской психологии является познание не единичных
душевных явлений, а природы «души». Под душой же — ближайшим
образом, до более точного уяснения и обоснования этого понятия —
разумеется общая, родовая природа мира душевного бытия как
качественно своеобразного целостного единства. Метод этой науки есть
самонаблюдение в подлинном смысле, как живое знание, т. е. как
имманентное уяснение самосознающейся внутренней жизни субъекта в ее
родовой «эйдетической» сущности, в отличие от внешне-объектного
познания так называемой «эмпирической психологии». Коротко
говоря: философская психология есть научное самопознание человека, в
отличие от познания отдельных от внутреннего существа человека как
субъекта и понятых как предметные процессы единичных душевных
явлений. Это есть научное выполнение завета познать самого себя. Но так
как познание логической или родовой сущности какого-либо
предмета необходимо связано с уяснением и его отличия от всего остального,
Независимо от нее то же понятие, в совсем ином обосновании, было намечено в
определенных учением Брентано теориях Эренфельса и Мейнонга.
В его статье «Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie».
Sitzungsber. Der Berl. Akad. Der. Wissenchaften,1894.
«Einleitung in die Geisteswissenchaft», 1883.
288
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
и его положительных отношений к другим объектам, то философская
психология тем самым имеет и задачу определить место «души» в
общей системе сущего, ее отношение к иным областям бытия. В обеих этих
своих задачах философская психология есть не естествознание, а
лософия; она изучает не реальные процессы предметного бытия в их
причинной или какой-либо иной «естественной» закономерности, а дает
общее логическое уяснение идеальной природы и строения душевного
мира и его идеального же отношения к другим областям бытия.
Онтологически намечающаяся здесь своеобразная область знания
опирается на признание особой области бытия — бытия,
раскрывающегося в самопознании, в отличие от бытия, образующего объект
миропознания и Богопознания. Под миропознанием мы разумеем совокупность всех
реальных наук — наук о конкретно-временной природе в широком
(кантовском!) смысле последнего понятия. Объектом Богопознания, также в
широком смысле слова, является царство Логоса или идеального бытия —
сфера истины, красоты, добра и их высшего источника или первоединства.
Этот мир образует предмет познания логики и высшей онтологии (первой
философии) математики, этики, эстетики и религиозной философии. Но
существо человека и его внутреннего мира не исчерпывается ни тем, что
человек с некоторой своей стороны входит в состав природы и в этом
качестве есть объект естествознания (включая сюда и
эмпирико-натуралистическую психологию), ни тем, что, с другой стороны, он есть как бы лишь
экран или фон для проявления или уловления идеальных содержаний,
которые даны в лице самих объектов логики, математики, эстетики и
религии. Кроме этих двух сторон, в человеке есть еще третья, промежуточная
сторона, в силу которой он есть то живое существо, тот конкретный
носитель реальности, который может вступать в эти два отношения к двум
разным сферам или сторонам бытия. В лице таких областей бытия, как
наука, искусство, нравственность, общественная жизнь, религия, — взятых
не со стороны объектов, на которые они направлены, и не со стороны, их
связи с природой и процесса их внешнего осуществления, а в их
собственном внутреннем существе, как форм человеческого сознания или
человеческой жизни, — мы имеем конкретное выражение этой собственной,
внутренней природы человека, которая образует предмет его самопознания.
Этим дается оправдание тому давнишнему, общепризнанному в прежней
философии и лишь ныне забытому убеждению, что в состав философии
наряду с теологической и космологической проблемой входит и проблема
антропологическая. В силу этого также уясняется, что эта
антропологическая проблема не только разрешается, но даже и не ставится ни в
физических, ни в психологических исследованиях о человеке, которые строятся
по типу естествознания и, следовательно, рассматривают его жизнь лишь
как совокупность явлений природы.
10 Российская психология 289
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В этом онтологическом разъяснении мы вышли уже за пределы
вступительных формальных указаний. Предварительные, чисто
методологические соображения здесь необходимо кончаются. Они помогают лишь
навести мысль на сознание какого-то пробела, наметить идеал новой
области знания. Заполнение этого пробела и даже действительное,
окончательное доказательство осмысленности и осуществимости этого идеала новой
науки может дать лишь исследование существа самого предмета.
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Г.И. ЧЕЛПАНОВ:
ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ
И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Челпанов Георгий Иванович (1862-1936) —
психолог, философ, логик. Основатель и первый
директор Психологического института при
Московском университете (1912 г., официальное
открытие 1914 г.), ставшего центром научных
исследований и подготовки психологических
кадров. По оценке В.В. Зеньковского — глава русской
психологической школы.
Основная проблема исследований —
восприятие пространства (магистерская и докторская
диссертации «Проблема восприятия пространства в
связи с учением об априорности и врожденности »,
1896-1904). Разделял позиции эмпирической психологии.
В антологию включены отрывок из диссертации «Проблема
восприятия пространства», статьи по проблемам предмета и методов психологии,
описание Психологического института.
СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВА1
Сущность проблемы восприятия пространства с точки зрения
психологии сводится к следующему: «есть ли пространство
непосредственное содержание ощущения, или оно представляет из себя продукт
психической переработки », другими словами, производно ли представление
пространства или непроизводно? С точки зрения психологической это
есть самый основной вопрос, потому что задача психологии вообще
заключается в разложении сложных психических форм на элементарные
составные части. Та же задача представляется нам и здесь.
Как мы видели, есть две школы психологов, из которых одна считает
возможным выводить представление пространства из элементов
непространственных, другая считает пространство предметом непосредственного
восприятия или, как она обыкновенно выражается, непосредственного
ощуГ.И. Челпанов. Проблема восприятия пространства в связи с учением об
априорности и врожденности. Киев, 1896. Ч. 1. С. 374-385.
кг
291
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
щения. Нам предстояло именно решить
вопрос, которая из двух теорий в настоящее
время может притязать на большую
достоверность.
Я считаю необходимым отделять вопрос
о врожденности пространства от вопроса о
непроизводности его, так как врожденность, под
которой обыкновенно понимается
врожденность физиологических механизмов, не
выражает сущности нашей проблемы. Поэтому,
говоря о производности или непроизводности
протяженности, я переношу центр тяжести на
точку зрения психологическую, а не
физиологическую.
Но при обсуждении вопроса о
производности или непроизводности представления
пространства мы должны пользоваться не
только показаниями самонаблюдения, но должны рассмотреть и
физиологический субстрат этого представления. Рассмотрение физиологического
субстрата имеет свое оправдание в том обстоятельстве, что если ощущение
пространства обладает такою же непосредственностью, как и всякое другое
ощущение, то оно и должно иметь своим основанием какой-нибудь
определенный физиологический субстрат. Это рассмотрение может дать нам
возможность ближе ознакомиться со сходством и различием «ощущения »
пространства от ощущений иного рода.
Я нахожу, что все те гипотезы, которые приводились для доказательства
производности пространства неудовлетворительны: ни ассоциация, ни синтез,
ни какие либо другие процессы, к которым обыкновенно аппелируется, не в
состоянии доказать того, что представление пространства складывается из
элементов, которые не имеют в своем содержании протяженности.
Сложность представления пространства может быть доказана или путем
самонаблюдения или путем анализа психологических фактов; но ни тот, ни
другой путь не приводит нас к доказательству производности пространства.
Если бы протяженность могла быть создана из того, что не обладает
протяженностью, то мы могли бы, по крайней мере, мыслить возможность
раздельного восприятия элементов, входящих в состав представления
пространства. Но мы видели, что представить протяженность отдельно от
цвета и других содержаний оказывается абсолютно невозможным; также
оказалось невозможным доказать психологически возможность отделимости
цвета от протяженности, а это значит, другими словами, что цвет и
протяженность по природе своей неразрывно друг с другом связаны, а это,
другими словами, означает, что пространство непроизводно.
292
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Рассмотрим в общих чертах аргументы в пользу производности
пространства.
По Гербарту, представление пространства созидается из
элементарных интенсивных представлений, которые сами по себе протяженностью
не обладают, но в силу особенных законов репродукции, зависящих от
условий внешнего воздействия впечатлений, дают пространственную форму,
которая, следовательно, представляет собой нечто отдельное от
содержания. Но взгляд этот невероятен: указанные Гербартом репродукции не в
состоянии создать протяженности из элементов непротяженных.
По взглядам английской психологии «пространственная
протяженность, не находясь в сознании первоначально, строится из нашего
представления протяженности во времени». Задача психологии заключается в
том, чтобы показать, каким образом из элементов, располагающихся для
нашего сознания в последовательном порядке, созидается идея
пространственного сосуществования.
По учению этой психологической школы, для восприятия
протяженности самым существенным средством является мускульное чувство,
первоначально известное только как напряжение, затем как напряжение
известной продолжительности и скорости. Но мускульное чувство есть
явление последовательное, сосуществование же (пространственное)
созидается участием осязательных ощущений, одновременно действующих на
сознание, и еще больше участием зрительного органа, обладающего
способностью зараз охватывать большое пространство и воспринимать в
такой быстрой последовательности, что нам кажется, что зрительные
ощущения действуют одновременно, т. е. у нас получается иллюзия
сосуществования. (У английских психологов заметна тенденция к утверждению,
что пространство есть только быстрая последовательность). По учению этой
школы, последовательный ряд осязательных и зрительных ощущений при
повторении их обращением назад превращается в сосуществующий. Опыты
этого рода, давая нам возможность отрешаться от скорости движения,
приводят нас к познанию постоянства элементов. Но совсем не понятно, каким
образом обращение порядка из последовательности может создать
сосуществование, потому что предположив даже, что мы узнаем, что при движении
у нас постоянно имеется один и тот же ряд представлений, то как бы его ни
обращали, все будет оставаться только последовательный ряд.
Точно так же мало удовлетворительной кажется и попытка доказать
производность пространства посредством т. н. «психической химии »: Вундт
является главным защитником этого направления. По его мнению, из
слияния разнородных элементов созидается представление пространства. Вундт
для доказательства этого ссылается на тот факт, что процесс слияния,
продукт которого обладает новыми свойствами, не содержавшимися в
составных элементах, встречается и в других областях душевной жизни и может
293
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
быть объяснен общими психологическими законами, по которым связь
элементов представления тем теснее, чем более она постоянна. На самом же
деле единственный пример, приводимый Вундтом (слияние тонов),
оказывается в данном случае не подходящим, потому что составные элементы
слияния тонов могут быть раскрыты посредством сознания, чего мы не находим в
том слиянии, которое дает начало представлению пространства. Но есть и
теоретические соображения против психического синтеза в смысле Вундта.
Психический синтез должен был бы превращать данные ощущения в нечто
новое, уже не содержащее указанных элементов. Но такое превращение в
психической жизни уже a priori кажется совсем невероятным. Вундтовское
признание психической химии, опровергаемое теоретическими
соображениями, не может быть доказано экспериментально, как это хотел сделать
Вундт. По Вундту, если мы и не в состоянии указать непосредственно в
нашем сознании различных элементарных ощущений, входящих в состав
представления пространства, то мы можем убедиться при помощи
эксперимента, что они лучше всего объясняют различные явления в области
пространственного восприятия, например, глазомер, иллюзии зрения. Мы
рассмотрели (гл. VI, отд. П.) разнообразные факты восприятия плоскостной
протяженности с целью определить, является ли экспериментально
доказанным участие двигательных ощущений в восприятии указанной
протяженности. Но оказалось, что ни глазомер, ни иллюзии зрения не
доказывают участия двигательного чувства в зрительном восприятии.
К тому же вопросу мы подошли с другой стороны и нашли (гл.1У, отд. II),
что мы не имеем никаких оснований признавать непосредственные цветовые
и осязательные ощущения, которые бы при помощи особых процессов
приобретали объективный характер, т. е. делались бы пространственными.
Цветовые и осязательные ощущения представляются нам первоначально, как и
все другие содержания, объективными. Наше самое раннее, наименее
развитое сознание есть (в известном смысле) сознание объективное, и только
после того, как развивается рефлексия, мы начинаем понимать внутренний мир:
субъективность есть продукт позднейшей работы нашего сознания.
Таким образом, ясно, что допустить составление пространства из
элементов непространственных оказывается невозможным.
Сторонники производности пространства могут сказать, что мы должны
допустить сложение пространства из элементов непространственных
(ощущений) потому, что ничто сложное не может существовать без частей. Но это
очевидное petitio principii1. Говоря об ощущении, как о чем-то только
интенсивном, мы берем его в отвлечении от других свойств, на самом же деле
ощущение, только абстрактно мыслимое, может нам представляться
беспростАргумент, основанный на выводе из положения, которое само требует
доказательства (лат.).
294
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ранственным. Кроме того, бесконечно малые бессознательные элементы не
могут составлять пространства в силу того, что бессознательные элементы не
могут дать начала какой бы то ни было психологической форме; а эти
последние элементы, из которых некоторые психологи думают создать
пространство, обладают именно этими свойствами.
Если таким образом пространство представляет собой нечто
непроизводное, то что же оно такое и в каком отношении оно находится к
ощущению? Оно есть такой же момент ощущения, как и интенсивность.
Ощущение представляется одним содержанием, в котором путем отвлечения
можно открыть три стороны. Ощущение представляет собой
первоначально одно недифференцированное состояние, которое впоследствии,
благодаря специальному направлению внимания, дифференцируется в различных
направлениях (качество, интенсивность, протяженность). Интенсивность и
протяженность составляют количественную сторону ощущения и
находятся друг с другом в одном и том же отношении к качеству: они одинаково
неразрывно связаны с качеством и без него немыслимы.
Собственно говоря, это есть нативистическая точка зрения, но она
отличается от воззрения главного представителя современного нативизма,
Штумфа, который очень сближает качество ощущения с протяженностью
и видит сходство протяженности с ощущением во всех отношениях. По
Штумфу, различиям мест в пространстве соответствуют различия качеств:
мы различаем места в пространстве в том смысле, в каком мы различаем,
например, цветовые качества. Для него различия положения аналогичны
различиям ощущений; места ощущаются нами прямо, именно как места.
На этом основании Штумф отрицает локальные знаки. Но так как, по его
мнению, каждое отдельное место в пространстве ощущается нами
особенным образом в силу материальных особенностей воспринимающих
элементов, то это собственно значит признавать локальные знаки, потому что
если указанные им различия не обнаруживаются так или иначе в сознании,
то как они могут обусловливать различия мест в пространстве?
Следовательно, сравнивать протяженность просто с качеством
ощущения мы не имеем никаких оснований. Утверждение, что локальный знак
в этом случае является излишним, что он был бы вторым ощущением,
кажется мне не состоятельным, потому что сказать, что каждое место
пространства ощущается особенным образом, это значит признать особенный
локальный знак.
Локальные знаки должны быть признаны на том основании, что
протяженность в развитом сознании состоит из частей, из которых каждая обладает той или
другой особенностью. Так как мы не можем себе представить, чтобы
протяженность, как таковая, могла оказывать какое-либо воздействие на сознание, то мы
должны предположить, что в ней, в самом деле, содержится что-либо
отличительное. Локальные знаки бессознательны в том единственном смысле, который
мо295
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
жет психология допустить, именно, что они оказывают воздействие на сознание,
но только не бывают замечаемы им.
Таким образом, хотя я и признаю непроизводность протяженности,
однако считаю, что теория локальных знаков может быть примирена с нею,
что локальные знаки не являются необходимой составной частью
первоначального представления пространства, для расширения же и развития
этого представления играют важную роль.
Под локальным знаком я понимаю следующее. Каждое место кожи
или сетчатки обладает способностью производить специфические
ощущения, которые и индивидуализируют впечатления, воздействующие на то
или другое место. Совокупность этих ощущений, входящих в соотношение
друг с другом, составляет комплекс, который собственно и есть локальный
знак. По теории Лотце и Вундта, есть какой-то знак, какое-то ощущение,
которое не обладая ничем пространственным, служит указанием места;
в предполагаемой же мною теории локальный знак обозначает само место
ощущения на ряду с другими. В главе V, отд. 2 мы нашли подтверждение
того положения, что пространство осязания так называемого мускульного
чувства находится в зависимости от специфических ощущений,
принадлежащих тому или другому месту кожи. Точно таким же образом ощущение
положения складывается из разнообразных ощущений, и эта комбинация
ощущений для различных положений различна. Положение того или
другого органа, другими словами, определяется специфическими
ощущениями или локальными знаками в общем смысле.
При рассмотрении некоторых явлений бинокулярного зрения мы вновь
встретились с фактами, подтверждающими предположение
существования локальных знаков (как специфических ощущений); именно оказалось,
что сетчатка обладает различной возбудимостью в различных своих частях
и что ощущения соответствующих мест различны.
Я выше указал на причины, почему для нас важно рассмотрение
физиологического субстрата представления пространства. Штумф признавал
топогенную специфическую энергию для пространства. Но, по моему
мнению, так как пространство подобно интенсивности, есть количественная
сторона ощущения, а потому и находится в известной закономерной связи
с количеством возбужденных элементов, то оно не нуждается в особой
специфической энергии. Физиологически рассматриваемое пространство
обусловливается, с одной стороны, особенным расположением
ощущающих элементов, с другой — количеством одновременных возбуждений.
Так как протяженность оказывается только лишь моментом
ощущения, то нужно было бы допустить, что всякое ощущение обладает ею; мы
видели, что такая протяженность на самом деле приписывается всем
ощущениям (тона, вкуса, запаха и др.), только вопрос об отношении этих
протяженностей между собою представляется чрезвычайно трудным. Он до
296
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
некоторой степени выясняется, когда мы рассмотрим отношение между
пространством зрительного и осязательного чувства. Между ними
существует соответствие в количественном отношении, но субъективно мы
этого отношения констатировать не можем, по все вероятности, потому, что
во взрослом сознании количественная сторона отступает на задний план
сравнительно с качественной. Оба вида протяженности в известном
смысле тождественны друг с другом. Тождество зрительного и осязательного
протяжения обнаруживается из аналогичного воздействия ощущений этих
чувств, но только в одном количественном отношении.
Из рассмотрения восприятия пространства на различных стадиях
психического развития мы пришли к тому выводу, что для третьего измерения
мы не можем указать никакого определенного физического процесса,
который мог бы в таком же смысле обусловливать восприятие глубины, как,
например, множественность элементов ощущающей поверхности
обусловливает ощущение плоскостной протяженности. Поэтому я считаю
непроизводной только плоскостную протяженность; внеположность — основное
свойство — представляет собой первоначальное; из нее путем
психологических процессов, которые еще не вполне выяснены, вырастают сложные
формы пространственного восприятия.
Теоретическое рассмотрение вопроса о природе глубины привело нас к
тому, что признать глубину развитого сознания входящим в состав
первоначального представления пространства мы не имеем никаких оснований;
единственное, что остается — это допустить глубину двух родов, первоначальную
и недифференцированную, и глубину развитого сознания; а между ними для
нашего сознания большая разница. Такого рода различение необходимо
ввести потому, что если между первоначальной плоскостной протяженностью и
развитым представлением ее существует различие, то отчего же не признать
того же различия и в восприятии глубины? Само собою разумеется, признать,
что мы первоначально воспринимаем только плоскостную протяженность, —
значит принимать отвлечение за реальность. Следует признать, что в
первоначальном восприятии глубины содержатся элементы, о которых однако мы не
можем сказать, чтобы из них могла складываться та глубина, которую мы
воспринимаем в настоящее время. Наша настоящая глубина есть продукт
переработки опыта плоскостной протяженности.
Для нативизма представляется весьма важным показать, что для
ощущения глубины существует определенный анатомический субстрат,
потому что подобно тому как для всех других ощущений мы имеем
определенный анатомический субстрат, так и для третьего измерения, если оно также
непосредственно, как и ощущение, должна существовать определенная
физиологическая основа.
И. Мюллер и другие нативисты после него старались отыскать такой
определенный физиологический механизм для бинокулярного зрения, но
297
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
у позднейших нативистов по этому вопросу является колебание, именно
он уже не представляется существенным и в теории бинокулярного зрения
говорят уже не об анатомической тождественности точек сетчаток, а о
психологической тождественности зрительных направлений, так что в этом
пункте нативизм отступает до известной степени от своей основной точки
зрения.
Более старые физиологи, как, например, Панум, прямо указывали на то,
что бинокулярный параллакс является физической причиной восприятия
глубины, Геринг находил особенные пространственные чувства, присущие
каждому месту сетчатки, но так как он приводил их в связь с двигательными
ощущениями, которые освобождают возбуждения той или другой сетчатки, то
Геринг своей теорией настолько приближается к общепринятой теории
локальных знаков, что трудно в этих пространственных чувствах отыскать
специфическую энергию для восприятия третьего измерения. Гораздо ближе к
решению этого вопроса подходит Штумф, который в изменениях формы
сетчатки, происходящих вследствие сокращения аккомодационного мускула,
видит непосредственную физическую основу ощущения глубины. Но это не
подтверждается никакими более или менее основательными доводами.
Отсутствие определенного субстрата для ощущения глубины
показывает, что она не может считаться непроизводной в том смысле, как мы
признаем плоскостную протяженность.
Так как мы не в состоянии указать какой-нибудь определенный
анатомический субстрат для восприятия глубины, то нам остается допустить,
что оно созидается целым рядом вспомогательных приемов: ощущением
конвергенции, аккомодации (осязательными и двигательными
ощущениями, с ними связанными), локальными знаками сетчатки, бинокулярной
диспарацией и др. вспомогательными моментами, которые находятся в тесной
связи с другими опытными мотивами. Все эти вспомогательные моменты
только способствуют восприятию глубины, действуя совместно, т. е.,
другими словами, они являются знаками для той или иной глубины, но
определять глубину непосредственно они не в состоянии.
Главный опытный мотив, определяющий восприятие глубины, есть
двигательно-осязательный опыт. Многочисленные теоретические
соображения и опытные данные, приведенные мною в главе «о зрении и
осязании », по моему мнению, неопровержимо доказывают это. Так как по
предположению мы в этом случае имеем дело с процессом ассоциации, т. е.
вызывания осязательных идей, то он не представляет ничего особенного в
сравнении с обычными психологическими процессами. Впрочем,
психологии будущего предстоит указать ближе те психологические процессы,
посредством которых совершается восприятие третьего измерения.
Из всего этого следует, что глубина развитого сознания не есть
первоначальное содержание ощущений, а есть не что иное, как преобразование
298
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
плоскостной протяженности. Этим признанием я не отступаю от своей
основной точки зрения на непроизводность протяженности, так как сущность
протяженности вижу во внеположности, то естественно, что
преобразование плоскостной протяженности может давать начало тем или другим
модификациям глубины. Конечно, представлять себе первоначальной
плоскостную протяженность является довольно затруднительным, потому что
это значило бы принимать отвлечение за реальность, но я думаю, что здесь
ничего подобного не имеется: глубина есть та же внеположность, которой
характеризуется протяженность вообще, и только она имеет так сказать
иное расположение, чем то, что мы привыкли называть плоскостной
протяженностью в собственном смысле.
О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ1
В настоящей статье я имею целью рассмотреть вопрос о предмете
психологии. Положение психологии в ряду других наук все еще остается
неопределенным потому, что не выяснен вопрос, каков предмет ее в
отношении к предмету естествознания. Если сказать, что предметом психологии
является мир психический, коренным образом отличающийся от мира
физического, и именно тем, что мир физический есть мир «внешний» в
отличие от мира психиче-ского, который является миром «внутренним», как
если бы дело шло о двух мирах, отделенных пространственно друг от
друга. Такое понимание нужно считать очень распространенным. Очень
многие в настоящее время думают, что мысль совершается в мозгу. Многие,
если и соглашаются с тем, что это утверждение неверно, однако все же
считают вполне законным вопрос «а где же совершаются психические
процессы?» и обыкновенно отвечают на него таким образом, что совершаются
они где-то в пределах нашего организма. Из такого ответа получается
представление какого-то особенного внутреннего психического мира,
мыслимого по аналогии с физическим миром, но только меньшего размера. Но
действительно ли так нужно понимать отношение между явлениями
физическими и психическими? Не является ли такое толкование отношения
между явлениями физическими и психическими ложным? Для того чтобы
решить этот вопрос, необходимо определить, что такое «психический» в
отличие от «физического». Я не имею в виду выяснять вопрос о том,
существует ли душа отдельно от тела и т. п. Моя задача заключается в том,
чтобы выяснить вопрос, что мы называем «психическим» в отличие от
«физического». Это я и называю вопросом о предмете психологии.
Вопросы философии и психологии. 1908. Кн. 93. С. 228-250. Читано в Московском
Психологическом Обществе 22 марта 1908 г.
299
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Обыкновенно принято говорить, что между предметом психологии и
предметом наук о природе есть то существенное различие, что предмет
психологии познается путем особого приема, который называется
самонаблюдением. Такой способ выражения нужно считать вполне
правильным. Нет никакого сомнения в том, что самонаблюдение или внутреннее
восприятие является исходным пунктом познания психических явлений.
Совершенно справедливо утверждение, что если бы мы даже объективно
наблюдали проявление психической жизни, например у ребенка, у
животных, у душевнобольных и т. п., то тем не менее эти проявления могут
сделаться для нас понятными только в том случае, если при истолковании их
мы воспользуемся тем, что нам известно из самонаблюдения. Но
терминология, которой мы пользуемся в этом случае, именно когда мы
воспринимаем при помощи «внутреннего зрения» и т. п., нуждается в ближайшем
разъяснении, потому что попытка понимать процесс т. н. внутреннего
восприятия по аналогии с процессом внешнего восприятия может привести к
ложному истолкованию природы психического процессов. Возникает
вопрос, как можно было бы истолковать процесс внутреннего зрения,
самонаблюдения?
Прежде всего кажется, что процесс самонаблюдения даже не может
осуществиться, что самое понятие самонаблюдения есть contradictio in
adjecto1. В самом деле, что должен наблюдать ум в процессе
самонаблюдения? Свою собственную деятельность. Но для того чтобы наблюдать
процессы, в нем самом происходящие, ум должен на время остановить свою
деятельность, чтобы иметь возможность заняться самонаблюдением. Но
если ум прекратит свою деятельность, то что же в таком случае он будет
наблюдать? Если ум приостановит свою деятельность, то и наблюдать ему
будет нечего. Например, я хочу наблюдать чувство гнева. Пока я
испытываю это чувство, тогда я не могу его наблюдать, но как только я перестаю
гневаться, тогда нечего наблюдать. Далее, если процесс внутреннего
восприятия понимать по аналогии с процессом внешнего восприятия, то
тотчас же возникает вопрос, при помощи какого органа осуществляется
процесс самонаблюдения или восприятия внутренних вопросов? Ведь если для
восприятия внешних процессов необходимы органы, то точно таким же
образом и для восприятия внутренних процессов должны существовать
такие же органы или же орган. «Я хочу показать, — говорит Огюст Конт, —
что это мнимое, непосредственное созерцание духа есть чистая иллюзия.
Очевидно, что человеческий дух может наблюдать все явления, за
исключением своих собственных, ибо чем может производиться такое
наблюдение? Легко понять, по отношению к чувствам, что человек мог бы
наблюдать, например, страсти, которые его возбуждают, по той анатомической
Противоречие между определяемым словом и определением (лат.).
300
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
причине, что органы, которые являются их местопребыванием, отличны от
тех органов, которые предназначаются для наблюдательных функций»1.
Таким образом кажется, что существование особого органа необходимо
для того, чтобы могло осуществиться восприятие. Но так как такого
органа отыскать нельзя, то кажется, что и самый процесс внутреннего
восприятия не может осуществиться.
Но против этого возражения следует сказать: как бы ни казался
непонятным процесс самонаблюдения, одно можно утверждать с полною
уверенностью, именно, что он возможен, возможен потому, что фактически
мы познаем психические процессы. Следовательно, сомневаться можно не
в осуществимости процесса самонаблюдения, а в объяснении этого
процесса. Что мы можем воспринимать психические процессы, в этом нет
никакого сомнения, сомнение может возникать относительно того, как следует
объяснить осуществление этого процесса. Объяснение осуществимости
процесса самонаблюдения находится в самой тесной связи с пониманием
предмета психологии.
Выше было сказано, что предметом психологического исследования
является то, что мы называем миром внутренним в отличие от мира
внешнего, который является предметом исследования естествознания или наук
о природе. При таком формулировании отличия предмета психологии от
предмета естествознания кажется, что между предметом естествознания
и предметом психологии лежит целая пропасть. Но на самом деле
отношение между предметом психологии и предметом естествознания таково, что
о них можно было бы выразиться, что между ними в известном смысле есть
некоторые точки соприкосновения. Это можно иллюстрировать при
помощи следующего примера.
Предо мною находится дом; он имеет известную величину, форму, цвет
и т. п. и находится на известном расстоянии от меня. Этот дом есть вещь,
предмет внешнего восприятия. Если я отвернусь от этого дома и не стану
рассматривать его, но все же буду думать о нем, то у меня будет то, что мы
называем мысль о доме. Таким образом, мы имеем, с одной стороны, дом
как вещь, с другой стороны, дом как мысль. Дом как мысль имеет
известное содержание. Спрашивается, отличается ли это содержание от того
содержания, которое мы приписываем дому как вещи? Можно прямо
сказать, что совершенно не отличается. Дом как вещь мыслится мною как раз
с тем самым содержанием, с каким мыслится и дом как мысль. Но,
с другой стороны, несомненно, что между домом как вещь и домом как
мысль есть огромное различие. Для всякого очевидно, что они не одно и то
же. Я могу не думать о доме, у меня может не быть мысли о доме, но тем не
менее дом будет существовать, и наоборот, дом может уничтожиться в то
Auguste Comte. Cours de philosophie positive. Т. I и HI.
301
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
время, как мысль об этом доме может оставаться в моем сознании. Из
такой независимости одного от другого можно сделать заключение, что «вещи »
и «мысли о вещах» и «мысли о вещах» не одно и то же. Однако несомненно
также и то, что между ними есть общее, заключающееся в том, что мы всегда
мыслим их с одним и тем же содержанием. Все равно, думаю ли я о самой
вещи или о мысли об этой вещи, я всегда мыслю их с одним и тем же
содержанием. Говорю ли я о доме или я говорю о своей мысли об этом доме —
содержание будет одно и то же.
Если так, то спрашивается, каким же образом я отличаю то и другое.
Ведь если вещь и мысль о вещи имеют одно и то же содержание, то я
должен был бы смешивать одно с другим; я должен был бы не отличать, что я,
например, в том или другом случае имею дело с домом-вещью или с
домом-мыслью; однако на самом деле я их отличаю друг от друга. Нужно
очень немного размышления, чтобы видеть, чем обусловливается это
различие. Если бы я сказал, что это происходит от того, что мы один раз одно
содержание субъективируем, а другой раз объективируем, то могло бы
показаться, что мы имеем дело с простой тавтологией, потому что сказать,
что содержание нами объективируется, — это все равно, что сказать, что
известное содержание кажется нам вещью. Об известном содержании
сказать, что оно нами субъективируется, — это все равно, что сказать, что
известное содержание кажется нам мыслью. Поэтому наша ближайшая
задача будет заключаться в том, чтобы показать, что значит, что мы то или
другое содержание субъективируем, другими словами, чем отличается
процесс субъективирования известного содержания от процесса его
объективирования. Различие между этими двумя процессами станет для
нас ясным, если я скажу, что я одно и то же содержание один раз привожу
в связь с какими-либо вещами вне меня, в другой раз я то или другое
содержание мыслю в какой-либо связи с моим «я ». Например, я в классной
комнате показываю ученикам какой-либо минерал. Это есть предмет
естествознания. Я представляю себе эту вещь как независящую от моего «я ». Я именно
привожу ее в связь с вещами, находящимися вне моего «я». Я ухожу из
этой комнаты, вещь остается в этой комнате. Я знаю, что если я через
некоторое время возвращусь в эту комнату, то я снова найду эту вещь в этой
комнате. Я могу уехать из этого города, но у меня все же остается
сознание, что эта вещь будет находиться в этой комнате. Другими словами — это
содержание мыслится независимо от моего «я». Но положим я в
настоящее время предаюсь какому-нибудь размышлению. Вы спрашиваете меня,
о чем я думаю? Я думаю о минерале в классной комнате. Как я мыслю об
этом содержании? Это содержание мне уже представляется совсем в
другом виде. Я замечаю, что есть какая-то связь между этим содержанием и
между представлением моего «я ». Я замечаю, что это содержание как
будто бы не связано ни с каким определенном местом. Мне даже оно
представ302
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ляется вместе с моим «я». Во всяком случае, так или иначе связанным с
моим «я». Я замечаю, что от меня зависит, будет ли это содержание
существовать или нет. Это содержание может забываться, ослабевать в своей
интенсивности или усиливаться — все это зависит от меня. Если, таким
образом, это содержание не зависит ни от какого места, то, во всяком
случае, оно каким-то образом связано с представлением моего «я». Этот
пример делает ясным, что мышление какого-либо содержания в связи с
представлением нашего «я »(свойства этого «я » мы рассмотрим ниже) делают из
этого содержания мысль просто; но если это содержание мыслится
независимо от представления нашего «я», а в связи с вещами, независящими от
нашего «я», то мы имеем дело с содержанием, которое делает вещь. Этот
пример показывает, что присоединение к известному содержанию
представления нашего «я » делает то или другое содержание субъективным.
Этот психологический анализ, на мой взгляд, уже делает совершенно
ясным различие между предметом психологии и естествознания. Но
чтобы это положение стало более ясным, мы станем на точку зрения
генетическую и рассмотрим, каким образом присоединение к тому или иному
представлению представления нашего «я» производит указанное
различие. Именно мы рассмотрим тот возможный путь, который прошло
человеческое сознание, чтобы придти к различению между содержанием
психическим и содержанием физическим. Мы рассмотрим генезис того класса
душевных явлений, который называется представлениями, потому что
рассмотрение предметного или объективного характера именно
представлений делается ясным, как устанавливается отличие субъективного от
объективного. Постараемся себе представить душевную жизнь ребенка на
самой элементарной стадии развития. Представим, что он на этой стадии
развития подвергается воздействию какого-либо внешнего впечатления,
например, на него действует какой-либо световой луч; тогда у него будет
ощущение цвета. Спрашивается, может ли он это ощущение воспринимать
как нечто объективное, т. е. как нечто принадлежащее вещи, находящейся
вне его? Надо предполагать, что нет. Для того чтобы ребенок мог
воспринимать что-либо как объективное или придавать какому-либо ощущению
объективный характер, т. е. представлять себе известное содержание как
вещь, нужно чтобы у него в сознании уже существовало различие между
субъектом и объектом, т. е. между его «я » и между вещами внешнего мира,
между его «я» и его «не-я», чего мы относительно первоначального
сознания, конечно, никак допустить не можем. Известно, что, например,
ребенок на первоначальной стадии развития весьма часто кусает руки,
причиняя себе боль. Это происходит от того, что он не отличает своих рук от
предметов внешнего мира. Если бы он отличал свои руки от внешних
вещей, то не стал бы их кусать. Таким образом, на этой стадии развития у
ребенка нет представления объекта и субъекта как чего-то раздельного.
303
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Но как обозначить то душевное состояние, когда ребенок находится под
воздействием какого-либо впечатления в тот период, когда у него нет
представления ни субъекта, ни объекта? Такое состояние мы назовем просто
содержанием или переживанием: оно ни субъективно, ни объективно.
Конечно, для нас такое гипотетическое состояние даже не представляется
мыслимым, потому что для нас всякое содержание должно бать
непременно или субъективным или объективным, всякое содержание для нас
должно быть или вещью или мыслью, однако теоретически такое состояние мы
должны допустить.
Вот это недифференцированное содержание и есть то единственное,
что составляет предмет первоначального сознания. Только такие
состояния может переживать первоначальное сознание. Эти состояния должны
подвергнуться процессу дифференциации. Этот последний процесс
можно представлять себе приблизительно следующим образом. У
развивающегося индивидуума составляется представление о его физическом «я».
Мы не станем ближе рассматривать, каким образом складывается это
представление, но отметим, что представление о физическом «я» складывается
из представлений, чувств, ощущений и т. п., связанных с деятельностью
организма, например зрительных представлений собственного тела,
ощущения движения, усталости, чувства боли и т. п. На ряду с этим
выделением в одну группу представлений, концентрирующихся около
представления физического «я», составляется и представление о мире объективном.
Например, ребенок замечает, что некоторые представления возникают и
продолжают свое существование независимо от того, совершает ли его тело
какое-либо движение, находится в состоянии какого-либо действия или
нет, например представление о голубом цвете неба, о стене и т. п. Ряд таких
представлений, протекающих независимо от его «я», составляет особую
группу, которую мы можем назвать объективной или объектом.
Образование обеих этих групп идет параллельно, хотя до известной степени и
независимо друг от друга. Таким образом получаются две группы
представлений: представлений, группирующихся около субъекта, и представлений,
группирующихся около объекта, при чем такого рода разграничение
произошло из одного общего содержания. Разграничивались и выделялись в
отдельные группы ощущения, о которых было сказано, что они
первоначально не представляют ничего ни объективного, ни субъективного.
Как мы видели, одно и то же содержание может представляться нам и
субъективным и объективным. На рассмотрении дифференциации
содержания этот анализ подтверждается. Дифференциация происходит на
одном и том же содержании. В таком случае мы можем поставить вопрос,
почему одно и то же содержание кажется один раз объективным, а другой
раз субъективным? На этот вопрос мы можем дать такой ответ. То или
другое содержание кажется нам объективным или субъективным, смотря
304
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
по тому, с какой группой представлений оно связывается. Если оно
связывается с той группой, которую мы назвали объективной, то содержание
будет казаться объективным. Если оно связано с той группой, которую мы
назвали субъективной, то содержание будет субъективным. Данное
содержание может быть приведено в связь с той группой представлений,
которая образует представление внешнего мира, тогда оно будет ощущением
предмета внешнего мира; или это ощущение может быть приведено в связь
с представлением нашего «я », тогда оно составит то, что мы называем
ощущением, предметом внутреннего восприятия. Таким образом, одно и то же
содержание может быть то предметом естествознания, то предметом
психологии в зависимости от того, с какой группой представлений оно находится в
связи. Из этого становится ясным, в чем заключается предмет психологии в
отличие от предмета естествознания. Предмет психологии, поскольку это по
крайней мере касается представлений и ощущений, тот же, что и предмет
естествознания, с той разницей, что он мыслится с отличной точки зрения. Точка
же зрения становится отличной вследствие того, что к тому или другому
ощущению примышляется представление нашего «я ».
Я должен обратить внимание на употребляемый мною термин:
«примышляется то или другое представление нашего "я". Этим я хочу сказать,
что то или иное содержание может быть или физическим, или психическим,
т. е. быть предметом естествознания или психологии в зависимости от того,
приводится ли оно в связь с вещами внешнего мира или к нему
примышляется представление нашего «я». Некоторые психологи, например
Эббинггауз, Кюльпе1 и др., обсуждая этот вопрос, употребляют несколько
отличный от этого способ выражения. Именно они в этом случае употребляют
понятие зависимости от нашего телесного «я ». Они находят, что только те
переживания являются предметом психологического исследования,
которые находятся в зависимости от телесного организма. Легко видеть, что
понятие зависимости отличается от понятия простого мышления нашего
«я». Согласно этому последнему выражению, когда я мыслю то или иное
содержание, то в то же время в моем сознании является представление
моего «я». Я мыслю совместно то или иное содержание с представлением
моего «я». Я мыслю одно в связи с другим. В этом случае можно было бы
также сказать, что я устанавливаю известное отношение между тем или
другим содержанием и представлением моего «я». Таким образом, когда,
например, Кюльпе и Эббинггауз говорят, что психическими элементами
являются те элементы, которые мыслятся нами зависящими,
обусловленными телесною деятельностью, то есть бесспорное различие между
просто примышлением и понятием зависимости. Понятие зависимости
предполагает обусловленность, причиненность и т. п. Обусловленность
Ebbingbaus. Grundzüge der Psychologie.l 905.§ I. Külpe. Grundriß der Psychologie. § I.
305
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
деятельностью физического «я » производит то, что из простого
содержания получается психическое переживание. Когда я употребляю понятие
примышления, то об условленности и проч. не может быть и речи. Если
переживания считаются психическими потому, что они находятся в
зависимости от телесного организма, то задача психологии сводится а
изучению физиологических связей для изучения соответствующих
психологических. Отрицается самостоятельная психическая причинность и
признается, что для изучения последней необходимо изучение
соответствующей физиологической причинности.
Таким образом, развиваемая мною мысль сводится к следующему.
Психическое и физическое, что касается ощущений и представлений,
составляют одно и то же содержание, кажутся же различными в зависимости
от той группы представлений, с которой они приводятся в связь.
Как легко видеть, это утверждение близко подходит к тому взгляду на
отношение между физическим и психическим, который в последнее время
защищали Мах и Авенариус1. К отрицанию принципиального различия
между психическим и физическим Авенариус пришел вследствие того, что
он отвергал понятие интроекции, т. е. такое понимание, в силу которого
психические состояния находятся где-то внутри нашего организма. В
последнее время очень односторонне утверждалось, что отрицательное
отношение к интроекции впервые было высказано Авенариусом. Мне
кажется, что ненаучный характер этого понятия сделался особенно ясным при
постановке проблемы пространственной проекции.
Как известно, сущность этой проблемы заключается в следующем.
Я вижу на горизонте звезду. Так как ощущение звезды, по видимому, имеет
место у меня в мозгу, то непонятно, отчего звезда кажется находящейся на
горизонте. Самое простое разрешение этого вопроса заключалось бы в том,
что ощущение каким-то образом переносится от мозга к горизонту. Такое
перенесение можно было бы назвать проекцией ощущений.
Пространственная проекция, таким образом, есть перенесение психических состояний из
мозга в мир, находящийся вне нас, в мир пространственный. Но
противоречивость проекции, понимаемой в только что приведенном популярном
смысле, давно уже была отмечена, и самое это понятие было отброшено. Вместе
с этим необходимо падало и понимание пространственной ограниченности
психического мира. В самом деле, если бы допустить, что мир психический
и мир физический — два пространственно раздельных мира, то никак нельзя
было бы понять, каким образом при абсолютном различии их предметов
был бы возможен переход из одного мира в другой. Приходилось признать,
что пространственная проекция есть противоречивое понятие. В таком
случае, чтобы объяснить, отчего ощущения, по-видимому, имеющие место у
Mach. Die Analyse der Empfindugen. Avenarius. Der menschliche Weltbegriff.
306
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
нас в мозгу, на самом деле кажутся находящимися вне нас, нужно было
допустить одно из двух: или что весь пространственный мир находится
внутри мозга, или что все содержание сознания находится вне мозга.
Для того чтобы переместить весь пространственный мир в мозг, как это
сделал Ибервег1, нужно было рассуждать следующим образом. Ощущение не
есть вещь, которая может быть выброшена и которая может существовать вне
организма. Такая проекция за пределы организма, чтобы ощущение было там,
где нет души, невозможна. Мы не относим наших ощущений вне нас, но весь
видимый мир находится в пределах нашего собственного тела. Вещи суть наши
представления. Они протяженны, следовательно, представления
протяженны. Представления находятся в душе. Следовательно, и душа протяженна. Если
весь пространственный мир находится у нас в мозгу, то голова наша достигает
до звездного мира. При таком допущении различие между духовным и
материальным совершенно утрачивалось бы. Тогда все процессы и духовные и
материальные совершались бы в пределах этого мозга, вмещающего в себя весь
воспринимаемый мир.
Или можно было бы поступить наоборот и сказать, что так как
сознаваемое по существу не может находиться в пределах мозга, то оно находится вне
мозга. Из такого допущения вытекало следующее. С точки зрения этой
теории на вопрос, где находятся ощущения, мы можем ответить: где они нам
представляются, т. е., например, ощущение звезды находится на горизонте.
Представление церкви находится на расстоянии двух верст от меня. Все представления
и все ощущения таким образом мы отнесем в мир, находящийся вне нашего
мозга. И в этом случае различие между материальными вещами и между
представлениями утрачивается в самом деле, если признать, что все психическое
находится вне мозга, тогда окажется, что пространственная локализация
должна быть ничем иным, как только лишь устанавливанием определенного
отношения между содержанием сознания. Тогда окажется, что одни
элементы сознания находятся ближе, а другие дальше.
Словом сказать, как только ставился вопрос о пространственной
проекции, тотчас же его решение приводило к отрицанию принципиального
различия между духовным и материальным, что касается представлений и
ощущений. Как только принципиальное различие устраняется, то тотчас
же поднимается вопрос, как же определить различие между ними, а этот
вопрос по необходимости приводит к тому решению, которое нами было
предложено выше.
Я разберу несколько примеров, чтобы показать, что действительно то,
что я назвал содержанием, делается предметом психологии в том случае,
когда оно приводится в связь с представлением нашего «я ». Я не буду
говоBrasch. Die Welt und Lebensanschauung Ueberwegs. 1889. (Статья Zur Theorie der
Richtung des Sehens), а также Аанге. История материализма. СПб., 1999. С. 640-641.
307
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
рить о чувствах, желаниях и т. п.: их тесная, неразрывная связь с
представлением «я» вполне очевидна. Эти состояния так интимно связаны с
представлением нашего «я», что имеют всегда только субъективный характер.
Предметный характер им никогда не может быть присущ: не может быть
объективных чувств, объективных желаний. Поэтому речь может идти
только лишь об ощущении, т. е. о тех элементах сознания, которые так или
иначе имеют отношение к объективному миру. Возьмем крайние случаи. Я
испытываю сильное чувство. Мое сознание так поглощено переживанием этого
чувства, что ничто объективное не мыслится. Мыслится только наше «я».
Тогда «я» представляет собой более или менее чистый субъект. С другой
стороны, есть случаи, когда мы воспринимаем те или иные содержания с
полным забвением нашего «я». Например, когда мы любуемся
каким-нибудь пейзажем. В таком случае принято говорить, что происходит слияние
субъекта с объектом. На самом деле это есть то состояние, когда мы
воспринимаем, так сказать, чистый объект. Я возьму ощущения и покажу,
как изменяется их характер в зависимости от того, с какой группой
представлений мы приводим их в связь. «Я слышу звук, который исходит из
источника звука, находящегося вправо от меня». В этом случае
примышление моего субъекта едва ли может подвергаться сомнению. Если я скажу:
«яркий луч света мне неприятен», то и здесь указанное выше примышление
не подвержено сомнению, и в то же время не подвергается сомнению чисто
психологический характер этих утверждений. Для противоположения
рассмотрим, в каких случаях тот же цвет, который только что являлся
предметом психологии, может быть предметом естествознания. Это может быть
только в том случае, если мы то или другое цветовое содержание
приписываем вещи, мыслим вещь, представляем себе известную вещь окрашенной
тем или иным цветом, при чем совершенно не примышляем нашего «я ». Мы
думаем о вещи как о чем-то таком, что существует совершенно независимо
от нашего «я». Тогда содержание «цвета» приобретает исключительно
объективный характер и делается предметом естествознания. Мы говорим
о вещах окрашенных, мы говорим об изменении цвета вещей и т. п. Далее, в
каком случае звуки, например, могут быть предметом естествознания?
Здесь рассуждение такое же, как и относительно содержания «цвет». Звук
может сделаться предметом естествознания в том случае, когда мы
представляем себе звучание вещей, когда мы звучание приписываем вещи как
его свойство на ряду с другими свойствами. Например, мы представляем
колокол звучащий, камертон звучащий и т. п. Только в этом случае звук
делается предметом естествознания. Вообще же звук как ощущение
всегда мыслится в связи с деятельностью слухового аппарата или, другими
словами, в связи с представлением нашего физического «я». Когда я говорю:
«я слышу звук», то примышление деятельности слухового аппарата
несомненно.
308
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Возьмем примеры посложнее. «Лунный свет слабее света солнца ». Есть
ли это предложение предмет психологии или физики? Конечно, и физика
этот вопрос может занимать так же, как он может занимать психолога, но
не с точки зрения, с какой он занимает психолога. Ведь высказывая это
положение, я могу думать, что оно является продуктом измерения при
помощи так называемой нормальной свечи; тогда я буду думать об
относительной интенсивности света, как о чем-то от меня независимом. Это будет
просто что-то объективное. Но если я говорю об интенсивности света в том
смысле, как если бы я хотел выразить, что на меня производит такое
впечатление, что один свет сильнее другого, то это будет положение
психологическое. Раз я говорю, что на меня «производит впечатление», то я этим
хочу выразить, что в этом случае мое «я» задето определенном образом.
Если так, то ясно, что отношение к моему «я», субъекту, имеется. Если я
скажу, что «звук проходит с известной скоростью», то я говорю о чем-то
объективном, от меня независимом. Как только я говорю о звуке, что оно
приятно, что оно неприятно и т. п., то сейчас же отношение к моему «я» и
его субъективный характер становится отчетливым.
Из этих примеров ясно, что представление, ощущение, суждение
приобретают психологический характер в том случае, когда они приводятся в
связь с представлением нашего «я», при чем это представление о нашем
«я» является частью представление о нашем физическом, частью о нашем
психическом «я».
В тесной связи с вопросом об объективации и субъективации
содержаний находится вопрос о том, что имеет более непосредственный
характер: наши психические состояния или вещи внешнего жира} Смысл этого
вопроса сводится к вопросу: что в нашем первоначальном сознании мы
начинаем раньше мыслить: процессы психические или вещи материальные?
Многие отвечают на этот вопрос таким образом, что психические
состояния, например представления, мы познаем непосредственно, между тем
как вещи, физический мир, мы познаем через посредство психических
состояний, представлений. С защищаемой здесь точки зрения не может быть
сомнения в том, что первоначально мы начинаем мыслить ни психическое,
ни физическое, а то, что мы мыслим, есть просто известное содержание.
Я умышленно обозначаю предмет первоначального восприятия этим
термином, потому что едва ли иначе можно назвать то, что не имеет ни
субъективного, ни объективного характера, чему еще не придана та или другая
окраска.
Если мы какое-либо из этих первоначальных содержаний приводим в
связь с представлением субъекта, то получается предмет
психологический, если оно приводится в связь с вещами, не зависящими от субъекта, то
получается представление вещи. Эта дифференциация представлений на
субъективные и объективные идет совместно, а потому о большей
непо309
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
средственности одного класса представлений в сравнении с другим не
может быть речи. Психические и физические процессы для нашего сознания
имеют одинаково непосредственный характер.
Но есть еще одна точка зрения, с которой можно говорить о большей
или меньшей непосредственности познания психических и физических
явлений, это именно точка зрения интуитивности познания или
независимость от гипотетических вспомогательных понятий. В этом смысле,
по Вундту, познание психических явлений имеет характер
непосредственный, между тем как познание физических явлений имеет характер
посредственный. По Вундту, «опыт представляет нечто иное, находящееся в
связи. Всякий опыт содержит два в действительности нераздельных фактора:
объект опыта и испытывающий субъект. Естествознание старается
определять свойства и взаимные отношения объектов. Оно поэтому
абстрагирует совершенно, поскольку это возможно, в силу общих условий
познания, от субъекта. Поэтому его способ познания есть посредственный и, так
как абстракция от субъекта требует гипотетических вспомогательных
понятий, которым не соответствует какое-либо конкретное представление,
то эти понятия суть в то же время абстрактно понимаемые (begriffliche).
Психология вновь уничтожает абстракцию, введенную естествознанием,
чтобы исследовать в его непосредственной действительности. Поэтому она
дает отчет о взаимоотношении между субъективными и объективными
факторами непосредственного опыта и о возникновении отдельных
содержаний этих последних и их связи. Способ познания психологии в
противоположность к способу познания естествознания есть непосредственный и
интуитивный, поскольку субстратом ее объяснений является сама
конкретная действительность без применения абстрактных вспомогательных
понятий. Отсюда следует, что психология есть опытная наука,
координированная с естествознанием, и что рассмотрение их дополняет друг друга в
том смысле, что они вместе исчерпывают возможно опытное познание»1.
На первый взгляд может показаться, что то, что Вундт говорит о
предмете психологии и предмете естествознания, находится в тесной связи с
тем рассмотрением, которое было представлено выше, однако на самом
деле Вундт в этом месте рассматривает вопрос о предмете психологии с
точки зрения чисто методологической. Именно, он хочет решить вопрос о
способе изучения предмета психологии и предмета естествознания. Когда
Вундт говорит, что «естествознание рассматривает объекты опыта в их
свойстве, мыслимом независимо от субъекта», то это, другими словами,
означает требование, чтобы всякий изучающий явления природы рассматривал
их независимо от индивидуальных особенностей испытующего
индивидуума. В этом смысле естествознание есть наука абстрагирующая от
индиви1 См.: Wundt. Philosophische Studien. В. XII. Статья: Über die Definition der Psychologie.
310
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
дуума. Вопрос же, которым мы интересуемся, заключается не в этом. Мы
стараемся выяснить вопрос: каково различие между «психическим» и
«физическим. Когда мы мыслим различие между психическим и физическим,
то к чему сводится это различие для нашего мышления? Если мы поставим
вопрос в таком виде, то для нас сделается ясным, что представление
предметов становится для нас предметом внутреннего опыта, когда мы к нему
примышляем представление переживающего индивидуума. Из этого ясно,
что точка зрения Вундта методологическая, отличается от нашей точки
зрения, которую мы можем назвать просто психологической. При этом
следует отметить, что Вундт утверждает, что процессы материальные
рассматриваются при помощи абстракции от переживающего индивидуума, а при
рассмотрении процессов психических такой абстракции не допускается,
психические процессы познаются без посредства каких бы то ни было
вспомогательных понятий и в этом смысле воспринимаются непосредственно,
то и с методологической точки зрения это утверждение нельзя считать
правильным, потому что на самом деле и процессы психические не
рассматриваются в первоначальной непосредственности, а всегда подвергаются
большему или меньшему изменению, и в этом смысле в процессе изучения они
тоже являются в более или менее абстрактном виде. Поэтому можно
сказать, что психические и физические процессы одинаково абстрактны.
Теперь мы можем объяснить процесс самонаблюдения после того, как
мы выяснили, в каком пункте предмет естествознания соприкасается с
предметом психологии. Никак не следует думать, что есть какое-либо
смотрение внутрь. Этот образный способ выражения не должен нас вводить в
заблуждение. В то же время следует отметить, что не существует никакого
особенного органа для восприятия предметов внутреннего опыта. Процесс
внутреннего восприятия может быть объяснен без признания какого бы то
ни было органа. Воспроизведем аргументацию, приведенную нами выше.
Если я воспринимаю какую-нибудь вещь, например стол, и у меня в
сознании оказывается определенное содержание, мысль о вещи, то это
содержание совсем не отличается от того содержания, которое у нас бывает в
сознании в то время, когда мы думаем, что у нас есть представление стола.
В этом последнем случае к вышеуказанному содержанию присоединяется
представление моего «я» и прежде всего представление моего
физического «я ». Именно, что я при желании иметь только мысль о столе
отворачиваюсь, что я закрываю глаза, что мое физическое «я» удаляется и т. п. Мне
кажется, что мое физическое «я» передвигается с моими
представлениями, словом сказать, содержание моего сознания становится независимым
от того комплекса, который можно назвать объективным. В этом случае
представление делается предметом самонаблюдения. Чем же в таком
случае отличается самонаблюдение от наблюдения внешнего мира? Тем, что к
объективному содержанию примышляется еще представление о моем «я».
311
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Чтобы этот процесс примышления сделался ясным, возьмем в пример
внутреннее восприятие какого-либо чувства. Я испытываю чувство гнева. Это
есть просто переживание. Но вот я хочу его изучить так, как его изучает
психолог. Тогда я воспроизвожу его в слабой форме, я вновь переживаю
чувство гнева, я вновь воспроизвожу по возможности все те психические
состояния, которые сопровождают это чувство. Когда я просто
переживаю это чувство, то сознание о моем «я » возникает в неясной форме, когда
же я воспринимаю чувство гнева с той целью, чтобы изучить его свойства,
то в моем сознании является представление аккомпанементов этого
чувства вместе с отчетливым представлением моего «я». Я к образу моего «я»
примышляю состояние гнева. Из этого примера ясно, что внутреннее
восприятие какого-либо чувства состоит в том, что мы представляем наше «я »
переживающим известное состояние. Если бы я хотел выяснить, каким
образом какое-либо ощущение делается предметом самонаблюдения, то
мне пришлось бы повторить то, что мною было выше сказано относительно
того, как какое-либо объективное содержание делается психическим.
Таким образом разрешается парадокс, который приводил в
затруднение Огюста Конта, именно, как это «я » может наблюдать самого себя.
Вместе с этим становится понятным, как мы ответим на вопрос, где же
находятся психические процессы, ощущения, представления и т. п. — в мозгу
или где-нибудь вне мозга? Я нахожу, что просто нельзя ставить вопроса где
по отношению к ощущениям. Ведь место может принадлежать только
объективированным ощущениям; место есть понятие исключительной
объективности и потому пытаться применить его к тому, что именно
лишено этой объективности, значит допускать противоречивое утверждение.
Звезда как вещь находится на горизонте. Ощущение звезды нигде не
находится. Психический процесс ощущения в данном случае есть улавливание
отношения между известным содержанием и представлением нашего «я ».
Может ли этому отношению принадлежать место, и именно в том смысле,
в каком мы его применяем к объективному содержанию? Само собою
разумеется, что процесс ощущения, представления и т. п. всегда будет
казаться происходящим в голове, потому что при рефлексии, как уже было
указано выше, мы примышляем деятельность наших органов чувств: глаза,
уха, мозга и т. п.
При указанном мною объяснении процесса внутреннего восприятия
падает то понятие, которое так часто приводило в затруднение мысль,
когда хотели понять, что такое самонаблюдение, и употребляли понятие
«сознание сознания», при чем это «сознание сознания» повторяется
бесчисленное множество раз. Это происходит вследствие того, что при мышлении
о самонаблюдении мы находимся как бы под влиянием сравнения с
отражающим зеркалом, которое отражает себя бесчисленное множество раз.
Но это, разумеется, неправильно. Процесс настоящей умственной
рефлек312
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
сии, самосознания, «сознание сознания » может осуществиться только один
раз, а если мы говорим о повторной рефлексии, то мы имеем дело только
лишь с символическими представлениями, т. е., вернее сказать, оперируем
просто с метафорой. По обычному пониманию «я», воспринимающее себя,
как бы повторяется бесчисленное множество раз, между тем на самом деле
сознание нашего «я», когда оно делается объектом, предметом
восприятия, мыслится так же, как и вещь; второе «я» мыслится нами по аналогии с
предметами внешнего мира. В этом смысле самосознание имеет
совершенно характер объективного познания.
Но чтобы то решение вопроса о предмете психологии, которое мною
было предложено выше, приобрело убедительность, необходимо выяснить,
что следует понимать под субъектом, который, как было сказано,
примышляется к тому или иному содержанию. Можно думать, что дело идет о
субъекте «чисто духовном, но, с другой стороны, можно думать также, что
дело идет о просто физическом субъекте. Что меня касается, то я думаю,
что дело идет о субъекте в широком смысле слова; мы его мыслим со столько
же духовными свойствами, сколько и с физическими. Представление
нашего «я» составляется из представления, по преимуществу зрительного,
нашего тела, различных чувств, которые группируются около
представления нашего тела. Наше «я» представляется нам как что-то активное,
способное перерабатывать содержание ощущений. «Я» мыслится нами как
нечто единое, центральный пункт всевозможных переживаний, оно
мыслится нами сохраняющим свое тождество и т. п. Таким образом, когда мы
говорим о субъекте, то мы имеем в виду представление субъекта,
складывающегося из конкретных представлений, т. е. каких-либо
непосредственно воспринимаемых ощущений, чувств и т. п.
Из всего вышесказанного следует, что предмет психологии может быть
объяснен без допущения пространственной раздельности внутреннего и
внешнего мира. Самый процесс внутреннего восприятия может быть
объяснен без признания какого-либо органа для этого восприятия. В
существовании такого особенного органа никакой надобности не имеется.
Кому-нибудь может показаться, что я, говоря о предмете психологии,
ограничился только указанием на общий корень происхождения
субъективных и объективных представлений и очень мало останавливался на
вопросе о психическом субъекте и реальности этого последнего, а это
собственно и есть настоящий предмет психологии. Но по этому поводу я считаю
необходимым заметить, что подробное рассмотрение этого вопроса
выходило бы за пределы поставленной мною задачи. Как я только что сказал,
я признаю реальность психического субъекта, признаю также его
своеобразную природу. Признание такого субъекта является для меня исходным
пунктом. Я исхожу из признания, что субъект активный, целеполагающий,
оценивающий имеется налицо. Моя задача заключалась только в том,
что313
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
бы выяснить психологически процесс внутреннего восприятия,
самонаблюдения, объяснить различие между предметом психологии и
предметом естествознания, совершенно не касаясь вопроса о реальности духа и
материи. Другими словами, я хотел установить чисто психологическую
природу понятия предмета психологии. Я исключил из своего рассмотрения
гносеологическую точку зрения. С той точки зрения, на какой я стою,
можно придти также к гносеологическому реализму, как и к
гносеологическому идеализму; можно придти к позитивизму, так же как и положить
начало какой-либо метафизической системе, потому что моя задача, имеющая
чисто эмпирический характер, заключалась в том, чтобы указать, в каком
пункте соприкасаются представления о вещах с
представлениями-мыслями, составляющими предмет психологии.
ОБ ОТНОШЕНИИ ПСИХОЛОГИИ К ФИЛОСОФИИ1
Вступительная лекция, читанная в Московском университете
19 сентября 1907 года
На мою долю выпало преподавание с той кафедры, с которой
преподавал покойный князь Сергей Николаевич Трубецкой. Заслуги его перед
отечественной философией так велики, что история уже теперь может
указать ему вполне определенное место. На мой взгляд, его важнейшая заслуга
перед философией заключается в том, что он выступил в защиту
законности философских и метафизических построений в такой момент, когда
отрицательное отношение к философии грозило привести эту последнюю к
полному падению. Он сам дал совершенно законченный очерк
метафизической системы «конкретного идеализма», в которой философия
приходит в такое близкое соприкосновение с религией. Князю Сергею
Николаевичу Трубецкому принадлежит та заслуга, что он оригинально построенной
метафизической системой показал, что еще не миновала пора
философских и метафизических построений.
Заступаю его место с приятным сознанием, что, будучи сторонником
того же философского направления, я являюсь продолжателем его
работы. Я воспользуюсь сегодняшней лекцией, которая по университетским
традициям должна носить программный характер, для того чтобы
показать, что в очень существенном пункте я являюсь единомышленником
моего предшественника и именно в том, что я также являюсь защитником
законности философских построений и важности этих последних для
разЧелпановГ.И. Сборник статей (психология и школа). М., 1912. С. 71-83.
314
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
вития самой науки. Для этой цели я рассмотрю вопрос, правильное
разрешение которого имеет существенное значение для судьбы психологии:
я разумею вопрос об отношении психологии к философии, и именно
вопрос о том, находится ли психология в какой-либо зависимости от
философии или нет.
Как известно, психология составляла некогда неотъемлемую часть
философии или метафизики. Это происходило от того, что психология
считалась наукой о природе души. Задача психологии заключалась в изучении
природы души. Типичным представителем такой психологии в новейшей
философии является Гербарт.
В основу своих психологических исследований он кладет
метафизическое определение души. По его мнению, душа представляет собою
абсолютно простое существо, которое из самосохранения вступает в борьбу с
другими простыми существами, с так называемыми реалиями. Из этой
борьбы возникают представления, взаимодействие которых дает различные
душевные состояния, например чувства, волю и т. п. Исходя из этих
предположений о свойствах души, предположений, как это легко видеть,
имеющих спекулятивный характер, Гербарт старался вывести дедуктивно
законы душевных явлений. У него, например, объяснение ассоциации идей,
восприятия пространства и т. п. находится в зависимости от взгляда на
природу души.
В психологии такого типа объяснение законов душевных явлений
находилось в зависимости от взглядов на природу души. В ней
философские теории являлись необходимым предположением психологических
построений. Без философского учения о душе нельзя было приступать к
объяснению законов душевных явлений. Законы же душевных явлений
выводились дедуктивно из принципов, которые лежали в основе учений о
душе.
Отрицательное отношение к зависимости психологии от
философских теорий мы находим уже в немецкой философии XVIII в., но в
последнее время признание зависимости психологии от философии встречает
особенно сильное противодействие.
В настоящее время очень многие утверждают, что каких бы взглядов
на природу души мы ни держались, это не может иметь определяющего
значения на наше объяснение законов душевных явлений. Будем ли мы
стоять на материалистической, спиритуалистической или иной какой-нибудь
точке зрения, мы все равно должны будем рассматривать душевные
явления только лишь, как душевные явления. Наши чувства, мысли, волевые
процессы могут быть изучаемы сами по себе, но не как проявления
какойлибо души. Философское рассмотрение души, поэтому, для психологии,
как науки о душевных явлениях, оказывается совершенно излишним. Мало
того, природу психических явлений можно изучать и в том случае, если мы
315
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
совсем не признаем существования души. Таким образом, возникает
пресловутая психология без души, т. е. психология без допущения гипотезы
души.
В близком родстве с этим стремлением устранить душу из психологии
находится тенденция современной научной мысли, по мере возможности,
устранять всевозможные гипотезы. Раз гипотеза души не допускается, то
ясно, что изучение психологии сводится к изучению только психических
явлений, задача психологии сводится к простому описанию психических
явлений. Психология должна только описывать психические явления в том
виде, как они совершаются в действительности, не пользуясь никакими
гипотезами. Вообще философские теории не должны быть допускаемы в
психологии, так как они созидают презумпцию, которая оказывает вредное
влияние на чисто эмпирическое изучение душевных явлений, а потому для
успешной разработки психологии совершенное отделение ее от
философии является необходимым требованием.
Вот два противоположных взгляда на отношение между философией
и психологией.
Но может ли психология обойтись без философии или же философские
теории являются необходимым предположением психологии? Вопрос этот
тесно связан с вопросом: кому разрабатывать психологию? Почти 40 лет тому
назад Сеченов поставил этот вопрос. Сам он дал на него очень решительный
ответ, который совершенно отстранял философов от психологических
исследований. Но жизнь ответила на его решение отрицательно. Философы все еще
остаются причастными к психологическим исследованиям.
Итак, должна ли оставаться прежняя связь психологии с философией
или же психология, подобно другим наукам, должна порвать связь с нею? Как
известно, первоначально все науки находились в связи с философией, но
постепенно они отделились от нее и стали развиваться самостоятельно. От
философии отделилась сначала математика, затем физика и физиология, и
только психологоия почему-то остается в связи с ней, только она почему-то до сих
пор считается философской наукой. Поэтому вполне естественным является
вопрос, не должна ли традиционная связь психологии с философией быть
порвана, быть признана неестественной и даже вредной?
Спорность вопроса о связи между психологией и философией в
значительной мере зависела от того, что термин философия употребляется в
неопределенном смысле, и самая связь эта понималась очень различно.
Поэтому нам следует расчленить вопрос и рассмотреть, что следует
понимать под философией, и что следует понимать под связью психологии с
философией.
Под философией можно понимать прежде всего метафизику. Тогда
под связью психологии с философией можно будет понимать требование,
чтобы для построения законов душевной жизни предварительно была
по316
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
строена метафизическая теория о природе души, т. е. предварительно
решен вопрос, существует ли душа, есть ли она что-либо материальное, есть
ли она субстанция и т. п.
Под философией можно понимать теорию познания. В задачи теории
познания, как известно, входит исследование основных понятий науки. При
отождествлении философии с теорией познания связь между психологией
и теорией познания может пониматься таким образом, что для построения
законов психологии необходимым предположением является
исследование некоторых понятий, лежащих в основе психологии, например понятий
субстанции, причины, воздействия, понятия различия между
физическими и психическими явлениями и т. п.
Наконец, связь между психологией и философией может быть
понимаема таким образом, что философия служит для завершения
построения психологии, т. е. что результаты обобщений психологии могут быть
положены в основу науки о духе, которая подобно натурфилософии не
есть наука эмпирическая, а есть наука философская. В этом смысле
психология доставляет материал для построений философии; она является
вспомогательной наукой по отношению к философии.
Рассмотрим сначала утверждение, что философские предпосылки могут
быть совершенно устранены из изучения законов душевной жизни, что
психология как наука должна совершенно игнорировать понятие души, что ее
задача должна сводиться к простому описанию и классификации душевных
явлений. При таком понимании психология превращается в чисто эмпирическую
науку; она не пользуется никакими философскими понятиями. С таким
пониманием задач психологии нельзя согласиться. Многим кажется, что нет
ничего проще, чем установление факта, чем описание того или иного явления; что
описание может осуществляться, если только мы пожелаем изобразить то,
что является предметом непосредственного восприятия. Но это неправильно.
Описание или классификация душевных явлений не может
осуществляться без каких-либо теорий или вообще каких-либо руководящих идей. В
самом деле, описание не может никогда представлять простого изображения
явлений. Для того чтобы произвести описание какого-либо явления, мы в
большей или меньшей мере изменяем его. Мы упрощаем его, разлагаем на
составные части, мы анализируем его. Для того чтобы произвести описание, мы
должны обратить внимание на какую-нибудь существенную сторону явления.
Чтобы отличить, что в явлении существенно, для этого нужна какая-либо
теория или какая-нибудь руководящая идея. В еще большей мере это
справедливо относительно классификаций. Для того чтобы расположить предметы в
каком-либо порядке, для этого нужно, чтобы мы руководились каким-либо
соображением, отличая тот признак, который мы кладем в основу
классификации. Это показывает, что простое описание и классификация
психологических фактов невозможны.
317
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Всякое описание предполагает необходимо объяснение. Для
объяснения необходимо выходить за пределы того, что дано в непосредственном
восприятии, т. е. при изучении психических явлений мы должны выходить
за пределы непосредственно воспринимаемых психических процессов,
а это, как мы увидим ниже, предполагает употребление каких-либо
понятий, философски обработанных.
Возможно ли вообще устранить понятие души? Можно ли считать
выражение «психология без души» правильным? Это выражение при
тщательном анализе приходится считать просто ложным. Понятие души есть
такое понятие, которое мы необходимо примышляем, когда мы думаем о
тех или иных психических явлениях. В большинстве случаев мы не можем
описывать какие бы то ни было психические явления, не примышляя
понятия души, субъекта. Даже описание такого процесса, как, например,
суждение, уже предполагает допущение какого-либо субъекта, который
является активным в собственном смысле слова.
Душа нами мыслится как какое-то единство, в котором
представления находятся, которое содержит в себе представления, которое
комбинирует и связывает. Она мыслится нами как среда, в которой находятся
духовные явления.
Кажется, что понятие души может быть совершенно устранено по той
причине, что оно есть коллективное понятие, понятие о существе,
состоящем из ряда элементов или душевных атомов. Но это несправедливо. Душа
не состоит из душевных атомов, потому что душевные атомы не имеют
реального существования. Душевные атомы суть просто абстракции. Мы о
них самих не можем думать без того, чтобы не думать о душе, о личности,
которой присущи эти атомы. Представление о душе, о личности всегда
предваряет представление о различных элементах, которые служат для
созидания представления о нашем «я». Если понятие души есть понятие
необходимое для мышления отдельных элементов, то нельзя сказать, чтобы
оно складывалось из каких-либо элементов.
Если же понятие души неустранимо, если это понятие по необходимости
предваряет изучение душевных явлений, то ясно, что психология является также
учением о душе, в которой совершаются душевные явления, а не только о явлениях,
которые осуществляются без души. Конечно, такое понятие души не предполагает
непременно, что она есть нечто трансцендентное*, она может быть имманентна
духовным явлениям, но все же это есть понятие души.
Из этого можно видеть, что выражение психология без души есть
выражение, которое способно ввести в заблуждение, Психология как наука о
душевных явлениях всегда есть в то же время наука о душе.
Еще яснее связь психологии с теорией познания.
Утверждение, что психологи-эмпирики при исследовании психических
явлений только описывают психические процессы, неправильно, потому что в
318
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
большинстве случаев они всегда делают попытки объяснить их, и это
объяснение часто может быть осуществлено только лишь при помощи
гносеологически обработанных понятий. Возьмем для примера понятие
пространственной проекции. Если это чисто психологическое понятие подвергнется
исследованию без предварительного гносеологического анализа, то проекция
будет мыслиться как физическое перенесение во вне, т. е. будет мыслиться
аналогичной физическому процессу, и даже исследователи будут искать
нервы, по которым ощущения идут от мозга к периферии, и т. п.
Положим, далее, что нужно решить вопрос о том, закономерны ли
психические явления в том смысле, в каком закономерными являются
физические процессы. Это, как известно, необходимо для решения вопроса о
свободе воли. Его нельзя решить простым наблюдением смены
психических явлений. Его можно решить только в том случае, если мы
предварительно решим вопрос об отношении психических явлений к физическим,
а этот последний является предметом теории познания. Тот, кто не
рассмотрел с гносеологической точки зрения вопроса об отношении между
психическими и физическими явлениями, говоря о локализации
представлений, будет употреблять такой ложный способ выражения, как
«представления складываются в клетках, головного мозга» и т. п.
Можно ли при таких условиях говорить, что существует какое-то
чистое описание, без предварительного гносеологического анализа тех
основных понятий, которые служат для объяснения психических явлений.
Что философские понятия при исследовании душевных явлений не
устранимы — это можно показать на следующих примерах: для Вундта,
например, психология есть наука только о душевных явлениях. Но так как духу
он приписывает свойство активности, то при объяснении душевных явлений
он постоянно пользуется именно этим понятием. Объяснение апперцепции,
внимания, воли основывается у него на признании активности духа. Рибо,
который сильнее всех отстаивал независимость психологии от философии,
в своей критике теории эмоций Джемса-Ланге становится на
монистическую точку зрения, ибо только благодаря ей он может показать, что
телесное выражение аффектов не есть причина самих аффектов. «По моему
мнению, — говорит он, — было бы весьма важно устранить из этого вопроса
всякое понятие о причине и действии и заменить это дуалистическое
положение представлением монистическим». По мнению Рибо, психическое и
физическое есть одно и то же явление, выраженное на двух языках.
Эмпирическая теория у Рибо опровергается при помощи положения, имеющего
несомненно философский характер, ибо как можно %наче назвать положение,
по которому и духовное и материальное явление суть две стороны одной и
той же вещи. Ведь в непосредственном опыте мы не можем усмотреть этого
тождества. Из этого ясно, что философские понятия являются
необходимым предположением изучения законов душевной жизни.
319
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Если некоторые говорят, что в основе психологии должен лежать
чистый опыт, то на первый взгляд кажется, что этим требованием
устраняется необходимость в какой бы то ни было философии. Но это
несправедливо. Для того чтобы признать, что в основу психологии
должен быть положен чистый опыт, необходима философская рефлексия,
необходима теория познания, чтобы выяснить, почему чистый опыт
называется чистым. Ведь понятие чистого опыта нуждается в
философском оправдании, оно не есть продукт непосредственного восприятия.
Это понятие должно пройти горнило философской рефлексии, прежде
чем мы можем положить его в основу изучения психологии.
Отрицатели значения философии для психологии допускают... пользуются
терминами и понятиями, которые получились вследствие гносеологического
анализа, т. е. после того, как почва расчищена посредством философии,
а затем начинают утверждать, что философия не нужна для психологии.
Итак, при исследовании психических явлений нельзя
ограничиваться только тем изучением, которое может доставлять непосредственный
опыт, необходимо употребление понятий, которые являются
предметом философского изучения. В этом смысле философски
обработанные понятия являются необходимой основой психологии.
Наконец, связь философии с психологией является необходимой
еще и в том отношении, что психология должна являться основой
философии, именно она должна способствовать построению науки о
духе.
Подобно тому как физика, химия и механика служат для
выяснения основных свойств материи, таким же образом и психология
способствует выяснению основных свойств духа. С точки зрения
философской весьма важным представляется вопрос, есть ли дух что-либо
инертное, бездеятельное, пассивное или, наоборот, он есть что-либо
деятельное, оказывает действие на материю; отличается ли его действие в
каком-либо отношении от действия физической энергии и т. п.
Наконец, огромную важность представляет вопрос о том, какова роль духа в
процессе мирового развития. Это есть предмет философии духа.
Но все эти вопросы об основных свойствах духа не могут быть
решены на чисто эмпирической почве; они могут быть решены только лишь
при помощи сведения в одно целое эмпирически добытого материала,
при чем это сведение не может быть осуществлено без помощи
философски обработанных понятий. Для того чтобы решить вопрос, есть ли
дух субстанция или он есть простая совокупность духовных явлений,
нужно подвергнуть анализу понятия сознания, самосознания,
личности, отношения духовных явлений к духовной субстанции Таким
образом, эмпирическое рассмотрение природы душевных явлений
способствует разрешению философского вопроса о природе духа.
320
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Мы к этим вопросам приходим необходимо потому, что
психология как наука не может довольствоваться только описанием и
объяснением душевных явлений, совсем не ставя вопроса о природе духа.
Психология, которая только описывает, воздерживаясь от всяких
объяснений, представляет собою обрывки знаний, не сведенных в одно целое.
Такая психология едва ли может кого-либо удовлетворить. Ум
человеческий по самой своей природе стремится к философскому познанию
действительности. Поэтому всякий психолог стремится быть в конце
концов философом. Ни один психолог, дававший обет воздержания от
объяснений, до сих пор еще не сдерживал своего обещания.
Посредством примера можно показать, что простым описанием или даже
объяснением какого-либо ряда психических явлений нельзя считать
психологическое исследование законченным. Возьмем, например,
«измерение» психических явлений или «описание» зависимости психических
явлений от физических. Можно ли сказать, что на этих описаниях или
этих измерениях ум человеческий может успокоиться? Решительно нет.
Произведя эти описания или измерения, мы ставим вопрос: отчего же
психические явления могут быть измеряемы? и на этот вопрос
отвечаем: «оттого, что психические явления имеют физическую природу», или
что-нибудь в этом роде. Таким образом, попытка объяснить приводит к
применению гипотез относительно природы душевных явлений в
сравнении с природой материальных явлений, а это вопрос, само собою
разумеется, философский. Если мы попытаемся объяснить причину
постоянной связи между процессами психическими и физическими, то мы
придем или к монизму, или к материализму. Вообще всякая попытка
давать окончательные объяснения душевных явлений приводит к
постановке вопроса о душе, о природе ее. При окончательном объяснении мы
наталкиваемся на вопрос о материальности и не материальности
духовных явлений и т. п.
Таким образом, эмпирическая психология как наука о душевных
явлениях необходимо приводит к философскому учению о душе или к
философии духа.
Но если, с одной стороны, философия духа есть конечная цель
психологии, то, с другой стороны, те или другие философские теории о душе
необходимо оказывают воздействие на объяснение тех или иных
психических явлений. Так, например, если психолог признает существование
нематериальной души, то он не будет думать, что воспоминания
хранятся в форме каких-либо материальных следов. Если психолог
признает, что душа есть нечто активное, то процессы воспроизведения и
ассоциации будут для него являться выражением активности духа.
Наоборот, если психолог отрицает законность самого понятия души, как
активного принципа, то он все психические явления будет объяснять
11 Российская психология 321
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
посредством простой ассоциации душевных элементов, которые
пассивно соединяются друг с другом, и т. п. Если кто-либо стоит на
волюнтаристической точке зрения, то это происходит не только из соображений
эмпирического характера, но и потому, что волюнтаристическое
объяснение психических явлений служит подтверждением различных
метафизических теорий (например, у Паульсена и Вундта).
Указанное только что воздействие философских теорий
оказывается не какою-нибудь случайностью, а имеет характер чего-то
необходимого.
Если я говорю о психологии, которая делается философией, то из
этого не следует, что я отрицаю чисто эмпирическую психологию. Можно
признать право отдельного существования экспериментальной
психологии, криминальной психологии, психологии народов, психологии
животных и т. п. Пусть представители этих видов психологии описывают и
объясняют психические явления в своей области. Они соберут очень
ценный материал, который может представить огромную практическую
важность. Но этого мало. Нужно этот материал систематизировать,
свести к единству. Нужно указать положение тех или иных данных в
общей системе психологических знаний. Это уже есть задача той
психологии, которую мы назовем общей, теоретической или
философской психологией.
Необходимость такого различения между
частно-психологическими исследованиями и общей психологией ясна из предыдущего, но ее
можно сделать еще более ясной при помощи следующего примера.
Пусть кто-нибудь вполне хорошо опишет явления, связанные с
глазомером, или пусть он объяснит какую-либо группу зрительных иллюзий.
Но этого для психологии еще мало. Нужно показать место, которое эти
описанные и объясненные факты занимают в проблеме восприятия
пространства, а затем нужно, в свою очередь, указать, какое место
занимает сама эта проблема восприятия пространства в объяснении основных
законов духовной жизни: есть ли это восприятие что-либо врожденное,
осуществляется ли оно при помощи ассоциации или при помощи так
называемой психической химии и т. п. Это уже есть философская
проблема.
Таким образом следует отличать частные психологические
исследования, которые производятся в физиологии, психиатрии, в зоологии
и т. п., от психологии, приводящей в систему эти отрывочные знания.
Эту последнюю психологию следует считать психологией в
собственном смысле. Это именно и есть психология теоретическая, общая или
философская. Она исследует основные законы духа. Ее следует
называть философской потому, что ее предмет может быть исследуем
только лишь при помощи философски обработанных понятий.
322
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Теперь я могу ответить на вопрос, кому разрабатывать
психологию. Вы, может быть, подумаете, что я вопреки Сеченову скажу:
«психологию должны разрабатывать философы». Я очень далек от такого
утверждения.
Пусть психологию разрабатывают все, кто в своей специальной
области соприкасается с проявлениями душевной жизни: натуралист,
зоолог, психиатр, историк, лингвист.
Но я думаю, что весь тот материал, который они соберут, нужно
привести в конце концов в связь с общими законами духовной
деятельности, т. е., другими словами, с философией. Пусть даже, как это
принято в некоторых университетах, учреждаются кафедры психологии на
естественных факультетах. Это может только способствовать успехам
психологии вследствие применения разделения труда и специализации,
но тем не менее и эта естественно-научная психология будет иметь свои
жизненные корни только в теоретической психологии. Инициатива в
постановке наиболее важных проблем будет исходить от теоретической
психологии.
Если, поэтому, собиратели психологических фактов склонны
относиться с презрением к философским обобщениям, то они находятся
приблизительно в таком же положении, в каком находятся каменотесы,
плотники и т. п., которые думают, что первенствующая роль в
построении здания принадлежит им, а что невидимая рука архитектора, творца
плана их работы, имеет второстепенное значение. Собиратели
психологических фактов не знали бы, на что обратить внимание, если бы
философия не поставляла проблем, на разрешение которых они в конце
концов направляют свои усилия.
Таким образом, и для философов находится работа в современной
психологии. Исследование отдельных областей психических явлений
может находиться в руках кого угодно, но система психологии должна
находиться в руках психологов-философов; конечные нити психологии
должны оставаться в руках психологов-философов.
Из этого следует, что психология не должна отрешаться от
философии; напротив, она должна стать в более тесную связь с ней. Другими
словами, психология должна оставаться философской наукой, ибо ее
связь с философией естественна и необходима.
Я позволил себе занять ваше внимание вопросом о связи между
психологией и философией потому, что я убежден, что если бы моя мысль о
необходимой связи между ними была признана, то между философией
и естественно-научной психологией установился бы тот мир, который
является необходимым условием правильной организации научной
работы, а вместе с тем и условием правильного хода развития научной
психологии.
и*
323
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МЕТОДЕ В ПСИХОЛОГИИ1
В последнюю четверть столетия психология обогатилась новым
методом исследования; она, по примеру наук о физической природе, стала
пользоваться в своих исследованиях экспериментом, она, как теперь
принято выражаться, сделалась экспериментальной.
Эксперимент сделался неизбежным спутником психологического
исследования. Всюду в Европе и в Америке при университетах учреждаются
лаборатории или «институты » для экспериментальных исследований
психических явлений. Экспериментальные методы исследования начинают
пользоваться таким повсеместным признанием, что едва ли в настоящее
время найдется какой-либо психолог, который стал бы отрицать значение
эксперимента в психологии. В настоящее время едва ли кто-нибудь из
психологов стал бы противопоставлять исследованию при помощи
экспериментальных исследований исследование при помощи самонаблюдения
просто. Теперь едва ли кто-либо стал предлагать вопрос: что в психологическом
исследовании важнее, эксперимент или самонаблюдение? С одной
стороны, никто из психологов не отрицает первенствующей роли
самонаблюдения в исследованиях психических явлений, хотя уже многие начинают
говорить о необходимости «ограничения самонаблюдения»2. С другой
стороны, никто не отрицает значения эксперимента, хотя очень многие
убеждены, что применению эксперимента в психологии есть
определенный предел3.
Благодаря применению эксперимента в психологии все содержание
психологии расширилось: возникли новые отрасли психологии. Вообще
во всей психологии последнего времени, благодаря применению
эксперимента, произошло такое глубокое изменение, что настоятельно
необходимо дать совершенно определенный ответ на вопрос: какое значение имеет
эксперимент в психологии, потому что ближайшая будущность
психологии находится в зависимости именно от разрешения вопроса о пределах
приложимости эксперимента психологии?
Если еще лет 10-15 тому назад можно было противопоставлять
психологию экспериментальную психологии интроспективной, то в
настоящее время для такого противопоставления нет никаких оснований. По
отношению к эксперименту мы не можем говорить так, как говорили лет
десять тому назад, что мы переживаем «кризис » в психологии. Кризис уже
миновал. Эксперимент уже завоевал прочное положение в психологии,
1 Сб.: Новые идеи в философии. Сб. 9. М., 1913. С. 12-39.
2 Об этом см., напр.: Dodge. The Theory and Limitations of Introspection. American
Journal of Psychology. XXIII. С 214-229.
3 См., напр.: Elsenhans. Lehrbuch der Psychologie. 1913.
324
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
и тем не менее пределы его приложимости остаются невыясненными в
достаточной мере. Этим вопросом мы и займемся в настоящей статье.
Прежде всего мы рассмотрим старое противопоставление —
эксперимент или самонаблюдение в психологии. Для этого нужно рассмотреть,
что такое самонаблюдение и каково его отличие от внешнего наблюдения.
По отношению к самонаблюдению всегда возникало сомнение —
действительно ли оно может считаться источником психологического
познания, даже больше, может ли вообще самонаблюдение осуществиться во
внутреннем опыте? Кажется, для такого сомнения есть место, если мы
сравним «внешнее» наблюдение с тем, что мы называем внутренним
наблюдением, или самонаблюдением. Внешнее наблюдение осуществляется в том
случае, когда наше внимание направляется на более или менее
продолжительное время на какой-либо предмет или явление. Может ли подобное
направление внимания иметь место во внутреннем опыте? В тот момент,
когда мы для наблюдения какого-либо психического явления желаем
направить на него наше внимание, его уже нет налицо. Поэтому при изучении
психических явлений нам приходится оперировать только лишь со
вспоминаемыми образами известных психических явлений, непосредственно же
наблюдать то или иное психическое явление в нашем внутреннем опыте мы
не в состоянии. Поэтому правильнее было бы вместо термина
«самонаблюдение » употреблять термин «внутреннее восприятие »*, потому что
термин «самонаблюдение» как будто притязает на то, чтобы быть
поставленным наряду с внешним наблюдением, что фактически оказывается
невозможным. Таким образом, приходится признать, что в изучении
психических явлений мы поставлены в необходимость вместо наблюдения
пользоваться восприятием, а этот прием исследования связан с
недостатками, которые вообще влечет за собой всякое восприятие воспоминаемых
образов. Если мы вспоминаем образы, то эти последние возникают иногда
в ослабленной форме, иногда мы вследствие забвения придаем им такие
черты, которые им на самом деле не принадлежат. Ясно, что тот источник
познания психических явлений, который называется «самонаблюдением»,
не свободен от недостатков, от которых свободно внешнее наблюдение.
Однако следует заметить, что самонаблюдение при всех недостатках,
присущих ему, отнюдь не может быть истолковано в том смысле, что
психология должна строиться только на основании наблюдений над самим
собой. Такое толкование понятия самонаблюдения было бы совершенно
неправильно, потому что самонаблюдение предполагает также
наблюдение над психической жизнью других существ. Если мы основным
источником познания психических явлений считаем самонаблюдение, то это
нужно понимать в том смысле, что психологические переживания других
Об этом см.: Wundt. Logik. В. III. С. 164.
325
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
индивидуумов становятся для нас доступными только лишь потому, что
мы переводим их на язык наших переживаний, на язык нашего
самонаблюдения. Какой-то психолог, возражая против лабораторий по
экспериментальной психологии, сказал: «Я ношу свою лабораторию с самим собой».
Этим он хотел сказать, что в исследовании душевных явлений он ни в чем не
нуждается, кроме самонаблюдения. Но такое выражение, даже если
отрицать значение экспериментальной психологии, нужно считать
неправильным, потому что если ограничиться только наблюдением своих
собственных душевных переживаний, то мы эти последние воспринимаем с массою
индивидуальных особенностей, не имеющих цены для науки, которая ищет
общего, а не индивидуального. Поэтому нужно считать, что
самонаблюдение должно быть дополнено наблюдением других существ, которое в
известном условном смысле может быть названо также объективным
наблюдением. Самонаблюдение и наблюдение над другими должны быть
соединены, и именно такой соединенный метод самонаблюдения и
объективного наблюдения единственно может иметь научное значение. Таким
образом, совершенно ясно, что самонаблюдение не исключает
объективного наблюдения, не исключает, разумеется, и применения эксперимента.
Но, с другой стороны, и экспериментальное исследование необходимо
предполагает самонаблюдение. Что эксперимент не только не исключает
самонаблюдения, а, наоборот, необходимо его предполагает, станет ясным,
если мы рассмотрим смысл и сущность эксперимента.
Что такое эксперимент? Мы противополагаем его простому
наблюдению. Если возникает какое-либо явление, свойства которого мы изучаем,
направляя на него внимание, то это будет изучением при помощи простого
наблюдения. Изучаемое явление возникает само собою, помимо нашей воли.
К возникновению изучаемого явления мы относимся, так сказать,
пассивно. Что касается эксперимента, то сущность его заключается в том, что к
возникновению того или другого изучаемого явления мы относимся не
пассивно и воспринимаем его не случайно, но, наоборот, относимся к нему
активно, способствуя его возникновению. Мало того, мы не только
способствуем возникновению явлений, но и видоизменяем условия, при
которых совершается изучаемое нами явление. В этом заключается различие
между простым наблюдением и экспериментом. Но понятие эксперимента
в естествознании и в психологии употребляется в двояком смысле. Если
моя активность в отношении к изучаемому явлению выражается в том, что
я принимаю меры к тому, чтобы искусственно вызвать явление, которое я
предполагаю исследовать, то это будет, конечно, эксперимент, но
эксперимент в широком смысле слова. Более узкое понятие эксперимента
заключается в следующем. Если, изучая какое-нибудь явление, я видоизменяю
условия его возникновения и этим видоизменяю само явление, то это
будет эксперимент в собственном смысле слова. Для пояснения различия
326
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
между двумя видами эксперимента возьмем пример. Положим, я желаю
разрешить психологический вопрос, как относятся дети к темноте? Для
разрешения этого вопроса я затемняю ту комнату, в которой находятся
дети, и наблюдаю, как реагируют дети на темноту. В этом случае, как это
легко видеть, эксперимент заключается в том, что я вызываю или
искусственно созидаю известное переживание, в данном случае темноты, и
стараюсь проследить, какими свойствами обладает это переживание, вызывает
ли оно, например, чувство страха или переносится равнодушно и т. п.
Будем ли мы в этом случае иметь дело с экспериментом? Многие, пожалуй,
станут это оспаривать, но, бесспорно, в данном случае мы имеем дело с
экспериментом, хотя и в широком смысле слова. Приведенный только что
случай отличается от простого наблюдения. Если бы я случайно увидел,
что ребенок, оставшийся в темноте, обнаружил чувство страха, то это было
бы, конечно, простым наблюдением. Если же я преднамеренно, с целью
изучить влияние темноты на душевное состояние ребенка, своим
вмешательством вызываю его, это уже, бесспорно, эксперимент.
В естествознании и психологии, когда мы говорим об эксперименте, то
обыкновенно имеем в виду эксперимент в узком смысле слова: мы
видоизменяем условия возникновения явления, этим производим изменение
самого явления, а благодаря последнему мы имеем возможность изучить
свойства самого явления. Для этого, конечно, необходимо знать условия
возникновения явлений. Для пояснения этого вида эксперимента и возьмем
в пример так называемую мюллеровскую иллюзию. Мы имеем две равные
линии, из которых каждая ограничена двумя углами, направленными в
разные стороны. Одна линия кажется длиннее другой. Возникает вопрос:
отчего это происходит? Каковы причины иллюзии? Мы можем сделать
всевозможные предположения. Может быть, иллюзия происходит оттого, что
линии параллельны, находятся рядом, или оттого, что промежутки
заполнены, наконец, оттого, что линии ограничены углами, так что если бы они
были ограничены какой-нибудь другой фигурой, то иллюзии, может быть,
и не было бы. Мы можем вызвать изменение условий, которые являются
причинами иллюзии, и посмотреть тогда, благодаря чему она возникает.
Я предполагаю прежде всего, что иллюзия возникла оттого, что линии
параллельны; устраняю параллельность, — иллюзия остается. Может быть,
если бы линии были ограничены не углами, иллюзии не было бы. Заменив
углы дугами, видим, что иллюзия остается по-прежнему. Может быть, она
исчезнет, если мы возьмем вместо двух углов по одному, но и здесь
иллюзия не исчезнет и т. д. На этих примерах мы видим, как можно
видоизменять условия, при которых совершается психическое явление, — для
того, чтобы исследовать причину его. Такое изучение, как мы видели
выше, называется экспериментальным, и именно это есть второй вид
эксперимента.
327
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Возьмем ли мы изучение психических явлений в первом смысле или во
втором, мы увидим преимущества изучения при помощи эксперимента
сравнительно с изучением при помощи простого наблюдения.
Первое преимущество заключается в следующем: при простом
наблюдении мы имеем дело с явлением случайным, не повторяющимся, которое
мы даже не всегда можем изучить как следует. Эксперимент дает
возможность повторять явления и тем самым всесторонне изучать их. Например:
мы можем изучать какое-либо психическое явление в области зрительных
ощущений, восприняв его случайно; вследствие этого нам может быть
придется наблюсти его один раз на протяжении многих лет, между тем, если
мы изучаем это явление экспериментально, то мы можем вызывать его
столько раз, сколько понадобится. Это явление мы можем много раз
повторять и благодаря этому последнему обстоятельству мы можем
направлять наше внимание на особенно интересные для нас стороны его. Это
последнее обстоятельство приближает психологию в известном смысле к
естествознанию. В самом деле, натуралист может всегда вернуться к
предмету, который он изучал вчера, неделю, год тому назад, — для психолога
же нет такой возможности без эксперимента.
То обстоятельство, что мы можем, видоизменяя условия
возникновения явления, изучать изменение самого явления, дает возможность
установить в данном явлении причинное соотношение. Если бы не могли
видоизменять условий, при которых совершается изучаемое явление, то мы не
были бы в состоянии установить причинной связи психических явлений.
Таким образом, мы можем установить причинную связь психических
явлений главным образом благодаря эксперименту. Далее, в
экспериментальном изучении мы имеем возможность, изучая психические проявления
множества индивидуумов, и притом при различных условиях, выходить за
пределы индивидуальных различий, тогда как при исследовании при
помощи индивидуального самонаблюдения мы всегда склонны придавать
всеобщность индивидуальным психическим особенностям.
Наконец, то, что делает психологические эксперименты особенно
ценными для науки — это возможность повторения их при одинаковых
условиях. Это значит, что то или иное психическое явление может быть изучаемо
при одинаковых условиях в различных местах, в различное время и
различными лицами. Эксперимент, который был несколько лет тому назад
произведен в Калифорнийском университете, может быть в настоящее время
повторен где-нибудь в России при совершенно тождественных условиях.
Это характерная, существенная особенность эксперимента, которая
несвойственна простому наблюдению. Поэтому если встречаются где-либо
такие эксперименты, которые не могут быть повторены, то мы в праве
сказать, что они не имеют научного значения. Так, например, в книге
«Экспериментальные исследования о непосредственной передаче мыслей»
док328
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТЮЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
тора Котика указаны такие эксперименты, которых никто, кроме автора,
не мог бы повторить. Итак, эксперимент позволяет изменять условия
явления, повторить его, и в этом заключаются бесспорные преимущества
экспериментального исследования перед простым наблюдением.
Но при обсуждении вопроса об экспериментальном методе
исследования в психологии весьма важно выяснить, что общего между
экспериментом в психологии и экспериментом в естествознании. Характерным
признаком эксперимента в естествознании является то, что в нем
применяется измерение. Спрашивается, возможно ли измерение психических
процессов в том смысле, в каком оно возможно в естествознании? Сами
психические процессы прямо не могут быть измеряемы; они всегда измеряются
косвенно через посредство измерения раздражения, но, во всяком случае,
они измеряются1. В данный момент для нас важно отметить, что к
психическим процессам можно применять числовые выражения. В этом смысле
можно сказать, что психические процессы могут быть измерены, даже если
бы это измерение происходило через посредство измерения физических
процессов. Вся современная психология полна фактами этого рода.
Можно измерить явления памяти, можно измерить внимание, ощущения и т. п.
Правда, эти измерения не обладают той точностью, которая присуща
измерениям в области физических знаний, но тем не менее они имеют весьма
важное научное значение. Применение числа к психическим явлениям имело
огромное значение для развития психологии. Благодаря тому, что были
найдены способы измерения чувствительности, памяти, внимания и т. п.,
оказалось возможным возникновение такой важной отрасли психологии,
как индивидуальная психология2. Но не следует думать, что эксперимент
применим только там, где могут быть определяемы количественные
отношения. Экспериментальное исследование возможно и там, где
определяются исключительно качественные отношения, и это сделается вполне
понятным, если мы примем в соображение сущность эксперимента, которая
нами была выяснена выше.
Вследствие того, что психические явления измеримы, в исследовании
психических явлений оказывается возможным применение
статистических методов, которые оказались такими плодотворными в изучении
социальных явлений и в биологии, в применении к психологии они оказались
столь же плодотворными, Следует обратить внимание на понятие
коллективного предмета (Kollectivgegenstand), которое вообще употребляется в
статистике, но которое в особенности применимо к предметам
психологического исследования. В психологии, как и в естествознании, мы можем
Об этом см. мою статью: «Об измеримости психических явлений» в философском
сборнике, посвященном Л.М. Лопатину.
Об этом см. мой сборник Психология и школа. М., 1912. С. 104.
329
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
мыслить или просто единичный предмет, или класс таких предметов. Этот класс
может образоваться вследствие того, что предметы объединены каким-либо
сходством, когда они образуют, например, род или вид. Они могут
объединяться и иначе, если они, например, могут получать какое-либо численное
выражение. Тогда это будут предметы, которые группируются около каких-либо
средних величин. Возьмем в пример из области психологических
исследований так называемую простую реакцию. Одна реакция есть индивидуальный
предмет. Этой реакции соответствует какая-либо величина времени у данного
индивидуума. Несколько реакций могут представлять коллективный предмет,
если их времена группируются около какой-либо средней величины, которые
могут быть изображены при помощи диаграммы, если принять во внимание
частоту повторения указанных времен реакции. Эта диаграмма уже является
выражением коллективного предмета, и это будет реакция, свойственная
данному индивидууму. Реакция, понимаемая как коллективный предмет,
становится как бы единичным предметом. Ее можно трактовать как единичный
предмет, хотя на самом деле она обозначается множеством цифр. Конечно,
распределение может быт различным. Может быть симметрическая кривая,
может быть асимметрическая, может быть волнообразная кривая. Но все эти
диаграммы свидетельствуют об одном — именно, что те или другие
психические явления могут быть объединены в одно целое и могут быть
обрабатываемы с точки зрения статистики и теории вероятности.
Вся так называемая психофизика, т. е. определение порога раздражения
и определение взаимного отношения между раздражением и ощущением,
основывается на понятии коллективного психологического предмета1.
Мы видели, каково отношение эксперимента к простому наблюдению:
простое наблюдение есть такое исследование психических явлений, при
котором мы имеем дело с явлениями, представляющимися нам случайно: если же
мы наблюдаем явления не случайные, а вызываем их сами и, кроме того,
изменяем условия, при которых явления совершаются, то мы изучаем явления
способом экспериментальным.
Нам необходимо познакомиться с классификацией методов
экспериментального исследования потому, что при детальном рассмотрении их можно
лучше понять сущность экспериментального метода.
Вундт делит экспериментальные методы исследования на три класса:
1) метод раздражений, 2) метод выражений и 3) метод реакций2.
1. Метод раздражений сводится к следующему. Мы предлагаем
испытуемому субъекту то или другое физическое раздражение, чтобы при его
помощи вызвать то или другое психическое состояние. Например, мы предлагаем
Об этом см.: Wirth. Psychophysik. 1912. С. 28-30; Wundt. Physiologische Psychologie,
В. I. С. 563-574, а также: Anschutz. Spekulative, exacte und angewandte Psychologie. 1912.
Об этих методах см.: Wundt. Grundzüge der physiol. Psychologie. 1908. B. I. С 23-42.
330
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
субъекту какое-нибудь звуковое раздражение и вызываем в нем ощущение
звука. Это раздражение мы можем изменять и соответственно с изменением
раздражения мы можем вызывать изменение в психическом состоянии
испытуемого субъекта.
Характерная особенность рассматриваемого метода заключается в том,
что, изменяя раздражение, мы изменяем соответствующее ему психическое
состояние, и таким образом определяем причины психических явлений.
Второй метод называется методом выражений и заключается в
следующем. Всякий психический процесс получает определенное
физиологическое выражение во внутренних или внешних органах. Переживая
известное чувство, мы замечаем, например, что у нас изменяется дыхание,
изменяется деятельность сердца и т. д. Если бы мы умели изучать эти
выражения психических состояний, то мы могли бы сделать предположение
относительно природы самих психических состояний. Задача заключается
в том, чтобы по физиологическим выражениям построить теорию
психических процессов.
Но как можно изучать выражение тех или иных психических
состояний? Метод исследования заимствован из физиологии, которая указывает
способы регистрирования изменений в процессах дыхания,
кровообращения, деятельности сердца, пульса и т. п. Эти изменения пульса, дыхания
и т. п. мы можем регистрировать и тогда, когда мы переживаем
какое-нибудь определенное чувство, например чувство страдания, удовольствия
и т. д. Мы вызываем у испытуемого субъекта чувство удовольствия,
заставляя его, например, вдыхать ароматические вещества. Удовольствие
вызывает расширение сосудов, усиливает деятельность сердца и т. п. Эти
изменения могут быть зарегистрированы при помощи указанных приемов.
При помощи метода выражений мы имеем, таким образом, возможность
изучать изменения психического состояния в их выражениях. Изучая
выражения, мы можем изучить и само психическое состояние.
Третий метод есть метод реакции, представляющий соединение
метода раздражений с методом выражений. Я предупреждаю то лицо, над
которым произвожу эксперимент, что он воспримет какое-либо раздражение,
например, услышит какой-либо звук, и что он должен, как только услышит
звук, произвести реакцию, т. е. привести в движение, например, палец,
нажать пальцем на пуговку телеграфного ключа. Мы имеем возможность
измерить промежуток времени, лежащий между началом действия
раздражения и реакцией. Этот промежуток времени дает возможность
судить о природе психического процесса, лежащего между восприятием
раздражения и реакцией на него. Продолжительность времени реакции служит
характеристикой самого процесса реакции.
Применение метода выражения для исследования психических
процессов дало начало той отрасли психологии, которая носит название
объек331
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
тивной психологии1. В последнее время это понятие (объективной
психологии) пользуется таким широким распространением, что начинают говорить о
необходимости ограничить интроспекцию на том основании, во-первых, что
очень многое из того, что входит в область психологии, не входит в область
интроспекции; во-вторых, на том основании, что признаком психического
явления может быть не только то, что входит в область сознания, но и,
например, целый ряд подсознательных явлений, которые не входят в сознание, но
относительно которых не может быть сомнения в том, что они суть явления
психические. Наконец, например, физическое утомление точно также
является признаком психического явления. Это объективное выражение
является материалом для так называемой объективной психологии.
В связи с объективной психологией в последнее время выделяется еще
одна отрасль психологии, которая называется психодинамикой — или
динамической психологией2. Динамическая психология занимается изучением
превращения физической энергии, которая находится в связи с тем или другим
видом психической деятельности. Леман определяет психодинамику как
точное изучение количественного влияния одновременных или
последовательных умственных состояний одного на другого. По его мнению, в измерении
энергии мы имеем единственное средство узнать о взаимоотношении высших
психических процессов, т. е., по его мнению, для того чтобы определить
количественное отношение между высшими умственными процессами, нужно
измерить энергию, которая истрачивается при переживании тех или иных
высших умственных процессов. Для измерения динамических эквивалентов
психических процессов имеются следующие основания. Параллельно с
психическими процессами совершаются определенные химические процессы.
И так как химическим процессам соответствует определенный эквивалент
энергии, то вполне, ясно, что этот эквивалент энергии может быть измерен, и таким
способом можно получить известное представление о тех процессах, которые
происходят в сознании. Но параллелизм можно провести еще дальше, если
сказать, что химическим процессам соответствуют те или другие изменения в
кровеносной деятельности. В самом деле, калориметрические эксперименты
показали, что изменения скорости пульса находятся в тесной связи с
изменениями в химических процессах, а отсюда ясный вывод, что изучение
изменений кровеносной деятельности дает возможность проследить и связь между
психическими деятельностями. В этом давно можно было убедиться из
анализа продуктов сгорания и при помощи калориметрических экспериментов3.
1 В русской литературе наиболее полное выряжение этот взгляд получил в сочинении
акад. В.М. Бехтерева: Объективная психология. СПб., 1907-1912.
2 Об этом см.: Lehmann. Lehrbuch der psychologischen Methodik. 1904. Его же: Grundzüge
der Psychophysiologic. 1912. С. 402 и ел. Его же: Elemente der Psychodynamik. 1908.
3 Об этом см., напр.: Dodge. Mental Work. A Study in Psychodynamics. TTie Psychological
Review. Vol. XX. № 1. January.
332
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТЮЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Но как можно было бы при помощи измерения энергии определить меру того
или другого психофизиологического процесса? Это, по мнению Лемана, возможно
потому, что психофизиологические процессы, как бы они ни были сложны,
подчиняются законам энергии. «Психофизиологические процессы, — говорит
Леман, — могут осуществляться только на счет других форм энергии — в данном
случае на счет химической энергии мозга. Отсюда следует, что два одновременных
процесса, которые возникают благодаря превращению данного количества
энергии, должны взаимно друг друга угнетать1. Один психический процесс в этом
случае может быть назван угнетающим, а другой — угнетаемым. Обозначим первый
при помощи символа А, а второй — при помощи символа В. Процесс В угнетается
процессом А. Степень угнетения В является мерой процесса А.
Для пояснения того, как можно измерить психический процесс при
помощи измерения угнетения, возьмем пример. Пусть испытуемый складывает
ряд однозначных чисел до ста. Это пусть будет процесс угнетаемый. В
качестве угнетающей работы мы воспользуемся ударами метронома, именно, мы
предъявим требование, чтобы испытуемый при каждом ударе метронома
ставил точку в ряду слагаемых. Само собою разумеется, что испытуемый,
поставленный в необходимость совершать добавочную работу (слушать удары
метронома и проставлять точки), будет отвлекаться от своей основной работы —
сложения — и выполнять эту последнюю менее совершенно. Если мы будем
определять то количество сложений, которое испытуемый будет совершать
при наличности угнетающей работы, то мы измерим силу угнетения. Из этого
видно, что количественное измерение в этой области может служить мерой
психической деятельности2.
Такова идея той отрасли экспериментальной психологии, которая носит
название психодинамики.
Объективная психология, по-видимому, открывает совсем новые
перспективы для исследования психических явлений. Один из сторонников объективной
психологии, именно, г. Костылев в своей книге «Кризис экспериментальной
психологии»3 находит, что современная экспериментальная психология пошла по
неправильному пути, она стала заниматься исследованием не того, что следует.
Нужно было исследовать не психические процессы, а соответствующие им
физиологические. «Нужно было исследовать нервный ток, который, проникая в корку
головного мозга, порождает ощущение, нужно было открыть те внутримозговые
процессы, которые соответствуют колебаниям ощущения. Вместо того чтобы
изучать эти последние процессы, психофизика занялась измерением ощущения и
таким образом пошла по совершенно ложному пути »4.
1 Lehrbuch der psychologischen Methodik. § 27.
2 Там же.
3 La crise de la psychologie experimentale. 1911.
4 Ук. соч. С. 19.
333
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Психология давно уже не говорила таким языком. Но для нас весьма важно
отметить те окончательные выводы, к которым приходит объективная
психология, потому что они делают для нас ясным и самую правомерность понятия
объективной психологии. «Истинная задача экспериментальной
психологии, — говорит г. Костылев,— состоит в познании самой природы
психических явлений, их локализации и связи, соединяющей их с организмом1.
Локализация психических явлений и связь, соединяющая их с
организмом, — это понятия физиологические, а не психологические. Но г.
Костылев идет дальше. Он просто отождествляет психическую деятельность с
рефлективной и находит, что «отождествление психизма с рефлективной
деятельностью оправдывается в психологии». «В работе, которая
поставляет целью превращение психологии в науку чисто объективную, Бехтерев
признает, что всякий психический акт может быть представлен как
рефлективный акт, который, достигая корки мозга, оживляет там, благодаря
ассоциативным связям, следы предшествующих возбуждений, которые,
в конце концов, определяют нервный разряд»2.
Однако, хотя г. Костылев так определенно высказался в пользу
отождествления «психизма с рефлективным актом мозга», он очень далек от
отрицания роли интроспекции в психологии. «Экспериментальная
психология будущего не будет исключительно объективной, как этого,
по-видимому, желает Бехтерев. Я не вижу основания держаться объективного
изучения функционирования рефлексов. Я считаю чрезвычайно важным
изучение на ряду с этим при помощи интроспекции процесса их
группирования, который приведет нас от зачаточной умственной деятельности
ребенка к бесконечно сложному сознанию взрослого»3.
Это признание совершенно ясно свидетельствует о
несостоятельности самого понятия объективной психологии.
Нужно считать совершенно правильным утверждение, что изучение
объективных выражений психических процессов способствует познанию
психических явлений, но обозначение такого рода исследований
объективной психологией способно ввести в заблуждение. То, что в настоящее
время называют объективными признаками психических явлений, и то, что,
по-видимому, дает право на существование особой объективной
психологии, было признано и в прежней экспериментальной психологии.
Вполне можно согласиться с утверждением Доджа, что признаком того
или иного психического состояния является не только то, что может быть
в нашем сознании, но равным образом и объективно запечатлеваемые
признаки. Но ведь эти объективно запечатлеваемые признаки имеются во
вся1 Ук. соч.
2 Ук. соч. С. 128.
3 Ук. соч. С. 153.
334
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ком экспериментальном исследовании. Например, я произвожу движение
реакции. В самонаблюдении я нахожу только представление волевого
импульса и произведенного движения. Но этим далеко не исчерпывается то,
что мы называем простой реакцией. Она имеет еще признаки, которые
открываются при помощи объективного измерения времени. При помощи
этого последнего мы получаем длительность реакции, время, которое в
нашем сознании не имеется налицо. Время реакции в данном случае есть
объективный признак психического процесса. Таким образом,
совершенно правильно утверждение, что те или другие процессы могут иметь
признаки, которые нами субъективно не переживаемы, но могут быть
объективно зарегистрированы, и это последнее может быть названо признаком
того или иного психологического процесса, но все же следует помнить и в
этом случае, что хотя мы и изучаем объективные признаки, но это суть
признаки психического процесса. В этом смысле всякое применение
эксперимента есть не что иное, как оперирование с объективными
признаками. Как мы видели, при помощи метода раздражений мы изучаем
изменение раздражений и по изменению этих последних мы судим об изменениях
психического процесса. Таким образом ясно, что объективное изучение и
субъективное идут всегда рука об руку.
В недавнее время эксперимент получил неожиданное применение в
исследовании высших умственных процессов (суждения,
умозаключения, мышления понятий, вообще процесса мышления), говорю
«неожиданное», потому что раньше неоднократно высказывалось убеждение, что
эксперимент может применяться только к элементарным психическим
процессам. Экспериментальные приемы исследования высших умственных
процессов вызвали возражение со стороны такого выдающегося
психолога, как Вундт. Поэтому чрезвычайно важно определить, какое место в
психологии занимают эти исследования, являются ли они как эксперименты
заслуживающими внимания.
Но в чем заключаются исследования высших умственных процессов.
Поясню при помощи примера. Я желаю, например, изучить природу процесса,
называемого суждением. Если бы я захотел исследовать этот процесс по
прежнему способу, то я поступил бы так. Я представил бы какой-нибудь
процесс суждения, как я его переживаю в своем сознании, затем другой, третий
процессы, и на основании этого сделал бы вывод относительно природы
суждения вообще. В настоящее время психологи находят, что для разрешения
этого вопроса следует в лаборатории производить систематический опрос над
другими лицами. Испытуемому субъекту предлагают вопрос, на который он
дает ответ в форме суждения, высказанного или невысказанного, в форме «да »
или «нет». Другими словами, субъект должен пережить то психическое
состояние, которое называется сознанием суждения. После того, как он
составил суждение, ему предлагают описать, что было в его сознании,
ког335
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
да он составлял суждение или переживал то психическое состояние,
которое называется созиданием суждения. Если я произведу такого рода
эксперимент над одним, другим, третьим, четвертым и т. д. субъектами, у меня
накопится материал, на основании которого я могу сделать выводы
относительно природы суждения. Такого рода опыты впервые начали
производиться в Вюрцбургской лаборатории профессора Кюльпе.
Независимо от Кюльпе, такого же рода экспериментальные
исследования процесса мышления производил французский психолог Бинэ; он для этой
цели воспользовался очень простым способом. Он задавал своим
маленьким дочерям вопросы, на которые они должны были давать ответы, и просил
сообщать, что у них есть в сознании, когда они думают о том или ином
предмете. Для того чтобы получить представление о том, как он вел эти
исследования, я приведу выдержку из его протоколов1. Он дает одной дочери своей
(Арманд) такую задачу: «Я говорю ей название Ф. Это — имя лица, очень
хорошо знакомого, которое прослужило у нас в доме в течение шести или
семи лет и которое мы видим от времени до времени раз пять или шесть в год.
Арманд после некоторых попыток представить себе Ф. оставляет попытку и
говорит: это суть только мысли, я другого ничего себе не представляю.
Я мыслю, что Ф. была здесь (когда она жила у нас в доме), и что она теперь в
В., но я не имею никакого образа. Я думала, что я имею образ, но я такого
образа не нашла ». Бине произносит слово «tempete »(буря). Его девочка
должна сказать, что она себе представляет, когда мыслит понятие,
обозначаемое этим словом. Девочка по выполнении этой задачи говорит: «Я ничего
себе не представляю. Так как это не есть предмет, то я себе ничего не
представляю. На этот раз я сделала усилие, но я образа все-таки не имела».
По поводу слова «favorit» (любимец) испытуемая сообщает: «Это мне
ничего не говорит. Я совсем ничего не представляю. Я говорю себе, что это
обозначает то одну, то другую вещь. Но в то время, как я ищу, никакой образ не
появляется». Из этих исследований оказалось, что есть мысли без образов.
Сам по себе этот вывод представляет огромную важность.
Метод Вюрцбургской лаборатории напоминает метод Бине с той только
разницей, что исследования производились над людьми психологически
образованными, приват-доцентами, профессорами, а потому задачи были
сложнее, но выводы получились те же самые.
Для того чтобы показать, как производились эти исследования, я возьму
выдержку из их протоколов. Руководитель опытов произносит какое-либо
предложение; испытуемый должен, выслушав это предложение, сказать,
понимает он его или нет. Если понимает, то должен описать то, что он пережил.
Вот, например, предложение, которое руководитель читает испытуемому.
«Понимаете ли вы следующее предложение: нужно быть столько же
состраBinet. L'etude experimentale de l'intelligence. 1903. С. 84.
336
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
дательным, сколько и жестоким, чтобы быть тем или другим». Через 27
секунд получается ответ — «да ». Затем испытуемый субъект описывает
переживаемое: «Сначала я почувствовал себя беспомощным перед этой фразой,
наступило искание, которое носило характер повторного восприятия обеих
частей приблизительно так, как если бы я спрашивал, как можно быть
жестоким, чтобы быть сострадательным, и наоборот. Внезапно меня осенила мысль,
что исключительное положение того или другого понятия исключает само себя,
одно с другим тесно связано, одно предполагает другое, то или другое может
существовать вследствие контраста. То, что здесь пришлось передать
многими словами, в мысли представляло один акт. Тогда все положение осветилось
и я понял его». Таким образом, испытуемый утверждает, что понял мысль в
одном акте, а между тем традиционная психология учит, что здесь должно
быть много процессов. Этот результат представляет, несомненно, огромную
важность еще в том отношении, что доказывает возможность состояний
сознания, имеющих неконкретный характер. Этот вывод опровергает,
по-видимому, то, что до сих пор являлось общепризнанным в психологии1.
Подобные эксперименты производились во многих лабораториях
Европы и Америки. Нам следует выяснить, можно ли эти эксперименты считать
научными, можно ли признать, что экспериментаторы стоят на правильном
пути. Первым возразил против них Вундт. Он осуждает этот метод, называет
его ненаучным. «Эти так называемые эксперименты, — говорит Вундт2, — даже
не суть эксперименты в том смысле, который выработан естествознанием и
воспринят психологией. Этому последнему понятию в качестве самого
существенного признака принадлежит целесообразное, сопровождаемое
возможно благоприятным состоянием внимания созидание и изменение явлений. Если
же кому-нибудь предлагают неожиданные вопросы один за другим и
заставляют его обдумывать какие-либо проблемы, то это не есть ни целесообразное
вмешательство, ни планомерное изменение условий, ни наблюдение при
возможно благоприятном состоянии внимания. Закономерное изменение
усло1 Вот главнейшая литература по вопросу об экспериментальном исследовании высших
умственных процессов: М а г b e. Experimentell-psychologische Untersuchungenü ber das
Urtheil. 1901. Watt. Experimentelle Beiträge zu einer Theorie des Denkens. Archiv für die
gesammte Psychologie. IV. B. 1905. А с h. Ü ber die Willensthatigkeit und Denken. 1905.
Messer. Experimentell-psychologische Untersuchungen ü ber das Denken. Arch. f. d. ges. Psych.
B. VIII. B. Bühler. Tbatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge. A. f. d. g.
Psych. B. IX.Binet. L'etude experimentale de intelligence. 1903. E. von Aster. Die
psychologische Beobachtung und experimentelle Untersuchung von Denkvorgängen. Zeitschrift fur
Psychologie. B. XLIX. Dürr. Über die experimentelle Untersuchung der Denkvorgänge.
B. XLIX. S t о г г i n g. Experimentelle Untersuchungen über einfache Schluß processe. Arch,
f. d.g. Psychologie. B. XI. Storring. Experimentelle und psychopathologische Untersuchungen
über das Bewußtsein der Gültigkeit. Arch. f. d. g. Ps. XIV. 1909.
2 Wundt. Logik. B. III. C174.
337
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
вий того или иного процесса совершенно отсутствует, и условия наблюдения
так неблагоприятны, как только возможно, потому что наблюдателю
внушается, что он должен воспринять воздействие впечатлений очень сложных,
притом в присутствии других, его наблюдающих лиц». Далее Вундт говорит:
«Лицо, над которым производится эксперимент, находится в
неблагоприятных условиях: оно должно в одну и ту же минуту переживать нечто и
наблюдать переживаемое. При таких условиях внимание не может работать с
достаточной интенсивностью: оно разделяется между переживаемым и тем, что надо
воспринять»1.
Это возражение неосновательно, потому что во всяком психическом
эксперименте мы имеем дело с тем же самым: мы сначала воспринимаем и
воспроизводим то, что воспринимали. Во всяком психологическом
эксперименте мы оперируем с образами воспринимаемыми. В этом отношении
эксперименты в области мышления ничем не отличаются от других
экспериментов.
Но самое веское возражение Вундта заключается в следующем. Эти
эксперименты отличаются от психофизических тем, что в последних мы
имеем дело с раздражением, которое мы можем изменять по нашему
плану произвольно, можем видоизменять условия, при которых протекает
психический процесс, а в этих экспериментах мы этого делать не можем.
Ошибочность метода состоит, таким образом, в том, что мы не можем
планомерно варьировать и повторять переживаемое, чтобы обеспечить
достоверность высказываемого. Когда я задаю испытуемому какой-либо вопрос, то
процесс в уме испытуемого находится вне моей власти. В психофизических
экспериментах я до известной степени властвую над экспериментом,
потому что, видоизменяя раздражение, я в то же время видоизменяю и самый
психический процесс. В этих же экспериментах процесс протекает
по-своему; я жду, когда процесс закончится и испытуемый субъект расскажет
мне о нем. Этим, конечно, эксперименты над высшими умственными
процессами решительно отличаются от обычных психофизических. Последний
аргумент Вундта имеет, действительно, значение. Согласимся с Вундтом,
что в экспериментах этого рода психический процесс не находится в нашей
власти, мы не можем производить в нем изменений. В них есть
существенное отличие от тех экспериментов, которые называются
психофизическими и главным образом в том отношении, что в них не допускается никакого
измерения, но ведь следует признать, что эксперимент мы имеем не только
в том случае, когда может быть производимо измерение, но и в том случае,
когда мы определяем качественные отношения. Здесь же эксперимент
слуСм. также: Grundzüge der physiologischen Psychologie. В. III. С. 551-554 и В. I. С. 10-
11, а также статью: Kritische Nachlese zur Ausfragemethode в Arch. f. d. gesammte
Psychologie. В. XII.
338
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
жит только для того, чтобы установить факты. Мы, конечно, должны
будем признать, что эксперименты этого рода менее совершенны, т. е.
приводят к менее определенным результатам, чем эксперименты
психофизические, но тем не менее они имеют очень важное значение именно потому, что
они служат для установления фактов мыслительной деятельности.
Посредством этих приемов исследования нельзя измерить явлений, но вполне
возможно установить факты.
Кроме того, в них все же есть признаки, сближающие их с
экспериментом в собственном смысле слова. Прежде всего мы можем по
произволу вызвать любой мыслительный процесс; по желанию мы можем
повторить его — правда, не совсем в том виде, в каком мы его переживали, но все
же можем повторить приблизительно в том же виде. Благодаря этим
обстоятельствам мы можем избежать тех недостатков, которые присущи
исследованию при помощи простого самонаблюдения. В силу этих
соображений мне кажется, что названные нами экспериментальные методы
исследования высших умственных процессов в будущем могут оказаться
чрезвычайно плодотворными. Но при этом следует сделать весьма важную
методологическую оговорку. Эксперименты этого рода могут сделаться
плодотворными только в том случае, если в них в качестве испытуемых
принимают участие лица психологически образованные. Это исследование
высших процессов мышления, воли и т. п. имеет то важное значение, что
возвращает психологию на почву чисто психологического исследования.
Есть еще один вид экспериментов, которые можно назвать
коллективными экспериментами. Коллективные эксперименты производятся
одновременно над большим числом лиц и по преимуществу в школах. Но
коллективные эксперименты только в том случае могут иметь бесспорное
научное значение и приобрести достаточную точность, когда результаты
переживаний получают определенное выражение и когда именно интерес
исследователей сосредоточивается на этих продуктах переживания, а не
на особенностях самого переживания, потому что в массовых
экспериментах утрачиваются индивидуальные различия психических переживаний,
которые в большинстве случаев представляют больший интерес. Например,
при исследовании памяти при помощи коллективных экспериментов
можно определить количество выучиваемого, но не может быть определена
особенность этого психического переживания1.
Мы имеем теперь достаточно данных для ответа на вопрос: каково
значение экспериментальной психологии и каково ее место в общей системе
психологии? Между экспериментальным методом и так называемым
методом самонаблюдения противоречия нет; один метод не исключается
другим. Главное значение эксперимента состоит именно в том, чтобы сделать
См. мой сборник «Психология и школа ».С. 121.
339
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
самонаблюдение более точным. Если иногда говорят, что
экспериментальная психология имеет ограниченное значение потому, что она может
изучать лишь простейшие психические явления, то на это следует заметить,
что, конечно, в настоящее время мы можем изучать экспериментально лишь
простейшие психические явления, но ведь принципиально не исключается
возможность того, что впоследствии и сложные психические явления
удастся подвергнуть экспериментальным исследованиям. Впрочем, следует
отметить, что есть психические процессы, которые по самой своей природе
исключают возможность экспериментального исследования. Таковы,
например, чувства моральное и религиозное. Они не подлежат
экспериментальному исследованию потому, что их нельзя вызывать, как это
обыкновенно делается в эксперименте. Они сохраняют свой специфический
характер и свою чистоту только в том случае, если возникают в реальном
переживании, без искусственного их вызывания. Таковы пределы
применения эксперимента.
Следует заметить, что какой-либо отдельной «экспериментальной»
психологии нет. Нельзя говорить, что существуют две психологии —
экспериментальная и основывающаяся на самонаблюдении.
Экспериментальной психологии в собственном смысле не существует, есть только
экспериментальный метод исследования психических явлений. Еще очень
недавно делались попытки выделить экспериментальную психологию в
самостоятельную отрасль. Если такой процесс выделения и существует, то
следует отметить, с другой стороны, что и экспериментальная психология
все больше и больше входит в общую психологию.
ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ МЕТОДЕ В ПСИХОЛОГИИ1
СТАТЬЯ 1-Я
В настоящее время широко распространено убеждение, что существует
резкое различие между психологией просто и психологией
экспериментальной, между психологией на основании внутреннего опыта и психологией на
основании объективных приемов исследования. Если психологи-теоретики
часто относятся весьма отрицательно к психологам-эксперименталистам, то
и эти последние относятся не менее отрицательно к психологам-теоретикам,
этим психологам «письменного стола ». Среди видных современных
представителей экспериментальной психологии мы замечаем стремление вовсе не
считать психологией всякую неэкспериментальную психологию. Так, например,
Н. Ах утверждает, что «психология и экспериментальная психология это одно
Психологическое обозрение. II. 1917. С. 3-17.
340
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
и то же»1. Марбе утверждает, что научная психология — это психология,
пользующаяся экспериментом и статистическим материалом2.
Следовательно, в глазах эксперименталистов всякая неэкспериментальная психология в
настоящее время никакой научной цены не имеет. Но удивительная вещь, хотя
подобные мысли, как известно, высказываются уже очень давно3, однако
наряду со всевозможными объективными и методами исследования все еще
продолжает существовать психология, которую можно назвать общей, или
теоретической, и положения которой добыты не экспериментально-объективным путем,
а путем самонаблюдения. Еще до сих пор психологические замечания, которые мы
встречаему Платона, у Блаженного Августина, Спинозы, Юма, сохраняют свою
убедительность и привлекательность. Очевидно, не одна экспериментальная
психология есть психология.
Невзирая на самое широкое применение объективных и
экспериментально-психологических методов исследования, способы чисто
теоретического исследования психических явлений все еще продолжают сохранять
свое значение. Мало того — они даже часто являются исходным пунктом
экспериментально-психологических исследований, потому что дают те
определения, понятия и термины, которые кладутся в основу
экспериментально-психологических исследований. Если наряду с этими последними
положения теоретической психологии продолжают сохранять свое
значение, то не является ли это обстоятельство доказательством того, что тот
прием исследования, при помощи которого они добыты, является вполне
закономерным.
На этот вопрос, по моему мнению, следует дать утвердительный
ответ. Правда, в прежней психологии, не пользовавшейся какими-либо
объективными приемами исследования, есть положения, значение которых
ослабляется по мере того, как производятся наблюдения более точно
обставленные. Но, повторяю, в прежней психологии есть очень много
положений, которые навсегда сохранят свое значение, даже в том случае,
когда объективно-экспериментальные методы исследования достигнут
самого пышного расцвета.
Цель моей статьи заключается в том, чтобы показать, с одной
стороны, каким методом получаются такие достоверные положения, с другой
стороны, дать теорию этого метода и показать его закономерность.
Метод, при помощи которого получаются такие достоверные
положения, всего целесообразнее можно было бы назвать методом аналитическим,
по причинам, которые тотчас же сделаются ясными. Аналитический метод есть
N. Ach.Über die Willensthätigkeit und das Denken. 1905. стр. 21.
Marbe. Fortschritte der Psychologie. B. 1.Tb. I. Предисловие.
Знаменитый немецкий физиолог И. Мюллер еще в 40-х годах прошлого столетия
высказал: «nemo psychologus nisi physiologus »(никто не психолог, кроме физиолога (лат.)).
341
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
существенный признак всякого интроспективно-психологического
исследования. Всякий процесс различения, отождествления и т. п. психических
переживаний осуществляется только лишь благодаря аналитическому методу.
Вследствие этого аналитический метод применялся в психологии с того
времени, как она начала существовать. Несмотря, однако, на давность его
применения, он нуждается в объяснении, именно, необходимо объяснить, в чем он
заключается, и какие есть основания для применения его в психологии.
Идею аналитического метода впервые ясно выразил Юм, а в гносеологии,
этике и эстетике под именем априорного метода применил Кант. В новейшей
психологии на него обратил внимание Дильтей, который в 1894 г. в своей статье «Об
описательной и расчленяющей психологии» защищает необходимость
применения аналитического метода, приведя его в связь с описательной психологией1.
В 1897 г. Стаут в своей книге Analytic Psychology тоже развивает идею
аналитической психологии. По его мнению, аналитическая психология
поставляет целью описывать психические явления, анализировать их и приводить их
в систему.
Начиная с 1890 г. Мейнонг развивает идею аналитического познания,
которое он называет априорным познанием. Всю совокупность неэмпирических
или априорных познаний Мейнонг обозначает термином Gegenstandstheorie2.
Одновременно с ним и независимо от него Гуссерль сначала в
«Логических исследованиях» в 1901 г., а затем в своей статье «О философии, как
точной науке»3 в понятии «чистой феноменологии» развивал как раз идею
аналитической психологии. В 1912 г. Шмид Коваржик4 подверг
подробному рассмотрению понятие аналитической психологии, которая, по его
пониманию, совершенно отличается от эмпирической психологии. Наконец,
в 1913 г. у Гуссерля в его сочинении «Идея чистой феноменологии и
феноменологической философии»5 понятие аналитического метода получило
свое полное завершение. При этом следует заметить, что у Гуссерля с
аналитическим методом совпадает феноменологический метод;
феноменология же не совпадает с аналитической психологией, а преследует гораздо
более широкие задачи6.
В чем заключается сущность аналитического метода в психологии? Его
нельзя считать вполне тождественным с тем анализом, который всегда
приDilthey. Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie. Sitzungsberichte
d. Berlin. Akademie. 1894.
См. его Ü ber die Erfahrungsgrundlagen unseres Wissens. 1905 и ряд статей в Abhandlungen
zur Erkenntnisstheorie und Gegenstandstheorie. 1913.
Philosophie als strenge Wissenschaft. Logos B. I. H. 3.1911.
Schmied Kowarzik. Umriß einer neuen analytischea Psychologie. Lpz. 1912.
Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung. Erster Band,Theil 1.1913.
Об этом см. ниже.
342
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
менялся в психологии и который состоит в разложении сложных
психологических образований на их составные элементы. В том методе,
который я называю аналитическим, тоже дело идет по преимуществу о
разложении сложных образований на составные части, но это не является
существенной стороной этого метода. Существенная сторона его
заключается в установлении отношений между отдельными психическими
переживаниями, которые часто являются продуктом именно разложения
сложных психических переживаний. Сущность этого метода станет понятной,
если принять в соображение, что следует называть априорным познанием.
Я остановлюсь вкратце именно на рассмотрении природы этих
элементов познания. Свой взгляд на роль аналитического метода
исследования в психологии я приведу в связь с моими прежними исследованиями
относительно природы идеального знания1.
Пытаясь объяснить абсолютный характер основных математических
понятий (пространства, времени, числа) и логических норм (тождества,
противоречия и т. п.), я стал на психологическую точку зрения и
пытался объяснить их абсолютный характер психологическим путем
происхождения их из рефлексии, причем считал решительно невозможным
объяснение происхождения этих понятий из обобщения путем
индукции, как это принято, например, в эмпиристической школе гносеологии.
Для примера приведу, каким образом я объяснял идеальный характер
нормативных законов мышления. Между тем, как обыкновенно
принято считать их законами, имеющими такое же происхождение, какое
имеют, например, законы природы, т. е. что они получаются путем
индуктивного обобщения из наблюдения процессов мышления, с моей
точки зрения: «идеальный характер законов мышления получается не
вследствие того, что мы наблюдаем какой-нибудь ряд сочетаний мыслей,
а вследствие того, что мы наблюдали самый механизм сочетания
мыслей, совершенно абстрагируясь от каких бы то ни было мыслей. Эти
законы не похожи на законы, которые получаются путем индукции при
помощи сравнения однородных случаев, и достоверность которых до
известной степени возрастает вместе с количеством наблюдаемых
случаев. Наблюдая процессы мышления, мы на основании одного случая
можем констатировать закон, имеющий всеобщее значение2. Такой
способ обобщения не имеет ничего общего с обыкновенно понимаемым
индуктивным обобщением.
Такое же обобщение, которое было признано мною по отношению к
нормативным законам, применяется и при установлении математических
1 Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и
врожденности. Ч. 1 и 2.1896-1904.
2 Ук. соч. 4.2. С. 225.
343
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
положений. Это последнее обстоятельство можно иллюстрировать при
помощи положений, например геометрии. «В геометрии то, что доказано
для одного случая, считается доказанным для всех случаев. То, что
доказано относительно индивидуального треугольника, можно считать
доказанным относительно всякого треугольника. Это объясняется тем, что в
геометрии в каждом индивидуальном случае, который мы подвергаем
исследованию, содержится то, что принадлежит целому классу. Если мы
оперируем с данным индивидуальным треугольником, то мы в
действительности оперируем с треугольником вообще, потому что в нем мы берем те
свойства, которые присущи всякому треугольнику или треугольнику
вообще. Возможность доказать на одном треугольнике положение,
справедливое по отношению ко всем треугольникам, объясняется тем, что мы,
оперируя с одним треугольником, на самом деле оперируем с законами
образования этой фигуры, или, другими словами, с формами нашего ума.
Поэтому следует признать, что между положениями математическими и
физическими есть то несомненное различие, что относительно первых
никак нельзя сказать, что они получаются путем такой же индукции, какой
получаются вторые1.
Таким образом, оказывается, что есть два метода исследования. С
одной стороны, метод индуктивного обобщения и, с другой стороны,
отличный от него метод, который я, примыкая к Ю.Б. Мейеру, назвал методом
аналитическим, приводящим к познанию априорных идей.
Различие между индукцией и анализом может быть выражено
следующим образом: «Если мы получаем какое-либо понятие из внутреннего опыта,
то это вовсе не значит, что мы его получаем путем индукции. Есть огромное
различие между тем анализом, который нам дает возможность познавать
априорные идеи, и индукцией в обыкновенном смысле этого слова. Если мы
возьмем понятие внутреннего наблюдения в обыкновенном психологическом
смысле слова, то оно значит, что я должен собрать многочисленные случаи и
из сопоставления их сделать общий вывод. Например, для исследования
законов ассоциации идей я должен произвести многочисленные наблюдения и из
моего внутреннего опыта, из опыта других, из опыта животных — и все-таки
обобщение, которое будет мною произведено, не может иметь всеобщего
характера. Совсем иначе обстоит дело в том случае, когда мы делаем открытие,
что, например, пространственная интуиция есть первоначальная прибавка
нашего сознания к опыту. Для этой цели мы не имеем никакой надобности в
какой-либо сумме наблюдений из внутренних восприятий, достаточно просто
самонаблюдения (Selbstbesinnung) для того, чтобы представить себе, что мы не
можем отмыслить прочее пространство. Самонаблюдение, которое приводит
нас к априорному познанию, должно быть отличаемо от наблюдения
духов1 Ib. 388.
344
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ных явлений, которое даст нам возможность вывести общие законы нашей
духовной жизни1.
Таким образом, мы имеем возможность непосредственно
устанавливать между нашими переживаниями отношения, имеющие аподиктически
достоверный характер. Этот вид познания я хотел бы назвать априорным
или аналитическим, а в последнее время, чаще всего, по примеру Гуссерля,
он называется феноменологическим. Существенная особенность этого вида
познаний, рассматриваемого в самом широком его приложении,
заключается в том, что в нем путем непосредственного усмотрения во внутреннем
опыте раскрываются отношения между переживаниями, причем вопрос о
реальности этих переживаний оставляется совершенно без рассмотрения.
В этом смысле можно всецело примкнуть к тому определению
аналитических познаний, которое было дано еще Юмом. Как известно, по Юму,
познания бывают двух родов. Во-первых, познание, являющееся результатом
определения отношения между идеями. Такое познание зависит
исключительно от самих идей. В них мы производим сравнение просто между
идеями. Так, мы определяем сходство, противоположность, степень какого-либо
качества, количество или число единственно лишь из сравнения идей. Эти
соотношения мы можем познать только лишь из тех идей, которые мы
имеем о предметах, вовсе не имея надобности выходить за пределы того, что
дано в них. Этот род познания обладает безусловной достоверностью. В
познании отношений между идеями мы совершенно оставляем без
рассмотрения реальность этих идей и рассматриваем только их внутренние
отношения2. Второй вид познания Юм называет фактическим познанием.
Если мы это рассуждение Юма перенесем на познание психических
переживаний вообще, то мы должны будем сказать, что мы можем
устанавливать известные отношения между теми или иными переживаниями.
Познание отношений между переживаниями может быть названо
анализом, потому что отношения между переживаниями устанавливаются
путем разложения сложных психических переживаний, путем выделения
психических переживаний из целого душевной жизни. Таким образом,
термин «аналитический» в нашем употреблении не только имеет целью
указать на то, что мы разлагаем сложные душевные переживания на составные
части, но и на то, что мы устанавливаем между ними отношения, причем мы
пока оставляем без рассмотрения, какие это могут быть отношения.
Другое существенное различие между познанием аналитическим и
познанием индуктивным заключается в том, что в первом случае мы
заключаем от наблюдения единичного случая к общему, а во втором мы
наши заключения ведем по большей части от наблюдения ряда случаев.
Ib. С. 164. Примечание.
Hume. Treatise on human nature. Изд.8-е. Selby Bigge. C. 69. Enquiries. С 25.
345
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Индукция предполагает повторение наблюдений; вывод в ней может быть
сделан из большего или меньшего числа наблюдений; во всяком случае,
достоверность заключения в индукции возрастает вместе с числом
наблюдений1.
Итак, между аналитическим и индуктивным методами исследования
есть огромное различие, но следует заметить, что эти методы не
исключают друг друга, что каждый из них имеет самостоятельное применение в
зависимости от характера исследуемой области. Есть области
исследования, в которых может быть применен только аналитический метод; есть
области, в которых применяется только индуктивный. Вообще же следует
заметить, что оба эти вида исследования настолько отличаются друг от
друга, что один метод ни в коем случае не может быть заменен другим, и это,
разумеется, справедливо и относительно психологии.
Есть в психологии проблемы, которые могут быть разрабатываемы
исключительно индуктивным методом. Индукция применяется во всех
тех случаях, когда нужно определить причинную связь между
явлениями, а также в тех случаях, когда изучаемые нами психические явления
порождаются причинами внешнего характера, и именно, когда мы
поставляем целью изучение этих явлений в зависимости от этих внешних
причин. В этом случае необходимо произвести сопоставление, сравнение
такого количества материала, который непременно предполагает процесс
индуктивного обобщения. Индукция необходима также для того, чтобы
изучать типичные психические признаки. Для примера можно привести
изучение психических особенностей, присущих детскому возрасту.
ВоОтграничение умозаключения от единичного к общему как признака аналитического
познания, в отличие от многократного наблюдения как признака индуктивного познания,
может вызвать возражение, потому что не всегда индуктивное познание предполагает
многократное повторение изучаемого явления, а бывают познания, в индуктивном
характере которых хотя мы и не сомневаемся, однако в которых умозаключение производится
равным образом от единичного случая. При некоторых обстоятельствах для получения
определенного вывода вполне достаточно немногих, или даже одного эксперимента. Это
бывает в том случае, когда от необозримого количества обстоятельств, связанных с
изучаемым явлением, мы можем выделить те обстоятельства, которые совершенно не имеют
никакого значения для изучаемого явления. В то же самое время мы отмечаем те
необходимые условия, без которых не оказалось бы возможным изучаемое явление. Произведя
такое элиминирование, мы будем иметь случай, когда достаточно будет сделать одно
наблюдение для того, чтобы из него сделать вывод, имеющий общее значение. Например,
когда мы утверждаем что-либо о свойствах всех газов после того, как мы произвели один
эксперимент над одним каким-либо газом. Само собою разумеется, когда мы делаем
такого рода заключение, то мы убеждены, что тот газ, над которым мы производим
эксперимент, содержит в себе свойства всех газов. Здесь мы имеем случай умозаключения, когда
применяется одинаково как индуктивный, так и аналитический метод.
346
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
обще можно сказать, что все то, что в психологии изучается путем
наблюдения, эксперимента есть предмет индукции, а так как большинство
психологических вопросов как раз именно таковы, что исследуются путем
наблюдения множества сходных случаев, и эксперимент равным образом имеет целью
произвольное созидание множества сходных случаев, то установилось
мнение, что в психологии единственный метод исследования — это
индуктивный.
Но есть вопросы, которые по самому существу своему не могут быть
разрешены методом индукции и которые для своего разрешения
нуждаются именно в применении аналитического метода. Предположим, нам
нужно решить вопрос, относятся ли «ощущение звука» и «волевое усилие» в
один и тот же класс, или же они, может быть, настолько различны, что не
могут быть относимы в один класс душевных переживаний. Этот вопрос не
может быть разрешаем путем наблюдения ряда сходных переживаний.
Здесь нет никаких оснований для обобщения. Поэтому здесь нет места для
применения индукции. ^ля того чтобы разрешить указанный вопрос, нам
нужно только просто произвести сравнение двух указанных переживаний.
Нам нет надобности искать случая много раз наблюдать сходство или
различие между ощущением звука и волевым усилием, но с одного раза, как
только мы сопоставим «ощущение звука» и «волевое усилие», мы тотчас
же устанавливаем между ними различие или сходство. Или, положим, нам
нужно разрешить вопрос, может ли цвет быть без протяженности. Для
разрешения этого вопроса нет надобности производить ряд наблюдений или
ряд экспериментов; достаточно одного случая сопоставления в сознании
протяженности и цвета для того, чтобы убедиться, что цвет не может быть
без протяженности. Тот процесс, который имеет место в данном случае и
который мы обозначаем термином «анализ», применяется вообще в том
случае, когда нужно установить, например, тождество, различие и т. п.
Такого рода отношение устанавливается благодаря процессу сравнения,
уподобления и т. п.
Процессы сравнения, уподобления и т. п. психических переживаний,
совершающиеся на непосредственно данных состояниях сознания, можно
назвать непосредственным усмотрением. Положениям, получающимся в
результате непосредственного усмотрения, присуща аподиктическая
достоверность, и этим они отличаются от результатов индуктивных
обобщений, которым присуща только относительная достоверность. В случаях
непосредственного усмотрения устанавливаются необходимые
соотношения между теми или другими свойствами, которые и получают свое
выражение в аподиктически достоверных положениях. Если, например, я
рассматриваю красный, белый и желтый цвета и нахожу, что желтый цвет имеет
больше сходства с белым, чем красный, то такое суждение является
результатом непосредственного усмотрения.
347
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Таково применение аналитического метода при исследовании.
Применение этого метода связано с трудностью, которая нуждается в
разъяснении.
На основании непосредственного усмотрения различия между
переживанием красного цвета и зеленого мы утверждаем, что вообще красный
цвет отличается от зеленого, и утверждаем это на основании однократного
сопоставления красного цвета с зеленым. Если действительно мы
производим сравнение между двумя индивидуальными переживаниями, то почему
наше утверждение приобретает общий характер и почему сравнение,
произведенное на двух индивидуальных случаях, имеет аподиктически
достоверный характер. Это вполне основательное сомнение разрешается тем,
что в данном случае, хотя и кажется, что сравнение производится над
индивидуальными переживаниями, на самом деле эти переживания имеют не
индивидуальный характер, а именно общий. Если на основании
непосредственного усмотрения мы утверждаем, что красное отличается от зеленого, то
утверждение это не является результатом сравнения этого индивидуального
красного с этим индивидуальным зеленым, а такого представления зеленого и
представления красного, которые выражают сущность красного и
зеленого. Когда мы желаем определить отношения между красным и зеленым, то
мы должны взять хотя бы индивидуальный красный цвет, но такой, чтобы
он являлся образцом для всех красных цветов, и такой индивидуальный
зеленый цвет, который являлся бы образцом для всех зеленых цветов,
чтобы он воплощал в себе все существенное, что присуще красному цвету.
Этот красный цвет рассматривается не как что-либо индивидуальное, а как
сущность красного цвета. Только в том случае, если сравнение
производится над такими переживаниями, которые воплощают в себе сущность
того или иного переживания, оно может привести к аподиктически
достоверным положениям. Такие индивидуальные случаи, являясь предметом
сравнения, выражают собою целый класс; они служат для того, чтобы дать
наглядное представление о связи свойств и закономерности этих связей в
изучаемом классе душевных переживаний. Раз мы имеем такой случай, то
мы зараз, в один прием, можем усмотреть соотношение между свойствами
изучаемого класса явлений, причем усмотренное нами в одном случае
будет иметь значение навсегда. Мы можем еще раз рассмотреть это
отношение и еще раз его констатировать, но это констатирование ничего не
прибавит к достоверности по сравнению с тем, что мы имели от разового
рассмотрения.
Это обстоятельство создает огромное различие между индуктивной
психологией и аналитической. В то время как в индуктивной психологии
необходимо многократное повторное наблюдение известной связи
явлений для того, чтобы сделать какой-либо вывод, при применении анализа в
этом не имеется надобности. Одного наблюдения, или, вернее, одного
слу348
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
чая усмотрения, вполне достаточно для того, чтобы получить
аподиктически достоверное положение.
Таким образом, характерная особенность анализа заключается в том,
что мы на единичном случае усматриваем общую закономерность подобно
тому, как мы это имеем в геометрии. Вся трудность применения этого
метода заключается в том, чтобы отыскать такие случаи, на которых можно
было бы произвести исследование, приводящее к установлению
закономерности.
Я не стану рассматривать с точки зрения онтологической, существуют
ли такие реальности, которые воплощали бы в себе сущность известных
понятий — это повело бы нас в область гносеологии. Будет вполне
достаточно, если мы отметим, что такие единичные случаи, воплощающие в себе
свойства целого класса, имеются налицо в области нашего психического
бытия. Поэтому задача психолога, применяющего аналитический метод
исследования, заключается именно в нахождении таких случаев. Эти
случаи или просто имеются налицо в нашем сознании, или они создаются при
помощи нашего воображения. Если так, то психолог вообще должен
обладать особенно живым воображением чтобы быть в состоянии созидать
такие случаи, которые могли бы служить для применения аналитического
метода в психологии.
Если мы примем в соображение указанные свойства аналитической
психологии, то сделается ясным, что это есть психология самонаблюдения в
собственном смысле слова. Это есть психология только на основании
внутреннего опыта. То, что я получил в своем внутреннем опыте, имеет характер
аподиктической достоверности. Наблюдение других лиц ничего не
прибавляет в смысл достоверности к тому, что получено в моем внутреннем опыте.
Я привел только немногие примеры для иллюстрации применения
аналитического метода в психологии, но в различных отделах психологии есть
очень много положений, полученных благодаря применению
аналитического метода. Можно сказать, что ими полны различные отделы
психологии, но только до сих пор не было признано, что они являются результатом
применения аналитического метода.
Из всего сказанного совершенно ясна конечная задача аналитической
психологии. Она заключается в следующем. В нашем внутреннем опыте
нам даются всегда только сложные психические переживания. Посредством
анализа мы из них выделяем отдельные части, которые и считаем
составными частями этого переживания. Так как эти части мы дальше не можем
разложить, то мы их считаем простейшими, дальше неразложимыми
состояниями сознания. Между этими последними состояниями можно
устанавливать известные соотношения при помощи процесса сличения,
сравнения, сопоставления и т. п. Таким путем мы устанавливаем между ними
сходство, различие, тождество и т. п. Благодаря этому мы можем
устанав349
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ливать классы психических переживаний, а это дает возможность
привести психические переживания в систему. Таким образом,
систематизирование простейших состояний сознания по их сходству и по их связи и
составляет задачу аналитического метода в психологии.
Ясно, что благодаря применению аналитического метода душевные
переживания приводятся в систему, даются определения психических
переживаний, а это как раз то, что лежит в основе всякой т. наз. общей
психологии. Из этого, между прочим, можно видеть, что и в современной
психологии очень многое из ее содержания обязано применению аналитического
метода.
Из такого содержания аналитической психологии совершенно ясно
его отношение к другим видам психологического исследования.
Аналитическая психология есть психология основная. Как
психология развитого сознания, она должна лечь в основу всех видов
психологического исследования, она должна сделаться исходным пунктом всякого
психического исследования1. Объективно-экспериментальная психология,
психология детского возраста, зоопсихология и т. п. должны
предваряться построением аналитической психологии. Все виды
объективно-психологического исследования и исследования по генетической психологии
находятся в настоящее время в периоде часто совершенно беспланового
собирания сырого материала, и это происходит вследствие того, что
материал этот не может быть разработан в достаточной мере оттого, что
основные понятия психологии не приведены в должную систему. Например,
природа таких психических процессов, как «сравнение», «уподобление»,
«устанавливание отношений » и т. п., и в применении к развитому сознанию
неясна, а что же сказать об этих процессах, когда речь идет, например,
о сознании ребенка или о сознании животного. Эти процессы необходимо
уяснить именно при помощи аналитического метода.
Ввиду указанной важности применения аналитического метода
изучения психических явлений необходимо поставить за требование, чтобы
аналитическая психология подверглась систематической разработке.
Следует ввести как методическое требование исследование психических
явлений при помощи аналитического метода. В этом смысле следует
приветствовать исследования Пфендера, Гейгера, Брунсвига и других2, в которых
преднамеренно применялся в систематической форме аналитический
метод под именем «феноменологического». Можно только об одном
пожаСм. мой сборник статей («Психология и школа ») М., 1912. С. 90 и след. Там
аналитическая психология названа «теоретической».
См. ст.: Pfänder'а в Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung.
Erster В., Theil I. Geiger Beitrage zur Phänomenologie des ästhetischen Genusses,
ib. Th. II. Brunswig, Das Vergleichen und die Relationserkenntniss. 1910.
350
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
леть, что в некоторых из этих работ, например у Пфендера, идея чистой
описательности проводится недостаточно полно. Он предлагает
пользоваться «образами», «сравнениями». Но таким способом едва ли можно
изобразить сущность психических явлений.
Применению аналитического метода в психологии принадлежит
бесспорная будущность. Если в настоящее время он применяется в
недостаточной мере, то это происходит вследствие того, что в современной
психологии часто смешиваются задачи описательной психологии с задачами
объяснительной, и часто делаются попытки применять объяснительный
метод там, где нужно было бы применять описательный. Такого рода
смешение можно отметить, например, в учении о пространственном качестве.
Как известно, делались постоянные попытки разложить пространственное
качество на гипотетические составные части, чтобы таким образом объяснить
пространственное качество со всеми его свойствами; между тем применение
аналитического метода приводит к признанию, что пространственное
качество представляет собой нечто первоначальное, неразложимое,
непроизводное1. Применение именно аналитического метода к вопросу о
пространственном качестве привело к нативизму, благодаря которому различные
«психические синтезы », «психические химии » и т. п. сошли со сцены. Еще
очень недавно «волю» понимали как представляющую ту или иную
«совокупность» ощущений. Но такое положение воли не может быть признано
правильным, если только мы применим непосредственное усмотрение
аналитического метода.
Аналитическая психология есть психология описательная по
преимуществу и находится в решительной противоположности к психологии
объяснительной. Когда это различие будет ясно признано, т. е. когда будет
признано, что описательные задачи психологии имеют самодовлеющее
значение, тогда применение аналитического метода примет широкое
распространение. Когда описательные понятия будут применяться в более
широкой мере, чем теперь, то будет больше основания для пользования
аналитическим методом, чем в настоящее время.
Было бы ошибкой думать, что аналитическая психология есть
какаянибудь умозрительная психология в том презрительном смысле, в каком
вообще принято употреблять понятие умозрения. Назвать приемы
исследования, в которых применяется непосредственное усмотрение,
умозрительными — значит применить совершенно несоответствующий термин,
потому что непосредственное усмотрение в психических переживаниях
вполне тождественно с тем, что мы называем непосредственным
восприятием при изучении явлений природы. Этим двум процессам принадлежит
одинаковая форма очевидности. Аналитическим методом пользовались
Об этом см. мою «Проблема восприятия пространства ». Ч. 1. С. 114.
351
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ученые, которые никакого отношения к умозрению не имели. Им
пользовался, например, физиолог Геринг в своих исследованиях цветоощущения1.
До него в теории цветоощущения делали попытку разлагать ощущения
цвета на их предполагаемые составные части. Но так как они в этих
рассуждениях становились на физическую точку зрения, то у них
оказывалось, что, например, белый цвет состоит из всех цветов, а черный является
отсутствием всех цветов. Это ошибочное деление цветов на простые и
сложные являлось результатом ложного применения объяснительного метода.
Геринг стал на точку зрения непосредственного усмотрения, которую мы
могли бы еще иначе обозначить психологически-описательной, в
противоположность физически-объяснительной, для того чтобы признать, что
белый цвет такой же цвет, как и все другие цвета, и так же неразложим на
составные части, как и все другие цвета. Такого рода применение
аналитического метода мы находим и в попытках построения системы цветов и в
различных других областях психологии.
Так как из того, что я сказал о значении аналитической психологии,
кому-нибудь может показаться, что я в каком-либо отношении умаляю
значение объективных методов вообще и экспериментальных методов в
частности, то я спешу заметить, что, во-первых)
объективно-экспериментальные методы имеют, как было сказано выше, свою область применения,
и в этом смысле экспериментальные методы и аналитические методы не
исключают друг друга и имеют одинаковое право на существование.
Вовторых) следует признать, что в некоторых случаях экспериментальная
психология может способствовать разрешению тех задач, которые
решаются аналитической психологией, именно и путем индуктивного
обобщения иногда можно приходить к выводам, дающим возможность провести
систематическую классификацию душевных явлений.
Признавая первенствующее значение аналитической психологии, я
считаю, однако, отрицательное отношение некоторых психологов к
экспериментальной психологии неосновательным. Один противник экспериментальной
психологии свое отрицательное отношение к экспериментальным приемам
исследования выразил при помощи следующей фразы: «Я ношу свою
лабораторию с собой», имея в виду этим выразить ту мысль, что он может
довольствоваться исключительно внутренним опытом при построении психологии.
Этот взгляд нужно признать безусловно односторонним. Если отношение к
задачам психологии выражать при помощи отношения к лаборатории, тогда
нужно было бы сказать, что психолог должен иметь дело, безусловно, с двумя
лабораториями. Одну из них он носит всегда с собой; другую он не может
понести с собой, но в ней он обязательно должен провести часть своей жизни.
Hering. Lehre vom Lichtsinn. 1878. С. 57.
352
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ МЕТОДЕ В ПСИХОЛОГИИ1.
СТАТЬЯ 2-Я
Чтобы полнее характеризовать сущность и значение
аналитического метода в психологии, мы рассмотрим отношение его к т. наз.
феноменологическому методу, применение которого рекомендуется Э.
Гуссерлем и его школой. Для этого нам придется рассмотреть отношение
психологии к той философской дисциплине, которая Гуссерлем
называется чистой феноменологией и которую в настоящее время
некоторые ставят наряду с этикой, эстетикой, педагогикой. Хотя для нас в этом
смысле является очень важным рассмотрение вопроса о том, что такое
феноменология, но я ближайшим образом остановлюсь на
рассмотрении вопроса о сущности феноменологического метода для изучения
психического бытия2.
Следует прежде всего отметить, что феноменологический метод
изучения или феноменологическое рассмотрение психического бытия
отнюдь не является чем-нибудь абсолютно новым в современной
философии. Он применялся, как мы увидим ниже, и прежде, но только у
Гуссерля принял систематическое и принципиальное значение.
Что же такое феноменология и что является предметом ее? В своей
статье «Философия как точная наука» Гуссерль говорит, что
предметом феноменологии является изучение чистого сознания3.
На первый взгляд может казаться, что так как феноменология
имеет своим предметом изучение сознания, то она есть то же самое, что и
психология, но на самом деле феноменология совершенно отличается
от психологии. В то время как психология есть наука естественная,
феноменология имеет своим предметом сущность сознания и для
изучения этой последней пользуется совсем особым методом. Само собою
разумеется, что феноменология и психология должны стоять в
близком отношении друг к другу, поскольку обе они имеют дело с
сознанием в различных отношениях, или, как Гуссерль это выражает, имеют
дело с сознанием в различной установке. «Психология имеет дело с
эмпирическим сознанием, с сознанием в установке опыта, как
существу1 Психологическое обозрение. II. Ч. 3-4.1918. С. 451-468.
2 См. Husserl. Logische Untersuchungen В. I—II. 1900-1904. Статья: Philosophie als
strenge Wissenschaft в. журн.Logos. В. 1.1910-1911. Heft 3; статья Ideen zu einer
reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie в Jahrbuch für
Philosophie und phänomenologische Forschung. 1913. Erster Band. Th. I.
3 Phil. 302.
12 Российская психология
353
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ющим в связи природы, наоборот, феноменология имеет дело с чистым
сознанием»1.
Это различие между чистым сознанием и эмпирическим не следует
упускать из виду. Современная психология вследствие смешения
чистого сознания с эмпирическим и происходящего вследствие этого
устранения анализа чистого сознания в своих исследованиях должна
довольствоваться такими грубыми понятиями психических классов, как
«восприятие», «узнавание», «высказывание», «ожидание», «забвение»
и т. п. Между тем, если применять феноменологический метод при
изучении сознания, то можно прийти к очень тонкому различению явлений
сознания2.
Есть целый ряд понятий, которые ни в коем случае не могут быть
получены путем эмпирического анализа, применяемого обыкновенно в
психологии. Между тем подобно тому, как физика не может
довольствоваться обиходными понятиями тяжести, теплоты, массы и т. д., так и
психология, если желает быть точной, не может довольствоваться теми
понятиями, которые могут быть получены путем эмпирического анализа,
а должна стремиться к методической разработке, достижимой только лишь
при применении феноменологического метода3.
На вопрос о сущности феноменологического метода мы получим
ответ, если обратим внимание на то коренное различие, которое
существует между изучением физической природы и между изучением
психического бытия. Когда мы изучаем физическую природу, то мы
стремимся к тому, чтобы определить, что есть изучаемая нами природа на
самом деле, в действительности. Для достижения этой цели мы
устраняем все то, что имеет характер субъективный, но все же мы
поставленной цели не достигаем. Все, что мы имеем при изучении природы, есть не
что иное, как только лишь явление или проявление именно природы4.
Совсем иначе обстоит дело с психическим бытием. «В психической
сфере не существует никакого различия между явлением и бытием». Если
природа есть бытие, которое проявляется в явлениях, то этого совершенно
нельзя утверждать относительно психического бытия. Здесь явление и
бытие совпадают друг с другом. Психические феномены не суть
проявление чего-либо, они суть именно просто феномены. Гуссерль называет
феноменом то, что не проявляется5.
1 Ib. 302.
2 Ib. 303.
3 Ib. 307.
4 Ib. 311.
5 Ib. 312. Следует в этом месте отметить, что эта терминология Гуссерля противоречит
обычной. Именно, по обыкновенному пониманию, феномен есть явление, проявление
354
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Из такого различия между предметами наук о природе и психологии
следует и вполне понятное различие в их познаваемости. Психическое
бытие мы испытываем не как что-либо проявляющееся, оно есть просто
известное «переживание», созерцаемое в рефлексии; оно постигается само по
себе, а не как проявление чего-либо1.
Познание физического всегда имеет «интенциональный » характер, т. е.
полнота нашего знания о нем никогда не исчерпывается чувственным
содержанием: в нем всегда что-либо подразумевается. То, что мы мыслим, то
совсем не исчерпывается представляемым нами. Мыслимое нами всегда
полнее представляемого. Представляемое и мыслимое нами не
тождественны2. Совсем иначе обстоит дело с познанием психического бытия. Здесь то,
что вами воспринимается, и то, что нами мыслится, вполне покрывают друг
друга. Здесь нет различия между предметом и между тем, что о нем
мыслится.
Созерцание психического бытия мы можем назвать созерцанием
имманентного. В имманентном созерцании мы не находим ничего, кроме
феноменов. Феномены не представляют собою природы в том смысле, в
каком это слово употреблялось нами выше, но они представляют собою
сущности, которые мы схватываем в непосредственном созерцании, и
притом адекватно. Все высказывания, при помощи которых мы описываем
феномены, делают это при помощи понятия сущности3.
На первый взгляд кажется очень трудным понять, что значит
созерцание сущности. Однако, по мнению Гуссерля, созерцание сущности
содержит не более трудностей, чем просто восприятие. Воспринимаем же мы,
например, цвет непосредственно. Так же непосредственно воспринимаем
мы и сущность. Мы воспринимаем в непосредственной интуиции цвет и
таким же образом воспринимаем сущность цвета, сущность тона, сущность
воли и т. п. Этот процесс адекватного познания психических феноменов
или сущностей Гуссерль называет также интуицией. Так как в интуиции
мы схватываем сущность, то эта последняя представляет собою
абсолютно данное. Раз в интуиции мы имеем дело с сущностью, с абсолютно
данным, то наши высказывания имеют аподиктический, абсолютно
достоверный характер4. Созерцание сущности совершенно не похоже на опыт в
смысле восприятия, воспоминания и т. п. актов и совершенно ничего
общечего-либо. У Гуссерля, как раз наоборот, психический феномен потому именно и
есть феномен, что он совершенно не проявляется. О термине «феномен » см.: Natorp.
Allgemeine Psychologie. С. 109.
1 Ib. 312-313.
2 Id. 66.
3 PhU.31cp.Id.81.
4 Ib. 315.
12*
355
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
го не имеет с эмпирическим обобщением, потому что положения,
получающиеся в результате этого последнего, не имеют аподиктически
достоверного характера.
Следует отметить весьма существенную черту созерцания сущности. Это
последнее хотя и схватывает сущность, но ни в коем случае не предполагает
бытия этой последней. Предметом созерцания может быть даже чистая
фантазия, которая не содержит в себе никакого бытия. Но, несмотря на то, что
созерцание сущности не предполагает бытия этой сущности, из созерцания
сущности образуется абсолютно общеобязательное познание благодаря тому,
что в состав суждений входят адекватно образованные понятия. Такие
суждения выражают отношение между сущностями или идеями. Раз идеи имеют
абсолютный характер, то и суждения, выражающие отношения между ними,
должны иметь абсолютный характер1.
На первый взгляд может показаться, что феноменологическое
созерцание есть то же самое, что просто самонаблюдение или внутренний опыт.
На самом деле между ними имеется коренное различие. В интуиции мы
созерцаем сущности, между тем как во внутреннем опыте, понимаемом в
обыкновенном смысле, мы воспринимаем только единичные переживания.
«Не следует, — говорит Гуссерль, — смешивать феноменологическое
созерцание с самонаблюдением, с внутренним опытом, коротко говоря, с актами,
которые, вместо сущностей имеют дело с индивидуальными единичными
вещами (Einzelheiten), соответствующими сущностям»2.
Сущности Гуссерль еще иначе называет «эйдос».
Что такое «эйдос», если его перевести на общепринятый язык? Мне
кажется, что для того, чтобы понять что такое сущность, или эйдос, просто
нужно подумать о платоновских идеях, внеся соответствующие поправки,
согласно указаниям Гуссерля3. По мнению Гуссерля, сущность есть предмет
(Gegenstand), но предмет не реальный, а идеальный. Эту идеальную реальность
он поясняет аналогией с реальностью математических идей, относительно
которых мы совсем не поставляем вопроса, существуют ли они объективно
реально. Мы мыслим такие предметы как число, пространство, время. Это не
суть просто представления, а это суть предметы. Например, число «два» есть
такого рода предмет, но ему не присуща реальность в обычном смысле слова.
Вот в каких выражениях об этом вопросе говорит сам Гуссерль: «Предмет и
реальное, действительность и реальная действительность не одно и то же.
Поэтому можно сказать, что действительно "существует" (ist) качество тона С,
которое в ряду тонов есть нумерически единственный член, или существует
число "два" в ряду чисел, фигура круга в идеальном мире геометрических
об1 Ib. 316.
2 Phil. 318.
3 См. Id. 10 и след.
356
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
разов, любое предложение в "мире" предложений, коротко говоря, все
возможное идеальное есть предмет... В действительности все видят "идеи" и
"сущности", они оперируют с ними в мышлении, образуют суждения о сущности и
только отрицают их существование с точки зрения гносеологии »*. Но не
следует думать, что эти идеи суть только лишь психические образы, они именно,
по мнению Гуссерля, суть предметы. «Представление числа не есть само
число, оно не есть "два", этот единственный член числового ряда, который, как все
подобные члены, есть вневременное бытие. Обозначать их поэтому как
психический образ есть бессмыслица»2. То есть, другими словами, по мнению
Гуссерля, нужно отличать между числом как известным умственным
образованием и числом как предметом, хотя этому последнему и не присуща реальность
предметов чувственного мира.
Но следует обратить внимание на то, какого рода реальность
приписывает им Гуссерль. Они, бесспорно, реальны, в противном случае они были бы
просто ничто, но только им присуща реальность особого рода.
Понятие предмета, в смысле Гуссерля, есть понятие чего-то ирреального,
и поэтому, по Гуссерлю, предметом феноменологии является ирреальное.
«Феномены трансцендентальной феноменологии характеризуются как ирреальные».
Феноменология должна быть учением о нереальных феноменах. «Все
трансцендентально очищенные "переживания" суть ирреальности, поставленные вне
всякого подчинения действительному миру. Именно эти ирреальности и исследует
феноменология, но не как отдельные единичности, но в "сущности" »3.
Познание сущностей в смысле эйдосов происходит при помощи
процесса, который Гуссерль в «Логических исследованиях» называл идеацией, и
который он впоследствии стал называть интуицией сущности (Wesensanschauung
и Wesenserschauung4). Этот последний процесс он описывает следующим
образом: «Сущность (эйдос) предмет особого рода. Подобно тому как данное
индивидуального или опытного созерцания (erfahrende Anschauung) есть
индивидуальный предмет, так данное созерцания сущности есть чистая
сущность»5. Между индивидуальным предметом и между сущностью есть то
общее, что и то и другое есть предмет. Вследствие этого между созерцанием
сущности и созерцанием индивидуального «есть не только внешняя аналогия,
но радикальная общность. Созерцание сущности есть именно созерцание
(Anschauung), подобно тому как эйдетический предмет есть именно предмет»6.
Познание сущностей можно иллюстрировать при помощи следующего
при1 Id. 40-41.
2 Ib. 42.
3 Ib. 4.
4 Id. 11.
5 Ib. 10-11.
6 Ib. 11.
357
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
мера. При помощи воображения мы можем вызвать в нашем сознании
явление, которое имеет не индивидуальный характер, т. е. имеет значение не
какого-либо частного факта, а родовой характер, именно характер сущности. Если
мы, например, утверждаем, что желтый цвет светлее красного, то это есть
результат сравнения между понятиями, являющимися выражениями
сущности явлений.
Каково отношение между индивидуальным и общим в процессе
созерцания сущности? На этот чрезвычайно трудный вопрос категорический ответ
дает Шелер1. «Сущность не есть ни общее, ни индивидуальное. Сущность
красного, например, дается как в общем понятии красного, так равным образом в
каждом воспринимаемом оттенке этого цвета. Только отнесение к
предметам, в которых проявляется какая-либо сущность, производит различие
между общим и индивидуальным значением. Так сущность становится общей,
когда она во множестве различных вещей тождественным образом проявляется в
форме: все, что "имеет" или "носит" эту сущность. Но она может составлять
сущность какого-либо индивидуума, не переставая при этом быть
сущностью». Эта сущность и является предметом интуиции.
Такое истолкование отношения между общим и индивидуальным мы
находим и у Гуссерля. Он также признает эту связь между единичным и
общим. «Феномены», по выражению Гуссерля, не суть природа, т. е. это не
суть какие-либо постоянные предметы с пространственно-временным
местом, но они имеют сущность, схватываемую в непосредственном
созерцании и охватываемую адекватно. Эта сущность обща. Вследствие этого
возможно созерцание общего. «Всякое полагание в определенном месте,
следовательно, всякая индивидуальность принадлежит природе. Поэтому
чистое созерцание сущности, не делающее никаких позаимствований от
природы, является при необходимости созерцанием общего»2. Между
сущностью и фактом есть неразрывная связь. «Индивидуальный предмет не
есть вообще только лишь индивидуальное, одноразовое (einmaliger), он
имеет в самом себе (in sich selbst) определенную своеобразность, свое
участие (Bestand) в существенных предикабилиях, которые должны быть ему
присущи (как сущему, как оно есть в самом себе). Так, например, каждый
тон сам по себе имеет сущность и самую общую сущность тона вообще
или вообще акустическое». Это есть момент, который благодаря
сравнению может быть усмотрен в индивидуальном тоне. «Равным образом,
каждая материальная вещь имеет свою собственную сущность,
"материальную вещь вообще, материальность вообще" и т. п.»3 Каждое
индивиду1 Der Formalismus und die materiale Wertethik в: Jahrbuch für Philosophie und phänom.
Forschung. Erster B. II. Th. C. 447.
2 Phil. 320.
3 Ib. 9.
358
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
альное событие имеет свою сущность, которая может быть постигнута в
эйдетической чистоте1. «Для того чтобы понять общие различия
сущности, например, между цветом и тоном, между восприятием и волей, вполне
достаточно, чтобы мы имели примеры на самых низших примерах ясности.
Дело обстоит таким образом, как если бы в них было полностью дано
самое общее, род (цвет вообще, тон вообще)»2.
Таким образом, по пониманию Гуссерля, в единичном уже
содержится общее. При таком допущении становится понятным процесс
созерцания сущностей. Если общее содержится в единичном, понятно, почему при
содержании единичного можно созерцать и общее.
Каково отношение между созерцанием индивидуального и
созерцанием сущности?
«Своеобразное свойство созерцания сущности заключается в том, что
в основе его лежит главная часть индивидуального созерцания, именно
проявление, обнаружение индивидуального...
Никакое созерцание сущности невозможно без свободной
возможности обращения взора на соответствующее индивидуальное и без
образования экземплярного сознания (exemplarischen Bewußtseins); равным
образом и наоборот, никакое индивидуальное созерцание невозможно без
свободной возможности осуществления идеации и направления в ней
взора на соответствующие сущности, проявляющиеся в индивидуальном»3.
Такова неразрывно тесная связь между индивидуальным и сущностью,
между индивидуумом и родом. В другом месте Гуссерль прямо
рассматривает вопрос о наличности рода в виде, и именно в каждом виде содержится
более высокий род. «В частных сущностях содержится более общая
непосредственно или посредственно, в том смысле, что она может
постигаться в своей своеобразности в эйдетической интуиции... Эйдетическое
единичное включает в себя все общности, лежащие над ним, которые, в свою
очередь, по ступеням (stufenweise) лежат друг в друге, именно более
высокое в более низком»4.
Выяснив таким образом отношение между индивидуальным и
сущностью, вернемся к вопросу о восприятии сущности. Как мы уже видели,
сущность является предметом созерцания, аналогичного тому созерцанию,
которое имеет место в процессе восприятия индивидуальных предметов.
«Эмпирическое созерцание, специально опыт, есть сознание
индивидуального предмета. Совершенно таким же образом созерцание сущности есть
сознание о чем-то, о предмете, о нечто, на которое направляется его взор».
1 Ib. 60.
2 Ib. 129.
3 Id. 12.
4 Id. 25-26.
359
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Следовательно, сущность есть предмет. Это вполне ясно из всех
предшествующих рассуждений Гуссерля; остается неясным только характер
реальности, который можно приписать сущности1. Сущности, разумеется,
не присуща реальность чувственных предметов, но характер реальности
сущности выясняется до некоторой степени в том случае, если мы обратим
внимание на то, что познание сущности не зависит от познания фактов,
а это указывает на идеальный характер бытия сущности. «Эйдос, чистая
сущность, может экземплифицироваться интуитивно в данных опыта,
в данных восприятия, воспоминания, равным образом в данностях просто
фантазии. Сообразно с этим мы можем познать сущность
непосредственно, исходя из соответствующих созерцаний опыта, равным образом
можно познать, исходя от созерцаний не опытных, не схватывающих бытие, но
от только воображающих. Если мы в свободной фантазии созидаем
какиелибо формы пространства, мелодии, социальные процессы и т. п. или
представляем акты испытывания удовольствия или неудовольствия, хотения
и т. п., то в них мы можем посредством идеации созерцать различные
чистые сущности непосредственно и в некоторых случаях даже адекватно,
будет ли то сущность пространственного образа, мелодии, социального
процесса вообще2.
Можно было бы думать, что то, что Гуссерль называет сущностью,
есть не что иное, как общее в противоположность индивидуальному. Это
предположение может привести к решительно неверному пониманию
Гуссерля. Поэтому чрезвычайно важно подчеркнуть, что, по Гуссерлю,
познание сущности совсем не то же самое, что познание общего. Их отличает то,
что Гуссерль называет эйдетической всеобщностью. «Не следует
смешивать безграничную общность законов природы с общностью сущности
(Wesensallgemeinheit). Предложение: «все тела тяжелы» не имеет
безусловной всеобщности эйдетических общих предложений, поскольку оно,
согласно своему смыслу, как естественному закону, влечет за собою
положение бытия, и именно в самой природе, в пространственно-временной
действительности. Все тела в природе, все действительные тела тяжелы.
Наоборот, предложение: «все материальные вещи протяженны» — имеет
эйдетическую общность и может быть понимаемо как чисто эйдетическое.
Оно высказывает то, что основывается на сущности материальной вещи и
на сущности протяженности и что мы понимаем как безусловную
общезначимость»3. Если мы говорим, что «цвет вообще отличается от тона
вообще», то мы имеем примеры суждения, имеющего сущностную общность.
1 Проблему реальности сущностей см. у Gomperz'a Weltanschauungslehre. 1908. Zweiter
Band.
2 Ib. 12-13.
3 Ib. 16.
360
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Приведенные примеры ясно показывают, что эйдетическое познание
отличается от познания просто общего тем, что его положения аподиктически
достоверны.
Из этого различения познания общего от познания сущности мы
можем получить некоторое представление о том, что Гуссерль под
сущностью понимает не просто общее, как это может показаться с первого раза.
Вопрос о характере реальности, присущей сущности, может выясниться в
том случае, если мы выясним, что понимает Гуссерль под интуицией
сущности, по-видимому, по аналогии с интуицией индивидуального.
Что Гуссерль понятие интуиции употребляет в смысле, совершенно
отличном от обычного понимания, показывает то обстоятельство, что он
признает наличность категориального созерцания, в котором совершенно
не имеется налицо какое бы то ни было созерцание. «Предмет с этими
категориальными формами не только мыслится, но именно созерцается или
воспринимается»1. Из этого можно видеть, что, по Гуссерлю, для
закономерного употребления понятия интуиции нет надобности в каком-нибудь
чувственном содержании или вообще в каком бы то ни было содержании;
что можно созерцать (применяясь к обычной терминологии) какую-нибудь
мысль, а так как сущности суть именно идеальные реальности, то само
собою разумеется, что интуиция их может осуществляться так же, как и
интуиция единичных вещей. Та наука, которая познает эти идеальные
сущности, и есть феноменология.
Остановимся на рассмотрении того вопроса, который представляет
для нас наибольший интерес — именно на вопросе об отношении и между
феноменологией и психологией. Между ними, как мы видели выше, то
общее, что как та, так и другая имеют своим предметом сознание. Несмотря
на такую общность предмета, между психологией и феноменологией
остается непроходимое различие, заключающееся в том, что первая есть наука
о фактах, а вторая есть наука о сущностях.
Но что Гуссерль понимает под фактами в отличие от сущности?
Под фактами Гуссерль понимает то, что имеет индивидуальное
временно-пространственное существование, что существует как нечто, что есть
в этом месте времени, имеет эту свою длительность и содержание
реальности. Феноменология также исходит от единичных вещей, но она
отбрасывает всякую индивидуацию и стремится познать идеально тождественную
сущность, которая, как всякая сущность, может проявиться не только в
данном месте пространства или времени, но может проявиться в
бесчисленном множестве экземпляров.
Применительно к сознанию это различие между фактами как
предметом психологии и сущностью как предметом феноменологии может быть
Log.Unt.II.615.
361
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
выражено следующим образом: «Психология имеет дело с эмпирическим
сознанием, следовательно, с переживаниями, которые принадлежат мне
или другим лицам и которые понимаются как существующие в связи
природы. Феноменологическое описание имеет своим предметом чистое
сознание, оно обращает внимание в самом строгом смысле на переживание
как оно есть само в себе »*.
Вследствие различия предмета психологии и предмета
феноменологии созидается различие в достоверности положений психологии и
феноменологии. Положения этой последней всегда имеют аподиктически
достоверный характер, и именно потому, что феноменология есть учение о
сущности психических явлений. В то время как феноменология познает
сущности, на долю психологии остается познание общего. Но познание
общего, как мы видели, отнюдь не тождественно с познанием сущностей.
Если психология, не ограничиваясь описанием индивидуальных явлений,
ищет в них общее, все же такая психология не станет феноменологией, ибо
эта последняя имеет целью установить необходимое отношение между
сущностью явлений. Суждения, которые являются в результате такого
установления, всегда имеют аподиктический характер, чего никогда не
бывает в положениях, имеющих индуктивно общий характер.
Феноменологические описания в области психического бытия имеют целью
установить отношение той же достоверности, что и положения математические.
Вследствие этого феноменология так относится к психологии, как
математика относится к физике, т. е. она созидает аподиктически достоверные
положения относительно психических явлений, которые могут быть
положены в основу эмпирической психологии.
Вот в собственных выражениях Гуссерля его взгляд на отношение
между феноменологией и психологией, как он его формулировал на съезде
психологов в Геттингене в 1913 г.: «Чистая феноменология не есть
описательная психология и ничего не содержит из описательной психологии точно
так, как математика не содержит телесности, как чистая геометрия не
содержит физики. Психология и физика суть науки о фактах, науки о
действительном мире, чистая же феноменология, геометрия и другие
подобные науки суть науки о сущностях, науки о чисто идеальных возможностях.
Существование реального для таких наук находится вне всякого вопроса,
и поэтому нигде и никогда не является темой для утверждения. В том же
самом смысле мы утверждаем, что эти науки не основываются на "опыте"
(в естественно-научном смысле слова), который устанавливает при
помощи наблюдений и испытываний реальное бытие или бытие в том или ином
виде. Подобно тому как чистая геометрия есть учение о сущности чистого
пространства, другими словами, есть наука об идеально возможных
про1 Phil. 320.
362
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
странственных формах, чистая феноменология есть учение о сущности
сознания, наука об идеально возможных формах сознания (с их
имманентными коррелятами). Подобные науки основываются не на опыте, а на
созерцании сущности, простой и лишенный всякой мистичности смысл
которого можно иллюстрировать при помощи геометрической интуиции
основных образований и первичных отношений сущностей, получающих
свое выражение в аксиомах. Чистая математика телесности находит
применение в изучении природы как предмета опыта и делает возможным
точное естествознание в высшем смысле слова (в смысле физики Нового
времени). Равным образом чистая феноменология находит применение в
психологии и делает возможной точную психологию, описательную и
объяснительную в соответствующем высшем смысле»1.
Гуссерль проводит параллель между математикой и феноменологией.
Как та, так и другая имеют своим предметом идеальные возможности,
совершенно не заботясь о их реальности. Общим является также их
аподиктическая достоверность. Так как различие между науками о фактах и
науками о сущностях он иллюстирует примером математики, то получается
впечатление, как будто между феноменологией и математикой нет
никакого существенного различия, между тем как на самом деле оказывается,
что между ними имеется очень существенное различие. Именно
феноменология как описательное учение о сущности переживаний есть наука
дескриптивная, и именно этим она отличается от математики, характерным
для которой является точность2. «Точные и чисто описательные науки, хотя
и связываются друг с другом, говорит Гуссерль в другом месте, но они не
могут выступать одна вместо другой»3. Общим для математики и
феноменологии является то обстоятельство, что феноменология и математика не
имеют дела с реальными фактами и не заботятся о существовании фактов.
Геометрия и феноменология как науки чистой сущности не знают никаких
установлений относительно реального существования. С этим находится в
связи то обстоятельство, что для них фикции дают лучшие основы, чем
данности восприятия и опыта4.
Таким образом, взгляд Гуссерля на отличие феноменологии от
психологии совершенно ясен, но некоторые пункты его аргументации здесь, как
и выше, вызывают недоумение и прежде всего вопрос об отличии
восприятия «сущности» от восприятия «общего».
Правда, с ним нельзя не согласиться, когда он отличает те положения,
которые являются результатом постижения сущностей и которые имеют
1 Berichtetiber den VI Kongress Psychologie. 1914, II.Theil. сбр. 144-145.
2 Id. 138-139.
3 Id. 138-139.
4 Id. 158.
363
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
аподиктически достоверный характер, и те положения, которые, хотя
имеют общий характер, однако лишены такого характера, но все же у Гуссерля
не проводится ясного различия между познанием общего и познанием
сущности.
Гуссерль утверждает, что феноменология поставляет своею целью
созерцать сущности. Сущности, как мы видели, не суть ни фактическое, ни
реальное. Гуссерль думает, что это составляет существенное отличие
феноменологии от психологии, которая есть наука о фактическом и о
реальном. На это можно заметить, что и психология не ограничивается только
лишь описанием единичных переживаний в их конкретной
действительности. Она также стремится к отысканию общего, и это общее, как все общее,
имеет вневременной характер. В самом деле, мы в психологии говорим о
воле вообще, о представлениях вообще, а не о каких-либо конкретных
проявлениях воли, ни о каких-либо конкретно данных представлениях. Так
как вневременность и, по Гуссерлю, является главным признаком
сущности, то делается ясным, что мы и в психологии стремимся к познанию
сущности явлений. В этом смысле задачи психологии и задачи феноменологии
являются тождественными. Но мы видели, что, собственно, хочет сказать
Гуссерль. По его мнению, общее познается из индукции, а сущность из
интуиции, причем интуиция как процесс совершается непосредственно, и в
акте интуиции познание сущности совершается адекватно.
Но действительно ли акт интуиции совершается так непосредственно,
как это представляется Гуссерлю? Мне кажется, нет, и в этом нетрудно
убедиться, если мы рассмотрим, каким образом осуществляется процесс
интуиции сущности. Если рассматривать этот процесс с чисто
психологической точки зрения, то придется признать, что аналогия с интуицией
индивидуального предмета совсем неверна.
Если под интуицией понимается непосредственное постижение без
каких-либо промежуточных процессов, то предмет интуиции должен
представлять собою нечто единое, цельное. Все преимущества интуитивного познания
заключаются в том, что оно имеет характер непосредственный, абсолютный и
адекватный. На непосредственный характер интуиции, по-видимому,
указывает убеждение в реальном существовании сущностей и, кроме того,
постоянное сопоставление интуиции индивидуального и интуиции сущности. Но если
и можно в некотором условном смысле признать, что интуиция
индивидуального имеет непосредственный характер, то этого никак нельзя сказать
относительно интуиции сущности. Хотя Гуссерль употребляет выражение
«феноменологическое созерцание », однако он понимает это созерцание далеко не в
буквальном смысле, и Пфендер по этому поводу говорит: «Конечно,
феноменология не заканчивает только лишь простым усмотрением самих вещей, но
она предполагает "сравнение" и "различение", "анализирование",
"объединение" и "устанавливание отношений". Она предполагает это так же, как и
вся364
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
кое научное исследование»1. Сам Гуссерль находит, что для осуществления
интуиции необходимо сравнение, сопоставление2.
Предполагаемая Гуссерлем интуиция есть не что иное, как известный
конструктивный процесс, который состоит в том, что мы построяем
идеальные образы, которые затем иллюстрируются при помощи единичных
случаев. Это есть построение в процессе рефлексии.
Но такого рода построение никоим образом нельзя назвать
интуицией. Так, например, геометрические образы нельзя считать предметами
интуиции в том смысле, в каком таковыми являются предметы чувственной
интуиции. При помощи этих образов мыслятся определенные
содержания, причем мышление их подчиняется определенным нормативным
требованиям. Такого рода построения могут быть в различных областях
познания, в том числе и в психологии.
Если это признать, то сделается ясным, что едва ли Гуссерль в этом
случае вполне закономерно употребляет понятие интуиции. Ведь, по
Гуссерлю, интуиция что-то схватывает целиком, между тем как в процессе
интуиции сущности, по-видимому, нет никакого схватывания, а скорее есть
построение. Было бы гораздо правильнее, если бы Гуссерль вместо
понятия интуиции употреблял понятие рефлексии; тогда по крайней мере
посредственный характер познания в этом случае не подлежал бы сомнению.
Если принять чисто психологическое объяснение участия рефлексии
в созидании идеальных образов3, то станет понятной возможность
объяснения родства математики и феноменологии. Благодаря спонтанному
характеру рефлексии мы можем процесс абстракции доводить до желаемой
нами границы, мы можем брать то или другое изучаемое нами
переживание в той чистоте, которая придает этому переживанию характер чего-то
абсолютного. Мы идеализуем эти переживания так же, как идеализуем
вообще математические образы.
Это психологическое объяснение исключает необходимость
онтологического допущения каких-либо реальностей. Такое допущение всегда
может оставаться гипотетическим. На самом деле, как мы видели, Гуссерль
именно допускает реальность сущностей, хотя он и не называет их
реальность реальностью. Но ведь то, что мы воспринимаем, хотя бы оно и
называлось только предметом, все же есть реальность.
Zur Psychologie d. Gesinnungen стр. 330 в Jahrbuch fur Philosophie und phänomen.
Forschung. Erster. B. I Th.
Phil. 315: «и если мы в чистом созерцании, переходя от восприятия к восприятию,
приводим в известность, что есть восприятие, восприятие само в себе это
тождественное любых текучих единичных восприятий, то мы, созерцая, схватываем сущность
восприятия ».
Об этом см. мою «Проблема восприятия пространства ». Ч. II. С. 376.
365
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Впрочем, заслуга феноменологии Гуссерля заключается между
прочим в том, что она ищет гносеологических основ для психологии и находит
их в тех реальностях, которые она называет сущностями.
Спор относительно того, есть ли феноменология психология или нет,
в данном случае оказывается вопросом терминологическим. Само собой
разумеется, что феноменология и психология не покрывают друг друга.
Но следует признать, что современная психология имеет в своем
содержании и положения, добытые феноменологически. Это в действительности
признает и Гуссерль, когда допускает существование особой эйдетической
психологии1. Эта психология должна поставлять своей целью познание
сущности психических явлений, но неизвестно, почему Гуссерль
утверждает, что эйдетическая психология не то же самое, что феноменология. Из
этого следует, что, когда Гуссерль сопоставляет феноменологию с
психологией, то он под «современной» психологией понимает только
эмпирическую психологию, т. е. психологию, которая содержит только
индуктивно добытые положения, между тем как на самом деле в современной
психологии есть положения, имеющие аподиктически достоверный
характер. Их Гуссерль почему-то исключает из содержания психологии и
относит в область чистой феноменологии. Оттого и кажется, что
феноменология и психология не имеют ничего общего, в то время как на самом деле
психология содержит в себе положения, добытые феноменологическим
методом. Поэтому нельзя согласиться с Гуссерлем, когда он говорит, что
феноменология вовсе не есть психология. Как легко видеть из
предыдущего изложения, феноменология в некоторой своей части покрывается
аналитической психологией, а метод феноменологии вполне тождествен с
методом аналитическим.
Нет надобности выделять феноменологию из психологии только
потому, что ее положения отличаются абсолютной достоверностью, в то
время как положениям эмпирической психологии присуща относительная
достоверность. Ведь классификация должна производиться по предмету,
а не по достоверности. Правда, в дальнейшем развитии психологии область
применения феноменологического метода в психологии значительно
расширится, но все же мне кажется, что не будет оснований для выделения
результатов, добытых при помощи этого метода, в отдельную область, ибо
феноменология все же есть учение о психическом бытии.
Мне еще хотелось сделать замечание относительно отрицательного
взгляда Гуссерля на экспериментальную психологию. Касаюсь этого
вопроса потому, что он имеет принципиальное значение. По мнению
Гуссерля, экспериментальная психология не может приводить к познанию сущности
и потому не может способствовать созданию положений, аподиктически
Id. 142 и след.
366
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
достоверных. Следует заметить, что вообще нападки на
экспериментальную психологию основаны у Гуссерля частью на недоразумении, частью на
том, что он критикует только вульгарные течения. Само собою
разумеется, с Гуссерлем следует согласиться, когда он утверждает, что
экспериментальная психология не может привести к познанию сущности
психических явлений, но тем не менее следует признать, что экспериментальная
психология, научно поставленная, может способствовать разрешению как
раз той задачи, которую Гуссерль поставляет феноменологии, — именно
точному различению понятий.
Подводя итоги сказанному выше об отношении между
феноменологическим методом и аналитическим, легко выделить, что
«феноменологический » и «аналитический » — это только лишь два термина для
обозначения одного и того же метода. Феноменологический метод, который Гуссерль
один раз называет априорным, как и аналитический, являются одинаково
характерными для психологии внутреннего опыта, или психологии
самонаблюдения в собственном смысле слова. И тот и другой метод приводят к
аподиктически достоверным положениям. Вследствие этого в известном
смысле можно говорить, что при помощи одного и другого метода можно
познавать сущность психических явлений.
И тот и другой метод имеют одинаково основоположное значение, они
должны быть положены в основу всех других методов исследования
душевных явлений и в том числе объективно-экспериментальных методов.
Кончу тем, с чего начал первую статью. Современные психологи,
пользующиеся объективно-экспериментальными методами, склонны
утверждать, что метод внутреннего опыта в собственном смысла слова
отжил свои дни. Мы видели, что это неверно. Систематизирование,
классификация психических переживаний, психологическая терминология —
всем этим мы обязаны применению аналитического метода, как бы этот
последний ни обозначался. Так было до сих пор в психологии, так должно
быть и на будущее время.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
А.И. ВВЕДЕНСКИЙ:
«НАДО РАЗРАБАТЫВАТЬ ПСИХОЛОГИЮ
БЕЗ ВСЯКОЙ МЕТАФИЗИКИ»
Введенский Александр Иванович (1856—
1925) — философ, логик, психолог. Ученик
* М.И. Владиславлева. В философии — последователь
И. Канта. Психологию понимал как
эмпирическую науку о фактах сознания, не выходящую за
пределы чувственного опыта. В 1892 г. в составе
«О пределах и признаках одушевления»
выступил с так называемым «психофизиологическим
законом А.И. Введенского», в котором
доказывал невозможность найти объективные
признаки одушевленности. В то же время допускал факт
существования чужой душевной жизни, который
обосновывал посредством обращения к нравственному чувству.
Выступление Введенского вызвало большую полемику в журнале «Вопросы
философии и психологии» (кн. 18 и 19 за 1893 г.), в которой участвовали
Э.Л. Радлов, Н.Я. Грот, кн. С.Н. Трубецкой, П.Е. Астафьев, Л.М.
Лопатин. Ученик Введенского М.М. Бахтин (1895-1975) под влиянием этой
полемики развил диалогическую концепцию о человеке и о его познании
через поступок и слово.
ПСИХОЛОГИЯ БЕЗ ВСЯКОЙ МЕТАФИЗИКИ1
1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ
И ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
У подавляющего большинства представителей современной
психологии можно подметить, что ее предмет и задачи не соответствуют ее
названию. Слово «психология » в переводе с греческого означает учение о душе.
Прежде, с того самого времени, как возникла психология, вплоть до
второй половины XIX в., она действительно стремилась к тому, чтобы быть
учением, либо утверждающим, либо отрицающим существование души.
Она, конечно, изучала и душевные явления (ощущения, воспоминания,
образы фантазии, разные другие мысли, хотения, страсти, чувства и т. п.,
словом — явления, которые отличаются тем, что они сознаются нами во время
Введенский А.И. Психология без всякой метафизики. Пг., 1915. С. 1-22; 74-77.
368
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
их переживания), но не столько ради них
самих, сколько в виде средства для
разрешения вопроса о душе. Ее задачи были таковы:
решить, есть ли душа или нет, и если есть,
какова она по своей природе, и уже исходя
из этого решения объяснить весь мир
душевных явлений и их отношения к
телесным.
Ввиду таких задач старая психология
постоянно служила ареной для бесплодной
борьбы материализма со спиритуализмом
и с психофизическим монизмом.
Объясним, кстати, в чем состоят эти учения.
Материализмом называется
отрицание самостоятельности духовного начала,
т. е. существования души, вследствие чего
материализм утверждает, что все
душевные явления — продукты одной только
материи, именно — материи, организованной в виде головного мозга. Он
подтверждает себя указанием на связь душевных явлений с материальными,
на то, что возникновение первых зависит от возникновения вторых, причем
эту зависимость он истолковывает как причинную. Этим-то
истолкованием материализм и объясняет тот факт, что всякое душевное явление
оказывается в связи с материальным. Но как объяснить случаи обратной
зависимости — телесных явлений от душевных, например, когда хотение
рождает движение? Материализм считает зависимость материальных
явлений от душевных всего только кажущейся: один и тот же мозговой
процесс порождает одновременно и хотение, и движение. Но так как мы
сознаем лишь хотение и движение, а того мозгового процесса, который
порождает и то и другое, не сознаем, то нам кажется, будто бы хотение —
причина движения. Точно так же и такие случаи, как исцеление верой,
легко, по мнению материалистов, объяснить тем, что вера порождается
определенными мозговыми процессами: они-то и вызывают телесное
исцеление, а не само психическое состояние, называемое верой.
Спиритуализмом называется учение, допускающее существование
самостоятельного, несводимого на материальное, духовного начала,
т. е. существование духовных сущностей. Употребляя это слово, надо
не упускать из виду, что есть учение ненаучного характера, называемое
спиритизмом. Так как оно не пользуется успехом, а спиритуализм находит
всегда множество поклонников, то спириты, чтобы как-нибудь помочь
спиритизму, стали в последнее время и его называть спиритуализмом, на что
они, конечно, не имеют никакого права. Ведь термин «спиритуализм»
дав369
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
но уже приобрел исторически установившееся значение, нисколько не
совпадающее с спиритизмом.
Спиритуализм встречается в философии в трех видоизменениях,
именно: в виде дуализма, панпсихизма и идеализма.
1. Дуализм, иначе — дуалистический спиритуализм, учит, что
духовные сущности существуют наряду с материальными и что
человек состоит из двух сущностей: материи и души.
Дуализм для своего оправдания опирается на факт разнородности
душевных явлений с материальными. Например, никто не усомнится, что
мысль о столе и самый стол или другое материальное явление — вещи,
совершенно разнородные. Отсюда дуализм заключает, что душевные
явления непременно должны порождаться такою сущностью, которая
совершенно не похожа на материю и которая для отличия от материи должна
называться душой. Но так как душа находится в связи с телом, то и всякое
душевное явление должно возникать не иначе как в связи с каким-нибудь
определенным телесным явлением. Такова суть дуалистического
направления в психологии. К этому надо добавить, что некоторые дуалисты
полагали, что душа оказывается организующим тело началом, что она его
организует так, чтобы оно служило ей орудием или органом для ее действий на
внешний мир.
2. Панпсихизм учит, что существуют только духовные сущности,
а материальных нет, именно: в основе каждой внешней вещи,
каждого тела лежит комплекс духовных сущностей, который только
кажется материальным нашим внешним чувствам. Поэтому нам
только кажется, будто бы весь мир распадается на две стороны —
материальную и духовную; на самом же деле этого в
действительности нет. И так как этот взгляд утверждает, что повсюду разлита
духовная жизнь, то он и называется панпсихизмом, т. е. повсюдная
духовность, вседушие.
3. Идеализм утверждает существование только душ, а внешний мир,
по учению идеалистов, не состоит ни из материальных, ни из
духовных сущностей и на деле вовсе не существует, а только кажется
существующим. Внешний мир представляет собой как бы
беспрерывную галлюцинацию человеческих душ.
Идеализм и панпсихизм, оба вместе, называются в отличие от
дуализма монистическим спиритуализмом, потому что они допускают только
один \\yo\oc) род сущностей, именно — только духовные сущности.
Психофизический монизм предполагает, что человек есть лишь одна
сущность с двумя сторонами — духовной и материальной. Материальная
ее сторона неотделима от духовной, и всякая перемена в этой сущности
отражается одновременно ив телесной, и в духовной стороне, причем эта
сущность извне кажется материальной, изнутри духовной. Всеми этими
370
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
допущениями психический монизм объясняет и разновидность душевных
явлений с телесными, и постоянную связь первых с последними.
Итак, раньше психология главным образом заботилась о том, чтобы
защищать одно из вышеуказанных учений против других. И тогда ее
предмет и задачи соответствовали ее названию. Во второй же половине XIX в.
века представители психологии стали все чаще отказываться от решения
вопроса о душе, так что хотя и сохранилось по привычке название
«психология», но предметом ее исследования стали только душевные явления,
причем объясняются они ею не тем или другим предположением о том,
есть ли душа или нет, и если есть, то существует ли рядом с ней материя, но
одними лишь законами природы, которым подчинены душевные явления.
Чтобы отметить эту особенность современной психологии, некоторые из
ее представителей называют ее психологией без души, желая этим сказать
вовсе не то, чтобы она отрицала существование души, но только то, что она
не рассматривает вопроса о душе, а предоставляет его решение другим
философским наукам.
Если же психология решила воздержаться от всякого решения
вопроса о душе, а заниматься лишь изучением душевных явлений, то
психология обязана так формулировать все свои выводы, чтобы они были
одинаково приемлемыми и одинаково обязательными как для
материализма, так и для спиритуализма с психофизическим монизмом. Вот
такое-то учение о душевных явлениях и служит целью современной
психологии.
При этом надо иметь в виду, что душевные явления изучаются
современной психологией с такой же точки зрения, с какой естествознание
изучает явления внешней природы. Поэтому современная психология
нередко характеризует себя как естественную науку о душевных явлениях или
как естественную историю душевных явлений. Это вот что значит:
естествознание, изучая явления внешней природы, старается выследить их
состав, происхождение и управляющие ими законы, а не задается целью
оценивать их с этической, эстетической и т. п. точек зрения. Например,
ботаника не рассматривает растений с эстетической точки зрения; а
физиология, говоря о половых процессах, совершенно отвлекается от
рассмотрения их этической стороны. Так же точно и психология изучает душевные
явления, отвлекаясь от всех этих точек зрения, вполне уместных
где-нибудь в другом месте (например, в этике, эстетике, педагогике и т. п.). Она
изучает душевные явления безоценочным образом, просто как факты
внутренней природы, независимо от того, заслуживают ли они одобрения или
порицания со стороны моралиста, художника и т. п.
Здесь кстати указать для лучшего уяснения только что сказанного,
чем логика отличается от психологии мышления, которая тоже изучает
мышление, так что, по-видимому, логику следовало бы рассмотреть как
371
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
часть психологии, именно как психологию мышления. Но дело в том, что
психология, будучи естественной историей душевных явлений, изучает
мышление с той же точки зрения, как и все остальные душевные явления:
явления памяти, чувствований и т. д., т. е. просто как один из фактов
душевной жизни, без всякой оценки его с точки зрения его правильности или
неправильности, как орудия для приобретения знания. Она только
описывает явления мышления, разлагает их на составные элементы, выясняет
законы, управляющие влиянием мышления на другие душевные явления и
его зависимостью от них и т. п., но она не интересуется ни тем, каковы
должны быть целесообразны, т. е. правильные приемы мышления, ни тем, в чем
состоят ошибки при употреблении этих приемов и т. д., ни, вообще, какова
роль мышления в развитии знания. Логика же, напротив, имеет в виду
прежде всего оценить9 насколько целесообразные различные приемы
мышления, т. е. какие из них можно считать правильными, пригодными для
расширения знания, а какие ошибочными и т. д. Зато она вовсе не интересуется
вышеуказанными вопросами о мышлении.
Изучая одни лишь душевные явления, и притом безоценочным
образом, современная психология, конечно, должна иметь в виду следующие
задачи:
1. Прежде всего она старается выследить до последних пределов
состав каждого душевного явления. И если оно оказывается
простым, неразложимым, то, конечно, ей приходится
ограничиваться лишь указанием его сходств и различий с другими
явлениями. Если же данное душевное явление окажется сложным,
то, разумеется, психология должна выяснить, из каких именно
элементарных явлений составлено оно, каким путем постепенно
складывается оно из них, и как изменяется его общий характер в
зависимости от видоизменений этих элементарных составных
частей и т. д.
2. Далее, к изучению состава душевных явлений и способа
возникновения сложных явлений из простых присоединяется изучение
влияния друг на друга разных душевных явлений (например, памяти на
мышление, мышления на память и волю и т. д.).
Решение этих двух задач многие называют общей психологией, хотя
гораздо вернее было бы называть их основной психологией, потому что эта
часть психологии лежит в основе всей психологии.
3. Общую, т. е. основную, психологию надо отличать от
сравнительной психологии, разделяющейся на несколько специальных ветвей
и изучающей те особенности, которые встречаются в одних и тех
же душевных явлениях, если их рассматривать у разных
индивидуумов, хотя бы даже одного и того же возраста и пола
(индивидуальная психология), или у лиц разного возраста (психология
возрасти
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
тов) и разного пола (психология мужнины и женщины), или же у
разных животных (зоопсихология, или психология животных),
или у душевнобольных (психопаталогия).
4. От сравнительной психологии несколько отличается коллективная
психология, изучающая те видоизменения, которым подвергаются
душевные явления у большей или меньшей группы лиц оттого, что
они соединились в одно организованное или неорганизованное
целое (психология толпы, психология классов и сословий,
психология народов и т. п.). Ошибочно думать, будто бы ход душевных
явлений остается у людей, соединившихся в организованную или
неорганизованную массу, таким же, как и в том случае, когда они
изолированы относительно друг друга; в массах, особенно в тесно
сплоченной толпе, в душевных явлениях складываются такие
особенности, которых не было бы при других условиях. Так, толпа
легко принимает и исполняет такие решения, например совершает
такие преступления, пред которыми всякий ее член ужасается, когда
остается один.
5. К общей, т. е. основной, психологии некоторые авторы причисляют
психофизиологию, или физиологическую психологию, хотя вернее
считать ее особой наукой, имеющей для психологии очень важное
вспомогательное значение, но прямо к ней не относящейся, наукой
промежуточной между психологией и физиологией. Состоит же она
в изучении связи душевных явлений с телесными. При этом не
лишним будет замечание.
Употребляя термин «психофизиология », надо избегать ошибочного
смешения следующих психологических терминов, смешения, вызываемого
главным образом их сходством, именно: «психофизика » и «психометрия ». Это не
синонимы, как иногда думают, а совершенно различные термины. Под
«психофизикой» подразумевается та часть психологии (точнее сказать —
психофизиологии), которая изучает зависимость ощущений от раздражений,
обусловливающих возникновение этих ощущений. «Психометрией» называется
измерение скоростей душевных явлений, т. е. измерение промежутка
времени, в течение которого успевает протечь данное душевное явление. Иногда даже
считают синонимами и выражения: «экспериментальная психология», с
одной стороны, и «психофизиология» или «физиологическая психология» —
с другой. В действительности под экспериментальной психологией
подразумевается разработка любого отдела психологии посредством
экспериментирования, а не одной лишь психофизиологии. Смешение же
экспериментальной психологии с физиологической было вызвано тем, что сперва применением
экспериментирования к изучению психологии занимались одни лишь
физиологи да врачи; и, разумеется, они обращали свое внимание только на
психологические вопросы; и тогда экспериментальная психология действительно была
373
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
частью одной только физиологической психологии. Но такое положение дел
уже давно прошло; поэтому теперь уже стало ошибочным отожествлять
экспериментальную психологию с физиологической. В настоящее время
экспериментальная психология составляет часть как чистой, так и физиологической
психологии; экспериментированием над душевными явлениями занимаются теперь
не одни лишь врачи и физиологи, а также и психологи-философы.
Таковы задачи современной психологии. Но не следует думать, что в
книге, излагающей все ее содержание, насколько оно установилось в науке
за последнее время, т. е. в курсах психологии, должно быть и
соответственное число отделов. Только что изложенный перечень есть перечень задач,
а не отделов в изложении психологии. Многие из этих задач еще столь
мало разработаны, что из них еще нельзя составить особого отдела при
изложении систематического обзора содержания современной
психологии. Поэтому обыкновенно при этом изложении поступают так, что
систематически излагают лишь вопросы основной психологии, попутно
присоединяя наиболее прочные положения, относящиеся к решению других
намеченных нами психологических задач.
Теперь задачи современной психологии достаточно ясны. Но вот по
поводу них возникают два недоумения:
1. Зачем, занимаясь психологией без души, изучать не только состав,
взаимное влияние и видоизменения явлений в зависимости от
разных условий, в которых находится душевная жизнь, но также и связь
душевных явлений с телесными? Другими словами, нужна ли для
психологии без души и психофизиология, хотя бы даже в виде
вспомогательной науки? Когда психология хотела решить вопрос, есть
ли душа и какова она, то она, конечно, нуждалась для решения
этого вопроса в точнейшем знании связи душевных явлений с
телесными; но теперь-то зачем ей психофизиология?
2. Почему современная психология отказалась быть учением о душе?
Ведь такое учение было бы высшей степени важным, даже гораздо
важные всех перечисленных нами задач современной психологии.
Как же совершилось, что она предпочла быть психологией без души?
Были ли для этого какие-нибудь причины и в чем они состоят?
Сперва о пользе психофизиологии для психологии. С первого взгляда,
конечно, может показаться, что психофизиология является совершенно
лишним, чисто механическим привеском к психологии и что самое большее
ее следует считать наукой, хотя и смежной с психологией, но отнюдь не
важной для психологии. Однако это неверно: психофизиология имеет во
всяком случае важное вспомогательное значение. Действительно, если
когда-нибудь мы узнаем точным образом связь душевных явлений с
телесными, то мы в состоянии будем посредством рассмотрении физиологических
явлений пополнять наше знание душевных явлений, рассматриваемых со
374
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
стороны их состава и взаимного влияния, и наоборот посредством
изучения душевных явлений пополнять наши физиологические знания. Для
пояснения этой возможности условимся прописными буквами обозначать
физиологические явления, а соответственными строчными буквами —
связанные с ними душевные явления, так что физиологическому явлению А
соответствует душевное явление а, В — Ь, С — с и т. д. Допустим же теперь,
что когда в нашем теле возникает А, то оно вызывает ряд других
физиологических явлений: В, С и D, и что каждое из них каким-нибудь путем
(посредством особых инструментов и т. п.) мы ясно подмечаем в себе. Но
допустим вместе с тем, что связанные с ними душевные явления остаются в
это время не вполне заметными для нас. Тогда мы все-таки можем
наверное сказать, что они состоят из а, Ь, с и d, коль скоро нам в точности
известна связь этих явлений с телесными. Таким образом, зная эту связь, мы по
ходу и составу заметных для нас физиологических явлений в состоянии
будем правильно судить о ходе и составе не вполне заметных душевных
явлений. Но, конечно, при достаточном изучении связи душевных явлений
с телесными возможно будет судить и наоборот — по ходу и по разным
подробностям душевных явлений о трудно уловимых подробностях
физиологических явлений. Таким образом, психофизиология или
физиологическая психология, составляя пограничную область между физиологией и
психологией, обещает содействовать развитию и той и другой науки, коль
скоро сама достигнет достаточно высокого уровня. Поэтому ею как
вспомогательной наукой не должна пренебрегать ни психология, ни
физиология. Вот отчего многие и причисляют ее прямо либо к психологии, либо к
физиологии; но она промежуточная между нами наука, имеющая
вспомогательное значение и для той, и для другой.
Теперь рассмотрим, как произошло, что психология из учения о душе
превратилась в психологию без души. Эта перемена, происшедшая во
второй половине XIX в., была обусловлена следующими причинами: рано или
поздно она должна была бы произойти и сама собой из-за одной уже
научной осмотрительности, а ее ускорению содействовало еще
распространение влияния критической теории познания и позитивизма. Разъясним все
это подробнее.
Вопрос о существовании души, т. е. самостоятельного духовного
начала, возник более 2000 лет назад, причем тотчас же на него были даны два
противоположных ответа; и с той поры каждое из его решений
беспрерывно все еще опровергает другое и доказывает себя, но ни одно еще до сих пор
другого не опровергло, а себя еще не доказало. Одно уже это
обстоятельство должно внушать мысль, что, чего доброго, этот вопрос — навсегда
неразрешимый и что психологии полезнее отказаться от него, а
ограничиться лишь изучением душевных явлений. К тому же если даже
предположить, что он когда-нибудь будет разрешен, то, конечно, это произойдет
375
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
не иначе как через тщательное изучение душевных явлений и связи
душевных явлений с телесными, причем те и другие надо рассмотреть без всякого
пристрастия к тому или другому решению вопроса о душе. Ясно, что в силу
уже одних этих соображений, рано или поздно, психология должна была
бы стать психологией без души.
Но это ускорилось под влиянием критической теории познания, или
критической философии. Этими именами, иначе философским
критицизмом, принято называть философское направление, основанное Кантом,
жившим между 1724 и 1804 гг., так что критический и кантианский, т. е.
кантовский, стали синонимами.
Критическая теория познания разделяет все предметы, о которых
может у нас возникнуть какой бы то ни было вопрос, на две группы: на
трансцендентные и имманентные. (Термин «трансцендентный » не следует
смешивать, как это часто делают, со словом «трансцендентальный»: эти
термины имеют в критической теории познания разные значения.)
Трансцендентным называются такие предметы, которые по самому понятию о
них при существующей организации наших познавательных способностей
никогда, нигде и ни при каком изощрении нашей восприимчивости не могли
бы быть восприняты в опыте, так что они по самому существу своему
остаются за пределами не только действительно бывшего, но и всякого
возможного опыта (под опытом же в философии принято подразумевать не только
эксперименты, но и наблюдения). Эти предметы остаются за пределами всех
возможных экспериментов и всех возможных наблюдений, где бы и когда
бы ни производились они и как бы ни изощрялась при этом наша
восприимчивость при помощи подходящих инструментов. Имманентными же
называются такие предметы, которые или действительно воспринимаются нами
в опыте, или могли бы быть восприняты в нем, если бы мы перенеслись на
другое место или жили в другое время или же при помощи надлежащих
инструментов достаточно изощрили свою восприимчивость. Словом:
это — предметы, которые остаются в пределах опыта, возможного для
существа, имеющего такую же организацию познавательных способностей,
как у людей. Например, душа и Бог, по самому существу своему,
т. е. по самому понятию о них, не могут быть восприняты в опыте, пока
организация наших познавательных способностей остается такой же, какова она у
нас сейчас, так что эти предметы остаются вне пределов всякого возможного
опыта. Их нельзя воспринять в опыте, никогда и ни при каком изощрении
нашей восприимчивости. Следовательно, это трансцендентные предметы.
Предметы же, находящиеся на Марсе, составляют имманентные предметы; ибо
хотя они никогда не воспринимались и, по всей вероятности, никогда не
будут восприняты в опыте, но они все-таки остаются в пределах
возможного опыта, потому что они могли бы восприниматься нами без всякой
перемены наших познавательных способностей. Например, если бы мы
пере376
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
неслись с Земли на Марс или если бы мы при помощи надлежащих
инструментов достаточно изощрили наше зрение, то мы воспринимали бы эти
предметы.
Установив эту разницу между двумя классами предметов,
критическая теория познания посредством самого тщательного анализа всех
условий, благодаря которым становится возможным для нас знание,
доказывает такие положения о границах знания, доступного нашему уму:
относительно имманентных предметов наше знание может развиваться
до бесконечности; кроме трудности, здесь нет других препятствий для
решения любого вопроса. Но трансцендентные вопросы остаются
навсегда недоступными для нашего ума, и вовсе не в силу количественных
причин, вовсе не потому, чтобы они отличались особой трудностью, а по
причинам качественного характера, именно — вследствие присущей нам
организации наших познавательных способностей. И на каждый
трансцендентный вопрос, например о существовании души, Бога и т. п.,
всегда можно будет без всякого противоречия с логикой и фактами
опыта дать два диаметрально противоположных ответа, так что каждый из
них будет одинаково неопровержимым и одинаково недоказуемым.
Другими словами: ни один из этих ответов никогда не может
обратиться в знание, а навсегда должен оставаться только верой, которая,
правда, будет неопровержимой, но зато и недоказуемой. Таким образом,
каждый может смело держаться той или другой веры относительно
трансцендентных вопросов в полной уверенности, что его никто
никогда не опровергнет, хотя и сам он тоже не опровергнет чужой веры по
поводу того же вопроса.
Но в состав науки какая бы то ни была вера, а следовательно, и всякое
трансцендентное воззрение, конечно, может входить только в виде
рабочей гипотезы, т. е. такого предположения, которое назначено отнюдь не
для того, чтобы служить научно обоснованным (хотя бы и не достоверным,
а лишь более вероятным) изображением действительности, как это
имеется в виду при реальных гипотезах, но только для того, чтобы служить
вспомогательным средством при изучении науки, например — помогать нам
легче ориентироваться среди изучаемых фактов, легче запоминать их,
делать открытия, находить новые вопросы и т. п. Словом, так называемая
метафизика, если под этим именем подразумевать учение о
трансцендентных предметах, как это и подразумевают обыкновенно, должна быть
предоставлена вере, а в науке она может быть употребляема только в виде
рабочих гипотез. При этом, разумеется, в каждой науке изо всех
метафизических воззрений нужно предпочитать то, которое с точки зрения этой
науки окажется проще других. Ведь коль скоро от метафизических или
трансцендентных гипотез в науке требуется всего только, чтобы они
служили вспомогательным орудием, а не изображением действительности, то,
377
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
разумеется, они будут тем ценнее, чем они проще других, т. е. чем легче
будет при их помощи объединить и связать в одно целое наибольшую
сумму фактов. Нередко думают, будто бы простота гипотезы свидетельствует
об ее наибольшей вероятности, будто бы простота служит признаком
истины Этот ошибочный взгляд зависит только от того, что не делают
разницы между вспомогательным для науки средством и изображением
действительности. От вспомогательного средства можно и должно требовать, чтобы
оно было проще; но кто и как докажет, что таким же должен быть и всякий
взгляд, наиболее соответствующий действительности? Разве природа
устроена с таким расчетом, чтобы ее можно было изучать легко и быстро?
Может быть, и да, а может быть, и нет.
Таковы взгляды критической философии по поводу всех
трансцендентных предметов, к числу которых, как сказано, относится и душа.
Философия же XIX столетия находилась постоянно под прямым или косвенным
влиянием основанного Кантом критического направления. А в последние
сорок лет критическая философия распространилась особенно сильно во
всех странах под именем новокантианства, или новокритицизма. Поэтому
вполне понятно, что под ее влиянием ускорилось превращение прежней
психологии в психологию без души.
Этому ускорению содействовал еще и позитивизм Копта. В своем
«Курсе позитивной философии »(изданном в 30-х и 40-х годах XIX в.) Конт
изложил закон трех фазисов, который в основанной им позитивной
философии заменяет всю теорию познания. По этому закону, всякая наука,
которая не ограничивается одними лишь описаниями фактов, проходит в
своем развитии три фазиса. В первом, или теологическом, фазисе, иначе
фиктивном, все явления природы объясняются как действие
человекоподобных божеств, причем постепенно число их сокращается, и все они заменяются
одним Богом. Второй фазис, называемый метафизическим, или
абстрактным, объясняет явления природы при помощи скрытых сущностей вроде,
например, жизненной силы, или души, причем на деле такими сущностями
служат абстрактно мыслимые свойства наблюдаемых явлений. Третий
фазис — позитивный, или научный, — отбрасывает при объяснении
природы и божества, и абстрактные сущности, отказывается от изучения
конечных и первых причин, а ограничивается лишь изучением того, что дано в
опыте, объясняя все явления природы одними лишь законами природы.
Так, астрономия не объясняет теперь движений светил ни волей божеств,
ни ссылкой на то, что светила обладают совершеннейшей сущностью,
вследствие которой они должны двигаться по совершеннейшим, т. е. по
круговым, линиям, как это делалось в Древней Греции, но объясняет их одними
лишь законами природы: законами тяготения, инерции и т. д. Таким
образом, на высшей своей ступени каждая наука должна быть позитивной и
должна отказаться от всякой метафизики.
378
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Своим отрицательным отношением к метафизике позитивизм похож на
критицизм, хотя между ними есть глубокая разница в том, что в критицизме
тщательно разработана теория познания, а в позитивизме она вся
исчерпывается лишь законом трех фазисов (вследствие чего позитивизм упрекают в
том, что на деле у него вовсе нет теории познания). Но как бы то ни было,
и позитивизм содействовал ускорению замены прежней психологии
психологией без души.
Такими-то путями произошло во второй половине XIX в. у подавляющего
большинства психологов превращение психологии из науки о душе в психологию
без души. Что же касается нашего изложения, то его целью служит психология без
всякой метафизики, не только без души. Почему же мы так поступаем? Может
быть, Кант и Конт ошибаются в своем отрицании возможности метафизики в виде
знания? Ведь судить об этом мы пока еще не можем, потому что мы изложили
только их окончательные выводы, а не те доказательства, которыми
подкрепляются эти выводы; а изложение их доказательств, конечно, далеко отвело бы нас в
сторону от психологии. Но если метафизика и возможна в виде знания, а не одной
лишь веры, все-таки надо разрабатывать психологию без всякой метафизики,
т, е. без всякого учения о каких бы то ни было трансцендентных предметах,
а не только без души, метафизику же надо строить как особую науку, которая
откровенно занимала бы свое место среди других наук, а не проникала бы в их
область под флагом и за спиной психологии. Такое положение дел будет гораздо
выгоднее как для психологии, так и для метафизики. Для психологии это потому
выгоднее, что она избавится от всякой связи со столь шаткими и спорными
учениями, как метафизические, с учениями, относительно которых даже доказывают, что
они никогда не могут сделаться знанием, но осуждены навсегда оставаться верой.
Для метафизики же это потому выгоднее, что она будет разрабатываться, если
только она вообще возможна в виде знания, с большей полнотой и
систематичностью, чем когда она затрагивается всего лишь мимоходом в других науках.
Психология, сделавшись психологией без души, тем не менее не
утратила философского значения. Философия есть научно переработанное при
помощи теории познания мировоззрение. Тем, что она перерабатывает его
при помощи теории познания, она отличается от всех других наук: простое
суммирование результатов всех остальных наук не есть еще философия,
хотя бы эти результаты и были очень важны для мировоззрения. А тем, что
философия есть научно переработанное мировоззрение, она отличается и
от религии, и от поэзии, которые тоже действуют на наше мировоззрение,
но иным путем, чем философия. Что же касается теории познания, или,
как ее иначе называют, гносеологии, то под ней подразумевается учение о
знании, выясняющее условия, благодаря которым становится
возможным бесспорно существующее знание, и в зависимости от этих условий
устанавливающее границы, до которых может простираться какое бы
то ни было знание и за которыми открывается область одинаково
не379
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
опровержимых и одинаково недоказуемых верований. «Гносеология» —
слово греческое. В переводе на русский язык оно означает «учение о
познании». Употребляют же его у нас в России наряду с термином — «теория
познания», как его синоним, по той причине, что от последнего термина
нельзя образовать прилагательное без насилия над русским языком (слово
«теоретико-познавательный» — крайне неуклюжее); а от слова
«гносеология » легко образуется прилагательное «гносеологический ».
Разумеется, всякая наука имеет философское значение лишь
постольку, поскольку она содействует усовершенствованию нашего
мировоззрения. Прежде психология, когда она была учением о душе, конечно, имела
философское значение. Но и психология без души тоже имеет его через
свою связь с различными отделами философии, или, как их принято
называть, философскими дисциплинами: например, теория познания и этика
часто обращаются за справками к психологии. Между философией,
психологией и логикой такая тесная связь, что она сразу всем кидается в глаза,
и под влиянием этой связи установилось даже двоякое употребление слова
«философия». Кроме узкого смысла, который только что был объяснен
нами, его употребляют еще и в широком смысле, подразумевая под ним
соединение трех наук: самой философии, психологии и логики, вследствие
чего психологию называют одной из философских наук.
Никто не сомневается также и в утилитарном значении психологии,
именно, в том, что она служит вспомогательным средством для
психиатрии, для юридических наук и для педагогики. Напротив, постоянно даже
преувеличивают утилитарное значение психологии, особенно ее важность
для педагогики. Думают иногда, будто бы педагогика может быть
выведена из психологии. Против такого преувеличения не мешает бороться,
потому что в силу реакции оно может вызвать полное пренебрежение к
психологии, и начнут отрицать всякое значение ее для педагогики.
Прежде всего отметим, что нельзя основывать педагогику на
современной психологии вследствие крайней неразработанности последней. В
современной психологии все спорно, все находится в сильнейшем брожении, еще
ничто не установилось. Исключений из такого положения дел в ней очень мало,
причем подавляющее большинство из них касается вопросов, пограничных
между психологией и физиологией, и не имеет практического значения для
педагога. Поэтому, какой бы ни стала психология в отдаленном будущем,
современная психология может быть важна для педагога почти исключительно
теми умственными навыками, которые вырабатываются при ее изучении. При
рассмотрении же методов психологии мы увидим, что и впредь ее положение
всегда будет очень печальным сравнительно с другими науками. Она никогда
не достигнет не только такой точности, как современная физика и химия, но
даже и такой, как современная физиология. Но какой бы ни стала психология
в отдаленном будущем, теперь-то ее значение для педагога совсем другое, чем
380
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
значение физики для техника и физиологии для врача: современная
психология важна для педагога почти исключительно как предмет
образовательный, как предмет, вырабатывающий в нем полезные для него умственные
навыки, а вовсе не как теоретическая основа всей его деятельности.
Слишком мало в ней прочно установленных учений, чтобы служить такой основой.
Практика педагога, построенная вся целиком на современной психологии, это
то же, что здание, воздвигнутое на песке. А как мало разработана современная
психология, видно хотя бы из отзыва Вундта, по словам которого пока еще
нельзя даже составить такую программу по психологии, по которой можно
было бы экзаменовать во всех университетах независимо от того, у какого
профессора учился экзаменующийся: до такой степени содержание
современной психологии еще спорно и неустойчиво.
Далее: есть психологи, которые даже навсегда отрицают возможность
выводить педагогику из психологии. Таков, например, Джемс,
высказавшийся в его превосходной маленькой книжке «Психология в беседах с
учителями». (Эта маленькая книжка, существующая и по-русски,
заслуживает большого внимания). Педагогика, по его словам, не может быть
выводима из психологии, и первая должна только не противоречить
последней. Но изучение психологии важно для педагога не столько теми
сведениями о душевной жизни, которые должен помнить педагог, чтобы
не противоречить им в своей педагогической практике, сколько тем,
что он особенным образом разовьет свой ум, если внимательно и
систематически поработает над изучением психологии: от этого у него
выработаются необходимые для педагога навыки вглядываться в факты
своей и чужой душевной жизни и умение правильно относиться к ним.
Что же касается тех психологических сведений, которые нужно педагогу
постоянно иметь в виду, чтобы не противоречить им в своей практике, то их
очень мало. По меткому выражению Джемса, их все можно уложить на
ладони руки. Да и усваиваются они крайне легко. Поэтому из-за них одних
не стоило бы изучать всю психологию, а можно было бы знакомиться с
ними попутно, при рассмотрении задач воспитания и обучения. А вот
самих-то этих задач, т. е. наиважнейшего учения педагогики, уже никак нельзя
вывести из психологии, как науки безоценочной, говорящей только о том,
что существует на деле, без всякой оценки существующего.
Наконец, встречаются и такие психологи, как Мюнстерберг. Он
допускает, что педагогика, как научная теория воспитания и обучения, до
известной степени может и должна опираться на психологию. Но, по его
мнению, отдельно взятому учителю нет никакого дела до психологии, и в
своем обращении с учеником он должен опираться не на психологию, а на
логику, этику и эстетику. Более того: по мнению Мюнстерберга, во время
учительской практики даже вредно относиться к ученику как к предмету
психологического рассмотрения. По его словам, во время учительской
прак381
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
тики педагогическая и психологическая точки зрения на ученика
несовместимы одна с другой.
Таким образом, психология, взятая в том виде, в каком она уже
существует в настоящее время, важна не своими утилитарными заслугами, но
как часть философии. Если же встречаются люди, сильно
преувеличивающие утилитарное значение и важность для педагогики той психологии,
которая уже существует в настоящее время, то это доказывает, что они либо
мало осведомлены в степени разработанности современной психологии,
либо не умеют отличить желаемого и ожидаемого ими состояния
психологии от современного.
2. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ:
САМОНАБЛЮДЕНИЕ И ТАК НАЗЫВАЕМОЕ
ОБЪЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДУШЕВНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Конечно, проще всего и естественнее всего вести собирание и описание
явлений душевной жизни путем наблюдения этих явлений в самом себе.
Такое наблюдение душевных явлений (т. е. наблюдение над ними в самом себе)
называется самонаблюдением, или внутренним наблюдением, или
интроспекцией. Систематическое же употребление самонаблюдения для научных
целей называется субъективным, или интроспективным, методом. Но есть
еще и объективное наблюдение, состоящее в наблюдении душевных явлений,
происходящих в другом одушевленном существе, т. е. в наблюдении чужой
душевной жизни, причем систематическое применение объективного
наблюдения называется объективным методом.
Так как употребление самонаблюдения для изучения душевной жизни
естественнее всего приходит в голову, то понятно, что психология со времени
Аристотеля (ум. 322 г. до Р. X.), т. е. с того времени, как стали ею заниматься не
мимоходом, а систематически, всегда пользовалась главным образом
самонаблюдением, лишь изредка употребляя в виде добавочного средства
объективное наблюдение. Но до второй половины XIX в. она не отдавала себе ясного
отчета, следует ли так поступать, а если следует, то почему именно. Такой
отчет стал необходим для нее в XIX в., когда, по почину основателя
позитивизма — Огюста Конта, возник вопрос о самой возможности самонаблюдения.
А именно — в 30-х годах прошлого столетия Конт напечатал свое сочинение
«Курс позитивной философии», в котором, анализируя методы различных
наук, пришел к отрицанию самой возможности самонаблюдения над
мышлением. Это мнение он доказывает следующими соображениями:
1. Орган не может наблюдать над своей собственной деятельностью,
например глаз не может видеть сам по себе свою деятельность.
Органом же мышления служит головной мозг. А это значит, что при
самонаблюдении над мышлением головной мозг должен наблюдать над
сво382
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
ей собственной деятельностью; но это так же невозможно, как
невозможно, чтобы глаз наблюдал над тем, как он действует.
2. Второй аргумент Конта сводится к тому, что наше Я не может
раздваиваться, ибо оно единично. При самонаблюдении же оно должно
раздвоиться, ибо оно должно быть сразу наблюдаемым и наблюдающим;
а значит — мышление путем самонаблюдения изучать нельзя.
Мысли, высказанные Контом, нашли много последователей, и
распространилось пренебрежение уже ко всякому употреблению субъективного
метода. Стали отрицать возможность употребления самонаблюдения при
изучении не одного лишь мышления, но и вообще душевных явлений. Один из
аргументов Конта усилили и придали ему такую форму: разве, спрашивали,
возможно, чтобы наше Я при каком бы то ни было самонаблюдении, а не
только при самонаблюдении над мышлением раздваивалось на
наблюдающее и наблюдаемое? Очевидно, в силу единства нашего Я, это невозможно.
Но это неизбежно при самонаблюдении; следовательно, оно
неосуществимо вообще, а не только в применении к мышлению. А из этого делали тот
вывод, что душевные явления надо изучать, как и физиологические, путем
внешнего наблюдения, т. е. через наблюдение их не в самом себе, а в другом лице.
И так как при этом мы прежде всего будем сталкиваться с деятельностью
нервной системы, то даже заключали отсюда, будто бы психологию надо
считать частью физиологии нервной системы.
Впрочем, пренебрежение субъективным методом в психологии
продолжалось недолго. Скоро раздались голоса, доказывавшие невозможность
ограничиваться в психологии одним лишь объективным методом и
выставлявшие на вид не только необходимость самонаблюдения, но и его главенство в
психологии перед объективным наблюдением. И действительно: легко
убедиться, что Конт сильно заблуждался со всеми своими последователями.
Ведь самонаблюдение, даже над мышлением, очевидным и неоспоримым
образом существует: иначе мне нельзя было бы самому узнать и рассказать
другим, что я чувствую, думаю и т. п., а надо было бы всякий раз спрашивать об
этом у других. Конт же, не обращая на это внимания, хотел, так сказать,
отфилософствовать этот факт. Несомненное же существование самонаблюдения
доказывает, что оно возможно и что в доводах Конта непременно скрываются
какие-то ошибки. Надо только вскрыть их. Они таковы: 1) Первое его
возражение (что орган мышления, головной мозг, не может наблюдать над своей
деятельностью, подобно тому, как глаз, орган зрения, не может следить за
своей) построено им на аналогии глаза и головного мозга, на перенесении на
головной мозг того, что подмечено в глазу. Не будем распространяться, что
вообще-то к выводам по аналогии следует относиться осторожно: они не
могут служить доказательством. Но этого мало: в данном случае аналогия, если
бы даже она вообще была способна служить доказательством, здесь
оказалась бы непригодной к этому; ибо здесь она неправильно проведена.
Действи383
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
тельно, Конт говорит: глаз не может наблюдать над своей деятельностью. Но
над какой деятельностью? Над телесной, т. е. над теми физиологическими
процессами, которые в нем происходят. Отсюда надо бы заключить по аналогии,
что и головной мозг также не может наблюдать над своей физиологической
деятельностью (над питанием мозга, над переменами в его волокнах и т. д.).
А Конт говорит: над деятельностью мышления, т. е. над деятельностью
психической, а вовсе не физиологической.
2) Ошибка же второго возражения Конта, гласящего, что наше Я не
может раздваиваться на наблюдающее и наблюдаемое, и обобщенного
последователями Конта на все случаи самонаблюдения (не только над мышлением),
заключается в перенесении без всяких доказательств на душевную
деятельность закона внешних наблюдений. При внешних наблюдениях,
действительно, необходима двойственность, существование двух вещей сразу —
наблюдающего органа и наблюдаемого предмета (например, нельзя осязать
чего-либо, если нет сразу и осязаемой вещи, и осязающего органа). Но
явления внешнего мира совершенно не похожи на душевные; поэтому законы,
управляющие внешними наблюдениями, нельзя без всяких доказательств, как
бы самоочевидную истину, переносить на внутренний мир — на
самонаблюдение. Последнее надо брать таким, как о нем свидетельствуют факты. А факты
показывают, что наше Я при самонаблюдении вовсе не раздваивается. Да и нет
надобности в таком раздвоении; ибо душевные явления обладают одной
особенностью, которая называется сознательностью и которая устраняет
необходимость такого раздвоения. Она состоит в том, что, переживая душевное
явление, мы в то же время через это самое уже знаем, какое именно душевное
явление мы переживаем. В телесных же явлениях дело стоит иначе: например,
о пищеварении мы узнаем лишь из науки, хотя переживаем его каждый день;
а поэтому они называются бессознательными. Сознательность душевных
явлений и делает возможным употребление самонаблюдения без всякого
раздвоения нашего Я.
Но из всего сказанного вытекает только одно: вопреки мнению Конта и
его последователей самонаблюдение оказывается вещью, вполне возможной,
осуществимой. Но необходимо ли употреблять его для разработки
психологии или необходимо заменить объективным наблюдением? У душевных
явлений есть еще одна особенность, которая делает употребление
самонаблюдения для их изучения не только неизбежным, но даже основным, главным
методом, именно: душевные явления сознаются или воспринимаются только
тем лицом, которое их переживает; чужие же мысли, чувства, хотения,
вообще чужие душевные явления воспринимать мы не можем.
Мы в действительности воспринимаем не самые чужие душевные
явления, но только те телесные процессы, которые их сопровождают,
и, отправляясь от них как от знаков душевных явлений, мы всего только
заключаем о связанных с ними душевных явлениях. Так, мы не можем
ви384
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
деть самого чужого горя, самой чужой радости, т. е. самих душевных
состояний, называемых этими именами. Мы видим только проявления их в
телесных процессах, именно — видим только слезы, смех, своеобразный
блеск глаз, игру физиономии, известные жесты и т. п., а по всему этому,
как по знакам, всего лишь заключаем о душевных событиях, вызывающих
эти физиологические проявления.
А из этого следует, что так называемое объективное наблюдение вовсе не
составляет наблюдения самих чужих душевных явлений, как мы его
определяем ради краткости. Его даже не следовало бы называть объективным
наблюдением душевных явлений или наблюдением чужой душевной жизни; употребление
таких названий есть лишь уступка привычному языку. В действительности же
так называемое объективное наблюдение душевных явлений сводится к
наблюдению одних лишь материальных явлений, соединенному с их
истолкованием как показателей душевных явлений, производимых нами на
основании тех знаний о связи душевных явлений с материальными, которые мы
успели приобрести раньше посредством самонаблюдения. Ведь чтобы знать
значение слез, смеха, разных жестов и т. п., я должен сперва в самом себе
наблюсти, при каких душевных явлениях они возникают. Таким образом,
самонаблюдение оказывается для психологии не только неустранимым или
необходимым методом, но даже основным методом. Даже кажется сомнительным,
нужно ли рядом с ним пользоваться объективным наблюдением. Но по двум
причинам он необходим, как вспомогательный метод, именно:
1. Объективный метод совершенно неизбежен в большей части вопросов,
изучаемых сравнительной психологией. Конечно, когда мы изучаем
особенности душевной жизни довольно взрослых и душевно здоровых лиц,
т. е. индивидуальную психологию, то нам лучше всего прибегнуть к опросу
этих лиц. Но даже и тут мы можем встретить затруднения, состоящие в
том, что о многом будут неохотно вступать с нами в откровенности, так что
и тут даже придется прибегать к помощи объективного наблюдения.
Когда же мы хотим узнать типы психических организаций, сильно
отличающиеся от нашего собственного типа, например — душевнобольного или
ребенка, или животного, то уже решительно нельзя обойтись без так
называемых объективных наблюдений.
2. Необходимы объективные наблюдения и при изучении
коллективной психологии. Когда исследователь подчиняется тем влияниям,
исходящим из соединения многих лиц в один конгломерат, которые
изменяют ход душевной жизни лиц, образующих этот конгломерат, когда,
например, он сам попадает в толпу, подчинившуюся изменению в
обычном ходе душевной жизни, то обыкновенно он находится в таких
условиях, что самонаблюдение становится прямо-таки невозможным:
увлеченный настроениями толпы, он занят тем же, чем и толпа, а не
психологией. Если же у него такой философский склад характера, что
\5 Российская психология 385
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
он остается независимым от изменяющих его душевную жизнь
влияний толпы, то его самонаблюдению нечем заняться в коллективной
психологии, и остается наблюдать не себя, а толпу.
Но как пользоваться самонаблюдением? Оно может быть двояким: 1)
личным и 2) сравнительным, или коллективным. Под личным
самонаблюдением подразумевается наблюдение, совершаемое психологом над самим
собою, без справок о том, как наблюдаемые им явления происходят у других
лиц. Под коллективным,же самонаблюдением подразумевается
самонаблюдение, совершаемое многими лицами, причем данные, полученные путем
личного наблюдения каждого из них, сравниваются между собой для их взаимной
проверки и пополнения.
Должны ли мы пользоваться обязательно обоими методами
самонаблюдения, или же можно ограничиться лишь одним из них? Да, обоими, ибо:
1) метод личного самонаблюдения страдает важными недостатками, для
устранения которых необходимо прибегать к коллективному самонаблюдению;
2) без личного же самонаблюдения, наоборот, тоже нельзя обойтись. Без него
у нас не было бы знания собственной душевной жизни; а без предварительного
знания своей душевной жизни нельзя даже понять те выражения, которые
употребляются другими лицами для описания их душевной жизни. Ведь значение
этих выражений я могу узнать не иначе, как присматриваясь к тому, что
означают они в применении к моей душевной жизни. Следовательно, раньше всего
мы должны пользоваться личным самонаблюдением. Оно поэтому является
самым основным методом психологии; но для исправления и пополнения его
показаний надо обращаться, как к вспомогательному методу, к
сравнительному самонаблюдению.
Недостатки же личного наблюдения, вынуждающие обращаться и к
помощи сравнительного, следующие:
1. При одном лишь личном самонаблюдении у нас мало средств для
борьбы против влияния предвзятых взглядов, которые накопляются
невольным образом относительно душевных явлений уже в
обыденной жизни и к которым еще присоединяется теория, созданная
психологом при изучении этих явлений. Все эти взгляды заставляют нас быть
пристрастными к ним и мешают точному самонаблюдению.
Ограничиваясь при изучении душевной жизни одним лишь личным
самонаблюдением, мы являемся, так сказать, и судьей своих психологических
взглядов и заинтересованной стороной; и мы можем невольно не
замечать в душевных явлениях того, что противоречит этим предвзятым
взглядам, и якобы подмечать то, чего в действительности не
происходит, но чему следует быть по этим взглядам.
2. Ограничиваясь одним лишь личным самонаблюдением, мы
знакомимся только с одним психологическим типом — с тем, к которому
принадлежим мы сами.
386
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
И указанные недостатки личного самонаблюдения нельзя вполне
устранить никакими его видоизменениями, как это ясно из рассмотрения
последних. Эти видоизменения следующие: 1) метод прямого личного
самонаблюдения и 2) метод непрямого личного самонаблюдения.
Сущность первого метода заключается в наблюдении в себе душевного
явления в тот самый момент, когда оно в нас происходит. Благодаря этому
методу первый недостаток личного самонаблюдения — подчинение
предвзятым взглядам, — хотя и не устраняется вполне, но все же значительно
ослабляется, так как мы здесь стоим лицом к лицу перед фактами,
противоречащими нашим предвзятым взглядам. Зато второй недостаток — знакомство только
с одним психологическим типом — остается здесь во всей своей силе.
Метод же непрямого личного самонаблюдения заключается в наблюдении
своих душевных явлений или 1) путем воспоминания о них, или 2) путем
воображения, т. е. в том, чтобы наблюдать их, как они воображаются. В
пригодности первого вида непрямого самонаблюдения не может быть никаких
сомнений, если не поднимать чисто гносеологического вопроса о том, по какому
праву мы вообще доверяем памяти, хотя в конце концов всякая ее проверка
опирается опять-таки на чью-нибудь память. Что же касается второго вида, то
здесь может возникнуть следующий вопрос: каким образом наука, не
имеющая ничего общего с игрой воображения, допускает метод, рассматривающий
не действительные, а воображаемые факты? Впоследствии, изучая
воображение, мы увидим, что оно есть не что иное, как переживание в слабой степени
воображаемого душевного явления. Следовательно, для изучения
качественной стороны душевных явлений оно вполне пригодно, хотя совершенно
непригодно в науках, изучающих внешний материальный мир. Теперь же мы все-таки
можем по крайней мере доказать частое и плодотворное употребление этого
метода в тех случаях, когда мы рассматриваем душевные явления помимо психологии;
а отсюда можно заключить об его пригодности для психологии.
Читая какой-нибудь роман, мы судим о правдоподобности душевной
жизни выведенных там лиц, критикуем автора и часто приходим к
единогласной его оценке, чем доказывается правильность метода, который приводит нас
к ней. Но каким образом составляем мы себе столь единогласный взгляд на
душевную жизнь действующих лиц романа? Ставя путем воображения самих
себя на их место, воображая себе, что мы сами пережили в своем прошлом все
то же, что и они, и находимся теперь в тех же условиях, как и они, и воображая,
что нашего действительного прошлого у нас не было. Далее: видя, что ход
душевной жизни описанного в романе лица таков, каким он воображается нами,
если бы мы сами находились при таких же обстоятельствах, как и описанное
лицо, мы утверждаем, что описание этого хода, данное в романе, правдиво.
А если все согласны в таком выводе, то, значит, правилен тот метод, которым
он получен. Таким образом, изучение душевных явлений при помощи
воображения вполне возможно. Кроме того, историки тоже часто употребляют
та13* 387
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
кой же метод, когда стараются проникнуть в душу изучаемого ими
исторического деятеля. Ведь они воображают самих себя, поставленными в условия
этого деятеля, и по тому, что они находят в своей воображаемой душевной
жизни, они судят о нем. По всему этому неудивительно, что и в
психологических исследованиях в виде довода приглашают представить или вообразить
себе, что наступит в нашей душе при таких-то и таких-то условиях. И понятно,
что в психологических сочинениях попадается так много ссылок на
беллетристическую литературу, к тому же ссылок, служащих не для простого
пояснения (или иллюстрации), но и для подтверждения сказанного.
Каковы же достоинства и недостатки непрямого метода? Метод
непрямого самонаблюдения при помощи воображения еще не так сильно страдает
вторым недостатком личного самонаблюдения: он при богатом воображении
может еще дать нам кое-какие сведения о возможности (но только о
возможности, а не о фактическом осуществлении) других психологических организаций,
чем наша собственная. Зато первый недостаток—подчинение предвзятым
взглядам — проявляется при всяком непрямом самонаблюдении (и памятью,
и воображением) во всей своей силе, так как и воспоминание, и особенно
воображение, дают полный простор влиянию таких взглядов.
Рассмотрение методов прямого и непрямого личного самонаблюдения
показывает, что ни при одном из них присущие личному самонаблюдению
недостатки не устраняются, а только ослабевают, причем даже не оба
сразу, а порознь. Следовательно, кроме личного самонаблюдения необходимо
употреблять и самонаблюдение коллективное для возможно большего
устранения этих недостатков.
Метод коллективного или сравнительного самонаблюдения состоит в
собирании и в сравнении данных самонаблюдения, накопленных не одним
лицом, а множеством, и может применяться двояким путем: 1) без помощи опроса
других лиц, ограничиваясь лишь прежде накопившимися психологическими
документами, и 2) при помощи опроса, приноровленного к целям данного
исследования, что составит опросный, или, как его называют еще иначе,
анкетный, метод, от французского слова enquete — расследование, исследование;
ибо самый опрос, приноровленный к определенным целям, называется анкетой.
Таким образом, есть два метода коллективного самонаблюдения, причем,
разумеется, каждый из них можно комбинировать с другим, а также и с различными
другими методами. Но опишем подробнее оба эти метода.
В виде готовых психологических документов, кроме сочинений по
психологии, можно пользоваться еще разнообразнейшими источниками, каковы,
например: 1) множество философских сочинений, особенно по гносеологии,
этике и эстетике. Дело в том, что философия для своих построений часто
нуждается в различных психологических справках. В действительности же всегда
или по крайней мере почти всегда авторы философских произведений не
черпали их в готовом виде из психологии, а впервые сами же и находили их, после
388
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
чего большая или меньшая часть их переносилась в состав содержания
психологии. Поэтому, кто хочет выработать из себя действительного, а не
кажущегося только знатока и самостоятельного работника в психологии,
тот должен прежде всего запастись общефилософским образованием,
чтобы оно сделало доступной и понятной для него всю философскую литературу,
еще далеко не использованную в смысле психологических документов. 2)
Религиозно-нравственная литература, конечно, тоже нуждается в
психологических самонаблюдениях и переполнена ими: на них-то и основываются все
излагаемые в ней советы относительно способов преуспеяния в духовной
жизни, поднятия на высшую ступень духовного совершенства и т. п. Между тем
эта литература остается почти вовсе не использованной в смысле
психологических документов. Например, еще Владиславлев (в I т. стр. 94 своей
«Психологии») отметил, что остались совершенно не использованными сочинения
аскетов и подвижников (Исаака и Ефрема Сирина, аввы Дорофея, Иоанна
Лествичника и др.), хотя они внимательно погружались в самих себя, тщательно
изучая изгибы сердца и желаний, гнезда и корни греховных наклонностей и
помыслов. 3) Беллетристическая литература, а именно — произведения тех
лиц, которые обладают выдающимся психологическим талантом (Шекспир,
Толстой, Достоевский и другие). 4) Данные языка, в которых рассеяны
наблюдения, производимые целым народом, отразившиеся во многих пословицах,
поговорках и т. п. 5) Записи самонаблюдений, производимых каким-либо
лицом с какими бы то ни было целями, как, например: самонаблюдения в форме
признания врачу, священнику, литературные исповеди, дневники и т. п.
Но несмотря на такое обилие материала, которым можно пользоваться в
виде готовых психологических документов в целях коллективного
самонаблюдения, все-таки данных, полученных на основании одних лишь готовых
документов, часто бывает мало для пополнения показаний личного
самонаблюдения, что заставляет прибегать к другому видоизменению коллективного
самонаблюдения — к коллективному самонаблюдению, вызываемому и
направляемому самим исследователем при помощи опроса, приноровленного к
его исследованию. Этот опрос, или анкета, может производиться двояким
способом: устно или письменно. К первому прибегают, когда по роду
исследований надо наблюдать явление не иначе как в самый момент его
возникновения. Второй же, т. е. письменный опрос посредством вопросника,
отпечатанного в достаточном числе экземпляров, допустим лишь в тех случаях, когда
явление можно изучать и с помощью воспоминания о нем или воображая, как
оно происходило бы. Разумеется, как то, так и другое средство встречает свои
затруднения: устный опрос требует очень много времени; письменный же, хотя
и не страдает таким неудобством, зато встречает немалое препятствие в лени и
нелюбви к писанию со стороны тех лиц, которым рассылают вопросники. Один
исследователь сообщает, что им было разослано 5000 вопросников, а на них
получены ответы только от 30 лиц.
389
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Как при устном, так и при письменном опросе надо обеспечить себя от
напрасного доверия к умышленно и неумышленно ложным ответам.
Некоторые могут умышленно дурачить исследователя, другие же могут давать
ложные ответы неумышленно, а искажая данные своего самонаблюдения под
влиянием предвзятых взглядов. Следовательно, при всякой психологической
анкете необходима проверка полученных ответов. Такими средствами для
проверки, которые были бы годны при всяком исследовании, служат только:
1) постоянное согласие, данного лица с самим собою, даже при таких
условиях, когда оно не может быть результатом обмана, и 2) согласие многих
лиц между собою. Когда допрашиваемый, поставленный в такие условия, что,
обманувши один раз, не может запомнить в точности своего обмана, все-таки
показывает всегда одно и то же, или же когда один и тот же ответ повторяется
множеством лиц, не находившихся в сношениях друг с другом, то согласие
таких ответов, конечно, может служить порукой в их истинности. Ведь нельзя
же предполагать, чтобы разные лица умышленно или неумышленно
искажали факты одинаковом образом Что же касается до согласия одного и
того же лица с самим собой, то разъясним его на следующем примере.
Предположим, что мы хотим исследовать явление окрашивания звуков, явление,
состоящее в том, что некоторые лица слышат звуки как бы окрашенными в
известные цвета. Здесь для контроля предлагают допрашиваемому лицу
указать, в какой цвет окрашены известные звуки, например, гласные, и указать
при помощи карточек, во всех остальных отношениях вполне одинаковых,
но окрашенных в разные цвета и разные оттенки того же цвета. Показания
эти записываются, потому что на задней стороне карточек есть номера,
которые, однако, остаются неизвестными испытуемому, и вместе с тем не
дозволяется допрашиваемому делать пометки на карточках и т. п. Через
несколько дней его подвергают прежнему опросу. И если по истечении столь
большого промежутка времени опрашиваемое лицо указывает для данного
звука все-таки на те же самые карточки, как и прежде, то, очевидно, это лицо
говорит правду; ибо при умышленном обмане оно не могло бы запомнить
свои первоначальные показания. Ведь запомнить в точности цвет и его
оттенок даже на короткий промежуток времени так трудно, что почти
невозможно без ошибки подобрать в магазине материю определенного цветового
оттенка, если нет в руках образчика этого цвета...
Если же существование моей собственной одушевленности составляет
самую несомненную истину, а всякое одушевленное существо, которое
нашлось бы помимо меня и рассматривало бы меня при помощи своих
объективных наблюдений, могло бы без всякого противоречия с ними отрицать во мне
одушевленность, то, значит, там, где наверное существует душевная жизнь
(т. е. во мне самом), она всегда течет таким образом, что
сопутствующие ей телесные явления совершаются по собственным материальным
законам так, как будто бы там совсем нет душевной жизни. Закон этот,
уста390
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
новленный проф. А.И. Введенским в его книге «О пределах и признаках
одушевления », может быть назван основным законом одушевленности или
законом отсутствия объективных признаков одушевленности. А из этого закона
вытекает, что мне нельзя узнать, где есть одушевленность помимо меня и
где ее нет, так что без всякого противоречия с наблюдаемыми мною
фактами я могу всюду, где захочу, либо допускать, либо отрицать ее. Ведь где
она существует, она протекает так, что материальные явления,
сопутствующие ей, не обнаруживают ее существования.
Теперь, понятно, почему искони и до настоящего времени идут
бесконечные споры о границах одушевленности. Психофизиологи не могут провести
общепризнанной границы между существами одушевленными и
неодушевленными. Вместе с тем они не могут столковаться ни о том, с какого момента в
человеке начинается душевная жизнь, ни о том, существует ли душевная жизнь
в спинном мозге или нет. Далее: некоторые думают, что душевная жизнь
разлита по всей Вселенной; одушевлены-де не только растения, но даже каждый
атом (например, Гекель, Вундт). Другие же, например Декарт, страшно
суживают существование душевной жизни и, признавая ее только в людях, считают
животных бездушными машинами и т. д. И все эти споры, очевидно,
останутся, вследствие отсутствия объективных признаков одушевленности, навсегда
неразрешимыми.
Но если вопрос о границах, или пределах, одушевленности остается
неразрешимым, то, по-видимому, не позволительно употреблять объективный
метод в психологии: ведь он исходит из недоказуемого, хотя и
неопровержимого, предположения, что есть душевная жизнь помимо исследователя. Но на
деле объективный метод все-таки позволителен, и именно в силу того, что
вследствие отсутствия объективных признаков одушевленности у нас есть
одинаковая возможность без всякого противоречия с логикой и фактами
рассматривать любое существо, кроме самого себя, и как одушевленное, и как
неодушевленное. Эта возможность дает нам неоспоримое право принять
любую из этих точек зрения, именно такую, какая окажется легче и проще.
Только, конечно, мы должны выставлять ее в науке отнюдь не как доказанную
истину, а всего лишь как рабочую гипотезу — наиболее легкую и удобную для
данной науки. Поэтому, какие существа нам удобнее рассматривать как
одушевленные, те в виде рабочей гипотезы и следует так рассматривать, и —
наоборот. В психологии же, конечно, удобнее в виде рабочей гипотезы
рассматривать не только всех людей, но даже и большую часть других животных как
существа одушевленные. Поэтому психология в праве употреблять и
объективные наблюдения над душевной жизнью.
Но, могут возразить нам, какой же смысл пользоваться в виде рабочей
гипотезы предположением существования чужой одушевленности и,
опираясь на эту гипотезу, применять объективные наблюдения, коль скоро
назначение последних в том, чтобы изучить особенности и ход чужой душевной
жиз391
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ни, а между тем само же существование этой душевной жизни остается
навсегда недоказуемым? Смысл — хотя бы утилитарный. Ведь не подлежит
сомнению, что нам гораздо легче, по крайней мере теперь — при современном
состоянии физиологии — предсказывать поступки других людей и животных,
а поэтому легче и управлять ими, если в своих предсказаниях исходить как из
рабочей гипотезы, из предположения их одушевленности, чем из
предположения, что они чисто физиологические машины. А поэтому надо знать, какие
особенности душевной жизни следует приписать каждому из них, исходя из
первого предположения; а для достижения этой цели необходимы
психологические объективные наблюдения.
Объясним теперь, почему вопрос о границах одушевленности
оказывается неразрешимым. Составляет ли чужая душевная жизнь предмет
возможного опыта или нет? Конечно, нет, потому что чужой душевной жизни
мы не можем воспринимать; сама она навсегда остается вне пределов
возможного опыта. Следовательно, вопрос об ее существовании есть вопрос
трансцендентный, или метафизический; а поэтому он навсегда неразрешим
в виде знания. Ведь скажу ли я, что есть душевная жизнь, кроме моей,
или что ее нигде нет, кроме меня, я и в том, и в другом случае выскажу
метафизический взгляд; ибо я буду говорить о том, что по существу
своему никогда не может быть воспринято среди данных опыта, как бы ни
изощрял я свои чувства, где бы и когда бы я ни производил свои наблюдения.
В заключение укажем вкратце судьбу психофизиологического закона
А.И. Введенского. Он был изложен им в статье «О пределах и признаках
одушевления »(как он тогда выражался вместо слова «одушевленность »),
напечатанной в Журнале Минист. Народн. Просвещения за 1892 г. и в том же году
вышедшей отдельной брошюрой. В ней А.И. Введенский невозможность найти
объективные признаки одушевленности доказывал только
естественно-научным методом; философский же метод был найден им гораздо позднее. Зато в
означенной статье А.И. Введенский предложил всем, кто не согласен с его
выводом о недоказуемости чужой одушевленности, построить такое
доказательство ее существования, которое не исходило бы ни из каких метафизических
предпосылок, но опиралось бы исключительно на доводы имманентного
характера; сам же он принимал на себя обязанность непременно вскрыть в нем
ту логическую ошибку, с помощью которой будет доказано существование
чужой одушевленности. Брошюра А.И. Введенского вызвала сильную
полемику (со стороны Э.Л. Радлова, Н.Я. Грота, кн. С.Н. Трубецкого и П.Е.
Астафьева), но никто из его возражателей не отозвался на сделанный им вызов.
Тогда он напечатал в «Вопросах философии и психологии» (1893 г., кн. 18)
заметку под заглавием: «Вторичный вызов на спор о законе одушевления и
ответ противникам». На этот «вторичный вызов» отозвался один только
A.M. Лопатин, напечатавший в ближайшем номере того же журнала (1893 г.,
кн. 19) статью: «Новый психофизиологический закон г. Введенского». В ней
392
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Л.М. Лопатин построил доказательство существования чужой
одушевленности, но не чисто-имманентное, а явно метафизическое1, причем оно
заканчивается такой оговоркой: «Метафизические элементы так тесно и многообразно
вплетаются в каждое действие нашего ума, что их решительно невозможно
удалить из этих действий» (1. с. стр. 81). Поэтому А.И. Введенский оставил
доказательство Л.М. Лопатина без всякого ответа, как явно не
удовлетворяющее условию, выставленному А. И. Введенским2. Но вот прошло десять лет
после выхода упомянутой брошюры А.И. Введенского, и два ученых, один
иностранный, а другой русский, одновременно друг с другом и оба независимо от
А.И. Введенского, приходят к тому же самому выводу, как и он, именно — что
всякое объективно (т. е. извне) наблюдаемое явление в любом животном
может быть объясняемо чисто физиологическими причинами, без всякой
ссылки на одушевленность этого животного Иностранный ученый, это —
v. Uexkull, напечатавший в 1902 г. сочинение «Psychologie und ihrer Stellung
zur Thierseele. Ergebnisse der Psychologie ».Русский же ученый, это наш
(петербургский) известный физиолог И.П. Павлов, напечатавший в
«Известиях Военно-Медицинской академии за 1903 г.» статью
«Экспериментальная психология и психопатология на животных». И в лаборатории
И.П. Павлова с той же поры производятся им и его учениками
исследования, отправным пунктом которых служит рассмотрение каждого явления,
наблюдаемого у животных, как вполне объяснимого и без предположения
его одушевленности. А один из учеников И.П. Павлова, именно — Г.П.
Зеленый, утверждает даже применимость такой точки зрения и к
социолоДостаточно указать, что Л.М. Лопатину пришлось прибегнуть к помощи такого
явно метафизического довода: «Существование чужого одушевления,
подобного нашему, — говорит он, — имеет ровно настолько теоретической
вероятности, насколько невероятно, чтобы мир подчинялся злому божеству, у
которого одна задача — вводить в обман свое единственное разумное творение »
(1. с. стр. 78). В общем же все доказательство Л.М. Лопатина исходит из той
произвольной и явно метафизической предпосылки, с помощью которой
строят телеологический аргумент существования Бога, именно: будто бы
целесообразное может существовать не иначе как при том условии, чтобы оно было
создано каким-либо творческим умом.
А.И. Введенский счел излишним отвечать и г. Аскольдову, выпустившему
через несколько лет книгу «Основные понятия онтологии и гносеологии», в
которой доказывается, что при отрицании чужой одушевленности нельзя
предсказывать поступков людей и т. п. Ведь это значило, что г. Аскольдов вполне
согласен со словами А.И. Введенского, что рабочая гипотеза, допускающая
одушевленность других людей, гораздо удобнее, чем отрицающая ее. О чем же
тут было спорить с г. Аскольдовым? Но в обоих вызовах А.И. Введенского
требовалось, чтобы ему доказали неизбежность, а вовсе не одно только
удобство допускать чужую одушевленность,
393
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
гии, что он высказал в своем докладе, представленном им (в марте 1909 г.)
Санкт-Петербургскому философскому обществу и напечатанном в
журнале «Archiv fur Rassen und Gesellshafts-Biologie » (4 Heft, 1912). А не
свидетельствует ли такое совпадение в выводах, полученных вполне независимо
друг от друга представителями разных специальностей, о научной
прочности этих выводов?
психологический институт
г^1
ИМЕНИ Л.Г. ЩУКИНОЙ
B 1914 году в День св.
Лидии (23 марта) в Московском
университете в присутствии
почетных гостей и
многочисленных депутаций от высших
учебных заведений и ученых обществ
состоялось торжество
открытия Психологического
института, учрежденного на
пожертвования известного московского
благотворителя, владельца
одной из замечательных
художественных галерей Москвы,
Сергея Ивановича Щукина.
СИ. Щукин в 1910 г.
пожертвовал Московскому
университету 100 000 рублей с тем,
чтобы они были переданы в
единоличное распоряжение
профессора Георгия Ивановича
Челпанова под условием
израсходовать их на постройку и
оборудование института, который должен называться «Психологический
институт имени Лидии Григорьевны Щукиной >> и состоять при кафедре философии.
Когда же постройка подходила к концу СИ. Щукиным было пожертвовано
еще 20 000 рублей на лучшее оборудование института, и фактически
последний был открыт 1 сентября 1912 г.: с этого времени в нем уже начались все
занятия.
1 Введенский А.И. Психология. Пг. 1915. С. 343-347.
394
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Проф. Г.И. Челпанов блестящим образом выполнил ответственное
поручение, возложенное на него СИ. Щукиным. Теперь наш старший университет
владеет таким психологическим институтом, которому нет равного в мире: он
не только наибольший в мире, но еще самый удобный для всякой ученой и
учебной работы по психологии. Все подобные учреждения устраивались до
сих пор как в Европе, так и в Америке, в помещениях, назначенных
первоначально для других целей и лишь по мере возможности приспособляемых
впоследствии к задачам психологического института. Здание же московского
института построено исключительно для надобностей психологии, а поэтому и
приспособлено лучше всех других институтов к своим задачам. И во время
торжества открытия кто-то удачно назвал его «дворцом психологии ».
Это — удаленный от уличного шума красивый трехэтажный особняк
(в одиннадцать окон по главному фасаду), в котором есть еще
полуподвальный этаж. В последнем кроме приспособлений для центрального
отопления находятся две обслуживающие институт мастерские (механическая
и столярная), аккумуляторная комната, из которой посылаются
электрические токи разных напряжений (от дробных частей вольта до ста двадцати
вольт) во все помещения института, и в которой ток городской
осветительной сети преобразовывается из переменного в постоянный. Наконец, тут
же находятся квартирыинститутского механика и институтских
служителей. В первом этаже кроме вестибюля находится большая аудитория на
триста человек в два света, комната (препаровочная) для подготовки
демонстрирования опытов в этой аудитории, кабинет директора института,
т. е. профессора, заведующего институтом (которым теперь, конечно,
состоит его устроитель Г.И. Челпанов), большая библиотека, которая вместе
с тем служит и комнатой для семинарских занятий, канцелярия,
курительная и рекреационная комната. Второй же и третий этажи разделены на ряд
комнат, из которых большинство назначены вообще для отдельных лиц,
занимающихся каким-либо научным исследованием. Некоторые же
имеют свое специальное назначение. Таковы, например: малая аудитория во
втором этаже для практических занятий одновременно с шестью группами
учащихся; два кабинета ассистентов, директора, по одному в каждом
этаже; комната, изолированная от всех звуков; комната, изолированная от
доступа света, фотографическая лаборатория с приспособлением, дающим
возможность без всякого вреда для работы входить и выходить во время
проявления пластинок; лаборатория директора, в которой испытываются
и выверяются все инструменты, и т. п. Словом: все три этажа назначены
исключительно для преподавания и научных исследований и наилучшим
образом приспособлены к этим целям.
Обладая собственными мастерскими, московский институт не только сам
выделывает уже давно употребляющиеся психологические инструменты во
много раз дешевле, чем они обходятся при покупке (например, эстезиометр с
395
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
нониусом при покупке обходится в 12 рублей, а институту в 11/2 рубля),
но еще изобретает и вырабатывает новые, никем не употреблявшиеся
инструменты. И некоторые из работ, производившихся в институте со времени
его фактического открытия, были исполнены с помощью аппаратов,
изобретенных и построенных самим институтом (см. Труды Психологического
института им. Л.Г. Щукиной. М., 1914. Т. I.). Более того: Г.И. Челпанов
между прочим поставил себе задачу — оборудовать институт такими
инструментальными приспособлениями, которые давали бы возможность так
производить психологические эксперименты, чтобы они были ясно видны
сразу всей аудитории в 300-400 человек, и чтобы нередко даже все
присутствующие одновременно принимали участие в эксперименте. И он уже в
значительной степени успел достичь своей цели, как в этом убедились
специалисты по философии, приехавшие на открытие института; ибо на
другой день после торжества открытия Г.И. Челпанов продемонстрировал
перед ними некоторые опыты, производимые им перед многочисленной
аудиторией. Всякий, кто имел дело с психологическими инструментами,
сразу поймет, как важна для преподавания психологии эта задача Г.И.
Челпанова. Все психологические приборы до сих пор так устраиваются, что
ясно видеть ход эксперимента могут только самое большее человек 5-6.
Единственное исключение представляет собою так называемый
демонстрационный хроноскоп Гиппа. Он дает возможность демонстрировать
опыты с реакциями пред сравнительно большой аудиторией, например человек
в сто — полтораста, если они запасутся театральными биноклями, то и
перед большим числом. Поэтому не только в русских, но даже во всех
иностранных университетах почти всегда при чтении лекций психологии
приходится только описывать психологические эксперименты, а нельзя их
производить пред аудиторией. Теперь же преподавание психологии
благодаря удачно исполняемом замыслу Г.И. Челпанова вступит в новый фазис:
лекции психологии в значительной степени приобретут демонстрационный
характер, и учащиеся уже во время лекций будут наглядно знакомиться с
психологическим экспериментированием. На первых порах дело будет так
стоять конечно, только в Московском университете; но отсюда оно
распространится и на университеты всего мира.
Но этим еще не исчерпывается важность учреждения описываемого
института и деятельности его первого директора. Институт, несомненно,
будет служить твердым оплотом в борьбе против всех увлечений
преждевременными практическими применениями психологии и обширной
школой психологов-экспериментаторов, пропитанных строго научным
отношением как к своим, так и к чужим исследованиям. Г.И. Челпанов не из тех
психологов, которые не умеют или не хотят отличить в психологии ее
желаемое и ожидаемое развитие от настоящего. Он вполне ясно видит, как
еще далека современная психология от такого уровня, чтобы на нее можно
396
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
было опираться со спокойной душой в какой-либо практической
деятельности. Поэтому все работы, которые до сих пор производились под его
руководством в институте (и которые были начаты с сентября 1912 г.)
носят, как этому и следует быть, методологический характер, направлены
отнюдь не на скороспелые применения психологии в педагогической и
судебной практике, но на критику и усовершенствование методов
экспериментального исследования, как обо всем этом можно судить по двум первым
выпускам «Трудов Психологического института имени Л.Г. Щукиной»1.
Вместе тем, по составленным Г.И. Челпановым правилам института,
студенты допускаются даже к самым элементарным практическим занятиям
лишь после того, как они усвоили курс логики и введения в философию, а к
более серьезным работам — лишь после дальнейшего углубления в
философию. И установившийся в институте строго научный дух его
деятельности, наверное, никогда не покинет его. Порукой в этом служит уже то
обстоятельство, что институт состоит при выдающемся университете.
Во время открытия многие ораторы подчеркивали всероссийское
значение дара СИ. Щукина московскому университету, а один из них
высказал пожелание, чтобы институт сделался центром, объединяющим русских
психологов. По-видимому, этому пожеланию суждено осуществиться.
Состоящее при Московском университете Московское психологическое
общество уже организует Первый всероссийский психологический съезд.
Он должен был состояться в институте в 1915 г. между 25 и 29 марта.
Приглашения принять участие в нем были разосланы еще в июне 1914 г., но
неожиданно навязанная нам война принудила отложить съезд до более
спокойного времени.
В заключение упомянем об одном трогательном эпизоде на открытии
института. Между другими явилась также депутация от студентов,
работающих в институте, которая обратилась к председательствующему на
торжестве ректору Московского университета со следующим прошением:
«Ваше превосходительство, Глубокоуважаемый Господин Ректор!
Настоящее собрание, адреса и приветствия, прочитанные на нем, с
очевидностью показывают, какую высокую оценку находит себе дар СИ. Щукина.
Мы горячо желаем и находим вполне соответственным, чтобы эти стены
хранили в себе изображения тех, благодаря кому создано это научное
учреждение. Поэтому мы имеем честь просить Вас и в лице Вашем — Совет
Вот перечень работ, уже опубликованных в I томе (1 и 2 вып.) «Трудов » института:
К.Н. Корнилов. К вопросу о природе типов простой реакции; H.A. Рыбников. Опыт
экспериментального исследования узнавания и репродукции; В.М. Экземплярский.
Материалы к вопросу о типах представления; Г.И. Челпанов. К вопросу об
отношении между психофизическими методами; К.Н. Корнилов. Динамометрический
метод исследования реакции.
397
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Университета возбудить ходатайство
о разрешении нам поместить в нашем Институте портреты Л.Г. Щукиной и
СИ. Щукина. Пусть всякий, входящий сюда, хотя бы столетия спустя,
видел тех, кому обязан этот Институт своим возникновением. Пусть
ежегодное празднование этого дня, Дня св. Лидии и открытия Института,
совершается под сенью этих изображений. Пусть еще и таким образом будут
почтены память Л.Г. Щукиной и примерное деяние СИ. Щукина».
В ответ на это ректор университета высказал полную готовность
доложить совету прочитанное прошение и уверенность, что оно будет
немедленно удовлетворено.
Таким образом, члены Первого всероссийского психологического
Съезда, вероятно, уже увидят институт украшенным портретами тех лиц,
которым он обязан своим возникновением. Но и теперь о них напоминают
две надписи в институте; одна — на его главном фасаде, гласящая:
«Психологический Институт имени Л.Г. Щукиной »; другая же на мраморной
доске, помещенной в особой нише в вестибюле, гласящая: «Психологический
Институт имени Лидии Григорьевны Щукиной, дар коммерции советника
Сергея Ивановича Щукина ИМПЕРАТОРСКОМУ Московскому
Университету 1910-1912 г.».
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
В.М. БЕХТЕРЕВ:
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ НАУКА
Бехтерев Владимир Михайлович (1857-
1927) — психиатр, специалист в области
морфологии, гистологии, анатомии и физиологии мозга,
психолог, крупный общественный деятель, организатор
и руководитель многих научных и учебных
учреждений, автор более 600 трудов, среди которых —
многотомные монографии.
Окончил Петербургскую
медико-хирургическую академию (1878), организовал первую в
России психологическую лабораторию при
психиатрической клинике Казанского университета (1885).
Создал Петербургскую научную школу в
психологии, основу которой составляет комплексный рефлексологический
подход к изучению личности.
В антологию включены: актовая речь «Сознание и его границы»,
произнесенная в Казанском университете в 1888 г.; отрывок из книги
«Психика и жизнь » (1902 г.), в котором дается изложение энергетического
подхода к проблеме соотношения психического и физиологического; главы из
книги «Общие основы рефлексологии человека» (первое издание в 1919 г.),
в которых раскрывается понимание Бехтеревым объективного подхода к
изучению личности.
СОЗНАНИЕ И ЕГО ГРАНИЦЫ1
Мы привыкли говорить о сознании как о явлении, для нас хорошо
известном на основании личного внутреннего опыта; тем не менее точное
определение того, что следует понимать под сознанием, до последнего времени
встречало не мало затруднений.
По Лейбницу2, сознание является при условии, когда
бессознательные представления души воспринимаются нашим Я. Это, однако, не
определение, а лишь описание явления, притом описание, изложенное
сообразно метафизическим воззрениям автора. Другие из психологов определяли
Бехтерев В. М. Сознание и его границы. 1888.
Leibnitz. Op. philos. ed. Erdman. С. 715.
399
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
сознание как особое внутреннее чувство1 или же под сознанием понимали
присущую нам способность различения2. Наконец, некоторые, как Гербарт,
рассматривали сознание как сумму всех имеющихся на лицо
представлений3.
Первое из только что упомянутых определений не может, однако,
считаться достаточно обоснованным, второе принимает следствие за
причину, а определение Гербарта обнимает собою лишь содержание
сознания, не касаясь вопроса о самом сознании, как явлении нашей
психической жизни.
Из новейших представителей психологии по нашему вопросу
заслуживают внимания взгляды двух выдающихся авторитетов — Спенсера и Вундта.
Первый в своих «Основаниях психологии » рассматривает сознание как
известную внутреннюю перемену. По этому поводу он выражается между
прочим следующим образом: «Все согласно принимают, что без перемены
сознание невозможно: когда перемена в сознании прекращается —
прекращается и сознание. Но если непрерывная перемена есть то условие, при котором
одном только возможно продолжение сознания, то отсюда следовало бы
вывести, что все разнообразные явления сознания должны сводиться на
перемены». В другом месте Спенсер поясняет: «Непрерывная перемена не есть еще
единственная вещь, требующаяся для составления сознания. Если перемены
происходят без всякого порядка, то никакое собственно так называемое
сознание не существует. Сознание есть не просто последовательность перемен,
но правильная последовательность перемен — последовательность перемен,
комбинированных и расположенных особенным образом. Перемены
образуют сырой материал сознания, а развитие сознания есть организация их »4.
В этом определении, как и в определении сознания как способности
различения, снова принято следствие за причину. Как наша способность
различения является следствием нашего сознания, так и восприятие перемен является
результатом сознания, а не причиной его.
Вундт5 по поводу сознания говорит следующее: «Так как сознание есть
необходимое условие всякого внутреннего опыта, то понятно, что
непосредственно из этого опыта мы не можем узнать сущности сознания. Все попытки
определить сознание по явлениям внутреннего опыта приводят или к
тавтологии или к определениям происходящих в сознании деятельностей, которые
уже потому суть не сознание, что предполагают его. Сознание именно в том и
состоит, что мы находим в себе те или другие состояния; независимо от
послед1 Fichte. Psychologie I. С. 83. Fortlage. System der Psychologie.
1 Georg. Lehrbuch der Psychologie. С 234 и след. Ulrici. Leib und Seele. Leipzig, 1866.
3 Herbart's sämtliche Werke. Bd. V. С 208.
4 Спенсер. Основания психологии. СПб. Т. 3. С. 303 и 304.
5 Вундт. Основания физиологической психологии. С. 738.
400
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
них оно не может быть мыслимо. Бессознательные процессы всегда
представляются нами по тем свойствам, которыми они должны были бы отличаться в
сознании. Если невозможно выразить отличительных признаков
сознательных и бессознательных состояний, то тем менее можно дать определение
сознания. Нам остается только изучать условия сознания, т. е. те
обстоятельства, которыми сопровождаются все сознательные явления ».
Из только что приведенной выдержки очевидно, с какими затруднениями
сталкиваются при определении понятия о сознании. Мы не можем однако
согласиться в этом случае с мнением великого представителя физиологической
психологии. Конечно, из внутреннего опыта нельзя определить сущности
сознания; но дело не в определении его сущности, а в определении понятия о
сознании как об известном явлении.
Хотя независимо от тех или других психических состояний немыслимо
для нас сознание, тем не менее психические процессы, как известно, ни чуть не
обязательно связаны с сознанием. С другой стороны, хотя бессознательные
процессы и представляются нам по тем свойствам, которыми они должны были
бы отличаться в сознании, но зато мы с точностью знаем по внутреннему
опыту, что кроме сознательных процессов, воспринимаемых нашим Я как нечто
субъективное, в нас существуют и бессознательные процессы, которые нами
вовсе не воспринимаются как таковые. Это устанавливаемое внутренним
опытом отличие сознательных психических процессов от бессознательных и дает
нам возможность сделать точное определение сознания.
Под сознанием мы понимаем ту субъективную окраску или то
субъективное, т. е. внутреннее, непосредственно нами воспринимаемое, состояние,
которою или которым сопровождаются многие из наших психических
процессов. Благодаря этой субъективной окраске мы можем различать наши
психические процессы по их сложности и тем или другим присущим им
особенностям. Таким образом, мы различаем в нашем восприятии — ощущение,
представление, стремление, желание, хотение и пр., т. е. те явления, сумма
которых и составляет содержание нашего сознания.
Сделанное нами определение, конечно, не выражает собою сущности
сознания, что, впрочем, и не требуется, но оно точно указывает на то явление в
природе, о котором идет речь. Во всяком случае главное, что мы должны
отличать в нашей психической жизни, — это сознательные и бессознательные
процессы. В первых есть некоторый плюс, благодаря которому они становятся
явлениями субъективными, чего нет во вторых1.
Яркость той субъективной окраски, которою сопровождаются наши
психические процессы, бывает различною, благодаря чему мы можем
гоКстати укажем здесь, что и Вундт, не замечая того, сам дает подобное же
определение сознания, как видно из следующих его слов: «Сознание именно в том и
состоит, что мы находим в себе те или другие состояния »...(цит. выше).
401
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ворить о различной степени их сознательности. Некоторые лица,
обладающие пылким воображением, как поэты и художники, отличаются особой
живостью представлений, необыкновенной яркостью их. Так, про Гёте
известно, что когда он хотел представить себе, например, цветок, то этот
цветок являлся его воображению необыкновенно живо, со всеми присущими
ему красками и очертаниями лепестков; когда ему нужно было нарисовать
готическую церковь, то эта церковь представлялась его уму также в живой
пластической форме. С другой стороны, известно, что некоторые из
художников, как, например, Мартене, отличались такой живостью
воображения, что при своей работе они буквально копировали на полотне
представлявшиеся им субъективные образы. Подобные же, хотя, быть может,
и не столь резкие примеры пылкого воображения, конечно, встречаются не
только между художниками и поэтами, но и среди обыкновенных людей.
Очевидно, что если, как в указанных примерах, воспроизведенные
представления, иначе говоря, воспоминательные образы, могут быть
сравниваемы по яркости с ощущениями или чувственными образами, то
одинаковым образом и эти последние у тех же лиц должны отличаться
значительно большей яркостью, нежели у других. Такого рода лица справедливо
называются впечатлительными натурами, так как всякое внешнее
впечатление действует на них резче, сильнее обыкновенного.
С другой стороны, есть и антиподы этих лиц, отличающиеся
поразительной тупостью восприятия и процессов представления.
В патологических случаях, в особенности при душевных болезнях,
степень сознательности психических процессов, конечно, изменяется еще в
более значительных пределах, нежели у здоровых лиц. Необыкновенно
яркие представления маньяка, например, не могут быть и сравниваемы с
крайне бледными образами, смутно пробегающими в сознании
слабоумного.
Степень сознательности психических процессов, впрочем, бывает
различною и у каждого человека в зависимости от тех или других условий.
Так, у большинства людей яркость представлений значительно
поднимается к вечеру; поэтому-то вечернее время и является обычным временем
мечты. Этим же объясняется и тот факт, что многие из поэтов для своих
занятий предпочитали вечернее или даже ночное время. Физическое
утомление, а равно и процессы пищеварения, напротив того, понижают в более
или менее значительной степени яркость наших психических образов.
Независимо от степени сознательности психических процессов в
вышеизложенном смысле различают еще степень сознания, смотря по его
содержанию, т. е. смотря по присутствию в сознательной сфере тех или
других представлений. Правильнее, однако, в этих случаях говорить о
специальных видах сознания iio сложности его содержания, а не о степени
самого сознания, хотя и последняя при этом не остается неизменной.
402
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Простейшей формой сознания, без всякого сомнения, следует
признавать то состояние, когда еще не выработано ни одного более или менее
ясного представления, когда лишь существует неясное безотносительное
чувствование собственного существования.
Более сложным является сознание в том случае, когда в нем
присутствуют уже те или другие представления. В этом случае наиболее
элементарной формой сознания следует признавать ту, при которой в сознании
присутствует главным образом одна группа представлений о Я как
субъекте в отличие от не-Я или объекта и из которой вырабатывается т. н.
самосознание, иначе говоря, то состояние сознания, когда в нем присутствует
или — что все равно — каждую минуту может быть вызван ряд
представлений о положении собственного тела, о движении его членов и пр.
Следующей по сложности формой сознания является сознание
пространства, т. е. то состояние сознательной сферы, когда человек может уже
создавать пространственные представления об окружающем его мире. На
основании этих-то пространственных представлений он и получает
возможность ориентироваться относительно окружающей обстановки.
Несколько более сложной является та форма сознания, когда человек
улавливает уже последовательность внешних явлений, благодаря чему
вырабатывается сознание времени.
Дальнейшую по сложности степень сознания представляет сознание
своей личности, иначе говоря, то состояние сознания, когда в его сферу
могут быть введены те ряды представлений, которые составляют, так
сказать, интимное ядро личности, как то: представления нравственные,
религиозные, правовые и пр. С этой формой сознания связаны также и первые
проявления воли субъекта.
Наконец, высшею степенью сознания должно быть признано, без
сомнения, то состояние внутреннего мира, когда человек, с одной стороны,
обладает способностью по произволу вводить в сферу сознания те или
другие из бывших прежде в его сознании представлений, с другой — может
давать отчет о происходящих в его сознании явлениях, о смене одних
представлений другими, иначе говоря, может анализировать происходящие в
нем самом психические процессы.
Эта способность самопознавания является всегда
характеристичнейшим признаком полного сознания; утрата же этой способности служит
первым признаком начинающегося помрачения сознания.
Все вышеуказанные формы сознания представляют собою собственно
различные степени развития его содержания. В самом деле, легко видеть,
что каждая из форм сознания, кроме существования особой группы
представлений, предполагает и присутствие представлений, характеризующих
все предшествующие формы сознания. Но лучшим доказательством
последовательности развития сознания в указанном направлении является
403
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
прямое наблюдение над восстановлением сознания в то время, когда
человек пробуждается из глубокого сна или обморока.
Первым явлением в периоде пробуждения в этом случае всегда
является неясное чувствование собственного существования. В этом состоянии
субъективно чувствуемые изменения в нас самих не относятся нами к
какой либо внешней причине, а воспринимаются лишь как внутренние
перемены, происходящие в нас самих без всякого их отношения к
окружающему миру1. Лишь мало-помалу сознание пробуждается, и субъект начинает
сознавать себя человеком, покоящимся в известном положении. В
дальнейшей фазе пробуждения сознается уже более или менее правильно и
окружающая обстановка, а несколько позднее и последовательность
событий, т. е. время. Затем человек уже вступает в обладание всеми теми
представлениями, которые его характеризуют как известную личность, но и при
этом еще не может быть речи о полном сознании до тех пор, пока человек
не будет в состоянии дать ясный отчет о всем происходящем в нем.
Развитие сознания в первоначальную эпоху жизни каждого человека,
без всякого сомнения, происходит тем же путем в той же самой
последовательности. Между тем в патологических случаях, сопровождающихся
прогрессирующим ослаблением умственной сферы, как при вторичном
слабоумии и прогрессивном параличе помешанных, сознание постепенно
претерпевает обратный метаморфоз.
В последнем случае первоначально утрачивается способность
самопознавания, затем расстраиваются те ряды представлений, совокупность
которых служит характеристикой нравственной личности данного лица;
с течением же времени у такого рода больных утрачивается уже и сознание
времени, а затем и сознание места, тогда как самосознание и сознание о Я
как субъекте остаются большею частью ненарушенными даже и при
значительной степени слабоумия. Но несомненно, что в некоторых случаях
крайнего упадка умственных способностей утрачиваются и эти элементарные и
в то же время более стойкие формы сознания, причем от всего умственного
богатства человеку остается лишь одно неясное чувствование
собственного существования.
Здесь нелишне заметить, что в просторечии понятие о
бессознательности или неполном сознании смешивается с болезненно извращенным
сознанием. Так, про душевнобольного, содержание сознания которого
болезненно извращено, т. е. наполнено вместо здоровых идей нелепыми
представлениями, обычно говорят, что он находится в бессознательном или
Примеры подобного состояния сознания мы встречаем также в случаях неполного
усыпления хлороформом. Известно, что лица, подвергшиеся операции, нередко
заявляют об испытанном ими чувстве страдания без ясного сознания о причине
этого страдания.
404
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
полусознательном состоянии. Правильнее, однако, в этом случае не
говорить вовсе о бессознательности или неполной степени сознания, а лишь о
болезненном его содержании, иначе говоря, о том или другом
болезненном извращении сознания.
Познакомившись с тем, что следует понимать под сознанием и какие
степени последнего могут быть различаемы, мы теперь же заметим, что далеко не
все из воспринимаемых нами извне впечатлений сознательны. Напротив того,
огромная часть внешних впечатлений остается за порогом сознания и только
относительно весьма малая их часть достигает сознательной сферы. В свою
очередь, из впечатлений, достигших сознательной сферы, часть остается в
темном поле сознания и только остальная, относительно незначительная часть
выступает в нашем сознании с большей яркостью.
Чтобы лучше представить к какой степени ограниченное количество из
всего числа внешних впечатлений достигает сферы нашего сознания, я
остановлю ваше внимание на одном обыденном и в то же время крайне
поучительном примере.
Представьте себе, что вы идете со своим другом по одной из
многолюдных улиц и ведете с ним ту или другую беседу. За время вашего путешествия вы
получаете со всех сторон самые разнообразные впечатления — видите
множество движущихся лиц в разнообразных костюмах, видите здания и
монументы со всевозможными украшениями, слышите разговор проходящих людей,
стук колес проезжающих экипажей, слышите шелест платья, ощущаете на
себе движение окружающего воздуха и пр. и пр. Несомненно, что все эти
впечатления действуют на ваши органы чувств и вызывают известную реакцию в
нашем мозгу; но несмотря на то, окончив беседу со своим другом, вы едва ли в
состоянии припомнить одну сотую или — вернее — тысячную часть из всего
вами виденного и слышанного. При этом из числа припоминаемых
впечатлений лишь те, на которые вы обратили особенное внимание, воспроизводятся
вами легко и с особенною ясностью; для оживления же других в вашей памяти
нередко требуется та или другая посторонняя помощь и, несмотря на то, они
не могут быть воспроизведены в сознании с должною ясностью.
Таким образом, из всех полученных за время путешествия впечатлений
огромное большинство осталось ниже порога сознания, следовательно,
скрылось в бессознательной сфере, из остающегося же меньшинства смутно
припоминаемые впечатления едва лишь достигли сферы сознания и потому
остаются в темном его поле, и только впечатления, припоминаемые с особенной
живостью, суть впечатления, достигающие сферы ясного сознания.
Так как процесс, благодаря которому внешние впечатления
достигают сферы сознания, в науке называется перцепцией, а процесс, благодаря
которому то или другое впечатление входит в сферу ясного сознания,
носит название апперцепции, то и те впечатления, которые едва лишь
достигли сферы сознания и остаются в темном поле последнего, могут быть
на405
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
званы перципированными, впечатления же, достигшие сферы ясного
сознания, — апперципированными.
Спрашивается, какие условия были причиной того, что из всех
впечатлений, полученных за время путешествия, огромная масса не достигла
сферы сознания? Условия эти заключались в том, что в данное время вы были
отвлечены разговором со своим другом, следовательно, сознание ваше было
занято известным рядом представлений. В самом деле, не будь этого
условия, и, без сомнения, очень многое из того, что не вошло в сферу сознания,
с яркостью запечатлелось бы в вашей памяти.
Но отчего же тот период времени, когда ум занят известным рядом
представлений, является столь неблагоприятным для возникновения
новых представлений под влиянием тех или других впечатлений. Ответ на
этот второй вопрос может быть только один, и именно следующий: в
сознании не может одновременно вмещаться больше определенного числа
представлений. Следовательно, наше сознание имеет свой объем, иначе
говоря, свои определенные границы.
Как велик этот объем или как широки границы сознания, т. е. какое
количество представлений может одновременно присутствовать в нашем
сознании, составляет не только крайне интересную задачу для
исследования, но и задачу первостепенной важности. Неудивительно поэтому, что
уже довольно давно этот вопрос был поставлен на очередь в психологии, но
до развития так назвываемой психофизики, или экспериментальной
психологии, все попытки подойти к решению его оставались бесплодными.
Еще не так давно Вайтц1 из чисто теоретических соображений, а
Штейнталь2 — основываясь на данных внутреннего восприятия, допускали, что в
сознании одновременно может присутствовать лишь одно представление.
Между тем Фортляге3 и Гербарт4 приходили к заключению, что число
одновременно присутствующих в сознании представлений должно быть не
менее 2, при случае же оно может возрасти до очень большого, точно
неопределимого числа.
Даже и по сие время некоторые из психологов придерживаются
одного из вышеуказанных взглядов. Так, в книге проф. Владиславлева,
изданной в 1881 году5, мы находим следующее место: «Относительно
сознательной жизни мы знаем, что в одно и то же время душа не может иметь
нескольких сознательных состояний; если нам кажется противное, то в этом
случае мы быструю последовательность их принимаем за одно».
Waitz. Lehrbuch der Psychologie.
Steinthal. Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft. Berlin. 1871. С 134.
Fortlage. System der Psychologie. I Theil.
Herbart. Lehrbuch zur Psychologie (Werke. T. 5. C. 15 и след.)
Владиславлев. Психология. Т. I. С. 294.
406
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Не подлежит, однако, сомнению, что самонаблюдение совершенно
непригодно для правильного решения рассматриваемого вопроса. Последнее
представляется очевидным уже из того, что самонаблюдение имеет перед
собой лишь апперципированные представления, т. е. представления,
находящиеся в сфере ясного сознания: представления же, находящиеся в
общем поле сознания, или перцепированные, замечаются нами лишь после
того, как они будут апперципированы. Но легко понять, что эти последние
в таком случае могут быть смешиваемы нами с предыдущими, вследствие
чего и определение объема сознания путем самонаблюдения не может быть
сделано правильным.
Таким образом, очевидно, что было бы совершенно бесплодно еще раз
обращаться в этом вопросе к методу самонаблюдения. Только
экспериментальным путем можно достичь возможно точного и обстоятельного
решения вопроса.
В этом отношении Гамильтон1 может считаться первым автором,
применившим опыт, хотя и грубый, для решения вышеупомянутого вопроса.
Он нашел, что число одновременно воспринимаемых впечатлений в
области зрения достигает от 6 до 7.
Вундт, однако, придает очень мало цены только что упомянутому
исследованию. Это видно по крайней мире из его заявления, что
«наблюдения относительно одновременных моментальных впечатлений не могут
привести здесь ни к какому результату по неопределенности границ
внутреннего поля зрения »2.
Напротив того, наблюдение последовательных впечатлений, по
мнению Вундта, может в некоторых случаях привести к решению вопроса.
Так, если мы апперципируем ряд следующих друг за другом внешних
впечатлений, то очевидно, что вместе с каждым новым актом апперцепции
прежние впечатления из сферы ясного сознания мало-помалу
передвигаются в общее, более темное поле сознания, пока не исчезнут из сознания
совершенно. Поэтому для определения объема сознания в этом случае
необходимо лишь выяснить, которое из ряда представлений находится
на границе сознания в тот момент, когда апперципируется новое
представление.
Для этой цели пользуются ударами маятника метронома,
возбуждающими в нас равномерно сменяющие друг друга простые звуковые
представления. При этом имеется в виду определить то наибольшее число из
ряда равномерно следующих друг за другом звуковых представлений,
которое помещается в сфере ясного сознания. Убедиться же в том, что
данное число последовательных звуковых представлений помещается в сфере
Hamilton, Lectures on metaphysics. Vol. I.
Вундт, Основания физиологической психологии. С. 757.
407
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ясного сознания, мы можем с помощью сравнения с таким же или
несколько большим или меньшим числом новых звуковых представлений.
При этом возможность более или менее точного сравнения двух
наибольших рядов однородных звуковых впечатлений доказывает, что
соответствующее им число представлений и составляет собою объем сознания,
иначе говоря, выражает то наибольшее число представлений, которое
может одновременно помещаться в сфере ясного сознания.
Обстановка опытов заключается в том, что заставляют колебаться
маятник метронома с известною скоростью, причем экспериментатор
отделяет звонком один ряд ударов маятника от другого, который берется
или одинаковым с первым, или больше, или меньше его на 1 удар;
исследуемый же, устранив совершенно умственный счет ударов, должен сравнить
один ряд слышимых им ударов с другим, т. е. решить, был ли один ряд
равен другому, или же был больше, или меньше его.
Если сравнение в огромном большинстве случаев произведено
правильно, значит, данное число ударов не превышает объема сознания и
воспринимается сознанием как одно целое. Таким образом, мало-помалу
находят то наибольшее число ударов, за которым уже не может быть точного
сравнения. Это число, таким образом, и будет выражать собою объем
сознания для последовательного ряда звуковых представлений.
При производстве опытов необходимо заметить, что из двух рядов
звуковых впечатлений первый ряд для определенного числа опытов остается
всегда одинаковым, второй же ряд, следующий за звонком, как упомянуто выше,
берется по желанию экспериментатора или одинаковым с первым, или
больше, или меньше его на 1 удар. С помощью первого ряда звуковых ударов
экспериментирующий желает убедиться, действительно ли соответствующее ему
число представлений может содержаться как целая группа в сфере сознания
наблюдателя; второй же ряд звуковых ударов берется лишь для сравнения с
первым. При этом в опытах всегда начинают с относительно небольших чисел
и затем постепенно переходят к опытам с большим числом ударов метронома,
определяя тот максимальный предел, при котором еще возможно сравнение
двух рядов звуковых впечатлений.
Чтобы убедиться, что человек в состоянии сравнивать два ряда
звуковых впечатлений, т. е. может воспринимать их равенство или разницу,
недостаточно, конечно, одного или двух-трех опытов. Необходимо
произвести большее их количество, причем точность сравнения в целом ряде опытов
будет выражена отношением числа верных суждений к общему числу
последних. Ввиду этого за наименьшее число опытов, годное для того или
другого вывода, принято считать 10, а точность сравнения выражать
десятичною дробью, обозначающей относительное число верных суждений.
Так как при производстве вышеуказанных опытов в каждом
отдельном случае может быть выбор между тремя формами суждения, а
имен408
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
но — сравниваемое число может быть равно первому или больше, или
меньше его, то по общим правилами психофизики необходимо
допустить, что граница сознания достигается впервые в то время, когда
получается более трети верных суждений из всего числа данных случаев или
при точности сравнения, превышающей 0,33... В самом деле одна треть
правильных суждений в вышеуказанных опытах может получиться без
всякого внимания к опытам, когда суждения будут говориться прямо
наугад. Лишь превышение числа верных суждений одной трети общего их
числа определит впервые границу сознания1.
Конечно, чем более относительное число верных суждений, тем
отчетливее данное число звуковых ударов запечатлевается в сознании и,
следовательно, тем яснее сознание.
Наивысшая степень ясности сознания, разумеется, будет
представлена теми случаями, при которых все суждения верны. Но такие случаи
бывают далеко не часты, да и в обыденной жизни наивысшая степень ясности
сознания, по-видимому, далеко не составляет постоянной
принадлежности нашего Я. Поэтому за достаточную точность суждений для выражения
сферы ясного сознания в вышеуказанных опытах, по моему мнению,
правильнее всего признать цифру 0,7, стоящую почти на средине; между 0,33,
обозначающей границу сознания вообще, и 1,0, выражающей наибольшую
ясность сознания2.
Таким образом, число представлений, которое мы в состоянии
сравнивать с одинаковым или на 1 большим, или меньшим числом подобных же
представлений с точностью не менее 0,7, служит в то же время и
выражением количества представлений, помещающихся в сфере ясного сознания.
То же число представлений, которое мы в состоянии сравнивать с другим
числом подобных же представлений или равным первому, или большим,
или меньшим его на 1 с точностью не менее 0,33, может быть принято за
полный объем сознания, вмещающий в себе не только сферу ясного
сознания, но и темное поле последнего, иначе говоря, объем сознания,
выражающий количество всех как апперципированных, так и перципированных
представлений.
1 Некоторые авторы допускают, что граница сознания достигается впервые в том
случае, когда число верных суждений превышает половину всего числа данных случаев.
Но это очевидно ошибка, так как при производстве опытов с объемом сознания всегда
имеется в виду одно из трех (а не двух) возможных суждений.
2 В опытах Дице за достаточный результат сравнения принимается тот случай, если из
десяти опытов с известным рядом звуковых впечатлений получалось не менее восьми
верных суждений; следовательно, точность в 10 опытах, принятых за единицу,
выражалась не менее 0,8. Необходимо заметить, однако, что эта цифра была принята
автором без достаточных оснований; между тем не подлежит сомнению, что в
указанном отношении следует по возможности избегать ненужной произвольности.
409
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Для определения объема ясного сознания, который нас только и
будет интересовать в последующем изложении, как я убедился, может быть
применен еще и другой способ. Известно, что равномерно следующие друг
за другом звуковые впечатления мы можем умственно расчленять на
группы различной величины, руководясь тем или другим музыкальным тактом;
таким образом, равномерно следующие друг за другом звуковые
впечатления могут быть расчленяемы нами на группы по 2, по 3, по 4, по 5, по 6,
по 7, по 8 и более звуковых впечатлений.
Очевидно, что при подобном группировании звуковых впечатлений
каждая группа воспринимается сознанием как одно целое. Поэтому
наибольшая величина отдельных групп, воспринимаемых сознанием как
целое, и будет выражать собою объем сознания, так как, если бы величина
группы превышала объем сознания, она не могла бы быть и воспринята
сознанием как одно целое.
Поэтому для определения объема сознания в этом случае достаточно
найти лишь ту наибольшую величину группы, которая еще воспринимается
сознанием как одно целое. Для этой цели звуковые впечатления,
получаемые от ударов метронома, предлагают наблюдателю группировать, причем
величина отдельных групп последовательно увеличивается до тех пор, пока
группирование представляется еще возможным. Последняя наибольшая
группа, которую наблюдатель еще в состоянии воспринимать как целое,
и будет служить выражением объема сознания.
Для проверки того, что группирование выполняется наблюдателем
совершенно правильно, берут такой ряд звуковых впечатлений, который,
будучи расчленен на группы определенной величины, оканчивался бы по
желанию экспериментатора или полной группой, или группой без одного
удара, или, наконец, полной группой плюс один удар; наблюдатель же,
группирующий данные звуковые впечатления, должен определять — имел ли
он дело с полною конечною группою или нет.
До сих пор опыты с определением объема сознания производились
лишь по первому методу, но я могу констатировать здесь, что и второй
метод, как показали мне сравнительные опыты, дает результаты совершенно
одинаковые с первым.
При исследовании объема сознания экспериментальным путем
относительно равномерно следующих друг за другом звуковых впечатлений
(какие даются, например, последовательными ударами маятника
метронома) мы наталкиваемся прежде всего на следующий важный факт: объем
сознания колеблется в зависимости от быстроты, с которою следуют
впечатления друг за другом.
Наиболее благоприятною в этом отношении является та скорость, при
которой апперципция едва приспособляется к впечатлениям (Вундт). Эта
скорость равняется приблизительно 0,3-0,5 сек. Начиная отсюда число
представ410
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
лений, входящих в сферу сознания как целая группа, будет уменьшаться как
при увеличении скорости представлений, так и при уменьшении этой
скорости1. Отсюда заключают, что в случае равномерно следующих друг за другом
впечатлений объем сознания есть функция скорости, с которою отдельные
впечатления сменяют друг друга2.
Объем сознания, измеренный при указанной наиболее
благоприятной скорости следования звуковых впечатлений, носит название
наибольшего объема ясного сознания. Этот наибольший объем сознания по
опытам Вундта, равняется 12 простым звуковым представлениям; в
опытах /\ице в двух случаях он равнялся 16 при скорости следования
ударов в 0,3 сек., в других двух случаях при скорости ударов в 0,3-0,4 сек.
равнялся 14 и, наконец, еще в двух случаях при скорости ударов в 0,5 сек.
равнялся также 14.
В моих опытах при скорости следования звуковых впечатлений в 0,3 сек.
в двух случаях наибольший объем сознания равнялся 12, в других двух
случаях-14 и 183.
Таким образом, во всех опытах наибольший объем ясного сознания
колеблется в приблизительно одинаковых пределах, а именно: при самых
благоприятных условиях он равен от 12 до 16, maximum 18 простых
звуковых представлений. При этом небольшие разницы между отдельными
лицами легко могут быть объяснены не только различной степенью
образования и неодинаковым развитием ума отдельных лиц, но и теми или другими
побочными условиями, как то: степенью внимания к опытам со стороны
исследуемого лица, временем опыта в течение дня и пр.
Относительно зависимости объема сознания от скорости следования
друг за другом звуковых впечатлений здесь достаточно упомянуть, что уже
при небольшом увеличении скорости качания маятника (относительно
наиболее благоприятной скорости в 0,3-0,5 сек.) объем сознания быстро
уменьшается и при скорости следования ударов в 0,2 и 0,1 сек. ясное восприятие
уже совершенно прекращается; при замедлении же ударов метронома
1 В первом случае уменьшение, по объяснению Вундта, должно произойти в силу того,
что достаточно ясная апперцепция становится уже невозможною, во втором
случае — в силу того, что часть апперципированных представлений побледнеет еще
прежде, чем новое представление вступит в сферу ясного сознания. При медленном
течении представлений трудно избежать посторонних впечатлений, действующих на
сознание во время пауз.
2 Dietze. Op. cit. С. 380.
3 При исследованиях д-ра Чижа (Арх. психиатрии, нейрологии и судебной
психопатологии за 1887. Т. X. № 1,2 и 3) объем сознания определился в одном случае в 11,
в другом — в 13 представлений, если принять за достаточную точность суждений 0,7.
Необходимо заметить, однако, что исследования д-ра Чижа были произведены над
малообразованными людьми.
411
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
объем сознания хотя и уменьшается прогрессивно, но далеко не так быстро,
как при ускорении ударов.
Спрашивается, так ли дело обстоит с объемом сознания, когда
имеются в виду не простые, а сложные представления? Ответ на этот вопрос мы
снова можем получить лишь в области экспериментальной психологии.
Мы уже упоминали, что получаемые нами звуковые впечатления,
следующие равномерно друг за другом, мы можем умственно расчленять на
группы, причем каждая группа, состоя из сочетанных звуковых
впечатлений, воспринимается сознанием как одно целое. Этою нашею
способностью расчленять равномерно следующие друг за другом звуковые
впечатления на определенные группы мы и можем воспользоваться как средством
определить объем сознания при условиях не простых, а сложных, или,
вернее, сочетанных, звуковых впечатлений.
Рассматриваемый вопрос до сих пор почти не подвергался
экспериментальной разработке. Правда, в 1886 году Дице в этом направлении были
предпринимаемы опыты, но они отличаются, с одной стороны,
неполнотой, что признается и самим автором, с другой стороны — неточностью
самого метода исследования.
Дело в том, что в опытах Дице каждое данное число звуковых
впечатлений, расчленяемое наблюдателем на определенные группы, сравнивалось,
как и в опытах без групп (т. е. с одиночными звуковыми впечатлениями),
или с равным числом таких же звуковых впечатлений, или с числом
большим, или меньшим против первого ряда на один удар. При такой
постановке опытов оказывается, что наблюдатель, хорошо и правильно
группирующий звуковые впечатления, легко может давать верные суждения лишь
потому, оканчивается ли второй ряд звуковых впечатлений полною или
неполною группою. Представим себе, что при группировании звуковых
впечатлений по 3 мы сравниваем ряд звуковых впечатлений, состоящий из
15 ударов, следовательно, из 5 групп, с 15 же, а затем с 14 и 16 ударами.
В каждом из этих опытов совершенно правильное суждение может быть
высказано уже на основании того, что в первом случае второй ряд
оканчивается полною группою, во втором случае он оканчивается группою без
одного, а в третьем случае полною группою плюс один удар.
Таким образом, легко понять, что, какое бы количество звуковых
впечатлений ни было дано для сравнения наблюдателю, этот последний, если
только будет правильно группировать впечатления, имеет возможность
высказывать верные суждения совершенно независимо от того,
укладывается ли то или другое число групп звуковых впечатлений в сфере сознания.
Что это так и бывает в действительности, не отрицает и сам Дице. Поэтому
для проверки подобных опытов он предлагает производить каждый раз еще
контрольные опыты, в которых второй ряд звуковых впечатлений должен
быть или больше, или меньше против первого на полную группу.
412
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Для всякого очевидно, однако, что эти контрольные опыты и должны
были бы быть теми опытами, с помощью которых мы определяем объем
сознания в том случае, когда воспринимаемые звуковые впечатления
мысленно разбиваются на те или другие группы.
В самом деле, при опытах с мысленным разделением звуковых
впечатлений на группы каждая из последних воспринимается сознанием как
целое, как единица, и потому сравнение должно быть производимо лишь
между известным числом полных групп и другим числом, состоящим также из
полных групп. Но в этом случае мы наталкиваемся на следующее
затруднение: при опытах с большими группами, в особенности если исследование
производится с малою скоростью качания маятника, оба ряда звуковых
впечатлений должны различествовать между собою на довольно
значительный промежуток времени. Возможно поэтому думать, что указанное
обстоятельство может влиять на суждения наблюдателя.
Во избежание этого в подобных случаях необходимо производить
контрольные опыты. Последние должны заключаться в том, что после
известного ряда опытов предлагают наблюдателю сравнивать то же самое
количество звуковых впечатлений, которое входило и в самые опыты, с тем,
однако, условием, чтобы звуковые впечатления в этом случае не
группировались и суждение было высказано лишь на основании различия во
времени, которое занимает в отдельности каждый ряд звуковых впечатлений.
Если эти контрольные опыты показывают, что данные ряды звуковых
впечатлений могут быть сравниваемы между собою и без группирования,
следовательно, по одному чувству времени, то в таких случаях в опытах с объемом
сознания второй ряд звуковых впечатлений должно взять или равным
первому, или больше, или меньше его, но не на полную группу, а лишь на известную
часть группы, о величине которой наблюдатель не должен иметь сведений.
Все эти условия были строго соблюдаемы при наших опытах с объемом
сознания, которые были произведены частью в лаборатории проф. Вундта в
Лейпциге, частью в заведуемой мною лаборатории Казанского университета
и с результатами которых я имею в виду сейчас познакомить вас.
Упомянутые опыты показывают, что и при восприятии сочетанных в
группы звуковых впечатлений обнаруживается резкое различие относительно
объема сознания, смотря по скорости следования друг за другом этих
впечатлений. И в этом случае за наиболее благоприятную для объема сознания смену
звуковых впечатлений мы должны принять почти ту же скорость их
следования друг за другом, как и при восприятии одиночных звуковых впечатлений,
а именно — в 1/3 секунды; изменение же этой скорости в том или другом
направлении всегда сопровождается резким уменьшением объема сознания.
Особенно быстро уменьшается объем сознания при увеличении скорости
следования друг за другом звуковых впечатлений. Так, уже при скорости
качания маятника в 1/5 секунды объем сознания при восприятии наиболее
413
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
простых сочетаний звуков (по 2) понизился с 8 до 6, а образование некоторых
из более сложных групп при этой скорости становилось уже совершенно
невозможным. Между тем при замедлении скорости качания маятника объем
сознания уменьшился в той же пропорции лишь в то время, когда звуковые
впечатления сменяли друг друга со скоростью двух секунд.
Далее, крайне резкое влияние на объем сознания обнаруживает величина
и качество самих групп, иначе говоря состав представлений. Чем более
величина воспринимаемых групп, иначе говоря, чем сложнее представления, тем
меньшее их количество может одновременно помещаться в сознании, наоборот,
чем менее величина воспринимаемых групп, иначе говоря, чем менее сложны
отдельные представления, тем большее их количество зараз помещается в
нашем сознании. Наибольшее число самых простых групп (по 2), содержащееся
в сознании при возможно благоприятной скорости качания маятника, в моих
опытах достигало 9, наибольшее же число самых больших групп (по 18) при
тех же условиях скорости качания маятника равнялось 3.
Дице при опытах с восприятием одиночных звуковых впечатлений
обратил внимание между прочим на тот факт, что четные количества
впечатлений воспринимаются легче нечетных, благодаря чему и суждения при
опытах с четным количеством впечатлений отличаются большей
точностью, нежели суждения при опытах с нечетным количеством впечатлений.
В опытах с восприятием звуковых впечатлений в виде групп я не нашел,
однако, подобной законосообразности, что, быть может, объясняется тем,
что здесь на трудность или легкость восприятия влияют и другие условия,
как, например, большая или меньшая легкость расчленения звуковых
впечатлений на известные группы. Действительно, некоторые группы, особенно
привычные для нашего уха, как, например, группа, состоящая из 3
впечатлений, воспринимаются нами всегда с особенною легкостью, и вместе с тем при
восприятии их обнаруживается нередко больший объем сознания, нежели
при всех других группах, не исключая и простейшей группы по 2.
Что касается других условий, влияющих на объем сознания, то из них
мы остановимся лишь на влиянии умственного утомления.
Последнее оказывает всегда очень резкое влияние на объем сознания,
в чем мы убеждаемся почти из каждого ряда соответствующих опытов.
Дело в том, что в начале опытов с определением объема сознания,
последний всегда оказывается заметно большим, нежели при конце опытов, если
только они продолжаются не менее одного часа.
Так, в одном случае после одночасового занятия психофизическими
исследованиями человек, группируя по 2 звуковых впечатления,
следующие друг за другом со скоростью 1 сек., дал при восприятии 4 групп
0,7 верных суждений; при восприятии пяти групп 0,6; при восприятии
шести групп 0,55; тогда как до занятий тот же субъект при подобном же
группировании звуковых впечатлений одинаковой скорости дал при
восприя414
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
тии четырех групп 0,8 верных суждений; при восприятии пяти групп также
0,8 верных суждений; при восприятии шести и семи групп 0,75; при
восприятии восьми групп 0,6 верных суждений.
В другом случае после психофизических исследований человек,
группируя звуковые впечатления той же скорости по 3, при восприятии пяти
групп дал 0,8 верных суждений; при восприятии шести и семи групп —
0,65 верных суждений; при восприятии восьми групп результат суждений
выразился 0,6; тогда как, не будучи умственно утомленным, тот же
наблюдатель мог воспринимать пять и шесть групп с точностью в 0,85; семь групп —
с точностью в 0,8; восемь групп — с точностью в 0,9; девять групп — с
точностью в 0,75, и только при восприятии десяти групп точность суждений
выразилась 0,6. В других подобных же случаях результат всегда оказывался
сходным.
К той же категории явлений, очевидно, следует отнести и тот факт, что
по утрам результат исследования объема сознания в общем оказывается
заметно более благоприятным, нежели вечерами.
Следует, однако, заметить, что и независимо от тех или других
посторонних условий сфера ясного сознания представляет изменяющееся
протяжение. Она может суживаться и расширяться, причем в первом случае
ясность сознания увеличивается, во втором — ослабевает.
Полная ясность сознания возможна лишь при том условии, когда
внимание сосредоточивается на ограниченном числе представлений; в этом
смысле мы можем говорить о фиксационной точке сознания или пункте
наиболее ясного сознания. Но чем более ограничена сфера ясного
сознания и чем оно ярче, тем более затемняется остальное поле сознания.
Нагляднее всего это доказывается на опытах с мгновенным
освещением зрительных объектов с помощью электрической искры. Если,
например, мы захотим читать печатный шрифт при моментальном освещении
электрической искрой, то мы успеем при этом схватить несколько слов; если
же мы будем стараться уловить лишь форму и очертания букв, то мы не
успеем прочесть даже и полслова.
Из всех выше изложенных данных мы убеждаемся, что наибольшая
ясность сознания всегда приобретается нами насчет величины его объема.
Таким образом, вместе с усилением ясности сознания пределы
последнего, без того поразительно тесные, еще более суживаются.
Посмотрим теперь, вследствие чего из огромного числа одновременно
действующих на наши органы чувств впечатлений апперципируются, или
вводятся в сферу ясного сознания, лишь определенные представления, иначе
говоря, чему обязаны эти последние своим присутствием в нашем сознании?
Наблюдение показывает, что процесс введения представлений в сферу
ясного сознания зависит только частью от внешних условий, иначе говоря, от
объективных качеств подействовавшего на нас внешнего впечатления,
глав415
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
нейшим же образом — от внутренних условий. Чем сильнее известное
впечатление и, следовательно, чем резче те изменения, которые оно вызвало в наших
органах чувств, тем очевидно больше шансов оно имеет для введения в сферу
ясного сознания. Точно так же легко апперципируются впечатления,
отличающиеся особенной резкостью и новизною для наших органов чувств.
Относительно зрительных объектов играет известную роль между
прочим и случайная фиксация их с помощью глаз, но влияние этого
условия очевидно сводится также на вызывание более резких ощущений при
фиксировании внешних предметов, нежели при отсутствии фиксации.
Не подлежит, однако, сомнению, что как объективные качества внешнего
впечатления, так и фиксация зрительных объектов играют относительно
незначительную роль в деле апперципирования представлений. Доказательством
тому служит тот факт, что многие в действительности весьма сильные
впечатления мы упускаем из виду только благодаря тому, что мы к ним равнодушны.
Напротив того, все впечатления, хотя бы и не обладающие большою силою, но
возбуждающие в нас движение чувства благодаря ранее выработавшимся
ассоциациям, тотчас же вводятся в пункт наиболее ясного сознания.
Для пояснения сказанного мы позволим себе развить здесь тот же пример,
которым мы уже однажды воспользовались. Проходя по многолюдной улице,
мы пропускаем тысячи разнородных по силе и качеству впечатлений,
несомненно подействовавших на наши органы чувств. Но вот на той же улице произошла
ссора двух людей, причем один из них стал наносить удары другому.
Объективно обсуждая данное впечатление, мы не найдем в нем особенного преимущества
ни по силе, ни по качеству сравнительно со множеством других одновременных
впечатлений, а между тем данное впечатление тотчас же занимает наш ум и
вводится в пункт наиболее ясного сознания, или апперципируется.
Зависит это от того, что рассматриваемое впечатление отличается от
других силой сопряженного с ним чувствования. Воспринимаемое в этом
случае впечатление благодаря укоренившимся в нашем сознании
ассоциациям тотчас же сопрягается с чувством боли, испытываемой побитым
человеком, причем одновременно возникает и представление о жестокости
бьющего, вызывая в нас чувство отвращения к нему и т. д. Следовательно,
сила чувства, которым благодаря тем или другим ассоциациям
сопровождается представление, — вот что в данном случае служит причиной, что это
представление вводится в пункт наиболее ясного сознания.
Таким образом, из ряда одновременно воспринимаемых впечатлений,
независимо от объективных свойств самого впечатления, в сферу ясного
сознания с большей вероятностью будет введено то, которое сопряжено с
наиболее сильным чувствованием.
С другой стороны, содержание сознания, несомненно, имеет
существенное влияние на апперципирование внешних впечатлений. Так,
представления, недавно присутствовавшие в сознании, сравнительно с другими
416
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
имеют более шансов возбудить наше внимание. Например, тон, недавно
нами слышанный, всегда резче выделяется из других при совместном
звучании. Точно так же впечатления, находящиеся в более или менее тесном
соотношении с содержанием сознания в данное время, а также и с
укоренившимися в сознании представлениями (в особенности с теми, которые
составляют т. наз. нравственное ядро), обычно с особенной легкостью
вводятся в сферу ясного сознания.
Но особенно благоприятную почву для акта апперцепции составляет
особое состояние нашего сознания, которое мы называем ожиданием.
В последнем случае, как показывают точные психофизические исследования,
нередко апперципируется мнимое впечатление прежде, чем происходит
действительное. Так, при измерении психических актов с помощью аппарата Гиппа
в опытах с определением т. н. простой сознательной реакции очень нередко
случается так, что отметка, долженствующая быть произведенною
непосредственно вслед за тем, как услышан удар падающего шарика о деревянную дощечку,
в действительности производится или в момент удара шарика о дощечку (а не
после, как должно бы быть) или даже прежде, чем шарик упадет на дощечку.
Нельзя не заметить здесь, что внимание играет существенную роль в
акте апперцепции. В самом деле, будет ли данное внешнее впечатление
выдаваться своими объективными свойствами, или благодаря особым
ассоциациям, будет возбуждать в нас шевеление чувства, или, наконец, будет
находиться в тесном соотношении с присутствующими и в особенности с
укоренившимися в нашем сознании представлениями — во всех этих
случаях оно вводится в сферу ясного сознания лишь благодаря тому, что на
него обращается внимание. С другой стороны, особенно благоприятная
почва для апперцепции впечатлений, представляемая актом ожидания, без
всякого сомнения, зависит от того, что здесь играет выдающуюся роль
чрезмерное напряжение внимания к предстоящему впечатлению.
Значение внимания в деле апперцепции внешних впечатлений видно в
особенности из того обстоятельства, что уже отвлечения нашего внимания
в известном направлении достаточно для того, чтобы, несмотря на
присутствие всех вышеуказанных условий, введение данного представления в сферу
ясного сознания не совершилось.
Очевидно, что без участия внимания апперцепция представлений
становится совершенно невозможною. Вот факт, имеющий выдающееся
значение в нашем вопросе. Он объясняет нам, почему наше сознание имеет
столь тесные пределы. Дело в том, что внимание, необходимое для акта
апперцепции, не может одновременно обращаться на множество внешних
впечатлений, а лишь на небольшое число последних, которое благодаря
вниманию и вводится в сферу ясного сознания.
В предыдущем изложении выяснено нами, в каких тесных пределах
вращается наше сознание, и указано между прочим на тот факт, что вместе
14 Российская психология 417
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
с усилением ясности сознания сфера последнего еще более суживается.
Спрашивается, как согласовать с этими данными тот факт, что человеку
свойственно особенное богатство и разнообразие умственного материала?
Объясняется это главным образом тем обстоятельством, что многие из
представлений, раз возникших в нашем сознании и поблекших затем, как
известно, не исчезают окончательно из нашей психической сферы, но лишь
скрываются на более или менее продолжительное время от нашего
умственного взора; они переходят, следовательно, в бессознательную сферу, откуда
со временем при случае снова могут всплыть на поверхность сознания в виде
т. н. воспроизведенных представлений или воспоминательных образов.
С самого младенчества запас таких, способных в то или другое время
всплыть на поверхность сознания, представлений накопляется все более и
более, и у взрослого человека все то, что составляет содержание сознания, не
столько уже обязано своим происхождением внешним впечатлениям
настоящего, сколько впечатлениям прошедшего. Таким образом, большая часть того,
что наполняет наше сознание, возникает из непроницаемых глубин нашей
бессознательной сферы. Равным образом и великие творчества мысли обязаны
гораздо более бессознательной, нежели сознательной сфере.
Бессознательная сфера, таким образом, является тою
сокровищницею нашей души, в которой хранится в скрытом состоянии большинство
некогда ярко блиставших в сознании представлений и из которой
происходит постоянное обновление сознательной сферы.
В противоположность тому, что объем сознательной сферы
представляется, как мы видели, крайне ограниченным, бессознательная сфера ничуть не
стеснена столь узкими пределами и объем ее может считаться вообще очень
обширным. В сущности, мы не знаем точных границ бессознательной сферы,
но что и здесь существуют определенные границы, известный объем, дальше
которого человек не в состоянии переступить, доказывается тем фактом, что
ни один из людей мира не может претендовать на обладание хотя бы
значительной долей того огромного запаса знаний, который является результатом
многовековой работы человеческой мысли.
Следовательно, бессознательную сферу ничуть нельзя представлять себе
как таковую, в которой могло бы поместиться какое угодно количество
умственного материала. Не подлежит, впрочем, сомнению, что с развитием
умственной жизни пределы бессознательной сферы до известной степени
расширяются. Этим по крайней мере только и можно объяснить способность
интеллигентного человека укладывать в своей памяти такой запас сведений,
какой для человека малообразованного является совершенно непреодолимым.
Следует заметить, что при том обмене, который происходит между
элементами сознательной и бессознательной сферы, всегда сохраняется
между ними известная преемственная связь. Только существованием
такой преемственной связи и можно объяснить себе нашу способность
узна418
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
вания прошлых представлений. Как известно, мы не только
воспроизводим прошлые представления, но и узнаем, что эти представления уже были
когда-то в нашей сознательной сфере, а не явились вновь.
Эта присущая нам способность узнавания прошлых представлений
играет вообще огромную роль в нашей психической жизни. Без такой
способности представления, родившиеся в нашем сознании в прежнее время,
мы бы уже не могли относить к нам самим, и, следовательно, не могло бы
быть и т. н. единства сознания личности, а вместе с тем и той
непрерывности сознания, которая устанавливается с известного возраста в жизни
каждого человека. Без такой способности мы не могли бы иметь и понятия о
времени, так как все воспоминаемые нами прошлые события казались бы
нам лишь игрой нашего воображения в настоящем.
С другой стороны, преемственностью между процессами
сознательными и бессознательными объясняется, между прочим, тот
поразительный с виду факт, что процессы, совершающиеся в бессознательной сфере
человека, служат нередко руководством его сознательных действий. В
самом деле, как часто мы приходим к тем или другим решениям, не сознавая
ясно или даже и вовсе тех мотивов, которые привели нас к подобным
решениям. Впоследствии, однако, по принятии определенных решений, часто
измышляются и мотивы последних, хотя они уже не имеют для нас того
практического значения, как сознательные мотивы pro и contra до
принятия известного решения.
Еще более поразительный пример влияния бессознательной
психической сферы на действия, совершаемые сознательно, представляют так
называемые внушенные идеи гипнотиков. Мы знаем, что эти идеи, будучи
восприняты в гипнотическом состоянии, впоследствии всплывают на
поверхность сознания и принуждают человека к поступкам и действиям,
стоящим в прямом противоречии со всеми его нравственными убеждениями.
И в самом деле, не насилие ли это бессознательной сферы над волей
человека, когда последнему в состоянии гипноза внушают идею украсть или
убить и этот человек по возращении своего сознания выполняет деяние,
противное всем его нравственным воззрениям?
Мы не будем углубляться далее во взаимные отношения сознательной и
бессознательной сферы. Заметим лишь, что сознание, в свою очередь,
обнаруживает ничуть не меньшее, если не большее влияние на бессознательную
сферу. Сознание не только открывает человеку его внутренний мир, иначе
говоря, дает ему возможность чувствовать приятное и неприятное, испытывать
радость и горе, понимать пользу и вред, но оно воздействует и на все те, часто
необъяснимые для самого лица, стремления и влечения, которые, зарождаясь
в бессознательной сфере и овладевая человеком нередко еще с раннего
возраста, влекут его к действиям и поступкам, противным чувству долга и
нравственности. Правда, это воздействие не всегда приводит к победе
нравствен14* 419
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ных мотивов, но во всяком случае высоконравственные поступки и великие
жертвы на пользу человечества возможны лишь благодаря сознанию.
С рассматриваемой точки зрения сознание может быть уподоблено
яркому светильнику, который, озаряя собою глубокие тайники нашей
психической сферы, в то же время позволяет нам заблаговременно
предвидеть последствия своих деяний и дает возможность находить средства для
противодействия тем или другим пагубным для нас влечениям.
ПСИХИКА И ЖИЗНЬ1
...Принцип психофизического параллелизма,
в сущности, лишь констатирует факт или, точнее
говоря, вывод из имеющихся фактов, но ни на йоту
не подвигает нас в решении проблемы об
отношении душевных и телесных отправлений,
вследствие чего некоторые из параллелистов пришли на
точку зрения монизма, отождествляя физическое
и психическое, что, по существу, неправильно.
Мы держимся также идеи параллелизма
как научного факта, но признаем, что
психическое и физическое суть два несоизмеримых
между собою явления, не допускающих
никаких непосредственных переходов одно в другое.
Если же они всегда и везде протекают
параллельно друг другу, то этот факт объясняется
ничуть не тождеством физического и
психического, рассматриваемого нами лишь с двух различных точек зрения, как
допускают некоторые, а тем, что оба порядка явлений обязаны своим
происхождением одной общей, скрытой от нас причине, которую мы условно
назовем скрытой энергией. Если два несоизмеримых друг с другом порядка
явлений протекают совершенно независимо один от другого, нигде друг с
другом не встречаются и тем не менее везде и всюду протекают параллельно,
то уже прямая логика вещей приводит к выводу, что оба порядка явлений,
т. е. психические и физические процессы, должны иметь одну общую
производящую их причину, которую мы и обозначаем именем скрытой энергии.
При этом мы должны оговориться, что с названием «энергии » вообще
мы ничуть не связываем обыденное понятие о «физических энергиях», как
это принято в настоящее время. По нашему мнению, та или другая форма
В.М. Бехтерев. Психика и жизнь. СПб., 1902. С. 166-171.
420
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
движения частиц материи еще не есть сама энергия или сила, а лишь
проявление ее в определенной среде. Энергия же или сила, по существу, есть не
что иное, как деятельное начало, разлитое в природе Вселенной.
Мы не знаем, конечно, сущности этого деятельного начала, общею
средою которого является мировой эфир, но проявление этого начала мы
видим и наблюдаем в постоянных превращениях вещества, происходящих
кругом нас. Разные формы проявления деятельного начала в природе мы
называем силами, или энергиями. Таким образом, и под названием
скрытой энергии, мы понимаем проявление деятельного начала, присущее
всякой вообще живой организованной среде и не представляющее собою
чеголибо материального в настоящем смысле этого слова.
Я думаю, что благодаря постоянному обращению с вещественным
миром мы получаем склонность даже и таким понятиям, как энергия,
придавать нечто физическое, материальное, отчего, по нашему мнению,
несомненно, страдает чистое умозрение. Физические изменения среды, это —
результат проявления энергии как деятельного начала, сама же энергия
лишена вообще материальной основы.
Итак, в природе мы имеем деятельное начало, разнообразные
проявления которого приводят к видоизменению среды, следовательно,
вызывают определенные последствия; в той же форме этой среды, которую мы
находим в организмах, проявления деятельного начала приводят не только
к определенным материальным изменениям, но в известных случаях и к
субъективным явлениям, образующим психическую сферу организмов.
Это-то деятельное начало мы называем скрытой энергией организмов,
в отличие от других форм мировой энергии. Для обозначения этого
деятельного начала, проявляющегося в организмах, мы намеренно избегаем
термина психической энергии, так как с этим термином неизбежно
связывается представление о субъективных или сознательных явлениях,
которые сами по себе являются лишь показателями скрытой энергии при
известном ее напряжении, а не самой энергией. С другой стороны, неподходящим
нам кажется и термин нервной энергии, так как с ним связывается
представление об определенных физических изменениях без прямого
отношения к ним субъективных или психических явлений.
Из предыдущего ясно, что скрытая энергия организмов есть ничто
иное, как особое проявление мировой энергии как деятельного начала в
природе, внешним выражением которой являются те физические или
материальные изменения в нервной ткани, которыми сопровождаются все
вообще совершающиеся в ней процессы проведения, тогда как внутренним
выражением той же энергии являются те субъективные или сознательные
явления, которые мы открываем в нас самих путем самонаблюдения.
Не подлежит сомнению, что в явлениях субъективного мира мы
встречаемся с явлениями совершенно особого рода, которых мы не открываем
421
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
в телах мертвой природы, несмотря на присутствие в них разных видов
энергии. Но этот факт стоит в прямом отношении к той среде, которую
энергия встречает в организмах вообще и в частности в их нервных
центрах.
Везде и всюду мы видим, что среда не остается безразличной по
отношению к тем проявлениям, которыми выражается энергия как деятельное
начало. Поэтому мы и считаем возможным допустить, что проявления
скрытой энергии организмов в форме сознания обусловливаются теми особыми
условиями среды, которую они собою представляют.
Взгляд некоторых авторов, что психические процессы сами по себе
представляют собою как бы особую энергию, которую называют одни
психической, а другие психофизической, следует признать ошибочным, на что
указывалось уже и ранее неоднократно, тем более что нет никакой
возможности установить в таком случае взаимоотношения между
психической энергией и прочими физическими энергиями.
Идеи не суть силы, как признает Foullie, они лишь внутренние образы,
за которыми скрывается производящая их энергия.
Таким образом, открываемый нами путем самонаблюдения
субъективный или сознательный мир представляет собою такого рода явления,
причины которых кроются в особой непознаваемой непосредственно,
скрытой от нас энергии. Все так называемые психические образы (ощущения,
чувствования, представления и пр.) суть лишь внутренние знаки тех
количественных превращений, которым подвергается скрытая энергия в нас
самих при внешних воздействиях на наши органы чувств.
Равным образом и те материальные изменения, которые мы
открываем в нервных центрах во время психической деятельности, являются, в свою
очередь, следствием проявления скрытой энергии, подобно тому, как все
вообще явления в природе суть внешние проявления деятельности
различных форм энергии. В самом деле, ни одно внешнее явление, ни одно тело в
природе не могло бы существовать, если бы за ним не скрывался тот или
иной вид энергии. Словом, все внешние тела и явления в природе суть
проявления деятельности энергии, видоизменяющей среду.
Точно так же и все внутренние факты и явления, которые мы
открываем в нас самих путем самонаблюдения, и все сопутствующие им
материальные изменения нервных центров обязаны своим происхождением
скрывающейся за ними энергии.
Надо заметить, что во всем внешнем мире проявление энергии всегда
связывается с изменением среды и, с другой стороны, благодаря условиям
среды и энергия видоизменяет форму своего проявления.
В этом взаимоотношении, очевидно, и содержится ключ того
параллелизма, который мы имеем между психическими процессами и
происходящими в мозгу материальными изменениями.
422
ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...
Таким образом, нам становится понятным тот факт, что высшее
развитие скрытой энергии вместе с богатым развитием умственных сил
получает пластическое выражение в прекрасно развитом мозге, в то время как
материальные нарушения мозга приводят ео ipso к измененному
проявлению скрытой энергии, а следовательно, и к нарушению умственных
отправлений.
В пользу того, что явления сознания суть не что иное, как проявление или
продукт особой скрытой энергии, а не представляют собою самостоятельного
явления в виде, например, особой психической силы, говорит, между прочим,
и то обстоятельство, что, по существу, психическая деятельность возможна и
в отсутствие сознания, причем бессознательные психические процессы
выполняются по тем же самым законам, как и сознательные; следовательно,
скрытая энергия обнимает собою не один только порядок сознательных
явлений, но и бессознательные процессы психической деятельности. С другой
стороны, выделять особую психическую энергию и особую же нервную энергию,
как делает, например, HJL Грот, мы не находим возможным не только
потому, что всякая психическая деятельность сопровождается ео ipso
материальными процессами в наших центрах и, следовательно, мы должны бы
признавать в этом случае параллельное действие двух различных по существу энергий
в природе, примера чему мы нигде не встречаем, но и потому, что эти
материальные процессы качественно не различаются друг от друга, будет ли
психическая деятельность сознательною или бессознательною. Даже процессы,
совершающиеся в более элементарных отделах нервной системы, например в
периферических нервных узлах, вряд ли по существу отличаются от
процессов, происходящих в высших центрах нервной системы, в которых
сосредоточивается наша психическая деятельность.
Мы знаем, что сознательные процессы постоянно переходят в
бессознательные, не утрачивая своего основного характера, так как психизм и без
участия сознания проявляет себя по тем же самым законам, как и
сознательный психизм. Следовательно, действие скрытой энергии, проявляясь
развитием того своеобразного движения в нервной системе, которое мы называем
нервным током, ничуть не обязательно сопровождается сознанием.
Руководясь известными нам данными относительно умственной
деятельности как работы, связанной с наибольшими материальными
изменениями в нервных центрах, следует признать, что сознание проявляется лишь
в том случае, когда скрытая энергия центров достигает наибольшего
напряжения, вследствие чего и нервный ток достигает большей и
интенсивности. С другой стороны, большее или меньшее напряжение скрытой
энергии стоит, как надо думать, в прямой зависимости не только от силы
внешних воздействий, но и от развития препятствий в нервной системе.
Подобно тому, как трение с возрастанием препятствий развивает большее
количество тепла, что приводит наконец к вспыхиванию пламени, так и
423
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
скрытая энергия при возрастании препятствий в нервной системе приводит
к развитию субъективных явлений, обнимаемых понятием сознания.
Таким образом, проявления скрытой энергии в наших центрах могут быть
сознательные и бессознательные. При этом как результат проявления
скрытой энергии происходят материальные изменения в нашей нервной системе,
подобно тому как проволока, которая накаливается или по которой пробегает
электрический ток, не остается без изменения своего внутреннего состава.
Вообще весь процесс действия скрытой энергии можно было бы сравнить с
горением, которое может происходит при ярком пламени, если оно интенсивно,
и может происходить без всякого пламени, коль скоро самый процесс горения
происходит в слабой степени; при этом в прямой зависимости от интенсивности
горения стоят и изменения вещества, обусловливаемые этим горением. Тем не
менее как в горении пламя не есть только сопровождающее явление, а служит
прямым выражением процесса горения, так и сознание не есть лишь явление,
сопровождающее при известных условиях действие скрытой энергии, а
является непосредственным выражением скрытой энергии наших центров.
Из сказанного очевидно, что между скрытой энергией, с одной стороны,
и психическими явлениями, а равно и материальными процессами в мозгу,
с другой, существуют отношения причины к следствию. Так как при этом все
психические процессы обязаны своим происхождением одному и тому же
источнику, т. е. скрытой энергии, подчиняющейся в своих проявлениях
определенным законам, то и между ними самими устанавливается постоянное
взаимоотношение определенной последовательности, которое мы обыкновенно
уподобляем причинным соотношениям. Если дом загорелся от пламени
свечки, то мы рассматриваем пламя свечки как причину пожара, хотя в
действительности причиной пожара является тепловая энергия, лежащая в основе и
свечного пламени, и пожара. Очевидно, что мы в таком же положении
находимся и в отношении психической деятельности, в которой один психический
образ мы рассматриваем, как причину другого.
Так как субъективные явления суть прямые выразители, или, точнее
говоря, показатели, скрытой энергии, доступные вашему самонаблюдению, то
очевидно, что мы их признаем за внутренние руководители наших
стремлений, действий и поступков, тогда как основной причиной всех вообще
субъективных явлений, а равно и причиной наших стремлений, действий и поступков
является непознаваемая нами непосредственно скрытая энергия. Та же
скрытая энергия при посредстве производимых ею субъективных образов дает
возможность качественной оценки явлений внешнего мира по отношению к
субъективным потребностям организма, как проявлению той же скрытой
энергии. В этом отношении субъективные показатели играют роль всех,
обозначающих пройденный энергией путь, что дает возможность оценивать значение
явлений внешнего мира для организма и делать выбор между приятным,
полезным или пригодным и неприятным, вредным или враждебным.
Часть вторая. Становление
экспериментальной
и прикладной психологии
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
A.A. ПОТЕБНЯ:
ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ
Потебня Александр Афанасьевич (1835 —
1891) — филолог, основатель
философско-лингвистической концепции. В 1856 г. окончил
Харьковский университет и до смерти оставался
профессором этого университета. Разрабатывал
вопросы истории сознания в его связи с языком,
теории мифа. Основываясь на фактологических
исследованиях языкового материала, развивал
учение о внутренней форме слова и
последовательном становлении разных форм мышления —
мифологическом, художественно-поэтическом и
научном (прозаическом). Идеи Потебни о внутренней
форме слова получили развитие в отечественной философии и психологии
в трудах Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготского, Г.Г. Шпета.
Последователи Потебни — Д.Н. Овсянико-Куликовский,
литературовед и критик А.Г. Горнфельд, историк и филолог А.Л. Погодин
участвовали в издававшихся в Харькове сборниках «Вопросы теории и психологии
творчества» (1907-1927, вышло 8 томов), в которых использовали
исследования Потебни в области символики языка в применении к
художественному творчеству.
В антологию включены отрывки из книги Потебни «Мысль и язык».
мысль и язык1
...Взявши слово дух, играющее в теории Гумбольдта очень важную
роль в самом обширном и, может быть, совершенно неверном смысле
душевной жизни человека вообще, мы спросим себя: до какой степени
эта жизнь нераздельна с языком? В ответ на такой вопрос прежде всего
придется устранить неразрывность (но не связь) с языком чувства и воли,
которые выражаются словом, насколько они стали содержанием нашей
мысли. Затем в самой мысли отметим многое, не требующее языка. Так,
дитя до известного возраста не говорит, но в некотором смысле думает,
то есть воспринимает чувственные образы, притом гораздо
совершен1 Потебня АЛ. Слово и миф. М., 1989. С. 50-51; 83-84; 87, 88, 94-98,160-161.
427
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
нее, чем животное, вспоминает их и даже отчасти обобщает. Потом,
когда уже усвоено человеком употребление языка, непосредственные
чувственные восприятия или существуют до своего соединения со словом, или даже
никогда не достигают такого соединения. Подобным образом и
сновидения, которые большею частью слагаются из воспоминаний чувственных
восприятий, нередко не сопровождаются ни громкою, ни беззвучною речью.
Творческая мысль живописца, ваятеля, музыканта невыразима словом и
совершается без него, хотя и предполагает значительную степень
развития, которая дается только языком. Глухонемой даже постоянно
мыслит, и притом не только образами, как художник, но и об отвлеченных
предметах, без звукового языка, хотя, по-видимому, никогда не
достигает того совершенства умственной деятельности, какое возможно для
говорящих. Наконец, в математике, науке совершеннейшей по форме,
человек говорящий отказывается от слова и делает самые сложные
соображения только при помощи условных знаков.
Из всего этого видно, что область языка далеко не совпадает с
областью мысли. В средине человеческого развития мысль может связана со
словом, но в начале она, по-видимому, еще не доросла до него, а на высокой
степени отвлеченности покидает его как не удовлетворяющее ее
требованиям и как бы потому, что не может вполне отрешиться от чувственности,
ищет внешней опоры только в произвольном знаке.
...Сходство между человеком и животным в ходе образования звуков
далеко не полное. Членораздельный звук все же есть исключительная
принадлежность человека; в криках животных, наиболее близких к нам по
устройству тела, он вовсе не встречается, а в птицах — только как
случайное для их природы следствие усилий человека или по крайней мере как
явление, не имеющее для их жизни и тени того значения, какое оно имеет
для нашей. Здесь сам собою представляется вопрос, почему
членораздельность свойственна только одному человеку. Всякий ответ на это должен
или предположить ясным самое понятие членораздельности, или начаться
с его разложения и уяснения, которое может быть достигнуто разными
путями. Физик, быть может, мог бы открыть, что графические
изображения звуковых волн, производящих членораздельный звук, подобные тем,
какие найдены для музыкальных тонов, особенно правильны и
симметричны сравнительно с изображениями животного крика. Физиолог мог бы
исследовать движения органов, нужные для членораздельности, и вместе
отвечать на вопрос о причинах ее отсутствия в животных тем, что хотя
многие животные, судя по внешнему устройству органов (голосовых струн,
гортани, неба, языка и т. д.), и были бы в состоянии издавать
членораздельные звуки, но их нервы, приводящие в движение упомянутые органы,
лишены способности верно рефлектировать потрясение слуха. Но, чтобы
остаться на психологической точке зрения, нужно искать определения
428
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
членораздельному звуку не в том, что он такое — независимо от сознания,
а в том, как он представляется самому сознанию говорящего. Ближайший
источник звука для сознания и вместе для психологии есть не дрожание
нервов, как для физиологии, а чувственное восприятие, известное
состояние души. Звук со стороны влияния его на нашу душевную жизнь
представляется нам не мерою, необходимою для успокоения организма, а средством
уравнивать душевные потрясения, освобождаться от их подавляющей силы.
Не всякому, конечно, приходилось спрашивать себя, какая польза
человеку крикнуть от испуга; но всякий, кто сознал свой испуг и его проявление в
звуке и кто поставлен этим в необходимость смотреть на звук по
отношению его к мысли, скажет, что он крикнул от испуга. Развитое таким путем
понятие о звуке предполагает его соответствие свойствам душевных
потрясений и заставляет искать причины членораздельности в ее соответствии
отличительному характеру чувственности человека...
В нечленораздельных звуках мы встретим отдельные согласные
(например, р — в ворчании собаки, губные — в мычании коровы, гортанные —
в ржании лошади), но вместе должны будем сознаться, что мы находим их
в животных криках единственно потому, что привыкли слышать в
человеческой речи. Лай или вой собаки, разделенный на бесконечно малые
частицы, заполнил бы каждую из этих частиц чистою гласною или согласною; но
органы собаки при этом не остаются ни на одно ощутимое мгновение в
одном положении, и звук, только что появляясь, уже переходит в другой,
отчего для одного наблюдателя он приближается к одному
членораздельному звуку, в глазах другого — к другому. В животном звуке нет единицы,
такой, как в человеческом языке, — звук, слог, слово (в фонетическом
смысле), а потому он не выразим средствами человеческих азбук,
предполагающих такие единицы.
... Членораздельный звук определяется тем, для чего он годится, как
выше чувства человека характеризовались тем развитием, основанием
которого они служат. Другого определения членораздельному звуку найти
нельзя. В природе он встречается только в человеческой речи, служит
только для изображения мысли, а потому только от свойств мысли заимствует
все свои признаки.
Прежде всего обратим внимание на те условия образования слова,
которые могут сами собою найтись в человеке, взятом отдельно,
независимо от связи с обществом. Во-первых, произнося слово, мы можем
заметить, что чувство, внушаемое тем, что представляется нам содержанием
слова, так слабо в сравнении с чувством, которое прорывается в
восклицании, что само по себе не вызвало бы звука, если б не застало его уже
готовым. Отсюда выводим, что напряженность чувства, владеющего
человеком, который произносит междометие, должна уменьшиться при переходе
междометия в слово. Во-вторых, такое падение интенсивности чувства
тре429
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
буется и тою ясностью, с которою мы представляем себе содержание
слова, и тою отделкою, какую мы придаем его форме. Пословицу «у страха
глаза велики» мы можем распространить на все сильные чувства, которые
не то что непременно заставляют нас преувеличивать, а просто не дают
рассмотреть предметов, причинивших испытываемое нами потрясение.
Создавая слово, человек должен заметить свой собственный звук; это уже
самонаблюдение, рефлексия в психологическом смысле этого слова, которая
тем труднее для нас, чем более мы увлечены общим потоком своей мысли,
чем сильнее волнующее нас чувство. Оба эти условия (слабость чувства и
определенность восприятия) до значительной степени даются одним
повторением таких же восприятий. Человек, например, с невольным ужасом
и совершенно безотчетно наклоняет голову, слыша над собою впервые свист
пули; но потом привыкает к этому свисту, начинает вслушиваться в его
особенности. Такое ослабление чувства может быть независимо от всяких
свойственных только человеку соображений, потому что замечается и в
животных (например, в лошади, привыкающей к тяжести всадника, к
выстрелам, к виду верблюдов и проч.), хотя это ослабление не дает им
человеческой объективности взгляда.
По мере [того] как уменьшается необходимость отражения чувства в
звуке, увеличивается другого рода связь звука и представления. Звук,
издаваемый человеком, воспринимается им самим, и образ звука, следуя
постоянно за образом предмета, ассоциируется с ним. При новом
восприятии предмета или при воспоминании прежнего повторится и образ звука,
и уже вслед за этим (а не непосредственно, как при чисто рефлексивных
движениях) появится самый звук. Сходное с этим сцепление образа
предмета, образа движения и самого движения встречаем очень часто:
музыкант или наборщик при виде ноты или буквы, при одной мысли об них сразу
находит нужный клавиш инструмента или отделение ящика с буквами.
Ассоциация восприятий предмета и звука, заменяющая непосредственное
рефлексивное движение голосовых органов таким, в котором
произнесение звука посредствуется его образом в душе, есть одно из необходимых
условий создания слова. Но она еще не дает понимания, потому что может
вовсе не замечаться самим человеком точно так, как вообще ускользает от
самонаблюдения множество привычных движений тела. В создании слова
долж-но повториться то, что происходит с нами на высших степенях
развития: не в уединении, а в обществе мы привыкаем смотреть за собою;
поэтическое произведение открывает нам до того неизвестные стороны нашей
собственной души, а не сами собою они нам уясняются: вообще внешнее
наблюдение предшествует внутреннему. В применении к языку это будет
значить, что слово только в устах другого может стать понятным для
говорящего, что язык создается только совокупными усилиями многих, что
общество предшествует началу языка. «Язык, — говорит Гумбольдт, —
430
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
в действительности развивается только в обществе, и человек понимает
себя, только испытавши на другом понятность своих слов».
Следует еще заметить, что во время понимания слова звук в нашей
мысли предшествует своему значению, тогда как при ассоциации, о
которой мы выше говорили, совсем наоборот: образ предмета предшествует в
мысли образу звука. Как произойдет эта перестановка, нужная для
понимания? Что заставит человека сначала вспомнить свой звук, потом
объяснить его восприятием предмета? Очевидно, что, скорее всего, самый этот
звук, услышанный от другого. Представим себе, что первобытный человек,
пораженный известным впечатлением, издает такой-то звук, что это
повторилось несколько раз и произвело ассоциацию образа предмета и
впечатления звука и что, наконец, при этом самый предмет потерял свой, так
сказать, подавляющий мысль интерес. Другой человек под влиянием
такого же впечатления от того же предмета произнесет такой же звук. Это вполне
вероятно, потому что мы легко можем допустить такое сходство в
устройстве и мгновенном состоянии организмов, при котором звуки, в коих
отражаются одинаковые чувства, представляют совершенно неуловимые
различия, особенно для непривычного уха. Звук этот, воспринятый первым,
возобновит в его сознании прежде всего его собственный такой же, потому
что восприятие имеет наиболее общего с образом этого звука, а не с
какимлибо другим созданием души. Мысль о звуке, без сомнения, не пройдет без
следа и невольно повлечет за собою свое осуществление, произнесение
звука, потому что молчание есть искусство не давать представлению
переходить в движения органов, с которыми оно связано, — искусство,
приобретаемое современным человеком довольно поздно и совсем незаметное в
детях. Слушающий повторит услышанный от другого звук; ему
ощутительно предстанет его собственное создание и, в свою очередь, вызовет бывший
в душе, но теперь уже объясняющий звук образ предмета. Так совершится
перестановка представлений, требуемая пониманием. Слушающий
понимает не один свой звук, а вместе и чужой, на источник коего указывает ему
зрение; он видит говорящего и вместе предмет, на который указывает этот
последний. Стало быть, при первом акте понимания произойдет
объяснение не только звука, принадлежащего понимающему, но посредством
этого звука и состояния души говорящего. С одной стороны, здесь будет
совершенно невольное сообщение мысли, с другой — столь же невольное ее
понимание.
Однако этим не может окончиться развитие слова в понимающем.
Образ предмета был до сих пор объясняющим, чем-то наиболее близким к
самому лицу и наименее для него ясным. Наши душевные состояния
уясняются нам лишь по мере того, как мы их обнаруживаем, даем им как бы
самостоятельное существование, находя их, например, в других или
выражая в слове. Навсегда темными остаются для нас те особенности нашей
431
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
душевной жизни, которых мы не выразим никакими средствами и которых
не увидим ни в ком, кроме себя. Когда новое восприятие предмета вызовет
в том, кого мы до сих пор представляли слушающими и понимающими,
такое же прежнее, когда это последнее выразится в звуке, звук этот
воспримется слушающими и заставит его сделать движение, понятное
говорящему, например, указать на предмет, только тогда говорящий «изведает»
на другом понятность своего слова ». Теперь он будет понимать себя,
потому что получит доказательства существования в другом того образа,
который до сих пор был его личным достоянием. Средством при этом, как и при
понимании другого, будет звук, обнаруживающий для говорящего его
собственную мысль. Представление предмета в говорящем, звук и его
действие на слушающего (то есть указание на то, что в последнем есть такой
же образ предмета) теперь ассоциируются и образуют один ряд, который
воспроизводится, какой бы его член ни был дан первым.
• Итак, образование слова есть весьма сложный процесс. Прежде всего
— простое отражение чувства в звуке, такое, например, как в ребенке,
который под влиянием боли невольно издает звук вава. Затем — сознание
звука; здесь кажется не необходимым, чтоб ребенок заметил, какое
именно действие произведет его звук; достаточно ему услышать свой звук вава
от другого, чтобы воспомнить сначала свой прежнийзвук, а потом уже —
боль и причинивший ее предмет. Наконец — сознание содержания мысли в
звуке, которое не может обойтись без понимания звука другими. Чтобы
образовать слово из междометия вава, ребенок должен заметить, что мать,
положим, услышавши этой звук, спешит удалить предмет, причиняющий
боль.
Как бы неудовлетворительно ни было изложенное нами
объяснение создания слова, во всяком случае верно то, что язык предполагает
такую степень развития, которой непосредственно предшествует
патогномический звук. Эту степень называют ономато-поэтическою, но не
в том смысле, что на ней изображаются звуки внешней природы (далеко
не все слова, образованные из междометий, суть звукоподражания),
а скорее в том, что здесь впервые звуками изображаются мыслимые
явления.
До сих пор, говоря о том, как звук получает значение, мы оставляли в
тени важную особенность слова сравнительно с междометием, —
особенность, которая рождается вместе с пониманием, именно так называемую
внутреннюю форму. Нетрудно вывести из разбора слов какого бы ни было
языка, что слово собственно выражает не всю мысль, принимаемую за его
содержание, а только один ее признак. Образ стола может иметь много
признаков, но слово стол значит только постланное (корень стол тот же,
что в глаголе стлать), и поэтому оно может одинаково обозначать всякие
столы, независимо от их формы, величины, материала. Под словом окно
432
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя по сходству
его со словом око, оно значит: то, куда смотрят или куда проходит свет, и
не заключает в себе никакого намека не только на раму и проч., но даже на
понятие отверстия. В слове есть, следовательно, два содержания: одно,
которое мы выше называли объективным, а теперь можем назвать
ближайшим этимологическим значением слова, всегда заключает в себе только
один признак; другое — субъективное содержание, в котором признаков
может быть множество. Первое есть знак, символ, заменяющий для нас
второе. Можно убедиться на опыте, что, произнося в разговоре слово с
ясным этимологическим значением, мы обыкновенно не имеем в мысли
ничего, кроме этого значения: облако, положим, для нас только
«покрывающее». Первое содержание слова есть та форма, в которой нашему
сознанию представляется содержание мысли. Поэтому, если исключить второе,
субъективное и, как увидим сейчас, единственное содержание, то в слове
остается только звук, то есть внешняя форма и этимологическое значение,
которое тоже есть форма, но только внутренняя. Внутренняя форма
слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как
представляется человеку его собственная мысль. Этим только можно
объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для
обозначения одного и того же предмета и, наоборот, одно слово,
совершенно согласно с требованиями языка, может обозначать предметы
разнородные. Так, мысль о туче представлялась народу под формою одного
из своих признаков, именно того, что она вбирает в себя воду или изливает
ее из себя, откуда слово туча (корень ту, пить и лить). Поэтому польский
язык имел возможность тем же словом tkcza (где тот же корень, только с
усилением) назвать радугу, которая, по народному представлению,
вбирает в себя воду из криницы. Приблизительно так обозначена радуга и в слове
радуга (корень дуг, доить, то есть пить и напоять, тот же, что в слове дождь);
но в малорусском слове веселка она названа светящеюся (корень вас,
светить, откуда весна и веселый), а еще несколько иначе в малорусском же
красна пат.
X. ПОЭЗИЯ. ПРОЗА. СГУЩЕНИЕ МЫСЛИ
Символизм языка, по-видимому, может быть назван его
поэтичностью; наоборот, забвение внутренней формы кажется нам прозаичностью
слова. Если это сравнение верно, то вопрос об изменении внутренней
формы слова оказывается тождественным с вопросом об отношении языка к
поэзии и прозе, то есть к литературной форме вообще. Поэзия есть одно из
искусств, а потому связь ее со словом должна указывать на общие стороны
языка и искусства. Чтобы найти эти стороны, начнем с отождествления
моментов слова и произведения искусства. Может быть, само по себе это
433
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
сходство моментов не говорит еще ничего, но оно по крайней мере
облегчает дальнейшие выводы.
В слове мы различаем внешнюю форму, то есть членораздельный звук,
содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или
ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается
содержание. При некотором внимании нет возможности смешать
содержание с внутреннею формою. Например, различное содержание, мыслимое при
словах жалованье, аппиит, pensio, gage, представляет много общего и может
быть подведено под одно понятие — платы; но нет сходства в том, как
изображается это содержание в упомянутых условиях: аппиит — то, что
отпускается на год, pensio — то, что отвешивается, gage (по Дицу, слово германского
происхождения) первоначально — залог, ручательство, вознаграждение и
проч., вообще результат взаимных обязательств, тогда как жалованье —
действие любви (ср. синонимические слова миловать — жаловать, из коих
последнее и теперь еще местами значит любить, подарок), но никак не законное
вознаграждение, не «legitimum vadium », не следствие договора двух лиц.
Внутренняя форма каждого из этих слов иначе направляет мысль;
почти то же выйдет, если скажем, что одно и то же новое восприятие, смотря
по сочетаниям, в какие оно войдет с накопившимся в душе запасом,
вызовет то или другое представление в слове.
Внешняя форма нераздельна с внутреннею, меняется вместе с нею,
без нее перестает быть сама собою, но тем не менее совершенно от нее
отлична; особенно легко почувствовать это отличие в словах «разного
происхождения, получивших с течением времени одинаковый выговор: для
малороссиянина слова мыло и мило различаются внутреннею формою, а не
внешнею.
Те же стихии и в произведении искусства, и нетрудно будет найти их,
если будем рассуждать таким образом: «Это — мраморная статуя
(внешняя форма) женщины с мечом и весами (внутренняя форма),
представляющая правосудие (содержание)». Окажется, что в произведении
искусства образ относится к содержанию, как в слове представление —
к чувственному образу или понятию. Вместо «содержание»
художественного произведения можем употребить более обыкновенное выражение,
именно «идея». Идея и содержание в настоящем случае для нас
тождественны, потому что, например, качество и отношения фигур,
изображенных на картине, события и характеры романа и т. п. мы относим не к
содержанию, а к образу, представлению содержания, а под содержанием картины,
романа разумеем ряд мыслей, вызываемых образами в зрителе и читателе
или служивших почвою образа в самом художнике во время акта создания.
Разница между образом и содержанием ясна. Мысль о необходимости
смерти и о том, «что думка за морем, а смерть за плечами», одинаково
приходит в голову по поводу каждой из сцен пляски смерти; при большой
434
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
изменчивости образов содержание здесь относительно (но только
относительно) неподвижно. Наоборот, одно и то же художественное
произведение, один и тот же образ различно действует на разных людей и на одно
лицо в разное время, точно так, как одно и го же слово каждым понимается
иначе; здесь относительная неподвижность образа при изменчивости
содержания.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
К А УШИНСКИЙ:
«ЧТОБЫ ВОСПИТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ, ЕГО НАДО РАНЬШЕ УЗНАТЬ
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ»
Ушинский Константин Дмитриевич (1824—
1871) — педагог. Исходя из важности
всестороннего знания «человека как предмета воспитания»,
включал в круг областей антропологических наук
анатомию, физиологию человека, логику,
философию, общую историю философских систем,
историю искусств, историю воспитания,
политическую экономию, статистику, географию, но при этом
отводил первое место психологии. Главный труд
Ушинского «Человек как предмет воспитания.
Опыт педагогической антропологии» (1868-1869)
стал основой и истоком возникновения в России
педагогической психологии как отрасли психологической науки. Указав на
необходимость для воспитания «знать человека, каков он есть в
действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии... знать побудительные
причины самых грязных и самых высоких деяний, историю зарождения
преступных и великих мыслей, историю развития всякой страсти и всякого
характера » он рассмотрел в своем труде широкий круг психологических
проблем. Явления памяти, воображения, мышления, эмоциональные и волевые
процессы личность представлены в развитии и качественных изменениях в
зависимости от их врожденной основы, но при этом главное внимание
уделяется воспитанию, условиям жизни, собственной деятельности людей,
особенно трудовой.
Выдвинутый Ушинским в педагогике антропологический принцип как
попытка изучать целостного человека получил развитие в
«Педагогической психологии» П.Ф. Каптерева (1877), «Сравнительной психологии
нормальных и ненормальных детей » Г.Я. Трошина (1915), антропологическом
этюде П.Ф. Лесгафта «Семейное воспитание ребенка» (1893).
ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ВОСПИТАНИЯ.
ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ1
Однако же примем покудова, что цель воспитания нами уже
определена: тогда останется нам определить его средства. В этом отношении
на1 Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 8. М.; Л., 1950. С. 22-39.
436
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ука может оказать существенную помощь воспитанию. Только замечая
природу, замечает Бэкон, можем мы надеяться управлять ею и заставить
ее действовать сообразно нашим целям. Такими науками для педагогики,
из которых она почерпает знания средств, необходимых ей для
достижения ее целей, являются все те науки, в которых изучается телесная или
душевная природа человека и изучается притом не в мечтательных, но в
действительных явлениях.
К обширному кругу антропологических наук принадлежат: анатомия,
физиология и патология человека, психология, логика, филология,
география, изучающая землю, как жилище человека, и человека, как жильца
земного шара, статистика, политическая экономия и история в обширном
смысле, куда мы относим историю религии, цивилизации, философских систем,
литератур, искусств и собственно воспитания в тесном смысле этого слова.
Во всех этих науках излагаются, сличаются и группируются факты и те
соотношения фактов, в которых обнаруживаются свойства предмета
воспитания, т. е. человека.
Но неужели мы хотим, спросят нас, чтобы педагог изучал такое
множество и таких обширных наук, прежде чем приступить к изучению
педагогики в тесном смысле, как собрания правил педагогической
деятельности? Мы ответим на этот вопрос положительным утверждением. Если
педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она
должна прежде узнать его тоже во всех отношениях. В таком случае, заметят
нам, педагогов еще нет, и не скоро они будут. Это очень может быть; но тем
не менее положение наше справедливо. Педагогика находится еще не только
у нас, но и везде, в полном младенчестве, и такое младенчество ее очень
понятно, так как многие из наук, из законов которых она должна черпать
свои правила, сами еще недавно только сделались действительными
науками и далеко еще не достигли своего совершенства. Но разве
несовершенство микроскопической анатомии, органической химии, физиологии и
патологии помешало сделать их основными науками для медицинского
искусства?
Но, заметят нам, в таком случае потребуется особый и обширный
факультет для педагогов! А почему же и не быть педагогическому
факультету! Если в университетах существуют факультеты медицинские и даже
камеральные, и нет педагогических, то это показывает только, что человек
до сих пор более дорожит здоровьем своего тела и своего кармана, чем
своим нравственным здоровьем, и более заботится о богатстве будущих
поколений, чем о хорошем их воспитании. Общественное воспитание
совсем не такое малое дело, чтобы не заслуживало особого факультета. Если
же мы до сих пор, готовя технологов, агрономов, инженеров,
архитекторов, медиков, камералистов, филологов, математиков, не готовили
воспитателей, то не должны удивляться, что дело воспитания идет плохо и что
437
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
нравственное состояние современного общества далеко не соответствует
его великолепным биржам, дорогам, фабрикам, его науке, торговле и
промышленности.
Цель педагогического факультета могла бы быть определеннее даже
цели других факультетов. Этою целью было бы изучение человека во всех
проявлениях его природы с специальным приложением к искусству
воспитания. Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в
действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии, со
всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими
духовными требованиями. Воспитатель должен знать человека в семействе,
в обществе, среди народа, среди человечества и наедине со своею совестью;
во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радости и горе,
в величии и унижении, в избытке сил и в болезни, среди неограниченных
надежд и на одре смерти, когда слово человеческого утешения уже
бессильно. Он должен знать побудительные причины самых грязных и самых
высоких деяний, историю зарождений преступных и великих мыслей,
историю развития всякой страсти и всякого характера. Тогда только будет
он в состоянии почерпать в самой природе человека средства
воспитательного влияния — а средства эти громадны!
Мы сохраняем твердое убеждение, что великое искусство воспитания
едва только начинается, что мы стоим еще в преддверии этого искусства и
не вошли в самый храм его и что до сих пор люди не обратили на воспитание
того внимания, какого оно заслуживает. Много ли насчитываем мы
великих мыслителей и ученых, посвятивших свой гений делу воспитания?
Кажется, люди думали обо всем, кроме воспитания, искали средств величия и
счастья везде, кроме той области, где скорее всего их можно найти. Но уже
теперь видно, что наука созревает до той степени, когда взор человека
невольно будет обращен на воспитательное искусство.
Читая физиологию, на каждой странице мы убеждаемся в обширной
возможности действовать на физическое развитие индивида, а еще более
на последовательное развитие человеческой расы. Из этого источника,
только что открывающегося, воспитание почти еще и не черпало.
Пересматривая психические факты, добытые в разных теориях, мы поражаемся едва
ли еще не более обширною возможностью иметь громадное влияние на
развитие ума, чувства и воли в человеке, и точно так же поражаемся
ничтожностью той доли из этой возможности, которою уже воспользовалось
воспитание.
Посмотрите на одну силу привычки: чего нельзя сделать из человека с
одной этой силой? Посмотрите хотя на то, например, что делали ею
спартанцы из своих молодых поколений, и сознайтесь, что современное
воспитание пользуется едва малейшею частицею этой силы. Конечно,
спартанское воспитание было бы теперь нелепостью, не имеющей цели; но разве не
438
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
нелепость то изнеженное воспитание, которое сделало нас и делает наших
детей доступными для тысячи неестественных, но тем не менее
мучительных страданий и заставляет тратить благородную жизнь человека на
приобретение мелких удобств жизни? Конечно, странен спартанец, живший и
умиравший только для славы Спарты; но что вы скажете о жизни, которая
вся была бы убита на приобретение роскошной мебели, покойных
экипажей, бархатов, кисеи, тонких сукон, благовонных сигар, модных шляпок?
Не ясно ли, что воспитание, стремящееся только к обогащению человека и
вместе с тем плодящее его нужды и прихоти, берет на себя труд Данаид?
Изучая процесс памяти, мы увидим, как бессовестно еще обращается
с нею наше воспитание, как валит оно туда всякий хлам и радуется, если
изо ста брошенных туда сведений одно как-нибудь уцелеет; тогда как
воспитатель собственно не должен бы давать воспитаннику ни одного
сведения, на сохранение которого он не может рассчитывать. Как мало еще
сделала педагогика для облегчения работы памяти — мало и в своих
программах, и в своих методах, и в своих учебниках! Всякое учебное
заведение жалуется теперь на множество предметов учения — и
действительно, их слишком много, если принять в расчет их педагогическую обработку
и методу преподавания; но их слишком мало, если смотреть на
беспрестанно разрастающуюся массу сведений человечества. Гербарт, Спенсер, Конт
и Милль весьма основательно доказывают, что наш учебный материал
должен подвергнуться сильному пересмотру, а программы наши должны быть
до основания переделаны. Но и в отдельности ни один учебный предмет
далеко еще не получил той педагогической обработки, к которой он
способен, что более всего зависит от ничтожности и шаткости наших сведений о
душевных процессах. Изучая эти процессы, нельзя не видеть возможности
дать человеку с обыкновенными способностями, и дать прочно, в десять
раз более сведений, чем получает теперь самый талантливый, тратя
драгоценную силу памяти на приобретение тысячи знаний, которые потом
позабудет без следа. Не умея обращаться с памятью человека, мы утешаем себя
мыслью, что дело воспитания — только развить ум, а не наполнять его
сведениями; но психология обличает ложь этого утешения, показывая, что
самый ум есть не что иное, как хорошо организованная система знаний.
Но если неуменье наше учить детей велико, то еще гораздо больше
наше неуменье действовать на образование в них душевных чувств и
характера. Тут мы положительно бродим впотьмах, тогда как наука предвидит
уже полную возможность внести свет сознания и разумную волю
воспитателя в эту доселе почти недоступную область.
Еще менее, чем душевными чувствами, умеем мы пользоваться волею
человека — этим могущественнейшим рычагом, который может изменять
не только душу, но и тело с его влияниями на душу. Гимнастика, как
система произвольных движений, направленных к целесообразному изменению
439
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
физического организма, только еще начинается, а трудно видеть пределы
возможности ее влияния не только на укрепление тела и развитие тех или
других его органов, но и на предупреждение болезней и даже излечение их.
Мы думаем, что недалеко то время, когда гимнастика окажется
могущественнейшим медицинским средством даже в глубоких внутренних
болезнях. А что же такое гимнастическое леченье и воспитание физического
организма, как не воспитание и лечение его волею человека? Направляя
физические силы организма к тому или другому органу тела, воля
переделывает тело или излечивает его болезни. Если же мы примем во внимание
те чудеса настойчивости воли и силы привычки, которые так бесполезно
расточаются, например, индийскими фокусниками и факирами, то увидим,
как еще мало пользуемся мы властью нашей воли над телесным
организмом.
Словом, во всех областях воспитания мы стоим только при начале
великого искусства, тогда как факты науки указывают на возможность для
него самой блестящей будущности, и можно надеяться, что человечество
наконец устанет гнаться за внешними удобствами жизни и пойдет
создавать гораздо прочнейшие удобства в самом человеке, убедившись, не на
словах только, а на деле, что главные источники нашего счастья и величия
не в вещах и порядках, нас окружающих, а в нас самих.
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Г.Я. ТРОШИН
«КТО ХОЧЕТ ЗНАТЬ НОРМАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ, ДОЛЖЕН
ИЗУЧАТЬ НЕНОРМАЛЬНЫХ»
Трошин Григорий Яковлевич (1874-1938)
невропатолог, психиатр, психолог, педагог. По
характеристике П.П. Блонского, «серьезный,
вдумчивый, с огромной практикой и
теоретически подкованный» исследователь.
Следовал антропологическому
направлению в психологии и педагогике, основанному
К.Д. Ушинским, которому и посвятил свой
главный труд «Антропологические основы
воспитания. Сравнительная психология нормальных и
ненормальных детей» (1915). За эту книгу
удостоен академической премии им. К.Д.
Ушинского (1915).
Создал школу-лечебницу для аномальных детей в Петербурге
(1913). С 1919 г. профессор, затем заведующий кафедрой психиатрии и
одновременно декан медицинского факультета Казанского
университета. По политическим мотивам в декабре 1922 г. вместе с другими
представителями русской интеллигенции выслан из Советской России на
«философском пароходе». Находясь в эмиграции, жил в Праге.
Заведовал кафедрой судебной медицины и психиатрии Русского
юридического института и кафедрой педологии Русского педагогического
института им. Я.А. Коменского. В круг его интересов входили также
проблемы психологии творчества (монография «Пушкин и психология
творчества», 1937; статьи).
Подчеркивал теоретическое значение изучения психического
недоразвития. Рассматривал психическое развитие аномальных детей как
методологическое средство понимания психического развития в целом. Дал
подробное сравнительное описание познавательных процессов и
личностного развития нормальных и аномальных детей.
Используя различные методы психологического исследования
наблюдение, эксперимент, пришел к выводу о том, что, по существу, нет
разницы между нормальным и аномальным развитием, критерий
отличия от нормы чисто количественный, но если нормальное развитие не
имеет пределов, то аномальные дети как бы застывают на ранних
стадиях, они иначе пользуются такими психическими функциями, как
ощущения, суждение, речь.
441
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ НОРМАЛЬНЫХ
И НЕНОРМАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ1
В заголовке данной книги стоит:
«Антропологические основы воспитания». В истории
русской педагогики это направление имеет
большие традиции. Основание ему положил
Ушинский в своем знаменитом труде
«Человек как предмет воспитания», в предисловии
к которому великий русский педагог
подробно говорит об источниках, составе, целях и
ближайших задачах педагогической
антропологии.
По взглядам Ушинского, источниками для
педагогики, «из которых она исчерпает знания
средств, необходимых ей для достижения ее
целей, являются все те науки, в которых
изучается телесная или душевная природа человека,
и изучается притом не в мечтательных, но в
действительных явлениях».
«К обширному кругу антропологических наук принадлежат анатомия,
физиология и патология человека, психология, логика, филология,
география, изучающая землю как жилище человека, и человека как жильца
земного шара, статистика, политическая экономия и история в обширном
смысле, куда мы относим историю религий, цивилизации, философских систем,
литературы, искусств и собственно воспитания в тесном смысле этого
слова. Во всех этих науках излагаются, сличаются и группируются факты и те
соотношения фактов, в которых обнаруживаются свойства предмета
воспитания, т. е. человека ».
В приведенных словах источники педагогической антропологии
указаны на столько ясно и полно, что к ним нельзя ничего ни
прибавить, ни убавить. Не менее ясно говорит Ушинский о целях новой
педагогики:
«Споспешествовать развитию искусства воспитания можно только
вообще распространением между воспитателями тех разнообразнейших
антропологических знаний, на которых оно основывается; все, что
споспеТрошин Г.Я. Антропологические основы воспитания. Сравнительная психология
нормальных и ненормальных детей. Т.1. Петроград, 1915. С. IX-XVI.
442
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
шествует приобретению педагогами точных сведений по всем тем
антропологическим наукам, на которой основываются правила педагогической
теории, содействуют и выработке ее».
Крайне интересны те ближайшие задачи, какие указывает Ушинский
для педагогической антропологии в ее дальнейшем развитии.
«Мы, не обладая специальными сведениями в медицине, вовсе
удержались в нашей книге от подачи советов по физическому воспитанию,
кроме тех общих, для которых мы имели достаточные основания. В этом
отношении педагогика должна ожидать еще важных услуг от
педагоговспециалистов по медицине. Но не только одни педагоги, специалисты в
анатомии, физиологии и патологии, могут, в области своих специальных наук,
оказать важную услугу всемирному и вечно совершающемуся делу
воспитания. Подобной же услуги можно ожидать, например, от историков и
филологов. Только педагог-историк может уяснить нам влияние общества в
его историче-ском развитии на воспитание и влияние воспитания на
общество не гадательно только, как делается это теперь почти во всех
всеобъемлющих германских педагогиках, но основывая всякое положение на
точном и подробном изучении фактов. Точно так же от педагогов —
специалистов по филологии следует ожидать, что они фактически
обработают важный отдел в педагогике, показав нам, как совершалось и
совершается развитие человека в области слова: насколько психическая природа
человека отразилась в слове и насколько слово, в свою очередь, имеет
влияние на развитие души ».
Два примера, выбранные Ушинским — развитие общества и развитие
речи — показывают, насколько верно он предугадывал дальнейшее
развитие педагогической антропологии: эти вопросы до сих пор составляют
краеугольный камень биологической психологии.
Конечно, для Ушинского было ясно, что «многие из наук, из законов
которых педагогика должна черпать свои правила, сами еще только
недавно сделались действительными науками и далеко еще не достигли своего
совершенства». «Может быть, говорит он, название нашего труда
«Педагогическая антропология» не вполне соответствует его содержанию и во
всяком случае далеко обширнее того, что мы можем дать; но точность
названия, равно как и научная стройность системы, нас мало занимала. Мы
всему предпочитали ясность изложения, и если нам удалось объяснить
сколько-нибудь те психические и психофизические явления, за
объяснение которых мы взялись, то и этого уже с нас довольно».
За пятьдесят почти лет, которые прошли с тех пор, как писал
Ушинский, положение вопроса в существе дела, конечно, не изменилось. Все, что
требовал Ушинский, требуется и теперь: те же источники педагогической
антропологии, те же цели, те же вопросы и задачи. Конечно, в состоянии
отдельных антропологических наук произошли большие изменения;
нако443
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
пилось много новых фактов в физиологии, патологии, психологии,
языкознании, этнографии, статистике, истории культуры и т. д. С одной
стороны, большое количество фактов облегчает работу, позволяя с большей
легкостью приблизиться к разрешению отдельных вопросов
педагогической антропологии, с другой стороны — затрудняет, так как в настоящее
время собрать все факты в стройную систему для одного человека
невозможно. Таким образом, полная педагогическая антропология, о которой
думал Ушинский, и теперь так же далека от осуществления, как 50 лет тому
назад. Приходится брать отдельные стороны ее и быть довольным, как
говорил Ушинский, если удается сколько-нибудь объяснить одну небольшую
часть целого.
Настоящая книга посвящена рассмотрению того отдела,
антропологии, который известен под именем «развития человеческого духа».
Значение и важность этого отдела громадны; именно о нем говорил
Ушинский на частном примере речи, когда ожидал, что специалисты-филологи
«фактически обработают важный отдел в педагогике, показав нам, как
совершалось и совершается развитие человека в области слова:
насколько психическая природа человека отразилась в слове и насколько слово, в
свою очередь, имеет влияние на развитие души ». В развитие
человеческого духа входит, конечно, не одна речь, а много других сторон: ассоциация,
суждение, абстракция, индукция, пространство, время, чувства с их
многогранностью, воля, внимание, память и творчество. Проследить
развитие этих способностей, начиная с самых первых проблесков и кончая
высшими их проявлениями, составляет задачу чисто антропологического
характера. Развитие расы и развитие индивидуума идет одним путем; те
стадии, какие проходит в своем развитии ребенок, повторяют эволюцию
человечества вообще; искать полного соответствия между тем и другим
развитием бесполезно и неправильно, но общий закон развития у них один
и тот же.
Какое значение имеет знание законов развития для педагогики, ясно
само собой и не требует объяснения: хорошо воспитывать — значит вести
ребенка по тем стадиям, по которым он должен пройти, дурно учить —
пренебрегать естественными стадиями развития; узнать ребенка это
значит определить стадию развития, на которой он находится; словом, вся
совокупность педагогических мероприятий основана на том, что дети
развиваются, т. е. проходят те или другие стадии в общем развитии и в развитии
отдельных функций.
Вот почему в заголовке книги поставлено: «Антропологические
основы воспитания».
С равным правом в заглавии могло бы стоять: «Азбука воспитания».
Ведь воспитание начинается не с 8 лет, когда ребенок поступает в школу,
и даже не с 5, когда его принимает детский сад, а с момента рождения;
444
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
равным образом обучение состоит не в приобретении только школьных
знаний, а в умении пользоваться ощущениями, психическим синтезом в
виде ассоциации и суждения, в пользовании причинным мышлением в виде
индукции, в усвоении речи, в развитии активности в виде воли и внимания
и в развитии чувства от физиологически-инстинктивного до высшего
идейного. Под воспитанием и обучением обычно разумеют ту социальную его
форму, которая стремится дать ребенку чисто условные средства нашей
культуры — чтение, письмо и счет, конечно, понимая эти термины в
широком смысле; но ведь чтение, письмо и счет — явления условные; можно
жить, не уметь читать и писать; можно не знать нашей системы счета и
все-таки считать; чтение и письмо — поздние, даже очень недавние,
приобретения человеческого развития; неизмеримо раньше человеческая раса
приобрела обычную речь, научилась пользоваться пространством и
временем, стала отвлекать общие свойства явлений, ставить в причинную
зависимость факты, развила чувства привязанности, мести, собственности,
гордости, научилась пользоваться орудиями и с помощью их изменять
внешний мир сообразно с своими целями; и воспитание этих последних,
давно образовавшихся, способностей не менее, а, может быть, даже
более важно, чем обучение недавним сравнительно приобретениям
человеческой культуры.
То первоначальное воспитание, о котором мы говорим, которое
начинается с момента рождения и заключается в развитии основных
функций человеческой природы, много раз, под различными названиями,
обсуждалось в педагогике; его называли физиологическим воспитанием,
антропологическим, даже естественным воспитанием; как основная часть
оно входить в систему Фребеля и теперешние наглядный и трудовой
способы обучения. Сущность его заключается в том, что оно совершается по
определенным стадиям биологического характера. Какую бы из
основных функций человека мы ни взяли, она начинается с первоначальных
задатков, большею частью наследственного характера, затем постепенно
усложняется, пока не достигнет своей высшей формы. Это постепенное
развитее и есть та азбука, какую необходимо знать каждому педагогу.
Бессознательно мы все ее знаем и придерживаемся; в этом и заключается
т. н. «знание детей», то знание, которое не позволит нам приступать к
трехлетнему ребенку с отвлеченными терминами или к шестилетнему —
с алгеброй. Но это, собственно, не знание, а чувствование, чувствовать
ребенка — одно, знать его — другое; в развитии ребенка есть очень
тонкие фазы, оценить которые можно только специально выработанным
методом исследования и наблюдения. Об этом не раз будет сказано в самой
книге, сейчас же, говоря об общих точках зрения, мы можем заключить,
что антропологические основы воспитания служат вместе с тем и
азбукой его.
445
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Антропологические основы воспитания изучаются в данной книге на
сравнительной психологии нормальных и ненормальных детей. Это —
новый способ, мало кому известный и поэтому требующий объяснения.
По существу, между нормальными и ненормальными детьми нет
разницы: те и другие — люди, те и другие — дети, у тех и у других развитие
идет по одним законам. Разница заключается лишь в способе развития: в то
время, как нормальные дети в сравнительно короткий срок проходят все
стадии филогенетического развития, эволюция ненормальных детей идет
крайне медленно, и притом они проходят не все стадии филогенетического
развития, а лишь некоторые, только низшие, не доходя до высших; смотря
по стадии, на которой остановилось развитие, можно различать три
главнейшие степени патологического недоразвития: идиотизм, имбецилльность
(слабоумие) и отсталость. Неодинаковое развитие кладет резкую грань
между нормальными и ненормальными детьми: в то время как психика
нормальных детей с ее постоянным развитием — нечто в высокой степени
меняющееся и сложное, психика ненормальных детей очень однообразна;
в то время как нормальные дети с их сложной, постоянно меняющейся,
психикой трудно поддаются изучению и толкованию, психология
ненормальных детей крайне проста, некоторые степени патологического
недоразвития застывают на какой-либо одной низшей стадии нормального
развития и остаются на ней в течение всей жизни (идиотизм), другие —
проходят несколько стадий, но число последних всегда меньше, чем в
норме, и затягивается на очень долгое время.
Из сказанного легко видеть, какое важное методологическое
значение имеет детская ненормальность в лице патологического недоразвития:
она помогает изучению нормального ребенка по общему правилу —
начинать с более простого и переходить к более трудному; всякий, кто хочет
знать нормальных детей, должен изучать ненормальных, иначе он
лишается очень важного метода в понимании детской души.
Но было бы несправедливо смотреть на ненормальных детей только
как на методологическое средство изучения нормального ребенка. Они
важны и сами по себе; ведь это тоже дети; число их доходит до 2 % всего
детского населения, а если их поставить в связь с просто неуспевающими
детьми, тем более что между отсталостью и неуспешностью нельзя
провести резкой границы, то число их достигнет 8, даже 10 %. Наша школа
уделяет очень мало внимания детской ненормальности, обслуживая главным
образом наиболее способных и наилучше приспособляющихся детей;
неуспешные, мало приспособляющиеся в силу своих психических
особенностей дети, особенно отсталые, и другие виды детской ненормальности —
пасынки школы; они или совсем не попадают в учебные заведения, или,
попав сюда, засиживаются здесь неопределенно долгое время без пользы
для себя и с вредом для других, чаще же — исключаются из школы и
напол446
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
няют кадры неудачников в лучшем случае, кадры нищих, преступников и
хулиганов — в худшем. Удивительно, каким образом в русской педагогике
(не в школе, которую надо отличать от педагогики) с ее традициями
Ушинского, Пирогова и Толстого, могло укрепиться безучастное отношение к
детям-неудачникам. Мы лично объясняем это плохим общественным
благоустройством России: для русской школы так много насущных
неотложных задач, что она поневоле идет линией наименьшего сопротивления,
принося детскую ненормальность в жертву другим задачам. Пишущему эти
строки не один десяток раз приходилось делать доклады о детской
ненормальности в самых различных обществах и каждый раз приходилось
наблюдать холодную любознательность в слушателях. Особенно
характерен в этом отношении доклад в Петроградском педагогическом обществе
лет 6 тому назад; докладчик излагал о результатах обследования детской
ненормальности в начальных школах Петрограда; были приведены цифры,
указаны важнейшие типы детской ненормальности, прослежена судьба
неудачников в начальной школе и предложены некоторые меры в пользу их.
Доклад понравился, но, выходя, автор слышал такой разговор двух
педагогов, довольно известных:
— Хороший доклад... очень точные данные. Как для вас?
— Э, батенька, стоит ли говорить о каких-то двух процентах.
По нашему мнению, если бы ненормальных детей было не 2 %, а в
десять и даже в сто раз меньше, все таки они заслуживали бы внимания;
ценна не цифра, а ценен сам человек, как личность, и наши обязанности к
нему. Надо помнить, что детская ненормальность составляет в
громадном большинстве случаев продукт ненормальных общественных условий,
борьба с нею составляет обязанность общества, а степень участия к
ненормальным детям является одним из показателей общественной
благоустроенности.
Несколько слов о способе изложения. Так как эта книга не
представляет учебника, то из нее исключены все определения; нет ничего легче, как
составить определения различных душевных способностей — для автора и
очень трудно понимать их — читателю; поэтому в книге вместо
определений дается простое описание и объяснение. Затем, мы старались дать ей
чисто фактический характер, избегая всех «мечтательных» и
«гадательных», по выражению Ушинского, положений. Все философские вопросы
безжалостно выброшены даже там, где они так соблазнительны, например
в пространстве и времени. Даже натурфилософия и то не входила в наши
задачи и все экскурсии в эту область, особенно заметные у писателей в
сфере воли и чувства, изъяты.
Из методов психологического исследования мы пользуемся как
наблюдением, так и опытом, но лучшим методом мы все таки признаем
экспериментальный. К сожалению, его не везде можно употребить; есть
обла447
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
сти, например ранний детский возраст и идиотизм, где эксперимент или
совсем невозможен, или пока еще не выработан, или применим только для
некоторых мелких явлений психической жизни; но там где опыт
возможен, его применение почти обязательно.
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
И.А. СИКОРСКИЙ:
ПСИХОЛОГИЯ В ШКОЛЕ И В ЖИЗНИ
Сикорский Иван Алексеевич (1842-1919) —
психолог, психиатр, педагог. После окончания
медицинского факультета Киевского
университета св. Владимира (1869) действовал как врач в
клиниках душевных и нервных болезней Киева и
Петербурга, преподавал психологию.
Основал первый в мире Институт детской
психологии и психопатологии (Киев, 1912 г.), ряд
научных обществ в Киеве (Педагогическое
фребелевское общество, Психиатрическое общество
и др.). Автор трудов по психиатрии, психологии,
школьной гигиене; педагогике, всего более ста
работ. Это книги («Всеобщая психология с физиогномикой в
иллюстративном изложении», «Психиатрия», «Душа ребенка», «Начатки
психологии», «Психологические основы воспитания и обучения», «Сборник
научно-литературных статей по вопросам общественной психологии
воспитания и нервнопсихической гигиены в пяти книгах» и др.), статьи о
заикании и мимике, об алкоголизме, о самоубийстве, о замечательных
деятелях науки и литературы — о Н.И. Пирогове, Вл. Соловьеве, Пушкине,
Гоголе и др. Многие из трудов Сикорского переведены на иностранные
языки.
В своих трудах Сикорский наметил ряд новых направлений в
психологии (экспериментальное исследование в области педагогической
психологии, психокоррекционные работы по преодолению недостатков в
развитии различных способностей и характера и др.), указал на
первостепенное значение раннего детства, дал конкретно-научное
обоснование мысли Ушинского о комплексном всестороннем изучении ребенка
как основе для научной разработки принципов воспитания и
практической работы учителя, предвосхитив этим педологию.
В антологию включены две статьи И.А. Сикорского. Статья «О
явлениях утомления при умственной работе у детей школьного возраста»
(1879) явилась первым в мировой науке экспериментальным
исследованием в области педагогической психологии, а предложенный им метод
изучения утомления послужил источником аналогичных исследований в других
странах (Э. Крелелин и др.). Статья «Черты из психологии славян»
знакомит с представлениями Сикорского в области проблем этнической
психологии.
15 Российская психология
449
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
О ЯВЛЕНИЯХ УТОМЛЕНИЯ ПРИ УМСТВЕННОЙ РАБОТЕ
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА1
Не подлежит никакому сомнению факт, что
умственная работа известной
продолжительности, конечно, не одинаковой для различных
возрастов, способна наконец привести к тому, что
можно назвать утомлением функционирующего
органа и что выражается замедлением работы или
уменьшением ее точности. Желая ознакомиться
с проявлением этого состояния, автор этих строк
обратил внимание на психомоторные движения,
преимущественно — на речь и письмо, с целью
определить, не обнаружатся ли в этой частной
сфере психических отправлений какие-либо
изменения. Такой путь исследования
представлялся тем более целесообразным, что
психомоторные движения имеют весьма близкое отношение
к процессам, совершающимся в сознании,
подобно тому, как мимика и жесты стоят близко к
чувству. Казалась правдоподобной мысль, что умственное утомление
выражается некоторым изменением психомоторной работы. Чтобы разрешить этот
вопрос опытным путем, предпринято было исследование письменных работ
воспитанников различных учебных заведений.
Письмо, в ряду других психомоторных движений, представляет едва
ли не самый целесообразный материал для решения избранной задачи по
двум основаниям: 1) оно дает остающийся памятник работы, и 2) служа
графическим выражением слова, позволяет судить об этом последнем, как
показано будет ниже.
Чтобы по возможности упростить предмет исследования,
необходимо было остановиться на таком письменном упражнении, которое было бы
наименее утомительно для головы и давало бы в то же время возможность
судить о качествах умственной работы данной минуты. Этой цели всего
более удовлетворяет диктовка на родном языке; по многим
психологическим соображениям, можно утверждать, что она представляет
упражнеСтатья была напечатана в журнале «Здоровье» изд. проф. Доброславиным в 1879 г,
а также в Anveules d'hygipne publique eu Belgique. Novembre 1879; также в: The
Journal of Education, luli. 1880. London.// СикорскийИ.А. Сборник
научно-литературных статей по вопросам общественной психологии, воспитания и
нервно-психической гигиены: В 5 кн. Кн. 3. Киев-Харьков, 1899. С. 32-42.
450
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ние, требующее наименьшего напряжения умственных способностей в ряду
других занятий ученика. Это положение подтверждается и практикой.
Рассмотрев около 1500 диктовок, что в общей сложности равно почти 18
печатным листам (считая по 40 000 букв на листе) и сличая диктовки,
разнящиеся по величине как 1:5 и даже как 1:12, мы заметили, что большие
диктовки сделаны почти с той же точностью, как и малые.
Ввиду того, что диктовка сама по себе представляет труд легкий, мало
способный утомлять, казалось возможным избрать ее средством для
определения умственного утомления, которое могло быть вызвано
предшествовавшей работой и могло затем отразиться и на диктовке... С этой целью
были сравнены две категории диктовок: одни, писанные на первом уроке до
начала классных занятий, и другие, писанные в три часа пополудни того же
дня. Сравнение показало, что у воспитанников всех возрастов
послеклассные диктовки содержат вообще больше ошибок, чем доклассные. Данные,
полученные из такого сравнения, указывают с несомненностью, что после
нескольких часов классных занятий ученик работает с иною точностью,
чем утром, до начала уроков.
При сравнении числа ошибок в двух категориях диктовок принят был во
внимание только лишь тот вид т. н. невольных или неизбежных ошибок,
которые и в обыденных понятиях выделяются в особую категорию и называются в
речи обмолвками, в письме — описками. Собственно же ошибки исключены
из счисления, так как на количество их значительно может влиять, независимо
от утомления нервно-психического механизма, та или другая степень знания
или усвоения условных правил письма, а равно большая или меньшая степень
внимания, которое совершенно недоступно измерению. Таким образом,
приняты в соображение только те ошибки, которые падают на сферу уже более
или менее усвоенного и известного ученику и которые зависят не от незнания
или рассеянности, а от других причин, совершенно неизвестных. Сюда,
например, относятся ошибки, касающиеся звукового состава слов. Когда ученик
пишет вместо книга — кига, или книа; или вместо уничтожить —
уничножитъ; или, наконец, когда в собственной фамилии в окончательном слоге ов,
опускает букву в, то едва ли может быть сомнение в том, что тут нет ничего
общего с незнанием, в особенности если можно убедиться (как это нередко
случается), что те же самые слова раньше были написаны правильно. Звуковой
состав слов уже достаточно известен пишущему диктовки: в общих чертах с
ним ознакомляется каждый из чужой и собственной речи и более точно —
путем чтения и письма. Но как бы хорошо ни было известно то или другое
движение, те или другие манипуляции, опыт показывает, что в осуществлении
их возможны ошибки. Это видим и в письме. Решать вопрос, от чего зависят эти
ошибки, не составляет нашей цели; мы задались только мыслию — сравнить
количество описок при двух различных условиях, именно — в два близких промежутка
времени, разделенных между собой несколькими часами умственной работы.
is* 451
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Прилагаемая таблица показывает количество описок в доклассных
и послеклассных диктовках для воспитанников 6 классов, при 2, 3
отделениях в каждом. Средние цифры выведены таким образом, что за
единицу принято 100 букв текста диктовки и 100 учеников; каждое
отдельное число таблицы представляет среднее число описок на 100 учеников
и 100 букв.
Доклассн. Послекл.
Доклассн. Послекл.
Примечание. В I и III классах ученики сделали по две доклассные
диктовки и по две послеклассные, что при 3 отделениях дает шесть
частных цифр. Ученики II класса при 2 отделениях сделали тоже по две
диктовки доклассные и по две послеклассные, — что дает 4 частные суммы
и т. п. Жирные цифры обозначают среднее количество описок для целого
класса.
В письме под диктовку или в списывании должно различать три
следующих акта: 1) слышание диктуемого или видение букв читаемого слова
(возникновение слуховых или зрительных образов), 2) воспроизведение в
уме внутренней или мысленной речи, 3) перевод этой последней на
услов452
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ные графические изображения (акт написания). Таким образом, письмо
есть акт сложный, и таковым оно представляется во всех случаях.
Излагает ли кто собственные мысли, он воспроизводит в своем уме
соответственные им слова и потом уже переводит эти слова на письменные знаки.
Делает ли переписчик свою работу, он не просто копирует буквы и слова
рукописи, а сначала читает их про себя или в уме, т. е. переводит видимые
им письменные знаки на внутреннюю речь, а потом уже последнюю
записывает; от этого происходит, что описки переписчика представляют собою
самостоятельные ошибки, а не повторение описок подлинника. Подобное
бывает и при писании под диктовку. Сложный процесс письма в обоих
случаях является в действительности состоящим из трех отдельных
психофизических актов, в каждом из этих актов может быть сделана ошибка. Ошибка
в первом акте выразится как недослышанное или просмотренное, ошибка
во втором акте выразится нарушениями звукового состава написанного
слова, и, наконец, ошибка в третьем акте даст повод к неправильному
начертанию буквы. Ошибки первой категории исключены из счета вовсе;
ошибки второй категории можно назвать фонетическими, так как они
падают на звуковой состав слова, и ошибки третьей категории можно назвать
графическими. Фонетические описки вместе с графическими составляют
главнейший контингент всех неточностей письма1.
Все виды описок можно классифицировать следующим образом:
1) Описки фонетические или артикуляторные, касающиеся
звукового состава слова, например, приобрел вместо — прибрел, вемя
вместо время, прочил вместо прочитал, Плюшник вместо
Плюшкин.
2) Описки графические, касающиеся изображения звуков и
представляющие уклонения или погрешности в обычном начертании букв,
например, когда вместо буквы т с тремя чертами пишут четыре
черты или две, или например, когда вместо русского у пишут
латинское и (рисский вместо русский) или вместо русского м латинское т
и т. п.
3) Описки психические, к которым относятся: опущение целого
слова, замена одного слова другим, аналогичным (например, растения
1 Фонетические описки мы подразделяем на:
a) Опущения звуков в слове, например: вемя вместо время, пибрен вместо
приобрел.
b) Замены звуков, например: грубокий вместо глубокий, себейстбо вместо
семейство, паутита вместо паутина.
c) Перемещения звуков, например: веет вместо свет, перелемется вместо
перемелется, бордо вместо бодро, всое вместо свое.
d) Удвоения звуков, напр.: Боог вместо Бог, тростникоком вместо тростником.
e) Приумножения звуков, например: дикотовка вместо диктовка.
453
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
вместо деревья) и пр., двукратное повторение слова и, наконец,
замена слова другим, продиктованным раньше, или каким-либо
посторонним словом (например, вместо фразы: «я должен
возвратиться в город» написано: «я должен возвратиться в должен»;
вместо фразы: «послали сторожевое судно» написано: послали
сторожевое письмо».
4 ) Неопределимые, в которых характер описки не мог быть определен
вследствие помарок.
В численном отношении описки распределяются следующим образом
между различными категориями:
На сто описок приходится:
фонетических 73 %
графических 11 %
психических 6,5%
неопределимых 8,5%
Средние для
всех шести
классов
Между фонетическими описками наиболее малочисленными
являются удвоения, перемещения и приумножения; на долю их приходится
только 5,5 % остальные же 67,5 распределяются приблизительно поровну между
заменами и опущениями, которыми, таким образом, и характеризуются
фонетические описки.
Для доклассных и послеклассных диктовок количество описок
выражается следующими цифрами (средняя для всех шести классов):
Доклассные Послеклассные
фонетические
графические
психические
неопределимы е
62,57
8,95
4,52
6,01
76,94
11,73
8,90
11,92
На каждые 100
букв текста
и 100 учеников
Резких разниц между максимальными и минимальными частными
цифрами, из которых выведены эти средние, нет.
Опущения чаще всего падают на следующие буквы именно: т (13,73 %),
с (12,96),/> (12,14 %), и (11,78 %), в (8,50 %), л, о, к, д, х. В общей сложности
на первые пять звуков приходится 63 %, на все же остальные звуки
русского языка приходится около 36 %. Гласные опускаются гораздо реже
согласных.
Частота опускания известных звуков не стоит в прямом отношении с
частотой употребления их в словах русского языка; напротив, некоторые
454
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
звуки, часто встречающиеся в русском языке, опускаются изредка, и
наоборот. То же можно сказать и о заменах одних звуков другими. Чаще
обмениваются согласные, чем гласные. Из согласных взаимному обмену
подвергаются чаще всего звуки:
р — л, например, клуглый вместо круглый, крен вместо клен,
п — б, например, бриятный вместо приятный, наплюдать вместо
наблюдать.
б — в, например, выло вместо было, слав вместо слаб, веловатый
вместо беловатый.
д — н, например, изренка вместо изредка, неправною вместо
неправдою.
д — т, например, дидя вместо дитя, друдно вместо трудно,
т — н, например, тет вместо нет, чно вместо что, заняние вместо
занятие.
г — к — х между собою, например, газаки вместо казаки, легхо
вместо легко.
Таким образом, обмениваются между собою как звуки сходные в
фонетическом отношении, так и несходные, например, д — н.
Анализ физиологических условий опущений и замен звуков
показывает, что замены и опущения встречаются по преимуществу там, где два
последовательных звука в произнесении своем требуют движений (губ,
языка и пр.), мало разнящихся между собою. Если эти условия даны, один
из звуков либо опускается, либо заменяется другим. Таковы между
прочим звуки д-н, б-м. Хотя они в звуковом отношении, т. е. для уха несходны
между собою, но как физиологическая работа, т. е. по своему
артикуляторному составу, имеют много общего между собою, и потому сочетание
их легко может дать повод к ошибке. Хотя в письме мы имеем дело
собственно не с произнесением слов, не с звуковой речью, а с воспоминанием
слов или с беззвучной, мысленной речью, но оба эти процесса разнятся не
по существу, а только по степени психомоторной иннервации1. Отсюда
легко понять, что те звуки, которые сходны в звучной речи, будут также
сходны и в речи мысленной и, следовательно, условия, благоприятствующие
появлению ошибки в речи, окажутся также деятельными и в письме. Если,
таким образом, опущения и замены всего чаще падают на сочетания
сходных звуков, то это показывает, что основой увеличения количества замен и
опущений служит пониженная или ослабленная способность отличать
малые физиологические разницы. Более частный анализ показывает, что
некоторые из опущений и замен звуков дают довольно индифферентную
пропорцию в доклассных и послеклассных диктовках и что увеличение
количества фонетических описок в послеклассных диктовках совершается
1 Это согласно с идеями Вундта и в особенности это ясно выражено у Г. Спенсера.
Основания психологии. Т. П. С. 172.
455
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
по преимуществу на счет близких между собою по физиологическому составу
звуков. Подобным образом графические описки совершаются главным
образом на счет сходных форм. Таким образом 4-5-часовые классные занятия
влияют на ученика в том смысле, что понижают у него способность тонкого
различения психических величин. Этот вывод до несомненности
подтверждается на практике. Наблюдение показывает, что уставшие дети для
избежания описок инстинктивным образом прибегают к особым коррективам,
например, тихо или вполголоса диктуют себе слова, чтобы яснее
вспомнить их звуковой состав, равным образом — начинают писать более
крупным почерком, чтобы яснее чувствовать движения пишущей руки и
избежать ошибок графических.
Графические описки происхождением своим обязаны двум
различным причинам. Одни из них по происхождению и значению своему
совершенно аналогичны фонетическим опискам, т. е. зависят от сходства
различных букв по форме; другие же зависят от смешения алфавитов
различных языков, например, употребление латинского т вместо
русского м (котпатриот вместо компатриот), или латинского и вместо
русского у (рисский вместо русский) и т. п.
Все виды психических описок объясняются неточной работой
памяти (например, опущение продиктованного слова, забывание его и
замена аналогичным) или же указывают на рассеянность. Психических
описок в послеклассных диктовках почти на 100 % больше, чем в
доклассных.
Подобно психическим опискам неопределимые значительно
преобладают в послеклассных диктовках (почти на 100 % больше). Метода
исправлять ошибку или делать помарку, без сомнения, своеобразна у
каждого человека, но одною случайностью или индивидуальными
разностями нельзя было бы объяснить факта преобладания грубых
помарок в одной категории диктовок. Возможно допустить, что в
послеклассных диктовках появляются более грубые описки, которые, неприятно
действуя на ученика, заставляют его энергичнее вычеркивать
написанное, или же это объясняется увеличением психической
раздражительности, под влиянием которой движения становятся более порывистыми
и судорожными. Последнее предположение более вероятно, судя по
характеру самого письма.
Резюмируя в памяти изложенное, можем сказать, что
существенное отличие диктовки, писанной утром, от диктовки, сделанной после
4-5 часов классных занятий, состоит в том, что последняя носит
характер работы на 22-43 % или в общем выводе на 33 % менее точной. Такое
понижение точности работы стоит в явной связи с уменьшением
способности отличать малые психофизические разности, с
ослаблением остроты памяти и с появлением психической раздражительности.
456
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Едва ли можно сомневаться, что эти явления указывают на утомление
нервно-психического механизма.
В заключение скажем несколько слов о факте повторяемости ошибок.
Если ученик сделал известную описку, то у него нередко появляется
наклонность повторить описку той же категории и затем всякая новая
ошибка усугубляет наклонность к рецидиву; например, в одной и той же
диктовке написано: иклюнение вместо исключение, раправа вместо расправа, Бог
раполагает вместо располагает (во всех трех случаях опущена буква с).
В другой диктовке написано: месо вместо место, меса вместо места,
региеом вместо решетом.
ЧЕРТЫ ИЗ ПСИХОЛОГИИ СЛАВЯН1
Речь, произнесенная в торжественном заседании Славянского
благотворительного общества 14 мая 1895 года2
Исследования в области антропологии открыли ряд крайне
интересных фактов касательно устойчивости, с которой физические свойства расы
или племени сохраняются в продолжение длинной цепи веков, переходя от
поколения к поколению. Цвет кожи и волос, цвет глаз, форма и размеры
черепа передаются как физическое наследие нисходящим поколениям.
Благодаря этому по ископаемым черепам, сохранившимся в земле в
течение нескольких столетий, можно определить, нередко с совершенной
точностью, расу и племя, к которым принадлежал череп.
Но, без сомнения, гораздо более интереса представляет тот факт что
подобною же устойчивостью отличаются и духовные качества расы или
племени. Черты народного характера, его достоинства и недостатки
передаются нисходящим поколениям, через тысячи лет в данной расе мы
встречаем те же особенности народного характера. Француз XIX столетия,
говорит Рибо, представляет те же черты характера, что галл времен Цезаря.
«Галлы, говорит Цезарь, любят перевороты, увлекаются всякими
ложными слухами и предпринимают действия, о которых впоследствии
сожалеют; они вдруг решают самые важные вопросы; неудача повергает их в
отчаяние; они необдуманно и без достаточной причины предпринимают войны;
1 Сикорский И. А. Сборник научно-литературных статей по вопросам общественной
психологии, воспитания и нервно-психической гигиены: В 5 кн. Кн. 1.
Киев-Харьков, 1899. С. 29-45.
2 Напечатано в Журнале: Revue philosophique de la France et de Tetranger, Juin 1898;
и в отчетах Славянск. общ. в Киеве.
457
ЧАСТЬВТОРАЯ
в несчастии теряют голову и падают духом». Кто в этом описании Юлия
Цезаря не узнает современных французов, говорит Рибо.
Сравнивая исторические описания характера русского племени и
других племен славянской расы, мы находим те же основные черты теперь, что
и тысячу лет назад: то же славянское миролюбие и гостеприимство, ту же
любовь к труду, те же семейные добродетели, тот же идеализм, ту же
славянскую рознь и ту же нерешительность характера, которые отличали
большую часть славян в течение тысячи лет их исторической жизни.
Черты характера народа имеют известное влияние и на его
исторические судьбы; ознакомление с этими чертами стало предметом,
возбуждающим общий интерес. В наши дни психология народов становится
предметом исследований; это касается всех культурных наций и в не меньшей
степени русских и других славян.
Появление славянского племени на авансцене мира, говорит Ренан,
есть самое поразительное событие настоящего столетия. Славянские
племена начинают принимать решительное участие не только в политической,
но и в культурной жизни народов. «Будущее, говорит Ренан, покажет
мерку для оценки того, что даст человечеству этот удивительный славянский
гений с его пылкой верой, с его глубоким чутьем, с его особенными
воззрениями на жизнь и смерть, с его потребностью мученичества, с его жаждой
идеалов». Эта тонкая глубокомысленная характеристика обнимает
существенные черты психологии славян и неожиданно вводит нас в мир новых и
старых фактов из жизни великой расы, которой все мы имеем честь и
счастье принадлежать.
Как сложились основные черты славянской души, славянского
гения, — это скрыто от нас непроницаемым покровом доисторических
времен; но несомненно, что на развитие народного духа оказали важное
влияние два фактора: антропологический состав племени и внешняя
природа, среди которой живет славянская раса, в особенности крупнейшая
ветвь ее — русское племя. Эту природу можно назвать более бедной,
а условия жизни более тяжелыми в сравнении с природой и
жизненными условиями, в которых живут другие народы. Отличаясь резким
переходом от тепла к холоду и более низкой средней температурой,
восточная половина Европы налагает на своих обитателей необходимость
напряженного труда для добывания насущного хлеба, а также для
добывания теплого платья и устройства теплых жилищ, в которых
гораздо менее нуждаются жители более благодатных уголков Западной
Европы. От самого бедного человека наша суровая природа требует теплого
полушубка, тепла истопленной избы, т. е. таких расходов, от которых
избавлен человек Западной Европы. Физические условия, среди
которых живет русское племя, составляют причину высокой смертности,
именно 34 смерти на одну тысячу населения в год. Такой высокой
смерт458
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ности не дает ни одна страна в Европе. В Англии 22,3 смерти на тысячу
населения, Франции 21,5, Германии 26,5, Австрии 31,1, Италии 30,25 и т. д.
Природа Восточной Европы сурова и небогата впечатлениями, которые
действуют на душу человека. Нельзя не удивляться, каким образом могло
развиться глубокое чувство у народа, живущего среди этой бедной природы, —
серой, однообразной, почти лишенной красок. Не менее удивительно, каким
образом плоская, приземистая, монотонная по своему рельефу страна, почти
лишенная внешнего величия, могла воспитать великий народный дух? Это
составляет истинную психологическую загадку, которая едва ли разъясняется
предположением, что славянская раса, в ряду других идноевропейских рас,
отличается наибольшей чистотой крови и менее других рас пострадала от
смешения с инородцами (Магу), по крайней мере за последнее тысячелетие.
Внешняя природа великой Европейской равнины, не дающая своим
обитателям ни ласк, ни тепла, ни ярких и сильных впечатлений, рано заставила их
углубляться в самих себя и искать ободряющих впечатлений в человеческом
духе. В самом деле, не будет преувеличением, если мы скажем, что славяне
вообще и русские в частности отличаются наклонностью к внутреннему
анализу, в особенности к анализу нравственному. Окружающая человека
обстановка жизни мало интересует русского человека; он обходится без внешнего
комфорта, необходимого англичанину, без избытка изящества, которым
окружает себя француз; русский довольствуется простой внешностью, не ищет
удобств и всему предпочитает теплую душу и открытое сердце. Когда
рассматриваешь всемирные художественные выставки и обращаешь внимание на
темы, разрабатываемые художниками различных национальностей, то
невольно бросается в глаза у русских художников бедность колорита и в то же время
обилие и глубина психологических тем. То же мы замечаем и у выдающихся
писателей, например у Лермонтова, Тургенева, Достоевского, —
психологический анализ на первом плане, изображение внешней природы на втором.
Нечто подобное замечается и в других проявлениях жизни. Таким образом,
культура духа, в противоположность культуре природы, составляет
отличительную черту славянского народного гения.
Указанные свойства славянской натуры проявляются с очевидной
ясностью в одном из самых крупных явлений жизни, именно в акте самосохранения.
Выше мы видели, какую великую дань платит смерти русский народ в
борьбе с физической природой: смертность от болезней в России превышает
подобную же смертность у всех других народов Европы. Тем поразительнее,
что славяне, в особенности же русские, проявляют великую силу в деле
нравственного самосохранения, особенно в охранении себя от таких зол, как
самоубийство и преступление.
Мрачное решение наложить на себя руки принадлежит к числу
величайших несчастий, постигающих человека, и это несчастье, столь
противоположное инстинкту самосохранения, возрастает у всех народов Европы из года в
459
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
год. С1818 г., когда впервые создалась статистика самоубийств, они
увеличились в ужасающей пропорции. Самоубийство стало обыкновенным явлением
жизни, и хотя в большей части случаев ему предшествует тяжелая драма, весть
о нем в наши дни поражает людей не более, чем весть об естественной смерти.
В такой поразительной степени понизился инстинкт самосохранения!
Сравнивая различные страны Европы в отношении числа самоубийств,
мы видим, что славяне, в особенности же русские, дают наименьшее число
самоубийств. На 1 миллион жителей приходится самоубийств:
в Саксонии
во Франции
в Пруссии
в Австрии
в Баварии
в Англии
в России
311
210
133
130
90
66
30
Что подобное, столь поразительное различие зависит не от климата, не
от образованности населения и других причин, а только от свойств расы —
это доказывается тем фактом, что в Австрии и Пруссии смежно живущие
населения, славянские и немецкие, дают неодинаковое число самоубийств,
именно — незначительное число самоубийств в славянском населении и
большое число в немецком. То же замечается и в смешанных славянских
поселениях. В Австрии присутствие элемента южнославянского тоже очень
сильно уменьшает наклонность к самоубийству: те страны, где славян
много (в Далмации 89 %, Славении-Хорватии 94 %, Военной Границе1 99 %),
имеют самую малую цифру самоубийств — 25 на 1 миллион, чрезвычайно
близкую к той, которую дает русский народ. В Чехии и Моравии —
северных славянских землях Австрии, где много немцев, наклонность к
самоубийству высока — 147 на 1 мил. В России коренное русское население
дает небольшое число самоубийств. Относительно России Морзелли
говорит следующее: «Славянский элемент понижает среднюю цифру
самоубийств, и народы финно-алтайские на северных славян влияют так же,
как германское племя на южных славян, т. е. повышают наклонность к
самоубийствам. Рассматривая число самоубийств в России и в Европе за
длинный промежуток времени, мы встречаемся еще с одним поразительным
фактом, а именно: число самоубийств в России осталось почти без всякого
увеличения за последние 30 лет, между тем как у всех народов Европы
число самоубийств возросло за это время почти на 30-40 %. Таким
обраС нач. XIX в. пограничная с Турцией область (часть Хорватии и Юж. Венгрии) в составе
имп. Габсбургов. Осн. население — сербы и хорваты. Упразднена в 1881 г. (Прим. ред.)
460
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
зом, самоубийство в России приближается к смертности от болезней.
Можно поэтому сказать, что самоубийство в России более напоминает собою зло
физическое, тогда как в Западной Европе носит свойства нравственного зла.
Каковы бы ни были воззрения на причину самоубийства, остается
несомненным факт, что славянская раса отличается особенной нравственной
выносливостью.
Но есть зло, худшее смерти, — это преступление. Великий мудрец
древности и вместе величайший из людей — Сократ сказал, что легче охранять
себя от смерти, чем от преступления. Данные нравственной статистики,
наравне с данными о самоубийствах, могут служить мерой нравственного
самосохранения.
Prof. RichmundMayo-Smith. (Statistics und Sociology. New-York, 1896)
дает следующие цифры преступности.
Осуждено на 100 000 населения:
(Данные Bodio.)
Страна
Италия
Франция
Германия
Англия
Убийство
8,05
1,46
0,80
0,40
Телесные повреждения
226,6
71,62
154,70
Воровство
78,17
114,79
177,36
Сравнивая данные, касающиеся более тяжких видов преступления у
различных народов за 1887 г., мы получаем следующий ряд таблиц; число
осужденных за убийство в 1887 году на 1 миллион населения было:
в Италии 96
в Испании 55
в Австрии 22
в России 20
во Франции 15
в Германии 9
в Англии 6
Осужденных за воровство на 1 миллион в том же году было:
в Германии 1840
в Англии 1385
во Франции 1128
в России 482
461
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Наконец, приведем число осужденных за те преступления против
нравственности, которые, по словам Монтескье, скорее приводят к гибели
государства, нежели самое нарушение законов. Число преступлений этого
рода на 2 миллиона жителей приходится:
во Франции 21,7
в Италии 7,4
• в России 6.71
В таких размерах выражается нравственное самосохранение славян в
отношении главных видов преступлений.
Едва ли нужно говорить о том, что нравственное самосохранение не
дается легко, что оно требует затраты сил, требует особенного
напряженного труда. Оно представляет скорее подвиг, чем явление обыкновенного
порядка.
Понятно, что народ, который живет согласно правилу: лучше смерть,
чем нравственная уступка — должен неминуемо затрачивать много
физических сил, много энергии. Без сомнения, эта энергия измеряется не
количеством воздвигнутых зданий, не числом верст вновь открытой железной
дороги, не количеством материальных сбережений или иной материальной мерой,
она не измеряется даже умственными приобретениями; она имеет
значение и цену высшего факта и является в форме коллективного
нравственного усовершенствования, в форме нравственного инстинкта,
совмещающего в себе все стороны духовной жизни народа. Бдительность и верное
действие этого инстинкта есть величайшая и труднейшая задача, которая
не может быть достигнута без крайнего напряжения физических сил. Мы
считаем вероятным, что высокая смертность от болезней в России должна
быть отчасти объяснена затратой сил на нравственное самосохранение.
Поэтому выражение, которым мы старались охарактеризовать
направление нравственной жизни славян: лучше смерть, чем нравственная
уступка, — это выражение вовсе не метафора, а реальность. Поясним эту мысль.
Что добывание куска хлеба и теплого платья, устройство теплых жилищ,
борьба с суровой природой требуют затраты сил — это ни в ком не может
возбуждать сомнения. Но физиология и психология также доказали, что и
нравственные усилия, нравственное самосохранение, в свою очередь,
неминуемо требуют траты физических сил, и притом гораздо большей, чем
какая бы то ни было тяжелая физическая работа. Животное, скажем
слоДанные касательно преступности заимствованы из соч.: Garofalo, La Criminologie.
Paris, 1890. A. Bournet, De la criminalite en France et en Italic Paris, 1884.
Касательно России: «Свод статистических сведений по уголовным делам, производившимся
в 1887 г.». СПб., 1881 г. Изд. Мин. юст.
462
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
вами физиолога, тратит много сил на то, что его ухо слышит, его глаз видит,
его органы чувств бодрствуют. Гораздо большей затраты сил требует
бодрственное состояние народной совести. Поэтому мы с полным правом
можем сказать, что народ, отличающийся высшим нравственным
самосохранением, тем самым совершает и великий физиологический труд.
После сказанного, может быть, покажется излишней и не требующей
доказательств мысль о том, что русский народ не тратит времени
по-пустому, но мы все-таки скажем несколько слов по этому поводу, в
особенности ввиду общераспространенного предрассудка отчасти в России и за
границей, будто русский народ бесполезно тратит время, равное четверти года,
на праздники. При скудной пище, которою питается русский
простолюдин, сохранение здоровья и поддержание физиологических сил возможно
только при помощи частых отдыхов. Праздники, как дни отдыха,
удовлетворяя религиозным и нравственным требованиям, являются вместе с тем,
условием, дающим возможность русскому человеку бодро выдерживать
тяжелый труд, налагаемый природой и историческими условиями жизни.
Вековая привычка к напряженной физической и нравственной работе,
вместе с пережитыми тяжелыми историческими судьбами, придали
славянской расе особый отпечаток, который ныне уже составляет прочную
унаследованную особенность народного характера. Самыми типическими чертами
этого характера являются: скорбь, терпение и величие духа среди несчастий.
Рольстон справедливо говорит, что русский народ склонен к меланхолии,
составляющей типическую его черту. Брандес, характеризуя произведения
Тургенева, как национального писателя, говорит, что «в произведениях Тургенева
много чувства, и это чувство всегда омывается скорбью, своеобразной
глубокой скорбью; по своему общему характеру это есть славянская скорбь, тихая,
грустная, та самая нота, которая звучит во всех славянских песнях». Для
характеристики этой славянской скорби и разъяснения ее психологического
характера мы можем прибавить, что наша национальная скорбь чужда всякого
пессимизма и не приводит ни к отчаянию, ни к самоубийству, напротив, это
есть та скорбь, о которой говорит Ренан, что она «влечет, за собою великие
последствия ».Ив самом деле, у русского человека это чувство представляет
собою самый частый и естественный выход из тяжелого внутреннего
напряжения, которое иначе могло бы выразиться каким-либо опасным душевным
волнением, например гневом, страхом, упадком духа, отчаянием и тому
подобными аффектами. Среди несчастий, в опасные минуты жизни у славян
является не гнев, не раздражение, но чаше всего грусть, соединенная с покорностью
судьбе и вдумчивостью в события. Таким образом, славянская скорбь имеет
свойства предохранительного чувства, и в этом кроется ее высокое психологическое
значение для нравственного здоровья; она оберегает душевный строй и
обеспечивает незыблемость нравственного равновесия. Являясь унаследованным качеством,
славянская скорбь стала основной благотворной чертой великого народного духа.
463
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Вторую отличительную черту славянства составляет терпение. С
психологической точки зрения терпение представляет собою напряжение воли,
направленное к подавлению физического или нравственного страдания.
Отсутствие сентиментальности, стоическая покорность судьбе и готовность
страдать — если это необходимо — составляют самый
характеристический облик русского терпения. Это терпение и вытекающая из него
потребность мученичества, о которой говорит Ренан, не без основания всегда
удивляли иностранцев. Потребность мученичества является как бы
необходимой психологической практикой, как бы внутренним
предуготовительным упражнением, без которого была бы немыслима борьба с
препятствиями, налагаемыми на человека суровой и бедной природой. Самым важным
плодом терпения у русского народа является самообладание, способность
подавлять в себе волнение и внести мир в собственную душу.
Терпение и покорность судьбе должны быть, несомненно, признаны за
самые выдающиеся особенности русской души. Блестящее
художественное изображение этой истинно народной русской черты находим в повести
«Хозяин и Работник » гр. Толстого. Главный герой этой повести
олицетворяет в себе типические черты русского народного духа: терпение,
вдумчивость, самообладание. Эти качества обеспечили ему и физическое, и
нравственное самосохранение: спасли его от физической смерти в борьбе с
грозной стихией и охраняли его от преступлений, которыми пропитана была
окружавшая его атмосфера.
Развитая сила терпения в соединении со способностью превращать все
порывистые волнения души в тихое чувство скорби, делают славян
великими в несчастии и дают им возможность сохранять спокойствие и
самообладание в серьезные минуты жизни. Эти качества, глубоко присущие и
прирожденные славянской натуре, служат самым верным основанием
нравственного самосохранения. После этого становится понятным то
крайне незначительное число самоубийств в России и у славян, которое
составляет столь поразительную особенность славянского племени.
Главнейшими причинами самоубийства являются: бедность и нищета, болезни и
семейные раздоры и, наконец, упадок духа. Величие славянского
характера дает возможность не поддаваться гнету этих человеческих несчастий.
Но самую привлекательную особенность славянской расы составляет
ее идеализм, вытекающий из тонкого чувства. Славянская грусть, говорит
Доде, заунывная, как и славянская песня, звучит в глубине творений
славянских писателей. Это тот человеческий вздох, о котором говорится в
креольской песне, тот клапан, который не дает миру задохнуться: «если
бы мир не мог вздыхать, он задохся бы»! Этот вздох повсюду слышится в
произведениях славянских поэтов и писателей. Брандес следующими
словами характеризует последние произведения Тургенева. «В этих
произведениях, говорит он, звучит еще более глубокая меланхолия, нежели в
юно464
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
шеских его работах; эти произведения проникнуты высокой поэзией. Здесь
художник в последней раз заглядывает в тайны жизни и с глубокой
грустью пытается изобразить ее в символическом образе: природа жестка и
холодна; тем более обязаны люди любить друг друга и природу! Там есть
сцена, как автор во время одинокого переезда на пароходе из Гамбурга в
Лондон по целым часам держал в своей руке лапу бедной, печальной,
привязанной на цепь обезьянки: гений, постигший мировые истины, рука об
руку с маленьким зверьком, как два добрых товарища, два детища одной и
той же матери, — в этом заключается больше истинного назидания,
нежели в любой глубокомысленной книге». Великий английский историк
Карлейль отзывается об одном из русских произведений, что это самая
трогательная история, которую ему случалось читать.
Славянское чувство чуждо сентиментальности; оно глубоко и сильно.
Это качество в соединении с замечательным миролюбием и искренностью
славян послужило основанием особенного развития семейных начал и
поставило женщину у славян, уже на заре их исторической жизни, в такое
высокое положение, какого она не занимала у других народов. Уже в
самые отдаленные времена женщина у славян была независима и даже могла
сделаться правительницей — что было немыслимо у других народов
вследствие низкого социального уровня, отведенного женщине.
Тонкое чувство славянской натуры, дающее возможность проникать
глубоко в нравственные тайники и видеть вещи в их настоящем свете,
делает славянина равно свободным как от сентиментальности, так и от
пессимизма и поддерживает в его душе непоколебимую веру в лучшее будущее.
Развитое, человечное чувство славян делает их беспристрастными и
дает им возможность установить правильные отношения к чужим
национальностям. Это чувство выражалось с незапамятных времен выдающейся
и общепризнанной славянской добродетелью — гостеприимством,
а впоследствии оно стало выражаться уважением ко всему иностранному,
отсутствием духа партикуляризма и усвоением лучших сторон чужой
культуры. Оно же, наконец, служит основанием веротерпимости и
примирительного отношения к инородческим элементам, с которыми славяне
соприкасаются и живут. Едва ли в другой стране инородный элемент встречает
столь братский прием, как у славян и в России. Даже еврейская раса со
своими замечательными достоинствами и недостатками, вытесняемая из
всех стран Европы, сосредоточилась главной массой своей в России: в
России живет более половины евреев земного шара. Эта масса цепко держится
России и неохотно переселяется в другие страны.
Гуманные черты составляют вековую особенность славян и поражали
наблюдателей уже в отдаленные времена. Прокопий говорит, что славяне
обходились с пленными человеколюбивее всех других народов и питали
отвращение к набегам на соседей. Те же черты видим и в наше время у
рус465
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ских: феноменальное человеколюбие русского солдата на войне, в
отношении побежденных врагов, поражает иностранцев в наше время не менее,
чем поражало Прокопия человеколюбие славян.
Религиозная и расовая терпимость славян яснее всего сказалась в
объединяющем и ассимилирующем влиянии славян на смежные
малокультурные народы. Качество это дало русскому племени значение одного из
самых важных распространителей культуры в Северной и Средней Азии.
Такую же роль русское племя играло в исторические и доисторические
времена в Северной и Восточной Европе. Роль эта отличалась безусловно
мирным характером и привела к глубокому полному национальному
слиянию соседственных инородцев с русскими. Почти весь Север России был
населен финскими племенами даже в исторические времена. Теперь эти
финские племена вполне обрусели. Они сохранили свои типичные финские
черты в антропологическом отношении, но зато глубоко усвоили себе язык,
религию и национальный дух русских и в силу этого совершенно слились с
последними. Этот сложный процесс обрусения завершился вполне
мирным путем, без жертв, без войн, без истребления одного племени другим.
К числу отличительных качеств славянской природы относится
нерешительность или слабость характера. Примером этой черты может
служить образ главного героя в повести Тургенева «Рудин». Этим же
качеством отличались т. н. люди сороковых годов (настоящего столетия); это
качество критики называли рефлексией, задерживающей действие.
Публицисты указывают как на один из выдающихся примеров славянской
нерешительности на тот факт, что русская армия в 1878 г. остановилась у
ворот Константинополя и не вошла в него. В отношении этой черты
существуют противоположные мнения. Одни считают ее недостатком
характера, слабостью; другие усматривают в этой нерешительности достоинство.
Сущность психологической черты, о которой идет речь, состоит в
выжидании, в опасении сказать слово или совершить действие,
недопускающее возврата. Это — осторожность, которая по временам, может быть,
переходит границы. Очевидно, что эта черта имеет тесное соотношение с
тонко развитым чувством славян и составляет последствие
преобладающего значения чувства в душевном строе. Ключом к пониманию этой
отличительной национальной черты могут послужить нам новейшие
исследования Фуллье о т. н. силе идей или идейной силе (icffie-force). Это —
психическая сила, составляющая зародыш и ядро будущих сильных актов
воли, будущих великих решений; эта сила должна накопиться, чтобы
произвести должное действие; тонкое чутье, внутреннее сознание, что этой
силы накопилось недостаточно, может задерживать действие, может
делать человека временно нерешительным. Славянский гений не чужд
понимания свойств этой черты своего характера, и нам кажется, что та истина,
философским разъяснением которой мы обязаны Фуллье, смутно
пред466
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
чувствовалась коллективным чутьем русской души и поэтически
изображена в былине об Илье Муромце. Нужно ли говорить о будущности расы,
которая обладает симпатичными чертами, только отчасти намеченными в
нашем кратком очерке. Можно сказать смело, что мы все, — вместе с
нашим великим русским народом, — полны и веры в будущее. Мы убеждены,
что славянский гений в дальнейшем своем движении пойдет по тому
самобытному, тихому, верному пути, которому он следовал в последнюю
тысячу лет, руководясь своим простым и в то же время тонким инстинктом
физического и нравственного самосохранения! Лишь надо придать ему ту
новую силу, которую развитие человечества поставило на очередь. Мы
разумеем широкое народное образование.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВХ КАНДИНСКИЙ:
ВОСПРИЯТИЯ, ГАЛЛЮЦИНАЦИИ
И ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИИ
Кандинский Виктор Хрисанфович (1849—
1889) — психиатр, один из основателей
отечественной психиатрии.
Широкий круг научных интересов
Кандинского отражают его труды: перевод «Оснований
физиологической психологии» В. Вундта (1880-
1881), «Общепонятные психологические этюды
(Очерк истории воззрений на душу человека и
животных)» (1881); «Современный монизм
(философский этюд)» (1882). Кандинский участвовал в
экспертной практике, неоднократно выступал на
судебных заседаниях. Определил критерий
невменяемости, близкий к используемому в современном Уголовном кодексе.
Автор руководства по судебной психиатрии «К вопросу о невменяемости»
(1890). Судебно-психиатрический опыт Кандинского был развит В.П.
Сербским.
Впервые в психологической науке описал новый феномен —
псевдогаллюцинации — как разновидность образов у душевнобольных.
О ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИЯХ1
Из псевдогаллюцинаций в смысле Гагена2, называвшего так все те
субъективные явления которые (как, например, обманы воспоминания), не будучи
галлюцинациями, тем не менее нередко бывают ошибочно принимаемые за
таковые, я выделяю группу явлений, заслуживающих, по моему мнению,
особого названия. Для этой группы, за неимением лучшего термина, я буду
употреблять обозначение «псевдогаллюцинации в тесном смысле слова»,
или просто «псевдогаллюцинации »у разумея здесь те случаи, где в
результате возбуждения известных (как после будет видно, кортикальных)
сенсорных областей головного мозга в сознании являются весьма живые и
чувственные до крайности определенные образы (т. е. конкретные чувственные
представления), которые, однако, резко отличаются, для самого
восприемКандинский В.Х. О псевдогаллюцинациях. М., 1952. Гл. III.
Гаген (1814-1888) — немецкий психиатр, автор исследования «К теории
галлюцинаций »(1868).
468
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
лющего сознания, от истинно галлюцинаторных образов тем, что не имеют
присущего последним характера объективной деятельности, но, напротив,
прямо сознаются как нечто субъективное, однако вместе с тем как нечто
аномальное, новое, нечто весьма отличное от обыкновенных образов
воспоминания и фантазии. Этого рода субъективные явления подобно
галлюцинациям возможны во всякой чувственной сфере, но у душевнобольных
зрительные псевдогаллюцинации наиболее резко отделяются, с одной стороны,
от настоящих галлюцинаций, с другой — от обыкновенных образов
воспоминания и фантазии.
Следующий пример достаточно ясно покажет, что
псевдогаллюцинации суть субъективные явления, совершенно независимые от обманов
воспоминания, и что они отличаются весьма определенным чувственным
характером, именно бывают зрительными и слуховыми (в сфере прочих чувств
их, понятно, нелегко отделить от истинных галлюцинаций).
Дм. Перевалов, 37 лет, бывший техник Обуховского сталелитейного
завода, болен с 1875 г. (paranoia chronica, т. е. хронический бред
преследования) и находится в нашей больнице с февраля 1879 г. Как из
многократных и продолжительных личных объяснений с этим больным, так и из
изучения крайне внимательно и терпеливо веденного им (с 1876 г. и по
настоящее время) дневника, я убедился, что бред преследования
систематизировался у Перевалова еще в 1876 г., когда он страдал лишь
насильственными навязчивыми представлениями и ложными идеями; настоящие
же галлюцинации слуха, продолжающиеся и поныне, присоединились лишь
с начала 1878 г. Бред больного имеет в настоящее время чисто частный
характер (причем больной не представляет заметного ослабления
умственных способностей) и состоит в главных чертах в следующем. Вздумав
учинить крупный иск к Обуховскому заводу, он, Перевалов, будто бы должен
был сильно затронуть интересы многих высокопоставленных в
Петербурге лиц и вследствие того стал жертвой «упражнений токистов».
«Токисты» суть не что иное, как корпус тайных агентов, употребляемый нашим
пресловутым 3-м отделением собственной Е. И. В. канцелярии для
выведывания намерений и мыслей лиц, опасных правительству, и для тайного
наказания этих лиц. Однако Перевалов не считает себя государственным
преступником, а полагает, что «токисты » приставлены к нему частью для того,
чтобы они могли на нем приобрести необходимый навык в своем искусстве,
частью же по злоупотреблению со стороны тех высокопоставленных лиц,
которым нужно, чтобы дело его с Обуховским заводом не двигалось
вперед. Перевалов постоянно находится под влиянием тридцати токистов,
стоящих на разных ступенях служебной иерархии и разделяющихся на
несколько поочередно работающих смен. Подвергнув, еще в 1876 г., голову
Перевалова действию гальванического тока, они привели Перевалова в
«токическую связь» (нечто в роде магнетического rapport'a) с собой, и в такой
469
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
же связи они состоят и между собой во время работы над ним. В силу такой
связи все мысли и чувства Перевалова передаются из его головы в головы
токистов: эти же последние, действуя по определенной системе, могут по
своему произволу вызывать в голове Перевалова те или другие мысли,
чувства, чувственные представления, а также разного рода ощущения в сфере
осязания и общего чувства. Кроме того, эти невидимые преследователи, будучи
скрыты поблизости от Перевалова, доезжают последнего, между прочим,
и «прямым говореньем», причем произносимые ими слова, через воздух
переносятся к Перевалову и воспринимаются им через посредство внешнего
органа слуха. В частности, способы действия токистов на Перевалова весьма
разнообразны: сам больной различает восемь таких способов:
а) «прямое говоренье» ругательных фраз, насмешливых замечаний,
нецензурностей и пр. (галлюцинации слуха);
б) «искусственное вызывание разного рода ощущений» в его коже,
как то: ощущение зуда, царапанья, щекотания, жжения, уколов и пр.
(галлюцинации осязания). Больной полагает, что как при этом, так и при всех
последующих способах токист, состоящий в данную минуту в
таинственной связи с ним, должен в самом себе вызвать посредством тех или других
приемов известное ощущение (respective — представление, чувствование
и т. д.) с тем, чтобы передать последнее ему, Перевалову; для этого токист
царапает себя булавкой, жжет себе руки и лицо горящей спичкой или
огнем папиросы и т. п.;
в) «искусственное вызывание » у него токистами разного рода
чувствований, равно как и общих ощущений, как то: чувства недомогания, неохоты
работать, сладострастия, злобы, «беспричинных испугов» и пр.;
г) «искусственное вызывание» у него неприятных вкусовых и
обонятельных ощущений. Например, взяв в свой рот вещество противного вкуса,
действующий в данную минуту токист заставляет Перевалова испытывать
ощущение этого вкуса; нюхая из склянки, наполненной загнившей мочой,
или поднося к своему захваченный на палец кал, токисты заставляют
Перевалова страдать от зловония (галлюцинации вкуса и обоняния);
д) токисты, как говорит Перевалов, фабрикуют для него мысли, т. е.
они искусственно (приемами, понятными из вышесказанного) вводят в его
голову различного рода представления, по преимуществу навязчиво
мучительного свойства (насильственное мышление);
е) токисты заставляют самого Перевалова «мысленно говорить», даже
в то время, когда он употребляет все усилия, чтобы удержаться от такого
«внутреннего говорения»; при этом токисты усиленно иннервируют свой
язык, произнося мысленно определенного содержания фразу (всего чаще
тенденциозную) и «переводят» эту двигательную иннервацию на
Перевалова; тогда последний не только сознает, что ему искусственно «навязана»
мысль в резко определенной словесной форме, но и должен пускать в ход
470
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
сознательные усилия, чтобы подавить в себе насильственную
двигательную иннервацию органа речи и не сказать вслух того, что его «заставляют
выговорить токисты »;
ж)далее, токисты, как выражается больной, насильственно приводят
у него в действие воображение, причем заставляют его видеть не внешним
органом зрения, а «умственно», различного рода образы, почти всегда
весьма живые и ярко окрашенные. Эти образы одинаково видны как при
открытых, так и при закрытых глазах. Сам больной отлично знает, что это — не
что иное, как яркие продукты непроизвольной деятельности его
воображения; но так как эти образы (их-то я и называю собственно
псевдогаллюцинациями зрения) большей частью отвратительны и мучительны для
Перевалова, так как они появляются и держатся перед его душевными очами
не только независимо от его воли, но даже наперекор ей, так что при всех
своих усилиях он не в состоянии от них отделаться, то больной убежден,
что это явление искусственное. Он объясняет себе дело так: для пущего
его мучения токисты нарочно раздражают искусственными средствами свое
воображение и вызывают в себе определенные, весьма яркие зрительные
образы с тем, чтобы перевести их на него.
Наконец, кроме прямого говорения, токисты устраивают Перевалову
«говорение посредством тока»; при этом больной должен внутренне (а не
ушами, как при «прямом говорении »), слышать то, что хотят его услышать
токисты, хотя бы в данную минуту о соответственных вещах ему совсем
нежелательно думать: весьма часто при этом Перевалов слышит внутренне
повторение слов, раньше действительно слышанных от врачей, или слов,
когда-то давно произнесенных в его присутствии кем-либо из лиц, его
окружавших (это внутреннее слышание есть собственно
псевдогаллюцинирование слухом).
«Токистические упражнения» над Переваловым ведутся непрерывно
с 1876 г. До 1878 г. «прямого говорения» (т. е. настоящих галлюцинаций
слуха) не было, ибо «тогда токистам было приказано вести упражнение в
молчанку». В первое время этого оперирования преобладал следующий
«способ»: токисты разными приемами вызывали «натуральный испуг»
у одного из своей среды, специально назначенного для этой функции;
разумеется, испуг сообщался Перевалову, приведенному в данную минуту в
«токистическую связь» с этим специалистом. Врачи, больничная прислуга,
окружающие больные не причисляются Переваловым к преследователям;
но власть врачей недостаточна для того, чтобы помешать, токистическим
упражнениям. Последние в настоящее время ведутся постоянно, не
прерываясь и по ночам. Ночью, если Перевалов спит неполным сном, то
токисты продолжают действовать всеми вышеперечисленными приемами,
употребляемыми ими днем между прочим даже «прямым говореньем», ибо в
состоянии неполного сна Перевалов, по его объяснениям, может слышать
471
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ушами все раздающиеся около него звуки, а потому слышит и фразы,
прямо произносимые токистами. Если же Перевалов заснет очень крепко, то
токисты действуют всеми прежними способами, за исключением
«прямого говорения », в особенности же любят ему «делать сладострастные сны »,
«устраивать поллюции» и т. п. Различные приемы токистического
оперирования идут вперемежку один с другим. Чтобы показать самый ход
токистических упражнений над Переваловым, я делаю выписку из его
дневника, отличающегося точностью, но вместе с тем и лаконизмом. Но так как
этот дневник изобилует своеобразными техническими терминами, без
знакомства с языком больного совершенно непонятными, то я прибавляю в
ломаных скобках свои замечания и пояснения и притом делаю это на
основании подробных и точных расспросов больного относительно того или
другого акта «упражнений», происходивших в данные дни; круглые
скобки принадлежат самому больному.
«11 декабря 1881... В ночи на 9, 10, 11 декабря — говорение [галлюц.
слуха] с беспрестанными воображениями [зрит, псевдогалл.], недавание
спать до полуночи и бужение рано утром, отчего они [токисты] спят днем и
после обеда, чему уже и я должен последовать. Днем — недавание мне, как
и прежде, заниматься (французским и немецким языком), подговорами
[слух, галлюцинации], похабщиной [частью простые ненавязчивые
представления, частью неотвязные псевдогаллюцинации зрения], зудом,
уколами [галлюц. или иллюзии кожного чувства], равно и чувством
нежелания. Во все дни дежурства верхнего токиста (во втором этаже) напоминание,
мышлением и прямым говорением, как я стоял накануне перед Дюк...
[главный врач больницы] с толкованием [опять как галлюц.; так и псевдогаллюц.
слуха], что сам он, токист, так стоял в эту минуту и что все это было
проделано для проходившего тогда с доктором Дюк... штатского (это О.; член
правления Обуховского завода) [ «смешение в личностях »]. Перед сном —
воображение токистом, находящимся за оградой, полового члена [зрит,
псевдогаллюц.]».
«12 декабря. Всю ночь — в полусне прямое говорение [слухов,
галлюц.] с воображениями [псевдогаллюц. зрения], добывание моего
говорения во сне [насильственная иннервация центрального аппарата речи,
не будучи подавляема полуспящим больным, в самом деле заставляет
действовать голосовой аппарат: Перевалов, по свидетельству его
соседей по койкам, нередко действительно говорит во сне]. Разбужен
около 3 часов ночи; после того — продолжение приставаний, совместно
с говорением [разного рода псевдогаллюц., вместе с галлюц. слуха]. Из
столярной особенным током вызвано внутреннее слышание
[псевдогаллюц. слуха], отчего другой токист (находящийся подо мной, в
нижнем этаже) пугается и потом, когда третий токист присоединяет к сему
мышление убийства и драки [насильственное мышление], раздражается
472
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
на последнего, после чего между ними начинается взаимная руготня:
«идиот!»... «мужик!»... [слуховые галлюцинации]. Засим последовали
обращенные ко мне дерзости, похабщины, при безостановочном
говорении [галлюц.] из-за ограды больницы и пр. добавления к сему такого
же содержания фраз от токиста и токистки из этого флигеля, где живет
эконом, с поползновением смешить перефразированием раньше
случившегося и комическим представлением событий («выиграл сигару »).
Утром — подговоры мне матерщины. Во время чая — взаимное
передразнивание токистами друг друга (ревность из заходивших сюда некоторое
время швей) [за швей больной принял слушательниц с женских
медицинских курсов, которые иногда приходили посмотреть на больных].
До обеда — шуточки и остроты [частью — просто насильственное
мышление, частью псевдогаллюц. слуха] того токиста, который убежден, что
приносит мне пользу деланием веселого настроения. Во время обеда —
вонь испражнений (это производит идиот, помещенный в столярной, он
нюхает в это время испражнения из бутылки или из бумажки) [галлюц.
обоняния] и мышление о сем [навязчивые представления]. Во время
занятий немецким языком — с улицы подговоры, подшучивания [слух,
галлюц.], сбивание, за что токиста наверху — раздражение, а токистки
из флигеля эконома — помогание... Далее, они стали действовать
чувствами (заискивания и их надежды, что упражнения их надо мной скоро
вознаградятся), потом — взаимная их ругня, за которой я мысленно
принужден был следить [слухов, псевдогаллюц.]. Вечером, когда я писал
записку брату с просьбой сделать для меня некоторые покупки, токист
в верхнем отделении настаивал на табаке Лаферм, а токистка из
флигеля — на сигарах и словаре Рейфа [галлюц. слуха]; от сего нервный
идиотик внизу млеет от предвидения какой-то их удачи. При моем занесении
сего в тетрадку другой идиот оттуда же шепчет шутовским тоном: «Вот
тебе и словарь Рейфа» [слух, галлюц.]. Затем, когда я принялся читать
учебник французского языка Марго, начались подговоры [галлюц.
слуха] в чтении (по имеющемуся у них Марго?), перешедший в задорные
приставания ко мне с задорным мышлением [слух, псевдогаллюц.], что
«хотя пользы мне (в смысле лечения меня) от них нет, однако они
всетаки будут продолжать. Когда я лег спать, устраивали мне
сладострастное мышление, причем производили перед моими глазами воображение
[псевдогаллюц. зрения] женских половых органов».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
H.H. ЛАНГЕ
О ЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Ланге Николай Николаевич (1858-1921) —-
психолог, автор работ по философии, логике,
педагогике. Видный организатор психологической
науки. После окончания Петербургского
университета (историко-филологический факультет,
1883) и последующей стажировки во Франции и
Германии стал активным сторонником
экспериментального метода в психологии. Выполненная им в
лаборатории В. Вундта экспериментальная работа
по изучению внимания и восприятия получила
мировую известность. С 1888 г. действовал в
Новороссийском (Одесском) университете. Развитие
этой работы получило завершение в докторской диссертации
(«Психологические исследования. Закон перцепции. Теория волевого внимания».
1893 г.). Диссертация представляет собой главный труд Ланге. В книге
«Психология » (1914) воплотились взгляды Ланге на фундаментальные
вопросы психологии, дан глубокий анализ состояния мировой науки, ее
главных направлений.
В антологию включены статья из энциклопедического словаря бр.
Гранат «Психология экспериментальная »и «Отчет о докторском диспуте по
поводу защиты докторской диссертации», который включает кроме
вступительной речи Ланге выступления официальных оппонентов Л.М.
Лопатина, С.С. Корсакова, A.C. Белкина. Выступления хорошо воссоздают
отношение к эксперименту в русской науке, различные взгляды на значение
этого метода.
ОТЧЕТ О ДОКТОРСКОМ ДИСПУТЕ H.H. ЛАНГЕ1
19-го мая текущего года состоялся в Московском университете
докторский диспут прив. доц. философии Новороссийского университета
H.H. Ланге. Диссертация г. Ланге («Психологические исследования:
Закон перцепции. Теория волевого внимания». Одесса. 1893. VII+290 стр.)
составилась из нескольких отдельных исследований, отчасти уже ранее
по1 Отчет о докторском диспуте H.H. Ланге// Вопросы философии и психологии.
1894. Кн. 24. С. 564-616.
474
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
явившихся в печати. Так, исследование о законе перцепции было
напечатано в «Вопросах философии и психологии» (кн. 13, 14, 15 и 16 и в
сокращенном виде — в отчете Лондонского конгресса экспериментальной
психологии; исследование о внимании явилось первоначально в журнале
Вундта Philosophische Studien; заметка о гашише напечатана в 1-й кн.
«Вопросов философии и психихологии». Вполне новыми являются: введение,
сокращение и переработку которого представляет собою помещаемая ниже
вступительная речь диспутанта, два историко-психологических очерка,
вторая, третья и седьмая главы исследования о внимании.
Для ознакомления с содержанием диссертации H.H. Ланге отсылаем
к названным книгам «Вопросовфилософии и психологии», а также к
краткому изложению ее — в «Философском ежегоднике» Я.Н. Колубовского
(лист 6. № 432, 433), помещаемом в приложении к журналу.
Перед началом диспута диспутант произнес следующую
вступительную речь на тему:
О значении эксперимента в современной психологии.
Моя книга, которую я буду иметь честь защищать в настоящем
заседании факультета, представляет, в сущности, развитие одной основной
мысли. Эта мысль состоит в том, что к изучению психологических проблем
необходимо приложить тот точный эксперимент, который дал столь
блестящие результаты в области естествознания; и что, сделав это, применив к
психологии эксперимент, мы можем возвести ее к такому совершенству,
обратить ее в столь положительную науку, какой она еще никогда не была.
Эта общая задача моей книги естественно распадается на две части, из
которых одна имеет более практический характер, а другая — чисто
теоретический. В теоретической части я на примере двух психологических
проблем пытался показать, какое важное применение может иметь
эксперимент в нашей науке. Эта наиболее обширная и существенная часть моей
книги содержит исследования о законе перцепции и о волевом
чувственном внимании, причем почти каждый вывод я старался обосновать
экспериментально. Изложение, даже краткое, этих исследований, ввиду их
специального характера и сложности экспериментальной обстановки, заняло
бы больше времени, чем то, которым я могу воспользоваться в настоящей
вступительной речи. Поэтому я оставлю выяснение этих исследований до
последующих дебатов.
В настоящий же момент я желал бы обратить ваше внимание на
практическую часть моей книги, именно на введение к ней, в котором
обсуждается вопрос о необходимости учреждения при университетах кабинетов
для изучения экспериментальной психологии. Эта необходимость
доказывается: 1) современным положением научной психологии, 2) примером
университетов Западной Европы и Сев. Америки и 3) пользой, имеющей
произойти от таких учреждений, и именно, как практической (для
педаго475
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
гов, врачей), так и теоретической, для дальнейшего развития наук
антропологических в широком смысле этого термина. Позвольте мне вкратце
остановиться на рассмотрении этих трех аргументов.
I
Знаменитый американский психолог В. Джемс, указав на значение
психологии, основывающейся на простом самонаблюдении, продолжает
затем следующим образом: «Творения Локка, Юма, Гертли, Стюарта, обоих
Миллей навсегда останутся классическими образцами непосредственного
самонаблюдения, а в трактатах профессора Бэна мы имеем, может быть,
последнее слово этого метода, взятого в отдельности, последний момент
юности психологии, еще не технической и общедоступной, вроде химии у
Лавуазье или зоологии до употребления микроскопа. Но психология
перешла уже в другой, менее простой фазис. В течение последних лет возникла
в Германии, так сказать, микроскопическая психология, основанная на
экспериментальных методах, спрашивающая в каждый момент о данных
самонаблюдения, но устраняющая их недостоверность более широкой
проверкой и статистическими вычислениями. Этот метод требует величайшего
терпения и едва ли мог бы возникнуть в стране, жители которой способны
испытывать утомление. Такие немцы, как Вебер, Фехнер, Фирордт и Вундт,
очевидно, к этому неспособны, и их успех вызвал на поле битвы ряды
молодых экспериментальных психологов, стремящихся изучить элементы
душевной жизни, выделяя их из сложных душевных комплексов, в
которых они скрыты, и стараясь, насколько возможно, свести эти элементы к
некоторой количественной шкале. Так как простой и открытый метод атаки
дал уже все, что он мог дать, то прибегли к методу выжидания, обложения,
изнурения противника; душевная жизнь должна была подвергнуться
регулярной осаде, в которой минутными успехами, силой приобретаемыми и
днем и ночью, эта жизнь блокируется на ее вершинах, с тем чтобы наконец
ворваться и туда. У этих новых философов призмы, маятника и хронографа
мы не найдем высокого стиля. Их средства — работа, а не храбрость. То
благородное прорицание и та нравственная высота, которые Цицерон считает
наиболее пригодными для проникновения в природу, оказались недостаточными,
но эта задача, несомненно, в один прекрасный день будет разрешена этими
новыми мыслителями, их выслеживаниями и выпытываниями, их
беспредельным упорством и в высшей степени дьявольской хитростью»1.
Оставляя в стороне некоторые преувеличения в этой характеристике,
мы должны спросить себя, в чем же состоят существенные черты этого
нового экспериментального метода в психологии и что он дал науке.
1 James. Principles of Ps. I. C. 192.
476
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Психологический эксперимент, как и всякий другой, состоит в том, что
наблюдаемое явление ставится в особые, намеренно избранные условия,
способствующие его изучению. Вместо того чтобы довольствоваться случайными
встречами, в которых изучаемое явление возникает для нас неожиданно,
ненужно усложнено и крайне неустойчиво, мы заставляем его протекать и
повторяться любое число раз и в тех условиях, какие мы сами заранее избрали.
Природа, как говорит Бэкон, легче обнаруживает свои тайны, когда ее мучит
и, так сказать, пытает наука, нежели в том случае, когда она предоставлена
своему естественному течению и полнейшей свободе.
Мы легко оценим великое значение эксперимента для развития наук,
если рассмотрим его роль в поразительных успехах химии и физиологии
нашего века или если сравним жалкое положение естествознания в
древности с его прогрессом, начиная с Галилея, — различие, обусловленное
главным образом систематическим приложением эксперимента, — или,
наконец, если сопоставим великие результаты, достигнутые физикой,
с слабыми зачатками метеорологии, — разница, при единстве их объекта,
тоже обусловленная главным образом тем, что первая пользуется
экспериментом, а для второй он почти недоступен. Что касается, в частности,
психологического эксперимента, то он имеет особую ценность
преимущественно в четырех отношениях.
1. Значение психологического эксперимента как улучшенного
самонаблюдения.
Нередко бывает, что психологический эксперимент противополагают
психологическому самонаблюдению, как косвенное или объективное
исследование психических явлений (с помощью изучения их внешних
проявлений), — прямому и непосредственному. Но такой взгляд вполне ложен.
Психологический эксперимент не только не может быть противополагаем
самонаблюдению, но, напротив, он доставляет нам случаи лучшего и
наиболее точного самонаблюдения. «С каждым шагом, который
экспериментальная психология делала при анализе психических явлений, говорит по
этому поводу Вундт, все яснее обнаруживалось, что важнейший и наиболее
плодотворный способ психологического исследования есть тот, когда
сознание, служащее объектом для экспериментального влияния, становится
в то же время и предметом опытного и заботливого самонаблюдения.
И этот факт находится в связи с другим, а именно, что истинное
самонаблюдение достигается только через посредство эксперимента... Лишь
благодаря ему удается определенное психическое состояние, возникавшее
первоначально по поводу известного внешнего впечатления, вновь многократно
вызывать приблизительно в той же форме, именно — воспроизводя
(искусственно) то же самое впечатление при тех же внешних условиях, и
таким образом делать изучаемое психическое состояние все яснее для
наблюдателя».
477
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«Мне часто приходилось слышать от сторонников «интроспективного
метода» замечание, что, в сущности, нисколько не интересно знать, что одно
психическое состояние занимает несколько больше времени, чем другое, и что
вопросы о том, отличимо ли известное ощущение от другого и больше ли оно
или меньше, довольно безразличны. Я не только согласен с этими
философами, но и иду еще дальше: я думаю, что даже такие факты, как расстояние
Солнца от Земли, или скорость распространения света, или механический
эквивалент теплоты и т. п., взятые сами по себе и рассматриваемые вне их отношения
к другим фактам, с которыми они находятся в закономерной связи, в высшей
степени безразличны. Если бы единственной целью экспериментальной
психологии было просто определять какие-нибудь численные величины, то,
конечно, было бы гораздо лучше употребить затрачиваемый на это труд для чего
угодно другого, например на усовершенствование швейных машин.
Насколько, однако, ее задача шире, видно хотя бы из следующего факта: мне очень
часто случалось видеть, что люди, вообще хорошо одаренные и научно
высокообразованные, способные производить наблюдения и эксперименты в
любой другой отрасли естествознания, оказывались, однако, непригодными для
психологического эксперимента, и именно потому, что им недоставало
способностей концентрации внимания и самонаблюдения, особенно же
способности возобновлять приблизительно в прежнем виде известные состояния
сознания, при повторении прежних внешних условий. Даже тем
коллегам-психологам, которые еще меньше меня придают значение численным
определениям и которые не имеют никакой склонности к обработке
экспериментальных проблем, я посоветовал бы несколько заняться экспериментальною
психологией. Способы, которыми они научились бы при этом упражнять свое
внимание и самонаблюдение, могли бы им пригодиться и при их манере
самонаблюдения. Может быть, даже они впервые при этом случае узнали бы, что
такое собственно самонаблюдение ».
Такой же взгляд на значение психологического эксперимента проникает
работы и других лучших представителей экспериментальной психологии, как
то: Штумфа, Элиаса Мюллера, Мюнстерберга, Джемса, Марциуса, не говоря
уже об основателях психологического эксперимента — Фехнере и
Гельмгольце, этих истинных maestri психологического самонаблюдения.
Итак, эта первая роль эксперимента в психологии сводится к тому,
чтобы с помощью внешних средств фиксировать и сохранять наблюдаемые
психические явления. Явления эти столь неустойчивы, так быстро
изменяются и исчезают, так притупляются привычкой, что только помощью
эксперимента могут быть сохраняемы в наблюдаемой форме.
2. Значение эксперимента, как особого логического метода.
Указанными соображениями далеко не исчерпывается значение
эксперимента. Напротив, наиболее важное его значение нам предстоит еще
указать. Оно состоит в том, что, целесообразно варьируя условия
наблюда478
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
емого явления и наблюдая за тем, каким изменениям подвергается при этом
само явление, мы открываем его законы.
Если бы психология была исключительно описательной наукой, она
еще могла бы, до некоторой степени, развиваться и помимо эксперимента,
описывая и классифицируя данные сознания. Но она имеет, кроме
описательной, еще более важную задачу — объяснительную; она должна
указывать законы смены психических явлений, их взаимную зависимость друг от
друга. Эти законы сами по себе уже не составляют данных сознания, они
суть бессознательные операции или формы психической жизни. Мы
можем только заключать к ним из сравнения явлений, а не наблюдать их
непосредственно. Для вывода таких заключений мы необходимо должны
уметь всячески варьировать изучаемые явления, уметь разлагать их на
элементы, выделять те или другие из этих элементов, усиливать или ослаблять
их и т. п. Только с помощью таких экспериментов мы находим материал,
необходимый для вывода психических законов или форм.
Величайшим, может быть, примером этого искусства
психологического эксперимента является и доныне третья часть «Физиологической
оптики» Гельмгольца, в которой этот основатель экспериментальной
психологии, исследуя состав наших зрительных представлений о пространстве,
выделил рядом целесообразных и тонких опытов элементы этих
представлений и определил их значение. С того времени прошло больше 25 лет,
и методика психологического эксперимента широко развивалась и
продолжает развиваться, так что почти каждая новая работа и доныне вносит
новый методологический прием. Мы не можем указывать здесь даже в общих
чертах всех разнообразных видоизменений этих методов, так как такая
задача потребовала бы изложения почти всех психологических проблем.
Одно только необходимо здесь заметить: все попытки ограничить
приложимость эксперимента только некоторыми родами психических явлений,
и, в частности, простейшими, — оказались вполне ложны. Явления
познания, эмоции и воли — все уже, хотя и в разной степени, захвачены
экспериментом, и, выражаясь словами Мюнстерберга, мы должны сказать, что
принципиально нет ни одного вопроса психологии, который не мог бы быть
изучаем экспериментально, а что именно относительно сложнейших из
психических явлений эксперимент особенно и безусловно необходим.
3. Эксперимент как средство измерения психических явлений.
Далее, введение эксперимента в психологию соединилось с еще одним
весьма своеобразным прогрессом этой науки: мы разумеем измерение
психических событий.
Во-первых, измерение было применено к интенсивности ощущений,
в ее зависимости от силы раздражений. Это привело к открытию так
называемого психофизического закона, согласно которому ощущения
возрастают пропорционально логарифму раздражения. Первую идею этого
ма479
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
тематического закона мы встречаем у знаменитых геометров Даниэля
Бернулли, Лапласа и Пуассона, а затем Эд, Вебер и особенно Фехнер нашли
меру ощущений в понятии «едва заметной разницы» и указали основные
методы проверки этого закона (методы едва заметных разниц, правильных
и ложных случаев, средней ошибки), к которым дальнейшие
исследователи присоединили еще некоторые другие.
Во-вторых, подвергнута была точному измерению продолжительность
психических актов, находящаяся в прямом отношении к их сложности и
доставляющая, таким образом, могущественное орудие для
психологического анализа. Эти хронометрические методы были первоначально
применяемы астрономами (Бесселем, Аргеландером) для определения той
поправки в наблюдениях, которая называется «личным уравнением»; затем
они былиобработаны для психологических целей Гельмгольцем, Вундтом,
Дондерсом, Экснером и другими и ныне представляют высоко развитую
методику так называемой психометрии, непрерывно пополняемой новыми
исследованиями.
Наконец, к изучению психических явлений применимы всякого рода
статистические методы обработки материала, доставляемого
разнообразными психологическими вопросниками, рассылаемыми новыми
психологами по всему земному шару. Из этих работ выйдет рано или поздно
сравнительная психология и научная классификация характеров.
4. До сих пор я указал на значение эксперимента в психологии,
вопервых, как улучшенного метода самонаблюдения, во-вторых, как
особого логического приема открытия зависимости между психическими
явлениями и, наконец, как метода измерения этих явлений. Мне остается
указать на значение объективного эксперимента, т. е. такого, в котором
исследователь изучает психическую жизнь иного существа по ее внешним
проявлениям или знакам в виде разнообразных движений и слов. Сюда
принадлежат главным образом эксперименты над загипнотизированными и
опыты с животными.
В гипнотическом внушении мы имеем одно из важных средств
психологического эксперимента. Помощью этого внушения мы можем вводить в
сознание загипнотизированного субъекта любые психические состояния,
другие из него удалять — одним словом, простым внушением создавать
любые формы психической жизни и затем наблюдать, как такой субъект
действует. В особенности ценные услуги оказало гипнотическое внушение
для анализа и изучения тех сложных психических явлений, которые пока
или вовсе еще не поддаются иным средствам опыта, или лишь в
незначительной степени, а именно — сознания личности и явления воли и эмоций.
Замечательные исследования Льебо, Бернгейма, Шарко, Бони, Бине, Фере,
Жане и многих других открыли в этом отношении целое новое поприще
для психологических исследований, которого вся важность ныне еще лишь
480
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
приблизительно может быть оценена и которое, в сущности, не имеет,
конечно, никакой необходимой связи с оккультизмом, спиритизмом,
ясновидением и прочими странными уклонениями современной мысли.
Психологический эксперимент над животными имеет две главные
формы. Во-первых, мы можем исследовать психическую жизнь нормального
животного, ставя его в разнообразные внешние условия и наблюдая затем его
движения. Таким образом Аеббок изучал ос, пчел и муравьев, Прейер —
морских звезд, Verworn, Loeb и другие — простейших животных. Эти работы и
другие им подобные составляют начало экспериментальной зоологической
психологии, и совершенно очевидно, что на этом пути, на котором сделаны
пока еще первые шаги, предстоят многие открытия, которые создадут в конце
концов общую теорию психогенезиса.
Вторым типом эксперимента над животными являются вивисекции
центральной нервной системы с целью определить функции отдельных ее
частей. Помощью этого метода Фритч и Гитциг, Феррьер, Гольц, Мунк,
Экснер и многие другие физиологи положили основы учению о
локализациях разных психических элементов в разных частях большого мозга, а
соединенный с анатомо-гистологическим изучением мозга, этот метод уяснил
общие принципы мозговой механики.
II
До сих пор мы доказывали необходимость психологических
лабораторий современным положением научной психологии, т. е. характером ее
методов и их значением. Другим доказательством своевременности
нашего требования служит пример университетов Западной Европы и Америки,
где такие учреждения существуют уже много лет, повсюду вновь
основываются и богато снабжаются всеми необходимыми приспособлениями.
Психологические лаборатории существуют в Лейпциге, Геттингене,
Фрейбурге (Баденском), Бонне, Берлине, Мюнхене, Париже, Лондоне,
Копенгагене, Женеве и в американских университетах в Гарварде, в Торонто,
в Иеле, в Висконсине, в Клеркском университете, в Columbia College,
в Wellesley College и др.
В моей книге я собрал некоторые сведения о деятельности этих
учреждений и показал, каких важных результатов они достигают как в
области чисто научной, так и в отношении педагогическом. Опасаясь
злоупотребить вашим вниманием, я не стану входить здесь в объяснение этой
деятельности и скажу только, что психологические лаборатории
являются, по моему мнению, наилучшим средством для повышения результатов
нашего университетского преподавания психологии. В качестве
университетского преподавателя я вынес убеждение, что изучение психологии лишь
теоретическое приносит весьма слабые результаты. Без психологических
16 Российская психология
481
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
семинарий и лабораторий наши слушатели выносят зачастую из аудитории
только знание слов и схем, точно дело идет не об явлениях их собственной
души, а о психике каких-нибудь нам неизвестных жителей планеты Марс.
Если кроме этого обзора университетских психологических
лабораторий требуются еще какие-нибудь доказательства распространения
экспериментальной психологии, то можно указать на деятельность соответственных
международных конгрессов, на существование многих специальных
журналов, посвященных этому делу, и на общую громадную численность ученых
работ в этом направлении.
Первый международный конгресс экспериментальной психологии был
созван в Париже, в 1889 г., заключал в себе четыре секции: гипнотизма,
наследственности, мускульного чувства и галлюцинации, и собрал
представителей от всех стран Европы и из Америки. Кроме многих интересных
сообщений на нем было решено собрать статистику некоторых психических
явлений при помощи соответственных вопросников. Второй съезд был
созван в Лондоне в 1892 году и заключал до 300 членов. В числе лиц, на нем
присутствовавших, делавших сообщения или их доставивших, мы находим
имена Бэна, Гальтона, Г. Спенсера, Роменса, Селли, Джемса, Прейера,
Гельмгольца, Дельбефа, Рибо, Ломброзо, Бернгейма и многих других,
принадлежащие к известным всему цивилизованному миру. Наконец, третий конгресс
созван на 1896 г. в Мюнхене, под председательством проф. Штумфа.
Ничего равного этой дружной и совместной работе ученых всех стран
мы не находим в предыдущих периодах психологии. Вспомним, например,
для сравнения слова, сказанные Фихте (сыном) в 1847 г. в его
«Приглашении к философскому конгрессу»: «Большая часть из нас одиноко, подобно
кротам, копают в собственных норах и опасаются недоброй встречи,
прикасаясь к подземным ходам других. В науке самого высокого и
универсального интереса каждый упорно говорит своим языком, следует только
собственной терминологии, — короче, силится прежде всего стать
оригинальным между другими, вместо того чтобы искать общего и
связующего». Какая разница между этой уединенной Systemmacherei и настоящим
состоянием психологии, которая, указывая общие для всех цели,
объединяет своих последователей в дружной и реальной работе, одинаковой для
всех и равно всеми приемлемой.
III
Собственно говоря, мы уже дали достаточные доказательства
необходимости таких учреждений и у нас, при русских университетах. Но в
дополнение к вышеозначенным фактам, позвольте мне еще присоединить
краткие указания на общее значение научного изучения психических
явлений, т. е. на общие полезные результаты, которые должны произойти из
482
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
учреждений таких лабораторий. Здесь следовало бы указать прежде всего
на теснейшую связь между успехами психологии и развитием наук
историко-филологических. Эта связь есть, очевидно, обоюдная: с одной стороны,
психические факты суть явно один из факторов, необходимых для
объяснения исторических явлений, и потому историко-филологические науки
ближайшим образом заинтересованы в успехах научной психологии; а с
другой стороны — психика человека есть результат его
социально-исторической жизни, и без условий этой жизни, т. е. без помощи языка,
социального строя и общественной традиции, психика человека едва ли
возвысилась бы над уровнем прочих высших животных.
В заключение я хотел бы остановить ваше внимание на значении,
которое должно иметь развитие научной психологии, связанное с учреждением
психологических лабораторий, для научной практики, и именно для
педагогики, медицины и криминалистики.
Что педагогика как целесообразное влияние на душевную жизнь
ребенка основана на психологии ребенка, это так очевидно, что почти не
требует пояснений. Основное требование, предъявляемое всеми великими
педагогами Нового времени, сводится именно к тому, что необходимо
приспособлять все обучение и воспитание к степени развития ребенка. На этой
основе Амос Коменский строит новые методы обучения, к этому сводится
педагогия Локка, это же имеет в виду требование естественности
воспитания у Руссо и психологизирования обучения — у Песталоцци.
Педагогика пользуется, как известно, незавидной славой, особенно
же у нас. Ее принципы кажутся слишком отвлеченными, а мы слишком
склонны полагаться на непосредственные добрые чувства воспитателя и
его педагогический такт. Что касается первого, т. е. слишком отвлеченного
и схоластического характера педагогики, то он обусловлен, как всякая
схоластичность, слишком малым количеством фактических знаний. Что же
касается до непосредственного педагогического такта, то хотя он,
конечно, имеет свою цену, но явно недостаточен, в особенности в решении
вопросов общественного воспитания и для определения общих
педагогических начал. Общие принципы методики обучения, вопросы о культуре
памяти, внимания, интеллекта, об отношении между формальным и
материальным факторами образования, о значении навыков и привычек, о
воспитании воли, о гигиене душевного развития, и проч., и проч., очевидно,
суть, в сущности, вопросы психологические и не могут быть разрешены без
пособия науки.
Что касается до значения основательного психологического
образования для врача, то оно, безусловно, необходимо при изучении
физиологии центральной нервной системы и органов чувств, а равным образом —
психиатрии и нервной патологии. Но, кроме того, развивая общую
наблюдательность к психическим состояниям пациента и научное понимание этих
16* 483
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
состояний, такое знание психологии может часто способствовать
уяснению этиологии болезней и даже терапии. В этом отношении весьма
замечательны мнения, высказанные недавно таким выдающимся клиницистом,
как Ад. Штрюмпель: «Никакой взгляд относительно изменений,
которым подвержено состояние нашего тела, — говорит он, — не может
считаться более односторонним и неправильным, чем тот, по которому всякое
такое изменение всегда является следствием какого-нибудь
действующего извне, материального влияния. Уже самое поверхностное наблюдение
над самим собою должно нам показать, какое сильное влияние различные
состояния нашего сознания оказывают на соматическую деятельность
нашего организма... Я едва ли преувеличу, если скажу, что число
заболеваний, по-видимому, чисто телесных, а в действительности
обусловливаемых примарными психическими влияниями, по крайней мере столь же
велико, как и число действительно соматических заболеваний. К
сожалению, медицинская наука, под влиянием особых предубеждений, долгое
время чуждалась исследования и изучения именно этих болезненных
явлений. Здесь необходимо в будущем пополнить немаловажный пробел в
образовании врачей. Как физиология, и психология должна быть
обязательным предметом изучения для всякого медика».
Наконец, немаловажное значение имеет основательное изучение
психологии и для юриста, и, в частности, для криминалиста. Тот поворот в
криминалистике, который выразился в требовании изучать не
преступления, а преступника, ясно указывает на необходимость общего понимания
психики преступника, а таковое возможно лишь на принципах общей
психологии. Еще в шестидесятых то&ъхДанкварт, например, доказывал, что
«психология играет в уголовном праве столь же важную роль, как
национальная экономия в гражданском праве, и что она составляет, в сущности,
ключ к уголовному праву и учению о наказании». В наше же время
известный криминалист философ Тард выражается следующим образом:
«Современный криминалист не может быть только юристом, исключительно
озабоченным священными правами индивида и прилагающим их следствия
со схоластической логикой комментатора гражданского права к индивиду
преступления, взятому абстрактно; он должен быть вместе с тем
философом, заинтересованным прежде всего интересами общества. В то время
как криминальная статистика показывает нам преступления и
преступников в их естественной группировке, криминальная антропология надеется
открыть связь наклонности к разным преступлениям с известными
физическими наследственными признаками, отнюдь не индивидуальными; а
патология души, основанная на прогрессирующем изучении нервной
системы, не говоря уже об опытах внушения в гипнозе, заставляет нас
перестраивать, на более глубоких основаниях, теорию уголовной
ответственности и искать истинного начала и истинных результатов поступков
484
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
индивида далеко за пределами его личности. Статистика, антропология,
физиологическая психология — вот те новые пути, на коих создается
обновленное изучение преступлений, сравнительная криминалистика, если
можно ее так назвать ».
Итак, педагог, врач и юрист необходимо нуждаются в
основательном психологическом образовании. А если, как то мы показали выше,
развитие психологической науки является ныне обусловленным
приложением эксперимента, то основание при наших университетах
психологических лабораторий вызывается не только научными запросами, но и
практическими потребностями государства.
Мы не имеем в виду перечислять здесь все те многочисленные и
важные результаты, которые должно иметь широкое и научное изучение
психики. Эта задача далеко выходит за пределы той специальной цели,
которую мы поставили себе. Но мы не можем не указать в заключение
еще на одно общекультурное значение психологической науки.
Здесь именно должно сказать, что вопросы психического
вырождения, на которое с таким страхом указывают многие из современных
мыслителей, врачей и публицистов и которого примеры умножаются с
такою быстротою, эти вопросы принадлежат к области психической
гигиены и могут быть решены лишь при точном и систематическом
изучении законов психофизической организации человека. Трагическая
сторона этих явлений состоит именно в том, что они, вероятно, не
устранимы простым повышением общественного умственного образования,
более тонкой моральной культурой или развитием нравственных
чувствований, а требуют исполнения тех, по-видимому, столь обыденных
гигиенических правил душевной деятельности или даже, может быть,
общего понижения ее, которое кажется невозможным и унизительным.
А между тем вполне допустимо предположение, что в один прекрасный
день все умственные и моральные интересы, все политические и социальные
проблемы побледнеют перед фактом вырождения целых общественных
групп, и что вопросы гигиены, и в частности гигиены психической, станут
центральными вопросами существования. Явления психического
вырождения обусловлены теми законами психофизической организации
человека, которые действуют в тиши и невидимо, заслоненные и
заглушаемые блестящими и громкими событиями на поверхности исторического
моря, но игнорирование которых понемногу подрывает самый смысл
жизни и ставит общество перед лицом смерти. В этом смысле
биологическая психология, вместе с психиатрией и нервной патологией, имеет
великую задачу выяснить основы психической гигиены и требовать их
осуществления прежде, чем настанет конец.
Итак, мм. гг., оглядывая всю совокупность фактов, указанных нами,
мы полагаем, что доказали то положение, которое было выставлено в
нача485
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ле, а именно, что при русских университетах, по крайней мере некоторых,
необходимо основать психологические лаборатории. На это ясно
указывает и роль эксперимента, как одного из важнейших методов психологии,
и пример иностранных университетов, и общая польза, имеющая произойти
из основания таких учреждений. Поэтому, выставляя это требование, мы
полагаем, что с правом можем повторить относительно него прекрасные
слова Бдкона: «Мы просим, чтобы люди смотрели на него не как на мнение,
а как на дело, и чтобы оци знали, что мы имеем намерение положить основы
не какой-либо секты или системы, а участвовать в деле счастия и величия
человеческого ».
Положения диспутанта:
1. Процесс восприятия состоит в быстрой смене ряда моментов, из
которых каждый предыдущий представляет психическое
состояние менее конкретного, более абстрактного характера, а
каждый последующий — состояние более частное и
дифференцированное.
2. Продолжительность этих моментов, или ступеней восприятия,
равна приблизительно 0,04-0,05 секунды.
3. Существует некоторый параллелизм между этими моментами
восприятия и ступенями, по которым развивались ощущения в
общей эволюции животных видов.
4. Сознание сходства есть более первичный факт, чем сознание
различия.
5. Ступени восприятия составляют, по-видимому, ту основу, на
которой сложилось различие между субъектом и предикатом в
суждениях.
6. Активное чувственное внимание есть целесообразная реакция
организма, моментально улучшающая условия перцепции.
7. Должно различать внимание рефлекторное, инстинктивное и
волевое.
8. Волевое чувственное внимание состоит в ассимиляции
ощущения с ярким образом воспоминания.
9. Этому образу воспоминания мы сообщаем в процессе внимания
иллюзорную яркость с помощью движений или
иннервационного напряжения.
10. Напряжение волевого внимания представляет собой
периодические колебания.
11. При русских университетах необходимо основать кабинеты для
изучения экспериментальной психологии. Это доказывается
современным состоянием психологической науки, примером
университетов Западной Европы и Северной Америки и пользой,
имеющей отсюда произойти.
486
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Первый официальный оппонент, проф. A.M. Лопатин, сделал
следующие замечания по поводу диссертации:
«Николай Николаевич! Я не буду долго останавливаться на важных
достоинствах ваших исследований, которые делают вашу книгу крупным и
оригинальным явлением в русской психологической литературе. Вы
являетесь у нас одним из первых представителей строго экспериментального
метода при разрешении психологических вопросов и пытаетесь приложить
этот метод к исследованию самых разнообразных, сложных и широких
проблем психологии. В своих тщательно обдуманных опытах вы
оказываетесь истинным знатоком своего дела, в котором счастливо соединились
добросовестность и задушевное увлечение своей задачей с
изобретательным остроумием. Я не буду говорить о вашей учености и замечательно
разносторонней начитанности — свойствах, которые ярко обнаруживаются
едва ли не на каждой странице вашего труда.
Эксперимент есть великое орудие в развитии наук о явлениях
физической природы, — нужно думать, что строго обставленный научный
эксперимент и в науке о духе со временем представит могучее подспорье для
установления новых истин и для освещения темных сторон психического
существования. В этом смысле нельзя не приветствовать всякую попытку
внести экспериментальный метод в психологию. Но все же совсем другой
вопрос: точно ли психологический эксперимент в его современном
состоянии есть достаточно твердая почва для категорических заключений об
основных силах и процессах души?
И вот, мне представляется, что рассмотрение некоторых недостатков
вашего труда всего убедительнее покажет, какая еще сравнительно
скромная роль принадлежит эксперименту в решении коренных задач
психологии. Позвольте же мне перейти теперь к обсуждению того, что я должен
признать недостатками вашей книги.
Я прежде всего обращусь к одному из важнейших недостатков ваших
рассуждений — чисто логического характера. По моему мнению, он
заключается в поспешности переходов от отдельных фактов к очень
широким обобщениям и гипотезам. Самым ярким примером такой
торопливости может служить ваша статья «О действии гашиша». В ней материал для
обобщения представляют явления, которые вы испытали на самом себе,
однажды приняв значительную дозу гашиша. И вот, отправляясь от этого
единственного случая, вы строите самые общие и категорические выводы,
в одном из которых, между прочим, пытаетесь объяснить столь
характерный при отравлении гашишем факте растяжения времени и пространства.
Другими словами, от одного случая вы заключаете ко всем случаям
известного рода. Было бы, конечно, осторожнее, если бы вы пришли к своим
заключениям, предварительно подвергнув тщательному анализу целый ряд
экспериментов, как над собою, так и над другими лицами. Весьма
возмож487
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
но, что при тех состояниях, которые вы пережили в продолжение вашего
опыта, представилось правдоподобным, что растяжение времени было
обусловлено тягостными чувствованиями, а растяжение пространства
ощущениями усталости. Однако, вопрос в том: можно ли такое объяснение возвести в
общее правило? Разве мы не имеем рассказов о безграничном растяжении
пространства и времени в грезах лиц, испытывавших при отравлении гашишем
самые блаженные ощущения?
И подобная торопливость в обобщениях сказалась не только в вашем
исследовании действия гашиша, — в большей или меньшей степени она
замечается во всех отделах вашей книги. Почти во всех случаях вы
производите эксперименты над самим собою. Как сами вы верно замечаете, при
этом невольно возбуждается подозрение в субъективности результатов.
Действительно, ваши индивидуальные особенности, невольные внушения,
которые вы делали самому себе, и т. п., могли отразиться на полученных
числовых данных. Правда, вы возражаете на это, что элементарные
психические акты оказываются весьма сходными по своей продолжительности у
разных экспериментаторов. Однако, едва ли можно сказать, чтобы в своих
экспериментах вы ограничивались только самыми элементарными
фактами душевной жизни и вовсе не касались фактов, нередко очень тонких и
сложных. Например, через несколько страниц после изложения
принципов своего метода, возражая Людвигу Ланге, вы экспериментальным
путем пытаетесь доказать, что мускульная реакция, производимая со
вниманием к долженствующему последовать движению, и такая же реакция
без внимания к движению — по времени, приблизительно одинаковы.
Имея, однако, в виду, что необходимое условие мускульной реакции
состоит в готовности немедленно реагировать на любое чувственное
раздражение, что, с другой стороны, внимательность к ходу опыта есть
также важнейшее условие правильности его результатов, читатель едва ли
ясно поймет, что значит внимательно производить опыт без всякого
внимания к его непосредственной задаче (немедленному движению), и,
конечно, усомнится, чтобы вам действительно удалось в ряде опытов над
устранением внимания получить величины типические и обладающие
всеобщею пригодностью.
Впрочем, если ваш прием экспериментировать над собою мог иногда
невыгодно отозваться на количественной стороне выведенных вами
результатов, этот прием имеет и свое несомненное преимущество: пользуясь им,
можно устанавливать не только внешние цифровые данные, но и определять
внутренние, качественные особенности наблюдаемого процесса. Вы —
опытный психолог, — именно от вас следовало ждать, что вы не только занесете
в таблицы полученные цифры, но и опишете со всевозможною точностью и
ясностью то, что сами в себе пережили; именно при таких обстоятельствах
психологический эксперимент мог явиться могущественным подспорьем
488
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
для самонаблюдения (стр. XXIII). Но вы не воспользовались этим
преимуществом, и это особенно дурно отразилось на ваших объяснениях к закону
перцепции.
Смысл этого закона изложен вами подробно: соответственно ему,
первая ступень перцепции дает простой толчок в сознании без всяких
указаний на разряд ощущений, вторая ступень дает известный род
ощущений (например, мы сознаем ощущение как зрительное, а не слуховое или
осязательное), третья ступень доставляет определенное качество
ощущений, — положим, красного цвета, в отличие от всех других цветов.
Является крайне интересным и важным вопрос: что такое этот толчок в
сознании, или что значит иметь зрительное или осязательное ощущение —
вообще, без всякой их качественной характеристики? Вы решительно
настаиваете, что выведенный вами закон перцепции никак не есть только
закон постепенной автоматической классификации или оценки уже
данных нам ощущений, но закон самих ощущений, поскольку они
действительно лишь в известной постепенности определяются в нашем сознании.
Воспринимая, положим, красный цвет, мы сначала имеем лишь толчок в
сознании и ничего больше, потом, хотя видим цвет, но не видим, какой он,
и уже после этого видим цвет, как красный. И по вашему мнению, для
того, чтобы, например; экспериментально уловить вторую ступень
перцепции, мы должны умственно сосредоточиться на представлении
зрительного ощущения вообще и лишь под этим условием можем оказаться
в состоянии реагировать на цвет, поскольку он еще никак для нас не
окрасился . Но что значит видеть красное и не видеть его красноты? Как
можно представлять цвет и в то же время совсем не представлять никакого
определенного цвета? На все эти недоумения мы не находим у вас ответа.
Вы только даете довольно подробное и живое описание того, что следует
считать толчком в сознании. Но и это описание вы целиком берете у
Герберта Спенсера, который, однако, смотрит на закон перцепции совсем
другими глазами, нежели вы.
Благодаря такому отсутствию качественного описания процессов
перцепции у вас остается совершенно нерешенным вопрос, чем же
посредствуется переход от одних ступеней перцепции к другим? Есть ли
этот переход чисто пассивный процесс в сознании, которое лишь
воспринимает то, что ему непосредственно и прямо дано, но от себя ничего
к нему не прибавляет, или этот переход обусловлен совершаемыми
самим сознанием актами различения, сопоставления, усмотрения сходств
и т. д.? С одной стороны, на целом ряде страниц вы утверждаете, что
акты различения являются необходимым посредствующим звеном
между низшими ступенями перцепции и высшими, но, с другой стороны, вы
рассматриваете сознание сходства и различия как дальнейший факт
познания сравнительно с перцепцией, обладающий большею
длитель489
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ностью, а кончаете полным отрицанием специфического сознания
различия , сводя его к простому отсутствию чувства сходства, хотя тут
же признаете существование самостоятельного ощущения
несоответствия, которое вы характеризуете как "нечто вроде чувства различия".
По вашему мнению, когда я различаю синий цвет от красного, то
единственное, что я нахожу в себе, это именно красный цвет и синий и
отсутствие их сходства. При этом вы как будто забываете, что иметь разные
идеи и ощущения и понимать их различие — далеко не одно и то же: мы
можем вовсе не думать об их различии, раз нам не приходилось их
сравнивать между собою раньше.
Казалось бы, для подтверждения вашего оригинального взгляда на
чувство различия, вам следовало обратить особое внимание на многочисленные
в психологической литературе аргументы в пользу самостоятельной и
коренной природы чувства различия, всесторонне обсудить и опровергнуть их.
Но странным образом, вы высказываете свое воззрение скорее в форме
личного мнения, хотя настаиваете на нем очень решительно. Правда, мы
находим у вас некоторое экспериментальное доказательство справедливости
вашего взгляда на чувство различия как на производное явление от чувства
сходства: оно состоит в том, что «время сознания сходства оказывается
значительно (на 8 %) короче, чем время сознания различия между такими же
элементами». Но такое доказательство следует ли считать сколько-нибудь
убедительным? Допустим даже, что полученный вами общий числовой
результат безукоризненно верен, — что же из него вытекает? Разве можно
поставить за общее правило, что если даны два явления, — одно длиннее,
другое короче, — то второе должно быть непременно причиною или
производящим фактором первого? По вашим таблицам выходит, что слуховые
ощущения воспринимаются скорее зрительных; следует ли из этого, что
слуховые ощущения суть причина зрительных ощущений?
При основной шаткости ваших взглядов на значение актов усмотрения
различий в процессах нашего познания, понятна неясность ваших воззрений
на психологическую природу суждения. По вашему мнению, логический
состав суждений есть выражение закона перцепции. Вы говорите: "каждая
предыдущая ступень перцепции есть в полном смысле субъект для
последующей, как предиката. Восприятие, как мы показали, есть в первый момент
простой толчок в сознании... оно есть, следовательно, своего рода
возможность, субстанция, неопределенное бытие, которое получает свое
определение, атрибут в следующий момент перцепции... Здесь мы находим,
следовательно, объяснение всех трех указанных особенностей субъекта (в
суждении): он есть субстанция, неопределенное бытие и синтетически связан в
единый психический акт с предикатом". Такой ряд выводов представляется тем
более странным, что немного раньше вы вполне соглашаетесь с тою истиною,
что в суждениях субъект и предикат суть величины разного порядка, что
490
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
никакая сумма предикатов субъекта не исчерпывает, что субъект и предикат
относятся как предмет к свойству. Между тем в различных ступенях
перцепции мы имеем совсем одно и то же (одно ощущение), только воспринимаемое
не одинаково отчетливо и ясно и в этом отношении меняющее свои предикаты,
так что предикаты ступени следующей не относятся к содержанию ступени
предшествующей. Поэтому, если и переводить ступени перцепции на язык
суждений, то эти суждения никак не могут быть облечены в такую форму,
чтобы в них предшествующие ступени оказались подлежащими для
последующих, как сказуемых. Напротив, каждая ступень в таком случае должна быть
выражена своим особым суждением, и совершенно ясно, что такие суждения,
с логической стороны, будут даже противоречащими между собою. Так,
вторая ступень перцепции красного цвета выразится суждением: я вижу нечто,
что не есть ни красное, ни синее, ни желтое и т. д.; для третьей ступени,
напротив, будет справедливым суждение: я вижу красное. Не остановило вас
даже и то, казалось бы, неизбежное сомнение: неужели утверждение, что
толчок в сознании есть субстанция, имеет сколько-нибудь понятный смысл?
Таким образом, в развитии учения о законе перцепции у вас пропущены
очень важные моменты, что дает всем вашим заключениям двусмысленный
вид. Но зато в статье "Закон перцепции" оказываются и такие части,
которые, по крайней мере, на мой взгляд, можно назвать лишними, ненужными,
не только не уясняющими, но прямо затемняющими дело. Сюда, по моему
мнению, относится все, что сказано у вас в главе IV о биологическом
развитии перцепции. Излагая причины, по которым вы назвали свой закон
законом перцепции, а не простого ощущения, и определив перцепцию как
"данное ощущение плюс результат подобных же предыдущих опытов", вы далее
объясняете, что под предыдущим опытом вы разумеете не только прежний
опыт нашего сознания, поскольку он синтезировался с опытом настоящего
момента, но и последовательный опыт всех поколений животных, которые
предшествовали появлению на земле человека, — опыт, отразившийся на
устройстве человеческого мозга и нервной системы. В силу этого перцепцию
вы определяете как "взаимодействие данного раздражения с тем
механизмом, который является результатом тех бесчисленных опытов, которые
имели место в общем развитии животных". Такое расширение и даже искажение
обычного значения термина перцепции едва ли может помочь установлению
его истинного психологического смысла. В самом деле, какие душевные
явления тогда не придется называть перцепциями?
Может быть, всего более повредило вашим исследованиям то, что они
распадаются на несколько частей, почти ничем не связанных между собою.
Особенно дурно это сказалось на важнейших двух статьях "Закон
перцепции" и "Теория волевого внимания". Выведенный вами закон перцепции,
конечно, выиграл бы в ясности своих приложений, если бы вы заранее
определили роль внимания в умственных операциях души. И с другой
сто491
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
роны, ваше учение о внимании, быть может, не получило бы такого
одностороннего освещения, если бы вы имели в виду всю полноту
познавательных процессов, которых вы касаетесь в статье о законе перцепции.
Действительно, в вашем учении о внимании одинаково поражают и
необычайность его обоснования, и странная прихотливость полученных в нем
окончательных выводов.
На стр. 142 "Исследований"1 вы даете психологам весьма
благоразумный совет — не менять установившегося значения психологических
терминов, так как помимо других неудобств от подобных изменений в
нашем языке заключен богатый запас крайне важных психологических
фактов. Но, к величайшему сожалению, вы даете этот совет уже тогда,
когда сами его решительно нарушили в своем определении внимания.
Вместо психологического вы даете вниманию чисто физиологическое
определение и тем невольно искажаете первоначальный смысл этого
понятия. Внимание (на стр. 140) определяется как "целесообразная
реакция организма, моментально улучшающая условия восприятия".
Отправляясь от такого определения, вы получаете выводы, совершенно
неожиданные: реакции организма бывают рефлективные,
инстинктивные и волевые, следовательно, и внимание бывает рефлективное,
инстинктивное и волевое. Через это в категории актов внимания у вас попадают
чуть не все рефлексы. Для вас и поворот головы при прислушивании, и
глотательные движения, и даже выделение слюны (стр. 146) — все это
суть акты внимания. Странность такой классификации значительно
возрастает благодаря тому, что волевым вниманием вы считаете лишь
усиление и выделение части реального восприятия (или мыслимой нами
идеи) помощью воспоминаемых образов прежних восприятий (или
прежнего сознания данной идеи). Вы говорите (стр. 157): "В волевом
внимании к образу воспоминания подыскивается соответственное реальное
ощущение или по крайней мере более конкретное воспоминание;
напротив, во внимании инстинктивном... мы имеем обратный процесс: переход
от ощущения к его интерпретациям, от неизвестного и непонятного
реального восприятия к его объяснению. В этом состоит существенная
разница этих двух форм внимания, из которых первое (волевое) имеет целью
усиление, фиксацию данного психического состояния, а второе
(инстинктивное) — его понимание". Трудно яснее выразить ту, очевидно
парадоксальную, мысль, что всякое объяснение реальных фактов, всякая
догадка, всякая гипотеза, всякое понимание вообще — есть непременно продукт
только слепого инстинкта!
Здесь и далее ссылки на страницы относятся к книге H.H. Ланге «Психологические
исследования », представленной в качестве докторской диссертации, отчет о
защите которой изложен в данном разделе.
492
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Наконец, и без того крайне своеобразное воззрение на волевое
внимание у вас значительно осложняется решительным отрицанием внимания
пассивного (в его общепринятом различии от активного внимания). В этом
случае вы обнаруживаете крупную непоследовательность: если даже
всякое чисто рефлективное действие, влекущее за собою приспособление
организма к улучшенному восприятию, по-вашему, есть акт внимания, то как
не назвать вниманием невольное сосредоточение сознания на ярких,
интенсивных ощущениях, сосредоточение, которое всегда так или иначе
сопровождается приспособлением органов к наилучшему восприятию этих
ощущений? А в таком невольном сосредоточении, по обыкновенному
взгляду, и состоит пассивное внимание.
Можно сказать больше: если вы что и объясняете в своей теории
волевого внимания, то именно только деятельность пассивного внимания. По
этому поводу приходится указать еще на один существенный недостаток
вашей теории: рассуждая о волевом внимании, вы даже и не пытаетесь
определить природу и законы самой воли, направляющей течение наших
идей сообразно со своими целями и побуждающей нередко нашу мысль
останавливаться на таких предметах, которые не представляют для нас
непосредственного интереса и не вызывают никаких интенсивных ощущений
(в чем и заключается способность активного внимания). Упоминая о
таком направляющем воздействии воли, вы то ссылаетесь на
общепризнанные факты, то указываете на психическую механику, которая будто бы уже
объяснила все явления воли, то, наконец, отсылаете читателя к своему
собственному, еще не изданному сочинению "Элементы волевого движения",
в котором все вопросы о воле должны быть решены. То же, что даете вы
теперь, есть гипотетическая схема того физиологического процесса,
посредством которого воспоминания, однажды овладев нашим сознанием,
достигают благодаря присущему им моторному элементу иллюзорной
яркости и тем усиливают соответствующие им ощущения. Нет ничего
удивительного поэтому, что в конце концов мы получаем в вашем
исследовании лишь подробное и остроумно обставленное объяснение воздействий
вашего гипотетического механизма усиления воспоминаний на зрительные
и слуховые ощущения. Нельзя отрицать методологического достоинства
подобных гипотетических построений. Но вы делаете огромный
логический скачок, когда думаете, что объяснили в своей теории волевое
внимание в полноте его внутренних моментов. Конструктивная деятельность воли
в процессах познания и творчества, роль волевого внимания в актах
отвлечения и обобщения у вас не только не затронуты, но в вашей гипотезе
прямо не оказывается никаких данных для их обоснования и объяснения.
Таковы важнейшие замечания, которые я хотел сделать по поводу
вашей книги. Недостаток времени не позволяет мне остановиться на
некоторых ее частностях, например на исторических очерках учений о сознании
493
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
сходства и различия и теории внимания. Если вы согласны с
какими-нибудь из высказанных мною возражений, они должны, мне кажется,
внушать мысль о настоятельной необходимости быть осторожным в
изучаемой вами области душевных явлений. Позвольте пожелать вам неутомимо
и плодотворно действовать на избранном вами поприще, но не забывать и
его существенных трудностей. Еще раз повторю: никто не станет отрицать
великого значения психологического эксперимента; но в его современном
состоянии, применяемый к решению основных психологических проблем
о воле и разуме, он все же едва ли может заменить столь часто и
несправедливо осуждаемый метод психологической интроспекции».
H.H. Ланге так резюмировал1 свои ответы проф. Лопатину:
«1. Статья о действии гашиша. Помещая в "приложении" к своей
книге описание опыта с гашишем, автор ясно обозначил, что он придает
этой статье совсем иное, более частное значение, чем главному
содержанию книги, состоящему из двух "исследований"; статья же о гашише
названа лишь "психологической заметкой". Соответственно тому и всем
выводам, сделанным в этой статье, отнюдь не должно придавать всеобщего
значения. Но в частном, индивидуальном значении вывод о причинах так
называемых растяжениях времени и пространства сделан, можно думать,
на вполне достаточном основании, так как автор доказал, что расширение
пространства (в данном случае) не распространялось на малые движения,
а растяжение времени явилось лишь вслед за появлением болезненных
ощущений (стр. 285-287).
2. Так называемая мускульная реакция. Людвиг Ланге утверждал,
что иннервационное ощущение есть необходимое условие для получения
кратких, или так называемых мускульных, реакций; опыты же,
произведенные автором (стр. 12), показали, что и без такого предварительного
мускульного, или иннервационного, напряжения могут быть получаемы столь
же краткие реакции, т. е. что, следовательно, это иннервационное
напряжение не есть их истинная причина. В том, что реакционное движение
производилось автором без всякого специального внимания к нему, т. е. без
того, чтобы непрерывно иметь в сознании представление об этом
движении, нет ничего странного или даже нового: все, например, опыты
определения времени различения (Unterscheidungszeit) таковы у всех
экспериментаторов. Внимание к ходу опыта отнюдь не тождественно с иннервационным
Ответы диспутанта проф. Л.М. Лопатину и проф. С.С. Корсакову составлены им на
основании черновых записей происходившего на диспуте, а также на основании
письменного изложения возражений обоих оппонентов, и в некоторых пунктах
значительно дополнены и распространены диспутантом, сравнительно с тем, что
высказывалось во время прений. — Ред.
494
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
напряжением в руке, производящей реакцию. Сомневаться в том,
действительно ли сделанные автором опыты представляют мускульную реакцию,
вряд ли справедливо уже потому, что самое существование и характерные
черты этого типа реакций, ныне столь многократно описанные целым
рядом экспериментаторов, были первоначально указаны именно автором при
его совместной работе с Людвигом Ланге, и притом на основании
интроспекции.
3. Ступени ощущения. Почтенный оппонент требует описания этих
ступеней; но автору неизвестно, каким образом возможно описывать
какое-нибудь ощущение; можно лишь указывать условия, при которых
данное ощущение может быть испытано, и это сделано в книге; тот, кто повторит
эти опыты, испытает и эти ощущения. Оппонент выражает далее недоумение
по поводу второй ступени зрительных ощущений: что же, спрашивает он, мы
ощущаем, когда ощущение определенного цвета еще отсутствует? Однако,
в таком случае остаются еще отношения светотени, и они-то и составляют
вторую ступень в зрительных ощущениях (см. стр. 27), на которой сознание цвета
еще отсутствует. Ведь в каждом цветовом ощущении различают, как
известно, интенсивность, насыщенность и цвет; поэтому, если на второй ступени
цвет еще не ощущается, то два первые качества уже могут присутствовать.
4. Роль различения в определении ступеней ощущения. Оппонент
полагает, что вопрос о том, активны ли мы или пассивны в переходе от одной
ступени ощущения к другой его ступени, оставлен автором "совершенно
неразрешенным". Если, однако, автор утверждал, что эти ступени суть ступени
ощущения (стр. 32 и след.), то уже само собою разумеется, что это чисто
пассивный процесс для нашего сознания. Замечания на стр. 11 и 24-25 отнюдь
этому не противоречат, и автор полагает, что недоумение по этому поводу
у почтенного оппонента возникло вследствие смешения им методологии
исследования с самими исследуемыми предметами. Дело в том, что автор
определял времена реакции со второй и следующей ступени ощущения
следующим образом: реагент должен был заранее приготовиться реагировать
только на известное ощущение А; если же он получал какое-нибудь
другое ощущение В, то не реагировать: так, например, для определении
времени реакции со второй ступени зрительного ощущения реагенту
предписывалось ожидать какого-нибудь любого зрительного ощущения (все равно,
какого цвета), т. е. ощущения светотени; для получения же реакции с
третьей ступени зрительного ощущения реагент должен был ожидать
ощущения определенного цвета, в случае же иного цвета — не реагировать;
для проверки реагента вводились, по временам, такие контрольные
раздражения, на которые он должен был не реагировать. Следовательно,
во всех тех случаях, когда происходила реакция, она возникала отнюдь не
на чувство различия, а лишь на соответствие ожидаемого с полученным
ощущением; значит, эти опыты, поскольку они касаются регистрации
проис495
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
шедших реакций, вовсе не заключают различия. Вторым доказательством
тому же служит то обстоятельство, что число контрольных ощущений, на
которые не должно было реагировать, не влияло на длину времени реакции: если
бы здесь присутствовало сравнение и различение, то очевидно, число
сравниваемых элементов, напротив, удлиняло бы процесс (стр. 25,28,41-42). Итак,
акты различения не являются посредствующим звеном между найденными
ступенями ощущения. С гораздо большим основанием оппонент мог бы
утверждать, что при вышеупомянутой методике опытов является в виде
необходимого фактора процесс отождествления. Но это обстоятельство
многократно указано уже самим автором в книге (стр. 14-15, 22, 33, 39 и др.),
а вместе с тем (на стр. 34, § 2 и 3) приведены и достаточные, как полагает автор,
основания, почему тем не менее нельзя объяснять разность полученных
времен реакций разностями во временах отождествления, но необходимо
считать их обусловленными ступенями сознания самых ощущений.
5. Чувство разности. Вопрос о чувствах различия и сходства
затронут в диссертации лишь по поводу рассуждений Вундта и Дондерса,
имеющих отношение к методике исследования "о законе перцепции". Поэтому
и мысль о том, что чувство различия имеет сравнительно с чувством
сходства вторичный и более сложный состав, высказана лишь, так сказать,
мимоходом и в качестве правдоподобной гипотезы. Будет ли принята или
отвергнута эта гипотеза, для исследования о законе перцепции безразлично.
Но, не выдавая этого гипотетического утверждения за доказанное, автор,
однако, никак не может признать, что те возражения, которые сделаны
против этой гипотезы A.M. Лопатиным, сколько-нибудь ее опровергали,
a) из того, что сознание различия требует больше времени, чем сознание
тождества, конечно, не вытекает необходимо, что первое более сложно,
чем второе: но, с другой стороны, если сознание различия есть сознание об
отсутствии сходства, как предполагает гипотеза, то оно, конечно, должно
являться позднее, будучи констатированием невозникновения чувства
сходства; этот априорный вывод и был подтвержден опытами (на стр. 43-44);
b) оппонент видит какое-то противоречие в том, что автор, отрицая
существование специфического чувства различия, признает вместе с тем
ощущение несоответствия ожидаемого с действительным. Однако
противоречия в этом нет, ибо отрицается интеллектуальное чувство различия,
а признается существование соответственного эмоционального
возбуждения. Подобно тому, как должно различать между теоретическим
чувством сходности и эмоциональным возбуждением или удовольствием,
доставляемым нам сходством, так и простое теоретическое чувство разности
есть не что иное, как тот сложный комплекс из внезапного испуга,
неожиданности, удивления, ощущений несоответствия аккомодации органа
чувства с падающим на него впечатлением, выразительных движений
вздрагивания и т. под., — комплекс, которого существование признано на стр. 45:
496
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
теоретического чувства различия и здесь нет. с) Литература по вопросу о
чувствах сходства и несходства не только не игнорируется автором, но ее
обозрение составляет особое приложение в книге (стр. 64-81).
6. Теория суждения. Недоумения почтенного оппонента по поводу
теории суждения, выставленной в диссертации, зависят, по-видимому, от
того, что он придает психологическому и эмпирическому исследованию
автора смысл метафизический, которого, однако, последний вовсе не имел
в виду. Было бы чудовищно сказать, что субъект суждения есть
метафизическая субстанция. Этот печальной памяти философский термин был
употреблен автором, как прямо указано (на стр. 58), лишь для обозначения
того обстоятельства, что субъект в суждении часто представляет вещь или
предмет, которого свойства не исчерпываются никаким конечным рядом
предикатов, т. е. что всегда могут оказаться при новых условиях и новые
предикаты. Но, конечно, это отнюдь не значит, чтобы предмет не был лишь
суммой качеств, хотя и неопределенно большою, и в этом смысле автор и
назвал субъект величиной иного порядка, чем предикаты (стр. 58), а
величины высшего порядка суть все же величины. Первая ступень ощущения —
простой «толчок в сознании» — обладает именно таковым же свойством,
сравнительно со следующими ступенями: он есть «нечто» еще не
определившееся, могущее еще получить любой предикат, и все таковые
предикаты все-таки не исчерпают возможности иных (при новых условиях). — Этим
объяснением устраняется и второе возражение оппонента. Если бы
психологический субъект суждения был метафизической субстанцией, то было
бы действительно непонятно, как возможно какие-нибудь ступени
ощущения считать за субъекты, ибо все эти ступени в таком толковании были
бы равно предикатами. Но если субъект, качественно, есть то же самое, что
его предикаты, различие же их состоит в объеме, то понятно, что
неопределенность первых ступеней ощущения и большая дифференцированность
следующих ступеней, действительно, находятся в отношении субъекта и предиката,
и притом так, что, например, вторая ступень ощущения, являющаяся
предикатом для первой, в свою очередь, становится субъектом для третьей, в
соответствии с изложенным (на стр. 55-56 диссертации) взглядом Габеленца на
природу психологического субъекта и предиката. Наконец, третье
возражение оппонента, именно, что суждения, выражающие разные ступени
ощущения, являются противоречащими друг другу, неосновательно потому, что
суждения эти никогда не бывают отрицательными: так, например, вторая ступень
зрительного ощущения выразится не суждением: я вижу нечто, что не есть
красное (как предполагает оппонент), а суждением: я вижу нечто, имеющее
известную световую интенсивность, а третья ступень — суждением: эта
световая интенсивность имеет красный цвет. Никакого противоречия
между этими суждениями нет — так же, как нет противоречия в суждении: я
слышу громкий звук, и этот звук есть тон do.
497
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
7 Биологическое значение закона перцепции. Значение главы IV,
трактующей о биологическом происхождении ступеней перцепции, состоит,
конечно, не в приложении термина «перцепция», который употребляется
автором в ином, чем общепринятое, значении (что и оговорено в книге,
стр. 35-36), а в попытке выяснить параллелизм ступеней перцепции
человека со ступенями филогенетического развития ощущений (для чего
приведен ряд фактов из области зоопсихологии, стр. 36-37), и таким образом
объяснить происхождение ступеней перцепции у человека. Этому
объяснению сам автор придает лишь гипотетическое значение (см. стр. 35),
но гипотеза эта не только не лишняя в исследовании, а, напротив, дает ключ
к объяснению или пониманию того фактического материала, который
собран в предыдущих главах.
8. Связь между двумя исследованиями: о законе перцепции и о
волевом внимании. Роль внимания принята в соображение в исследовании о
законе перцепции, как то видно из стр. 13, 30 и др.
9. Исследование о внимании. (Подробнее см. в ответах С.С.
Корсакову). Автор полагает, что его употребление термина «внимание» вполне
соответствует общепринятому, как то видно из обзора терминов внимания в
индоевропейских языках (данного на стр. 142-143 и 149). В частности,
выражение "прислушивайся", т. е. слушать со вниманием, явно заключает в
себе и поворот головы к источнику звука, а термин "смаковать", т. е.
сосредоточить внимание на ощущении вкуса, — своеобразные движения языка,
сопровождающиеся усиленным выделением слюны, благодаря чему
вкушаемое вещество растворяется и тем возбуждает вкусовые ощущения.
Теория внимания, защищаемая автором, не есть ни исключительно
психологическая, но и не физиологическая, а психофизическая, так как она
заключает и те и другие элементы (о роли воспоминаний см. стр. 179-188,
о роли движений — стр. 188 и след.). Соединение обоих этих факторов
автор считает безусловно необходимым, так как человек есть
психофизический организм, а психика, взятая в отдельности, — лишь абстракция.
В частности, особенно важно держаться этого принципа при исследовании
всех, т. наз., душевных актов, которые суть не что иное, как рефлексии в
идеях реальных актов. "Парадоксальная мысль" о том, будто всякое
объяснение и всякую догадку должно считать продуктом слепого инстинкта,
не принадлежит автору, ибо из того, что он считает функцией
инстинктивного внимания — интерпретации ощущений, так же мало следует, что
всякая интерпретация есть инстинкт, как из того, что люди смертны, не
следует, что всякое смертное существо есть человек.
Так называемое, пассивное внимание выделено автором из области
исследования потому, что оно не есть процесс, моментальное
динамическое изменение, а лишь статическое отношение интенсивности
представлений; эти явления могут быть даже названы точнее специальною
чувстви498
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
тельностью. Поэтому выделение этой группы явлений из области
внимания, как особого процесса реакции организма, моментально улучшающей
условия восприятия (см. стр. 140), не только не есть "крупная
непоследовательность", но, напротив, логическая необходимость. Одно из двух: или
определение внимания, данное в книге, должно быть изменено, или
явления так называемого пассивного внимания не суть, в действительности,
внимание. Вопрос об отношениях воли к вниманию есть, в сущности, вопрос о
мотивах внимания. Этот вопрос был намеренно выделен из исследования,
имеющего целью изложить лишь средства, или механизм внимания.
Впрочем, та общая теория волевых явлений, на которую в некоторых местах
книги сделаны ссылки, не только составит предмет следующего тома
"Психологических исследований", но в существенных чертах уже
опубликована автором три года тому назад, в статье "Элементы воли" (в 4-й книжке
"Вопросов философии и психологии").
10. О современном значении психологического эксперимента. Автор
решительно не может согласиться с различием, полагаемым почтенным
оппонентом между интроспекцией и экспериментом. Как подробно
показано на стр. XXIII — XXXIII диссертации, психологический эксперимент
и есть прежде всего самонаблюдение, но только самонаблюдение
улучшенное, методическое, урегулированное. Поэтому, не самонаблюдение
вообще осуждал автор в своей книге, а лишь интроспекцию плохую, не
методическую, которая, однако, в таком ходу у противников эмпирической
психологии. И в этом смысле, новая экспериментальная психология — не
противник английской эмпирической психологии, но ее естественное
восполнение и развитие».
Второй официальный оппонент — проф. С. С. Корсаков сделал Н.Н.
Ланге следующие замечания:
«Прежде всего я, как представитель естественно-научной отрасли
знаний, считаю своею обязанностью выразить вам полное сочувствие по
поводу метода, которого держитесь вы в ваших исследованиях. Метод ваш есть
метод натуралиста. Этого метода давно ждала психология... Несмотря на
то, что психология, изучая явления душевной деятельности, изучает,
следовательно, явления природы, метод естественных наук не считался для
нее необходимым. Хотя врачи и вообще натуралисты постоянно вносили
богатый материал в научную психологию, но все-таки
профессиональными психологами считались не натуралисты; это доказывается и тем, что
психология официально читается обыкновенно лишь на
историко-филологическом факультете. Лишь в последнее время замечается новое
направление между психологами, и вы являетесь одним из самых видных
представителей этого направления. Ваши исследования настолько проникнуты
духом естествознания, что, конечно, книга ваша могла бы быть с успехом
499
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
представлена, как диссертация, и на другом факультете. Но то
обстоятельство, что в эти исследования вложены и знания ваши как филолога, делает
ее еще более ценною. Воспользовавшись данными сравнительного
языкознания, вы еще более увеличили значение вашего труда, который может
служить хорошим доказательством плодотворности экспериментального
метода при изучении явлений душевной жизни.
Считая честью принять участие в сегодняшнем диспуте, я позволю себе
сделать первое замечание по поводу того, что книга ваша не представляет
единой, цельной работы. Она, в сущности, состоит из четырех отделов, не
столько связанных между собою, сколько, так сказать, сброшюрованных.
Я полагаю, что во многих отношениях книга выиграла бы, если бы
отдельные части ваших исследований были более тесно соединены между собою.
Теперь же приходится к ним относиться как к отдельным статьям и
разбирать их по порядку.
Начну с первой статьи. В ней вы говорите о значении
экспериментального метода в психологии, указываете его выгоды и настаиваете на том,
чтобы при университетах устроены были психофизиологические
лаборатории. Вы доказываете необходимость этого как тем утверждением, что в
настоящее время прогресс психологии связан с введением
экспериментального метода, так и примером иностранных университетов, устроивших у
себя психофизиологические лаборатории.
Несомненно, что всякое расширение учебно-вспомогательных
учреждений при университетах желательно, и я совершенно согласен с вами, что
лаборатории с необходимыми для изучения психических явлений
инструментами должны быть при университетах, но ваш способ доказательства
этого положения кажется мне не таков, каков он должен быть. По моему
мнению, вы больше доказали бы необходимость изучения психологии
путем эксперимента, если бы вместо теоретических соображений и примеров
иностранных университетов привели фактически материал, т. е. собрали
бы все результаты, которые дал для науки экспериментальный метод.
Именно этого-то вы и не сделали в вашем введении, ограничившись
утверждением, которое многим может показаться недостаточно обоснованным,
что именно во введении экспериментального метода заключается залог
прогресса в психологии. Правда, ваши дальнейшие статьи, помещенные в
этой же книге, сами говорят за значение этого метода; и доказывают это
значение лучше, чем теоретические рассуждения во "Введении", но еще
более были бы убедительны ваши доводы, если бы фактический
материал, доказывающий действительную плодотворность этого метода, был
собран вполне.
Далее, говоря о необходимости устройства кабинетов для
экспериментальной психологии, по крайней мереу при некоторых русских
университетах, вы высказываетесь так, как будто бы этого до сих пор нет.
500
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
А между тем такие кабинеты есть. Есть, например, психофизиологическая
лаборатория, устроенная проф. В.М. Бехтеревым в Казани. Записка о ней
даже с фотографией есть в изданиях международных конгрессов, бывших
в Москве в 1892 году; есть лаборатория в Юрьеве, устроенная Крепелином
и в настоящее время руководимая проф. Вл.Ф. Чижом; есть
приспособления для психометрических исследований и в Москве, и в Петербурге, и в
Харькове. Из этих лабораторий выходили и выходят работы, которые,
конечно, вам известны (работы проф. Чижа, работы Валицкой,
Воротынского, Краинского, Заборского и других). Правда, эти лаборатории находятся
в заведовании не профессиональных психологов, т. е. не составляют
учреждений историко-филологического факультета, но ведь от этого вряд
ли дело страдает, так как психология, по моему глубокому убеждению,
есть наука натуралистическая и для производства экспериментов, которое
могут быть действительно ценны для психологии, должна быть, конечно,
значительная доля специального экспериментаторского навыка. Нет
никакого сомнения, что значение Вундтовской лаборатории для психических
исследований потому и велико, что он по первоначальной своей профессии —
физиолог и сотрудник Гельмгольца.
Во "Введении" есть еще одно место, на которое я желал бы сделать
маленькое замечание. На стр. XXXVI, вы, говоря о гипнотизме, бросаете
как бы в скобках такую фразу: "Не говоря уже о том, что большинство
клиницистов отвергает вредные последствия гипнотизма" и т. д. Я с
мыслью, высказанною в этой фразе, не могу согласиться. Есть некоторые
клиницисты, которые отвергают вред гипнотизма, но уж никак нельзя сказать,
что их — большинство. Напротив, большинство признает вред, могущий
быть при неправильном гипнотизировании; оттого и запрещаются
публичные представления с гипнотическими сеансами и запрещается неврачам
заниматься гипнотизацией. Я сам наблюдал случаи вредных последствий
гипнотизации и считаю своею обязанностью восстать против высказываемого
вами положения и предупредить могущие быть последствия вашего
утверждения, что большинство врачей считают применение гипнотизма делом
невинным и безвредным.
Переходя ко 2-й статье — о "законе перцепции", я прежде всего
считаю нужным повторить, что как она, так и "теория волевого внимания"
служат более, чем теоретические рассуждения, доказательством в пользу
экспериментального метода. При помощи этого метода вам удалось получить
такие ценные результаты, которые всякого читателя убедят в том, что
метод этот должен быть не заброшен, а наоборот, культивирован.
Не сомневаясь в полученных вами выводах, касающихся законов
перцепции, я однако должен высказать, что в самой постановке опытов, на
основании которых вы делаете ваши выводы, есть недостатки. Вы на них
сами указываете на стр. 6, 7-й и 8-й, но мне думается, что их можно было бы
501
ЧАСТЬВТОРАЯ
избежать, если бы вы так же живо чувствовали эти недостатки, как это
должно бы было быть. Ваши оговорки, что неблагоприятные условия, при
которых вы экспериментировали, не влияют на чистоту опытов, для меня
не очень убедительны. Во-первых, в отношении инструмента. Вы
пользовались не аппаратом Hipp'a, а камертоном, делающим 100 колебаний в
секунду. Между тем цифры, приведенный у вас на стр. 9 и 43, показывают
тысячные доли секунды. С вашим прибором тысячные доли секунды не могут
быть прямо даны... Другое неблагоприятное условие — неустраненное
влияние шума; я очень сомневаюсь, чтобы и на опытного экспериментатора
это не имело влияния. Третье и наиболее неблагоприятное условие — это
то, что опыты были производимы лишь на вас, и на вас одних. Не говоря
уже о значении субъективности, предвзятой идеи и т. п., я считаю, что
такие опыты приобретают значение главным образом тогда, когда
произведены над несколькими лицами. Я полагаю, что это было и не особенно
трудно, а между тем не только дало бы вескость вашим выводам, но, может
быть, дало бы вам возможность сделать более подробное описание
душевного состояния на различных ступенях перцепции.
Общий вывод, к которому вы приходите, таков: процесс всякого
восприятия состоит в чрезвычайно быстрой смене целого ряда моментов или
ступеней, причем каждая предыдущая ступень представляет психическое
состояние менее конкретного, более общего характера, а каждая
следующая — более частного и дифференцированного. Сначала, под влиянием
какого-либо раздражения, является толчок в сознании, затем — сознание,
какого рода раздражение, далее — сознание более частных свойств этого
раздражения. Об этом выводе вы на стр. 2 говорите, что он на "первый
взгляд кажется удивителен".
Я позволю себе возразить вам, что этот вывод не только неудивителен, но
он даже, так сказать, предусмотрен. Он отчасти ведь согласуется и со
взглядом Лейбница на сознание; вы сами говорите на стр. 88, что он различает три
ступени сознания: темное сознание, сознание ясное, но спутанное и сознание
раздельное. А натуралисты и психиатры давно уже имеют такое
представление о ступенях сознания. Так, физиолог А. Герцен, описавший состояние,
испытываемое при возвращении сознания после обморока, различает четыре
фазы: в первой есть только крайне смутное сознание существования; во
второй — представления сознаются, но в хаотическом беспорядке; в третьей
является сознание того, что принадлежит к "я" и что к "не я"; в четвертой
является вопрос: "почему" и сознание отношений явлений между собою.
Хотя в детальном определении характера фаз эти фазы Герцена
отличаются от ваших ступеней перцепции, но, в сущности, и у него дело
сводится к тому же основному закону. Вот почему мне и кажется, что закон,
выводимый вами, не только неудивителен, но даже прямо согласуется с тем,
что мы знаем о явлениях сознания на основании наблюдений.
502
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В сущности, ведь выводимый вами закон есть закон, относящийся к
"сознанию", и, сколько я мог понять, вы сами, называя его законом
перцепции, именно и считаете его относящимся к сознанию. Но тут у вас является
какая-то двойственность, вызывающая недоумение. Называя ваш закон
законом перцепции, вы на стр. 31 говорите, что ваш закон относится к
самим ощущениям, что это есть "закон ощущений", а не воспризнания их.
Мне думается, нельзя называть этот закон законом ощущений.
Во-первых, ведь нельзя считать решенным, что все ощущения сознательны. Есть
мыслители — и, по-видимому, очень ценимые вами, которые считают, что
ощущения могут быть и ниже порога сознания. Так, у вас же на стр. 124
приведены слова Мейнерта: "Возбуждения и ощущения продолжаются и
за пределами сознания". Следовательно, вопрос о том, всегда ли
ощущения сознательны, есть еще проблема, и не следует ее предрешать,
смешивая явления, относящиеся к сознанию, с собственно ощущениями.
Затем я не могу согласиться, чтобы в ваших ступенях перцепции не
было воспризнания. Вряд ли можно сомневаться, что, если не в первой, то
во второй и в третьей уже происходит процесс воспризнания.
Ведь всякое восприятие, по крайней мере у человека с несколько
развитою психикой, происходит так, что ощущение встречает уже известный запас
воспоминаний, и всегда мы имеем при восприятии: ощущение плюс то или
другое воспоминание. Смотря по сложности этих воспоминаний, может быть,
конечно, и различная продолжительность самого акта восприятия —
следовательно, разница во времени восприятия будет зависеть не от ощущения, а от
сопутствующих ассоциативных процессов. Если мы подготовимся, т. е.
предварительно совершим часть ассоциативной работы, мы можем даже
искусственно сократить время восприятия, как это видно из опытов восприятия
знакомых объектов, приводимых вами на стр. 48.
Правда, в этих же опытах есть одно обстоятельство, которое как
будто подтверждает ваш взгляд, что мы имеем в ваших ступенях перцепции
ступени ощущения — это именно то, что мы различаем качество
впечатления пропорционально числу моментальных освещений. Но эти факты
могут быть истолкованы и иначе. Очень может быть, что число моментальных
освещений имеет значение не столько для процесса самого ощущения,
сколько для сохранения его в памяти. Весьма вероятно, что ассимиляция
ощущения с запасом воспоминаний совершается не моментально, и
поэтому нужно, чтобы ощущение сохранялось в памяти известное время; если
оно исчезнет из памяти очень быстро, то ассимиляции не произойдет, хотя
бы ощущения и были. Этим я объясняю то, что восприятие и при
моментальном освещении совершается вполне, если интенсивность впечатления
очень велика. Так, при освещении молнией мы воспринимаем очень
детально целый ряд впечатлений — именно потому, что след от того, что было
воспринято нами в момент освещения молнией, долго остается в нашей
503
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
памяти (вследствие интенсивности ощущения), и мы разбираемся в нем
уже после прекращения стимула, вызвавшего самое ощущение.
Таким образом, для меня кажется решительно недоказанным ваше
утверждение, что формулируемый вами закон есть закон ощущений. Для
меня это — закон перцепции, причем на некоторых ступенях перцепции,
несомненно, происходит и процесс воспризнания.
В этом же отделе я хотел обратить ваше внимание еще на одно место,
именно, где вы говорите о ложных воспоминаниях. Явление, о котором идет
речь, знакомо всякому. Оно состоит в том, что то или другое жизненное
положение вдруг кажется нам уже пережитым: нам чувствуется, что мы
уже однажды были точь-в-точь в таком же положении, переживали
буквально ту же последовательность впечатлений. Это явление обыкновенно
наступает вдруг и быстро кончается; оно бывает и у здоровых, и у больных.
Объясняя это явление, по поводу одного резкого примера, описанного
Зандером у эпилептика, вы говорите на стр. 54: "Слабоумному эпилептику все
новое кажется уже ранее пережитым, потому что как это новое, так и
прошлое окрашены для него в одинаковый эмоциональный характер. Он
слышит новое, но это новое для него все равно, что старое, ибо не возбуждает в
нем новых мыслей, желаний", и т. д. Я решительно не согласен с таким
объяснением. Самое описание Зандера, описание мучительного состояния
больного, который постоянно чувствует ужас и удивление по поводу своих
ложных ощущений, противоречит такому объяснению. Как вам, вероятно,
известно, объяснений этого явления довольно много, но ваше объяснение я
считаю одним из наименее удовлетворительных. Я лично смотрю на это
явление как на иллюзию воспоминания. По моему мнению, при
воспоминании чего-либо у нас является особое, своеобразное ощущение, служащее для
сознания сигналом той или другой степени точности воспоминания.
Представьте себе, что это же самое ощущение явится помимо воспоминания и
присоединится к восприятию современных впечатлений — и тогда они явятся в
сознании ассимилированными с ощущением, служащим сигналом того, что данное
впечатление есть повторение чего-то пережитого. По сущности, это будет
ложное восприятие, т. е. иллюзия.
Перехожу к третьему отделу вашей книги, к "Теории волевого
внимания" и остановлюсь на самых существенных выводах ваших. Один из
самых важных пунктов этого отдела есть определение внимания, которое,
по-вашему, "есть реакция организма, моментально улучшающая условия
восприятия "(стр. 140). Соответственно этому определению, вы разделяете
внимание на рефлективное, инстинктивное и волевое (стр. 140). Мне
думается, что как самое определение недостаточно, точно так и вытекающее из него
разделение вряд ли может быть принято в той форме, как вы желаете. Что
такое рефлективное внимание? Рефлективным вниманием вы называете "все
те движения, служащие для лучшего восприятия раздражений, которые
504
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
возникают как рефлексы от ощущения этих раздражений"... "Никакой
эмоциональной окраски эта форма внимания не имеет"... "В области
зрения сюда принадлежат — рефлекс аккомодации хрусталика на ближайшие
расстояния, далее — рефлексы зрачка, особенно же рефлективное
сведение осей зрения, пассивное направление взгляда, а также поворот
головы"(стр. 144). Уже Л.М. Лопатин обратил внимание на это место и
спрашивал вас, неужели же рефлекторное отделение слюны будет актом внимания.
Я ставлю такой же вопрос и позволю себе его несколько видоизменить.
Представьте себе, что кто-либо заболел сведением шеи вбок (torticollis).
У него будет расстроена способность поворачивать голову; неужели же
можно про такого больного сказать, что у него расстроено внимание? Мне
кажется, что ваша ошибка заключается в том, что вы берете в соображение
лишь одну часть того сложного процесса, который лежит в основе акта
внимания. Отрицая эмоциональный элемент в рефлективном внимании, вы,
по моему мнению, поступаете неправильно. В каждом случае, когда можно
говорить об акте внимания, можно найти и эмоциональный элемент как
мотив, и затем — сочетание идей по известному направлению. Эмоция, хотя
и совершенно неожиданная, является стимулом и самых элементарных
случаев пассивного внимания; без нее то, что вы называете рефлективным
вниманием, останется простым рефлексом, а не актом внимания. Ввиду
этого я и не вижу основания делить внимание на те три категории, на
которые вы делите его; раз везде есть эмоция, вы не имеете существенного
основания для вашего разделения; вся разница будет в степени сознательной
активности нашего "я".
Тут же я отмечу одно место, которое возбуждает недоумение. На стр. 190
вы говорите: "Внимания нет там, где привносимый нами субъективный
элемент не имеет для нас реального характера, где мы его отличаем от
восприятия, где нет иллюзии". Для меня странно, как это внимание, которое, по
вашему определению, должно улучшать условия восприятия, здесь
является извращающим восприятие. Я думаю, наоборот, именно при помощи
внимания-то мы и освобождаемся от иллюзии и воспринимаем по
возможности то, что соответствует действительности. Иллюзии чаще всего
бывают тогда, когда внимание слабеет.
В этом отделе самые существенные главы это те, в которых
излагаются ваши исследования над колебаниями внимания и ваша
психофизиологическая схема механизма акта внимания. Эти главы имеют весьма большие
достоинства; ваши выводы о колебании внимания дают нам фактические
основания для наиболее удобной точки зрения на некоторые психические
явления, ваша схема более, чем какая-нибудь другая, гармонирует с тем,
что мы знаем в настоящее время о функциях мозга. Правда, как и всякая
схема, в которой приписывается определенная роль некоторым органам,
которых функция еще гадательна, как, например, функция зрительного
505
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
бугра, и ваша схема условна, но вы, конечно, и не будете упорно стоять за
все ее детали, — в ней важна основная идея, а она очень остроумна и,
вероятно, близка к истине.
Мне остается сказать несколько слов о последней статье — "О
действии гашиша". Я очень ценю это ваше исследование; явления, которые вы
наблюдали, имеют большой интерес, так как представляют сходство с тем,
что наблюдается при некоторых формах душевных заболеваний;
наблюдения такого рода, как ваши, имеют в настоящее время для психиатров
особенное значение, так как в учении о душевных болезнях все более и более
приобретает значение воззрение на некоторые психозы, как на явления
самоотравления организма. Итак, повторяю, что я очень ценю ваше
наблюдение над теми изменениями, которые в вас произошли под влиянием
гашиша, но все-таки должен сделать замечание, совершенно аналогичное тому,
которое сейчас было сделано A.M. Лопатиным. Делая из вашего опыта
выводы, вы говорите: "При отравлении гашишем интеллектуальные явления,
вообще говоря, сохраняются неизменными, в то время как явления
аффективные крайне усилены, а волевые крайне ослаблены. Такова общая
картина этого состояния".
Согласитесь, что, принявши один раз 6 гран гашиша, вы не могли
говорить об отравлении этим ядом вообще. Для явлений отравления имеет
значение и индивидуальность, и доза яда. У другого человека и при большей
дозе явления могли бы быть другие. Нет никакого сомнения, что при
большей дозе гашиш значительнее влияет на интеллектуальную деятельность и
даже на время прекращает ее.
Заканчивая свое возражение, я опять повторю, что считаю вашу
диссертацию имеющею высокие достоинства. Она представляет большой
интерес и для нас, врачей, имеющих дело с расстройствами душевной жизни.
Ваши психологические исследования дают обильный материал как для
постановки вопросов, так и для разъяснения некоторых сложных явлений,
наблюдаемых у душевнобольных».
Ответы H.H. Аанге на замечания проф. С,С. Корсакова сводились в
существенном к следующему:
«1. Об отсутствии связи между частями диссертации. Хотя
исследования о законе перцепции и о внимании, действительно, представляют
два разных и лишь отчасти (см. стр. 15 и 187) связанных вопроса, однако,
каждый из них изучен в диссертации по возможности в совершенной
полноте, так что разрозненность частей книги есть следствие свойств
исследуемых предметов, а не метода изучения. Притом именно монографическая
форма наиболее соответствует современному положению психологии как
науки экспериментальной и не метафизической. Автор намерен дать
целый ряд таких монографий, в убеждении, что окончательная
систематиза506
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ция в настоящее время преждевременна, и попытки ее будут скорее
тормозить прогресс знания, чем ему способствовать.
2. О психофизических лабораториях. Говоря о необходимости
учреждения при университетах психологических лабораторий, автор
умолчал не только о деятельности психофизических кабинетов при кафедрах
психиатрии, но и о деятельности физиологических лабораторий, из
которых, однако, выходит, конечно, гораздо большее число психологических
работ. Причина этого лежит в самой задаче, поставленной автором,
именно — показать необходимость учреждения самостоятельных
психологических кабинетов. Автор вполне разделяет взгляд Мюнстерберга на
необходимость в настоящее время создания в университетах отдельной
кафедры психологии — отдельной как от философии, так и от физиологии
и объединяющей в себе всю огромную совокупность знаний психофизики,
общей психологии, психологической антропологии, зоопсихологии и проч.
Успешное занятие психологией, несомненно, предполагает как
общефилософское образование, так и основательные сведения в физиологии, но тем не
менее психология не есть ни философия, ни физиология, а самостоятельная
эмпирическая наука, имеющая свой коренной источник знания — в
самонаблюдении, улучшенном экспериментом (ср. Введение, стр. XXIII).
Вполне признавая те великие услуги, которыми психология обязана
физиологам (см. стр. XXXI) и врачам (стр. XXXIV), автор, однако, полагает, что
исключительность в этом отношении не только была бы гибельна для
успехов психологии, но и вредна для самой физиологии; можно, например,
думать, что возрождающееся ныне в биологии бесплодное учение о
жизненной силе есть именно результат недостаточного знакомства биологов с
результатами эмпирической психологии. Поэтому автор и настаивает на
необходимости самостоятельной кафедры психологии и на учреждении при
ней самостоятельных психофизических кабинетов и полагает, что задача
этих учреждений лишь неполно может быть решена лабораториями
психиатрическими и физиологическими.
3. Вред гипнотизирования Автор не решает этого вопроса, но
осторожно говорит, что "конечно, надо ограничить приложение внушения
(к исследованию психологических проблем) лишь теми субъектами,
которые обращаются к его помощи ради терапевтических целей, и притом эти
опыты должны быть производимы врачом или по крайней мере под его
наблюдением" (стр. XXXVII). Критическая оценка мнения о вреде
гипнотизации, данная Молем, представляется автору наиболее основательной.
4. Методологические замечания. Тысячные секунды, внесенные
автором в таблицы, представляют результаты вычисления средних, прямому
же наблюдению были доступны лишь времена до 1/4-1/5 сотой секунды.
Вполне признавая поэтому, что с точки зрения методологической не
следовало вносить в таблицы тысячных секунды, автор, однако, считает
необ507
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ходимым заметить, что он не делал ни одного вывода на основании этих
цифр. Что касается до шума, то вряд ли он мог оказать какое-либо
влияние: шум от вращения кимографа вполне ничтожен и притом совершенно
однообразен. Наконец, относительно субъективности наблюдений
см. мнение автора на стр. 8 его труда.
5. Закон перцепции "Удивительность" ступеней восприятия состоит не
в том, что о них никто не говорил: еще точнее, чем А. Герценом, указаны были
эти ступени Г. Спенсером, о чем упоминается и в книге (стр. 92). Странность
факта состоит в том, что в ощущении, признаваемом обыкновенно за
простое и первичное данное сознания, обнаруживаются несколько стадий, из
которых последние обусловлены первыми. Если б и существовали
бессознательные ощущения, то во всяком случае стадии перцепции, указываемые
автором, никоим образом не могут к ним относиться, ибо даже первая
стадия определялась реакционным движением на "толчок в сознании".
6. Ступени перцепции представляют ли последовательные стадии
в самом ощущении или только в ассоциациях? Это второе толкование,
защищаемое С.С. Корсаковым, было, как известно, выставлено Г.
Спенсером. В диссертации посвящено несколько страниц его опровержению
(стр. 32-35), причем автор ссылается, во-первых, на непонятность такой
последовательности в воспоминаниях, если она не предобразована в
ощущениях, а во-вторых, на результаты опытов моментального освещения
(стр. 49 и след.). Почтенный оппонент старается ослабить доказательную
силу этих опытов, объясняя их результаты тем, что известное число
последовательных освещений нужно для сохранения ощущения в памяти, а не
для простого его сознания. Такое предположение, будучи само по себе
бездоказательным, представляется вместе с тем весьма мало
правдоподобным, если мы рассмотрим его следствия. Действительно, в таком случае
пришлось бы предположить существование трех раздельных процессов:
ощущения, укрепления его в памяти и ассимиляции (ассоциации), вместо
двух общепризнанных: ощущения и ассимиляции; затем, оказалось бы, что
хотя процесс ощущения моментален и не заключает, в смысле факта
сознания, никаких стадий, укрепление этого моментального ощущения
происходит в ряде стадий; чем обусловлено это последовательное
укрепление элемента однородного и моментального, было бы совершенно
непонятно; далее, процесс ассимиляции, как не отрицает и сам оппонент,
представляет такие же стадии; но тогда, как в нашей гипотезе, эти
последние стадии суть отражения в идеях стадий сознания ощущения, для
оппонента эти ассимиляции, несмотря на их явно вторичный характер, должны
опять явиться первичным и необъяснимым фактом, ибо нельзя же
признать, что последовательность ассоциации, т. е. качественно различных
идей, есть следствие последовательного укрепления ощущения в памяти,
т. е. его чисто формальной и бессознательной фиксации, без всякого
изме508
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
нения в его качественном составе. Наконец, не будет ли выделение
самостоятельного процесса укрепления ощущения в памяти из процесса
сознания этого ощущения, явным гипостазированием абстракции?
7. О парамнезии. Автор признал, что его объяснение недостаточно,
причем, однако, указал, что вопрос этот является для его задачи
второстепенным и, так сказать, вводным1.
8. Рефлективное внимание. Почтенный оппонент полагает, что те
движения, улучшающие восприятия, которые автор обозначил термином
"рефлективное внимание", не должны быть называемы вниманием.
Заметим прежде всего, что это возражение может иметь или номинальное, или
реальное значение. В первом случае оно указывает на то, что терминология
автора не соответствует общеупотребительному значению слова
"внимание"; во втором, что между тем, что автор называет рефлективным
вниманием, с одной стороны, и инстинктивным — с другой, существует столь
радикальная разница, что общий для обоих случаев термин не имеет
достаточного содержания. Что касается до первого случая, то, не говоря уже о
праве всякого исследователя употреблять термины в своеобразном
значении (если только терминология эта проведена последовательно), автор
полагает, что его обозначения вполне соответствуют духу языка,
различающему между глаголами; видеть и смотреть, осязать и щупать, обонять и
нюхать, и т. д.: первые термины обозначают простое ощущение, вторые —
ощущение плюс внимание, т. е. ощущение при целесообразной активной
установке органов чувств (ср. также в книге стр. 142-143). Но автор
полагает, что оппонент имеет в виду не столько эту номинальную сторону
терминологии, сколько реальную, т. е. что он сомневается в том,
действительно ли между тем, что автор именует рефлективным вниманием, и вниманием
волевым существует важное сходство и не слишком ли глубоко их
различие. На это автор имеет возразить следующее: а) все исследование о
волевом внимании, особенно же глава VI, полны фактов, доказывающих, что
сущность волевого внимания состоит тоже в двигательных
приспособлениях, и что поэтому существует теснейшая связь между ним и
рефлективными приспособлениями; конечно, паралич какой-нибудь одной группы
мышц не разрушает всего внимания, но, с другой стороны, вряд ли можно
сомневаться, что, например, двигательная афазия должна отразиться и на
внимании (ср. стр. 237), что выпадение известной группы двигательных
образов может вести к соответственному ограничению сферы внимания; при
этом надо только помнить, что устранение известных форм движения и
Может быть, эта уступка была слишком поспешной: в июльском номере «Revue
philosophique » Ж. Сури сообщает о новом объяснении парамнезии, данном
известным ученым Tito Vignoli; насколько я понимаю не совсем ясное изложение Сури,
теория Виньоли весьма близка к моей. — Прим. Н. Аанге.
509
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
моторных образов не всегда ведет к ограничению внимания потому, что
остается возможность возмещающих символических движений внимания,
существование которых автор доказал экспериментально (см. стр. 259); Ь)
почтенный оппонент настаивает на необходимости в каждом акте внимания
эмоционального элемента, а так как рефлективное приспособление такого
элемента не заключает, то он отказывается называть последнее вниманием.
Что акт внимания бывает часто обусловлен эмоцией, этого, конечно, никто
отрицать не станет, и в диссертации этому вопросу посвящены стр. 148-155.
Но автор не видит никаких оснований для признания этого эмоционального
элемента за безусловно необходимый составной факт всякого акта внимания.
Подобно тому, как существуют волевые движения, обусловленные только
идеями (идеомоторная воля), также могут существовать и акты волевого
внимания без эмоциональных мотивов; недаром же, например, Марилье посвятил
целую блестящую статью доказательству этого положения и опровержению
противоположного взгляда Рибо; с) глубокое сродство того, что автор
называет рефлективным вниманием, с фактами волевого внимания лучше всего
обнаруживается из единства биологической цели обоих форм и из теории
происхождения волевого внимания. Что касается первой, то именно данное в
диссертации общее определение внимания, как целесообразной реакции
организма, моментально улучшающей условия восприятия, яснее всего
показывает, что как рефлективное, так и волевое внимание суть, в сущности,
однородные, целесообразные для сохранения организма приспособления,
долженствовавшие развиваться в условиях борьбы за существование. Что же
касается до теории происхождения волевого внимания, то она ясно
показывает, что эта форма могла возникнуть только из рефлективного (и
инстинктивного) внимания. Волевое внимание, как видно из диссертации (стр. 190-204 и
след.), всегда состоит в усилении образов воспоминания, через
воспроизведение ассоциированных с ними иннервационных (моторных) импульсов. Но эта
связь двигательных представлений с прочими не есть первичная, а, как всякая
ассоциация по смежности, представляет умственную рефлексию первичного
влияния реальных движений на усиление ощущений, т. е., иначе говоря,
волевая форма внимания всегда уже предполагает факты первоначального
реального изменения восприятий через реальное моторное установление органов
чувств, что мы и называем рефлективным вниманием. Эта вторичность
волевых актов вообще, составляющая одно из важнейших открытий английской
эмпирической психологии, может быть выражена в такой форме: все
психические волевые акты суть идеальные (в мыслях) повторения реальных
действий, или, иначе, причинная связь мыслей есть отражение или повторение
причинной последовательности в реальном мире.
9. Иллюзорный характер волевого внимания. Почтенный оппонент
выразил недоумение по поводу того, что автор сближает волевое внимание с
процессом иллюзии, утверждая в то же время, что оно улучшает восприятие.
510
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В пояснение этого надо заметить, что иллюзия есть одна из форм идейного
выполнения того, что дано в ощущении; как показано в главе V (стр. 184-187),
волевое внимание представляет тоже восполнение ощущаемого образами
воспоминания; таким образом, и иллюзия, и внимание (а равным образом и то, что
английские психологи называют перцепцией предмета) суть, в сущности,
однородные процессы, в основе которых лежит ассоциация между ощущением и
образами воспоминания. Разность между иллюзией и волевым вниманием
состоит: а) в том, что в первой идейное восполнение не соответствует
действительности, во втором же — соответствует, и Ь) в том, что при иллюзии идеи
непроизвольны, в волевом же внимании сопровождаются чувством усилия. Однако
волевое внимание отличается и от абстрактной интерпретации впечатления, ибо
волевое внимание (см. стр. 198 и след., стр. 202) вносит особое ощущение (чего
нет в простой интерпретации), именно — иннервационное, сообщающее и всему
идейному комплексу дополнительных образов особую исключительную
ясность, чем и обусловлена иллюзорная реальность внимания. Если эти образы
тем не менее соответствуют действительности, хотя и не наблюдаемой в данный
момент, они по справедливости могут быть названы улучшающей восприятие
иллюзией. Что касается до ослабления иллюзии при внимании, то оно отнюдь не
есть общий факт, так как внимательное ожидание (например, при ипохондрии;
ср. стр. 167, также стр. 49) явно возбуждает иллюзорные усиления слабых
ощущений. Если можно сказать, что иллюзии чаще бывают тогда, когда внимание
ослаблено, то лишь в том смысле, что невольная игра ассоциаций усиливается,
когда болевой вызов их (в акте внимания) ослабевает.
10. О сохранении и даже повышении интеллектуальных явлений при
отравлении гашишем и об искажении при этом аффективных состояний
свидетельствуют равным образом Моро, Рише, Нотнагель и Россбах и др.»
Третий официальный оппонент, пр.-доц. A.C. Белкин так
резюмировал свои замечания:
«Николай Николаевич, выдающиеся научные достоинства вашей
диссертации уже были достаточно подробно указаны Л.М. Лопатиным и С.С.
Корсаковым, и я, вполне соглашаясь с их оценкой вашей книги, думаю, что было
бы лишним повторять то, что уже было ими сказано.
Поэтому я ограничусь только тем, что обращу ваше внимание на
некоторые места вашего труда, с которыми я не могу согласиться. Вследствие
позднего времени я сделаю только три возражения, из которых два первых
будут касаться второстепенных недостатков вашей диссертации, а третье будет
направлено против вашего взгляда в одном важном вопросе психологии.
К менее важным недостаткам вашей книги относится некоторая
неполнота "Исторического очерка теорий внимания", занимающего первую
главу вашего "Второго исследования". Вы, конечно, согласитесь со мной,
что такой "исторический очерк" только тогда имеет свой raison d'Ltre в
ка511
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ком-нибудь исследовании, когда он возможно полно дает историю
вопроса и обрисовывает современное его положение и тем указывает, что нового
дает это исследование. Поэтому, мне кажется, вполне понятным будет
удивление читателя, когда он не встретит в вашем "очерке" теорий таких
выдающихся психологов, как Маудсли, Карпентер, Селли, Брадлей.
Другое место вашей книги, с которым я не могу согласиться, это —
классификация теорий внимания. В конце "Исторического очерка теорий
внимания" (на стр. 129) вы говорите, что, "изложив в хронологическом
порядке разнообразные теории внимания", вы считаете необходимым «дать
логическую классификацию важнейших из них и сводите "мнения разных
мыслителей" о природе внимания к "восьми основным учениям", которые
вы затем перечисляете и на следующих страницах излагаете и подвергаете
критическому разбору. Просматривая эту классификацию, нельзя,
однако, не прийти к заключению, что она не заслуживает названия
"логической", или, вернее, что это такая классификация, которая называется в
логике "сбивчивой". Логика требует, чтобы члены деления взаимно исключали
друг друга, что, в применении к данному случаю, означает, что вы должны
были бы указать такие учения о внимании, из которых нельзя было бы
признавать два или три вместе за верные, но необходимо было бы держаться
только какого-нибудь одного; такие учения о внимании и заслуживали бы
названия "основных". Между тем мы видим из вашего изложения, что
многие психологи соединили в своих теориях внимания по два "учения" о
внимании, которые вы называете "основными", благодаря чему вам
приходится говорить об этих психологах в двух местах, и вы тем раздробляете их
теории, часто очень цельные. Так, например, вы говорите, что первого
"основного" учения о внимании, утверждающего, что внимание есть
"результат двигательного приспособления", держатся между прочим Декарт, Бэн,
Феррьер, Рибо и Бальдвин; а затем вы указываете, что Декарт признавал и
другое "основное учение", а именно, что "внимание есть результат
нервного раздражения"; что Бэн считает внимание также "результатом эмоции";
что Феррьер и Рибо признают также учение, что "внимание есть результат
нервной задержки" и т. д. Теории Гербарта, Вундта, Джемса оказываются
также соединяющими в себе по два "основных учения о внимании". Но,
рядом с этими соединимыми учениями, в вашей классификации указаны и
такие, которые не могут признаваться за верные все вместе, например
учения о том, что «внимание есть результат эмоции», что оно "есть результат
апперцепции", что оно "есть результат деятельности различения". Таким
образом, ваша классификация не показывает того, что должна показывать,
а именно — взаимного отношения указанных вами учений: какие из них
основные и взаимно исключают друг друга и какие им служат объяснением
и дополнением. Причина ошибочности вашей классификации та, что у вас
два основания деления — психологическое и физиологическое. Но в
зак512
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
лючение этого моего возражения, я должен сказать, что ваша критика
теорий внимания полна прекрасных отдельных замечаний.
Третье мое возражение касается, как я сказал, вашего мнения
относительно одного важного вопроса психологии, а именно относительно
вопроса о чувствах сходства и различия. Проф. Л.М. Лопатин уже вел с вами
беседу о вашем взгляде на этот предмет, и я вполне согласен с ним, что вам
не удалось доказать, что чувство сходства есть более основной акт духа,
чем чувство различия, и что второе есть только сознание отсутствия
первого. Я сделаю несколько добавочных замечаний к тому, что было сказано
Л.М. Лопатиным.
Но раньше я должен сказать, что не совсем понимаю, какое отношение вы
устанавливаете между вашим учением о сознании сходства и различия и
вашим законом перцепции. В начале 5-й главы (стр. 38) вы говорите, что "должны
теперь обратиться к исследованию дальнейших фактов познания, в
разъяснение которых наш принцип (закон перцепции) может внести известное
освещение. Такими фактами оказываются: 1) сознание, или чувство сходства и
различия, и т. п." Затем эту главу вы посвящаете доказательству того, что чувство
сходства — более элементарная операция духа, чем чувство различия. Я не раз
внимательно просматривал эту главу и не нашел никаких указаний, какое же
"освещение" может закон перцепции внести в учение о сознании сходства и
различия. Ваши указания на этот счет были бы тем более интересны, что,
казалось бы, наоборот, учение о чувстве сходства и различия может осветить ваш
закон перцепции: ведь в ваших опытах относительно перцепции вы получили,
по вашему мнению, времена отождествления, и это, как я понимаю из
примечания на стр. 23-24, потому, что вы уже заранее решили, что отождествление
есть более основной акт духа, чем различение, и действует при перцепции,
в которой еще нет места различению.
Обращаясь к вашему учению о чувстве сходства и различия, я вполне
соглашаюсь с Л.М. Лопатиным, что вы не обратили внимания на
многочисленные аргументы в психологической литературе в пользу
самостоятельной и коренной природы чувства различия. Я прибавлю, что вы сами
поместили в вашей книге "Исторический очерк некоторых учений о сознании
сходства и различия" (стр. 64-82), из которого видно, что все
перечисляемые вами психологи, за исключением разве Юма, учение которого,
впрочем, как вы сами признаете, "темно и недостаточно развито" (стр. 67),
признавали и признают, что чувство различия одинаково элементарно, как и
чувство сходства. Между тем вы не потрудились опровергнуть их взгляда
разбором тех фактов, на которых он основан. Вместо этого вы дали
описание сделанных вами опытов и указали их числовые результаты, которые,
по вашему мнению, доказывают, что чувство различия не есть такой же
основной акт духа, как отождествление. Попробуем разобрать ваши
опыты. Вы производили их так: "перед реагентом являлись на темно-синем
17 Российская психология 513
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
фоне по две фигуры, поставленные рядом, а именно треугольник и
четырехугольник в разнообразных сопоставлениях (этот момент отмечался на
кимографе), причем требовалось производить реакционное движение (тоже
отмечаемое на кимографе) лишь в том случае, когда появлялись фигуры
сходные и сходно расположенные, или, наоборот, лишь тогда, когда несходные.
При первом условии мы имеем, следовательно, времена, потребные для
сознания сходства, во-втором — для сознания различия". Для сознания
сходства вы получили 0,506 секунды, а для сознания различия — 0,551 сек,
т. е. на 8 % более, и на основании этих цифр вы заключили, что сознание
сходства есть более основной акт духа, чем сознание различия.
Я вполне согласен с тем, что опыт имеет решающее значение во всяком
вопросе, но это — при условии правильного истолкования каждого случая
и при избежании логической ошибки поспешного обобщения.
Прежде всего я думаю, что, хотя вы и не высказали, но имели в виду,
что при измерении времени сознания сходства вы измеряли время
умственной операции очень сложной, в которую входило и сознание различия.
Действительно, для того, чтобы найти сходство между двумя фигурами,
появляющимися на синем фоне, необходимо прежде всего отличить их от фона,
сознать их различие, состоящее хотя бы лишь в том, что одна находится
налево, а другая направо (так как при отсутствии всякого различения
между ними, они сольются, дадут впечатление одной фигуры), а затем уже у
нас явится сознание сходства этих фигур.
Конечно, вы согласитесь с этим, и очевидно, что, в сущности, в данном
случае, вы измеряли время двух сложных операций духа, различающихся
между собой, может быть, только тем, что в конце одной является чувство
сходства, а в конце другой — чувство различия, причем все остальные их элементы
в обоих случаях те же. Ввиду, однако, результата ваших опытов,
противоречащего общепринятому в психологии взгляду, что чувство сходства не может
явиться без предварительного различения, я решил повторить ваши опыты,
взяв только объектами для сравнения не геометрические фигуры, а цвета, так
как полагаю, что сравнение чувств сходства и различия с большим успехом
может быть произведено, если мы возьмем такие объекты, восприятие
которых представляет менее сложную операцию духа, чем восприятие
геометрических фигур. Благодаря любезности проф. С.С. Корсакова я произвел ряд
таких опытов в лаборатории Психиатрической клиники. Опыты
производились много по тому же методу, как и вами. Время реакции регистрировалось
хроноскопом Гиппа. Объекты для сравнения были, как я сказал, цвета. Для
этого брались куски картона с широкой черной полосой в средине, по бокам
которой были наклеены два куска цветной бумаги или одного и того же цвета,
или двух разных. Куски картона предварительно смешивались, так что даже
производивший опыты не знал, какой из них ему придется вставить в аппарат.
Затем все условия опытов были те же, как и у вас. Результаты, однако,
получи514
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
лись как раз обратные: для меня, как реагента, получилось среднее время
сходства — 0,379 сек, а время сознания различия — 0,324 сек, а для д-ра
П.Д. Трайнина, помогавшего мне при опытах, время сознания сходства — 0,374
сек и время сознания различия — 0,321 сек. Итак, из моих опытов следует, что
скорее чувство различия есть более основной акт духа, чем чувство сходства,
потому что первое требует менее времени. Но как же примирить ваши опыты
(в верности которых я не сомневаюсь, хотя и не проверял их, так как доверяю
вашей опытности как экспериментатора) и мои, давшие совершенно
противоречащие результаты? Я думаю только, что ввиду их несогласия вопрос о
чувстве сходства и различия еще должен считаться открытым, что вы сделали
ошибочное обобщение, утверждая на основании ваших опытов, недостаточных для
окончательного решения вопроса, что различие не есть такой же основной акт
духа, как отождествление, а есть только отсутствие сходства (стр. 43 и 45).
На этом я и окончу мои возражения, пожелав вам от души
продолжать так же плодотворно работать в области психологии, как вы
работали до сих пор, и если я нашел в вашей диссертации кое-что, с чем я не мог
согласиться и только часть чего я вам успел указать, то гораздо более я
нашел в ней такого, что следует, по моему мнению, признать за ценный
вклад в науку1».
Затем по прочтении факультетского отзыва о диссертации и после
признания факультетом защиты удовлетворительной диспутант был
объявлен доктором философии.
ПСИХОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ2
Применение эксперимента к изучению данного явления состоит в
целесообразных изменениях, вносимых нами в это явление или в
окружающие его условия с целью выяснить его состав и причинные зависимости.
При этом в большинстве случаев этот научный прием соединяется и с
количественным измерением явления. Экспериментальный метод оказался во
всех научных областях, доступных его применению, в высшей степени
полезным. Наиболее очевидные свидетельства этого представляют
современные физика, химия и физиология, всецело обязанные своими успехами
этому методу. Стремления применить эксперимент и к изучению психических
явлений обнаружились приблизительно с половины XIX в. и находятся в
Вследствие невозможности для редакции задерживать выпуск настоящей
книги журнала, редакция не могла обратиться к H.H. Ланге с просьбой проверить
и дополнить его ответы A.C. Белкину. — Ред.
Энциклопедический словарь Русского библиографического института
«Гранат». Т. 33. С. 649-658.
17*
515
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
тесной связи с расцветом экспериментальной физиологии. Эти
стремления проявились прежде всего в трех областях. Во-первых, начавшееся еще
с 30-х годов крайне плодотворное развитие физиологии органов чувств
уже было, по существу, экспериментальным изучением ощущений как
психических состояний в их зависимости от внешних раздражений и от
строения органов чувств. Сначала зрительные ощущения и восприятия, затем
кожные ощущения и слуховые были экспериментально изучены с
основательностью и точностью, не имевшей примера в предыдущей истории
психологии. Работы И. Мюллера, Брюстера, Э. Вебера и особенно
Гельмгольца создали в этой области новый период. Он получил особое яркое
выражение в знаменитых трудах Гельмгольца «Физиологическая оптика»
(1867) и «Учение о слуховых ощущениях» (1863). Во-вторых, Э. Вебер и
особенно Фехнер обосновали вторую область П. э., именно учение о т. н.
психофизическом законе, определяющем интенсивность ощущений по
логарифму силы раздражения. Важнейшим трудом в этой области явились
«Элементы психофизики» Фехнера (1860). Наконец, третий импульс дали
наблюдения астрономов, заметивших при своих точных определениях времен
прохождения звезд через меридиан, что эти определения включают какой-то
индивидуальный субъективный фактор, т. н. «уравнение личности »,
благодаря которому момент регистрации явления всегда несколько запаздывает (на
несколько десятых секунды). Дальнейшие исследования Гельмгольца,
Дондерса, Вундта и многих других показали, что это зависит от времени
распространения импульсов в нервной системе, и привели к созданию т. н.
психометрии, т. е. исследования продолжительности разнообразных психических
явлений. В 1862 г. Вундт обобщил и популяризовал все эти разнообразные
области экспериментально-психологических исследований в сочинении
«Душа человека и животных», а в 1874 г. издал свой обширный и главный
психологический труд — «Основы физиологической психологии» (6-е изд.,
1911). В конце 70-х годов он же основал первую психологическую
лабораторию в Лейпциге и стал издавать работы этой лаборатории в особом
журнале «Philosophische Studien». Многочисленные ученики Вундта, молодые
ученые из разных стран Европы и Америки, прошли через эту первую
психологическую лабораторию и затем стали учреждать подобные же
лаборатории в других университетах. Такие лаборатории постепенно возникли
повсюду — в Германии, в Америке, во Франции, в Англии, в России. У нас
первая лаборатория была открыта в Юрьеве, затем в Одессе (в 1890 г.).
Из последних по времени учреждений этого рода заслуживает особого
упоминания по богатству средств московский Психологический институт имени
Щукиной, организованный проф. Г.И. Челпановым в 1912 г.
Психологический эксперимент, хотя сходен с экспериментом
физическим или химическим, tfo в известном отношении принципиально
отличается от последних именно тем, что он всегда предполагает
самонаблюде516
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ние. Он есть прием субъективно-объективный, тогда как физический опыт
вполне объективен. В психологическом эксперименте личность
исследуемая всегда должна давать (себе или нам) отчет о своих переживаниях,
и лишь соотношение между этими субъективными переживаниями и
объективными причинами или следствиями их составляет предмет
исследования. Если же мы ограничимся только внешними проявлениями
психических процессов или изучением внешних воздействий на исследуемую
личность, то психологический эксперимент утрачивает свой смысл и
обращается в простое физическое или физиологическое исследование. Таким
образом, вполне объективной психологии, т. е. такой, в которой
игнорируются переживания исследуемого субъекта и показания его
самонаблюдения, быть не может. Она обращается в таком случае в чисто объективную
физиологию (насколько таковая возможна относительно центральной
нервной системы и ее объективно наблюдаемых отправлений). Такой
субъективно-объективный характер психологического эксперимента не всегда
ясно понимается и ныне, следствием чего явилось полное обесценивание
многих исследований, игнорировавших показания сознания наблюдаемой
личности и обращавших исключительное внимание на объективную
сторону дела. Однако столь же существенно психологический эксперимент
отличается и от простого субъективного самонаблюдения, типичного для
старой, доэкспериментальной психологии, довольствовавшейся одной
интроспекцией, притом случайной и в большинстве случаев
производившейся по воспоминаниям о прежних переживаниях. Психологический
эксперимент всегда имеет дело с наличным, в данный момент испытываемым,
переживанием и вместе с тем с объективными, внешними, точно
определенными условиями и последствиями (результатами) этого переживания.
Наши психологические лаборатории являются: 1) магазинами точно
дозированных и физически точно определенных всевозможных впечатлений
(зрительных, слуховых, осязательных, вкусовых и т. д.); 2) совокупностью
инструментов для точной и по возможности автоматической записи всех
внешних проявлений изучаемого субъекта: его речи, движений, мимики,
его кровообращения, дыхания, а также и его питания, роста и проч.
Все огромное разнообразие экспериментальных приемов
исследования психики можно (но лишь приблизительно) разделить на три группы:
методы раздражения или впечатления, методы внешнего выражения и
методы разнообразных двигательных реакций. Первый прием состоит в
том, что мы изучаем психические переживания субъекта, вызывая их
строго определенными и целесообразно видоизменяемыми впечатлениями. Он
применяется главным образом при исследовании познавательных явлений —
ощущений, перцепций, иллюзий, а также памяти, ассоциаций,
воображения, внимания, объема сознания и т. под. Второй прием сводится к точной
регистрации всех внешних выражений изучаемого субъекта при разных
517
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
психических переживаниях, в частности к регистрации пульса, кровяного
давления, ритма дыхания и т. д. Он особенно применим при исследовании
эмоций. Наконец, третий метод состоит в изучении двигательных реакций
субъекта, как ответов на определенные впечатления и определенные
способы их восприятия, замечания, различения и т. под. Это есть метод,
служащий для исследования волевых процессов в их связи с
познавательными. Сколько-нибудь полного изложения результатов, которые дали П.
экспериментальные методы исследования, здесь не может быть дано. Эти
результаты захватывают ныне почти все области психологической науки.
Здесь можно дать лишь краткий очерк некоторых наиболее
разработанных помощью эксперимента ее областей. 1. Прежде всего предметом
экспериментального исследования являются ощущения. Изменяя состав,
силу, место и продолжительность приложения различных раздражителей
и применяя их при разных состояниях данного органа чувства, мы можем
установить точно причины и условия всякого рода ощущений. Эта область
является доныне наиболее разработанной. Сюда же относятся те
исследования, которые касаются закона Вебера и Фехнера (см. Вебера-Фехнера
закон) у т. е. определяют нашу абсолютную и разностную чувствительность
в разных видах ощущений. 2. Далее легко подвергаются
экспериментальному изучению разного рода перцепции, т. е. те сложные восприятия
вещей, пространства и времени, которые частью даны в ощущениях, частью
слагаются из результатов нашего прошлого опыта. Исследование при
разных, целесообразно изменяемых условиях точности наших зрительных и
осязательных пространственных перцепций и соответственных иллюзий,
а также нашего восприятия промежутков времени дало особенно богатый
материал для понимания состава и условий возникновения таких
перцепций. В частности, здесь могут быть упомянуты т. наз. тахископические
опыты, при которых перцепируемый объект (например, к.-н. рисунок)
является перед субъектом на очень короткое, точно определенное время (начиная
от нескольких тысячных долей секунды). При таких кратких экспозициях
предмет перцепируется и узнается не сразу, а лишь постепенно и, таким
образом, оказывается возможным анализировать процесс перцепции,
разложить его на ряд последовательных ступеней. Эти же тахископические
опыты дают возможность установить моментальный объем наших
зрительных восприятий (объем зрительного сознания). 3. Экспериментальному
исследованию были подвергнуты, далее, условия запоминания, в
частности — ассоциация. Эти исследования производятся обыкновенно по
методам, выработанным Эббингаузом и Г.Э. Мюллером, и дали важные и
точные результаты, которые далеко превосходят все, что было раньше нам
известно об ассоциациях из простого самонаблюдения. Материалом для
таких опытов запоминания служат обыкновенно ряды каких-нибудь
однородных элементов, например бессмысленных слогов. Такие ряды разной
518
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
длины и при разных других целесообразно видоизменяемых условиях
экспериментатор читает определенное число раз по строго соблюдаемому
ритму (для чего эти ряды обыкновенно помещаются на вращаемый часовым
ходом цилиндр и появляются перед читающим в прорезе ширмы,
закрывающей аппарат). Чтение продолжается, по методу Эббингауза, до тех пор,
пока экспериментатор может наизусть правильно повторить весь ряд,
и определяется нужное для того число повторений, или — по методу
Мюллера — любое меньшее число раз, и тогда степень образовавшейся
ассоциации ряда определяется особыми, более сложными приемами. В
результате таких многолетних экспериментов Эббингаузу удалось выяснить
некоторый общий закон забвения или разрушения ассоциации, как
функции времени, протекшего с момента изучения. Это забвение оказалось
пропорциональным логарифму времени, протекшего со времени запоминания.
Далее, с помощью остроумного приема он доказал, что ассоциирование
происходит не только между смежными элементами ряда, но и
посредственно, через один, через два элемента и т. д., причем сила
ассоциированности убывает приблизительно пропорционально расстоянию этих членов
ряда. Эббингауз же выяснил закон, связующий длину ряда, т. е. число в
нем элементов, с числом необходимых для запоминания такого ряда
прочтений. Это число нужных повторений растет не пропорционально, а
гораздо быстрее, чем длина ряда. Из многочисленных важных результатов
исследований Мюллера укажем лишь на то, что раз образовавшаяся
ассоциация, например А-Б, является препятствием для образования новой
ассоциации А и С (ассоциативное угнетение); когда же эта последняя
всетаки установится, то обе противоположные ассоциации угнетают друг друга
в смысле репродукции В или С после А (репродуктивное угнетение).
4. Много труда было положено на экспериментальное выяснение связи
между разными переживаниями, в частности эмоциями, напряжением
внимания, умственной работой, с одной стороны, и физиологическими
выражениями их, именно ускорением и замедлением пульса, его высотой,
расширением или сужением кровеносных сосудов, силой кровяного давления
в больших артериях, ритмом и характером дыхания, увеличением или
уменьшением мускульной силы и т. д. Все эти внешние проявления легко
могут быть автоматически регистрируемы на закопченной поверхности
вращающегося цилиндра (кимограф), помощью особых записывающих эти
движения аппаратов (сфигмографы, плетисмографы, спирографы,
кровяные манометры, динамометры и т. под.). В этих исследованиях искали
законов точной связи между этими физиологическими проявлениями и
соответственными эмоциями и вообще душевными явлениями, имея в виду
особенно теорию эмоций Джемса-Ланге, согласно которой эмоции
являются лишь органическими ощущениями всех таких физиологических
изменений (дисперсия нервного раздражения на разнообразные системы
внут519
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ренних органов). Надо, однако, заметить, что эта важная задача оказалась
столь сложной, а искомые связи столь сложными, что результаты,
полученные отдельными учеными, до сих пор далеко не сходятся между собой.
5. Особую область П. э. составляет т. наз. психометрия, т. е. определение
продолжительности основных психических процессов и их исхода в
разного рода двигательные реакции. Это исследование начинается с
определения времени наиболее простой двигательной реакции на какое-нибудь
условленное впечатление, являющееся сигналом для движения, и затем
условия постепенно усложняются, и соответственно тому удлиняются и
времена реакции. Таким образом обыкновенно различают: а) простую
двигательную реакцию на впечатление, б) реакцию на различение
одного впечатления от другого, в) реакцию с выбором разных движений на
разные впечатления, г) реакцию с осмысливанием впечатления, т. е. после
того, как впечатление уже вызовет в нас какое-нибудь представление по
ассоциации, д) реакцию на более сложные умственные процессы,
например на какое-нибудь суждение, вызванное данным впечатлением.
Получаемые при этом времена реакций постепенно увеличиваются от
0,080 секунды до 2 и 3 секунд; эти величины являются показателями, а в
некоторой мере и измерителями сложности соответственных
умственных процессов. Методика этих опытов, весьма тонко ныне
разработанная, состоит в том, что при появлении впечатления замыкается
гальванический ток в цепи электрических часов (хроноскоп Гиппа), а своим
реагирующим движением субъект этот ток прерывает, и так как
стрелки электрических часов движутся лишь при замкнутом токе, то часы
покажут время от появления впечатления: до момента реакции (с
точностью до 0,001 секунды). 6. Постепенное развитие методов
психологического эксперимента в его разнообразных видах привело к
установлению общих средних норм, количественно определенных, для разных
основных психических процессов. Отсюда возникла возможность
определять степени уклонения от этих норм отдельных субъектов, а
следовательно, применить количественный эксперимент к изучению индивидуальных
вариаций. Таким образом было положено начало индивидуальной
психологии. Эти приемы были особенно разработаны в отношении
определения норм и отклонения от них в умственном развитии детей
(скороспелые и отставшие дети, дефективные формы). Было предложено
огромное число разнообразных психологических испытаний (т. наз. test)
для разных сторон умственного развития по возрастам. Из таких
систем «тестов» особым распространением и пригодностью отличаются,
например, системы Бинэ, де-Санктиса, д-ра Россолимо
(«Психологические профили»), д-ра Аазурского и др. 7. В последнее время
эксперимент был применен в несколько особом виде к изучению процессов
мышления, по предложению Бинэ, Кюльпе и др. Эти опыты производятся
520
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
обыкновенно так, что руководитель предлагает субъекту разного рода,
более или менее трудные, умственные задачи, например к слову,
обозначающему вид, найти общий род, или обратно, или по части указать
целое, или обратно, и т. д. Когда ответ дан, субъект немедленно
описывает со всеми подробностями то, как он дошел до решения задачи, какие
были у него при этом образы, представления, мысли, настроения и т. д.
Важнейшим результатом этих экспериментов явилось убеждение, что
очень часто при совершенно определенном умственном процессе,
прямо приводящем к цели, почти отсутствуют всякого рода образы, или
они являются только в обрывках, так что составляют скорее суррогат
мышления, а не самую его суть. Должно, однако, прибавить, что эти
опыты вызвали резкое осуждение со стороны ветерана П. э. — Вундта,
который полагает, что анализ мышления таким приемом не может быть
достигнут: наше мышление есть столь сложный исторический продукт,
в частности так существенно зависит от развития языка, что в
индивидуальном сознании его корни и состав не могут быть найдены, это —
задача не П. э., а социально-исторической, в частности психологии
лингвистической.
Литература П. э. почти необозрима по своей громадности.
Соответственным исследованиям посвящены специальные журналы, из
которых отметим: «Archiv für die gesammte Psychologie», «Zeitschrift für
Psychologie», «Annee psychologique», «American Journal of Psychology»,
«Ежегодник экспериментальной педагогики», «Труды Психол.
института имени Щукиной» и мн. др. Из отдельных сочинений укажем:
Sanford, «Cours de psychologie experimentale»; Titchener, «Experimental
Psychology»; Бинэ, Анри, Куртье, Филипп, «Введение в
экспериментальную психологию »; Вундт, «Основы физиологической психологии »;
Н. Ланге. «Психологические исследования; Ebbinghaus, «Über das
Gedächtniss»; Lehmann, «Lehrbuch der psychologischen Methodik»;
отчеты немецких конгрессов экспер. психологии и т. д., а также общие
сочинения по психологии: Эббингауз, «Основы психологии»; James,
«Principles of Psychology»; Тиченер, «Учебник психологии»
(университет, курс) и др.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
А.А.ТОКАРСКИЙ:
ПРИЛОЖЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В ПСИХОЛОГИИ
АРДАЛИОН АРДАЛИОНОВИЧ ТОКАРСКИЙ1
(Некролог)
25 июля 1901 года на кладбище Алексеевского монастыря, рядом с
безвременной могилой С.С. Корсакова вырос новый могильный холм,
укрывший также безвременно скончавшегося 21 июля ученика и друга его,
Ардалиона Ардалионовича Токарского, известного врача-психиатра,
приват-доцента университета, члена редакционного комитета журнала
«Вопросы философии и психологии», одного из редакторов «Журнала
невропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова» и кандидата товарища
председателя Московского психологического общества. Смерть постигла
его в расцвете сил и разгаре деятельности на 42-м году жизни. Цветущий,
бодрый, энергичный, он только осенью 1900 года обнаружил у себя
признаки сахарной болезни, к которой вскоре присоединилась легочная
чахотка, быстро сведшая его в могилу.
A.A. Токарский родился в Саратовской губ. в 1859 году. По окончании
курса в саратовской гимназии он в 1880 г. поступил на медицинский
факультет Дерптского университета, откуда год спустя перешел в Москву.
Выбор психиатрической карьеры был сделан Токарским не случайно:
длительная, тяжелая душевная болезнь матери с детства направила его
внимание в эту сторону, и, еще будучи гимназистом, он познакомился с
психиатрическими руководствами, ища в них разъяснения состояния
больной и указаний для ухода за нею. Вступив на врачебное поприще в 1885 г.,
Вопросы философии и психологии. 1901. Кн. 59. С. V-XI.
522
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Токарский начал свою психиатрическую деятельность в 1886 г. в частной
лечебнице С.С. Карсакова и М.Ф. Беккер — этом первоначальном гнезде
московской психиатрической школы, под руководством Сергея
Сергеевича, с которым вскоре связала его близкая дружба. С открытием в 1887 г.
Московской психиатрической клиники Токарский был назначен
ординатором ее.
Еще с университетской скамьи преимущественный интерес
покойного обращали на себя вопросы психологии и гипнотизма; сделавшись
врачом-психиатром, он специально обратился к этим наукам, которые он
изучал и теоретически, и практически и которым посвящен ряд напечатанных
им в разное время этюдов. В 1888 г. Токарский расстался с клиникой, а в
1889 г. уехал за границу, посетил Берлин, Страсбург, Лейпциг и Париж,
деля свое научное внимание между гипнотизмом и экспериментальной
психологией. Возвратившись в Москву, Токарский в 1893 г. защитил
докторскую диссертацию («Мерячение и болезнь судорожных подергиваний»)
и, получивши звание приват-доцента, открыл курсы гипнотизма и
экспериментальной психологии, соединивши последний с практическими
занятиями в лаборатории психиатрической клиники. Если прибавить к
сказанному, что в течение нескольких лет Токарский читал на фельдшерских курсах
лекции об уходе за душевнобольными, а на коллективных уроках —
лекции по психологии и логике, что с 1892 по 1898 год он состоял членом
комитета Общества для пособия нуждающимся студентам, что с 1897 г. он
принял в свое заведование совместно с П.П. Стрельцовым, лечебницу
Корсакова и Беккер, а с 1899 г. вместе с A.A. Яковлевым устроил подгородный
санаторий для нервнобольных, то этим исчерпается внешняя сторона
жизни покойного, чрезвычайно деятельная и многообразная, если принять во
внимание, что на жизненном поприще он работал только 16 лет.
Главною заслугой Токарского в области практической медицины
является, бесспорно, то, что он один из первых в России занялся строгим
научным изучением клинической стороны гипнотизма. Несвободный от
некоторой доли увлечения в практике гипнотизма, он, однако, со
значительным беспристрастием относился к его изучению и обращал большое
внимание на отрицательные стороны его практического применения.
Но не в этом заключаются права Токарского на память будущих
поколений.
Самой крупною заслугой Токарского перед Москвой навсегда,
несомненно, останется организация психологической лаборатории при
Московской психиатрической клинике. Хотя начало ей было положено в 1889 г.
С.С. Корсаковым, приобретшим для клиники несколько
психометрических приборов, но приведением ее в тот вид, в каком она существует в
настоящее время, и организацией в ней систематических занятий она всецело
обязана трудам Токарского. Открывши курс экспериментальной
психо523
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
логии, A.A. занялся приведением в порядок имевшихся инструментов и
прибрел ряд новых, пожертвовавши для этой цели 1500 р., вырученных от
чтения публичного курса психологии в 1889 г. С осени 1895 г. в
лаборатории начались правильные занятия, а с января 1896 г. начали выходить в
виде приложения к «Вопросам философии и психологии» издававшиеся
Токарским «Записки психологической лаборатории»; издание летописи
лабораторных работ A.A. считал необходимою составною частью
правильного ведения дела. К сожалению, «Записки» прекратились на пятом
выпуске.
Имя Токарского навсегда останется связанным с организацией
Московской психологической лаборатории, которой он стремился придать не
столько ученый, сколько учебный характер; назначением ее было главным
образом ознакомление слушателей с методикой психологического
экспериментирования и практическая иллюстрация психофизиологической
литературы: описываемые в экспериментальных работах опыты
воспроизводились отдельными учениками лаборатории, и это-то чаще всего служило
поводом к возникновению новых экспериментов, имевших целью либо
проверку чужих результатов при помощи модифицированного метода, либо
проверку метода новыми задачами. Занятиям со своими учениками
Токарский отдавал и много времени, и много энергии; не ограничиваясь часами,
проводимыми совместно в клинической лаборатории, Токарский собирал
своих учеников и у себя дома, где сообща реферировалась и обсуждалась
текущая психологическая литература и лабораторные работы, где
ставились новые лабораторные задачи и подготовлялась постановка
экспериментов.
По свидетельству близкого товарища покойного, д-ра A.A.
Яковлева1, с юных лет Токарский импонировал своим сверстникам своею
серьезностью, самостоятельным, активным характером, враждебностью ко
всякой рутине, стремлением к руководительству и протесту; на экзамене
зрелости он едва не лишился золотой медали из-за того, что в
экзаменном сочинении на тему о пользе классического образования стал
доказывать его вред. Таким же остался Токарский и до своей кончины: и в
научной, и в общественной деятельности он был по преимуществу человеком
протеста и борьбы. Во всех областях научной и практической
деятельности его стремления поддерживались и согревались встречаемыми по пути
препятствиями, и чем серьезнее и упорнее были препоны, тем горячее и
страстнее закипала в нем борьба, тем настойчивее добивался он
достижения намеченной цели. Успешный исход задуманного дела сразу
охлаждал к нему интерес Токарского: мирное, методическое ведение
созданно1 Яковлев А. Памяти Ардалиона Ардалионовича Токарского// Журнал
невропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 1901. Кн. 5. С. 1113.
524
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
го с трудом предприятия не удовлетворяло его, и он стремился к новой
борьбе, к осуществлению новой идеи. Многие упрекали Токарского в том,
что он не довел до конца целого ряда задуманных и предпринятых дел;
это не совсем справедливо: он все свои предприятия доводил до конца, но
конец он усматривал в том, в чем другие видели только начало:
организовать, устроить, наладить — для этого Токарский не щадил энергии; вести
по проторенной дороге, хотя бы дорога проторена была его собственным
упорным трудом — было не в его натуре.
Вопросы психологии интересовали Токарского гораздо живее
вопросов клинической психиатрии; из печатных трудов его большинство
относится к области психологии. Но и здесь им написано сравнительно
немного, и, пожалуй, наибольший интерес представляет не то, что было
напечатано1.
Токарский писал очень мало по сравнению с тем, как много он
говорил. Многие законченные работы его остались ненапечатанными;
немало их осталось даже ненаписанными; сообщивши о результатах своих
наблюдений и исследований в заседании того или другого научного
общества, Токарский нередко утрачивал интерес к своему труду и
оставлял его необработанным. Но зато в заседаниях ученых обществ он
являлся всегда одним из самых горячих ораторов-оппонентов, проявляя
интерес к самым разнообразным вопросам, обнаруживая всегда
оригинальную, подчас парадоксальную мысль, развивавшуюся на глазах
слуПечатные труды A.A. Токарского:
1. Гипнотизм и внушение. 1887.
2. Понятие воли и свободы воли. 1889.
3. К вопросу о вредном влиянии гипнотизирования. 1889.
4. Международный конгресс по экспериментальному и терапевтическому
гипнотизму в 1889 г. в Париже.
5. Гипнотизм в педагогии. 1890.
6. Терапевтическое применение гипнотизма. 1891.
7. Мерячение и болезнь судорожных подергиваний. 1893.
8. Психические эпидемии. 1893.
9. Сознание и воля. 1894.
10. К вопросу об ассоциациях идей. 1894.
11. Происхождение и развитие нравственных чувств. 1895.
12.0 насильственных внушениях. 1896.
13.0 глупости. 1896.
14.0 темпераменте. 1896.
15. Лечение пьянства внушением. 1896.
16. De la plus courte dunee de la reaction simple. Munich. 1896.
17. Третий международный психологический конгресс в Мюнхене. 1896.
18. Заклинание со стрелой тибетских лам. 1897.
525
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
шателей стройно, последовательно и высказываемую блестящим,
плавным, образным языком. Возражая, Токарский искренне увлекался,
всецело отдаваясь во власть предмета, участвуя в прениях и логикой, и
чувством: он с сердцем сердился, с желчью изливал саркастические
замечания, со страстью защищал свои заветные убеждения. Наиболее
пылкими, остроумными и эффектными бывали его речи на заседаниях
Психологического общества при обсуждении рефератов
метафизического и спиритуалистического содержания; убежденный позитивист,
лицом к лицу с представителями противоположного миросозерцания,
он считал свою оппозицию не только личным делом, но и общественным
долгом; произнося свои протестующие речи, он следовал не только
влечению своей натуры, но и повелениям своих убеждений.
Прекрасно владея иностранными языками, Токарский не напечатал
в иностранных журналах ни одной из своих работ (кроме докладов на
международных съездах): он считал это унизительным для своего
русского достоинства. По его не раз горячо высказывавшемуся мнению,
русские работы должны печататься на русском языке, и не нам, русским,
заботиться об ознакомлении с ними иностранной публики. Наоборот, на
международных съездах Токарский старался выступать вперед, как
представитель русской науки, старался выдвинуть ее заслуги и отстоять ее
престиж. Он состоял одним из русских членов международного бюро
психологических съездов и во время последнего международного съезда
психологов в Париже принимал горячее участие в обсуждении вопроса
об организации психологического института, отстаивая интересы
истинной научной психологии.
А.Н. Бернгитейн
О МЕТОДАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Психология есть естественная наука, которая изучает, как человек
мыслит, чувствует и действует. Как все естественные науки, она
пользуется методом наблюдения и опыта. Наблюдением называется изучение
явления при тех условиях, при которых оно возникает независимо от нашего
вмешательства, в силу естественного хода вещей. Вследствие того, что
условия, при которых возникает явление, равно как и сопровождающие
обстоятельства, могут меняться уже в силу естественных причин, является
возможность, повторяя наблюдения одного и того же явления в различные
моменты, установить существование некоторых фактов с достаточною
степенью достоверности. Однако для того, чтобы знание явления стало
несомненным, требуются его поверка и доказательство. Для этого служит
526
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
опыт или эксперимент. Экспериментом
называется искусственное изменение условий
наблюдения с целью определения отношений между
явлением и условиями его возникновения. Этим
прежде всего доказывается самый факт
существования явления, которое было ранее
обнаружено простым наблюдением, затем
определяется отношение явления к его условиям, причинам
или сопровождающим обстоятельствам. Таким
образом, эксперимент есть только поверка
наблюдения. Это не есть, следовательно, наблюдение при
искусственно измененных условиях, как часто
говорится, но есть именно изменение условий, за
которым вновь начинается наблюдение, которое,
совершаясь при измененных экспериментом
условиях, тем не менее остается наблюдением.
Таким образом, в основании научных данных лежат результаты
наблюдения, проверенные с помощью эксперимента. Изучить явление —
значит определить его составные части, его общие свойства и характерные
признаки, причины, его вызывающие, и следствия, им обусловленные, —
следовательно, привести его в полную связь с остальными, уже
проверенными фактами. Эта задача не всегда может быть исполнена в настоящее
время, с одной стороны, вследствие недостатка точно проверенных
фактов, с другой — вследствие сложности явлений. Для того чтобы добытые
частные факты могли дополняться впоследствии, чтобы они представляли
собою научный материал, необходимо, чтобы наблюдения и эксперименты
производились по строгому методу, что дает возможность их повторения
и поверки другими лицами.
Поэтому в психологии, как и в других науках, эксперимент имеет
решающее значение: только посредством эксперимента психология
становится наукой и только посредством эксперимента может она
освободиться от бесплодных и произвольных гипотез. Отсюда следует, что выделение
экспериментальной психологии как особой науки, в отличие от
психологии так называемой физиологической, эмпирической, интуитивной и проч.,
не имеет никакого основания. Психология как наука — едина, пользуется
всеми методами естествознания, и только добытые с помощью этих
методов данные могут иметь для нее значение. Из того обстоятельства, что
некоторые факты душевной жизни познаются только самонаблюдением или
что некоторые факты стоят в близкой связи с фактами, изучаемыми
другими отраслями естествознания, биологией, физиологией, химией и т. д.,
никак не следует, что эти факты могут быть содержанием отдельной науки и
что необходимо различать химическую, физическую, физиологическую
527
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
и т. д. психологию, что ведет только к недоразумению, которое
выражается в предположении, что каждая из этих наук занимается изучением
особых явлений, например, что спекулятивная психология изучает высшие
свойства духа, физиологическая — низшие свойства, связанные с
животными отправлениями, и пр., что в конце концов является только
препятствием к правильному выяснению значения метода в науке и,
следовательно, тормозит научное исследование.
Ближайшая задача психологии заключается в том, чтобы изучить
психическое содержание, разложить его на составные элементы, определить
связь между этими элементами и отношения, которые существуют между
явлениями внешнего мира и психическими явлениями.
Психическое содержание состоит из ощущений, восприятий,
представлений, понятий, ассоциационных сочетаний этих величин, чувствований и
чувств, действий, обусловленных суммой находящихся налицо в данный
момент двигательных импульсов.
Мы имеем возможность изучать посредством эксперимента
ощущения, восприятия, представления и их отношения к внешним влияниям,
законы памяти и связи представлений, степень и качество воспроизведений
по отношению их к первоначальным восприятиям, условия возникновения
внимания, колебания внимания, некоторые проявления бессознательной
мозговой деятельности, автоматические акты, явления внушения, дающие
возможность наблюдения сложнейших проявлений психической
деятельности. Далее, посредством наблюдения над действием ядов и над
душевнобольными мы имеем возможность проверять и устанавливать некоторые
общие факты душевной жизни, однообразно возникающие при известных
условиях, и некоторые своеобразные изменения правильной психической
деятельности.
Так образуется фактически проверенный материал психологии.
Данные самонаблюдения каждого отдельного лица могут явиться
существенным подспорьем при анализе психических явлений, представляя
собою определенный факт психической жизни. Однако значение этого
факта не возвышается над значением единичного наблюдения, и в тех случаях,
где самонаблюдение не допускает поверки, что еще так часто случается по
отношению ко многим сторонам психической жизни, главным образом по
отношению к чувствам и очень сложным воспроизведениям, даже
фактическая достоверность самонаблюдения может оставаться сомнительной.
Ошибки самонаблюдения свойственны всем людям без исключения, и, к
сожалению, нет никакой возможности сказать, что самонаблюдение, положим,
Канта или Гете более достоверно, чем самонаблюдение простолюдина. Оно
более сложно — и только, но если оно относится к явлению, не
допускающему воспроизведения или поверки, — оно не может и не должно быть
принимаемо за действительный факт душевной жизни, имевший место именно в
528
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
том виде, как он нам описан, тем более что для правильного изображения
сложных душевных состояний у человека не всегда хватает средств.
Таким образом, сложнейшие явления душевной жизни ускользают от
нашего анализа и поверки; они остаются, однако, в сфере науки, будучи
постоянною целью ее стремлений, и наше бессилие в настоящую минуту
разрешить сложнейшие задачи психологии свидетельствует только о
величии этой науки и еще более подтверждает необходимость строгой
методичности в изысканиях, для того чтобы систематически расширять область
положительного знания.
Методы психологического исследования в зависимости от указанных
психических величин, разделяются на методы:
1. Анализа ощущений.
2. Анализа восприятий.
3. Измерения времени психических процессов.
4. Анализа воспроизведений:
а) простых восприятий;
б) сложных представлений.
5. Анализа сложных психических актов.
Наиболее плодотворное исследование возможно только по отношению
к тем психическим явлениям, которые характеризуются более правильной
зависимостью от внешних объектов, с которыми стоит в связи наша
психическая деятельность, — к ощущениям, восприятиям, представлениям,
понятиям и их сочетаниям — словом, к той части психического содержания,
которая называется интеллектуальной сферой. Что же касается
настроения, чувств, влечений, то они имеют характер гораздо более изменчивый,
в высокой степени зависящий от неуловимых внутренних изменений. Так
как, впрочем, в этих явлениях опять можно доказать известные правильные
отношения к представлениям, то и для них никак не исключается
возможность экспериментального исследования с помощью представлений.
Методы анализа ощущений
За этими методами может быть сохранено, согласно Fechnery1,
название психофизических методов. Этих методов три:
1) метод едва заметных разниц;
2) метод верных и ложных случаев;
3) метод средних ошибок.
Для определения взаимного отношения этих методов Fechner
объясняет их по отношению к одной и той же задаче определения точности,
с какой мы распознаем вес.
Fechner. Elemente der Psychophysik. Lepzig. 1889.
529
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. Метод едва заметных разниц. Чтобы применить метод едва
заметных разниц, поднимают для сравнения два сосуда А и В, имеющие
различную тяжесть. Если разница в весе достаточно велика, она будет замечена, —
иначе она замечена не будет. Метод едва заметных разниц состоит в том,
чтобы определить разницу в весе, которая едва заметна. Величина
чувствительности в различении веса будет обратно пропорциональна величине найденной
разницы. Вообще при этом методе целесообразно делать разницу то очень
заметной, то едва заметной и, наоборот, от незаметной разницы переходить к
едва заметной и принимать во внимание средний результат.
2. Метод верных и ложных случаев. Если взять разницу в весе слишком
малую, то при многократном повторении опыта часто будет происходить
ошибка относительно направления разницы, и сосуд в действительности более
легкий будет приниматься за более тяжелый, и наоборот. Однако чем больше
будет излишек в весе или чем больше чувствительность, тем более будет число
верных суждений по отношению к общему числу наблюдений. Метод верных и
ложных случаев заключается, следовательно, в том, чтобы определить
величину излишка в весе, которая требуется для того, чтобы дать при различных
условиях, при которых сравнивается чувствительность, одно и то же отношение
верных и неверных случаев или верных случаев к общему числу опытов.
Величина чувствительности принимается при этом обратно пропорциональной
величине этого излишка веса.
3. Метод средних ошибок. Если с помощью весов определен вес
одного сосуда, то можно попытаться сделать вес другого сосуда равным
первому только с помощью чувствительности. При этом будет делаться
некоторая ошибка, которая определяется взвешиванием второго сосуда, после
того как вес его был сочтен равным весу первого. Повторяя опыты,
получают много ошибок, из которых определяют среднюю ошибку.
Чувствительность к разнице веса принимается обратно пропорциональной величине
полученной таким образом средней ошибки.
Так как положительная и отрицательная ошибки одинаково зависят
от недостатка правильной оценки, то их одинаково можно брать для
определения, следовательно, не вычитать их друг из друга в зависимости от их
абсолютного значения, но складывать.
Подобно тому, как в области ощущений веса эти методы
употребляются в области ощущений световых, звуковых и т. д.
Насколько условия времени и места для разных сравниваемых величин
различные остаются неизменными в каждом ряде опытов, они обусловливают
в полученном результате то, что называется вообще постоянной ошибкой.
Существование постоянной ошибки вносит только осложнение, но не
неточность в измерение посредством этих методов, так как она
устраняется при ее действительном постоянстве соответствующими мерами и
величина ее может быть определена.
530
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
К сожалению, величина постоянной ошибки не бывает постоянной в
строгом смысле.
Несмотря на это, осложнение методов постоянной ошибкой не
представляет ущерба, так как определение постоянной ошибки само уже есть
часть получаемой при этом психофизической меры.
Методы анализа восприятий
Цель исследования заключается в полном определении элементов, из
которых слагается отдельное восприятие, а также и законов, по которым
соединяются эти элементы.
Прямое определение элементов восприятия и законов их
соединения путем сложения возможно, как это и было указано Wundt'oM1, при
двух условиях: во-первых, эти элементы все должны быть отдельными
представлениями, и затем должна существовать возможность их
правильной комбинации, что возможно единственно по отношению к звукам.
Непрямое определение элементов восприятия происходит путем
изменения свойства восприятия или условий, при которых оно происходит.
Исследование процесса восприятия состоит или в разложении данного акта
восприятия с помощью внешних средств, или без них, или в изменении
условий, при которых происходит восприятие. Первый способ есть метод
разложения, второй — метод вариаций.
1. Метод разложения. Метод разложения в простейшем виде прилагается
тогда, когда с помощью каких-нибудь вспомогательных средств усиливается
способность воспринимать отдельные впечатления и вследствие этого
отдельным ощущениям в комплексе восприятия придается такая интенсивность, что
они могут ясно восприниматься. Типическим примером может служить
субъективный анализ аккордов: с помощью резонатора усиливаются отдельные тоны,
которые и выделяются таким образом из аккорда, остающегося неизменным.
Другой случай приложения метода разложения будет тогда, когда
устраняется способность воспринимать какое-либо отдельное ощущение,
вследствие чего мы получаем возможность изучать остальные ощущения
данного восприятия, которые или маскировались, или видоизменялись
устраненным ощущением. Примером может служить исследование
вкусовых восприятий с применением гимнемовой кислоты, имеющей свойство
совершенно уничтожать восприимчивость к сладкому, понижая остальные
вкусовые ощущения лишь в ничтожной степени.
2. Метод вариаций. Метод вариаций заключается в изменении или
субъективных условий восприятия, или объективных причин его, или и тех
и других вместе.
Wundt. Über psychologische Methoden. Phil. Stud. В. I.
531
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Изменение субъективных условий бывает в том случае, когда,
оставляя объект восприятия неизменным, мы изменяем что-нибудь в
наблюдателе и в его органах чувств. Например, сравнивая световое впечатление при
прямом и непрямом зрении, слушая один и тот же звук правым или левым
ухом и т. д.
Наоборот, изменение объективных условий будет иметь место в том
случае, когда, оставляя по возможности без перемены состояние
наблюдателя и его органов чувств, мы будем изменять объекты восприятия и
определять происходящие при этом перемены восприятий. Сюда относятся,
например, опыты с нормальными обманами чувств, когда мы ставим перед
глазами различные фигуры, в которых умышленно осуществлены условия,
вызывающие обман относительно расстояния, направления линий,
величины линий и пр.
Примером смешанного метода может служить стереоскопическое
зрение.
Чем более с помощью каждого из этих методов в отдельности или в
комбинации исследуются при всевозможных внутренних и внешних
условиях функции чувственного восприятия, тем определеннее получается
ответ на вопрос об элементах акта восприятия и о законах их соединения.
Методы измерения
времени психических процессов
Методы измерения времени психических процессов разделяются на
две группы: методы реакций и методы сравнения.
I. Метод реакций. Если в ответ на какое-нибудь внешнее
раздражение мы произведем заранее условленное простое движение, то мы получим
то, что называется простою реакцией. Измеряя время, прошедшее между
моментом появления раздражения и моментом совершения движения, мы
получим время простой реакции. Простая реакция представляет собою
сложный процесс, представляющий:
1) возбуждение чувствительных элементов органа чувств,
воспринимающего раздражение;
2) передачу возбуждения периферическим нервным узлам и
нарастание в них возбуждения, необходимого для дальнейшей передачи;
3) передачу по чувствующим нервам до клеток спинного мозга;
4) нарастание возбуждения в этих клетках;
5) передачу до клеток органа восприятия;
6) нарастание возбуждения в этих клетках;
7) распространение возбуждения по ассоциационным волокнам и клеткам;
8) передачу возбуждения на двигательные клетки;
9) возрастание возбуждения в этих клетках;
532
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
10) передачу возбуждения по двигательным нервам до мускулов;
11) период скрытого возбуждения в мускулах.
К этой схеме Donders присоединяет еще время нарастания
возбуждения в клетках органа воли, что не может быть, однако, удержано, так как
мы не имеем оснований предполагать существование особого органа воли
и, следовательно, не можем предполагать и времени распространения
возбуждения по предполагаемым особым клеткам. Все элементы воли
заключаются уже в передаче возбуждения на двигательные клетки, в нарастании
возбуждения в этих клетках, в передаче возбуждения по нервам и т. д.
Однако, не подлежит сомнению, что возбуждение, достигнув клеток органа
восприятия, не передается немедленно во всей своей силе на двигательные
клетки, а распространяется первоначально по ассоциационным волокнам,
обусловливая возникновение воспроизведений, различение, узнавание,
выбор и пр., почему я и нахожу более правильным заменить в приводимой
схеме Donder'a время нарастания возбуждения в клетках органа воли
временем распространения возбуждения по ассоциационным путям.
Wundt дал несколько иную схему процессов при простой реакции,
а именно:
1. Проведение от органов чувств к головному мозгу.
2. Вступление в сознание, или перцепция.
3. Вступление в фиксационную точку сознания, или апперцепция.
4. Возбуждение воли, которым освобождается в центральном органе
отмечающее движение.
5. Проведение двигательного возбуждения к мышцам и нарастание
энергии в последних.
Эта схема частью есть сокращение схемы Donders'a, от которой она
отличается только во 2-м и 3-м пункте. Однако, эти два пункта: вступление в
сознание, или перцепция, и вступление в фиксационную точку сознания, или
апперцепция, в сущности, представляют собою лишь условное толкование 6-го и
7-го пункта предыдущей схемы: нарастания возбуждения в воспринимающих
клетках и распространения возбуждения по ассоциационным путям.
Употребление же условных терминов в схеме, изображающей основной тип
психической реакции, мне не кажется удобным тем более что отношения
перцепции и апперцепции могут не всеми пониматься одинаково.
Разложить время простой реакции по этим отдельным стадиям
распространения нервного возбуждения не представляется никакой
возможности. С некоторою вероятностью1 можно высчитать время, которое
требуется для передачи возбуждения по нервам, как чувствующим, так и
двигательным, но и тогда мы не в состоянии определить, какая часть
времени, в которую возбуждение совершается в центральной нервной системе,
Hermann. Handbuch der Physiologie. В. 2. Leipzig, 1879. (Есть русский перевод).
533
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
должна быть отнесена на собственно психический, сопровождаемый
сознанием процесс восприятия.
Единственный возможный выход из этого затруднения заключается в
том, чтобы весь излишек времени, который мы получаем в простой реакции
по отношению к действительному времени психического процесса,
рассматривать как постоянную ошибку. Тогда, усложняя психический процесс и
получая время реакции больше, чем время простой реакции, мы получим
вновь ту же постоянную ошибку и, вычитая одно время из другого, будем
иметь время удлинения собственно психического процесса. Так, например,
если время простой реакции на световое раздражение будет равняться для
данного лица в данный момент 150 d, а время реакции распознавания цвета
будет 175 d, то мы вправе утверждать, сравнивая между собою эти две
величины, что распознавание цвета совершается на 25 d дольше, чем
простое световое восприятие, имея при этом в виду время только чисто
психического процесса.
Таким образом, время простой реакции есть время сравнения, и для
каждого лица является необходимым установить первоначально для себя
время простой реакции и затем уже делать расчеты времени по отношению
к этой основной величине, заключающей в себе долженствующую быть
устраненной постоянную ошибку.
Время простой реакции не есть величина, определяемая с легкостью,
как это могло бы показаться с первого взгляда. Это зависит от того, что,
представляя собою процесс сложный, простая реакция подлежит
колебаниям в зависимости от различных условий. Так, например:
1. Простая реакция индивидуально различна. Таким образом, цифры,
полученные для одного лица, не имеют совсем никакого значения для
другого.
2. Простая реакция имеет различную продолжительность в
зависимости от органа чувств, на который действует раздражение. Так, на
зрительные впечатления реакция дольше, чем на слуховые, на слуховые
дольше, чем на осязательные.
3. Время простой реакции сокращается под влиянием упражнения и
достигает своего минимума, более или менее неподвижного, только после
многочисленных повторений.
4. Время простой реакции изменяется в зависимости от изменения
состояния данного лица. При этом можно выделить влияния:
а) душевных волнений, замедляющих реакцию;
б) влияние утомления, которое также замедляет реакцию;
в) влияние ядов, которые то замедляют реакцию, как алкоголь, то
ускоряют, как кофе;
5. Время простой реакции изменяется в зависимости от состояния
внимания, причем оно то ускоряется, то замедляется.
534
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Только после того, как определена величина простой реакции, можно
приступить к определению времени реакции более сложных. Более
сложные реакции получаются посредством усложнения внешних впечатлений,
и таким образом устанавливается время различения, время
распознавания, время выбора, время сравнения двух сложных впечатлений и т. д.
2. Методы сравнения. Методы сравнения, в свою очередь,
разделяются на две группы:
а) Метод усложнения. Методом усложнения называется соединение двух
отдельных впечатлений, которые не могут быть слиты в одно. При этом
отмечается время их возникновения, с одной стороны, время и порядок их
восприятия — с другой. Если мы имеем два впечатления, которые не могут слиться
друг с другом, то они, по общему закону подавления одной психической
величины другою, будут восприниматься нами не одновременно, а в известной
последовательности, причем сначала мы будем воспринимать одно впечатление,
потом другое, затем снова первое и т. д., т. е. будет происходить так
называемая перестановка ощущений. Это наблюдается по отношению ко всем
органам чувств и по отношению как к однородным ощущениям, так и по
отношению к разнородным, так что перестановка ощущений может быть как для двух
зрительных, двух слуховых, двух вкусовых и т. д. впечатлений, так и по
отношению к одному зрительному и одновременному с ним слуховому
впечатлению, зрительному и осязательному, и т. д.
б) Метод воспроизведения. Этот метод заключается в том, что
известные промежутки времени, точно отмеченные, отмечаются затем по их
воспроизведению. Этот метод имеет большое приложение для изучения
чувства времени.
Методы сравнения имеют то достоинство, что прямо показывают
психический результат внешнего влияния и не заключают в себе никакой
осложняющей их величины, которая подлежала бы устранению.
Методы измерения времени вследствие того, что они дают
результат, выраженный в цифрах и представляющий удобные для сравнения
данные, получили большое распространение. Этот отдел психологии
получил название психометрии, и до настоящего времени еще сохраняется
недоразумение, что им исчерпывается приложение эксперимента в
психологии.
Методы исследования сложных
психических актов
Здесь мы имеем дело почти исключительно с методом сравнения,
причем первоначально устанавливается наблюдением известный факт
душевной жизни и затем после эксперимента изучается отношение вновь
полученных данных с данными, первоначально установленными.
535
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Однако и здесь могут быть установлены:
1. Методы воспроизведения. Сюда относятся все опыты с памятью,
причем для сравнения служат записанные или отмеченные тем или другим
путем впечатления; а затем тем же путем отмечается воспроизведение,
и полученные результаты сравниваются между собою.
2. Методы искусственного изменения психического состояния с
помощью гипнотизирования и посредством ядов, причем одно и то же явление
наблюдается в двух различных состояниях, и наблюдения сравниваются.
3. Наблюдения над душевнобольными, производимые по различным
методам, в зависимости от задач наблюдения, относятся также сюда.
4. Сюда же относятся и все виды самонаблюдения.
К этому краткому изложению методов психологического
исследования необходимо добавить еще метод диалектический, главным образом во
избежание недоразумения, что он прилагается только к разрешению
проблем метафизических. Между тем диалектический метод и в
естествознании играет не последнюю роль. Дело в том, что как только от отдельных
наблюдений мы переходим к заключениям и установке понятий, так тотчас
мы становимся в условия отвлеченного мышления, которое невозможно
без диалектического метода, т. е. без метода анализа понятий и их
отношений. Однако необходимо помнить, что в естествознании диалектический
метод имеет право на существование только в тех пределах, где он
доступен опытной поверке. Это возможно только при том условии, если анализ
понятий совершается по их фактическому содержанию, следовательно, если
каждое понятие может быть разложено на определенные, точно известные
и подлежащие поверке составные части. Во всех же тех случаях, где
содержание понятий не исчерпывается фактами, где является условное
значение понятий и где субъективный элемент, не подчиняющийся поверке,
выступает на первый план, там приложение диалектического метода будет
совершенно бесплодным и поведет только к заблуждению.
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В.Ф. ЧИЖ:
О ЛАБОРАТОРИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
Чиж Владимир Федорович (1855-1922) —
врач-психиатр, физиолог, психолог. С 1891г.
руководил лабораторией экспериментальной
психологии при клинике Юрьевского (ныне
Тартуского) университета (основана Э. Крепелином,
бывшим в 1886-1889 гг. профессором нервных и
душевных болезней этого университета). В
лаборатории разрабатывались проблемы памяти.
Читал лекции по физиологической психологии.
Автор многочисленных трудов по общим и частным
проблемам психопатологии, работ, посвященных
анализу персонажей произведений
Достоевского, Тургенева, Гоголя, Пушкина, а также личностей этих писателей,
политических деятелей (A.A. Аракчеев), императора Павла I, философа
Ф. Ницше и других, которые рассматриваются под углом зрения
болезненных проявлений.
В выступлении Чижа, опубликованном в 1893 г. в газете «Врач» и
вызвавшем большой резонанс, подчеркивается роль врачей-психиатров
в распространении экспериментальных методов в русской психологии
периода ее становления как самостоятельной науки.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ1 ЖУРНАЛА
«ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ»2
М. Г.! Позвольте на страницах «Врача » рассказать, как некоторые наши
ученые не умеют и не хотят ценить заслуг русских нейропатологов.
Около 15 лет тому назад врач-философ Wundt основал в Leipzig'e
лабораторию опытной психологии. Первым из Европы, помимо Германии,
учеником в этой лаборатории был я, в 1884 г., затем в этой лаборатории
работало немало русских врачей. С 1885 г. в России врачами устроены
Чиж В.Ф. Письмо в редакцию// Вопросы философии и психологии. 1894. Кн. 25.
С. 724-728.
В № 43 уважаемой газеты «Врач » помещено следующее письмо проф. В.Ф. Чижа,
касающееся редакции «Вопросов философии и психологии ».
537
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
были лаборатории опытной психологии — в Петербурге, Казани,
Москве, Харькове и, кажется, в Киеве; в Дерпте проф. Kraepelin устроил
такую же лабораторию, унаследованную в 1891 г. мною. Из этих
лабораторий вышло несколько работ; некоторые из этих работ получили
почетную известность и за границей. Не говоря, по понятным
соображениям, о моих работах и об исследованиях моих учеников, упомяну о
работах Бехтерева, Валицкой, Воротынского, Мендельсона,
Краинского, Грана и Останкова. Казалось бы, что русским психологам
нужно знать о заслугах русских врачей в опытной психологии, тем более что
именно мы, русские нейропатологи, раньше всех не только в России,
но и во всем мире, за исключением, конечно, Германии, стали работать
по опытной психологии. Оказалось, к сожалению, что о работах
русских врачей наши философы не знают и — что еще прискорбнее — знать
не хотят.
Преподаватель философии в Одесском университете H.H. Аанге,
в своей работе «Психологические исследования» (1893) подробно
описывает лаборатории опытной психологии в Европе и Америке и не
упоминает ни об одной из существующих в России. Подробно объяснив
пользу таких лабораторий, он заканчивает положением: «При русских
университетах, по крайней мере некоторых, необходимо основать
психологические лаборатории»! Такое незнание того, что делается в этой
области в России, или, вернее, пренебрежение, потому что нельзя же,
в самом деле, допустить, чтобы г. Аанге не знал о лабораториях
опытной психологии в России, со стороны преподавателя философии,
специально работающего по опытной психологии, производит крайне
тяжелое впечатление, тем более потому, что в той же работе г. Аанге,
преклоняется перед тем, что сделано в этой области за границей. Это
восторженное преклонение привело г. Аанге к тому, что он сообщает
далее прямо неверные сведения и ошибочно оценивает явления. Так, по
словам г. Аанге, Münsterberg обладает «основательным медицинским
образованием», в действительности же Münsterberg только сдал
экзамен на «доктора медицины» и далее медициной не занимался, а мы
знаем, что лица, получившие в Германии степень доктора медицины, не
всегда сдают удачно экзамен на лекаря, а у себя дома не имеют права
практики. По мнению г. Аанге, Münsterberg может быть поставлен
рядом с Müller9ом, StumfoM, Sully, Ribot; между тем Münsterberg9у
пришлось взять кафедру в Америке, потому что он не мог получить таковой
в Германии: очевидно, или Münsterberg не такой уже крупный ученый,
как это кажется г. Аанге, или в Германии не умеют ценить крупных
ученых. Говоря о 2-м международном съезде по вопросам опытной
психологии, г. Аанге не упоминает ни об одном из русских ученых, а между
тем двое из них прочли там свои сообщения (интересно что оба —
ней538
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ропатологи), но зато совершенно ошибочно утверждает, будто бы
«в числе лиц, присутствовавших, делавших сообщения или их
доставивших» были Spenser и fames; именно отсутствие этих корифеев и WundV a
лишило съезд того значения, которое приписывает ему г. Ланге1. Если
бы г. Ланге познакомился хотя бы с моим отчетом об этом съезде
(«Вопросы философии» 1892 г.), то он имел бы более правильное представление о
деле. В своем описании лабораторий опытной психологии в Германии
г. Ланге не упоминает о весьма важном и характерном обстоятельстве:
только в Leipzig'cKoft лаборатории непрерывно одни работники сменяют
других, все же другие лаборатории имеют лишь немногих, случайных
сотрудников. Henri (Binet. Introduction a la psychologie. 1894), более
объективно, чем г. Ланге, описавший лаборатории опытной психологии
в Германии, приводит и объяснение, почему только Leipzig,cкaя
лаборатория имеет много сотрудников: Leipzig,cкий университет
принимает работы по опытной психологии в качестве диссертаций на степень
доктора. Прибавлю, что Henri совершенно прав. Значит, и в Германии,
как и у нас, мало бескорыстных работников по опытной психологии.
У нас более всего вышло работ из Дерптской (ныне Юрьевской)
лаборатории, потому что Юрьевский университет принимает работы по
опытной психологии как диссертации на степень доктора медицины;
поэтому же, если не ошибаюсь, из Юрьевской лаборатории вышло работ более,
чем из какой-либо лаборатории в Германии, за исключением, конечно,
Leipzig'cKou.
Пренебрежение г. Ланге к тому, что сделано в России, тем более
странно, что в России по опытной психологии относительно работают
более, чем где-либо, кроме Германии, и притом больше всех работают
именно нейропатологи. Известное сочинение Wundt'a было переведено
в России много лет раньше, чем во Франции, и переведено психиатром
(покойным д-ром Кандинским); учебник физиологической психологии
Ziehen' а переведен в России ранее, чем в Англии, и опять-таки
психиатром. Самый полный обзор сочинений по психологии ведется
психиатром в органе психиатрии (в «Вестнике психиатрии » проф. И.П.
Мержеевского). В России в трех университетах психиатры читают лекции по
физиологической психологии, а именно: проф. Сикорский в Киеве,
ч. пр. Токарский в Москве и я в Юрьеве; в Германии такие лекции читает
только один психиатр Ziehen, Наконец, Московский университет
назначил оппонентом при защите работы, представленной г. Ланге для
получения степени доктора, многоуважаемого С.С. Корсакова —
профессора психиатрии.
В своей вступительной речи при защите диссертации г. Ланге еще раз повторил эту
ошибку.
539
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Если бы г. Аанге умышленно не обходил работ русских врачей, то,
быть может, в его исследовании не было бы той крупной ошибки, на
которую указал ему один из его оппонентов, A.C. Белкин: г. Аанге на
основании своих немногочисленных опытов, и притом произведенных
только над самим собою, утверждает, будто бы сознание сходства —
более основной акт духа, чем сознание различия; A.C. Белкин нарочно
проделал с д-ром Трайнином опыты г. Аанге и получил совершенно
противоположное, т. е. что «чувство различия есть более основной акт духа,
чем чувство сходства». Именно это положение было доказано мною еще
в 1887 г. на основании 11920 опытов на 14 лицах1.
Многоуважаемый С.С. Корсаков на диспуте2 указал г. Аанге на
существование лабораторий опытной психологии в России и на работы,
вышедшие из этих лабораторий. На это г. Аанге отвечал, что он
«умолчал не только о деятельности психофизических кабинетов при
кафедрах психиатрии, но и о деятельности физиологических лабораторий, из
которых, однако, выходит, конечно, гораздо большее число
психологических работ». Такое объяснение было бы удивительным, если бы не
было ошибочно по существу. Что в данном случае г. Аанге еще раз
ошибся, не нуждается в доказательствах. Между тем стоило бы г. Аанге
просмотреть «Вопросы философии и психологии», чтоб узнать, что у нас по
психологии работают более всего именно нейропатологи: в этом
журнале сотрудничают: Буцке, Баженов, Минор, Корнилов, С.С.
Корсаков, Токарский, Сербский, Россолимо и я; при нашем небольшом числе
нейропатологов это очень много; ни одной статьи физиолога в этом
журнале нет. Не правда ли, что такое отношение г. Аанге к работам русских
нейропатологов весьма характерно? Конечно, я не буду отрицать
большие заслуги русских физиологов; мы все знаем, как много сделал
И.М. Сеченов для психологии, но это не умаляет заслуг и наших
нейропатологов; впрочем, г. Аанге нашел нужным умолчать о работах и
физиологов, и нейропатологов.
Хотя мы, русские врачи, и не избалованы вниманием, но такое
упорное замалчивание заслуг наших нейропатологов превышает меру
всякого долготерпения. Поэтому я и написал в редакцию «Вопросов
философии психологии» письмо, в котором указал на существование у нас
психофизических лабораторий и на ошибки, вкравшиеся в описание
г. Аанге состояния опытной психологии за границей. Хотя я член
Психологического общества в Москве, а «Вопросы философии» — издание
этого Общества, и, кроме того, я сотрудник этого журнала, но все-таки
редакция не нашла возможным напечатать моего письма. В случае
наАрхив психиатрии. 1887.
Вопросы философии. Кн. 24.
540
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
добности я могу сообщить и причины, почему редакция отказала мне в
напечатании моего письма, но теперь из уважения к почтенной
редакции этого органа я не хочу оглашать полученного мною ответа. Хотя для
моего личного самолюбия могло бы быть приятным, что редакция
«Вопросов философии» для защиты г. Аанге прибегла к столь необычному
средству, как «замалчивание», но так как отказ в напечатании моего
письма лишил меня возможности выяснить перед читающей публикой
заслуги русских нейропатологов, то я и решил на страницах «Врача»
рассказать все вышеизложенное.
Умалчивание о сделанном русскими нейропатологами со стороны
г. Ланге, преклоняющегося перед Münsterberg'ом, так характерно,
а отказ журнала «Вопросы философии» напечатать письмо своего
сотрудника, указавшего на ошибки г. Аанге, так необычен, что едва ли
можно отрицать систематическое нежелание наших философов
признать заслуги русских нейропатологов. Мало того: видно стремление
скрыть эти заслуги и от читающей публики.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
А.Ф.ЛАЗУРСКИЙ:
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
И ЕГО ШКОЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Лазурский Александр Федорович (1874-
1917) — психолог, выдающийся представитель
Петербургской школы, основанной В.М.
Бехтеревым. Ученик В.М. Бехтерева, впоследствии
автор собственной оригинальной научной
программы, получившей продолжение в творчестве
его учеников, также представителей
Петербургской школы — В.М. Басова и В.Н. Мясищева.
Известен своими общепсихологическими
исследованиями, связанными с разработкой проблем
сущности психического, методов его изучения.
Наибольшую известность в психологии получили
его труды в области психологии характера и учения о личности и
созданный в целях исследования этих проблем метод — естественный
эксперимент как новый вариант экспериментального метода.
В антологию включены два доклада А.Ф. Лазурского, в которых
раскрываются особенности естественного эксперимента, обсуждаются
вопросы воспитания личности. Небольшой отрывок из конкретного исследования,
в котором приводятся схема и краткие характеристики трех детей,
составленные на основании полученных по названному методу данных, позволяет
воссоздать результаты применения естественного эксперимента.
О ЕСТЕСТВЕННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ1
Мм. Гг.! Прочитав заглавие этого сообщения, многие из вас
почувствовали, вероятно, некоторое недоумение по поводу нового, необычного термина:
<<естественный эксперимент». Чтобы разрешить это вполне естественное
недоумение, должно тотчас же сказать, что термин этот предлагается мной здесь
для обозначения особого рода приемов исследования, которые занимают
среднее место между внешним, объективным наблюдением, с одной стороны, и
Доклад, прочитанный на 1-м съезде экспериментальной педагогики в 1911 г.//
Естественный эксперимент и его школьное применение/ Под ред. проф. А.Ф.
Лазурского. П 2., 1918. С. 7-18.
542
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
тем лабораторным, искусственным
экспериментом, который известен в настоящее время под
именем психологического эксперимента, —
с другой. Будучи отличны как от первого, так
и от второго, эти своеобразные приемы тем не
менее не являются чем-то совершенно новым,
необычным, а, наоборот, в своем зачаточном
виде хорошо знакомы каждому из нас. Если
их разработать подробнее, то они могут
представить значительный интерес как в
теоретическом, так и в практическом
отношении, почему я и решился предложить для
обозначения их новый термин. В кратком
сообщении нельзя, конечно, и пытаться
обрисовать все возможные применения данного
метода ко всем тем явлениям, к которым он
может быть приложен; поэтому я остановлюсь на такой области явлений,
которая мне более знакома и которая к тому же представляется,
по-видимому, особенно подходящей для применения естественного
эксперимента, именно — на исследовании личности, или индивидуальности.
Итак, что такое естественный эксперимент и как он может быть
применен к изучению индивидуальности? Чтобы пояснить дело, приведем
некоторые примеры. Положим, что нам надо исследовать особенности движений,
например, быстроту и координацию их у отдельных лиц, для того чтобы
сравнить этих лиц между собою и уяснить себе их индивидуальную
физиогномию. К этой цели можно идти разными путями. Во-первых, путем простого
внешнего наблюдения, которое в своей примитивной, наиболее
несовершенной форме применяется нами повседневно в обыденной жизни. Можно
придать этому наблюдению большую объективность при помощи ведения
дневника, применения подробно разработанной программы; тем не менее здесь
вы все-таки остаетесь простым наблюдателем, ожидая пока судьба и случай
пошлют вам какое-либо обнаружение, которое будет в том или ином
отношении характерным. С другой стороны, можно применить метод
психологического эксперимента. Можно заставить испытуемого как можно быстрее
ставить карандашом точки, или считать вслух, или повторять много раз
подряд один и тот же ряд слов и т. д. Здесь применяется, следовательно, особый
искусственный прием, благодаря которому известный психический процесс
изолируется и в таком изолированном виде исследуется.
Но возможен еще и третий путь, который заключается в следующем.
Наблюдая школьников во время занятий их, например, подвижными
играми, ручным трудом или гимнастикой, можно выбрать такие игры или
приемы, в которых особенно характерно обнаруживаются те или иные
инди543
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
видуальные особенности: быстрота движений, их координация, способность
более или менее быстро приспособляться и приобретать навык к
известным сложным движениям и т. п. Другим примером могут служить
наблюдения и эксперименты над детским чтением. Если присмотреться к тому,
что и как читают дети, то очень скоро можно установить здесь целый ряд
индивидуальных особенностей: одни любят
читать,другиенег,однипредпочитаютсказки, другие — легкую беллетристику, шутки, юмористические
рассказы, третьи — серьезные книги популярно-научного содержания,
четвертые интересуются рассказами из жизни и бытовыми особенностями1.
То же самое можно сказать относительно игр: есть игры, в которых
особенно ярко обнаруживаются творчество ребенка, его инициатива или,
наоборот, его внушаемость, подражательность. Все подобного рода
сложные проявления ребенка могут быть использованы с целью создания из них
путем дальнейшей разработки приемов естественного эксперимента.
В чем же должна заключаться эта дальнейшая разработка? Речь идет,
конечно, не о том, чтобы после настоящего сообщения окрестить новым
именем то, что уже было известно и раньше. Мы хотим указать на
возможность дальнейшего усовершенствования подобных наблюдений, с целью
выработать из них научную методику, удовлетворяющую требованиям
точного исследования. Для этого необходимо прежде всего выбрать те игры,
те способы чтения, те приемы гимнастики, те условия и правила
подвижных игр, при которых получались бы данные, наиболее характерные для
определения индивидуальности. Если это будет сделано, то наблюдатель
будет в состоянии, выбравши то или иное действие, совершаемое ребенком
во вполне естественной обстановке, при естественных условиях, применить
это действие в качестве эксперимента, т. е. с целью вызывания у
наблюдаемого тех или иных проявлений. Таким образом, наряду с простым
наблюдением, при котором исследователь пассивно ждет, когда случай
предоставит ему тот или иной характерный факт, наряду с искусственными,
лабораторными приемами, которые тоже имеют существенное значение,
но которые далеко не исчерпывают всей личности, мы можем применить
также и ряд естественных экспериментов. Так, для исследования
быстроты и координации движений, можно поставить ребенка в условия
известного рода подвижных игр; для исследования его интересов следует
поставить его в условия чтения, т. е. попробовать давать ему те или иные книги,
заинтересовать его в том или ином направлении и посмотреть, как он будет
реагировать на это; или поставить его в условия совместной прогулки и
посмотреть, как ребенок будет относиться к тому, что встретится во время
этой прогулки. Самые же эти условия нужно заранее детально изучить,
чтобы знать, в какую обстановку мы ставим ребенка и чего можно ожидать
См. мои «Школьные характеристики ». 2-е изд. 1912.
544
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
в данном случае от детей различного типа. Существенным условием
естественного эксперимента, отличающим его от эксперимента
искусственного, является то, что сам ребенок не должен подозревать, что над ним
производятся опыты. Благодаря этому отпадают смущение и та преднамеренность
ответов, которые зачастую мешают определению индивидуальности при
условиях искусственного эксперимента.
Вот в общих чертах сущность того, что мы предлагаем назвать
естественным экспериментом. В настоящее время подобного рода приемы
почти еще не отличаются от простого наблюдения. Но нам кажется, еще если
их разработать как следует, то в будущем они будут обладать теми же
типичными особенностями, как и всякое вообще экспериментальное
исследование. Здесь, как и во всяком эксперименте, мы можем поставить
испытуемого в известные, заранее изученные условия, которые вызовут тот или
иной процесс, ту или иную реакцию с его стороны. Вот эта-то возможность
по произволу вызывать психические процессы и направлять их в ту или
другую сторону и представлять в данном случае большой шаг вперед по
сравнению с простым наблюдением.
Спрашивается теперь, будут ли подобного рода приемы обладать
достаточной точностью для того, чтобы можно было присвоить им название
эксперимента. Здесь мы должны считаться прежде всего с тем, что даже в
естественных науках, где экспериментальные методы разработаны
наиболее полно, под этим общим именем объединяют целый ряд различных
приемов, значительно отличающихся друг от друга как по своим задачам, так и
по точности применения. В одних случаях применение известного рода
искусственных приемов имеет своей целью только выделить данное явление
для того чтобы подробнее изучить и проанализировать его. Так, например,
для того, чтобы посмотреть, как происходит кровообращение в мозгу
животного при тех или иных условиях, я делаю трепанацию черепа, вставляю
лупу и рассматриваю мозг, непосредственно наблюдая его сосуды (метод
Donders'a). Здесь мы имеем, в сущности, даже не эксперимент, а
усовершенствованное наблюдение, так как наше вмешательство в течение
процесса ограничивается лишь изменением его второстепенных, побочных
сторон. В других случаях это вмешательство уже в значительно большей
степени определяет течение самого наблюдаемого процесса. Положим,
например, что мы хотим исследовать влияние различных факторов на
выделение слюны у животных. Для этой цели можно, как это делает проф.
Павлов, вставить канюлю в слюнный проток и затем, вызывая выделение слюны
различного рода раздражителями, смотреть, что происходит в каждом
данном случае. Здесь уже не только облегчаются условия наблюдения, но и
самый процесс вызывается и модифицируется различными
раздражениями. Наконец, следующая наиболее высокая ступень эксперимента состоит
в том, что мы искусственно создаем или воспроизводим известное
явле18 Российская психология 545
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ние. Так, например, чтобы проверить предположение, что вода состоит из
водорода и кислорода, взятых в известной пропорции, мы берем
определенные дозы кислорода и водорода и, пропуская через это соединение
электрическую искру, получаем воду.
Из всего этого видно, что эксперимент представляет собой нечто
далеко не всегда одинаковое и что, в сущности, следует говорить не об
эксперименте, а о различного рода экспериментах. Существует целый ряд
переходных ступеней между экспериментом в его наиболее
совершенных формах и между простым наблюдением. Существуют менее
совершенные эксперименты, представляющие все-таки шаг вперед по
сравнению с простым наблюдением. И там, где применение более точных и вместе
с тем искусственных видов эксперимента представляется невозможным
или почему-либо не дает тех результатов, которые от него ожидались
(см. ниже), там подобные естественные экспериментальные приемы,
менее отличающиеся от условий действительной жизни, могут дать
хорошие результаты.
Теперь спрашивается, какое же преимущество представит для
исследования индивидуальности метод естественного эксперимента в
сравнении с простым наблюдением, с одной стороны, и лабораторным
исследованием — с другой.
По этому поводу я должен прежде всего сказать, что то, что сейчас
предлагается вашему вниманию, не есть плод теоретического, кабинетного
измышления. С тех пор как на первом съезде педагогической психологии
разбирался доклад о составлении характеристик, вопрос этот поднимался
и обсуждался неоднократно. В частности, на педагогических курсах,
преобразованных затем в педагогическую академию, велись ежегодно под моим
наблюдением практические занятия по составлению характеристик,
причем пользовались как экспериментами, так и наблюдением в его
усовершенствованной форме (объективность наблюдения, применение известной
программы, запись в виде дневника и т. д.). Занятия эти показали, что при
составлении характеристик систематическое наблюдение остается и по
настоящее время безусловно первенствующим методом, дающим
наиболее полные результаты, эксперимент же, в его лабораторной форме,
играет лишь второстепенную, дополнительную роль. Но и наблюдение, даже в
усовершенствованном его виде, все же обладает крупными недостатками,
которые в основных чертах сводятся к следующему.
Во-первых, то пассивное положение наблюдателя, о котором я уже
говорил раньше. Исследователь должен ждать, что принесет ему случай,
причем он совершенно не знает, с какой стороны получится то или другое
проявление. Этот недостаток — самый крупный.
Вторым недостатком простого наблюдения является то, что
отдельные проявления, возникая при самых различных, случайных
обстоятель546
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ствах, постоянно варьируются, так что мы никогда почти не имеем двух
проявлений, близко похожих одно на другое. Эксперимент в этом
отношении делает большой шаг вперед, так как дает возможность неоднократно
повторять одни и те же условия, а следовательно, одни и те же
проявления. И естественный эксперимент, не обладая точностью искусственного,
все же даст нам возможность создать такое повторяющееся однообразие
условий. Наконец, при крайнем разнообразии проявлений, отмечаемых с
помощью простого наблюдения, способы объяснения их бывают также
нередко очень разноречивы и отличаются большой субъективностью. Если
же мы будем путем естественного эксперимента ставить наблюдаемых
индивидуумов всякий раз в одни и те же заранее известные нам условия, то
и относительно объяснения полученных результатов будет уже гораздо
легче столковаться.
Что касается лабораторного или искусственного психологического
эксперимента, то и по сравнению с ним естественный эксперимент также
представит известные преимущества, по крайней мере в применении к
изучению индивидуальности. Уже во время прений по поводу вчерашних
докладов была отмечена одна сторона лабораторных экспериментов, которая,
с одной стороны, представляет их преимущество, но зато с другой —
понижает их значение для исследования личности. Я имею в виду
изолированность экспериментальных приемов, то обстоятельство, что каждый отдельный
прием направлен на исследование какого-нибудь одного, обособленного
процесса: запоминание слов, счет, выбирание букв и т. п. Правда, мы можем и
должны в каждом отдельном случае произвести психологический анализ
этого процесса, установить, какие именно элементарные психологические
функции (сосредоточение, узнавание, ассоциативные процессы и т. п.)
играют здесь особенно важную роль. Но и при этом условии результаты
такого изолированного лабораторного исследования отдельных функций
нельзя распространять на всю психическую жизнь данного индивидуума.
Так, например, работоспособность человека, поскольку она проявляется в
опыте с продолжительным складыванием или вычитанием чисел, далеко не
всегда выражает собой общую его умственную работоспособность; или
результаты опыта с выбиранием букв и значков еще не говорят нам о том,
насколько вообще внимание развито у данного человека. Помимо
случайно приобретенной привычки к той или иной работе (корректорские или
бухгалтерские занятия и т. п.) здесь имеет значение также другое, более
общее соображение. Несомненно, что проявление всякой элементарной
функции (сосредоточение внимания, волевое напряжение, интерес и т. п.)
у каждого отдельного лица определяется не только его
нервно-психической организацией, но также и теми привычными внешними условиями,
при воздействии которых эти функции обычно обнаруживались. Развивающаяся
отсюда зачастую односторонность в проявлениях той или иной психической
спо18- 547
ЧАСТЬВТОРАЯ
собности должна быть принята во внимание при индивидуально-психологическом
исследовании. Если один человек обычно сосредоточивал свое внимание в
одном каком-нибудь направлении, а другой — в другом, то, собственно
говоря, мы должны были бы исследовать внимание каждого из них
разными приемами. И в этом отношении лабораторный эксперимент, сущность
которого состоит именно в ограничении каждого данного процесса очень
узкими, искусственно созданными рамками, несомненно стоит позади
других, более естественных приемов исследования.
Другое дело — теоретическая сторона вопроса, изучение тех
элементарных функций, из которых составляется человеческая личность, а также
исследование различных взаимоотношений между ними. Здесь
открывается широкое поле для лабораторного эксперимента. Лабораторные
психологические исследования, с их детальностью и кропотливостью, с
точностью их приемов, наконец, с систематическим, последовательным
рассмотрением отдельных, изолированных процессов, явятся здесь
крайне важными и желательными. Но для того, чтобы поставить диагноз
каждой отдельной личности, для тех целей, которые одним из психологов
(Dessoir) были обозначены удачным названием psychognosis'a, наиболее
пригодными представляются, на мой взгляд: в настоящее время —
объективное, систематически ведущееся наблюдение, а в будущем — метод
естественного эксперимента.
Теперь необходимо указать также на некоторые недостатки
предлагаемого метода. Таким недостатком, тесно связанным с сущностью самого
метода, является прежде всего невозможность изолировать отдельные
психические элементы, входящие в состав каждого исследуемого
проявления. Здесь придется брать проявления в их сложном виде и судить об
индивидуальных особенностях личности (о ее памяти, внимании,
особенностях восприятия и т. д.) только на основании сопоставления отдельных
сложных проявлений. Правда, путем известной постановки наблюдений и
опытов мы и здесь можем достигнуть некоторой элементарности
проявлений, но все же она будет не особенно велика. Надо, впрочем, сказать, что и
в искусственном эксперименте мы далеко не всегда можем до такой
степени изолировать отдельные элементарные психические процессы, чтобы
совершенно обособить их друг от друга; очень часто нам приходится иметь
дело с весьма сложным комплексом, в котором не всегда даже можно
разобраться достаточно отчетливо.
Другим недостатком естественного эксперимента является то, что
здесь измерение, подсчет, вычисление и вообще всякого рода
математические приемы или совершенно не будут применимы, или же будут
приложимы в гораздо меньшей степени, чем это возможно при лабораторном,
искусственном эксперименте. Несомненно, что такого рода метод даст нам
более качественный анализ, чем количественное измерение; здесь мы
по548
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
лучим не цифровое выражение индивидуальности, а ознакомление с ее
качественным составом. Но мне представляется, что при составлении
характеристик этот качественный анализ имеет преобладающее значение,
в особенности если иметь в виду не только теоретические, но и
практические цели. И во всяком случае, качественный анализ должен предшествовать
количественному, так как, не ознакомившись с составом сложного целого,
нельзя измерять величины или интенсивности составляющих его элементов.
Характерной особенностью естественного эксперимента, как это
видно уже и из самого его названия, является то, что он приближает нас к
жизни, ставит исследование в более естественные условия. Нам,
эмпирикам и экспериментаторам в области психологии, часто ставят в упрек, что
мы со своими таблицами, задачами, приборами и кривыми являемся
такими странными, такими далекими от жизни; нам говорят, что мы не имеем
права результаты, полученные таким искусственным путем, применять к
практической жизни.
Этот упрек мне представляется отчасти справедливым, отчасти
несправедливым. Справедлив он будет тогда, если результаты, полученные
лабораторно-экспериментальным путем, мы будем пытаться сразу,
непосредственно переносить в жизнь; несправедлив тогда, если кто-нибудь станет
утверждать, что эти результаты вообще не могут иметь никакого
практического значения. Несомненно, что практическое значение их может быть
очень велико, именно в том отношении, что они освещают (или могут
осветить) нам многие вопросы, касающиеся состава человеческой личности. Но,
с другой стороны, естественный эксперимент, в котором место прибора
занимает сама природа, т. е. те естественные условия, в которые мы ставим
испытуемого, несомненно больше приближает нас к изучению жизни
ребенка, ее внешних обнаружений и проявлений. Этот метод заставит нас
внимательнее присмотреться к таким сложным проявлениям ребенка, как
отношение его к товарищам и взрослым, отношение к природе, к играм,
к чтению, к ручному и умственному труду и т. п., он заставит нас вникнуть
в анализ и изучение внешних условий, той среды, в которой протекают жизнь
и проявления ребенка; он несомненно сблизит
психологов-экспериментаторов с педагогами и, может быть, с социологами. И если предлагаемые здесь
приемы будут когда-либо разработаны настолько, что к ним можно будет
приложить название метода в научном смысле этого слова, то
психологический эксперимент станет родным братом эксперимента педагогического.
Из всего сказанного уже достаточно выяснилось, что речь идет не о
каком-то особенном, вновь изобретенном методе, а лишь о дальнейшей и
притом своеобразной разработке тех приемов, которыми и в настоящее
время постоянно пользуются в повседневной жизни и, в частности, в
педагогической практике. С другой стороны, и для экспериментальной
психологии понятие естественного эксперимента не явится такой
неожиданнос549
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
тью, как это представляется с первого взгляда. Можно сказать даже, что
весь постепенный ход развития психологического эксперимента приводит
нас к необходимости расширить его именно в этом направлении.
Экспериментальная психология, как известно, началась с исследований Вебера,
Фехнера и целого ряда других авторов — преимущественно физиков и
физиологов. Первоначально изучению подверглись главным образом
элементарные функции: ощущения, чувственные восприятия, скорость
простой и сложной реакции и т. п.; исследовались эти процессы при помощи
более или менее сложных приборов, требовавших безусловно
лабораторной обстановки. В 80-х годах Эббингауз применил эксперимент к
изучению уже более сложных процессов памяти, для чего пришлось выработать
и соответствующую методику. Сопоставляя ее с теми приемами, которые
употреблялись при психофизических исследованиях, мы видим, что в
методе Эббингауза приборы и вообще различные технические
вспомогательные средства уже не играют той первостепенной роли, как это было
раньше. Затем экспериментальные методы стали применять к исследованию
еще более сложных процессов — внимания, мышления, воображения.
И оказалось, что чем выше и сложнее исследуемое явление, тем проще и
ближе к жизни должен быть применяемый метод. Таковы, например,
многочисленные методы, придуманные и разработанные Бинэ, его
сотрудниками и последователями. Еще вчера A.M. Шуберт в своем докладе совершенно
справедливо указывала, что некоторые задачи, предлагаемые Бинэ для
исследования степени отсталости, представляют собой, в сущности, не
эксперимент, а лишь наблюдение, поставленное в известные условия. В
противоположность обычному, повседневному опыту, такое наблюдение
является не случайным, а планомерным, производится по известному
плану и может повторяться любое число раз. Когда Штерн в Берлинском
психологическом обществе впервые делал доклад о своих, получивших
впоследствии широкое распространение опытах с запоминанием и воспроизведением
картин («Psychologie der Aussage »), то ему был сделан целый ряд весьма
существенных возражений.
Специалисты-психологи указывали на то, что сколько-нибудь точный
подсчет результатов будет здесь совсем невозможен, потому что нельзя же
сосчитывать вместе, например, нос и ногу, дерево и стул и т. д. И это возражение,
конечно, совершенно справедливо. Тем не менее оно не помешало широкому
распространению метода Штерна, и в настоящее время едва ли найдется
психолог, который отрицал бы его важное теоретическое и практическое
значение. Возьмите далее опыты с описанием объекта, с описанием рисунка, с
сочинением на тему из нескольких слов: ведь это, в сущности, уже прямо то самое,
что мы называем естественным экспериментом.
Одним словом, по моему глубокому убеждению, общий ход развития
экспериментальной психологии неизбежно ведет к тому, что мы постепенно
550
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
будем все расширять область применения эксперимента, но в связи с этим
вынуждены будем расширить также и самое понятие эксперимента.
Неизбежно будут выработаны и уже начинают вырабатываться приемы, которые по
сравнению с лабораторным исследованием будут, конечно, менее точны, но
по сравнению с простым наблюдением все-таки представят известный шаг
вперед. Не надо забывать того, что лабораторному исследованию доступна
сравнительно только небольшая часть психической жизни, главным образом
интеллектуальные процессы, и притом те из них, которые по своему
содержанию более элементарны; такие же процессы, как мышление и творческое
воображение, хотя и могут быть исследованы экспериментальным путем, но
приемы их исследования уже очень близки к тому, что мы называем естественным
экспериментом. Что же касается чувствований и волевых процессов, то здесь
эксперимент дает еще очень мало, в особенности когда речь идет об
индивидуальных особенностях и их обнаружении. Немногие существующее приемы
позволяют в большинстве случаев делать лишь косвенное заключение
относительно направления интересов у данного лица, относительно его решимости,
уверенности и т. д. А между тем при исследовании личности именно изучение
воли и чувствований представляется особенно важным. В одном газетном
отчете по поводу прочитанного мной доклада было написано, будто я изобрел
особые весы для взвешивания волевых процессов у школьников. Если бы это
было так, то было бы очень хорошо, но, к сожалению, таких весов до сих пор у
нас нет. И поэтому мне кажется, что предлагаемые здесь приемы
естественного эксперимента, обладающие по сравнению с простым наблюдением
несомненными преимуществами и применяемые в той области, которая мало
доступна лабораторному эксперименту, могут представить известный интерес.
ЛИЧНОСТЬ И ВОСПИТАНИЕ1
Вопрос о роли личности в воспитании является одним из основных в
педагогике. В нем, как в фокусе, пересекаются различные миросозерцания.
Во все времена он возбуждал жгучий интерес и вызывал разногласия. Если
я решился вновь теперь его поставить, то не с тем, чтобы решить его
окончательно, а только выяснить и осветить некоторые существенные его
стороны на основании новых данных. В настоящее время всеми признается,
что задача воспитания и образования состоит не только в сообщении
знаний и выработке профессиональных навыков, но и в воспитании
«человеРечь, произнесенная при открытии 3-го Всероссийского съезда по
экспериментальной педагогике// Естественный эксперимент и его школьное применение/
Под ред. проф. А.Ф. Лазурского. Пг., 1918. С. 182-190.
551
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ка », личности. Формула эта, однако, все же слишком обща. Что понимают
под развитием личности? Максимум развития способностей и дарований.
Но ведь личность живет в обществе, которое требует, чтобы личность
служила его интересам. Как же согласовать интересы личности и общества,
где граница между ними? Это один из насущных и больных вопросов.
Я приведу два крайних ныне существующих решения этого вопроса.
Так, одни утверждают, что сама личность есть всецело продукт среды.
Направления в развитии личности диктуются интересами самого общества,
в котором она живет. Личность должна подчиняться его требованиям.
Таким образом, задачи воспитания определяются интересами не личности,
а коллектива. Личность должна приобретать навыки и знания, полезные
для общества. Таков идеал крайних коллективистов.
Другие же утверждают, что личность есть самоцель; индивидуальность
есть нечто прирожденное, «заданное», что должно свободно проявиться в
жизни. Чем выше личность, тем больше она эмансипируется от среды.
Воспитание ее должно быть независимо от требований общества. Задача
воспитания сводится к созданию благоприятных условий для развития и
проявления специфически индивидуальных задатков личности. Таков взгляд
крайних индивидуалистов.
Ни с теми, ни с другими целиком согласиться нельзя. Коллективисты,
считая личность исключительно продуктом среды, противоречат не только
чувству человека, которое этому противится, но и положениям
современной биологии — закону наследственности. От рождения человек получает
многое, что в дальнейшем определяет его индивидуальность. И
индивидуалисты не правы — они не считаются с тем, что личность не может
развиваться и проявляться вне общества. Культурно-социальная среда необходима
для личности и безусловно влияет на нее.
Необходим синтез этих взглядов, на что в настоящее время
указывают многие; это и мое мнение. Но в чем он должен состоять?
Единственно в согласовании и примирении этих крайних взглядов.
По-моему, цель воспитания — полное, возможно более интенсивное развитие
личности сообразно ее индивидуальным задаткам; но это развитие
может произойти только в обществе и через общество; правильно
поставленное социальное воспитание необходимо поведет к полному расцвету
личности.
Каким образом можно обосновать этот взгляд? В каких научных
дисциплинах искать ответа на поставленный вопрос? Одни отвечают — в
философии и социологии. Психология, по их мнению, не может решать этих
вопросов. Она описывает только то, что есть, но не может сказать, что
должно быть. Лишь философия, особенно этика освещают те цели, к которым
должен идти человек; педагогике они указывают пути, по которым должно
направлять развитие человека. Социальные науки указывают на то, чем
552
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
является человек в социальных отношениях. Но они же обычно уводят нас
в сторону от самого человека, от личности; в лучшем случае утверждают,
что и личность имеет свои права.
Ничуть не отрицая права философии и социологии решать эти
вопросы, я утверждаю, что и психология здесь может дать ценные, а быть может,
и решающие указания. В социальных науках личность рассматривается на
втором месте; психология же, особенно характерология, имеет целью
изучение личности в целом со всеми ее индивидуальными особенностями. Она
любовно подходит к личности, стремится изучить то, как живет человек в
обществе, выясняет, какие условия способствуют полному развитию и
проявлению личности. Только психология может проникнуть в глубину
индивидуальности, изучить живую личность.
О какой это психологии вы говорите, могут спросить. Не
экспериментальная ли психология может сделать это? Ведь экспериментальная
психология — это приборы, таблицы, внимание, память... При чем же тут
личность, социальные проявления ее? На основании этого отрицают право
психологии не только в решении, но и в выяснении поставленного вопроса.
Это можно было сказать лет 10 тому назад, но теперь это безусловно
неверно. Упускают из виду, что методы психологии изменяются и
совершенствуются. Так, уже метод вюрцбургской школы значительно отличается
от лабораторных методов экспериментальной психологии. Он дает
возможность проникнуть в самую глубину мыслительных процессов; уже
здесь экспериментальная психология значительно приближается к жизни;
но все-таки и это метод психологии аналитической. Попыткой
дальнейшего расширения экспериментальных методов в применении к
всестороннему изучению личности является наш естественный эксперимент. Принцип
его мною был доложен еще на первом съезде по экспериментальной
педагогике и с того времени кружок моих сотрудников разрабатывает этот
метод. Скажу о нем несколько слов.
Всякая личность представляет сложное целое. Анализируя
разнообразные проявления личности, мы с С.Л. Франком нашли возможным
подразделить их на два рода: эндопсихические и экзопсихические проявления.
Это подразделение впервые было проведено нами в «Программе
исследования личности в ее отношениях к среде ». Под эндопсихикой мы понимаем
всю совокупность основных психических функций, таких как восприятие,
память, внимание, мышление, аффективная возбудимость, способность к
волевому усилию. В понятие эндопсихики входит также и то, что обычно
называют «характером», «темпераментом» личности. Одним словом, это
есть психофизиологическая основа, ядро личности.
Экзопсихика есть отношение личности к различным категориям
окружающей действительности. Сюда входят отношения к природе,
материальным предметам, к людям, социальным группам, духовным благам:
553
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
науке, искусствам, религии и также отношение личности к самой себе.
Экзопсихика складывается на основе эндопсихики, но не всецело
определяется ею, и экзопсихика накладывает свой отпечаток на личность. Так,
например, эндопсихические особенности предрасполагают человека к той или
иной профессии; постоянные же условия профессиональной деятельности
отражаются на общем облике личности. У ребенка преобладает
эндопсихическая основа, которая делает его склонным к тем или другим формам
деятельности, но на формирование личности оказывают влияние те
условия и среда, в которых протекает его развитие. Условия воспитания, семья,
школа, а позднее научные убеждения, сословные традиции, воззрение
эпохи — все это накладывает отпечаток на личность.
Первое, что является необходимым, — это установить методы
исследования индивидуальности. Ныне существующие методы Бинэ, Россолимо
и др. построены лабораторным способом; они многое дают для
исследования степени умственного развития, а главным образом для определения
умственной отсталости. Но является необходимым изучать всю личность, не
только ее интеллект, но также волю и чувствования. Кроме того, для
характеристики личности важно знать экзопроявления ее, чего не
исчерпаешь измерениями в лаборатории. Педагог на основании простого
наблюдения за проявлениями учеников на различных занятиях многое может уже
сказать о них. Отсюда мысль: нельзя ли школьные занятия использовать в
целях изучения личности? Эта мысль и послужила поводом для
разработки метода естественного эксперимента.
Пришлось начать с вопроса, какие психические функции
затрагиваются какими предметами. В анализах различных предметов школьного
обучения нужно исходить от индивидуальности и возвращаться к ней.
Отдельные проявления мы всегда сверяли с предварительно составленными
общими характеристиками учеников. Нужно идти не путем логического
анализа предмета, а путем психологического анализа индивидуальных
проявлений учеников на этих уроках. Результатом таких анализов являются
наши психологические программы по различным предметам,
устанавливающие индивидуальные проявления и их характерологическое значение.
Некоторые из них уже напечатаны, а о разработанных в последнее время вы
подробно узнаете из докладов моих сотрудников — Канаева, Коварской1.
Основываясь на программах, мы имели возможность поставить
экспериментальные уроки по различным предметам, содержанием которых
выбирался материал, способный вызвать характерные для данного предмета
проявления личности. Выделив из программ и экспериментальных уроков
самое существенное, мы составили общую методику
естественно-экспериментального исследования личности, особенностью которой является
1 Напечатаны в этом сборнике.
554
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
то, что она не ограничивается исследованием интеллектуальных
способностей, а стремится охватить всю личность [наш доклад с Философовой]1.
Теперь вернемся к поставленному нами ранее вопросу. Какое
отношение имеют работы по методу естественного эксперимента к вопросу о
личности и воспитании; что они могут дать для решения этого вопроса? Как
естественный эксперимент может содействовать выяснению вопроса о
взаимоотношении между личностью и обществом; как он может
способствовать примирению интересов личности и общества?
При естественно-экспериментальном изучении личности мы не
пользуемся искусственными приемами, не производим опытов в искусственных
лабораторных условиях, не изолируем ребенка из обычной обстановки его
жизни, а экспериментируем естественными формами внешней среды. Мы
исследуем личность самой жизнью, и потому становятся доступными
обследованию все влияния как личности на среду, так среды на личность. Здесь
эксперимент входит в жизнь. Мы исследуем не отдельные психические
процессы, как это обычно делается (например, память исследуют
посредством заучивания бессмысленных слогов, внимание — вычеркиванием
значков на таблицах), а исследуем и психические функции, и личность в целом.
При этом пользуемся не искусственным материалом, а предметами
школьного обучения.
Результатом такого изучения является возможность сознательного,
планомерного использования социально полезного материала в целях
развития способностей.
Здесь мы подходим к вопросу о формальном и материальном
принципах обучения. В формальном ли развитии отдельных способностей
состоит задача образования или только в сообщении системы знаний? Эти
вопросы вызывают много споров.
У нас в России принцип формального развития дискредитирован
толстовско-деляновской классической школой, которая стремилась развивать
ум ребенка безразличным в социальном отношении материалом —
латинским и греческим языками. Материальный принцип, доведенный до
крайности, тоже терпит крах, хотя этот принцип в настоящее время является
господствующим в наших школах. Этот взгляд ведет к перегруженности
школьной программы, что часто имеет следствием переутомление
учащихся. Если давать ученикам систему знаний, не обращая внимания на то,
какие способности этими знаниями развиваются, мы теряем из виду личность
ребенка.
В чем же исход? Не в простом механическом соединении, а в
органическом сочетании этих принципов. Естественный эксперимент может
осветить путь для решения этого вопроса.
Функционально-характерологичес1 Напечатаны в этом сборнике.
555
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
кие анализы отдельных предметов позволяют оценить значение каждого из
них для развития способностей ученика; такие анализы дадут возможность
всесторонне развить личность и разгрузить школу от чрезмерного обилия
материала. Обучение не должно быть ни односторонне формальным, ни
односторонне материальным. Только синтез этих принципов поставит
образование и воспитание на правильный путь. Воспитание должно совершаться самой
жизнью. Этот принцип Песталлоци частью осуществляется в современной
школе в трудовом воспитании, школьных организациях учащихся, в
устройстве экскурсий и др.
Итак, вводите в школу жизнь, развивайте всесторонне личность,
воспитывайте ее социально полезным материалом.
Однако этим еще не исчерпываются все задачи педагогики. Мы
должны знать не только как развивать личность, но и куда мы должны вести ее.
Может ли лабораторно-аналитическая психология ответить на этот
вопрос? Нет, только изучение того, как развиваются отдельные
индивидуальности и как они получают в конце концов каждая свою определенную
законченную форму, может способствовать решению этого вопроса.
Внимательное изучение личности показывает, каким образом развитие
индивидуальности зависит от ее психофизиологической организации; так,
например, значительно развитое воображение предрасполагает человека к
занятию искусством (художники) и т. д. Таким образом, сама структура
личности может указать путь ее развития.
В своей классификации личности1 я буду говорить об этом подробно,
теперь же лишь в двух словах. Группировку личностей можно производить в
двух направлениях: по качественным различиям и по психическому уровню.
По качественным признакам личности делятся на различные типы по
преобладанию какой-нибудь одной группы тесно между собою связанных основных
психических функций, накладывающих на данный индивидуум своеобразный
отпечаток. Я уже говорил о взаимоотношении эндо- и экзопсихики. В школе
мы можем проследить рост и развитие индивидуальности. Мы видим, как на
основе эндопсихики организуются отношения и интересы ученика к
различным явлениям окружающей среды; как эндопсихика одевается
соответствующими ей экзопсихическими проявлениями. Мы видим, что в школе
намечаются некоторые экзопсихические типы; так, например, ученики с развитой
фантазией тяготеют к занятиям искусством (художники); умы теоретические —
математики, физики; активные — коноводы и в шалостях, и в серьезных
занятиях; рассудочные — склонны к хозяйственным организациям.
Профессиональные типы — ученые, художники и т. д. намечаются уже в школе. Итак,
психология учит нас, как на основе эндопсихики намечается тяготение к тем
Напечатана почти целиком в «Журнале Министерства народного просвещения » за
1915 и 1916 годы.
556
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
или иным идеалам. Если разгадать эти склонности, то нам станет понятным
тяготение школьника к тем или иным из человеческих идеалов.
Классификация личностей учит, что наряду с различиями есть и общее
для всех — это степени развития, или уровни. Каждая личность проходит
определенный путь развитая, достигая в конце концов того или другого уровня.
Соотношение между эндо- и экзопсихикой на различных уровнях различно.
На низшем уровне больше выражены экзоэлементы. Подчиняя слабую и
разрозненную психику малоодаренного человека, среда накладывает на нее свой
отпечаток, насильственно приспособляя ее к своим запросам и требованиям и
очень мало считаясь с эндоособенностями личности. Человек среднего
уровня обладает большей способностью приспособиться к окружающей среде,
найти в ней свое место и использовать ее для своих целей. Он выбирает себе
соответствующий его склонностям и задаткам род занятий, работает
продуктивно и с интересом и в конце концов, будучи полезен обществу, и себе
обеспечивает не только материальное благосостояние, но и некоторый комфорт
физический и духовный.
На высшем уровне иное соотношение между личностью и средой.
Значительная напряженность, интенсивность душевной жизни заставляет
человека не ограничиваться одним только приспособлением, но стремиться
и самую эту среду переделать сообразно собственным влечениям и
потребностям. Люди высшего уровня творят новые формы жизни. Они
воплощают культурные идеалы своей эпохи, а также привносят в жизнь нечто свое,
индивидуальное. Эти люди необходимы для общества, они создают
миросозерцания и пробивают новые пути в жизни, по которым пойдут затем
другие.
Кратко характеризуя психические уровни, можно сказать, что
низший — это приспособляемый, средний — приспособившийся и высший —
приспособляющий среду.
Изучение личности и с этой стороны может иметь для педагогики важное
значение. Считаясь с индивидуальными задатками учащихся, школа должна
стремиться по возможности повысить их психический уровень.
Развивать личность значит развивать ее в постоянном контакте с
обществом. Я перешел к вопросу о взаимоотношении между личностью и
обществом — к вопросу, который является важным не только в педагогике,
но и в социологии, и здесь это большой, жгучий вопрос. Как и в педагогике,
здесь борются индивидуалистические и коллективистические течения.
И мы видим, что индивидуальная психология и здесь пытается применить
свои экспериментальные методы. Каким же образом? По инициативе
Мюнстерберга в Америке были устроены бюро по найму вагоновожатых, где
экспериментально-психологическим путем определялась пригодность к
этой профессии. Мейер рекомендовал применять эксперименты при
наборе солдат и назначении фельдфебелей. Особую практическую важность
557
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
имеет попытка рационализации производства — Тэйлора, состоящая в том,
что данный вид работы тщательно анализируется, выделяются и
группируются все действительно производительные движения при данной работе;
точно измеряется их нормальная продолжительность, нужная для
выполнения только этих движений. Рабочим выдаются карточки с указаниями,
как делать и сколько нужно потратить времени. Инженер, наблюдая за
работой, определяет, кто из рабочих удовлетворяет требованиям, кто не
удовлетворяет; тем из них, которые хорошо приспособляются к работе и
затрачивают на нее минимум времени, выдаются премии,
неудовлетворяющих же увольняют. Действительно, там, где система эта применялась,
производительность труда повышалась в 3-4 раза. Но все это по вполне
понятным причинам вызвало волнение среди рабочих.
Как видно из этих примеров, индивидуальная психология в своем
стремлении сделаться прикладной наукой идет не по тому пути; этот путь
поведет лишь к полному порабощению личности технической
машинообразной культурой. Я не возражаю вообще против тенденции сделать
индивидуальную психологию прикладной наукой, но если только в этом видеть
ее задачу, то я лично отказался бы от нее, хотя вот уже двадцать лет сам
занимаюсь ею. И без того современная культура давит личность,
превращает человека в машину. Мы видим, например, какой мощи достиг
милитаризм в Германии, мы видим до какой степени можно убить дух человека.
Недоставало еще, чтобы и психологи поставили своей задачей
способствовать порабощению человека. Если и индивидуальная психология, наука о
личности, пойдет на службу машине, то может оказаться, что живая
человеческая личность будет окончательно задавлена.
Итак, развивайте и укрепляйте личность; развивайте и организуйте
общество. Помните, что только в крепком, естественном единении того и
другого заключается залог развития человечества.
Естестественно-экспериментальные схемы
личности учащихся1
В результате всего исследования мы получаем данные для
количественного определения следующих психических функций:
2. Сосредоточенность или отвлекаемость внимания (общее
наблюдение).
7. Наблюдательность (обилие и богатство восприятий), (среднее из
описания животного и опроса о явлениях природы).
Аазурскмй А. у Философова Л. Естественно-экспериментальные схемы личности
учащихся//Естественный эксперимент и его школьное применение. Пч., 1918. С. 154-157.
558
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
8. Точность восприятий (среднее из описания животного и
срисовывания слона).
9. Запоминание (заучивание стихотворения).
11. Сохранение в памяти (повторное воспроизведение стихотворения).
14. Богатство воображения (сочинение — обилие образов; рисование —
обилие деталей).
16. Творчество (комбинирующее воображение):
а) словесное (сочинение);
б) предметное (рисование).
18. Систематичность и последовательность мышления
(арифметическая задача).
21. Процесс понимания:
а) понимание явлений природы;
б) понимание людских отношений (разбор рассказа).
26. Связность языка (легкость сочетания словесных образов)
(сочинение; разбор рассказа).
44. Самоуверенность (общее наблюдение).
49. Эстетическое чувство (описание животного, рисование).
52, 53. Возбудимость и сила внутреннего чувства (общее наблюдение)
(разбор рассказа).
55. Внешняя эффективность (общее наблюдение).
57. Общее обилие движений (общее наблюдение).
59. Координация движений (гимнастика, ручной труд).
60. Мышечная сила (гимнастика, ручной труд).
71, 31. Наличность руководящих идей в мышлении (порядок при
описании объекта, сочинение — наличность общего плана).
72. Систематичность сложных действий (ручной труд — аккуратность,
общие наблюдения).
Цифры, стоящие перед каждой рубрикой, указывают на соответствие
ее «Программе исследования личности» А.Ф. Лазурского, изд. 3-е.
После того как материал обработан вышеуказанным образом
отдельно для каждого ребенка, остается нанести полученные данные графически
на схему (звездочку).
Схема представляет собою 3 концентрических круга,
соответствующих 3 уровням (степеням). Круги разделяются радиусами на 6 секторов
соответственно важнейшим психологическим группам: 1. Восприятия и
память. 2. Мышление. 3. Воля. 4. Движения. 5. Чувства. 6. Воображение.
В каждом секторе проведены несколько радиусов соответственно
подразделениям данной группы.
Для примера приведем схемы — звездочки и краткие
характеристики трех детей, составленные нами на основании данных, полученных
по изложенному методу.
559
ЧАСТЬВТОРАЯ
Наташа. Спокойная, уравновешенная девочка с хорошими
способностями, равномерно развитыми. В меру живая, когда нужно, спокойная и
сосредоточенная, физически довольно сильная, с хорошо координированными
движениями, не слишком чувствительная, но и не апатичная. Одним словом, тип
среднего человека. Обращает на себя внимание хорошо развитая волевая
сфера, обнаруживающаяся в систематичности и последовательности действий и
мышления (рассудочно-волевой тип). В умственной сфере обладает хорошей
памятью, логичным умом, но особого творчества или оригинальности в своих
работах не обнаруживает. Ум реальный, интерес направлен на внешний мир,
ежедневную жизнь (сочинение), и это находится, по всей вероятности, в связи
со слабо развитым отвлеченным мышлением.
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Лена. Бледный, малокровный, тихий, малоподвижный, слабо
одаренный ребенок, очень слабый физически, с плохо координированными
движениями; малейшая неудача вызывает слезы, но свои внутренние
переживания скрывает. Воля слабо развита и не имеет руководящей роли ни в
мышлении, ни в действиях. В умственной сфере прежде всего надо
отметить очень плохую память; восприятия, наблюдательность по отношению к
внешнему миру также оставляют желать лучшего. Несмотря на это,
мыслительная деятельность сравнительно недурна; девочка хорошо
разбирается в тонких оттенках людских отношений, хорошо осмысливает
сложные явления жизни (разбор рассказа); способна к творчеству, хотя
располагает лишь очень небольшим запасом образов, что находится, по всей
вероятности, в связи со слабой памятью и ненаблюдательностью. В общем —
ребенок слабо одаренный, углубленный в самого себя.
Илюша. Живой, очень подвижный, ловкий, сильный мальчик, с
богатым живым воображением, обнаруживающимся как в яркости и
образности языка, так и в оригинальности фабулы придуманного рассказа и в
рисунке; мальчик очень наблюдателен, восприятия обильные и точные.
Запоминает он не очень легко, но хорошо сохраняет в памяти усвоенное.
Как и можно было ожидать, при живой и яркой фантазии отвлеченное
логическое мышление дается ему несколько труднее. Живая
действительность захватывает и привлекает его более, чем отвлеченное логическое
мышление, в котором ему недостает последовательности и систематичности.
Внимание также легко отвлекается внешними впечатлениями. Чувства —
живые и сильные, бурно проявляющиеся вовне.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Г.И. РОССОЛИМО:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ
Россолимо Григорий Иванович (1860-1928) —
невропатолог и психоневролог. После окончания
медицинского факультета Московского университета
(1884 г.) — приват-доцент университета (до 1911 г.).
С1890 г. — зав. клиникой нервных болезней при
университетской Екатерининской больнице. На
собственные средства основал и до 1917 г. содержал
Институт детской неврологии и психиатрии, который
после 1917 г. передал в дар Московскому
университету. С 1917 г. зав. кафедрой нервных болезней
1-МГУ и директор клиники и неврологического
института им. А.Я. Кожевникова.
Труды Россолимо охватывают широкий круг исследований в
различных областях психологии, дефектологии, неврологии, а также
вопросы судебно-психиатрической экспертизы, педагогические
проблемы. Разработанный Россолимо метод экспериментального
психологического исследования, нацеленный на задачу количественной оценки
психических функций и служивший задаче отбора отсталых —
кандидатов во вспомогательные школы (психологический профиль), явился
первым профильным изображением результатов диагностической
методики.
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ»
ДЕФЕКТИВНЫХ УЧАЩИХСЯ (В ОТНОШЕНИИ
ВОЗРАСТА, ПОЛА, СТЕПЕНИ ОТСТАЛОСТИ И ПР.)1
Материалы, полученные нами при более чем четырехлетней проверке
предложенного нами в 1909 году количественного метода исследования
«Психологического профиля», и создавшаяся вокруг этого исследования
литература2 в специально психологических, педагогических и медицинских
Россолимо Г.И. «Психологические профили » дефективных учащихся (в
отношении возраста, пола, степени отсталости и пр.). М., 1910.
Braunshausen N. // EnschA.: Psychologische Profile// Zeitschrift f. Kinderforschung,
1913.HelfDec.-Jan.
562
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
органах и, за единичными исключениями, сочувственное отношение и
большой интерес со стороны отдельных исследователей к положенной в основу
профиля идее — все это заставило нас подвергнуть анализу все полученное
нами за последние годы, как с общей, так и с некоторых специальных точек
зрения.
Как видно из последней опубликованной нами работы1, после ряда
исследований душевнобольных и детей с различными степенями
дефекN. Braunshausen u. А. Ensch: Psychologische Profile nach Rossolimo. Zeitschr. f.
Kinderforschung. 1913. Heft Juli.
Bratz. — in: Neurologisches Centralblatt, 1911, № 11.
M. Schapiro. — in: Reichs-Medicinal Anzeiger, 1913, № 5.
N. Kostyleff. — in: Archives internationals de Neurologie, 1913. V. I. SJrie. 11.
Zweig. — in: Zeischrift fur angewandte Psychologie. 1912, Br. 6.
Green. — in: The Journal of Experimental Pedagogy, 1912, Vol. 2, № 3.
H. Gelendern С. Tumiati in: Rassegna di Studi Psichiatrici, 1912, Vol. II, fasc. 3.
В.П. Сербский. Курс Психиатрии. 2-е издание, 1912 г.
W. Stern. — in: Die psychologischen Methoden der Intelligenzprüfung. 1912.
Г. Трогиин. — в Вопросах педагогической патологии, вып. II, 1913.
А. Говсеев. — в Вопросах психиатрии и неврологии, 1912, № 6.
Г.И. Челпанов. — в статье «Что нужно педагогу из психологии ». — Вопросы
философии, кн. 106.
Г.И. Россолимо. — Ответ Г.И. Челпанову. — Вопросы философии, кн. 108.
Decroly. — в «Examen Mental des Enfants anormaux».
A.B. Анифъев. — Психологическое исследование детей школьного возраста по
методу Г.И. Россолимо. Сведения Медико-Санитарного Бюро Нижегор. Губ. Зем.
1913, вып. I.
Д.К. Акифъев. — Психологические профили не успевающих учащихся. Ниж.
Новг., 1913.
СИ. Мицкевич. — в «К вопросу об экспериментально психологическом методе».
Ниж.-Новг.,1913.
A.M. Шуберт. — в «Кратком описании и характеристики методов
количественного определения отсталости». Москва, 1913.
Baroncini. — в Rivista di Psicologie, 1912, № 4.
Меитапп. — в «Vorlesungenüber Experimentelle Pädagogik», Bd. II. 2-te. Auflage,
1913.
Meumann. — in Pädagogische Jahresbericht von 1912. — II. 1, S. 48.
Jaederholm. — in Undersoknindar over intelligens matoingarnas Teori och Praxis.
Stockholm, 1914.
Ponzo. II metodo di Binet e Simou. Rivista di Psicologia. 1914. № 3.
Sante de Sanctis. La valutazione della intelligenza in psicologia applicata// Contributi
psicologici. Vol. II. 1912-1913.
1 Русск. Школа. 1913.
Klinik, v. Sommer. 1913. Bd. VI.
563
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
тивности с целью определения силы их психомеханики мы нашли
возможным без явного ущерба для диагностического значения «профиля»
несколько сократить его, ограничив 11 процессами вместо 40, главным
образом за счет зрительного запоминания, запоминания элементов речи и чисел,
т. е. тех процессов, которые предполагают известную степень
грамотности. Эта реформа «профиля» оправдана несколькими сотнями проверок на
протяжении последнего года, подтвердивших, что преимущество
измененного метода заключается не только в его сравнительной краткости (21/'А часа
minimum вместо 4!/2 ч. minimum) и в большей стройности, но и в некоторой
универсальности, т. е. в пригодности для исследования как грамотных, так
и неграмотных, например, детей и взрослых. И «формулу профиля»
пришлось видоизменить: 1) во избежание аналогии с математическим
уравнением и с целью сообщения ей большей символичности и 2) для
включения вместо отрицательного свойства — процента «забываемости » —
положительного в виде % сохранения в памяти воспринятого материала —
«ретенции» и 3) для помещения % ретенции на надлежащее место, т. е. при
втором члене формулы, при восприимчивости.
Таким образом формула видоизменилась в нижеследующем смысле:
первоначальная структура формулы:
Р= (t+m+ а)+ % — г,
измененная структура:
Р||/+т(Ч-г%)+а.
Р — средняя высота «профиля», т. е. среднеарифметическое из 11 высот
основных психологических процессов, входящих в состав «профиля »;
/ — психический тонус, т. е. средняя из двух процессов — «внимания »
и «воли»;
т — точность и прочность восприимчивости, т. е. средняя из высоты:
а) точности восприимчивости и б) запоминания зрительных образов,
элементов речи и чисел;
г% — процент сохранения в памяти, «ретенция»;
а — высшие, ассоциативные процессы, т. е. средняя из высот
осмысления, комбинаторной способности, сметливости, воображения и
наблюдательности.
В настоящей работе мы имеем в виду разобраться главным образом в
результатах, полученных при помощи исследования «психологического
профиля» у детей и юношей с различными интеллектуальными
недостатками, затрудняющими их образование и развитие; мы ищем освещения
крайне важного в практическом и еще более запутанного в теоретическом
отношениях вопроса о степенях одаренности, вернее, недостаточности —
врожденной отсталости или приобретенной дефективности, вопроса, на
практике разрешаемого по наитию и обыкновенно за счет времени, сил и
здоровья учащихся, теоретически же односторонне и неясно освещаемого
564
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
психиатрией, частично или не всегда верно трактуемого еще новой
экспериментальной психологией.
«Психологический профиль», могущий отражать на себе явления
выпадения в некоторых психических процессах и, с другой стороны,
затрагивающий такие явления психической жизни и в такой форме обособленные,
как это не затрагивается в других, наиболее обычных приемах
количественного исследования интеллекта, представил для нас возможность
подвергнуть пересмотру вопрос об умственной недостаточности учащихся не
старше 18-летнего возраста.
Не касаясь прежде высказанных нами мыслей по поводу степеней
умственной недостаточности с точки зрения «профилей»1 и желая подойти к
оценке новых исследований наших с точки зрения считающейся наиболее
непогрешимой — педагогической и клинической оценки интеллекта, мы
воспользовались 360 подробно исследованными, большей частью в нашем
Институте детской психологии и неврологии, детьми, снабженными
данными всестороннего наблюдения и оценки по отношению к их успешности
и другим проявлениям психики в связи с воспитанием и обучением,
распределенными насколько это было возможно на основании оценок и
распределения по учебным заведениям и условиям обучения того или иного
типа по следующим степеням дефективности:
1. Дети с глубокой отсталостью, допускающей, однако, исследование
по методу «профилей», числом 31.
2. Дети значительно отсталые, числом 51.
3. Дети со средней степенью отсталости — всех 234.
4. Дети слегка умственно дефективные — всех 33.
5. Умственно нормальные дети, но оказавшиеся неудобными для
школы вследствие иных психических недостатков — числом 11
Добавим еще, что для выводов из многочисленных индивидуальных
профилей мы ограничились лишь упрощенным профилем, в котором
27 психических процессов представлены 11 средними арифметическими
для 11 основных процессов.
«Профили» групп, распределенных
по диагностике
В основу приведенной группировки наших детей положены данные
медицинского исследования и педагогической оценки с естественным
распределением детей по соответствующим учебным заведениям (рис. 1а,
1б).
См.: Общая характеристика профилей. М., 1910.
565
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
К глубоко отсталым были отнесены имбециллики довольно резко
выраженные — жители специальных интернатов или учащиеся дома за
непригодностью к занятиям в качестве приходящих.
Значительно отсталые, также имбециллики, получающие
домашнее специальное образование и занимающиеся частью в специальных
приютах, частью же во вспомогательных классах.
Средне отсталые дети — главным образом плохие ученики
нормальных школ, низшей и средней, в составе которых наряду с дебиликами
встречаются и дети психастеники, и слабоумные различных категорий.
Средние профили по медико-педагогической диагностике.
Слабо отсталые — это дети из тех же групп, но только со слабее
выраженными дефектами как патологическими, так и педагогическими (см.
табл. 1).
Уместно будет привести здесь, в параллель, средние профили
отдельных групп наших 360 случаев, составленных по единицам (степеням)
средней высоты (Р). (см. табл. 2).
566
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Таблица 1
Средние профили
567
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Как видно здесь, профили и формулы групп, распределенных по
степеням высоты Р, представляют планомерное понижение всех пяти
элементов формулы и всех ингредиентов профиля.
Важное значение имеет то, что показывают формулы от Р 5,6 книзу,
а именно, что III член формулы (высшие процессы) обнаруживает
тенденцию падать все ниже и ниже II члена формулы.
Рассматривая высоту отдельных процессов при разных степенях
отсталости, мы можем с несомненностью констатировать постепенное и
планомерное увеличение ее, чем больше будем подниматься от глубокой
отсталости к интеллектуальной норме, причем это повышение резче
сказывается на процессах внимания, воли и на высших, ассоциативных
процессах; кроме того, пропорционально значительное отставание
обнаруживается в процессе внимания — для глубокой степени отсталости, а в
высших процессах — для глубокой и значительной степеней отсталости.
Подобно отдельным процессам и процент ретенции также оказывается
постепенно более или менее правильно повышающимся (рис. 2 а, 2 б).
Аналогичная закономерность сказалась и на формулах средних
профилей при различных степенях отсталости, как это видно ниже.
Рис. 2а Рис. 26
568
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Формулы профилей при разных степенях отсталости:
Как средняя высота профиля (Р), так и остальные составные части
формулы представляют постепенное повышение по направлению от глубокой
степени отсталости к формуле неотстающих.
Кроме того, в формулах глубокой и значительной степени отсталости
III член формулы близок ко II и ниже его, напоминая вполне то, что мы
видим выше в формулах по средней высоте Р для высот Р5, Р4, РЗ, Р2.
Необходимо упомянуть еще об одной стороне исследования
различных степеней силы психомеханики: я имею в виду продолжительность
исследования профиля у отдельных лиц, которая оказывается далеко не
всегда одинаковая, колеблясь между 21/А и 5 часами; для выяснения вопроса о
том, существует ли в этом отношении какая-нибудь закономерность, мы
сделали вывод о средней продолжительности исследования для каждой
высоты Р и получили следующий ряд чисел:
Р8 2ч24м Р5 Зч21м
Р7 2ч 55м Р4 Зч24м
Р6 3 ч 11 м РЗ 3 ч 50 м,
из которого видно, что ребенок с интеллектуальными дефектами работает
тем медленнее, чем ниже у него профиль. Такой параллелизм вносит еще
один фактор в дело определения степени отсталости — фактор
продолжительности работы.
Помимо этого параллелизма, достигающего особенной наглядности при
сравнении формул 3-й и 4-й, из сравнения приведенных формул вытекает еще
и диагностическое их значение, сводящееся к двум особенностям.
569
ЧАСТЬВТОРАЯ
Глубокая отсталость размещается в пределах Р2 и РЗ, при чем maximum
падает на РЗ.
Значительная — в пределах РЗ и Р7, с maximum'oM в Р4.
Средняя — между Р4 и Р8, с maximum'oM P6.
Слабая — между Р5 и Р8; maximum — Р8.
Иными словами, насколько отсталость определяется высотою Р, ее
степени устанавливаются в том смысле, что «имбецилльность»
приходится главным образом на Р2, РЗ и Р4, «дебильность» — от Р5 до Р8, причем
гранью между той и другой формой можно было бы признать
промежуточную ступень между Р 4 и Р 5 формулы: 1) средней высоты профиля (Р) и
2) соотношения трех основных ее элементов.
Что касается первой, т. е. высоты Р, то ее абсолютное значение
сводится к указанию на отсталость при цифре ниже 8; чем цифра меньше, тем
ближе к глубокой степени отсталости.
На приводимой ниже таблице мы ясно видим, как распределяется
большинство случаев каждой группы отсталости по отношению к средней
высоте профиля (Р).
Вторая особенность формулы, сводящаяся к структуре ее в смысле
отношения между высотами ее трех ингредиентов — тонуса, памяти в
широком смысле слова, то есть точности и прочности восприимчивости, и
высших психических процессов, имеет значение, указывая на силу тех сторон
психической деятельности, которые, с одной стороны, оттеняют характер
психомеханических свойств индивидуальности, с другой — отражают на
себе различные степени болезненного упадка умственной деятельности.
Для того чтобы легче ориентироваться в этом явлении и для удобства
сопоставления, необходимо иметь в виду, что у большинства
исследованных нами интеллектуально сильных людей соотношение частей формулы
профиля сводилось к постепенному возрастанию от I члена к III, то есть
570
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
оказывалось, что высота памяти несколько выше тонуса и высота высших
процессов оставляет за собой цифру памяти; другими словами, если I член
есть t, то II член т будет равняться t+x, и III член а будет равняться т+х;
такое соотношение и выразит то положительное, которое представляют
все три члена формулы и которое можно обозначить в виде + + +, что
удобно для выражения недостаточности одного из трех членов формулы,
характеризующей различные типы умственной отсталости, т. е. следующих
семи ярко выраженных типов:
1) + + +: тип положительный, наиболее выгодный для успешной
работы интеллекта и характерный для разносторонне умственно одаренных.
2) - + + : тип гипотонический, выражающий слабость психического
тонуса.
3) Н \-: тип амнестический, с относительно пониженной памятью и
восприимчивостью.
4) + + - : тип дементный, слабоумный, при недостаточности высших
психических процессов.
5) Ь : тип психастенический, соответствующий тем состояниям
психического слабосилия, которое отмечается при глубоких астениях
простых или схизофренических и приобретенном слабоумии.
6) - + - : тип гипотонико-дементный.
7) Н : тип амнестико-дементный.
Наши 360 детей и юношей, из которых огромное большинство —
349 — представляли ясные картины умственной недостаточности и лишь
11 не давали повода к признанию у них малой успешности,
распределившись по типам своей структуры, показывают следующие средние профили
и формулы: (см. табл. 3)
Таблица 3
571
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Приведенные таблицы показывают, что:
1) Среди детей, не признанных отстающими, преобладающим типом
строения интеллекта был тот, которому соответствует тип формулы + + +;
в небольшом количестве отмечены типы Н Ь, + + —, - ++, совсем не
встретилось типов с двумя пониженными членами формулы ( Ь, - + -, Н ).
2) Среди умственно дефективных в общей массе были отмечены
представители всех семи типов, причем большинство пришлось на долю
гипотоников (- + +) и психастеников ( Ь), меньшее количество оказалось
типов —Ь-иН г-, и еще меньшее отмечено представителей + + +, + +
и + -+.
Отдельные степени дефективности дали особое численное
распределение индивидуумов по типам формулы:
1) Среди глубоко отсталых резко своим количеством выделяется тип
- + -; у значительно отсталых, кроме этого типа (- + -), преобладает
приблизительно в том же процентном отношении и типы - + + и + + -.
2) Количество средне отсталых падает главным образом на типы Ь
и- + +.
573
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
3) Между слабо отсталыми хотя к преобладает один из тех же типов,
а именно - + +, тем не менее довольно близки к нему по высоте % и типов
+ - + И + + +.
Согласно с этим не лишено интереса и то, какие типы формулы
преобладают в % в отдельных группах наших случаев по высоте Р.
То есть среди низких профилей (Р4, РЗ, Р2) преобладает структура
- + - (имбецильная), среди профилей с Р6 и Р7 преобладают типы - 4- +
и h; профиль Р5, как промежуточный, сопровождается в равной
приблизительно мере всеми тремя наиболее частыми среди профилей
недостаточных детей типами.
Резюмируя все сказанное о профилях по отношению их к
медико-педагогической диагностике, мы можем признать, что две более глубокие
степени умственной отсталости, среди которых преобладают т. н.
имбециллики, имеют среднюю высоту профиля (Р) от 5,5 и ниже, две же менее
выраженные степени недостаточности имеют высоту Р от 5,5 кверху,
доходя до 7 с десятыми.
Кроме того, наиболее характерной особенностью имбецилликов
является строение профиля по типу - + -, а для слабых степеней
дефективности типы - + +, 1- и Ч К
Таким образом, помимо высоты профиля отягчающим
обстоятельством должно признавать в нем строение, приближающее к имбецильным
типам, где III член формулы не показывает явного повышения над уровнем
II члена, как это видно на табл. 3, на графической схеме формул первой и
второй снизу.
574
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Психологический профиль как мерило интеллекта или, вернее, силы
психомеханики может рассчитывать на более или менее абсолютное
значение в зависимости от того, насколько можно считать входящие в его
состав процессы чем-то устойчивым и мало изменяемым в зависимости от
естественных и искусственных условий развития, насколько они мало
зависят от пола, возраста, среды и школьных влияний в смысле класса и типа
школы, условий культуры, профессии и т. п. Однако для таких широких
выводов по отношению к психологическому профилю вообще имеющиеся
у нас данные исследования главным образом умственно дефективных
детей слишком недостаточны: было бы, конечно, необходимо иметь в
распоряжении большое число нормальных людей самых различных возрастов и
категорий. Со временем, надеемся, нам придется воспользоваться
выводами из данных изучения такого накопляющегося у нас мало-помалу
материала; но не следует, однако, закрывать глаза и на те трудности, которые
должны встретиться хотя бы лишь при определении того, что надо считать
за норму, а отсюда и большая осторожность с установлением мерок и
формул для этой т. н. нормы. Вот почему мы не останавливаемся пока перед
намерением установить возможно близкие к абсолютным мерки для
патологических дефектов таких состояний психики, которые легче иных
оцениваются с точки зрения клиники с ее разносторонними приемами
наблюдения и исследования; ибо такие данные, как бы далеки они ни были от
абсолютных величин, выражая скорее закономерные соотношения между
различными психическими процессами у одного и того же индивидуума,
могут кое-что давать для относительной оценки интеллектуальных сил,
в особенности для групп детей, которые могут быть расположены в
известном последовательном порядке, смотря по степени отсталости.
Средние профили по возрастам
Наши 360 подвергнутых исследованию детей распределяются по
возрастам следующим образом:
9 лет
10 лет...
11 лет...
12 лет...
...3
...16
...33
...38
...44
..71
18 лет...
47
, ,39
...30
19
8
1?
575
ЧАСТЬВТОРАЯ
Как видно, наибольшее число дефективных детей пришлось на 12-
летний возраст, что объясняется условиями, в которых находятся дети
приблизительно этого возраста в начальной и в средней школах: с одной
стороны, в низшей школе учительский персонал, убедившись в течение
первых лет занятий в невозможности добиться успешности, обращается за
медико-педагогическим советом тогда, когда должна определиться
дальнейшая судьба ребенка; с другой стороны, в средних учебных заведениях
занятия в первых 2-3 классах уже приводят к подозрению дефективности.
Средние выводы из профилей нашего материала, распределенного по
возрастам (от 8 до 15 лет), дали следующие цифры:
Таблица 4
576
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Уже общий взгляд на таблицы цифр и профилей позволяет
усмотреть как общее несовпадение возрастных профилей и их формул, так и
частичное: некоторые из них оказываются выше, другие ниже и как будто
с возрастом профиля становятся выше, с тем, однако, исключением, что, надо
думать, от причин случайного подбора индивидуальностей восьмилетний
профиль оказывается выше девятилетнего и четырнадцатилетний —
выше пятнадцатилетнего; ясно видно здесь все-таки распределение всех
возрастных профилей на 2 группы: первую, состоящую из 8-, 9- и
10-летних возрастов, и вторую, старшую, из остальных возрастов (от 11 до
15 лет, рис. 3).
Рис. 3
Кроме того, средняя высота Р, в свою очередь, обнаруживает
некоторую тенденцию к постепенному повышению, хотя и весьма слабому и в
зависимости от случайных условий, тоже не всегда постоянному; в среднем,
как видно на нижеприведенной таблице, можно сказать, это повышение с
7- до 18- летнего возраста ограничивается 1,0 высоты в среднем (между
5,5 и 6,5), причем возрасты от 7 до 10 лет дают среднюю высоту Р в
пределах 5 с десятыми, а возраст от 11 до 18 лет — в пределах 6 с десятыми.
Те же особенности представляют и колебания максимумов средней
высоты Р индивидуальных профилей по возрастам.
19 Российская психология
577
ЧАСТЬВТОРАЯ
Средняя
высота Р
Максимум средней
высоты
индивидуальных профилей
7 л.
5,8
6,9
8 л.
5,5
7,8
9 л.
5,1
7,1
Юл.
5,7
7,8
11л.
6,2
8,6
12 л.
6,3
8,1
Средняя
высота Р
Максимум средней
высоты
индивидуальных профилей
13 л.
6,4
8,5
14 л.
7
8,5
15 л.
6,5
8,3
16л.
6,6
8,6
17л.
7,4
8,8
18 л.
6,4
8,4
Что касается колебаний отдельных составных частей возрастных
средних профилей, то таковые могут быть отмечены в пределах психического
тонуса (внимания и воли), хотя и несколько непланомерно в смысле
правильного соотношения с возрастом, а главным образом в отношении
высших процессов, но преимущественно — комбинаторной способности,
сметливости и воображения, где резко отличается группа младшая (8-10 л.) от
старшей (11-15 л.) и что резко бросается в глаза при сравнении III членов
возрастных формул.
Таким образом, насколько наши 360 детей не представляют
специально подобранной группы и насколько к нам приводились дети различных
возрастов случайно, без специального подбора с особым
взаимоотношением между типом отсталости и возрастом, мы должны пока допустить, что
на пестрой массе дефективных детей сказывается влияние возраста в том,
что чем старше ребенок, тем его профиль выше, причем весьма близкие
между собой профили детей и юношей старше 10 лет отличаются от
младших как по высоте, так и по типу, более приближающемуся у младшей
группы к имбецильному.
Впрочем, от окончательного признания важности высокого возраста
для высокого профиля у дефективных детей мы должны еще
воздержаться, пока не будут учтены еще два крайне важных фактора, а именно: пол и
условия учебно-воспитательной среды.
578
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Зависимость профиля от пола
Наши 360 детей в отношении возраста по полам распределяются еле
дующим образом:
Мальчиков оказывается более чем втрое больше (271), нежели дево
чек (89), причем число первых и вторых от 7 лет к 12 годам повышается д<
максимума (48 мальчиков и 23 девочек), а затем к 18 годам понижаете
почти пропорционально.
Средний профиль 271 мальчика и 89 девочек оказался следующим (см
рис. 4 и табл. 5),
<>&»
579
ЧАСТЬВТОРАЯ
Таблица 5
т. е. как весь профиль в разных своих частях, в том числе и % ретенции, так
и его средняя высота и все члены формулы у мальчиков оказываются
заметно выше, причем, однако, максимум преобладания приходится на долю
внимания, воли и точности восприимчивости, с одной стороны, и
комбинаторной способности, сметливости и воображения — с другой; как будто
профиль девочек относится к профилю мальчиков так, как профиль
младшего возраста (8-10 л.) к старшему (11—15л.).
Такая аналогия заставляет нас обратиться к сравнительным
профилям мальчиков и девочек одних и тех же возрастов (см. табл. 6).
Таблица 6
580
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
581
ЧАСТЬВТОРАЯ
15 л.
мальч.
15 л.
девоч.
5,4
4,3
5,2
4,3
6
3,8
7,7
(86,9%)
6,9
(80,9%)
5,7
(55,1 %)
4,7
(50,9 %)
6,4
(77,9 %)
5,9
(69,7 %)
8,8
6,5
8,4
6,3
7,7
5,6
8,2
6,4
5,8
3,6
Р6,8||5,3 +
6,6(72,6%)
+ 7,8
Р5,2||4,3 +
5,1(66,9%)
+ 5,7 |
Эти цифровые столбцы и профили только подтверждают
сравнительное показание общих средних профилей мальчиков и девочек в том, что и
по отдельным возрастам у наших мальчиков средние профили
оказываются выше, нежели у девочек, в большинстве случаев — в отношении тонуса и
точности восприимчивости и безусловно постоянно — в области высших
процессов, по преимуществу же в отделах комбинаторной способности,
сметливости и воображения.
В соответствии с разницей в высоте отдельных точек «профиля»
находится и более низкий процент памяти у девочек (в общем — 69,5 %) по
сравнению с мальчиками (76,3 %), хотя и без заметного влияния возраста
(см. табл. выше).
Наконец, в отношении процентного распределения профилей
мальчиков и девочек по типам строения формулы отмечается полная аналогия,
а именно и у тех и у других преобладают типы, наиболее часто
сопровождающиеся школьной недостаточностью: - + +, h и - + -.
Тип
+ + +
- + +
+ - +
+ +
-- +
- +
+--
Мальчики
9%
24%
6%
8%
23%
28%
2%
Девочки
5%
18%
13%
6%
16%
25%
7%
Общим выводом из сопоставления профилей двух полов может быть
тот, что у наших 360 дефективных детей и юношей профили мальчиков
оказались выше, нежели у девочек и en bloc и по возрастам, причем это
преобладание отразилось на общей высоте, на средней высоте (Р), на всех
составных частях, хотя в меньшей степени в отделе восприимчивости, но в резкой
степени — в отделах творческих процессов интеллекта.
Повторяем, что такое превалирование психомеханики у мальчиков мы
выводим на основании исследования профилей известного числа
дефективных индивидуумов, не заключая еще того же относительно разницы в
психо582
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
логии двух полов вообще. Тем более что нам необходимо еще считаться с
одним весьма вероятным и важным обстоятельством, а именно с возможностью
того, что мальчиков могли приводить за медико-педагогическим советом
менее отсталых, в более легких стадиях дефективности, так как родителей,
казалось бы, должна больше заботить успешность в школьной работе мальчиков,
нежели девочек, могущих обходиться без обязательного окончания учебного
заведения; и тогда пришлось бы нам вместо сделанного только что вывода о
более высоких профилях у мальчиков, нежели у девочек, свести разницу к
особому отбору по соображениям родителей.
Вопрос о разнице интеллекта растущих индивидуумов разного пола
может быть разрешен на основании многочисленных параллельных
исследований нормальных детей, и это будет предметом наших дальнейших работ.
Однако и имеющийся в нашем распоряжении материал может также пролить
необходимый свет на вопрос, если использовать его надлежащим образом,
взяв за исходную точку сравнения единообразные учебно-воспитательные
условия; по крайней мере оценка одаренности учеников из тех или иных школ,
а особенно из школ смешанного типа для нормальных и дефективных детей,
откуда в институт обращались по инициативе не родителей, а педагогов, едва
ли может зависеть от приведенного выше условия, а посему может
способствовать разрешению данного вопроса в определенном смысле, по крайней
мере по отношению к умственно недостаточным детям.
Отношение профиля к учебно-воспитательным условиям
Подвергнутые нами исследованию дети по условиям
учебно-воспитательной обстановки распределяются следующим образом: 73 ученика (49 м.
и 24 д.) из начальных городских школ для нормальных детей, 168 детей и
юношей (145 м. и 23 д.) из различных средних школ — гимназий, реальных
училищ, коммерческих, технических, духовных, кадетских корпусов, 61
ученик (36 м. и 25 д.) из специальных учебных заведений для дефективных
детей — городских вспомогательных школ интернатов общественных и
частных, 50 дефективных детей (33 м. и 17 д.), живущих и обучающихся
дома, и, наконец, 8 мальчиков-преступников, исследованных по просьбе
суда для малолетних.
По отношению к средней высоте профиля (Р) рассматриваемые
группы детей распределяются след. образом (см. табл. 7):
Таблица 7
583
ЧАСТЬВТОРАЯ
На таблице видно, что среди дефективных детей, обучающихся дома и
в специальных учебных заведениях, большинство имеют Р = 5 с десятыми,
дети начальных школ и судебные имеют Р = 6 с десятыми, а неуспевающие
дети средних школ — 7 с десятыми.
Средние же профили для каждой из перечисленных групп (общие для
мальчиков и девочек) оказались таковы (см. табл. 8):
Таблица 8
На таблице, как ясно видно, проходит резкая грань, отделяющая, по
общей высоте, три средних профиля - обучающихся дома, учеников
специальных училищ для дефективных и «нормальных» учащихся городских
училищ от двух других средних профилей - учеников средних учебных
заведений и детей-преступников; первые три общих профиля весьма близки,
584
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
почти тожественны между собой, с той лишь разницей, что у отстающих
детей начальных училищ внимание выше, нежели у других двух групп,
причем и формулы их представляют много общего, но у последних двух
структура их представляет тип гипотонический (— + +), у первой же группы
(начальных училищ) она планомерная (+ + +).
Профиль учащихся в средних учебных заведениях значительно выше
предыдущих (Р выше на 1,2) и по строению своему представляет разницу:
все его составные части, кроме зрительной восприимчивости, значительно
выше.
У юношей же с судебным прошлым профиль отличается отчасти более
низким III членом формулы, но главным образом значительно более
низкой способностью запоминания элементов речи (4,1 и 5,5); факт,
наблюдавшийся постоянно и крайне интересный: не играет ли он роли в судьбе
таких детей?
Так как среди учащихся в средних учебных заведениях предполагаются
дети более старшего возраста, нежели в других, давших детей в наше
распоряжение, учебных заведениях, и что в суд для малолетних попадают дети не
моложе 12 лет, то, естественно, приходится подумать, не повлиял ли возраст на
высоту профиля. Правда, среди дефективных обучающихся дома и в
специальных учреждениях, находится немало и юношей, что ослабляет значение
приведенного возражения, но тем не менее для более наглядного решения
вопроса мы приводим сравнение средних профилей всех мальчиков начальной
школы (43) в возрасте от 9 до 14 лет и мальчиков тех же возрастов, учащихся в
средних учебных заведениях (95) (см. табл. 9).
Таблица 9
Дети 9—11 лет
Нач.
школа.
Сред,
уч зав.
Внимание
5,1
5,6
Воля
4,5
5,3
Точ. воспр.
4,7
6,1
Зрительная
память
7Л
(82,7 %)
7,8
(85,7 %)
Память
речи
4,4
(49,5 %)
5,5
(54,1 %)
Память
чисел
5,6
(77,7 %)
6,8
(80,9 %)
Осмысление
7,9
8,7
Комб. способность
6,9
8,5
Сметливость |
7
8,5
Воображение
7
8,2
Наблюдательн.
4,8
6,4
Формулы
Р5,9||4,8 +
5,4 (70%)+6,7
Р7Ц5.4 +
6,5 (73,9%)+ 8,1
Здесь вполне очевидно, что, несмотря на одинаковый почти средний
озраст дефективных мальчиков — 9-14 лет начальной (11,1 год) и
средей (12 л.) школ, профили представляют очень резкую разницу в
отноше585
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
нии высот как общей, так и каждого отдельного процесса, и потому
приходится ее относить не на счет возраста, а на счет тех
учебно-воспитательных условий, в которых находились представители той и другой группы,
т. е. либо на счет: 1) более высокого развития, приобретаемого в средней
школе, по сравнению с низшей, либо 2) большей одаренности всех
учеников средней школы вообще, либо 3) большей требовательности последней,
в силу которой нужда во врачебно-воспитательном совете
обнаруживается при менее глубокой степени отсталости, нежели в менее
требовательной начальной школе.
И для решения вопроса о разнице профилей и представителей разного
пола, группировка материала по учебно-воспитательным условиям может
тоже оказать известную услугу.
Сопоставим с этой целью профили мальчиков и девочек каждой группы в
отдельности и иллюстрируем цифры соответствующими кривыми (см. табл. 10).
Таблица 10
Мы видим сплошное преобладание по всем группам силы
психомеханики у мальчиков как в отношении средней высоты профиля, так его
от586
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
дельных частей, причем всего резче разница сказывается у детей,
обучающихся в специальных заведениях и в нормальных городских школах:
у первых разница между Р равняется 1,0, у вторых она равняется 0,8.
Нагляднее будет выступать разница на нижеследующей таблице, где
цифры, стоящие под Р (средн. высота профиля) I (псих, тонус), II
(восприимчивость), III (высшие процессы), показывают, насколько данная
величина у мальчиков больше, нежели у девочек:
Домаш.
Специальн.
Начальн.
Средн.
Р
0,5
1,0
0,8
0,5
I
0,5
0,6
0,5
0,4
II
0,2
0,6
0,3
0,5
III
0,8
1,5
1,2
0,5
Таким образом, и с этой стороны еще раз подтверждается выше
выяснившееся положение, что у дефективных мальчиков средние профили, в
общем и в частностях оказываются более высокими, чем у девочек.
Этим закончим пока рассмотрение психологического профиля и его
свойств с точек зрения его отношения к медицинскому и
психолого-педагогическому определению различных степеней отсталости, к
распределению материала в разнообразных условиях воспитывающих воздействий,
к полу и возрасту; мы могли установить ряд вытекающих из наших данных
положений, подтверждение которых мы будем искать еще в ряде
проверочных работ над новым материалом. Центр главного нашего интереса,
вокруг которого группируются вышеустановленные выводы, заключается
в определении при помощи исследования психологического профиля
высоты отсталости, т. е. степень отсталости или, вернее, силу
психо-механики учащихся, и для достижения этой основной нашей цели мы и
постарались использовать все упомянутые точки зрения как мерила проверки
нашего метода. Результаты получились: мы могли проследить довольно
полное соответствие между показаниями профиля, с одной стороны, и
медико-педагогическими характеристиками, приведенными к распределению
по учебным заведениям, с другой. Правда, наряду с подавляющим
большинством совпадений мы встречали в иных случаях и заметную
несогласованность, как, например, профиль сравнительно низкого качества у детей,
не показавших себя в школе заметно отсталыми, или обратное
соотношение; но кто не знает, как часто для самих педагогов бывает неясна картина
структуры и высоты интеллекта у детей, как часто они ошибаются в своих
определениях, сколько случаев ошибочного помещения ребенка в
несоответствующее учебное заведение, как сильно грешит интуиция или
руководство априорными доктринами, как уродлива конструкция многих
учебных планов, как далеки от здравого смысла большинство экзаменационных
587
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
оценок и, наконец, как мало ценного для школы дает обычная клиническая
классификация дефективности детей, чтобы довольствоваться
существующими приемами оценки детской одаренности и не разработать до
степени практической применимости метод, нашедший себе уже столько
подтверждений в проверках на живом материале.
Собственно говоря, кадры т.н. отсталых и малоуспевающих детей
составляются из разнообразных групп психопатологических состояний:
врожденного слабоумия и более или менее рано приобретенного слабоумия
различных происхождений, насколько имеется возможность точно провести
грань между тем и другим; и нет у психиатров-клиницистов данных как для
точной квалификации каждого из этих разных видов слабоумия по их
происхождению, так и для распределения их по степеням главных
определяющих слабоумие симптомов — дефектов в сфере интеллекта; для
последнего, по крайней мере, постольку, поскольку это важно для дела
воспитания-обучения. Приходится где возможно отмечать натуру слабоумия,
добавляя в иных случаях отметку о конституции (например,
эпилептической, истерической, конст. навязчивых состояний и т. п.), и по
необходимости для психолого-педагогической практики давать определение
степени слабоумия. Для последней цели необходимо делить слабоумных детей
на две большие группы, в которые входят: в 1-ю — «ймбециллики» и с
таким же типом психики слабоумные несколько менее выраженной степени
(абсолютные дебилики — debilitas absoluta); во 2-ю — более сильные умы,
дефекты которых частичные, чаще вне сферы высших процессов (дебилики
частичные — debilitas relativa, s. partialis).
В этом направлении на основании данных этой работы мы могли бы
сделать некоторые практические выводы для руководства при решении
вопроса о характере одаренности или, вернее, если можно так выразиться,
недоодаренности детей на предмет направления их в соответствующие
учебные заведения; конечно, речь здесь идет не о таких выводах, которые дают
отдельные паспорта для направления в тот или иной класс, в ту или иную
низшую или среднюю школу, а о таких принципиальных исходных точках
для характеристики психомеханики ребенка, которые позволяют даже
заранее, еще до школьного опыта, делать заключение о рабочей силе ума и о
ее психологических, наиболее характерных особенностях и которые,
кроме того, требуя от исследования сравнительно небольшого времени,
зиждутся не на схематически-кратких приемах исследования, пригодных лишь
для грубого подразделения детей на основные группы: одних,
подлежащих нормальной, и других — вспомогательной школе, или сводящих все к
возрастной степени интеллектуального развития, а способствующих
освещению интеллекта со стороны общей продуктивности работы, частичной
продуктивности и взаимоотношения ингредиентов и, наконец, скорости
умственной работы.
588
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Выводы эти следующие:
1. Абсолютная дефективность учащихся определяется средней
высотой от 5 книзу.
2. Относительная дефективность в отношении высоты Р
располагается между Р5 и Р8.
3. Наименее выгодное соотношение главных ингредиентов
психомеханики — психического тонуса, восприимчивости и высших процессов,
характерное для профилей с Р не выше 5, заключается в сравнительно недостаточно
высоких I и III ингредиентах и сводится к структуре формулы — + —.
4. Сильно понижающим школьную работоспособность условием
строения профиля, даже в тех случаях, где его средняя высота значительно выше,
чем Р5, надо считать отчасти амнестический (Н Ь), особенно для более
высоких Р, но гораздо более — тип психастенический ( Ь).
5. При сравнительно высоком профиле по отношению к
общепринятому типу школьной работы, особенно в «казенных» средних учебных
заведениях, более выгодным можно считать «слабоумный» тип (- + -), нежели
два других (Н Ь), особенно ( Ь).
6. У отсталых детей от 7 до 11 лет среднюю высоту Р можно считать
ниже на 1,0, нежели у детей старше 11 лет.
7. У отсталых детей ниже 11 лет вместе с более низким Р и тип
структуры формулы соответственно больше приближается к типу - + -.
8. У отсталых девочек до 15-летнего возраста профиль в общем и в
отдельных частях ниже, нежели у мальчиков.
9. Тип профиля у девочек благодаря сравнительно более низкому
психическому тонусу, а главное третьему члену (высших процессов), имеет
тенденцию приближаться к типу- + -.
10. Ценность профиля может быть понижена продолжительностью
необходимого для его получения времени; к разряду отсталых приходится
относить и медленно работающих детей, несмотря на вполне
удовлетворительную высоту Р и выгодную структуру профиля.
11. Для оценки учащегося недостаточно таких расплывчатых, в
особенности по отношению к слабым степеням дефективности,
психиатрических определений, как «имбециллик» и «дебилик», или слишком кратких
обозначений степеней отсталости вроде слабой, средней, глубокой или
отсталости на столько-то лет против нормы. Благодаря исследованию
«психологического профиля » можно давать более точное определение
дефективности, указывая на: а) высоту Р, Ь) структуру формулы и с) длительность
работы, при общей оценке характера слабоумия как степени
«имбецильной» или менее резкой — «дебильности абсолютной» (в пределах Р выше
4]/2) — debilitas absoluta, в отличие от относительной или частичной
дебильности (debilitas relativa, s. partialis), с дефективностью в процессах
тонуса или восприимчивости и при более высоких Р.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
А.Ф. КОНИ:
ПСИХОЛОГИЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Кони Анатолий Федорович (1844-1927) —
юрист, ученый, писатель, выдающийся судебный
оратор. После окончания юридического
факультета Московского университета (1865) более
полувека выступал как ученый, занимался
лекторской и педагогической деятельностью, некоторое
время был профессором Петроградского
университета (1918-1922), практический судебный
деятель. Считал, что юрист должен быть широко
образованным человеком, хорошо разбираться в
психологии. Последнее необходимо для
правильной оценки достоверности свидетельских
показаний, для понимания личности преступника и причин, приведших к
совершению того или иного противоправного поступка. Вл. Соловьев называл
его «проницательным и тонким юристом-психологом».
Кони — автор многочисленных статей, публицистических
выступлений, описаний наиболее примечательных дел из собственной
юридической практики, очерков-воспоминаний о русских писателях, со
многими из которых его связывала личная дружба (Ф.М. Достоевский,
И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, H.A. Некрасов, Л. Толстой, М.Е.
Салтыков-Щедрин, В.Г. Короленко, А.П. Чехов).
психология t
И СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
(Практические заметки)
Свидетельское показание, даже данное в условиях, направленных
к обеспечению его достоверности, нередко оказывается
недостоверным. Самое добросовестное показание, данное с искренним желанием
рассказать одну правду, и притом всю правду, основывается на усилии
памяти, передающей то, на что в свое время свидетель обратил
внимание. Но внимание есть орудие, для восприятия весьма несовершенное,
память же с течением времени искажает запечатленные вниманием
образы и дает им иногда совершенно выцвесть. Внимание обращается не на все
Новые идеи в философии. Сб. 9. Методы психологии. СПб., 1913. С. 67-102.
590
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
то, что следовало бы впоследствии помнить
свидетелю, и то, на что было обращено
неполное и недостаточное внимание, по большей
части слабо удерживается памятью. Эта
своего рода «усушка и утечка» памяти вызывает
ее на бессознательное восстановление
образующихся пробелов, и мало-помалу в
передачу виденного и слышанного
прокрадываются вымысел и самообман. Таким образом,
внутри почти каждого свидетельского
показания есть своего рода язва, отравляющая
понемногу весь организм показания, не только
против воли, но и без сознания самого
свидетеля.
Можно ли считать доказанным такое
обстоятельство, повествование о котором
испорчено и в источнике (внимание) и в дальнейшем своем движении (память)?
Согласно ли, например, с правосудием принимать такое показание,
полагаясь только на внешние процессуальные гарантии и на добрые намерения
свидетеля послужить выяснению истины? Не следует ли подвергнуть
тщательной поверке и степень развития внимания свидетеля и выносливость
его памяти? И лишь выяснив, с какими вниманием и памятью мы имеем
дело, вдуматься в сущность и в подробность даваемого этим свидетелем
показания и справедливо оценить его.
Таковы вопросы, лежащие в основании предлагаемой в последнее
время представителями экспериментальной психологии переоценки
стоимости свидетельских показаний.
Экспериментальная психология — наука новая и в высшей степени
интересная. Если и считать ее отдаленным началом берлинскую речь
Гербарта «о возможности и необходимости применения в психологии
математики», произнесенную в 1822 году, то, во всяком случае, серьезного и
дружного развития она достигла лишь в последней четверти прошлого
столетия. Молодости свойственна уверенность в своих силах и нередко
непосильная широта задач. От этих же свойств несвободна и
экспериментальная психология, считающая, что труднейшие из вопросов права, науки о
воспитании и учения о душевных болезнях, не говоря уже о психологии в
самом широком смысле слова, могут быть разрешены при помощи
указываемых ею приемов и способов. Но «старость ходит осторожно и
подозрительно глядит». Эта старость, т. е. вековое изучение явлений жизни в связи
с задачами философского мышления, не спешит присоединиться к
победным кликам новой науки. Она сомневается в том, что сложные процессы
душевной жизни могут быть выяснены опытами в физиологических
лабо591
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
раториях и что уже настало время для вывода на прочных основаниях
общих научных законов даже для простейших явлений этой жизни. Тем не
менее нужно быть благодарным представителям экспериментальной
психологии за поднятый ими вопрос о новой оценке свидетельских показаний.
На необходимость ее указывают труды и опыты профессоров: Листа,
Штерна («Zur Psychologie der Aussage»), Врешнера (то же) и доклад на
гиссенском конгрессе экспериментальной психологии г-жи Борет («О
вычислении ошибок в психологии показаний»).
На неточность свидетельских показаний, являющуюся следствием
ослабления памяти, недостаточности внимания или того и другого вместе,
давно уже указывали английские юристы, занимавшиеся изучением
теории улик и доказательств. Бест, Уильз и в особенности Бентам не раз
обращались к анализу этого явления. Последний посвятил ему особую главу
своего трактата «о судебных доказательствах». Он находил, что неточность
показаний вызывается ослаблением памяти вследствие отсутствия
живости в восприятии сознанием своего отношения к факту и под влиянием
времени, заменяющего незаметно для свидетеля подлинное воспоминание
кажущимся, причем на место настоящего впечатления является ложное
обстоятельство. Он указывал также на то, что весьма важное значение для
уклонения показаний от истины имеют работа воображения и
несоответствие (неточность, неумелость) способа изложения. Поэтому уже и
Бентам требовал математических приемов в оценке и классификации
показаний, восклицая: «Неужели правосудие требует менее точности, нежели
химия? » Но в дальнейшем своем стремлении установить строгий и
непоколебимый масштаб для оценки доказательств и вытекающего из них
внутреннего убеждения он дошел до неприемлемой крайности: он изобрел
особую скалу, имеющую положительную и отрицательную стороны,
разделенные на десять градусов, обозначающих степени подтверждения и
отрицания одного и того же обстоятельства; при этом степень уверенности
свидетеля в том, о чем он показывает, должна обозначаться им самим
посредством указания на градус Бентамовской шкалы...
Экспериментальная психология употребляет разнообразные способы для
выяснения вопросов, касающихся объема, продолжительности и точности
памяти. Существуют методы исследования путем возбуждения ее к сравнению,
к описанию, к распознаванию и к воспроизведению. В применении к людям,
разделяемым по отношению к свойствам своего внимания на таких, у которых
более развито слуховое внимание или зрительное внимание, эти методы дают
очень интересные результаты, доказывающие связь душевных процессов с
деятельностью нервной системы и мозга. В расширении этой области наших
знаний заключается несомненная заслуга экспериментальной психологии. Но
едва ли все подробные исследования и интересные сами по себе опыты
должны изменить что-либо в ходе и устройстве современного уголовного по
пре592
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
имуществу процесса. Такое сомнение возникает и с точки зрения
судопроизводства, и с точки зрения судоустройства.
В первом отношении прежде всего рождается вопрос: одно ли и то же —
показание свидетеля на суде и отчет человека, рассматривавшего в течение
У4 минуты показанную ему картину с изображением
спокойно-бесцветной сцены из повседневной жизни? Одно ли и то же — вглядеться с
безразличным чувством и искусственно направленным вниманием в излюбленное
Штерном изображение того, как художник переезжает на новую квартиру
или как мирная бюргерская семья завтракает, выехав «in's Grüne», —
а затем отдаться «злобе дня», забыв и про картину, и про Штерна, — или
быть свидетелем обстоятельства, связанного с необычным деянием,
нарушающим мирное течение жизни, например с преступлением, и притом не
на сцене, а в окружающей действительности, и быть призванным
вспомнить о нем, зная о возможных последствиях своих слов? Преступление
изменяет статику сложившейся жизни: оно перемещает или истребляет
предмет обладания, прекращает или искажает то или другое существование,
разрушает на время уклад определенных общественных отношений и т. д.
Для установления этого существуют по большей части объективные,
фактические признаки, не нуждающиеся в дальнейших доказательствах
свидетельскими показаниями. Но в преступлении есть и динамика — действия
обвиняемого, занятое им положение, его деятельность до и по совершении
того, что нарушило статику. Здесь свидетели играют в большинстве
случаев огромную роль, и их прикосновенность к обстоятельствам, в которых
выразилась динамика преступления, вызывает особую сосредоточенность
внимания, запечатлевающую в памяти образы и звуки с особой яркостью.
Этого не в силах достичь никакая картина, если только она не изображает
чего-либо потрясающего и оставляющего глубокий след в душе, вроде
«Петра и Алексея» Ге, «Княжны Таракановой» Флавицкого или «Ивана
Грозного» Репина. Да и тут отсутствие личного отношения к изображенному и
сознание, что это, как говорят дети, «не завсамделе », должны быстро
уменьшать силу впечатления и стирать мелкие подробности виденного. Но
показывание картинок является только первым шагом на пути изучения способов
избежания неточных показаний — говорят представители
экспериментальной психологии. В будущем должно утвердиться сознание, что воспоминание
есть не одна лишь способность представления, но и акт воли, — и тогда для
устранения ошибок не только в устах свидетелей, но на страницах
мемуаров и исторических воспоминаний создастся нравственная мнемотехника
и в школах будет введено «преподавание о воспоминании». Однако
желательно, чтобы и теперь относительно особо важных свидетелей
применялась психологическая проверка степени достоверности их показаний
особым экспертом, лучше всего юристом-психологом, который может дать
этим показаниям необходимый коэффициент поправок. Но что такое
осо593
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
бо важный свидетель? Очевидно, тот, кто может дать показание об
обстоятельствах, имеющих особо важное уличающее или оправдывающее
значение. Однако такие обстоятельства в виде прямых доказательств
встречаются сравнительно редко и устанавливаются обыкновенно совершенно
объективным способом. Гораздо важнее улики. Но как выбрать между
уликами, — «qui sont des faits places autur de quelque autre fait», как говорит
Боннье, — могущими лишь в своей совокупности и известном сочетании
перестать быть «ein Nebenumstand» и установить известный факт,
имеющий прямое отношение к составу преступления? Как отделить особо
важные от менее важных? Судебная практика представляет множество
случаев, где пустое и незначительное, по-видимому, обстоятельство сразу
склоняло весы в ту или другую сторону, так как оно нередко совершенно
неожиданно замыкало собою цепь оправдательных или обвинительных
соображений, слагавшихся среди сомнений и колебаний. Кто может, кроме
того, определить, кто из свидетелей должен быть подвергнут
психологической экспертизе? Конечно, суд во время заседания, когда выяснится
важность обстоятельства, о котором дает или должен дать показание
свидетель. Но тогда вся предшествующая работа суда и присяжных заседателей
должна быть прервана и по условиям места и времени начата снова лишь по
окончании экспертизы, которая, по рецептам Штерна и Врешнера, должна
длиться по меньшей мере около месяца. Да и где взять необходимое
количество экспертов-психологов? И не будет ли возможность такой
экспертизы оправдывать малую заботливость о делаемом теперь отыскании других
данных для проверки и испытания удельного веса свидетельского
показания? Затем, действительно ли так многозначительна подобная экспертиза,
создающая, к слову сказать, для некоторых доказательств своего рода
предустановленность ad hoc, причем, в сущности, показания свидетеля,
проходящие чрез психологическую редакцию и цензуру эксперта, утрачивают
свою непосредственность? Психологическое исследование лжи будет, надо
думать, бессильно, ибо сознательный лжец не представит никаких
пробелов памяти относительно того, что он измыслил в медленной работе
низменных побуждений или в твердом желании спасти близкого или дорогого
человека. Лучше всего это доказывают очные ставки свидетелей между
собою. Лжец всегда упорно стоит на своем, а правдивый под конец
начинает нередко путаться и колебаться, смущенный возникшими сомнениями в
правде своих слов. Едва ли поэтому суду придется часто присутствовать
при психологическом удостоверении перевирания свидетелем своей
первоначальной лжи — и задача экспертизы сведется лишь к указанию на
возможность, по условиям памяти свидетеля, неточности показания, которое
он считает правдивым. Но для этого есть более доступные и простые
средства. Наконец, если показанию свидетеля можно доверять лишь после
проверки степени его внимания и силы его памяти, то почему же оставлять без
594
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
проверки эти же самые свойства у судей, память которых должна
удерживать в себе правдивый образ неизмеримо большего количества
обстоятельств. Если рассказ свидетеля о слышанном и виденном может
независимо от него передавать то и другое в искаженном или неверном виде, то
насколько же больших гарантий требует рассказ судей о том, что им
пришлось выслушать, — рассказ, излагаемый в форме исторической и
аналитической части приговора. Не придется ли неизбежно спросить — et custodit custodies
ipsos? Поэтому там, где экспериментальная психология предъявляет
требование указываемых ею опытов взамен совокупной работы здравого рассудка
судей и присяжных, знания ими жизни и простого совестливого отношения к
своим обязанностям, не последовательнее ли было бы преобразовать суд
согласно мечтаниям криминальной психологии, заменив и
профессиональных, и выборных общественных судей смешанною коллегией из
врачей, психиатров, антропологов и психологов, предоставив тем, кто ныне
носит незаслуженное имя судей, лишь формулировку мнения этой
коллегии.
Нечто подобное предлагает уже несколько лет венский профессор
Бенедикт, который находит, что государству приходится иметь дело с
тремя родами преступников: прирожденными (агенератами), неправильно
развившимися лично или под влиянием среды (дегенератами) и случайными
(эгенератами), причем суду над теми из них, которые оказываются
неисправимыми, т. е. агенератами, и над большею частью дегенератов должен
быть придан характер особой коллегии из врачей лишь с примесью
судейского элемента. Эта коллегия, предусмотрительно составленная из двух
инстанций, с периодическим пересмотром всех ее приговоров должна
каждый раз разрешать формулу: X=M+N+N1+E+О, причем М обозначает
совокупные условия и свойства организма подсудимого, N — его
прирожденные свойства, N1 — его приобретенные наклонности, Е — внешние на
него влияния, его среду и обстановку и О — случайные влияния и
возбуждения. Этот же суд учреждает и своеобразную «усиленную опеку » над
лицами, хотя еще и не совершившими какого-либо преступного деяния, но по
своим наклонностям способными его совершить.
Поэтому, не увлекаясь приемами экспериментальной психологии,
можно попробовать подвести по отношению к свидетельским показаниям
итог многолетних практических наблюдений.
Среди общих свойств, которые отражаются не только на восприятии
свидетелями впечатлений, но, по справедливому замечанию Бентама, и на
способе передачи последних, видное место занимает, во-первых,
темперамент свидетеля. Сочинение Фулье «О темпераменте и характере» вновь
выдвинуло на первый план учение о темпераментах и дало
физиологическую основу блестящей характеристике, сделанной Кантом, который
различал два темперамента чувства (сангвинический и меланхолический) и два
595
ЧАСТЬВТОРАЯ
темперамента деятельности (холерический и флегматический). Опытный
глаз, житейская наблюдательность обнаруживают эти различные
темпераменты и вызываемые ими настроения очень скоро во всем: в жесте, тоне
голоса, манере говорить, способе держать себя на суде. А зная типическое
настроение, свойственное тому и другому темпераменту, нетрудно
представить себе и отношение свидетеля к описываемым им обстоятельствам и
понять, почему и какие именно стороны в этих обстоятельствах должны
были привлечь его внимание и остаться в его памяти, когда многое другое
из нее улетучилось.
Во-вторых, при оценке показания играет большую роль пол
свидетеля. Психологические опыты Штерна и Врешнера также замечают разницу
между степенью внимания и памяти у мужчин и женщин. Достаточно
обратиться к серьезному труду Гевлок Эллисса «О вторичных половых
признаках у человека», к интересному и содержательному исследованию
И.Е. Астафьева «Психический мир женщины», к исследованиям
Ломброзо и Бартельса и к богатой литературе о самоубийствах, чтобы видеть, что
чувствительность к боли, обоняние, слух и в значительной степени зрение
у мужчин выше, чем у женщин, а любовь к жизни, выносливость, вкус и
вазомоторная возбудимость выше у женщин. Вместе с тем, как правильно
замечает Астафьев, у женщин значительно сильнее, чем у мужчин, развита
потребность видеть конечные результаты своих деяний и гораздо менее —
способность к сомнению, причем доказательства их веры во что-либо
оцениваются более чувством, чем анализом. Следствием этого является
преобладание впечатлительности над сознательною работою внимания,
соответственно ускоренному ритму душевной жизни женщины. Наконец,
интересными опытами Мак Дугалля установлено, что время, которое
играет такую важную роль в показаниях, мужчинам кажется длиннее
действительного на 45 %, женщинам же — на 111 %. В каждом из этих свойств
содержатся и основания к оценке достоверности показания свидетелей и
потерпевших от преступления, которые также часто подлежат допросу в
качестве свидетелей.
В-третьих, большой осторожности при оценке показания требует
поведение свидетеля, влияющее на способ передачи им своих воспоминаний.
Замешательство его вовсе еще не доказывает желания скрыть истину или
боязни быть изобличенным во лжи, — улыбка и даже смех при передаче
обстоятельств, отнюдь не вызывающих веселости, еще не служат
признаком легкомысленного отношения его к своей обязанности
свидетельствовать правду, — наконец, нелепые заключения, выводимые свидетелем из
рассказанных им фактов, еще не указывают на недостоверность этих
фактов. Свидетель может страдать навязчивыми состояниями без навязчивых
идей. Он может не иметь сил удержаться от непроизвольной и неуместной
улыбки, от судорожного смеха (risus sardonicus), от боязни покраснеть, под
596
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
влиянием которой кровь бросается ему в лицо и уши. Эти состояния
подробно описаны академиком Бехтеревым. В таких случаях надо слушать,
что говорит свидетель, и отнюдь не принимать во внимание при оценке
сказанного то, чем оно сопровождалось. Свидетель может быть глуп от
природы, а глупость, по справедливому мнению покойного Токарского,
отличается от ума лишь количественно, а не качественно — и глупец прежде
всего является свободным от сомнений. Но глупость надо уметь отличать
от своеобразности, которая тоже может отразиться на показании.
В-четвертых, наконец, некоторые физические недостатки, отражаясь
на односторонности показания свидетеля, в то же время, так сказать,
обостряют его достоверность в известном отношении. Известно, например,
что у слепых чрезвычайно тонко развивается слух и осязание. Поэтому,
все, что воспринято ими этим путем, приобретает характер особой
достоверности. Известный окулист в Лозанне Дюфур, настаивает даже на
необходимости иметь на быстроходных океанских пароходах в числе
служащих одного или двух слепорожденных, которые ввиду исключительного
развития своего слуха могут среди тумана или ночью слышать на
громадном расстоянии приближение другого судна. То же можно сказать и о
более редких показаниях слепых, основанных на осязании, если только оно
не обращается болезненно в полиэстезию (преувеличение числа
ощущаемых предметов) или макроэстезию (преувеличение их объема).
Обращаясь от этих общих положений к тем особенностям внимания,
в которых выражается разность личных свойств и духовного склада
людей, можно отметить в общих чертах несколько характерных видов
внимания, знакомых, конечно, всякому вдумчивому наблюдателю.
Внимание, столь отражающееся в рассказе о виденном и слышанном,
прежде всего может быть разделено на сосредоточенное и рассеянное.
Внимание первого рода, в свою очередь, или сводится почти исключительно к
собственной личности созерцателя или рассказчика, или же, наоборот,
отрешается от этой личности, которая в их передаче отходит на задний план.
Есть люди, которые всегда делают центром своих мыслей и представлений
самих себя и проявляют это в своем изложении, о чем бы они ни говорили.
Для них — сознательно или невольно — все имеет значение лишь
постольку, поскольку оно в чем-либо их касается. Окружающий мир явлений
рассматривается ими не иначе как сквозь призму собственного Я. От этого
ничтожные сами по себе факты приобретают в глазах таких людей иногда
чрезвычайное значение, а события первостепенной важности
представляются им лишь отрывочными строчками — «из хроники происшествий ». При
этом житейский размер обстоятельства, на которое устремлено такое
внимание, играет совершенно второстепенную роль, и важным является лишь
то, какое отношение имело оно к личности повествователя. Обладатель
такого внимания нередко поэтому с большею подробностью и вкусом
бу597
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
дет говорить о вздоре, действительно только его касающемся и лишь для
него интересном, — будь то вопрос сна, удобства костюма, домашних
привычек, тесноты обуви, сварения желудка и т. п., — чем о событиях
общественной важности или исторического значения, свидетелем которых ему
пришлось быть. Из рассказа его всегда ускользнет все общее, родовое,
широкое и останется твердо запечатленным лишь то, что задело его
непосредственно. В эготической памяти свидетеля, питаемой подобным, если
можно так выразиться, центростремительным вниманием, напрасно искать
не только подробную, но хотя бы лишь ясную картину происшедшего или
синтеза слышанного и виденного. Но зато она способна сохранить иногда
ценные характеристические для личности самого свидетеля мелочи. Когда
таких свидетелей несколько, приходится из их показаний складывать
представление о том или другом обстоятельстве, постепенно приходя к
уяснению себе всего случившегося. При этом необходимо мысленно отделить
картину того, что в действительности произошло на житейской сцене, от
эготической словоохотливости свидетелей. Надо заметить, что
рассказчики с эготической памятью не любят выводов и обобщений и, в крайнем
случае наметив их слегка, спешат перейти к себе, к тому, что они сами
пережили или ощутили. У Анри Монье есть типическое, хотя, быть может,
и несколько карикатурное изображение подобного свидетеля,
повествующего о железнодорожном крушении, сопровождавшемся человеческими
жертвами. В двух-трех общих выражениях упомянув о самом несчастии,
спасшийся пассажир подробно распространяется о том, как при этом он
долго и тщетно разыскивал пропавший зонтик, прекрасный, новый зонтик,
только что купленный в Париже по удивительно дешевой цене. Еще
недавно в отчетах газет об одном жестоком убийстве приводился рассказ
очевидца, в котором изложение того, как он уронил перчатку и должен был
сойти с извозчика, — поднять ее и надеть, — занимало едва ли не большее
место, чем описание того трагического события, которого он был
свидетелем. Несчастье, поразившее сразу ряд людей, обыкновенно дает много
таких свидетелей. Все сводится у них к описанию борьбы личного чувства
самосохранения со внезапно надвинувшеюся опасностью, и этому
описанию посвящается все показание, причем забывается многое, чего,
несомненно, нельзя было не видеть или не слышать. Таковы были почти все
показания, данные на следствиях о крушении императорского поезда в Борках
17 октября 1888 г. и о крушении парохода «Владимир» в августе 1894 года
на пути из Севастополя в Одессу. У нас, в России, под влиянием
переживания скорбных представлений о прошлом эготический характер показания
придает очень часто пугливое отношение свидетеля к происходившему пред
ним, сводящееся к желанию избежать возможности видеть и слышать то,
о чем может понадобиться потом показывать. Передача обстоятельств, по
отношению к которым рассказчик старался избежать положения
свидете598
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ля, обращается незаметно для него в передачу того, что он делал и думал,
а не того, что делали и говорили они, или что случилось пред ним.
Прямую противоположность вниманию центростремительному
представляет такое, которое, употребляя те же термины из области физики,
можно бы назвать центробежным. Оно старается вникнуть в значение
явления и, скользнув по его подробностям и мелочам, уяснить себе сразу
смысл, важность и силу какого-либо события. Человек, обладающий
таким вниманием, очень часто совершенно не задумывается об отношении
тех или других обстоятельств лично к нему и свободно и легко переходит
из положения наблюдателя в положение мыслителя по поводу
созерцаемого или услышанного. Точно, верно, иногда вполне объективно
определив общие черты события, сами собою слагающиеся в известный вывод,
такой свидетель затрудняется, однако, точно указать время
происшествия, место, где он сам находился; свои собственные движения и даже
слова. И этого нельзя объяснить простой рассеянностью или
недостаточной внимательностью свидетеля в его обыкновенной ежедневной жизни.
Такие свидетели вовсе не принадлежат к числу людей «не от мира сего». Все
простое и привычное равномерно привлекает их внимание; но событие,
выходящее из ряда обычных явлений жизни, яркое по своей неожиданности или
богатое своими возможными последствиями, вызывает живую работу мысли
и пробуждает чувства свидетеля. В нем на время упраздняется способность
сосредоточиваться на мелочах — ив памяти его общее подавляет частное, —
характер события стирает его подробности. Опытный слушатель по тону, по
способу изложения безошибочно узнает такого свидетеля, у которого «я »
отходит на второй план перед «они» или «оно». Он никогда не усомнится в
правдивости показания потому только, что свидетель, рассказывающий, не
задумываясь, подробности скудного впечатлениями дня, затрудняется
припомнить многое лично о себе, когда дело касается дня, полного подавляющих
своею силою впечатлений. «Этот человек лжет, — скажет поверхностный и
поспешный наблюдатель — он точно определяет, в котором часу дня и где
именно он нанял извозчика, чтобы ехать с визитом к знакомым, и не может
ясно припомнить, от кого именно вечером в тот же день, в котором часу и в
какой комнате он услышал о самоубийстве сына или о трагической смерти
жены»... — «Он говорит правду, — скажет опытный наблюдатель, — и эта
правда тем вероятнее, чем больше различия между каким-нибудь обыденным
фактом и потрясающим событием, между полным спокойствием после
первого и ошеломляющим действием второго»...
Вниманием рассеянным можно назвать такое, которое неспособно
сосредоточиваться на одном предмете и, направляясь к нему, задевает по
дороге ряд побочных обстоятельств. Оно тоже может быть или
центробежным, или центростремительным в зависимости от свойств
наблюдающего и передающего свои впечатления. При этом мысль и наблюдения
ни599
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
когда не идут по прямой дороге, а заходят в переулки и закоулки, цепляясь
за второстепенные данные, иногда не имеющие никакого отношения к
предмету, на который первоначально было направлено внимание. В частной
жизни, а в особенности при деловых сношениях нужно немало терпения и
терпимости к рассказчику, чтобы следить за ломаной линией
повествования, постоянно отклоняющегося в сторону, и, спокойно выслушивая массу
ненужных вещей, сохранять нить Ариадны в лабиринте словесных
отступлений и экскурсий по сторонам. К числу подобных свидетелей и
рассказчиков принадлежат такие, которые любят начинать «ab ovo », передавать
разные биографические подробности и вообще отдаваться в безотчетную и
безграничную власть своих воспоминаний, причем accidentalia, essentialia и
eventualia смешиваются в ходе их мышления в одну общую, бесформенную
массу. Тип таких рассказчиков слишком известен и, к сожалению,
распространен, чтобы нужно было пояснять его примерами. Но есть в нашей
русской жизни одна характерная особенность, на которую нельзя не указать, —
это любовь к генеалогическим справкам и семейственным эпизодам, в
равной степени тягостная как со стороны слушателя, предлагающего вопросы,
так и со стороны рассказчика, отвлекающегося в область ненужных
подробностей. Случается, что кто-либо, взволнованный каким-нибудь
выходящим из ряда событием, передавая о нем сжато и целостно по
содержанию, вынужден бывает назвать для точности те или другие имена. Горе ему,
если в составе слушателей есть человек с рассеянным вниманием. Он
способен среди общего напряженного внимания прервать самое
существенное место повествования, рисующее глубокий внутренний смысл
события или его значение как общественного явления, вопросами: «это какой
N. N.? тот, что женат на М. М.?» или: «это ведь тот N. N., который,
кажется, был сапером?» или: «а знаете, я ведь с этим N. N. встретился однажды
у моих знакомых В. Это ведь он женился на племяннице М. М., который
управлял Контрольной Палатой? — Где только — не помню... ах, да!
в Харькове, или, нет, в Саратове — нет! нет! вспомнил — именно в
Харькове, а брат его...» и т. д. Будучи сам повествователем, человек с таким
рассеянным и направленным на мелкие, незначащие подробности
вниманием очень часто совершенно не отдает себе отчета, в чем сущность его
рассказа и где лежит центр тяжести последнего. Обыкновенно
умственно ограниченный, узко исполнительный в служебном или светском
обиходе, но вместе с тем вполне довольный собою, такой рассказчик
отличается не только склонностью к уклонениям в сторону брачных и
родственных связей и отношений, но и особой пунктуальностью в названиях и
топографических подробностях. Для него, например, не существует
просто фамилии, а есть чины, имена, отчества и фамилии, нет Петербурга,
Нижнего, Исакия, Синода, конки, а есть Санкт-Петербург,
Нижний-Новгород, храм Исаакия Далматского, Святейший правительствующий
си600
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
нод, конно-железная дорога и т. д. Показания свидетелей такого рода
могут с первого взгляда поразить своею полнотой и как бы
обточенностью, но эта полнота обыкновенно лишь кажущаяся. Слишком
добросовестное усвоение себе частностей развивает внимание, необходимое,
чтобы удержать в памяти главное и единственно нужное.
Затем, есть два рода внимания по отношению к способности души
отзываться на внешние впечатления. Одни люди объективно и с большим
самообладанием как бы регистрируют то, что видят или слышат, и
начинают внутреннюю, душевную переработку этого лишь после того, как
внешнее воздействие на их слух или зрение прекратилось. Все
воспринятое ими представляется их памяти поэтому ясным, последовательным,
без пробелов и пропусков, объясняемых перерывами внимания. Это те,
которые, по образному выражению великого поэта, «научившись
властвовать собой», умеют «держать мысль свою на привязи» и «усыплять или
давить в сердце своем мгновенно прошипевшую змею». Не так поступают
и чувствуют себя другие, отдающиеся во власть своим душевным
движениям. Эти движения сразу и повелительно завладевают ими и иногда
прежде всего поражают внимание. Тут не может быть речи о забывчивости или
недостатке последнего: оно просто парализовано, его не существует
вовсе. Таковы люди, «оглушенные, — по выражению того же Пушкина, —
шумом внутренней тревоги». Этот шум поражает всякую способность не
только вдумываться в окружающее, но даже замечать его. Евгений в
«Медном всаднике», Раскольников в «Преступлении и наказании»
являются яркими представителями такого «оглушенного» внимания. Чем
неожиданнее впечатление, вызывающее сильное душевное движение, тем
больше парализуется внимание и тем быстрее внутренняя буря
покрывает мраком внешние обстоятельства. Ни один почти подсудимый,
совершивший преступление под влиянием сильной эмоции, не в состоянии
рассказать подробности решительного момента своего деяния — и в то же
время оказывается способным передать быстро сменявшиеся в его душе
мысли, образы и чувства перед тем, как он ударил, оскорбил, спустил
курок, вонзил нож. Гениальное изображение такого душевного
состояния, в котором целесообразность и известная разумность действий
совершенно не соответствуют помраченному сознанию и притуплённому
вниманию, дает Толстой в своем Позднышеве. Несомненно, каждый
старый криминалист-практик, пробегая мысленно ряд выслушанных им
сознаний подсудимых, совершивших преступление в страстном порыве и
крайнем раздражении, признает, что рассказ Позднышева об убийстве
им жены очень типичен и поразителен как доказательство силы интуиции
великого художника и мыслителя.
Там, где играет роль сильная душевная восприимчивость, где на сцену
властно выступает так называемая вспыльчивость (которую не надо
сме601
ЧАСТЬВТОРАЯ
шивать, однако, с запальчивостью, свойственною состоянию не
внезапному, а нарастающему и питающему само себя подобно ревности),
пострадавший в начале столкновения часто становится насильником в конце его.
Если же он устоял против напора гнева и не поддался мстительному
движению, его внимание все-таки действует обыкновенно только до
известного момента, воспринимая затем только моментами отдельные, не
связанные между собою события. Когда сказано оскорбительное слово, сделано
угрожающее движение,принято вызывающее положение, бросающее
искру в давно копившееся негодование, в затаенную ненависть, в прочно
сложившееся презрение (которое Луи Блан очень метко характеризует,
говоря, что «le mepris c'est la haine en repos»), тогда взор и слух оскорбленного
обращаются внутрь и утрачивают внимание к внешнему. Этим
объясняется то, что часто, например, возмутившее до крайности оскорбление не
тотчас же «выводит из себя» обиженного, а лишь после некоторой паузы, во
время которой обидчик уже спокойно обратился к другой беседе или
занятиям. Но это затишье перед бурей... Внезапно прорывается протест против
слов, действий, личности обидчика в самой резкой форме. Было бы
ошибочно думать, что тот, кто промолчал первоначально и лишь чрез
известный промежуток времени проявил свое возмущение криком, воплем,
исступлением, ударами, мог в этот перерыв наблюдать и сосредоточивать на
чем-либо свое внимание... Нет! он ничего не видел и не слышал, а был
охвачен вихрем внутренних вопросов: «да как он смеет?! да что же это такое? да
неужели я это перенесу?!» и т. д. Но если даже он и успел овладеть собою,
решившись пропустить все слышанное «мимо ушей» или сделать вид, что не
понимает, из уважения к (той или другой) обстановке или в расчете на будущее
отмщение, которое еще надо обдумать, тем не менее потерпевший тратит
столько сил на внутреннюю борьбу с закипавшими чувствами, что его
внимание на время совершенно подавлено. Этим объясняются ответы невпопад и
разные неловкости внезапно оскорбленного, что, конечно, каждому
приходилось наблюдать в жизни. Из показаний такого человека надо брать то,
что сохранила его память до наступления в душе его «шума внутренней
тревоги» и не смущаться при оценке правдивости его слов тем, что затем
внимание ему неожиданно изменило. Свидетелем может быть и
постороннее столкновению или несчастному стечению обстоятельств лицо. Если оно
отличается впечатлительностью, если оно «нервно» и не «вегетирует»
только, но умеет чувствовать и страдать, а следовательно, и сострадать, то
созерцание нарушения душевного равновесия в других, иногда в близких и
дорогих людях, действует на него удручающе. Волнение этих людей,
разделяемое свидетелем, ослабляет его внимание или делает его очень
односторонним. Кто не испытывал в жизни таких положений, когда хочется
«провалиться сквозь землю » за другого и собственная растерянность
является результатом неожиданного душевного смущения другого
челове602
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ка? В этих случаях человеку с чутким сердцем, страдая за другого,
инстинктивно не хочется быть внимательным...
Сильные приливы чувства, вызванные сложным процессом
внутреннего переживания скорби, утраты, разочарования и т. п., относятся также
к числу причин, заслоняющих в памяти или устраняющих из области
внимания отдельные, связанные между собою части события, о котором
приходится свидетельствовать. Вспоминая неуловимый для постороннего
взора стороны отношений к дорогому существу, вызывая из невозвратного
прошлого милый образ в его малейших проявлениях или переживая
оказанную кому-либо или когда-либо несправедливость или черствость,
человек иногда в самом, по-видимому, безразличном месте своего рассказа
вынужден бывает остановиться. Слезы подступают к горлу, острая и
безвыходная тоска, уснувшая лишь на время, впивается в сердце, а
какой-нибудь звук или слово, вызывающее за собою ряд воспоминаний, так
приковывает к себе внимание, что все последующее погружается в тень, и рассказ
обрывается вследствие нравственной и физической (слезы, дрожь голоса,
судороги личных мускулов) невозможности его продолжать. Многие,
вероятно, видели пред собою, и не раз, подобных свидетелей. Тургенев писал
о крестьянке, потерявшей единственного сына. Передавая о том, как он
хворал и мучился, бедная мать говорила спокойно и владела собой, но
когда она доходила до рассказа о том, как, взяв от нее корочку хлеба,
умирающий ребенок сказал ей: «Мамка! ты бы сольцы...» какое-то невысказанное
воспоминание всецело овладевало ею каждый раз, она вдруг заливалась
слезами, начинала рыдать и уже не могла продолжать рассказа, а только
безнадежно махала рукой.
Наконец, внимание может сосредоточиваться или на процессе действий,
явлений и собственных мыслей, или же на конечном их результате, — так
сказать, на итоге их. Обыкновенно это чрезвычайно ярко выражается в
способе изложения. Одни не могут передавать виденного и слышанного
иначе как в подробном изложении всего в порядке последовательной
постепенности; другие же, наоборот, спешат скорее сказать главное. При
допросе первых — их нередко приходится просить сократить свой
рассказ; при допросе вторых — их необходимо возвращать от итога рассказа
к подробностям места, времени, остановки и т. д. Делать это надо с
осторожностью, особенно в первом случае, так как наклонность к
процессуальному рассказу обыкновенно обусловливается еще и особыми
свойствами или, вернее, привычками внимания, которое цепко держится за
последовательность и преемство впечатлений и затуманивается, как
только эта последовательность нарушается каким-либо перерывом. Эти
способности рассказчика обыкновенно отражаются и на том, как он
слушает. Наряду с людьми, умеющими ценить логическую и психологическую
нити повествования, отдельные части которого, связанные между собою,
603
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
создают постепенно настроение, достигающее своего апогея в
заключении, в освещающем и осмысливающем все факте, картине или
лирическом порыве, существуют слушатели нетерпеливые, жаждущие
скорейшей «развязки» и предупреждающие ее догадками во всеуслышание или
досадными вопросами...
Таковы в главных чертах свойства внимания вообще. Наряду с ними
можно указать на некоторые особенности внимания, так сказать,
исключительные или личные, т. е. присущие тому или другому свидетелю уже не
in genere, но in space.
Куда, например, надо отнести склонность некоторых людей обращать
исключительное и даже болезненное внимание на какую-нибудь
отдельную часть тела человека и в особенности на его угодливость; при этом
некоторых во всей физиономии человека прежде всего привлекают к себе глаза,
других — походка, третьих — цвет волос! Есть люди, у которых особенно
развита memoire auditive и которые не в силах удержать в памяти чье-либо
лицо — и в то же время они с чрезвычайной ясностью и во всякое время
могут представить себе голос того же самого человека со всеми его
оттенками, вибрацией и характерным произношением. Свидетель, который
обращает внимание на глаза, опишет их цвет, размер и выражение, но станет в
тупик или ответит очень неопределенно, если его спросить о росте или
цвете волос обладателя этих самых глаз. Разного рода уродливости, как горб,
хромота, косоглазие, кривоглазие, болезненные наросты на лице,
шестипалость, провалившийся нос и т. п., на многих производят какое-то
гипнотизирующее впечатление. Взор их невольно, вопреки желанию
обращается постоянно к этому прирожденному или приобретенному недостатку,
почти не будучи в силах от него оторваться. Врожденное чувство эстетики
и стремление к гармонии и симметрии, свойственные человеку, обостряют
протестующее внимание, и другие свойства и черты наблюдаемого
человека отходят на задний план и стушевываются. Свидетель, отлично
представляющий себе наружность горбуна или движения человека с
искалеченными, скрюченными или неровными ногами, совершенно добросовестно не
будет в силах припомнить что-либо определенное касательно одежды, цвета
волос или глаз тех же самых людей...
Подобная же связанность внимания проявляется и тогда, когда ужас
или отвращение заставляют избегать взгляда на предмет, возбуждающий
такое состояние. Есть люди, которые не могут заставить себя глядеть на
труп вообще, а на обезображенный, с зияющими ранами, выпавшими
внутренностями и т. п., тем более. Внимание их обращено на все, что находится
вокруг и около наводящего ужас предмета, и упорно отвращается от
самого предмета. Это, конечно, отражается и в их показаниях. И, наоборот, на
некоторых такие именно предметы имеют то гипнотизирующее влияние,
о котором говорилось выше. Несмотря на ужас и отвращение, часто даже
604
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
вопреки им иной человек не может отвести глаз от картины, от которой, по
народному выражению, «тошнит на сердце».
Тягостное и отталкивающее зрелище постоянно притягивает взор,
который невольно с пытливостью и необыкновенною изощренностью
впитывает в память возмущающие душу подробности, вызывающие чувство
мурашек в спине и нервную дрожь в конечностях. В современной жизни
местом, где проявляется такого рода гипноз, служат кабинеты восковых
фигур. Эти фигуры, с зеленовато-мертвенным оттенком их лиц,
неподвижными глазами и безжизненными, деревянными ногами, производят на
многих неприятное впечатление. А когда такие фигуры служат для
изображения мучительства различных пыток или сцен совершения кровавых
преступлений, это впечатление доходит до крайних пределов. Музей Grevin
в Париже, подносящий своим посетителям последние новинки из мира
отчаяния, крови и проклятий, или так называемые «Folterkammer» немецких
восковых кабинетов всегда могут насчитать между зрителями этих
вредных и безнравственных зрелищ, приучающих толпу к спокойному
созерцанию жестокости, людей, которых «к этим грустным берегам влечет
неведомая сила». Есть нервные люди, которые предпочли бы остаться ночью
в одной комнате с несколькими трупами, например, в анатомическом
театре или «препаровочной», чем провести час наедине с несколькими
восковыми фигурами, и тем не менее они почти никогда не могли противостоять
искушению зайти в кабинет восковых фигур. Они вступали туда с
«холодком» под сердцем и, насытив вопреки душевному возмущению свое
внимание удручающими образами во всех подробностях, страдали потом от
вынесенного впечатления и долго тщетно старались изгладить из памяти
вопиющие картины...
Такое же влияние имеют иногда и те произведения живописи, в которых
этическое и эстетическое чутье не подсказало художнику, что в изображении
действительности или возможности есть черта, за которую переходить не
следует, так как за нею изображение уже становится безжалостным и даже
вредным поступком. Несколько лет назад на художественных выставках в
Берлине и Мюнхене были две картины. Одна представляла пытку водою, причем
безумные от страдания, выпученные глаза и отвратительно вздутый живот
женщины, в которую вливают второе ведро воды, были изображены с
отталкивающей реальностью. На другой, носившей название «Искушение святого
Антония », место традиционных бесов и обнаженных женщин занимали
мертвецы, находившиеся на всех степенях разложения, пожиравшие друг друга и
пившие из обращенной в чашу спиленной верхней части своего черепа
собственный мозг. Обе картины всегда привлекали толпу; некоторые
возвращались к ним по нескольку раз, и, в то время как из уст их раздавались возгласы
отвращения и ужаса, глаза их жадно впивались во все подробности и прочно
запечатлевали их в памяти.
605
ЧАСТЬВТОРАЯ
Применяя эти замечания к свидетельским показаниям, приходится
признать, что гиперэстезия (обостренность) внимания, возбужденного
картинами, внушающими ужас и отвращение, вызывает неизбежным
образом анестезию (притупленность) внимания к побочным и в
особенности к последующим впечатлениям. Это, конечно, влечет за собою и
неравномерную ценность и полноту отдельных частей показания. Однако
нет основания видеть в этом неправдивость свидетеля или намеренные с
его стороны умолчания; Таким образом, если о выходящем из ряда
событии или резкой коллизии, о трагическом положении или мрачном
происшествии даются показания разными лицами, одинаково внешним
образом стоявшими по отношению к ним и показывающими каждый неполно,
то во всей совокупности получится совершенно определенная,
соответствующая действительности картина. Один расскажет про все мелочи
обстановки, среди которой найден убитый, но не сумеет определить,
лежал ли труп ничком или навзничь, был ли одет или раздет и т. д., а другой
опишет выражение лица у трупа, положение конечностей, пену на губах,
закрытые или открытые глаза, направление ран, количество и
расположение кровавых пятен на белье и одежде — и затруднится сказать,
сколько окон было в комнате, были ли часы на стене и портьеры на дверях и т. д.
Один и тот же предмет отталкивал от себя внимание первого свидетеля и
приковывал внимание второго...
Бывает, что поражающая свидетеля картина слагается из нескольких
наводящих ужас моментов, непосредственно следующих друг за другом.
В таких случаях зачастую последующий ужас притупляет внимание к
предшествующему, и в описаниях первого появляются разноречия. Яркий
пример этого мы видим в рассказах очевидцев (или со слов их) об убийстве
купеческого сына Верещагина в Москве, в 1812 году, в день вступления
французов, — чем осквернил свою память граф Ростопчин. Описание
этого события у Л. Н. Толстого в «Войне и мире» является одной из
гениальнейших страниц современной литературы. Проверяя это описание по
показаниям свидетелей, приходится заметить, что сцена указания толпе «на
изменника, погубившего Москву» и затем расправа с ним всеми
рассказывается совершенно одинаково, а предшествовавшее ей приказание рубить
Верещагина передается совершенно различно. В рассказе М.А.Дмитриева
Ростопчин дает знак рукой казаку, и тот ударяет несчастного саблей; по
словам Обрезкова — адъютант Ростопчина приказывает драгунам рубить,
но те не сразу повинуются, и приказание было повторено; по запискам
Бестужева-Рюмина — ординарец Бердяев, следуя приказу графа,
ударяет Верещагина в лицо; по воспоминаниям Павловой (слышавшей от
очевидца) — Ростопчин со словами: «Вот изменник» толкнул Верещагина в
толпу, и чернь тотчас же бросилась его душить и терзать. Таким образом
исступление озверевшего народа произвело такое ошеломляющее
впечат606
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ление на очевидцев, что из их памяти изгладилось точное воспоминание о
том, что, несомненно, должно было ранее привлечь к себе их внимание.
К индивидуальным особенностям отдельных свидетелей,
отражающимся на содержании их показаний, помимо физических недостатков —
тугого слуха, близорукости, дальтонизма, амбиоплии и т. п., относятся
пробелы памяти, пополнить которые невозможно даже при самом
напряженном внимании. Прекрасная в общем память может быть развита
односторонне и представлять собою проявление слухового, зрительного или
моторного типа. Но даже если она соединяет в себе все эти элементы и
является памятью так называемого смешанного типа, она дает иногда на
своей прочной и цельной ткани необъяснимые разрывы относительно
специального рода предметов. В эти, если можно так выразиться, дыры
памяти проваливаются чаще всего собственные имена и числа, но нередко то же
самое случается и с целым внешним образом человека, с его физиономией.
Обладатель такой сильной, но дырявой памяти будет напрасно напрягать
все свое внимание, чтобы запомнить число, запечатлеть у себя в уме
чьюлибо фамилию или упорно вглядеться в чье-нибудь лицо, разбирая его
отдельные черты и стараясь отдать себе ясный отчет в каждой из них в
отдельности и во всей их совокупности... Тут память коварным образом
отказывается служить двояко: иногда, удерживая имя, утрачивает
представление о соединенной с ним личности или же, ясно рисуя известный
образ, теряет бесследно принадлежащее ему прозвание. Кроме этих
случаев, так сказать, внутренней афазии памяти у некоторых людей
одновременно изглаживаются из памяти как личность, так и имя, и в то же время с
чрезвычайной отчетливостью остаются действия, слова, тон и звук речи,
связанные с этим именем и личностью. Показания свидетелей с подобной
памятью могут с первого взгляда казаться странными и даже возбуждать к
себе недоверие, так как, не зная этих свойств памяти иных людей, трудно
бывает отрешиться от недоумения, каким образом человек, передавая,
например, в мельчайших подробностях чей-либо рассказ со всеми
оттенками, складом и даже интонациями речи, не может назвать имени и фамилии
говорившего. А между тем свидетель глубоко правдив и в подробностях
своей передачи, и в своих ссылках на запамятование.
Весьма важную роль в свидетельских показаниях играют бытовые и
племенные особенности свидетеля, язык той среды, к которой он
принадлежит и, наконец, его обычные занятия. Показания, вполне правдивые и
точные, данные по одному и тому же обстоятельству двумя свидетелями
разного племени, могут значительно различаться по форме, краскам, по
сопровождающим их жестам, по живости передачи в зависимости от
племенных особенностей. Стоит вообразить себе рассказ хотя бы, например,
об убийстве в «запальчивости и раздражении», случайными свидетелями
которого сделались житель Финляндии и уроженец Кавказа. С
фактиче607
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ской стороны рассказ в обоих случаях будет тождествен, но как велика
окажется разница в передаче события, в отношении к нему свидетеля,
какие оттенки в рисунке! На медлительное созерцание северянина
наибольшее впечатление произведет смысл действия обвиняемого, которое и
будет охарактеризовано кратко и точно; живая натура южанина скажется в
образном описании действия.
Точно так же влияют на показание и бытовые особенности род жизни
и занятий. Каждый, кто имел дело со свидетелями в Великороссии и
Малороссии, несомненно, подметил разницу в форме, свободе и живости
показаний свидетелей, принадлежащих к этим двум ветвям русского племени.
Великоросс расскажет все или почти все самостоятельно; малороссу
большею частью приходится предлагать вопросы, так сказать, добывать из него
показание. Показания великоросса обыкновенно носят описательный
характер, в медлительно и неохотно данном показании малоросса зато
гораздо чаще встречаются тонкие и остроумные определения. Рассказ
простой великорусской женщины, «бабы », обыкновенно бесцветнее мужского;
в нем чувствуется запуганность и подчиненность; рассказ хохлушки,
«жинки», всегда ярче, полнее и решительнее рассказа мужчины. Это особенно
бросается в глаза в тех случаях, когда об одних и тех же обстоятельствах
дают показания муж и жена. Бытовая разница семейных отношений и
характер взаимной подчиненности супругов сказываются здесь наглядно.
Нужно ли говорить, что горожанин и пахарь, фабричный работник и
кустарь, матрос и чиновник, повар и пастух, будучи свидетелями одного и того
же события, в своих воспоминаниях непременно остановятся на том, что
имело какое-либо отношение к их занятиям и роду жизни, а для других
прошло, совершенно не возбудив внимания.
На языке свидетеля нередко отражается и глубина его способности
мышления. Как часто за внешнею словоохотливостью оказывается скудость
соображения и отсутствие точных понятий и, обратно, в сдержанном
кратком слове видно честное к нему отношение и сознание его возможных
последствий. Слова Фауста: «Wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten
Zeit sich ein» применимы и к свидетельским показаниям. Люди внешнего
лоска и полуобразования особенно часто прибегают к пустому
многословию; простой человек, хлебнувший городской культуры, старается
выражаться витиевато и употребляет слова в странных и неожиданных
сочетаниях, но свидетель из простонародья говорит обыкновенно образным и
сильным в своей оригинальности и сжатости языком.
Затем опыт показывает, что целый ряд свидетелей вызывает
необходимость делать некоторую редукцию их показаний вследствие допущения
ими бессознательной лжи при наличности искренней веры в
действительность того, что они говорят. Так, например, пострадавшие всегда и нередко
вполне добросовестно склонны преувеличивать обстоятельства или
дей608
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ствия, направленные на нарушение их прав. Особенно часто это
встречается в судебных показаниях потерпевших, которые были при этом
очевидцами содеянного над ними преступления. В подобных случаях вполне
применима пословица: «У страха глаза велики». Внезапно возникшая опасность
невольно приобретает преувеличенные размеры и формы в глазах тех, кому
она грозит; опасность прошедшая представляется взволнованному
сознанию большею, чем она была, отчасти под влиянием ощущения, что она уже
прошла. Известно, что люди впечатлительные, ставшие в безопасное, по их
мнению, положение, бывают до крайности подавлены неожиданно
прояснившимся пониманием опасности или горестных последствий, которые могли бы
произойти, и сердце их сжимается от ретроспективного ужаса не менее
сильно, чем если бы он еще предстоял. Слова Байрона: «И вот оно (сердце) уж
вынести не может того, что вынесло оно» — как нельзя лучше изображают
такое состояние. Вот почему употребляются сильные выражения при
описании ощущений и впечатлений и являются преувеличения в определении
размера, быстроты, силы и т. п.
К той же области бессознательной лжи относится совершенно
искреннее представление себе людьми, мыслящими преимущественно образами
(а таких большинство), настроения тех лиц, о которых они говорят, на
основании кажущегося жеста, тона голоса, выражения лица. Предполагая,
что другой думает то-то или так-то, человек отправляется в своей оценке
всех поступков этого другого от уверенности в том, что последним
руководит именно такая, а не другая мысль, владеет именно такое, а не другое
настроение. В обыденной жизни подобное произвольное толкование
вызывает собою и известную реакцию на предполагаемые мысли другого —
и отсюда является сложная и очень часто совершенно необоснованная
формула действий: «Я думаю, что он думает, что я думаю... а потому надо
поступить так, а не иначе». Отсюда разные эпитеты и прилагательные, далеко
не всегда оправдываемые действительностью и исходящие исключительно
из представления и самовнушения говорящего. Часто усматриваются
«презрительная» улыбка или пожатие плечами, «насмешливый» взгляд,
«вызывающий » тон, «ироническое » выражение лица и т. п. там, где их в
сущности вовсе не было. Если свидетель отличается некоторой живостью
темперамента, он нередко наглядно изображает того, о ком он говорит,
и кажущееся ему добросовестно выдает за действительность. Особенно
частое применение этого бывает при изображении тона выслушанных
свидетелем слов.
Но есть, несомненно, ложные по самому своему существу показания,
которые надо отличать от показаний, данных неточно или отклоняющихся
от действительности под влиянием настроения или увлечения. Здесь не
существует, однако, общего мерила, и по происхождению своему такие
показания весьма различаются между собою. Из них прежде всего
необ20 Российская психология 609
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ходимо выделить те, которые даются под влиянием гипнотических
внушений. Последние, остроумно названные доктором Льежуа
«интеллектуальной вивисекцией», изменяют внутренний мир человека и, вызывая в нем
целый ряд физиологических и душевных явлений, оказывают самое
решительное воздействие на память, то обостряя ее до крайности, то затемняя
почти до совершенной потери. Таким образом загипнотизированного
можно заставить забыть обстоятельства, сопровождавшие внушение, и
изгладить совершенно из его памяти то, что он узнал о том или другом событии,
или, наоборот, путем «ретроактивных галлюцинаций» (Бернгейм) внушить
ему твердую уверенность в том, что он был свидетелем обстоятельств,
вовсе на самом деле не существовавших. Надо, впрочем, заметить, что эти
ретроактивные галлюцинации, по наблюдениям Шарко, когда внушение
направляется на собственные поступки подвергающегося внушению, идут
лишь до известного предела. Так, почти невозможно внушить человеку с
известным нравственным строем души, что он совершил какое-нибудь
гнусное преступление. Бессознательному подчинению здесь
противодействует внутренняя реакция, допускающая его лишь до картин и состояний, от
которых наяву человек отвернулся бы с негодованием и отвращением.
Наряду с внушенными показаниями бывают и показания, даваемые
под влиянием самовнушения. Таковы очень часто показания детей.
Большая впечатлительность и живость воображения при отсутствии
надлежащей критики по отношению к себе и к окружающей обстановке делают
многих из них жертвами самовнушения под влиянием наплыва новых
ощущений и идей. Приняв свой вымысел за действительность, незаметно
переходя от «так может быть » к «так должно было быть » и затем к «так было!»,
они упорно настаивают на том, что кажется им совершившимся в их
присутствии фактом. Возможность самовнушения детей, представляющая
немало исторических примеров, является чрезвычайно опасною, и здесь
вполне уместна психологическая экспертиза, подкрепляющая самый тщательный
и необходимый анализ показания.
Затем бывает ложь в показаниях как результат патологических
состояний, выражающихся в болезненных иллюзиях, различных
галлюцинациях и навязчивых идеях.
Наконец, есть область вполне сознательной и, если можно так
выразиться, здоровой лжи, существенно отличающейся от заблуждения,
вызванного притуплением внимания и ослаблением памяти. Статьи Я.А.
Канторовича «О праве на истину» дают один из последних и подробных
этико-психологических очерков лжи как движущей силы в извращении
правды; особой разновидности неправды, остроумно именуемой
«мечтательной ложью », посвятил свой интересный очерк И.Н. Холчев; общие черты
«психологии лжи» намечены Камиллом Мелитаном, и, наконец, бытовые
типы «русских лгунов» даровито и образно очерчены ныне, к сожалению,
610
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
почти забытым писателем А.Ф. Писемским. Размеры настоящей заметки
не позволяют касаться этой категории показаний, в которых, по меткому
выражению Ивана Аксакова, «ложь лжет истиной». Нельзя, однако, не
указать, что этого рода ложь бывает самостоятельная или навязанная,
причем в первой можно различать ложь беспочвенную и ложь
обстоятельственную. Ложь беспочвенная заставляет сочинять никогда не существовавшие
обстоятельства (сюда относится и мечтательная ложь), и весь ум
свидетель направляет лишь на то, чтобы придать своему рассказу внешнюю
правдоподобность, внутреннюю последовательность и согласованность частей.
Психологической экспертизе здесь не найдется никакого дела. В
обстоятельственной лжи внимание направлено не на внутреннюю работу
хитросплетения, а на внешние, действительно существующие обстоятельства. Оно
играет важную роль, твердо запечатлевая в памяти те именно
подробности, которые нужно исказить или скрыть в тщательно обдуманном рассказе
о якобы виденном и слышанном. И здесь при исследовании силы и
продолжительности нарочно подделанной памяти опыты экспериментальной
психологии едва ли многого могут достичь. Наконец, ложь навязанная, т. е.
придуманная и выношенная не самим свидетелем, а сообщенная ему для
посторонних ему целей, так сказать, ad referendum, почти всегда
представляет уязвимые стороньь Искусный допрос может застать врасплох
свидетеля, являющегося носителем, но не изобретателем лжи. Иногда очень
старательно исполняя данное ему недобросовестное поручение, такой
свидетель теряется при не предусмотренных заранее вопросах, путается и
раскрывает игру своих внушителей.
В заключение остается указать еще на один вид сознательной лжи в
свидетельских показаниях, лжи беззастенчивой, наглой, нисколько не
скрывающейся и не заботящейся о том, чтобы быть принятою за правду.
Некоторым свидетелям ложь доставляет по тем или другим причинам
своеобразное удовольствие, давая возможность произвести эффект «pour
e'pater le bourgeois», как говорят французы, или же получить аванс за свое
достоверное показание, не приняв на себя никакого обязательства за
качество его правдоподобности.
20*
ЧАСТЬВТОРАЯ
Л.И. ПЕТРАЖИЦКИЙ:
ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВО
Петражицкий Лев Иосифович (1867-1931) —
философ, юрист и социолог, основатель
психологической школы права. Учился сначала на медицинском,
затем на юридическом факультете Киевского
университета, после окончания которого продолжил
образование в Берлине. В1898-1918 гг. занимал
кафедру энциклопедии и философии права в
Петербургском университете. После революции в эмиграции
возглавлял кафедру социологии в Варшавском
университете.
Создал психологическую теорию права, в
центре которой находится идея о роли
психологических факторов в объяснении правового поведения. В психике особую роль
приписывал эмоциям, которые, как он считал, определяют поведение
людей, мотивируют их поступки. Познание и воля выполняют
вспомогательную функцию. Дал собственную трактовку эмоций. А.Р. Лурия в
автобиографии «Этапы пройденного пути » упоминает книгу Л.И. Петражицкого о
психологических корнях права и эмоций, под влиянием которой, а также
книги «Теория человеческих побуждений» экономиста Л. Брентано у него
«возникло желание выработать конкретный психологический подход к
событиям общественной жизни».
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕОРИЙ НРАВСТВЕННОСТИ И ПРАВА1
Право есть психический фактор общественной жизни, и оно
действует психически. Его действие состоит, во-первых, в возбуждении или
подавлении мотивов к разным действиям и воздержаниям
(мотивационное или импульсивное действие права), во-вторых, в укреплении и
развитии одних склонностей и черт человеческого характера, в ослаблении
и искоренении других, вообще в воспитании народной психики в
соответствующем характеру и содержанию действующих правовых норм
направлении (педагогическое действие права).
Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Основы
эмоциональной психологии. 2-е изд. СПб., 1907. С. VII—IX, 276-279.
612
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Сообразно с этим задача политики права
заключается: 1) в рациональном направлении
индивидуального и массового поведения
посредством соответственной правовой
мотивации, 2) в совершенствовании человеческой
психики, в очищении ее от злостных,
антисоциальных склонностей, в насаждении и
укреплениипротивоположных склонностей.
Действующая в каждый данный момент система
правовых норм является преходящею
ступенью социального воспитания и должна быть
по мере выполнения своей воспитательной
функции заменена другой системой
правового импульсивного и педагогического
воздействия, приспособленной к уже достигнутому
уровню народной психики. Идеалом является достижение совершенно
социального характера, совершенное господство действенной любви в
человечестве.
Эти правно-политические положения находят подтверждение в
истории права и, со своей стороны, проливают свет на историю
человеческих учреждений. Основная тенденция исторического процесса
образования и изменения правовых учреждений и их систем заключается в таком
(бессознательном) приспособлении системы правовой мотивации и
педагогики к данному состоянию народной психики, что путем психического
воздействия соответственной правовой системы индивидуальное и
массовое поведение и развитие народной психики направляется в сторону
общего блага. Так как под влиянием постоянного психического
воздействия права (и других факторов социально-психической жизни, в
особенности нравственности) народный характер неизбежно изменяется,
становится лучше приспособление в социальном отношении, то
соответственно с этим изменяется и право, приспособляясь к стоящей уже на
более высоком уровне народной психике. Так, позднейшие правовые
системы требуют и достигают от граждан большего в смысле
социальноразумного поведения, чем предшествующие, более примитивные
системы права, и достигают уже раньше требуемого поведения путем
воздействия на более высокие стороны человеческого характера;
поскольку же дело идет о том же поведении и той же качественной мотивации,
например о действии путем страха, постепенно ослабляется напряжение
соответственного психического давления, например, жестокость
наказаний и т. д. Объясняется это тем, что позднейшие правовые системы
играют свой психический концерт на лучших, более социальных человеческих
душах, чем более ранние, рассчитанные на более примитивную, менее
доб613
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
рокачественную психику. Историю человеческих учреждений, в
частности, например, социально-экономических организаций, только и можно
понять путем анализа соответственных правовых систем (например,
системы рабства, либерально-капиталистической системы, зачатков
системы социализации народного хозяйства) с точки зрения их
мотивационного и педагогического значения.
Миссия будущей науки политики права состоит в сознательном
ведении человечества в том же направлении, в каком оно двигалось пока путем
бессознательно-эмпирического приспособления, и в соответственном
ускорении и улучшении движения к свету и великому идеалу будущего.
Из предыдущего вытекает, что политика права есть психологическая
наука.
Теоретическим базисом ее должно быть общее психологическое знание
факторов и процессов мотивации человеческого поведения и развития
человеческого характера и специальное учение о природе и причинных свойствах права,
в частности учение о правовой мотивации и учение о правовой педагогике.
Основным методом правно-политического мышления является
психологическая дедукция, умозаключения на основании подлежащих
психологических посылок относительно тех психических — мотивационных и
педагогических — последствий, которые должны получаться в результате
действия известных начал и институтов права, или относительно тех
законодательных средств, которые способны вызвать известные желательные
психические — мотивационные и педагогические — эффекты. Поскольку
в известных областях и пределах наряду с психологическою дедукциею
возможно применение и индуктивного метода, конечно, политика права
должна пользоваться и этим методом для проверки правильности
дедуктивных выводов (ср. Lehre v. Einkommen II, стр. 581 и ел,).
Изложенные положения, подкрепленные многочисленными
специальными правно-политическими исследованиями для доказательства
возможности и успешности их применения на деле, встретили сначала со стороны
критики скептическое и отчасти решительно отрицательное отношение.
Тщательно различая специальные исследования, с одной стороны, и общие
программные положения относительно политики права, с другой стороны,
юридическая и экономическая критика признавала правильность и ценность
первых и отрицала приемлемость вторых1.
Ср.: напр., Leonhard в Gruchot's Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, B. 38,
1894 (критика первого тома Lehre v. Einkommen) и брошюру того же автора: Die
Vollendung des Deutschen burgerl. Gesetzbuches. 1897. С 7 и ел.; R. Meyer в Conrad's
Jahrb. F. Nationalökonomie III F. Bd. IX. 1895. S. 441 tg. (критика первого тома L. v. E.
с экономической точки зрения) и там же Bd. XIII.1897. S. 447 fg. (критика второго
тома L. v. Е.); v. Schey Über den redlichen und unredlichen Besitzer. § 3. Die civilpoli
614
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
...вместо традиционной классификации элементов психической
жизни: 1) познание, 2) чувство, 3) воля получается следующая
классификационная схема.
Элементы психической жизни делятся на: 1) двусторонние,
пассивно-активные эмоции (импульсии)1; 2) односторонние, распадающиеся,
в свою очередь, на: а) односторонне-пассивные, познавательные и
чувtische Methode in Anwendung auf das allg. B. G. В.); Sohm, Über den Entwürfe,
burgerl. Gesetzbuchs. 1896. S. 25 fg. Некоторые писатели, впрочем, отнеслись к идее
науки политики права, или специально политики частного права, о которой главным
образом идет речь в Lehre v. Einkommen, более сочувственно, ср. Oertmann в
Grunhut's Zeitschr. far d. Privat, und offentl. Recht, B. XXII. 1984. S. 301 fg., там жеВ.
XXIII, 1895, S. 136 fg.; Arch. f. Burgerl. Recht. B. VIII, S. 366 fg.; Lobe, Was verlangen
wir von einem bürgerlichen Gesetzbuch? Ein Wort an den Reichstag, 1896. C. 29 и ел.;
ср. также брошюры Offner'a, Studien socialer Jurisprudenz, 1894, A. Menger'a,Uber
die socialen Aufgaben der Rechtswissenschaft. 1895, Zitelmann'a, Die Gefahren des
burgerl. Gesetzbuches fur die Rechtswissenschaft. 1896.
Слово «эмоции » является весьма подходящим по своему происхождению и
этимологии, указывая на возбужденное состояние с моторным характером (movere,
motus), и применяется в обыденном языке, беллетристике и т. д. многих новых
народов преимущественно к таким переживаниям, которые относятся к
интересующему нас классу (впрочем, обыкновенно лишь в тех случаях, когда такие
переживания достигают большой степени интенсивности, имеют более или менее бурный
характер; поэтому оно не применяется к таким моторным раздражениям, которые
обыкновенно переживаются и проявляются не в особенно бурной форме, напр., к
голоду, жажде, пищевым репульсиям и т. п.). Недостатком слова «эмоции » в
применении к образованному нами психологическому классу является то
обстоятельство, что это слово уже применяется в психологической литературе некоторых
новых народов в качестве имени разных иных, отличных от наших, классовых
понятий. Так, в некоторых литературах, напр. в немецкой, выражения «эмоции »,
«эмоциональный» применяются для обозначения чувств в техническом смысле (т. е.
наслаждений и страданий, ср., напр. Lehmann, Die Hauptgesetze des menschlichen
Gefühlslebens. S. 17: «Unter emotionellen Elementen oder Gefuhlischen verstehen wir
Lust und Unlust»). В некоторых других психологических литературах слово
«эмоции» обозначает специально аффекты или вообще все то, что в обиходном языке
называется чувством, т. е. является не научным термином, а словом, лишенным
определенного научного смысла. Но так как наслаждения и страдания имеют уже
установившееся общее научное имя (термин: «чувство ») и не нуждаются в другом,
а понятие и рубрика аффектов, как увидим впоследствии, подлежит упразднению,
то терминологическая перемена, состоящая в возведении слова «эмоции » в термин,
обозначающий предлагаемое новое понятие, не причинила бы никакого вреда
научной терминологии соответственных литератур. Может только существовать та
опасность, что неумеющие отрешиться от подчинения словам и соответственным
ассоциациям и отличать условные имена от существа дела и понятий могут
сме615
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ственные, переживания и Ь) односторонне-активные, волевые
переживания.
Эмоции представляют по своей двойственной,
раздражительно-моторной природе коррелят двойственной, центро-стремительно-центробежной,
анатомической структуры нервной системы и двойственной,
раздражительно-моторной, физиологической функции этой системы и прототип
психической жизни вообще с ее двойственным пассивно-активным характером
(ср. выше, стр. 217 прим.)1.
С биологической точки зрения двойственная,
раздражительно-моторная, природа эмоций соответствует существу той функции, которую
исполняет психика вообще в экономии жизни. Биологическая функция
психики вообще, которой одарены животные организмы в отличие от
растительных, состоит в таком управлении движениями, т. е.
сокращениями мускулов и отчасти некоторыми другими физиологическими
прошивать то, что мы предлагаем назвать эмоциями, с тем, к чему они прежде
привыкли применять это имя. Для избежания таких ошибочных представлений и
напоминания, что дело идет о новом классе и классовом понятии, мы будем наряду со
старым словом «эмоции » применять и новое «импульсии ».
С историческо-эволюционной точки зрения представляется весьма вероятным, что
первоначальною основою развития психики были именно эмоции и что
односторонне-пассивные и односторонне-активные элементы представляют позднейшие продукты
эволюции и дифференциации эмоций; ощущения и чувства произошли путем
дифференциации эмоциональных раздражений, состоявшей, с одной стороны, в постепенном
ослаблении и устранении моторного элемента, с другой стороны, в выделении из
первоначальных смутно-неопределенных раздражений более дифференцированных
претерпеваний: ощущений и чувств (причем отрицательные чувства страдания
произошли, вероятно, от репульсивных, положительные чувства — от аппульсивных эмоций);
точно так же волевые переживания произошли от первоначальных эмоций путем
дифференциации эмоциональных позывов, выделения чисто активного элемента.
И теперешние наши эмоции с их разнообразными специфическими качествами и
дифференцированными акциями представляют тоже продукты дифференциации
примитивных смутно-неопределенных моторных раздражений, аппульсий и
репульсий, с простыми и недифференцированными акциями, представление о
которых можно добыть путем наблюдения движений примитивных живых существ
(protozoa и т. п.). Примитивные животные не имеют органов зрения, слуха,
обоняния и т. д., и вообще ходячее предположение существования у них познания,
ощущений и т. д. — совершенно произвольное предположение; то же относится к
наделению их чувствами и волею (последнее предположение, как увидим ниже, наиболее
ненаучно). Единственно возможный вывод из наблюдения их движений
относительно их психики состоит в том, что они не лишены способности к моторным
раздражениям аппульсивного и репульсивного характера с соответственными
простыми акциями. Впоследствии мы надеемся представить еще другие данные,
говорящие в пользу нашей гипотезы.
616
СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
цессами (например, касающимися желез, ср. выше), которое
соответствует обстоятельствам, илиу выражаясь иначе, в таком моторном
действии, которое соответствует раздражению. Такие психические
процессы, которые, как, например, ощущения, или чувствования, наслаждения
и страдания, имеют односторонне-пассивный характер, представляют
раздражения без моторной реакции, не могли бы сами по себе
исполнять такой функции. Такие существа, которые были бы способны
только к пассивным раздражениям без моторных реакций (ср. учения
интеллектуализма и пангедонизма), представляли бы с биологической
точки зрения нечто странное и уродливое; они были бы в положении
паралитика, который видит, что дом, в котором он находится, объят
пожаром, или переносит все большие страдания от жары и дыма, но не
может бежать. То же относится к односторонне-активным
переживаниям, каковы волевые процессы. Сами по себе они не в состоянии были
бы исполнять функции приспособления, предполагающей соответствие
акции раздражению, и существа, которые бы были одарены только
волею (ср. учение волюнтаризма), представляли бы с биологической
точки зрения нечто странное и уродливое; ибо они были бы снабжены
каким-то слепым стремлением, не полезным, а только вредным и опасным
для жизни, ведущим к какому-то бессмысленному расточению
жизненной энергии.
Теперешняя психология конструирует психическую жизнь, в
частности психические силы, вызывающие телодвижения, действия, с помощью
известных ей элементов, имеющих односторонний характер, не зная о
существовании и действии эмоций, как особых двусторонних
претерпевательно-моторных психических элементов; но, как уже отчасти показано выше с
помощью специальных примерных исследований и будет выяснено потом
в более общей форме, дело идет о произвольных и не соответствующих
действительности конструкциях, имеющих характер составления «счета
без хозяина»: надлежащее с научно-методологической точки зрения
индуктивное исследование подлежащих явлений показывает, что «хозяином»,
факторами, решающими и управляющими в области телодвижений и
вообще осуществления указанной выше биологической функции психики,
являются не те элементы, о которых думает традиционное психологическое
учение, а эмоции; что же касается элементов познания, чувства и воли, то
они играют лишь роль добавочных, подчиненных и вспомогательных
психических процессов, служащих эмоциям в качестве средства более
совершенного эмоционального приспособления; так что открытие и
определение причинных связей и законов психической жизни, а равно выяснение
биологической функции разных ее элементов и их комбинаций
невозможно без надлежащего изучения эмоций их акций. В отсутствии
соответственного знания лежит главная причина бессилия и хаотического
617
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
состояния теперешней психологии и многих других наук,
нуждающихся для своего развития в свете и помощи со стороны психологии, в том
числе наук о нравственных, правовых, эстетических явлениях и т. д. Как
бы то ни было, возможно полное и обстоятельное ознакомление с
эмоциональною психикою представляет весьма важную и серьезную
задачу науки.
Часть третья. Психология и религия
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
В.А. ЖУКОВСКИЙ:
«ВСЕ, ЧТО ДУША, НЕТЛЕННО»
Жуковский Василий Андреевич (1783-
1852) — поэт, переводчик, критик, педагог: в 1826—
1852 гг. был наставником наследника престола,
будущего императора Александра II.
В творческой деятельности Жуковского
большой интерес для психологии представляют
размышления поэта о проблемах художественного
творчества, которые составляют неотъемлемую
часть его мировоззрения и решаются им в духе
христианской философии. Во включенном в
антологию фрагменте «Плоть-дух» Жуковский
излагает основные идеи христианской антропологии о
тройственности человека, о соединении в нем духа, души и тела.
Нравственные искания Жуковского нашли яркое отражение в его дневниках. В них
раскрываются сокровенные, трудновыразимые глубины души. В статьях
«О меланхолии в жизни и поэзии » и «О поэте и современном его значении »
художественное поэтическое творчество рассматривается в неразрывной
связи с личностью и мировоззрением творца. Искусству Жуковский
приписывает религиозный смысл: он находит коренные различия между
древней языческой поэзией и поэзией христианской, в которых эти различия
выражаются.
ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
плоть-дух1
Плоть — дух. Плотское — духовное. Сия противоположность
встречается беспрестанно в Священном Писании. Надобно объяснить
сии понятия.
«Мы дробим [как было сказано в другом месте] нашу душу на разные
способности, делим ее, так сказать, на участки и к каждому из них
приписываем особенную, отдельную ее способность. Говоря ум, воля и проч., мы
разными именами означаем одно и то же, то есть всю душу, в разных
тольЖуковский В.А. Полн. собр. соч. Т. III. Петроград, 1918. С. 295-296.
621
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ко образах ее действия; нет такой особенной части в душе, которая была бы
только ум или воля; все это — вся душа, полная, всегда неразделимо
действующая; мы только для ясности принуждены прибегнуть к
раздроблению единства на части. Душа мыслит, избирает [то есть отвергает или
принимает], творит, верует — сии разные образы действия одной и той же души
мы называем: ум, воля, творчество, вера».
Здесь, однако, в слове душа соединяются две идеи. Святое писание
говорит о тройственности человека, о соединении в нем духа, души и тела.
Дух — чисто божественное в человеческом; душа — нетленное, с ним
неразделимое тело духа, средина между ним и телом, нечто имеющее, с
одной стороны, свойство телесного, то есть некоторый определенный образ,
с другой стороны, нетленность и самобытность духа; наконец тело —
материальная скиния духа и души на все время земной жизни, в которой их
видимое, совокупное явление называется человеком. Сии три элемента,
составляющие это названное человеком целое, могут быть постигаемы и
определены каждый отдельно. Главный элемент есть дух: в нем
сосредоточивается вся деятельность человеческой жизни; второй элемент —
душа, неотделимая, вечная принадлежность духа, его, так сказать,
двойник, его самобытный действователь, с одной стороны, на тело и через
органы тела на внешний временный мир, с другой стороны, обратно на
него сообщением ему впечатлений, через органы тела из внешнего мира
получаемых; наконец, третий элемент — тело, временная
материальная принадлежность души, которая или им властвует и покоряет его
силе духа, или ему покорствует и своею от него зависимостью стесняет
дух в его действиях.
Когда в нас происходит операция размышления, то есть, как
говорится, когда в нас действует ум, то из трех вышеозначенных элементов
первенствуют душа и тело, но перевес на стороне души; в процессе воли
первенствуют душа и дух, но перевес также на стороне души; в процессе творчества
равномерно первенствуют душа и дух, но здесь перевес уже на стороне
духа; наконец, в процессе веры первенствует один дух, весь перевес на его
стороне, другие покорствуют.
Итак, человек составлен из духа, души и тела; без соединения сих трех
нет человека. Дух — царствующая, самобытная часть человека; душа —
посредник между духом и телом; тело — само по себе, нечто
безжизненное, материальное, подчиненное. Но тело необходимо душе [возьмем здесь
душу в ее обширном смысле, то есть соединяя дух и душу в одну идею] для
ее деятельности в здешнем порядке и составляет орудие этой
деятельности, обращающейся на мир внешний. Сия необходимость употреблять тело
как орудие производит зависимость души как от тела, так и от внешнего,
телесного мира, с которым тело вводит ее в сношение. Сия зависимость
есть то, что мы называем плотию. Говоря «тело», мы разумеем телесный
622
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
состав человека, взятый отдельно, то члены и проч.; говоря «плоть», мы
разумеем и тело в его влиянии на душу, и душу под влиянием тела, под
влиянием внешнего мира.
Влияние тела на душу вредно со времени падения первого человека,
ибо сие падение поселило в человеке грех, то есть испортило волю его; сия
воля бессильна удержать первенство души над телом, сохранить ее от него
в независимости и с ним от внешнего мира; она колеблется между ним и
высшим миром; сия колеблемость, сия наклонность уступать телу есть
состояние греховное. Мы должны произвольно сохранять духовность души
своей и отдалять от нее все плотское; но для этого воля наша бессильна.
Тело, до падения чистое, по своей испорченности от падения сделалось
главным врагом души человеческой. Душа по натуре своей божественна, дух
бывает по испорченности воли, произведенной грехопадением — плотью,
то есть рабом тела и внешнего пира. Душа, как дух, исключительно
принадлежит Богу; как душа стоит между миром и Богом; как плоть,
исключительно покорствует телу и чрез тело миру.
О МЕЛАНХОЛИИ В ЖИЗНИ И В ПОЭЗИИ1
1. Отрывок письма
В «Москвитянине» было напечатано мое письмо о переводе
Гомеровой Одиссеи. В нем между прочим сказано следующее:
«...Какое очарование в этой работе, в этом подслушивании первых
вздохов Анадиомены, рождающейся из пены моря [ибо она есть символ
Гомеровой поэзии], в этом простодушии слова, в этой первобытности нравов, в
этой смеси дикого с высоким, вдохновенным и прелестным, в этой
живописности без излишества, в этой незатейливости и непорочности
выражения, в этой болтовне, часто чересчур изобильной, но принадлежащей
характеру безыскусственности и простоты, и особенно в этой меланхолии,
которая нечувствительно, без ведома поэта, кипящего и живущего с
окружающим его миром, все проникает, ибо эта меланхолия не есть дело
фантазии, созидающей произвольно грустные, беспричинные сетования, а
заключается в самой природе вещей тогдашнего мира, в котором все имело
жизнь, пластически могучую в настоящем, но и все было ничтожно, ибо
душа не имела за границей мира своего будущего и улетала с земли
безжизненным призраком; и вера в бессмертие, посреди этого кипения жизни,
В.А.Жуковский. Поли.собр.соч.Т.III.Петроград. 1918.С.243-251.
623
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
настоящей, никому не шептала своих великих, всеоживляющих утешений.
Кажется, что г-жа Сталь первая произнесла, что с религиею христианскою
вошла в поэзию и вообще в литературу меланхолия. Не думаю, чтобы это
было справедливо. Что такое меланхолия? Грустное чувство, объемлющее
душу при виде изменяемости и неверности благ житейских, чувство или
предчувствие утраты невозвратимой и неизбежной. Таким чувством была
проникнута светлая жизнь языческой древности, светлая, как украшенная
жертва, ведомая с музыкою, пением и пляскою на заклание. Эта
незаменяемость здешней жизни, раз утраченной, есть характер древности и ее
поэзии; эта незаменяемость есть источник глубокой меланхолии, никогда не
выражающейся в жизни, но всегда соприсутственной тайно, зато весьма
часто выражающейся в поэзии. Кто из новейших имеет более меланхолии
Горация? Но Горациева меланхолия понятна; она его естественная,
неискусственная физиономия, тогда как меланхолия новейших поэтов бывает
часто одно кривляние. Христианство и в этом отношении, как и во всяком
другом, произвело решительный переворот: там, где есть Евангелие, не
может уже быть той меланхолии, о которой я говорил выше, которой все
запечатлено в доевангельском мире; теперь лучшее, верховное, все
заменяющее благо — то, что одно неизменно, одно существенно, дано один раз
навсегда душе человеческой Евангелием. Правда, мы можем и теперь, как
и древние, говорить: земное на минуту, все изменяется, все гибнет; но мы
говорим так о погибели одних внешних, чуждых нам призраков,
заменяемых для нас верным, негибнущим, существенным, внутренним, нашим; а
древние говорили о гибели того, что, раз погибнув, уже ничем заменяемо
не было».
2. Замечания на письмо
На эту статью были сделаны весьма остроумные замечания; прилагаю
их здесь с моим на них ответом:
«С большим удовольствием читал я в "Москвитянине" твои стихи и
письмо, твою поэтическую исповедь. Что же касается до меланхолии,
то прав и ты и права г-жа Сталь. Впрочем, так и быть должно: нет ничего
безусловного и отдельно целого. Конечно, в Горации есть уныние, но
это уныние ведет к тому, что надобно торопиться жить, петь и
веселиться; а новейшее или христианское уныние ведет к тому, что уныние есть
обязанность, душа жизни. Ты говоришь: там, где есть Евангелие, не
может уже быть той меланхолии, которою все запечатлено в
до-евангельском мире. Нет, где есть Евангелие, там не может или по крайней мере
не должно быть отчаяния, а унынию есть место, и большое. Верую,
Господи, помоги моему неверию: разве эта молитва не есть вопль уныния?
А когда Христос молил, чтобы пронеслася мимо чаша, а когда с него
624
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
падал кровавый пот, а когда он воскликнул: "Прискорбна есть душа моя
до смерти" — разве это не уныние? Религия древности есть
наслаждение: ему строили алтари и вся жизнь древняя была служением ему.
Религия наша: страдание; страдание есть первое и последнее слово
христианства на земле. Следовательно, с Евангелием должно было войти в
поэзию — стихия, совершенно чуждая древнему миру, по крайней мере
в этом отношении. Не будь бессмертия души, не будет и сомнения и
тоски. Смерть тогда — сон без пробуждения, и прекрасно! О чем тут
тосковать? Все уныние, вся тоска в том, что, засыпая, не знаешь, где и
как проснешься; тоска в том, что на жизнь смотришь, как на лоскуток
чего-то, как на программу, как на лотерейный билет, не зная, что
вынется. Незаменяемость здешней жизни, раз утраченной, ввиду чего-то,
ввиду живого чувства, была бы грустью, но ввиду бесчувствия,
ничтожества, она, разумеется, и сама ничто. Кажется, Сенека сказал: "Чего
бояться смерти? При нас ее нет, при ней нас уже нет". Вот
вероисповедание Древнего мира. А у нас напротив: "Смерть начало всего". Тут
поневоле призадумаешься».
3. Ответ на замечания
...Жаль, что пред глазами моими нет моего письма, напечатанного в
«Москвитянине» без моего ведома. Я не помню, что и как в нем сказано;
следственно, не могу защищать своих выражений, может быть и
ошибочных, ибо письмо написано наскоро. Я, правда, перечитал его и про себя,
и потом с Гоголем, но теперь ни слова не помню, и, конечно, многое в нем
сказано неопределенно, и многие выражения неточны. Мне остается
возражать на твои мысли и на твои слова. — Мне кажется, что ты в своих
положениях ошибаешься, и ошибаешься оттого, что не сделал для себя ясной
дефиниции главного предмета, о котором говоришь. Ты смешиваешь два
понятия, совершенно разные: меланхолию и печаль, или скорбь [а не
уныние, как ты выражаешься; уныние есть только следствие печали,
овладевшей душою и преодолевшей силу ее].
Что такое меланхолия? Грустное состояние души, происходящее от
невозвратной утраты, — или уже совершившейся, или ожидаемой и
неизбежной. Причины меланхолии суть причины внешние, истекающие из
всего того, что нас окружает и что на нас извне действует. Скорбь или печаль
есть состояние души, томимой внутреннею болезнью, из самой души
истекающею; и хотя причины скорби могут быть внешние, но они, поразив душу,
предают ее ей самой, и скорбь в ней тогда также присутственна, как и сама
жизнь. Меланхолия питается извне; без внешнего влияния она исчезает.
Скорбь питается изнутри, и если душа, ею томимая, не одолеет ее, то она
обращается в уныние, ведущее наконец к отчаянию; если же, напротив, душа
625
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
с нею сладит, то враг обращается в друга-союзника, и из расслабляющей
душу силы [то есть из силы этой скорби, ее гнетущей] вдруг рождается
великое могущество, удваивающее жизнь. Меланхолия есть ленивая нега,
есть — так сказать — грустная роскошь, мало-помалу изнуряющая и
наконец губящая душу. Скорбь, напротив, есть деятельность, столько же
для победившей ее души образовательная и животворная, сколь она
может быть разрушительна и убийственна для души, ею побежденной. Из
всего сказанного ясно, что никак не должно смешивать понятия
меланхолии с понятием скорби. Напоследок главное, существенное различие
между меланхолией и скорбью — [я говорю здесь в смысле христианина, для
которого в этом отношении нет ничего сомнительного, который все
строит на твердом пункте откровения] — главное различие состоит в том, что
меланхолия, грустное чувство, извлекаемое из неверности, непрочности и
ничтожности всего житейского, ничем не заменяемого по утрате его, не
может быть свойством, внутреннею принадлежностью души, по природе
своей — бессмертной, а потому и чувствующей явно или тайно свое бессмертие,
несовместное с чувством ничтожества, но что она входит в душу извне, из
окружающего ее рыхлого мира, как нечто ей постороннее, и к ней
прилипает, как нарост, как кора, ей чуждая; тогда как скорбь есть
неотъемлемое свойство души, бессмертной по своей природе, божественной по
своему происхождению, но падшей, и носящей в себе, явно или тайно,
грустное чувство сего падения, соединенное, однако, с чувством
возможности вступить в первобытное свое величие. Откровение дает
деятельную жизнь сему темному врожденному чувству, приводя его в ясность и
указывая на средства исцелить недуг падения. Пока души не
преобразовало откровение, до тех пор она, обретая в себе эту, ей еще не ясную
скорбь, стремится к чему-то высшему, но ей неизвестному, и чем сильнее
внутренняя жизнь ее, тем сильнее и это стремление, и тем глубже
проникается она этой тайной скорбью. Но как скоро откровение осветило душу
и вера сошла в нее, скорбь ее, не переменяя природы своей, обращается в
высокую деятельность, благородствует душу и, не производя в ней
раздора с окружающим миром, оценивает его блага, ничтожные сами по себе,
но существенные, когда они подчинены благам вышним, которые их
заменяют, не уничтожая временной значительности их в здешнем мире. Эта
скорбь есть душа христианского мира. Пока она не оперлась на веру и
откровение, она может повергнуть в уныние и безнадежность, ибо тогда
врожденное стремление души не имеет предмета. С верою же [под
словом вера я разумею одну только веру во Христа] она ведет к глубокому
миру, и наконец принимает на себя светлый образ этого мира, при
котором все земное становится ясным и все наше драгоценнейшее верным!
[Это состояние души не есть знание, ибо человек не создан знать, — но
более, нежели знание: это вера, самый возвышенный, самый свободный и
626
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
самобытный акт души человеческой, вера — дитя скорби. Св. Августин,
кажется, говорит: «мне не нужно знать, чтобы верить, но верить, чтобы
знать»].
Покажется парадоксом, если сказать, что меланхолия есть элемент
мира древнего [здесь под миром древним разумеется классический мир
греков и римлян], но оно так! я говорю элемент, то есть состав, входящий в
образование внутреннего характера жизни древних. Они имели вполне
развитую гражданскую материальную жизнь, но не имели дополнения,
необходимого этой жизни, того именно, что ее упрочивает и благородствует; их
религия принадлежала тесным пределам этой материальной жизни; она не
входила во внутренность души, напротив — извлекала ее из самой себя,
наполняя внешний мир, ее окружающий, своими поэтическими
созданиями, повторявшими, в другом только размере, все события ежедневной
материальной жизни. Но замены земным утратам ничто не представляло.
Отец богов, Юпитер, сам был великий развратник; утешить и подкрепить в
бедах он не был способен, принимать экатомбы, но не мог ничего против
слепого безжалостного фатума. Все сокровища были на земле; все
заключалось в земных радостях, и все с ними исчезало. Итак, естественно, что
душа, ничего, кроме сих изменчивых благ, не имея, к ним с жадностью
прилипала и предавалась их наслаждению, отвратив глаза от Парки, во всякое
время с ним неразлучной. У каждого на пиру жизни висел над головою, на
тонком волоске, меч Дамоклов, но потому именно, что он у каждого висел
над головою, все общею толпою шумели весело на пиру и спешили
насытиться по горло. Каждый сам про себя, ясно или неясно, чувствовал, что
когда соберут со стола, уж другого ему не накроют; но увлеченный общим
шумным порывом, не обращал внимания на это чувство или вопреки ему
удваивал свои подвиги на всемирной оргии. Иногда какой-нибудь Гораций,
но и тот только для того, чтобы подстрекнуть наслаждение, восклицал
посреди этой суматохи:
Лови, лови летящий час!
Он, улетев, не возвратится!
Эти слова меланхолически высказывают печальную истину; но только
для того, чтоб сильнее прилепиться к милому заблуждению, чтоб
наложить новый блестящий покров на скелет жизни. Но этот скелет во всей
своей отвратительности выскакивал из цветов, на него набросанных
беспечностью, когда какой-нибудь простодушный Гомер, совсем не мысля
щеголять меланхолическими картинами, приводил своего Одиссея к
вратам Аида и заставлял тени умерших высказывать ему тайну жизни. Все это
доказывает, что в мире древнем меланхолия [в том смысле, который я к
сему слову привязываю], будучи печальным, постоянным элементом
самой жизни, потому именно не могла быть высказываема, а только
временем бывала ощутительна в ее внешних явлениях. Древние брали жизнь
це627
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ликом, спешили вполне ею воспользоваться; наслаждение было их
единственною целью; далее здешней жизни ничто им не представлялось. И они
умели употреблять ее по-своему; и это искусство употребления жизни
особенно выражается в поэзии и в скульптуре; какая верность, свежесть,
полнота форм, какое пластическое совершенство! И если что-нибудь
меланхолическое проскакивает в этих пленительных, светлых образах, то это
как будто ненароком; это тайна, невольно проговорившаяся; это
колодник, заключенный в темном подвале под чертогом пиршественным, на
минуту вырвавшийся из затвора и пробежавший перед толпою пирующих, чтоб
снова попасть в руки тюремщиков и возвратиться в свое темное
заключение. Христианство своим явлением все преобразило. И если велик
переворот, в жизни общественной [им] произведенный, то переворот,
произведенный во внутренней жизни, гораздо обширнее и глубже. Откровение
разоблачило перед человеком его высокую природу и возвеличило
человеческую душу, указав ей ее падение и вместе с ним ее права на утраченную
божественность, возвращенные ей искуплением. Из внешнего мира
материальной жизни, где все прельщает и гибнет, оно обратило нас во
внутренний мир души нашей; легкомысленное, ребяческое наслаждение внешним
уступило место созерцанию внутреннему; за всякое заблуждение
надежды, ласкавшейся обресть верное существенное в изменяющем внешнем,
нашлось вознаграждение в сокровищнице веры, которая все наше
драгоценное, все, существенно душе нашей принадлежащее, застраховала на
уплату по смерти, в ином мире. Какое же место может в этом
христианском мире найти меланхолия, которая не иное что, как тоска посреди
разрушения и утрат, ничем не заменяемых, — тогда как в христианском мире
по-настоящему нет утрат! Гибнет только то, что не наше; все же, что
составляет верное достояние и сокровище нашей души, упрочено ею на всю
вечность. До христианства душа, еще не воздвигнутая искуплением, была
преисполнена темным чувством падения, тайною, часто неощутительною
печалью [эта печаль относительно внешнего есть то, что я называю
меланхолией]. Христианство, победив смерть и ничтожество, изменило и
характер этой внутренней, врожденной печали. Из уныния, в которое она
повергала и которое или приводило к безнадежности, губящей всякую
внутреннюю деятельность, или насильственно влекло душу в заглушавшую
ее материальность и в шум внешней жизни, — оно образовало эту
животворную скорбь, о которой я говорил выше и которая есть для души
источник самобытной, победоносной деятельности.
Но отчего выражения меланхолии мы не находим в поэзии древней и
отчего им так изобильна поэзия христианская? Древние по той же причине
не выражали меланхолии в идеальных произведениях поэзии и искусства,
по которой они ее выгнали из своей действительной жизни. И мы видим,
как все эти произведения чисты и далеки от всякой туманности, от всякой
628
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
таинственности, придающей такую прелесть произведениям поэтов и
артистов не-классических. Жизнь древних отразилась перед ними в
созданиях искусства, во всей ее пластической определенности. [Ибо что иное
искусство, как не слепок жизни и мира, сделанный таким точно, каким видит
и понимает его душа наша?] Как же очутилось выражение меланхолии в
поэзии христианской? Сперва надобно сделать в этом вопросе маленькую
поправку: не в поэзии христианской, а в поэзии по распространении
христианства. Великая разница. Поэт, наполненный духом Евангелия, —
поэтхристианин не может ни сам предаваться той меланхолии, о которой
говорено выше, ни передавать ее поэзии. Его вдохновение имеет иной характер.
В Данте нет меланхолии; в Шекспире ее нет; в Вальтер Скотте ее не
найдешь. Но между тем она одна из самых звучных струн романтической лиры
[то есть лиры, настроенной после распространения христианства]. Этот
феномен изъяснить нетрудно. Христианство открыло нам глубину нашей
души, увлекло нас в духовное созерцание, соединило с миром внешним мир
таинственный, усилило в нас все душевное — это отразилось в жизни
действительной: страсти сделались глубже, геройство сделалось рыцарством,
любовь — самоотвержением; все получило характер какой-то духовности.
Это равномерно отразилось и в поэзии — и тогда, как древний поэт
схватывает живо, свежо и резко окружающие его материальные образы, и только
поверхностно, но с удивительною верностью изображает страсти, столь
же поверхностные, как и их изображение; поэт романтический, менее
заботясь о верности своих очерков, менее заботясь о красоте пластической
[в изображении которой, впрочем, и не сравнился бы он с древними,
успевшими прежде его схватить все главные черты], углубляется в выражение
таинственного, внутреннего, преследует душу во всех ее движениях и
высказывает подробно все ее тайны. Теперь пускай поэт романтический,
введенный христианством во все тайны души человеческой, не будет в
собственной душе своей иметь христианского элемента; пусть будет он по
своему вероисповеданию язычник [а язычник-романтик гораздо более
язычник, нежели язычник-классик; сей последний — язычник по незнанию,
а тот язычник по отрицанию], пусть будет он христианин только по эпохе,
в которую живет, и неверующий по своему образу мнения и чувствования —
в какую бездну меланхолии должна погрузиться душа его, обогащенная
всеми сокровищами отрицаемого им христианства! В этом арсенале — то
есть в арсенале меланхолии — найдет он самые сильные свои оружия,
древним неизвестные, и тем сильнейшие, что они будут в противоположности с
окружающим его миром, и что он сам от оппозиции с этим миром
присоединит к сильному меланхолическому чувству силу негодования и
презрения. Пример Байрон: конечно, обстоятельства жизни помогли освирепеть
его гордому гению; но главный источник его меланхолического
негодования есть скептицизм. Как поэтическая краска, меланхолия из всех
поэти629
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ческих красок самая сильная; поэзия живет контрастами. Самые
привлекательные характеры [то есть поэтически привлекательные] в поэзии суть
те, которые наиболее возбуждают чувство меланхолическое: сатана в
Мильтоновом Раю, Аббадона у Клопштока. В христианском мире, где все
ясно и прочно, картины меланхолические никого не пугают; мы
наслаждаемся ими, как человек, сидящий на берегу, наслаждается зрелищем бури.
И поэты романтические до излишества пользуются сим действительным
способом производить поэтическое впечатление. Но их меланхолические
жалобы, не совместные ни с христианскою скорбью, ни с христианским
покоем, из этой скорби истекающим, могут быть трогательны и
действительны только тогда, когда выражают не вымышленное, а действительное
страдание души, томимой чувством собственного ничтожества и
неверности всего, что мило ей на свете, тем более резким, что они сами бежали с
отвергнутого ими неба или не имели силы войти в его врата, отворенные
христианством, и плачут о нем в виду его света, как Аббадона, или
негодуют на него, как сатана, его оттолкнувший. Самый меланхолический образ
представляет нам сатана. Он пал произвольно; он все отверг по гордости;
он все отрицает, зная наверное, что отрицаемое им есть истина. Итак,
божественное ему ведомо, и оно было его собственностью, и он, зная его,
произвольно свое знание отрицает... неверие с ясным убеждением, что
предмет его есть верховная истина и что эта истина есть верховное благо — что
может быть ужаснее такого состояния души и в то же время что грустнее,
когда представишь себе, что сей произвольный отрицатель был некогда
светлый ангел!
Надобно кончить. Но я написал свое длинное рассуждение [короче
написать не успел] по поводу твоих возражений, а собственно в ответ на
твои слова не сказал ничего. Следует на минуту и к ним обратиться.
«Конечно, — говоришь ты, — в Горации есть уныние, но это уныние ведет к
тому, что надобно торопиться жить, пить и веселиться ». И я то же говорю;
и эта поспешная жадность хватать наслаждение есть признак боязни, что
оно быстро уйдет и навеки. «Христианское уныние ведет к тому, что
уныние есть обязанность, душа жизни». Христианского уныния нет, а есть
христианская скорбь; она не есть обязанность; она истекает из самой природы
падшего и чувствующего свое падение человека; и потому она может
назваться душою жизни; но она не парализирует, не расслабляет и не мрачит
жизни, а животворит ее, дает ей сильную деятельность и стремит ее к
свету. Без веры сия скорбь могла бы привести к унынию и отчаянию; с верою
она ведет к светлому миру и смирению. «Верую, Господи! помоги моему
неверию!» Эту молитву я слишком знаю, но она есть крик не уныния, а
скорби, и если этот крик вырывается из глубины сердца, то на него будет ответ
несомненный, ибо сердце знает, к кому вопиет; знает, что этот, им
призываемый, ему внемлет, что вера есть величайший дар его благодати и что он
630
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
дает ее, когда произвольно и покорно протянешь руку для принятия его
дара. Спаситель на горе скорбел, как человек, но он не унывал, и в эту
минуту предпоследнего его земного поприща выразился в нем весь им
преобразованный человек, во всей силе своего земного страдания [душа моя
прискорбна до смерти; да пройдет чаша мимо] и во всей божественности своего
ведущего к небу смирения [не якоже аз хочу, но якоже ты]. Страдание и
молитва на горе Елеонской есть верховное изображение жизни
христианина, которая вся выражается в одном слове: смирение. — «Религия
древних есть наслаждение: ему строили алтари и вся жизнь древних была ему
служением». Это совершенная правда; но это говорю и я. — «Религия наша
есть страдание; оно первое и последнее слово христианина на земле».
Вернее сказать: религия наша есть утешение! страдание есть принадлежность
жизни. Ни мы сами не найдем, ни постановления гражданские не создадут
для нас такого счастья земного, которое было бы без утрат, и никто не
выгонит из жизни испытующего или губящего ее несчастия, из нас самих
или из обстоятельств внешних истекающего. Одна религия — и религия
христианская [ибо другой быть не может] — заговорила несчастье,
заменила высшими, прочными благами блага минутные, и страдание, столь
противное безверию, превратилось] в драгоценнейшее земное сокровище. Что
перед этим наслаждение [то есть наслаждение, взятое как главная
пружина жизни]? Чувственное раздражение души, повергающее ее наконец в
такое же состояние, в какое излишнее употребление опиума повергает тело.
И что должно таиться в глубине той жизни, которая этому идолу строит
алтари и ему одному себя покоряет? — «С Евангелием должно было войти
уныние в поэзию». Правда! то же говорю и я; но это уныние, вошедшее
вместе с Евангелием в поэзию, не из Евангелия вышло. Это объяснено выше.
Последняя твоя фраза весьма замечательна, как остроумное
злоупотребление слова: «Не будь бессмертия души, не будет сомнения и тоски;
смерть тогда сон без пробуждения, и прекрасно! О чем тут тосковать? Все
уныние, вся тоска в том, что, засыпая, не знаешь, где и как проснешься;
тоска в том, что на жизнь смотришь как на лоскуток чего-то, как на
программу, как на лотерейный билет, не зная, что вынешь. Незаменяемость
здешней жизни, раз утраченной, ввиду чего-то, ввиду живого чувства была
бы грустью; но ввиду бесчувствия, ничтожества она и сама ничто. Кажется,
Сенека сказал: "Чего бояться смерти? При нас ее нет, при ней нас уже нет!"
Вот вероисповедание Древнего мира. А у нас напротив: смерть начало
всего! Тут поневоле призадумаешься». Читая это, подумаешь, что оно
написано не живым, а мертвецом, заснувшим тем непробудным сном, который
так приятен и роскошен, когда он уже наступил и когда начал нажить
усталые члены сибарита, им улелеянного и вбирающего в себя всю сладость
усыпления, всю роскошь бесчувствия и самозабвения; подумаешь, что
полупробужденный на минуту каким-нибудь гальваническим процессом, этот
631
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
мертвец высказал без своего ведома свою могильную тайну живущим,
тайну, из которой следует, что сон ничтожности покоен. Хорошо для
мертвых: но какая польза от этой тайны живущим, пока они живы, пока они
действуют, любят, замышляют великое, страдают, терпят гонение и проч. и
проч.? Хорошо же твое вероисповедание древнего мира! Если оно
подлинно таково, то что безнадежнее и мрачнее? Если оно подлинно таково, то
поневоле, как говоришь ты, призадумаешься; поневоле примешься потом
плясать, пить, веселиться и нет, чтобы как-нибудь докружиться до этого
сна беспробудного, столь сладкого, как мгновенное последнее событие, и
столь печального, как цель целой долговременной жизни. Чтоб отвечать
ясно на твою последнюю фразу, надобно просто ее переписать, с
некоторыми только вставками. Не будь бессмертия души, не будет и сомнения —
а будет, напротив, полное убеждение, что жизнь есть дело случая,
преданная во власть слепой необходимости, без ободрительного будущего, с
прошедшим навеки утраченным, с одною мечтательною минутою настоящего,
которую скорее надлежит заклеймить наслаждением, чтобы хоть
что-нибудь урвать [без надежды его сохранить] у мимолетящего призрака
жизни; не будет и тоски, то есть не будет стремления ни к чему, обещаемому
надеждою, упроченному верою, ни к чему еще не нашему, но верному и
заменяющему с лихвою наше здешнее неверное; смерть тогда сон без
пробуждения, и это совсем не прекрасно! И есть о чем тут тосковать тому,
перед кем мерещится вдали один только этот сон как итог, как последний
результат жизни; эта вся тоска особенно состоит в том, что, засыпая, он не
знает, где и как проснется; не знает потому, что смотрит на жизнь сквозь
черное стекло скептицизма, а не при свете истины Спасителя, который
говорит: «Да не смущается сердце ваше! веруйте в Бога и в Меня веруйте; в
дому Отца Моего обители многи суть; иду уготовать место ваше, да и вы
там будете, где Я буду». Вся тоска в том, что он смотрит на жизнь как на
лоскуток чего-то, как на программу, как на лотерейный билет, не зная, что
вынется; и смотрит так потому, что, заключив эту жизнь в тесных пределах
здешнего праха, хочет ее разгадать своим умом, строющим свои
доказательства из того же праха, по закону необходимости, признаваемой
гордостью его за свободу, и не спрашивается с вечным откровением, которое на
все дает ответ удовлетворительный, которое в мнимом лоскутке показало
бы ему вечное целое, истолковало б ему непонятую им программу, в
которой все содержание жизни с ее начала до вечности подробно означено, и
убедило бы его, что жизнь не билет лотерейный, вынимаемый Паркою из
урны фатума, а вечный жребий, благодатно даруемый свободной душе
любовью и правосудием спасающего Бога. Следующих строк я не совсем
понимаю, потому и прохожу их мимо. А Сенека, по своему обыкновению,
сумничал: мысль его в переводе на здравый смысл можно выразить так:
пока мы живы, то еще не умерли; а когда умерли, то уже не живы. Нужно
632
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
было играть словами, чтоб сказать такую великую истину! Наконец,
последнее. А у нас напротив: смерть начало всего! Тут поневоле
призадумаешься». Подумаешь, что поставив эту смерть в противоположность с
вероисповеданием древних, ты хочешь тем сказать, что у них всему начало жизнь.
Правда, у древних все жизнь, но жизнь заключенная в земных пределах; и
далее ничего: с нею всему конец! У христиан все смерть, т. е. все земное,
заключенное в тесных пределах мира, ничтожно, и все, что душа —
нетленно, все жизнь вечная. И все это оттого, что у них есть Один, Который
смертию смерть попра и сущим во гробах живот дарова!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
П.Д. ЮРКЕВИЧ:
СЕРДЦЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА ПО УЧЕНИЮ СЛОВА БОЖИЯ1
В истории творения мира повествуется, что Бог сотворил
бессловесные одушевленные существа породу их (Быт. 1,25), а человека по его
частной неделимой природе, как единичную и особенную личность (Быт. 1, 26
и дал.). Этот образ творения совершенно соответствует назначению
человека, который, как существо бессмертное, не исчезает в роде, а обладает
собственным личным существованием во времени и в вечности. Поэтому
человек никогда не может быть страдательным выражением или органом
общей родовой жизни души. Наши слова, мысли и дела рождаются не из
общей родовой сущности человеческой души, а из нашей частно-развитой,
своеобразно обособленной душевной жизни; только по этой причине они
составляют нашу личную вину или нашу личную заслугу, которой мы ни с
кем не разделяем. В то время как наука указывает общие и родовые
условия для явлений душевной жизни вообще, священные писатели имеют в
виду тот частный и особенный источник этих явлений в сердце человека,
исходя из которого они при своей общности делаются нашим личным
состоянием и достоянием.
Предыдущие изъяснения, кажется, дают понять нам, что различие
между психологическим и библейским воззрением на существо
человеческой души сводится к общему и простому различию между изъяснением
явлений из начал физических и начал нравственных. При исследовании
явлений душевной жизни наука, сообразно со своею общею методою,
спрашивает: по каким общим условиям и законам совершаются эти явления?
И как только найдены требуемые общие условия и законы душевных
явлений, наука о душе может так же легко рассчитывать и определять их
будущее возникновение и образование, как астрономия рассчитывает и
определяет будущие движения и положения светил небесных. Но эта плодотворная
метода науки, как очевидно, имеет применение только ко вторичным и
производным явлениям душевной жизни. Всякая простая основа явлений, в
которой еще не выступили определенные направления и формы, в которой
еще не выдались некоторые пункты, недоступна анализу науки, потому что
этот анализ всегда предполагает сложность и многоразличие явления, он
нуждается в опорных пунктах изъяснения, которых недостает во всякой
простой основе явлений. Если это справедливо вообще, то тем более
нужно согласиться, что в человеческой душе есть нечто первоначальное и
простое, есть потаенный сердца человек, есть глубина сердца, которого
будуЮркевичП.Д. Философские произведения. М., 1990. С. 89-91.
634
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
щие движения не могут быть рассчитаны по общим и необходимым
условиям и законам душевной жизни. Для этой особеннейгией стороны
человеческого духа наука не может найти общих и навсегда определенных форм,
которые были бы привязаны к той или другой паре нервов и возникали бы с
необходимостью по поводу их движения.
Когда мистицизм пытался указать формы, которые вполне
соответствовали бы духовному содержанию человеческого сердца, то он мог
только отрицать все доступные для нас формы и выражения как конечного мира,
так и конечного духа. Ему казалось, что не только низшие душевные
способности не соответствуют полноте и достоинству сердечной жизни, но и
самый разум, поколику он мыслит в частных формах, поколику он
рождает одну мысль за другою во времени, есть слабое, неточное и,
следовательно, ложное выражение этой жизни. В таких предположениях мистик мог
только погружаться в темное чувство единства и бесконечности — в ту
глубину сердца, где наконец погасает всякий свет сознания. Это
болезненное явление мистицизма — который хочет миновать все конечные условия
нашего духовного развития, который хочет стать у последней цели сразу и
непосредственно, не достигая ее многотрудным и постепенным
совершенствованием во времени, есть, во всяком случае, замечательный факт для
изъяснения душевной жизни человека. В его основании лежит истинное
убеждение, что полнота духовной жизни, которую мы ощущаем в сердце,
не исчерпывается теми душевными формами, которые образуются под
условиями этого конечного мира, или что наше развитие не может быть
замкнуто теми определенными явлениями духа, которые возникают под
временными условиями. Вместо того чтобы веровать и надеяться и сообразно
с этим подвизаться во временном мире, мистик относится враждебно и
отрицательно к настоящему, Богом установленному порядку нашего
временного воспитания. Но мы думаем, что противоположную крайность
образует то психологическое воззрение, которое надеется перечислить и
определить все явления душевной жизни как конечные и раз навсегда
определенные ее формы, так что ни в них, ни под ними нельзя уже найти жизни
своеобразной, простой, непосредственной, которая бы проторгалась
неожиданно и нерассчитанно. Нам кажется, что такое воззрение, которое хотело
бы каждую частную деятельность души привязать к частному нерву как ее
условию, может дать нам образ духа как существа, назначенного только
для временной и конечной жизни. Если это воззрение вообще не может
указать в душе человека глубочайших основ ее личности и зачатков ее
будущей жизни, то, с другой стороны, для него остаются и навсегда
останутся неразгаданными многие душевные явления, о которых свидетельствует
опыт, таковы, например, знаменательное значение снов, явления
предчувствия, состояния ясновидения, в особенности различные таинственные
формы религиозного сознания в человеке и человечестве. Истину между
635
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
показанными крайностями мистицизма и эмпиризма мы имеем в
библейском учении о сердце как средоточии душевной жизни человека. Сердце
рождает все те формы душевной жизни, которые подлежат общим
условиям и законам; итак, оно не может относиться к ним отрицательно, не
может своими непосредственными порывами расторгать их. Однако же
сердце не переносит раз навсегда всего своего духовного содержания в эти
душевные формы; в его глубине, недоступной анализу, всегда остается
источник новой жизни, новых движений и стремлений, которые переходят за
пределы конечных форм души и делают ее способною для вечности.
Поэтому и во временных, но особенных условиях всегда остается
возможность для таких необычайных явлений в области душевной жизни, которые
выступают за пределы ее обычного образа действования.
Практические применения, которые можно сделать из предыдущих
замечаний, даются так непосредственно, что мы можем ограничиться в этом
случае краткими указаниями.
Если сердце есть такое средоточие духовной жизни человека, из
которого возникают стремления, желания и помыслы непосредственно или тою
стороною, которая не вытекает с математическим равенством из внешних
действующих причин, то самая верная теория душевных явлений не может
определить особенностей и отличий, с какими они обнаружатся в этой
частной душе при известных обстоятельствах. Как мы уже сказали, человек не
есть такой экземпляр рода, в котором только повторялось бы общее
содержание других экземпляров. Он, и в этом отношении он один в
известном нам мире, есть особь, или, как говорят, индивидуум. Таким
особенным, не исчезающим в роде существом знает себя человек в
непосредственном самосознании, которое поэтому открывает ему не душу вообще, не
всякую душу, а эту особенную, с особенными настроениями,
стремлениями и помыслами; общая же теория душевной жизни получается, как и
всякая теория, посредством сравнений, обобщений и отвлечений от частных
опытов.
Библейское учение о сердце как средоточии всей душевной и
духовной жизни не стоит одиноко и отдельно среди всего остального учения. Мы
хотели показать, какие великие практические интересы духа
человеческого и христианского соединяются с ним; так что если бы, по ограниченности
наших научных средств, оно и не оправдывалось пока научным образом, то
все же мы не можем обходить его с равнодушием, если только для нас
дорога религиозная и нравственная жизнь человечества. Мы высказали
надежду, что с этой точки зрения может быть указано правильное,
гармоническое отношение между знанием и верою; далее, могут быть указаны
глубочайшие основания религиозного сознания человечества, наконец, и в
особенности, что христианское нравоучение только с этой точки зрения
может быть понятно в его глубочайшем духе и безмерном достоинстве.
636
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
Если бы кто имеющий больше сил и опытности рассмотрел еще, как
сообразно с библейским учением о сердце должно понимать задачу или цель
воспитания, то мы получили бы значительный круг практических начал,
которые сближали бы область веры с областью науки, потому что
господствующее ныне разделение между верою и знанием, как требование знать
так, а веровать иначе, кажется невыносимым для людей самых
разнородных убеждений. Служение науке не есть служение маммоне, с которым
было бы нецелесообразно служение Богу: это чувствуют ныне, хотя
касательно средств к достижению примирения между наукою и верою еще не
многие имеют определенное убеждение. В настоящей статье мы
руководствовались мыслию, что одно из таковых средств заключается в
тщательном и беспристрастном изучении Библии во всех ее подробностях, во всех,
по-видимому, самых незначительных понятиях. «Возьми и читай», —
говорил неведомый голос Августину, который терялся среди сомнений и
противоречий своего широкого знания.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ФА. ГОЛУБИНСКИЙ:
«В НАС СОДЕРЖИТСЯ ЖИВОЙ ОБРАЗ СУЩЕСТВА
БЕСКОНЕЧНОГО»
Голубинский Федор Александрович (1797—
Д854) — философ и богослов. После окончания
Московской духовной академии (1818) до конца своих дней
преподавал в академии философские дисциплины, в
числе которых была и психология. Его лекции
опубликованы в записях одного из слушателей, священника
В.Г. Назаревского.
Согласно Голубинскому, всякое познание
начинается с познания Бесконечного, с богословия.
Умозрительная психология основывается на богословии,
поэтому ее изучение следует за курсом
умозрительного богословия. Предметом умозрительной
психологии является душа, «в которой яснее, чем в физическом мире, открывается
богоподобие ». Изложение собственной концепции предваряет «Исторический
очерк умозрительном психологии», который охватывает исследования
души, начиная от самых древних представлений (индийские «Веды»,
персидский Зароастр, египетские мифы), затем в древнегреческой философии
(Фалес, Пифагор, Сократ, Платон, Эпикур, стоики, неоплатонизм), в
учениях Отцов Церкви, схоластике, мистицизме, у Декарта, Спинозы,
Лейбница, в немецкой классической философии — у Канта, Фихте, Шеллинга,
а также более подробно — у Ф.Г. Якоби. Во всех этих концепциях
Голубинский выявляет те мысли о душе, которые подкрепляют чистые и
возвышенные понятия о ней, обнаруживающие ее богоподобие.
В главном психологическом произведении Голубинского — лекциях
по «Умозрительной психологии» — выступает своеобразие в понимании
предмета психологии, ее содержания, теоретического и практического
значения, которые трактуются в традициях святоотеческой антропологии.
УМОЗРИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ1
Предмет Умозрительной Психологии есть сообразность и союз души
с Существом Бесконечным. Союз души с Творцом рассматривается здесь
не в нравственном отношении (это предмет Нравственной Философии),
Голубинский Ф.А. Умозрительная психология. М., 1871. С. 18-23,29-43,68-69,
72-83, 128-130.
638
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
а как предназначенное человеку по его природе
общение души с Виновником ее бытия. Сообразность
и союз души с Существом Бесконечным потому
составляет предмет Умозрительной Психологии, что
главный предмет всей вообще Метафизики есть
Бесконечное Существо, рассматриваемое как в самом
себе, так и в своем проявлении. Иначе Метафизика
не имела бы единства. Как в природе все течет из
одного начала, так и в исследовании законов ее
лучший порядок есть тот, если все объясняется из
одного начала. Силы души, которыми она
возвышается над влечениями чувственности, над
ограничениями пространства и времени, составляют предмет
Метафизики потому, что эти силы уподобляют ее
Божеству, поставляют ее в необходимую связь с Высочайшим Существом.
Так ум и свобода возвышают человека над животными: но без отношения к
Божеству слова сии не имели бы смысла. Без сего отношения в чем бы
состоял ум? Если представить познания его относящимися только к
предметам ограниченного мира, то это была бы возвышенная на некоторую только
степень чувственность, то есть, к разнообразным чувственным
наблюдениям присоединилось бы приведение их в общие понятия, суждения и
умозаключения. Но при таком познании мира посредством общих понятий и
суждений разум никогда не достигал бы совершенного единства без идеи о
Едином Виновнике и Устроителе мира, не мог бы разрешить противоречий,
которых много представляется при одном опытном рассмотрении явлений
чувственного и духовного мира. Если что дает единство нашим познаниям
при рассмотрении явлений того и другого мира, так это идея Виновника
его, в котором причина, первообраз и цель всего существующего. Какое
значение имела бы и свобода человека, если бы он не возвышался над
рабством конечно посредством идеи о Высочайше-свободном Существе?
Положим, что он имел бы в самом себе, в своем — Я опору против внешних
впечатлений, мог бы противопоставлять свое — Я множеству развлечений и
привлечений чувственных: но в этом еще не было бы истинной свободы, это
было бы рабство своему ограниченному — Я. Истинная свобода там, где
человек возвышается не только над множеством разнообразных
впечатлений и привлечений, пленяющих его чувственность, но и над привлечениями
своего ограниченного — Я; такое только возвышение возводит в полную
свободу, при которой разумнонравственное существо охотно и с радостью
действует к одной всеобщей цели, заключающейся в Бесконечном. А при
таком действовании, где человек находит опору против внешних
развлечений в своем только — Яу была бы только частность, конечность. По числу
ограниченных свободных существ было бы бесчисленное множество
част639
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ных целей, к которым каждое из сих существ стремилось бы, порабощаясь
своему ограниченному Я. Истинная свобода имеет опору для себя в том,
что человек может возвышаться не только над миром, но и над самим
собою к Тому, Кто выше его и всего существующего. Так, человек без
сообразности с Божеством не может иметь ни ума, ни свободы в высоком их
значении, не может быть человеком в истинном смысле и иметь
превосходство перед бессловесным. — В душе можно различать сущность, потом жизнь,
протекающую чрез периоды. Посему Умозрительная Психология
исследует, какое сходство со свойствами и духовными совершенствами Божества
имеет душа, в сущности и коренных своих силах, потом, какой союз с Ним
она имеет как в первоначальном своем происхождении, так и в настоящем
временном и будущем нескончаемом продолжении бытия, — или, короче,
Умозрительная Психология решает вопросы: откуда я? где я? и куда я
отиду? — К сущности души принадлежат самостоятельность и простота или
невещественность, далее, высшие силы, которые идеями безусловно
истинного, доброго и прекрасного направляются к Бесконечному. Но душа
самостоятельна и потому, что она есть образ безусловно-самостоятельного
Существа: проста или нематериальна потому, что есть образ чистейшего Духа;
может постигать нечто высшее за явлением чувственного мира,
сокровенные законы и цели природы и саму себя в основе бытия своего, потому, что
она носит образ видения Божественного; силою свободной воли,
направляемой практическим умом или совестью, может исторгаться из уз
чувственных пожеланий и влечений, потому что имеет подобие Существа
Всесвободного и Всеблагого. — Рассматривая жизнь души по ее периодам, мы не можем
верно объяснить ее начало, если не узнаем, что она от Бога и высшее в ней
происходит из Бога; не поймем, какое значение ее жизни среди мира, если не
будем знать, к чему она предназначена и к кому она влечется. Итак все сии
важнейшие проблемы, составляющие предмет Умозрительной Психологии,
разрешаются из рассмотрения сходства души с Богом и ее отношения к Нему.
Части Умозрительной Психологии. Умозрительная Психология
необходимо должна состоять из двух главных отделений. В первое
отделение входят исследования о сущности души и высших сил ее, во второе —
рассуждения о происхождении и разных периодах ее бытия. Таким
образом к первому отделению относятся рассуждения: а) о самостоятельности
души, б) невещественности и в) о прирожденных ей совершенствах
духовных, или о совершенствах ума, сердца и воли. Ко второму отделению
принадлежат исследования: а) о первоначальном происхождении души, б) о
значении настоящей ее жизни и в) о жизни будущей, или бессмертии души.
Польза Умозрительной Психологии. Умозрительная Психология имеет
великую важность как в теоретическом, так и в практическом отношении.
640
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
В теоретическом отношении весьма полезно и необходимо внутреннее
упражнение в познании души, углубление в самого себя. Без самопознания
нельзя познать ни Бога, ни внешнюю природу. Все живые познания о
свойствах Божиих почерпаются из деятельного познания высших сил души, в
которых отпечатлен образ Божий; высочайшие совершенства Бога как
всесовершенного Духа — всеведение, премудрость, благость, правосудие
и т. п., не иначе могут быть познаны как путем самопознания. Бог для того
создал человека богообразно, чтобы последний представлял Его
человекообразно, верно сказал Якоби. Тем же путем познается и во внешней
природе то, что есть в ней высокого, превосходнейшего, в чем отражаются
совершенства Божественные. В уме, в его идеях находится как бы ключ к
уразумению природы, или, как выражается Якоби, те гласные буквы, с
помощью которых можно читать поучительные письмена ее и без которых
остаются в ней одни только согласные — немые буквы.
Но Психология Умозрительная как наука имеет особенную пользу в
отношении практическом. Она открывает сильнейшие побуждения к
исполнению обязанностей в отношении к Богу, ближним и самим себе.
Открывая в душе ближайшее подобие Божества, уверяясь, что она
произошла от Бога и предназначена к соединению с Ним, мы живо возбуждаемся к
тому, чтобы любить Бога как Отца, приближаясь к Нему чрез подражание
Его воле и стремиться к соединению с Ним. А это чувство любви и
благоговения к Первообразу распространяется и на образе Его, как выражает это
Клодиус: «Каждая душа люби и почитай Бога в себе и других».
Божественное в жизни людей бывает так скрыто под дикими, если можно так
выразиться, наростами, что весьма трудно узнавать оное в наших ближних. Но
Умозрительная Психология, открывая Божественное в душе каждого
человека, учит нас не судить о нем по краткому времени, в которое мы
обращаемся с ним, но по вечному достоинству души, которая имеет
происхождение от Бога и разными путями ведется опять к соединению с Ним; учит
уважать во всех ближних наших живой образ Божества, любить их как
детей Высочайшего существа, оказывать пощаду и снисхождение к их
недостаткам и надеяться возвращения их на путь духовного совершенства.
Наконец, обращаясь к самим себе, мы возбуждаемся уважать в себе
богоподобные законы и силы, возвышать свой дух над всем ограниченным,
давать ему истинное направление, сообразное высокому его достоинству,
болезновать о своих недостатках, очищать в себе образ Божий,
взыскивать, так сказать, Бога в самих себе. В школе Пифагора самопознание,
впрочем, более нравственное, углубление в самого себя, было основанием всего
учения жизни. Конечно, Пифагорово учение требовало знать более,
нежели что составляет содержание Умозрительной Психологии, — оно
требовало рассмотрения и недостатков, зол, бедствий души человеческой,
которое, по этому учению, должно было руководить к открытию благ души,
21 Российская психология 641
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
высших способностей и потребностей ее. Пифагор внушал ученикам своим
заботиться об очищении души от приросших зол, раскрытии и подкреплении
добрых семян, вложенных в нее. Но познание зол души можно предоставить
частному наблюдению каждого, и указания на это имеют также место в
Опытной Психологии и Нравственной Философии. Собственно же предмет
Умозрительной Психологии составляет познание лучшего в душе, богообразного.
А раскрытие этого лучшего совершенно необходимо для познания
недостатков и бедствий души. Чем яснее будем сознавать истинные свои потребности и
высшую цель, предназначенную нам, тем очевиднее будут раскрываться
недостатки нашей природы, расположения и стремления воли к злу. Чем ниже
представить себе назначение человека, задачу его жизни, тем менее будет
заботы о недостатках души. Нечего бояться самомечтания и гордости от того
учения, которое представляет в высшем свете прирожденные силы души с
наилучшими их стремлениями и потребностями. Самомечтание и гордость
происходят не от учения об истинном достоинстве души человеческой, а от
излишнего уважения к своему частному, ограниченному — Я, к своим
мнимо-высоким свойствам и действиям. Истинно же высокие потребности
человека, дарованное природе его превосходство и достоинство — не наше, —
это вверено душе от Виновника ее бытия. Так, нет основания гордиться ими,
напротив, должно смирять нас сравнение действительного нашего состояния
с высоким нашим назначением, которому мы оказываемся неверны.
У древних наука самопознания пользовалась величайшим уважением.
Изречение: «Познавай самого себя» написано было на вратах знаменитого
в свое время Дельфийского храма; по высокому уважению к сему
изречению, верили, что оно вышло из уст какого-либо бога; многие из главных
греческих мудрецов имели его любимым правилом жизни.
Что такое душа в метафизическом смысле ?
Исследовав, какие из свойств и духовных совершенств Высочайшего
Существа могут быть сообщены душе человеческой, мы можем составить
метафизическое понятие о ней, в котором видно было бы сходство ее со
своим Первообразом.
В смысле метафизическом душа есть ограниченная субстанция,
самодеятельная, невещественная, выражающая свою сообразность с
Бесконечным Существом в том, что она умом своим стремится к объятию
безусловной истины и мудрости, свободною волею к достижению Высочайшего блага
и к выражению его в своей деятельности, чувством ищет чистого и вечного
блаженства, и по продолжению бытия своего бессмертна.
А. Самостоятельность (substantialitas) души
Самостоятельность души состоит в том, что в человеке есть
внутреннее начало жизни, непрестанно из себя действующее, единое,
тожествен642
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
ное, на котором, как на центре, держатся все способности и действия
человека, — и это начало есть душа.
1. По существенному закону разума — для множественного и
разнообразного искать единства — должны мы предположить в душе для
многих ее действий немногие силы. При всем разнообразии наших действий мы
примечаем в них постоянно повторяющееся сходство, или общие
признаки. Как ни разнообразны чувственные представления, понятия, суждения
и умозаключения, составляемые рассудком, в них есть общий признак,
общая черта — познавать; потому все они и относятся к познавательной
способности. Таким же образом мы доходим до понятия и о других
главных способностях души. Сколько бы мы ни сократили число способностей
положим, до трех главных, — но так как они существенно отличны одна от
другой, то на них не можем остановиться, потому что при всем различии их
жизнь души одна, сознание одно, Я тот же, который в одно время
приобретал познания, в другое приводил в исполнение намерения, а в иное время не
с холодностью, как это бывает в познаниях, но с участием сердца ощущал
внешние впечатления и перемены, происходящие в душе моей. Несмотря
на различие между действиями и силами, от которых первые зависят, жизнь
моя одна, сознание одно. Поэтому не имею основания сказать, что во мне
три начала, отдельно действующие: иначе не было бы одной жизни и
одного представления в сознании о единичности моего Я. Но так как во мне есть
единство жизни и единство сознания, значит, есть во мне связь этих
главных различных сил (commune vinculum). Сознание говорит мне, что эти силы
принадлежат моему Я; я отличаю мое Я не только от внешних предметов и
частных моих действий, но и от главных сил, от которых действия
происходят, как своих оснований, — и выражаю это в простых словах: Я
размышляю, # чувствую, Я желаю. Действия и силы различны, а всегда повторяю:
Я. Итак, есть в душе нашей это единство сознания.
Но не обманываемся ли мы, присваивая одному нашему Я все явления
душевных сил? Нет, мы можем увериться, что не обманываемся, ибо не
только по необходимости природы производим различные действия и обо
всех говорим: i? действую, но производим многое и силою свободы. От
нашей воли зависит пользоваться различными силами как духовными
орудиями, упражнять ту или другую из них. Ежедневный опыт свидетельствует,
что мы можем по своему желанию напрягать силу мышления или
оставаться в страдательном положении, наслаждаться чем-либо приятным или
предаваться чувству неудовольствия. Посему, если мы по своей свободной воле
можем приводить в деятельность ту или другую способность, значит, есть
в нас начало, отличное от различных сил, более внутреннее, которое
пользуется ими как духовными орудиями и действует чрез них.
2. Рассматривая сие начало в самом себе, находим, что оно постоянно
действует изнутри себя. Нельзя допустить, чтобы душа когда-нибудь
за21- 643
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
мирала до прекращения своей деятельности; даже о способностях души
нельзя сказать, чтобы они когда-нибудь не действовали, или замирали, как
думал Локк. По мнению его, хотя душа есть действующее, мыслящее
существо, но когда мы засыпаем и ясное самосознание прекращается, тогда
перестаем мыслить, с пробуждением же опять начинаем деятельность
мышления. Такому мнению Локка нужно противопоставить ту верную мысль
Лейбница, что душа есть существо непрестанно мыслящее, даже в
младенчестве. Лейбниц объяснял это так: от наружного обнаружения какой-либо
из способностей надобно отличать внутреннее стремление ее к такому
именно, а не другому проявлению себя, и в младенце есть уже все существенные
способности души не в мертвом состоянии, а в состоянии деятельности,
выражающейся в стремлении каждой из них проявлять себя сообразно с
законами, данными ей; потому и младенец есть существо мыслящее.
Иначе, если заключить от необнаружения способностей к небытию их, то
надобно было бы представить многократно повторяющееся в человеке
творение, как будто он сначала рождается животным и действует как животное,
следовательно, и в существе своем есть животное, а с возрастанием его в
нем образуется новая сила, мыслительная. По мнению Локка, выходит,
что человек не всегда мыслит, как действительно мы и видим это, если
смотреть на обнаружения. Но неужели мышление уничтожается в человеке во
время его сна? Потом с пробуждением его опять рождается? Поэтому
надобно было бы предположить многократно повторяющееся в человеке
творение. Справедлива та мысль, что человек рождается со всеми силами, но
одни из них обнаруживаются, другие, оставаясь сокровенными, только
стремятся к проявлению себя, хранят данный им закон. Таким образом, душа
сама в себе есть начало постоянно деятельное. Далее, это начало действует
само из себя. Душа наша не может быть ни видоизменением другого
существа, как предполагали некоторые, ни силою, отвне приводимою в
деятельность, повторяющею свойства и действия чужие. У Спинозы душа,
соединенная с телом, представляется подобно радуге. В радуге две стороны:
темная, состоящая из паров и дождя, и светлая, освещаемая лучами
солнца, отражающимися в каплях дождя. По представлению Спинозы, темная
часть в человеке есть тело, а светлая — душа. Итак, душа и тело, по его
мнению, один призрак, видоизменение абсолютной Субстанции; внутри
души нет ничего самостоятельного. Но нетрудно увериться, что душа наша
есть начало внутреннее, непрерывно действующее из себя. Когда она
принимает в себя впечатления отвне, в ней обнаруживается сила, усваивающая
их, значит, есть нечто внутреннее, что перерабатывает по своей
прирожденной форме приражающееся к ней отвне. Это доказательство
субстанциальности души общее. Оно ведет к признанию внутреннего начала не только в
душе человеческой, но и к njpn3HaHHio субстанций в царстве органических и
животных существ. В существах того и другого царства есть также
усвое644
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
ние чуждого по постоянным внутренним формам бытия. Так, на одном и
том же месте поля растут различные травы и деревья, которые пользуются
одинаковыми соками и прилияниями воздуха; однако каждое из них
растет по своей форме, притягивая извне сродное себе, претворяет в свой
организм, лишнее извергает из себя, а сродное перерабатывает в состав своего
тела. На этом основании в растительном и животном царстве нельзя не
предположить действующих изнутри себя субстанций. Иначе из внешнего
действования причин как произошло бы то, что каждое растение и дерево
растет по своей форме? Несмотря на то, что у растений, вблизи
находящихся, внешние причины развития, внешние прилияния одинаковы,
каждое из них втягивает в себя то, что свойственно ему. Это дает основание
заключать, что в растительном царстве есть субстанции, которые и в
малом, и в большом виде сохраняют один закон, развивая из себя росток,
стебель, ветви, листья, плод и т. п. Так же и в органической жизни тела
нашего, как ни различны вещества, принимаемые им, и здесь так же, как и в
растениях и животных, соблюдается закон усвоения (assimilatio), по
которому начало органической жизни уравнивает все внешние вещества в одну
форму тела человеческого, постоянно развивает его по этой одинаковой
форме, усваивая сродное и извергая несродное. Но кроме органической
жизни в человеке есть душевная. Как ни различны впечатления,
действующие на наши чувства, но у всех людей, живущих в разных странах и
климатах, так сказать, главное содержание душевной жизни одинаково, главные
способности сохраняют одинаковую, данную им от природы форму бытия.
Из этого открывается, что внутри нас есть деятельное начало, постоянно
сохраняющее закон своей природы и сообразно с ним перерабатывающее
все разнообразное, что приходит отвне. Следовательно человек не есть
страдательное только существо, чистое произведение (merus effectus) чуждой
силы, только принимающее отвне впечатления. Душа наша действует по
закону свободы, так что, будучи окружена отвне и изнутри непрестанным
приливом и отливом впечатлений, избирает из них по произволу те или
другие и может отрешаться от насильственного их влияния. Как бы ни текли
представления, но когда душа находит их не соответствующими своим
намерениям, недобрыми или бесполезными для себя, то имеет возможность,
когда захочет, прерывать течение их и начинать новый ряд действий. Из
этого очевидно, что душа имеет в себе начало постоянно действующее из
себя и притом по законам собственно человеческим, по закону свободы и
потому не есть видоизменение другого существа.
Далее 3), что душа есть единое начало, это доказывается единством
самосознания. Она от множества сил и их действий отделяет себя как единое
начало, сознает, что все это принадлежит ей одной, и среди разнообразия действий
признает свое Я единым средоточием жизни, во всякую минуту имеет право и
возможность возвращаться к самой себе, отторгать свое — Я от разнообразия
645
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
того, что не есть — Я, Не могло бы быть этого, если бы в душе нашей было не
одно начало всех сил и действий.
Впрочем, предлагаемы были вопросы: смотря на различные и даже
противоположные явления душевной жизни, не следует ли предполагать в душе
человеческой различные начала жизни? Так, а) по различию навыков
добрых и злых не должно ли признавать в человеке две души — добрую и злую?
Это мнение думают находить у Платона, хотя он сам под двумя душами
разумел только две различные силы. Начало добра и зла не может
составлять двух различных начал, но то и другое принадлежит одной силе —
свободной воле. Свобода, какое направление даст своей деятельности, в том и
утверждается. Отсюда два навыка: один, существенно принадлежащий
природе души и соответствующий ее предназначению, другой случайно
приобретаемый во времени. Итак здесь действуют не две субстанции, даже
и не две коренные силы, б) Другие, например Декарт, смотря на различие
жизни физической и духовной, органической и разумной, отличали начало
одной жизни от начала другой. Хотя и можно представлять, что
деятельность души течет как бы двумя струями, — своим порядком развиваются
духовные действия, своим — физические, однако это не дает основания
предполагать в человеке два начала. Одна и та же душа действует и
самосознательно, и без сознания; в первом случае она следует закону мира
духовного, а в другом невольно увлекается законами природы, которым
подчиняется не только органическая, но и самая духовная деятельность. Так,
можно различать в душе двоякую память: память отвлеченных понятий,
направляемую по собственному закону души, обнимающую существенное
в предметах, и память механическую, которая к хранящимся в ней
представлениям не прибавляет ничего от своей самодеятельности, а
удерживает их точно в той форме, в какой получила оные чрез чувства. Так, при
засыпании в душе бывает два ряда действий: один — управляемый свободою,
а другой — ряд невольных действий, начинающийся тогда, как совсем
закрывается светильник сознания и сила фантазии и внутренние действия
органической жизни берут перевес. В последнем случае не другое начало
деятельности привходит и как бы сражается с душою, но собранные чрез
чувства разные представления, остающиеся в ней и прикрепляющиеся к
фантазии, при ослаблении свободы и самодеятельности, берут перевес над
другими представлениями, начинают действовать сами собою, по
механическому порядку. В бодрственном состоянии деятельность души по
большей части определяется свободою, но когда ослабевает сила
размышления, тогда начинает иначе действовать воображение и память, которые
износят хранящиеся в них представления без внутренней между ними
связи, в том только порядке, в каком они были приняты. Итак, вот различные
действия, принадлежащие одной душе. Декарт, различая начало жизни и
начало души, говорит, что в теле прежде всякого намерения нашего часто
646
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
производятся такие движения, какие нужны для души. Например,
представляется опасность упасть, душе некогда обдумать, какое направление
дать телу; но тело прежде всякого размышления принимает направление
верное, так что после, по самому строгому математическому вычислению,
открывается, что нельзя было вернее сохранить равновесие. Потому
Декарт от начала духовных действий отличает невольный инстинкт и
называет его началом жизни. И здесь нужно различать в одной и той же душе
действование инстинктообразное от действования обдуманного; в ней
свобода совмещается с побуждениями инстинкта; как начало непрестанно
действующее, душа иногда действует по свободе, иногда — по инстинкту. Та
же душа, которая рождает умственные соображения, чувствует и
физические потрясения, принимает в них участие и прежде обмышления ищет
удовлетворения нуждам телесной жизни. Так, в человеке начало жизни
органической и животной одно и то же с началом жизни разумной.
Наконец, в) иные, смотря на различные степени духовной
деятельности, на превосходство одних пред другими, на то, как душа действует в
обращении с чувственною природою и как возвышается к вышечувственному,
к созерцанию Божества, выделяли в душе высшее, внутреннейшее начало:
[нус или пневма]1. Аристотель хотя мало занимался вышеопытными
поИоанн Массой в рассуждении о познании самого себя (гл. 2) говорит: человек есть
тройственная ипостась. Учение о трехчастном составе существа человеческого
можно находить у всех почти пифагорейцев, как это видно из Ямвлиха, у Платоновых
учеников, как видим у Немезия, у Саллюстия, Антонина; последний говорит:
человек состоит из этих частей: тела, души и духа; телу принадлежат чувства, душе —
желания, духу — ум. Учения о трихотомии существа нашего держалась большая
часть учителей и Отцов Церкви, например Ириней, Климент Александрийский,
Ориген. Но более того заслуживают внимания выражения Священного Писания,
которое, говоря, напр., о творении человека, упоминает о трех различных частях
существа его: о теле, образованном из земной персти, о душе живой, или о части
чувствующей, и о дыхании жизни, или части существа умной (Быт. 2,7). У ап.
Павла есть два изречения, в которых душа ясно различается от духа, и в человеке
исчисляются дух, душа и тело. В послании к Евреям (4,12.) он говорит: живо слово
Божие и действенно и острейгие паче всякого мена обоюду остра, и проходящее
даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов и судителъне помышлением
и мыслем сердечным. В послании к Солунянам апостол говорит: сам Бог мира да
освятит вас все совершенных во всем: и всесовершен ваш дух и душа и тело
непорочно в пришествии Господа нашего Иисуса Христа да сохранится (1 Сол. 5,23.).
Но если сам ап. Павел с раздельностию изображает человека состоящим только из
двух частей (1 Кор. 5, 3-5; 6,20; 7,34.), то не может быть, чтобы в
вышеприведенных нами местах душа и дух различаемы были в человеке как особые,
самостоятельные части, а не в другом значении. И действительно, в первом месте они
различаются только как две стороны или силы одной и той же духовной
приро647
ЧАСТЬТРЕТЬЯ
знаниями души человеческой, но отличал деятельный ум от души
страдательной, которая, по его мнению, есть таблица неисписанная (tabula rasa),
на которой написываются предметы мира. Если есть бессмертие, говорил
он, то оно должно принадлежать только деятельному уму. Различие
между душою и духом особенно замечено было отцами и учителями Церкви,
которые яснее и опытнее, чем другой кто, могли видеть и видели различие в
человеке между жизнью естественной и божественной. У Оригена так
объясняется отношение души к духу, или уму: «В первом периоде жизни,
когда человек приближен был к своему Создателю, он весь был духовен,
начало душевное поглощалось духом, или умом; и поскольку сила духа
уподобляется огню, то и он весь был как бы огонь, весь пламенел любовью
к Создателю, весь был так же подвижен, легок, проницающ, как огонь. Но
когда человек ниспал, огонь его охладел, раскрылось в нем новое начало,
которое прежде поглощено было умом, — это и есть начало душевное,
которое по охлаждению и названо "psyche" душа от "psychos" — холод, или
"psycho" хладею». Против сего должно сказать, что начало душевной
жизни, как и духовной, собственно, есть духовное; впрочем, человек может
управляться тем или другим началом. Вообще, хотя можно находить у
отцов Церкви разные образы представления этих начал жизни, но не находим у
них ясного и определенного мнения, что это две субстанции. Одни из них под
духом как высшим началом жизни разумели силу прирожденную человеку,
которая есть глубочайшая и более коренная, нежели душа, другие почитали
это начало даром, сообщаемым во времени от Духа Божия. Те, которые более
любили философию, держались первого мнения, а другие — последнего, как
Тациан, Ириней и многие другие. Впрочем, не находим у них такого резкого
разделения между душою и телом, по которому они признавали бы их
двумя субстанциями. И действительно, нет нужды признавать в человеке две
субстанции. В истинном порядке природы одно начало для всех видов
жизни — и для жизни высшей, духовной, и для жизни душевной, которая
состоит в обращении с ограниченными существами, и, наконец, для жизни
физической. Когда человек сам еще не отдалился от высшего этого начала —
духа, сей последний был средоточием всех сил и всех видов и степеней
деятельности. И теперь, когда дух благоустрояет жизнь во всех ее видах, все
прочие силы находятся в стройном отношении к нему. Познанием
Божеды человека: потому что, говорит апостол, Слово Божие точно так же проходит до
разделения, души же и духа, как — членов же и мозгов; но члены и мозги суть
только части одного и того же тела человеческого, а не отдельные части человека.
На основании этого же места можем заключить, что в другом своем изречении
ап. Павел различает дух и душу в человеке только как две стороны одной и той же
духовной его природы, или особо обозначает в душе дух как высшую ее
способность.
648
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
ства уясняется и просветляется познание ограниченных вещей; в любви к
Богу облагораживаются виды любви к существам сотворенным, и все
приходит в истинный порядок и стройность. Далее, хотя пищею духа служат
истина, благо и красота, но не чуждо ему сообщать жизнь и низшим частям
состава нашего. Опытом дознано, что по мере того, как человек глубже
входит в высшую и внутреннюю свою природу, усовершается и физическая
жизнь его, животворность духа преизливается на самое тело; нужды
телесные при животворном действовании духа молчат и долгое время не
беспокоят человека. Впрочем, и в состоянии оскудения духовной жизни в
человеке он не мог бы жить без тайного союза низших сил его с высшим
началом жизни — духом, или умом. Отсюда в самую деятельность человека,
оставленного естественным своим силам, переходят некоторые
проявления духовных стремлений к вышечувственному; отсюда и в познаниях
неудовлетворение ума одними явлениями мира, но искание оснований и
начал; отсюда и в желаниях недовольство всеми ограниченными вещами,
воздыхание о благе вечном. Итак, различными степенями жизни не
расторгается в человеке единство подлежащего.
Наконец, 4) душа наша есть начало пребывающее, постоянное, в
разные периоды бытия тожественное. Нельзя сказать вообще, что душа
неизменяема, ибо жизнь ее раскрывается в многоразличных состояниях и
непрестанно изменяющихся действиях. Так, в явлении, в раскрытии жизни
своей она изменяется, но в центре своем пребывает тожественна.
Состояний и перемен много; разнообразные представления, мнения, различные и
даже противоположные склонности взаимно сменяются в жизни нашей;
при всем том остается одно сознание моего Я; Я, который в младенчестве
играл, и теперь все один Я. Как теоретически я сознаю тождество моего
субъекта, несмотря на разные перемены жизни, так и практически Я
сознаю эту же неизменяемость субъекта; во мне есть невольное вменение
действий, которого Я не могу изгладить; хотя бы и случилось, что Я,
прежде проводя худую жизнь, впоследствии исправился, начал действия совсем
противоположные прежним, но новый образ жизни не заглаживает
прежнего; если Я некогда вел худую жизнь, то и подлежу за это вменению, хотя
бы в настоящее время Я стал совсем иным человеком по нравственности.
Это постоянное сознание единого субъекта при всех различных переменах
и действиях жизни служит доказательством того, что во мне пребывает
единое тожественное начало деятельности, что душа, как ни различны и ни
противоположны состояния ее, есть единая субстанция, в сущности своей
не изменяющаяся.
Что можно было бы сказать в опровержение единства сознания? Оно
так очевидно, что никто не может усомниться в этом единстве. Разве
скажут: что нельзя делать заключения от единства сознания к единству
субстанции, как и говорил это Кант. Значит, по мнению его, каждый человек во
649
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
все продолжение своей жизни обманывается? Если всякий при разных
состояниях имеет сознание единства своего Я, то как вышло бы, чтобы
всякий обманывался в этом? Что в существе его ложь, обман? От
произвольного, намеренного самообольщения нельзя производить того, чтобы всякий
нарочно впадал в обман, представляя свое Я единым началом жизни,
такого обмана никто и не сознает. Иной желал бы забыть прежнюю порочную
свою жизнь, но не может сделать сего; он невольно сознает совершенные
им беззакония, вменяет их себе, отречься от них выше его сил, выше его
произвола. Остается одно: приписать предполагаемый обман сознания
Виновнику нашей природы. Ему угодно было насадить в людях такую силу
сознания, которая беспрестанно обманывает всех. Что же должно
заключить о Творце нашей природы, которому свойственна чистейшая истина,
который не может обманывать или вводить в заблуждение? Итак, нельзя
отвергать верности заключения от принадлежащего всем единства и
тожества сознания к единству и тожеству самого субъекта.
Ограничение субстанциальности души человеческой. Душа как
субстанция, непрестанно действующая из себя, единая и не изменяющаяся в
своей сущности, возвышается над ограничениями времени и носит подобие
самостоятельности Бесконечного Существа. С другой стороны, она как
субстанция ограниченная в сих же самых свойствах остается несравненно
ниже Его. Бесконечное Существо имеет самостоятельное бытие от самого
себя. А душа человеческая получает самостоятельность от него во
времени. Сознание каждого говорит, что было время, когда он не существовал;
оно не может выходить далее некоторого очень ограниченного времени.
Нельзя допустить, чтобы душа наша могла существовать не в той форме
бытия, в какой мы сознаем ее. Что было бы за существование души,
которое не разнится от усыпления? Что за состояние ее бытия
бессознательное, мертвое? Если бы такое существование было полное, то при сем
непременно было бы и сознание. Что душа наша имеет начало бытия своего во
времени, к сему приводит нас и это очевидное умозаключение: кто имеет от
себя начало бытия, тот может и поддерживать свое бытие. Но душа не
может сама собою поддерживать бытия (как сейчас увидим), следовательно,
не могла дать себе и начала бытия. В продолжение его душа не остается
существом независимым, которое держалось бы только само собою. Без
поддержания всемогущею силою Творца никакая сотворенная субстанция
сама собою не могла бы продолжать бытия своего. Дионисий Ареопагит
говорит об этом так: «Его бытие дает и сохраняет бытие всего
существующего; Его жизнь дает и сохраняет жизнь живущего; Его премудрость дает
и сохраняет разумную жизнь всех разумных существ». В физической
своей жизни человек не может развиваться без помощи стихий материального
мира, например воздуха, огня и света; тело его непрестанно имеет нужду в
650
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
содействии и подкреплении внешнем, в каждую минуту заимствует от
материальной природы новые части и возвращает ей другие. Также и для
духовной жизни человек имеет нужду во многих внешних пособиях и
поддержаниях и более всего в поддержании со стороны Того, Кто насадил
способности духовные. Никто не рождается мудрым и совершенным по
нравственности, всякий имеет нужду в воспитании; воспитание при посредстве наук,
влияния религии, законодательства, общества людей, с которыми живем,
сильно действуют на раскрытие умственных и нравственных способностей
человека. Впрочем, зависимость души по началу и продолжению бытия не
противоречит самостоятельности ее. Как земля, привлекаясь к своему центру —
солнцу, не теряет оттого центральной своей силы (на земле все привлекается
к ее центру, а сама она во всякую минуту имеет нужду в своем центре, иначе
потеряла бы свое течение), так и душа есть центр жизни, но относящейся к
другому, Высочайшему Центру; на ней основываются силы и действия, но сама
она держится на Силе неограниченной.
Наконец, и единичность души не есть совершенная. Она не всегда
бывает сосредоточена в самой себе, силы ее развлекаются и рассеиваются по
различным предметам; обращаясь к единому какому-либо из них, она не
может быть обращена вместе к другим, не может обнять всего единым
действием своим, но необходимо исходит из своей единичности в
многообразии предметов внешних и раздробляя по оному свои действия, утомляется
и ослабевает. Таким образом, душа и по началу бытия своего, будучи
зависимою субстанциею и в своем действовании, проявлении своих сил, будучи
изменяемою, в этих отношениях подлежит закону времени, потому
несравненно ниже того Высочайшего Существа, которое совершенно изъято из
законов времени.
Б. Невещественность души
Далее, душа, во внешнем обнаружении являясь в пространстве, во
внутреннем своем обнаружении изъята из него, то есть она есть субстанция
невещественная.
Приписывая душе невещественность, мы утверждаем этим, что душа
не есть тело, составленное из частей, положенных одна вне другой, ни
малейший атом, ни чисто физическая или материальная сила, но есть
духовная, невидимая, неразделимая сила, которая проникает все тело, оживляет
его и производит в нем движения.
Из единства сознания и из свойства наших представлений,
чувствований и желаний необходимо заключить, что душа не есть тело или малейший
какой-либо атом. Действий в душе много, действия различны, но при всех
их повторяется одно сознание единичности субъекта. Сознание отличает
мой субъект и от внешних предметов, не смешивает первого с последними,
отличает его и от собственных его действий и состояний, всегда
представ651
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ляя оный как единое начало, к которому многообразные действия
относятся и прикрепляются как к центру, на котором они держатся. А
самосознание в нас есть отражение нашего субъекта, как бы зеркало для наших
действий.
Собственное наше суждение о связи души с телом. Если не могут
быть приняты те гипотезы, которые находят основание связи души с
телом вне их, то должно искать сего основания в самых этих существах,
будет ли понятно или непонятно нам это между ними отношение. Нельзя
объяснять сего союза физическим образом. Впрочем, действование души
на тело несколько понятнее, чем тела на душу. Что душа действует на
тело, дает место своим действиям в области материальной, это
объясняется тем, что и вообще во всех существах природы движение есть такое
явление, которое должно происходить из центральных невидимых,
нематериальных сил. Если же в природе невидимые, нематериальные силы
производят движение, то и душа, как сила невидимая, высшая в
сравнении с физическими силами, конечно, может иметь способность
приводить в движение свое тело. Кажется, устроены даже некоторые
особенные органы для частных сил и особенных действий души. Так, сила
познания более всего обнаруживает действия свои в мозге, сила
чувствований — в сердце и проч. И опыт показывает, как за известными
действиями души следуют соответственные им действия в теле. А это дает право
заключать о причинной связи души с телом. Итак возможность сей связи
объясняется из общего понятия о движении, а действительность
доказывается самым опытом. Но, с другой стороны, непосредственное действие
тела на душу при их противоположности никак не может быть
объяснено, если не принять ничего общего, посредствующего между ними. Иначе
останется непонятным, как входят в душу чувственные впечатления,
представим ли душу присутствующею во всем теле или в одном каком-либо
средоточии. Как ни утончали бы впечатления телесные, как ни умалялись
бы они на переходе чрез нервы к мозгу, все это будет материальное,
противоположное духу, большие ли то будут образы, или малые. Итак,
сколько бы ни старались объяснять непосредственное действование тела на
душу материальным образом, подобно действию тепла на тело, никогда
не сделают этого понятным. Впрочем, возможность оного действования
некоторым образом можно объяснить: из того, что душа есть существо
ограниченное. Силы ее вообще и в частности сила производить движение
не могут простираться в бесконечность. Ограничения сил души,
простирающихся из внутреннего ее существа во внешность, должны иметь для
себя причину. Естественно, что этою причиною и должны быть смежные,
поставленные в мире совместно силы. Итак, действие телесного на душу
как задержание силы, простирающейся из нее, несколько объясняется из
ее ограниченности.
652
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
О высших силах души
Самостоятельность и невещественность души человеческой не суть еще
лучшие и высшие ее свойства. Превосходство ее пред прочими существами
мира, ближайшее подобие Высочайшему Существу открывается в высших
ее силах, их свойствах и законах.
Главные виды действий души, относящиеся к главным силам ее, суть
познание, чувствование и желание. Впрочем, общее этих сил и действий есть
в человеке жизнь и чувство жизни. Жизнь человека в общем своем понятии
обнимает жизнь и физическую, и духовную. Прежде всего в человеке
представляется вниманию ощущение жизни вообще. Можно приметить, что в
человеке это ощущение исторгается из ограниченности в беспредельность.
Человек мог бы жить и не расширяя своего чувства жизни далее
настоящего мгновения, как видим это в бессловесных. Но как он состоит под
влиянием ума, то из сего рождается в нем недовольство настоящим. Находя
себя слабым, человек чувствует, что лучше было бы, если бы он имел более
сил и более господства над природою и другими силами, чем сколько имеет их,
и, хотя не находит их в себе, не теряет, впрочем, идеи о высшей Силе, ищет
ее вне себя. Чувство зависимости заставляет его предполагать
независящую, всемогущую Силу, подчиняющую себе все другие силы. В чувстве
жизни открывается недовольство и другого свойства. Мы чувствуем
переменчивость явлений нашей жизни, видим, как быстро они пробегают,
сменяясь одни другими, и наконец проходит и вся жизнь. Непрочность и
переменчивость жизни не производит чувства беспокойства в животных, потому
что чисто-ограниченному существу свойственна привязанность к
настоящей минуте. Но человека тяготит чувство краткости жизни. Во всем роде
человеческом есть вера, что не напрасно мы тяготимся этою
кратковременностью, что, происходя от Источника вечной жизни, мы имеем
сродство с Ним. В самых даже суетных желаниях людей увековечить свое имя
на земле выражается не что иное, как привязанность к нескончаемой
жизни. Но когда не надеемся стяжать ее сами собою, то кроме своей силы
предполагаем иную и ищем в ней источника жизни для себя, равно как и
для других существ. Такое недовольство, обнаруживающееся в чувстве
жизни, показывает, что она не стесняется, как у животных,
определенными границами продолжения, но расширяется в беспредельность и
заставляет нас искать выше себя и всех ограниченных существ неточного начала
жизни в Бесконечном. Так в чувстве жизни неопределенное влечение к
Бесконечному получает некоторую определенность.
Но сие влечение в более определенном виде представится, когда
обратим внимание на главные способности нашей души: разум, сердце и волю.
Эти способности или могут быть в обращении с предметами
ограниченными, или возвышаться над ними; есть для них как бы цель, к достижению
которой они стремятся, цель не в предметах ограниченных, но выше их
по653
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ложенная. Это суть идеи; для силы познавательной идея безусловной
истины или мудрости, для желательной идея всесовершенной благости и
святости, для способности чувствования — идея высочайшей красоты.
Каждая из сих сил при обращении с предметами ограниченными не
успокоивается; потому что идея влечет их к Бесконечному. Так, если бы
познавательная сила довольствовалась только тем, что представляется ей
при воззрении на мир, то останавливалась бы только при частях его и на
поверхностном виде сих частей, но она не удовлетворяется этим.
Во-первых, она усиливается представлять мир как одно органическое целое без
рассеянностей и разрыва, ищет единства, для сего представляет части мира
в неразрывной связи как целое, живущее и действующее по немногим
законам, и старается представить систему сих законов. Во-вторых, не
возвышаясь к Бесконечному, человек остановился бы на одной поверхности
явлений, но он за всем видимым в природе предполагает силу невидимую.
Далее, не было бы нужды для него приискивать цели для явлений мира; как
представляется мир чувственному его наблюдению, так он и рассматривал
бы его. Цели, или целесообразные законы, природы суть нечто невидимое;
но человек заходит так далеко, что во всех вещах усиливается видеть
целесообразный порядок. Все сие внутреннейшее, что он предполагает при
рассматривании мира, было бы для него недоступно, если бы мировоззрение
его привязано было только к конечному, если бы не увлекала его к
глубочайшим исследованиям идея высочайшей мудрости, по которой все
премудро устроено. Ибо что есть истина? Тожество мысли с существом
предмета. Где же это тожество, или какая мысль проникает существо
предметов? Это — мысль Ума Божественного, идея всесовершенной
премудрости, по которой в мире все устроено. Итак, достигнуть истины то же
значит, что приблизиться к свету Божественной премудрости. Эти действия
разума при рассматривании природы, показывают, что он состоит под
влиянием и направлением идеи безусловной премудрости. При
рассматривании самого себя, что мог бы постигнуть человек, если бы ограничивался
одним опытом? Что он мог бы знать об отношении своего духа к Существу
Всесовершенному? Отчего при множестве недостатков во всем роде
человеческом было бы предчувствие и желание высшего совершенства?
Человек не может перестать любить и уважать человека, хотя и видит в нем
много недостатков; эта любовь служит, хотя и темным, указанием на то,
что есть в нем уверенность в бытии лучших законов человеческого
существа, нежели какими они представляются ему в действительном
исполнении их теми или другими лицами. Если же человеку дано мыслить о Боге и
совершенствах Его, то как можно производить сие из чего-нибудь
ограниченного?
Также и для действования воли самая высшая цель есть бесконечная
благость и святость. В воле своего рода недовольство, которое
открывает654
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
ся в совести. Совесть и тогда, как человек худ, пробуждается, хотя
изредка; тревожит его и тогда, как он делается лучшим, яснее и яснее открывая
ему нравственные недостатки. Во всех веках, даже в мире языческом,
найдем сию заботливость о лучшем, сие недовольство совести. Чем более
человек успевает в нравственной жизни, тем более совершенств открывается
ему в идеале, который он носит в глубине духа своего. Сколько ни
усиливается он обуздать чувственность, самолюбие и водиться только любовью,
но не может не чувствовать своего бессилия осуществить в жизни идеал
совершенства, наконец приходит к тому убеждению, что он своими силами
не может укрепиться в добре, а необходимо должен ожидать помощи от
Всевышней Силы. Таким образом душа, устремляясь по всем сим
направлениям и не находя себе удовлетворения в предметах ограниченных,
побуждается предполагать и находит оное только в Существе Бесконечном.
Из сего открывается, из каких частных направлений слагается коренное
стремление к Бесконечному и какие более определенные свойства
предполагает оно в сем Существе. Разрешаясь на частные виды, это стремление
побуждает человека признавать в Бесконечном Существе Виновника и
Правителя жизни: по пути познания заставляет искать истины и
умудрения в Нем одном, признавать Его источником и первообразом истины и
премудрости; по пути нравственной деятельности, когда человек бывает
недоволен злом, которым увлекается, и недостатком совершенства,
заставляет искать в Бесконечном Существе истинного добра, как в
источнике благости и святости; наконец, когда человек чувствует расстройство
своих сил, недостаток чистой радости, стремление к Бесконечному направляет
его искать постоянной и невозмущаемой радости там, где бы он соединен
был с истинно-прекрасным, достолюбезным предметом и сам ощущал
оттого стройное течение жизни, — короче, заставляет искать истинного и
полного блаженства в Боге как источнике блаженства. Сии коренные
стремления души нашей к Богу как источнику всякого блага и успокоения живо
чувствовал блаженный Августин, когда восклицал: «Ты сотворил нас для
Себя, и сердце наше остается неспокойным, пока не успокоится в Тебе».
Итак, глубочайшая, основная сила души заключает в себе
непосредственную уверенность в бытии Существа Бесконечного, выше и
совершеннее которого нет и не может быть представлено никакое другое существо...
В самой душе основанием бессмертия служит невещественность или
духовность ее. Поскольку душа невещественна, то никакое могущество,
кроме Бесконечного, не может разрушить ее. Будучи несложною, она не
может быть разложена на части силами природы внешней, а потому не
может и разрушиться. Но сей довод бессмертия души, употреблявшийся в
школе Вольфианской, подтверждая неразрушимость души, не касается еще
возможности разрешения ее на частные силы. Правда, в душе нет
материальной сложности, но есть сочетание различных сил, есть силы высшие,
655
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
которыми она может сообщаться с Бесконечным Существом, и силы
низшие, которыми она входит в сношения с существами конечными. Теперь
если вообразить возвращение высших духовных сил к Всесовершенному
Духу, к Которому они имеют влечение, а телесных сил, имеющих
отношение к чувственной природе, возвращение в область ее, то из сего могло бы
произойти разрешение души на свои начала. Но и такое разрешение не
может произойти ни от натуры по необходимым ее законам, ни от Виновника
души по свободной Его воли. Не может произойти от природы: ибо в состав
души нашей входят такие силы, которые выше природы, — таков ум,
заключающий в себе идею о Бесконечном и стремление к Нему,
направляющееся различными путями, посему природа не имеет власти над тем, что
выше ее. Она не может простирать власть не только на высшие стремления
души, но и на те духовные стяжания, которые душа приобретает из
внешней природы, каковы представления, склонности и желания чувственные;
потому что душа, перенося в себя внешние впечатления, усваивает их себе
как существу духовному, прикрепляет, так сказать, оные к неразрушимым
своим силам — сознанию и свободе. Так и самые стяжания души, которые
она приобретает из внешней природы, не могут быть отняты у нее; потому
что они принадлежат нравственному характеру, который выше власти
природы. Опыт показывает, что хотя иногда движения органов чувственных и
впечатления внешние прекращаются в человеке, но вместе с этим не
отнимаются у души способности и стяжания ее; когда она остается сама с
собою, деятельность сил ее совершается даже гораздо быстрее, свободнее,
неудержимее. И это очень естественно. Теперешняя деятельность души
весьма много замедляется телом, разнообразие явлений жизни внешней,
носящихся пред взором души, развлекает ее и не дает ей действовать в
одном направлении. Но чем более человек собирается и углубляется в себя,
тем живее и быстрее становится деятельность душевная. Дальновидными
соображениями, проницательным взглядом на все обыкновенно обладает
тот, кто собран в самого себя и свободен от тревог чувственности. Итак,
когда внешняя жизнь не будет более беспокоить и развлекать душу и она
останется сама с собою, тогда она свободна обратить все свое внимание на
себя и свое приобретение, которое собрала и хранит в своем сознании; из
глубины его она непрестанно будет воспроизводить образы один за другим
и представлять себе картину сих образов, будет ли она прекрасна или
безобразна. Впрочем, довод, заимствованный от невещественности души, не
ведет еще к полному уверению в бессмертии ее. Потому рассмотрение
внутренней природы души нужно обосновать и утвердить на рассмотрении
свойств или совершенств Виновника ее...
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
Ю.Ф.САМАРИН:
ВЫСШЕЕ НАЧАЛО ЛИЧНОСТИ — НАЧАЛО РЕЛИГИОЗНОЕ
Самарин Юрий Федорович (1819-1876)
историк, философ, православный мыслитель,
государственный деятель.
В представлениях о личности, сердцевину
которой, согласно его воззрениям, составляют
нравственное начало и свобода воли, исходил из
предпосылки о ее религиозной основе. Связь личности
с Богом — основной факт, освящающий душу
каждого человека, всю его деятельность, но который
человек может и не сознавать. О своем отношении
к Богу человек узнает не путем точного
исследования религиозных истин, а непосредственно из
собственного личного опыта. Система религиозных верований лежит в основе
нравственных требований, которым подчиняется человек.
Свои религиозно-философские представления о человеке Самарин
развивает в известной полемике с К.Д. Кавелиным по поводу книги
последнего «Задачи психологии». В отличие от Кавелина, считавшего
возможным положительное строго научное исследование нравственных
начал и проблемы свободы человека, утверждал божественность нашего
конечного существования, признавал важную регулирующую роль
сознавания этого факта и необходимость его учета в научных изысканиях в
области психологии личности.
РАЗБОР СОЧИНЕНИЯ К А КАВЕЛИНА
«ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ»1
Действительно, результаты, до которых дошла школа позитивистов и
которые вы (т. е. К.Д. Кавелин. — А.Ж.) принимаете, отнимают всякое
разумное основание у самовменения. Разберите, на чем держится это
понятие. В одном месте вашей книги вы говорите, что «достоинство лица
немыслимо без непреложных правил или начал, а такие правила или начала дает
кроме религии только философия». Здесь я позволю себе оговорку; точнее
было бы сказать, что философия ставит начала, но она не дает их никому,
потохму что ей вообще нет дела до субъектов, а начало или правило входит в
жизнь субъекта только в той мере, в какой оно становится для него
обяза1 Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 6.М., 1887. С. 410-411.
657
ЧАСТЬТРЕТЬЯ
тельным, иначе долгом. Между признанием начала и сознанием долга
разница та, что во втором случае предполагается возможность исполнить
требуемое. В этом смысле можно сказать, что религия действительно дает
каждому человеку правило жизни, потому что религия приписывает живому
началу всякого бытия не одну законодательную власть, но и творческую силу
как над каждым субъектом, так и над окружающею его средою. Это понятие
выражается в учении о промысле. Говоря языком нецерковным,
предполагается, что существует .разумное отношение и правильная соразмерность
между двумя факторами, из которых слагается жизнь каждого субъекта,
между свободною деятельностью, исходящею от самого человека, и
воздействием на него извне обстоятельств ему неподвластных, между
искушениями, которым он подвергается, и правоправящею силою, данною ему для
отпора. При этом предположении одно и то же событие независимо от общего
своего значения в истории целого народа или всего человечества вплетается
в судьбу каждого субъекта, которого оно задевает, не как случайность,
расстраивающая ее, а как слово, прямо к нему обращенное, имеющее свой
особенный смысл для него лично. Я знаю, что в глазах положительного знания
все это не более как фикция младенческого воображения, с которым оно
давно разделалось; пусть так, но тогда не скорбите об утрате других фикций,
неразрывно с ними связанных, как то: самовменения, совести, суда человека
над самим собою и т. п. Не удивляйтесь, что, по изгнании из душевной
храмины раскаяния, молитвы и беседы с Богом, в ней ощущаются теперь
какаято пустота и неприятный холод. Со средою нельзя беседовать; она глуха,
слепа и не знает субъекта.
Вы замечаете, и очень верно, что в бессодержательной, бледной,
неинтересной внутренней жизни современного человека нет больше сюжета для
драмы. Да откуда же ему взяться? Можно ли задумать драму на тему:
чашка, в которой лежало побуждение, весившее пуд, перетянула чашку, в
которой побуждение весило фунт; или: по закону вещественной
необходимости выпал кирпич из стены, по закону психической необходимости шел мимо
человек на свидание; эти две необходимости случайно встретились (я
говорю случайно, потому что встреча, смысл имеющая, предполагала бы
Промысл), и неисчерпанная, недожитая жизнь порвалась случайно. Но
спрашивается: кто же отнял у субъективной жизни ее смысл и художественную
полноту ее? Кто изуродовал ее во всех ее моментах отсечением от нее
последнего действия, загробного суда, этой необходимой ее развязки,
которой предчувствие составляет главный интерес земной жизни?
Опуская в могилу отслужившую плоть человека, Церковь провожает
ее словами: земля еси и в землю отыдеши. Вы тоже вырыли могилу, назвали
ее психологиею, и, приглашая больную душу современного человека
улечься в ней заживо, вы обращаетесь к ней с теми же почти словами. Вы
говорите ей: от земли еси и с плотью прейдеши. Этим ли вы надеетесь исцелить ее?
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
В.И. НЕСМЕЛОВ:
ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕКА
Несмелое Виктор Иванович (1863-1937) —
религиозный мыслитель, профессор Казанской
духовной академии.
Главная проблема Несмелова — проблема
антропологическая: что такое человек? Ее решение
вылилось в оригинальную систему, которую
Несмелое изложил в фундаментальном двухтомном
труде «Наука о человеке ». В основе находится
положение о двойственности человека: в нем
существуют два мира — чувственный и
сверхчувственный, физический и духовный. Человек существует
«как простая вещь физического мира». В то же
время он «сознает свою личность как реальный образ совершенной
личности», т. е. Бога. Несмелое синтезировал философские, научные и
религиозные подходы к проблеме человека, отводил решающую роль в его
познании внутреннему опыту, связывал нравственное содержание жизни с
религиозным сознанием.
НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ1
Философия Древнего мира имела своею задачей познание и
осуществление в жизни людей идеальной истины самого человека. Что такое
человек по своей природе, и на что он имеет право надеяться, и чего он должен
желать, и как ему следует жить, чтобы раскрыть в своей жизни свою
человечность? Это именно и были те самые вопросы, в истинном решении
которых полагалась истинная мудрость. Эти самые вопросы и действительно
делают каждого человека философом. Разумеется, не всякий человек
способен глубоко задумываться над этими вопросами, но практически
всетаки решает их каждый человек, и каждый признает свои решения вполне
верными и ценными для себя, а потому и направляет свою жизнь по
содержанию принятых решений. Греческий софист, например, вполне искренно
мог размышлять о себе, что он не что иное, как только софист — ученый,
а потому он и должен заботиться о передаче своей науки возможно
большему количеству людей и иметь несомненное право надеяться на
приличную оплату своего нелегкого труда. Если только допустить, что и всякий
1 Несмелов В.И. Наука о человеке: В 2 т. Казань. Т. 1.1898. С. 12-13,234-240,410-417.
659
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
грек размышлял подобным же образом, то нет ничего удивительного, что
известный чудак философ днем с огнем искал там человека и все-таки не
нашел его. Он видел только мужчин и женщин, господ и рабов, жрецов,
чиновников и воинов, ученых, ораторов и художников; он видел, что вся эта
громадная масса человекообразных существ деятельно живет
определенными верованиями, желаниями и надеждами, но определенными не
сознанием человечности, а сознанием своего внешнего положения в природе и в
обществе людей: он видел, что предносившийся его воображению
истинный мир человеческой жизни на самом деле существует только под
формою кукольного театра, и люди в нем — не люди, а какие-то жалкие
исполнители кукольных ролей; он видел все это, и вот горький смех его даже и
теперь еще слышится чуткому уху философа.
Что же также человек? Положительная наука на основании всех
своих опытов и экспериментов не может решать этой великой загадки
философии. Она может говорить только о костях и жилах, о мускулах и нервах,
т. е. в направлении философского вопроса она может рассматривать
человека лишь в качестве добычи для могильных червей. Ведь теперь уж так и
дело поставлено, что даже сама психология в пределах
естественно-научного метода не считает себя вправе говорить человеку о духе: потому что
никому из ученых пока еще не удалось подцепить душу на острие ножа и
посадить ее в реторту химика. Следовательно, жгучие вопросы о том, чего
следует желать человеку во ими его человечности, и как ему следует жить
по истине его человечности, в пределах положительной науки не могут
даже и ставиться; потому что в этих пределах ведома одна только
животность, говорить же о человечности, по всем данным современной науки,
серьезным людям не полагается. И все-таки серьезные люди всегда
говорили о конечных вопросах мысли и жизни, ставили и решали эти вопросы и
деятельно создавали философию как специальную науку о человеке.
Опыт введения в эту науку мы и предлагаем на последующих
страницах. В этом введении мы попытаемся определить и выяснить как реальные
условия образования, так и объективно-мировое значение той несомненно
великой загадки, какую всеми фактами своей жизни непрерывно задает
себе человек о себе же самом...
Пока человек живет одним лишь физическим содержанием жизни, для
него и существует одно только возможное или невозможное, желательное
или нежелательное, но как только все возможное и желательное окажется
для него не имеющим никакой ценности, он естественно полагает
необходимое различие между тем, что действительно ценно, и тем, что лишь
представляется ценным. В критическом мышлении этого самого различия он и
приходит к такому сознанию, что все физическое содержание жизни
никогда и ни при каких условиях не может быть действительно ценным по
самой основе этой жизни, а потому он необходимо отрицает в себе самое
660
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
хотение жить и необходимо обрывает свою жизнь, когда не находит в себе
никакой другой основы жизни, кроме основы физического организма.
Поэтому именно когда в критическом мышлении своего хотения жизни он
приходит к сознанию действительной ценности себя самого как
свободноразумной личности и на основании этого сознания приходит к идеальному
представлению такой жизни, ради которой он снова может утверждать в
себе хотение жить, то этим самым он уж естественно решает для себя, что
он непременно должен осуществлять эту идеальную жизнь, потому что в
противном случае, по его же собственному сознанию, ему не следует жить.
Это самое решение и преобразует собою физический характер
человеческой жизни. В отрицании того, что необходимо есть в человеческой жизни
по физической природе организма, и в утверждении того, что должно
существовать по действительной природе человеческой личности,
выражается основное содержание так называемого нравственного сознания, и
потому с первым же сознанием этого отрицания и утверждения физический
принцип человеческой жизни заменяется принципом нравственным.
Нравственная деятельность человека не может возникать ни из каких
других побуждений, кроме идеальных, а идеальные побуждения к
деятельности не могут возникать ни из какого другого основания, кроме живого
идеала собственной человеческой личности. Выводить нравственное
сознание из каких-нибудь идеалов жизни было бы так же странно, как и вводить
это сознание в деятельность физического мира. В этом случае о различных
идеалах культурной деятельности человека едва ли даже и говорить
нужно, потому что вся эта деятельность и определяется физическим
содержанием жизни и направляется только к развитию этого содержания, так что
она не имеет и не может иметь идеального смысла по самой природе своей.
Если человек со временем покорит своей власти все силы внешнего мира и
все эти силы заставит служить себе, если благодаря этому подчинению себе
физической природы он приобретет себе такое положение в мире, о каком
не смеет теперь грезить даже и самая богатая сказочная фантазия его, он
все-таки изменит только свое внешнее положение в мире, а не природу
своих отношений к миру. Вечный невольник своих потребностей, он
необходимо добивается владычества над миром, потому что вечно нуждается в
нем, и эта нужда с развитием богатства и разнообразия культурной жизни
не только не прекращается, а, напротив, все более и более увеличивается.
Культурная жизнь неизбежно увеличивает и без того уже огромное число
разных существенных потребностей человека, а потому в результате его
культурной деятельности неизбежно получается огромное расширение
круга условий, в которых человек необходимо зависит от внешнего мира и
от невозможности овладеть которыми он неизбежно страдает в мире.
Очевидно, в развитии культурной жизни развивается собственно не человек,
а именно жизнь человека, и жизнь развивается не в характере ее интересов
661
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
и целей, а лишь в количестве и содержании этих интересов и целей.
Современная культурная жизнь по своему содержанию является неизмеримо
богаче сравнительно с жизнью какого-нибудь наивного дикаря, но
современный культурный человек не становится выше этого дикаря только на
том основании, что он имеет такие необходимые потребности и может
создавать себе такие идеалы жизни, о возможности которых даже и не
подозревает наивный дикарь. Культура дает человеку лишь то одно, чем он
может пользоваться в жизни, а чем сам он может делаться и быть — это
культурным развитием жизни нисколько не определяется.
Гораздо скорее можно выводить нравственную деятельность
человека из условий его общественной жизни, т. е. объяснять нравственное
сознание человека как естественный продукт цивилизации. Но цивилизация
охватывает собою одни только внешние отношения людей и развивается
только в упорядочении этих одних отношений. В интересах охранения
своего культурного труда человек естественно нуждается в том, чтобы другие
люди не отняли у него тех приобретений, какие он сделал и хотел сделать
только для себя самого. А так как в этом одинаково нуждаются все вообще
работающие люди, которые с большим трудом приобретают себе всякое
имущество и при этом постоянно находятся под мучительным страхом за
возможную потерю своего имущества, а в случае защиты его — за
возможную потерю вместе с имуществом и самой жизни своей, то все работающие
люди какой-нибудь одной местности и могли прийти между собой ко
взаимному соглашению не грабить друг друга и не воровать друг у друга и
этим соглашением положили начало цивилизации. Человек принял на себя
обязанность не мешать людям жить так, как им хочется жить, и за
исполнение этой обязанности получил право, по которому и сам он может жить,
как ему хочется жить. Образование этих именно идей обязанности и права
и выражает собою всю сущность цивилизации. Поэтому цивилизация, по
самому существу ее, не изменяет человека, а только ограничивает
проявление животных склонностей и желаний его в отношении к другим людям,
предоставляя ему, однако, за это ограничение полную возможность жить
какими угодно интересами жизни, и потому единственное подобие
нравственной жизни в условиях цивилизации можно находить лишь в
существовании некоторых общих обязанностей для каждого отдельного
человека в отношении всех других людей. Но так как все обязанности
соединяются с правом каждого отдельного человека на полную свободу
его личной жизни и принимаются на себя человеком только ради этого
права, то положительный смысл, очевидно, и оказывается только в праве, все
же обязанности сводятся к одному лишь отрицательному положению:
никогда не делать людям того, чего не желаешь себе самому. И человек
действительно может не делать людям решительно никакого зла, но
считать его нравственным за это неделание можно только по чистому
недора662
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
зумению. Нравственность выражается не тем, чего не делает человек, а лишь
тем, что он делает, и если, не убивая и не воруя, не прелюбодействуя и не
оскорбляя никого клеветой, человек живет все-таки одним лишь
физическим содержанием жизни, то он может быть, конечно, цивилизованным и
даже в высокой степени цивилизованным человеком, мыслить же о себе
как о нравственной личности он совсем даже и не догадается. Для этого
мышления о себе необходимо, чтобы человек критически отнесся к
ценности своей собственной жизни и не в своих отношениях к людям, а именно в
себе самом и для своей деятельности положил необходимое различие
между желательным и обязательным. Положить же это необходимое
различие человек может лишь в том единственном случае, когда он сознает
внутреннее противоречие в самом бытии своем, когда он сознает, что он, как
свободно-разумная личность, является в мире не тем, чем он может быть,
и что он действительно есть в себе самом. В этом именно сознании и
выражается положительное основание для свободного возложения человеком
обязанностей на себя самого в отношении к себе же самому, но не к себе
эмпирически существующему, а к себе идеальному, так что
осуществление этих обязанностей не дает человеку решительно никаких прав, и
человек осуществляет эти обязанности не ради каких-нибудь условных целей
жизни, а только ради безусловной истины жизни. Следовательно, это
именно сознание и выражает собою положительное основание для должной
практики человеческой жизни, а потому это именно сознание и есть
сознание нравственное.
Нравственное сознание, конечно, не делает человека святым. Но если
человек действительно сознает различие должного и недолжного и
действительно признает для себя внутреннюю необходимость делать одно
только должное, то он все-таки является нравственной личностью, хотя
бы должное и не осуществлялось в его жизни, потому что в этом случае
сознание должного является для человека единственным критерием
подлинной ценности, какую на самом деле имеет действительное содержание
его жизни, а в качестве такого критерия сознание должного есть совесть,
нравственное чувство, нравственный закон. По одному только сознанию
того, что должно существовать в его жизни, человек становится способным
чувствовать глубокое душевное удовольствие даже и при испытывании
физических страданий, если только ценою этих страданий достигается
желательное осуществление того, что должно существовать, — и это чувство
душевного удовольствия в человеке есть совесть. И человек становится способным
чувствовать глубокое душевное страдание даже и при испытывании всяких
наслаждений жизни, если только в этих наслаждениях он замечает прямое
отрицание того, что по его же собственному сознанию необходимо должно
существовать, — и это чувство душевного страдания в человеке есть тоже
совесть. Очевидно, совесть есть не какая-нибудь психическая сила или
спо663
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
собность наподобие разума или воли и не какой-нибудь врожденный
инстинкт в человеке наподобие инстинкта самосохранения, а есть она живое
сознание человеком согласия или несогласия между действительным
содержанием его наличной жизни и его же собственным идеалом
человеческой личности, так что смотря по тому, насколько именно человек
стремится к осуществлению этого идеала, настолько и живет в нем сознание
должного, настолько и говорит в нем голос совести. Поэтому, когда
человек живет одним только физическим содержанием жизни и признает эту
жизнь как единственно возможную и единственно желательную для себя,
то совесть в нем спит, т. е. в этом случае совести совсем нет и даже не
может быть в человеке. Если же человек, сомневаясь в действительной
ценности физического содержания жизни, помышляет об идеальном
определении ее, то в этих помышлениях осуществляется в человеке и совесть,
но так как она осуществляется не в переживании идеального принципа
жизни, а только в простых помышлениях о нем, то она и действует в
человеке лишь по логическому закону противоречия, т. е. указывает человеку
лишь на такие явления жизни, в которых слишком уж резко выражается
или согласие с идеальным принципом (противоречие обычной практике
жизни), или несогласие с ним (противоречие своему помышлению о
должном). Вся же масса явлений жизни, которые переживаются и мыслятся вне
этого противоречия, фактически не подлежит оценке совести и потому для
нравственной жизни и деятельности человека оказывается безразличною.
Между тем при сознании человеком наличной жизни как решительно не
имеющей никакой ценности, когда человек не только помышляет об
идеальном определении жизни, но и стремится к фактическому
преобразованию своей жизни по этому определению, совесть указывает ему не
только противоречие между наличным содержанием жизни и ее идеальным
принципом, но и простое несовпадение их: потому что в этом случае все
содержание наличной жизни человек сводит к содержанию идеального
принципа жизни, и потому каждое явление жизни, которое не может быть
сведено к содержанию этого принципа, считается уж не безразличным, а
прямо таким, которое не должно существовать. Следовательно, по мере
расширения критики жизни для нравственного сознания человека сумма
безразличных явлений постепенно уменьшается, и живая оценка совести
постепенно переводится на всю действительную жизнь во всем ее
содержании.
Человек может рассматривать наличную жизнь с точки зрения
идеального принципа, потому что он сознает себя как свободно-разумную
личность; и человек может отвергать эту наличную жизнь ради другой жизни,
которой у него вовсе нет, а которая только должна существовать, потому
что он и действительно существует таким, каким сознает себя. Однако
действительная жизнь человека определяется не природой его личности, а
при664
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
родой его физического организма. Поэтому в мышлении жизни человек
неизбежно вступает в замкнутый круг загадочных противоречий. Он
сознает, что в пределах и условиях наличного мира он живет именно так, как
только и можно ему жить по физической природе его и по данным
условиям жизни, и в то же самое время он сознает, что эта единственно
возможная для него жизнь не должна существовать, потому что она не соответствует
его духовной природе. Между тем та идеальная жизнь, которая бы
соответствовала его духовной природе, не может быть достигнута им, потому что она
противоречит природе и условиям его физической жизни. В сознании и
переживании этих взаимных противоречий человек необходимо приходит к
сознанию себя как загадки в мире.
...Достигнуть же познания вечной тайны бытия значит то же самое, что
и фактически устранить эту тайну в бытии, т. е. создать действительный
путь к осуществлению человеком его назначения в мире и дать ему
действительную возможность к фактическому осуществлению этого
назначения. Об этом именно пути и об этой возможности и говорит человеку
христианское вероучение. Оно сообщает то самое познание, без которого человек
не может обойтись и которого, однако, он не может создать.
Ввиду этого совершенно понятны те громадные усилия мысли, с
какими философия христианского мира пыталась сделать христианское
вероучение своим положительным содержанием. От самого начала появления
христианства и до настоящего времени вся энергия философской мысли
почти исключительно направлялась к разъяснению мыслимости
христианства как действительного откровения Божией истины и фактического
осуществления в мире Божия дела. Но в течение длинного ряда веков
философия терпела только одно крушение за другим, и никакого познания об
истине христианства она совсем не нашла и не имеет его. Отказаться от
христианства она не может, потому что всякая попытка к положительному
решению тайны бытия необходимо ставит философскую мысль в круг тех
самых вопросов, идей и понятий, которые принесены в мир христианством
и составляют существенное содержание христианского вероучения.
Признать христианство в том исключительном значении, в каком оно
утверждает себя, она также не может, потому что не только реальных оснований
этого признания, но и простых условий мыслимости христианства как
действительного Божия дела она не знает и придумать не может. Отсюда
печальной судьбой философии неизбежно служило только частое
искажение христианства в создании разных ересей. А между тем познание
истины христианства в том самом значении, в каком оно утверждает
себя у на самом деле возможно, и это познание может быть построено
философской мыслью даже на более солидных основаниях, чем всякое
другое человеческое познание. Все наше исследование служит
раскрытием и объяснением того реального основания, которое определяет собою
665
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
возможность признания христианства как и Божия откровения, и Божия
дела. Если верно наше исследование о человеке, исследование о существе
той тайны, которая заключается в бытии человека, то нет и не может быть
другого пути к действительному решению — устранению этой тайны,
кроме того пути, который указывается содержанием христианского
вероучения. Для нашей мысли возможно только одно из двух: или вечная
нелепость бытия, или подлинная правда христианства, третьей возможности не
существует. Мы пришли к этому положению несколько необычным путем,
потому что вместо излюбленной логики понятий мы выдвинули
психологию живых фактов в реальном бытии человека. Но в жизненном развитии
верующего знания на самом деле только и существует один этот путь,
который мы разъясняем в своем исследовании. На основании же всего хода
нашего исследования мы имеем возможность решительно сказать, что и в
области научного развития философского познания нет и не может быть
другого действительного пути к решению конечных вопросов мысли и
жизни, кроме научного исследования о живом человеке. По мере того как
философия удаляется от этого исследования, она совершенно теряет
реальную почву для достоверных суждений положительного знания и
потому превращается в самую бесплодную диалектику возможного и
вероятного. Отсюда, не говоря уже о других капитальных вопросах метафизики,
даже вопрос о природе самого человека ставится и решается в таких
научных условиях, которые совершенно не допускают и не могут допускать его
положительного решения. Спор, как известно, идет о природе душевной
жизни человека, а между тем обычное решение этого спора заключается не
в исследовании о душенной жизни, а в исследовании о происхождении
душевных явлений. Материализм полагает, что материя мыслит,
спиритуализм утверждает, что мыслит дух; приводятся всякие соображения связи
психических явлений с физиологическими, или об особом характере
психических явлений как невидимых, неосязаемых, непространственных —
словом, как совершенно непохожих на те объективные вещи и явления,
которые мы можем видеть и осязать в пространстве; и на основании таких
соображений делаются решительные выводы, что для объяснения связи
психических явлений с физиологическими необходимо допустить
способность материи при некоторых неизвестных условиях производить
психические явления или что для объяснения несходства психических явлений с
физическими необходимо допустить существование духа как особой
причины психических явлений. Кому что требуется допустить, тот по
желанию своему и допускает или материю, или дух, и в этом невозможно
нелепом положении вопрос о духе находится с самого начала появления
философии. Дело дошло наконец до того, что теперь уж и самая надежда
на изменение этого положения считается окончательно потерянной.
Современная психологическая наука считает своим предметом только
изуче666
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
ние состава и образования, связи и соотношения разных психических
явлений, а о духе теперь уж более и помина нет, кроме лишь
предупредительных замечаний, чтобы те или другие явления душевной жизни не были
истолкованы спиритуалистически, чтобы вопрос о причине душевных
явлений, во избежание бесплодного спора, был совершенно устранен из
области научного мышления.
Но избегая говорить о духе в качестве ученых психологов, люди
всетаки постоянно и думают, и говорят о нем в качестве живых людей. Эта
странная непоследовательность достаточно ясно показывает, что научное
обоснование спиритуализма выходит не из того основания, которое
служит действительным основанием живых спиритуалистических убеждений;
так что научная несостоятельность общеизвестных спиритуалистических
соображений, видимо, совсем и нисколько не затрагивает живых
убеждений, и, следовательно, эта несостоятельность относится лишь к нелепой
конструкции спиритуалистических доктрин, а вовсе не к утверждению
человека о действительном бытии духа. Так это именно и есть. Если бы
сказать ученому спиритуалисту, что он верит в существование духа,
потому что имеет ощущения и представления и всякие другие психические
явления и что все эти явления, как непохожие на явления физические,
вынуждают его допускать для объяснения их существования особого
метафизического деятеля, то он бы, наверное, очень удивился, что таким
нелепым образом может объясняться его спиритуалистическое убеждение. На
самом деле он вовсе не верит, а непосредственно сознает бытие духа,
и вовсе не допускает сверхчувственную природу душевных явлений, а
непосредственно живет жизнью сверхчувственной личности. Если бы он не
сознавал себя в качестве живой личности и действительно не жил иною
жизнью, кроме жизни физической, то ему бы, конечно, и в голову никогда
не пришло давать своим ощущениям и представлениям
спиритуалистическое объяснение. Это объяснение является уже неизбежным выводом из
сознания духовного бытия, и если этот вывод получает значение
основания для обратного вывода о бытии духа, то основание вывода в этом случае
вешается на воздух, и потому именно вывод из этого основания никогда не
может быть сделан иначе, как только под формою простого
предположения. Следовательно, единственным обоснованием спиритуалистической
доктрины может служить только исследование жизни духа, т. е. исследование
тех реальных оснований, по силе которых человеческая личность является
реально-творческой причиной в мире бытия, и тех исключительных целей, во
имя которых человеческая личность становится в полное противоречие с
миром физическим и стремится развить свою собственную жизнь вопреки всем
физическим условиям своего существования. Поэтому, рискуя навлечь на
себя почти несомненный укор в явной противонаучности, мы решились
оставить бесполезную механику душевных явлений и обратились к динамике духа.
667
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
При анализе психических явлений сознание оказывается всеобщей
формой их выражения, а при анализе душевной деятельности оно оказывается
процессом формации их. Это положение — самое первое и основное в нашем
исследовании, потому что благодаря этому положению только
открывается действительная возможность к научному переходу от
физиологической психологии к спиритуалистической. Рядом с этим положением путем
того же самого анализа мы установили и другое существенное положение для
науки о духе. При анализе душевных явлений мысль совершенно не
принимается в расчет, при анализе же душевной деятельности она оказывается живым
процессом связи психических явлений и единственным процессом развития
душевной жизни. Таким образом, благодаря этому второму положению
открывается несомненная возможность к научному переходу от психологии
механических ассоциаций к психологии живого развития духа (гл. 1). Мы
следили за развитием душевной жизни с первых начал ее сознательного
выражения и отметили в ее развитии три разные стадии психического
самоопределения. Начальный процесс психической деятельности направляется к
внешнему самоопределению человеческой личности в пределах и условиях
физического мира и оканчивается отделением личности от внешнего мира в
сознании человеком своей индивидуальности. На этой ступени своего
развития личность, конечно, может определять себя только посредством своих
отношений к миру в содержании своих явлений, и так как форма этого
самоопределения по необходимым условиям жизни в пределах мира возникает у
человека необходимо и остается у него на всю его жизнь, то отсюда весьма
легко может возникать известная иллюзия душевной жизни без духа, потому
что между явлениями душевной жизни, разумеется, нет и не может быть
такого явления, в содержании которого дух непосредственно мог бы сознавать
себя самого как субстанцию. Но эта форма психического самоопределения
при всей ее психической необходимости является только первым, а вовсе не
единственным выражением человеческого самосознания (гл. II).
Психическая необходимость внешнего самоопределения естественно
вызывает стремление мысли к цельному представлению того мира, в
отношении которого человек определяет себя (гл. III). А так как процесс
этого миропредставления, связанный с процессом приспособления к жизни в
условиях физического мира, переходит в процесс свободного познания о
мире и в деятельное приспособление человеком внешнего мира себе, то в
развитии человеческой жизни по внешнему самоопределению постепенно
совершается освобождение человеческой личности от необходимого
подчинения внешнему миру и тем самым осуществляется постепенный
переход человеческого Я как психофизической особи к внутреннему
самоопределению Я как сверхчувственной личности (гл. IV-V). На этой
переходной ступени своего психического развития человек
противопоставляет себя внешнему миру как свободную причину, как свободного
668
ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
деятеля в мире. Анализируя содержание этого сознания, мы нашли в нем
основное и существенное выражение человеческого самосознания, т. е. мы
нашли в нем такой элемент душевной жизни, который может не входить в
содержание внешнего самоопределения и потому может не быть элементом
человеческого самопознания, но который, однако, лежит в основе душевной
жизни и представляет собою единственное условие, по силе которого
оказывается возможным психическое развитие человека. Этот результат нашего
анализа позволил нам разобраться в бесплодных пререканиях спиритуализма
и материализма. Мы указали относительную правду этих доктрин в
действительном противоречии между природным содержанием человеческой
личности и данными условиями ее физического существования и отметили общую
неправду этих доктрин в их решительной безответности пред самым фактом
рокового противоречия. Такое положение, что человеческая личность,
сверхчувственная по своей природе, имеет физическое существование,
высказать, разумеется, очень легко, но сделать его содержанием мысли в силу
внутреннего противоречия в нем, очевидно, никак невозможно. Поэтому
спиритуализм, говоря о сверхчувственной природе человеческой личности,
преспокойно молчит о ее физическом существовании, как будто человек совсем
не имеет никакого тела или тело принадлежит только человеку, а не
личности; и материализм, говоря о физическом существовании человека,
преспокойно молчит об исключительном содержании человеческой личности,
как будто это содержание совсем и не стоит в противоречии с природою
физического мира. Но реальное противоречие в бытии хотя и немыслимо, однако
по отношению к человеку оно все-таки существует на самом деле, и оно
именно заставляет человека противополагать себя физическому миру как
сверхчувственную личность, и оно же заставляет человека стремиться к развитию
своей жизни по спиритуалистическому содержанию этого внутреннего
самоопределения (гл. VI).
Однако такое развитие жизни фактически оказывается для человека
совершенно невозможным. Эта невозможность в связи с противоречием
между природным содержанием и физическим существованием
человеческой личности естественно заставляет научную мысль совсем устранить
как явно неудовлетворительные все догматические решения о человеке как
в пределах материализма, так и в пределах спиритуализма и просто лишь
признать человека за непонятную загадку бытия. Анализируя содержание
этой непонятной загадки, мы имели возможность установить и выяснить,
что основное содержание человеческого самосознания слагается из таких
элементов, которые могут выражать собою реальные свойства одного только
безусловного бытия, так что природа человеческой личности по
отношению к действительным условиям ее же собственного физического
существования необходимо оказывается идеальной, т. е. в пределах
физического мира она может только выражать собою такое бытие, которого на
669
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
самом деле человек не имеет и ни в каком случае не может иметь. Этот
результат нашего анализа проливает такой ясный и определенный свет на
всю душевную жизнь человека, что при его освещении становится в полной
мере понятным основной принцип развития человеческой личности в
странной смене ее различных самоопределений. Вся разгадка душевного
развития заключается в том, что человек существует как простая вещь
физического мира, а реальною природою своей личности предметно
изображает в мире Безусловную Сущность. Это положение проливает очень
яркий свет на самые капитальные и самые запутанные вопросы мысли и
жизни — о происхождении богосознания и о сущности религиозного
сознания в человеке, о происхождении нравственного сознания и о сущности
нравственного закона жизни, т. е. на такие вопросы, к решению которых
мы иначе даже и приступить не умеем. Идея Бога оказывается не
продуктом человеческой мысли, а живым сознанием человека о действительном
Безусловном бытии, реальным образом которого является человеческая
личность, и нравственное сознание оказывается не привычкою мысли к
принятой оценке человеческих действий, а живым сознанием богоподобия как
истинной цели человеческой жизни. Из этих именно живых сознаний и
возникает живое тяготение человека не просто лишь к сверхчувственному, а к
сверхмирному, вечному, божественному, и из этого именно живого
тяготения возникает у человека естественная религия и мораль (гл. VII).
Таким образом, мы постепенно подошли к ясному и точному
определению единственной загадки в мире. Эта загадка заключается не в том, что
будто мы совершенно не знаем и никогда не можем достоверно узнать,
существует ли дух в человеке и существует ли Бог на небе. И дух
существует, и Бог существует, и мы вынуждены задавать себе эти вопросы о
действительном существовании духа и Бога не потому, что будто мы
совершенно не знаем об их существовании, а потому, что даже при самом
искреннем желании жить по этому знанию мы в действительности
всетаки не живем и не можем по нему жить. Каждый человек несомненно
есть образ Бога, и, однако, ни один человек не может сознавать себя
образом Бога, потому что это сознание совершенно противоречит
действительному существованию человека в качестве простой вещи мира. Этот именно
факт рокового, необходимого, неустранимого противоречия между
знанием и жизнью и заставляет человека во имя роковой действительности
жизни отрицать действительность своего знания о Боге и духе. Мы
проследили весь длинный путь этого отрицания и видели, что в существе своем
оно необходимо сводится к полному самоотрицанию человека, и потому
оно необходимо вызывает стремление философской мысли к
достоверному познанию подлинной правды о человеке и правды о Боге, так как
основою самоотрицания служит только заведомая недействительность
психологически необходимого религиозного самоопределения человека.
670
Часть четвертая. Психологиясовегскогопериода
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В.Н. ИВАНОВСКИЙ:
МЕТОДОЛОГИЯ
ОБЩАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
Ивановский Владимир Николаевич (1867-
1939) — психолог, философ, историк психологии и
философии, преподавал в Казанском,
Белорусском (в Минске), Московском университетах, на
Московских женских педагогических курсах,
читал курсы по психологии, философии. Автор
статей по педагогике и психологии в
энциклопедическом словаре бр. Гранат, в журналах «Вопросы
философии и психологии », «Вестник воспитания »,
«Образование». Другие труды: курсы лекций по
психологии и философии; капитальное
историкокритическое исследование ассоцианизма
«Ассоцианизм психологический и гносеологический» (1909), переводчик трудов
Дж. Ст. Милля, У. Минто, А. Бэна, у. Джемса и др. Уделял большое
внимание теоретическим и методологическим вопросам психологической науки.
Опираясь на огромный материал из области истории философии и
психологии, выявил основные тенденции в развитии научно-философской
мысли с IX-X вв. до н. э. и до настоящего времени, указал на необходимость
методологических принципов, которые нужно отличать от готовых
шаблонов, в творческой научной деятельности. Их изложение составляет
содержание главного труда Ивановского в области теории и
методологии — книги «Методологическое введение в науку и философию» (1923).
Книга сохраняет свое значение для современной психологии в условиях
переживаемого ею методологического кризиса.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
в нлуку и философию1
«Науку» мы можем предварительно определить так. Это совокупность
общих и частных «познаний», систематически охватывающих какую-либо
область действительности или мысли или деятельности человека,
создаваемая, помимо всякого внешнего авторитета, разумом человека, состоящая
частью из достоверных, частию из предположительных утверждений,
опиИвановский Вл.Н. Методологическое введение в науку и философию. Том
первый. Минск, 1923. С. 31-38; 157-165; 194-206.
22 Российская психология
673
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
рающихся на проверку и доказательства и сопровождаемых указаниями
относительно того, кем, когда и как эти положения были выработаны и
установлены.
Наука, научное знание составляет высшую ступень познавательной
деятельности человека. «Познание » отличается по существу от других
типов высказываний: от вымыслов, приказаний, пожеланий, советов,
вопросов и т. д. Своим содержанием оно имеет (в качестве задачи, конечно, не
всегда ее вполне достигая) истину. Область истины есть как раз область
познающего мышления, в отличие от мышления выразительного.
Конечно, и выразительное, эмоционально-символическое мышление, как оно
имеет место в искусстве и религии, в значительном объеме использует
результаты познающего мышления. Искусство творит свои образы,
применяя данные научного познания (например, истории, социальных наук,
эстетики, археологии и т. д.) как для своего содержания, так и для своей формы
и техники: бытовая, историческая, общественная поэзия, эпос; результаты
научного изучения пропорций и форм человеческого тела и др. объектов
скульптуры; использование научных данных в технике живописи, музыки,
слова и т. д. Мало того, произведения искусства обладают своей
собственной истиной (в условном смысле), своей особой внутренней логикой, в силу
которой одни элементы оцениваются как подходящие к стилю, согласные
со строем целого, другие отвергаются как неподходящие, фальшивые,
несоответствующие. Однако это «истина » совершенно иного типа, чем
истина научная, познавательная: «истина» в искусстве есть либо (в его технике)
приложение научной истины, либо правдоподобие, либо внутренняя
связность, согласованность. Наоборот, в науке «истина» должна быть
(в идеале, в пределе) полный совпадением с какой-то нормой
действительности.
Точно так же и область религиозного мышления частию иногда прямо
использует данные науки (того времени, когда создается данная система
догматов и учений), иногда же творит самостоятельно, пытаясь идти в
направлении научной истины. Но заимствования из науки так и остаются
заимствованиями из чужой сферы; а самостоятельное творчество,
поскольку оно не руководится критериями научной доказательности, остается на
стадии выразительного мышления и не дает гарантий научной истинности.
Научное знание есть высшее проявление, высшая ступень знания
обыденного, жизненно-повседневного, обиходного. Оно отличается от
последнего своей широтой, более или менее исчерпывающим характером,
методологической обоснованностью, критичностью, доказательностью,
сознанием пределов своих притязаний на истинность. Науке, т. е.
рассмотрению с точки зрения «истинности» (и ложности), подлежит решительно
все: каждую вещь, каждое событие, каждую мысль или чувство — вообще
каждый «предмет», о котором мы мыслим или говорим, мы можем
под674
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
вергнуть такому рассмотрению. Поэтому научное знание, научное
изучение сводится к особому — научному — отношению ко всякому предмету,
причем с других точек зрения этот предмет будет подлежать
разнообразным другим «подходам» (эстетическому, этическому и т. д.) и будет
входить в материал других культурных систем. В основе науки лежит особое
отношение ко всякому возможному материалу; наука есть
совокупность результатов, достигаемых при этом, специфическом
отношении к предметам. Об этой «научной» точке зрения, составляющей одну из
проблем методологии науки, мы будем говорить в дальнейшем.
Классификация наук должна опираться на те пли другие признаки
самих наук как таковых, как систематических целых познавательных
данных. Важнейшими из таких признаков надо считать: 1) содержание науки,
характер ее предмета, 2) обусловливаемые этим содержанием методы ее
построения и разработки, 3) вытекающую также из содержания цель
каждой науки.
С этой последней точки зрения все «науки» (в наиболее обычном
объеме этого термина) могут ставить себе одну из двух целей: либо
теоретическую, либо практическую. Поэтому понятия «теория» и «практика»
прежде всего требуют выяснения.
Традиционная классификация основных фактов психики и отношений к
окружающей среде делит все проявления человека на три группы: 1)
эмоционально-чувствительную, 2) познавательную и 3) волитивно-двигательную.
Первая из этих групп теснее всего связана с внутренними моментами: она
состоит из субъективно-оценочных состояний. Вторая и третья, напротив,
обращены более к объективному. Эмоционально-чувствительная сфера если и
имеет логику, то свою, особую — эмоциональную: логику чувствований и
настроений (кстати сказать, очень мало изученную). Сферы же познания и воли
подлежат нашей обычной логике, и с ними именно имеет дело методология.
При этом сферы эти противоположны одна другой с точки зрения
положения человека, субъекта, поскольку он действует в каждой из них.
В сфере познавательной человек, какие бы активные действия он ни
проявлял, проявляет их с целью познать нечто предстоящее ему в качестве
объекта. Субъект исходит здесь не из стремлений теоретических, и, хотя
бы он совершенно активно искал объяснения тех или других фактов,
придумывал бы гипотезы, конструировал понятия, производил сложнейшие
вычисления и т. д., всегда он делает это в последнем счете в целях
«теоретических », созерцающих, изучающих то или другое «содержание », тот или
другой «предмет» знания: предмет этот (пусть это будет даже
конструкция ума: например, понятие «преступления», «добродетели» и т. д.)
предстоит субъекту, имеет свой собственный состав и свои причинные связи
и зависимости. Напротив, в области практической человек сам, своей
личностью входит в состав агентов, создающих изучаемое: стержень
причин22* 675
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ных обусловленностей не просто «развивается перед его глазами »(точнее,
перед его умом), как это имеет место в сфере теоретической, а проходит
сквозь него самого: без участия сил человека невозможно само понятие
практики.
Поэтому теоретическая и практическая «позиции» человека, дающие
начало наукам теоретическим, с одной стороны, практическим, или
прикладным, с другой, суть два совершенно различных подхода к жизненному
содержанию, и подхода основных, определяющих многое другое...
Остановимся на этих понятиях.
Прежде всего «теоретическая »и «практическая »позиции суть точки
зрения всеобщие: решительно ко всему возможны оба эти отношения. Все
без исключения мы можем изучать, и на все мы можем так или иначе, в тех
пли иных целях действовать (в меру, конечно, наших физических сил и
возможностей: солнца мы погасить не можем; но ослабить для нас его блеск,
защитив глаза цветными очками, вполне в нашей власти).
Во-вторых, эти два основных отношения ко всякому материалу, будучи
различными как типы отношений, тем не менее связаны одно с другим.
С одной стороны, само познание складывается вначале благодаря
накоплению чисто практических данных, возникающих не из теоретических
стремлений, а из непосредственных, жизненных нужд и из действий, как
бы ощупью, без определенного плана и случайно производимых с целью
удовлетворения этих нужд. Позже, когда первоначальный капитал
познаний накоплен и в действие вступает теоретико-систематический интерес,
дальнейшие, высшие формы практических деятельностей начинают
опираться на систематическое знание — на науку. «Использование науки в
целях практики» — великая мысль нового времени. Ее еще в средние века
выдвигал одинокий гонимый монах-мыслитель ХШ в. Рожер Бэкон. Ее в
самом начале эры нового естествознания высказывает один из первых
теоретиков новой науки Фр. Бэкон, начинающий свой Novum Organum
словами: «Человек, слуга и толкователь природы, делает и понимает настолько,
насколько он произвел реальных или умственных наблюдений над
порядком природы». И далее (афоризм III): «Наука и могущество (иначе говоря,
«теория и практика». — В. И.) человека совпадают, так как незнание
причины уничтожает возможность использования действия (destituit effectum).
Ибо природа побеждается только через подчинение ей; и то, что в порядке
наблюдения (т. е. теоретическом: in contemplatione) играет роль причины,
является правилом в порядке исполнения (in operatione)».
Поэтому в настоящее время в сложных «техниках» мы всюду
используем науку.
Мы «действуем » на основании наших знаний. При этом из общего
состава знаний выделяется в качестве оснований для действий преимущественно
одна категория положений — т. н. «причинные законы» — общие положения
676
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
относительно связей между двумя смежными моментами какого-либо
процесса. Законы эти очень важны и в теоретическом отношении, так как именно
они вносят связность в понимание явлений и позволяют выяснить
происхождение, генезис каждого факта, каждой вещи. Важны они и в отношении
практическом, так как на них основываются правила практического действования:
всякое «действование» совершается в настоящем во имя будущего, — оно
имеет целью переход в будущее, достижение чего-либо в будущем. Человек
применяет те или иные средства, имеющие то свойство, что они вызывают,
производят то, что нам нужно, приводят к поставленной нами цели. Поэтому
понятно, что руководить действиями могут только те общие положения, те
«законы», в которых определяется отношение одного момента (как причины,
или средства) к определенному следующему моменту (как к следствию, или
цели). Иначе говоря, то самое, что в «законах » наук теоретических составляет
причину, то будет в дисциплинах практических средством; а то, что с
теоретической точки зрения называется следствием, будет в практике целью.
Причинный закон науки теоретической говорит нам, что всегда одно явление при
известных условиях вызывает другое; правило соответствующей науки
практической исходит из этого второго явления («следствия») как «цели» и
указывает нам, при помощи какого «средства » (причины) эта цель может быть
достигнута. Если (сравнительно) теплый воздух прикасается к
(сравнительно) холодной стенке, то на последней осаждаются капли воды, говорит
физика. Если вам нужно осадить из воздуха воду, то вы должны нагреть воздух и
потом выставить на него более холодный предмет, который тогда покроется
каплями воды, — так прилагает физический закон техника1.
Обычно практика применяет сразу, в одном приеме, не один, а несколько
«законов» науки, которые и надо суметь скомбинировать так, чтобы получить
именно нужный результат. Так, в психологии мы находим два (теоретических)
закона. Это, во-первых, т. н. закон мотивации (произвольных действий), или,
как его еще иначе иногда называют, закон самосохранения живого существа,
закон отношения между чувствованиями, с одной стороны, и волей и
действиями, с другой. Закон этот гласит, что живое, сознательное и обладающее
активностью существо стремится прекращать или воздерживаться от таких
действий, выполнение которых или представление о которых связывается у него с
неприятным чувством, и, наоборот, стремится совершать, продолжать или
усиДля обозначения «практических» наук употребляются и еще термины: «науки
прикладные »(этот термин прямо указывает на момент приложения в этих науках
законов наук теоретических), а также «теории искусств». В последнем выражении
«искусство » употребляется в широком смысле: оно обозначает не одни «изящные »
искусства, а и все техники (нередко эти два термина употребляют почти
безразлично: напр., искусство пивоварения и техника пивоварения, строительное искусство
и строительная техника и т. д.).
677
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ливать такие действия, с которыми связаны у него чувства приятные.
Во-вторых, закон ассоциации (по смежности): все, что пережито данным субъектом
одновременно или в непосредственной последовательности, имеет тенденцию
воспроизводиться этим субъектом именно так, как оно было пережито, т. е.
тоже одновременно или в непосредственной последовательности. Таким
образом, мы имеем здесь два причинных закона: 1) представления о страдании
(или удовольствии), связанные с идеей какого-либо поступка («причина »),
вызывают воздержание или совершение этого поступка («следствие»); 2)
переживание чего бы то ни было одновременно или в непосредственной
последовательности (причина) обусловливает и воспроизведение того же в такой же связи
(следствие).
На этих двух законах основывается педагогическая, правовая
(пенитенциарная), административно-политическая и всякая другая практика
наград и наказаний. Для того чтобы заставить людей (и животных)
совершать одни поступки и воздерживаться от других. Люди связывают с
поступками первого рода нечто приятное для действующего, наступающее
по решению соответствующего органа общественного воздействия
(награду), а с поступками второго рода нечто неприятное (наказание). Тогда мысль
о воздействиях первого рода сама собой автоматически будет склонять к
совершению связанных и ними действий, а мысль о воздействиях второго
рода будет удерживать от связанных с такими воздействиями действий
другого рода. «Если хочешь заставить людей делать то, что с данной общественной
точки зрения нужно, свяжи с выполнением таких действий удовольствие, а с
поступками противоположного рода — страдания; тогда, по законам
психологии, мысли о награде или наказании свяжутся с мыслями о
соответствующих поступках и будут склонять к их выполнению либо отклонять от
такового», — так рассуждает всякий законодатель, педагог, судья, политик...
Психологические законы, лежащие в основе теории наград и
наказаний, делают нам понятными и некоторые правила пенитенциарной
политики. На чем основано требование, чтобы наказание следовало если не
непосредственно, то по возможности скоро за преступлением или проступком?
Именно на том, что при таком непосредственном соприкосновении мысль
о наказании всего вернее свяжется с мыслью о нарушении требований
закона. Поэтому, когда нельзя наложить наказание немедленно за
проступком, перед наказанием читают «приговор», являющийся напоминанием о
поступке — в непо-средственной близости с наказанием и укрепляющий в
умах людей связь между ними. Как наказываемый, так и все окружающие
должны ясно сознавать, за что именно налагается наказание. В
применении к животным это делается в очень элементарной форме. Кошку,
беззаконно стащившую кусок мяса, наказывают в непосредственной близости с
украденным, самым несомненным образом подчеркивая ей, за что именно
постигает ее эта кара.
678
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Итак, науки теоретические и практические имеют дело с одним и тем
же содержанием; правила наук практических представляют собою
комбинированные приложения законов наук теоретических. Но эти две группы
знаний противоположны по тому положению, какое в каждой из них
занимает субъект. В теоретической сфере субъект занимает положения либо
активного наблюдателя, отыскивающего закономерности в известной
области явлений, либо мыслителя, конструирующего известную систему
представлений и понятий, — систему, обладающую своим собственным,
объективно-общеобязательным строем, своей специфической,
принудительной структурой. В сфере практики субъект комбинирует сведения и
вырабатывает на их основе системы практических средств и приемов
действий, удовлетворяющих своим или вообще человеческим нуждам и
потребностям: здесь субъект ставит себе цели, подбирает средства,
комбинирует их и т. д., причем систематизирующим моментом является не
связность знания, а связность жизненных задач и целей.
При этом надо иметь в виду, что и к своим собственным прошедшим
действиям человек может относиться как наблюдатель: он может изучать
их «теоретически», как всякий другой материал знания. Но к своим
действиям в момент их выполнения человек относится всегда «практически »:
когда цепь причинности событий захватывает и его самого, он испытывает
особый подъем настроения, ощущает «риск», напрягает все свои силы для
достижения цели — вообще переживает состояния, очень далекие от
более холодного и спокойного, теоретического отношения к проблеме.
(Дальнейшие соображения о теории и практике я дам в другом месте.)
Несмотря на принципиальное различие между теорией и практикой,
в обычном человеческом мышлении их специфические точки зрения
нередко смешиваются, и это, как и всякая методологическая путаница, вредит
обеим сторонам.
А именно, с одной стороны, нередко практически желательное — то,
что хотелось бы видеть, то, к чему стремятся, выдается за объективно уже
существующее. Примеры этого встречаются в огромном количестве в
области религиозного мышления: плоды субъективной идеализации
(практически ценные для субъекта) начинают обычным мышлением признаваться
за реальности: задачи, цели, идеальные отношения между реальностями
сами получают характер реальностей, и больших усилий философской
критики стоит потом разграничить эти две области. Бог, как благое начало мира,
как «отец», хранитель, промыслитель, защитник и утешитель, становится
из принципа «отношений между людьми и миром »(«Бог есть любовь », «Бог
есть нравственный миропорядок» и т.д.) особым существом — мировой
силой, имеющей именно те конкретные формы, в каких эта сила рисуется
авторитетами данного вероисповедания. «Бессмертие души» из
«желательного», из объекта надежд, упований, из того, чего просит сердце, делается
679
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
фактом, и т. д. В области наук общественных такие смешения также очень
часты: то, что составляет содержание общественного идеала данного
мыслителя (или группы, класса), объясняется «сущностью данного явления
(и его понятия)», «законом разума», «естественным, неотъемлемым
правом» и т. п. Между тем на самом деле это только построения политической
публицистики (правда, освещающие иногда и некоторые стороны
действительности). «Естественное право» и его вечное, «разумное содержание»,
договорная теория образования государств, «права человека и
гражданина », «нравственный закон, живущий в человеке » и многое другое — все это
не реальности, не общие факты, а с практической точки зрения идеалы,
цели стремлений, а с теоретической фикции. «Государство основано на
договоре» — это значит, говоря реально, что отношения между властью и
подданными должны иметь свободно-договорный характер, что
(согласно предполагаемому содержанию первоначального договора) власть
имеет целью заботы об общем благе подданных и что, если она этой своей
взятой по договору на себя обязанности не исполняет, то подданные
имеют право отказать ей в повиновении. «Договорная теория государства » была
не научным констатированием факта, а попыткой обоснования известной
политической программы. Людям обычно больше импонирует, если
желательное, идеал объявляется «реальностью»: тогда как-то само собой
начинает разуметься, что этот идеал непременно «должен» быть
человеческими усилиями осуществлен во что бы то ни стало, причем обычно людей не
останавливает то соображение, что данный закон разума, природы и т. п.,
якобы присущий человеку как такому, сейчас отнюдь еще не осуществлен
и является лишь двигателем и содержанием дальнейшей общественной
борьбы... Раз человек «от природы свободен », то, хотя он фактически и «родится в
цепях », как-то автоматически начинает подразумеваться, что «свобода »
должна быть осуществлена в общественной организации. «Декларация прав
человека и гражданина», принятая французским национальным собранием, —
классический образец этого вида мышления. «Позитивисты» потратили
много сил на разоблачение этой подстановки желательного на место «реального»,
требуя строго разграничения действительности от желаний и идеалов1.
Современные исследования общественных учений, настроений и идеологий,
производимые с точки зрения «экономического понимания истории »,
оказывают в этом отношении большие услуги, вскрывая часто очень трудно
различимые «практические» корни часто, казалось бы, теоретических
построений и теорий.
В только что указанных случаях «практика » искажает «теорию »,
теоретическое представление о действительности. Но часто «практика » шла и
Укажу из русских работ хотя бы на диссертацию В.И. Сергеевича «Задача и метода
государственных наук» которая вся построена на этой мысли. М., 1870.
680
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
дальше: известные теоретические взгляды она объявляла вредными,
опасными, запрещенными и т. п., совершенно не считаясь с их
обоснованностью, доказанностью. Католическая церковь объявила в свое время
опасным учение Коперника о вращении Земли вокруг Солнца, а также и многие
другие научно доказанные положения. Точно так же и светская власть
нередко запрещала и преследовала в качестве «вредных» теории и учения,
которые потом вошли во все учебники. Тут вредное влияние практики
заметно еще резче. По отношению к теоретическим положениям может быть
только один ряд вопросов: истинны они, или ложны, или сомнительны,
возможны, хотя и не доказаны, или, наконец, частично истинны и частично
ложны, и в последнем случае — в чем истинны и в чем ложны? Бывают, конечно,
истины односторонние — правильные в более узкой сфере, но не
охватывающие вопроса в его целом; бывают «неокончательные» истины — только
приближения к истине, намеки на нее, предчувствия ее, ее первые смутные
и неадекватные формулировки... Все это так; но из этого следует не то, что
данные зачатки истины «вредны», а что они должны быть развиты в
деталях, выражены в полной, ясной и точной форме со всеми ограничениями и
поправками, какие могут оказаться необходимыми при соображении всех
сторон вопроса. История общественных наук полна фактами «борьбы за
истину» (хотя бы и не полную и относительную). Часто эту «борьбу за
истину» сводят только на реальную историческую борьбу общественных
групп, например классов. Но давно уже было сказано (сколько помню,
Д.С. Миллем), что всякое общественно-тенденциозное учение, для того
чтобы показаться сколько-нибудь приемлемым, должно найти для себя
более или менее приличное логическое одеяние и методологическое
обоснование. Поэтому всякое учение, прикрывающее односторонние
«аппетиты», непременно в то же время и ложно, основано на софизмах, на игре
понятиями, произвольных утверждениях, на методологических
погрешностях и злоупотреблениях и т. д. И конечно, самая действительная борьба
с такими «опасными » теориями состоит в простом показании их ложности,
необоснованности, а не в объявлении их в опале. Но раз какое-нибудь
положение «истинно», т. е. проверено всеми логическими приемами и снабжено
всеми возможными доказательствами, оно должно быть принято. Если в
данном коллективе нет людей, способных произвести такую проверку, тем
хуже для данного коллектива. И вероятно, римская церковь много раз
жалела о том, что осудила учение Коперника, сожгла Бруно, вынудила
отречение у Галилея и т. д., что ее руководители не могли сразу понять истинности
учения Коперника, которое, как оказалось, даже не особенно вредно для
католицизма: католицизм существует и сейчас, хотя коперниканская
теория признана всеми. Таким образом, если в «истине » есть что-либо
неудобное для данного строя, то это доказывает лишь негодность и вырождение
этого последнего, а не ложность истины. Надлежащим же образом
органи681
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
зованное общество всегда найдет в себе силу переработать и усвоить всякую
истину, приспособив к ней так или иначе свою жизнь и свою идеологию.
Возникает еще один вопрос: может ли «практика » противоречить
теории? В популярной речи такие выражения употребляются нередко: «это не
оправдывается на практике», «это одна теория, — практика говорит
другое» и т. д. Известный английский мыслитель Д.С. Милль сказал однажды
нечто подобное в разговоре со своим отцом. Его отец (также незаурядный
философ и общественный мыслитель) Джеймс Милль разбранил сына за
то, что тот употребляет шаблонные, ходячие, непродуманные фразы,
и разъяснил ему, что правильной теории практика противоречить не
может. Действительно, «практика может противоречить теории » только в том
случае, если «теория » не охватывает всех элементов действительности, если
она дает не полное, а упрощенное ее объяснение. Такой неполной теории
практика, конечно, противоречить может. Но поскольку теория учитывала
бы все причинные моменты, все ингредиенты явлений в их точных
размерах, степенях силы и своеобразных в каждом случае комбинациях,
практика ей не могла бы противоречить. При этом надо помнить, что такой
полный учет обычно является лишь идеалом: по большей части в дальнейшем
оказывается, что известные моменты были упущены, или недооценены, или
переоценены, или неточно вычислены, и заставляет вносить поправки в
«теорию». Поэтому теория лишь сравнительно редко вполне в точности
оправдывается практикой, и афоризм, приведенный выше, имеет некоторое
фактическое основание.
Четвертое место в ряду наук реальных займет психология
(буквально: «наука о душе », от греч. psyche = душа), в настоящее время понимаемая
по большей части как «наука о сознательных состояниях»1.
Вопроса об отношении сознательных состояний к нервно-физическим
процессам, происходящим в организме, я буду касаться в дальнейших
главах курса. Сейчас я преследую только цели элементарной группировки наук
в общей системе классификации.
Процесс образования понятия о душе изображается
исследователями различно. По-видимому, наиболее правильно зерно этого понятия
(к которому, конечно, потом присоединяются и другие моменты)
истолковывает теория Тайлора — Спенсера.
Первобытное мышление плохо различало «субстанции» и «функции»,
вещи и акты; оно отдавало решительное предпочтение «субстанциям » и везде,
Термин «психология » вошел в общее употребление только с половины XVIII в. —
с Хр. Вольфа; впервые он встречается у Меланхтона. Ранее для обозначения этой
науки употребляли либо название главного психологического сочинения
Аристотеля — Peri psyches («о душе ») или латинский перевод его = De anima, либо термин
«пневматология »(греч. корень рпе = дух).
682
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
где находило своеобразные проявления, признавало существование особых
вещей. Поэтому естественно, что и для объяснения деятельностей сознания
оно принимало особую «опору» (субстанцию) в виде вещи — души.
Дикарь видел рядом со своим телом свою тень; он наблюдал в
спокойной воде отражение своей фигуры; нередко слышал повторение
своего голоса (эхо) и т. п. Отсюда идея двойника, какого-то существа, то
находящегося внутри человека, то выходящего из него и являющегося ему в
зрительных или слуховых образах... Эта идея двойника получает
подкрепление во множестве биологических состояний, ежедневно наблюдаемых
человеком. Дикарь спит под деревом и видит места, отстоящие на десятки
верст от этого дерева. Мы говорим: это во сне... Но первобытное сознание
еще не установило тех различий, какие устанавливаем мы, между «сном» и
«бодрственным состоянием», воображаемым (вспоминаемым, мыслимым
и т. д.) и реально воспринимаемым и т. п., и все понимало и связывало, так
сказать, в одной плоскости: для него все было реальным. Тип его
«апперцепции» (понимания) и истолковывания была не наш, а другой. Отсюда
очевидная концепция: пока человек спал под деревом (все видели, что тело его
лежало тут), его двойник отделился от его тела и «летал» по местам,
виденным им («во сне»). И пока двойник был в человеке, человек все
сознавал, двигался, работал; когда же двойник улетал, человек лежал почти
неподвижно, не сознавал окружающего. Следовательно, двойник — принцип
и основа сознавания, движений, работы, всех жизненных проявлений.
Иногда двойник оставляет человека окончательно, и тогда человек умирает —
прекращается всякая жизнь. Иногда в человека входит другой, чужой
«двойник», тогда меняется все содержание его сознания, двойники — свой
и чужой — борются, равновесие жизни и сознания нарушается (бред
лихорадящих больных и сумасшедших, экстаз, наитие, опьянение и другие
отравления, припадки падучей, истерии и т. д.). В этой идее двойника души
была основа первобытного анимистического мировоззрения и первая
форма «спиритуализма», т. е. учения о душе как особой субстанции. В области
религиозного миропонимания мы находим среди других отложений
культуры также и эти древнейшие представления. И так как вообще область
религиозных представлений является складом обрывков воззрений,
возникших в разные эпохи и при разных культурных условиях (причем
отдельные верующие выбирают себе то те, то другие из этих элементов
соответственно уровню своего научно-философского развития), то наименее
культурные группы людей могут и теперь еще представлять себе душу
именно в виде «двойника» данного человека. Нередко в церквах мы находим
картины Страшного суда, на которых черти вытаскивают изо рта
грешников похожих на этих грешников маленьких людей, т. е. «души»,
«двойников» этих грешников Позже идея «души» отрывается от мысли о
двойнике: душа начинает представляться особой субстанцией, не имеющей
683
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
чувственного образа и сходства с данным человеком. Эту стадию
понятия о душе мы находим, например, у Платона и у других древних
философов, а также у большинства христианских средневековых мыслителей; ее
можно назвать субстанциалистической стадией понятия души. Позже
понятие души приобретает еще иной вид — динамический; душа начинает
пониматься не как особая субстанция, могущая иметь независимое от тела
существование, а как сила, как деятельный принцип, сам по себе не
имеющий пространственного .характера, непротяженный, умещающийся, так
сказать, в одной геометрической точке. Таковы «монады» Лейбница.
Монадическое понятие души является переходом к новейшему,
актуалистическому (Вундт), с точки зрения которого «душа» есть не что иное, как
принцип связности всех актов сознания, как тот факт, что все
сознательные состояния одного и того же субъекта существуют в виде одного
связного целого у в виде одной системы актов. Таким образом, спиритуализм,
т. е. учение о душе как особой если не субстанции, то по крайней мере
особом принципе сознательных состояний, пережил четыре главных стадии:
1) стадию «души — двойника», 2) стадию собственно
субстанциалистическую, 3) динамическую у 4) актуалистическую.
Параллельно со спиритуализмом развивались и другие точки зрения
на «душу» и на принцип сознательных состояний вообще. У большинства
досократовских философов Греции мы находим «гилозоизм», т. е. идею
«живой » (и сознательной) материи — тожества принципов жизни и
сознания с материей. Стоики и эпикурейцы были материалистами;
материализма же держалась и некоторые из Отцов Церкви (Тертуллиан). В Новое
время из великих систематиков XVII в. Декарт был дуалистом, Гоббс —
материалистом, Спиноза — параллелистическим монистом. Локк начал
критику идеи души как субстанции, а Юм ее закончил, признав, что
никакого основания в «опыте» (как его понимал Юм) для этой идеи нет, а
потому и понятие это не реально: то, что мы называем обычно «душой», есть
лишь серия конкретных переживаний, сохраненная и связанная памятью.
Юмова критика легла в основу так называемой психологии без души, чисто
эмпирического изучения сознательных состояний как таковых, помимо
всяких предположений о душе как субстанции. Это эмпирическое
(«опытное», от греч. empeiria = опыт) изучение сознательных состояний и
составляет психологию как науку в современном смысле.
С сознательными состояниями связана весьма обширная система
знаний, которую можно разделить на два основных отдела.
В первый отдел войдут дисциплины, изучающие сознательные
состояния: 1) как таковые (их основные типы, законы их возникновения,
образования, осложнения и течения, их значение в жизни вообще и в
общественной жизни в частности и т. д.), 2) в связи с материально-жизненными
состояниями живого организма. Во второй отдел можно включить
изуче684
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ние тех же состояний в связи со всеми разнообразными способами их
выражения.
К первому отделу надо отнести психологию в собственном смысле
(включая сюда и психологию физиологическую, биологическую, психофизику и т. д.).
Задача этой науки состоит в том, чтобы изучить состояния сознания и
вызывающие и сопровождающие их материальные и нервные процессы — так, как
они протекают в живом и сознательном существе — под влиянием ли других
сознательных существ, или же благодаря действию иных, внешних либо
внутренних, факторов. Собственно говоря, в отношении своего субъекта, или
носителя, психология всегда остается индивидуальной: сознание мы с
несомненностью констатируем лишь в единичных конкретно-индивидуальных
существах; но содержание изучаемых психологией состояний сознания,
источники их возникновения, условия течения их и т. д. очень часто связаны с
социальной жизнью, с общественными отношениями, а потому дают начало
тому, что называется психологией коллективной, или социальной.
Во второй отдел психологических (в широком смысле) дисциплин
войдет изучение состояний сознания в теснейшей связи со способами их
выражения и самых этих способов. Таких способов очень много: поступки
человека, мимика и другие выразительные движения (например, музыкальные
звуки), создаваемые человеком комбинации материальных форм, цветов и
красок, — но главным образом членораздельная речь.
В совокупности все эти выражения можно объединить под понятием
«поведение» человека. В настоящее время часто сказывается тенденция
выдвинуть в психологии на первый план этот объективный момент поведения;
некоторые психологи всю психологию определяют как «науку о поведении живых
существ» (например, Блонский П.П. Очерк научной психологии. М., 1921.
С. 13). В этом сказывается здоровая реакция против нередкой в прежнее время
трактовки сознательных состояний вне отношений их окружающей среде —
к фактам биологическим и социальным. И тем не менее неправильно одну
крайность заменять другой: само понятие «поведение» получает смысл лишь на
основе зависимости его от сознательных состояний («поведение» камня
или азота, если употреблять в применении к ним этот термин, мы
представляем себе совсем иначе, чем «поведение» Сократа или Карла Маркса), а потому
выкинуть из психологии изучение этих последних нельзя. Бояться термина
«сознательные » состояния только из-за того, что с «сознанием » может войти
в психологию «душа » как субстанция, нет никаких оснований. А потому мы
считаем вполне возможным определять психологию как науку о
сознательных состояниях (или фактах, явлениях) и их выражениях в поведении, в
искусстве, в речи, слове и т. д. В прежнее время с изучением речи и слова
связывалось и изучение многого из того, что выражалось в слове и словесных
произведениях, и все это обширное целое обозначалось устаревшим теперь
уже термином: филология (от греч. корня phil = любить и logos = слово, речь;
685
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
буквально «любовь к слову»). В это целое входили не только элементы таких
«систематических » дисциплин, как языкознание, теория литературных форм,
теория искусства вообще и отдельных искусств в частности и т. п., но и
значительная часть исторических изучений. В настоящее время эта широкая область
распалась на отдельные ее элементы; каковы, например, языкознание, или
лингвистика (от латин. Lingua = язык), наука о формах словесных произведений
(теория литературы, поэтика), теория искусства и т. д. Соответствующие
отделы исторических знаний вошли в общую систему наук исторических.
Немецкие мыслители часто употребляют для обозначения всей
области наук психологический термин Geisteswissenschaften — «науки о духе»,
и против этого термина особенно возражать нельзя: некоторый
субстанциалистический оттенок присущ одинаково обоим терминам — как
«психологии» (науке о душе), так и «наукам о духе». Однако это неудобство
можно обойти ясным и точным определением содержания этой области
наук, исключающим всякие субстанциалистические ассоциации.
Область наук психологических также можно разделить на сферы:
отвлеченную и конкретную. В первую войдет изучение общих законов
течения сознательных состояний в отвлеченном от конкретных обстоятельств
и случаев виде; во вторую те реальные формы, какие может принимать
действительность в результате влияния, с одной стороны, этих общих
тенденций, а с другой — конкретных обстоятельств. Так, в сфере изучения самих
содержаний сознания мы будем иметь в качестве наук «отвлеченных»
общую психологию в ее различных отделах; в области изучения
«выражений » — общую теорию выражения или поведения в его целом и частных,
отдельных его видов. Им будут соответствовать в сфере конкретных
изучений, например, различные специальные психологии (полов, возрастов,
наций, общественных классов, темпераментов и характеров и т. д.), а
также теории различных конкретных «выражений» (например, положим,
теории классицизма, романтизма, символизма, футуризма и т. д., как
литературных направлений и т. п.).
Надо иметь в виду для ясности, что ступеней «конкретизации» науки
и ее материала может быть неопределенное количество: психология
детского возраста конкретнее общей психологии, психология дошкольного
возраста конкретнее психологии детского возраста вообще и т. д.
Дальнейшая конкретизация может вводиться другими специфицирующими
принципами: например, психология английских дошкольников будет
конкретнее общей психологи дошкольного возраста; психология английских
дошкольников таких-то годов такого-то века или в такой-то местности
Англии еще конкретнее и т. д.
Хотя психология часто определяется в настоящее время как наука о
сознательных состояниях, однако в нее входит также и изучение
бессознательного, поскольку таковое вообще доступно изучению.
686
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В прежнее время психологи, особенно английские, часто вовсе отрицали
возможность изучения бессознательных состояний психологического
характера на том основании, что эти состояния «не сознаются » нами и,
следовательно, мы о них ничего не знаем. Рассуждение это исходит из предпосылки,
которую оно безмолвно принимает за несомненную: а именно, что мы можем изучать
только то (и вообще можем знать только о том), что мы непосредственно
сознаем. Однако предпосылка эта неосновательна, так как мы знаем и изучаем
многое такое, чего мы непосредственно не сознаем, о чем знаем только при
помощи аналогий, построений, гипотез, выводов, умозаключений и т. д. —
вообще лишь косвенным путем. Так создаются, например, все картины
прошлого, восстанавливаемого нами при помощи разнообразнейших выкладок и
построений на основании материала, который нередко совершенно не похож
на эти картины. Когда зоолог по кости вымершего животного определяет
размеры этого животного, внешний вид, образ его жизни, говорит нам, чем это
животное питалось и т. д., все это непосредственно зоологу не дано, им прямо
не переживается как таковое, а он составляет выводы на основании
некоторых непосредственно сознаваемых признаков костей и т. п. Таким же путем
изучается и «бессознательное», т. е. по известным его «следам», отголоскам,
проявлениям в том, что непосредственно сознается. Дело в том, что
психическая жизнь тесно связана с жизнью организма, во многом она обусловливается
этою последнею: корни сознания глубоко уходят в органическую жизнь,
которая очень часто и прорывается в деятельности собственно «сознания » в виде
безотчетных стремлений, инстинктивных предрасположений, т. н.
автоматизма, актов творчества, и вообще массы проявлений «подсознательной » сферы
психики. Человеческая личность представляет собою иерархию психических
деятельностей, из которых только высшая сопряжена с «сознанием »; а
потому сфера «психического » шире сферы «сознания » (в смысле
непосредственного сознавания).
Сознательные состояния мы можем изучать как таковые в их
непосредственно сознаваемом содержании, в законах их течения, формирования,
развития, взаимодействия и т. д. Это будет психология в ближайшем смысле
этого термина — «психология» без всякого дополнительного определения.
Общие проблемы об отношении физического к психическому, жизни
к сознанию и т. п. составляют содержание дисциплины, называемой
психофизикой.
Поскольку мы сознательные состояния изучаем, в частности, при
помощи измерений скорости, напряжения и других измеримых свойств
сопровождающих эти состояния процессов в организме, мы имеем то, что
обычно называют психометрией («измерение души»).
Если мы берем обладающий сознательными состояниями организм
как целое, в его отношении к внешней, преимущественно материальной
среде, мы имеем психологию биологическую. Сюда надо отнести,
напри687
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
мер, проблемы психической изменчивости и приспособления, отбора,
наследственности, самосохранения, самозащиты, добывания средств к
существованию, борьбы и т. д.
Детальное изучение разнообразных процессов, происходящих в
живом организме, протекающих параллельно процессам сознательным,
имеющих для этих последних процессов то или иное значение, составляет
содержание так называемой физиологической психологии. Нередко течение
таких жизненных процессов, устройство органов чувств и нервной
системы и т. п. проливали свет и на ход связанных с ними (как сознательных, так
и бессознательных) психических состояний.
Поскольку мы — в значительной степени на том же конкретном
материале — изучаем (так сказать, сквозь него) отношения сознательного
существа к другим, ему подобным, мы получаем психологию социальную или
общественную.
Все эти исследования — как самих содержаний сознательных
состояний, так и сопровождающих их и связанных с ними явлений физического и
органического порядка — могут вестись как при помощи простого
наблюдения, так и с участием планомерно проводимого эксперимента.
Отсюда дополнительное подразделение указанных выше областей
психологической науки на отделы: эмпирический в собственном смысле
(основанный на наблюдениях фактов как они представляются нам сами
собою в реальной действительности) и экспериментальный (основанный
на искусственно производимых «опытах» — экспериментах)1. Так, я могу
(в области психологии в тесном смысле) свои собственные психические
силы и сознательные состояния изучать, разбираясь, например, при
помощи памяти в своем прошлом, умственно «наблюдая» (а затем,
конечно, анализируя, истолковывая, объясняя) его, и могу изучать все это
«экспериментально», например, ставя себе те или иные цели или задачи,
а затем констатируя, решены ли эти задачи, достигнуты ли эти цели, и
устанавливая, как и каким путем, какими приемами они решены и т. д.
В первом случае мы будем иметь исследование при помощи наблюдения
(эмпирическое — в широком смысле), во втором — исследование
экспериментальное.
Надо помнить, что разграничение простого наблюдения от искусственно
производимого эксперимента не имеет строгого характера: наблюдение может рядом
постепенных приближений, усилением планомерно вводимого искусственного
момента переходить в эксперимент. Так, часто наблюдение нуждается в приборах
для лучшего восприятия наблюдаемого (лупа, микроскоп, телескоп и т. д.), в
разного рода приспособлениях (концентрированное освещение, производство срезов
живых тканей, окраска их, вивисекция) и т. д.; а это все уже непосредственно
приводит к эксперименту в собственном смысле.
688
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Подобным же образом и в области психологии биологической и
физиологической я могу либо просто наблюдать, например, образ жизни
животных (положим, пчел) на воле или процессы расширения зрачка при
различных степенях освещения, либо экспериментировать с людьми и животными
в лаборатории, исследуя их поведение при определенных, искусственно
созданных условиях, определяя скорость нервного и сознательного процесса
или количество объектов, охватываемых в одном акте внимания, и т. п.
При этом как наблюдение, так и эксперимент имеют в психологии
различный характер в зависимости от того, производим ли мы их над нами
самими или же над другими людьми. Констатирование своих собственных
состояний мы производим непосредственно, при помощи самонаблюдения;
напротив, сознательные состояния других существ мы констатируем
опосредствованным путем — при помощи истолкования, понимания внешних
выражений этих состояний, как они имеют место в их мимике и речи, в
выражении их лиц и фигур, в их поведении и поступках. Такой непрямой путь
познания психики других существ предполагает правильное
функционирование в нас всего того аппарата, при помощи которого совершается это
понимание чужих состояний. Мы должны: 1) правильно наблюдать все эти
внешние выражения, 2) иметь в своем опыте достаточный запас, более или менее
отчетливых состояний, аналогичных тем, какие протекают перед нами в
другом существе (без этого «сытый голодного не разумеет»), 3) уметь пустить в
ход при истолковании нужные именно в данном случае объяснительные
аналогии (иначе можно «голодного от пьяного не уметь отличить »), — надо
обладать чутьем, талантом и опытом «психологического диагноза »; для этого надо
иметь в уме прочные ассоциации «выражений » с выражаемыми
содержаниями; 4) наконец, надо уметь построить из материала своего опыта, своих в
данный момент имеющихся (в «памяти », условно говоря) состояний чужое
переживание, ибо очень часто мы не буквально отожествляем эти
косвенно «наблюдаемые» чужие состояния с теми или иными из наших
собственных, а видоизменяем, модифицируем эти последние, построяем эти чужие
состояния — в зависимости от конкретных указаний каждого отдельного случая.
Так, мы, может быть, никогда не переживали сами чувства страха при встрече
в лесу или в степи с какими-либо опасными животными (например, очковой
змеей), и тем не менее мы можем вообразить такое чувство, читая, положим,
рассказы из индусской жизни Р. Киплинга.
В огромном большинстве встречающихся в практической жизни
случаев такое толкование выполнимо; однако иногда оно может оказаться и
недоступным — в зависимости, например, от неимения у нас аналогичного
материала (например, вряд ли каждый сможет ясно воспроизвести
переживания опиофага или того, кто одуряется гашишем), или же в силу
слабости построяющей, творческой способности (дефективному человеку или
идиоту может быть недоступно понимание очень многого в переживаниях
689
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
других людей; то же самое в случаях полной невосприимчивости,
непонятливости в науке, искусстве), или, наконец, в силу экстраординарности или
болезненного, извращенного характера того, что надо «понять»
(например, патологическая кровожадность, некрофилия и многое другое).
Со всем этим связно большое различие в значении для психологического
знания наших собственных и чужих переживаний. Наши собственные
состояния мы знаем непосредственно, как таковые; чужие —посредственно при
помощи понимания их, производимого нами же самими. Несомненно, наши
личные переживания (в собственном смысле) далеко не так широки и
разнообразны, как вся масса «чужих» переживаний: все наши переживания носят
отпечаток нашей личности, нашего опыта и т. д., а потому до известной степени
однообразны и односторонни и в значительной мере субъективны. В обоих
этих отношениях коррективом является широкий, разнообразный и
объективный материал переживаний других субъектов. Но, с другой стороны, сам
этот чужой материал получается благодаря нашей деятельности построения
на основе восприятия и истолкования чужих выражений. Эту деятельность
«построения» чужих психологических содержаний надо строго отличать от
собственно «субъективного» источника наших личных, непосредственных
переживаний; ее результаты могут быть уже свободными от ограниченности,
случайности и недостоверности данных «самонаблюдения» в собственном
смысле. Получается, таким образом, взаимопроникновение и взаимодействие
обоих элементов: собственно субъективного и объективно-построительного.
Субъективный момент дает качественное содержание переживаний и придает
им характер достоверности: объективно-построительный расширяет запас
материала и исправляет недостатки момента собственно субъективного.
В настоящее время, как я упомянул, выдвигается точка зрения т. н.
«объективной психологии», согласно которой объектами психологического
исследования являются не сознательные состояния (в связи с состояниями
организма, конечно, как это было у всех научных психологов), а совокупность одних
только внешних реакций органического существа, называемая обычно
«поведением» его. В нашей научной литературе эта точка зрения восходит к
нашему замечательному физиологу И.М. Сеченову1; ее давно уже развивает
русский зоопсихолог, заслуженный исследователь жизненных реакций
«Отцу русской физиологии », как его называет акад. И.П. Павлов (Двадцатилетний
опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения)
животных. Условные рефлексы. Сборник статей, докладов, лекций и речей. 1923).
Брошюра И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» вышла еще в 1863 г. «В этой
брошюре была сделана — и внешне блестяще — поистине для того времени
чрезвычайная попытка (конечно, теоретическая, в виде физиологической схемы)
представить себе субъективный мир чисто физиологически... Потом Иван Михайлович
более не возвращался к этой теме в ее первоначальной, решительной форме ».
690
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
некоторых из беспозвоночных животных В.А. Вагнер; из нее исходит в своих
физиологических исследованиях наш знаменитый ученый И.П. Павлов1; ее
пропагандирует академик В.М. Бехтерев: наконец, в последнее время к ней
примкнул П.П. Блонский. Поскольку эта точка зрения требует особого
внимания к активным реакциям организма, она заслуживает сочувствия, потому
что некоторые направления психологической науки, несомненно, страдали
односторонним интеллектуализмом и недостаточно считались с этими
активными реакциями (таково, например, было особенно старое гербартианство).
Однако другие психологические направления отнюдь не страдали этим: стоит
взять хотя бы классическую, английскую эмпирическую психологию, у
видного представителя которой А. Бэна учение о воле и о движениях составляет,
конечно, самую лучшую часть, наиболее разработанный отдел его
психологии. Мало того, интеллектуализмом не страдает, например, даже английское
гербартианство, виднейший современный представитель которою Стаут,
исправляя односторонность старого гербартианства, кладет в основу своей
психологической системы понятие активности, готовности к действию
(conation). Таким образом, для того, кто знает историю и современное
состояние психологии в ее целом, упрек ей в одностороннем интеллектуализме сам
представляется односторонним: он справедлив лишь отчасти. Далее, в
формулировке точки зрения самой объективной психологии замечается большая
неотчетливость. В автореферате сообщения, сделанного на «Всероссийском
научном съезде по психоневрологии »(в Москве в январе 1923 г.), акад. Бехтерев
пишет: «Никакие внутренние или психические переживания не могут иметь
объективного значения, пока мозговые процессы... не появятся в форме слова
(как символа)», действия, мимики, жеста и других внешних форм. Отсюда ясна
необходимость и важность объективно-биологического исследования
личноВ этой же книге акад. Павлов указывает и иностранных начинателей
экспериментирования над животными с этой точки зрения. «Честь первого по времени
выступления на новый путь должна быть предоставлена E.L. Thorndike (Animal
Intelligence. An experimental study of the associative Processes in Animals. 1898),
который на 2-3 года предупредил наши опыты и книга которого должна быть
признана классической как по смелому взгляду на всю предстоящую грандиозную
задачу, так и по точности полученных результатов. Со времени Thorndike
американская работа о нашем предмете все разрастается, именно по-американски во всех
смыслах: в отношении участвующих работников (Yerkes, Parker, Watson и др.),
средства исследования, лабораторий и печатные органов »(стр. 8). Затем акад.
Павлов указывает на то, что «объективное изучение поведения животных начинает
привлекать к себе внимание и во многих европейских физиологических лабораториях:
венской, амстердамских и др.». Претензии нашего акад. Бехтерева и Калишера
(в Германии) «на какой-то приоритет в этом роде исследования » акад. Павлов
считает «совершенно эфемерными для всех сколько-нибудь знакомых с предметом».
691
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
сти, которое должно заменить собою (курсив мой. — В.И.)
распространенное ныне субъективное изучение» («Известия В. Ц. И К.», январь 1923 г.).
Здесь прежде всего неясно, что разумеет акад. Бехтерев под
«субъективным изучением ».Я уже сказал, что без переживания самим изучающим
тех или иных основных типов сознательных состояний у него не будет и
материала для изучения; так, слепорожденный никогда не станет ни
живописцем, ни теоретиком живописи, ни исследователем — психологом в
области зрительных переживаний. Равным образом психическая
деятельность самого изучающего необходима и для «воображения»,
представления себе чужих сознательных состояний: слабоумный может иметь
удовлетворительное зрение и тем не менее не в состоянии будет
вообразить картины природы, положим, Индии. Поэтому в этих двух отношениях
обойтись без чего-то, быть может, включаемого акад. Бехтеревым в
понятие «субъективного изучения», безусловно нельзя... Далее, объектами
психологического изучения являются не два момента, как думает акад.
Бехтерев (мозговые процессы и их «внешние проявления»), а три:
мозговые процессы, сознательные состояния и их внешние проявления. И
вычеркивать из сферы изучения сознательные состояния тем менее допустимо,
что, как я уже упомянул, само понятие «проявление» (или «поведение»)
имеет смысл только в связи с «проявляемым», или отражаемым:
«проявления» камня одно, «проявления», или поведение Маркса при написании
«Капитала» нечто совершенно иное. Исследование слова, действия,
мимики, жестов и других внешних форм «проявления» необходимо; но
заменить собою исследование сознательных состояний оно не может, — оно
может и должно его дополнять и контролировать... Наконец, неясен и
следующий пункт. По акад. Бехтереву, выходит, что в психологии может
существовать какое-то такое «субъективное изучение », которое будет
совершенно игнорировать «проявления мозговых процессов в форме слова,
действия» и т. д. Я думаю, что такого изучения не бывает и быть не может.
Каким бы кто ни был «субъективным» психологом, но раз такой
исследователь излагает результаты своих («субъективных») наблюдений в форме
книги, статьи и т. п., он уже в процессе написания своего труда принимает
во внимание проявления своих («субъективных») состояний в форме
слова и действий (писания, перечитывания, исправления, чтения корректур и
т. д.); он оценивает то, в какой степени его слова выражают его мысли,
критикует свой текст — словом, уже тут изучает соотношение своих
сознательных состояний (и косвенно — мозговых процессов) с их
проявлениями... Акад. Бехтерев допускает сбивчивость в своем рассуждении,
отожествляя «объективно-биологическое исследование личности» с
изучением «проявлений (мозговых процессов)». Такое изучение имеет
полную силу и помимо объективно-биологического исследования; оно входит
необходимой составной частью и во всякое «субъективное» изучение
пси692
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
хики. Здесь недоразумение происходит от полной неясности
употребляемых в рассуждениях терминов.
Мой взгляд на отношение между изучением своего и чужого
сознания, а также между физиологическим и психологическим моментами я
вкратце изложил выше.
...Классификация наук — вопрос, пожалуй, на первый взгляд
малоинтересный. Тут приходится иметь дело с формальными различениями, с
разграничением целого ряда разнообразных наук, которые далеко не для всякого
представляются в живых, конкретных чертах и т. д. И тем не менее проблема
эта имеет серьезное образовательное значение. Под сухой формой
разграничений отдельных наук и их типов скрыто большое количество
методологических принципов, и правильные взгляды на общую систему и взаимные
отношения наук могут оказаться очень полезными при самостоятельном
продумывании научных проблем. Случаи такого рода могут быть в высшей
степени разнообразными, и предусмотреть их нет возможности. Вообще
говоря, всегда полезно по поводу каждого вопроса отдавать себе ясный отчет в
том, имеет ли он характер теоретический или же прикладной, практический,
и в последнем случае — от каких теоретических дисциплин зависит его
решение; относится ли он к одной из систематических дисциплин или же имеет
характер индивидуальный, «исторический », в каком отношении в данных для
его решения стоят элементы «математический » и реальный, и т. д. Раз эти
методологические принципы поняты и усвоены (о деталях методологий
отдельных наук речь будет ниже), вы уже владеете в известной степени ключом к
самостоятельному освещению некоторых могущих здесь возникнуть вопросов.
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ПЕДОЛОГИЯ
Педология — новая область науки, предметом которой является
всестороннее изучение возрастного развития ребенка как целого в
совокупности всех его сторон — морфологической, физиологической,
биохимической, психологической и др. Возникла в логике исследований по изучению
развития в результате осознания необходимости учета всех данных о
развивающемся ребенке в практических целях обучения и воспитания.
Термин дал в 1893 г. сотрудник Г.Ст. Холла О. Хризман. Холла называют
основателем педологии.
В России в дореволюционный период о педологии писали деятели
педагогики и педагогической психологии Н.Д. Виноградов, Н.Е. Румянцев, А.П.
Нечаев. В 1904 г. по инициативе А.П. Нечаева были открыты педологические
курсы при Педагогическом музее военно-учебных заведений (в 1907 г.
преобразованы в Педагогическую академию). В работе курсов активно
участвовали А.Ф. Лазурский, А.Н. Бернштейн, A.C. Грибоедов и др. После
Октябрьской революции 1917 г. педология превратилась в нашей стране в
широкое научно-практическое движение. Его теоретиками выступили
Е.А. Аркин, И.А. Арямов, С.С. Моложавый, А.Б. Залкинд и др. Среди
педологов были психологи М.Я. Басов, П.П. Блонский и другие.
В вошедших в антологию отрывках из учебника П.П. Блонского
«Педология»1 раскрываются предмет, задачи, методы и основные проблемы
педологии.
В антологию включено также известное постановление ЦК ВКП(б) от
4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе наркомпросов»,
которым прекратилось развитие педологии. Свертывание
педологического движения произошло в силу как внутринаучных причин, связанных с
особенностями предмета педологии как естественного целого — ребенка,
так — и это главное — в связи с идеологическим запретом.
П.П. БЛОНСКИЙ:
ПЕДОЛОГИЯ
I. Исторический очерк развития педологии. Предмет и задачи педологии
1. Исторический очерк развития педологии
Господствовавшая в эпоху феодализма монашеская педагогика менее
всего располагала к изучению ребенка. Наоборот, воспитание того
времеБлонский П. П. Педология: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. М.:
Гос. уч.-пед. изд-во, 1936. С. 3-20, 32-35, 38, 44-53, 323-331.
695
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ни должно было не считаться с природой
ребенка, которая поражена грехом с самого
рождения; оно вело борьбу с естественными
потребностями и интересами ребенка: «Ломай его
волю, чтоб душа его могла жить».
Более или менее систематическое
изучение ребенка начинается только в эпоху
промышленного капитализма. Промышленный
капитализм, втягивая в производство в
качестве наемной рабочей силы все большие и
большие массы населения, требует от них
известный минимум образования. В связи с этим
возникает вопрос о всеобщем обучении. Но
всеобщее обучение, нуждающееся в
многочисленных кадрах учителей, ставит перед
педагогикой проблему нахождения такого
метода обучения, который успешно действовал бы даже в малоопытных
руках. Стремясь в этом смысле механизировать преподавание,
Песталоцци (1746-1827) приходит к сознанию необходимости
психологизировать преподавание, т. е. построить его на законах психологии («Ich
will den Unterricht psychologisieren»). С помощью психологии он
обосновывает свое знаменитое учение о наглядности. Однако
определенной системы психологии у Песталоцци еще нет. Продолжая
предпринятую Песталоцци «психологизацию обучения», Гербарт (1776-1841)
создает уже систему той психологии, на которой как на одной из своих
основ должна, по его мнению, строиться педагогика Он вводит
психологию чуть ли не во все основные отделы педагогики: так, например,
разбирая цель обучения, он анализирует главные виды интереса и
условия его; в своем учении о ступенях обучения он исходит из теории
апперцепции и ассоциации; рассматривая проблему нравственного
образования, он подробно останавливается на психологии характера. Его
последователями, так называемыми гербартианцами, впервые начинает
систематически разрабатываться педагогическая психология.
Обыкновенно педагогическую психологию определяют как ту ветвь
прикладной психологии, которая занимается приложением данных
психологии к процессу воспитания и обучения. Эта наука, с одной стороны,
берет из общей психологии результаты, имеющие интерес для педагогики,
с другой стороны — обсуждает педагогические положения с точки зрения
их соответствия психологическим законам. В отличие от дидактики и
частных методик, решающих вопрос, как должен учитель учить,
педагогическая психология решает вопрос, как выучиваются, учатся ученики (ее
проблемы — не lehren, но lernen).
696
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В то время как создавалась педагогическая психология, именно в
середине XIX в., общая психология перестраивалась. Эпоха машинного
производства и сильного развития техники стимулировала
превращение естествознания в экспериментальную науку, а под влиянием
экспериментального естествознания, в частности экспериментальной
физиологии органов чувств, становилась экспериментальной и психология.
Гербартианская психология оказалась устарелой как по методу
(абстрактно-дедуктивному), так и по содержанию (сведение всей
психологии к механике течения представлений). Ее место заняла вундтовская
экспериментальная психология, изучающая психологические явления
методами экспериментальной физиологии. Педагогическая психология
все чаще и чаще начинает называть себя экспериментальной
педагогикой, т. е. экспериментальной педагогической психологией.
Экспериментальная педагогика в своем развитии проходит две стадии: сначала
(конец XIX в.) выводы общей экспериментальной психологии просто
механически переносились в педагогику, раз они представляли для
педагога практический интерес; однако постепенно (XX в.) проблемы
обучения сами становятся предметом экспериментального исследования в
психологических лабораториях. Сравнительно полную сводку данных
экспериментальной педагогики перед началом империалистической
войны дают «Лекции по введению в экспериментальную педагогику и ее
психологические основы» Меймана. Они излагают возрастные
психологические особенности детей (главным образом школьного возраста),
их индивидуальные особенности, технику и экономику заучивания и
приложение психологии к обучению грамоте, счету и рисованию. В наше
время крупнейшим представителем данной науки является Торндайк,
автор трехтомной «Educational Psychology» («Педагогическая
психология», 1913-1924; I — Врожденная природа человека; II — Процесс
выучивания; III — Умственная работа, утомление, индивидуальные
различия и их причины). Содержание работ Меймана и Торндайка
показывает, каково вообще содержание педагогической психологии.
Наименование экспериментальной педагогической психологии
экспериментальной педагогикой как бы означало претензию педагогической
психологии заменить собой педагогику. Фактически так обстояло дело в
начале XX в. Но в это же приблизительно время началась критика такого
увлечения. Критика шла одновременно из рядов и практических
работников школы, и теоретиков-психологов. В числе критиков были самые
крупные тогдашние психологи. В своих знаменитых неустаревших, пожалуй,
и сейчас «Беседах по психологии с учителями» (1899) крупнейший
американский психолог Джемс заявил: «Мы пережили период необыкновенного
увлечения психологией, но те непрактичные эксперименты и педантичные
исследования утомления, памяти, ассоциации, внимания и т. д., которые
697
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
навязываются нам в качестве единственной основы истинно научной
педагогики, не могут дать того понимания ученика, которое получает учитель
посредством общего наблюдения за ним».
Нам необходимо учесть критику увлечения педагогической
психологией, чтобы не повторять старых ошибок. Эта критика
концентрируется главным образом на следующих трех пунктах: 1) нельзя заменить
педагогической психологией педагогику, 2) не удовлетворяет узко
прикладной характер педагогической психологии, 3) она не дает в полной
мере нужного педагогам знания детей. У педагогики есть ряд очень
важных проблем, не решаемых средствами педагогической психологии
(например: цели воспитания, содержание учебного материала, органы
воспитания); кроме того, даже те проблемы, в решении которых участвует
педагогическая психология, педагогика решает со своей особой точки
зрения — точки зрения воспитания подрастающего человека. Поэтому
педагогическая психология не может заменить педагогику. Но даже
сама по себе педагогическая психология подвергалась упрекам за
узкоприкладной характер: строясь как только прикладная наука, она
некритически доверчиво относится к тем результатам и методам, которыми
пользуется; ее теоретический уровень низкий, а потому и ее продукция
не всегда доброкачественна и тем самым вместо пользы иногда лишь
засоряет педагогику. Не надо думать также, что педагогическая
психология может дать полную картину жизни ребенка. Даже Мейман, один
из самых крупных представителей этой науки, считал, что такую общую
картину жизни ребенка должна давать особая наука — наука о молодом
возрасте (Jugendlehre), а для этого кроме психологических данных о
ребенке требуется знакомство с физической жизнью ребенка, знание
зависимости жизни подрастающего человека от внешних, особенно от
социальных условий, наконец, знание общей совокупности условий его
воспитания. Так развитие педагогической психологии и
экспериментальной педагогики приводит к признанию необходимости особой науки —
Jugendlehre, науки о молодом возрасте.
Если педагогическая психология была вызвана к жизни практическими
нуждами начальной школы и строилась исключительно как прикладная наука,
то путь детской психологии был иной: она выросла из естествознания.
Проблема развития, ставшая основной проблемой новейшего естествознания,
ставила вместе с вопросом о филогенетическом развитии человека вопрос об
онтогенетическом развитии его. Эмбриология сделалась одной из основных
естественно-научных дисциплин. От изучения зародыша естественно было
перейти к изучению раннего детства. Сам Дарвин опубликовал «Наблюдения
над жизнью ребенка» («Biographical sketch of an infant Mind» —
«Биографический очерк одного младенческого ума »). Так как именно в раннем детстве
развитие происходит очень интенсивно, то этот возраст пользовался
особен698
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ным вниманием исследователей-естествоиспытателей. Наиболее крупной в
свое время была работа известного физиолога Прейера «Душа ребенка ».
Под влиянием немецкой классической философии идея развития
проникла и в педагогику: Песталоцци, находившийся под влиянием Фихте, и
Фребель, бывший под влиянием Шеллинга и отчасти Гегеля, укрепили в
педагогике взгляд на воспитание как на развитие. Под влиянием, с одной
стороны, такого взгляда на воспитание, а с другой стороны, под влиянием
эволюционного естествознания начинает создаваться генетическая
психология, преимущественно в США (особенно среди психологов,
группировавшихся вокруг Стенли Холла). Одним из основных отделов
генетической психологии, изучающей развитие психических явлений, является
детская психология. В отличие от педагогической психологии детская
психология не имеет узкоприкладного характера, отражает в своих теориях
слияние эволюционного естествознания и немецкого идеализма и изучает
преимущественно (но не исключительно) самое раннее детство.
Сравнительно рано (в конце XIX в.) в кругах Стенли Холла стали
приходить к сознанию невозможности изучать психическое развитие ребенка
оторванно от физического развития его. В результате было предложено
создать новую науку — педологию, которая была бы лишена этого
недостатка и давала бы более полную картину возрастного развития ребенка.
Феодальная Россия с ее домостроевской педагогикой так же мало
интересовалась психологией ребенка, как и феодальный Запад. Как и там,
зарождение и развитие педагогической психологии в России связано с
демократическим движением: сделавшая в свое время эпоху книга
Ушинского «Человек как предмет воспитания » выходит в 1860-х годах, а увлечение
экспериментальной педагогикой вспыхивает в эпоху 1905 г. Исходя из
положения, что для того, чтобы воспитать ребенка во всех отношениях, надо
знать его во всех отношениях, Ушинский дает в своей книге «опыт
педагогической антропологии », причем, как делалось в то время и на Западе,
скорее дает педагогическое истолкование главнейших положений общей
психологии, нежели специальное изложение детской психологии, а тем более
антропологии. Изучение психологических особенностей детского
возраста характеризует уже педагогическую психологию (или
экспериментальную педагогику) XX в. Существуя в условиях царизма, русская
педагогическая психология не имела, конечно, достаточно благоприятных условий
для своего развития. Она была скорее популяризацией
западноевропейских и американских работ, нежели ведущей самостоятельную крупную
исследовательскую работу наукой. Особенно большое влияние оказали на
нее работы Меймана. В России представителем этого периода был А.П.
Нечаев.
Нашла себе отклик в России и попытка создать вместо педагогической
психологии экспериментальную педагогику и особую науку — педологию.
699
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Особенно горячим пропагандистом педологии в дореволюционное время
был Румянцев. Но интенсивное развитие педологии в России стало
возможным только после Октябрьской революции. Своеобразной
особенностью начального периода советской педологии является интенсивное
участие в создании ее работников Наркомздрава, в частности Отдела охраны
здоровья детей и подростков. Тяжелое положение, в котором оказалась
молодая Республика Советов в первые годы своего существования,
тяжело отозвалось и на детях: В то же время нигде в мире ребенок не
пользовался таким вниманием и не был окружен такой заботой, как у нас. В связи с
проблемой охраны здоровья детей подвергся усиленной разработке вопрос
о физическом развитии детей, в частности вопрос о стандартах и
показателях этого развития, а также о причинах, влияющих на ход его. В условиях
того времени нетрудно было выявить огромное значение питания для
роста и развития ребенка. Значение благоприятных экономических условий
выявилось с полной очевидностью.
Разработка стандартов физического развития потребовала применения
более усовершенствованных статистических приемов. Статистика
завоевывает прочное положение в изучении развития ребенка, главным образом роста
его. Знание различных явлений роста детей становится более точным. В то же
время отчасти самостоятельные работы советских ученых, отчасти работы
заграничных ученых выяснили огромное значение для роста желез
внутренней секреции. Так разрабатывалась одна из самых основных проблем
педологии — проблема роста (Штефко, Николаев, Мильман, Маслов).
Для раннего периода советской педологии характерны уже названия
тогдашних наиболее крупных педологических вузов и отделений:
медико-педологический институт, педолого-дефектологическое отделение. Это влияние
врачей на зарождающуюся советскую педологию было в основном полезным.
Оно расчищало почву для построения материалистической педологии,
свободной от спиритуализма дореволюционной психологии. Но поскольку взгляд
на ребенка становился решительно материалистическим, все легче и легче
оказывалось связать учение о росте и физическом развитии ребенка с
психологией его. Все легче и легче становилось оформиться педологии как особой
самостоятельной науке, притом материалистической.
Начинают выходить работы, претендующие на то, чтобы дать общую
концепцию детского возраста. Из этих работ можно отметить
«Дошкольный возраст» Аркина, «Педологию» Блонского, «Рефлексологию
детского возраста » Арямова.
Опираясь на естествознание, молодая советская педология вела
энергичную борьбу с идеализмом и все решительнее становилась на путь
материализма. Но тот естественно-научный материализм, которым тогда проникалась
педология, был еще не диалектическим, а механистическим материализмом.
Он рассматривал ребенка как своего рода машину, деятельность которой
все700
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
цело определяется воздействием внешних стимулов. Особенно ярко эта
механистическая концепция проявилась в работах педологов, тяготевших к
рефлексологии. Механистический материализм, сводящий человеческую жизнь
к машинной деятельности, насаждал в педологии крайне упрощенные и
неверные взгляды: достаточно сказать, что даже исследование таких сложных
явлений человеческой жизни, как труд, политическая деятельность или научное
исследование, он хотел (конечно, безуспешно) свести только к рефлексам. Он
внушал взгляд на живое существо, в частности на ребенка, как на пассивное
существо, игнорируя активность его. Сводя все на действие только внешних
стимулов, механистический материализм игнорирует проблему развития,
подменивая диалектику развития исключительным изучением действия
раздражителей. Так, от механистов в педологии ускользает проблема изучения
законов развития ребенка. В педагогике механистический материализм сводит
проблему воспитания к проблеме дрессировки, служа, таким образом,
реакционным педагогическим взглядам.
Стремление строить педологию на естественно-научной основе
привело к так называемому биологизму. Под биологизмом надо понимать
такое направление, которое, стремясь объяснять все биологическими
данными, сводит все на последние как на самое основное. Ошибка
биологизма состоит в том, что, дойдя до биологических свойств, он
останавливается на них, тогда как они, в свою очередь, обусловливаются у человека
социально-историческими условиями его существования. Так, «сначала
труд, а затем и рядом с ним членораздельная речь явились самыми
главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны мог постепенно
превратиться в человеческий мозг» (Ф. Энгельс). «Разделение труда в
капиталистической мануфактуре ведет к уродованию и калечению
рабочего, — в том числе и детальника-"кустаря". Появляются виртуозы и
калеки разделения труда, первые — как редкостные единицы, возбуждающие
изумление исследователей, вторые — как массовое появление "кустарей",
слабогрудых, с непомерно развитыми руками, с "одностороннею
горбатостью" и т. д. и т. д.» (Ленин. Развитие капитализма в России. Соч. Т. III.
С. 334).
Если в первые годы своего существования советская педология
находилась в сильной степени под влиянием естествознания и медицины, то в
последующее время на нее решительно влияет педагогика. По мере того как
строилась и укреплялась советская школа, она, а также и детский сад и другие детские
учреждения стали испытывать большую потребность в помощи педологии.
Педология все решительней и решительней становилась педагогической
наукой, а педолог начинал входить в качестве практического работника в детские
учреждения. Масштаб педологической работы как исследовательской, так и
практической очень расширялся. Достаточно сказать, что пленум I
педологического съезда в 1928 г. доходил до 2000 человек.
701
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Втягиваясь в практику нашего строительства, педология становилась
все более и более общественной наукой. Биологизм подвергся
интенсивнейшей критике. Среди критиков биологизма особенно выделился А.Б.
Залкинд («Основные вопросы педологии »). Усиленно подчеркивалась мысль,
что биологические свойства не являются вечными, но изменяются в
зависимости от исторических условий, что наследственность не является
роковой судьбой («фатум», рок), что огромнейшую роль играют влияния
окружающей социальной среды и, в частности, воспитание. Ко времени
I педологического съезда (1928) педологические кадры сильно разрослись.
Разрослась и научно-педологическая продукция (работы Моложавого,
Блонского, Басова, Выготского, Щелованова, Арямова, Аркина). В ряде
педагогических вузов открылись педологические отделения, которые
выпускают практических работников по педологии в детских учреждениях.
Во многих местах открываются педологические кабинеты и лаборатории.
Педологическая работа принимает не виданный нигде и никогда размах.
Педология повернулась лицом к педагогике. Однако столь сильное
влияние педагогики на педологию иногда перерастало в отождествление,
полное или частичное, педологии с педагогикой или, наоборот, педагогики с
педологией. Отсюда пошли такие неправильные определения педологии, как,
например, «педология — часть педагогики » или «педология — теория
педагогического процесса». Неправильность таких определений состоит в том,
что педагогика имеет ряд проблем (например, цели воспитания, содержание
образования и т. п.), в решении которых роль педологии — лишь
второстепенная, а с другой стороны, даже там, где педология и педагогика очень тесно
соприкасаются (например, процесс обучения), их проблемы неидентичны
(у педагогики — как учитель должен учить, у педологии — как ребенок учится).
Стремление педологии приносить максимальную пользу советской
педагогике заслуживает всяческой похвалы, но и здесь допускался все же ряд
ошибок. У значительного числа педологов замечалось пренебрежительное
отношение к теории: они придерживались узкоутилитарного взгляда на науку,
забывая, что только стоящая на высоком теоретическом уровне наука может
обслуживать как следует практику (пример: математика и техника). Многие
педологи смотрели не столько на научную доброкачественность выводов,
которые помогли бы педагогическую практику поднять на большую
теоретическую высоту, сколько на получение скороспелых данных, которые весьма
часто без серьезного научного анализа, без проверки широко применялись на
практике и дискредитировали педологию как науку.
За пренебрежение к теории приходилось расплачиваться
серьезнейшими методологическими ошибками. Критика механистического
материализма не всегда велась с правильных позиций диалектического
материализма. Под флагом борьбы с механицизмом и биологизмом иногда
протаскивался меньшевиствующий идеализм.
702
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Осознание этих ошибок в бывшей в 1930-1931 гг. дискуссии в
педологии привело педологию к решительному убеждению, что только
вооруженная диалектическим материализмом, только стоящая на высоком
методологическом уровне педология нужна практике нашего социалистического
строительства. Историческое письмо т. Сталина оказало огромное
влияние и на педологию.
Педологи самым энергичным образом изучают сочинения
основоположников марксизма, ища в работах Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина
руководящих указаний, исходных принципиальных установок. Теперь уже
нет сомнений в том, что диалектический материализм — философская
основа нашей педологии, что наша педология должна быть
марксистско-ленинской педологией, ведущей борьбу на два фронта — против идеализма и
против механистического материализма.
Исторические постановления ЦК партии о школе от 5 сентября 1931 г.,
25 августа 1932 г. и 12 февраля 1933 г. кладут конец антиленинским
педагогическим теориям и их влияниям на педологию. Отныне директивы ЦК о
«приведении объема и характера учебного материала в полное соответствие с
возрастными особенностями детей » и разработке «методик по отдельным
дисциплинам, а также по различным видам учебно-воспитательной работы
применительно к возрастным особенностям детей », о необходимости
педагогу «в процессе учебном работы внимательно изучать каждого ребенка», об
обеспечении «тщательного подбора доступного детям материала » должны
определить план и задачи педологической работы, ее служение педагогике.
2. Отношение педологии к другим наукам
и ее задачи на данном этапе социалистического строительства
Педология — молодая, но очень быстро развивающаяся в советских
условиях наука. В процессе своего развития педология приобретает
такое широкое содержание, которое уже не вмещается в рамки только
психологии. Достаточно указать хотя бы проблему роста — одну из самых
основных педологических проблем. Конечно, она пользуется
достижениями психологии, но она пользуется также данными и различных
других наук. Изжит сейчас и взгляд на педологию как на «синтез» данных о
ребенке из различных наук. Этот взгляд на предмет педологии возник в
те годы, когда рождающаяся педология, не имея еще собственной
развернутой педологической исследовательской работы, училась у других
наук. Понятно, что педология в настоящее время идет дальше этих
«годов ученичества ».
Однако вряд ли еще возможно требовать от педологии, чтобы она дала на
данном этапе своего развития безупречно верное и точное определение своего
предмета. Такое определение могут давать только уже вполне
определившие703
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ся науки, причем даже им эти определения даются с большим трудом. Даже в
такой науке, как математика, ведется сколько угодно споров по поводу того,
как определить предмет алгебры, арифметики и т. д. Вместо погони за
скороспелыми «дефинициями », которые так любил высмеивать В.И. Ленин, мы на
данном этапе можем удовлетвориться рабочим определением, пусть не
вполне безупречным в смысле точности, но достаточно отграничивающим
педологию от других наук и достаточно выявляющим своеобразие предмета
ее. В качестве такого рабочего определения сейчас наиболее распространено
следующее: педология - наука о возрастном развитии ребенка в условиях
определенной социально-исторической среды.
Такое определение педологии ставит нас лицом к лицу с проблемой
развития. Но проблема развития —философская проблема. Педология не
только не должна чуждаться философии, но именно философия, притом
определенная философия — диалектический материализм, составляет
основу педологии: «Диалектические законы являются реальными законами
развития природы» (Ф. Энгельс). Педолог должен очень хорошо помнить
то, что сказал Энгельс об отношении между философией и
естествознанием: «Естествоиспытатели воображают, что они освобождаются от
философии, когда игнорируют или бранят ее. Но так как они без мышления не
могут двигаться ни на шаг, для мышления же необходимы логические
определения, а эти определения они неосторожно заимствуют либо из
ходячего теоретического достояния так называемых образованных людей, над
которыми господствуют остатки давно прошедших философских систем,
либо из крох обязательных университетских курсов по философии (что
приводит не только к отрывочности взглядов, но и к мешанине из
воззрений людей, принадлежащих к самым различным и по большей части самым
скверным школам), либо из некритического и несистематического чтения
всякого рода философских произведений, — то в итоге они все-таки
оказываются в плену у философии, но, к сожалению, по большей части —
самой скверной; и вот люди, особенно усердно бранящие философию,
становятся рабами самых скверных вульгаризированных остатков самых
скверных философских систем». Таким образом, «как бы ни упирались
естествоиспытатели, но ими управляют философы. Вопрос лишь в том,
желают ли они, чтобы ими управлял какой-нибудь скверный модный
философ или же они желают руководствоваться разновидностью
теоретического мышления, основывающейся на знакомстве с историей мышления
и его завоеваний» (Маркс К., Энгельс Ф. Т. XIV. С. 415, 502).
Но если философия — основа педологии, то, в свою очередь,
педология дает известный материал для философии. Указывая «те области, из
коих должна сложиться теория познания и диалектика », В.И. Ленин в
числе таких областей указывал историю умственного развития ребенка
(Ленинский сб. XII. С. 315).
704
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Таким образом, диалектический материализм ставит педологию на
методологически правильные позиции, и только при помощи
диалектического материализма педология может в своей области успешно вести
работу против идеализма и механистического материализма. В свою очередь,
педология, изучая историю умственного развития ребенка, даст материал
для диалектики.
Изучая развитие ребенка в определенных общественно-исторических
условиях, педология является общественной наукой. Одна из основных ее
задач сейчас — вскрыть, как идет развитие детей «у них» — в капиталистических
странах, в условиях эксплуатации человека человеком, и «у нас » — в СССР,
в условиях второй пятилетки и стоящей перед ней задачи построения
бесклассового общества. Вряд ли нужно доказывать, что педолог должен быть
политически сознательным, хорошо ориентирующимся в вопросах экономики,
политики и идеологии. Только зная, как идет социалистическое строительство
в нашей стране, как заново строится вся наша жизнь, можно понять,
почему наши дети развиваются так, а не иначе.
Но изучение развития ребенка не ограничивается только
современностью. Не говоря уже о том, что современность может быть понята только с
исторической точки зрения, только в свете исторического материализма, надо
помнить, что, как мы будем в этом убеждаться все время при изучении
педологии, не зная истории человечества, нельзя понять истории развития ребенка:
до того тесно последнее связано с первым. Таким образом, история является
одной из самых основных наук для педологии. Только стоя на исторической
точке зрения, вооружившись солидными историческими знаниями,
педология может как следует понять историю развития ребенка.
Таким образом, биологизм в педологии, т. е. попытки строить
педологию как на единственной или самой главной основе — на биологии, надо
решительно отвергнуть. Но это не значит, что биология не имеет значения
для педологии. «Материалистическое устранение "дуализма духа и тела"
(т. е. материалистический монизм) состоит в том, что дух не существует
независимо от тела, что дух есть вторичное, функция мозга, отражение
внешнего мира» (Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Соч.
Т. XIII. С. 73). Знание деятельности нервной системы необходимо
педологии. Ей необходимо вообще знание особенностей детского организма.
Короче говоря, педология в изучении развития ребенка пользуется большим
биологическим материалом.
«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело
заключается в том, чтобы изменить его» (К. Маркс). Педология совершенно
правильно понимает свою задачу, когда стремится помогать педагогической
практике. Меньше всего это значит растворить педологию в педагогике: мы
знаем уже, в чем ошибка этой тенденции и как разграничиваются области
этих наук.
23 Российская психология
705
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Какие же задачи стоят в данный момент перед педологией? Ответ на
этот вопрос дает постановление коллегии Наркомпроса о состоянии и
задачах педологической работы от 7 мая 1933 г. В этом документе коллегия
Наркомпроса постановляет:
I. Практическая педологическая работа
1. В соответствии с задачами, стоящими перед школой, педологическая
работа в массовой школе должна охватить следующие основные разделы:
а) изучение учащихся в школе в целях поднятия качества
образовательной и воспитательной работы и укрепления сознательной дисциплины;
б) работа с «трудными» детьми и работа по профилактике детской
воспитуемости;
в) работа по ознакомлению с основами педологии педагогов,
пионервожатых и родителей («педологическая азбука»);
г) профориентационная работа.
2. Изучение учащихся в школе должно разрешить следующие задачи:
а) комплектование школьных классов на основе изучения учебной
подготовленности учащихся, уровня умственного развития, общественной
направленности и организованности, изучения социально-бытовых
условий и данных о физическом развитии и состоянии здоровья детей;
б) консультация по вопросам разработки данных текущего и годового
учета;
в) изучение причин неуспеваемости отдельных учащихся и
разработка мероприятий по борьбе с ними;
г) анализ отдельных отрезков учебной работы (тема, урок) по
отдельным дисциплинам в целях выяснения степени соответствия организации,
содержания и методов работы возрастным особенностям детей;
д) консультация по организации работы по политехнически трудовой
подготовке в части оборудования и инструментария в рабочих комнатах и
мастерских, оборудования рабочих мест, отобранных для производственной
практики школьников, в соответствии с возрастными особенностями детей;
е) анализ домашних заданий школьников под углом зрения
посильности, равномерности их распределения по дням рабочей недели т. д.;
ж) изучение объема и содержания общественных нагрузок учащихся в
целях приведения их в соответствие с интересами, возможностями и
возрастными особенностями детей;
з) разработка практических мероприятий по рационализации
расписания занятий, общего режима школы и правил внутреннего распорядка;
и) конкретная помощь педагогу в разрешении основных вопросов
воспитательной работы и сознательной дисциплины с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей;
706
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
к) участие в планировании внешкольных мероприятий с учетом
особенностей каждой возрастной ступени, условий среды и индивидуальных
особенностей детей (детский театр, детский киносеанс, утренники,
художественные вечера, физкультура, детский туризм и т. п. применительно к
различным возрастам);
л) изучение работы детских организаций в школе и помощь педагогу и
пионервожатому в деле рационализации этой работы.
Особо должно быть обращено внимание на постановку
педологической работы в образцовых и опытных школах с тем, чтобы через
последние элементы педологии (в первую очередь отбор детей, причины
неуспеваемости, организации труда в соответствии с возрастом)
проникли в массовую школу. Работа с «трудными детьми» и работа по
профилактике детской трудновоспитуемости должна вестись по линии: учета
и индивидуального изучения педагогически трудных детей; консультации
по вопросам причин «трудности» с педагогами и родителями и
систематической работы по исправлению поведения трудновоспитуемых
школьников (индивидуальная работа с ними в школе, лечебные мероприятия и т. п.).
3. Работа по ознакомлению с основами педологии педагогов и
родителей должна иметь в виду:
а) систематическую проработку с педагогами данных педагогического
изучения детей и основных вопросов педологии;
б) работу с родителями и населением через педолого-педагогические
консультации как непосредственно в школе, так и в рабочих клубах,
предприятиях и жактах.
4. Профориентационная работа в выпускных классах школы ведется
по линии:
а) профпросветительной работы — организация лекций, бесед,
экскурсий, пропаганда соответствующей литературы и т. п.;
б) изучение склонностей и интересов школьника и его способностей
путем постановки специальных исследований;
в) справочно-консультационной работы.
5. При определении конкретного плана работы педолога в школе
необходимо учитывать следующие условия:
а) степень актуальности того или иного вопроса для данной
конкретной школы;
б) степень теоретической и методической разработанности вопросов
и уровень подготовки работников;
в) реальный бюджет времени.
6. Практическая педологическая работа в дошкольных учреждениях,
в детдомах и во всей сети специальных вспомогательных учреждений в
основном должна развертываться по тем же линиям, как и в массовой школе,
с учетом специфических особенностей каждого учреждения.
iv 707
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
II. Научно-исследовательская работа
1. Научно-исследовательская работа по педологии должна
развертываться в тесной связи с задачами практической педологической работы
в школе. Содержание ее должно определяться наиболее актуальными
практическими вопросами школы и интересами методического и
теоретического обслуживания педологической практики. Исследовательская
работа должна строиться в значительной мере на изучении и обобщении
опыта, накопленного практическими работниками школы. Сообразно с
этими задачами внимание исследовательских учреждений наряду с
разработкой важнейших теоретических вопросов педологии в основном
должно быть направлено на анализ и научное обоснование важнейших
узловых моментов в практике образовательной и воспитательной работы
школы, а также на разработку системы и методов профориентационной
работы.
2. В области педологического изучения содержания, методов и форм
организации учебной работы наиболее актуальными представляются
следующие проблемы:
а) приведение в соответствие с возрастными особенностями учебных
программ по основным дисциплинам школьного обучения: по математике,
родному языку, истории, естествознанию и по политехническому труду;
б) педологические основы построения методов и форм текущего и
итогового учета школьной успеваемости и организация переводных и
выпускных испытаний;
в) специфические программно-методические особенности в работе
дошкольных учреждений и приготовительных классов школы в связи с
возрастными особенностями детей;
г) педологические основы дозировки учебных нагрузок учащихся
(задания на дом, дополнительные занятия и пр.).
3. В области воспитательной работы к числу наиболее существенных
вопросов должны быть отнесены следующие:
а) вопросы формирования мировоззрения учащихся;
б) педологические предпосылки формирования сознательной
дисциплины учащихся;
в) работа детских организаций и общественная работа детей (ее
содержание, организация, нагрузка) с точки зрения ее соответствия
интересам и возрастным возможностям детей и ее воспитательной
значимости;
г) педологические основы полового воспитания в массовой школе;
д) педологические основы физического воспитания детей;
е) изучение детского актива и его роль на отдельных, конкретных
участках работы школы (в учебной работе, в детских организациях и т. д.);
708
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ж)типология трудного детства в связи с проблемой
индивидуализации педагогической работы с различными категориями «трудных» детей и
типизация сети специальных учреждений для трудных.
4. В отношении профориентационной работы в школе
исследовательская работа должна быть развернута по следующим основным вопросам:
а) изучение склонностей, интересов и способностей учащихся
общеобразовательной школы в связи с задачами профориентационной работы;
б) методы изучения специальных дарований в целях
профориентационной работы;
в) принципы и методы профконсультационных заключений.
5. Важнейшими проблемами теоретического характера,
подлежащими разработке, в первую очередь являются:
а) изучение закономерностей, лежащих в основе возрастного
деления детей;
б) разработка основных методов педологического изучения детей
разных возрастов применительно к конкретным задачам педологической
практики в школе.
II. Методы педологии
1. С чего начинать изучение?
В полемике с Михайловским, требовавшим чисто априорных,
догматических, абстрактных построений, В.И. Ленин писал:
«Начинать с вопросов: что такое общество, что такое прогресс? —
значит начинать с конца. Откуда возьмете вы понятие об обществе и
прогрессе вообще, когда вы не изучили еще ни одной общественной
формации, в частности, не сумели даже установить этого понятия, не сумели
даже подойти к серьезному фактическому изучению, к объективному
анализу каких бы то ни было общественных отношений? Это самый
наглядный признак метафизики, с которой начинала всякая наука: пока не
умели приняться за изучение фактов, всегда сочиняли а priori общие
теории, всегда остававшиеся бесплодными. Метафизик-химик, не умея еще
исследовать фактически химических процессов, сочинял теорию о том,
что такое за сила химическое сродство? Метафизик-биолог толковал о
том, что такое жизнь и жизненная сила? Метафизик-психолог
рассуждал о том, что такое душа? Нелеп тут был уже прием. Нельзя рассуждать
о душе, не объясняя, в частности, психических процессов: прогресс тут
должен состоять именно в том, чтобы бросить общие теории и
философские построения о том, что такое душа, и суметь поставить на научную
почву изучение фактов, характеризующих те или другие психические
процессы» (Ленин В.И. Соч. Т. I. С. 64).
709
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В истории педологии можно найти немало примеров такого
метафизического подхода к проблеме, когда начинали изучение с чисто априорных
определений. Так, например, несколько лет назад некоторые педологи бились
над проблемой, что такое коллектив, в то время как еще очень слабо были
изучены конкретные детские коллективы, когда изучение их было еще только
в зародыше. Начинать с априорных определений («дефиниций ») и заниматься
чисто словесными разграничениями («дистинкциями») близких по смыслу
терминов — было любимым занятием схоластической науки. Не надо,
конечно, думать, что наука вообще должна чуждаться определений. Определения в
науке необходимы, но не с них надо начинать: они — не начало, а результат
глубокого научного изучения вопроса, так как, не зная сущности явлений,
нельзя дать определения этого явления по существу.
С чего же надо начинать изучение? На этот вопрос мы находим у В.И.
Ленина вполне определенное указание: «Чтобы понять, нужно эмпирически
начать понимание, изучение, от эмпирии подниматься к общему. Чтобы
научиться плавать, надо лезть в воду» (Ленинский сборник. Т. IX. С. 227).
В нашей научно-исследовательской работе мы должны руководствоваться
следующей формулировкой В.И. Ленина: «От живого созерцания к
абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь
познания истины, познания объективной реальности» (Там же. С. 167);
«Практика человека и человечества есть проверка, критерий
объективности познания» (Там же. С. 239).
2. Наблюдение и эксперимент в педологии
Изучение развития ребенка следует начинать с наблюдения
конкретных фактов этого развития. Научное наблюдение отличается от простого
созерцания тем, что оно целесообразно и планомерно: научное
наблюдение всегда имеет своей целью решение какой-либо научной проблемы и
ведется по определенному плану и в определенной последовательности.
На первых порах изучения какого-либо явления, когда мы еще очень
плохо знаем его, чаще всего приходится прибегать к так называемому
простому наблюдению, не вооруженному современной экспериментальной
техникой. При простом наблюдении исследователь находится в позиции
пассивного созерцателя того, что происходит перед его глазами. Мать,
ведущая дневник наблюдений над развитием своего грудного ребенка, или
дошкольница, ведущая запись наблюдений над детскими играми, —
примеры таких наблюдений. В такой роли могут быть и очень
квалифицированные наблюдатели: так, например, Дарвин наблюдал развитие ребенка.
Когда исследователь нуждается в очень большом количестве
наблюдений, он не может один собрать весь этот материал и вынужден добывать его от
других лиц, имеющих дело с детьми данной категории. В таких случаях он
710
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
обыкновенно обращается к ним с анкетой, устной или — чаще всего —
письменной. Анкета очень популярна благодаря тому, что при помощи ее
сравнительно быстро можно получить большой материал. Однако для того,
чтобы анкета дала действительно ценный материал, она должна
удовлетворять ряду требований. Важнейшие из этих требований таковы: 1) анкета
должна обращаться к возможно более однородной группе и быть
приспособленной именно к этой группе; 2) вопросы должны быть определенными
настолько, чтобы можно было понять их только в одном определенном
смысле; 3) они должны не затруднять опрашиваемых ни своим количеством,
ни своим содержанием; 4) они не должны быть внушающими или
толкающими на неискренние ответы; 5) анкетируемые должны сознательно и
сочувственно относиться к анкете. Выработать анкету, удовлетворяющую
всем предъявляемым к ней требованиям, очень нелегко. Добавим к этому,
что анкета благодаря расчлененности ее на ряд вопросов обыкновенно дает
очень разрозненный материал вне связи. Наконец, анкета, собирающая
материал о детях от родителей и малоквалифицированных педагогов,
должна учитывать, что все это не очень надежные наблюдатели. Вследствие всех
этих недостатков увлечение анкетами характерно как раз для самых
первых этапов развития педологии: в США ею увлекались Стенли Холл и
группировавшиеся вокруг него американские педологи, у нас ее очень
пропагандировал Рыбников.
В тех случаях, когда нам нужно поглубже узнать переживания
изучаемого субъекта, мы расспрашиваем его о них, пользуясь его
самонаблюдением (так называемой интроспекцией). В таких случаях лучше всего
сначала дать ему возможность свободно рассказать о своем
переживании и только уже после этого перейти к опросу его, к задаванию ему
интересующих нас вопросов. В психологии раньше увлекались
самонаблюдением, считая, что самонаблюдение — основа психологии. Но сейчас к
самонаблюдению относятся очень критически: 1) человеку трудно
объективно относиться к своим собственным переживаниям; 2) много
бессознательных переживаний ускользает от самонаблюдения или неверно
улавливается им; 3) но даже в тех случаях, когда речь идет о сознаваемых
переживаниях, трудно двоиться — одновременно и переживать, и
наблюдать. В современной психологии пользование самонаблюдением играет
скромную роль. В педологии же роль самонаблюдения еще более
скромная, так как дети, конечно, в своих переживаниях разбираются очень плохо
и так же плохо рассказывают о них. Но совершенно отказаться от
детского самонаблюдения, как предлагают многие психологи и педологи, было
бы, пожалуй, крайностью: не говоря уже о подростках с характерным
для них интересом к психическим переживаниям, даже некоторые
показания более младших возрастов в ряде случаев дают известный материал
для педологии.
711
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Своеобразной формой использования самонаблюдения в педологии и
детской психологии является использование тех или иных воспоминаний
взрослых о своем детстве (так называемая ретроспекция). Однако к этим
воспоминаниям надо относиться с большой осторожностью, так как здесь
помимо ряда вышеуказанных недостатков могут иметь место ошибки
памяти.
Таким образом, анкетами и самонаблюдением в педологии надо
пользоваться очень осторожно. Но даже непосредственное наблюдение
самого исследователя не является совершенным методом изучения.
Будучи пассивным созерцателем, он вынужден наблюдать изучаемые явления в
случайной, нередко в очень неудобной обстановке, не говоря уже о том,
что иногда изучаемое явление может и вовсе отсутствовать или быть
выражено в неясной для наблюдения форме. Такое наблюдение обыкновенно
берет у наблюдателя очень много времени и дает не соответствующие
затраченному времени результаты. Наконец, — и это, пожалуй, самое
главное, — простое пассивное наблюдение встречает очень часто изучаемое
явление в очень сложной связи с массой других явлений, настолько
сложной связи, что проанализировать ее оказывается очень трудно, особенно
если изучаемое явление при этом неярко, бледно выражено. Вот почему,
хотя простое наблюдение очень привлекает педологов именно своей
простотой, но как раз потому, что это очень простой, несовершенный метод,
успешное пользование им требует большого опыта. Неопытный педолог
обыкновенно теряется в сложности тех связей, в которых представляется
ему для изучения данное явление. Его необходимо снабдить
предварительно схемой наблюдений, но и это не приносит большой пользы:
непредусмотренное схемой (а предусмотреть схемой все детали наблюдения
малоизвестного явления трудно именно потому, что оно нам мало известно)
оставляется без внимания. Вот почему мы не можем удовлетвориться в
педологии простым пассивным наблюдением развития ребенка.
Лучше всего удается проанализировать связь данного явления с
другим, если мы видим изменение изучаемого явления. Видя, как появление
или исчезновение, вообще определенное изменение какого-нибудь
явления связано с определенным изменением изучаемого явления, мы тем
самым улавливаем связь этих явлений. Связь явлений легче всего и с
наименьшими ошибками улавливается тогда, когда мы видим, как изменяются
эти явления. Вот почему исследователь стремится в процессе изучения
вызывать, хотя бы искусственно, эти изменения. Искусственное
вызывание этих изменений делает возможным наблюдать явление в более
удобной обстановке, лучше следить за ходом его, повторять его нужное
количество раз и более точно учитывать его изменение. Такое наблюдение
исследуемого явления в искусственно создаваемых условиях его
изменения, дающих возможность более удобно и более точно учитывать ход
изу712
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
чаемого явления, называется экспериментирующим наблюдением, или,
короче, экспериментом. Естествознание и психология быстро двинулись
вперед с тех пор, как стали пользоваться экспериментом. Педология также
очень охотно пользуется экспериментом, продолжая в этом отношении
традиции экспериментальной педагогики.
В педологии несколько лет назад велся горячий спор о том, чему отдавать
предпочтение — простому или экспериментирующему наблюдению. Многие
педологи отстаивали простое наблюдение, указывая, что эксперимент как
искусственная процедура не дает возможности изучать естественный ход
явления. Надо признать, что именно советские педологи довели метод простого
наблюдения до высокой степени разработанности и усовершенствования
(Басов). С другой стороны, также многие педологи отстаивали преимущества
эксперимента, указывая на те достижения, которыми обязана этому методу
экспериментальная педагогика. Наметилось и промежуточное течение
(Артемов), ведущее свое начало еще от Лазурского и выдвигающее на первый
план так называемый естественный эксперимент. Естественный эксперимент
пытается создать удобные для вызывания данного явления условия так, чтобы
ребенок не ставился в искусственные лабораторные условия (например, во
время игры, классных занятий, беседы и т. п.) и по возможности не замечал, что
над ним экспериментируют.
Этот спор носил метафизический характер: вместо того чтобы спорить,
какой из этих методов самый лучший вообще, при всяких условиях, надо
выяснить, при каких условиях какой из этих методов оправдывает себя в
педологии. Раннее детство (за исключением самых первых месяцев) изучается
главным образом при помощи простого наблюдении: здесь имеют большое
распространение так называемые дневники матерей, и даже самые
выдающиеся работы по этому возрасту создавались преимущественно посредством
простого наблюдения. Таковы, например, работы Дарвина, Прейера («Душа
ребенка » — до трех лет), Шинн («Записки о развитии ребенка » — тот же возраст),
Ш. Бюлер, Гетцер и Тудор Харт («Soziologische Studien über das erste
Lebensjahr»). Действительно, этот возраст очень удобен для простого
наблюдения: ребенок все время на глазах, а факты его развития еще сравнительно
просты и довольно легко доступны пониманию. Но уже по отношению к
дошкольному возрасту простое наблюдение оказывается решительно
неудовлетворяющим: так, часто ведшиеся записи наблюдений воспитательниц
дошкольниц в конечном итоге науке мало что дали. Исследователи этого возраста охотно
пользуются одновременно и простым, и экспериментирующим наблюдением
(Штерн, Психология раннего детства), иногда же склоняются то в пользу
простого наблюдения (Басов, Моложавый), то в сторону эксперимента (Б.
Болдвин, Гезелл). Но о школьном возрасте подавляющее большинство работ —
экспериментальные работы. Это вполне понятно: жизнь более старшего
ребенка настолько подвижна, сложна и разнообразна, что простым
наблюдени713
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ем трудно охватить ее так же, как трудно в роли пассивного наблюдателя
разобраться во всех ее сложных проявлениях. Таким образом, нельзя ставить
вопрос, какой из этих двух методов лучше при любых условиях. Простым
наблюдением пользуются, если наблюдаемые явления сравнительно несложны
и их нетрудно охватить наблюдением во всем их разнообразии. Наоборот,
экспериментом стремятся пользоваться там, где этих условий нет. Кроме того,
наблюдением пользуются, когда явление еще очень мало известно и
требуется предварительная общая ориентировка в нем, так как наблюдение
улавливает лучше эксперимента общее положение вещей; эксперимент же чаще всего
служит решению какой-нибудь специальной проблемы в процессе более
углубленного изучения. Следовательно, так же вредно преждевременно
вводить эксперимент, как вредно довольствоваться простым наблюдением, когда
можно применить эксперимент. Примером такого преждевременного
пользования экспериментом может служить работа крупного американского
ученого Б. Боддвина «Дошкольный возраст». Эта книга, построенная почти сплошь
на экспериментальном материале, дает точное, весьма научное решение
многих частных проблем, относящихся к дошкольному возрасту, но читатель ее
никакого общего цельного представления о дошкольном возрасте из этой
книги не выносит.
IV. Основные понятия педологии
1. Развитие
Основное понятие педологии — понятие развития. Поэтому
чрезвычайно важно иметь правильную концепцию развития. При образовании
такой концепции надо руководствоваться тем, что писал об этом В.И. Ленин:
«Развитие есть "борьба" противоположностей. Две основные (или две
возможные? или две в истории наблюдающиеся?) концепции развития
(эволюции) суть: развитие как уменьшение и увеличение, как повторение, и развитие,
как единство противоположностей (раздвоение единого на
взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними). При первой
концепции остается в тени само движение, его двигательная сила, его
источник, его мотив (или сей источник переносится во вне — бог, субъект etc.).
При второй концепции главное внимание устремляется именно на
познание источника "само"движения. Первая концепция мертва, бедна, суха.
Вторая — жизненна. Только вторая дает ключ к "самодвижению" всего
сущего: только она дает ключ к "скачкам", к "перерыву постепенности",
к "превращению в противоположность", к уничтожению старого и
возникновению нового.
Единство (совпадение, тождество, равнодействие)
противоположностей условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба
взаимоисключаю714
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
щих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение»
(Ленин В.И. Соч. Т. XIII. С. 301-302).
Таким образом, концепция развития как уменьшения и увеличения и
как простого повторения должна быть отвергнута как мертвая, бедная,
сухая, оставляющая в тени самодвижение, его двигательную силу, его
источник и мотив. Единственно верной является вторая — диалектическая —
концепция развития.
Каковы же основные черты диалектической концепции развития?
«Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их
иначе, на более высокой базе ("отрицание отрицания"), развитие, так
сказать, по спирали, а не по прямой линии; — развитие скачкообразное,
катастрофическое, революционное, — "перерывы постепенности",
превращение количества в качество; — внутренние импульсы к развитию, даваемые
противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих
на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного
общества, — взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон
каждого явления (причем история открывает все новые и новые стороны),
связь, дающая единый, закономерный мировой процесс движения —
таковы некоторые черты диалектики как более содержательного (чем обычное)
учения о развитии» (Ленин В.И. Соч. Т. 26. С. 55).
Законы диалектики «по существу сводятся к следующим трем законам:
Закон перехода количества в качество и обратно.
Закон взаимного проникновения противоположностей.
Закон отрицания отрицания» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XIV.
С. 525).
Закон перехода количества в качество и обратно можно в данном случае
выразить так: «В природе могут происходить качественные изменения —
точно определенным для каждого отдельного случая способом — лишь путем
количественного прибавления, либо количественного убавления материи или
движения (так называемой энергии)» (Там же. Т. XIV. С. 526). «Тождество
противоположностей ("единство" их, может быть, вернее сказать? хотя
различие терминов тождество и единство здесь не особенно существенно — в
известном смысле оба верны) есть признание (открытие) противоречивых,
взаимоисключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и
процессах природы (и духа и общества в том числе). Условия познания всех
процессов мира в их "самодвижении", в их спонтанном развитии, в их живой жизни,
есть познание их как единства противоположностей. Развитие есть "борьба"
противоположностей» (ЛенинВ. И. Соч. Т. XIII. С. 301).
Отрицание отрицания есть «весьма общий и именно потому весьма
широко действующий и важный закон развития природы, истории и мышления»
(Энгельс). «Возьмем, например, ячменное зерно. Биллионы таких зерен
размалываются, развариваются, идут на приготовление пива, а затем
потребля715
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ются Но если одно такое ячменное зерно найдет нормальные для себя
условия, если попадет на благоприятную почву, то под влиянием теплоты и
влажности с ним произойдет изменение , — оно даст росток, зерно, как таковое,
исчезает, отрицается; на месте его появляется выросшее из него растение,
отрицание зерна. Но каков нормальный круговорот жизни этого растения? Оно
растет, цветет, оплодотворяется и, наконец, производит вновь ячменные
зерна, и, как только последние созреют, стебель отмирает, отрицается, в свою
очередь. Как результат этого отрицания отрицания мы здесь имеем снова
первоначальное ячменное зерно, но не одно, а сам-десять, сам-двадцать или
тридцать... Но возьмем какое-нибудь пластическое декоративное растение,
например далию или орхидею; если мы будем искусственно воздействовать на семя
и развивающееся из него растение, то, как результат этого отрицания
отрицания, мы получим не только большее количество семян, но и качественно
улучшенное семя, могущее производить более красивые цветы, и каждое
повторение этого процесса, каждое новое отрицание отрицания увеличивает это
совершенство. Так же, как и с ячменным зерном, процесс этот совершается и у
большинства насекомых, например у бабочек. Они появляются из яичка
путем отрицания его, проходят через различные фазы превращения до половой
зрелости, совокупляются и вновь отрицаются, т. е. умирают, как только
завершился процесс продолжения рода и самки положили множество яиц.
Что у других растений и животных процесс разрешается не так просто, что они
не единожды, но много раз производят семена, яйца или детенышей, прежде
чем умрут, — все это нас здесь не касается; нам только нужно было показать,
что отрицание отрицания действительно происходит в обоих царствах
органического мира» (Маркс К,, Энгельс Ф. Т. XIV. С. 135-136). Надо в свете этих
основных законов изучать фактическое развитие ребенка. Это и делает
вооруженная, диалектической концепцией развития педология.
2. Рост
Детство, по крайней мере у высших животных и человека, — эпоха
роста. Существенно важно поэтому с самого начала иметь правильное
понятие о росте. Некоторые ученые (Гексли, Девенпорт и др.)
определяют рост как увеличение объема, величины тела и т. д. Такое чисто
количественное понимание роста неправильно: при ожирении, например,
тело увеличивается, но тем не менее никто ожирение не станет называть
ростом. Рост — не просто увеличение, не просто количественное
прибавление материи; в результате этого увеличения, прибавления,
происходят существеннейшие качественные изменения, взрослый не только
больше ребенка, он — качественно иной, нежели ребенок. Ребенок — не
маленький взрослый. Это чрезвычайно убогая, неверная концепция
детства. Ребенок — качественно иной, чем взрослый.
716
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Проблема роста разработана пока слабо, и поэтому каких-либо
вполне обоснованных теорий роста мы еще не имеем. Существует лишь
ряд гипотез. Из этих гипотез, пожалуй, наиболее интересны гипотезы
Майнота и Мильмана. Майнот указывает, что развитие человека, как и
большинства многоклеточных животных, начинается с простых клеток,
которые возникают вследствие деления оплодотворенного яйца и из
которых развиваются ткани взрослого организма. Эти клетки в самые
ранние стадии жизни очень походят друг на друга, но впоследствии
дифференцируются. Эта дифференциация клеток является причиной
приостановки роста, так как дифференцированные ткани в
противоположность эмбриональным растут медленно. Дифференцируются же ткани
в результате роста протоплазмы: молодые недифференцированные
клетки содержат мало протоплазмы; дифференциация начинается только
после того, как выросла протоплазма. Исходным же пунктом роста
протоплазмы служит ядро: «Пищевые вещества должны сначала
проникнуть в ядро, чтобы после переработки в нем быть переданным
протоплазме». Таким образом, процесс роста можно представить так:
питательный материал после переработки в ядре передается
протоплазме, в результате чего протоплазма растет и дифференцируется, но
дифференцированные ткани растут медленно, и так рост влечет за собой
прекращение роста...
В проблеме роста мы вынуждены пока довольствоваться
сравнительно мало проверенными гипотезами. Эта проблема находится лишь в
начале своей разработки. Но и то немногое, что мы знаем, дает право
сделать вывод, что только диалектическая концепция роста
единственно правильна. Рост не есть только количественное прибавление материи:
количество переходит в качество. Рост вызывает ряд качественных
изменений. Рост есть развитие. Рост не есть прямолинейный процесс. В росте
мы все время видим взаимное проникновение противоположностей,
борьбу противоположностей внутри единого процесса. Рост с самого
же начала обусловливает прекращение роста, жить — с самого же
начала значит умирать, но переставший расти созревший организм дает
жизнь новым организмам, и жизнь снова возобновляется, но уже на
исторически высшей базе.
3. Конституция и характер
Рост вызывает ряд качественных изменений в растущем организме.
Совокупность качественных своеобразий организма образует его
конституцию (constitutio — установление, состояние, сложение).
Конституцией называют обыкновенно телосложение организма. От чего
зависит телосложение организма, конституция его? Во-первых, конечно, от
717
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
наследственности: совершенно ясно, что телосложение животных одного
вида или разновидности иное, чем телосложение животных другого вида
или разновидности. Ведь наследственность далеко не является
единственной причиной своеобразия данного телосложения, данной конституции.
Играет роль также пол: телосложение самцов и самок, мужчин и женщин,
мальчиков и девочек не одно и то же. Большую роль играет также
возраст: телосложение ребенка сильно отличается от телосложения
взрослого. Наконец, большую роль играют также условия жизни: так,
например, питание и работа сильно влияют на телосложение данного
индивидуума. Это можно видеть даже на животных, и животноводы
учитывают это, когда посредством изменения режима питания и работы
данного домашнего скота изменяют до известной степени его
телосложение, делая его более пригодным для работы (рабочий скот) или для
убоя (мясной скот). Ясно видим это и на людях. Голодание или
великолепное питание сильно изменяют телосложение данного субъекта. Так
же изменяют его телосложение работа или спорт. Ортопедическое
значение спорта очевидно. Что касается работы, то в качестве примера
влияния ее на телосложение можно привести указание В.И. Ленина в
работе «Развитие капитализма в России», как разделение труда в
капиталистической мануфактуре вызывает «массовое появление
"кустарей" слабогрудых, с непомерно развитыми руками, с "односторонней
горбатостью" и т. д., и т. д.» (Соч. Т. III. С. 334). Таким образом,
телосложение, конституция зависят от наследственности, пола, возраста и
условий жизни. Было бы неправильно ставить вопрос о том, что
исключительно влияет на конституцию: или наследственность, или пол, или
возраст, или условия жизни. Это была бы метафизическая постановка
вопроса. Правильная постановка вопроса — вопрос связи этих явлений,
взаимоотношений их.
4. Среда. Активность ребенка
Все вышеизложенные теории врожденности и неизменности
конституции и темперамента (или характера) глубоко метафизичны: в них
совершенно отсутствует идея развития. На самом же деле ребенок растет и
развивается в определенных условиях, которые, конечно, влияют на его
развитие. В противоположность учению о неизменной наследственности
выдвигается учение о влиянии среды. Де Кандолль (De Candolle. Histoire
des sciences et des savants depuis deux siecles — История наук и ученых за два
столетия) и Оден (Odin. Geneses des grands hommes — Происхождение
великих людей) еще в XIX в. на богатом фактическом материале показали
огромное влияние среды. В нашем курсе педологии мы все время будем в
этом убеждаться.
718
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Учение, что все развитие человека зависит от воспитания и внешних
обстоятельств, восходит к английскому философу XVII в. Локку
(«Происхождение человеческого рассудка») и его французскому
истолкователю Кондильяку («Essai sur l'origine des connaissances humaines» — «Опыт о
происхождении человеческих знаний»). Это же — одна из самых основных
мыслей французских материалистов XVIII в. «Не требуется большого
остроумия, чтобы усмотреть связь между учением материализма о
прирожденной склонности к добру, о равенстве умственных способностей людей,
о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии внешних
обстоятельств на человека, о высоком значении индустрии, о нравственном праве
на наслаждение и т. д. — и коммунизмом и социализмом. Если человек
черпает все знания, ощущения и пр. из чувственного мира и опыта,
получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир,
чтобы человек познавал в нем истинно человеческое, чтобы он привыкал в
нем воспитывать в себе истинно человеческие свойства... Если характер
человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать
обстоятельства человечными. Если человек по природе своей общественное
существо, то он, стало быть, только в обществе может развить свою
истинную природу, и о силе его природы надо судить не по отдельным личностям,
а по целому обществу.
Эти и им подобные положения вы можете найти почти дословно
даже у самых старый французских материалистов» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. III. С. 160).
Учение о влиянии внешних обстоятельств на развитие человека —
глубоко материалистическое учение. Однако материализм бывает разным:
механистическим и диалектическим, только естественно-научным и — также —
историческим. Только естественно-научный материализм толкает на
исключительно естественно-научное (а не общественно-историческое), весьма
аполитичное понимание среды: среда начинает пониматься как окружающая
ребенка природная обстановка. В ряде схем изучения среды ребенка
исключительное внимание уделяется квартире, гигиеническим условиям и т. п. Все
это, конечно, важные условия развития ребенка, но всем этим далеко не
исчерпывается понятие среды. Среду надо понимать
общественно-исторически, как локализированные общественные отношения, от которых, конечно,
зависят и квартира, и гигиенические условия развития. Среда — то
общество, в котором растет и развивается ребенок как активный член этого
общества.
Механистический материализм совершенно чужд диалектической
концепции развития. Критикуя этот материализм, Маркс писал:
«Материалистическое учение об изменении обстоятельств и воспитании забывает, что
обстоятельства изменяются людьми и что воспитателя самого надо
воспитывать. Оно вынуждено поэтому расколоть общество на две части, из
ко719
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
торых одна возвышается над ним. Совпадение изменения обстоятельства и
человеческой деятельности, или самоизменения, может быть постигнуто и
рационально понято только как революционная практика» (К. Маркс.
Соч. Т. IV. С. 590). Механистический материализм игнорирует деятельную
сторону человеческой жизни.
Не внешняя среда создала человека из обезьяны, и человечество вовсе
не пассивный продукт внешних условий. «Труд создал самого человека» —
таков основной тезис Энгельса в работе «Роль труда в процессе
очеловечения обезьяны» (Соч. Т. XIV. С. 452-464). Первый решительный шаг для
перехода от обезьяны к человеку состоял в том, что вследствие лесного
образа жизни (лазать, карабкаться) наши предки-обезьяны перестали
пользоваться руками при передвижении по поверхности, стали усваивать
прямую походку. Руки стали выполнять иные функции. Но операции, к
которым наши предки в долгую эпоху перехода от обезьяны к человеку
постепенно научились приспособлять свои руки, были вначале только очень
простыми. До того как первый булыжник при помощи человеческих рук
мог превратиться в нож, должен был пройти огромный период времени.
«Но решительный шаг был сделан, рука стала свободной и могла
совершенствоваться в ловкости и мастерстве, а приобретенная этим большая
гибкость передавалась по наследству и умножалась от поколения к
поколению. Рука, таким образом, является не только органом труда, она также
его продукт». Но то, что шло на пользу руке, шло также на пользу всему
телу. Так, начавшееся вместе с развитием руки и труда господство над
природой расширяло кругозор человека. С другой стороны, развитие труда
способствовало более тесному сплочению членов общества и привело их к
потребности что-то сказать друг другу, потребность же создала себе орган.
Следовательно, язык развился из процесса труда. «Сначала труд, а затем и
рядом с ним членораздельная речь явились самыми главными стимулами,
под влиянием которых мозг обезьян мог постепенно превратиться в
человеческий мозг». «Благодаря совместной работе руки, органов речи и мозга
не только у каждого индивидуума, но и в обществе люди приобрели
способность выполнять все более сложные операции, ставить себе все более
высокие цели и достигать их». Поскольку проблема очеловечения
обезьяны и развития человечества выходит за пределы педологии, мы не можем
входить в дальнейшее изложение работы Энгельса. Для педологии прежде
всего важна основная мысль Энгельса: труд создал человека. Так,
диалектический материализм в противоположность механистическому не
игнорирует деятельной стороны, но именно из нее исходит.
Механистический материализм в педологии развивает взгляд на
ребенка как на пассивный продукт среды, причем он создает своеобразный
дуализм («среда» и «ребенок»), как будто ребенок существует вне среды,
а среда противостоит ребенку как нечто постороннее ему. На самом же
720
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
деле ребенок — член этой самой среды и живет в ней. Он — член того
общества, в котором он растет и развивается. К тем влияниям, которые
оказывает на ребенка окружающее общество, ребенок относится далеко не
пассивно: он оказывает сопротивление одним из них, борется с другими, идет
навстречу третьим и т. д. Ребенок — активное существо.
Механистический материализм в педологии содействует тем течениям
в педагогике, которые при воспитании и обучении ребенка совершенно не
учитывают возрастных особенностей ребенка и его активности. Для такой
педологии и педагогики характерна тенденция сравнивать воспитание с
механической обработкой неживого материала (воска, глины и т. п.). Именно в
этот период, когда механистический материализм был силен в нашей
педологии, в педагогике проявилось невнимание к возрастным особенностям
воспитываемых и обучаемых детей. Ребенок — активный член общества. Такой
взгляд на ребенка содействует тем течениям в педагогике, которые строят
воспитание и обучение на учете возрастных особенностей ребенка и на
активности его — общественной, трудовой, интеллектуальной и т. д.
Воспитание понимается не как процесс механической внешней обработки, а как
процесс развития.
5. Подразделения детского возраста
Издавна было принято делить человеческую жизнь по семилетиям. Три
первых семилетия имеют в языке особые названия: детство (0-7 лет),
отрочество (7-14 лет) и юность (14-21 год). Кроме этих трех основных названий
язык имеет еще ряд возрастных обозначений: новорожденный, младенец,
малютка, подросток. Обыкновенно подростком называют ребенка около 14-
15 лет. Наименее определенными являются слова «младенец» и «малютка».
В старину младенцем назывался всякий ребенок, сейчас же это слово чаще
всего встречается в сочетании «грудной младенец». Таким образом,
народное подразделение, нашедшее себе отражение в языке, примерно таково:
Детство (0-7 лет)
Отрочество (7-14 лет)
Юность (15-21 год)
В детстве особо выделяются новорожденный и грудной возрасты
(младенец). Переходные годы от отрочества к юности (14-15 лет) также имеют
особое название (подросток).
Вопрос о подразделениях детского возраста, или, как иногда
выражаются, возрастной периодизации детства, несколько лет назад
оживленно обсуждался среди педологов. Некоторыми выдвигались новые
критерии подразделения, например неврологический, педагогический,
721
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
социально-психологический («изменение в социальном поведении и в
содержании детской активности») и т. п. Кладя в основу педагогический
принцип, мы получаем следующее подразделение:
1. Ясельный возраст.
2. Дошкольный возраст (младший и старший).
3. Школьный возраст (младший и старший).
4. Юношеский возраст.
Ни один из предложенных критериев не избежал критики.
Анатомофизиологические критерии (смена зубов, росто-весовые отношения и
т. д.), несмотря на их определенность, критиковались за то, что, в то
время как основным в возрастном развитии ребенка является становление
его самодеятельным членом общества, они расчленяют детство на
основании признаков, нехарактерных для социального развития ребенка.
Психологические критерии критиковались как за неопределенность их
(например, «овладение внешним миром» в период 7 лет), так и за то, что,
кладя в основу психологические качества, они провоцируют считать их
основными, а не производными и тем самым наталкивают на
идеалистическую концепцию детства. Педагогические критерии критиковались за
то, что педология, вместо того чтобы помогать педагогике в
установлении научно-обоснованных сроков для тех или иных детских учреждений,
берет без всякой критики сроки из текущей педагогической практики. Но
педагогические критерии не только грубо эмпирические, но и шаткие:
в Англии дошкольный возраст начинается в 2 года («школы для
малюток»), а во многих других странах — в 3 года; точно так же в разных
странах дети поступают в начальную школу в различном возрасте (6, 7, 8 и
даже 9 лет). Социально-психологические критерии в том виде, как они до
сих пор формулировались, обыкновенно представляли собой комбинацию
психологических и педагогических критериев и потому имели те же
недостатки, что и последние. Наконец, неврологические критерии
неприложимы уже по одному тому, что возрастное развитие головного мозга после
2 лет еще почти не изучено. Из всей этой критики легко сделать вывод,
что вообще невозможно характеризовать все стадии детского возраста
лишь на основании какого-либо одного критерия. Всякий такой критерий
неизбежно оказывается недостаточным. Характеристика каждого
возраста должна быть комплексной: не один какой-либо признак, но
своеобразная связь многих признаков характеризует тот или иной возраст.
Эта связь многих признаков, или, как некоторые выражаются,
возрастной симптомокомплекс, настолько явно своеобразен для каждой стадии
детства, что, в сущности, почти все исследователи, за редким
исключением, какими бы критериями ни пользовались, дают в конечном итоге
при722
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
близительно одинаковое расчленение детства. Огромное большинство
исследователей расчленяет детство и юность на три периода: 0-7,7-14 и 14-
21 год. В возрасте 0-7 лет опять огромное большинство выделяет особо
грудной возраст (иногда и 2-й год) и делит остальное время на две
половины. Так же приблизительно делят и возраст 7-14 лет. Наконец, в возрасте
14-21 год опять огромное большинство исследователей выделяют особо
время полового созревания. Если бывают разногласия, то чаще всего в
пределах какого-нибудь одного года. Таким образом, можно признать, что в
основном сроки отдельных стадий детского возраста установлены, спор
идет скорее о названиях этих стадий.
6. Переходные возрасты
При установлении сроков отдельных стадий детского возраста
затруднения обыкновенно испытываются лишь по отношению к
пограничному году. Например: куда отнести 3-й год — к ясельному или дошкольному
возрасту? Как считать семилеток — дошкольниками или школьниками?
Как исчислить сроки отрочества и юности, поскольку между ними
вклинивается эпоха полового созревания, — выделить ли эту эпоху особо или
считать ее началом юности?
Если бы вопрос состоят только в том, под какую рубрику возрастных
названий подвести эти годы, то не стоило бы тратить много труда на
решение этого вопроса Но педагогическая практика уже давно обратила
внимание на то, что эти так называемые переходные возрасты представляют в
педагогическом отношении трудности: переходные возрасты в то же время
являются педагогически трудными возрастами. Нередко их называют
критическими возрастами.
Название «критический возраст» утвердилось прочнее всего за
возрастом полового созревания. При характеристике критического возраста
обыкновенно указывают два ряда черт: 1) крайняя впечатлительность,
нервозность, легкая ранимость нервной системы; 2) неуравновешенность,
взрывчатость поведения, странные, т. е. недостаточно мотивированные
объективными причинами, поступки. Эти черты очень заметны в подростке
и делают его трудным как для самого себя, так и для других. Но эти же
черты, правда, менее резко выраженные, наблюдаются и у семилетки, что
дает основание педологам, имевшим дело с семилетками, называть и этот
возраст критическим. Изучением истории возникновения неврозов
обнаружено, что ряд этих неврозов возникает в очень раннем детстве, и
психоанализ нередко упирается в 3-й год. Таким образом, переходные годы
действительно оказываются критическими.
Но более внимательное изучение хода развития ребенка показывает, что
критических пунктов развития оказывается больше, чем обычно думают. Так,
723
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
например, известный исследователь Моро находит, что непрерывная кривая
линия плохо изображает ход развития в грудном возрасте: более правильное
представление об этом развитии дает ломаная линия, с резким изломом в
2 месяца жизни после рождения, так как первые два месяца этой жизни очень
резко отличаются от последующих. Точно так же исследователи раннего
школьного возраста уже давно отмечали резкий скачок в развитии сил и
интеллектуальных функций приблизительно в начале 11-го года. Наконец,
изучающие дошкольный возраст отличают 5-й год как год резкого увеличения
подвижности и социального опыта ребенка. Надо оговорить, впрочем, что
вопрос о критических годах еще не изучен как следует. В прежнее время этому
мешали всякого рода суеверия, концентрировавшиеся вокруг этих лет. В наше
время препятствием являлось неправильное представление о том, что
развитие идет всегда обязательно непрерывно («природа не делает скачков »).
На самом же деле развитие ребенка происходит непрерывно только
некоторое количество времени, после которого происходит скачок в
развитии («кризис»). Поэтому действительно непрерывная кривая дает
неверное представление о ходе развития ребенка, которое идет временами
непрерывно, а временами в определенные моменты имеет известную
прерывность, т. е. делает скачки.
Эти критические периоды в развитии ребенка переживаются им
довольно болезненно: рождение и время полового созревания — наиболее
яркие примеры этого. Разумеется, к этим периодам внимание педагога
должно быть особенно большим: эти периоды требуют особо внимательного
педагогического подхода.
7. Педологический и хронологический возраст
Каждая из возрастных стадий имеет свое своеобразие, но не каждый
ребенок в одно и то же время переживает эту стадию. Так, например, возраст полового
созревания, который настолько своеобразен, что выделяется в особую
возрастную стадию, одним переживается в 12-14 лет, а другим — в 15-19 лет. Это
вызывает необходимость различать педологический и хронологический
возраст. Так, например, три мальчика-ровесника 15 лет могут быть один — еще
ребенком, другой — подростком, а третий — уже юношей. Хронологический
возраст их один и тот же, но педологический различен.
Термин «педологический возраст » еще не вошел во всеобщее употребление.
Обыкновенно говорят об анатомическом, физиологическом, интеллектуальном
и педагогическом возрасте. Под анатомическим возрастом обычно понимают
«зубной возраст», или «возраст костей», определяемый посредством особых
приборов на основании окостенения некоторых мелких костей кисти. О
физиологическом возрасте обыкновенно говорят, характеризуя степень полового созревании.
Под интеллектуальным возрастом понимают ту или иную степень умственного
724
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
развития. Наконец, под педагогическим возрастом понимают тот возраст,
которому соответствует данный ребенок по своим знаниям. Мерой обыкновенно
служит «средний ребенок» — средний школьник данной группы, средний ребенок
данного возраста и т. д. Отношение данного анатомического, умственного
возраста к хронологическому и характеризует темп развития ребенка.
Когда педологический возраст сильно отстает от хронологического,
говорят об отсталости данного ребенка. Но не надо понимать выражения вроде
следующего — «умственный» («анатомический» и т. п.) возраст данного
десятилетки равен 6 годам — буквально в том смысле, что этот десятилетка
имеет во всех отношениях ум шестилетки. Надо помнить, что развитие идет не по
прямой линии и неправильно понимать его как простое увеличение или
уменьшение. В развитии одни свойства прогрессируют, но другие, наоборот,
регрессируют: так, например, игра или наглядные представления со времени
полового созревания резко идут на убыль, тогда как отвлеченное мышление, наоборот,
прогрессирует. Так как разные свойства связаны друг с другом, то в
результате прогресса одних черт и регресса других изменяется все соотношение в
целом, получается новое соотношение, новая общая связь, новое целое. Если
десятилетка имеет умственный возраст шесть лет, это означает только его
большую отсталость, но вовсе не полную качественную равнозначность его ума и
ума шестилетки. Отсталость является результатом задержки развития
какихнибудь свойств. Вследствие этого задерживаются некоторые другие свойства,
положительно коррелирующие с данными, но некоторые иные свойства,
отрицательно коррелирующие с данными, наоборот, беспрепятственно сильно
развиваются, гипертрофируются, а третьи какие-нибудь свойства, никак не
коррелирующие с данными, развиваются обычно. В результате всего этого
получается совершенно новое соотношение, новый тип развития.
Наглядно это можно видеть на тех (не всяких) карликах, рост которых стал
подвергаться сильной задержке с раннего детства. Мы видим в таком карлике ряд
черт маленького ребенка (например, коротконогость), ряд черт взрослого
(например, усы) и ряд гипертрофированных черт (например, рост вширь). В результате,
новый тип — карлик особого типа. То, что так наглядно видно на этом примере,
имеет место и тогда, когда речь идет об умственном, педагогическом и т. п. возрасте.
Заключение
Общие законы возрастного развития детей
Педология — еще молодая наука. Поэтому в ней еще мало широких,
твердо установленных обобщений. Тем не менее ряд основных
закономерностей подмечен. Некоторые из этих закономерностей можно уже
формулировать как бесспорные истины, другие же — как, по-видимому,
довольно вероятные.
725
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Бесспорной истиной считается следующее обобщение: чем на более
высокой ступени развития стоит данное животное, тем относительно
(сравнительно со всей его жизнью) продолжительней его детство. Низшие
животные почти не имеют детства.
Детство человека — относительно самое продолжительное.
По-видимому, это положение применимо и к истории человечества. Ряд
этнографических, лингвистических и исторических данных дает повод предполагать, что на
более низкой стадии исторического развития детство оканчивалось раньше.
Но в то же время оказывается, что чем ниже данная возрастная
стадия, тем быстрее она проходится высшим животным сравнительно с
низшим. По отношению к продолжительности всей жизни детство составляет
у кошки 8 %, у собаки 13 %, у слона 29 % и у человека 33 %. Но по
отношению к продолжительности внеутробного детства утробное детство
составляет у кошки 15 %, у собаки 9 %, у слона 6 % и у человека 3 %.
По-видимому, это положение применимо и к истории человечества: современный
ребенок развитей своего ровесника прежних исторических эпох.
Примирить два вышеуказанных положения возможно, по-видимому, следующим
образом: чем выше данное животное, тем из большего числа стадий
состоит его детство и тем в общем продолжительней его детство, но в то же
время каждая из имеющихся стадий проходится быстрее, притом тем
быстрее, чем примитивней она.
Таким образом, большая продолжительность детства и в то же
время более быстрые темпы развития — специфические особенности
детства высших животных и особенно человека.
Детство — возраст развития. Чем развитей животное, тем длительней
в общем время его развития и тем в то же время быстрее темпы этого
развития. Иметь короткое детство значит иметь мало времени для развития,
а иметь при этом еще медленные темпы развития значит развиваться
медленно и недолгое время.
Человек развивается дольше и быстрее, чем какое бы то ни было
животное. Современный человек при благоприятных социальных условиях
развития развивается дольше и быстрее человека прежних исторических
эпох.
Таким образом, детство — не вечное, неизменное явление: оно иное на
иной стадии развития животного мира, оно иное и на каждой иной стадии
исторического развития человечества.
Чем благоприятнее экономические и культурные условия развития, тем
быстрей темпы развития. В коммунистическом обществе дети будут быстрее
развиваться и, конечно, будут гораздо развитее теперешних своих
сверстников. В то же время мы видим, что сейчас еще юность, т. е. продолжение роста и
развития после полового созревания, является далеко не всеобщим
достоянием: у находящихся в неблагоприятных условиях развития народов или
обще726
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ственных групп рост и развитие заканчиваются вместе с половым
созреванием. Таким образом, юность не есть вечное явление, но составляет позднее,
почти на глазах истории происшедшее приобретение человечества.
Трудящимся массам земного шара еще предстоит завоевать длительную юность —
длительное физическое и психологическое развитие после полового созревания.
Основной закон развития ребенка может быть сформулирован так:
«Подобно тому как история развития во чреве матери представляет собой
только сокращенное повторение развертывающейся на протяжении
миллионов лет истории физического развития наших животных предков,
точно так же духовное развитие ребенка представляет собой только еще
более сокращенное повторение умственного развития тех же предков, по
крайней мере более поздних». «Ко всей истории развития организмов надо
применить закон ускорения пропорционально квадрату расстояния во
времени от исходного пункта... Чем выше, тем быстрее идет дело» (Ф.
Энгельс. Диалектика природы).
В утробном детстве, будучи эмбрионом, ребенок в высшей степени
быстро проходит путь развития, начиная с одноклеточного животного,
превращаясь затем в кишечнополостную гаструлу и трехслойную
двухсторонне-симметричную личинку и, наконец, позвоночное животное, сперва жаберное, затем
наземное с конечностями, потом млекопитающее (к началу второго месяца),
с тем чтобы принять в конце концов вид человекоподобного существа.
Но и после рождения он функционирует сначала в качестве существа,
у которого преобладает не кора, а более древний мозг, и моторика
которого — палеокинетическая, и все грудное детство уходит на интенсивное
развитие нового мозга (neopallium) и неокинетической моторики. Постепенно
он приобретает прямую походку, членораздельную речь и владеющую
орудиями руку. Весь дошкольный возраст уходит на усвоение им основных
стандартов поведения окружающего его культурного общества. Наконец,
в школьном возрасте, начиная с овладения грамотой, он усваивает
постепенно, начиная с элементарного, современную науку и технику, становясь,
таким образом, при благоприятных условиях развития и воспитания
вполне цивилизованным человеком.
Детство — эпоха роста
Основное в биохимической эволюции ребенка — высыхание и
обызвествление. В составе тела с возрастом ребенка уменьшается относительное
количество воды и жиров и увеличивается количество костей и мускулатуры.
Морфологическая эволюция ребенка состоит в уменьшении широких
коротких пропорций и в увеличении длинных пропорций. В частности,
ребенок в морфологическом отношении эволюционирует от коротконогости
к длинноногости.
727
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Чем старше ребенок, тем меньший процент его тела составляют
внутренности и тем больший процент составляет костно-мышечная система.
Физиологическая эволюция ребенка состоит в постепенном убывании
растительных функций (питание и рост) и в постепенном росте животных
функции (движение и сознание). «Грудному младенцу около 6 кг нужен
ежедневно литр молока, а взрослому около 60 кг — примерно 2,5 кг питательных
средств, т. е. относительно в 7 раз меньше. Питание выступает при рождении в
очень сильной степени'и постепенно падает к зрелости в отношении 7:1»
(Штратц). Так же падает и относительный прирост размеров тела: с возрастом
ребенок растет все менее энергично. Но в то же время растут подвижность и
силы ребенка. Развиваются также его нервная система и сознание.
Моторика ребенка развивается от безусловных рефлексов к
условным и от комплексной врожденной (инстинктивной) палеокинетической
системы движений к дифференцированной специализированной
неокинетической системе. Движения крупной мускулатуры в общем развиваются
раньше движений мелкой мускулатуры.
Вегетативная нервная система развивается раньше центральной.
Центральная нервная система развивается последовательно от низших
отделов к высшим. Большие полушария развиваются в направлении от задних
долей к передним.
Эндорецепторы развиваются раньше экзорецепторов. Чувство
развивается раньше ощущения и эмоции — раньше интеллекта. Восприятие идет от
восприятия непосредственно соприкасающейся среды к восприятию мира на
расстоянии. Мышление развивается от конкретного и образного к
абстрактному и логическому. Таково психологическое развитие ребенка.
Если законы отдельных сторон развития ребенка уже сравнительно
неплохо известны, то зато гораздо хуже обстоит дело с проблемой связи
их. Вполне достаточно известны, пожалуй, лишь два основных факта:
1) рост вызывает общие конституциональные изменения, 2)
конституциональные особенности связаны с психологическими особенностями. Но
какова в деталях связь всего этого — роста, конституции и психологических
особенностей, точно нам неизвестно, и приходится пользоваться лишь
гипотезами, еще далеко не обоснованными надлежащим образом.
...Теория возрастных связей и изменений еще не вышла из стадии
первоначальных малоразработанных и потому шатких и спорных гипотез. Это
объясняется тем, что педология как особая наука существует сравнительно
недолго и потому она еще не успела накопить достаточно материала для
окончательных максимально широких обобщений. Мы не должны избегать
гипотез, но в то же время должны знать, что твердо обоснованной научной теории
детства еще нет.
Существеннейшее отличие человеческого детства от детства
животных — то, что человеческий ребенок развивается в обществе при
опреде728
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ленных исторических условиях в качестве определенного члена данного
общества. Такие специфические человеческие особенности, как умение
трудиться, членораздельная речь, общественное поведение, наука и
искусство, не приобретаются путем наследственности: они приобретаются лишь
путем жизни в человеческом обществе. Но даже и там эти качества тем
менее приобретаются стихийным путем (например, через подражание), чем
более высокой степени культуры и цивилизации они соответствуют. Без
систематического преднамеренно организованного воспитания и
образования ребенок рискует остаться без обладания приобретениями
современной цивилизации.
Воспитание существует уже на самых ранних стадиях истории культуры...
Воспитание в СССР ставит своей задачей воспитание всесторонне
развитых строителей коммунистического общества. Впервые в истории человек
получает возможности всестороннего развития. Педология, стремясь дать
полную картину развития ребенка со всеми закономерностями его,
призвана помогать педагогике, т. е. науке о воспитании нового — полноценного,
всесторонне развитого человека, члена социалистического общества.
О ПЕДОЛОГИЧЕСКИХ ИЗВРАЩЕНИЯХ
В СИСТЕМЕ НАРКОМПРОСОВ
Постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г.
ЦК ВКП(б) устанавливает, что Наркомпрос РСФСР и наркомпросы
других союзных республик допустили извращения в руководстве школой,
выразившиеся в массовом насаждении в школах так называемых педологов и
передоверии им важнейших функций по руководству школой и воспитанию
учащихся. Распоряжениями наркомпросов на педологов были возложены
обязанности комплектования классов, организации школьного режима,
направление всего учебного процесса «с точки зрения педологизации школы и
педагога », определение причин неуспеваемости школьников, контроль за
политическими воззрениями, определение профессии оканчивающих школы,
удаление из школ неуспевающих и т. д.
Создание в школе наряду с педагогическим составом организации
педологов, независимой от педагогов, имеющей свои руководящие центры в виде
различных педологических кабинетов, лабораторий и
научно-исследовательских институтов, раздробление учебной и воспитательной работы между
педагогами и педологами при условии, что над педагогами был учинен
контроль со стороны звена педологов, — все это не могло не снижать на деле роль
и ответственность педагога за постановку учебной и воспитательной работы,
не могло не создавать фактическую бесконтрольность в руководстве
школой, не могло не нанести вреда всему делу советской школы.
729
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Этот вред был усугублен характером и методологией
педологической работы в школе. Практика педологов, протекавшая в полном отрыве
от педагога и школьных занятий, свелась к ложнонаучным
экспериментам и проведению среди школьников и их родителей бесчисленного
количества обследований в виде бессмысленных и вредных анкет, тестов и т. п.,
давно осуждаемых партией. Эти якобы научные «обследования»,
проводимые среди большого количества учащихся и их родителей,
направлялись по преимуществу против неуспевающих или не укладывающихся в
рамки школьного режима школьников и имели своей целью доказать
якобы с «научной» «биосоциальной» точки зрения современной педологии
наследственную и социальную обусловленность неуспеваемости
ученика или отдельных дефектов его поведения, найти максимум
отрицательных влияний и патологических извращений самого школьника, его семьи,
родных, предков, общественной среды и тем самым найти повод для
удаления школьников из нормального школьного коллектива.
В этих же целях действовала обширная система обследований
умственного развития и одаренности школьников, некритически перенесенная на
советскую почву из буржуазной классовой педологии и представляющая собой
форменное издевательство над учащимися, противоречащая задачам
советской школы и здравому смыслу. Ребенку 6-7 лет задавались
стандартные казуистические вопросы, после чего определялся его так
называемый педологический возраст и степень его умственной одаренности.
Все это вело к тому, что все большее и большее количество детей
зачислялось в категории умственно отсталых, дефектных и «трудных».
На основании отнесения подвергшихся педологическому
«изучению» школьников к одной из указанных категорий педологи
определяли подлежащих удалению из нормальной школы детей в «специальные»
школы и классы для детей «трудных», умственно отсталых,
психоневротиков и т. д.
ЦК ВКП(6) устанавливает, что в результате вредной деятельности
педологов комплектование «специальных» школ производилось в широком и все
увеличивающемся масштабе. Вопреки прямому указанию ЦК ВКП(б) и СНК
Союза ССР о создании двух-трех школ для дефективных и дезорганизующих
учебу школьников Наркомпросом РСФСР было создано большое количество
«специальных» школ различных наименований, где громадное большинство
учащихся представляет вполне нормальных детей, подлежащих обратному
переводу в нормальные школы. В этих школах наряду с дефективными детьми
обучаются талантливые и одаренные дети, огульно отнесенные педологами на
основании ложнонаучных теорий к категории «трудных». Что же касается
постановки дела в этих «специальных» школах, то ЦК ВКП(б) признает
положение с учебной и воспитательной работой в них совершенно нетерпимым,
граничащим с преступной безответственностью. «Специальные » школы
явля730
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ются, по существу, безнадзорными, постановка учебной работы, учебного
режима и воспитания в этих школах отдана в руки наименее
квалифицированных воспитателей и педагогов. Никакой серьезной исправительной работы в
этих школах не организовано. В результате большое количество ребят,
которые в условиях нормальной школы легко поддаются исправлению и
становятся активными, добросовестными и дисциплинированными школьниками, в
условиях «специальной » школы приобретают дурные навыки и наклонности и
становятся все более трудно исправимыми.
ЦК ВКП(б) считает, что такие извращения воспитательной политики
партии в практике органов наркомпросов могли сложиться в результате того,
что наркомпросы до сих пор находятся в стороне от коренных и жизненных
задач руководства школой и развития советской педагогической науки.
Только пренебрежением наркомпросов к руководству педагогической
наукой и практикой можно объяснить тот факт, что антинаучная и
невежественная теория отмирания школы, осужденная партией, продолжала до
последнего времени пользоваться признанием в наркомпросах и ее адепты
в виде недоучившихся педологов насаждались во все более и более
широких масштабах.
Только вопиющим невниманием наркомпросов к задачам правильной
постановки дела воспитания подрастающего поколения и невежеством ряда
их руководителей можно объяснить тот факт, что в системе наркомпросов
педагогика была пренебрежительно объявлена «эмпирикой» и
«наукообразной дисциплиной», а несложившаяся еще, вихляющая, не
определившая своего предмета и метода и полная вредных антимарксистских
тенденций так называемая педология была объявлена универсальной наукой,
признанной направлять все стороны учебно-воспитательной работы, в том
числе педагогику и педагогов.
Только головотяпским пренебрежением к делу развития советской
педагогической науки можно объяснить тот факт, что широкий,
разносторонний опыт многочисленной армии школьных работников не
разрабатывается и не обобщается и советская педагогика находится на
задворках у наркомпросов, в то время как представителям нынешней так
называемой педологии предоставляется широкая возможность
проповеди вредных лженаучных взглядов и производство массовых, более чем
сомнительных экспериментов над детьми.
ЦК ВКП(б) осуждает теорию и практику современной так
называемой педологии. ЦК ВКП(б) считает, что и теория, и практика так
называемой педологии базируется над ложнонаучных, антимарксистских
положениях. К таким положениям относится прежде всего главный
«закон» современной педологии — «закон» фаталистической
обусловленности судьбы детей биологическими и социальными факторами, влиянием
наследственности и какой-то неизменной среды. Этот глубоко
реакцион731
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ный «закон » находится в вопиющем противоречии с марксизмом и со всей
практикой социалистического строительства, успешно
перевоспитывающего людей в духе социализма и ликвидирующего пережитки
капитализма в экономике и сознании людей.
ЦК ВКП(б) устанавливает, что такая теория могла появиться лишь в
результате некритического перенесения в советскую педагогику
взглядов и принципов антинаучной буржуазной педологии, ставящей своей
задачей в целях сохранения господства эксплуататорских классов
доказать особую одаренность и особые права на существование
эксплуататорских классов и «высших рас» и, с другой стороны физическую и
духовную обречен-ность трудящихся классов и «низших рас». Такое
перенесение в советскую науку антинаучных принципов буржуазной
педологии тем более вредно, что оно прикрывается «марксистской»
фразеологией.
ЦК ВКП(б) считает, что создание марксистской науки о детях
возможно лишь на почве преодоления указанных выше антинаучных
принципов современной так называемой педологии и суровой критики ее идеологов
и практиков на основе полного восстановления педагогики как науки и
педагогов как ее носителей и проводников.
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Восстановить полностью в правах педагогику и педагогов.
2. Ликвидировать звено педологов в школах и изъять педологические
учебники.
3. Предложить Наркомпросу РСФСР и наркомпросам других
союзных республик пересмотреть школы для трудновоспитуемых детей,
переведя основную массу детей в нормальные школы.
4. Признать неправильными постановления Наркомпроса РСФСР об
организации педологической работы и постановление СНК РСФСР от 7
марта 1931 г. «Об организации педологической работы в республике».
5. Упразднить преподавание педологии как особой науки в
педагогических институтах и техникумах.
6. Раскритиковать в печати все вышедшие до сих пор теоретические
книги теперешних педологов.
7. Желающих педологов-практиков перевести в педагоги.
8. Обязать наркома просвещения РСФСР через месяц представить в
ЦК ВКП(б) отчет о ходе выполнения настоящего постановления.
Правда. 1936. 5 июля
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Г.Г. ШПЕТ:
ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ
Шпет Густав Густавович (1879-1937) —
философ, теоретик культуры, филолог, переводчик,
психолог. Окончил историко-филологический
факультет Киевского университета св. Владимира,
активный участник Психологического семинария
Г.И. Челпанова. В 1907 г. по приглашению
Челпанова переезжает в Москву. 1907-1923 гг. — сначала
доцент, с 1918 г. — профессор Московского
университета. В эти годы помогал Челпанову в разработке
проекта Психологического института, преподавал
кроме Московского университета на Высших
женских курсах, в Народном университете им.
Шанявского, читал курсы логики, психологии, методологии науки, введения в
философию, истории психологии, истории научной мысли, этнопсихологии,
эстетики, педагогики, истории педагогических идей. В1920 г. организовал
первый в России кабинет этнической психологии. С 1921 г. член, а с 1923 г. —
вицепрезидент Государственной академии художественных наук (ГАХН).
Занимался переводами (переводил Дж.Г. Байрона, Ч. Диккенса),
редактировал сочинения У.М. Теккерея, написал обширный том (объемом
365 страниц) «Комментарий к "Посмертным запискам Пиквикского клуба"
Ч.Диккенса. В 1935 г. арестован. В сибирской ссылке перевел «Три
разговора» Дж. Беркли и «Феноменологию духа» Г. Гегеля. В 1937 г. расстрелян.
В 1956 г. реабилитирован.
Творческая деятельность Шпета охватывает несколько областей —
философию, искусствоведение, филологию, философию языка,
психологию, в каждую из которых он внес значительный вклад. Наследие Шпета
насчитывает более 50 монографий и статей по разнообразным вопросам.
Для психологии остаются актуальными его идеи в области методологии
психологическое науки: положение о необходимости ее связи с
философией, критика механицизма и натурализма эмпирического направления и
особенно обоснование и защита культурно-исторического подхода к
исследованию человека как социального субъекта. Разработал учение о
слове как элементе языкового сознания, природа которого социальна. Вслед
за Б.Гумбольдтом и А.А.Потебней выделял в структуре слова особое
образование — его внутреннюю форму, которая является носителем
специфического для разных языков осознания обозначаемой им реальности. В
интерпретации Шпета внутренняя форма слова открывает подход к пониманию смысла
733
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
произведения искусства (живописи, поэзии, скульптуры и др.), которые
также заключают в себе особые — художественные, поэтические —
внутренние формы как носители эстетического переживания.
Органичной частью психологических исследований Шпета стала
разработка этнической психологии, оригинальное понимание ее предмета и
задач (Введение в этническою психологию. 1927 г.).
ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА1
...нужно припомнить сложную структуру понятия: мыслимое в нем
предметное содержание никогда не есть все содержание предмета, а есть
содержание целесообразно и планомерно подобранное в соответствии с
намерением и замыслом сообщения и выражения. В этом пункте нельзя
отказать понятию как логическому акту в творческой мощи, напротив,
тутто и открывается собственный смысл и собственное значение всего
научного и вообще словесно-логического творчества.
Таким образом, со стороны планомерного выполнения понятием
некоторого замысла, оно удовлетворяет выше поставленным требованиям и
может быть названо внутреннею формою Но очевидно, что при этом
имеется в виду не само по себе понятие как такое, словесно данное, но и не
отвлеченное мыслимое содержание, хотя бы принятое и отобранное, как
форма по отношению и предметно сущему содержанию, а некоторое, в нем
запечатленное, как его формальный момент, правило его «образования»,
«формования». Это правило есть не что иное, как прием, метод и принцип
отбора, — закон и основа словесно-логического творчества в целях
выражения, сообщения, передачи смысла.
Возникает новый вопрос: не коренится ли самый этот принцип и закон
именно потому, что это есть принцип и закон творчества, исключительно в
способностях субъекта? И как уйти от легкого здесь соблазна
кантианства? — Ответ зависит от того, скажем ли мы, что в процессе своего
словесно-логического творчества, вызываемого целью и надобностью сообщения,
мы руководимся объективными целями и подчиняемся законам самого
материала, из которого тут творим («понятия») и который предстоит нам
как объективная данность, или мы признаем, что весь этот материал —
только концепты, не соотнесенные, в свою очередь, ни к какому объекту и сами
для творчества — не объекты, а его текучий состав, складывающийся в
словесно-логический калейдоскоп по произвольному капризу ассоциаций и
соизволению трансцендентальной апперцепции? Раз признанная
объекШпегпГ.Г. Внутренняя форма слова// Г.Г. Шпет. Психология социального бытия.
Москва-Воронеж, 1996. С. 140-141, 159-170, 182-186, 214-217.
734
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
тивная предметность мыслимого содержания, самолично входящего в
смысловое выражение, как его смысл, принуждает нас и здесь, — в
словесно-логической супозиции слова, где объект — само же
слово-понятие, — признать и искать ее права не со стороны субъекта. Соблазн
кантианского субъективизма был бы соблазном в сторону того же
концептуализма.
Нельзя отрицать, что Гумбольдт предлагает свое учение о
внутренней форме, не обезопасив его ни от концептуализма, ни от кантовского
субъективизма. Когда Гумбольдт отмечает, что к одному и тому же
предмету мы относим разнообразные понятия и выражения, а потому и
словесные формы его также многообразны, он этим только отрицает, что
онтические формы могут быть названы внутренними формами слова. Но,
что же он утверждает? — Как звуковая форма, развивает Гумбольдт свою
мысль, связана со словообразованием, так обозначение понятия связано
с его образованием. У понятия имеются свои внутренние признаки, для
которых артикуляционное чувство находит обозначающие звуки. Это
имеет место даже при обозначении телесных, чувственно
воспринимаемых предметов, ибо и в этом случае слово не эквивалентно предмету,
а лишь концепции (Auffassung) в его языковом акте (Spracherzeugung) в
определенный момент словонахождения. «Слон», — мы уже знакомы с
этим примером, — в санскрите называется то «дважды пьющим», то
«двузубым», то «одноруким», — подразумевается (ist gemeint) один предмет,
обозначается несколько различных понятий. Язык, таким образом,
воплощает (darstellen) не предметы, а самостоятельные образования в акте
языка, понятия их. Именно об этом образовании, поскольку оно
рассматривается совершенно внутренне, как бы предшествующим
артикуляционному чувству (§ 11. S. 109)1, и идет речь.
Некоторые выводы из определения внутренней формы
Итак, внутренняя словесно-логическая форма есть закон самого
образования понятия, то есть некоторого движения или развития, последовательную
смену моментов которого мы называем диалектическою сменою,
отображающею развитие самого смысла: его Wandlungen — преображения или даже
пресуществления. Это не схема и не формула, а прием, способ, метод
формообраСр. толкование этого пассажа у Марти (Untersuchungen usf. S. 159). Марти прав,
различая классификацию одного и того же предмета, через подведение его под
различные понятия, от различных методов обозначения одного и того же понятия.
Только я думаю, что если первое есть логический акт, связанный с чистым
конципированием, то второе — именно внутренняя форма слова — есть также
логический акт, связанный с словесным и понимающим (уразумевающим).
735
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
зования слов-понятий. Если можно говорить о «внутренней форме» как об
отношении внешней сигнификативной формы и предметной формы вещного
содержания, то это отношение также нужно понимать как движение,
и жизнь внутренней формы надо понимать как развитие, осуществляющееся в
способах соотнесения обоих терминов названного отношения. Гумбольдт
близко подходит к смыслу такого определения, когда, изобразив язык как
деятельность, энергию, называет его также «работою духа» (§ 8, S. 56-57)1,
выполняемою некоторым «постоянным и единообразным способом». Это
постоянство и единообразие обусловлено единством самой духовной силы,
способной различаться только внутри собственных границ и направляющейся
по цели понимания. Устойчивое и единообразное в работе духа, направленной
на то, чтобы довести артикулированный звук до выражения мысли, и
составляет форму языка. Постоянное, устойчивое — относительно: по отношению к
смене и разнообразию как звуковой, так и идейной материи, и, во всяком
случае, оно неподвижно. Чаще всего Гумбольдт говорит применительно к
внутренней форме о способе употребления (Gebrauch) и употреблении, которое
дух делает в целях сообщения и взаимного понимания. Характеризуя природу
языка (§ 8), Гумбольдт из двух принципов его прямо называет второй принцип
употреблением звуковой формы для обозначения предметов и связей мысли,
употреблением, зависящим от требований мышления, из чего и проистекают
общие законы языка (S. 63). О том же говорит и основное определение
внутренней формы у Гумбольдта (§ 11): внутренняя и чисто интеллектуальная
сторона языка состоит в употреблении звуковых форм. Эта основная
особенность языка зависит от согласования и взаимодействия, в котором
открывающиеся в языке законы стоят друг в отношении друга и законов созерцания,
мышления и чувствования. «Эти законы суть не что иное, как пути
(Bahnen), — (следовательно, не схемы, не формулы!), — по которым движется
духовная деятельность и порождения языка, или, пользуясь другим
уподоблением, не что иное, как формы, в которые она отчеканивает звуки».
«Здесь же они названы также "интеллектуальными приемами9'» (Verfahren),
то есть методами, что и согласуется вполне с характеристикою внутренней
формы как пути.
Имея в виду конкретный язык в его живом движении и принимая во
внимание, что действительное своеобразие его в его индивидуальных,
временных, национальных и пр. особенностях, сказывается именно в его
живом и связном движении, тогда как отдельные элементарные составные
части его как раз обладают статическим однообразием, я и называю
правила, методы, законы, живого комбинирования словесно-логических единиц,
понятий, со стороны их формальной повторяемости,
словесно-логически1 Ссылки даются на издание Гумбольдта «Über die Verschiedenheit des menschlichen
Sprachbaues und ihren Einfluss auf geistige Entwicklung des Menschengeschlechts ». 1836.
736
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ми алгоритмами}. Такого рода алгоритмы суть также формы образования
понятий и, следовательно, диалектики самого смысла, динамические
законы его развития, творческие внутренние формы, руководящие
понимающим усмотрением смысла в планомерном отборе элементов, но
допускающие свободу в установлении той или иной планомерности, ничем, кроме
правды сообщения и соответствия предмету его, не вынуждаемой и не
побуждаемой. Под принуждением со стороны самого предмета здесь
следует разуметь не пассивное отражение его статически формальных
особенностей2, а живую диалектическую передачу действительного как оно есть,
с определяющим его именно как действительное разумным. Поэтому-то в
сфере словесно-логических структур последним источником творчества
надо признать имманентное ему разумно-действительное и его
конститутивные, а не только направляющие, законы. Здесь должно быть обеспечена
словесно-логическому культурному сознанию свобода творчества, во
всяком случае, не меньшая, чем та свобода творчества, которая руководится
внутренними поэтическими законами в области художественной
фантазии3.
Наличием указанной свободы в достаточной степени гарантируется
то разнообразие живых языков, которое характеризуется не только
запаТермин взят не по внешней только аналогии с математическим понятием
алгоритма; математический алгоритм есть внутренняя логическая форма математического
языка.
Формальные особенности самого предмета устанавливаются онтологией
отвлеченно и независимо от их мыслимости. Может поэтому возникнуть подозрение, что,
как такие, то есть прямо не мыслимые, или не входящие в состав
смысла-содержания, они и не отражаются на формах слова-знака. Если бы такое предположение
было правильно, оно побуждало бы нас к субъективистическим выводам
кантианского типа. Но, думаю, что оно неправильно. Если «содержание »
действительности передается лишь в диалектическом развитии слова-понятия, то ее
онтологические формы принудительно определяют форму слова уже с самого зарождения
словесно-выразительной интенции. Нужно только иметь в виду не формы
«элементов» и «отдельных» членов речи, а общее ее движение и развитие.
«Составление плана », построения, композиции непременно испытывает принуждение со
стороны формально-онтологических особенностей самого предмета: пространственное
расположение, группировка, временная и причинная последовательность,
одновременность, группировка по отрезкам времени в последнем случае
синхронистика) и т. п.
Шпрангер также интерпретирует понятие формы у Гумбольдта, — ср. его
W.V. Humboldt, Brl. 1909, S. 332: «Form bedeutet also, wie Sommer und Kuhnemann
mit Recht hervorgehoben haben, keineswegs Inhaltlosigkeit, sondern ein geistiges,
lebendiges Vernunftprinzip, das aus den Tiefen unseres einheitlichen Bewußtseins
entspringt und mehr als eine blosse.
24 Российская психология
737
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
сом звукового материала их, но также богатством формообразования во
всех сферах языкового проявления. Мнимое противоречие этого
разнообразия, с одной стороны, и кажущегося единообразия чистой
интеллектуальной деятельности, с другой стороны, затрудняло уже Гумбольдта, как
мы видели, и ставило в совершенный тупик его истолкователей, боявшихся
прямого отожествления внутренних языковых форм с формами
логическими1. Я думаю, что вышеприведенными разъяснениями препятствия к тому
устраняются. Словесно-логические, внутренние формы как формы форм,
понимаемые как алгоритмы, суть необходимые и постоянные законы
«образования слов-понятий», но само это образование, подчиняясь законам
Ср., например, искренние недоумения Штейнталя, Charakteristik der
hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues (2. Bearbeitung seiner Classification der
Sprache), Brl. 1860, S. 43-44, Classification, 1850, S. 30-31. При предпосылках
отвлеченной (от языка) логики недоумения Штейнталя очень показательны:
чтобы подчеркнуть важность разъяснения, которое я делаю в тексте, укажу
источники беспокойства Штейнталя. Штейнталь сопоставляет заявления Гумбольдта и
сопровождает их собственными репликами. — Г. (§ 11, S. 109, — у Шт. страницы
по другому изданию, я и здесь ссылаюсь на издание Пота): «Общие отношения,
подлежащие обозначению в отдельных предметах (nomen, verbum), и
грамматические окончания покоятся большей частью на всеобщих формах созерцания и
логического упорядочения понятий». — Шт.: «Большей частью» и, значит,
всетаки не целиком вводится из эмпирической практики; и как неопределенно
выражение «покоятся». — Г. (§ 18, S. 193): «Грамматическое формование возникает
из законов мышления с помощью языка и покоится на совпадении (die Congruenz)
с ними звуковых форм», — Шт.: Но что значит «законы мышления с помощью
языка? » разве есть иные законы, чем законы мышления просто? — Г. (§ 9. S. 63):
«Употребление (то есть внутренняя форма) основывается на требованиях,
предъявляемых мышлением к языку, из чего проистекают общие законы последнего ». —
Шт.: Но что это за требования? Какие мышления проходит к ним? Как
удовлетворяет их язык? Как возникают грамматические категории из логических? Во всех
приведенных случаях Гумбольдт отличает формы языка от форм мышления, но
вот, — напротив, — Г. (§ 10, S. 95): «Общие отношения принадлежит большей
частью формам самого мышления», — Шт.: следовательно, формы мышления —
те же, что и внутренние языковые формы, и последнее наименование вводится
лишь, поскольку они отпечатлеваются во внешних звуковых формах, но тогда и
другие приведенные места (особ. § 18, S. 193) нужно понимать так, что
грамматическое формирование — только запечатление мыслительных форм в звуковых
формах, вследствие чего мыслительные формы становятся внутренними
языковыми формами. — Вот этого-то Штейнталь и не хочет признать, а потому
приходит к выводу, что «отношение грамматических форм к логическим у Гумбольдта
не ясное, а следовательно, и вообще отношение между языком и мышлением
недостаточно определенно. А потому он и не мог узнать сущности, объема и
ценности различения языков» (Classify
738
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
как принципам отбора, свободно в этом отборе и его путях, поскольку
вообще может быть свободен выбор средств к данной или заданной цели.
Звуковое богатство языка, богатство его внешних форм, resp. их
заместителей, создающих благоприятную основу для т. н. грамматических аналогий, есть
богатство средств, среди которого производится отбор и выбор. И в то же
время, другими словами, это и есть не что иное, как употребление, — в целях
мышления, сообщения и понимания, — звуковых и грамматических форм и
материалов языка, — употребление — свободное и разнообразное при
постоянстве, правильности и планомерности путей, методов, приемов. В этом —
действительный источник разнообразия языков по типам, нациям, эпохам,
группам и индивидам, при полном действии и всеобщих словесно-логических
законов, и общих эмпирических грамматических тенденций всех этих
отдельных языков.
Возникает вопрос: чем же движется само употребление, как данный
эмпирический факт, то есть само образование слова-понятия в каждом
данном случае, создавая ему его единственность чисто эмпирического и
практического средства? - Гумбольдт дает на это, на мой взгляд, достаточный
ответ: существует особое внутреннее чувство языка (der innere Sprachsinn),
хорошо знакомое каждому из личного опыта, в особенности когда
возникает сомнение в «правильности» того или иного слово- или
формообразования и употребления, в уместности его, в пригодности и т. п., и Гумбольдт,
по-видимому, отдавал себе отчет в том месте, которое это чувство
занимает в языковом сознании, оно не есть свойство самого
словесно-логического сознания как такого, его чистой законосообразности, иначе оно было бы
непонятно именно как основа разнообразия. Гумбольдт ищет его как
признака, свойства самого действительного, эмпирического человека, хотя и
признает за ним значение языкового принципа. «В языке, — говорит он
(§ 22, S. 306-7), — поскольку он действительно проявляется у человека,
различаются два конститутивных принципа: внутреннее чувство языка
(под которым я понимаю не особую силу, а всю духовную способность в
отношении образования и употребления языка, следовательно, только
направление (тенденцию!)) и звук, поскольку он зависит от свойства органов
и покоится на уже доставшемся нам по наследству». И в согласии с этим
(§10, S. 85): «Чувство языка должно содержать нечто, что мы не можем
объяснить себе в отдельных случаях, некоторое инстинкто-образное
предчувствие (ein Vorgefühl) всей системы (звуков), в которой будет нуждаться
язык в данной его индивидуальной форме».
Эти чрезвычайно важные разъяснения могут быть истолкованы
нижеследующим образом. Чувство языка необходимо связано, с одной
стороны, с самим эмпирическим индивидом, социально сущим, и, с другой
стороны, с данным его эмпирическим языком, исторически определенным. То
есть это значит, оно не входит как член в ту структуру слова-понятия и
24* 739
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
языка в целом, которую мы рассматриваем как объект sui generis, когда
говорим об идеальном языке, «языке вообще», как условии общения (см.
выше, стр. 83-84). Оно не есть, следовательно, объективное свойство,
присущее самому слову как чистому предмету, его смыслу и его формам,
внешним и внутренним. Поэтому оно в самом слове как таком и в его
структуре не находит себе определенного объективного запечатления. И тем не
менее не подлежит сомнению, что соответствующее чувство реально
существует и в эмпирической речи играет свою замечательную роль,
обнаруживая себя в том, что выше было названо «употреблением» звуковых форм,
и в способах такого употребления. Очевидно, его место, раз мы переходим
от языка вообще к данному его речевому проявлению, надо перенести из
языка как такого и сознания его объективного единства, и самого говорящего,
в индивидуальный, resp. коллективный, субъект. Чувство языка, как и
артикуляционное чувство (см. выше, стр. 89-90), есть свойство не слова как
объекта, а говорящего, пользующегося языком субъекта, некоторое его
переживание, его естественный дар, хотя и обнаруживающийся в его
социальном бытии как средство самого этого бытия. Как
артикуляционное чувство, далее, есть сознание речевым субъектом правила
фонетических сочетаний, внешних форм слова, так чувство языка есть сознание правил
употребления звуковых форм и осуществление внутренней формы в
отбирающем образовании эмпирических слов-понятий. Артикуляционное
чувство и чувство языка составляют несомненное единство, которое может
быть изображено как особое речевое самочувствие или самосознание:
сознание речевым субъектом самого себя как особого субъекта и всего
своего, своей речевой собственности.
Чувство языка можно рассматривать также как переживание
производное, в том смысле, что в отдельных своих проявлениях оно должно
фундировано на представляющем и рассуждающем акте. Если предметом
последнего не служит слово как такое, то соответствующий предмет надо
искать в самом речевом субъекте, нуждающемся в словесно-логическом
выражении своих мыслей и желаний и располагающем словесными
средствами для этого выражения. Мысль субъекта о том, что ему нужно нечто
словесно выразить, его желание этого и его стремление к этому, его
потребность в этом и нужда, в связи с сознанием своих звуковых
(фонетических и морфологических) средств выражения, с сознанием себя как
располагающего этими средствами и способного разбираться в них и выбирать
из них, а также в связи с сознанием себя как сочлена сходных с ним таких
же субъектов, с таким же запасом своих средств выражения, — вот тот
реальный «контекст», та система вещей и resp. единства сознания этих
вещей как sui generis единого предмета, в которые как член системы
должно быть вставлено и чувство языка. Единственный способ, каким наличие
этой системы, включающей самого субъекта, — если он, вот, например,
740
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
как сейчас, не прямой предмет и смысл сообщения, — может быть связано
с объективною словесною структурою как такою, есть тот же способ,
каким вообще «естественная » и социальная природа человека отражается на
этой структуре. Этот способ есть привнесение к значению слов некоторых
субъективных со-значений, субъективных реакций субъекта на
сообщаемое, и вообще проявления себя в нем (в «стиле», например), в виде формы
естественной и конвенциональной экспрессии. Безотносительно же к
вопросу об отражении такого рода субъективных переживаний в выражаемом
словесно-логически мы имеем дело, следовательно, с проблемою чувства
языка как проблемою, относящеюся непосредственно не к сфере науки о
языке как таком и не к сфере философии языка, а к подлинной сфере
ведения психологии как науки, предмет которой — человеческой субъект. Его
идеальное место и значение — не в структуре слова-понятия как такого, а в
некоторой психоонтической системе1.
Штейнталь2 сводит мысли Гумбольдта в формулу, которою можно
воспользоваться, чтобы наглядно иллюстрировать разницу психологической
и лингвистической интенций, а вместе и точку их касания. Устанавливается
«два ряда понятий, составляющих элементы или принципы образования
языка: звук, артикуляционное чувство, звуковая форма или внешняя
звуковая фирма — мысль, внутреннее чувство языка, употребление или
внутренняя языковая форма».
Психология не погрешает методологически, когда она в своем
изучении фактического, вещного психофизического процесса разделяет его на
два (и больше) «ряда», относя каждый из них к особой душевной
«способности », проявляющейся в своих особых физиологических условиях.
Именно как некоторые гипотетические «способности»или «процессы»или
«стороны» единой органической жизни, они составляют ее прямой предмет.
«Звуки », о которых идет речь, будут отнесены к более общему классу
звуков и подчинены соответствующей общей способности, заведующей не
только звуками-фонемами. То же относится к «мыслям», которые, и
качественно, и генетически погруженные в водоем соответствующей способности,
растворяются в бессловесных и бессознательных, хотя и закономерных
процессах ассоциации, слиянии, апперцепции, и т. д.3 Конечно, психология
изучает не только изолированные способности, но задачи ее синтеза и
восстановления целого как жизненного и органического целого непременно
ведут в направлении восстановления полного психофизического аппарата,
Ср. мое Введение в этническую психологию. Вып. I. Изд. ГАХН. 1927.
Die Sprachwissenschaft W. v. Humbolds und die Hegeische Philosophie, Brl. 1848, S. 101.
Ср. у того же Штейнталя (ib. S. 99.): «Первыми противоположными факторами
языковой деятельности мы признаем звук и мысли, кои оба сами по себе лежат еще вне
языка».
741
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
выполняющего функции, раздельные или сливающиеся, но всегда
руководимые из единого центра: органического индивида, души, субъекта, мозга
и т. п. Соответственно и названные «чувства » артикуляции и языка при
сведении воедино должны быть отнесены к своему субъективному центру,
отличному от центра письма, центра зрительного, моторного и др., но
координированному с ними.
В иной установке предполагается изучение языка не как деятельности
субъекта, хотя бы и социального, а как sui generis социальной вещи: знака
как такого. Наука о языке в этом смысле видит в языке не предмет и
«продукт» этой деятельности, а данную заключенную в себе сферу средств
социального бытия субъекта. Такая установка на вещь, на «мир языка», на
его историческую и социальную данность уже не может базироваться на
субъекте, а ее изучение — на психологии. Надо обратиться вновь к
принципиальному основанию объективного словесного предмета. «Употребление»
тут рассматривается не как руководимое чувством речевого субъекта
пользование звуковым материалом и его формами, а как образование
слова-понятия под формальным руководством внутреннего правила самого
языка как такого. Сообразно этому принципиальные основы такого
изучения надо искать в особой социоонтологии языка и в анализе конкретной
структуры языкового сознания в целом. «Два ряда», а тем более
«противоположные» (см. последнее примечание), здесь — бессмыслица.
Утверждение их означало бы с самого начала простое устранение предмета
изучения как конкретной социальной вещи, одним из признаков которой служит
изначальное единство, прототип которого прежде всего полнее и
нагляднее всего как раз в слове и дан. Слово как предмет социальной
(исторической) науки о языке необходимо есть звук, сопряженный со смыслом
(чувственный знак), и смысл, запечатленный звуком (понимаемый смысл).
Это — единый объект в границах вышеуказанных пределов фонетического
и семасиологического.
В связи с этим и понятие «чувств» — артикуляции и языка —
претерпевает радикальную модификацию. Это уже ни в каком виде не факторы
языка; субъект, обнаруживающий в них свою деятельность, вообще
исчезает из поля зрения. Язык, оставаясь социальною вещью, правда,
толкуется динамически, как energeia, но в совершенно специфическом смысле,
главный признак которого в том, что energeia, будучи его объективною
сущностью, есть и его имманентная и единая константа. Необходимое
единство этой двусторонней, но нерасчленимой «энергии» Гумбольдт видит,
и он всячески обращает на него внимание. Он относит артикуляционное
чувство к «интеллектуальной области» (§ 10. S. 96), ибо оно направляется
на определенное значение. А с другой стороны, чувство языка есть, как мы
видели, «инстинктообразное предчувствие» «всей системы» звукового
материала и звуковых форм и даже прямо на него направляется, выбирая,
742
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
терпя или предпочитая тот или иной звук. И наконец, говоря об образовании
понятий (§ 11. S.109) по законам внутренней формы, Гумбольдт
подчеркивает, что это образование как бы (gleichsam) предшествует артикуляционному
чувству (ср. также S. 104), но в действительности такое «разделение имеет
место только для расчленения языка (Sprachzergliederung) и не может
рассматриваться как нечто существующее в природе».
Таким образом, при установке на конкретный язык сама эта
терминология должна быть призвана неудачною, перенесение ее из сферы иного
научного предмета ощущается непосредственно, и притом как препятствие,
для устранения которого нужны особые оговорки и напоминания. В конце
концов, ясно видно, что Гумбольдт сам употребляет термин «чувство
языка» в более узком смысле, когда оно противополагается
артикуляционному чувству как чувство внутренней формы, составляющее как бы один из
видов языкового сознания, руководящего употреблением внешних форм,
и в смысле более широком, объемлющем артикуляционное чувство, когда
последнее как бы включается в логический закон слова-понятия и вместе с
ним входит в единый акт единого языкового сознания, как «синтеза
синтезов». По-видимому, безопаснее здесь бы и говорить просто о едином
языковом сознании, направленном на такое же всеобщее единство своего
конкретного предмета, языка как такого в его собственной внутренней
самозаконности смыслового движения. Таким образом, обозначается, в
принципиальной установке, сфера языка, составляющего как, energia предмет
теоретической лингвистики. Языковое сознание как область конечного
языкового синтеза формирующих форм конкретно. В своей целостности оно есть
член более объемлющего целого — объективного культурного сознания,
связывающего слова единством смыслового содержания со всеми другими
культурными осуществлениями того же содержания. В отличие,
следовательно, от психологического субъектного единства это не есть
единство и система механического или органического природного процесса.
То, что отличает их, коренится в их онтических предметных особенностях.
С этой стороны, природа и язык — разные вещи, имеющие разную
историю1. Язык как социальная вещь сознается прежде всего в своих
сигнификативных, а не каузальных качествах. Как средство, как орудие язык
имеет свою техническую историю и через это входит в новый контекст
истории и техники других сигнификативных вещей и в то же время орудий,
потому что такому техническому развитию подлежит и искусство, и
экономика, и любой социальный орган. Но ясно, что изучение самой
Можно сказать, что и субъект как социальная вещь должен найти свое место в
эмпирической истории языка и, следовательно, должен стать одною из проблем
принципиального основания как истории, так и психологии. Это несомненно, и к
этому вопросу мы еще вернемся.
743
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
истории этой оставалось бы слепым без теоретического основания,
имеющего свое строгое принципиальное оправдание.
Возможность изучения языка как предмета в его
культурно-смысловом развитии, в его материальной диалектике и корелативно в его
социально-технической истории даст основание выделить в особую проблему
также законы, формы, приемы, правила самой техники. В порядке
эмпирическом это ориентированные на историю вопросы уточняющейся
эвристики, сменяющихся канонов, накопляющихся привычек, принятых правил
с принятыми же исключениями и т. п. — словом, вопросы пользования тем
орудием, которое называется словом и языком, вопросы грамматики,
синтаксиса, стилистики и других формальных техник. Конечно, и они
должны иметь свою принципиальную основу. И опять, эта основа — не в
деятельности, способностях и функциях субъекта, а в самом предмете и его
содержании. Субъект так же мало способен выткать из себя какую-либо
систему форм, по которым разольется текущее вне его, мимо него и над
ним смысловое содержание, как мало способно это последнее
предоставить в распоряжение субъекта не существующие в содержании формы.
Объективное языковое сознание есть сознание, содержание которого
изначально оформлено и непрерывно меняется не только сообразно
формам, но и в самих своих формах. «Образование понятий»,
словесно-логических форм есть спонтанный процесс самого смысла в его движении, а не
деятельность или продукт деятельности психологического субъекта.
Законы этого образования, формы этого формообразования, суть
логические основы всякой языковой техники, и сколько бы субъект ни трудился
над «употреблением» звуков для целей сообщения, он сам существует,
только подчиняясь объективным формам и законам этого употребления.
А потому и в соответствующем изучении этих законов он не проблема и
тем более не решение какой-либо проблемы, — он остается в стороне как
проблема чужой научной области, психологии. Но с его устранением из
сферы языковой предметности теряет смысл и последнее, им для себя
создаваемое противопоставление звуковой формы и «употребления», как
образования понятия по алгоритму внутренней формы. «Употребление» и
есть употребление звуковой формы слова; его законы суть внутренние
формы того же слова. Внутренние формы, как мы видели, суть
отношения, в которых термины — внешние звуковые формы и предметно
оформленное смысловое содержание. Коррелация знака и смысла есть живое и
текучее изменение, но оно есть отношение, подчиненное своему
диалектическому закону, или, вернее, оно есть постоянное проявление и
осуществление. Языковое сознание в самой последней основе своей и есть
словесно-логическое сознание закономерности жизни и развития языка в целом.
Аогика, учение о логосе, слове-понятии, здесь — последняя инстанция со
стороны словесных форм. Дальнейшее движение может идти только в
на744
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
правлении понимающего раскрытия самого содержания форм,
подчиненных безотносительным высшим формам, и его реальной, а не только
формальной диалектики. Каждый акт и каждая форма образования
слово-понятий подчиняются не только имманентным законам словесно-логического
целого, но и разумным законам реализуемого через них культурного
смысла. Это есть не только отбирающее творчество форм, но вместе это есть
также подлинное творчество самого живого слова как репрезентанта
культуры. Сознание внутренних формообразующих сил слова как источника и
возможности всякого сообщения и понимания есть вместе и применение
их к осуществлению культурного общения. Таким образом достигается
последнее конкретное объединение языкового предмета — в его
смысловой деятельности энергии, работе духа (energeia) и в его бытийном
социально-историческом становлении, ( ergon) в его качестве условия и в его
качестве средства общения, наконец, в его способности репрезентации всей
культуры, объединение, заключающееся в том, что само это становящееся
в культуре бытие находит свое разумное оправдание в осуществлении
разумного смысла по формам разума же. Здесь — принципиальный источник
всех реальных принципов.
Внутренняя поэтическая форма
...слово со стороны своих формальных качеств есть такой член в общем
культурном сознании, с которым другие его члены гомологичны. Другими
словами, это значит, что слово в своей формальной структуре есть
онтологический прообраз всякой культурно-социальной «вещи ». Превратить это
предположение в общее правило нетрудно, если обратить положение, что слово
есть культурно-социальная вещь, показав при этом, что признаки слова, как
культурно-социальной вещи, суть существенные признаки всякой
культурно-социальной вещи. Разумеется, речь идет только о формальных признаках.
И тогда ясно, что всем предшествующим именно эта теза и была раскрыта:
слово есть единственный совершенно всеобщий знак, которым может быть
заменен всякий другой знак, сколько мы вообще всякую социальную вещь
рассматриваем как знак. И это непосредственно вытекает также из того, что
слово как знак есть, во-вторых, средство общения, а во-первых — условие его.
Поэтому, какие бы модификации ни вносились в структуру социальной вещи
ее содержанием и функциями (политическими, художественными,
религиозными, и пр.), формально она всегда гомологична словесной структуре,
подобно тому, как признаются гомологичными руки, плавники и крылья
позвоночных. Поскольку логические формы отвечают вообще всяким
идеально-предметным формам, становится ясной почти безграничность того
обобщения, которому подвергается понятие внутренней формы. В анализе всякого
культурно-социального образования мы должны уметь выделить наряду с
745
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
формами внешнего запечатления и оптическими формами социального
предмета также всякий раз формы их взаимоотношения как формы реализации
смыслового содержания этого предмета, всякий раз особые внутренние
формы. И лишь последние как алгоритмы, то есть формы
методологического осуществления, способны раскрыть соответствующую организацию
«смысла» в его конкретном диалектическом процессе.
Здесь не место вскрывать реформирующее значение этого обобщения
во всей его широте и уяснить всю его принципиальную роль в
методологическом обосновании социальных наук. В нашем контексте это обобщение
интересно только со стороны одного возможного вывода из него:
применительно к искусству. Искусство есть социальный факт, подчиненный
своей особой сфере культурного, именно художественного сознания, — в
частности, следовательно, и поэзия как особый вид искусства с особого рода
поэтическим сознанием. Наш ближайший вопрос относится к этой
частности и особенности, но таково свойство предмета, что это совершенно
специальное обращение проливает свет на всю проблему структуры
художественного предмета.
Вопрос о поэзии и независимо от нашего обобщения иногда
формулируется как вопрос о поэтическом языке в отличие от языка
прагматического вообще. Сказанное обобщение принципиально оправдывает такую
постановку вопроса. Если мы попробуем углубиться в это различие, на
первый взгляд — очевидное, мы скоро убедимся, что все-таки элементы, из
которых складывается та и другая система языковых явлений, одни.
Действительное различие между ними обнаруживается только тогда, когда
одно целое противопоставляется другому. Но в то же время мы
убеждаемся еще в том, что, проводя наше противопоставление, мы сопоставляем
формально не совсем однородные вещи. Поэтический язык выступает
перед нами как внутренне цельная система, проявляющая себя как такую во
всяком данном поэтическом произведении. Произведение есть продукт
некоторого целемерного созидания, то есть словесного творчества,
руководимого не прагматическою задачею, а внутренней идеей самого
творчества, как sui generis деятельности сознания. И не что иное, как эта
целемерность, определяет собою поражающие нас единство и цельность. Оно же,
целемерное созидание, руководимое собственной идеей, есть тот признак,
по которому мы определяем поэзию как искусство в отличие от других
видов социально-культурного творчества, цели которого лежат в той же
сфере прагматического сознания. Именно это последнее обстоятельство
скрывает от нас творческий характер прагматического сознания, и нам
кажется, что в его сфере никаких творческих интенций как целемерных
устремлений не существует и, во всяком случае, они нам непосредственно
не даны. Нужно особое внимание к самому процессу и анализу его течения,
чтобы убедиться в его творческом характере.
746
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Только научный анализ вскрывает целемерные формы того, что мы
называем прагматическим языком, и раскрывает в нем грамматическую и
логическую систематичность. До этого непосредственно мы не замечаем
его как произведения, а скорее сопоставляем его с необходимо данными
феноменами самой природы, видим его только со стороны его
естественно-психологической, а не социально-культурной. Но раскрыв однажды его
творческую природу и осознав соответствующие интенции его, мы
противополагаем поэтическому языку систему прагматического языка в тех его
формах, где указанные интенции выражены полностью и ясно. Таким
образом, мы приходим к более определенному противопоставлению языка
поэтического и языка научного, или же поэтического и прозаического,
в последнем, затем выделяя также своего рода искусство — риторику,
с целями внутренними, где язык не только средство, и науку, где язык только
средство, а не прямая цель творчества. Проблематика здесь раскрывается
сама собою; всюду для нас остается ясным природа языка как
социальнокультурного целемерного созидания и произведения.
Сопоставляя теперь единства с единством, системы с системами, мы
убеждаемся, во-первых, в том, что прагматический язык, с интенциями ли
научными или риторическими, одинаково, можно сказать, пользуется
словом prima facie как средством и лишь побочно сознает его самодовлеющие
цели как культурного феномена, тогда как поэтический язык лишь вторично
осуществляет и прагматические цели, играет роль средств, а на первый план
выдвигает свои собственные внутренние цели саморазвития. Во-вторых, мы
убеждаемся в том, что именно это последнее обстоятельство делает
поэтический язык поэзию, искусством, то есть sui generis культурно-социальным
явлением, специфическим в сфере самого языка как такового, в его целом.
Теперь я могу, не опасаясь эквивокаций, поставить вопрос, к
уяснению которого перейду. Язык как такой, в его целом, имеет свои внутренние
законы, формы форм, в выше разъясненных внутренних логических
формах. В этом он прообраз всякого культурно-социального феномена,
который должен иметь свои гомологичные внутренние формы. Искусство есть
культурно-социальный феномен, который как средство выражения1,
между прочим, может служить также цели сообщения. Его роль в этом смысле
аналогична слову, и мы можем говорить соответственно о его внутренних
формах как подлинно логических. Но так как искусство имеет еще и
самодовлеющие культурные цели, не прагматические, то с этой точки зрения не
только каждое отдельное произведение искусства, но и каждое искусство
в целом может рассматриваться как средства нового, «высшего» еще
назначения. Другими словами, если можно сказать, что роль прагматического
Этот многозначный термин имеет применительно к различным искусствам разный
смысл. Различение этих смыслов — задача особого этюда.
747
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
средства кончается выполнением его «прагмы», то роль художественного
произведения как средства далеко не исчерпывается тем, что оно вошло в
культурно-социальную систему как некоторое исторически определенное
выражение, как простой исторический факт. Из этого видно, что даже
сообщающее искусство не покрывается одними логическими внутренними
формами. Оно должно иметь также свои особые, логические формы,
впрочем, также гомологичные, формы. Если мы найдем искусство, которое
никогда в своем «выражении » не служит цели сообщения, в таком искусстве
должны исчезнуть собственно логические внутренние формы и останутся одни
художественные. Если бы мы сделали само сообщение как такое
самодовлеющею целью и превратили бы его в своего рода искусство, сколько бы мы ни
вносили в него элементов и внешних форм, заимствованных от другого
искусства, сколько бы мы ни пользовались таким сообщением для прагматических
целей (моральное «воздействие », например, на воспринимающего сообщение),
оно было бы лишено подлинной внутренней художественной формы. А если
бы мы к тому же игнорировали и прагматические цели и, превратив средства
выражения в самоцель, стали бы культивировать их в их внешних качествах и
формах знака (звучности, созвучности, ритмичности, и т. п.), в их
«декоративности », доставляющей, быть может, непосредственную усладу и
развлекающее удовольствие, но служащей стимулом лишь к техническому
усовершению1 формы, мы ничего не получили бы, кроме враждебного подлинному
высокому искусству техницизма (в частности, эстетизма). Но если мы
найдем искусство, которое всегда является средством сообщения, но в то же
время не ограничивает своих задач целями последнего, а преследует также
названные самодовольные цели, то ясно, что такое искусство, подчиняясь законам
внутренних логических форм сообщении, в то же время будет руководиться
своими особыми, хотя, как сказано, и гомологичными логическими
художественными внутренними формами. Такова в идее поэзия как словесное
искусство. Она имеет логические внутренние формы, но вместе с тем и свои
особые, художественные, поэтические внутренние формы. И таково,
следовательно, общее положение вещей: как средство к прагматической цели,
всякое социальное явление имеет свои внутренние логические или им
гомологичные внутренние формы. Искусство не есть исключение из этого правила.
Но оно становится исключением, поскольку оно носит свои цели и в самом
себе, — тогда оно образует еще и вторую систему внутренних форм —
художественно-поэтических.
...На основании всего этого можно представить себе общий путь
языка в его внутреннем оформлении следующим образом. Первоначально язык
преодолевает неопределенную и темную область неразвитого ощущения
1 То есть улучшению, переделыванию на лучший лад (см.: Далъ В. Толковый словарь.
1955.T.IVC.513).
748
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
и, таким образом, интеллектуализирует всякое проходящее через
сознание содержание (cf. S. 211). Чем точнее определяются и устанавливаются
формы этой чистой интеллектуализации, чем полнее они захватывают
сообщаемое содержание, тем более обнаруживается, что его выражение
несет на себе также следы участия в этой работе человеческого посредства.
Индивид, нация не только передают объективные отношения предметных
содержаний, но вместе с тем отпечатлевают в способах своей творческой
передачи их свое собственное отношение к ним. Особые формы этого
отпечатления сами теперь становятся предметом внимания и заботы,
подчиняют себе интеллектуальные формы как свое внутреннее содержание и
преобразующе господствуют над ним, отрешая логические формы от их
первоначального определяющего отношения к объективному
действительному содержанию. Об этом мы говорили выше с точки зрения структуры
самого культурного сознания и места в нем фантазии. Мы глубже осветим
роль внутренних поэтических форм, если, следуя Гумбольдту, посмотрим
на языковое творчество с точки зрения человеческого посредника, стоящего
перед языком как средством, но вместе и как перед особым миром,
водруженным внутреннею работою духа между человеком и предметом (S. 217),
и отличным как от того, так и от другого (S. 258). Язык... посредствует не
только между человеком и мыслимою им действительностью, но также
между человеком и человеком. Это последнее отношение и должно быть
теперь раскрыто точнее.
От человека к человеку в языке передается, во-первых, все, что входит
в состав объективного содержания интеллектуальности, и, во-вторых, все
богатство индивидуальности. Последняя проявляется с совершенною
полнотою в поэзии. Первое для ее форм становится внутренним1
содержанием, но в собственных формах оно исчерпывается только как
интеллектуальное и объективное, всякий же нарост субъективного должен быть еще
подвергнут специальному оформлению. Его структура раскрывается,
следовательно, как структура самой субъективности. То, что относится к
последней, то, что служит содержанием не только простого сообщения, но что
еще воздействует на наше чувство, производит в широком смысле
впечатление как внешностью слова, так и отражающимся в ней
не-интеллектуальным содержанием, то, говорим мы, не может быть вмещено в чисто
интеллектуальные, логические формы. Не может быть вмещено, конечно, при
том очевидном условии, что оно не делается прямым предметом
сообщения. Ибо и оно ведь входит в состав действительности, образует в ней
самостоятельный конкретный член и, следовательно, вмещается как таковой в
чисто интеллектуальные формы сообщения. Такое прямое сообщение,
подВ отличие от звукового «содержания » речи, которое является чувственно («внешне »)
данным.
749
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
вергнуто обычному интеллектуально-логическому оформлению, заняло бы
свое место среди других объективных научных положений (психологии
и т. п.). Мы же говорим о тех формах речи, где к готовым логическим
формам сообщения присоединяются индивидуально и субъективно заложенные
впечатления, эмоции и т. п. Это — сообщения, может быть, передающие и ту
же действительность, но субъективным восприятием и переживанием
окрашенную и потому одному уже индивидуально претворенную.
«Преображенную » и «претворенную » значит не превращенную... в хаос мечтаний,
сновидений и бреда, а значит, наново оформленную по какому-то образу,
образцу и идеалу. «Образец», «идеал», «идеализация» по отношению к
действительности не указывают непременно на оценку, на возведение в
степень нравственного или материально-качественного порядка. Это
преобразование может быть преобразованием в сторону прекрасного,
возвышенного, героического, но также комического, карикатурного,
чудовищного и т. д. Идеал и образец значат здесь только то, что законы и
приемы, «способы» преобразования — не всецело субъективны в
смысле зависимости от капризно и случайно бегущих переживаний субъекта.
Субъект может быть свободен в выборе того или иного направления,
способа модификации изображаемой действительности, но изображением
выбранного способа он связывает и способ изображения, построения
поэтических форм, образования тропов. Он свободен, далее, в отборе для
них словесного и вообще изобразительного материала в каждом
индивидуальном случае, но этот последний уже подчинен закону целого и
осуществляемой им идеи художественности. Действительность
преображенная становится действительностью по своему бытию отрешенною, по
содержанию она может быть индивидуальною и субъективною, но по
форме, и в этом последнем случае, она все же объектна. Если
онтологические отношения действительности претерпевают здесь метаморфозу,
то все же отношения изображаемого толкуются в нем в виде отношений
как будто онтологических, квазионтологических. Такое же,
соответственно, квазилогическое значение имеют и поэтические, сообразные
идеалу тренированные формы.
Из этого одного сразу видна ошибочность того истолкования
внутренних поэтических форм, которое хочет видеть их источник в так
называемых законах творчества, понимаемых как законы душевной деятельности
творческого субъекта. Искусствоведы и в особенности литературоведы,
как известно, даже злоупотребляют этою ошибкою. Теперь легко открыть
ее источник. Общее рассуждение исходит здесь из двух предпосылок:
1, выделение субъективности как фактора в образовании поэтического
слова, 2, признание закономерности в этом образовании. Обе предпосылки
могут быть признаны верными, но надо верно их истолковать. Обычно
закономерность ищут в самом субъекте, а так как последний —
индивиду750
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ально или коллективно — понимается как психологический субъект, то
приходят к выводу, что психология должна решить все возникающие здесь
вопросы: поэтика есть психология поэтического творчества. Психология,
далее, есть естественная наука: поэзия, согласно такому заключению,
должна быть естественной функцией человеческого психофизического
организма. Такое заключение в корне противоречит тем предпосылкам
Гумбольдта, согласно которым поэзия есть функция языка, вернее, одно из
направлений в его развитии, а язык есть вещь социальная...
Место и определение субъекта1
Можно было бы варьировать и усложнять эмпирическое, в частности
психологическое, рассмотрение поэтического продукта, оно именно
субъектато и не может вскрыть, ибо естественно-научное изучение принципиально не
знает субъекта как субъекта, а знает только объект. Поэтика как учение о
внешних и внутренних формах поэтического слова не может быть построена на
психологии как науке о субъекте, поскольку объектом такой поэтики
является в культуре реализованная идея. Но она не может быть построена и на
психологическом изучении субъекта как объекта естествознания, поскольку
последнее отвлекается от субъекта как субъекта. Конкретное их единство
восстанавливается, когда мы рассматриваем поэтический продукт как
объективированного субъекта и последнего берем не в отвлеченном
естественно-научном аспекте, а в его живой роли посредника, через которого идея достигает
своей реализации. В этом аспекте поэтическое произведение есть
культурносоциальный факт, а субъект, поэт, культурно-социальный субъект — не голая
биологическая особь или психофизический индивид, а социальный феномен,
фокус сосредоточения социально-культурных влияний, конденсатор
социальной и культурной энергии (Гомер, Данте, Шекспир, Пушкин). При таком
аспекте и психология во всех ее видах, которые все, однако, тогда становятся
видами социальной психологии, оказывается не без пользы. Она
рассматривает субъекта не в натуралистическом отвлечении, а в его социальной роли
объективирования себя как социального субъекта, и субъективирования
сообщаемого им объективного содержания в объективных логических и поэтических
словесных формах, а равно и субъективирования присущей им объективной
силы воздействия.
При таком перенесении проблемы из сферы отвлеченно-естественного в
сферу социально-культурного исследования все акции и реакции субъекта
рассматриваются уже не как естественные рефлексы объекта в естественной
среде и на естественного раздражителя, а как культурно-социальные акты его
ШпетГ.Г. Внутренняя форма слова// Шпет Г.Г. Психология социального
бытия. Москва-Воронеж, 1996. С. 227-234.
751
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
переживаний, отпечатлевающихся на продуктах его труда и творчества,
объективирующихся в них. Мы исследуем теперь субъекта не как объект вообще
(объект — сам продукт творчества, например поэтическое произведение),
а как субъекта, опосредствовавшего этот продукт. Ни при каких условиях он
не может быть элиминирован. Он — объект, но совершенно специфический,
если угодно, со-объект. Попробуем, не упуская его из виду, произвести над
ним принципиальную редукцию с целью получения чистого, неэмпирического
предмета исследования. Каждый его акт есть, во-первых, его акт, а не просто
интенция в единстве сознания, и, во-вторых, каждый такой акт в установке
на субъекта (in qua) мы видим как акт, объективирующий субъекта в
процессе реализации объективной идеи, и можем легко убедиться, что все
(социальное) содержание субъекта исчерпывается совокупностью его
объективации. Пока мы понимаем последние не в смысле отвлеченного
естествознания, как причинные эффекты или как рефлексы, реакции, спонтанные
психические процессы и т. п., мы не подвинемся вперед, а лишь возвращаемся к
рассмотренному методу изучения.
Свойственные эмпирическому естествознанию отвлеченные навыки
мысли выдвигают здесь в чисто отвлеченном же порядке — соображение,
внешне как будто привлекательное. Именно, естествознание, трактующее
субъекта как организм или психобиологический индивид, изучает его в
виде более полном и богатом, так как оно имеет в виду не только
актуализованные действия его, но всю совокупность его потенциальных сил. В
особенности это относится к психологии с ее учением о характере,
темпераменте, способностях, задатках, сублиминальной сфере и т. д. Можно было
бы в той же отвлеченной плоскости развивать аргументацию и
контраргументацию ad libitum, но вполне безрезультатно. Чтобы обсуждение
вопроса действительно было плодотворно, не надо терять из виду конкретного
возникновения и постановки его. Нас интересует исключительно
конкретное поэтическое слово, данное как культурно-социальная вещь. В ней мы
открываем наличность субъективных моментов, и об этом субъекте,
объективированном в этой вещи, и лишь через это нам и данном, речь только и
идет. Предлагать вывести эту конкретную субъективность из безличных
потенций биологической и психофизической особи, значит, вернуться к
рассудочному мнимогеометрическому методу выведения модусов
действительности из гипотетически постулируемой субстанции. Возвращаться
сюда после Гегелевой критики всякой рассудочной дедукции и
схематизма можно лишь при неодолимой философской наивности. То самое
complementum, на котором сокрушился рассудочный рационализм, для нас
стало камнем, который сделался главою угла.
Ограничивая определение субъекта сообразно указанной цели его
социальной актуальностью, мы безмерно расширяем и обогащаем содержание его.
Там, где естествознание в своих обобщениях отбрасывает случайное и
единич752
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ное, как мы видели (223-224), анализ поэтического произведения как раз
выдвигает вопрос: нет ли в этом отбрасываемом своего единства и своей
закономерности? В правильно проведенной редукции, имеющей в виду самого
субъекта как такового, индивидуальное необходимо окажется и существенным.
Таким образом, формальному обогащению в направлении голой
потенциальности мы противопоставляем действительное материальное обогащение,
заключающееся в полноте социальной связи и культурного выражения
конкретного субъекта. К поразительным чертам этой связи — в отличие от
отвлеченного механического и химического взаимодействия среды и особи —
относится прежде всего то, что конкретный социальный субъект существует и
остается таковым лишь при условии признания его как социального субъекта
со стороны других признаваемых им субъектов и пока длится это признание1.
Здесь-то и сказывается глубокий смысл выделения в онтологическом порядке
субъектов как sui generis объектов из общего состава объектов
действительного бытия, следует тщательно наблюдать соотношение объектов как таких
и соотношение субъектов как таких, ибо в то время, как субъекты в отношении
к другим объектам остаются только объектами, субъекты в отношении друг
друга остаются также и субъектами независимо от того, испытывают они
воздействие или производят его сами.
Что касается полноты и богатства выражения, то их обоснование
вытекает непосредственно из определения социальной вещи как осмысленного знака
и в то же время как средства (орудия труда и творчества). На этом факте,
который ясен сам по себе, останавливаться не стоит, но нельзя не отметить
одной особенности, также поразительной и чреватой радикальными
выводами применительно к самим принципам науки. Лишь только мы признали
самого субъекта и, следовательно, все его субъектное за категорию социальную,
само естествознание в своем значении для нас претерпевает как бы
метаморфозу: чисто чувственное превращается на его глазах в
«чувственно-сверхчувственное», и мы заставляем естествознание служить нам совсем
по-новому. Биологическое и психофизическое сами приобретают социальный смысл,
и притом величайшим социальный смысл. Все акты биологической особи,
известные под абстрактными названиями рефлексов, реакций, импульсивных
движений, оказываются социально значимыми, как акты социального
подражания, симпатии, интонации, жестикуляции, мимики и т. д. Они оказываются
не только действующими и не только объективирующими, но при известных
условиях и реализующими (например, индивид как репрезентант коллектива
и его идеи). Психофизический аппарат превращается в
социально-культурный знак. Два конца одной цепи действительности — реальности соединились.
Переход от индивида к «группе», «коллективу» — не новое звено в цепи,
См. названную мою статью «Сознание и его собственник ». У Папини есть жуткий
рассказ, иллюстрирующий эту тему в психологическом аспекте.
753
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
а непреложная предпосылка самого единства ее. Индивид вышел из
одиночного заключения в своей черепной камере и стал свободным сочленом в
трудовом и творческом общении.
Итак, мы хотим сделать предметом принципиального анализа самого
субъекта как своего рода объект, и притом как «социальную вещь», но не в
качестве только средства, айв качестве также знака как такого и носителя
знаков. Мы можем спрашивать, как мы «приходим» к такому предмету, как
он нам дан, какие свойства онтологически существенны для него, — при
всяком таком вопросе, в целях ли формально онтологического определения, в
целях феноменологического описания или в целях смыслового анализа и
интерпретации, мы не можем уже упустить из виду самого субъекта, какие бы
нами ни производились редукции его случайной, временной и местной,
данности, обстановки и связей. Если среди существенных признаков субъекта мы
теперь устанавливаем сознание, сублиминальные потенции, творческие
способности и т. п., мы только тогда решаем проблему самого субъекта, а не
безличного «единства сознания », когда мы снабжаем соответствующее описание
неизъемлимым индексом принадлежности данной способности, состояния,
акта ему именно. Все его акты, и для него, как лица, безличных актов не
существует. По одному тому уже, что он есть «вещь» действительного мира и
бытия, эти акты также действительны, а поскольку эта действительность
отличается действенностью, они также — в отличие от «актов» чистого (не личного)
сознания — действенны и входят в общую связь действительной причинности.
Сознание субъекта, как и сам, есть часть действительности бытия.
Мы тотчас потеряем с трудом приобретенную почву под ногами, если
вновь поддадимся соблазну объяснить эту связь чисто натуралистически,
вернемся от субъекта к «особи ». Надо найти специфические признаки
связи, не упуская из виду социальной самости субъекта. Различение
сознательных актов субъекта по их качеству, материи и т. п., — каковым
различением может воспользоваться, например, психология, опираясь на
соответствующие феноменологические различения, — природы самого
субъекта нимало не раскрывает. Важно теперь, чтобы эти акты были
актами его самого, его принадлежностями, признаками и знаками, чтобы в них
сказывался он сам, однако не как причина — в действии или субстанция —
в проявлении, а только как сам субъект, в своей объективации. Критерием и
гарантией соблюдения именно такой научной позиции может и должно
служить то, что вообще дает нам возможность выделить субъекта как
социальную вещь. Субъект есть вещь, и всякий его акт — вещен (reel); он не
есть осуществляемая идея1, и никакой акт его не реализуется (real); если
Когда мы смотрим на субъекта как на реализованную идею, мы не видим субъекта
как такого, а видим только объективный осмысленный знак, совершенно
аналогичный объективно сообщающему слову.
754
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
мы приходим к нему как к данности, через «симпатию», «подражание»,
«симпатическое понимание», «вчувствование» или как еще, но не через
«восприятие», как приходим к вещи действительного мира («природы»),
и не через «понимание », как приходим к идее (смыслу), то и к каждому его
акту мы приходим тем же путем, а не «природным» или «идеальным», если,
наконец, для социального бытия субъекта существенно «признание» его
со стороны других субъектов, то то же самое относится и к бытию каждого
его акта; и т. д. и т. д.
Психология и физиология как естественные дисциплины характеризуют
акты психофизической особи еще как акты, обладающие интенсивностью
(силою), скоростью, повторяющимися формами координированного и
субординированного сочетания, и они готовы в этих характеристиках найти основу
для формального определения индивидуальных актов. Смысл
вышеуказанной метаморфозы природно данного в социально значимое в том, что всеми
этими определениями мы теперь можем воспользоваться, но при
непременном условии: возвращения в них того, что отнимает первоначальная
естественно-научная абстрагирующая предпосылка, то есть возвращения в них
элиминируемого ею социального субъекта. Психология, комбинируя свои
отвлеченно определяемые элементы в такие характеристики «души » или
«человека», «особи», как «умный» «злой» «трус» «раздражительный»,
«влюбчивый», «настойчивый», «сухой», «ревнивый», «мрачный», «веселый»,
возводит таким образом в характеристику особи преобладающие в ней отдельные
состояния и акты, а также специфические совокупности и корреляции их,
предполагая за их постоянством некоторого рода «потенции », «способности »,
«задатки ». Это-то предположение и делает их понятия в психологии
отвлеченными и формальными: она рассуждает о «трусости», «мрачности», «ревности»,
и т. д. в их безотносительной несамостоятельности. Стоит только мыслить
соответствующие состояния как признаки и в составе конкретно данных
объективации конкретно называемых субъектов индивидуальных,
Пушкин, Данте, Моцарт, или коллективных, человек эпохи Возрождения,
китаец, буржуа, романтик, и т. д., и они — не отвлеченные и формальные
причины или действия, а конкретные выражения. Самость субъектов здесь,
данных в конкретном имени, закрепляемых именем и признаваемых в
имени и по имени, не скользкий и ускользающий термин безличия: «я»,
«самосознание » и под., а вещь, социальная вещь. Конкретность ее в том, что «я »
здесь всегда некоторый имрек, не местоимение, а само имя субъекта, и
«самосознание » — не просто сознание себя как сущего, а себя как такого,
а не иного, и при том вместе с признанием того же со стороны других и с
сознанием этого признания.
Если идти не от социальной объективации субъекта к
естественно-научной отвлеченности, а обратно: подняться от последней к конкретно
переживаемому, то можно сказать, что естественное действие особи приобретает
соци755
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
альную значимость с момента, когда оно признается, принимается и
рассматривается как ее субъективное выражение. Тогда перед нами — не
автоматические «реакции», «импульсы», «рефлексы »и пр., а полные значения и жизни
«жесты», «мимика», «интонация» и пр. — то, что объемлется термином
«экспрессия». Именно здесь-то и сосредоточивается искомое нами
субъективное , здесь — подлинная сфера субъективности, здесь — все то, что дано, как
субъективное в творчестве, труде, искусстве, науке, поведении и пр.
Субъективное в слове, начиная с интонации данной фразы, через общую манеру
излагать свои «сообщения », вплоть до самых устойчивых форм
словесного приема, школы, стиля, всегда запечатлевается в виде экспрессивности
самого же слова. Обратно, экспрессия всегда субъективна, характерна и
лична — от самого малого мимолетного и до самого устойчивого, от
каприза или взволнованности момента до постоянства не только лица и
ближайшей его среды, но и эпохи, народа, культуры (например, когда говорим о
культуре «восточной» и «европейской»). Одно только надо помнить и
соблюдать как основной методологический принцип: субъективное в слове,
как его экспрессия, не есть смысл слова и не есть какая-либо
конститутивная форма этого смысла, а лишь характер и признак, присущие внешним,
чувственно данным формам слова, и указывающие на особое,
необъективно смысловое содержание слова. Это содержание есть объективированная
субъективность, которая не улавливается пониманием сообщаемого, не
мыслится в слове, а лишь чувствуется, как присутствие и характеристика
субъекта. Нужны другие особые высказывания и сообщения, чтобы
перевести это содержание в понимаемые, мыслимые слова, термины и
«образы», словом, чтобы это содержание сделалось также объективным
смысловым содержанием, научным, поэтическим или риторическим.
...Необходимо глубже войти в эту, хотя нетрудную, но несколько
запутанную область объектно-субъектных предметных взаимоотношений. В
итоге изложенного может показаться, что, невзирая на сделанную выше
декларацию, мы все же обеднили понятие субъективности и лишили проблему
субъекта того богатства, которое вкладывается в нее натуралистическим
определением. Нам могут сказать, что и в сфере предметных актов, как
устанавливающих, так и представляющих, можно констатировать
субъективность, и притом в вышеопределенном смысле содержания, исходящего
от самого субъекта как такого. Правда, предметное содержание как такое
остается от субъекта независимым, но зато состав его, прошедший через
сознание субъекта, через его «голову» и «руки», им отобранный, ставший
его достоянием, густо окрашен в цвет субъективности. Здесь также можно
видеть подлинную объективацию субъекта и даже, его и от него исходящие
границы, то есть некоторые формы. Может быть, он объективировался в
том или ином случае не полностью, но наверное можно сказать, что в
составе данного содержания не может быть больше того, что потенциально —
756
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
сознательно или сублиминально — содержится в самом субъекте. Это
содержание по составу есть простой запас представлений, теорий,
положений, предпосылок и предрассудков, и он иной у пастуха и астронома,
буржуа и аристократа, китайца и афинянина, Писарева и Достоевского в такой
же мере, как иные у них личные отношения к вещам и идеям. И далее,
поскольку мы здесь говорим о степенях, границах, мере, и т. п. этого
содержания, мы тем самым допускаем для него особые субъективные
формирования и формы. При этом нетрудно доказать, что такие формы
обусловливаются не только психологическими, антропологическими и
расово-биологическими причинами, но как того требует определение, и
чисто социальными. Так называемая техника в труде и творчестве как степень
умения, сноровки, искусности предполагает свою естественную
обусловленность в виде физической силы, душевной склонности, расового
предрасположения, наследственности и т. п., но она же предполагает и
социальную обусловленность, в которой естественные данные и задатки
проявляют свою силу и свое направление, обусловленность общим
уровнем культуры и социальной организации, выучки, традиции, школы и т. д.
Такая техника также есть своего рода формообразующая сила, и ее можно
рассматривать как средства и способы объективации себя субъектом и,
следовательно, как его собственное обладание и достояние.
Хотя подобного рода аргументация прямо апеллирует к определению
субъекта как социального субъекта, все-таки вся она построена на
предпосылках натуралистической методологии и имеет в виду субъекта не как
субъекта, не как специфический объект среди «естественных» объектов, а
как объект одного с ними порядка. Это видно из той роли, которую здесь
играют понятия причины, условии, обусловленности и т. п., которым мы
всюду противопоставляем методы и приемы анализа структуры, критики,
интерпретации. Мы хотим вычитать в слове, как и во всяком
культурносоциальном феномене, все, что в нем заключено как средстве и знаке
человеческого общения. Для социального глаза, с его «точки зрения», ничего
субъективного, что себя не объективировало бы, просто-напросто не
существует. Никакого обеднения или ограбления субъекта здесь нет, раз вне
социальной данности и признанности его как субъекта вообще и вовсе быть
не может, сколько бы ни существовало объектов под названием «animal»,
«homo», «антропос», «психе», «этнос»ит. д. Для социальной точки
зрения эти «вещи» как субъекты не даны, и они для нее — не вещи
(«социальные вещи»), а вещи в себе («социальные вещи в себе»), и не в смысле
запредельных, скрытых, окультно-трансцендентных «условий»,
«причин», «субстанций» и пр., а в категорическом смысле фикций и
недисциплинированно измышляемых головоломок. И это наше
утверждение — не своего рода социальный феноменализм, а подлинный социальный
реализм.
757
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Действительно, мы утверждаем, что субъект как социальный субъект
полностью выражается, объективируется в продуктах своего труда и
творчества и во всех, следовательно, таких актах, которые подобным же образом
материально запечатлеваются и только в силу этого признаются, узнаются,
наименовываются и пр., вообще социально существуют. «Выражение» как
объективацию надо понимать при этом возможно широко, так чтобы
считать ее средствами и способами не только положительные знаки, но,
например, и отсутствие тех или иных знаков, введение одних на место других
как в порядке замещения, так и в порядке скрывания их и т. д.
Действительное раскрытие субъективности в объективированных субъектом
«знаках» достигается из анализа их совокупности, так что каждый
«отдельный» знак должен быть включен в некоторое целое как его член. И только
непрерывно восходя от низших единств ко все более высоким, мы
захватываем субъекта во все большей его полноте. Наивно было бы думать, что
поэтическая субъективность поэта может быть полностью
объективирована, и обратно, вскрыта в данном его произведении или в группе их.
Полностью субъект-поэт объективирован лишь в полноте своего поэтического
творчества, в «полном собрании сочинений », каково на практике не
бывает. Но зато вне своих произведений поэт и не существует как поэт.
Замечания вроде того, что не все, что он мог бы сказать, им сказано, что многие его
мысли, чувства остались от нас скрытыми за его вынужденным молчанием,
за его смертью и т. п., имеют в виду или натуралистический подход к делу
или выходят за пределы данного субъекта как поэта и имеют в виду иные
его социальные ипостаси. Сама смерть, раз она фигурирует в качестве
аргумента, имеет разное значение применительно к антропологическому
индивиду и социальному субъекту: физическая смерть первого еще не
означает смерти его как социального субъекта. Последний живет, пока не
исчезло какое бы то ни было свидетельство его творчества. Поэтому, и
обратно, можно сказать, что и в каждом своем «отдельном» произведении
субъект дан целиком, но только субъект данного момента. Субъект
данного момента, и это надо подчеркнуть, значит данного произведения. В
другом произведении он — другой и в то же время в обоих — один и т. д. и т. д.
Не стану повторять, а лишь напомню, что под социальным субъектом
разумеется как субъект любого момента, любого отрезка времени и любой
совокупности объективации, так и любой структуры: личности, класса,
народа, школы, направления, течения и т. д.
Что же означают теперь «невыявленные» поэтические способности
или потенции? Если под этим понимают, что некий Н. не мог напечатать
своих стихов, но читал их своим друзьям, то социально он все-таки был, он
поэтически объективировал себя и, может быть, продолжает быть в
близком ему коллективе. Если же это значит, что он никогда и ни в чем этой
своей потенции не проявил, то это надо понимать, как сказано, в том
смыс758
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ле, что такого поэтического субъекта не существует и не существовало.
Однако, скажут, может случиться, что его поэтическая «потенция » все же
выразилась, но не в поэзии, а, например, в таких-то особенностях
оставленного им научного исследования подобно тому, как в лирическом ямбе
может прозвучать для нас политическое негодование автора, и тем
приоткрыть в нем политическую субъективность и т. п. Но это и есть переход к
другой ипостаси Н. Пока мы изучали его исследование, мы имели перед
собой объективированного субъекта, но в порядке социальном, субъекта
научного, нужно покинуть последнего, смотреть на поэтическую
объективацию, и мы найдем другого субъекта; точно так же, далее, может
последовать целая вереница их — за длинным рядом объективации разного
социального порядка, разных социальных категорий: поэт, натуралист,
царедворец, администратор и т. д. Однако во всех этих ипостасях — одно
социальное существо, один социальный субъект? Несомненно! Но мы
забыли за всеми этими рассуждениями, что ведь исходили мы от вопроса о
субъективности экспрессивного выражения в слове или в произведении
труда и творчества вообще. Мы в них искали субъективности и нашли, что
она привносится к объективному идейному содержанию и формам
названных «сообщений» как особая субъективная окраска их, как их
субъективация. А затем нашли и то, что эта субъективация и субъективность в этих
же сообщениях, в некоторых их «признаках» объективированы благодаря
особому посредству, благодаря тому, что всякое осуществление требует
кроме осуществляемого еще и осуществителя. Последний оказался sui
generis социальною вещью, и то, к чему мы пришли, есть уже рассмотрение
самой этой вещи как объекта среди других объектов вообще, а не как
субъекта в качестве специфического объекта, субъективировавшего
данное «сообщение».
Переход, который, таким образом, нами совершен, прост и натурален.
Но также должно быть просто и то, что этот переход есть переход от
субъективности произведения к объективности его творца. Пока субъект
чувствовался, симпатически или конгениально постигался, улавливался в
экспрессии слова, он был субъектом его, но лишь только он стал предметом
анализа, рассуждения и пр., он и остается предметом, объективным
содержанием новой установки. Пусть мы сказали только, что в данной
экспрессии мы видим больше чем мгновенную нежность поэта, мы уже говорим о
социальной вещи как объекте, о поэте, который обладает не только
нежностью, не только мгновенною и т. д. Мы услыхали в этой нежности
искренность его любви, или манеру литературной школы, или еще что, — и
останавливаем на этом свой анализирующий вопрос, и мы тем самым вышли из
созерцания или слушания данного произведения. Мы — в нем, пока мы его
воспринимаем как поэтическое произведение, мы вне его, когда
интересуемся другою социально-культурною или природною вещью, будет ли она
759
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
наша забота о завтрашнем дне, тревога о неоплаченном счете, решение
математической задачи или интерес к автору только что читанной и только
что отброшенной в мысли поэмы. Разница интереса к «автору» от прочих
интересов может казаться более «естественной », «необходимой », но
принципиально она одного порядка с самым неестественным и случайным:
установка внимания перешла из сферы художественной в сферу иную.
Сфера автора как социального феномена есть его жизнь, биография. Если
переход от художественного восприятия поэмы к житейскому или
научному интересу, возбуждаемому автором, есть переход от одной установки
к принципиально иной, то переход от «поэта» к «человеку», от субъекта
данной объективации к нему же в других его объективациях, к полному его
облику, как объективного социального феномена, уже совершается в
одной принципиальной установке. Так же точно, в той же предметной
установке, идет и дальше интерес к его среде, социальным условиям,
исторической обстановке и т. д.
Сколько это относится к субъекту и к тем формообразующим
началам содержания, которые характеризуются натуралистически, как его
способности, потенции, одаренность, талант и т. п. и которые социально
развиваются в его техническую сноровку, уменье, искусность, столько же все
это относится и к самому содержанию как такому, к его материальному
составу и качеству этого состава. Это содержание считается
субъективным в силу того соображения, что оно есть обладание и достояние самого
субъекта. Но нужно выделить два оттенка в значении понятия
«обладание»: первый, когда обладание означает владение чем-нибудь в смысле
постоянной возможности им пользоваться, соответствующее же
содержание есть объект пользования, но не как часть субъекта, им владеющего, не
как его орган и тем более не как его функция, а только как материал,
и второй, когда обладание означает неотъемлемую принадлежность,
некоторую органическую часть обладателя, его орган и даже функцию, часть,
которая вследствие этого становится признаком и знаком субъекта, так
что без такого признака он делается ущербным или даже вовсе перестает
быть собою. Когда в установлении субъективности мы говорили о знаках
экспрессии как принадлежности субъекта, мы имели в виду второй оттенок;
вышеприведенные соображения о субъективности состава содержания,
принадлежащего субъекту, исходят из первого представления. Содержание субъекта,
богатое или ограниченное, возвышенное или мещанское, шекспировское или
китайское, отнюдь не есть субъективность в таком же смысле, как
отношение соответствующего субъекта ко всякому содержанию и в первую очередь
к своему собственному владению. Здесь верно только то, что запас
содержания субъекта и отношение субъекта к этому содержанию тесно связаны
именно потому, что все это содержание прошло через «голову» субъекта. Но ясно,
что сходное содержание может вызвать разное отношение к себе со
сторо760
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ны мещанина и рыцаря, циника и романтика, как и разное содержание
может вызвать к себе сходное отношение со стороны китайца и европейца.
Запас «содержания », его объем и качество, не есть субъективность в
смысле признака и принадлежности как характеристика субъекта как такового,
а есть характеристика его как социального объекта, обусловленного
социальным целым, зависимого от него и ограниченного им. Правильнее и
осторожнее здесь было бы говорить о социально-культурной
относительности самого субъекта как специфического объекта, отнюдь не определимой
по экспрессии его слова, а устанавливаемой объективно на основании
объективных данных биографии лица, материальной, бытовой и культурной
истории коллектива и т. д., как уже было сказано1.
При всяком переходе от экспрессии как объективированной
субъективности к субъекту как «автору», в смысле самостоятельной социальной и
исторической вещи, понятие субъекта настолько «обогащается » по сравнению с
натуралистическими его определениями, что это должно служить
предостережением против всякой попытки внести натурализм в изучение социального
предмета. Тем более что, как указывалось, социальная установка на субъекта
как предмет изучения вызывает метаморфозу и в натуралистическом
подходе, превращая, в частности, психологию в социальную психологию. Дело в том,
что, когда мы приходим к установлению субъекта социального как
социальной вещи, то последняя тем самым дана нам, как дается всякий социальный
феномен, то есть мы видим перед собою не только посредника,
осуществляющего идею и в осуществляемом объективирующего себя, но также, как на
всяком социальном феномене, реализацию некоторой идеи. Лицо субъекта
выступает как некоторого рода репрезентант, представитель, «иллюстрация»,
знак общего смыслового содержания, слово (в его широчайшем
символическом смысле архетипа всякого социально-культурного явления) со своим
смыслом (Цезарь — знак, «слово», символ и репрезентант цезаризма, Ленин —
коммунизма и т. п.). Если субъект, как такое слово, в своем смысле, изучается
по продуктам своего творчества, то такое изучение есть изучение
объективного содержания, смысла соответствующей продукции. Экспрессия его
собственных слов, его творчества, здесь — не источник, так как ее
определение — всецело субъективно. И мы теперь легко можем убедиться также в
многократности субъекта, которая вытекает из того, что субъект как
репрезентант репрезентирует и себя лично в целом, и свой класс, и свой народ, и т. д.
И если в каждой своей ипостаси субъект обнаруживает также отношение к
людям и вещам, то, поскольку это отражается в экспрессии его творчества и
поведения, объективации себя, экспрессия — действительный источник
изучения субъекта как субъекта.
Ср. интересную попытку вскрыть проблематику биографии как предмета науки в
недавно вышедшей книге: Винокур Г. Биография и культура. М.: Изд. ГАХН, 1927.
761
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ВВЕДЕНИЕ В ЭТНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Применительно к этнической психологии все1 сказанное можно
представить себе следующим образом. В разнообразнейших формах
выражения, в словах, рисунке, постройке, костюме, в учреждениях, актах,
документах — словом, во всем, что мы называем «продуктами культуры», мы
различаем как их действительное значение некоторое предметное
содержание. Мы усматриваем в этих предметах их коллективную природу,
состоящую из сложной системы организации, раскрытие которой и
составляет задачу философской онтологической науки об этих значениях,
основной для всех остальных наук об них. Поскольку система «идей»,
составляющая содержание этой науки, осуществляется в своих реальных
формах, мы имеем дело прежде всего с общей наукой о них как о формах
социальных, с социологией, и затем с системой специальных наук,
обнимающих различные конкретные сферы или области социального.
Материально «овеществленное» содержание социальной жизни распределяется
между «историями» этих областей, в идее составляющими общую
историю, к которой тесно примыкает этнология, первоначально ограниченная
«доисторическим», а теперь в некоторых отношениях соперничающая с
самой историей; возможно, что их различие — преимущественно
методологическое.
Переживание свидетелем проходящих перед его глазами социальных
событий как непосредственный ряд реакций на эти последние составляет
второй порядок «значений». В силу особенностей этого вида
коллективности, как я уже говорил, мы не можем иначе их фиксировать, как только
связывая их с развертывающимися перед переживающим субъектом
событиями, соотнося их к этим последним. Вот почему здесь и получается
группировка содержания под «объективными» заголовками: язык, миф,
рыцарство, эпоха Возрождения, культ, война и т. п. Эти заголовки суть
указания на «идеи», объединяющие не только «объективированное»
содержание, но и психологическую реакцию на него. Это суть истинные и
действительные единства коллективной душевной жизни, а отнюдь не сходство
психофизических организмов народов, эпох или групп населения.
Функциональное или морфологическое сходство организмов или его
особенности сказываются на самой реакции человека, и они — предмет общей
объяснительной, в частности генетической, психологии. Здесь же речь идет о
самих переживаниях, сходных у наблюдателей происходящего перед ними.
Как бы эти наблюдатели ни были индивидуально различны по отношению к
определенному событию или порядку событий, можно найти общное в их
Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию// Шпет Г.Г. Соч. М., 1989. С. 563-574.
762
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
реакциях на него. Это общное мы составляем по признакам,
принадлежащим разным индивидам, но по отношению к данной сфере событий —
языковых, религиозных, политически и проч. — каждый из них является
репрезентантом всей реагирующей группы. И каждый отражает в себе
коллективность самой группы, так как с каждым членом ее он находится в
более или менее близком контакте, испытывает на себе его влияние,
внушение, подражает ему, сочувствует и т. п. Мало того, каждый член группы,
опять в большей или меньшей степени, носит в себе духовную
коллективность, известную под названием традиций, преданий, которые также
можно рассматривать как систему духовных сил, определяющих настоящие
переживания, впечатления и реакции индивида. Каждый живой индивид
поэтому есть sui generis коллектив переживаний, где его личные
переживания предопределяются всей массою апперцепции, составляющей
коллективность переживаний его рода, т. е. как его современников, так и его
предков. В целом коллектив переживаний, носимый в себе индивидом, можно
обозначить как его духовный уклад, и вот в чем мы ищем «значений
второго порядка ». Но обычно в изображениях духовного состояния группы
данного места и времени мы берем даже не отдельных индивидов, а из
«фрагментов» различных индивидов составляем цельный идеальный образ, тип
эпохи, народа и проч. Эти типы суть типы духовных укладов. Как предмет
изучения они составляют предмет психологии, которой правильное
название, по предмету, определяющему душевные переживания, есть социальная
психология («статическая »). Только в отношении к ней определяется
точное место и предмет психологии «динамической»: и исторической, и
этнической, так точно, как в отношении к социологии определяется место и
предмет истории и этнологии.
Резкое разграничение наук социологии и социальной психологии,
этнологии и этнической психологии не следует принимать как отнесение
предметов и содержания этих наук к несравнимо разным сферам
реального. Напротив, как я неоднократно подчеркивал, реально мы имеем дело
с жизненным конкретным единством, проникнутым реальным же
взаимодействием, и это кардинальное единство жизни нисколько не
уничтожается распределением его для цели изучения по разным научным
областям. Мало того, вышеназванная основная философская наука только на
это единство, в его сущности и идее, и направляется, т. е., следовательно,
она одинаково основная и для социологии, и для социальной психологии,
а сами эти науки находятся между собою в отношении взаимодействия и
взаимной помощи. Сколь опасно для научной работы смешение таких
взаимодействующих задач, столько же бесполезно для нее возведение
абстрактных «частей » в реально самостоятельные области бытия.
Представление, будто эти две раздельные области действительности изучаются
двумя рядом стоящими науками-половинками, например этнологией и
763
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
этнической психологией, так что стоит потом эти половинки «сложить» и
получится «целое »,— это представление так же мало соответствует
действительности, как и то представление, которое так настойчиво
выдвигает Вундт, будто мы имеем дело с двумя подходами к одному и тому же,
с двумя «точками зрения»1. В сущности это отражение одного из
предрассудков натуралистической психологии, будто «человек состоит из
души и тела»,— любимая сентенция моралистов всех времен, как будто
это две части, так прилаженные друг к другу, как прилажено перо к ручке
или руль к лодке.
Человек есть человек, и в своих переживаниях он переживает —
воспринимает, ненавидит, любит, боится, помнит и проч., и проч. — или
природу, или себя, или других, — это и есть его психология. Этническая
психология в этом смысле не ограничена по объекту: отношение человека к
природе, себе или культуре — все равно ее объект. Поэтому-то
совокупность переживаний и может быть делима соответственно объекту их;
частных вопросов здесь может быть бесконечное число; как человек
переживает бога, семью, грозу, войну и т. д. Этническая психология с пользой может,
следовательно, заимствовать из этнологии классификацию объектов
последней и только спрашивать: как это переживается человеком? Напротив,
ее относительная самостоятельность как психологии скажется в том, что
она спрашивает: как переживает первобытный человек или человек данной
эпохи любовь, страх, наслаждение и проч. — т. е., что он любит, чего
боится, чему поклоняется и т. п.?
Обобщая все сказанное в определение этнической психологии, мы
приходим к результату: этническая психология имеет предметом второй
порядок «значений » в анализе «выражения» или конкретный духовный
уклад человека.
«Духовный уклад» человека, народа, группы в своем реальном бытии
своеобразно сочетается и переплетается с другими реальными «силами»
исторической действительности и составляет, бесспорно, фактор среди
других факторов ее. Дело историка или социолога — учесть значение этого
фактора и при случае воспользоваться им для объяснения того или иного
Так, между прочим, представляет дело и Мюнстерберг — одна и та же
действительность изучается с двух различных точек зрения: это — социальная психология
и социальная физиология; стоит их сложить вместе, и получится социология!..
(Münsterberg H. Grandzüge der Psychologie. В. I. Lpz., 1900. S. 133) Будто науки —
книги, которые можно переплести в один переплет... Вообще, нужно отметить, что
нередко «точка зрения » — только refugium ignaviae в области мысли. Или «точка
зрения » имеет какое-нибудь предметное основание, и тогда надо его раскрыть, или
она — порождение каприза, с которым нужно считаться, быть может, в любовном,
но не в научном порядке.
764
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
события исторической жизни. Но было бы совершенно превратным
пониманием этнической психологии, если бы мы из этого сделали заключение,
что этническая психология вообще призвана быть объяснительной наукой
по отношению к истории. Со своей стороны история также только
«случайно» может объяснять те или иные явления народного духа, хотя,
несомненно, именно история создает предметную ориентировку душевных
переживаний человечества, она устанавливает вехи, обозначающие путь
«духа». Но, во всяком случае, мне представляется менее односторонним и
менее ошибочным утверждение, что «развитие духа» «объясняется» его
историей, — несмотря на тавтологичность такого утверждения, — чем
провозглашение общей (индивидуальной) психологии «основою» этнической
психологии, которая, таким образом, является «продолжением и
расширением» индивидуальной психологии и, следовательно, должна быть
сводима к психофизическим законам и объяснениям.
В требовании, чтобы этническая психология была объяснительной
наукой, сказывается ряд методологических предрассудков логики XIX века.
Прежде всего, это — предрассудок, будто «образцом» для всякой науки
является «математическое естествознание», а затем — будто психология
в каком-нибудь смысле является «основною наукой». В особенности
последнее убеждение мало способствовало уяснению смысла естественных
наук и оказало роковое, до сих пор длящееся отрицательное влияние на
уразумение так называемых наук о духе. Наконец, в частности для
этнической психологии, оказалось вредным предубеждение о мнимом
параллелизме методов этнологии и этнической психологии. Из того, что есть
постоянное и во всяком пункте соответствие между социальными
процессами и их переживанием у человека, никак нельзя делать вывода, что обе
«стороны» должны изучаться аналогичными методами. Не может быть
сомнения, что идея этого параллелизма внушена идеей психофизического
параллелизма, в сущности ненужного метафизически и неприемлемого
эмпирически. Эмпирически душевная жизнь человека представляет ни к
чему не сводимое и ни с чем не сравнимое своеобразие; «параллелизм»,
прилагаемый к объяснению душевных явлений, дает только лишний повод
к их «овеществлению» и, следовательно, к затемнению их своеобразия.
История только в том смысле может быть сопоставлена с развитием
«духа», что по богатству ее содержания мы узнаем богатство
человеческого духа: эксперимент, самонаблюдение суть методы психологического
изучения, а не источники знаний, и их не к чему было бы прилагать, если бы не
было истории, — только в истории человек узнает самого себя.
Однако этим не может быть оправдано и то утверждение, будто
история является основою этнической психологии. Но об этом уже была речь,
и мы пришли к выводу, что единственным основанием этнической
психологии должна быть признана «чистая» и всеобщая семасиология. После
765
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
разъяснений, сделанных о предмете этнической психологии как о
значениях второго порядка мне хотелось бы только добавить несколько замечаний
и предупреждение возможных недоразумений, повод к которым может
дать двойственное размещение учения о языке, с одной стороны, в
«основе» этнической психологии, а с другой стороны, в качестве одной из ее
собственных проблем.
Во вступительной статье к своему журналу, на которой мы уже
останавливались, Лацарус и Штейнталь, перечисляя вопросы этнической
психологии, характеризуют свои задачи по отношению к ним. В идее их
журнала — связать изучение этнической психологии и науки о языке — как бы
провиденциально заключается действительно замечательная мысль,
полный отчет в которой авторы себе не отдавали, но которая сделала тем не
менее их работу весьма продуктивною1. Как ясно из всего мною
изложенного, изучение языка представляет особое значение для этнической
психологии, так как оно прежде всего дает образец для изучения всех других
форм «выражения». «Язык» есть проблема в этом смысле философская;
философское изучение «языка» есть основа изучения всех выражений со
значениями. Но рядом с этим «язык » как продукт культуры, как сама
культура как одна из форм социального взаимодействия есть проблема
эмпирических наук, в том числе и этнологии, в том числе и этнической
психологии. Философский способ изучения языка имеет всеобщее значение;
языкознание, так называемое сравнительное, или история языка имеют уже
более ограниченное значение, так как здесь изучаются эмпирические
формы языков и их «законы », задачи этнологии еще уже в сущности —
доставлять материал для специальной науки о языке. Но в чем же задачи
этической психологии? Если я прав, то как раз в сфере изучения языка этническая
психология покажется самой бедной по содержанию,— весь вопрос
сводится к тому у как переживается язык как социальное явление данным
народом в данное время? Может показаться, что тут и материала для
ответа нет, особенно по сравнению с тем, как переживаются, например,
религиозные движения, смерть близких, войны, политические революции и т. п.
Что на деле все же материал есть, нетрудно видеть из исторических
примеров, где «возрождение» нации всегда связывается с особенно любовными
заботами о своем языке, о его чистоте и проч. Стоит вспомнить борьбу за
Общая мысль авторов этнической психологии о языке как выражении и даже
признаке нации стала популярна в XIX в. под влиянием Гердера и в особенности со
времени известных Речей к немецкой нации Фихте. Научное значение эта мысль
приобрела в трудах В. Гумбольдта. Но как наблюдение эта мысль весьма старая.
В Строматах Климента Александрийского я нашел следующую отметку: «Язык
определяют так, что "это-де есть способ выражения мыслей, отлитой соответственно
характеру народа" »(рус. пер. 1892. Кн. VI. Гл. 15.Стлб. 747).
766
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
свой язык в немецком ученом мире XVIII века или заботы о своем языке
польского народа с конца XIX века, украинцев — в настоящее время и т. п.,
чтобы увидеть, что здесь есть интересный материал для социальной
психологии. Но само собою разумеется, что сюда же относится и та смена
«представлений » и чувств, связанных просто со словом и его значением, которая
совершается вместе со сменой поколений и которая так неточно
обозначается часто как «изменение значения ». Именно здесь язык из частного
предмета, из повода к переживанию становится уже «образцом», основою и
источником этнической психологии.
Рядом с проблемой языка в этом смысле встают и другие проблемы
этнической психологии. Мысль, будто таких проблем еще две — мифы и
обычаи, как думает Вундт, не имеет за собой и тени основания, ибо исходит
из совершенно наивной аналогии между индивидуальной и народной
душой. Описательная этническая психология может выделить любой тип
«переживания » и сделать его объектом своего изучения и как совершенно
«отдельный» факт, и как член какой угодно сложной классификации.
Типологические построения этнической психологии, разумеется,
должны подчиняться методологии «типа», т. е. она не ограничивается
классификацией, а от простых и отдельно взятых типов переходит к сложным
формам, корреляциям и структурам конкретных отношений, берет их не
только в систематически классификационном делении, но также в делении
по эпохам и периодам и проч. При всей систематичности этого метода,
однако, остается большая свобода в составлении самих типов, а равным
образом и в изучении непосредственно данных единичных фактов.
Эта свобода этнической психологии в конструкции ее «типов»
объясняет и тот факт, что та явно несостоятельная аналогия между
группировкой ее проблем и случайной классификацией отвлеченно-общей
психологии, которую поддерживает Вундт, тем не менее должна же была иметь по
крайней мере повод в действительности. Показательно, что и критики
Вундта отмечали не столько методологическую абсурдность этой аналогии,
сколько ее ограниченность. Дело в том, что, как ни старается иногда
психология уподобиться естествознанию в собственном смысле, создавая
отвлеченно-общие объяснения и законы, по самому существу ее материала
всякое ее понятие не есть логическая абстракция, а есть типическая черта,
которая естественно и легко превращается в обозначение «характера ». Так,
«рассудочный», «эмоциональный» и «волевой »характеры легко
понимаются нами как определения «типов» совершенно конкретных и полных.
Эта полнота типа никак не зависит от места соответствующего
«характера» в классификациях общей психологии. Так, возникающие с точки
зрения общей психологии от более «частных» классов душевных явлений типы
«религиозный», «эстетический», «моральный» не суть как характеры
«проще» или «отвлеченнее» других «типов». Методологические особенности
767
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
этнической психологии в этом направлении можно сопоставлять с
особенностями «дифференциальной» психологии, с той разницей, что
дифференциальная психология строит свои типы по самим душевным качествам, а этническая
психология по их историческим детерминантам; что, затем, «типы»
дифференциальной психологии суть все же типы психофизические, а типы
этнической психологии — чисто психологические; что, наконец, «диспозиции»
дифференциальной психологии — индивидуальны, а «духовный уклад» в
этнической психологии — определенно коллективен1. Этот параллелизм в
методологическом отношении дифференциальной психологии и этнической
вполне понятен, если принять во внимание типологические приемы, одинаково
применимые в конструкциях обеих наук.
Но, с другой стороны, такая свобода построения типов в этнической
психологии не дает ли лишний аргумент в пользу противников самого ее
наименования? Какое основание у нас есть для названия некоторого
отдела психологии этнической психологией, и не правильнее ли сохранить одно
только общее название социальной психологии? Формальный аргумент в
защиту самостоятельной области этнической психологии мною уже, в
сущности, приведен: психология в своих классификациях может исходить из
классификации исторических и этнических детерминантов душевной
жизни коллективного человека, но может брать темы, исходя и из
характеристики самих переживаний как таких. Последние рассуждения необходимо
будут носить более формальный характер, тогда как первые — по
существу наглядны. Этим оправдывается противопоставление, где, с одной
стороны, помещается социальная психология, с другой — историческая и
этническая; и я подчеркиваю здесь внутреннее родство этого противопоставления с
противопоставлением социологии— истории с этнологией. Здесь может
показаться только произвольным еще новое противопоставление
психологии «исторической »2и «этнической » — не есть ли это опять два новых типа
психологии? Методологически, конечно, нет, и, мне кажется, нет большой
беды в пользовании этими терминами promiscue. Они только отражают
положение вещей в самой истории как науке: пока считалось удобным
противопоставлять этнологию как науку о доисторическом человеке истории,
казалось, что мы имеем дело не только с двумя эмпирически раздельными
объектами, но и методологически — с принципиально различными
сфераСр. к этому Stern W. Die differentielle Psychologic Lpz., 1911, в особенности: Кар.
XII. S. 168 ff. Клейнпетер весьма упрощает дело, сводя этническую психологию
чуть ли не к главе дифференциальной психологии. Впрочем, все это изображение
задач этнической психологии крайне превратно. Kleinpeter H. Vorträge zur
Einfährung in die Psychologie. Lpz., 1914. S. 384 ff.
Термин «историческая психология » встречается и у Лацаруса. См. его ст. Einige
syntetische Gedanken zur Volkerpsychologie. Z (eitschrift...)-HI.-<S.>3.
768
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ми. Но едва ли это резкое разделение соответствует современному
состоянию науки и видным уже ее перспективам в будущем1. Mutatis mutandis то
же повторяется и в отношении исторической и этнической психологии.
Но мне не хотелось бы ограничиваться только этим формальным
аргументом, и укажу еще некоторые более принципиальные соображения в
пользу термина этническая психология. Прежде всего следует обратить
внимание на принципиальное значение эволюции в изучении исторически
подвижных психологических типов. Вопрос это, разумеется, большой и
трудный. Может быть спорно само приложение термина «эволюция» к
психологической жизни человека, как оно спорно и в приложении к
истории, так как с ним легко привносятся весьма поверхностные и чрезвычайно
вредные аналогии исторической и духовной жизни с жизнью
органической. Напротив, меньше всего я представляю себе «развитие» душевной
жизни индивида и духовной жизни коллектива в виде непрерывного и
планомерного органического развития, «эволюции ».Духовная жизнь
человечества, как и душевная жизнь человека, идет диалектическими толчками и
скачками, периодами медленного накопления «душевной энергии» и
внезапных «взрывов», революций, покорной душевной податливости или
восприимчивости и бурного сопротивления, творческого разрушения того, что
так трудно и медленно накапливается, и нового ленивого или
легкомысленного созидания. Душевная жизнь человека и тем более духовная жизнь
человечества — чудовищная фантасмагория, кошмар, а не планомерная
эволюция семени, передаваемого и воспринимаемого по законам природы
и в назначенные ею сроки. Тем не менее, а может быть, именно поэтому,
проникновение в тайны душевных движений так настойчиво требует
вопроса: когда и как это началось? И это одинаково относится к созданию
индивидуальных «диспозиций» и коллективных «укладов». Не важно,
будем ли мы это называть «эволюцией» или как-нибудь иначе, важно только,
что во всяком моменте исторической жизни есть свои «начала» (initia) или
«зачинания », и если этническая психология своим названием указывает на
этот свой эволюционный характер, это есть название вполне правомерное.
Можно еще возразить, и так возражают, что указание на «народ» в
названии этнической психологии потому не соответствует делу, что уже прошло
то время, когда «народ» являлся «зачинателем», что уже теперь другие
коллективные группировки играют определяющую роль в жизни
коллектива и что тем более в будущем мы можем ожидать еще новых
определенных коллективных форм. Но это вопрос новый и, как ясно, не
методологический и в вопросах методологии серьезного значения не имеет. Такое
указание или требует исходить из конца, где говорится о «начале», или
Интересны указания, которые по этому вопросу делает F. Grabner. Methode der
Ethnologie. H<eidelberg>, 1911 (S. 3 f.; 71 ff.).
25 Российская психология
769
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
предвосхищает будущие факты, вместо того чтобы исходить из данных,—
и кто знает, какому еще коллективу в будущем человечество даст титул
«этнос» (народ).
Здесь кстати вспомнить то соображение Лацаруса — Штейнталя о
народе, к которому я выше обещал вернуться. «Расу и племя человека
исследователь определяет объективно; народ человек определяет для себя
субъективно, он причисляет себя к нему; мы спрашиваем человека, к
какому народу он себя причисляет». И далее прекрасная мысль: «Народ есть
духовное произведение индивидов, которые принадлежат к нему; они — не
народ, а они его только непрерывно творят. Выражаясь точнее, народ есть
первый продукт народного духа; так как именно не как индивиды творят
индивиды народ, а поскольку они уничтожают свое отъединение».
Этническая психология есть описательная типологическая наука, она
ищет не логического общего верховного понятия для своих категорий,
а такого понятия, которое, представляя, в свою очередь, общный тип,
общно объединяло бы в себе как в высшем типе коллектива все типы
человеческих переживаний, определяемых по языку, верованиям, обычаям,
искусству, мировоззрениям и проч., и проч. Народ есть такое всегда создающееся
историческое целое. Народ в этом смысле есть прямая задача этнической
психологии, которой подчинены все частные ее задачи как составные
элементы этого целого в их текущих, исторически меняющихся
соотношениях и взаимодействии. Народ есть прежде всего историческая категория,
его возникновение, как и вся его жизнь, определяются конкретно в
исторических терминах; сознание народа, что он есть этот народ, есть объект
этнической психологии как особое переживание: «народности »,
национальности и т. п., каковые термины являются уже категориями чисто
психологическими. Анализ этого переживания показывает, что все его содержание
складывается из присвоения себе известных исторических и социальных
взаимоотношений и в противопоставлении их другим народам. «Духовный
уклад» народа есть величина меняющаяся, но неизменно присутствующая
при всяком полном социальном переживании. Духовное богатство
индивида есть прошлое народа, к которому он сам себя причисляет. Однако не
произвольно, не только «субъективно», — или, вернее, индивид сам себя
причисляет «субъективно» — но мы можем и «со стороны», «объективно»
определить, под каким укладом раскрывается его собственное душевное
содержание. «Субъективное» определение самого индивида точно так же
нельзя считать произвольным. Человек действительно сам духовно
определяет себя, относит себя к данному народу, он может даже «переменить »
народ, войти в состав и дух другого народа, однако опять — не
«произвольно», а путем долгого и упорного труда пересоздания детерминирующего
его духовного уклада. Духовный уклад индивида и есть дух его народа. Мы
определяем конкретный дух, собирая типические черты одного
«вооб770
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ражаемого» репрезентанта, и этот последний уже служит «нормою» для
определения принадлежности каждого эмпирического индивида к
данному коллективному типу, а равно и для определения меры, его
уклонения от него. Определяющие источники всякого конкретного
переживания лежат в духовном укладе, который предопределяет действия и
переживания не только индивида, но всякой группы. Мы сомневаемся в
определяющей роли «народа» для коллективной психологии, пока
представляем себе «народ» как устойчивую «вещь», которая может
исчезнуть, как исчезает всякая «вещь», растворяясь на свои элементы и
преобразуясь в их новые сочетания и связи. Но «народ» в психологическом
смысле есть исторически текучая форма, и если бы на наших глазах эта
форма перелилась в новые формы — скажем, современные народы
разделились бы на классы, которые, переливаясь из народа в народ,
создали бы новые, еще невиданные коллективы, — мы были бы только
последовательны, если бы признали, что народились новые народы. Мы имели
бы право на это, потому что мы присутствовали бы при создании новых
определенных укладов, в свете которых для нас становилось бы ясным
всякое новое коллективное движение и всякое новое переживание.
Сколько для этнической психологии целое, определяющее всякую
«часть» и всякое направление духа, есть народ и сколько она делает
именно его, в его возникновении и в истории, своим предметом,
постольку ее название оправдывается не только эмпирически, но и
принципиально.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В.А. ВАГНЕР:
ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИКИ
ЖИВОТНЫХ
Вагнер Владимир Александрович (1849-1934) —
биолог и психолог, один из основоположников
срав- нительной психологии в России, организатор и
талантливый популяризатор науки.
Основная область исследований — инстинкты
насекомых.
Разработал объективный биологический метод
изучения психики животных. В отличие от
распространенного субъективного подхода к поведению
животных по аналогии с человеком, биологический
метод требует сравнения особенностей поведения
данной группы животных не с человеком, а с
ближайшими ниже и выше ее стоящими формами
(филогенетический прием)j а также предполагает анализ фактов из разных периодов
жизни особи (онтогенетический метод), изучение индивидуальных
колебаний поведения у данного вида животных.
Своими трудами Вагнер утверждал, что «изучение психологии
животных для познания психологии человека не менее, а еще более важно, чем
изучение анатомии и физиологии животных для изучения анатомии и
физиологии человека ». При этом он подчеркивал, что «сравнительная
психология не аннулирует психологии человека», но открывает возможность
построения подлинно научной психологии в соответствии с эволюционным
учением. На важность сравнительной психологии для психологии
обращал внимание Л.С. Выготский в своей переписке с В.А. Вагнером в
последние годы его жизни, отмечая при этом, что много думал над книгами
Владимира Александровича.
БИОПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТИВНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ1
Господствующим, классическим приемом является тот, который,
чтобы не изобретать нового термина, можно назвать приемом или методом
субъективным.
Вагнер В.А. Биопсихология и смежные науки. Пг., 1923. Интересны указания,
которые по этому вопросу делает F. Grabner. Methode der Ethnologie. H<eidelberg>,
1911 (S.3 f.; 71 ff.).
772
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В несколько более общем смысле он был употреблен О. Контом в его
Systeme de Politique positive. Философ разумел под методом субъективным
путь изучения явлений, при котором мы идем от человека к природе, в
противоположность объективному, который он считает единственно
удовлетворяющим требованиям исследования там, где мы восходим от природы к
человеку. Не считая нужным подробно останавливаться на рассмотрении этого
приема, я все же нахожу необходимым сказать о нем несколько слов.
Основная формула субъективного метода была дана Вундтом: она
гласит, что единственное правило, на основании которого мы только и можем
судить о действиях животных, состоит в том, чтобы мерить их психику
масштабом нашей собственной психики. Я считаю эту формулу
безусловно ошибочной и понимаю задачу как раз наоборот: мы никогда не должны
судить о действиях животных, меряя их только масштабом собственной
психики, если хотим получить научные заключения, а не собрание очерков
и сообщений, которые, быть может, несколько резко, осторожные
натуралисты называют «анекдотической зоологией», а Вундт — «охотничьими
рассказами », образцы которых черпает из книги Романеса «Ум животных ».
Интересно, что Романее, книгу которого Вундт находит «сочинением
старательным », в этом своем «сочинении » следовал как раз тем самым
путем, который Вундт считает единственно правильным.
«Раз признано объективное существование других организмов и их
действий, — читаем мы в его книге «Ум животных», — положение, без
которого сравнительная психология, как и все другие науки, была бы пустою
грезой, то здравый смысл всегда и не колеблясь сделает тот вывод, что
действия других организмов, — если они аналогичны тел действиям нашего
собственного организма, про которые мы знаем, что они сопровождаются
известными умственными состояниями, — сопровождаются и у других
подобными же умственными состояниями».
Этот метод исследования и оценки явлений психики Романее считает
годным не для одних только высших животных вообще. То место книги, в
котором он останавливается на этой стороне вопроса, заслуживает
особенного внимания, так как указывает нам основу всего его априорно
построенного миросозерцания. Вот это место:
«Если мы видим, например, резкие проявления чувства
привязанности, симпатии, ревности или гнева у собаки или не обезьяны, то немногие из
нас будут настолько скептиками, чтобы усомниться в том, что полная
аналогия этих проявлений с проявлениями, какие мы видим у человека,
доказывает существование субъективных состояний, аналогичных состояниям
человека, внешними и видимыми знаками которых служат такие
проявления.
Но когда мы находим, что действия муравья или пчелы
обнаруживают, по-видимому, те же эмоции, то не многие из нас окажутся настолько не
773
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
скептиками, чтобы не спросить себя: можно ли поверить в этом случае
внешним и видимым знакам как доказательству аналогичных или
соответственных внутренних событий? Вся организация такого существа, как муравей и
пчела, настолько отличается от человеческой организации, что является
вопрос, насколько в деле заключения о присутствии субъективных
состояний можно положиться на аналогию действий насекомого с человеческими
действиями. А так как вполне справедливо, без сомнения, что чем меньше
сходства, тем меньше и ценности в аналогии, построенной на этом
сходство, то и вывод о муравье или пчеле, чувствующих симпатию или гнев,
менее законен, нежели тот же вывод относительно собаки или обезьяны.
Тем не менее это все-таки вывод законный, хотя бы только потому, что
это единственный действительный вывод».
Поскольку, однако, он единственно законен, это можно видеть из
нижеследующего примера.
Говоря о психической деятельности простейших животных, Романее
так заключает эту рубрику: деятельность их «не дает нам права приписать
этим низшим членам зоологической лестницы хотя бы даже зачатки
действительно сознательной деятельности». «Но почему же?» — спросит
читатель.
Потому, отвечает Романее совершенно неожиданно, что у этих
животных нет нервной системы. Пусть так, но при чем же тогда заявление, что
метод аналогии есть единственно возможный путь в оценке психической
деятельности животных?
Нетрудно понять, разумеется, что если автор, который посвятил
вопросам зоопсихологии многотомные исследования, с первых же шагов на
пути этого метода становится в безвыходное противоречие с
действительностью, то натуралисты, — а особенно случайные наблюдатели разных
явлений в образе жизни животных, по мере сил старающиеся дать этим
явлениям объяснения единственно доступным для них путем, то есть путем
аналогии с деятельностью человека, — представляют собою целый хаос
мнений, в которых не знаешь, чему удивляться более: их противоречивости
или бесконечному разнообразию.
Однообразен в них лишь тот характер описаний и оценки фактов,
который делает их «Охотничьими рассказами». По смыслу одних,
сверчки (охотно поедающие друг друга) оказываются в высокой степени
альтруистами, пауки — механиками; жуки —хорошими собеседниками;
бобры — недурными физиками; гуси — отменными блюстителями
добрых нравов, что доказали, утопив павлина за его гордое поведение и пр.
и пр. и пр.
Этих примеров достаточно для того, чтобы представить себе
психологию животных, построенную на основании аналогии по субъективному
методу от человека (ad hominem).
774
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
На основании сказанного и целого ряда других фактов я считаю себя
вправе утверждать, что субъективный прием разработки вопросов
зоопсихологии «от человека » научного значения не имеет, как не имеют значения
и устанавливаемые путем такого исследования предмета выводы.
Когда построения по субъективному методу «от человека », или,
говоря иначе, построения монистов «сверху», были опрокинуты; когда роль
эксперимента в решении вопросов психологии получила должную цену;
когда вместе с тем для биологов сделалось очевидным, что путем
анатомофизиологических исследований сравнительной психологии получить
невозможно, то ученые обратились к другой крайности; они начали искать не
источник психики, а самую психику в свойствах протоплазмы.
Деятельность всех систем и тканей организмов, а с этим вместе и нервной системы
является лишь продуктом этих свойств и ничем более.
Исходя из этих соображений, монисты «снизу» в конце концов
пришли к заключению, что деятельность человека совершенно в такой же
степени автоматична, как и деятельность инфузорий.
Нетрудно убедиться в том, однако, что, если незнание Cytozoa
способно пролить некоторый свет на познание животного мира в целом, то
лишь в сфере определенной группы вопросов и всего менее в вопросах
психологии, так как психика является продуктом специализации клеток, их
дифференцировки, разделения и координации функций, т. е. явлений,
которых познать путем изучения одноклеточных животных нельзя, как бы
тщательно ни производилось изучение. Нам скажут на это, быть может,
что и в клетке происходит аналогичная специализация элементов
протоплазмы и ассоциация тех или других из них в связи с дифференцировкой и
разделением труда. Этого никто не отрицает, конечно, как никто но
оспаривает и того, что между миром Cytozoa и миром животных со
сложившейся нервной системой нет пропасти, что между этими мирами существует
ряд промежуточных ступеней, ряд мостков, соединяющих их друг с
другом, но связь явлений и аналогичные черты между ними еще не
обусловливают их идентичности и не только не исключают существования для
каждой из этих категорий своих особых явлений и им исключительно
свойственных законов, но делают изыскания последних настоятельно
необходимыми. Как непрерывная связь между зародышевой клеткой и
взрослой курицей не дает нам права останавливаться на изучении только
законов эмбриологии для познания явлений, характеризующих взрослых птиц,
так и познание явлений последней категории не дает нам права с точки
зрения управляющих ими законов объяснять вопросы эмбриологии.
Совершенно так же неосновательно поэтому как стремление
монистов «сверху» навязывать Cytozoa психические элементы, свойственные
животным, обладающим нервной системой, так и стремление монистов
«снизу» навязывать этим последним автоматизм первых.
775
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Рассмотрение фактического материала монистов «от простейших
животных» представит совершенно очевидные доказательства справедливости
сделанного заключения.
Эта крайняя точка зрения, составляющая основу направления монизма
«снизу», вполне равноценна крайним воззрениям монистов «сверху».
Там авторы, исходя от человека и признавая психику функцией нервной
системы, кончили описанием психики простейших животных так, как это было
бы возможно при наличности у них нервной системы, которой нет, и которую
хотят предполагать. Здесь, исходя от корненожек и признав их деятельность
тропической, рассматривают психику всех животных так, как будто бы у них
нервной системы не было и им таковая не нужна.
Факты доказывают, однако, что не только в деятельности сложно
организованных животных, например насекомых, но даже менее совершенных, как
черви и другие из числа исследованных Лебом, нет никаких оснований для
подтверждения его гипотезы.
Подводя конечное заключение, том направлении в нашей науке, которое
можно назвать монизмом «снизу», я таким образом формулирую сказанное
путем сопоставления этого направления с монизмом «сверху».
Два течения эти отличаются друг от друга по всем основным вопросам
науки, начиная с метода исследования.
В то время как последний, исследуя психику животных, мерял ее
масштабом человеческой психики, монизм «снизу», решая вопросы психики
человеческой, меряет ее наравне с психикой всего животного мира мерою
одноклеточных организмов.
Монисты «сверху» везде видели разум и «сознание», которое в конце
концов признали разлитым во всей вселенной; монисты «снизу» везде видят
только автоматизм.
Для первых животный мир психически активен, а его представители ищут
и стремятся найти лучшее, более целесообразное, прогрессивное; для вторых
животный мир пассивен, его представители ничего не ищут, а их деятельность
и их судьба сполна предопределены физико-химическими свойствами их
организации.
Монисты «сверху » в основу своих исследований клали «суждение по
аналогии », монисты «снизу » в эту основу кладут лабораторные исследования; у
монистов «сверху» жизнь животных поэтому заслонялась жизнью человека,
у монистов «снизу» она заслоняется ретортами, химическими формулами и
экспериментами.
Крайности сходятся, и потому ничего нет удивительного в том, что
монисты «снизу» в своих крайних заключениях приходят к такому же
заблуждению, к какому пришли монисты «сверху», только с другого конца:
последние, исходя из положения, что у человека нет таких психических
способностей, которых не было бы у животных, «подводят» весь
живот776
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ный мир под один уровень с вершиной и наделяют этот мир до простейших
включительно разумом, сознанием, волей, монисты «снизу», исходя из того
же положения, что человек в мире животных существ, с точки зрения
психической ничего исключительного собою не представляет, «подводят» весь
этот мир под один уровень с простейшими животными и приходят к
заключению, что деятельность человека в такой же степени автоматична, как и
деятельность инфузорий. Нас поэтому одинаково поражает своею
парадоксальностью как идея Геккеля о том, что у муравьев имеется чувство
долга в христианском смысле этого слова, так и соображение одного из
монистов «снизу», утверждающего, что между едой гусеницы и
мышлением человека, по существу, нет никакого различия.
Из сказанного о субъективном методе изучения биопсихологии с
несомненностью вытекает следующее заключение: материал, добытый этим
путем, в такой же мере может служить для выяснения психологии
человека, в какой записные книжки туристов с заметками о вынесенных ими
впечатлениях от Рафаэлевой Мадонны в Дрезденской картинной галерее
могут служить материалом для истории живописи. История эта одна,
а впечатлений столько, сколько туристов; история пишется путем
сравнительного метода произведений искусства разных эпох, разных народов,
а впечатления туристов слагаются на основе факторов только той
культурной эпохи, к которой они принадлежат. Совершенно понятно поэтому, что
если, руководясь данными эволюции искусства, мы можем с некоторым
приближением к истине выяснить впечатления туристов, то из
совокупности этих впечатлений, как бы ни была велика их численность, мы
решительно ничего не можем выяснить в эволюции живописи. Как бы хорошо и
всесторонне ни изучили мы человека, мы не поймем его психики, если не будем
иметь ключи к выяснению истории происхождения его психических
способностей: она будет представлять собою только одно сплошное
неизвестное. Если мы, исходя от этого неизвестного, будем объяснять другое
неизвестное — психологию животных, меряя ее масштабом человеческой
психики, в качестве якобы известного, то не ясно ли, что мы получим
только праздный и вредный разговор на психологические темы, который так же
пригоден для установления фактов эволюции психических способностей и
выяснения психических способностей человека, в какой записная книжка
туристов пригодна для понимания Рафаэлевой Мадонны с точки зрения
истории искусства.
Биологический метод
Метод этот исходит из совершенно противоположной субъективному
методу точки отправления (не от человека, а к человеку) и держится
других приемов сравнения.
777
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Натуралист, в своих исследованиях желающий держаться этого
метода, должен помнить, что животные организмы в смысле их психологии
не представляют существ изолированных, что они связаны между собою
многочисленными нитями, из чего следует, что для понимания психики
одного из них или одной их группы необходимо сравнение ее
представителей не с конечною формою животных существ — не с человеком, а с
формами, непосредственно предшествующими данной группе и за ней
следующими. Другими словами,-необходимо и в области сравнительной психологии
делать то же, что делает для решения одной части своих задач
сравнительная анатомия, подвергая сравнению структуру органов родственных форм
между собою и идя от простого к сложному. Этот прием сравнительного
изучения вопросов сравнительной психологии еще не исчерпывает собою,
однако, объективного биологического метода науки; недостаточно
сравнения явлений психики одних животных с другими в их конечном
развитии, необходимо еще сравнение этих явлений жизни одного животного в
разные стадии его развития друг с другом, начиная с первых моментов его
проявления до последних ее моментов.
Отсюда два пути сравнительного изучения предмета методом
объективным:
1) сравнения делаются по материалу, в основе которого лежат
факты из жизни вида; в этом случае руководящей нитью исследования будут
данные учения о телеологическом родстве организмов, в связи с которым
стоит и эволюция психики в царство животных. Изучение сравнительной
психологии таким приемом биологического метода всего ближе будет
назвать поэтому филогенетическим;
2) сравнения делаются по материалу, в основе которого лежит
факты из жизни особи с момента, когда она начинает реагировать
психически на воздействия среды, до ее смерти, вследствие чего такой прием
биологического метода в изучении сравнительной психологии всего ближе
будет назвать онтогенетическим: эволюция психики индивида составляет
его ближайшую задачу.
Остановимся на выяснении каждого из этих приемов в такой мере,
в какой это необходимо, чтобы определить их ближайшие задачи и
ознакомиться с характером их выводов.
Филогенетический метод
Метод этот, как известно, в сравнительной психологии является в
такой же степени могущественным и важным, как и в вопросах эволюции
животных форм вообще. И там и тут материал исследования существенно
один и тот же: если не все, то многое из того, что нарождалось, что
изменялось, как изменялось, что и как атрофировалось и что заменялось новым,
778
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
представлено в той или другой группе животного царства сегодня, как
тысячи лет назад. Подобно тому, как законы развития и природу языка
европейцев мы можем познать, располагая для этого живым языком людей
земного шара, так законы сравнительной психологии мы можем познать путем
изучения ее живых элементов у современных нам представителей
животной жизни. И там и тут для этого (не говоря ни о чем другом) прежде всего
необходима такая масса фактического материала, что до настоящего
времени филогенетический метод в сравнительной психологии является
скорее теоретически желательным, чем практически осуществленным.
Необходима такая масса материала потому, что изучение предмета
этим методом требует следующих ступеней сравнения.
Первая самая важная и безусловно необходимая, без которой
никакие научные выводы невозможны, — это сравнительное изучение явления
в пределах самого вида, у которого оно исследуется; чем больше сделано в
этом отношении для понимания и выяснения явления, тем вернее, тем
научнее можно считать устанавливаемые по его поводу заключения.
Вторая ступень: изучение явления путем сравнения его в пределах
родов одного семейства.
Эта ступень в изучении явлений также очень важна для установления
правильных заключений.
Третья ступень — изучение явлений путем сопоставления семейств,
отрядов и классов.
Наконец, последняя, четвертая ступень: подобное же изучение типов
животного царства.
Установленные таким сравнительным путем выводы могут
подлежать сопоставлению и оценке как таковые.
Сопоставление научно установленных и законченных для данного
класса животных заключений может повести, и неизбежно поведет, к
установлению новых выводов, все более и более общих.
Таким образом, исходным пунктом филогенетического метода
служит идея о том, что организмы в смысле их психологии представляют
существа не изолированные, а связанные друг с другом непрерывною цепью
фиксированных у представителей животных разных классификационных
единиц, психических признаков; что вследствие этого для понимания
одного из них или одной из их групп необходимо изучение не изолированного
организма или группы, а в связи с психологией групп родственных: видов,
родов, семейств и классов.
Далее, самое изучение психических актов должно начинать точно так
же, как изучаются чисто физиологические функции организма, без всякой
попытки давать этим актам психологическое толкование; другими
словами, их должно описывать так же объективно, как описываются, например,
физические явления магнетизма, электричества и т. п. и лишь затем уже,
779
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
когда факты, добытые путем такого изучения явлений жизни
животных, составят материал, количественно достаточный для его обработки,
перейти к общим выводам и заключениям.
Но и тут толкования явлений должны представлять собою простое
заключение из фактов, насколько оно возможно, а отнюдь не перевод этих
фактов на язык психологии человека по аналогии соответствующих
действий.
Такая аналогия допустима лишь по отношению к организмам,
подлежащим сравнению с человеком на основании данных иного порядка,
определяемых методом сравнительной анатомии. Как только этот последний
указатель свидетельствует нам о глубоком различии сравниваемых
организмов, так аналогии на почве психических явлений тем самым утрачивают
всякое значение и не должны иметь места.
Я уже упомянул о том, что добытые путем филогенетического метода
изучения предмета данные очень скудны и пока могут служить только для
установления некоторых принципиальных заключений. Но и эта заслуга
метода представляется уже огромной, если принять во внимание важность
этих хотя и немногих заключений.
Следующий пример может служить пояснением сказанного.
Гнезда птиц, говорит Дарвин, представляют непрерывный ряд форм.
Есть птицы, вовсе не имеющие гнезд. От них мы постепенно восходим к
таким, которые вьют плохие и простые гнезда, и так далее, до
произведений искусства, не уступающего искусству «ткача».
«Стараясь отыскать полный ряд среди форм гнезд, менее
распространенных, — читаем мы далее у Дарвина, — мы не должны забывать, что
существующие птицы составляют бесконечно малую группу по отношению к
существовавшим с того времени, когда впервые следы их отпечатались на
красном песчанике морского берега Сев. Америки».
«Можно допустить, с одной стороны, что гнездо каждой птицы, как
бы оно ни было помещено и построено, удовлетворяет этот вид при
естественных условиях существования, а с другой — что, если строительный
инстинкт несколько изменяется, когда птица поставлена в новые условия,
то естественный подбор, принимая во внимание наследственность таких
изменений, может с течением времени изменить гнездо птицы,
усовершенствовав его до высшей степени, сравнительно с тем, что оно представляло у
предков отдаленного прошедшего. Приведу, — говорит Дарвин, — один из
самых необыкновенных примеров, когда-либо известных, и укажу, в
каком направлении мог действовать естественный подбор: я разумею
наблюдения г. Gould'a, относящиеся к австралийским Megapodidae».
«Talegalla lathami, например, складывает пирамиду из гниющих
растительных веществ количеством от 2-4 тачек и кладет в середину ее свои
яйца, которые благодаря брожению этой гниющей массы при температуре,
780
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
равной почти 90° Фаренгейта, выводят маленьких. Эти последние
посредством когтей пробивают выход из пирамиды».
«Leipoa ocellata собирает в кучу листья, покрытые толстым слоем
песка; куча эта имеет 45 футов в окружности и 4 в вышину; в нее самка кладет
яйца, которые и нагреваются брожением».
«Megapodius tumulus из северной части Австралии делает еще
большую кучу, которая, по-видимому, содержит меньше животных частиц;
говорят, что другой вид этого животного, живущий в Малайском архипелаге,
кладет свои яйца уже в ямки, вырытые в земле, где они нагреваются только
солнечным теплом. Не так удивительно, что эти птицы утратили свой
инстинкт насиживания, когда солнце или брожение дают достаточно тепла,
сколько тот факт, что они заранее подготовляют кучи растительных
веществ, чтобы в них произошло брожение».
Факт этот Дарвин объясняет таким образом: «Предположим, —
говорит он, — что жизненные условия благоприятствовали распространению
птиц того семейства, представители которого согревали яйца одним
солнечным теплом; в стране же более холодной, сырой, лесистой те особи,
у которых склонность к собиранию материала изменилась бы в том
направлении, что листья они начали бы предпочитать песку, имели бы,
очевидно, больший приплод, чем те, которые предпочитали бы песок листьям;
при большом количество растительных веществ брожение заменит
недостаток солнечной теплоты, и выводится больше молодых птиц, которые
так же легко наследуют от родителей склонность к собиранию материала,
как наши породы собак наследуют склонность: одни — приносить
подстреленную дичь, другие — делать стойку, третьи — бегать вокруг добычи.
Такой процесс естественного подбора может продолжаться, пока яйца
будут развиваться только при посредстве брожения; птица же, конечно,
так же мало понимает причину этой теплоты, развиваемой гниющими
веществами, как и причину теплоты ее собственного тела ».
Приведенный пример достаточно ясно знакомит нас с путем
филогенетического метода исследования сравнительной психологии. Остается
сказать, что на пути к решению задач филогенеза могут встречаться
затруднения, вытекающие из свойственных этому методу особенностей
исследования предмета.
Первое из них заключается в том, что, пытаясь установить
генетический ряд явлений, связанных между собою, натуралист, особенно в случае
недостатка материала, пользуется данным их внешнего сходства,
которые далеко не всегда оказываются для того достаточными.
Второе затруднение заключается в том, что, даже собрав
необходимое количество безукоризненного фактического материала и получив
возможность расположить его в один генетический ряд, натуралист далеко не
всегда может ответить на вопрос, где начало и где конец этого ряда. А от
781
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
решения этого вопроса, как мы увидим в своем место, зависит иногда
целый ряд других, стоящих с данным в более или менее тесной связи.
Другим источником ошибок в заключениях при решении тех же
вопросов зоопсихологии методом филогенетическим, как я уже сказал выше,
может быть следующее обстоятельство.
Собрав необходимое количество необходимого материала и получив
возможность расположить его в один или несколько генетических рядов,
мы не всегда с этим вместе получаем возможность ответить на вопрос о
том, от которого конца этого ряда следует начинать. Примером,
выясняющим сказанное, служит заключение Дарвина о строительном инстинкте
ласточек. Ученый указывает нам ряд форм: а, Ь, с, d, e и, доказав их
генетическую связь между собою, делает заключение о том, что развитие их шло
от а к е.
Вполне соглашаясь с правильностью построенного генетического ряда
форм, мы, однако, конечное резюме автора о том, что развитие шло отаке,
признать доказанным не можем. Ряд есть, но где его начало и конец — это
вопрос спорный и требует для своего решения сотню обоснованных
данных, которых для этого еще недостает. Дарвин же нам не дает никаких.
Таковы главнейшие затруднения, которые ожидают натуралиста при
решении вопроса сравнительной психологии на основании данных
филогении их инстинктов.
Но ни ошибки, ни того еще менее затруднения эти не могут,
разумеется, отнять у генетического метода исследования того огромного значения,
которое он может и должен иметь в решении самых сложных вопросов
нашей науки, и не могут умалить важности заключений, которые,
благодаря этому приему решения задачи, уже удалось в ней установить.
Онтогенетический метод
Так как в связи с вопросами биогенеза стоят многие вопросы того
периода жизни животных, которые предшествуют времени их выхода из яйца
и ведению ими самостоятельного образа жизни, то о сказанном законе
говорить я не буду: о нем речь пойдет впереди.
Метод онтогенеза, как и метод филогенетический, являясь новым
течением в науке, далеко еще не обособленным в самостоятельную ее
дисциплину, пока представляет собою ряд более или менее отрывочных,
редко доведенных до конца попыток.
Тем не менее, однако, и теперь он дает нам неоценимый материал для
выяснения многих вопросов зоопсихологии. Под онтогенетическим
методом изучения психики животных разумеют изучение предмета по
материалу, который представляется этой психикой в разные периоды жизни
особи, начиная с момента, когда она так или иначе начинает психически
782
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
реагировать на воздействия среды до ее смерти; эволюция психики
индивида составляет ее ближайшую задачу. Для выяснения сказанного
остановлюсь на следующем примере.
Пауки, как известно, считаются животными, не подвергающимися при
развитии превращениям.
Возрастные изменения у них, однако, существуют, а параллельно с
ними совершаются перемены в их психике, и, что всего интереснее, эти
последние выражены гораздо отчетливее и яснее, чем первые.
Вылупляются молодые в разное время лета: и в конце июня, и в июле,
и даже в начале августа. Перед выходом молодых самка понемногу
прорывает кокон и продолжает его носить; в это время сквозь прорванные ею
места можно видеть уже вылупившихся молодых и неразвившиеся яйца,
которые часто из него вываливаются. Эти яйца первое время служат
пищею для молодых пауков. Из яиц молодые выходят не все сразу. Сначала
три, четыре; наиболее ранние появляются на коконе, потом на теле матери,
потом на стенках норы, затем появляются другие, все в большем и
большем количестве.
И в неволе, и на свободе молодые паучки по выходе из кокона и вплоть
до того времени, когда начнут самостоятельный образ жизни, плотно
усаживаются на тело матери, как только она начинает двигаться. Таким
образом, они не только не мешают ее движениям при ловле добычи, но и сами
застрахованы от возможности затеряться и погибнуть. Стоит, однако,
матери остановиться, как на теле ее начинается возня молодых паучков,
сначала медленная, потом все большая и большая. Если мать остается
покойной, дети с брюшка переходят на головогрудь, оттуда на ноги. Если и тут
мать не обнаруживает беспокойства, не «предупреждает» их движением
своих ног о том, чтобы они оставались в покое, то молодые, прикрепив
паутинку к телу матери, к какому-нибудь ее шипу или волосу, слезают на
землю или спрыгивают на нее и начинают свое путешествие вокруг. Они
стараются при этом, чтобы паутинка, один конец которой закреплен на теле
матери, не прорывалась и служила постоянной связью с нею. В это время
они как будто ходят на помочах. Стоит, однако, матери сделать движение,
как разбредшаяся по всем радиусам молодежь бросается по паутинке
назад, как по сигналу, и взбирается на свои места: на спину, на бока
самкиматери и т. д. Еще минута, — и самка может пуститься в путь «в полной
уверенности, что никто не оставлен, не забыт, — все в сборе». Во время
таких остановок матери и путешествия детей совершается их кормление,
главным образом в неволе, по крайней мере при содействии матери.
Закусивши муху или другое насекомое, которое положено в террариум, мать
бросает его и успокаивается; молодые паучки слезают, отыскивают убитое
насекомое и начинают его сосать. Позднее пауки совершенно изменяют
этот инстинкт и никогда не трогают насекомого, если оно не движется;
783
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
в молодости же тарантулы одинаково набрасываются как на убитую и
брошенную им муху, если на нее наткнутся, так и на добычу, оставленную им
матерью.
Позднее, когда паучки сами начинают ловить себе добычу, они
начинают истреблять друг друга, как истребляют всякое посильное для
одоления живое существо, т. е. как добычу.
Таким образом, с возрастом у пауков происходят существенные
изменения и в составе пищи, и в их отношении к ней. Сначала они питаются
яйцами, потом неподвижной добычей, к которой позднее не прикасаются
даже во время крайнего голода. Охотясь за добычей, они в ранний период
жизни оставляют за собой паутинную нить, которая соединяет их с телом
матери; позднее они никогда этого приема не употребляют. Друг к другу
молодые паучки вначале относятся безразлично, позднее они нападают друг
на друга, как на обыкновенную добычу. Из сказанного само собою
вытекает заключение, что ни один из последующих моментов в развитии
инстинктов не представляет развития предшествующего в смысле психической
эволюции; ни один не является следствием усложнения или
усовершенствования имевшегося ранее инстинкта. Ни один из этих моментов
логически не объясняет другого и не вытекает из него. Каждое данное
психическое состояние представляет собою простое знание того, что нужно
делать в данный период жизни, причем знание это представляет собою не
личное приобретение особи, а знание вида, закрепленное подбором, как
наиболее целесообразный для него признак. Одно значение заменяется
другим с наступлением нового возраста и возникновением новых условий
жизни, заменяется без подготовки и наблюдений у всех особей одинаково
в один период развития, ни прежде, ни позднее.
В ту стадию жизни, которую паучок проводит на теле матери, он
оставляет конъюнктивную нить. Он будет оставлять ее и тогда, когда вы
посадите его в стеклянный цилиндр, т. е. в случаях, когда ему эти нити
решительно не нужны и проведение их бессмысленно; но проходит известный
период развития, в обиходе которого такое проведение нитей входило как
обязательное, и он перестает это делать даже тогда, когда по условиям,
в которые его ставит наблюдатель, такие нити были бы ему очень полезны.
Тот же характер онтогенетической эволюции инстинктов мы
наблюдаем у пауков и в их дальнейшем развитии.
После четвертой линьки молодые покидают свою мать и начинают
вести самостоятельный образ жизни. Сначала они перестают забираться на
тело матери, но продолжают жить в ее норе, разбредаясь в сумерки в
разные стороны за добычей. В это время уже случаи поедания друг друга
становятся реже, так как выросшие настолько сильны, что без серьезной
борьбы не дадутся. Проходит еще несколько дней, молодые покидают родное
гнездо и закладывают свои собственные постройки — норы, сначала
неда784
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
леко от материнской и довольно близко друг от друга. С возрастом
расстояние между ними все увеличивается: более слабые устраняются более
сильными.
Приготовление норы делается пауком с помощью челюстей и ног.
Комки земли, если они достаточно велики, паук берет челюстями и выносит из
норы; если они мелки, то он предварительно склеивает их паутиной.
Выносимую на поверхность землю пауки располагают вокруг
отверстия неодинаково: взрослые тарантулы складывают ее по одну сторону
отверстия норы, иногда на довольно далеком от нее расстоянии; самые
молодые размещают эту землю равномерно вокруг отверстия, которое
приходится в центре почти правильного круга. С возрастом паука
отверстие норы все более и более приближается к границе этого круга и,
наконец, выходит из него; самый круг все более и более теряет свою
правильную форму, и мы получаем наконец то, что видим у взрослых.
Молодые пауки устраивают себе норы, которые сначала идут под
камень в виде простого под него хода и лишь потом несколько углубляются в
землю. Только с возрастом мало-помалу эти норы получают ту форму и
направление, которые мы встречаем у тарантулов, достигших 8-9-й
линьки, то есть почти вполне сформировавшихся. В последней стадии развития,
вплоть до последней линьки, норы самцов и самок совершенно одинаковы,
и только после того, как сброшена последняя кожица, т. е. когда самец
делается половозрелым, его нора отличается от норы самки небрежностью
работы, меньшей шириной и глубиной. Преследуя самок днем и ночью, он
редко пользуется даже и таким несовершенным жилищем, какое себе
устраивает.
Вывод из сказанного один: архитектура постройки пауков с возрастом
изменяется.
Молодые тарантулы, до тех пор пока они живут на теле своей матери
или в ее норе, не делают себе никаких приготовлений перед линькой и
сбрасывают свою кожицу там, где их застанет соответствующий момент
развития.
Позднее, когда процесс линьки становится более трудным, тарантулы
предпринимают работы, назначение которых сводится всегда к тому,
чтобы, во-первых, сделать себя недоступными для насекомых, из которых одни
могут их беспокоить, а другие, пользуясь их беспомощным состоянием во
время линьки, могут сделать их предметом нападения; во-вторых, к тому,
чтобы дать возможность пауку принять во время линьки такое положение,
которое облегчило бы ему сбрасывание старой кожицы. С этою целью они
производят ряд действий, чрезвычайно целесообразных.
Характерным актом психологии паука, доказывающим, что его
знания возникают преемственно хронологически, а не психологически и,
будучи связаны между собою преемственно во времени, они не имеют
ника785
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
кой связи в смысле развития их психологических способностей, служит
устройство кокона половозрелой самкой, которая, никогда не видевши ни
порядка, ни производства работы, выполняет целый ряд актов один
другого «остроумнее», один другого целесообразнее и совершеннее.
Таковы данные, удостоверяющие, что преемственность в развитии
инстинктов особи представляет собою развитие не психическое, так как
группа сменяющих инстинктов не представляет собою развития
сменяемых, а лишь хронологическую преемственность и следование одних за
другими.
Это нужно было ожидать из самой природы этих психических
способностей, которые представляют собою не следствие научения и опыта
особи, а следствие научения и опыта вида.
Что это заключение справедливо, в этом нас убеждает, между прочим,
тот факт, что каждая стадия в сказанной хронологической смене одних
инстинктов другими у особи представляет собою стадию из истории
развития инстинктов этого вида, другими словами, что онтогения данного
инстинкта данной особи представляет в то же время филогению инстинкта
данного вида, не всегда, разумеется, одинаково ясно и полно выраженную,
но иногда совершенно очевидную.
У тарантула, например, строительные инстинкты представляют собою
как раз те именно стадии развития, которые с достаточным основанием
могут считаться повторением их эволюции у пауков семейства Lycosidae;
первоначально — случайная ямка на земле, потом — искусственное,
небольшое углубление, еще далее — неправильная горизонтальная нора и,
наконец, нора определенной глубины, идущая вертикально.
Изложенные данные и многое множество других аналогичных с
полною очевидностью устанавливают следующее.
Совершается ли развитие животного с тою последовательностью,
какую мы видим у пауков (а вероятно, у всех беспозвоночных животных с
прямым развитием, без превращения), совершается ли оно резко
обособленными стадиями развития, друг на друга мало или совершенно не
похожими, его психика в том и другом случае сменяется, в свою очередь,
следующими друг за другом готовыми формами и готовым содержанием, друг
на друга мало или совершенно не похожим.
Вся разница лишь в том, что в первом случае между психическим
содержанием стадии, предшествующей к последующей, наблюдается
кажущаяся непрерывность и последовательность, а во втором — между этим
содержанием может даже не быть кажущейся связи; нет ни одного
момента, который можно было бы хотя бы с некоторой натяжкой вывести из
момента предшествующего.
Поэтому мы не только не можем проследить у них эволюции
психических способностей в смысле их постепенного осложнения и развития из
786
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
той или другой основной формы психики, но по необходимости должны
признать, что животные в известный определенный момент их жизни
получают сразу необходимый запас в совершенстве готовых знаний и
приемов и что знания эти сменяются подобно декорациям театральной
сцены.
Я отнюдь не утверждаю, конечно, чтобы эти перемены психических
декораций в отношении беспозвоночных совершались как бы по
мановению волшебного жезла: каждой из них соответствуют очень важные,
глубокие, «закулисные» процессы, оканчивающиеся ко времени поднятия
занавеса.
Но это уже другое дело: эти внутренние процессы ничего не могут
ответить нам на вопрос о генетической преемственности собственно
психических состояний.
Метод биогенетический
Как сравнительная морфология животных имеет основания
утверждать, что, говоря вообще, развитие особи повторяет собою развитие вида
или что онтогения повторяет филогению, так точно то же устанавливает
и сравнительная психология.
Примером может служить только что описанное развитие логова у
тарантулов.
Мы видели, что молодые тарантулы первоначально логова (нор) себе
не делают; они пользуются для отдыха естественными углублениями в
земле. Потом начинают делать небольшие и неправильные норки, устраивая
их где-нибудь под камнями таким образом, что норка отчасти есть
результат работы, а отчасти — дело природы. Еще далее норка принимает
правильный вид и большую глубину. В конце концов, нора делается тою
типическою, какою мы видим ее у взрослых особей этих пауков.
Если сравнить эти моменты онтогенетического развития
строительного инстинкта с тем, что представляет собою картина филогенетического
развития этого же инстинкта, то легко убедиться, что онтогенетическое
развитие строительных инстинктов тарантулов повторяет собою
филогению рода. В справедливости этого заключения нас убеждает идентичность
сопоставляемых явлений.
Совершенно аналогичное явление мы видим и у Argyroneta aquatica,
у которого образ жизни вызвал очень глубокие изменения инстинктов;
данные постэмбрионального развития этих пауков проливают свет на
филогенетическую связь этих инстинктов с инстинктами родственных групп
между собою, а с этим вместе и на природу их самих. Так, молодые Argyroneta
в неволе часто выходят из воды на водяные растения, а иногда устраивают
паутину, напоминающую логово Drassus.
787
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Как сравнительная морфология удостоверяет, что претерпеваемые
личинкой на пути своего развития перемены в качестве вторичных явлений
получили место под влиянием приспособлений, способных в течение
развития личинок видоизменять все системы их органов, так точно то же
удостоверяет и сравнительная психология. Особенные органы движения
ео ipso предполагают и особенные инстинкты, ими руководящие;
особенные органы дыхания и указанные особенности в органах пищеварения ео
ipso дают нам право предполагать и особенные, только личинкам
свойственные повадкиf другими словами, особые, им свойственные инстинкты,
которые, как и морфологические личиночные признаки, могут либо вовсе
исчезнуть по достижении ими конечной стадии развития, либо удержаться в
рудиментарной форме. В этом соображении нас укрепляют факты,
доказывающие, что животные в период их личиночной жизни могут иметь
особые нервные центры (например, у немертин) и даже особенные органы
чувств, потом исчезающие.
Наконец, как сравнительная морфология констатирует, что
личиночные органы могут либо вовсе исчезать у достигших полного
развитии особей, либо удерживаются ими в качестве рудиментарных
органов, так то же констатирует и сравнительная психология по отношению
к инстинктам.
Другими словами, в сравнительной психологии, как и в сравнительной
морфологии, мы встречаем наряду с явлениями палингенетинескими, т. е.
унаследованными от предков, признаки новообразовавшиеся, возникшие в
течение эмбриональной жизни, как результат приспособлении к ее
условиям; признаки эти называются ценогенетическими.
Таким образом, теоретически рассуждая, пользование биогенезом
представляет собою путь, способный дать ключ к решению целого ряда
спорных вопросов сравнительной психологии; но практически мы
встречаем здесь еще большие затруднения, чем в сравнительной морфологии, что,
впрочем, из сказанного о психической эволюции понятно и само собою.
Таковы приемы объективного метода изучения психологии животных.
Они одни дадут нам возможность установить законы эволюции
психических способностей, от первых моментов их возникновения до самых
сложных из них у человека. Они укажут нам: как изменялись унаследованные
способности под влиянием внешних и внутренних факторов изменчивости
психики, какое влияние оказывали они друг на друга в своем
эволюционном пути; как влияли эти перемены на признаки морфологические, а
последние — на перемены психических способностей, к чему привел этот
эволюционный процесс у человека, как отличаются отрицательные и
положительные особенности его психики от психики животных и где
надлежит искать основы правил его поведения, индивидуального и
коллективного.
788
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
А.Н. СЕВЕРЦОВ:
ПСИХИКА КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ
Северцов Алексей Николаевич (1866-1936)
биолог-эволюционист. Основатель оригинального
направления в биологии — эволюционной
морфологии, создатель Института эволюционной
морфологии и экологии животных.
Изучал закономерности эволюционного
процесса, различные способы, посредством которых
совершается эволюция животных, и их роль в
приспособлении к окружающей среде. Указав на
ограниченность преобладающего в науке внимания к
роли наследственных изменений органов
животных, сосредоточился на изучении изменения
поведения животных без изменения их организации, выявил их большую роль в
эволюционном процессе как могучего, по словам Северцова, средства
приспособления к среде. Рассматривал психику животных как важный
фактор эволюции.
Среди основных работ А.Н. Северцова — «Этюды по теории
эволюции» (1912), «Современные задачи эволюционной теории» (1914),
«Главные направления эволюционного процесса» (1925) — особое значение для
психологии имеет книга «Эволюция и психика »(1922), в которой
раскрывается биологическая функция психики, ее роль в приспособлении
организма к окружающей среде.
ЭВОЛЮЦИЯ И ПСИХИКА1
...мы сделали некоторую попытку разобрать способы, посредством
которых животные приспособляются к различным изменениям среды, и
пришли к выводу, что способов этих два, причем каждый из них может,
в свою очередь, быть подразделен на две категории: первый тип
составляют наследственные изменения, которые являются способом, посредством
которого животные приспособляются к очень медленным, но вместе с тем
и очень значительным изменениям среды. Посредством наследственного
Северцов А.Н. Эволюция и психика// Психологический журнал. 1982. № 4. Т. 3.
С. 157-159.
789
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
изменения изменяются: а) организация животных (и вырабатываются те
бесчисленные приспособительные изменения, которые нам известны на
основании данных палеонтологии и сравнительной морфологии), б)
рефлексы и инстинкты животных, причем изменяется наследственно самое
поведение животных; в некоторых случаях это изменение поведения
происходит без изменения строения органов, в других сопровождает его, так
как эволюция нового активного, а часто и пассивного, органов всегда
требует изменения поведения животного.
Ко второму типу приспособления относятся ненаследственные
приспособления, которые, в свою очередь, являются приспособлениями к
быстрым, хотя и не особенно значительным изменениям в условиях
существования животных; сюда относятся: а) те изменения строения, которые
мы за неимением лучшего термина обозначили как функциональные
изменения строения животных, и б) изменения поведения животных,
происходящие без изменения их строения под влиянием тех психических
процессов, которые мы отнесли к «разумному» типу. Отметим, что в основе и тех
и других приспособлений лежит в конце концов наследственное
изменение: способность животных к приспособительным реакциям на
раздражения, получаемые из внешней среды, весьма различна у различных
животных, и мы имеем полное основание думать, что если не сама реакция, то
способность к ней наследственна и эволюционирует по типу
наследственных изменений. Напомню о различиях в способности к регенерации у
различных животных, относительно которых мы с большой вероятностью
можем сказать, что они произошли от общих предков. То же самое можно
сказать о психических действиях разумного типа: самые действия не
наследственны, но способность к ним является наследственной и
соответственно этому эволюционируют очень медленно. Указанное
распределение можно выразить, следовательно, такой классификационной схемой:
I. Наследственные приспособления к очень медленным изменениям
среды:
1) наследственные изменения строения животных;
2) наследственные изменения поведения без изменения строения
(рефлексы и инстинкты);
П. Ненаследственные приспособления к сравнительно быстрым
изменениям среды:
1) функциональные изменения строения животных;
2) изменения поведения животных «разумного» типа.
Мы видим, таким образом, что существует несколько отличных друг
от друга способов приспособления животных к окружающей среде,
посредством которых они приспособляются к изменениям, протекающим с
различной скоростью. Эти типы приспособления до известной степени
независимы друг от друга, т. е. в одних эволюционных рядах сильнее развиты
790
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
одни, в других — другие. Я не буду подробно разбирать здесь значение
наследственных (1,1) и ненаследственных (II, 1) приспособительных
изменений строений животных и только коротко остановлюсь на эволюции двух
остальных типов приспособления посредством изменения действий и
поведения животных.
Если мы возьмем членистых и членистоногих животных, начиная от
аннелид и кончая насекомыми и пауками как высшими представителями,
то увидим, что здесь прогрессивно развивалась деятельность
рефлекторно-инстинктивного типа, так что у высших представителей членистоногих,
насекомых и пауков инстинкты достигают высокой степени сложности и
совершенства. У многих общественных и одиноких насекомых и очень
многих пауков мы должны признать, что психическая деятельность этого типа
достигает необычной высоты, сложности и целесообразности: напомню
строительные инстинкты пауков, общественные и строительные
инстинкты насекомых, инстинкты заботы о потомстве у тех и других и т. д. В
каждом из таких инстинктов мы имеем длинный ряд очень точно
регулированных и строго повторяющихся действий, которые при обычных условиях
существования представляют самые удивительные примеры
приспособления животных к совершенно определенным условиям существования. Но
даже у тех форм членистоногих, у которых инстинкты достигли высокой
степени сложности и совершенства, психическая деятельность этого типа,
который мы обозначили как «разумный », стоит относительно весьма
низко. Приспособление посредством перемены способа действий и выучки у
них, по-видимому, играет весьма небольшую роль1.
Надо сказать, что этот род психики у членистоногих исследован
сравнительно мало, так как исследователи обращали преимущественное внимание
на изучение инстинкта и их эволюции; может быть, было бы весьма интересно
проверить существование условных рефлексов у насекомых и
паукообразных; насколько мне известно, таких исследований сделано не было.
Насколько мы можем судить, эволюция приспособлений при помощи
изменения поведения животных здесь пошла в сторону прогрессивного
развития наследственно фиксированного поведения (инстинкта).
В другом ряду билатерально: у симметричных животных, а именно у
хордат, мы видим, что эволюция пошла в направлении прогрессивного
развития психики «разумного» типа, т. е. наследственно не фиксированных
действий. Нельзя сказать, чтобы инстинктов и в этом ряду не было, но в
Надо сказать, что этот род психики у членистоногих исследован сравнительно мало,
так как исследователи обращали преимущественное внимание на изучение
инстинкта и их эволюции; может быть, было бы весьма интересно проверить
существование условных рефлексов у насекомых и паукообразных; насколько мне известно,
таких исследований сделано не было.
791
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
общем они гораздо менее сложны и менее распространены, чем у высших
членистоногих, и к ним постоянно примешиваются действия «разумного»
типа: это мы видим даже в тех случаях, когда мы имеем дело со сложными
инстинктами высших позвоночных, как, например, с инстинктом
постройки гнезд птиц или заботы о детенышах у амфибий, птиц и млекопитающих.
Если же мы возьмем тот тип психической деятельности, который мы
обозначила термином «разумный», то в ряду позвоночных мы, в общем,
видим, что он развивался прогрессивно: у рыб и амфибий он, насколько мы
можем судить, сводится к сравнительно простым условным рефлексам,
значительно сложнее он у рептилий и достигает своего высшего развития у
птиц, с одной стороны, у млекопитающих — с другой. И у тех и у других
приспособления посредством изменения поведения в течение
индивидуальной жизни имеют громадное биологическое значение и позволяют
высшим представителям этих двух групп быстро приспособляться к весьма
разнообразным условиям и к весьма быстро наступающим изменениям в
последних. Это бывает особенно ясно видно, когда животным приходится
приспособляться к изменениям, вносимым в их жизнь человеком.
Наибольшее значение приспособлений этого типа мы, конечно, видим
при эволюции человека, где они несомненно играли первенствующую роль.
Можно оказать, что благодаря развитию сознательно-разумной психики
способность непосредственных предков человека и самого человека к
приспособлению повысилась в невероятной степени и что именно благодаря
этой способности человек и занял не только в ряду млекопитающих, но и в
ряду всех животных доминирующее положение: он может
приспособляться в чрезвычайно короткое с эволюционной точки зрения время
решительно ко всяким изменениям и условиям существования.
Может быть, было бы интересно сравнить с этой точки зрения
способы приспособления животных и человека к изменениям внешних условий:
при таком сравнении мы видим, что относительное значение отдельных
факторов приспособления, которые мы только что рассмотрели, весьма
различно в разных группах животных и у человека. Представим себе, что
какое-нибудь млекопитающее животное переселяется из теплого климата
в холодный и приспособляется к новым условиям существования. Обычно
мы видим, что у него вырабатываются новые приспособления, т. е. что
организация его путем наследственного изменения весьма сильно изменяется
и что поэтому самый процесс переселения есть процесс весьма медленный:
общие покровы животного изменяются таким образом, что они делаются
способными защитить животное от холода; соответственно этому
происходит целый ряд изменений во внутренних органах, часто изменяется
окраска животного и т. д. Аналогичные изменения мы видим, когда
млекопитающее из лесного делается степным, когда оно переменяет пищу и т. п.
Даже такие незначительные различия, как питание травой и питание
ветка792
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ми деревьев, сопровождаются изменениями строения: мы знаем,
например, что у обыкновенного носорога на верхней губе существует
пальцевидный придаток для захватывания веток, которого нет у белого носорога,
питающегося травой. Всякому известны удивительные приспособления в
языке и лапах дятлов, выработавшиеся как приспособления к
сравнительно незначительным изменениям в образе жизни и способе питания:
лазанию по стволам деревьев и добыванию насекомых и их личинок из-под коры
и из щелей последних. Напомню, что эти примеры относятся и к птицам,
и к млекопитающим, у которых приспособление посредством изменения
поведения играет большую роль.
Обращаясь к человеку, мы видим, что соответствующие и даже
гораздо большие изменения в образе жизни, переселения в совершенно иной
климат, весьма значительные изменения в способе питания и т. д. не
отразились на его организации, и к таким весьма значительным с
биологической точки зрения изменениям человек приспособлялся только
изменениями своего поведения и своих привычек. Переселяясь в холодный климат,
человек не изменяет своей организации, но изменяет свою одежду, свое
жилище и т. д. При встрече с новым и опасным врагом он не вырабатывает
новых органов нападения и защиты, рогов, клыков, чешуи и т. д., но
изобретает новый способ борьбы, новое оружие. Другими словами, человек уже
на очень ранней стадии своей эволюции начинает заменять новые органы
новыми орудиями. Там, где животное для приспособления к новым
условиям существования вырабатывает новые особенности строения,
требующие громадных промежутков для своей эволюции, человек изобретает (при
той же организации) новые орудия, которые практически заменяют ему
органы: одежду, согревающую его, огонь для варки пищи, каменный
топор, увеличивающий силу его удара, копье, позволяющее ему поражать
врага на расстоянии, лук и стрелы, увеличивающие это расстояние, и т. д.
Благодаря членораздельной речи человек приобрел способность быстро
передавать новое изобретение или, с нашей точки зрения, новое
приспособление другим людям, чем увеличилась легкость обучения; слово, песня
и затем письмо фиксировали, всякое новое изобретение, сделали
возможным его передачу из поколения в поколение и облегчили его
усовершенствование и т. д.
Я не буду разбирать эту сторону эволюции человека в деталях, так как
это выходит далеко за пределы моей задачи...
Эволюция «приспособлений посредством изменения поведения без
изменения организации» пошла в дивергирующих направлениях по двум
главным путям и в двух типах животного царства достигла своего высшего
развития. В типе членистоногих прогрессивно эволюционировали
наследственные изменения поведения, инстинкты, и у высших представителей их,
у насекомых, мы находим необыкновенно сложные и совершенные,
при793
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
способленные ко всем деталям образа жизни инстинктивные действия. Вся
жизнь общественного насекомого введена в строгие рамки, подчинена
строго определенной рутине. Каждый повторяющийся случай обыденной
жизни муравья или паука служит стимулом, вызывающим к деятельности
определенную инстинктивную реакцию: все правила поведения наследственны
и даны раз навсегда. Но этот сложный и совершенный аппарат
инстинктивной деятельности является вместе с тем и крайне громоздким: если
происходит изменение в условиях среды, то изменение деятельности,
посредством которого животное может приспособиться к новым условиям (если
оно к ним приспособляется этим путем, а не развитием новых органов),
совершается необыкновенно медленно, так что к быстрым изменениям
животное этим путем приспособиться не может. Таким образом, мы здесь
имеем тип животных очень совершенных, с высоко стоящей психикой, но у
которых пластичность организации не превышает пластичности,
достигаемой посредством наследственного изменения организации.
В типе хордат эволюция пошла по другому пути, инстинктивная
деятельность не достигла очень большой высоты (так же как у членистоногих
деятельность разумного типа), но зато приспособление посредством
индивидуального изменения поведения, деятельность разумного типа стала
развиваться прогрессивно и в высокой степени повысила пластичность
организмов; над наследственной приспособляемостью появилась надстройка
индивидуальной приспособляемости поведения. У человека эта
надстройка достигла максимальных размеров, и благодаря этому человек является
существом, приспособляющимся к любым условиям существования,
создающим себе, так сказать, искусственную среду — среду культуры и
цивилизации: с биологической точки зрения, мы не знаем существа,
обладающего большей способностью к приспособлению, а следовательно,
и большим количеством шансов на выживание в борьбе за существование,
чем человек.
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
И.П. ПАВЛОВ:
ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА
Павлов Иван Петрович (1849-1936) —
физиолог, лауреат Нобелевской премии (1904). Создал
учение о высшей нервной деятельности и метод
условных рефлексов ее исследования. Научная методология
павловского подхода к исследованию целостного
организма, результаты его исследований имеют
непреходящую ценность для психологии.
Из многочисленных выступлений Павлова об
особенностях научного творчества и жизни в науке в
антологию включено «Письмо к молодежи »,
которое явилось его завещанием молодому поколению,
вступающему в науку.
УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС*
Условный рефлекс — это теперь отдельный
физиологический термин, обозначающий
определенное нервное явление, подробное изучение
которого повело к образованию нового отдела в
физиологии животных — физиологии высшей
нервной деятельности как первой главы физиологии
высшего отдела центральной нервной системы.
Уже давно накоплялись эмпирические и научные
наблюдения, что механическое повреждение или
заболевание головного мозга и специально
больших полушарий обусловливало нарушение
высшего, сложнейшего поведения животных и человека,
обыкновенно называемого психической
деятельностью. В настоящее время едва ли кто из лиц с
медицинским образованием подвергнет сомнению
положение, что наши неврозы и психозы связаны с
ослаблением или исчезновением нормальных физиологических свойств
головного мозга или с большим или меньшим его разрушением. Тогда
возниПавлов И.П. Поли. собр. трудов. Т.Ш. М.-Л., 1949. С. 557-574.
795
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
кает неотступный фундаментальный вопрос: какая же связь между
мозгом и высшей деятельностью животных и нас самих и с чего и как начинать
изучение этой деятельности? Казалось бы, что психическая деятельность
есть результат физиологической деятельности определенной массы
головного мозга, со стороны физиологии и должно было идти исследование ее
подобно тому, как сейчас с успехом изучается деятельность всех
остальных частей организма. И, однако, этого долго не происходило.
Психическая деятельность давно уже (не одно тысячелетие) сделалась объектом
изучения особой науки — психологии. А физиология поразительно
недавно, только с семидесятого года прошлого столетия, получила при помощи
своего обычного метода искусственного раздражения первые точные
факты относительно некоторой (именно двигательной) физиологической
функции больших полушарий; с помощью же другого, тоже обычного, метода
частичного разрушения были приобретены добавочные данные в
отношении установления связи других частей полушарий с главнейшими
рецепторами организма: глазом, ухом и другими. Это возбудило, было, надежды
как физиологов, так и психологов в отношении тесной связи физиологии с
психологией. С одной стороны, у психологов стало обыкновением
начинать руководства по психологии с предварительного изложения учения о
центральной нервной системе и специально о больших полушариях
(органах чувств). С другой стороны, физиологи, делая опыты с выключением
разных частей полушарий, обсуждали результаты на животных
психологически, по аналогии с тем, что происходило бы в нашем внутреннем мире
(например, мунковское «видит», но не «понимает»). Но скоро наступило
разочарование в обоих лагерях. Физиология полушарий заметно
остановилась на этих первых опытах и не двигалась существенно дальше. А
между психологами после этого опять, как и раньше, оказалось немало
решительных людей, стоящих на совершенной независимости психологического
исследования от физиологического. Рядом с этим были и другие пробы
связать торжествующее естествознание с психологией через метод
численного измерения психических явлений. Одно время думали было
образовать в физиологии особый отдел психофизики благодаря счастливой
находке Вебером и Фехнером закона (называемого по их имени) определенной
численной связи между интенсивностью внешнего раздражения и силой
ощущения. Но дальше этого единственного закона новый отдел не пошел.
Более удалась попытка Вундта, бывшего физиолога, а затем сделавшегося
психологом и философом, применить эксперимент с численным
измерением к психическим явлениям в виде так называемой экспериментальной
психологии; таким образом был собран и собирается значительный
материал. Кое-кто математическую обработку числового материала
экспериментальной психологии по примеру Фехнера называет психофизикой. Но
сейчас не диво встретить и между психологами, и особенно между
психи796
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
атрами, многих горько разочарованных в деятельной помощи
экспериментальной психологии.
Итак, что же делать? Однако чувствовался, воображался и намечался
еще один путь для решения фундаментального вопроса. Нельзя ли найти
такое элементарное психическое явление, которое целиком с полным
правом могло бы считаться вместе с тем и чистым физиологическим явлением,
и, начав с него — изучая строго объективно (как и все в физиологии)
условия его возникновения, его разнообразных усложнений и его исчезновения, —
сначала получить объективную физиологическую картину всей высшей
деятельности животных, т. е. нормальную работу высшего отдела головного
мозга вместо раньше производившихся всяческих опытов его искусственного
раздражения и разрушения? К счастью, такое явление давно было перед глазами
многих; многие останавливали на нем внимание и некоторые даже начинали
было изучать (особенно надо упомянуть Торндайка), но останавливались
почему-то в самом начале и не разработали знания его в основной, существенный
метод систематического физиологического изучения высшей деятельности
животного организма. Это явление и было тем, что теперь обозначает термин
«условный рефлекс » и энергичное изучение которого вполне оправдало
только что высказанную надежду. Поставим, сделаем два простых опыта, которые
удадутся всем. Вольем в рот собаки умеренный раствор какой-нибудь
кислоты. Он вызовет на себя обыкновенную оборонительную реакцию животного:
энергичными движениями рта раствор будет выброшен вон, наружу и вместе с
тем в рот (а потом наружу) обильно польется слюна, разбавляющая
введенную кислоту и отмывающая ее от слизистой оболочки рта. Теперь другой опыт.
Несколько раз любым внешним агентом, например определенным звуком,
подействуем на собаку как раз перед тем, как ввести ей в рот тот же раствор.
И что же? Достаточно будет повторить один лишь этот звук — и у собаки
воспроизведется та же реакция: те же движения рта и то же истечение слюны.
Оба эти факта одинаково точны и постоянны. И оба они должны быть
обозначены одним и тем же физиологическим термином «рефлекс». Оба
они исчезнут, если перерезать либо двигательные нервы к ротовой
мускулатуре и секреторные нервы к слюнным железам, т. е. эфферентные
приводы, либо афферентные приводы от слизистой оболочки рта и от уха, или
же, наконец, разрушить центральные станции перехода нервного тока (т. е.
движущегося процесса нервного раздражения) с афферентных приводов
на эфферентные; для первого рефлекса это будет продолговатый мозг, для
второго — большие полушария.
Никакая строгая мысль не найдет ввиду этих фактов возражений
против этого физиологического заключения, но вместе с тем видна уже и
разница между этими рефлексами. Во-первых, их центральные станции
различны, как только что указано. Во-вторых, как ясно из постановки наших
опытов, первый рефлекс был воспроизведен без всякой подготовки, без
797
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
всякого условия, второй был получен при специальном приеме. Что же это
значило? При первом — переход нервного тока с одних приводов на другие
произошел непосредственно без особенной процедуры. Во втором — для
этого перехода нечто требовалось предварительно. Всего естественнее
представить себе дело так. В первом рефлексе существовало прямо проведение
нервного тока, во втором должно быть произведено предварительное
образование пути для нервного тока; такое понятие давно уже было в
нервной физиологии и выражалось словом «Bahnung». Таким образом, в
центральной нервной системе оказывается два разных центральных аппарата:
прямого проведения нервного тока и аппарата его замыкания и
размыкания. Было бы странно остановиться в каком-то недоумении перед таким
заключением. Ведь нервная система на нашей планете есть невыразимо
сложнейший и тончайший инструмент сношений, связи многочисленных
частей организма между собой и организма как сложнейшей системы с
бесконечным числом внешних влияний. Если теперь замыкание и размыкание
электрического тока есть наше обыденное техническое приспособление,
то неужели можно возражать против представления об осуществлении того
же принципа в этом изумительном инструменте? На основании
изложенного постоянную связь внешнего агента с ответной на него деятельностью
организма законно назвать безусловным рефлексом, а временною —
условным рефлексом. Животный организм как система существует среди
окружающей природы только благодаря непрерывному уравновешиванию этой
системы с внешней средой, т. е. благодаря определенным реакциям живой
системы на падающие на нее извне раздражения, что у более высших
животных осуществляется преимущественно при помощи нервной системы в
виде рефлексов. Первое обеспечение уравновешивания, а следовательно,
и целостности отдельного организма, как и его вида, составляют
безусловные рефлексы как самые простые (например, кашель при попадании
посторонних тел в дыхательное горло), так и сложнейшие, обыкновенно
называемые инстинктами, — пищевой, оборонительный, половой и др. Эти
рефлексы возбуждаются как внутренними агентами, возникающими в
самом организме, так и внешними, что и обусловливает совершенство
уравновешивания. Но достигаемое этими рефлексами уравновешивание было
бы совершенно только при абсолютном постоянстве внешней среды. А так
как внешняя среда при своем чрезвычайном разнообразии вместе с тем
находится в постоянном колебании, то безусловных связей, как связей
постоянных, недостаточно, и необходимо дополнение их условными
рефлексами, временными связями. Например, животному мало забрать в рот
только находящуюся перед ним пищу, тогда бы оно часто голодало и
умирало от голодной смерти, а надо ее найти по разным случайным и
временным признакам, а это и есть условные (сигнальные) раздражители,
возбуждающие движения животного по направлению к пище, которые
798
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
кончаются введением ее в рот, т. е. в целом они вызывают условный
пищевой рефлекс. То же относится и ко всему, что нужно для благосостояния
организма и вида как в положительном, так и в отрицательном смысле, т. е.
к тому, что надо взять из окружающей среды и от чего надо беречься. Не
нужно большого воображения, чтобы сразу увидеть, какое прямо
неисчислимое множество условные рефлексов постоянно практикуется
сложнейшей системой человека, поставленной в часто широчайшей не только
общеприродной среде, но и в специально-социальной среде, в крайнем ее
масштабе до степени всего человечества. Возьмем тот же пищевой
рефлекс. Сколько надо разносторонних условных временных связей и
общеприродных и специально-социальных, чтобы обеспечить себе достаточное
и здоровое пропитание, — а это все в основном корне условный рефлекс!
Нужны ли для этого детальные разъяснения? Сделаем скачок и сразу
остановимся на так называемом жизненном такте как специально-социальном
явлении. Это — умение создать себе благоприятное положение в
обществе. Что же это, как не очень частое свойство держаться со всяким и со
всеми и при всяких обстоятельствах так, чтобы отношение к нам со
стороны других оставалось постоянно благоприятным; а это значит — изменять
свое отношение к другим лицам соответственно их характеру, настроению
и обстоятельствам, т. е. реагировать на других на основании
положительного или отрицательного результата прежних встреч с ними. Конечно, есть
такт достойный и недостойный, с сохранением чувства собственного
достоинства и достоинства других и обратный ему, но в физиологической
сущности тот и другой — временные связи, условные рефлексы. Итак,
временная нервная связь есть универсальнейшее физиологическое явление в
животном мире и в нас самих. А вместе с тем оно же и психическое — то,
что психологи называют ассоциацией, будет ли это образование
соединений из всевозможных действий, впечатлений или из букв, слов и мыслей.
Какое было бы основание как-нибудь различать, отделять друг от друга то,
что физиолог называет временной связью, а психолог — ассоциацией? Здесь
имеется полное слитие, полное поглощение одного другим,
отождествление. Как кажется, это признается и психологами, так как ими (или по
крайней мере некоторыми из них) заявлялось, что опыты с условными
рефлексами дали солидную опору ассоциативной психологии, т. е. психологии,
считающей ассоциацию фундаментом психической деятельности. И это тем
более, что при помощи выработанного условного раздражителя можно
образовать новый условный раздражитель, а в последнее время
убедительно доказано на животном (собаке), что и два индифферентных
раздражения, повторяемые одно за другим, связываются между собой, вызывают
друг друга. Для физиологии условный рефлекс сделался центральным
явлением, пользуясь которым можно было все полнее и точнее изучать как
нормальную, так и патологическую деятельность больших полушарий.
799
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В настоящем изложении результаты этого изучения, доставившего к
теперешнему моменту огромное количество фактов, конечно, могут быть
воспроизведены только в самых основных чертах.
Основное условие образования условного рефлекса есть вообще
совпадение во времени один или несколько раз индифферентного
раздражения с безусловным. Всего скорее и при наименьших затруднениях это
образование происходит при непосредственном предшествовании первого
раздражения последнему, как это показано выше в примере звукового
кислотного рефлекса.
Условный рефлекс образуется на основе всех безусловных рефлексов
и из всевозможных агентов внутренней и внешней среды как в
элементарном виде, так и в сложнейших комплексах, но с одним ограничением: из
всего, для восприятия чего есть рецепторные элементы в больших
полушариях. Перед нами широчайший синтез, осуществляемый этой частью
головного мозга.
Но этого мало. Условная временная связь вместе с тем
специализируется до величайшей сложности и до мельчайшей дробности как условных
раздражителей, так и некоторых деятельностей организма, специально
скелетно- и словесно-двигательной. Перед нами тончайший анализ как
продукт тех же больших полушарий! Отсюда огромная широта и глубина
приспособленности, уравновешивания организма с окружающей средой.
Синтез есть, очевидно, явление нервного замыкания. Что есть как нервное
явление анализ? Здесь несколько отдельных физиологических явлений.
Первое основание анализу дают периферические окончания всех
афферентных нервных проводников организма, из которых каждое устроено
специально для трансформирования определенного вида энергии (как вне, так и
внутри организма) в процессе нервного раздражения, который проводится
затем как в специальные, более скудные в числе, клетки низших отделов
центральной нервной системы, так и в многочисленнейшие специальные
клетки больших полушарий. Здесь, однако, пришедший процесс нервного
раздражения обыкновенно разливается, иррадиируется по разным
клеткам на большее или меньшее расстояние. Вот почему, когда мы
выработали, положим, условный рефлекс на один какой-нибудь определенный тон,
то не только другие тоны, но и многие другие звуки вызывают ту же
условную реакцию. Это в физиологии высшей нервной деятельности называется
генерализацией условных рефлексов. Следовательно, здесь одновременно
встречаются явления замыкания и иррадиации. Но затем иррадиация
постепенно все более и более ограничивается; раздражительный процесс
сосредоточивается в мельчайшем нервном пункте полушарий, вероятно,
в группе соответственных специальных клеток. Ограничение наиболее
скоро происходит при посредстве другого основного нервного процесса,
который называется торможением. Дело происходит так. Мы сначала имеем
800
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
на определенный тон условный генерализованный рефлекс, теперь мы
будем продолжать с ним опыт, постоянно его сопровождая безусловным
рефлексом, подкрепляя его этим; но рядом с ним будем применять и другие,
так сказать, самозванно действующие тоны, но без подкрепления. При этом
последние тоны постепенно будут лишаться своего действия; и это
случится наконец и с самым близким тоном, например, тон в 500 колебаний в
секунду будет действовать, а тон в 498 колебаний — нет,
отдифференцируется. Эти теперь потерявшие действие тоны заторможены.
Доказывается это так.
Если непосредственно после применения заторможенного тона
пробовать постоянно подкрепляемый условный тон, он или совсем не
действует, или резко меньше обычного. Значит, торможение, упразднившее
действие посторонних тонов, дало себя знать и на нем. Но это кратковременное
действие, — при большем промежутке после упраздненных тонов оно
более не наблюдается. Из этого надо заключить, что тормозной процесс так
же иррадиирует, как и раздражительный. Но чем чаше повторяются
неподкрепляемые тоны, тем иррадиация торможения становится меньше,
тормозной процесс все более и более концентрируется и во времени,
и в пространстве. Следовательно, анализ начинается со специальной
работы периферических аппаратов афферентных проводников и завершается в
больших полушариях при посредстве тормозного процесса. Описанный
случай торможения называется дифференцировочным торможением.
Приведем другие случаи торможения. Обычно, чтобы иметь определенную,
более или менее постоянную величину условного эффекта, действие
условного раздражителя продолжают определенное время и затем
присоединяют к нему безусловный раздражитель, подкрепляют. Тогда первые
секунды или минуты раздражения, смотря по продолжительности
изолированного применения условного раздражителя, не имеют действия,
потому что, как преждевременные, в качестве сигналов безусловного
раздражителя, затормаживаются. Это — анализ разных моментов
продолжающегося раздражителя. Данное торможение называется
торможением запаздывающего рефлекса. Но условный раздражитель, как
сигнальный, корригируется торможением и сам по себе, делаясь постепенно
нулевым, если в определенный период времени не сопровождается
подкреплением. Это — угасательное торможение. Это торможение держится
некоторое время и затем само собой исчезает. Восстановление угасшего
условного значения раздражителя ускоряется подкреплением. Таким
образом, мы имеем положительные условные раздражители, т. е.
вызывающие в коре полушарий раздражительный процесс, и отрицательные —
вызывающие тормозной процесс. В приведенных случаях мы имеем
специальное торможение больших полушарий, корковое торможение. Оно
возникает при определенных условиях там, где его раньше не было, оно
26 Российская психология 801
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
упражняется в размере, оно исчезает при других условиях — и этим оно
отличается от более и менее постоянного и стойкого торможения низших
отделов центральной нервной системы и потому названо в отличие от
последнего (внешнего) внутренним. Правильнее было бы название:
выработанное, условное торможение. В работе больших полушарий торможение
участвует так же беспрестанно, сложно и тонко, как и раздражительный
процесс.
Как приходящие в полушария извне раздражения связываются там в
одних случаях с определенными пунктами, находящимися в состоянии
раздражения, так такие же раздражения могут в других случаях вступать, тоже
на основании одновременности, во временную связь с тормозным
состоянием коры, если она в таковом находится. Это явствует из того, что такие
раздражители имеют тормозное действие, вызывают сами по себе в коре
тормозной процесс, являются условными отрицательными
раздражителями. В этом случае, как и в приведенных выше, мы имеем превращение при
определенных условиях раздражительного процесса в тормозной. И это
можно сделать для себя до некоторой степени понятным, вспомнив, что в
периферических аппаратах афферентных проводников мы имеем
постоянное превращение разных видов энергии в раздражительный процесс.
Почему бы при определенных условиях не происходить превращению
энергии раздражительного процесса в энергию тормозного, и наоборот?
Как мы только что видели, и раздражительный и тормозной процессы,
возникнув в полушариях, сначала разливаются по ним, иррадиируют, а
потом могут концентрироваться, собираясь к исходному пункту. Это один из
основных законов всей центральной нервной системы, но здесь, в больших
полушариях, он выступает со свойственными только им подвижностью и
сложностью. Между условиями, определяющими наступление и ход
радиирования и концентрирования процессов, надо считать на первом
месте силу этих обоих процессов. Собранный доселе материал
позволяет заключить, что при слабом раздражительном процессе происходит
иррадиация, при среднем — концентрация, при очень сильном — опять
иррадиация. Совершенно то же при тормозном процессе. Случаи иррадиации
при очень сильных процессах встречались реже и поэтому исследованы
меньше, особенно при торможении. Иррадиация раздражительного
процесса при слабом его напряжении как временное явление делает явным
латентное состояние раздражения от другого наличного раздражителя (но
слишком слабого для его обнаружения), или от недавно бывшего, или,
наконец, от часто повторявшегося и оставившего после себя повышенный
тонус олределенного пункта. С другой стороны, эта иррадиация устраняет
тормозное состояние других пунктов коры. Это явление называется
растормаживанием, когда иррадиационная волна постороннего слабого
раздражителя превращает действие определенного наличного
отрицательно802
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
го условного раздражителя в противоположное, положительное. При
среднем напряжении раздражительного процесса он концентрируется,
сосредоточиваясь в определенном ограниченном пункте, выражаясь в
определенной работе. Иррадиация при очень сильном раздражении обусловливает
высший тонус коры, когда на фоне этого раздражения и все другие
сменяющиеся раздражения дают максимальный эффект. Иррадиация
тормозного процесса при слабом его напряжении есть то, что называется
гипнозом, и при пищевых условных рефлексах характерно обнаруживается в
обоих компонентах — секреторном и двигательном. Когда при
вышеуказанных условиях возникает торможение (дифференцировочное и другие),
обыкновеннейший факт — наступление особенных состояний больших
полушарий. Сначала, против правила более или менее параллельного, в норме
изменения величины слюнного эффекта условных пищевых рефлексов
соответственно физической интенсивности раздражителей, все
раздражители уравниваются в эффекте (уравнительная фаза). Далее слабые
раздражители дают больше слюны, чем сильные (парадоксальная фаза).
И, наконец, получается извращение эффектов: условный
положительный раздражитель остается совсем без эффекта, а отрицательный
вызывает слюнотечение (ультрапарадоксальная фаза). То же выступает и
на двигательной реакции; так, когда собаке предлагается еда (т. е.
действуют натуральные условные раздражители), она отворачивается от нее,
а когда еда отводится, уносится прочь, — тянется к ней. Кроме того, в
гипнозе иногда можно прямо видеть в случае пищевых условных рефлексов
постепенное распространение торможения по двигательной области коры.
Прежде всего парализуются язык и жевательные мышцы, затем
присоединяется торможение шейных мышц и наконец всех туловищных. При
дальнейшем распространении торможения вниз по мозгу иногда можно
заметить каталептическое состояние, и наконец наступает полный сон.
Гипнотическое состояние как тормозное очень легко входит на
основании одновременности во временную условную связь с многочисленными
внешними агентами.
При усилении тормозного процесса он концентрируется. Это служит
к разграничению пункта коры с состоянием раздражения от пунктов с
тормозным состоянием. А так как в коре масса разнообразнейших пунктов,
раздражительных и тормозных, относящихся как к внешнему миру
(зрительных, слуховых и др.), так и к внутреннему (двигательных и др.), то кора
представляет грандиозную мозаику с перемежающимися пунктами
разных качеств и разных степеней напряжения раздражительного и
тормозного состояний. Таким образом, бодрое рабочее состояние животного и
человека есть подвижное и вместе локализованное то более крупное, то
мельчайшее дробление раздражительного и тормозного состояния коры,
контрастирующее с сонным состоянием, когда торможение на высоте его
26* 803
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
интенсивности и экстенсивности равномерно разливается по всей массе
полушарий и в глубину, вниз на известное расстояние. Однако и теперь
могут иногда оставаться в коре отдельные раздражительные пункты —
сторожевые, дежурные. Следовательно, оба процесса в бодром состоянии
находятся в постоянном подвижном уравновешивании, как бы в борьбе. Если
сразу отпадает масса раздражений внешних или внутренних, то в коре
берет резкий перевес торможение над раздражением. Некоторые собаки с
разрушенными периферически главными внешними рецепторами
(зрительным, слуховым и обонятельным) спят в сутки 23 часа.
Рядом с законом иррадиации и концентрации нервных процессов
также постоянно действует и другой основной закон — закон взаимной
индукции, состоящий в том, что эффект положительного условного
раздражителя делается больше, когда последний применяется сейчас же или
скоро после концентрированного тормозного, так же как и эффект
тормозного оказывается более точным и глубоким после концентрированного
положительного. Взаимная индукция обнаруживается как в окружности
пункта раздражения или торможения одновременно с их действием, так и
на самом пункте по прекращении процессов. Ясно, что закон иррадиации и
концентрации и закон взаимной индукции тесно связаны друг с другом,
взаимно ограничивая, уравновешивая и укрепляя друг друга и таким
образом обусловливая точное соотношение деятельности организма с
условиями внешней среды. Оба эти закона обнаруживаются во всех отделах
центральной нервной системы, но в больших полушариях — на вновь
образующихся пунктах раздражения и торможения, а в низших отделах
центральной нервной системы — на более или менее постоянных.
Отрицательная индукция, т. е. появление или усиление торможения в окружности
пункта раздражения, раньше в учении об условных рефлексах называлась
внешним торможением, когда данный условный рефлекс уменьшался и
исчезал при действии на животное постороннего, случайного
раздражителя, вызывающего на себя чаще всего ориентировочный рефлекс. Это и было
поводом случаи торможения, описанные выше (угасательное и др.),
соединить под названием внутреннего торможения, как происходящие без
вмешательства постороннего раздражения. Кроме этих двух различных
случаев торможения, в больших полушариях имеется и третий. Когда условные
раздражители физически очень сильны, то правило прямой связи
величины эффекта этих раздражителей и физической интенсивности их
нарушается; эффект их делается не больше, а меньше эффекта раздражителей
умеренной силы — так называемое запредельное торможение.
Запредельное торможение выступает как при одном очень сильном условном
раздражителе, так и в случае суммации не очень сильных в отдельности
раздражителей. Запредельное торможение всего естественнее отнести к
случаю рефлекторного торможения. Если точнее систематизировать
слу804
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
чаи торможения, то это или постоянное, безусловное торможение
(торможение отрицательной индукции и запредельное торможение), или
временное, условное торможение (угасательное, дифференцировочное и
торможение запаздывания). Но есть основания все эти виды торможения в их
физико-химической основе считать за один и тот же процесс, только
возникающий при различных условиях.
Вся установка и распределение по коре полушария раздражительных
и тормозных состояний, происшедших в определенный период под
влиянием внешних и внутренних раздражений, при однообразной,
повторяющейся обстановке все более фиксируются, совершаясь все легче и
автоматичнее. Таким образом, получается в коре динамический стереотип
(системность), поддержка которого составляет все меньший и меньший
нервный труд; стереотип же становится косным, часто трудно
изменяемым, трудно преодолеваемым новой обстановкой, новыми
раздражениями. Всякая первоначальная установка стереотипа есть в зависимости от
сложности системы раздражений значительный и часто чрезвычайный труд.
Изучение условных рефлексов у массы собак постепенно выдвинуло
вопрос о разных нервных системах отдельных животных, и, наконец,
получились основания систематизировать нервные системы по некоторым их
основным чертам. Таких черт оказалось три: сила основных нервных
процессов (раздражительного и тормозного), уравновешенность их между
собой и подвижность этих процессов. Действительные комбинации этих трех
черт представились в виде четырех более или менее резко выраженных
типов нервной системы. По силе животные разделились на сильных и слабых;
сильные по уравновешенности процессов — на уравновешенных и
неуравновешенных, и уравновешенные сильные — на подвижных и инертных.
И это приблизительно совпадает с классической систематизацией
темпераментов. Таким образом, оказываются сильные, но неуравновешенные
животные с обоими сильными процессами, но с преобладанием
раздражительного процесса над тормозным — возбудимый безудержный тип, холерики
по Гиппократу. Далее сильные вполне уравновешенные, притом инертные
животные — спокойный медлительный тип, по Гиппократу флегматики.
Потом сильные вполне уравновешенные, притом лабильные — очень
живой, подвижной тип, по Гиппократу — сангвиники. И наконец, слабый тип
животных, всего более подходящих к гиппократовским меланхоликам;
преобладающая и общая черта их — легкая тормозимость как в силу
внутреннего торможения, постоянно слабого и легко иррадиирующего, так в
особенности и внешнего под влиянием всяческих, даже незначительных,
посторонних внешних раздражений. В остальном это менее однообразный
тип, чем все другие; это-то животные с обоими одинаково слабыми
процессами, то преимущественно с чрезвычайно слабыми тормозными, то
суетливые, беспрерывно озирающиеся, то, наоборот, постоянно
останавлива805
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ющиеся, как бы застывающие животные. Основание этой
неоднообразности, конечно, то, что животные слабого типа, так же как и животные
сильных типов, различаются между собой по другим чертам, кроме силы
нервных процессов. Но преобладающая и чрезвычайная слабость то одного
тормозного, то обоих процессов уничтожает жизненное значение
вариаций по остальным чертам. Постоянная и сильная тормозимость делает всех
этих животных одинаково инвалидами.
Итак, тип есть прирожденный конституциональный вид нервной
деятельности животного — генотип. Но так как животное со дня рождения
подвергается разнообразнейшим влияниям окружающей обстановки, на
которые оно неизбежно должно отвечать определенными
деятельностями, часто закрепляющимися, наконец, на всю жизнь, то окончательная
наличная нервная деятельность животного есть сплав из черт типа и
изменений, обусловленных внешней средой, — фенотип, характер. Все
изложенное, очевидно, представляет бесспорный физиологический
материал, т. е. объективно воспроизведенную нормальную физиологическую
работу высшего отдела центральной нервной системы; с изучением
нормальной работы и надо начинать и действительно обычно начинается
физиологическое изучение каждой части животного организма. Это, однако, не
мешает некоторым физиологам до сих пор считать сообщенные факты не
относящимися к физиологии. Не редкий случай рутины в науке!
Нетрудно описанную физиологическую работу высшего отдела
головного мозга животного привести в естественную и непосредственную связь
с явлениями нашего субъективного мира на многих его пунктах.
Условная связь, как уже указано выше, есть, очевидно, то, что мы
называем ассоциацией по одновременности. Генерализация условной связи
отвечает тому, что зовется ассоциацией по сходству. Синтез и анализ
условных рефлексов (ассоциаций) — в сущности те же основные процессы
нашей умственной работы. При сосредоточенном думаний, при
увлечении каким-нибудь делом мы не видим и не слышим, что около нас
происходит, — явная отрицательная индукция. Кто отделил бы в
безусловных сложнейших рефлексах (инстинктах) физиологическое соматическое
от психического, т. е. от переживаний могучих эмоций голода, полового
влечения, гнева и т. д. Наши чувства приятного, неприятного, легкости,
трудности, радости, мучения, торжества, отчаяния и т. д. связаны то с
переходом сильнейших инстинктов и их раздражителей в соответствующие
эффекторные акты, то с их задерживанием, со всеми вариациями либо легкого,
либо затруднительного протекания нервных процессов, происходящих в
больших полушариях, как это видно на собаках, решающих или не
могущих решить нервные задачи разных степеней трудности. Наши
контрастные переживания есть, конечно, явления взаимной индукции. При
иррадиировавшем возбуждении мы говорим и делаем то, чего в спокойном
806
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
состоянии не допустили бы. Очевидно, волна возбуждения превратила
торможение некоторых пунктов в положительный процесс. Сильное падение
памяти настоящего — обычное явление при нормальной старости — есть
возрастное понижение подвижности специально раздражительного
процесса, его инертность. И т. д. и т. д.
В развивающемся животном мире на фазе человека произошла
чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности. Для животного
действительность сигнализируется почти исключительно только
раздражениями и следами их в больших полушариях, непосредственно
приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и других рецепторов
организма. Это то, что и мы имеем в себе как впечатления, ощущения и
представления от окружающей внешней среды как общеприродной, так и
от нашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это — первая
сигнальная система действительности, общая у нас с животными. Но слово
составило вторую, специально нашу, сигнальную систему
действительности, будучи сигналом первых сигналов. Многочисленные раздражения
словом, с одной стороны, удалили нас от действительности, и поэтому мы
постоянно должны помнить это, чтобы не исказить наши отношения к
действительности. С другой стороны, именно слово сделало нас людьми,
о чем, конечно, здесь подробнее говорить не приходится. Однако не
подлежит сомнению, что основные законы, установленные в работе первой
сигнальной системы, должны также управлять и второй, потому что эта
работа все той же нервной ткани.
Самым ярким доказательством того, что изучение условных
рефлексов поставило на правильный путь исследование высшего отдела головного
мозга и что при этом, наконец, объединились, отождествились функции
этого отдела и явления нашего субъективного мира, служат дальнейшие
опыты с условными рефлексами на животных, при которых
воспроизводятся патологические состояния нервной системы человека, — неврозы и
некоторые отдельные психотические симптомы, причем во многих
случаях достигается и рациональный нарочитый возврат к норме, излечение, т. е.
истинное научное овладение предметом. Норма нервной деятельности есть
равновесие всех описанных процессов, участвующих в этой деятельности.
Нарушение этого равновесия есть патологическое состояние, болезнь,
причем часто в самой так называемой норме; следовательно, точнее говоря,
в относительной норме имеется уже известное неравновесие. Отсюда
вероятность нервного заболевания отчетливо связывается с типом нервной
системы. Под действием трудных экспериментальных условий из наших
собак нервно заболевают скоро и легко животные, принадлежащие к крайним
типам: возбудимому и слабому. Конечно, чрезвычайно сильными,
исключительными мерами можно сломать равновесие и у сильных
уравновешенных типов. Трудные условия, нарушающие хронически нервное
равнове807
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
сие, — это: перенапряжение раздражительного процесса,
перенапряжение тормозного процесса и непосредственное столкновение обоих
противоположных процессов, иначе говоря, перенапряжение подвижности этих
процессов. Мы имеем собаку с системой условных рефлексов на
раздражители разной физической интенсивности, рефлексов положительных и
отрицательных, применяемых стереотипно в том же порядке и с теми же
промежутками. Применяя то чрезвычайно исключительно сильные
условные раздражители, то очень удлиняя продолжительность тормозных
раздражителей, или производя очень тонкую дифференцировку, или
увеличивая в системе рефлексов число тормозных раздражителей, то, наконец,
заставляя следовать непосредственно друг за другом противоположные
процессы, или даже действуя одновременно противоположными
условными раздражителями, или разом изменяя динамический стереотип, т. е.
превращая установленную систему условных раздражителей в
противоположный ряд раздражителей, — мы видим, что во всех этих случаях указанные
крайние типы особенно быстро приходят в хроническое патологическое
состояние, выражающееся у этих типов различно. У возбудимого типа
невроз выражается в том, что его тормозной процесс постоянно и в норме
отстававший по силе раздражительного, теперь очень слабнет, почти
исчезает; выработанные, хотя и не абсолютные, дифференцировки вполне
растормаживаются, угасание чрезвычайно затягивается, запаздывающий
рефлекс превращается в коротко отставленный и т. д. Животное становится
вообще в высшей степени несдержанным и нервным при опытах в станке:
то буйствует, то, что гораздо реже, впадает в сонное состояние, чего с ним
раньше не случалось. Невроз слабого типа носит почти исключительно
депрессивный характер. Условно-рефлекторная деятельность делается в
высшей степени беспорядочна, а чаще всего совсем исчезает, животное в
станке находится почти сплошь в гипнотическом состоянии, представляя его
различные фазы (условных рефлексов никаких нет, животное не берет даже
предлагаемую ему еду).
Экспериментальные неврозы большей частью принимают затяжной
характер — на месяцы и на годы. При длительных неврозах были испытаны
с успехом лечебные приемы. Давно уже при изучении условных рефлексов
был применен бром, когда дело шло о животных, которые не могли
справиться с задачами торможения. И оказалось, что бром существенно
помогал этим животным. Длинные и разнообразные ряды опытов с условными
рефлексами на животных несомненно установили, что бром имеет
специальное отношение не к раздражительному процессу, его снижая, как
обычно принималось, а к тормозному, его усиливая, его тонизируя. Он
оказался могущественным регулятором и восстановителем нарушенной нервной
деятельности, но при непременном и существеннейшем условии
соответственной и точной дозировки его по типам и состояниям нервной системы.
808
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
При сильном типе и при достаточно еще сильном состоянии надо
употреблять на собаках большие дозы до 2-5 г в сутки, а при слабых обязательно
спускаться до сантиграммов и даже миллиграммов. Такое бромирование в
течение недели-двух иногда уже бывало достаточно для радикального
излечения хронического экспериментального невроза. За последнее время
делаются опыты, показывающие еще более действительное лечебное
действие, и именно в особенно тяжелых случаях, комбинации брома с
кофеином, но опять при тончайшей, теперь взаимной дозировке. Излечение
больных животных получалось иногда, и хотя и не так быстро и полно, также и
при одном продолжительном или коротком, но регулярном отдыхе от
лабораторной работы вообще или от устранения лишь трудных задач в
системе условных рефлексов.
Описанные неврозы собак всего естественнее сопоставить с
неврастенией людей, тем более что некоторые невропатологи настаивают на двух формах
неврастении: возбужденной и депрессивной. Затем сюда же подойдут
некоторые травматические неврозы, а также и другие реактивные патологические
состояния. Признание двух сигнальных систем действительности у человека,
надо думать, поведет специально к пониманию механизма двух человеческих
неврозов: истерии и психастении. Если люди, на основании преобладания
одной системы над другой, могу быть разделены на мыслителей по
преимуществу и художников по преимуществу, тогда будет понятно, что в
патологических случаях при общей неуравновешенности нервной системы первые
окажутся психастениками, а вторые — истериками.
Кроме выяснения механизма неврозов, физиологическое изучение
высшей нервной деятельности дает ключ к пониманию некоторых сторон и
явлений в картинах психозов. Прежде всего остановимся на некоторых формах
бреда, именно на вариации бреда преследования, на том, что Пьер Ж а н э
называет «чувствами овладения», и на «инверсии» Кречмера. Больного
преследует именно то, чего он особенно желает избежать: он хочет иметь свои
тайные мысли, а ему неодолимо кажется, что они постоянно открываются,
узнаются другими; ему хочется быть одному, а его мучит неотступная мысль,
хотя бы он в действительности и находился в комнате один, что в ней все же
кто-то есть, и т. д., — чувства овладения, по Ж а н э. У Кречмера две девушки,
придя в пору половой зрелости и получив влечение к определенным
мужчинам, однако подавляли в себе это влечение по некоторым мотивам. В силу
этого у них сначала развилась навязчивость: к их мучительному горю, им
казалось, что на лице их видно половое возбуждение и все обращают на это
внимание, а им была очень дорога их половая чистота, неприкосновенность.
А затем сразу одной неотступно стало казаться, и даже ощущалось ею, что в
ней находится и двигается, добираясь до рта, половой искуситель — змей,
соблазнивший Еву в раю, а другой, что она беременна. Это последнее явление
Кречмер и называет инверсией. Оно в отношении механизма, очевидно,
тож809
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
дественно с чувством овладения. Это патологическое субъективное
переживание можно без натяжки понять как физиологическое явление
ультрапарадоксальной фазы. Представление о половой неприкосновенности как
сильнейшее положительное раздражение на фоне тормозного, подавленного
состояния, в котором находились обе девушки, превратилось в столь же
сильное противоположное отрицательное представление, доходившее до степени
ощущения, у одной — в представление о нахождении в ее теле полового
соблазнителя, а у другой — в представление о беременности как результат
полового сношения. То же и у больного с чувством овладения. Сильное
положительное представление «я один » превращается при тех же условиях в такое же
противоположное — «около меня всегда кто-то!».
В опытах с условными рефлексами при разных трудных и
патологических состояниях нервной системы часто приходится наблюдать, что
временное торможение ведет к временному улучшению этих состояний,
а у одной собаки отмечено два раза яркое кататоническое состояние,
повлекшее за собой резкое улучшение хронического упорного нервного
заболевания, почти возврат к норме, на несколько последовательных дней.
Вообще надо сказать, что при экспериментальных заболеваниях нервной
системы почти постоянно выступают отдельные явления гипноза, и это дает
право принимать, что это — нормальный прием физиологической борьбы
против болезнетворного агента. Поэтому кататоническую форму или фазу
шизофрении, сплошь состоящую из гипнотических симптомов, можно
понимать как физиологическое охранительное торможение,
ограничивающее или совсем исключающее работу заболевшего мозга, которому
вследствие действия какого-то, пока неизвестного, вредного агента
угрожала опасность серьезного нарушения или окончательного
разрушения. Медицина в случае почти всех болезней хорошо знает, что первая
терапевтическая мера — покой подвергшегося заболеванию органа. Что
такое понимание механизма кататонии при шизофрении отвечает
действительности, убедительно доказывается тем, что только эта форма
шизофрении представляет довольно значительный процент возврата к
норме, несмотря иногда на многогодовое (двадцать лет) продолжение
кататонического состояния. С этой точки зрения являются прямо
вредоносными всяческие попытки действовать на кататоников возбуждающими
приемами и средствами. Наоборот, надо ждать очень значительного
увеличения процента выздоровления, если к физиологическому покою
посредством торможения присоединить нарочитый внешний покой таких
больных, а не содержать их среди беспрерывных и сильных раздражений
окружающей обстановки, среди других более или менее беспокойных
больных.
При изучении условных рефлексов, кроме общего заболевания коры,
многократно наблюдались чрезвычайно интересные случаи также
экспе810
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
риментально и функционально произведенного заболевания отдельных
очень дробных пунктов коры. Пусть имеется собака с системой
разнообразных рефлексов и между ними условными рефлексами на разные звуки:
тон, шум, удары метронома, звонок и т. д., — и больным может быть
сделан только один из пунктов приложения этих условных раздражителей,
а остальные останутся здоровыми. Патологическое состояние
изолированного пункта коры производится теми же приемами, которые описаны выше
как болезнетворные. Заболевание проявляется в различных формах, в
различных степенях. Самое легкое изменение этого пункта выражается в его
хроническом гипнотическом состоянии: на этом пункте вместо
нормальной связи величины эффекта раздражения с физической силой
раздражителя появляются уравнительная и парадоксальная фазы. И это на
основании вышесказанного можно было бы толковать как физиологическую
предупредительную меру при трудном состоянии пункта. При
дальнейшем развитии болезненного состояния раздражитель совсем не дает
положительного эффекта, а всегда вызывает только торможение. Это в одних
случаях. В других—совершенно наоборот. Положительный рефлекс
делается необычно устойчивым: он медленнее угасает, чем нормальные,
менее поддается последовательному торможению от других,
тормозных условных раздражителей, он часто резко выступает по величине
среди всех остальных условных рефлексов, чего раньше, до
заболевания, не было. Значит, раздражительный процесс данного пункта стал
хронически болезненно-инертным. Раздражение патологического пункта
то остается индифферентным для пунктов остальных раздражителей, то к
этому пункту нельзя прикоснуться его раздражителем, без того, чтобы не
расстроилась так или иначе вся система рефлексов. Есть основание
принимать, что при заболевании изолированных пунктов, когда в больном
пункте преобладает то тормозной процесс, то раздражительный, механизм
болезненного состояния состоит именно в нарушении равновесия между
противоположными процессами: слабнет значительно и преимущественно
то один, то другой процесс. В случае патологической инертности
раздражительного процесса имеется факт, что бром (усиливающий тормозной
процесс) часто с успехом ее устраняет.
Едва ли может считаться фантастическим следующее заключение.
Если, как очевидно прямо, стереотипия, итерация и персеверация имеют
свое естественное основание в патологической инертности
раздражительного процесса разных двигательных клеток, то и механизм навязчивого
невроза и параной должен быть тот же. Дело идет только о других клетках
или группах их, связанных с нашими ощущениями и представлениями.
Таким образом, только один ряд ощущений и представлений, связанных с
больными клетками, делается ненормально устойчивым и не поддается
задерживающему влиянию других многочисленных ощущений и
представ811
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
лений, более соответствующих действительности благодаря здоровому
состоянию их клеток. Следующий факт, который наблюдался много раз при
изучении патологических условных рефлексов и который имеет явное
отношение к человеческим неврозам и психозам, — это циркулярность в
нервной деятельности. Нарушенная нервная деятельность представлялась
более или менее правильно колеблющейся. То шла полоса чрезвычайно
ослабленной деятельности (условные рефлексы были хаотичны, часто
исчезали совсем или были минимальны), а затем как бы самопроизвольно без
видимых причин после нескольких недель или месяцев наступал больший
или меньший или даже совершенный возврат к норме, сменявшийся потом
опять полосой патологической деятельности. То в циркулярности
чередовались периоды ослабленной деятельности с ненормально повышенной.
Нельзя не видеть в этих колебаниях аналогии с циклотимией и
маниакально-депрессивным психозом. Всего естественнее было бы свести эту
патологическую периодичность на нарушение нормальных отношений между
раздражительным и тормозным процессами, что касается их
взаимодействия. Так как противоположные процессы не ограничивали друг друга в
должное время и в должной мере, а действовали независимо друг от друга
и чрезмерно, то результат их работы доходил до крайности — и только
тогда наступала смена одного другим. Таким образом получалась другая,
именно чрезвычайно утрированная периодичность: недельная и месячная
вместо короткой, и потому совершенно легкой, суточной периодичности.
Наконец, нельзя не упомянуть о факте, обнаружившемся до сих пор в
исключительно сильной форме, правда, только у одной собаки. Это —
чрезвычайная взрывчатость раздражительного процесса. Некоторые отдельные или
все условные раздражители давали стремительнейший и чрезмерный эффект
(как двигательный, так и секреторный), но быстро обрывающийся еще в
течение действия раздражителя: и собака при подкреплении пищевого
рефлекса еды уже не брала. Очевидно, дело в сильной патологической
лабильности раздражительного процесса, что соответствует
раздражительной слабости человеческой клиники. Случаи слабой формы этого явления
нередки у собак при некоторых условиях.
Все описанные патологические нервные симптомы выступают при
соответствующих условиях как у нормальных, т. е. оперативно не тронутых
собак, так (в особенности некоторые из них, например циркулярность) и у
кастрированных животных, значит, на органической патологической
почве. Многочисленные опыты показали, что главнейшая черта нервной
деятельности кастратов — это очень сильное и преимущественное ослабление
тормозного процесса, у сильного типа с течением времени, однако,
значительно выравнивающееся.
В заключение еще раз надо подчеркнуть, до чего, при сопоставлении
ультрапарадоксальной фазы с чувствами овладения и инверсией, а
патоло812
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
гической инертности раздражительного процесса — с навязчивым
неврозом и параноей, взаимно покрываются и сливаются физиологические
явления с переживаниями субъективного мира.
ПИСЬМО К МОЛОДЕЖИ1
Что бы я хотел пожелать молодежи моей родины, посвятившей себя
науке?
Прежде всего — последовательности. Об этом важнейшем условии
плодотворной научной работы я никогда не смогу говорить без волнения.
Последовательность, последовательность и последовательность. С самого
начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в
накоплении знаний.
Изучите азы науки прежде, чем пытаться взойти на ее вершины.
Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего. Никогда не
пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний хотя бы и самыми смелыми
догадками и гипотезами. Как бы ни тешил ваш взор своими переливами
этот мыльный пузырь — он неизбежно лопнет, и ничего кроме конфуза у
вас не останется.
Приучите себя к сдержанности и терпению. Научитесь делать черную
работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накопляйте факты.
Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять
ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты — это воздух ученого. Без них
вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши «теории» — пустые
потуги.
Но изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у
поверхности фактов. Не превращайтесь в архивариусов фактов.
Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения. Настойчиво ищите законы, ими
управляющие.
Второе — это скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете.
И как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе:
я невежда.
Не давайте гордыне овладеть вами. Из-за нее вы будете упорствовать
там, где нужно согласиться, из-за нее вы откажетесь от полезного совета и
дружеской помощи, из-за нее вы утратите меру объективности.
В том коллективе, которым мне приходится руководить, все делает
атмосфера. Мы все впряжены в одно общее дело, и каждый двигает его по
мере своих сил и возможностей. У нас зачастую и не разберешь — что «мое »,
а что «твое», но от этого наше общее дело только выигрывает.
Техника — молодежи. 1936. № 2-3.
813
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Третье — это страсть. Помните, что наука требует от человека всей
его жизни. И если у вас было бы две жизни, то их бы не хватило вам.
Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека.
Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях.
Наша родина открывает большие просторы перед учеными, и нужно
отдать должное — науку щедро вводят в жизнь в нашей стране. До
последней степени щедро.
Что же говорить о положении молодого ученого у нас? Здесь ведь ясно
и так. Ему многое дается, но с него много спросится. И для молодежи, как
и для нас, вопрос чести — оправдать те большие упования, которые
возлагает на науку наша родина.
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
A.A. УХТОМСКИЙ:
ДОМИНАНТА
Ухтомский Алексей Алексеевич (1875 —
1942) — физиолог. Основываясь на
динамическом понимании органа и организма, разработал
учение о доминанте как источнике поведения,
определяющем его вектор и являющемся
физиологической основой внимания, предметного
мышления. Выработал законы общения как
собеседования, мотивацию которого составляет
доминанта на лицо другого и благодаря которой
человек становится личностью. Ввел понятие
хронотопа как единства
пространственно-временной организации процессов поведения, так
что настоящий момент несет в себе содержание
прошлого. Многие идеи Ухтомского вошли в современную психологию
человека.
В антологию включена также «Автобиография A.A. Ухтомского».
ДОМИНАНТА
КАК РАБОЧИЙ ПРИНЦИП НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ1
I
В идейном и фактическом наследстве, оставленном Н.Е. Введенским,
есть вывод, который следует из совокупности работ покойного над
возбудимыми элементами, но который он сам почему-то не пожелал сделать,
а именно, что нормальное отправление органа (например, нервного центра)
в организме есть не предопределенное, раз навсегда неизменное качество
данного органа, но функция от его состояния. Было большим
освобождением для мысли, когда блеснула догадка, что металлы и металлоиды не
являются раз навсегда качественно раздельными вещами, но вещество
может проходить металлическое и металлоидное состояние в зависимости от
величины атомных весов. Точно так же великим освобождением и вместе
расширением задач для мысли было понимание, что газообразные, жидкие
и твердые свойства являются не постоянными качествами вещей, но
переходными состояниями в зависимости от температуры. Физиологическая
1 Рус. физиол. журн. 1923. Т. VI. В. 1-3. С. 31-45.
815
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
мысль чрезвычайно обогащается перспективами
и проблемами с того момента, когда
открывается, что роль нервного центра, с которою он
вступает в общую работу его соседей, может
существенно изменяться, из возбуждающей может
становиться тормозящей для одних и тех же
приборов в зависимости от состояния,
переживаемого центром в данный момент. Возбуждение
и торможение — это лишь переменные
состояния центров в зависимости от условий
раздражения, от частоты и силы приходящих к нему
импульсов. Но различными степенями
возбуждающих и тормозящих влияний центра на
органы определяется его роль в организме. Отсюда
прямой вывод, что нормальная роль центра в
организме есть не неизменное, статически
постоянное и единственное его качество, но одно
из возможных для него состояний. В других состояниях тот же центр
может приобрести существенно другое значение в общей экономии
организма. В свое время я сделал этот вывод в книге «О зависимости
кортикальных двигательных эффектов от побочных центральных влияний».
«Кортикальный центр является носителем известной
индивидуализированной функции лишь настолько, насколько соответствующий,
иннервируемый им, сегментарный механизм действует индивидуально; и он будет
носителем других функций, когда иннервируемый им сегментарный
механизм будет действовать, как часть более обширного центрального
механизма». «Нормальная кортикальная деятельность происходит не так,
будто она опирается на раз навсегда определенную и постоянную
функциональную статику различных фокусов как носителей отдельных
функций; она опирается на непрестанную межцентральную динамику
возбуждений в центрах, определяемую изменчивыми функциональными
состояниями всех этих аппаратов» [*]. Фактическим подтверждением
служила описанная тогда картина, что в моменты повышенного возбуждения
в центральном приборе глотания или дефекации на теплокровном
раздражение «психомоторной зоны» коры дает не обычные реакции в
мускулатуре конечностей, но усиление действующего в данный момент глотания или
дефекации. Главенствующее возбуждение организма в данный момент
существенно изменяло роль некоторых центров и исходящих из них
импульсов для данного момента.
Что приписывание топографически определенному нервному центру
всегда одной и той же неизменной функции есть лишь допущение,
делаемое ради простоты рассуждения, на это указывал уже Винш[2].
816
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
II
С 1911 г. я держусь той мысли, что описанная переменная роль
центров в организме представляет собой не исключительное явление, а
постоянное правило. Теоретически вероятно лишь, что есть центры с
большим и с меньшим многообразием функций. Так, филогенетически более
древние спинномозговые и сегментарные центры, вероятно, более
однообразны и более устойчивы в своих местных отправлениях, а центры
высших этажей центральной нервной системы допускают большее
разнообразие и меньшую устойчивость отправлений. Впоследствии
Н.Е. Введенский пытался вызвать в центральной нервной системе
лягушки нечто аналогичное тому, что было мною описано для
теплокровного. В то время, как я вызывал главенствующее возбуждение
организма адекватными стимулами глотания и дефекации, Н. Е. задумал вызвать
его очень длительным и вместе очень слабым электрическим
раздражением какого-нибудь чувствующего нерва на спинальной лягушке.
Оказалось, что получается нечто аналогичное тому, что наблюдается на
теплокровном. В организме устанавливается местный фокус повышенной
возбудимости, чрезвычайно понижаются местные рефлекторные
пороги, зато развивается торможение рефлексов в других местах
организма. Но Н.Е. все-таки не пожелал дать описанному явлению того общего
и принципиального значения, которое мне казалось естественным, —
он хотел видеть в описанных межцентральных отношениях скорее
нечто исключительное, почти патологическое и в связи с этим дал явлению
характерное название «истериозиса >>[3]. Со своей стороны я продолжал
видеть в описанных отношениях важный факт нормальной центральной
деятельности и представлял себе, что в нормальной деятельности
центральной нервной системы текущие переменные задачи ее в непрестанно
меняющейся среде вызывают в ней переменные «главенствующие очаги
возбуждения», а эти очаги возбуждения, отвлекая на себя вновь
возникающие волны возбуждения и тормозя другие центральные приборы,
могут существенно разнообразить работу центров. Это представление
ставит новые задачи для исследования, и его можно принять по
меньшей мере как рабочую гипотезу. Господствующий очаг возбуждения,
предопределяющий в значительной степени характер текущих реакций
центров в данный момент, я стал обозначать термином «доминанта».
При этом я исходил из убеждения, что способность формировать
доминанту является не исключительным достоянием коры головного мозга,
но общим свойством центров; так что можно говорить о принципе
доминанты как общем modus operandi центральной нервной системы.
Истериозис Н.Е. Введенского есть, по-моему, частный случай
спинномозговой доминанты.
817
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
III
Под именем «доминанты»1 моими сотрудниками понимается более
или менее устойчивый очаг повышенной возбудимости центров, чем бы он
ни был вызван, причем вновь приходящие в центры возбуждения служат
усилению (подтверждению) возбуждения в очаге, тогда как в прочей
центральной нервной системе широко разлиты явления торможения.
Внешним выражением доминанты является стационарно
поддерживаемая работа или рабочая поза организма.
В высшей степени выразительную и устойчивую картину представляет
доминанта полового возбуждения у кошки, изолированной от самцов в
период течки. Самые разнообразные раздражения, вроде стука тарелок
накрываемого стола, призыва к чашке с пищею и т. п., вызывают теперь не
обычное мяуканье и оживленное выпрашивание пищи, а лишь усиление
симптомокомплекса течки. Введение больших доз бромистых препаратов,
вплоть до доз, вызывающих явления бромизма, неспособно стереть эту
половую доминанту в центрах. Когда животное лежит уже в полном
расслаблении на боку, разнообразные раздражения по-прежнему вызывают
все тот же симптомокомплекс течки. Установившаяся доминанта,
очевидно, очень инертна и прочна в центрах. Состояние сильного утомления
также не уничтожает ее. Получается впечатление, что в замирающей
деятельности центральной нервной системы под влиянием утомления или броматов
доминанта может становиться еще выпуклее, чем в норме, и она гаснет
последнею.
Нет никакой необходимости думать, что принцип доминанты
приурочен исключительно к высшим уровням головного мозга и коры. Когда в
моем примере глотание и дефекация в состоянии устойчивого
возбуждения отвлекали на себя волны возбуждения из коры, сама доминанта
слагалась, вероятно, еще в продолговатом и спинном мозгу[4]. Предстояло
исследовать условия образования и роль различных доминант собственно в
спинном мозгу. М.И. Виноградов взял на себя труд систематически
исследовать местное стрихнинное отравление спинного мозга лягушки в
качестве средства образования доминанты для спинномозговых рефлексов. Уже
прежние данные из литературы позволяли думать, что этим способом можно
будет получать достаточно выразительные картины доминант, что и
подтвердилось в его работе.
Спрашивается: может ли доминанта иметь определенный
функциональный смысл в пределах спинномозговой иннервации?
Я употребляю этот термин в смысле Авенариуса[5]: «В конкуренции зависимых
жизненных рядов один из них приходится рассматривать как доминанту для данного
момента, в направлении которой определяется тогда общее поведение индивидуума ».
818
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
И.И. Каплан сделала попытку вызвать на спинальной лягушке
специально сенсорную и специально моторную доминанты, наблюдая
своеобразное влияние той и другой на определенный спинномозговой рефлекс,
именно на обтирательньй рефлекс задней лапки (Abwischreflex). Спинной
мозг подвергался местному отравлению в поясничных уровнях, то сзади —
стрихнином, то спереди — фенолом, в том предположении, что при этом
будет создаваться устойчивый очаг повышенной возбудимости
соответственно то в сенсорных, то в моторных клетках спинного мозга. Если бы на
самом деле удалось вызвать в отдельности функционально различные
доминанты в одном и том же сегменте спинного мозга, это повлекло бы
существенно различные изменения в одном и том же Abwischreflex'e, принятом
за индикатор. Оказалось в действительности, что при стрихнинной
(сенсорной) доминанте спинномозговых уровней, иннервирующих правую
заднюю лапку, обтирательный рефлекс этой последней координирован так,
как будто раздражение приложено к брюшку, к бедру и к самой
реагирующей лапке, хотя в действительности раздражение прилагалось к передней
конечности, к голове, к противоположной стороне и т. п. Здесь доминанта
сказывалась не только в понижении порогов возбудимости в отравленных
центрах, но и в характерном изменении направления, в котором
координируется рефлекс. При моторной (фенольной) доминанте наблюдается
существенно другая картина: повышение местной возбудимости
сказывается в том, что при раздражении самых различных мест инициатива
возбуждения принадлежит мышцам отравленной лапки, но обтирательный
рефлекс, если ему не помешают характерные для фенола клонические
судороги, направлен па место фактического раздражения.
Сенсорная спинномозговая доминанта, очевидно, сближается по
функциональному смыслу с явлениями отраженных болей в том истолковании,
которое дал им Гед[6]: если из двух чувствующих путей, центрально
связанных между собою, один более возбудим, чем другой, то при
раздражении менее возбудимого рецепция проецируется все-таки в сторону более
возбудимого.
Любопытно отметить, что P.C. Кацнельсон и Н.Д. Владимирский
успешно вызывали доминанту на ганглиях брюхоногого моллюска Limnaea
stagnalis. Когда незадолго перед наблюдением один из ганглиев брюшной
цепочки моллюска подвергался повторному механическому раздражению
или изолированному стрихнинному отравлению, раздражения других
ганглиев цепочки действовали теперь так, как будто раздражался все тот же
первый, перераздраженный или отравленный ганглий.
Особый интерес представляют все-таки доминанты, вызванные
нормальными (адекватными) раздражителями. Нет нужды думать, что они
могут возникать исключительно рефлекторным путем. Местные очаги
возбуждения могут подготовляться также внутренносекреторной
деятельно819
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
стью, химическими влияниями. Однажды спущенный поток нервного и
внутренносекреторного возбуждения движется далее с громадной
инерцией, и тогда вновь приходящие раздражения лишь поднимают сумму
возбуждения в этом потоке, ускоряют его. В то же время прочая центральная
деятельность оказывается угнетенною. Так, условные рефлексы во время
течки тормозятся[7].
IV
Доминанта есть очаг возбуждения, привлекающий к себе волны
возбуждения из самых различных источников. Как представлять себе это
привлечение возбуждающих влияний со стороны местного очага?
В 1886 г. Н.Е. Введенский описал замечательное явление
«тетанизированного одиночного сокращения». В 1888 г. вторично исследовали его
под руководством Н.Е. Введенского Ф.Е. Тур и Л.И. Карганов. Одиночные
волны токов действия, бегущие вдоль по двигательному нерву из его
центрального участка (где нерв раздражается одиночными индукционными
ударами), попадая в сферу очень слабой тетанизации в периферическом
участке того же нерва, производят здесь как бы оплодотворение тетанических
импульсов, повышенную восприимчивость к тетанизации; так что вслед за
каждой такой волной, пробегающей через место слабой тетанизации, в этом
последнем начинают возникать усиленные тетанические импульсы с очень
увеличенной амплитудой. Слабое, но устойчивое возбуждение в месте
длительной слабой тетанизации нерва начинает рождать неожиданно
усиленные тетанические эффекты под влиянием добавочных одиночных волн,
приходящих из другою источника[8].
Подобные подкрепления возбуждений в местном очаге волнами,
радиирующими по нервной системе, должны быть весьма типическими
явлениями в центрах — приборах значительной инертности. Н.Е. Введенский
дал им имя «корроборации >>[9]. Надо думать, что к ним сводятся явления в
центрах, отмеченные прежней литературой под именами «Bahnung >>[10],
«Summation>>[п], «Reflexforderung>>[12] и др.
Принципиально не трудно понять отсюда, что волны возбуждения,
возникающие где-нибудь вдали от поясничного центра дефекации
(например, в нервах руки), могут дать решающий стимул к дефекации, когда
центральный аппарат последней находится в предварительном возбуждении.
Таким-то образом вновь приходящие волны возбуждения в центрах будут
идти по направлению главенствующего сейчас очага возбуждения.
Труднее понять возникновение разлитых торможений в центрах при
появлении местного фокуса возбуждения. По внешности получается
впечатление, что в связи с формированием доминанты к ней как бы утекает вся
энергия возбуждения из прочих центров, и тогда эти последние
оказыва820
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ются заторможенными вследствие бессилия реагировать. Можно было бы
привести соображения в пользу такого представления, начало которого
можно возвести к Декарту[13]. Но удовлетвориться им мы пока не можем,
так как остается проблематическою природа торможения во время этих
утеканий возбуждения к очагу возбуждения. В тот час, когда раскроется
подлинная природа координирующих торможений в центральной нервной
системе, частным случаем которых является реципрокное торможение
антагонистов, приблизимся мы к пониманию тормозящих влияний
доминанты.
Понять природу координирующих торможений в смысле
«парабиоза» затруднительно. Чтобы центр тормозился по типу парабиоза,
необходимо допустить одно из двух условий: или 1) при прежних энергиях
раздражения внезапно понижается лабильность центра, или 2) при прежней
лабильности центра энергия раздражения (частота и сила импульсов)
внезапно возрастает. Ссылаться на внезапное понижение лабильности всех
тех центров, которые в данный момент подлежат торможению, значит, для
объяснения одной загадки ставить мысль перед другою: кто этот
благодетельный фактор, который так своевременно изменяет лабильность
действующих центров, подготовляя одни из них к торможению, другие к
возбуждению? Предполагать же, что на совокупность центров, подлежащих сейчас
торможению, падают усиленные или учащенные импульсы, тогда как для
положительной работы тех же центров достаточно редких и умеренных
импульсов, значило бы допустить, что работа нервного механизма
рассчитана на невероятно расточительную трату энергии. Многие данные
заставляют предполагать, что в центрах, рядом с парабиотическим
торможением, должны иметь место торможения иной, более экономической природы.
V
Вполне исключительное значение должна иметь доминанта в высших
этажах центральной нервной системы — в головных сегментах. Еще в 1888-
1889 гг. Готч и Хорслей обнаружили, что энергия возбуждения в
спинальных двигательных приборах в общем тем больше, чем с более
высоких этажей нервной системы они получают импульс. Спинальный центр
возбуждается приблизительно вдвое сильнее с коры полушарий, чем с
волокон внутренней капсулы, и приблизительно в семь раз сильнее с коры,
чем со спинальной рефлекторной дуги[14]. К головным сегментам тела
приурочены рецепторы на расстоянии, и биологически очень естественно, что
именно головным ганглиям этих органов предваряющей рецепции на
расстоянии должна принадлежать преобладающая и руководящая роль при
иннервации прочих нервных этажей. Если бы в животном воспреобладали
рефлексы спинального типа, т. е. реакции на ближайшие, осязательно
кон821
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
тактные раздражители, тотчас чрезвычайно возрастали бы шансы
погибнуть от вредных влияний среды. Характерная черта реакций на органы
чувств головных этажей в том, что они предупреждают реакции на
контактно-непосредственные рецепторы и являются предварениями
последних: это реакции «пробы» («attempt»), по выражению Шеррингтона.
В качестве рефлекторных двигателей рецепторы на расстоянии
характеризуются наклонностью возбуждать и контролировать мускулатуру
животного в целом как единую машину, возбуждая локомоцию или прекращая ее
в том или ином целом же положении тела, в той или иной позе,
представляющей устойчивое положение не отдельных конечностей и не отдельных
комплексов органов, но всей мускулатуры в целом[15].
Когда брюхоногий моллюск Planorbis corneus движется по дну
аквариума, высоко подняв раковину и выставляя вперед напряженные
щупальцы, рефлексы на прикосновение к боковой поверхности его тела резко
отличаются от тех, что получаются при состоянии, когда моллюск
остановился, а щупальцы прижаты к телу, или при состоянии, когда те же
щупальцы на неподвижном животном расслаблены безразлично. На
моллюске, находящемся в деятельной локомоции, нанесение легких тактильных
раздражений на ноге только усиливает локомоцию и напряжение
щупалец. И в то время, когда контактное раздражение ноги вызывает одно лишь
усиление напряжения щупалец, местных рефлексов в ноге (местного
поеживания) нет, — продолжается локомоция, только с усиленным
напряжением позы «внимания вперед».
Чем выше ранг животного, тем разнообразнее, изобильнее и вместе
дальновиднее аппарат предваряющей рецепции: периферические высшие органы
чувств и нарастающие над ними головные ганглии. Надо сравнить в этом
отношении глубину среды, в которой с успехом может предвкушать и
предупреждать свои контактные рецепции Planorbis corneus с его тентакулами и
близорукими «глазами», орел — с его изумительным зрительным прибором и
наконец, адмирал в Гельголандском бою, управляющий по беспроволочному
телеграфу невидимыми эскадрами против невидимого врага.
Головной аппарат высшего животного в общем может быть
характеризован как орган со множеством переменных, чрезвычайно длинных
щупалец, из которых выставляется вперед, для предвкушения событий, то
одно, то другое; и «опыт» животного во внешней среде изменяется в
зависимости от того, какими щупальцами оно пользуется, т. е. как
дифференциально и как далеко оно предвкушает и проектирует свою среду в данный
момент. Этот удивительный аппарат, представляющий собой множество
переменных, калейдоскопически сменяющихся органов
предупредительного восприятия, предвкушения и проектирования среды, и есть головной
мозг. Процесс же смены действующих органов достигается посредством
образования доминанты и торможения прочего мозгового поля.
822
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
VI
В высших этажах и в коре полушарий принцип доминанты является
физиологической основой акта внимания и предметного мышления. Что акт
внимания должен таить в себе устойчивый очаг возбуждения при торможении
других центров, эта мысль намечалась еще у Ферье[16], а затем развита Вундтом [17],
Мак Доуголлом[18], Эббингхаусом[19]. В литературе есть указания, что
разнообразные слабые раздражения при процессе внимания способствуют его
концентрации [20]. Цонефф и Меуманн находили, что концентрация внимания
усиливается при возбуждении дыхательного и сосудистого центра [21]. Это можно
понимать так, что иррадиации с продолговатого мозга способны подкреплять
доминанту в коре. Распространяться здесь о природе акта внимания не буду,
тем более что говорил о нем в другом месте1 [22].
Роль доминанты в предметном мышлении я попробую представить на
конкретном примере, который характеризует с достаточной определенностью три
фазы в развитии предметного опыта. Мне хотелось бы, чтобы меня не
обвинили в кощунстве, когда я прикоснусь к прекрасному человеческому образу в
прекрасный момент его жизни с чисто физиологической стороны.
Первая фаза. Достаточно устойчивая доминанта, наметившаяся в
организме под влиянием внутренней секреции, рефлекторных влияний и пр.,
привлекает к себе в качестве поводов к возбуждению самые
разнообразные рецепции. Это Наташа Ростова на первом балу в Петербурге: «Он
любовался на радостный блеск ее глаз и улыбки, относившейся не к
говоренный речам, а к ее внутреннему счастью... вы видите, как меня выбирают, и я
этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами все это понимаем, —
1 О том, как слабые посторонние раздражители помогают концентрации внимания
на скрытых интересах и содействуют выявлению и подкреплению доминанты, очень
определенно говорит И. Кант [25]: «Изменчивые, подвижные фигуры, которые сами
по себе, собственно, не имеют никакого значения, могут приковывать к себе
внимание; так мелькание огонька в камине или капризные струйки и накипь пены в
ручейке, катящемся по камням, занимают воображение целыми рядами представлений...
и погружают зрителя в задумчивость. Даже музыка того, кто слушает ее не как
знаток, например поэта-философа, может привести в такое настроение, в котором
каждый, соответственно своим целям или своим склонностям, сосредоточенно ловит
свои мысли и часто овладевает ими и создает такие мысли, которых он никогда так
удачно не уловил бы, если бы он одиноко сидел в своей комнате... Английский
«зритель» рассказывает об одном адвокате, который имел привычку во время
своей речи вынимать из кармана нитку и безостановочно то накручивать ее на палец, то
снова развертывать. Однажды адвокат противной стороны, большой хитрец,
вытащил у него из кармана эту нитку, что привело его противника в крайнее
замешательство, так что он говорил совершенный вздор. Про него-то и заговорили, что он
потерял нить своей речи ».
823
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
и еще многое, многое сказала эта улыбка >>[23]. Стадия укрепления
наличной доминанты по преимуществу.
Вторая фаза. Из множества действующих рецепций доминанта
вылавливает группу рецепций, которая для нее в особенности биологически
интересна. Это — стадия выработки адекватного раздражителя для данной
доминанты и вместе стадия предметного выделения данного комплекса
раздражителей из среды. «Наташа была молчалива, и не только не была
так хороша, как она была на бале, но она была бы дурна, ежели бы она не
имела такого кроткого и равнодушного ко всему вида ». Это Наташа у
Бергов, по возвращении в Москву. Но вот, «князь Андрей с
бережливо-нежным выражением стоял перед нею и говорил ей что-то. Она, подняв
голову, разрумянившись и видимо стараясь удержать порывистое дыхание,
смотрела на него. И яркий свет какого-то внутреннего, прежде
потушенного, огня опять горел в ней. Она вся преобразилась. Из дурной опять
сделалась такою же, какою она была на бале»[24].
Ранее Наташа возбуждена, красива и счастлива для всех, изнутри,
экстенсивно. Теперь она хороша, и возбуждена, и счастлива только для
одного князя Андрея: доминанта нашла своего адекватного раздражителя.
Третья фаза. Между доминантой (внутренним состоянием) и данным
рецептивным содержанием (комплексом раздражителей) устанавливается
прочная («адекватная ») связь, так что каждый, из контрагентов (внутреннее
состояние и внешний образ) будет вызывать и подкреплять исключительно друг
друга, тогда как прочая душевная жизнь перейдет к новым текущим задачам и
новообразованиям. Имя князя Андрея тотчас вызывает в Наташе ту
единственную посреди прочих доминанту, которая некогда создала для Наташи князя
Андрея. Так, определенное состояние центральной нервной системы
вызывает для человека индивидуальный образ, а этот образ потом вызывает прежнее
состояние центральной нервной системы.
Среда поделилась целиком на «предметы», каждому из которых
отвечает определенная, однажды пережитая доминанта в организме,
определенный биологический интерес прошлого. Я узнаю вновь внешние
предметы, насколько воспроизвожу в себе прежние доминанты, и воспроизвожу
мои доминанты, насколько узнаю соответствующие предметы среды.
О предметном мышлении с физиологической стороны высказывался
И.М. Сеченов[26]. К нему подходит теперь школа И.П. Павлова по методу
условных рефлексов. На этот раз я намеренно не буду касаться вопроса о
том, как изложенное здесь относится к превосходным страницам И.М.
Сеченова или какое место принцип доминанты занимает в терминах учения об
условных рефлексах1.
Для самого возникновения условного рефлекса, т.е. для объяснения того, как
может прежний центральный акт вызываться по новый и неадекватным
рефлектор824
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В высшей психической жизни инертность господствующего
возбуждения, т. е. доминанта переживаемого момента, может служить
источником «предубеждения», «навязчивых образов», «галлюцинаций»; но она же
дает ученому то маховое колесо, «руководящую идею», «основную
гипотезу», которые избавляют мысль от толчков и пестроты и содействуют
сцеплению фактов в единый опыт.
VII
Пока доминанта в душе ярка и жива, она держит в своей власти все
поле душевной жизни. Все напоминает о ней и о связанных с нею
образах и реальностях. Только что человек проснулся, луч солнца,
щебетанье за окном уже напоминают о том, что владеет душою и воспроизводит
любимую идею, задание, лицо или искание, занимающие главенствующий
поток жизни. «Я сплю, а сердце мое бдит». Доминанта характеризуется
своей инертностью, т. е. склонностью поддерживаться и повторяться
по возможности во всей своей цельности при всем том, что внешняя
среда изменилась и прежние поводы к реакции ушли. Доминанта оставляет
за собою в центральной нервной системе прочный, иногда
неизгладимый следовательно В душе могут жить одновременно множество
потенциальных доминант — следов от прежней жизнедеятельности. Они
поочередно выплывают в поле душевной работы и ясного внимания,
живут здесь некоторое время, подводя свои итоги, и затем снова
погружаются вглубь, уступая поле товаркам. Но и при погружении из поля
ясной работы сознания они не замирают и не прекращают своей жизни.
ным поводам, И.П. Павлов[2*] уже в своей мадридской речи 1903 г. предполагал,
что соответствующий центр «является в центральной нервной системе как бы
пунктом притяжения для раздражений, идущих от других раздражаемых
поверхностей ». Также в стокгольмской речи 1904 г.: «Тот пункт центральной нервной
системы, который во время безусловного рефлекса сильно раздражается, направляет к
себе более слабые раздражения, падающие из внешнего или внутреннего мира
одновременно на другие пункты этой системы »(там же. С. 40). И еще, в московской
речи 1909 г.: «Если новое, ранее индифферентное раздражение, попав в большие
полушария, находит в этот момент в нервной системе очаг сильного возбуждения,
то оно начинает концентрироваться, как бы прокладывать себе путь к этому очагу
и дальше от него в соответствующий орган, становясь, таким образом,
раздражителем этого органа »(там же, стр. 72).
В последнее время, в новом издании своей «Рефлексологии», В.М Бехтерев [29]
говорит также о том, что «более возбуждаемая область обладает вместе с тем и
большим притяжением к себе нервной энергии, тормозя другие, стоящие с нею в
связи, области... дело идет о притяжении к более возбужденной корковой области
возбуждения из других корковых областей ».
825
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Научные искания и намечающиеся мысли продолжают обогащаться,
преобразовываться, расти и там, так что, возвратившись потом в
сознание, они оказываются более содержательными, созревшими и
обоснованными. Несколько сложных научных проблем могут зреть в
подсознательном рядом и одновременно, лишь изредка выплывая в поле
внимания, чтобы от времени до времени подвести свои итоги.
Эти высшие кортикальные доминанты, то ярко живущие в поле
сознания, то опускающиеся, в скрытое состояние, но продолжающие владеть
жизнью и из подсознательного, очевидно, совпадают по смыслу с теми
«психическими комплексами», о которых говорят Фрейд и его ученики[27].
«Ущемленные комплексы», т. е. попросту — заторможенные
психофизиологические содержания пережитых доминант, могут действовать
патогенно, когда они не были в свое время достаточно вплетены и
координированы в прочей психической массе. Тогда последующая душевная жизнь
будет борьбою вытесняющих друг друга, несогласных доминант, которые
стоят друг перед другом «как инородные тела».
Чем более согласованы между собою последовательно переживаемые
содержания внимания, чем непрерывнее ткань прежней жизни сознания,
тем более плавны будут последующие переходы душевной жизни от одной
доминанты к другой. «Es ist doch ein Genuß, ein so ruhiges Denken zu hören
wie das seinige ist», — говорил Людвиг о Гельмгольце[30].
Надо ли представлять себе доминанту как топографически единый
пункт возбуждения в центральной нервной системе? По всем данным,
доминанта в полном разгаре есть комплекс определенных симптомов во всем
организме — ив мышцах, и в секреторной работе, и в сосудистой
деятельности. Поэтому она представляется скорее как определенная
констелляция центров с повышенной возбудимостью в разнообразных этажах
головного и спинного мозга, а также в автономной системе.
Когда кора возобновляет прежде пережитую доминанту, дело идет о
более или менее подробном восстановлении в организме всего комплекса
центральных, мышечных, выделительных и сосудистых явлений. Когда это
нужно, кора умеет восстановить прежнюю констелляцию до такой
полноты, что переживается вновь конкретное содержание тогдашнего опыта, быть
может, до галлюцинации. Более обычно восстановление прежде
пережитых доминант лишь частичное, экономическое, в виде символов. В связи с
этим и комплекс органов, участвующих в переживании восстановленной
доминанты, будет сокращенным — может быть, ограничится одним
кортикальным уровнем.
Чисто кортикальная доминанта, наверное, есть позднейший продукт
экономической выработки. Кора — орган возобновления и краткого
переживания прежних доминант с меньшей инерцией и с целью их
экономического сочетания.
826
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
С нашей точки зрения всякое «понятие» и «представление», всякое
индивидуализированное психическое содержание, которым мы
располагаем и которое можем вызвать в себе, есть след от пережитой некогда
доминанты. След однажды пережитой доминанты, а подчас и вся пережитая
доминанта могут быть вызваны вновь в поле внимания, как только
возобновится, хотя бы частично, раздражитель, ставший для нее адекватным.
Старый и дряхлый боевой конь весь преображается и по-прежнему мчится
в строй при звуке сигнальной трубы.
Литература
1. Ухтомский А.А.О зависимости кортикальных двигательных
эффектов от побочных центральных влияний. Юрьев, 1911.
2. Winch W.H. Mind, 19, 1910. S. 208.
3. Введенский Н.Е. 1) С. R. М. l'Acad. des Sc, 1912. С. 155, 231;
2) Neurobiologica, 6, 1912.
4. См. [1]. С. 184.
5. Avenarius R. Kritik der reinen Erfahrung, II, 1890. S. 275.
6. Head H. Brain, 1, 1893, стр. 1; 2, 1894. S. 339; 3, 1895. S. 153.
7. Kschischkowski. ZentraM. f. Physiol., XXIV, № 11, 1910. S. 471;
Kpene E. M. Русск. физиол. журн. 1919 (до 1923 г.).
8. Введенский Н.Е. 1) О соотношениях между раздражением и
возбуждением при тетанусе. СПб., 1886. С. 98; 2) Засед. Физ.-мат. отд. Акад.
наук, 1888 г. 24 мая.
9. Введенский Н.Е. Работы физиол. лабор. СПб. унив., I. 1906.
С. 57.
10. Exner S. Pfluger's Archiv, 28. 1882. S. 487.
11. Bubnoffu N. Heidenhain R. Pfluger's Archiv, 26. 1881. S. 157.
12. LaudendorffO. Nagele Handbuch der Physiol., 4, 1905. S. 272.
13. McDougall W. Brain, 26,1903. S. 153; Mind, 15, 1906. S. 352.
14. Gotsch A. Horsley. Proceed. Roy. Soc, 1888-1889; Nature, 1889.
S. 500.
15. Sherrington CS. The Integrative Action of the Nervous System.
London. 1911. S. 325.
16. Ferrier. The Functions of Brain. London, 1876. S. 283.
17. Wundt W. Grundzüge der physiol. Psychol., 1, 1902. S. 323.
18. McDougall W. Mind, 2, 1902. S. 316; 12, 1903. S. 289; 15, 1908.
S. 349.
19. Ebbinghaus. Основы психологии. Русск. пер. Котляра. СПб., 1912.
S. 182. — Изложение и критику физиологических теорий внимания см.:
Е. Dürr. Die Lehre von der Aufmerksamkeit. Leipzig, 1907; P. Nayrae.
Physiologie et Psychologie de Pattention. 2 ed. Paris, 1914.
827
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
20. Slaugchter /. М. Journ. of Psychol., 2. 1901. S. 313; Taylor. Journ. of
Psychol.. XII. S. 335.
21. Zoneffu P. Meumann. Philosophische Studien, 18, 1901. S. 51.
22. См. [1]. С. 166-175.
23. Толстой А. Н. Война и мир. т. П. Изд. Сытина, М., 1912. С. 199.
24. См. [23], стр. 209.
25. Кант /^.Антропология. Русск. пер. Соколова. СПб., 1909.
С. 49-50.
26. Сеченов И.М. 1) Предметная мысль и действительность. Собр. соч.
Т. II, М., 1908. С. 241; 2) О предметном мышлении с физиологической
точки зрения. Речь на X съезда русск. естествоисп. и врачей 4 янв. 1894 г.
С. 261.
27. Суханов. Патопсихология // Новые идеи в психологии. № 10.
СПб., 1913. С. 37 и ел.
28. Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучении
высшей нервной деятельности животных. М.-Пгр., 1923. С. 20.
29. Бехтерев В. М. Общие основы рефлексологии человека. 2-е изд.
М.: Пгр., 1923. С. 161.
30. Сеченов И.М. Автобиографические записки. М., 1907. С. 101.
АВТОБИОГРАФИЯ A.A. УХТОМСКОГО1
Алексей Алексеевич Ухтомский родился 13 июня 1875 г. в сельце
Вослома Арефинской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии в
семье землевладельца Алексея Николаевича Ухтомского и его жены
Антонины Федоровны, урожденной Анфимовой.
В сентябре 1876 г. взят на воспитание теткою (сестрою отца) Анною
Николаевною Ухтомскою, которая и была главною воспитательницею и
спутницею вплоть до ее кончины в 1898 г.
Среднее образование окончил в Нижнем Новгороде, в кадетском
корпусе, который закончил в 1894 г. Очень глубокое воспитывающее влияние
испытал здесь со стороны превосходного преподавателя и даровитого
математика Ивана Петровича Долбни, впоследствии известного профессора
Горного института.
В 1894 г. поступил в Московскую духовную академию, в которой
занимался теорией познания и историческими дисциплинами.
Кандидатская диссертация поставила настоятельно на очередь
ближайшее изучение физиологии головного мозга, нервной деятельности
вообще, а также физиологии поведения.
1 Архив АН СССР. Ф. 749. Оп. 3. № 31. Автограф.
828
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В 1899 г. поступил в Ленинградский университет на
физико-математический факультет для изучения физиологии и подготовительных к ней
дисциплин. Ленинград избрал потому, что в это время туда переехал
И.П. Долбня, избранный в профессора. В течение года не удавалось
зачислиться нормальным студентом, был вольнослушателем, затем с 1900 г.
вошел в число студентов.
В 1902 г. начало специализации при профессоре Н.Е. Введенском.
В1903 г. первая печатная работа по физиологии (Труды IX
Пироговского съезда врачей). В том же году напечатал по-немецки «Ueber den Einfluss
der Anämie auf den Nerven-Muskel Apparat» (Pfluger's Archiv, Bd. 100).
В 1909 г. совместная работа с проф. Н.Е. Введенским над рефлексами
антагонистов (Работы Физиологической лаборатории университета, III,
1909).
С 1906 г. зачислен на службу в Физиологической лаборатории
Ленинградского университета в качестве сверхштатного лаборанта, потом
ассистента при кафедре физиологии.
В 1910 г. главная работа «О зависимости кортикальных двигательных
эффектов от побочных центральных реакций» (диссертация 1911 г.).
Изучались кортикальные реакции в четырех мышцах одновременно — в двух
парах антагонистических мышц (сгибателях и разгибателях) коленных
сочленений. Затем те же кортикальные реакции при наличии рефлекторных
возбуждений в действующих мышечных парах. Наконец, те же
кортикальные реакции при условии возникновения вегетативных возбуждений в
организме.
В этой работе изучалось явление, остановившее на себе внимание
автора еще в 1904 г., а именно — торможение кортикальных эффектов
локомоции в моменты подготовки и развертывания вегетативных актов,
например дефекации.
Плодом изучения этих явлений в свете учения Шерриштона, об общем
пути и теории торможения по Н.Е. Введенскому были первые зачатки
учения о доминанте у развитого потом в 1921 г. и в последующие годы. Эту
концепцию стал излагать на лекциях и в практических занятиях
приблизительно с 1920-1921 гг., выступил с официальным докладом о доминанте
впервые в Ленинградском обществе естествоиспытателей весною 1923 г.
по поводу работ, выполненных со студентами летом 1922 г.
На переломе 1923-1924 гг. доклад на II Всесоюзном съезде
психоневрологов и физиологов нервной системы, поддержанный В.М. Бехтеревым
и его учениками, выдвинул принцип доминанты как один из основных
факторов центральной иннервации. В 1927 г. написана монография «Парабиоз
и доминанта » (издание Комакадемии). Все более стала выясняться
органическая связь доминанты с основными установками Н.Е. Введенского в его
учении о парабиозе.
829
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
С 1922 г. стал заведующим Физиологической лабораторией
Ленинградского университета, приняв ее по кончине Введенского.
В последующие годы разработка механизма доминанты привела к
пониманию того, какую роль играет в ней фактор переменной лабильности
физиологического субстрата. Это привело к тому порядку понимания,
который вылился в докладе 1934 г. «Возбуждение, торможение, утомление»
(Физиологический журнал СССР, т. XVIII, 1934).
С тех пор и до сих пор выяснение факторов лабильности и значения
физиологического интервала составляет главный предмет работы.
С 1933 г. избран членом-корреспондентом, с 1935 г. —
действительным членом Академии наук СССР.
Был заведующим Биологическим отделением Ленинградского гос.
университета. Состою президентом Ленинградского общества
естествоиспытателей.
Кроме университета, преподавал физиологию в Институте Лесгафта,
в Психоневрологическом институте и на рабфаке Ленинградского
университета.
В свое время состоял членом Петросовета VI созыва от рабочих и
служащих Ленинградского университета.
23 января 1938 г. Профессор А. Ухтомский
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
НА, БЕРНШТЕЙН:
ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ И ФИЗИОЛОГИЯ
АКТИВНОСТИ
Бернштейн Николай Александрович (1896-
1966) — физиолог, создатель биомеханики
движений человека и теории управления движениями,
основатель физиологии активности.
Сохраняя преемственные связи с
физиологическими школами И.М. Сеченова, И.П. Павлова,
Н.Е. Введенского, A.A. Ухтомского,
сконцентрировал внимание на вопросах регуляции и
центрального управления активностью живых организмов.
Вместо реактивной концепции поведения
выдвинул идею активного воздействия организма на
среду на основе принципа кольцевой регуляции
движений как активных процессов, направляемых двигательной задачей и
предвосхищением искомого результата ее решения. Образ потребного
организму будущего предшествует действию, направляет его в соответствии с
вероятностным моделированием будущего.
Разработанные Бернштейном идеи об уровнях построения движений
(книга «О построении движений», 1947 г., в 1948 г. удостоена Сталинской
премии) были использованы в психологии в годы Великой отечественной
войны в работах A.B. Запорожца и А.Н. Леонтьева по восстановлению
движений после ранений. В итоговой работе — книге «Очерки по физиологии
движений и активности» (1966) дан обобщающий обзор пути развития от
физиологии движений к общей физиологии активности человека в труде и
деятельности. Труды Бернштейна, в которых физиология тесно связана с
психологией, продолжают оказывать большое влияние на психологию.
О ПОСТРОЕНИИ ДВИЖЕНИЙ1
Двигательная система позвоночных включает в себя: а) пассивную
часть — жесткий сочлененный скелет и б) активную часть —
поперечнополосатую мускулатуру со всем ее оснащением. Пассивный двигательный
аппарат составляется из костных звеньев, располагающихся
преимущественно вдоль оси органов (аксиально), а потому не обеспечивающих
устойчивости системы без постоянного активного участия мускулатуры2. Эти
1 Бернштейн H.A. Физиология движений и активность. М., 1990. С. 23-43.
2 Неокинетические двигательные системы (см. гл. III) имеют место в филогенезе у
членистоногих и позвоночных. У обоих этих классов животных они принесли
831
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
звенья подвижно сочленены между собой, образуя так называемые
кинематические цепи. Мышечные массивы, анатомическое членение которых
на отдельные мускулы имеет по большей части чисто морфологическое
основание, без существенной значимости для биодинамики, облекают эти
аксиальные кинематические цепи снаружи, повинуясь в своем размещении
также преимущественно причинам чисто морфогенетического порядка,
поскольку (эта теорема очень легко доказывается) биодинамическое и
решающе важное значение имеет расположение и направление концевых
отрезков мышечных сухожилий, в то время как расположение мышечных
брюшков не имеет никакого. В дальнейшем под скелетными
кинематическими цепями будут подразумеваться не одни только кости с их
суставами, а подвижные органы, взятые в целом.
Мера взаимной подвижности двух звеньев кинематической цепи
определяется в механике числом так называемых степеней свободы
подвижности и деформируемости. Каждая степень свободы подвижности более
или менее точно совпадает с отдельным, независимым направлением
подвижности в том или другом суставе. Одноосные, например блоковидные,
суставы обладают одной степенью; яйцевидные и седловидные суставы
(соответствующие примеры: лучезапястный сустав и запястно-пястный
сустав большого пальца руки) имеют по две, шаровидные суставы — по три
степени свободы подвижности. Степени свободы подвижности
характеризуют собой не размах или количественную меру подвижности (например,
сгибаемости на большее или меньшее число градусов в сочленении), а
качественную меру многообразия направлений и форм этой подвижности,
которое может в некоторых случаях оказаться очень большим и при
умеренных количественных амплитудах. Примерами могут служить: подвижность
локтевой кости относительно плечевой, имеющая одну степень свободы,
и деформируемость грудного отдела позвоночного столба, теоретически
насчитывающая их 66.
с собой быструю и мощную подвижность, резко отличающую их от более древних,
мягкотелых классов. Но задача устойчивости (статокинетическая проблема) решена у
членистоногих и позвоночных принципиально по-разному. У первых скелеты звеньев
облекают их снаружи, как панцири, не требуя мышечной активности для поддержания
устойчивой позы. Это доказывается уже тем, что осторожно убитое насекомое
(наркотизированное) не падает, как позвоночное. В связи с этим мышечная ткань членистоногих
не несет статической нагрузки; она бедна саркоплазмой, грубо исчерчена и т. д.
Жесткие скелеты являются необходимым оборудованием для передачи
динамических усилий быстрой и мощной поперечнополосатой мускулатуры. Почти
единственное исключение представ-ляет только бесскелетная поперечно-полосатая
мышца сердца, для которой заменою жесткого внешнего скелета служит
гидродинамическое сопротивление, встречаемое ею в несжимаемой жидкости крови.
832
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Число степеней свободы взаимной подвижности звеньев
кинематической цепи (или, иными словами, свободы деформируемости
кинематической цепи) есть не что иное, как необходимое и достаточное число
независимых друг от друга координат, которые должны быть назначены для
того, чтобы поза органа оказалась вполне определенной. Так, например,
для определения положения плеча относительно лопатки (при наличии у
лопаточно-плечевого сочленения трех степеней свободы) необходимо и
достаточно назначить три координаты (например, координаты сгибания —
разгибания, приведения — отведения, продольной ротации). Очень важно
отметить, что количество степеней свободы цепи не зависит от выбора той
или иной системы координат или обозначений, т. е. является объективно
присущим самой цепи. Заметим еще, что число степеней свободы
деформации многозвенной цепи либо равно сумме чисел степеней свободы всех
ее сочленений (так называемые незамкнутые цепи), либо несколько
меньше ее (замкнутые цепи).
Подвижности кинематических цепей человеческого тела огромны и
исчисляются десятками степеней свободы. Подвижность запястья
относительно лопатки и подвижность предплюсны относительно таза
насчитывают по 7 степеней, кончика пальца относительно грудной клетки — 16
степеней. Обладание подвижными пальцами обогащает подвижность и
деформируемость руки по сравнению с передней конечностью, например,
однокопытных четвероногих на 22 добавочных степени. Для сравнения
укажем, что преобладающее большинство машин, работающих без
непрерывного управления человеком, обладает при всей кажущейся сложности
рычажных и шестеренных кинематических цепей всего одной степенью
свободы, т. е. тем, что носит название вынужденного движения: например,
многоцилиндровый дизель или газетно-печатная ротационная машина. Две
степени встречаются редко (например, центробежные регуляторы), три
степени совершенно неупотребительны — настолько бурно возрастает
сложность управления кинематическими цепями с прибавлением новых
степеней свободы. Теоретически шестью степенями свободы обладает
летящий снаряд (пушечное ядро, пуля, мина) — предмет изучения внешней
баллистики. Здесь необходимо отметить: а) очень большую неточность
управления его полетом и попаданием и б) необходимость пристрелки и
корректировки, к чему мы еще вернемся ниже.
Указанное первое резкое отличие кинематических цепей живого тела
от искусственных машин должно быть самым выразительным образом
подчеркнуто,
Отсутствие в искусственных машинах кинематических цепей с
многими сте-пенями свободы объясняется чрезвычайно большими трудностями
управления движениями таких цепей. Самая основная из них состоит вот в
чем. Одна степень свободы характеризует при любой сложности и
много27 Российская психология 833
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
звенности кинематической цепи так называемый вынужденный тип
движения. Это значит, что в подобной системе каждая из ее подвижных точек
неотрывно привязана к одной определенной траектории. Эта траектория
может обладать любой формой, простой или сложной; точка имеет
возможность двигаться по ней вперед или назад, быстрее или медленнее и т. д.,
но сам по себе путь движения для нее предрешен. Появление у системы
еще хотя бы одной степени свободы сверх первой означает переход от
одной траектории для каждой точки не к нескольким или даже многим, а к
целому участку некоторой поверхности, по которой точка с двумя степенями
свободы получает возможность двигаться абсолютно любым образом по
бесчисленному множеству равнодоступных траекторий. Так, например,
кончик пера, пока он не отрывается от поверхности бумаги, обладает
двумя степенями свободы; при этом, очевидно, разнообразие доступных ему
траекторий совпадает с разнообразием всего того, что когда-либо могло
быть или было написано и нарисовано пером на листе бумаги.
Таким образом, переход от одной степени свободы, т. е. от
вынужденного типа подвижности, к двум или нескольким степеням знаменует собой
возникновение необходимости выбора или трассирования траектории
движения. Живой организм всегда имеет возможность обосновать свой
выбор и планировку той или другой траектории; для машины же
необходимо в подобном случае предусмотреть специальное устройство,
способное целесообразно обеспечить такого рода выбор, иначе движение будет
обречено на хаотичность. Примером устройства указанного характера
может служить автоматический жиропилот. Подвижность судна
(рассматриваемого как материальная точка) на поверхности моря имеет как раз две
степени свободы; жиропилот обеспечивает выбор среди бесконечного
количества разновозможных для корабля траекторий той из них, которая
отвечает заданному компасному курсу.
Следовательно, как вытекает из всего рассмотренного выше, между
одной и несколькими степенями свободы имеет место очень важный
принципиальный качественный скачок. Крайняя редкость в технике
невынужденных подвижных систем объясняется прежде всего именно
трудностями устройств для автоматического непрерывного целесообразного
выбора. Кроме того, при многих степенях свободы у системы
суммируются, конечно, и погрешности, приносимые каждой из степеней свободы; при
большом количестве последних суммарная ошибка сможет вырасти до
такой величины, которая покроет все преимущества, в принципе
создаваемые богатым разнообразием подвижности сложной цепи. Например, если
каждая из степеней свободы руки и пальца пианиста, сидящего за
инструментом, даст погрешность всего в Г, то, суммируясь, эти погрешности
смогут дать отклонение кончика пальца на 5-6 см (хотя по отдельным звеньям,
например пальцевых фаланг, составляющие погрешности не превысят при
834
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
этом 0,05 см), т. е. вызовут промахивание на терцию или кварту.
Необходимо еще принять в расчет неизбежную кумуляцию погрешностей во
времени, не устранимую никакой феноменальной точностью первоначальной
пригонки движущихся частей, к тому же в кинематических цепях живого
тела позвоночных заведомо не очень высокой.
Еще более существенное значение имеют осложнения динамические.
В сложной кинематической цепи, каждое звено которой обладает
известной тяжелой и инертной массой, всякая сила, возникающая в одном из
звеньев, тотчас же вызывает целую систему реактивных или отраженных сил,
передающихся на все остальные звенья. Это взаимное влияние звеньев цепи
друг на друга во всех мыслимых сочетаниях создает в общей совокупности
огромное количество силовых взаимодействий, совершенно необозримое
математически и представляющее непреодолимые трудности для
аналитического решения. Эти реактивные силы наслаиваются на те силы,
которые находятся в распоряжении организма для управления движениями
системы, и на внешние силы, подвластные ему всегда лишь в большей или
меньшей степени, и делают общую динамическую картину движения цепи
чрезвычайно осложненной, а главное — практически пепредусмотримои
из-за их крайней механической запутанности. Сделать движение
многозвенной цепи точным все-таки возможно, хотя бы в теории, для этого
достаточно повысить в неимоверной степени точность пригонки ее частей друг
к другу. Сделать такую многозвенную цепь послушной невозможно
принципиально, потому что никакая теория не в состоянии управиться с бурно
возрастающим изобилием и сложностью реактивных сил и взаимодействий
между звеньями цепи. Для такой системы, как, например, рука, удается
определить математически лишь самый начальный момент ее движения под
действием той или иной мышцы. Установить, как потечет движение
дальше, оказывается уже неразрешимой задачей.
J\ak того чтобы статически зафиксировать позу сложной
кинематической цепи, необходимо закрепить каждую из имеющихся у нее степеней
свободы независимыми друг от друга связями, по одной на каждую
степень. Роль этих связей в организме позвоночного большей частью
исполняют мышцы, реже и в известном проценте — внешние силы. Совершенно
аналогичное положение создается и в динамике.
Как бы сложна ни была кинематическая цепь, ее движение всякий раз
оказывается хотя и непредусмотримым заранее, но, очевидно, совершенно
определенным и потенциально доступным сколь угодно точному
динамическому анализу post factum. Следовательно, при как угодно
обусловленном движении любой кинематической цепи равнодействующие всех
приложенных к ней сил и моментов фактически свяжут все степени свободы ее
элементов, кроме одной для каждого, — той, по которой в
действительности совершилось подвергшееся наблюдению движение. Таким образом,
27* 835
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
если кроме статических сил принять в расчет и все динамические, то можно
трактовать любое движение какой угодно цепи как динамически
вынужденное, причем место недостающих связей для закрепления избыточных
степеней свободы занимают динамические силы, внутренние и внешние.
От этого, однако, не получается много проку. Спора нет, что совокупность
всех действующих сил, и внутренних, и реактивных, и внешних, свяжет все
избыточные степени свободы звеньев и поведет эти последние по каким-то
вполне определенным траекториям, но только траектории эти имеют все
основания оказаться не теми, которые нам нужны. Очевидно, мы вправе
назвать кинематическую цепь управляемой только в том случае, если мы в
состоянии назначить определенные, желательные для нас траектории
(и скорости) движения для каждого из элементов цепи и заставить эти
элементы двигаться по назначенным им путям. А для этого нужно, чтобы
мы всегда располагали реальными средствами для связывания
избыточных степеней свободы такой цепи, т. е. так или иначе имели в повиновении
всю совокупность тех сил, которые возникают и разыгрываются при
движении цепи. В этом преодолении избыточных степеней свободы
движущегося органа, т. е, в превращении последнего в управляемую систему,
как раз и заключается основная задача координации движений.
Трудность, зависящая от того, что у организма всякий раз
оказывается в повиновении только небольшая часть всех тех сил, равнодействующие
которых обусловливают движения цепи, сама по себе уже очень велика,
особенно если принять во внимание ту щедрость, с какой организм
наделяет свои кинематические цепи степенями свободы. Уже одна эта
«беззаботность» к количеству степеней свободы должна бы подсказать, что
свойственный ему принцип управления в корне отличается от знакомых нам в
настоящее время по искусственным сооружениям. И, несмотря на это,
в течение долгих десятилетий развития нервной физиологии держалось
(а в учебниках и до настоящего времени держится) убеждение, что
зависимость между мышечным напряжением и движением столь же проста,
пряма и однозначна, как, например, зависимость между движениями поршня
паровозного цилиндра и вращениями ведущего колеса. К сожалению,
в фактическом материале биодинамики мы имеем множество случаев,
когда на всем протяжении кинематической цепи включены только
сгибательные мышцы, а при этом все сочленения этой цепи испытывают только
разгибательные угловые ускорения, или наоборот. Случаи же, когда мышца,
переброшенная через сочленение А, вызывает угловые ускорения во всех
прочих сочленениях В, С, D... и т. д. кинематической цепи, резко
преобладают над случаями, когда она этого не делает. Ниже будет
проанализировано несколько типичных примеров указанного характера. И вот как
будто для того, чтобы, наконец, пробудить наше внимание и заставить
всмотреться в реальный координационный процесс, природа
нагромож836
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
дает на осложнения, связанные с огромной свободой подвижности
скелетных кинематических цепей, еще одну трудность, в свою очередь,
намного осложняющую проблему центрального управления движением. Эта
новая трудность в том, что двигателями кинематических цепей
организма служат упругие тяжи, перекинутые между звеньями, — скелетные
мышцы.
Дело в том, что поперечнополосатая мышца представляет собой
своеобразно упругое образование, хотя и не дающее прямой
пропорциональности между приростами длин и приростами напряжений, но тем не менее
характеризуемое для каждого из своих физиологических состояний
вполне определенной кривой зависимости между обеими этими величинами.
Иными словами, напряжение мышцы (или, что одно и то же, развиваемое
ею усилие) есть функция сразу двух переменных: ее физиологического
состояния и ее наличной длины. Полная картина зависимости между
эффекторным процессом или физиологическим состоянием мышцы, с одной
стороны, и развиваемым ею напряжением — с другой, может быть
представлена только в виде целого семейства кривых {рис. 3).
Рис. 3. Семейство линий зависимости между мерой возбуждения, длиной и
напряжением мышцы (схема)
Линии 0-12 соответствуют постепенному нарастанию механической меры возбуждения
мышцы от полной денервации (i) до наивысшей дозы возбуждения (J), по абсциссам
отложены (по логарифмической шкале) процентные тиснения мышцы по отношению
к максимальному сокращению, принятому за 1; но ординатам также и логарифмическом
масштабе — приросты напряжения Р. Подробности в тексте.
837
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Каждая кривая подобного семейства изображает то или другое
физиологическое состояние мышцы1; каждая точка такой кривой — степень
напряжения как функцию длины при этом физиологическом состоянии.
Посылая в мышцу какую-то определенную совокупность импульсов,
центральная нервная система назначает этим одну из кривых упомянутого
семейства, но, как это легко понять, отсюда еще очень далеко до того,
чтобы определилась та или другая точка на этой кривой, т. е. фактически
развиваемое мышцей усилие. Итак, получается, что из всей совокупности сил,
определяющих движение сложной кинематической цепи, — сил
внутренних реактивных и внешних организму хотя в некоторой мере подвластна
только первая категория сил; но, как мы сейчас убеждаемся, и по
отношению к этим внутренним силам нет и не может быть однозначной
зависимости между эффекторным процессом и возникающей за счет его силой. При
той же самой импульсации она может оказаться двадцать раз подряд
совершенно разной в зависимости только от позы (и скорости деформации)
кинематической цепи — от переменных, которые, в свою очередь, в очень
многом зависят от не подвластных организму внешних и реактивных сил.
На самом деле положение еще сложнее, чем это казалось до сих пор.
Напряжение, развиваемое мышцей, так или иначе входит составной частью
в систему тех сил, которые вызывают перемещения и деформации
кинематической цепи. При деформации цепи смещаются и точки прикрепления
концов мышцы к костям, т. е. происходит вторичным порядком изменение
ее длины в ту или другую сторону2.
Из этого вывода, как заметит внимательный читатель, следует, что
сокращение мышцы есть не причина движения, а его следствие. При всей
кажущейся парадоксальности это заключение верно, и действительная
последовательность причин и следствий здесь такова: 1) изменение напряжения
мышцы, 2) смещение костей с находящимися на них точками прикрепления
концов мышцы, 3) изменение длины мышцы. Точно так же, например,
расширение пара в паровом цилиндре есть не причина, а следствие движения поршня,
в то время как причиной этого движения является давление пара.
То есть функцию процентного количества активно работающих мионов, качества
включенных в работу мионов, параметров возбудимости каждого из них и т. д.
Из этого вывода, как заметит внимательный читатель, следует, что сокращение
мышцы есть не причина движения, а его следствие. При всей кажущейся
парадоксальности это заключение верно, и действительная последовательность причин и
следствий здесь такова: 1) изменение напряжения мышцы, 2) смещение костей с
находящимися на них точками прикрепления концов мышцы, 3) изменение длины
мышцы. Точно так же, например, расширение пара в паровом цилиндре есть не
причина, а следствие движения поршня, в то время как причиной этого движения
является давление пара.
838
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Таким образом, изменение напряжения мышцы изменяет ее
наличную длину, а это изменение длины вызывает, в свою очередь, изменение
напряжения мышцы. Здесь имеет место кольцевая взаимозависимость
причин и следствий, выражаемая на языке математики дифференциальными
уравнениями второго порядка1. Мы обозначаем эту кольцевую зависимость
как периферический цикл взаимодействий.
Итак, между мышечным напряжением и результирующим
движением нет и не может быть однозначной зависимости; здесь имеет место
принципиальная неопределенность1. В этом факте — второе капитальное
различие между механикой живого организма позвоночного и механикой
искусственных сооружений.
Могло бы показаться, что система звеньев, соединенная не одной
упругой связью, как в рассмотренном выше случае, а двумя
связями-антагонистами (рис. 4,5), свободна от указанной неопределенности.
Рис. 4. Подвижное звено, управляемое Рис. 5. Схема-план системы,
в его движениях двумя мышцами- изображенной на предыдущем рисунке,
антагонистами Подробности см. в тексте
Указанная кольцевая взаимозависимость еще несколько осложняется тем
обстоятельством, что при движениях в сочленении изменяется угол между осью мышцы и
осями соединенных с ней костных звеньев, т. е. изменяется плечо рычага, входящее
сомножителем в выражение вращающего силового момента мышцы. Вследствие
этого уравнение, которое должно выражать зависимость между мышечным
силовым моментом и движением, становится более сложным, и его уже не удается
представить в виде простого дифференциального уравнения второго порядка,
который оно имело бы без указанного добавочного осложнения.
Неопределенность не означает неопределимости. Последнее выражение
обозначало бы отрицание причинности; первое выражает лишь отсутствие
однозначности (сравнить, например, термин «неопределенные уравнения »).
839
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
На самом деле отличие здесь только кажущееся. Систему с двумя
упругими антагонистами можно точно так же привести в любое угловое
положение соответственным подбором внешних сил, как бы в данный момент
ни вели себя упругие связи системы. При заданных неизменных внешних
силах организм может, правда, так подобрать соотношения напряжений в
обоих антагонистах, чтобы обеспечить любой желаемый угол в шарнире;
но достаточно внешним силам перемениться, чтобы для того же самого
угла потребовались уже совершенно другие соотношения напряжений.
А так как и в этом примере внешние силы никак не зависят от центральной
нервной системы, то положение о принципиальной неопределенности
остается в полной силе.
Следует еще заметить, что для данной мышцы внешними силами
являются, по сути дела, не только силы строго внешние, как, например, сила
тяжести, сила нападающего противника и т.п., но и силы мышц других,
удаленных суставных систем самого организма в их прямом и реактивном
действии. Если строго внешние силы вообще невозможно предучесть, кроме
немногих исключений, то этот второй вид сил, так сказать, условно
внешние силы, организм в принципе мог бы предучесть и скоординировать
заранее, так как от него самого зависит послать в определенную
мышечносуставную группу те или другие импульсы. Но достаточно вспомнить
сказанное выше о не поддающейся никакому анализу сложности
реактивных взаимодействий в многозвенных цепях, чтобы понять, что
практически предучесть эти реактивные силы и то, как они скажутся на движении
какой-нибудь удаленной подвижной части тела, все равно невозможно.
Если для сообщения данному суставу того или другого углового
положения или угловой скорости недостаточно создать определенное
соотношение между упругостями двух его мышц-антагонистов, а необходимо еще в
широких пределах изменять и дозировать это соотношение в зависимости
от того, каковы позы, нагрузки и ускорения во всех окружающих суставах,
то это значит, что между состоянием мышц данного сустава и его
движением нет постоянной однозначной зависимости. Следовательно, и по
отношению к реактивным силам справедливо все сказанное выше о силах
внешних. Более того: поскольку реактивные силы в многозвенных цепях почти
всегда и сложнее, и изменчивее, чем силы чисто внешние, постольку
искажающее и осложняющее влияние первых на динамику движения
значительно больше, чем влияние вторых.
Ниже будет рассмотрено, каким путем центральная нервная система
выходит из перечисленных трудностей координирования движений. Здесь
необходимо только указать, что осложнения, вносимые вмешательством
внешних реактивных и инерционных сил и фактом неоднозначности связи
между мышечным возбуждением, напряжением и движением, гораздо
более часты и значительны, чем это обычно думают. Весь длительный опыт
840
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
нашей экспериментальной работы над движениями человека показал, что
случаи, когда при данном движении фактически напрягаются совсем
другие мышцы, в другое время и другим образом, чем это ожидалось бы по
элементарному анатомическому анализу, гораздо более часты, чем те,
когда поведение мышц до конца понятно и классично. Есть много элементов
движений, в которых пока вообще не удается доискаться объяснения
поведения каждой мышечной группы; в иных случаях анализ внешней и
реактивной динамики доступен и ясно обнаруживает логику этих
неожиданных для первого взгляда мышечных действий, но эта логика далеко
отличается от элементарной школьной логики учебников. Рассмотрим
несколько примеров.
Рис. 6. Последовательные положения руки и молотка при рубке зубилом
Наверху — замах, внизу — удар. Четыре позы, соединенные стрелками, — фазы
замахового движения, во время которых усилии направлены вперед (работа автора.
1923 г.).
1. Эффект действия инерционных сил
При рубке зубилом около половины всею движения замаха (рис. 6)
совершается при активном напряжении всех мышц, тянущих руку вниз и
вперед у хотя движение направлено в это время вверх и назад. Это
объясняется тем, что рука с молотком, обладающая в сумме значительным
моментом инерции и получившая в первой половине замаха довольно большую
инертно движения низал за счет сил отдачи и мышечной активности,
должна быть остановлена и при этом деформирована, натягивая
разгибательные мышцы так, как это требуется для нанесения удара. Пример
движений, совершающихся против направления действия мышц, можно встретить
во всевозможных ритмических движениях (ходьба, бег, игра на
фортепиано и т. д.). Этот случай прост для анализа, гак как указанная
противоположность выдает себя замедляющимся характером движения.
841
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
2. Эффект действия внешней силы тяжести
Окончание гимнастического движения «выходи и стой на кистях» (рис. 7)
состоит в медленном поднимании всего тела вверх посредством постепенного
распрямления локтевых суставов. Вследствие своей медленности движение
никак не осложнено инерционными или реактивными силами. Тем не менее
оказывается, что разгибание локтей на угол 90° настолько сильное, что оно
поднимает кверху весь корпус, совершается не разгибателями локтя, почти
бездействующими, а мышцами, дающими переднюю флексию плечевого
сочленения (m. deltoideus, т. pectoralis major, m. serratus anterior).
Объяснение этого своеобразного случая работы сильно
нагруженного сустава против нагрузки целиком за счет не проходящих через него мышц
довольно просто. Из рис. 7 видно, что на протяжении описываемого
движения общий центр тяжести тела находится в одной вертикальной
плоскости с обеими точками опоры — кистями (иначе при медленном движении
гимнаст утратил бы равновесие), с осями предплечий и обоими локтевыми
суставами. Момент силы тяжести относительно этих суставов близок к
нулю, а, следовательно, по правилу равенства действия и противодействия
близки к нулю и моменты локтевой мускулатуры. Напряжение
разгибателей локтя при позах рис. 7 привело бы не к подъему тела, а к
опрокидыванию его против часовой стрелки.
Из всех сочленений руки момент силы тяжести велик только для
плечевых суставов; их-то мускулатура и работает, увеличивая угол между
плечами и туловищем и этим поднимая тело гимнаста.
Рис. 7. Три последовательные фазы подъема в стойке на кистях.
Движение разгибания локтей совершается за счет работы мышц-сгибателей
плечевого сочленения (работа М. Украна, ГЦОЛИФК — лаборатория
изучения движений ЦКИИФК)
842
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
3. Эффект действия рективных и инерционных сил
Этот пример сложнее предыдущих. При беге, вскоре после отрыва
маховой ноги от опоры, начинается интенсивное, ускоренное сгибание
ее колена (рис. 8) с большой угловой скоростью, достигающей у
спринтеров 3,6-3,7 об/с, — скоростью вращения колес паровоза экспресса
на полному ходу. Это движение, подтягивающее пятку к самой ягодице
за 0,15-0,10 с, совершается почти на всем протяжении при
значительном перевесе напряжения разгибателей колена. В случае бега
мирового рекордсмена Лядумега это сгибание при общей длительности 0,273 с
в течение первых 0,198 с совершается ускоренно и лишь в течение
остальных 0,075 с — замедленно, причем как раз в конце этого последнего
интервала, когда работа разгибателей находит себе внешнее отражение
в замедлении сгибания, наступает на 0,011 с перевес сгибательной
мускулатуры.
В самых общих чертах явление это объясняется тем, что отброс
стопы кверху от опоры, совершающийся главным образом за счет
реактивного эффекта от контралатеральной ноги, настолько силен, что стопу не
только не приходится гнать кверху активным сгибанием колена, а,
наоборот, приходится притормаживать ее для предохранения от удара ее об
ягодицу.
4. Эффект действия реактивных и инерционных сил
Пример аналогичен предыдущему и также заимствован из
исследования автора по бегу. После прохождения маховой ноги мимо опорной (рис. 9)
в первой имеет место: а) падение продольной скорости колена, т. е.
притормаживание бедра, и б) убыстрение движения стопы вперед, т. е.
разгибательное угловое ускорение в коленном сочленении. Сопоставление того,
что при этом казалось бы необходимым ожидать от мышц, с тем, что
совершается на самом деле, удобнее всего сделать в виде следующей таблички:
Сочленение
Тазобедренное
Коленное
Его поза
(см. рис. 9)
Сильно
разогнуто
(вперед)
Максимально
согнуто
Наблюдаемое
ускорение
движения
Замедляет свое
разгибание
(подвергается
сгиба тельному
ускорению)
Максимум
разгибательного
ускорения
Усилие,
ожидаемое по «логике»
Сгибательное (?)
Разгибательное
Усилие, имеющее
место в
действительности
Падение ранее
бывшего
сгибательного
усилия до нуля
(волна Q) |
Большая 1
сгибательная
волна (0) 1
843
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Рис. 8. Одна из фаз бега мирового рекордсмена Ж. Лядумега.
Фаза, в которой у мастеров бега, как правило, убыстряющееся сгибание
колена задней ноги протекает при непрерывном перевесе разгибательных
напряжений в коленной мускулатуре (работа автора, ЦНИИФК.
1936-1939 гг.; фото автора переведено в схему. — Примеч. ред.)
Рис. 9. Фазы бега мирового рекордсмена Ж. Лядумега, дающие резкое
противоречие между направлениями мышечных усилий и угловых ускорений
в сочленениях маховой ноги (работа автора, ЦНИИФК,
1936-1939 гг., фото автора переведено в схему— Примеч. ред.)
Итак, все происходит как раз наоборот, особенно ярко — в коленном
сочленении В примере 1 направление ускорения совпадало с направлением
мышечных усилий, хотя направление движения и было противоположно
последним. В данном примере имеют место противоречия между
направлениями мышечных усилий и результирующих ускорений. Это было бы
немыслимо в динамике материальной точки; в динамике же связанной
кинематической системы подобные противоречия могут обусловливаться
столкновениями реактивных и инерционных сил. Общее объяснение как
описанного случая, так и других подобных ему — в том, что в направлении
наблюдаемого фактического ускорения на звено действуют мощные
реак844
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
тивные силы и собственных мышечных усилий, хотя они и направлены в
прямо противоположную сторону, не хватает на то, чтобы полностью
погасить реактивную силу, так что она все-таки ускоряет движение звена в
своем направлении.
Трудность, создаваемая для планомерной координации фактами
неоднозначности и кольцевой зависимости, сама по себе настолько глубока и
принципиальна, что на ее фоне стушевываются обрисованные выше
трудности, связанные с непослушностью цепей со многими степенями свободы.
Этим и объясняется то, что мы позволили себе выше образно назвать
беззаботностью природы по части изобилия допускаемых ею степеней
свободы подвижности: находя путь к преодолению принципиальной трудности
неоднозначности, она тем самым полностью решает менее трудную и
непринципиальную задачу многостепенности, а тут уже, как мы скоро
увидим, действительно все равно, будет ли перед нами цепь о пяти или
семидесяти пяти степенях свободы.
Путь, найденный природой к преодолению охарактеризованных
трудностей, прямо подсказывается тем фактом двоякой обусловленности
мышечных напряжений, который мы выше интерпретировали посредством семейств
кривых (см. рис. 3). Раз при данном физиологическом состоянии мышцы
напряжение ее зависит от ее наличной длины (мы пока отвлекаемся от
осложняющего влияния мышечной вязкости, которое принципиально не меняет дела),
значит, центральная нервная система будет реально в состоянии придать мышце
то или иное требующееся напряжение в том и только в том случае, если она
будет в курсе этой наличной длины мышцы и всех претерпеваемых ею
изменений. Решение вопроса о неоднозначности лежит в использовании для
регулирования эффекторного процесса сензорных сигналов о позе кинематической
цепи и о мере растяжения каждой из влияющих на ее движения мышц. Далее
уже легко представить себе, что при наличии такого непрерывно текущего
потока сигналов с периферии центральной нервной системе в принципе нетрудно
справиться с любой расточительностью по части степеней свободы
подвижности. Действительно, как только орган, находящийся под действием внешних и
реактивных сил, плюс еще какая-то добавка внутренних мышечных сил
отклонится в своем результирующем движении от того, что входит в намерения
центральной нервной системы, эта последняя получит исчерпывающую
сигнализацию об этом отклонении, достаточную для того, чтобы внести в
эффекторный процесс соответственные адекватные поправки. Весь изложенный
принцип координирования заслуживает поэтому названия принципа сензорных
коррекции1.
1 В моторике животных — носителей гладкой мускулатуры — принцип сензорных
коррекций не играет ощутимой роли, что очень характерным образом отражается
в их движениях: а) преимущественно метамерных и 6) хаотически ощупывающих.
845
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Сказанное вполне объясняет, почему расстройства в эффекторных
аппаратах центральной нервной системы, как правило, не влекут за собой чистых
нарушений координации, давая только синдромы параличей, парезов,
контрактур и т. п., и почему обязательно непорядки в афферентных системах
вызывают нарушения движений атактического типа, т. е. расстройства
координации. Ниже будет показано, что афферентным системам, кроме
вторично-коррекционной, принадлежит еще очень важная для двигательного
процесса инициативная, установочная и пусковая роль; поэтому не удивительно,
что в результате чисто афферентационных нарушений нередко возникают,
кроме дискоординаций, даже и расстройства с четким обликом параличей,
парезов и т. п., с хорошим восстановлением движений после каких-либо
викарных возмещений утраченной афферентации.
Все известные в клинике формы органических расстройств координации
всегда связаны с заболеваниями рецепторных аппаратов и их проводящих
путей: вестибулярных аппаратов (лабиринтная или вестибулярная атаксия),
рецепторных систем мозжечка (церебеллярная атаксия), задних столбов
спинного мозга, проводящих проприоцептивную и тактильную, импульсацию
(табетическая атаксия) и т. д. Экспериментально у животных перерезка
двигательных (передних) корешков одной из конечностей ведет к параличу этой
конечности, тогда как перерезка задних корешков (деафферентация)
приводит к резким нарушениям координации. У лягушки деафферентация задней
лапки может не дать заметных на глаз признаков расстройства координации;
но достаточно парализовать или ампутировать унилатеральную переднюю
конечность, чтобы последовало немедленное резкое нарушение координации
в ранее деафферентированной задней лапке. Очевидно, наличие нормальной
подвижности в передней лапке создает какую-то обходную (коллатеральную)
компенсацию для обесчувствленной задней, и на этой компенсации, как на
ниточке, кое-как держится координация задней лапки. Но достаточно
перерезать и эту ниточку, никак не трогая задней конечности, чтобы
дискоординация обнаружилась в ней в полной мере.
И у человека возможны компенсации, способные преодолеть в той или
иной мере органическую атаксию; и всегда они осуществляются путем
включения в двигательный процесс нового вида чувствительности. Известно, как
резко ухудшаются движения табетика при закрывании глаз, т. е. в какой
большой мере используется им для компенсации зрение. Восстановление в той или
иной мере походки у тех же табетиков хорошо удавалось иногда при помощи
бандажей, производивших переменное давление на кожу живота при
движениях бедер, вызывая этим компенсационные осязательные ощущения.
Как будет показано ниже, все виды афферентации организма
принимают в разных случаях и в разной мере участие в осуществлении
сензорных коррекций. Иными словами: каждому виду и качеству
чувствительности доводится в очередь с ее основной экстероцептивной (иногда и
846
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
энтероцептивной) работой выполнять функции наблюдения за
движениями собственного тела и сигнализировать о них в центральную нервную
систему в порядке выполнения сензорных коррекций. Используя и далее
терминологию Sherrington, мы назовем всю совокупность рецепторных
отправлений этого рода проприоцепторикой в широком, или
функциональном, смысле. Однако сам основной факт, в первую очередь требующий
подобного корригирования, — факт зависимости мышечного напряжения от
длины мышцы — говорит о том, что самое первоочередное и
непосредственное участие в реализации этих коррекций принимает проприоцептивная
система в узком смысле слова — система сензорных сигналов о позах,
сочленовных угловых скоростях, мышечных растяжениях и напряжениях. Мышца,
вызывая своей деятельностью изменения в движении кинематической цепи,
раздражает при этом чувствительные окончания проприоцепторов sensu stricto
(«периферийноезамыкание »), а эти проприоцептивные сигналы, замыкаясь в
центральной нервной системе на эффекторные пути, вносят изменения в
эффекторный поток, т. е. в физиологическое состояние мышцы («центральное
замыкание »). Перед нами, таким образом, не рефлекторная дуга, а друга
форма взаимолекторная дуга, а другая форма взаимоотношений между
афферентным и эффекторным процессом, характеристическая для всех
координационных процессов, — рефлекторное кольцо (рис. 10). Таким образом, здесь
снова вскрывается картина кругового взаимодействия, очень напоминающая
ту, которая была обрисована выше, при анализе взаимоотношений между
мышечным напряжением и движением, только развертывающаяся в другом
плане, уже не чисто биомеханически, а через посредство центральной нервной
системы. И этот случай взаимодействия мог бы быть теоретически
представлен в форме дифференциального уравнения, хотя мы пока еще далеки от
возможности реально построить его.
Рис. 10. Схема проприоцептивного рефлекторного кольца
847
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Рефлекторное кольцо, представляющее собой фундаментальную
форму протекания двигательного нервного процесса, может быть с
наибольшей степенью наглядности изображено в виде такого схематического
четырехугольника:
Итак, и это очень важно с самого начала подчеркнуть и отметить,
координация есть не какая-то особая точность или тонкость эффекторных
нервных импульсов, а особая группа физиологических механизмов,
создающих непрерывное организованное циклическое взаимодействие между
рецепторным и эффекторным процессом. Никакой тончайший анализ не
мог бы найти в эффекторном импульсе признаков или элементов
«координации »: их там нет. Координация, подготовляет ли она двигательную
периферию к принятию эффекторного импульса или оформляет и соразмеряет
самый импульс соответственно конкретному учету периферической
ситуации, все равно лежит вне эффекторного импульса, в известном
смысле — над ним.
Подведем основные итоги. Два решающих обстоятельства: 1) факт
избытка кинематических степеней свободы, зависящих от строения
сочленений, и 2) факт упругой мышечной связи между звеньями подвижных
цепей, из которого проистекает неопределенная, неоднозначная
зависимость между мышечной активностью и движением и который можно
рассматривать как эквивалент еще некоторого числа динамических степеней
свободы, — оба в совокупности делают органы движения принципиально
неуправляемыми системами для каких бы то ни было качеств или сколь
угодно тонких форм чисто эффекторных следований импульсов. Силы,
обусловливающие фактическое движение каждого звена кинематической
цепи, могут быть представлены каждая в виде геометрической суммы трех
составляющих: 1) силы, исходящей от активного двигателя системы, — в
данном случае от мышцы; по большей части силы этого рода являются
внут848
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ренними силами; 2) внешних сил (тяжести, сопротив-ления внешней среды
и т. п.) и 3) реактивных сил, количество и разнообразие которых, как уже
было сказано, бурно возрастает с увеличением числа степеней свободы.
Сензорная коррекция эффекторных импульсов, управляющих мышечной
активностью, ведется так, чтобы равнодействующие всех упомянутых
участвующих в движении сил, и внутренних, и внешних, и реактивных, вели
движущуюся систему из ее исходного состояния в требуемом
направлении, с требуемой силой и скоростью. В каждую такую равнодействующую,
состоящую из трех динамических «паев» (активного, внешнего,
реактивного), эффекторика вносит только один пай. Понятно, что структура этого
одного пая из трех тем сильнее отличается от их общей результирующей
суммы, чем больше в движении участвуют реактивные и внешние силы и
чем экономичнее оно построено в отношении расходования активной
мышечной работы. Это-то несоответствие между первой категорией сил —
единственной прямо подвластной управлению — и результирующей
кинетикой цепи и делает столь трудно управляемыми кинематические цепи со
многими кинематическими и динамическими степенями свободы. Сюда
прибавляется еще и то, что даже при небольших допусках и
конструктивных нестрогостях, всегда возможных и у очень точно выполненных машин,
а в живых кинематических цепях подчас весьма значительных, резко
возрастает неодинаковость и непостоянство реактивных сил от раза к разу
при повторных циклах одинаковых движений. Это обстоятельство делает
реактивные силовые наслоения помимо их сложности еще и практически
не предусмотримыми.
С другой стороны, неоспоримо (в гл. VIII будет подробно
проанализировано на фактическом материале), что движение тем экономичнее, а
следовательно, и рациональнее, чем в большей мере организм использует для
его выполнения реактивные и внешние силы и чем меньше ему приходится
привносить активных мышечных добавок. Но, очевидно, чем меньше эти
добавки, тем меньше сходства остается между формой их протекания и
той суммарной силовой равнодействующей сил всех трех видов, которая
фактически выполняет реализуемое организмом движение. В наиболее
совершенных по своей биодинамике движениях (динамически устойчивых,
см. гл. IV и VIII) это явление достигает максимума, и сходство между
мышечной формулой и движением остается не более значительным, чем,
например, сходство между работой вспомогательного судового дизеля,
включаемого время от времени, и курсом парусного судна, идущего под сильным
попутным ветром. Всем хорошо знакомо искусство парящего полета
морских птиц, способных пролетать большие расстояния, почти не работая
крыльями, за счет одних только мастерски используемых ими колебаний
воздушных течений, — искусство, которому все лучше подражает и
человек в своем планерном спорте, но гораздо менее известно то, что и в
обы849
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
денной моторике ходьбы, бега, трудовых приемов и т. д. соотношения
между кривыми мышечной активности и кривыми результирующих усилий и
движений мало чем отличаются в принципе от упомянутой кинетики
альбатроса.
По этим причинам для перевода с языка
пространственно-кинематических представлений, на котором психологически строится первичный
проект движения, на язык фактической мышечной динамики требуется
довольно сложная перешифровка, которая вдобавок тем сложнее и
прихотливее, чем совершеннее выполняемое движение, т. е. чем лучше
выработан двигательный навык. Если к этому прибавить еще, что по причине
указанного выше отсутствия однозначности эти шифры к тому же
меняются от раза к разу при повторных выполнениях движения, то у нас останется
очень немного от тех старых представлений о выработке нового навыка как
условной связи, согласно которым такая выработка совершается путем
«проторения » в результате серии точно одинаковых повторений. Для
дальнейшего следует отметить еще, что в сложных двигательных актах,
реализуемых высшими кортикальными системами, сплошь и рядом требуется
несколько наложенных одна на другую последовательно совершаемых
перешифровок разного механизма и разного смыслового содержания.
Приведем пример, являющийся выразительной иллюстрацией к
сказанному.
Для интегрирования дифференциального уравнения второго
порядка, т. е. для нахождения одного из бесчисленных возможных для него
конкретных решений, необходимо подставить в общее решение по меньшей
мере два начальных условия, не зависящих от самого уравнения. В случае
уравнения, определяющего движение кинетической системы с упругими
связями, такими начальными условиями могут послужить, например,
исходные положения и начальные скорости элементов цепи. Это и есть как
раз данные того порядка явлений, которые сигнализируются в
центральную нервную систему проприоцептивными органами по ходу
осуществления сензорных коррекций. Очевидно, если по каким-либо причинам
проприоцептивная афферентация (в широком смысле) выключена, то
центральная нервная система не будет располагать ни указанными, ни
другими эквивалентными им данными для выбора того или другого из
возможных решений дифференциального уравнения. Отсюда вместо
приспособительно видоизменяемых следований импульсов, которые посылаются
ею в норме и дают при циклических движениях чеканно одинаковые циклы,
центральная нервная система будет раз за разом посылать на периферию
стереотипные, одинаковые цепочки импульсов, не ведая, с какими
ситуациями они там столкнутся. В результате, разумеется, получится картина,
как раз обратная только что обрисованной для нормы: одинаковые серии
импульсов приведут к резко непохожим один на другой циклам движения.
850
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Рис. 11. Слева — кривые перемещения (по вертикальной слагающей) пятки
(р) и носка (я) в двух последовательных шагах табетика. Справа — кривые
вертикальных ускорений пятки (наверху) и вертикальных усилий в центре
тяжести стопы (внизу) в тех же самых двух шагах. Рисунок ясно
показывает, что в основе двух резко различных между собой движений шагов
у табетика могут лежать очень сходные между собой циклы ускорений и
усилий (работа В. Фарфеля и автора, ВИЭМ, 1935 г.)
Рис. 12. Слева — кривые перемещений (по вертикальной слагающей) пятки
(р) и носка (л) в двух последовательных шагах нормального субъекта
Справа — кривая вертикальных усилий в центре тяжести стопы в тех же
двух шагах. Перемещения идеально одинаковы в обоих шагах; вариативность
усилий от шага к шагу немногим отличается от таковой в предыдущем
рисунке (работа автора, ВИЭМ, 1935 г.)
851
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Так действительно и происходит при характернейшей болезненной
форме системного выключения проводящих путей проприоцепторики в
спинном мозгу — при tabes dorsalis. Приведенные рис. 11 и рис. 12
подтверждают сказанное сопоставлением двух групп кривых. На рис. 11 (справа)
помещены кривые вертикальных ускорений и динамических усилий в
центре тяжести стопы тяжелого табетика и рядом (слева) две кривые
результирующих перемещений переднего и заднего концов стопы этого же
больного в двух соответствующих последовательных шагах. На рис. 12
помещены для сравнения такие же кривые для случая здоровой,
нормальной ходьбы. Из рисунков ясно видно, что вариативность кривой усилий от
шага к шагу мало чем отличается у табетика от того, что имеет место и в
норме. Но в то время как кривые движений в здорового субъекта
совершенно неотличимы в последовательных шагах, у больного они дают резко
выраженную разницу циклов. За непринятие в расчет данных об имеющих
место в очередном шаге начальных условий и за стереотипную
одинаковость импульсовых серий, без адекватных перешифровок, организм
расплачивается в лучшем случае резкой деавтоматизацией походки, а в
худшем — полной потерей устойчивости.
Итак, в наиболее точном определении координация движений есть
преодоление избыточных степеней свободы движущегося органа, иными
словами, превращение последнего в управляемую систему. Указанная в
определении задача решается по принципу сензорных коррекций,
осуществляемых совместно самыми различными системами афферентации и
протекающих по основной структурной формуле рефлекторного кольца.
Состав тех афферентационных ансамблей, которые участвуют в
координировании данного движения, в осуществлении требуемых коррекций и
в обеспечении адекватных перешифровок для эффекторных импульсов, а
также вся совокупность системных взаимоотношений между ними
обозначаются нами как построение данного движения.
Необходимо подчеркнуть, что хотя все имеющиеся в распоряжении
организма виды рецепторных аппаратов принимают участие в
осуществлении сензорных коррекций и выполнении требуемых для этого
перешифровок в разных планах и различных уровнях, однако ни в одном случае
(кроме, может быть, простейших прарефлексов) эти акты корригирования не
реализуются сырыми рецепторными сигналами от отдельных,
изолированных по признаку качества афферентационных систем. Наоборот,
сензорные коррекции всегда ведутся уже целыми синтезами, все более
усложняющимися от низа кверху и строящимися из подвергшихся глубокой
интеграционной переработке сензорных сигналов очень разнообразных
качеств. Эти синтезы, или сензорные поля, и определяют собой то, что мы
обозначаем как уровни построения тех или иных движений. Каждая
двигательная задача находит себе в зависимости от своего содержания и
852
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
смысловой структуры тот или иной уровень, иначе говоря, тот или иной
сензорный синтез, который наиболее адекватен по качеству и составу
образующих его афферентаций и по принципу их синтетического
объединения требующемуся решению этой задачи. Этот уровень и
определяется как ведущий уровень для данного движения в отношении
осуществления важнейших, решающих сензорных коррекций и выполнения требуемых
для этого перешифровок.
Лучше всего понятие о различных ведущих уровнях построения
уяснится из примерного сопоставления ряда движений, сходных по своему
внешнему оформлению, но резко различных между собой по уровневому
составу.
Человек может совершить, положим, круговое движение рукой в ряде
чрезвычайно не сходных между собой ситуаций. Например: А. При очень
быстром фортепианном «вибрато», т. е. при повторении одной и той же
ноты или октавы с частотой 6-8 раз в секунду нередко точки кисти и
предплечья движутся у выдающихся виртуозов по небольшим кружочкам (или
овалам). В. Можно описать рукой круг в воздухе в порядке выполнения
гимнастического упражнения или хореографического движения. С.
Человек может обвести карандашом нарисованный или вытисненный на бумаге
круг (С1) или же срисовать круг (С2), который он видит перед собой. D.
Он может совершить круговое движение рукой, делая стежок иглы или
распутывая узел. Е. Доказывая геометрическую теорему, он может
изобразить на доске круг, являющийся составной частью чертежа,
применяемого им для доказательства. Все это будут круги или их более или менее
близкие подобия, но тем не менее во всех перечисленных примерах их
центрально-нервные корни, их (как будет показано ниже) уровни построения
будут существенно разными. Во всех упомянутых вариантах мы
встретимся и с различиями в механике движения, в его внешней,
пространственнодинамической картине и, что еще более важно, с глубокими различиями
координационных механизмов, определяющих эти движения.
Прежде всего нельзя не заметить, что все эти круговые движения
связаны всякий раз с другими афферентациями. Кружки по типу примера А
(доказательства будут приведены в гл. III—VI) получаются непроизвольно,
в порядке неосознаваемого проприоцептивного рефлекса. Круг
танцевально-гимнастический (В) точно так же обводится главным образом под
знаком проприоцептивной коррекции, но уже не элементарно-рефлекторной,
а в значительной части осознаваемой и обнаруживающей преобладание уже
не мышечно-силовых, а суставно-пространственных компонент
проприоафферентации. Круг обрисовываемый (С7) или срисовываемый (С2) ведется
с главенствующим контролем зрения — в первом случае более
непосредственным и примитивным, во втором — осуществляемым очень сложной
синтетической афферентационной системой
«зрительно-пространствен853
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ного поля». В случае D ведущей афферентационной системой является
представление о предмете, апперцепция предмета, осмысление его
формы и значения, дающее активный результат в виде действия или серии
действий, направленных к целесообразному манипулированию с этим
предметом. Наконец, в случае Е — круга, изображаемого лектором математики
на доске, ведущим моментом является не столько воспроизведение
геометрической формы круга (как было бы, если на кафедре вместо учителя
математики находился учитель рисования), сколько полуусловное
изображение соотношений рисуемой окружности с другими элементами
математического чертежа. Искажение правильной формы круга не нарушит
замысла лектора и не пробудит в его моторике никаких коррекционных
импульсов, которые, наоборот, немедленно возникли бы в этой же
ситуации у учителя рисования.
Все перечисленные движения (от А до Е) будут по их
мышечно-суставным схемам кругами, но их реализация, их построение, проводимое
центральной нервной системой, будет для каждой из поименованных
разновидностей протекать на другом уровне.
Очень характерный пример практического использования этих
данных для восстановительной терапии движений дает проведенная в течение
настоящей войны серия исследований А.Н. Леонтьева и его сотрудников
(ВИЭМ — Институт психологии). По их наблюдениям, даже в случае
грубого периферического нарушения движений вследствие анкилоза или
тяжелой контрактуры амплитуда возможных произвольных движений
пораженной руки способна изменяться в очень широких пределах за счет
изменений одной только формулировки двигательного задания, т. е.
переключения исполняемого движения на тот или другой уровень. Например,
на приказание «поднять руку как можно выше» больной поднимает ее до
определенного штриха на (не видимой ему) измерительной рейке. На
следующее затем приказание тронуть пальцем высоко расположенную
видимую точку на листе бумаги больной поднимает руку уже на 10-12 см выше;
если же задание будет выражено в виде: «сними с крючка повешенный на
нем предмет», то это обеспечит увеличение амплитуды подъема еще на
десяток сантиметров. Контрольная проба подъема по беспредметному
заданию (как в начале опыта) показывает, что завоеванные уже десятки
сантиметров сохраняют силу только по отношению к вызвавшим их
формулировкам. Легко заметить, что три последовательных задания
Леонтьева относятся соответственно к вышеназванным уровням В, С и О. Пример
показывает, как различны между собой иннервационные и мышечные
формулы, производящие совершенно однотипные на вид движения, но в
разных уровнях.
Характеристика отдельных уровней построения движений,
насколько их удается расчленить к настоящему времени, приводится в гл. III—VI;
854
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
обрисовка динамики их возникновения и развития двигательных
координации в фило- и онтогенезе — в гл. VII и VIII. Здесь необходимо сделать
еще только одно примечание.
Ни одно движение (может быть, за редчайшими исключениями) не
обслуживается по всем его координационным деталям одним только
ведущим уровнем построения. Мы увидим ниже, что в начале формирования
нового индивидуального двигательного навыка действительно почти все
коррекции суррогатно ведутся ведущим уровнем-инициатором, но вскоре
положение изменяется. Каждая из технических сторон и деталей
выполняемого сложного движения рано или поздно находит для себя среди
нижележащих уровней такой, афферентации которого наиболее адекватны
этой детали по качествам обеспечиваемых ими сензорных коррекций.
Таким образом, постепенно, в результате ряда последовательных
переключений и скачков образуется сложная многоуровневая постройка,
возглавляемая ведущим уровнем, адекватным смысловой структуре
двигательного акта и реализующим только самые основные, решающие в смысловом
отношении коррекции. Под его дирижированием в выполнении движения
участвует, далее, ряд фоновых уровней, которые обслуживают фоновые
или технические компоненты движения: тонус, иннервацию и денервацию,
реципрокное торможение, сложные синергии и т. п. Процесс
переключения технических компонент движения в низовые, фоновые уровни есть
то, что называется обычно автоматизацией движения. Во всяком
движении, какова бы ни была его абсолютная уровневая высота, осознается
один только его ведущий уровень и только те из коррекций, которые
ведутся непосредственно на нем самом. Так, например, если очередной
двигательный акт есть завязывание узла, текущее на уровне D, то его
технические компоненты из уровня пространственного поля С, как правило, не
достигают порога сознания. Если же следующее за ним движение —
потягивание или улыбка, протекающие на уровне В, то этот уровень
осознается, хотя он абсолютно и ниже, чем С. Конечно, из этого не следует,
чтобы степень сознательности была одинаковой у каждого ведущего уровня;
наоборот, и степень осознаваемости, и степень произвольности растет
с переходом по уровням снизу вверх.
Переключение технической компоненты из ведущего уровня в тот или
другой из низовых фоновых приводит, согласно сказанному, к уходу этой
компоненты из поля сознания, а это явление как раз и заслужило название
автоматизации. Вполне понятна выгодность автоматизации, ведущей к
разгрузке сознания от побочного, технического материала и этим создающей
для него возможность сосредоточиться на самых существенных и
ответственных сторонах движения, к тому же, как правило, изобилующих
непредвиденностями всякого рода, требующими быстрых и находчивых
переключений. Противоположный описанному процесс временного или
855
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
полного разрушения автоматизации носит название деавтоматизации.
Оба эти процесса подробнее освещены в гл. VIII и IX.
Закончим настоящую главу описью уровней построения,
характеризуемых во второй части этой книги. А — уровень палеокинетических
регуляций, он же руброспинальный уровень центральной нервной системы. В —
уровень синергии, он же таламо-паллидарный уровень. С — уровень
пространственного поля, он же пирамидно-стриальный уровень. Распадается
на два подуровня: С1 —• стриальный, принадлежащий к экстрапирамидной
системе, и С2 — пирамидный, относящийся к группе кортикальных
уровней, D — уровень действий (предметных действий, смысловых цепей и т. п.),
он же теменно-премоторный уровень. Е — группа высших кортикальных
уровней символических координации (письма, речи и т. п.).
В характеристиках уровней построения будем придерживаться по
возможности единообразного плана: локализация и субстраты; ведущая
афферентация; характеристические свойства движений; самостоятельные
движения, управляемые данным уровнем; фоновая роль уровня в
двигательных актах вышележащих уровней; дисфункции и патологические
синдромы.
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В.М. БЕХТЕРЕВ:
ОБЩИЕ ОСНОВЫ РЕФЛЕКСОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА1
Глава IV
Энергия как основа активных процессов вообще
и соотносительных процессов в частности.
Психические процессы высших животных суть процессы мозга.
Органы узловой и в особенности центральной нервной системы высших
организмов являются своего рода аккумуляторами энергии.
Вопреки мнению Декарта наукой доказано,
что так называемые мыслительные процессы
сопровождаются теми или другими объективными
проявлениями. При напряженной мысли мы
имеем отражение ее в мимике, в голосовых связках,
в приливах крови к мозгу и к голове вообще, в
большем выделении фосфатов, в изменении дыхания,
сердцебиения и пр.
В известном сочинении Lehmann'a2 можно
почерпнуть детальные, хотя и далеко еще неполные
указания в этом отношении.
Ныне, по-видимому, может быть признано,
что нет ни одного мыслительного процесса, так
сказать, бестелесного, т. е. лишенного внешнего физического выражения.
Недавно Pouzo (Arch. ital. de Biologie, t. LXIV, nov. 1916) на основании
опытов с записью дыхания убедился, что чтение вслух и чтение про себя
проявляются такой же формой дыхательных движений. При чтении
иностранного языка дыхательные изменения еще резче, и они тем более резки,
чем меньше язык известен.
Исследования, осуществленные в моей лаборатории, не оставляют
сомнения в том, что даже простое слушание музыки отражается
соответственными изменениями в отношении дыхательных экскурсий.
Необходимо при этом иметь в виду, что данные науки установили твердо
взгляд, что так называемые психические процессы осуществляются не
иначе, как в мозгу, и протекают во времени подобно всем вообще физическим
процессам.
Бехтерев В.М. Общие основы рефлексологии человека. 3-е изд. Л., 1926.
Lehmann. Die korp. Äusserungen d. seel. Zustande. 1899.
857
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Физиология и анатомия мозга, идя по этому пути, уже установили
безусловную связь психических процессов с определенными,
происходящими в мозгу физико-химическими процессами, благодаря чему усиленная
психическая деятельность сопутствуется усиленным распадом
фосфористых тел, выделяемых почками, сопутствующими изменениями в
клетках мозговой коры (так называемый хроматолиз), электрическими в ней
явлениями, повышением температуры мозговой коры, ее кислотной
реакцией и др.
Тем не менее воззрение, например, Геккеля, основанное на
материалистическом основании с атомистической теорией, не может объяснить нам
психических явлений, ибо психическое не может быть выведено из атомов.
Но в позднейшее время с развитием учения об энергии явилась
возможность и психические процессы рассматривать, как проявление энергии, при
чем некоторыми авторами признается существование особой психической
энергии (Lasswitz, Грот, Краинский и др.). Мы, со своей стороны,
признавали более правильным говорить о нервно-психической энергии1, которой
определяется как движение нервного тока, так и проявление собственно
психических процессов в мозгу и которая является производной
молекулярной энергии низших животных, характеризующейся
сократительностью протоплазмы2.
Согласно новейшему воззрению, материальный мир построен из
положительных и отрицательных электронов, причем последние в атомах
вращаются вокруг положительного ядра по орбитам наподобие планетной
системы. Позднейшие исследования в этом отношении Бора, Рутерфорда
и Рождественского еще более углубили наши знания о строении атомов.
Таким образом, все философские взгляды прежнего времени, строившие
свои воззрения на основе противоположения силы и материи, отпадают.
Материя, изучаемая физикой и химией, в существе своем оказывается как
бы фикцией, ибо на место атомов имеется связанная энергия, и при этом
энергия огромной силы, которую мы не можем получить вследствие
относительно малой сопротивляемости лучших изоляторов.
Но если такая материя есть фикция, а одна энергия есть реальность, то
уже нет основания противополагать психическое материальному, и
наоборот, нам остается спросить себя: нет ли возможности и психическую
деятельность свести на физическую энергию?
Прежде всего мы должны признать, что все психические процессы суть
мозговые процессы, в основе которых лежит движение нервного тока. Но
нервный ток в действительности есть уже энергия, причем мы имеем все
основания говорить о трансформации известных нам энергий,
действуюБехтерев В. Психика и жизнь. Отд. изд. СПб.
Right А. Современная теория физических явлений. 1907.
858
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
щих на внешние и внутренние поверхности тела, в нервный ток, и о
превращении последнего в молекулярную работу мышц, которая, в свою очередь,
переходит в механическую работу.
То, что относится к субъективному или психическому процессу,
повидимому, представляет собою результат более высокого напряжения той
же энергии, как бы ее свойство проявлять себя самое при соответственных
условиях.
Это более высокое напряжение энергии происходит обычно в том
случае, когда процесс, достигая высших мозговых центров, подвергается
торможению.
Во всяком случае, рефлексология свои общие предпосылки черпает из
конечных обобщений естествознания.
В миропонимании же мы должны исходить из того, что дает нам опыт
вообще, а этот опыт сводится к тому, что всякое явление и всякая вещь
являются следствием предшествующих им явлений.
Наш субъективней мир, как и все процессы в нашем мозгу, являются
следствием воздействий, исходящих извне. Поэтому мы не можем
становиться на точку зрения гносеологического идеализма, а должны стать на
точку зрения гносеологического материализма. Точно так же и внешний
мир, конечно, не тот, который мы ощущаем и представляем, а тот, который
есть на самом деле, подчинен закону причинности или, точнее, закону
отношений. И когда мы доводим свой анализ до конца, то мы должны
признать одну основную и первичную основу всего сущего, которую мы
обозначаем именем энергии. В понятии же энергии мы имеем представление о
разных проявлениях движения в виде больших масс в форме мировых тел и
в виде малых масс то более крупных, в форме, например, индивидов,
образованных клеточками, то еще более мелких, например, молекул, атомов и
электронов, но и электроны видимо еще не представляют собою конечных
делений вещества. Основу этого движения, которая должна быть обща всем
явлениям природы, и в том числе нам самим как частице Вселенной, мы и
обозначаем именем мировой энергии.
Сама по себе энергия физикой определяется часто по внешним
проявлениям как способность к работе, и в этом определении, конечно, не
содержится ничего материального, как нет и ничего объясняющего.
Мы удовольствуемся определением энергии как движения и не
войдем в дальнейший анализ вопроса. Заметим лишь, что «вещь в себе » или то
ноуменальное неизвестное нам, что остается за пределами нашего
восприятия и что признается метафизическим, есть не что иное, как связанная
энергия, и этим исчерпывается понятие «вещи в себе», относительно
которой исписано столько страниц в различных философских сочинениях.
Мы можем говорить, таким образом, об энергии как о движении,
проникающем весь мир и представляющем свою особую форму в живой природе.
859
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Виды энергии, принимаемые физикой, представляются различными,
но в числе их должна быть поставлена и молекулярная энергия сложных и
крайне подвижных коллоидальных образований живой материи,
производными же этой молекулярной энергии и являются нервный ток и так
называемые нервно-психические или, объективно выражаясь, мозговые процессы.
Когда мы смотрим на предмет известного размера и цвета, это
значит, что на наш глаз действуют световые лучи определенной волны
колебаний, когда прикасаются к нашему телу теплым или холодным
предметом, когда на нашу кожную поверхность действуют механически или когда
достигают нашего кортиева органа воздушные звуковые волны и т. п., то
это обозначает, что внешние энергии, действуя на окончания
воспринимающих органов нашего тела, трансформируются в молекулярную
энергию, представляющую форму нервного тока, который, направляясь по
центростремительным проводникам к мозгу, сам по себе является особым
видом энергии. Эта энергия, достигая известного напряжения в центрах,
при возрастании препятствия к ее движению, сопровождается
субъективными проявлениями, не переставая быть нервным током, в
дальнейшем же, возвращаясь при посредстве центробежных волокон в виде
нервного тока на периферию к мышцам и железам, та же энергия переходит
в молекулярную энергию мышц, с одной стороны, и молекулярную же
энергию желез — с другой.
С этой точки зрения молекулярная энергия лежит в основе
раздражительности, свойственной столь нестойкому соединению, как живая
клеточная протоплазма. Эта-то раздражительность протоплазмы и получает
в высших организмах дальнейшее наиболее яркое выражение в форме
разнообразных ответных реакций на те или иные внешние раздражения.
Вот протоплазма одноклеточного существа. Дается раздражение, в
результате которого получается эффект сокращения. Если раздражение
дается вновь и вновь через короткие промежутки, тот же эффект с течением
времени постепенно ослабевает вследствие истощения и затем может быть
обнаружен вновь после некоторого отдыха. То же самое мы имеем и в
организмах высшего порядка. На чем это основано? Раздражение дает толчок к
разряду запасной энергии, которая накапливается за время отдыха
протоплазмы. Когда эти отдыхи недостаточны, дело сводится при повторных и
частых раздражениях к постепенному более или менее полному истощению
запасной энергии. Но благодаря питанию запасы энергии
восстановляются, причем и внешние раздражения являются источником накопления
энергии, если они не приводят к разряду запасной энергии.
Так как эти же отношения имеют приложение и к деятельности
нервной ткани, то мы имеем основание полагать, что совершенно аналогичные
явления должны происходить и в нашей сетчатке, и в кортиевом органе, и в
нервных приборах нашей кожной поверхности, в биполярных клетках
860
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Шнейдеровой оболочки, в сосочках языка и т. п., а равно и в
соответствующих им центральных областях, связанных с периферией цепью
восходящих проводников и отсылающих от себя центробежные проводники,
причем весь процесс происходит не в одном элементе, а последовательно во
всей цепи связанных друг с другом невронов1.
Сами по себе процессы жизни или, точнее, жизненные реакции
обеспечиваются определенной организацией, обусловливая постоянный обмен
вещества, основанный на восстановлении утрачиваемого вслед за
разложением. Это саморегулирование, сводящееся в конце концов к
постоянному превращению энергии в организме, достигается, с одной стороны,
приемом пищевого материала из окружающей среды, являющейся в конце
концов не чем иным, как химическим продуктом, содержащим скопление
лучистой энергии солнца, с другой стороны, воздействием внешних
энергий на воспринимающие органы, как трансформаторы внешних энергий, —
воздействием, приводящим к разложению и следующему за ним
восстановлению органического вещества, что и приводит к развитию нервного
тока. Но так как последние процессы благодаря питанию при
соответствующих отдыхах в большинстве преобладают над первыми, то этим в конце
концов достигается скопление энергии как в организме вообще, т. е. в его
клеточной протоплазме, так и в частности и даже в особенности в органах
узловой и центральной нервной системы, являющихся наряду с мышцами
более мощными аккумуляторами энергии, нежели всякие другие тканевые
элементы высших организмов.
В пояснение сказанного заметим, что если мы будем сопоставлять
наносимые на поверхность тела раздражения с субъективными явлениями,
наблюдаемыми на себе самом, то мы имеем прежде всего отношение интенсивности
ощущения к интенсивности раздражения, как логарифм к его числу, что
известно под названием закона Weber-Fechner'a. Последний хотя и не
выдерживает строгой критики во всех своих частях, но все же, как общее правило,
дает указания на то, что при увеличении интенсивности раздражения яркость
ощущения возрастает непропорционально меньше, а именно в то время, как
сила раздражения возрастает в геометрической прогрессии, интенсивность
ощущений возрастает в арифметической прогрессии. Это означает, что
косность живого вещества проявляется тем относительно больше, чем больше
возрастает сила раздражения, а следовательно, разности, получающиеся между
цифрами геометрической и арифметической прогрессии, представляют собою
затрату энергии на сопротивление. При этом сила ощущений
обусловливаАвтор отдает себе отчет в том, что не все из неврологов признают невронную
теорию, полагая, что неврофибриллы одних клеток непрерывно переходят в другие,
но для мозга высших животных невроны все же есть факт, пока не опровергнутый
и позднейшими исследованиями.
861
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ется размерами сопротивления, оказываемого действию раздражения в
нервных приборах, в результате чего остается некоторое уменьшение
сопротивления по отношению к возобновлению такого же самого процесса в
будущем. В этом уменьшении сопротивления и подготовке пути для будущих
раздражений такого же рода, в этом развитии «молекулярной установки»
и заключается основа как репродуктивной деятельности, так и
механизации нервного процесса1.
Отсюда явствует, что не одни внешние проявления
сочетательно-рефлекторной деятельности, но и субъективные проявления ее являются
продуктом той же энергии, подчиняющейся, как и все другие виды энергии,
закону сохранения энергии, впервые провозглашенному L. Мауег'ом и
Helmholtz'eM.
При этом мы стоим не на теории взаимодействия, по которой на
известном пункте физический нервный процесс становится субъективным или
псиМы поэтому не можем согласиться с так называемой энергетической теорией
памяти Краинского («Душа и энергия ». Вильно, 1911, стр. 31), по которому часть
энергии внешнего раздражения, по своей силе превышающая согласно закону
WeberFechner'a силу ощущения, иначе говоря, непроизводительно затрачиваемая на
преодоление препятствий в клеточной протоплазме, подобно трению в
механических приборах, должна соответствовать процессу памяти. Эта «остальная часть
энергии внешнего раздражения в момент его действия, по автору, не переживается
субъективно в форме ощущения, а откладывается в потенциальном состоянии,
повидимому, в форме химической энергии динамических соединений, которые
хранятся в аккумуляторах психических центров; аккумуляторы же периодически
разряжаются, и тогда потенциальная энергия памяти снова превращается в
обладающую субъективной формой психическую энергию, и в нашей психике
развертываются вереницы воспоминаний. Запас потенциальной энергии памяти есть
величина конечная и расходуется вместе с разряжением аккумулятора.
Освобождаясь от одних образов, аккумулятор памяти беспрерывно заряжается энергией
новых впечатлений; и таким образам устанавливается постоянное во времени
подвижное равновесие ».
Излагая эту теорию, автор, естественно, сталкивается с тем абсурдным, по его же
собственным словам, положением, что «чем чаще и дольше мы воспроизводим в
своей памяти данный образ, тем скорее мы его забываем, ибо расходуется
лежащая в его основе потенциальная энергия ». Но автор обходит это препятствие тем,
что допускает «определенную емкость для органа памяти», с одной стороны,
и «способность его автоматически разряжаться от избытка хранящихся в нем
впечатлений», с другой стороны. Этот автоматический разряд аккумуляторов он
находит «в волшебном мире грез, который в образах фантазии и сновидений
украшает нашу душу» и которые представляют измененные воспоминания. При этом
разряженная психическая энергия вновь превращается в другие виды энергии»
(1. с. С. 12). Таковы несколько фантастические объяснения автора, даваемые им
для памяти.
862
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
хическим и затем на другом пункте этот же психический процесс снова
целиком замещается физическим нервным процессом. Мы говорим, что имеется
один процесс нервно-психический от начала до конца, но при
незначительности препятствий в периферических приборах процесс не проявляется в
субъективной форме, тогда как в центральных областях вследствие
больших препятствий для движения тока этот же процесс оказывается
«нервнопсихическим» с явным субъективным окрашиванием, которое при обратном
отражении волны тока и прохождении ее по двигательным и секреторным
проводникам вновь сводится на один нервный процесс. Дело идет, таким образом,
не о теории взаимодействия, а о теории полного или неполного проявления
одного и того же нервно-психического процесса, зависящего от большего или
меньшего сопротивления той ткани, в которой он протекает.
Таким образом рефлексология, стоя на энергетической точке зрения,
рассматривает сочетательно-рефлекторную деятельность как последовательную
надстройку унаследованных и приобретенных рефлексов, все более и более
усложняющихся и все более и более разнообразящихся. Самые субъективные
явления, открываемые в нас самих, рассматриваются, таким образом,
следствием той же энергии, как и внешние проявления, но между обоими
явлениями имеются прямые отношения, благодаря чему можно сказать, что чем
меньше препятствий для проявления энергии вовне, тем меньше выражены и
субъективные явления, и наоборот. Это дает объяснение тому факту, почему
не все нервные процессы сопутствуются субъективными явлениями.
Очевидно, что если процессы ионизации, происходящие в соответствующей нервной
среде, благодаря препятствиям, в ней встречаемым, достигают известного
напряжения и тем самым обусловливают обнаружение субъективных явлений,
то этого может не наблюдаться в других условиях и даже в той же нервной
среде при развитии проторенных путей, когда наступает так называемая
механизация нервно-психических процессов и когда мы уже имеем почти
одни физические процессы без сопутствующих им психических явлений.
Подтверждение энергетической теории нельзя не видеть и в том, что,
как показал Fere, всякий вид ощущения, дошедший или не дошедший до
сознания, сопровождается поднятием динамического эквивалента, иначе
говоря, отмечаемым на динамометре увеличением мышечной силы1.
Мы не войдем в критику этой гипотезы, искусственность которой более чем
очевидна. Но как бы то ни было, мы стоим на энергетической же точке зрения и в
объяснении субъективных процессов, которые, с нашей точки зрения, являются
результатом особого напряжения энергии вследствие задержки или торможения
ее в центральных органах нервной системы, ибо путем опытов выяснено, что чем
более задерживается тот или иной сочетательный рефлекс, тем более резким
субъективным состоянием он сопутствуется.
Войтоловский Л.Н. Юбилейный сборник И.А. Сикорского. С. 348.
863
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Отсюда ясно, что и субъективный акт ощущений не есть только одна
всегда «духовная величина» в нашей нервной системе, ибо за ним
скрывается всегда и везде энергия в виде нервного тока, который, достигая
периферии по центробежным проводам, сказывается увеличением мышечной
работы.
Из сказанного видно также, что всякий организм, являясь деятелем,
благодаря запасной энергии, приобретаемой им в некоторой мере уже от
предков, главным же образом путем накопления ее в течение жизни под
влиянием питания и превращения действующих на него внешних энергий,
реагирует так или иначе на все те внешние влияния, которые по своей силе
способны вызывать разряды этой энергии в форме рефлексов того или иного
рода. При этом все наступательные рефлексы под влиянием внешних
раздражений умеренной силы, поддерживающих правильный обмен в
соответствующих органах, сопровождаются стенической внутренней реакцией,
приводящей, в свою очередь, к возобновлению и поддержке наступательных
рефлексов, пока не произойдет достаточная степень утомления от
раздражений, что приводит к астенической общей реакции.
Ясно, что наши центральные органы представляют собою
аккумуляторы энергии, из которых каждый обладает по крайней мере парою
проводников, причем один, являясь приводом, связывает их с
воспринимающими органами и центростремительными волокнами, другой представляет
собою отвод, идущий от них в виде центробежных волокон. Толчок,
данный внешним раздражением, сопровождается процессом ионизации в
воспринимающих приборах, который, возбуждая центростремительные
проводники и нарушая равновесие потенциалов в двух находящихся в условиях
контакта невронах, действует возбуждающим образом на головную часть
ближайшего неврона, развивая в нем тот же процесс ионизации. Так дело
доходит до мышц, которые благодаря разряду энергии подвергаются
сокращению. При этом заряд аккумулятора, когда он слабеет,
восстановляется главным образом с помощью питания и газового обмена, благодаря
приносимой к мозгу крови, частью же поддерживается воздействиями с
других поверхностей тела. В этом заключается теория разрядов,
высказанная мною еще в 1896 г. в связи с невронной теорией1.
Субъективные явления, открываемые нами внутри себя путем
самоанализа, или то, что именуется нашими переживаниями, как мы упоминали
выше, суть результат энергии же, лежащей в основе
сочетательно-рефлекторных (нервно-психических) функций организма, как производных его
жизненных процессов. Поэтому нет основания признавать, что
субъективные процессы суть лишние или побочные явления в природе
(эпифеномены), ибо мы знаем, что все лишнее в природе атрофируется и
уничтожаетСм., например: Зиммелъ. Понятие и трагедия культуры. Логос. 1912-1913.
864
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ся, тогда как наш собственный опыт говорит нам, что субъективные
явления достигают наивысшего развития в наиболее сложных процессах
соотносительной деятельности.
Это заставляет нас признать, что субъективное и объективное в
соотносительной деятельности представляется явлениями, тесно связанными
в одном процессе, который и составляет проявление данного вида энергии.
Но ясно, что при обследовании сочетательно-рефлекторной деятельности
стороннего индивида, выявляющей всю полноту проявления его энергии
вовне, закономерность в развитии и проявлениях этой деятельности
может и должна быть выясняема путем объективного анализа.
В физическом мире мы имеем не одно количественное, которое
измеряется более или менее скоростью колебания молекул, атомов или
электронов, но и форму или качество самого колебания, которая в различных
случаях представляется различной.
В психическом мы имеем опять-таки ряд количественных изменений в
смысле разной интенсивности и вместе с тем форму психического, а форма
и обусловливает в этом случае качество субъективных оснований.
Отсюда я не вижу ничего несоизмеримого одного с другим, которое
будто бы вынуждает принимать два замкнутых друг в друге круга явлений
одного, физического, и другого, психического, между которыми
неизвестно каким чудом устанавливается по общему признанию психофизический
параллелизм или еще более чудесное взаимодействие.
Мы признаем, как сказано, физическое и психическое как целостное
явление в одном процессе нервного тока, как энергии, пробегающей через
высшие области нервной системы. При этом по опыту мы знаем, что выявиться в
своем полном виде с участием психического ингредиента это явление как
таковое у человека может только при посредстве активного сосредоточения,
обычно тесно связанного с раздражениями, идущими из соматической сферы.
Если одни рефлексы мы определяем как сознательные, другие как
подсознательные или бессознательные, то это еще не значит, что последние не
сопровождались элементом психического или сознательностью во время их
протекания, они лишь не воспроизводятся, как другие акты, и следовательно не
оказываются подотчетными, к каковым относятся все рефлексы,
происходящие с участием активного сосредоточения.
Когда мы говорим о сочетательно-рефлекторной деятельности, как
основанной на проявлении энергии, дело идет, конечно, не о различии в
словах от прежних воззрений, а о самой сущности вопроса. Дело в том, что
и до сих пор в научной литературе можно встретить серьезные трактаты,
где говорится «о чистом в себе самом» пребывающем «духе» или о чистой
«бесплотной » психике и о противоположении их телу1.
1 См. например: Зиммелъ. Понятие и трагедия культуры. Логос, 1912-1913.
28 Российская психология 865
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава XII
Задачи рефлексологии. Объективное наблюдение и эксперимент
...предметом той научной дисциплины, которую я обозначил в свое
время рефлексологией, является изучение соотносительной
деятельности организма в широком смысле этого слова, понимая под этим все
вообще унаследованные и индивидуально приобретенные реакции
организма, начиная от прирожденных и сложных органических рефлексов и
доходя до наиболее сложных приобретенных рефлексов, известных у
человека под именем действий и поступков, характеризующих его
поведение.
Если иметь в виду сравнительную рефлексологию, то она обнимает
собою соотносительные функции всех вообще живых существ, нас же в
последующем изложении будут интересовать по преимуществу проблемы
рефлексологии человека и притом главным образом в высших
проявлениях его соотносительной деятельности, характеризующейся
сочетательными рефлексами.
Как мы знаем, всякое внешнее воздействие на организм, наряду с
физико-химическими реакциями, способно возбуждать местные рефлексы в
виде простых или обыкновенных рефлексов. Но сверх того, внешние
воздействия возбуждают более общие реакции наследственного характера,
иначе говоря, видовые в форме влечений или так называемых инстинктов,
иначе сложных органических рефлексов, а также и приобретенные или
сочетательные рефлексы, основанные на прошлом опыте. Задачей
рефлексологии как научной дисциплины и является выяснение и исследование
ответных реакций вообще, в особенности же сочетательных рефлексов,
изучение которых должно быть проводимо в связи с текущими и
прошлыми воздействиями, а равно и с наследственными влияниями.
Надо заметить, что обыкновенные рефлексы в животном мире, не
исключая и человека, сравнительно хорошо изучены и изучаются постоянно,
вследствие чего мы не будем останавливаться на этом предмете1. За
последнее время, как мы видели, стали подвергаться объективному
исследованию в разнообразных направлениях и приобретенные реакции в животном
мире. Но, как сказано, главным предметом нашего внимания в
последующем изложении будет служить рефлексология человека, которая имеет
своей задачей наряду с выяснением конституциональных условий
изучение внешних его реакций как наследственного и сложного органического,
так и приобретенного характера, развивающихся под влиянием внешних
Описание наиболее существенных рефлексов этого рода у человека можно найти в
моей книге «Общая диагностика нервной системы» (Ч. I. СПб.: Изд. Риккера).
866
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
или внутренних раздражений в настоящем или прошлом периоде времени.
В этом направлении рефлексология человека может достигать своей цели
следующими путями:
1. Объективным биосоциалъным изучением всех внешних проявлений
личности и установлением соотношения их с внешними же или
внутренними настоящими или прошлыми воздействиями, а также
изучением последовательного развития соотносительной и в
частности сочетательно-рефлекторной деятельности со дня рождения.
2. Исследованием закономерности развития
сочетательно-рефлекторной деятельности при разных условиях путем эксперимента и
наблюдения.
3. Изучением того механизма, при посредстве которого
осуществляется соотношение тех или других сочетательных и иных рефлексов
с внешними и внутренними раздражениями текущего и прошлого
времени, что достигается экспериментом на животных с
разрушением их мозга и патологическими наблюдениями на людях.
4. Изучением онто- и филогенеза соотносительной и, в частности,
сочетательно-рефлекторной деятельности в связи с чисто
генетическим развитием мозговых полушарий.
5. Изучением соотношения между объективными процессами
сочетательно-рефлекторной деятельности и словесным отчетом об
испытываемых человеком при этом переживаниях.
Первая задача исследования представляется трудно осуществимой на
взрослом человеке. Во всяком случае, она осуществляется не иначе, как с
помощью подробно составленной схемы, в которой учтены все возможные
внешние реакции по разным категориям внешних проявлений (речь,
действия, мимика, жесты, органические или инстинктивные проявления) при
одновременном учете внешних раздражителей, их вызвавших. Кроме того,
требуется тщательный подбор материала о личности в прошлом и
настоящем и объективный его анализ. Гораздо легче эта задача осуществима на
новорожденных, если возьмут себе за труд регистрировать по
определенной схеме все внешние проявления младенческого существа строго
объективно и связи с бывшими и настоящими внешними и внутренними на него
воздействиями того или другого рода1.
См.: Бехтерев В. О развитии нервно-психической деятельности в течение первого
полугодия жизни ребенка // Вестник психологии. 1912; Он же. Первоначальная
эволюция детского рисунка // Вестник психологии. 1910; Он же. Объективное
исследование нервно-психической сферы в младенческом возрасте // Вестник
психологии. 1909; Он же. Шесть месяцев первоначального развития ребенка //
Вестник психологии. Сборник по рефлексологии к физиологии нервной системы/ Под
общей ред. В. Бехтерева. 1924.
28*
867
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Вторая задача естественно вытекает уже из анализа вышеуказанного
материала, но она также достигается лабораторным путем при
искусственном воспитании разработанными в настоящее время методами
сочетательных рефлексов, на которых и могут быть изучаемы как развитие этих
рефлексов, так и те или иные сторонние на них влияния строго
объективным путем. Тем не менее и наблюдение над поведением человека и
животных в разных условиях дает немало материала в указанном отношении.
Третья задача достигается главным образом при участии
эксперимента путем исследования сочетательных рефлексов у животных с
разрушением разных отделов нервной системы, а равно и в случаях тех или других
поражений головного мозга и нервной системы вообще у человека1.
Четвертая задача имеет в виду генетическую и сравнительную
рефлексологию.
Пятая задача достигается путем сопоставления объективного
исследования внешних реакций со словесным отчетом о невыявленных или
скрытых рефлексах, изучаемых главным образом на себе самом.
В заключение заметим, что человек есть деятель, механизм которого
вводится в действие внешними или внутренними раздражениями, являясь
результатом прошлой жизни его предков (видового опыта) и результатом
его прошлого индивидуального опыта. Сообразно этому и в зависимости
от этого он развивает реакцию на внешние и внутренние воздействия того
или иного рода в виде разнообразных иногда сложных, иногда более
простых, цепеобразно связанных, рефлексов, вызываемых как внешними, так
и внутренними воздействиями и притом воздействиями не настоящего
только, но и прошлого времени. Для рефлексологии, таким образом, нет ни
объекта, ни субъекта в человеке, а имеется нечто единое — и объект,
и субъект, вместе взятые в форме деятеля, причем для стороннего
наблюдателя доступна научному изучению только внешняя сторона этого
деятеля, характеризующаяся совокупностью разнообразных рефлексов, и
онато и подлежит прежде всего объективному изучению, субъективная же
сторона не подлежит прямому наблюдению и, следовательно, не может
быть непосредственно изучаема, но зато может быть изучаем объективно
данный словесный отчет о внутренних или скрытых рефлексах, который и
должен быть принимаем в соображение, но всегда лишь в сопоставлении с
объективными данными и не иначе, как под их контролем2.
Бехтерев В. О применении сочет, двигат. рефлексов, как объективных приемов
исследования к клинике нервных и душ. болезней.// Обозр. психиатрии. 1910.
Уже во время корректуры труда я ознакомился с работой Calkins'a (Psych, rew. 28.
1921), устанавливающей три направления в Behavior psychology американцев. Ни
одним из этих направлений не обнимается полностью рефлексология, которая,
868
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Глава XIV
Подведение психических процессов под схему рефлексов.
Центры мозговой коры как области сочетательных рефлексов.
Приводные и отводные их отделы. Ориентировочные, наступательные
и защитные рефлексы: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые,
мышечные, осязательные, статические и другие
Физиологической школой И.П. Павлова функции высшей нервной
системы первоначально сводились к анализаторской деятельности по
отношению к внешним раздражениям и к замыкательной деятельности,
устанавливающей связь организма с разложенными или
проанализированными раздражителями внешнего мира. «Деятельность высших отделов
центральной нервной системы устанавливает более подробные и более
утонченные соотношения животного организма с окружающим миром,
иначе говоря, более совершенное уравновешивание системы веществ и сил,
составляющих животный организм с веществом и силами окружающей
природы»1.
Но еще в 1909 г. я указал на закон дифференцирования вообще
сочетательных рефлексов, когда многие из последних физиологической
школой признавались еще «специфическими»2. Тем не менее я признаю
недостаточным определение роли корковых областей как анализаторов. Не в
одном анализе или дифференцировке и замыкательной деятельности
заключаются высшие функции нервной системы, тем более что анализ в той
или иной мере принадлежат и низшим органам нервной системы.
Не может подлежать сомнению, что анализ внешних раздражений
начинается уже в периферических отделах нервной системы и в подкорковых
узлах. Кортиев орган, сетчатка, Шнейдерова оболочка, вкусовые сосочки
и кожные нервные приборы сами по себе уже являются анализаторами
внешних раздражений, ибо достигнутая видовым опытом установка
замыкательной функции низших центров нервной системы в форме
прирожденных или наследственных рефлексов дает реакции на уже разложенные
путем анализа внешние раздражения. Так, обезглавленная лягушка
приспособляет свои рефлекторные движения к раздражаемому месту
кожной поверхности и реагирует неодинаково в зависимости от характера
внешних раздражений.
будучи начата разработкой мною еще до развития Behavior-psychology (начиная с
половины 80-х годов), должна занять поэтому самостоятельное место в научной
мысли.
Павлов И. Настоящая физиология головного мозга// Природа. 1917. Январь.
См.: Бехтерев В. Значение двигательной сферы и пр.//Русск. врач. 1909.
869
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Высшие, т. е. корковые, области нервной системы, таким образом,
являются лишь более совершенным в этом отношении аппаратом, дающим
реакции с более тонким анализом и более подвижного характера.
Но не менее, если не более, характерную особенность деятельности
высших центров я вижу в том процессе, который я называю избирательным
или сочетательным обобщением. Последнее сводится к синтезу или
объединению различных внешних раздражений в смысле ответа на два или
несколько различных раздражений одной и той же реакцией и к
установлению тем самым отношения смежности и последовательности между
внешними раздражениями. Словом, не только анализ, но и синтез
составляют неотъемлемую принадлежность высших функций нервной системы.
Дело в том, что, если даны два различных раздражения и на одно из
них уже имеется определенная ответная реакция, вследствие чего это
раздражение является рефлексогенным, то и на сопутствующие ему — одно,
два или более — иные раздражения нерефлексогенного характера
устанавливается по времени та же реакция, а это уже есть синтез. Этот синтез
приобретает особо важное значение уже потому, что он дает возможность
приспособления к грядущим раздражениям, стоящим в условиях
смежности одного к другому.
Точно так же важна не одна замыкательная роль, но и размыкательная
роль высших центров, ибо, если в одном случае получает значение ответная
реакция на данный внешний раздражитель, то в другом случае не меньшее
значение получает не только временная задержка или торможение
внешней реакции на данное раздражение, возбуждавшее ранее
соответственную реакцию, но и более или менее полная утрата данной реакции.
Итак, дифференцировка или анализ, с одной стороны, и
избирательное обобщение или синтез — с другой, а ранее того возбуждение и
торможение, связанное с замыканием и временным размыканием или даже
полным разобщением бывших связей, — вот в чем заключаются основные
функции корковых областей мозга.
Таким образом анализаторско-синтетическая деятельность корковых
областей носит в себе черты тех временных приспособлений к
окружающей среде, которые развиваются в зависимости от изменяющихся во
времени польз и нужд данного индивида, выросшего в данных условиях, а
следовательно, приспособлений, которые имеют в каждом индивиде особые
черты, стоящие в той или другой связи еще и с унаследованными
наклонностями.
С другой стороны, в процессе возбуждения сочетательных
двигательных рефлексов мы с постоянством встречаемся с тем фактом, что в
периоде первоначального развития рефлекса возбуждение неизбежно
распространяется на всю корковую область раздражаемого воспринимающего
органа и лишь с повторением рефлекса оно все более и более
ограничивает870
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ся ближайшею областью действия раздражения1. Этот процесс
ограничения происходит в мозговой коре с постоянством при условиях воспитания
двигательного или какого-либо иного сочетательного рефлекса в
сопутствии с торможением других частей коры, тогда как торможение
сочетательного рефлекса связывается вновь с распространением возбуждения
по территории мозговой коры.
Необходимо иметь в виду, что нет, в сущности, ни одного высшего
мозгового процесса, который с внешней стороны не подводился бы под
схему рефлекса. Эта схема дает возможность охватить собой все процессы
сочетательно-рефлекторной деятельности, потому что нервные процессы,
начавшись на периферии теми или иными раздражениями, после
соответствующей дифференцировки и установления связей и обобщений в конце
концов разрешаются на периферии же мышечным движением,
сердечнососудистым эффектом или секрецией.
В то время, как человек занят письменной работой и его спрашивают
об одном знакомом человеке, он пишет фамилию этого человека, не
идущую ни в какое соотношение с текстом письма. Здесь до наглядности ясно,
что описка является несомненным рефлексом, который возник под
влиянием уловленного слухом звукового раздражения, на котором пишущий
человек сосредоточился на мгновение. То же случается и при оговорках,
когда оратор вставляет в текст своей речи совершенно не идущее к делу
название только потому, что оно к моменту произношения оказалось в поле
его сосредоточения. И в том, и в другом случае дело идет о рефлексе
сочетательного характера, ибо в речи как устной, так и письменной часть слов
несомненно связывается с актом сосредоточения, другая же часть их
развивается путем привычной связи одного слова с другим, что подтверждают
и сделанные в моей лаборатории опыты2.
Даже такие общие состояния, как гипноз, вызываемый путем
внушения, а равно и самое внушение должны быть подведены под ту же схему
сочетательных рефлексов3.
Что касается сна, то его, без сомнения, нельзя свести на
самовнушение, как хотели некоторые гипнологи, но все же в наступлении сна,
представляющего, как мы знаем, биологически выработавшийся
оборонительный рефлекс против накопляющихся продуктов утомления или
гипнотоксинов, подавляющих представленную в лобных долях активную
сторону личности, не без значения оказываются такие моменты, как
однообразные, многократно повторяемые раздражения и даже привычка
См. дисс. из моей лаборатории д-ра Протопопова, Шевелева, Израелъсона и др.
См.: Бехтерев В. О причинах обмолвок речи// Голос и речь. № 9. 1913. СПб.
Объективная психология. Вып. 3. СПб.
См. W. Bechtereff, La Suggestion et son role dans la vie sociale. Paris.
871
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
отходить ко сну в определенные часы и сосредоточение на предстоящем
сне. Таким образом в отношении процесса засыпания бесспорно
оказывают известное влияние, с одной стороны, развитие процессов торможения в
результате постоянного раздражения одного и того же центра
монотонным раздражителем, что приводит последовательно к общему
торможению других корковых центров, а с другой стороны, не без значения
оказывается и влияние установившихся путем упражнения сочетательных
рефлексов, возникших в результате жизненных условий.
Дело в том, что от рождения идет накопление воспитанных
сочетательных рефлексов в самых разнообразных направлениях, причем целый
ряд такого рода рефлексов, связываясь с определенными внутренними
состояниями, возбуждается последними, а с другой стороны, определенные
внешние воздействия, связываясь с определенными внутренними
состояниями, служат их возбудителями.
В числе сочетательных рефлексов особое значение приобретают
словесные и пис ьменные знаки, играющие роль символов.
В сущности, каждое слово, будучи знаком, как побочный
раздражитель, связывается либо с внешним, либо с внутренним раздражением, либо
с тем или другим состоянием, положением или движением собственного
тела по схеме сочетательных рефлексов, в силу чего оно играет роль
внешнего раздражителя, замещающего по установившемуся сочетанию
внешнее воздействие или определенное внутреннее состояние.
Благодаря этому слово получает способность действующего агента,
как всякий побочный раздражитель, возникший при воспитании
сочетательного рефлекса. При этом как недоразвитие личности у детей, так и
подавление личности в патологическом состоянии, например, при истерии
и алкоголизме, а также искусственно вызываемое состояние в виде
гипноза, являющееся особым биологическим состоянием, напоминающим
видоизмененный сон1, поднимают в значительной степени воздействие слов
как раздражителей, чем и объясняется появление в этих случаях
повышенной внушаемости. С этой точки зрения для рефлексологии получают
особый интерес как патологические состояния с подавлением личности, так и
гипнотическое состояние, тем более что они дают возможность глубже
уяснить самый механизм сочетательно-рефлекторной деятельности.
Под схему сочетательных рефлексов должно быть подведено и то, что
известно под названием потребности, ибо потребность есть стремление к
определенной цели, которая, как раздражитель, в прошлом при ее
достижении сопутствовалась общей стенической реакцией. Поэтому потребность
может быть рассматриваема как привычное воспроизведение
раздражителя, определенно связанного с той же стенической реакцией. Само собой
1 См.: Бехтерев В. Гипноз, внушение и психотерапия. Вести. Знания и отд. изд. СПб.
872
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
разумеется, что она является сочетательным рефлексом,
воспроизводимым при соответствующем поводе, благодаря упражнению и привычке.
Первоначальная стадия возникающего под влиянием внешних
воздействий процесса, известного в субъективной психологии под названием
восприятия, осуществляется также не иначе, как в форме чистого рефлекса.
Дело в том, что воздействие внешних раздражений на органы зрения,
слуха, обоняния, вкуса и осязания вынуждает нас смотреть, слушать,
внюхивать, смаковать и ощупывать, а все те движения, которые с этими актами
неотъемлемо связаны, суть не что иное, как сочетательные рефлексы,
которые могут быть названы ориентировочными. Само собой разумеется, что
эти рефлексы основаны на воспроизведении тех сочетаний, которые
установились уже с первых дней жизни ребенка при действии на него света,
звуков, пахучих и вкусовых раздражений и механических влияний,
вследствие чего и корковые центры, выполняющие эти рефлексы, мы должны
рассматривать как области сочетательных рефлексов.
Этот взгляд на функцию мозговой коры мною был развит более
подробно в другом месте1. Замечу здесь, что прежнее представление о
разделении мозговой коры на ряд чувственных и двигательных центров, а также
ассоциационных или психических центров должно вместе с этим уступить
место другому взгляду, iio которому нет вообще ни чувственных, ни
двигательных, ни специально «психических» центров, а имеются в коре лишь
области сочетательных рефлексов того или иного рода, например
зрительно-двигательных в затылочной доле, слухо-двигательных в височной доле,
кожно-мышечно-двигательных в центральных и соседних с ними лобных
извилинах, вкусо-двигательных в нижнем отделе центральных извилин,
обонятельно-двигательных в обонятельной луковице и в крючковидной
извилине, задних статико-двигательных в височной и частью затылочной
доле, передних статико-двигательных в предлобных областях и
органическо-двигательных в передней части полушарий вообще или в
лобноцентральных областях. При этом не одни двигательные сочетательные
рефлексы выполняются при участии коры, но частью также и сочетательные
сосудо-двигательные и секреторные рефлексы. В частности, обширная
сочетательная область центральных и соседних с ними заднелобных
извилин, которую мы обозначаем покровномышечно-двигательной областью,
имеет отношение к установлению с помощью сочетательных рефлексов
определенных соотношений между внешними воздействиями,
воспринимаемыми при участии специальных нервных приборов внешних покровов, с
одной стороны, и с другой — мышечными воздействиями и деятельностью
внутренних органов, как, например, дыхательные органы,
сердечно-сосуСм.: Бехтерев В. Об основах функциональной деятельности мозговой коры и пр. //
Русск. врач. 1913. № 33.
873
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
дистая система, селезенка, пищеварительный тракт, мочеполовая система,
внутренние и внешние железы и пр.
Каждая из вышеназванных областей содержит в себе приводные
отделы, принимающие в себя центростремительные проводники, и отводные
отделы, посылающие от себя центробежные проводники. Первые
невозбудимы к току, причем их разрушение приводит к утрате внешнего
воздействия при посредстве соответствующего воспринимающего органа, тогда
как вторые, будучи возбудимы при посредстве тока, вызывают под
влиянием тока движения, сосудистый эффект или секрецию в соответствующих
органах, причем их разрушение нарушает самый результат внешнего
воздействия в том смысле, что устраняет местные ориентировочные
рефлексы, не устраняя в то же время более общих и отдаленных
рефлексов, обусловливающих, например, передвижение под руководством
воспринимающего органа (так называемая душевная слепота и глухота).
Так дело обстоит со зрительно-двигательной, слухо-двигательной и
покровно-мышечно-двигательной сочетательными областями и, очевидно, так
же дело должно обстоять и с другими сочетательными областями1.
Что касается до принимаемых авторами «ассоциационных» или
собственно «психических» центров, то на основании своих исследований я
имею основание полагать, что так называемый задний ассоциационный центр
P. Flechsig'a, имея соотношение со зрительно-двигательной,
слухо-двигательной областью, выполняет отчасти сердечно-сосудодвигательную,
отчасти секреторную функцию, например слюно- и
желудочно-сокоотделительную функцию, чем восполняются отводящие функции вышеуказанных
сочетательных областей. Передний же ассоциационный центр P. Flechsig'a,
принимая в себя волокна передней ножки мозжечка и волокна от
переднего ядра зрительного бугра и содержа в себе статико-двигательную область
и область движения глаз и головы, служит как для выполнения активного
сосредоточения, так и для направления двигательных рефлексов в связи с
раздражениями, исходящими из соматической сферы.
Как известно, субъективная психология основывает процесс
воспроизведения на так называемых ассоциациях или связях одного
представления с другим, — то более прочных, то менее прочных. Между тем опыты,
производимые в лаборатории над развитием искусственных
сочетательных рефлексов, выдвигают другую точку зрения, по которой дело
сводится или к растормаживанию сочетательных рефлексов, временно угасших в
связи с внешними раздражителями того или иного рода, или к процессу
См.: Бехтерев В. La localisation des psycho-reflexes dans Гесогсе cerebrale. Scientia.
Vol. XX. Dec. 1916; On же. Докл. в конф. Института по изучению мозга. 1921. Он
же. Vom Wegen der Associationsreflexe im Zentralnervensystem etc. Zeitschr. f. d.
Neun u. Psych. Bd. LXXXVIU. H. 1-3.
874
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
сосредоточения, которое, как доминанта, тормозя другие области коры,
привлекает к себе возбуждения, оживляемые на основании
установившейся ранее связи. В этом случае дело идет о том физиологическом процессе,
когда более возбуждаемая область обладает вместе с тем и большим
притяжением к себе нервной энергии, тормозя другие области.
Таким образом, в том, что мы знаем из данных рефлексологии, дело
идет при воспроизведении не об ассоциации на самом деле, а о
растормаживании или притяжении к более возбужденной корковой области
возбуждения из других корковых областей. В возбужденной области
происходит трата энергии, благодаря чему происходит как бы нарушение
потенциала между соседними невозбужденными или менее
возбужденными областями и более возбужденными, причем к последним притекают
возбуждения из функционально связанных с ними областей.
Допустим, что человек услышал слово «горчица ». Вместе с тем, как это
слово проявляется в форме определенного возбуждения в
воспринимающей слуховой области, расположенной в словесном центре верхней
височной извилины левого полушария, тотчас же направляется к ней нервный ток
из вкусовой и зрительной областей мозга и, усилив возбуждение первой
области, переводит его в соответствующее действие при посредстве с ней
связанной отводящей или двигательной речевой области Вгоса,
помещающейся в заднем отделе 3-й лобной извилины того же полушария.
При этом всякое новое возбуждение уже пробивается на прежнюю
однажды пройденную дорогу благодаря образовавшемуся пути меньшего
сопротивления.
В заключение заметим, что наиболее сложные процессы
соотносительной деятельности в форме сочетательных рефлексов осуществляются при
участии мозговой коры, где преимущественно развивается и субъективная
сторона всего процесса. Менее сложные процессы этой деятельности в виде
простых рефлексов выполняются при посредстве как вегетативной, так и
центральной подкорковой нервной системы с ее периферическими
приводами и отводами, с участием или без участия коры, а в организмах низшей
природы более упрощенная соотносительная деятельность выполняется
при участии лишь вегетативной нервной системы или даже одной
протоплазмы, являясь результатом ее раздражительности.
Мы закончим настоящую главу выдержкой из труда Меймана,
который при изложении экспериментальной педагогики не мог обойти этого
вопроса молчанием. «Что касается нашей воспринимающей деятельности
при получении ощущений, — говорит автор, — то общая психология
подчеркивает тот факт, что все наши органы ощущений снабжены также
двигательными аппаратами и что каждый орган ощущений дает наибольшие
результаты в смысле познания внешнего мира лишь тогда, когда его
восприятия комбинируются с движениями. Вполне неподвижный глаз давал
875
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
бы нам гораздо менее совершенное представление о пространственном
мире, чем глаз движущийся; неподвижная кожа нашего туловища дает нам
меньше восприятий и притом восприятий менее точных, чем движущийся
орган осязания; ухо делает локализацию звуков более тонкой при помощи
движений головы по направлению к источнику звука и в обратном
направлении.
Таким образом в отношении трех главных видов ощущений мы можем
говорить о трех главныхчувственно-двигательных путях нашего познания
посредством воспринимающих органов. Это пути:
осязательно-двигательный, слухо-двигательный и зрительно-двигательный»1.
Глава XLVII
Значение при восприятии торможения сочетательных процессов.
Соответствие порогов сочетательных рефлексов с порогами ощущения.
Противоположение между сознательными явлениями и внешними
проявлениями сочетательно-рефлекторной деятельности. Опытные данные,
говорящие в пользу этого положения
Когда мы говорим о восприятии как субъективном процессе, то
необходимо иметь в виду не только особое напряжение деятельности мозговых
центров, какое мы наблюдаем, например, при сосредоточении как
доминантном процессе, но одновременно и процессы торможения других
сочетательных рефлексов. Мы знаем, с другой стороны, что всякая задержка
или торможение сочетательных рефлексов в их внешних проявлениях
сопровождается усилением субъективного состояния2, тогда как
беспрепятственное разрешение сочетательных рефлексов приводит к ослаблению и
даже устранению сознательных resp. субъективных явлений.
А если это так, то мы можем сделать следующее предположение: мы
имеем ряд раздражений, действующих на нашу кожную поверхность, на
наши глаза, уши и другие воспринимающие органы и возбуждающих
соответствующие субъективные состояния, т. е. ощущения и представления,
в то время как благодаря торможению при этом не осуществляются в
полной мере двигательные и иные сочетательные рефлексы. Таким образом,
есть полное основание допустить, о чем речь уже была выше, что мы имеем
здесь дело с заторможенными сочетательными рефлексами, которые
первоначально выявлялись, как обыкновенно, в виде двигательных
сочетательМейман. Лекции по экспериментальной педагогике. Ч. I. С. 191.
Яркие субъективные переживания во время гипноза под влиянием внушений
(в виде, например, внушенных галлюцинаций) и обыкновенного сна (в виде
сновидений) равным образом связаны с задержкой движения.
876
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ных рефлексов, а затем подверглись торможению в своем внешнем
выявлении. Дело в том, что в течение жизни многие из сочетательных
рефлексов, первоначально возбуждавшихся, с течением времени тормозятся
почти совершенно. И действительно, если мы обратимся к наблюдению за
новорожденным младенцем, то мы поразимся той массой движений,
которую он производит ежеминутно, причем каждое внешнее раздражение
вызывает у него ряд разнообразных движений.
Так, уже простое раздражение умеренным светом вызывает у
младенца сильное щурение век и ряд гримас на лице, а также движение головы и
других членов. Очевидно, это суть рефлексы, которые со временем
задерживаются благодаря развитию процесса сосредоточения и усилению
тормозящих влияний в отношении сокращающихся мышц.
То же самое имеет значение и по отношению к остальным внешним
раздражениям, возбуждающим в младенческом возрасте многочисленный
ряд разнообразных рефлекторных движений, впоследствии подавляемых.
Все это, однако, при условии, если младенец не занят сосанием груди, как
таким актом, который в жизни младенца является настоящей доминантой
и который противодействует выявлению других рефлексов путем их
подавления.
Приблизительно с половины второго до половины третьего месяца
становится возможным зрительное и слуховое сосредоточение,
представляющее ту же доминанту, при которой все сторонние рефлексы
подавляются. Это подавление рефлекторных движений должно содействовать
большей яркости и отчетливости субъективных состояний. Ясно, таким
образом, что и у взрослых раздражения воспринимающих органов,
вызывающие соответствующие ощущения и представления, обусловлены
усиленным возбуждением приведенных в деятельное состояние корковых центров
в сопутствии с торможением других рефлексов, что мы наблюдаем при
сосредоточении.
Что это именно так и есть в действительности, доказывает тот факт,
что всякое болезненное повышение рефлекторной возбудимости тотчас же
сопровождается развитием рефлексов при самом обыкновенном
раздражении воспринимающих органов, обычно не возбуждающих рефлексов.
Это повышение рефлекторной возбудимости дает одинаковый результат и
в том случае, если оно вызывается искусственно с помощью, например,
стрихнинного отравления. При этом дело идет ничуть не об усилении
самих ощущений. По крайней мере в этих случаях нет особых жалоб на
гиперэстезию и резкие ощущения.
Факты иного рода показывают, с другой стороны, что разрешение
движением ослабляет интенсивность ощущения. Всякий знает, что при ушибе,
например, пальцев руки мы производим ими многократное встряхивание
по воздуху, чем испытываемая боль несомненно облегчается.
877
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Все вышесказанное заставляет нас признать, что наши субъективные
состояния в форме ощущений и представлений обусловлены
установленным путем жизненного опыта концентрированным возбуждением
определенного центра и затормаживанием других сочетательных рефлексов.
Таким образом, мы видим, что даже выяснение процессов, связанных
с субъективным восприятием, невозможно без концентрированного
возбуждения соответственных корковых центров и заторможения
сочетательных рефлекторных процессов по отношению к другим раздражениям.
Иначе говоря, субъективные процессы восприятия могут получить правильное
объяснение только с точки зрения сочетательных рефлексов, вызываемых
внешними воздействиями на воспринимающие органы. Выше была речь о
том, что с точки зрения рефлексологии в сочетательно-рефлекторных
процессах, сопровождающихся обменом энергии, и объективная, и
субъективная сторона находятся в известном взаимоотношении друг с другом.
Чтобы выяснить это взаимоотношение, остановимся на тех данных,
которые относятся к так называемым порогам ощущения. Как известно,
субъективная психология на основании опытов с внешними раздражениями
установила минимальный порог как меру ощущения. Опытами моей
лаборатории доказано, что и для сочетательного рефлекса можно установить
минимальный порог. Достаточно для этого воспитать сочетательный рефлекс
на то или другое раздражение органа. После того как такой сочетательный
рефлекс воспитался, можно понижать силу сочетаемого раздражения, не
устраняя и даже не ослабляя тем самым рефлекса. Однако это понижение
можно производить лишь до определенного минимума, за которым
дальнейшее понижение уже не будет сопровождаться вызыванием
сочетательного рефлекса.
Тот минимальный предел, при котором сочетательный рефлекс еще
может быть вызван, мы называем минимальным или низшим порогом
сочетательного рефлекса. При этом испытание этого низшего порога
сочетательного рефлекса на себе самом показывает, что он приблизительно
соответствует минимальному порогу в ощущении.
В случаях электрокожного раздражения мы встретились, однако, с тем
фактом, что объективная дифференцировка сочетательного рефлекса
оказывалась даже тоньше субъективной и минимальное раздражение,
вызывавшее сочетательный рефлекс, оказывалось еще неощутимым (Кроткова
и Чегодаева).
Далее, выяснилось на основании произведенных в моей лаборатории
исследований, что дифференцировка сочетательного рефлекса на
световые раздражения разной интенсивности может быть доведена до предела,
соответствующего разностному порогу в ощущении (д-р Молотков).
Наконец, и топографическое дифференцирование сочетательного рефлекса
на кожные раздражения прикосновением постепенно может быть
доведе878
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
но до границ, соответствующих так называемым осязательным кругам
Weber'a (д-р Израельсон). Этим путем, как и другими приемами
вызывания сочетательных рефлексов, можно пользоваться, между прочим, для
выяснения вопросов симуляции и аггравации существующих кожных
анэстезий и расстройств в деятельности воспринимающих органов вообще,
о чем я подробно говорю в особой работе1. Наконец, то, что мы обозначали
выше сосредоточением и что в физиологическом смысле следует понимать,
как доминанту, в субъективном проявлении характеризуется процессом
внимания. Доминанта же является выражением физиологического
напряжения определенного центра при угнетении других центров —
напряжения, привлекающего совозбуждения из соседних областей и
следовательно направляющего известным образом течение мозговых процессов, а это
объясняет нам детерминирующие тенденции в субъективной психологии,
о которых говорит нам Вюрцбургская школа. Отсюда ясно, что
рефлексология отнюдь не солидаризируется с ассоциационной психологией, как
ошибочно полагают некоторые психологи.
В вышеуказанных случаях дело идет, очевидно, о большем или
меньшем соответствии объективных явлений в виде сочетательных рефлексов с
субъективными данными, выясняющимися путем самонаблюдения.
Однако везде ли есть основание говорить о таком же
взаимоотношении между объективными и субъективными явлениями? Оказывается, что
это взаимоотношение в определенных условиях
сочетательно-рефлекторной деятельности представляется несколько иным и требует разъяснения.
На том же самом основании, на каком наши ощущения могут быть
рассматриваемы как явления, составляющие результат
концентрированного возбуждения корковой области при заторможении рефлексов,
точно так же и все другие субъективные состояния мы можем
рассматривать, как результат концентрированного возбуждения
соответствующих областей при заторможении двигательных и иных сочетательных
рефлексов. В самом деле, мы уже раньше видели, что все
сочетательнорефлекторные процессы, быстро разрешающиеся движением, не
сопровождаются сознательными или по крайней мере яркими внутренними
состояниями. Наоборот, сопровождаемые задержкой движения,
процессы возбуждения обязательно сопровождаются яркими
сознательными resp. субъективными состояниями. Это именно тот случай, когда
производится напряженная умственная деятельность или
осуществляется какая-либо трудная, но выполнимая механическая работа. Всякий
знает, что если какая-либо работа выполняется с вниманием,
следоваБехтеревВ. Применение метода сочетательно-двигательного рефлекса к
исследованию притворства// Русск. врач. 1912. № 14. Метод такого исследования
симуляций получил на Дрезденской физиологической выставке высшую награду.
879
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
тельно, сознательно, она идет с большим трудом и сравнительно
медленно, тогда как та же работа, выполняемая без внимания,
следовательно, автоматически, идет и более легко, и более быстро.
Очевидно, что в этих случаях имеется несоответствие между
сознательным, или субъективным, процессом и объективным процессом. Чем
сознательнее деятельность, тем больше тормозится выявление работы,
и наоборот. Но работа есть рефлекс. Отсюда ясно, что заторможение
рефлексов при возбуждении центра сопровождается повышенной
сознательностью и обратно.
Следовательно, в сочетательно-рефлекторной деятельности мы
имеем дело с таким процессом, при котором внешние проявления,
обусловленные движением нервного тока, могут приобретать перевес над
внутренними или сознательными явлениями, и наоборот, в других случаях
внутренние или сознательные явления получают перевес в своей
интенсивности над внешними проявлениями того или иного рода.
Отсюда следует, что мы имеем здесь дело с одним и тем же явлением в
форме движения энергии, причем в одном случае выступает больше
внешний процесс за счет яркости внутреннего resp. сознательного, или
«психического», в другом случае внутренний, или «психический», процесс за
счет выявления и скорости внешнего двигательного процесса.
Таким образом, торможение внешних двигательных проявлений
наряду с возбуждением центра должно приводить к усилению его
сознательности и наоборот.
Это уже само по себе говорит в пользу того, что те или другие
субъективные состояния, и в том числе умственные процессы, не
сопровождающиеся непосредственными внешними разрядами в форме движений, суть
состояния, представляющие собою возбуждение корковых центров с
невыявленными наружу двигательными (речевыми и другими) рефлексами,
о чем речь была выше.
В самом деле, мы знаем, что всякое вообще представление, всякая
мысль, а тем более воображение, кажущиеся явлениями исключительно
субъективными, на самом деле всегда сопутствуются слабыми
двигательными, сосудодвигательными и секреторными эффектами, которые
нетрудно уловить с помощью соответствующих приборов. Даже искусный чтец
мыслей, как известно, легко улавливает вышеуказанные движения и по ним
определяет характер задуманного, несмотря на то, что они обычно не
замечаются самим мыслящим лицом1. Очевидно, что эти движения в данном
случае представляют собою задержанные и, следовательно, доведенные
до минимума внешние проявления сочетательно-рефлекторной
деятельности.
См.: Тарханов. Чтение мыслей и пр. СПб.
880
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Таким образом, мы приходим к выводу, что не только наши ощущения, но
и представления и мысли основаны на возбуждении центральных органов при
заторможении двигательной части сочетательных рефлексов, которые
проявятся наружу более явно лишь тогда, когда представление или мысль
перейдет в действие.
Доказательство того, что субъективные переживания связаны с
торможением двигательных и иных нервных импульсов, тогда как разрешение
движением приводит к ослаблению сознательности, можно видеть и из того, что,
например, в течение мимико-соматических рефлексов resp. эмоциональных
состояний при более бурном проявлении двигательных эффектов сознание
ослабевает. Наоборот, последнее усиливается при более покойном состоянии
того же самого лица.
С другой стороны, ряд несомненных фактов указывает, что внешнее
разрешение напряженного внутреннего состояния ослабляет его интенсивность.
Горе, как известно, облегчается слезами. Исповедь облегчает гнетущее
душевное состояние. Сознание тяжести проступка облегчается самобичеванием
и раскаянием. Боль, как мы знаем, облегчается движениями и т. п.
Все это говорит за то, что развитие сознания связано с развитием
процессов возбуждения при торможении внешних движений, обилие же и
интенсивность движений, очевидно, связаны с меньшей сознательностью, которая
постепенно нарастает вместе с развитием и с усилением процессов торможения.
При опытах над сочетательными рефлексами по принятому в моей
лаборатории способу (см. выше) неоднократно мы встречались со случаями, когда при
первоначальном развитии сочетательного рефлекса на вопрос, почему отдергивались
пальцы руки или стопа, когда на самом деле никакого раздражения током в них не
производилось, от испытуемого получался ответ, что он тем не менее испытывал
укол, иначе говоря, при этих условиях возникал в форме галлюцинации
субъективный процесс, который при дальнейших опытах вместе с механизацией
двигательного сочетательного рефлекса уже исчезал.
В последнее время это явление противоположения субъективной
стороны и объективного проявления сочетательно-рефлекторной деятельности
выявилось и в исследованиях К.Н. Корнилова1. Автору удалось построить
особый аппарат—динамоскоп, который вводится в цепь хроноскопа Нурр'а,
благодаря чему при исследовании так называемых реакций можно получить
троякую характеристику получаемого эффекта — временную на хроноскопе,
динамическую и двигательную на динамоскопе, причем последняя состоит в
регистрации формы движения, совершаемого рукой при реакции.
Произведено четыре серии опытов, причем выяснилось следующее:
при реакции, произведенной при естественном, непринужденном
состояКорниловК. Метод применения физической энергии к исследованию психических
процессов. Моск. общ. эксп. психологии. 19 марта 1914 г. // Вестник психологии. IV-V. 1914.
881
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
нии, обнаруживается крайне резкое индивидуальное различие между
разными лицами в отношении затраты энергии. Так, один затрачивает менее
одной силовой единицы, другие же затрачивают при одинаковых условиях
22 500 силовых единиц. Это являлось показателем пассивности или
активности натур.
Точно так же различные лица неодинаково реагируют как в смысле
быстроты, так и силы, иначе говоря, реакция может быть слабой и медленной,
слабой и быстрой, сильной и медленной, сильной и быстрой. При так называемой
мышечной реакции, где «мыслительный» акт сведен к maximu'My,
оказывается, что внешнее проявление энергии достигает maximum'a при наиболее
краткой реакции, но, как только вводится осложнение в опыт в виде, например,
«сенсорной » реакции или реакции различения, как тотчас при замедлении
реакции начинает утрачиваться известная часть энергии во внешнем проявлении
реакции.
Отсюда ясно, что напряжение мыслительной деятельности, как она
обнаруживается в судебных процессах, и внешнее выявление энергии суть
величины обратно пропорциональные. При большем напряжении мысли становится
менее интенсивным внешнее проявление сочетательно-рефлекторной
деятельности, и наоборот.
Даже качество мыслительного процесса отражается на количестве траты
энергии в движениях. Допустим, что при элементарном мыслительном
процессе внешнее выявление энергии равно 3600 силовым единицам. Стоит нам
только усложнить мыслительный процесс — и энергия упадет до 2304 единиц,
т. е. потеря обозначится в 1296 силовых единиц, а при дальнейшем
усложнении мыслительного процесса энергия вновь упадет до 650 единиц.
При этом можно отметить еще один интересный факт. При исчислении не
абсолютного, а относительного уменьшения энергии при различных
мыслительных процессах оказывается, что, несмотря на различие абсолютного
запаса энергии, теряется всегда одно и то же относительное количество энергии.
Так, если один при определенном мыслительном процессе затрачивает 78 400
силовых единиц, а другой — 4100, то при одинаковом усложнении
мыслительного процесса относительное уменьшение энергии окажется в обоих случаях
одним и тем же. Однако следует оговорить, что последний факт еще не
проверен окончательно. Предыдущие же выводы стоят в очевидном согласии с
повседневным наблюдением. Так, известно, что напряжение мысли
приостанавливает все наши движения. Глубоко сосредоточившийся на чем-либо человек
остается без движения. Человек в пути вместе с напряжением мысли
замедляет шаг и т. п. Таким образом, при мыслительном процессе
концентрированное возбуждение той или иной области коры, сопровождаясь мышечным
напряжением в соответствующих воспринимающих органах, протекает при более
или менее полной задержке общих движений. Эти явления, следовательно,
получают свое объяснение уже в процессе образования доминант.
882
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ
ОБЩЕСТВА РЕФЛЕКСОЛОГИИ, НЕВРОЛОГИИ,
ГИПНОЛОГИИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
о дискуссии «рефлексология или психология»1
В результате проведенной внутри Института
мозга и Общества неврологии, рефлексологии,
гипнологии и биофизики дискуссии, в которой
непосредственно участвовали все активные
сотрудники указанных учреждений, Секция
констатирует нижеследующие выводы:
I. Проведенная дискуссия имела огромное
значение в том смысле, что она
способствовала выявлению тесного сотрудничества
между различными отделами
рефлексологического знания, поставила и обсудила ряд
новых проблем рефлексологии, подвергла
критическому обсуждению пройденные
этапы как теоретической, так и эмпирической части рефлексологии,
широко и глубоко поставила задачи по выработке стройной
диалектической методологии рефлексологии, а также наметила пути
дальнейшего развития рефлексологии.
И. Выявились необходимость и возможности приступить к
систематической разработке марксистской методологии в изучении
соотносительной деятельности человека и на основе ее усовершенствования и
развития методик всестороннего эмпирического исследования
общественного человека.
III. Нельзя не признать прочно обоснованным, что рефлексология
является самостоятельной наукой, не сводимой к морфологии и
физиологии нервной системы (как это представляется ее противникам),
изучающей всю соотносительную деятельность человека как
развивающуюся систему активного его отношения к окружающему миру.
IV. Дискуссия еще раз подтвердила необходимость разработки
исторического метода в изучении соотносительной деятельности,
опираю1 Дискуссия проходила с 4 мая по 10 июня 1929 г. Материалы опубликованы в
издании Рефлексология или псхология/ Материалы дискуссии, проведенной
методологичесой секцией Общества рефлексологии, неврологии, гипнотизма и
биофизики с 4 мая по 10 июня 1929 г. Л., 1929.
883
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
щегося в зоорефлексологии на биологию, а в рефлексологии
человека — на социологию. Ибо только изучение поведения в его развитии
даст обоснованное, конкретное знание.
V. Признавая, что рефлексология человека до настоящего времени
недостаточно учитывала роль социального фактора в поведении
человека, вследствие чего наблюдалась у ряда отдельных исследователей
тенденция к биофизиологизации, — считать необходимым
систематическое и углубленное изучение социальной природы человека, исходя
из исторического материализма, как метода рефлексологии человека.
VI. Подробное обсуждение взаимоотношения рефлексологии со
смежными науками показало, что только она может дать
объективную, обоснованную систему поведения. Старая субъективная
психология таковой системы дать не может в силу идеалистического
понимания ею своего предмета и метода, а современная, т. н. объективная
психология или приходит к рефлексологии, или остается на
эклектической позиции.
VII. Тем не менее конкретный материал, приобретенный ранее и
добываемый в настоящее время различными направлениями в изучении
личности, может иметь известную научную ценность. Поэтому считать
необходимым в плановой работе методологической секции
подвергнуть систематическому и критическому анализу весь ими
собранный материал и их проблематику, дав им объективную,
рефлексологическую интерпретацию.
VIII. Хотя дискуссия преимущественно была направлена на
выяснение предмета и метода рефлексологии, тем не менее большое
внимание докладчиков и прений было обращено на проблему сознания.
Принимая во внимание сложность этой проблемы и тот факт, что она не
была центральным объектом дискуссии, — считать необходимым
поставить этот вопрос предметом специального обсуждения
методологической секции в ближайшем академическом году.
IX. Методологическая секция глубоко убеждена в том, что
непрерывно и быстро развивающиеся разносторонние исследования
рефлексологии животных и человека при тесном сотрудничестве всех
работающих в этой области исследователей даст возможность окончательно
преодолеть механистическую односторонность и из имманентного
развития рефлексологии разработать диалектическую методологию
познания общественного человека.
884
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
М.Я. БАСОВ:
СТРУКТУРНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Басов Михаил Яковлевич (1892-1931) —
психолог, представитель петербургской научной
школы, ученик и последователь А.Ф. Лазурского.
Научно-педагогическая деятельность М.Я. Басова
протекала в Ленинграде, сначала — в Институте
мозга и психической деятельности Бехтерева, а с
1925г. — в созданном в этом же году
Государственном педагогическом институте им. А.И.
Герцена, где М.Я. Басов был заведующим
педологическим отделением.
Разработал метод психологических
наблюдений за детьми. В «Общих основах педологии»
изложил свою психологическую концепцию, вопросы предмета, методов
психологии; дал анализ психических процессов восприятия и мышления, описал
игру как один из типов деятельности. Выступил с новым пониманием
предмета психологии, которым считал активную деятельность человека как
общественного существа в социальной среде. Ввел понятие деятельности
и человека как деятеля. Впервые начал разрабатывать представления о
структуре деятельности, которую описывал, однако в понятиях старой
традиционной психологии.
В антологию включен отрывок из главного психологического труда
М.Я. Басова «Общие основы педологии » (1928), в котором дается первое в
научной психологии представление о структуре деятельности.
ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ФОРМЫ1
Наиболее простым случаем взаимоотношений организма со средой с
психологической точки зрения будет такой, когда процесс поведения
образуется из отдельных и разрозненных актов, ничем не связанных по
содержанию и лишь соприкасающихся друг с другом во времени, чем только
и обусловливается видимая непрерывность процесса. Структура процесса
здесь сводится к тому, что стимул (большей частью элементарный) влечет
за собой реакцию (обычно тоже элементарную), которая исчерпывает
БасовМ.Я. Избр. псих, пр-ия. М.: Педагогика, 1975. С. 322-333.
885
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
бой данный стимул сполна, не вызывая сама по себе дальнейшего
развития процесса, но последний все же не останавливается, а направляется на
новый стимул, не имеющий с предыдущим ничего общего и вызывающий
новую реакцию. Таким образом процесс может развиваться
неопределенно долго, пока не приостановится вовсе или не войдет в русло других
взаимоотношений между его элементами, а следовательно, и другой
структурной формы. Данную форму мы назвали простой временной
цепью актов. Если пожелать изобразить ее в виде графической схемы, то
наиболее подходящим изображением будет, по-видимому, то, какое дано
на рисунке 1, где каждая окружность символизирует отдельный
замкнутый акт.
оооооооооо
Рис. 1. Схема простой временной цепи актов
Простую временную цепь актов можно наблюдать не только в
поведении ребенка, элементарный характер взаимоотношений которого с
окружающей средой, конечно, ей благоприятствует, но и в особых случаях в
поведении взрослого человека. Вся активность последнего организована,
разумеется, иначе и характеризуется более сложной структурой, но все
же и здесь возможны такие случаи, когда сама окружающая среда
направляет на человека последовательно один за другим ряд стимулов, из
которых каждый, не будучи связан ни с предыдущим, ни с последующим,
требует для себя отдельной реакции; в таких случаях весь процесс и
представляет простую временную цепь актов. Можно представить себе,
например, такое положение, когда человек вынужден непрерывно
отвечать на ряд вопросов, не объединенных никакой общей темой, или в других
случаях это могут быть отдельные действия иной формы, например
какиелибо движения и т. п. Равным образом не только внешние стимулы, но и
внутренние, органические или прошлого опыта могут включаться в
образования данного рода. У взрослого человека такая внутренняя
разобщенность между актами создается извне как бы искусственно, тогда как
преобладающий характер его активности основан на внутренней связности
процесса.
Естественное и вместе с тем более широкое приложение данная
структурная форма имеет в активности ребенка на самых ранних
ступенях его развития. Скудость опыта ребенка раннего возраста,
характеризуемая как количественной недостаточностью имеющихся связей со
средой, так и их качественным несовершенством, общая неорганизованность
личности ребенка, тесно связанная с повышенной возбудимостью и
пони886
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
женной устойчивостью организма во взаимоотношениях со средой,
создают благоприятную почву для возникновения процессов указанной
формы. Предоставленный самому себе в своих взаимоотношениях со
средой, ребенок легко отдается естественному потоку стимулов, не приводя
их в связь друг с другом через посредство своего прошлого опыта;
каждый стимул для него пока важен сам по себе, независимо от других
стимулов. Окружающая среда, однако, может иметь здесь, и в
действительности имеет, значение, обратное тому, какое мы отметили выше в
отношении взрослого человека; в поведение последнего она иногда
искусственно и принудительно вносит разобщенность между
элементами, упрощая, таким образом, структуру процесса; в поведение же
ребенка она таким же образом несет организованность, основанную на
внутренней связанности процесса. Так мать или воспитательница удерживает
маленького ребенка во время разговора с ним на одном каком-нибудь
предмете; так она же поддерживает его в русле одной какой-нибудь
деятельности, не давая ему возможности перекинуться на другие стимулы.
Надо сказать, что эта функция воспитывающей среды, заключающаяся в
организации деятельности ребенка, является основной и важнейшей ее
функцией, проводимой с определенной последовательностью в течение
всего развития ребенка: Поэтому не только в силу внутренних тенденций
естественного развития, но и благодаря внешнему содействию
воспитывающей среды деятельность ребенка на самых начальных ступеней
своего развития устремляется к более высоким формам организации, нежели
простая временная цепь актов.
Выше, говоря о структурных элементах, мы обращали внимание на то,
что конкретное значение реакций в разных случаях может быть разным, и
если иногда реакция выражается в каком-нибудь одном элементарном
действии, то в других случаях она составляет сложное действие, образованное
из совокупности элементарных реакций, сменяющих друг друга в
определенной последовательности. Здесь это обстоятельство должно быть
учтено; оно существенным образом осложняет реальную картину процесса,
организованного в форме простой временной цепи актов. Последнюю
отнюдь не следует представлять себе таким образом, как будто все акты этой
цепи были совершенно равновелики друг другу; в действительности они
могут быть весьма различными по своей сложности. Это легко себе
представить, исходя из примера хотя бы простой временной цепи, образуемой в
поведении взрослого человека или ребенка на основе ряда вопросов, не
связанных друг с другом по содержанию. В то время как одни вопросы
(стимулы) могут вызвать ответ (реакция), выраженный в одном слове («Как тебя
зовут?» — «Ваня». — «Сколько тебе лет?» — «Семь».), другие вопросы
могут потребовать сложного ответа, по крайней мере в виде целого
предложения, а может быть, даже и не одного («Что ты сегодня делал?» —
887
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
«Я сначала играл в кубики, а потом рисовал, а потом пошел гулять » и т. д.).
Совершенно очевидно, что то же самое может иметь место и в неречевом
поведении. Во всякой деятельности ребенка наряду с простыми актами типа
рефлекса имеют место акты более сложные. Поэтому мы впали бы в
грубое заблуждение, если бы поведение маленького ребенка как формы
простой временной цепи актов представляли себе действительно в виде такой
цепочки, которая образована из звеньев совершенно одинаковой величины
и формы, как это изображено на нашей графической схеме (рис. 1). В
последней мы хотели отобразить главным образом один момент -
внешневременную связь между актами, отвлекаясь от структурных различий в
самих актах; если бы пожелать отобразить в схеме и эти различия, то
пришлось бы по крайней мере построить цепочку из окружностей разной
величины.
На деятельность маленького ребенка обычно принято смотреть как на
игру. С тех пор как он начинает свободно перемещаться в окружающем
пространстве, мы видим его в состоянии неустанной и непрерывной
деятельности, продолжающейся до исчерпания сил. Внимательно
присмотревшись к этой деятельности, вглядевшись в ее структуру, мы легко
найдем там то, что нас сейчас интересует. Впрочем, отнюдь не следует думать,
что все поведение ребенка этого возраста только и представляет собой
простую временную цепь актов; зачатки других, более сложных форм, о
которых будет речь ниже, имеются также. Однако большое место в этой ранней
активности принадлежит данной форме. От одного стимула ребенок идет
к другому, от другого — к третьему, и этим иногда полна вся его
деятельность. В связи с каждым стимулом может завязываться некоторый
процесс, как бы одна маленькая игра, а вся деятельность в целом, взятая на
протяжении более или менее длительного отрезка, может представиться
как непрерывный ряд отдельных маленьких игр, из которых каждая в
действительности составляет одноактное образование большей или меньшей
сложности.
Когда разбираемая первоначальная структурная форма начинает
перерастать в другие, более сложные, то этот процесс приводит вначале к
тому, что структурность усложняется внутри актов таким образом, как
будто каждый из них развивается в процесс на основе более высокой
структурной формы и превращается в многократное образование. Однако
принцип простой временной связи продолжает оставаться и на этой стадии
развития, будучи только перенесен на отношения между образовавшимися
комплексами. В процессе развития последние становятся все более
сложными, заполняющими все более и более длительные отрезки деятельности
подрастающего человека. В силу этого временная связь между
комплексами постепенно утрачивает свое былое значение. Таков действительный путь
эволюции данной структурной формы.
888
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Простая временная связь между явлениями, основанная на их
сосуществовании, в опыте организма приводит к соединению данных явлений в
одно органическое целое, в единое жизненное образование.
Психологическое учение об ассоциациях и физиологическое учение об условных
рефлексах доказывают этот факт с убедительностью, не оставляющей
никаких сомнений, вскрывая одновременно и все условия, которые имеют при
этом то или иное значение. Следовательно, два явления, не имевшие
вначале ничего общего друг с другом, но случайно сосуществовавшие в
жизнедеятельности организма, только в силу этого сосуществования и вступают
во взаимную связь, благодаря которой затем не существуют одно без
другого. Значение данного факта колоссально, его нельзя переоценить, так
как в нем раскрывается тот механизм, который лежит в основе
образования и развития нашего опыта. В развитии ребенка функция указанного
механизма представляет для нас чрезвычайно большой интерес, конечно, не с
точки зрения образования в его опыте тех связей, которые основаны на
случайном сосуществовании, хотя и это имеет очень важное значение;
совершенно очевидно, что указанный механизм остается одним и тем же и
тогда, когда сосуществование явлений не случайно организуется нами
самими во имя определенных целей. Как бы то ни было, мы должны
признать, что с первого дня существования человека начинается непрерывный
и безостановочный процесс образования разнообразных связей между
явлениями, между отдельными элементами опыта ребенка. Простая
временная цепь актов, отражающая в себе бессвязность опыта, является поэтому
не чем иным, как частным случаем и ступенью к следующей, более высокой
структурной форме, характерной особенностью которой должна быть
именно связь между актами. Мы получаем, таким образом, процесс
деятельности, в котором отдельные акты не только сосуществуют, но и как бы
требуют друг друга, будучи взаимно связаны в одно целое в прошлом
опыте индивидуума. Такой процесс развертывается перед глазами как единый
целостный процесс, направляемый от каждого предыдущего действия к
последующему на основе той связи, какая между ними установилась в
опыте. Невольно хочется сравнить процесс такого рода с разматыванием
клубка; комплексы реакций, отложившиеся в опыте индивида, подобны именно
таким клубкам, которые при соответствующих условиях разматываются в
виде одной длинной нити. Разница между тем и другим имеется, впрочем,
весьма существенная: разматывающийся клубок, давая нить, перестает
существовать как таковой; комплексы же наших реакций, развертываясь в
некоторый процесс, не только не перестают существовать как таковые, но
и становятся еще более устойчивыми и способными давать тот же самый
процесс.
Сравнение наше с клубком слишком грубо и по другим основаниям.
Каждое явление, которое действует на нас как стимул, может
находить889
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ся в рефлекторно-ассоциативной связи не с одним, а со многими
другими явлениями, которые в таком случае могут составить содержание
нескольких различных реакций на данный стимул. Поэтому если в
клубке, начав разматывать его с одного конца, мы всегда неизбежно придем
к другому концу, проходя при этом один и тот же путь, сколько бы раз
это ни повторялось, то в рефлекторно-ассоциативном процессе дело
обстоит совершенно иначе, исходя из одного и того же стимула, в
разных случаях можно идти совершенно разными путями с тем, чтобы в
конечном счете выйти каждый раз в каком-то новом направлении.
Очевидно, организацию нашего опыта нельзя представлять себе в таком виде,
как будто отдельные комплексы реакций существуют в нем замкнуто
каждый сам по себе и независимо друг от друга; действительная
организация, по-видимому, значительно сложнее: она не исключает известной
самостоятельности отдельных образований, но в то же время приводит
их в связь друг с другом в рамках одного органического целого.
Реальное различие разбираемого процесса от предыдущего
(простой временной цели) в деятельности ребенка резко бросается в глаза и
заключается в том, что к каждому новому действию в процессе данной
формы ребенок переходит не потому, что этого требует новый стимул
без всякой связи с предыдущим актом, а потому, что предыдущий акт
сам влечет за собой новую реакцию, направляя активность ребенка на
новые явления окружающей среды, ассоциативно связанные с теми, с
которыми он имел дело в предшествующем акте. Таким образом
развертывается весь процесс от начала до конца. Смотря на него, мы
замечаем определенную связность и последовательность в действиях; для
каждого последующего действия есть достаточное основание в
предыдущем. Для того чтобы охарактеризовать данный процесс не только с
положительной стороны, но и с отрицательной и таким образом
отделить его не только от предшествующего, но и от последующего,
необходимо отметить, что при всей связанности и ограниченности данного
процесса, смотря на его начало, мы никогда не сможем сказать, где будет
его конец. Этого не может знать не только посторонний наблюдатель,
но и сам действующий индивидуум, так как процесс такого рода не
имеет определенной направленности и развивается всецело за счет тех
ассоциативно-рефлекторных сцеплении, которые в данный момент по тем
или иным причинам окажутся в наибольшей готовности. Принимая это
во внимание, мы назвали процесс такого рода
ассоциативно-детерминированным процессом. Если и его изобразить наглядной
графической схемой, то таковую можно представить в следующем виде
(см. рис. 2).
Эта схема составлена из тех же элементов, что и предыдущая, но
между отдельными актами появились связи, превращающие все образование в
890
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
настоящую цепь. Беспорядочно- и случайно-прихотливый узор этой
цепочки грубо символизирует отсутствие определенной направленности в
данном процессе. То, что было сказано выше о неравновеликости
отдельных актов, которые на нашей схеме обозначены, однако, окружностями
одинаковой величины, разумеется, сохраняет свое полное значение и в
данном случае, подчеркивая грубость и недостаточность данной схемы.
Поэтому действительное значение последней не может претендовать на
чтонибудь большее, чем самое поверхностное отображение сложного явление
в целях некоторого облегчения его понимания.
Рис. 2 Схема ассоциативно-детерминированного процесса
Если данную организацию процесса деятельности соотнести к зрелой
личности, то, конечно, сразу можно сказать, что мы имеем дело с
примитивом, который для поведения взрослого человека не является характерным.
Примитивность эта, несомненно, стоит в связи с теми признаками
организации процесса, которые здесь отсутствуют и о которых упоминалось выше
в порядке отрицательной характеристики
ассоциативно-детерминированного процесса.
Среда в каждый отдельный момент окружает взрослого человека
такими условиями, при которых активность его должна быть всегда
направлена на разрешение каких-то задач, на достижение каких-то целей, на
планомерное удовлетворение потребностей существования. Все это не может
получить осуществления в порядке такой деятельности, которая не имеет
определенного направления и регулируется в своем течении случайными
сцеплениями реакции. Но при всем том нельзя сказать, что
ассоциативнодетерминированный процесс в показанной выше форме вовсе чужд
активности взрослого человека. Если не во внешней деятельности, которая
находится в более строгой зависимости от окружающей среды, то в течении
внутренних процессов поведения в известные моменты мы можем
наблюдать такие картины, которые будут в точности соответствовать нашей
схеме. После тяжелого рабочего дня мы вечером, утомленные, выходим на
прогулку. Вопросы дня, к разрешению которых устремлялась мысль,
отошли в сторону, мы отдыхаем от этой целеустремленности, державшей нас в
состоянии непрерывного напряжения. И что же мы видим при этом в себе?
Вереницы образов и далеких воспоминаний вдруг почему-то овладевают
891
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
нами; они сменяют друг друга помимо нашего активного участия в этом,
устремляясь прихотливым зигзагообразным путем в неизвестном
направлении. Мы даже и не заметили, как начался этот процесс, и только на пути
или в конце его отдаем себе в нем отчет; если при этом проанализируем его,
то убедимся, что, начавшись от близких нам тем текущего дня, как-то
незаметно путем неожиданных ассоциативных сцеплений он переходил от
одного воспоминания к другому, увлекая нас иногда в далекое прошлое,
в годы нашего детства. Эти опыты, вероятно, не чужды ни одному
человеку; они могут служить вполне подходящим примером для иллюстрации к
сказанному.
Если, таким образом, у взрослого человека мы находим данный
процесс в совершенно особых условиях, за пределами основного круга
поведения, то в активности ребенка он должен быть несравненно менее
исключительным. Правда, и здесь много таких моментов, которые с самого начала
вносят в данный процесс различные осложнения; об этом речь будет ниже.
Но во всяком случае в деятельности маленького ребенка в силу иного
характера его взаимоотношений с окружающей средой нет того, что делало
бы определенную целеустремленность и планомерность этой
деятельности всегда такой же обязательной и необходимой, как у взрослого человека.
Всякое же ослабление регуляции в этом направлений неизбежно должно
вести к образованию процессов разбираемой нами структуры. Однако
окружающая среда, воспитывающая ребенка, так же мало может мириться с
данной организацией деятельности, как и с еще более примитивной, о
которой речь была выше. И активно — путем организации соответствующих
воспитывающих воздействий, и пассивно — самим фактом своей
естественной организованности она стремится поднять ребенка на более высокую
ступень деятельности. В силу этих причин мы наблюдаем здесь то же
самое, что отмечали уже и в связи с образованием простой временной цепи
актов: подобно тому, как эта последняя в самый момент своего
образования создает основу для зарождения новой, более высокой структурной
формы, в которую она и переходит, так и
ассоциативно-детерминированный процесс начинает перерастать или, вернее, реорганизовываться в
процесс еще более высокой структурной формы с первого момента своего
образования. При этом возникают различные промежуточные формы, но о
них речь будет дальше. Теперь же перейдем к рассмотрению третьей,
основной формы в ее законченном виде.
Ее характерные признаки и отличительные особенности, в сущности,
нами уже были указаны. Они состоят в том, чего недостает только что
разобранной структурной форме: в устремленности процесса на
определенную цель и в планомерности течения его в соответствии с
поставленной целью. С этими признаками организация процесса достигает своей
полной завершенности. Стихийное течение процесса, развивающееся на
892
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
основе случайных ассоциативных сцеплений, уступает место вполне
упорядоченной деятельности, регулируемой в своем течении в соответствии с
требованиями момента. На основе тех взаимоотношений с окружающей
средой, какие имеют место у человека, очевидно, только такая
организация деятельности и может удовлетворять потребности существования,
обеспечивая надлежащее приспособление ко всем условиям среды.
Только при наличии такой организации своего поведения человек и становится
действительно активным деятелем в окружающей его среде, тогда как
предшествующие, более простые формы организации еще не поднимают его до
этой роли.
В чем заключаются особенности данной структурной формы с
точки зрения механизма соответствующего процесса? На них мы отчасти
уже останавливались выше в связи с вопросом о детерминации
процесса. Там мы исходили при анализе, как это указывалось, из процесса с
завершенной организацией, что и соответствует разбираемой сейчас
структурной форме. Главная особенность в детерминации данного
процесса заключается, таким образом, в том, что основным
детерминирующим фактором его является основной стимул, обычно входящий в
процесс в виде определенного задания или цели. Этот стимул и направляет
весь процесс по некоторому пути таким образом, что каждый отрезок
процесса, каждый отдельный акт находятся под его непосредственным
влиянием. Одновременно с тем рефлекторно-ассоциативный механизм
сохраняет все свое значение и в этом процессе. Отдельные акты
процесса последовательно сменяют друг друга, регулируемые этим
механизмом; каждый предыдущий акт здесь так же настойчиво требует своего
последующего, как и в настоящем ассоциативно-детерминированном
процессе. Существенная разница, однако, в том, что каждый
последующий акт здесь согласуется не только со своим предыдущим, но и с
основным стимулом всего процесса, с его целью или заданием. Это
обстоятельство и является тем ограничивающим началом, которое направляет
данный процесс по строго определенному пути. Основной стимул,
детерминируя процесс, закрывает перед ним одни пути, оставляя
открытыми другие. Таким образом, если в ассоциативно-детерминированном
процессе можно констатировать наличие связей между элементами
процесса только одного порядка, а имение ассоциативных связей каждого
последующего со своим предыдущим, то в разбираемом сейчас
процессе приходится признать наличие как бы двойных связей, из которых одни
остаются теми же, что и в предыдущем случае (мы назовем их
местными связями), а другие являются характерными именно для данного
процесса; это центральные связи каждого звена процесса, каждого
отдельного акта его с основным, исходным стимулом. Организованный таким
образом процесс был назван нами аппецептивно-детерминированным
893
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
процессом1. Его графическая схема предуказывается отмеченными
особенностями его механизма; ординарные местные связи беспорядочного
процесса, изображенного на рис. 2, должны быть упорядочены с помощью
новых, центральных связей каждого звена процесса с основным стимулом.
Такому именно представлению и стремится соответствовать схема,
изображенная на рис. За.
Рис. 3. Схема апперцептивно-детерминированного процесса
Недостатком этой схемы является то, что она замкнута, как будто
изображаемый ею процесс своим концом возвращается к своему началу.
Между тем в действительности этого никогда не бывает. Поэтому более
точное представление дает схема на рис. 36, изображающая процесс
спирально, но на ней не так наглядно выступают двойные связи процесса, как
на первой.
Что данная структурная форма является главной и преобладающей в
деятельности взрослого человека, это ясно без объяснений, так как
целесообразность и планомерность деятельности составляют в поведении
взрослого человека такие признаки, без которых оно никогда не мыслится. Здесь
могут быть свои особенности и различия, заключающиеся главным
обраТермины «ассоциативно-детерминированный»и
«апперцептивно-детерминированный » обнаруживают явное сходство с соответствующими терминами старой
психологии. Вложив в них определенный смысл, отличный от того, который был
связан с ними в прошлом, мы все же считаем целесообразным сохранить в данном
случае терминологическую преемственность - прием, который в развитии науки
имеет место очень часто.
894
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
зом в степени и полноте развития указанных признаков, но это не изменяет
структуры процесса в ее основе.
Что касается поведения ребенка, то действительную картину его
структуры мы лучше поймем во всей ее сложности и разнообразии, если
теперь, вслед за основными структурными формами, обратим внимание на
промежуточные или переходные формы, какие всегда имеют место в
действительности. В чистом виде основные структурные формы,
схематизированные нами выше, в сущности, представляют собой теоретически
сконструированные модели, которые дают нам типические образы организации
процесса. Реальный процесс в действительности всегда сложнее этих
моделей. Он дает основания для таких построений, и последние, несомненно,
облегчают его понимание, поскольку направляют наше внимание на
наиболее характерные моменты. Но уложить действительность в эти схемы мы
все-таки никогда не сможем, и чем более обща схема, а соответствующее
ей явление, наоборот, чем сложнее, тем значительнее должны быть
моменты расхождения между схемой и действительностью. Наши схемы
основных структурных форм по сравнению со сложностью отображаемых ими
процессов, конечно, весьма общи и весьма элементарны. Однако они дают
нам в руки первые опорные точки для дальнейшего анализа.
Прилагая эти схемы к процессам реальной действительности ребенка,
мы легко можем установить в них наличие таких моментов, которые будут
занимать среди основных структурных форм явно промежуточное или
переходное положение, связывая, таким образом, эти основные формы в один
непрерывный ряд с постепенным изменением структурных признаков.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В.Н. МЯСИЩЕВ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ
И ЕЕ ОТНОШЕНИЙ
Мясищев Владимир Николаевич (1893-
1973) — психолог, психиатр, психотерапевт, один
из основателей Петербургской научной школы,
ученик В.М. Бехтерева и А.Ф. Лазурского.
Разрабатывал проблемы психологии
личности здорового и больного человека. Выдвинул
оригинальную психологическую концепцию
отношений человека (Мясищев В.Н. Основные проблемы
и современное состояние психологии отношений.
С. 15-36). Под психологическими отношениями
понимал систему, включающую потребности,
эмоции, интересы и оценки. Отношениям принадлежит
определяющая роль в психической жизни человека, в состав которой
входят кроме отношений психические процессы, состояния и свойства
личности. Нарушение отношений приводит к различным соматическим и
психологическим отклонениям в жизни человека (Мясищев В.Н. Личность и
неврозы. Л., 1960).
ЛИЧНОСТЬ И ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)1
Человек, член общества, рассматривается социологией, психологией
и педагогикой как личность, хотя он при этом остается организмом; в
основе всех сторон деятельности личности лежит деятельность мозга.
Единицей, рассматриваемой в перечисленных науках, является не организм, а
личность человека, которая характеризует его как деятеля и более или
менее заметного участника общественно-исторического процесса. Личность
в основном определяется как общественно-исторически обусловленное
высшее, интегральное психическое образование, свойственное только
человеку, как сознательный потенциальный регулятор его психической
деятельности и поведения.
В связи с этим можно сказать несколько слов о психических
образованиях и о потенциальном психическом. Термин психическое образование
Мясищев В.Н. Личность и отношения человека// В.Н. Мясищев. Психология
отношений: М.: Институт практической психологии. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995.
С. 342-353.
896
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
применяется время от времени различными авторами при не вполне
уточненном его значении. Так, процесс зрительного восприятия отличается
логически и эмпирически от памяти образов; мышление, как процесс
умственного овладения, отличается от интеллекта или ума, как основы того
или иного уровня мыслительного процесса.
В психическом можно установить две категории: а) процессуальное;
б) потенциальное. Процессуальное и потенциальное не существуют друг
без друга, это — единство, но вместе с тем это — различные, а не
тождественные понятия.
Потенциальное психическое не является предметом
непосредственного наблюдения, а определяется на основе умозаключения. Это скрытая
переменная, как ее определяет Б. Грин (Green В. F., 1963), а также П.
Лазарсфельд. В этой связи важным является соотношение процессуального и
потенциального психического и отношений человека. Креч и Крачфилд
(Krech D. and Crutchfied R. S., 1948) определяют отношение как
упроченную организацию мотивационных, эмоциональных, перцептивных и
познавательных процессов в связи с некоторыми аспектами индивида. Г. Олпорт
(Allport G. W., 1935) определяет отношение как психическое и нервное
состояние готовности выполнить директивное влияние, ответ индивида на
объекты и ситуации, с которыми он соотносится. Фьюзон (Fuson М. М.,
1942) характеризует отношение, как вероятность выявления
определенного поведения в определенной ситуации. Упомянутые авторы
характеризуют отношение и склонность как заключение о вероятности
определенной реакции на определенные обстоятельства. Предлагаются разные
методы измерения склонности и отношений, о чем здесь нет возможности
говорить. Вместе с тем в экспериментальной психологии обнаруживается
и сейчас глубокое непонимание многообразия личности в связи с
многообразием ее отношений. Такие крупные психологи, как П. Фресс, Ж. Пиаже
(1966), в редактируемой ими экспериментальной психологии в параграфе
«Поведение и отношение» пользуются формулой поведения: С (ситуация),
П (персона, личность), Р (реакция). Устанавливая отношения членов этой
формулы, они предусматривают варианты ситуации (Ср С2; С3) и варианты
реакций (Рр Р2; Р3), но рассматривают личность как одно
недифференцированное целое. Они говорят, что изучают влияние изменений С на
изменения Р или различные соотношения на различные ситуации.
Учитываемые особенности личности (пол, возраст) остаются формальными,
а отношения личностей к содержанию ситуации или задаче в расчет не
принимаются. Это показывает, что содержательное исследование
личности в ее отношениях не заняло еще надлежащего места в
экспериментальной психологии.
Психические образования являются потенциальным психическим,
реализующимся, формирующимся в процессе психической деятельности.
29 Российская психология 897
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Личность человека представляет собой сложнейшее и высшее в психике
человека образование. Высшим оно является в том смысле, что оно
непосредственно определяется влияниями и требованиями социальной среды и
общественно-исторического процесса. Общественные требования
относятся прежде всего к идейной стороне поведения и переживаний человека.
Одним из недостатков психологического исследования является до сих
пор не вполне изжитый формализм в рассмотрении его психики. Процессы
психической деятельности, а также лежащие в их основе психические
образования рассматриваются без достаточной связи с содержаниями психической
деятельности. Рассмотрение психического процесса в связи с его предметом и
обстоятельствами, его вызывающими, является основой содержательного
исследования. Особенности содержания, с которыми связана психическая
деятельность, определяют функциональную сторону психического процесса. Но
эта структура, активность процесса, его характер (в смысле положительной
или отрицательной реакции на объект), его доминирование в сознании и
поведении зависят от отношения человека, от положительной или отрицательной
значимости содержания процесса, от степени этой значимости для человека.
Без учета этой роли психической активности отношений никакой процесс не
может быть правильно освещен, не могут быть правильно определены
способности человека, осуществляющего ту или иную деятельность; характер
исследуемого процесса обусловлен не только особенностями задачи деятельности,
но и отношением человека к этой задаче. Надо подчеркнуть, что речь идет только
об отношениях человека или человеческих отношениях. Подчеркнуть это
нужно потому, что без этого широко и в различных планах применяемый термин
отношений окажется нечетким и расплывчатым. В этом смысле отношения
человека — это потенциал, проявляющийся сознательной активной
избирательностью переживаний и поступков человека, основанной на его
индивидуальном, социальном опыте. Чем элементарнее организм, тем в большей
степени его избирательность основана на врожденной связи реакций с объектом.
Это физиологически определяется как безусловный, или простой, рефлекс.
И.П. Павлову принадлежит формула: «Психические отношения и есть
временные связи», т. е. условно-рефлекторные образования; временные,
приобретенные связи представляют, по Павлову, психические отношения. И.П.
Павлов не давал ни определения, ни характеристики отношений человека, поэтому,
говоря о Павлове, здесь мы укажем лишь на два момента:
1) психические отношения как условные временные связи черпают
свою силу из безусловных;
2) у человека все отношения перешли во 2-ю сигнальную систему. Это
значит, что отношения, основанные на индивидуальном или личном опыте,
опираясь на безусловные, «инстинктивные» тенденции, реализуются в
системах высших «второсигнальных» собственно человеческих процессов,
определяющих и регулирующих деятельность человека. А эти высшие
от898
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ношения и лежащие в их основе нервно-физиологические и в то же время
нервно-психические образования неразрывно связаны с сознательным
мышлением и разумной волей человека.
Нет надобности говорить о том, что собственно человеческий уровень
отношений является продуктом общественно-исторического существования
человека, его общения с членами человеческого коллектива, его воспитания,
его сознательной трудовой деятельности в коллективе. Здесь уместно
вспомнить, что К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что «животное не "относится" ни к
чему и вообще не "относится"; для животного его отношение к другим не
существует как отношение» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 3. С. 29).
Положение в том, что для животных их отношения «не существуют как отношения»
обозначает, что эти отношения не осознаются животными. Возвращаясь к
Павлову, укажем, что установленная им зависимость силы
условно-рефлекторных корковых процессов от заряжающей их силы подкорковых, имеет
решающее значение для понимания динамики высших процессов у животных.
Условные пищевые рефлексы обнаруживаются отчетливо, если животное
голодно, и не выявляются, если оно сыто. Но эта отчетливая зависимость
меньше сказывается на конкретно-личных отношениях человека, например в
привязанностях к кому-нибудь или интересах к чему-нибудь. Она совсем не
сказывается на высших идейных отношениях, хотя они также возникают на
основе физических временных связей. Их сила и прочность определяется
психосоциальной значимостью объекта и эмоциональным характером
отношений человека. Можно сказать: чем более то или иное проявление
характеризует личность, тем менее оно связано с витально-биологическими отношениями
и тем более явно выступает зависимость его от истории формирования
личности. Человек есть социально-историческое образование, впитавшее в себя
все общественные условия и влияния конкретной истории его развития и
проявления которого обусловлены и могут быть поняты только на основе
этой истории. Подытоживая все сказанное здесь и ранее об отношениях
человека, можно рассматривать их как потенциал избирательной
активности человека в связи с различными сторонами действительности. Они
содержательно характеризуют деятельность человека, проявляются не
какой-либо одной функциональной стороной психики, а выражают всю
личность в ее связи и с той или иной стороной деятельности. Они
характеризуются тем большей активностью психических процессов, чем более значим
для личности объект отношений, отличаясь положительным или
отрицательным знаком (тяготение — отвращение, любовь — вражда,
заинтересованность — безразличие). Чем выше уровень развития личности, тем сложнее и
процессы психической деятельности и тем дифференцированнее и богаче ее
отношения.
А.Ф. Лазурский (1921), основатель психологического учения об
отношениях человека, писал, что экзо-психика, иначе говоря, отношения, и
эндо29* 899
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
психика представляют собой две стороны психики человека. Неправильно
было бы упрекать А. Ф. Лазурского в дуализме. Его позиция обозначает не
двойственность, не дуализм, а синтез двух обязательных планов
рассмотрений. Аналогично этому характеристика силы электрического тока
существует одновременно с характеристикой напряжения тока, что вовсе не
обозначает дуализма в понимании природы электричества.
Как мною неоднократно указывалось, отношения человека — это не
часть личности, а потенциал ее психической реакции в связи с каким-либо
предметом, процессом или фактом действительности.
Отношение целостно, как и сама личность. Исследование личности
является в значительной степени ее исследованием в ее отношениях.
Развитие личности представляет процесс образования усложняющихся,
обогащающихся, углубляющихся связей с действительностью, накопление в
мозгу потенциала действий и переживаний. Развитие личности — это
развитие психики, а значит, это развитие и усложнение психических
процессов и накопление опыта — психического потенциала. Опыт
осуществляется в форме накопления:
1)знаний;
2) навыков;
3) умений;
4) отношений.
Все четыре вида потенциального психического в той или иной мере
характеризуют личность. Но вместе с тем ясно, что личность характеризуют
не знания, навыки и умения, а, как уже говорилось выше, отношения.
Исследование личности в ее развитии представляет историческое изучение
личности в динамике ее содержательных отношений.
Исследование отношений представляет тот необходимый для
психологии подход, в котором объединяется объективное с субъективным,
внешнее с внутренним. Отношения существуют между личностью человека —
субъектом и объектом его отношений. Отношение реализуется или
проявляется во внешнем факторе, но вместе с тем отношение выражает
внутренний «субъективный» мир личности. Личность — это субъект отношений
так же, как субъект внешней деятельности. На этом единстве внутреннего
и внешнего, объективного и субъективного основывается
материалистическая психология.
Принцип системности и целостности, который с наибольшей
отчетливостью вошел в учение о мозге, организме и личности в свете объективного
ее исследования со времени работ И.П. Павлова, заставляет
рассматривать личность как систему и единство психических процессов и
образований, в котором действенно потенциальным является система отношений.
Личностность психических процессов заключается в том, что в них
реализуется потенциал сознательных отношений личности.
900
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
С психологической проблемой личности и ее отношений тесно связан
ряд интегральных психологических понятий. Прежде всего сюда
относится идущее от В. Штерна (Stern W., 1921) понятие направленности
(Richtungsdispositionen). У нас довольно широко применяется в
психологии, и в особенности в связи с учением о личности, термин
«направленность ». Этот термин, по сути, характеризует понятие
топографически-векторно, в применении к психологии это означает доминирующее
отношение. Термин «направленность» вместе с тем является очень общим. Его
употребление вызывает вопрос не только о том, что есть то, на что
направлено, но и что направлено. Так, говорят о направленности вкусов, взглядов,
желаний, мечтаний, интересов, симпатий, склонностей и т. п.
Направленность интересов — законное понятие. Оно характеризует доминирующие
интересы личности. Но к понятию личности направленность менее
применима. Личность многосторонне избирательна. Личность имеет
характеристику не линейную и не плоскостную. Если пользоваться
пространственным образом, личность представляет не только трехмерную величину, как
статуя, но в отличие от нее как все живое, она динамична и различна в
разных системах меняется в процессе жизни. Характеристика личности
направленностью не только односторонняя и бедная, но она мало подходит
для понимания большинства людей, поведение которых определяется
внешними моментами; они не имеют руля доминирующей направленности.
Отношения человека многообразны, а поэтому именно они могут раскрыть
многообразие человеческой психики.
Многие советские авторы применяли понятие позиции личности,
которое впервые было предложено в этом смысле А. Адлером (Adler А., 1912).
Позиция личности означает, в сущности, интеграцию доминирующих
избирательных отношений человека в каком-либо существенном для него
вопросе.
Многостороннее разрабатываемое грузинскими психологами понятие
установки также относится к психическим интегральным образованиям,
особенно когда речь идет об установке личности. В этом случае в отличие
от сенсомоторной установки, вырабатываемой экспериментально, это
понятие близко к только что указанному понятию позиции личности. Однако
установка, как бессознательное образование, безлична. Установка — это
приобретенная готовность к опытно-обусловленным особенностям
протекания психических процессов. Может существовать система установок,
интегральная установка, отдельные и частные установки. Д.Н. Узнадзе
охарактеризовал установку как готовность личности к определенной
обусловленной потребностью деятельности, как опирающийся на действенный опыт
механизм, предопределяющий особенности реагирования. Нужно
заметить, что в установке как в бессознательной инерции прошлого
противостоят сознание настоящего и перспективы будущего, объединяемые в
каж901
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
дом поступке и переживании человека. В этом смысле установка сходна с
условным рефлексом, хотя по механизму своего развития она не связана
обязательным образом с безусловным раздражителем. В теорию
установки с большим основанием включается понятие потребности, которая,
однако, в основном эксперименте по исследованию установки отсутствует. Это
показывает, что понятие установки, применяемое в психологии, шире,
богаче и глубже той экспериментальной модели, которой иллюстрируется
само понятие, демонстрирующей лишь инерцию и ее приобретенный
механизм.
В мотивационной психологии особое место занимает понятие мотива.
Это понятие значимо для всякой психологии и важно для психологии
отношений. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что понятие мотива
имеет двоякий смысл: а) побудительной движущей силы поведения или
переживания или 6) основание поступка, решение, мнение. Так
называемое мотивированное действие имеет в своей основе движущую силу
побуждения и основание действия. Так называемое немотивированное
действие имеет только одну мотивационную категорию — побуждение, другая
же, представляющая основание действия, отсутствует. В так называемом
немотивированном действии его основание не осознается. Отношение
может быть основанием мотива, например, когда ученик учится из любви к
знанию, из любви к родителям, из тенденции честолюбивого
самоутверждения и т. д.
Мотивом отношения может быть то или иное переживание, например,
переживание учебной неудачи может стать мотивом отрицательного
отношения к учению: успехи другого ученика могут стать мотивом
враждебнозавистливого отношения к нему. Таким образом, понятие «мотив » не
имеет определенного однопланового психологического содержания.
Действенность того или иного обстоятельства всегда связана с
отношением к нему человека, но неправильно смешивать мотивы и отношения
или говорить о мотивах независимо от отношения и подменяя
отношение мотивами.
Нет надобности говорить о необходимости различать понятия свойств
личности и характера при их близости и иногда совпадении. В
необходимости их различения никто не сомневается, тем не менее об этом сказать
уместно, потому что это разграничение не всегда четко. Характер — это
психическое своеобразие человека, интеграл всех его свойств. В основном
характер — это единство отношений и способа их осуществления в
переживаниях и поступках человека. Личность — это человек,
рассматриваемый с точки зрения собственно человеческих социальных его
особенностей. Некоторые психические свойства могут относиться и к характеру,
и к личности, некоторые же только к тому или другому. Например,
порядочный или непорядочный, идейный или безыдейный, сознательный или
902
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
несознательный, творческий или нетворческий. Это все черты личности.
Коллективизм или индивидуализм, честность, бесчестность, благородство
или подлость — эти черты характеризуют личность. Они свидетельствуют
об уровне общественно-нравственного развития человека. Некоторые из
этих черт могут быть отнесены к характеру, например благородство или
подлость. В этом случае они имеют определяющее значение в системе всех
психических свойств человека. Перечисленные черты так тесно связаны с
особенностями отношения человека, что не будет ошибкой сказать о
личности как о человеке в его отношениях к действительности. Сами
отношения при этом, имея личностный характер, являются элементами, в
которых реализуется личность в процессе ее деятельности. Человек как личность
является не только сознательно преобразующим действительность, но и
сознательно относящимся к ней.
Рассмотренные только что интегральные понятия, таким образом,
имеют существенное значение, их нельзя отвергать, но они получают
уточнение, и в этом уточнении существенное место занимают их различные связи
с понятием отношений.
В связи с вопросом о развитии личности упоминался вопрос о
развитии отношений. Мы здесь коснемся еще только одной стороны, а именно
изменчивости и устойчивости реакций личности. Нередко устойчивость и
лабильность или изменчивость рассматриваются в
формально-динамическом плане, но это рассмотрение становится содержательным лишь с
учетом отношений. Стойкость при этом рассматривается в связи с
определенными содержаниями, например стойкость и привязанность к близкому лицу,
стойкость убеждений, нравственная стойкость. Указанные черты
выражают отношение человека. Реакции, выражающие эти отношения, а
следовательно, и сами отношения могут быть устойчивые или неустойчивые,
варьируя от моментальной ситуативной лабильности до высокой стабильности.
Но стабильные отношения могут быть и инертно стойкими. Не эта
стабильность является основой в развитии отношений, важна принципиальная
устойчивость. Принципиальная устойчивость основывается на некотором
осознанном и обобщенном принципе.
Установление различий в устойчивости отношений в зависимости от
инертности механизма или от стойкости принципа требует рассмотрения
отношений личности и психофизиологических механизмов деятельности,
в которой они осуществляются. Нет отношений без отражения, т. е.
отношения всегда связаны с объектом, который отражается в сознании. Для
понимания личности и психики существенно не только их единство, но и
различие. Человеческое суждение, мышление вообще, может быть
бесстрастным, страстным и пристрастным. Первое не препятствует адекватному
отражению, но и недостаточно для глубины его, второе содействует глубине
и богатству отражения, а третье искажается тенденциями, в которых
903
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
субъективные компоненты отношения делают отражение неадекватным,
неправильным.
В особой области психических расстройств, преимущественно
психогенных, мы встречаемся с тремя категориями патогенеза, связанного с
нарушением механизмов нервно-психической деятельности и с болезненным
нарушением отношений. Это: а) реактивные депрессии; б) паранойяльные
образования; в) распад личности. Реактивная депрессия связана с утратой
объекта, вызванной смертью, изменой, несправедливостью. В этом случае
развивается состояние угнетения, и вся нервно-психическая и
нервно-вегетативная динамика человека оказывается болезненно-измененной.
Человек лишается того, что было существенным в системе его оценочных
отношений, его ценностей. Паранойяльные идеи и паранойяльные отношения
представляют прежде всего эмотивно-конативно (конативный от
латинского сопаге — стремиться, домогаться) обусловленные искажения, при
которых при сохранности в основном интеллектуальных операций
мышление и представление искажаются в области болезненных эмотивно
обостренных отношений, связанных с состоянием неудовлетворенности.
Причем возникает паранойяльный бред величия, ревности, преследования.
Наконец, третья категория — это регресс личности, при котором
распадаются сформированные жизнью связи, избирательные отношения, личность
регрессирует (прогрессивный паралич, старческое слабоумие, острые
психотические состояния токсического или инфекционного генеза).
Если в патогенезе болезненных психогенных состояний личности,
а также организма играют роль влияния и складывающиеся отношения его
с действительностью, то в формировании личности их роль имеет
решающее значение. Педагогика и управление всей психодинамикой и взрослого
и подрастающего человека существенно связана с формированием
отношений человека Все, что делает человек, он делает ради или для чего-то.
Когда мы формируем у человека способность управлять своим
поведением, самоконтроль, самообладание, саморегуляцию, то и развитие этой
способности и реализация всегда осуществляется ради чего-то или для
чегото. Движущей силой этого развития, мотивом являются идейно-социальные
требования.
Успешное развитие регулятивной доминирующей роли идейных
отношений приводит к формированию полноценных личностей. Воспитание
человека есть прежде всего воспитание его отношений. Роль отношений в
воспитании неоднократно подчеркнута A.C. Макаренко.
Эти понятия не только жизненно важны, а потому и научно и
теоретически важны. Не отрицая роль функционального процессуального
рассмотрения психологии человека, нельзя не учесть, что
содержательно-синтетическое восприятие является как исходным, так и завершающим моментом
психологического исследования и психологической характеристики.
От904
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
сюда вытекает вопрос о месте понятия «психическое» или «личностное»,
или «человеческое» отношение в системе психологических понятий.
Исходя из того, что это понятие отношения несводимо к другим и
неразложимо на другие, надо признать, что оно представляет самостоятельный
класс психологических понятий. Выделение этого класса особенно важно
в борьбе за личностную психологию против безличной
функционально-процессуальной и за содержательную психологию личности.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
К.Н. КОРНИЛОВ:
РЕАКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
щ Корнилов Константин Николаевич (1879-
1957) — советский психолог, создатель
реактологии как одного из вариантов поведенческих
направлений в отечественной науке периода 20-х годов.
Учился у Г.И. Челпанова в Московском
университете (1905-1910). С 1915 г. — старший ассистент,
а с 1916 г. — приват-доцент по экспериментальной
психологии Психологического института
Московского университета. Написал диссертацию на тему
«учение о реакциях человека». В 1921г.
опубликовал книгу «Учение о реакциях человека
с.психологической точки зрения («Реактология»),
которую представил в качестве марксистской психологии и пытался
противопоставить ее рефлексологии В.М. Бехтерева, с одной стороны, и
эмпирической психологии Г.И. Челпанова — с другой. С 1921 г. — декан
открытого при II МГУ педагогического факультета (после реорганизации
преобразованного в педагогический институт), в котором Корнилов был
заведующим кафедрой психологии. В 1923 г. на I Всероссийском съезде по
психоневрологии выступил с докладом «Современная психология и
марксизм», которому была суждена роковая роль в деле перестройки
психологии на основе марксизма. В 1923-1930 и 1938-1940 годах был
директором Психологического института. В 1931 году состоялась дискуссия
по реактологической психологии, после которой реактология прекратила
свое существование1.
Впоследствии Корнилов разрабатывал проблемы психологии
личности.
Педагог, автор ряда учебников и учебных пособий.
В антологию включены главы и отрывки из книги «Учение о
реакциях», тезисы доклада «Психология и марксизм»2, текст резолюции по
итогам реактологической дискуссии.
Итоги дискуссии по реактологической психологии (Резолюция общего собрания
ячейки ВКП (б) Гос. Иен. ППиП от 6/VI). Журнал «Психотехника и
психофизиология труда». 1931. Т. IV. Вып. 1.
Корнилов К.Н. Естественно-научные предпосылки психологии. М.-Воронеж:
Издво «МОДЭК», 1999. С. 22-35; 122-127; 187-188.
906
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
УЧЕНИЕ
О РЕАКЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА
С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
(«РЕАКТОЛОГИЯ»)
Понятие о реакциях
С какой бы точки зрения мы ни подходили к характеристике жизни
и жизненного процесса, несомненно одно, что основной сущностью
этого процесса является способность живого существа отзываться,
реагировать на внешние раздражения. В этом явлении ответного движения
организма на данное раздражение извне проявляется жизненная
активность, присущая всему органическому миру и составляющая основной
биологический момент, без которого немыслимо было бы и самое
существование организма. Таким образом, реакция есть основная форма
всякого жизненного проявления.
В самом деле, уже столь простейшие организмы, как бактерии,
реагируют с исключительной чуткостью на восприятие, казалось бы,
столь ничтожных раздражений, как одна биллионная часть
миллиграмма калиевой соли. Одноклеточные организмы вроде инфузорий
тотчас же изменяют свои реакции в зависимости от изменения
раздражений, а амеба реагирует на мельчайшие тельца, прикасающиеся
к ней, тем, что немедленно охватывает их. Нечего говорить о
многоклеточных организмах, хотя бы и из царства растений: их
чувствительность к внешним раздражениям настолько велика, что, по
Дарвину, железы росянки раздражаются уже тогда, если на них положить
пылинку железа весом в одну двухсотпятидесятитысячную долю
миллиграмма. У растений более высшего порядка, как, например,
мимозы, мы имеем возможность уже графически регистрировать ее
реакции на раздражение. Что же касается живых существ,
наделенных нервной системой, то проявления реакций здесь настолько ясно
и закономерно выражены, что подлежат уже точному
математическому учету и анализу.
Но мало того, что реакция является основной формой обнаружения
жизни, наряду с этим реакция является и единственно первоначально
данной формой жизненного проявления. Возьмите ли вы сферу первичных
живых существ или же существ более высшего порядка, вы всюду и везде
найдете только одно: это обнаружение различного рода реакций, то более
простых, то более сложных. Лишь путем анализа и абстрагирования мы в
состоянии выделить из явления реакции такие составные ее части, как
вос907
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
приятие или движение, в условиях же реальной действительности мы
находим один первоначально данный факт — это реакцию как
координирование раздражения и ответного на него движения.
Подобно тому, как не существует индивида вне окружающей среды и
обратно, а существует лишь координация того и другого, так и в
непосредственно данном опыте мы находим всегда лишь координацию раздражения
и движения как первично данного факта. Вот почему изучение психологии
должно было бы начинаться не с ощущений или восприятий, а с первично
данного нам в непосредственном опыте явления реакции. Вот почему
современная психология дает так ничтожно мало для практического
понимания человеческой личности, ибо эта психология оперирует все время с
ощущениями, представлениями, со способностями и т. д., т. е. с
абстрагированными понятиями, а не с тем, что дано в непосредственном опыте, —
реакциями человека. Положивши же в основу своих и теоретических и
практических построений единственно данные нам в непосредственном
опыте реакции живого существа, психология тем самым должна будет
изменить и самый свой объект изучения: это уже будет не изучение
отдельных раздробленных психических явлений, «способностей », тогда психология
должна стать изучением реакций живого организма, охватывающих все
формы проявления его в отношении окружающей среды, т. е. изучением того,
что американские зоопсихологи вполне правильно обозначают термином
«поведение »(behavior) живого организма1.
Итак, акт реакции есть не только основная, но и первично данная
форма жизненного проявления. Но было бы ошибочно думать, что это есть
нечто простое и элементарное. Акт реакции есть явление сложного
порядка. В самом деле, мы уже видели, что это есть прежде всего координация,
с одной стороны, раздражения, а с другой — движения, координация,
члены которой находятся в определенной функциональной зависимости, где
раздражение играет роль независимого переменного, а движение —
зависимого переменного. Но подобный анализ был бы слишком
недостаточным. И между этими основными членами координации находится длинный
ряд промежуточных ступеней. Одни исследователи, как, например, Лай2,
Н. Ланге3 и другие, анализируя процесс реакции, находят в нем три основных
момента: 1) раздражение периферически воспринимающего органа и
проведение этого раздражения по приносящим нервам до мозга; 2) процессы в
мозгу и появление состояний в сознании, и 3) передача двигательного
импульса по относящим нервам и сокращение мышц. Другие исследователи,
Jennings. Behavior of the Lower Organisms. New-York, 1906; Parmelee. The science of
human behavior. New-York, 1913.
Лай. Школа действия. 1914.
Ланге Н. Психологические исследования. 1893.
908
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
как, например, Л. Ланге1, Вундт2 с его школой и другие, увеличивают число
этих элементов до пяти, разлагая в первой схеме второй момент —
появления состояний в сознании -на два следующие: перцепцию, или вступление в
поле сознания, и апперцепцию, как вступление в фиксационную точку
сознания, а третий элемент — «передачу двигательного импульса» — вновь
разлагая на два составных: волевое возбуждение как высвобождение
регистрируемого движения в центре и центробежное направление от центра к
регистрирующему мускулу и рост энергии в последнем. Наконец,
некоторые, как, например, Токарский3, акт реакции разлагают даже на
одиннадцать следующих элементов: 1) возбуждение чувствительных элементов
органа чувств, воспринимающего раздражение; 2) передачу возбуждения
периферически нервным узлом и нарастание в нем возбуждения,
необходимого для дальнейшей передачи; 3) передачу по чувствующим нервам для
клеток спинного мозга; 4) нарастание возбуждения в этих клетках; 5)
передачу до клеток органа восприятия; 6) нарастание возбуждения в этих
клетках; 7) распространение возбуждения по ассоциативным волокнам и
клеткам; 8) передачу возбуждения на двигательные клетки; 9) возрастание
возбуждения в этих клетках; 10) передачу возбуждения по двигательным
нервам до мускулов и 11) период скрытого возбуждения в мускулах. При
всей своей громоздкости эта схема имеет ту ценность, что она составлена в
однозначных терминах, тогда как первые две схемы носят двузначный
характер, неправомерно скрещивая психологические и физиологические
факторы.
Но какую бы из этих схем мы ни взяли, для нас несомненны два
следующих положения: во-первых, что акт реакции, даже и в простейшей его
форме, это явление сложного порядка, и во-вторых, что в составе реакции
основными определяющими моментами являются три следующих:
сенсорный, как раздражение воспринимающего органа, центральный, как
процессы в центральной нервной системе, и моторный, как импульс
двигательного характера. Но не следует опять-таки думать, что все эти три
момента могут быть выражены в акте реакции в их наглядной форме, что
сенсорный момент обязательно предполагает наличность какого-то
объекта в окружающей индивида среде, объекта, который действует на
воспринимающий орган в виде звукового, зрительного раздражения и т. п. Как
одинаково неправильно было бы думать, что и двигательный момент в акте
реакции (который иногда ошибочно называют именем реакции) должен
обязательно реализоваться в том или ином внешнем движении. Надо
твердо себе усвоить, что как сенсорный, так и двигательный моменты в акте
Lange L. Philos. Stud. В. IV.
Wundt W. Physiol. Psych. В. III.
Токарский. Записки психологической лаборатории. М., 1904.
909
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
реакции сплошь и рядом бывают даны в скрытой форме не как ответ на
внешнее раздражение окружающей среды, а как ответ на раздражение
внутреннего порядка, в виде различного рода изменения органических
функций: дыхания, кровообращения, разрядов энергии в нервной системе,
секреции внутренних органов и т. п. Как луч света, попавши на покоящуюся
фотографическую пластинку, вызывает в ней определенного рода реакцию,
так и в живом организме, казалось бы, при полном параличе движений тем
не менее может произойти глубокая реакция. Вот почему неподвижное
состояние мыслителя, разрешающего сложную проблему, по существу,
является не чем иным, как реакцией, но такого рода, где и сенсорный,
и двигательный моменты даны в скрытом виде. И на этом примере легче
всего видеть, насколько условно и искусственно деление акта реакции на
составные части, а вместе с тем насколько также условно и искусственно
берущее отсюда свое начало деление всех психических процессов на
интеллектуальные, пристегиваемые к сенсорному моменту акта реакции,
эмоциональные, соединяемые с центральной частью реакции, и волевые,
отождествляемые с третьим, двигательным моментом реакции. Реакция как
первично данное переживание в непосредственном опыте представляет
собой единое законченное целое, из которого путем лишь анализа и
абстрагирования мы отвлекаем отдельные моменты, давая им специфические
названия. Вот почему психологи, несмотря на всю свою изобретательность и
остроумие, никак не могут провести строгой грани между ощущениями и
чувствами, между явлениями внутренней и внешней воли и т. п., и не могут
именно потому, что все эти деления имеют только лишь условный характер,
тогда как в процессе реакции все это представляет замкнутое единство. И не
чем иным, как именно этим единством, объясняются такие факты, что
каждое восприятие и представление содержат в себе моторный элемент и
потому переходят непроизвольно в движение; этим же объясняется и весь
активный характер психики, ибо первично данная форма переживаний, реакций
по самой своей природе есть нечто активное, деятельное.
Чем же реально определяется этот активный характер явления
реакции? В чем причина активного характера всех жизненных проявлений?
Ответ может быть дан только один. Жизнь есть не что иное, как совокупность
реакций, а каждая реакция есть в той или иной форме взаимодействие
живого организма и окружающей среды. Это взаимодействие принимая
разные формы, в своей основе имеет не что иное, как разряд, потребление и
трансформацию различного рода энергий друг в друга, что в биологии мы
обозначаем термином «обмен веществ». Раздражение в виде энергии
механической, тепловой, электрической, химической и т. д. оказывает
воздействие на воспринимающий орган; отсюда эта энергия передается до
центра, высвобождая находящуюся здесь в потенциальном состоянии энергию
и трансформируя ее опять-таки в тот или иной вид энергии. Реакция по
910
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
самой своей сущности есть именно не что иное, как трансформация
энергии и постоянное нарушение энергетического равновесия между
индивидом и окружающей средой.
И если уже в мире неорганическом всюду, где происходит разряд и
трансформация энергии, мы видим в результате нарушение мертвенной
неподвижности и зарождение активности в форме движения, то с
переходом к органическому миру, с его специфической структурой клеточной
протоплазмы и исключительной по сложности нервной системой, эти
разряды энергии наряду с движением влекут за собой и то, что мы называем
одушевленностью, психикой, жизнью. И натуралисты вполне правы,
рассматривая живой, в том числе и человеческий, организм как своего рода
аккумулятор, снабженный двигателем, отдельные части которого
вырабатывают различного рода энергию, почерпая ее из источника, лежащего вне
организма, но воздействующего на те провода, которыми этот организм
соединяется с окружающей средой. Рождение, питание, приспособление,
размножение, смерть, то, что мы объединяем одним понятием жизнь, —
все это в своей основе, несомненно, есть не что иное, как энергетические
процессы, приобретающие под влиянием особой структуры протоплазмы
и нервной системы специфические свойства, называемые нами
психическими.
Что же касается того, как мы должны мыслить отношение этих
энергетических процессов, лежащих в основе реакции, к тому, что мы именуем
психической стороной реакции, то как бы ни перекидывали мост от одного
к другому, при помощи ли метафизических теорий о существовании
особой духовной субстанции, насквозь отличной от того, что именуется
материей, с вытекающими отсюда бесконечными в своей многозначной
интерпретации теориями психофизического параллелизма, противоречащего
непосредственному опыту, или не менее несогласованными теориями
взаимодействия, стоящего в полном противоречии с естественно-научными
данными1, ясно одно, что все психическое может быть понято только через
однозначную определенность энергетическими процессами,
происходящими в протоплазме и нервной системе. Не что иное, как именно протекание
этих-то энергетических процессов, влекущее за собой под влиянием
особой структуры нервной системы изменения в смысле быстроты,
напряженности и направления разрядов энергии, и вызывает то, что
субъективно мы воспринимаем как психические процессы, но что объективно
является не чем иным, как особым проявлением все той же физической
энергии и что многие авторы называют «психофизической » или «нервной »
энергией. Причины возникновения этой энергии вскрыты как процессы
торможения в нервной системе, передача этой энергии на расстоянии — это
См. сводку по этому вопросу Busse L. Geist und Korper, Seele und Leib. Leipzig, 1903.
911
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
эмпирически установленный факт, остается только вскрыть метод
измерения этого вида энергии, чтобы эта гипотеза стала строго научным
фактом.
Я глубочайшим образом убежден, что подобное понимание психики
ближе к истине и неизмеримо больше согласуется с современными
научными данными, нежели все измышления относительно особой природы
духовной субстанции. Последующие экспериментальные данные не раз
косвенно подтвердят правильность моей точки зрения.
Методы исследования реакций1
Установив основную сущность понятия реакции, перейдем теперь к
рассмотрению тех экспериментальных методов, при помощи которых
возможно исследование реакций.
Пристально всматриваясь и наблюдая самые разнообразные виды
реакций живых существ, мы вскроем, что каждому явлению реакции
присущи основные моменты, без которых невозможна никакая реакция.
Первым таким основным моментом, охватывающим процесс реакции, начиная
с раздражения и до начала движения, является временный момент как
показатель быстроты протекания реакции. Но этого мало, ибо
заключительный момент реакции — движение само по себе — не получает здесь
характеристики. Отсюда вторым основный моментом явления реакции,
дающим характеристику по преимуществу этому заключительному
моменту явления реакции, т. е. движению, необходимо признать динамический
момент9 характеризующий ту интенсивность или силу, с которой
живое существо отзывается на внешнее раздражение. И, наконец, третьим
основным моментом реакции является моторный момент, который
характеризует форму движения, получающую свое численное выражение,
во-первых, в величине пройденного пути реагирующим органом,
во-вторых, в скорости движения этого органа и, наконец, в-третьих, во времени
движения.
Таким образом, мы видим, что ни один из этих основных моментов не
характеризует явления реакции в ее целом: временной момент охватывает
по преимуществу начальные стадии явления реакции, т. е. акт
раздражения, его передачу в центр и импульс к движению, оставляя в стороне самое
движение как таковое. С другой стороны, динамический и моторный
моменты характеризуют по преимуществу заключительную стадию в
явлении реакции, т. е. движение, оставляя в стороне начальные стадии реакции.
Должен отметить, что в этой работе я совершенно не касаюсь физиологических
методов исследования реакций, что так углубленно исследовано в трудах
физиологических школ Бехтерева и Павлова.
912
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
И лишь в своей совокупности все эти три момента дают нам полную
характеристику явления реакции в ее целом.
С этих-то трех точек зрения и необходимо подходить к изучению
явления реакции. И этим-то определяются те три основных метода —
хронометрический, динамометрический и моторно-графический, которые,
казалось бы, и должны были лечь в основу исследования реакций1. К
сожалению, в современной психологии мы не находим этого. И причина этого
лежит в том, что современная психология явление реакции неправомерно
рассматривала и производила анализ лишь с момента раздражения до
момента начала движения. Само движение как таковое, хотя часто и столь же
неправомерно называлось реакцией, несмотря на это, все же оставалось
почти незатронутым анализом.
В силу этого в современной психологии приобрел право гражданства
по преимуществу только один метод исследования реакций, вошедший во
все руководства по экспериментальной психологии, — это метод
хронометрический (неправильно иногда называемый психометрическим), т. е.
метод измерения быстроты протекания реакции, определения того
времени, которое протекает от момента внешнего раздражения до начального
момента ответного движения. Этот метод имеет за собой уже длинную
историю, обнимающую более, нежели целое столетие, и в своем развитии он
пережил три стадии2. Как это ни странно на первый взгляд, но свое
начальное применение этот метод нашел в астрономии, при разрешении вопроса о
различиях, получавшихся у каждого из наблюдателей при учете момента
прохождения звезды через меридиан. Начиная с Маскелина,
установившего впервые это различие в 1795 году, этот вопрос о так называемых
«личных уравнениях», или, вернее, «личных разностях» в восприятии
указанного момента, нашел затем свое подтверждение в исследованиях Бесселя,
Аргеландера, Вольфа и других астрономов. Они точно установили, что эта
«разность» у отдельных субъектов обычно не выходит за пределы 0,8
секунды, но это различие во времени реакций они объясняли такими
случайными явлениями, как утомление, привычка и т. п. По вполне понятной
причине более глубокого психологического анализа этот вопрос о реакциях в
руках астрономов не получил.
С 1850 года вопрос о временном измерении реакций вступил в новую
физиологическую стадию. Гельмгольц, а за ним целый ряд других
физиоУчение о реакциях человека с психологической точки зрения («Риктология »)//
Корнилов К.Н. Естественно-научные предпосылки психологии. М.-Воронеж:
Издво«МОДЭК».1999.
См. подробнее об этом. Salow Р. Untersuchungen zur uni — und bilateralen Reaktion.
Psych. Stud. В. VII. H. 1-2; Рибо. Современная германская психология. СПб., 1893;
Циген. Физиологическая психология. М., 1909.
913
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
логов применили этот метод к измерению времени, в течение которого
нервное возбуждение проходит по нерву определенной длины. Они нашли, что
физиологическое время реакции, т. е. скорость передачи по
чувствительному нерву человека, равно в среднем 39,9 метра в секунду. Но этим
определением физиологического времени реакции дело не ограничилось.
Начиная с 1861 года, с работ Дондерса, затем Экснера, а позже Вундта, метод
исследования реакций вступает в третью стадию — психологического
анализа и интерпретации. Здесь уже ставится вопрос не только об измерении
физиологического или психофизиологического времени реакций, но и
продолжительности чисто психологического времени реакции. При этом
применяют следующий прием: сначала определяют время так
называемой простой реакции, т. е. время, протекающее от момента появления
какого-нибудь простого — слухового или зрительного — раздражения
до момента ответного на него движения, причем это время точно
регистрируется в тысячных долях секунды особыми электрическими
часами-хроноскопом Гиппа. Затем измеряют время так называемой сложной
реакции, где дается не одно, а два или несколько раздражений, но таких,
на которые следует реагировать лишь после их различения. И затем из
этого времени сложной реакции вычитают время простой реакции:
полученная разность и будет показателем введенного усложнения, т. е.
чистым временем акта различения.
Вот эта-то попытка определять в реакции время чисто психического
момента и укрепила за данным методом наименование
психометрического или психометрии, т. е. измерения психических процессов,
подразумевая под этим измерение реакций во времени. А наряду с этим весь
многосложный и многообразный характер реакций человека на внешние
раздражения был сведен к основным формам, которые и были затем
конструированы в планомерной градации, начиная с самых элементарных, так
называемых простых реакций, до наиболее сложных, включающих в себя
ассоциативные процессы и процессы суждений.
И с этого времени проблема временного измерения реакций человека
на внешние раздражения привлекла к себе массу исследователей и создала
обширную литературу, рост которой не прекращается до настоящего
времени.
Но вместе с целым рядом положительных сторон, которые имеет этот
хронометрический метод измерения реакций, следует указать, что он
имеет и один основной недостаток, который состоит в том, что исследование
временной стороны реакций совершенно недостаточно для
характеристики процесса реакции в целом. И если в психометрии хотят видеть не что
иное, как метод исследования простейших форм взаимоотношения
живого организма к окружающей среде то, принимая во внимание тот путь, по
которому до сего времени шла психометрия, и тот круг проблем, который
914
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
она охватывала до последнего времени, мы должны будем признать, что
психометрия не освещала вполне того процесса, для исследования
которого применялась. Определение метода реакций как метода исследования
быстроты психических процессов хотя и упрочилось в психологии, но
упрочилось совершенно неосновательно, ибо понятие реакции и быстроты
психического процесса являются вовсе не адекватными: первое понятие
значительно шире второго. В самом деле, когда мы говорим об явлении
реакции в ее целом, то мы мыслим это явление как включающее в себя и акт
раздражения, и акт передачи его в центр, и, наконец, акт следуемого затем
движения, причем изучение явления реакции предполагает научный
анализ и обработку каждого из этих составных элементов реакции; когда же
мы говорим о быстроте протекания психических процессов, т. е. о времени
реакции, то под последним мы мыслим лишь время от момента
раздражения до момента движения, и потому самое движение захватывается лишь
в его подготовительной стадии, само же оно как таковое остается за
пределами времени реакции и потому не подвергается исследованию. И в этом
отсутствии всестороннего анализа движения при реакции лежит коренная
ошибка всей современной экспериментальной психологии, сводившей
область изучения реакции по преимуществу к измерению быстроты их
протекания.
Отсюда-то и берет начало основная задача моих исследований —
указать на этот пробел в изучении реакций и вместе с тем, наряду с
временным моментом реакции, подвергнуть анализу и самое движение при
реакции.
Обращаясь теперь к анализу этого движения при реакции, я прежде
всего должен отметить в этом движении динамический момент, ту
интенсивность или силу, с которой происходит ответное движение на
раздражение. И, действительно, наблюдения над актами обыденной жизни
подтверж-дают нам это на каждом шагу. Стоит всмотреться в характер
движений различных субъектов, чтобы заметить, что эти движения
производятся не только с различной быстротой, но и с различной затратой
энергии, причем и тот и другой моменты носят резко выраженный
индивидуальный характер. Так, одни, здороваясь при встрече, быстро и слабо
пожимают вашу руку, другие, наоборот, не спеша и энергично сжимают
ее; одни дают резкий и пронзительный звонок, нажимая быстро и сильно
электрическую кнопку, другие, наоборот, производят медленным и
вялым прикосновением к кнопке слабый и нерешительный звонок, так что
при достаточном навыке вы почти безошибочно может сказать, кто
пришел из ваших знакомых. Но где с особенной отчетливостью сказывается
эта наличность быстроты и силы в движениях субъекта — это в характере
игры на рояле. Тогда как для одних является характерным быстрый и
сильный удар по клавишам, другие, наоборот, извлекают звук путем
мед915
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ленного и слабого прикосновения к инструменту, и это-то различное
соотношение временного и динамического моментов и создает
характерный отпечаток игры того или иного музыканта. Все эти непосредственные
наблюдения фактов обыденной жизни определенно говорят нам о том,
что в процессе реагирования субъекта на внешние раздражения мы имеем
наличность не одной временной стороны, но и другой — динамической.
Но в то время как хронометрия всесторонне исследовала временную
сторону реакций, динамическая сторона в процессе реакции осталась
совершенно не исследованной. Это обстоятельство и выдвигает перед нами
необходимость приложения нового метода, который бы вскрыл эту
динамическую сторону в процессе реакции, и таковым методом может
быть предлагаемый мною, наряду с хронометрическим методом,
динамометрический метод исследования реакций.
Но этим не кончается анализ движения при явлении реакции. Мы
видели, что в этом движении имеется еще и другой момент, как мы его
назвали выше — моторный, дающий нам характеристику, с одной стороны,
пройденного пути реагирующим органом, с другой — скорости движения этого
органа и, наконец, времени его движения.
Должен отметить, что эта моторная сторона явления реакции
подвергалась исследованию некоторыми психологами, как, например,
Аллистером и Иссерлином, регистрировавшими форму движения, но опять-таки
трактовавшими эту проблему как частную и совершенно оторванную от
динамической стороны реакции.
Отсюда-то и вытекает стоящая передо мною задача — по
возможности объединить все эти три основных момента реакции воедино,
проследивши ту закономерную связь, которая существует между ними. Ибо лишь
при этом условии мы сумеем действительно всесторонне осветить явление
реакций человека, что и даст нам право расширить трактование этого
основного жизненного явления и вывести за пределы частной главы курсов
по экспериментальной психологии, каковую роль это учение о реакциях
играло до сих пор.
Должен отметить при этом, что в силу широты поставленной задачи
мне трудно будет всесторонне дать одинаково полный анализ. А потому я
сосредоточиваю свое внимание по преимуществу на динамической
стороне изучения реакций как совершенно неисследованной до сих пор,
привлекая временной и моторный моменты лишь постольку, поскольку они
необходимы для установления закономерной связи между всеми этими тремя
основными моментами реакции.
В качестве орудия такого всестороннего исследования реакций я
пользуюсь специально сконструированным мною аппаратом —
динамоскопом, задача которого в Связи с хроноскопом, регистрирующим
временную сторону реакции, одновременно регистрировать как динамическую
916
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
сторону реакций, показывая величину затрачиваемой при реакции
энергии, так и моторную сторону в ее основных проявлениях. Подробное
описание динамоскопа, как и вообще всей техники постановки экспериментов,
будет дано в одной из следующих глав.
План исследования1
Ввиду того, что все многообразие реакций человека можно свести
лишь к нескольким основным типичным формам, начиная с более
простых и кончая наиболее сложными, поэтому и исследованию
подвергались по преимуществу эти основные формы. Таких основных форм
реакций всего лишь семь. Они-то в своей совокупности и составляют то, что я
называю гаммою реакций человека в силу их постепенно повышающейся
сложности.
Вот эти семь основных форм реакций:
/. Натуральная реакция, где мы ставим испытуемого в условия,
наиболее близкие его естественному состоянию, предоставляя ему
возможность реагировать наиболее удобным для него способом.
2. Мускульная реакция, при которой у испытуемого создается
установка произвести движение тотчас же, как только будет воспринято
раздражение, и потому внимание концентрируется по преимуществу на
движении.
3. Сенсорная реакция определяется установкой производить
движение лишь после отчетливого восприятия раздражения, почему и внимание
концентрируется по преимуществу на раздражении.
4. Реакция различения, при которой испытуемому предъявляются
два заранее известных ему раздражения (простое различение) или же
несколько таких раздражений (сложное различение), причем движение
следует лишь после отчетливого их различения.
5. Реакция выбора, где испытуемому предъявляют два заранее
известных ему раздражения, предлагая на одно из них реагировать, а на другое
нет (выбор между движением и покоем), или же предъявляется несколько
таких раздражений, причем на каждое из них нужно отвечать особым
движением (выбор между несколькими движениями).
6. Реакция узнавания, где испытуемому предъявляется одно,
заранее ему неизвестное раздражение (простое узнавание) или же несколько
таких раздражений (сложное узнавание) и предлагается реагировать лишь
после узнавания этих раздражений.
Учение о реакциях человека с психологической точки зрения («Реактология »).
Гл. 3// Корнилов К.Н. Естественно-научные предпосылки психологии.
М.-Воронеж: Изд-во «МОДЭК», 1999.
917
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
7. Ассоциативные реакции, где движение испытуемого следует лишь
после того, как предъявленное раздражение вызовет по ассоциации первое
появившееся в сознании представление (свободная ассоциация) или же
представление, стоящее в определенной логической связи с данным
впечатлением (ограниченная ассоциация, ассоциация типа логических
суждений и т. п.).
...при ассоциативных реакциях, чем сложней задание в смысле
воспроизведения по ассоциации того или иного представления, тем все
более удлиняется время реакции и тем сильней уменьшаются как
величина затрачиваемой в движении реагирующего органа энергии, так и путь,
пройденный этим реагирующим органом, и скорость его движения.
Таким образом, мною подвергнуты исследованию почти все основные
виды реакций, известные до сих пор в хронометрии, и вскрыта не только их
динамическая сторона, остававшаяся до сих пор совершенно
неисследованной, но установлено и определенное взаимоотношение этой
динамической стороны к двум другим основным моментам явления реакции,
исследованным уже в науке, это — к временному и моторному, выражающемуся
в форме движения реагирующего органа.
Теперь перед нами встает вопрос, какие же выводы
общепсихологического характера можно было бы сделать, исходя и базируясь на этих
полученных мной экспериментальных данных? К рассмотрению этих
выводов я теперь перейду.
Теоретическое значение полученных результатов1
1. Принцип однополюсной траты энергии. Интеллект и воля. Из
рассмотрения вышеприведенных результатов исследования различных
форм реакций нам прежде всего бросается в глаза полная закономерность
в отношении временного, динамического и моторного моментов реакции,
с одной стороны, и сложности мыслительного процесса, с другой стороны.
В самом деле, это особенно отчетливо выявляется там, где над одними и
теми же испытуемыми производились опыты на различного рода реакции в
их постепенно возрастающей сложности, как, например, ярче всего в
третьем, наиболее полно проведенном исследовании, затем в четвертом,
пятом, девятом, десятом, одиннадцатом и двенадцатом исследованиях. [...]
Мы видим, что во всех исследованиях проходит красной чертой
определенная закономерность между качественной и количественной
стороной реакций, а именно: мы видим, что при мускульной реакции, где, как
Учение о реакциях человека с психологической точки зрения («Реактология »).
Гл. 8// Корнилов К.Н. Естественнонаучные предпосылки психологии.
М.-Воронеж: Изд-во «МОДЭК», 1999.
918
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
известно, мыслительный процесс имеет элементарный характер, в силу чего
многие психологи во главе с Вундтом отождествляют мускульную
реакцию с простым мозговым рефлексом, внешнее высвобождение энергии в
движении реагирующего органа при минимальном времени и интенсивном
характере движения достигает своего максимума; затем, при сенсорной
реакции, где мы имеем дело с более сложным мыслительным процессом,
интенсивность движения падает, тогда как время реакции растет; наконец,
при дальнейшем усложнении апперцептивного процесса при реакции
различения (а также выбора, узнавания, ассоциаций) мы вновь наблюдаем то
же последовательное падение как затраты энергии, так и величин,
характеризующих форму движения, с все тем же последовательным
ростом времени реакции. Таким образом, оказывается, что с усложнением
мыслительного процесса одновременно с удлинением времени реакции
соответственно уменьшаются как затрачиваемая в движении энергия, так
и путь и скорость этого движения. Мысль и движение оказываются двумя
взаимно отрицающими друг друга полюсами. Отсюда берет свое начало,
принцип «однополюсной» траты энергии, как я его называю, — принцип,
который можно формулировать так: мыслительная деятельность и
внешнее проявление движений находятся в обратном отношении друг к
другу: чем более усложняется и становится напряженным мыслительный
процесс, тем менее интенсивным становится внешнее выявление
движения.
В самом деле, нельзя быть одновременно занятым какой-нибудь
сложной мыслительной деятельностью и в то же время затрачивать внешне в
движениях много энергии, и обратно. Человеку в этом отношении
свойственна способность одностороннего, однополюсного, если можно так
выразиться, высвобождения энергии: если энергия наиболее интенсивно
потребляется центрально при усугубленной мыслительной деятельности,
эта энергия не может получить в то же время интенсивного
периферического высвобождения в телесных движениях. И это непосредственно
видно уже из внешней установки тела при глубокой мыслительной
деятельности: всякого рода движения прекращаются, человек как бы застыл в одной
позе, никакой жестикуляции, никакого движения, лишь глубоко
сосредоточенное лицо с устремленным в одну точку неподвижным взглядом ясно
говорит о том, что организм бережет минимальную трату энергии даже в
движении глазного яблока. Застывший в течение нескольких часов в одной
позе Сократ, занятый разрешением сложной проблемы, — вот
классический пример проявления этого принципа «однополюсного» потребления
энергии. И этот принцип, по-видимому, давно был известен и учитывался
уже в глубокой древности. По крайней мере Платон, указывая на
ненадежность чувственного восприятия, утверждал, что «для познания необходим
покой », чего мы не имеем в чувственном восприятии, так как здесь
движет919
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ся и сам объект, от которого исходит передача качества, а также движется
и сам воспринимающий орган1. На этом же основании Аристотель
утверждал, что юноши в силу присущего им «слишком большого беспокойства и
движения» не могут сравняться в продуктивности работы своего
интеллекта со зрелыми людьми, ибо «мышление скорее подобно некоторому
покою и остановке, нежели движению»2. На этом же принципе зиждется
вся древняя иконопись, где, как это правильно уловил Е. Трубецкой,
«движение стеснено до крайности ... а там, где оно допущено, оно введено в
какие-то неподвижные рамки, которыми оно словно сковано.
Необычайная сосредоточенная сила надежды передается исключительно
движением глаз, устремленных вперед. Крестообразно сложенные руки святых
совершенно неподвижны, так же, как и туловище и ноги. Их шествие в рай
выражается исключительно их глазами... Этой-то кажущейся физической
неподвижностью и передается необычайное напряжение и мощь
неуклонно совершающегося духовного подъема: чем неподвижнее тело, тем
сильнее и яснее воспринимается движение духа». Наоборот, «человек в
состоянии безблагодатном или же доблагодатном, человек, еще не
успокоившийся в Боге, часто изображается на иконах чрезвычайно подвижным:
таково, например, падение вверх ногами грешников в ад, сорвавшихся с
лестницы, ведущей в рай, и т. п. »3.
Не чужд этот динамический принцип и современному искусству,
особенно скульптуре. Одним из наиболее ярких его представителей является
Роден4. В самом деле, возьмем для примера один из самых сильных
слепков Родена, который изображает прекрасную молодую женщину,
томящуюся таинственной глубокой мукой: судорога страдания пробегает по ее
телу, голова низко опустилась, уста и веки сомкнулись: она будто спит. Но
искаженные черты лица выдают драматическую напряженность ее мысли.
Зритель смотрит на нее с недоумением, но он окончательно озадачен,
когда замечает, что у этой фигуры нет ни рук, ни ног. Точно художник разбил
их в порыве недовольства самим собой. И поневоле жалеешь, что такая
сильная вещь производит неполное впечатление, и оплакиваешь ее
жестокие увечья. Но статуя нарочно оставлена в этом состоянии. Она
изображает созерцание. Вот почему у ней нет ни рук, ни ног: ни двигаться, ни
действовать она не может, ибо «очень напряженное мышление подсказывает
такие веские аргументы в пользу самых противоречивых решений, что в
итоге получается бездействие». И здесь мы вновь видим тот же мотив,
присущий веку безволия, это — апофеоз созерцания, полного
непреоборимо1 Платон. Государство. Кн. IV. Тимей.
2 Аристотель. О душе. А. 3.407а, 32-33. Физика, VII, 3, 247в, 10.
3 Трубецкой Е. Умозрение в красках. М., 1913 г.
4 Роден. Искусство. 146.1912 г.
920
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
го отвращения к практической жизни. Вот почему другая известная
скульптура Родена «Мысль» изображает только одну голову на пьедестале, ибо
«при интенсивной мысли телесного не существует». То же самое мы
наблюдаем и в знаменитой статуе Микеланджело во Флоренции под
названием «Мыслитель»1.
Не чем иным, как проявлением того же самого принципа, является
столь древняя тенденция в философии, зараженной богословием, это —
противопоставление деятельности мысли — Разума внешнему проявлению
движения — Воле, это — искони известная борьба разума с
чувственностью: энергия может быть сконцентрирована или на ее внешнем
чувственном высвобождении, и тогда разум спит, или же энергия потребляется
центрально, и тогда чувственное внешнее проявление побеждается разумом.
Уйти в созерцание, в деятельность разума — значит, устранить
чувственные проявления; уйти в проявление чувственного характера — значит,
заглушить разум. Шопенгауэр прекрасно понял эту антитезу разума и воли.
Вот почему он пришел к мысли, что воля может быть парализована только
или аскетизмом и погружением в нирвану, или же интеллектом, если он,
будучи незаинтересованным, погрузится в науку или искусство. Таким
образом, интеллектуальное самоуглубление — вот единственный путь
освободиться от неразумной воли. На этом же основании Ницше приходит к
прямо противоположным выводам, являясь резким противником
излишнего интеллектуализма, потому что ум, этот «малый разум», по
выражению Ницше, пожирает всю волю — этот наиболее ценный в жизни
«большой разум». На основании того же самого принципа можно думать, что
интеллигентный класс людей, обладающий большей склонностью к
центральному мозговому потреблению энергии, нежели к периферическому,
является склонным более к мыслительной и словесной реакции, нежели к
непосредственно и активно реализующемуся в действии волевому акту2.
Вот почему наиболее организованную волю мы находим у класса, хотя и
менее культурного, но зато сумевшего наиболее гармонично сочетать
интеллект и волю, — это у представителей современного пролетариата. Той
же самой сущностью этого установленного нами динамического принципа
можно объяснить и тот чрезвычайно интересный факт, учтенный
натуралистами, что в затрате механической энергии человек далеко отстал от
многих животных, которые способны поднимать груз, превосходящий во
много раз вес их тела, чего не может сделать человек, и это наводит на мысль,
что у человека имеется иной потребитель энергии — его высокоразвитая
психическая деятельность, требующая значительной затраты
механической энергии.
1 Ср. Мейман. Интеллигентность и воля. С. 34 и ел. Москва, 1919.
2 Ib. С. 314-315.
921
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Таким образом, наличность антитезы между интеллектом и волей
несомненна. И когда ставится вопрос в такой форме: «Что имеет первенство в
психике человека — интеллект или воля?» и даже шире: «Что имеет большую
значимость из двух сил, на развитии которых покоится все величие и все
успехи как отдельных лиц, так и всего человечества, — выдающаяся
интеллигентность или сильная воля? » — как это поставил в своем труде
«Интеллигентность и воля» Мейман, — то я, вопреки теоретическим рассуждениям
Меймана, на основе, между прочим, и своих экспериментальных данных,
решаю этот вопрос прямо в обратном смысле, а именно скорее в пользу
примата воли, а не интеллекта. И вот на основе каких соображений: когда
Мейман говорит, что воля не есть первоначальное явление душевной жизни,
ибо она немыслима без интеллектуальных моментов, тогда как
интеллектуальные элементы и процессы (как, например, ощущения и ассоциации
представлений при воспроизведении), напротив, хорошо вообразимы и даже
фактически существуют без влияния воли, а потому интеллект и должен
быть признан за первичное проявление психики1, то на все это следует
сказать, что если уж говорить и искать первичное проявление в психике
человека, то таковым ни в коем случае нельзя назвать ни интеллект, ни волю,
ибо оба эти явления производного порядка; первичным же проявлением
психики должно быть признано, как я это обосновал в первой главе,
явление реакции, этот основной и первичный акт, из которого путем лишь
абстрагирования мы отвлекаем интеллектуальный и волевой моменты.
ПСИХОЛОГИЯ И МАРКСИЗМ
(Автореферат доклада проф. К.Н. Корнилова)2
Марксизм как философское мировоззрение подчинил своему
влиянию целый ряд научных дисциплин. Не должна оставаться без этого
влияния и современная психология. Под влиянием марксизма должно прежде
всего измениться понимание объекта психологии. Тот дуализм духа и
материи, психического и физического, который присущ и современной
эмпирической психологии, марксизм устраняет, сводя психическое к
материальному, считая психику ничем иным, как свойством наиболее
организованной материи, именно, особым видом физической энергии.
Марксизм, считая психику ничем иным, как свойством материи, тем
самым отвергает современное учение психологии о непространственности
1 1Ь.С310.
2 Известия ВЦИК Советов. 16 января 1923 г. № 10 (1747). С. 4// Корнилов К.Н.
Естественно-научные предпосылки психологии. М.-Воронеж: Изд-во «МОДЭК».
1999.
922
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
психических процессов. Психические процессы должны быть признаны
пространственными в том смысле, как это приложимо ко всякого рода
процессам энергетического порядка.
Материалистическое понимание психики определяет и метод
психологии. Подобно тому, как материя изучается в первую очередь методами
объективным и экспериментальным, так и в психологии должны иметь
место в первую очередь эти методы.
Марксизм в корне порывает с тем интеллектуализмом, которым
проникнута вся современная психология. Марксизм ставит задачи не только
объяснить психику человека, но и владеть этой психикой. Поэтому
марксистская психология — это волюнтаристическая психология (психология
воли) по преимуществу. Только с точки зрения материалистической
психологии получает свое разрешение и вопрос об отношении психического к
физическому, так и проблема той актуальности духа, которая вызвала
измышление в психологии метафизических теорий апперцепции и других.
Индивидуальная психология, над которой занимается по
преимуществу современная психология, в марксистской психологии должна отойти
на второй план. Первое место должна занять социальная психология.
итоги дискуссии
ПО РЕАКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ1
Резолюция общего собрания ячейки ВКП(б) Государственного
института психологии, педологии и психотехники (ПП и П) от 6/VI1931 г.
1. Острота борьбы на научном фронте является отражением остроты
классовой борьбы в нашей стране. Основное на данном этапе заключается в том,
что рабочий класс под руководством коммунистической партии с большим
успехом выполняет задачу завершения построения фундамента
социалистической экономики. Это победоносное осуществление генеральной линии
партии вызывает бешеное сопротивление со стороны всех капиталистических
элементов. Все основные вопросы классовом борьбы заострены также в
области науки. Нет такой науки, в которой бы не происходили процессы
размежевания, перестройки, перегруппировки, борьбы разных групп и школ,
несомненно отражающие обостренную классовую борьбу в нашей стране.
На настоящем этапе, ленинском этапе «марксизма эпохи
империализма и пролетарской революции», связь науки с политикой стала особенно
ясной. В настоящее время наука будет действительной наукой и послужит
прогрессу человечества только в том случае, если теоретическая работа
деятелей этой науки будет всецело проникнута большевистской
партийностью и направлена на обслуживание социалистической практики. В
настоЖурнал «Психотехника и психофизиология труда ». № 4-6 за 1931 г. С. 387-391.
923
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ящий период открытой и обостренной классовой борьбы, когда идет
напряженнейшая работа по полному социалистическому переустройству всей
нашей страны, все основные вопросы, как политические, так и
теоретические, ставятся ребром.
Также перед психологией как наукой особенно резко стоит вопрос об
ее правильных марксистско-ленинских методологических позициях в
борьбе со всякими антимарксистскими, антиленинскими теориями, со всем, «что
является в той или иной форме выражением буржуазного или
мелкобуржуазного влияния на идеологию пролетариата, как бы тщательно оно ни
было завуалировано и скрыто» (из резолюции ячейки ИКП ЕиФ).
2. Ленинский этап философии требует от психологов выполнения
ответственейшей задачи разработки наследства Ленина в области
психологии. Только овладев марксистско-ленинской методологией, психология
сумеет действительно включиться в практику социалистического
строительства и последовательно бороться с перенесением буржуазных течений
на советскую почву. Задача разработки марксистско-ленинской теории в
психологии приобретает особое значение в связи с кризисом современной
буржуазной психологии, отражающим общий кризис буржуазной науки, —
неизбежное наследство кризиса всей капиталистической системы. Кризис
психологии показывает, что все ведущие новейшие буржуазные школы и
направления психологии (бихевиоризм, гештальт-психология и т. д.)
зашли в тупик. Уже наметились ясные тенденции быстрого роста гегемонии
реакционных идеалистических теорий (персонализм Штерна, психология
духа Шпрангера и т. п.); нужно решительно вскрыть все бессилие
современной буржуазной психологии в ее попытках найти выход из тупика.
3. Для буржуазной психологии типичны: отсутствие точки зрения
развития психических процессов на основе труда, оперирование человеком
«вообще», человеком абстрактным, маскировка личностью как
«внеисторической » категорией для прикрытия настоящего классового лица
буржуазии. При этом для нее характерны, с одной стороны, физикализм и, с
другой стороны, биологизм, отрыв психики от физиологических процессов,
превращение личности в «самодовлеющую монаду», либо превращение ее
в автомат, обреченный пассивно реагировать на раздражители
окружающей среды, замазывание или сознательное искажение классового
характера общественной среды, формирующей личность.
Однако, борясь с буржуазной психологией, психологи-марксисты
должны помнить, что «марксизм отнюдь не отбросил ценнейшее
завоевание буржуазной эпохи, а напротив, усвоил и переработал все, что было
ценного» (Ленин).
4. Перед всеми психологами-марксистами надо поставить задачу
усиления борьбы за марксистско-ленинскую психологию, до конца должны
быть разгромлены и уничтожены остатки буржуазно-идеалистических
924
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
теорий, являющихся прямым отражением сопротивления
контрреволюционных элементов страны социалистическому строительству
(челпановщина, нечаевщина, Лосев, Шпет и др.). Самой решительной и беспощадной
должна быть борьба против псевдомарксистских течений,
«представляющих форму приспособления к марксизму-ленинизму в условиях
диктатуры пролетариата, по существу отображающих напор классового врага на
идеологию пролетариата» (из резолюции президиума Комакадемии).
В нашей советской психологии это приспосабливание особенно выразилось
в прикрытии марксистскими фразами грубых механистических теорий,
перерастающих и переплетающихся с меньшевиствующим идеализмом и
выливающихся в различные формы правого оппортунизма на практике.
Поэтому в области психологии в данный период времени должно быть
обращено особое внимание на борьбу с механицизмом как главной опасностью,
не ослабляя в то же время борьбы с меньшевиствующим идеализмом.
Перед психологией, как и перед всеми науками, стоит вопрос о самом
решительном включении в работу по осуществлению практических задач
социалистического строительства. Вне такой работы немыслимо
существование психологии в Советском Союзе. Вне практики психология не может
стать марксистско-ленинской наукой. Психология должна как можно
скорее осуществить задачу поворота к социалистической практике. Такой
поворот требует от психологии полной перестройки и ясного и четкого
оформления на основе диалектического материализма.
5. Только что закончившаяся дискуссия по реактологической
психологии с полной ясностью показала, что в области психологии мы имеем
классово-враждебные влияния в основном именно в виде
механистических взглядов. Эти механистические взгляды, переплетающиеся с
идеалистическими теориями, особенно опасны потому, что они протаскивались
как якобы подлинно диалектике-материалистические.
Бывшее руководство в области психологии исходило методологически,
с одной стороны, из механистических философских теорий Спенсера
-Богданова-Бухарина, с другой стороны, тесно смыкалось и руководилось
Дебориным и его группой с характерным для меньшевиствующего идеализма
формализмом и отрывом теории от практики. Линия бывшего
философского руководства ярко сказалась в примиренческом характере работы и
резолюций I съезда по поведению человека, который возглавлялся т.
Каревым, Залкиндом и Сапиром. Со стороны бывшего психологического
руководства, которое одновременно было также руководством
Психологического института (Сапир, Шпильрейн, Корнилов, Боровский, Франкфурт)
не было развернуто марксистской критики грубо биологизаторской
бехтеревской рефлексологии, идеалистического физикализма
гештальт-психологии, псевдомарксизма реактологии Корнилова, идеалистического
персонализма Штерна, бихевиоризма североамериканцев.
925
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Больше того, эти школы встречали у отдельных работников института
полную поддержку и облагались в марксистскую фразеологию. Подобная
линия привела к тому, что грубый механицизм К.Н. Корнилова,
перерастающий в идеализм в разрешении целого ряда основных моментов проблемы
психики, идеалистическое штернианство Шпильрейна, грубый бихевиоризм
Боровского, «культурническая » психология Выготского и Лурия,
идеалистический физикализм гештальт-психологии, усиленно проповедуемый
Артемовым и др., до последнего времени оставались не разоблаченными и
выдавались за марксистские теории.
Журналы «Под знаменем марксизма», «Естествознание и марксизм»
не только не вели настоящей борьбы ни с одной из указанных
психологических школ, но наоборот помещали статьи в их защиту. Также «Вестник
Комакадемии », давая на своих страницах место статьям по психологии, не
оговаривал их примечаниями редакции.
Что касается журнала «Психология », то он отражал все
вышеуказанные антимарксистские направления на психологическим фронте и на всем
протяжении своего трехлетнего существования по содержанию не
отличался от буржуазных психологических журналов. Фракция редакции
журнала проводила явно оппортунистическую линию, давая возможность
прикрывать острые моменты классовой борьбы голым формализмом.
6. Бывшее руководство психологическим фронтом, следуя за
меньшевистствующим идеализмом деборинской группы, игнорировало
разработку наследства Ленина в области психологии. Вместе с тем, смазывая
ошибки Плеханова (в частности, в иероглифической теории восприятия), не
критически воспринимало его теоретические позиции и, квалифицируя
высказывания Плеханова за «почти полный курс методологии марксистской
психологии», преувеличивало его роль в истории марксизма. Один из
представителей бывшего психологического руководства, Т. Франкфурт,
выступил с откровенной политикой подмены ленинизма плехановскими
цитатами в области психологии (книга Франкфурта «Плеханов и методология
психологии »). Эта политика т. Франкфурта требует тем большей
бдительности и заостренного внимания, что в своем стремлении
психологизировать исторический материализм и «социологизировать» психологию он
подменяет классовую борьбу теорией подражания рабочих буржуазии,
сводит к пассивному восприятию массой идеологии своих идеологов, и
вообще вся книга по характеру своих политических установок указывает на
идеологические корни ее содержания в теориях меньшевиствующего
идеализма социал-демократии.
7. Воинствующий эклектизм Корнилова, Чучмарева, Артемова,
Добрынина и др. оформился в виде реактологической психологии.
Антимарксистская сущность последней не была вскрыта никем из бывшего
психологического руководства вследствие прямого апологетизма одних (Франкфурт) и
926
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
примиренчества других (Сапир). Также выступления т. Шпильрейна
против К.Н. Корнилова и его учеников не были принципиальной критикой
реактологии, они делались не по существу и не с позиций
марксизма-ленинизма. Между тем система взглядов Корнилова содержит ряд вопиющих
извращений основных позиций диалектического материализма:
скатывания к агностицизму (отказ от проблемы ощущений и восприятий в
психологии и заявление, что в непосредственном опыте нам даны лишь реакции,
см. «Учение о реакциях», изд. 3-е, с. 2), кантианское извращение
марксистско-ленинской теории отражения («диалектический материализм
полагает, что бытие не отражается в сознании так же, как вещи в зеркале,
что эти отражения имеют субъективный характер, обусловливаемый
строением воспринимающего аппарата1, исключение психики из закона
сохранения энергии и тем самым отрыв психики от движущейся материи
(«ни о каком подчинении психики закону сохранения энергии и речи быть
не может»)2, признание пространственности психики3 и т. д. Все эти
ошибки представляют, несомненно, попытки протащить под флагом марксизма
идеалистические идеи в области психологии.
8. Исторически реактология сослужила прогрессивную роль в борьбе
с реакционно-идеалистической психологией Лопатина, Челпанова и т. п.,
с одной стороны, и с енчменианством и рефлексологией — с другой. Однако
возникшая сама как продолжение метода реакций вундтовской школы
физиологической психологии и выросшая на почве эмпирической
психологии Челпанова, затем эклектически соединенная с рефлексологией и
бихевиоризмом, она не исходила и не могла исходить в своей борьбе из
марксистских позиций, В основе реактологии лежит механистическая
теория равновесия («каждая реакция есть в той или иной форме
взаимодействие живого организма с окружающей средой. Это взаимодействие,
принимая разные формы, в своей основе имеет не что иное, как нарушение и
восстанавливание равновесия между индивидуумом и окружающей
средой»)4. К этому же принципу нарушения равновесия между индивидом и
средой сводятся все сложнейшие психологические процессы. Принцип
однополюсной траты энергии, играющий в реактологии роль важнейшей
теоретической предпосылки, является сконцентрированным выражением
механистической теории равновесия в психологии. Все многообразие
Проблемы современной психологии. 1926. С. 9.
Корнилов К.Н. Воззрение современных механистов на закон сохранения энергии и
психику// Психология. Т. II. Вып. 1,1929.
«Современная психология и марксизм», 1925. С. 8 и «Вестник Комакадемии».
№ 35-36. 1929. С. 191.
Учение о реакциях человека с психологической точки зрения («Реактология »). М.:
Госиздат, б/г [1921]. С. 4.
927
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
поведения человека, всю ступенчатость в развитии этого поведения
реактология пытается свести к понятию реакции. Это приводило ее к
игнорированию и непониманию качественного своеобразия высших психических
процессов (речи, мышления и т. п.) и истолкованию их в духе бихевиоризма
и рефлексологии. Для марксистской психологии одинаково неприемлемо
сведение психических процессов ни к понятиям «реакций», ни
«рефлексов», т. к. оба эти понятия: а) основаны на теории равновесия и совершенно
игнорируют проблему самодвижения; б) трактуют о процессах поведения
«вообще», поведения абстрактного, а не исторического человека; в)
предполагают механическое сведение всех сложнейших психических
процессов к простейшим ответам на раздражения из окружающей среды.
9. Возникшая как эклектическое сочетание совершенно различных
психологических школ, имеющих свои корни в буржуазной философии и
социологии, реактологическая психология некритически и без переработки
перенесла к нам чуждые стране строящегося социализма буржуазные
методы и методики, не могущие не привести в области психологии к
характерной догме II Интернационала — разрыву между теорией и практикой.
Отсутствие партийности, отсутствие основного политического стержня,
который бы превращал психологию в одно из научных орудий
социалистического строительства, приводило реактологическую психологию к ряду
неверных и порой вредных для практики социалистического строительства
положений. По отношению к рабочему классу К.Н. Корнилов, например,
утверждал, что «создать из интеллигентного человека представителя
физического труда является более легкой задачей, нежели из профессионала
физического труда создать интеллигентного человека »*, или, что
«крестьянская и рабочая аудитория привыкла расходовать свою энергию по
преимуществу в движениях своего тела, т. е. периферически, и лишь медленно
и с трудом привыкает к тому, чтобы эту периферическою трату энергии,
так наз. физический труд, переключить на трату энергии центрально,
головным мозгом, на так называемую умственную работу », что «взрослая
аудитория рабочих и крестьян во многом аналогична детской
аудитории »2, или «мы вовсе не ценим фактора интеллекта так высоко, как на
Западе. Интеллектуально одаренный человек у нас не значит — пригодный к
жизни.
Наоборот, мы видим классы, которые интеллектуально ниже
одарены, но в смысле проведения будущего строя они идут далеко впереди» (из
выступления Корнилова на I педологическом съезде).
Учение о реакциях человека с психологической точки зрения («Реактология »). М.:
Госиздат, б/г [1921]. С. 117.
Психологическое обоснование методов работы и методов изучения аудитории
взрослых. ГИЗ, 1929. С. 33.
928
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Понятие труда было превращено во внеисторическую категорию, труд
индустриального рабочего и труд крестьянина оказались трудом одного и
того же «мускульного типа ». Психотехнике предлагалось исходить из
реактологической лабораторной классификации трудовых процессов, по
которой вся разница между различными профессиями заключается лишь в
затрате большего или меньшего количества центральной или
периферической механической энергии, к большей или меньшей длительности,
большей или меньшей интенсивности моторной реакции. Педагогика
рассматривалась узко биологически, как «прикладная дисциплина, имеющая своей
задачей выработку планомерных реакций молодого существа в его
стремлении приспособиться к условиям окружающей среды ». Для важнейшей в
педагогике проблемы политехнизма Корнилов указывал: «Принцип
гармонического синтеза работы рук и работы ума не должен быть понимаем
как процесс одновременного слияния того и другого». Его постановка
вопроса об умственном труде как центральном процессе, в
противоположность физическому труду как периферическому процессу, по существу,
ведет к отрицанию политехнизма, к метафизическому разрыву между
умственным и физическим трудом, дезориентации и демобилизации бойцов
социалистического фронта культурной революции.
10. Борьба на два фронта за марксистско-ленинскую психологию с
особой ясностью и четкостью должна быть поставлена именно теперь,
в свете тех уроков, которые дала нам дискуссия по реактологической
психологии, обнаружившая, что антимарксистская сущность этого
направления понята рядом психологов недостаточно. С одной стороны, некоторые
ученики и сотрудники Корнилова, замазывая свои прежние высказывания,
заявляли, что никогда не были сторонниками реактологической
психологии (Артемов); другие (Рудик, Добрынин, Любимов) поняли самую
дискуссию как повод для признания своих ошибок, но не поняли
антимарксистской сущности реактологической психологии; третьи (Боровский, Беляев)
вместе с Корниловым отказались признать какие-либо ошибки в
реактологической психологии. К.Н. Корнилов не только не понял своих ошибок,
но оценивает вообще всю дискуссию по реактологической психологии не
как борьбу за марксистско-ленинскую методологию в психологии, а как
непринципиальные выпады, направленные лично против него. Все это
требует дальнейшей решительной борьбы против механицизма как основной
опасности, т. е. против корниловщины, связанной с меньшевистским
идеализмом деборинской группы, против бихевиористов типа Боровского,
против грубо биологизаторской бехтеревщины, против попыток
истолкования при помощи методов условных рефлексов школы Павлова всего
сложного и своеобразного поведения человека, против позитивизма и
некритического заимствования различных модных западноевропейских
психологических теорий, с одной стороны, и, с другой стороны, против
мень30 Российская психология 929
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
шинствующего идеализма, выражающегося в оппортунистическом
отношении к борьбе с враждебными марксизму-ленинизму взглядами в
области психологии, в отказе от принципа партийности в психологии, в
истолковании всей методологии психологии лишь по Плеханову, в полном
забвении роли Ленина для психологии, в отрыве теории от практики.
Необходимо неуклонно развивать дальнейшие разоблачения всех
псевдомарксистских направлений в области психологии, бороться за
марксистско-ленинскую психологию.
11. На пути к созданию марксистско-ленинской психологии нужно в
качестве основных принципов выдвинуть: а) созидающую и формирующую
роль труда но отношению ко всем психологическим процессам. «Труд
создал самого человека» (Энгельс), это значит, что все процессы, явления,
которые служат предметом психологии, должны изучаться на основе
истории труда, в связи с развитием производительных сил,
общественно-историческим процессом. Обращая внимание на ведущую роль труда в
образовании и развитии психических процессов, нужно одновременно
подвергнуть решительной критике богдановско-бухаринскую концепцию
по указанному вопросу (техницизм, теория равновесия, энергетизм,
примитивный физиологизм, особенно в проблеме речи, мышления), б) Тесную
связь психологии с физиологией труда, с физиологией высшей нервной
деятельности, и наоборот, поскольку последняя не может без психологии
стать в полном смысле этого слова физиологией человеческой.
12. Для действительного осуществления поворота на
психологическом участке советского научного фронта необходимо:
а) Перестроить всю работу на началах большевистской партийности,
повседневной непримиримой борьбы на два фронта — за генеральную
линию партии, за ударные темпы в работе на основе социалистического
соревнования и включения в практику социалистического строительства.
б) Приступить к разработке наследства Маркса, Энгельса и особенно
Ленина по вопросам методологии психологии, решительно форсируя
разработку психологических проблем в философии диалектического
материализма.
в) Вести упорную, систематическую и непримиримую борьбу как со
всякими разновидностями идеализма, поповщины, агностицизма и
подменой «социальной психологией» исторического материализма в
зарубежной буржуазной психологии, так и с проникновением различных
буржуазных психологических течений в СССР, остатками и отголосками старых
буржуазных психологических школ у нас, сосредоточив особое внимание
на борьбе со всякими извращениями марксизма-ленинизма в области
психологии и смежных психоневрологических наук, причем в первую очередь
удары должны быть направлены по механицизму как главной опасности на
данном этапе, не ослабляя в то же время борьбы с меньшевиствующим
иде930
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ализмом и др. извращениями, тесно переплетающимися с
механистическим оппортунизмом.
г) Перевооруженную на основах марксизма-ленинизма психологию
вывести из ее замкнутости в узких «ученых» кругах, организуя широкую
пропагандистскую работу по популяризации проблем психологии и
созданию общественного актива среди рабочих, педагогов, рабселькоров,
пролетарских писателей, работников искусства и др., а также путем
включения психологов в практическую работу по антирелигиозной пропаганде и
т. п.
д) Создать при Комакадемии методологический центр по психологии
и психотехнике для широкой научно-организационной работы как в
Москве, так и на периферии, для оказывания систематической помощи
работникам на местах, а также для содействия издательствам по редактированию
поступающих в печать психологических трудов.
е) Организовать просмотр имеющейся учебной и
самообразовательной литературы, учебных планов, программ и методов преподавания в
вузах и техникумах, составить к октябрю текущего года новый учебник,
отражающий достигнутые сдвиги в сторону марксизма-ленинизма в области
психологии, мобилизовать силы на дальнейшую разработку
психологических проблем на основе марксизма-ленинизма.
ж) Провести в содержании журнала «Психология» решительный
поворот в сторону подлинно марксистской диалектики и практики
социалистического строительства.
з) Провести тщательную проверку и реорганизацию работы по
заочному обучению в области психологии.
и) В отношении научно-исследовательской работы основное внимание
психологов и психотехников на ближайшее время должно быть
сосредоточено на развертывании научных исследований в определенных областях
практики социалистического строительства: в педагогической работе,
в рационализации промышленного и сельскохозяйственного
производственного труда, в области медицины, судебного дела, искусства и т. д.
Конкретно: 1) содействие педологам и педагогам по рационализации
педпроцесса, в особенности по проведению политехнизации, в частности
рационализации работы со студентами, широкой массовой
политпросветработы и т. п.; 2) психологическое изучение и обоснование с
историко-трудовой точки зрения организации политпросвет- и школьной работы среди
культурно отсталых народностей окраин СССР; 3) теоретическую и
экспериментальную разработку с точки зрения ленинской методологии проблем
восприятия (психология восприятии в военном деле, плакат, оформление
книги, кино, радио, цвет в архитектуре и пр.): 4) участие психотехники в
рационализации подготовки кадров для промышленности и совхозного и
колхозного строительства и т. д. и т. п.
зо* 931
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
13. Решение всех больших задач, выдвигаемых практикой
соцстроительства перед психологией, возможно лишь при создании достаточного
большевистского кадра психологов-марксистов и обеспечения
преподавания психологии во всех соответствующих вузах и техникумах. Между тем
к проблеме психологических кадров и роли самой психологии существует
пренебрежительное отношение как со стропы соответствующих отделов
Наркомпроса и президиума РАНИМПа, так и руководителей многих
вузов. Например, в программах Наркомпроса совершенно отсутствуют
психология и психотехника; психологические кафедры пытаются ликвидировать
даже в таких передовых педвузах, как АКВ или Институт им. Либкнехта,
причем психология и психотехника рассматриваются как часть педологии
и их преподавание или совершенно исключается или же сокращается ниже
всяких минимумов.
Как Наркомпросом, так и руководством психологического фронта
совершенно недостаточно внимания уделялось выращиванию партийных
кадров в области психологии. Так, например, в Институте психологии,
педологии и психотехники заканчивают аспирантуру в этом году лишь три
человека по психологии, из них ни одного по психотехнике, а в следующем
году выпуску подлежат всего-навсего — 1 психотехник и 1 психолог. При
этом в прежние годы готовились очень часто работники, не способные
бороться за партийность в науке, за правильную марксистско-ленинскую
линию.
Подобное отношение к психологии как вредное для дела
социалистического строительства должно быть решительно преодолено.
Ближайшими необходимыми практическими мероприятиями в
отношении подготовки кадров в области психологии и психотехники является
нижеследующее:
а) Обратить внимание на скорейшую ликвидацию прорыва в создании
коммунистических кадров психологов и психотехников путем плановой
вербовки аспирантов из оканчивающих соответствующие вузы партийцев,
выделение определенного процента из парттысячников, организации
специального психоневрологического отделения при ИКП ЕиФ, и также
объединения имеющихся разрозненных психологов, работающих в различных
других областях.
б) Поставить вопрос об организации специального вуза для
подготовки психологов, психотехников и педологов.
в) Необходимо включить в программы вузов, особенно
педагогических, психологию и психотехнику как обязательные предметы, отводя на
них нормальное количество часов.
г) Необходимо организовать при вузах самостоятельные
психологические кафедры с тесной увязкой их с работой кафедр смежных
дисциплин.
932
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
д) Подготовку аспирантов психологов и психотехников необходимо
проводить с непрерывной производственной практикой, с закреплением
определенных баз для психологической и психотехнической работы на
крупных заводах, в совхозах, колхозах, в учебных заведениях,
издательствах, учреждениях военного ведомства.
е) Необходимо пересмотреть квалификацию работников
психологических кафедр в вузах и техникумах с точки зрения их подготовки в
области марксистско-ленинской методологии, причем назначение заведующих
кафедрами не должно проводиться без санкции компетентного
партийного методологического центра.
14. Проведенная дискуссия далеко не вскрыла и не могла вскрыть
исчерпывающе всех больных сторон психологического фронта. Она
совершенно не коснулась, и это не входило в ее задачи, смежных с психологией
дисциплин на общем психоневрологическом фронте. На повестку дня
должен быть поставлен пересмотр также всех других дисциплин
психоневрологического фронта. Задачей же психологов-марксистов является
дальнейшее вскрытие и углубление поднятых дискуссией вопросов в текущей
практической работе, выработка новой экспериментальной техники и ее
проверка на социалистической практике, большевистская проверка новых
позиций в специальной печати.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
П.П. БЛОНСКИЙ:
«Я СТРЕМЛЮСЬ ПОЛОЖИТЬ В ОСНОВУ ПСИХОЛОГИИ
ИДЕЮ РАЗВИТИЯ»
Блонский Павел Петрович (1884-1941) —
философ, психолог и педагог. Учился у Г.И.
Челпанова в Киевском университете на
историко-филологическом факультете. С 1907 г. преподавал в
Московском университете и других вузах Москвы.
С 1930 г. заведовал лабораторией памяти, а затем —
лабораторией мышления и речи в Государственном
институте психологии (ныне Психологический
институт РАО). В дореволюционный период известен
прежде всего как философ, автор работ,
посвященных анализу взглядов Дж. Беркли, Эд. Гартмана,
трудов по античной философии. Книга Блонского
«Философия Плотина» (1918) до настоящего времени остается лучшим
исследованием взглядов этого философа в отечественной философии. Блонский —
автор трудов по истории французской педагогики, исследований о
педагогических взглядах Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, статей и книг по основным
педагогическим проблемам.
В психологии отстаивал позиции объективного подхода и идеи развития,
которые воплотились в его ставших классическими исследованиях памяти и
мышления. Внес вклад в развитие педологии («Педология», М., 1925),
возрастной психологии («Очерки детской сексуальности », М., 1935), общей
психологии («Память и мышление», М., 1935; «Психологический анализ
припоминания», М., 1935).
В антологию включен отрывок из книги «Психологические очерки»1 и
заключительная глава из книги «Память и мышление»2.
О СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ3
...Считаю необходимым охарактеризовать свою собственную позицию
в современном споре между субъективной и объективной психологией.
Если понимать под субъективной психологией психологию,
зачеркиваюБлонский П.П. Психологические очерки. Новая Москва, 1927. С. 4.
Блонский П.П. Избр. психол! пр-ния. М.: Просвещение, 1964. С. 496-501.
Блонский П.П. Психологические очерки// «Новая Москва». 1927.
934
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
щую объект и оставляющую только субъект, т. е. психологию, изучающую
сознание вне зависимости его от бытия, а под (вульгарной) объективной
психологией — психологию, отрицающую субъект и оставляющую только
объект, т. е. психологию, игнорирующую субъективные состояния и
доходящую даже до отрицания самой себя, до замены себя рефлексологией
или физиологией больших полушарий, то я не сторонник ни той, ни другой
такой психологии: первая ничего не объясняет, вторая состоит только из
объяснений, игнорируя и даже отрицая подлежащие объяснению факты.
Не надо зачеркивать субъективные состояния, т. е. уничтожать предмет
психологии, но надо давать этим состояниям материалистическое
объяснение1. В этом смысле я принадлежу к объективной психологии. Я лично
называю себя представителем «психологии поведения». Читатель этой
книжки, вероятно, заметит еще две мои особенности. Я стремлюсь
положить в основу психологии идею развития и старался подходить к каждому
психологическому явлению с точки зрения развития, истории его. Делать
это было очень трудно, и, вероятно, у меня есть достаточно промахов здесь.
На пробелы же я шел сознательно.
Второе: в анализе поведения я принял за исходную точку жизненные
интересы субъекта. Отсюда меньше одного шага до сведения в психологию,
в качестве основного понятия, понятия «классовые интересы » и до
превращения психологии в ярко социальную науку. Но этого шага в этой книге я не
сделал и, как мне кажется, по основательным причинам. Присматриваясь к
ныне существующей социальной психологии, я вижу, что это или просто не
психология, но пересказ в книге, называемой «Психология», некоторых глав
из социологии, но такое простое списывание мне не кажется выходом из
положения. Или это есть не что иное, как замена под названием «социальная
психология » объективной марксистской социологии психологизмом в
социологии. Взять же на себя смелость выступить, в отмену этих двух крайностей,
с своей социальной психологией я не решился, потому что этот вопрос мною
недостаточно подработан, а сознательно идти на промахи я не хочу. Вот по
какой причине такой важный отдел, как социальная психология, в этих
«Очерках» мало развит. Но это только означает, что сейчас именно его разработкой
мы должны усиленно заняться. Выражаясь обычным академическим языком,
мои «Очерки » представляют собою ряд статей по общей психологии.
Могущий пусть сделает большее.
Может возникнуть вопрос, зачем я сопровождаю книгу рядом
примечаний библиографического характера, ссылаясь также и на
иностранную литературу. Но мои параграфы очень сжаты и кратки, это — скорее
Еще в 1845-1846 г. Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» писали, что «не
сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание ». См. Архив Маркса и
Энгельса. 1.1924. С. 216.
935
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
канва, и в ссылках я указываю, где этот вопрос подробнее разработан.
Я надеюсь, что эти ссылки окажутся полезными для того читателя,
который захочет заняться какими-либо из затронутых вопросов дальше.
В вузовских библиотеках, даже провинциальных, иностранная
литература по психологии и психиатрии, по моим наблюдениям, не
недоступная редкость.
Книжка предполагает читателя, уже знакомого с психологией по
элементарным учебникам.
4 VII 1926 г.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПАМЯТИ1
Больше ста лет назад Гегель писал: «В учении о духе и в систематизации
интеллекта положение и значение памяти и понимание ее органиче-ской
связи с мышлением составляет один из самых трудных пунктов, до сих пор мало
обращавших на себя внимание». Эти слова сохраняют свое значение и до
сегодняшнего дня: и сейчас проблема «Память и мышление» — одна из
самых трудных в психологии, и сейчас на нее мало обращают внимания. Такое
состояние проблемы не случайное. Эмпирическая психология, находясь под
влиянием эмпирической философии, пренебрегала изучением мышления и
не видела в нем его своеобразия, сводя его к тем же законам ассоциации,
которым, по ее мнению, подчинена и память. Мышление как деятельность
sui generis изучалось главным образом идеалистами, которые, отрывая
мышление от памяти, тем самым делали свое изучение мышления бесплодным.
Так, мышление то почти отождествлялось с памятью, то резко отрывалось
от нее. Экспериментальная психология, фактически стоящая на точке
зрения ассоцианизма, со времени Эббингауза свела изучение памяти главным
образом к изучению запоминания бессмысленных слогов. Менее всего это
могло пролить свет на действительную человеческую память. Максимум,
что это могло дать, — некоторое знание образования вербальных привычек.
Неудивительно, что когда перешли к изучению образования привычек, то
получили приблизительно те же закономерности. В результате становилось
все более и более популярным сближение памяти с привычкой. Тем самым
память очень сильно отдалялась от мышления. Но как раз в то время, когда,
казалось бы, память почти отождествилась с репродукцией и привычкой,
появилась работа Жане, резко противопоставляющая память репродукции
и привычке. Память приписывалась только человеку, да и то не в самые
первые годы его жизни, и не память-реинтеграция, а рассказ и т. п.
объявил онский П.П. Избр. психол. произведения. М.: Просвещение, 1964. С. 496-501.
936
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
лялись типичными проявлениями памяти. Но если предыдущее
направление чрезмерно расширяло память, считая ее чуть ли не свойством
организованной или даже всякой материи, то не является ли память у Жане
скорее мышлением, чем памятью?
Все эти контроверзы автор считает результатом недиалектического
подхода к решению проблем. Он находит правильным считать различные
виды памяти различными ступенями развития. Автор развивает
генетическую теорию памяти. Согласно этой теории, моторная память
(памятьпривычка), аффективная память, образная память и вербальная память —
четыре последовательные с точки зрения развития ступени памяти,
«уровни ее, из которых каждый имеет свои специфические законы, хотя
имеются и общие законы. Правомерность своей теории автор обосновывает
данными неврологии и генетической психологии — как
филогенетическими, так и онтогенетическими. Высказав и обосновав свою
генетическую теорию памяти, автор переходит к проблеме «память и чувство». На
материале собранных им воспоминаний, относящихся как к недавним
событиям, так и к давним, в том числе на материале первых воспоминаний
детства, автор устанавливает, что в первую очередь забываются
эмоционально индифферентные события, а дольше всего помнятся неприятные
события вопреки тому, что обычно утверждают, основываясь на
лабораторных экспериментах, где вообще не применяются ни очень сильные
неприятные стимулы (очень сильная боль, сильный испуг и т. п.), ни
измеряемое годами время сохранении в памяти. Автор устанавливает, что
пережитое чувство с течением времени имеет тенденцию переходить в
менее дифференцированное чувство того же рода и возбуждается не только
данным стимулом, но и сходным с ним. Так, автор определяет
аффективную память как повышенную, но менее дифференцированную
возбудимость аффективной нервной организации соответствующими стимулами
вследствие предыдущего действия подобных стимулов. Разбирая
дискуссию об аффективной памяти, он не только отстаивает существование
аффективной памяти, но придает так называемому аффективному опыту
огромное значение, считая, что на нем основывается наше аффективное
отношение к явлениям до их действия на нас, наша осторожность, фобии,
симпатии и антипатии «ante hoc», а также первичное — аффективное —
узнавание (знакомого и чуждого).
Отсюда автор переходит к проблеме появления и течения зрительных
образов. Если под воображением понимать вообще оперирование
образами, то надо признать воображение явлением не высшего нервного уровня,
судя по тому, что образы легче всего возникают при не вполне
бодрствующем сознании. Легче всего возникают зрительные образы эмоционально
сильных (притом неприятных), зрительно ярких, очень длительных и
подвижных впечатлений. Произведенное автором экспериментальное
изуче937
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ние течения зрительных образов показало, что хотя первоначально имеют
тенденцию возникать образы отрицательно эмоционально сильных
впечатлений, но в своем течении образы развиваются не в неприятные (тогда они
темнеют или прерываются), а наоборот (в приятные). Течение образов есть
сложный процесс трансформации образов, осложненный
мультипликацией их и реинтеграцией. Так как репродуцированный образ лишь в
исключительных случаях полностью персеверирует, а скорее, наоборот,
трансформируется, сильно видоизменяясь, то этот процесс больше всего подходит
под название непроизвольного фантазирования. Автор считает что точная
память филогенетически и онтогенетически развивается позднее
фантазирования. Он оспаривает [позицию] ассоцианизма и особенно учение об
ассоциации по сходству, считая, что это учение затемняет происходящий в
действительности процесс частичного и постепенного изменения образа.
Ассоциацию образов по смежности он рассматривает как явление
реинтеграции. Произведенные им опыты дают полное объяснение течению
образов в гипнагогических состояниях.
Автор считает чрезмерно широким определение памяти как отношения
к прошлому: ни привычка, ни аффективная память, ни персеверирующая
репродукция образов, особенно ольфакторных, но также иногда и
оптических, не говоря уже о фантазировании, под это определение не подходят. Это
определение подходит лишь к некоторым категориям более развитой
памяти. Приступая к изучению зрительно-образной памяти, как таковой, автор
путем различных экспериментов выясняет роль образов в припоминании.
Оказывается, что образы играют наибольшую роль в припоминании сильно
забытого. Здесь автор устанавливает по отношению к забыванию закон
деградации памяти из высшего вида в низший: от сильно забытого
репродуцируются только образы, а в случае еще большего забывания — только
аффективное отношение, а от «выветрившихся» из аффективной памяти чувств
остаются только некоторые уже неаффективные движения. Наиболее ярки
образы экстраординарных, а не заурядных впечатлений. Образы последних
очень смутны, общи, так сказать, смутно контурны. Это — образы-схемы.
Образы первых ярки и при известных условиях могут развиваться в
образысимволы, оперирование которыми характерно для творческого
воображения. До сих пор память и воображение фигурируют как непроизвольные
функции. Только когда они соединяются с речью, делается возможным для
человека начало господства над ними. Вербальная память и вербальное
воображение — высшие ступени развития памяти и воображения. Так автор
переходит к проблеме «Память, воображение и речь».
Пользуясь обширным лингвистическим материалом, автор приходит
к заключению, что речь развивалась из труда, и первоначально говорящий
был скорее репродуцирующим действие или показывающим актером,
а слушатель скорее видел подобную речь. Речь вначале была лишь
придат938
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ком к подобному репродуцирующему действию, но постепенно она
заменяла его, становясь как бы словесной репродукцией, словесным
отражением. Анализируя примитивные рассказы по стилю, а также лингвистически,
автор выявляет огромное значение репродукции и повторения в этих
рассказах. Он приходит к заключению, что вначале вербальная память была
репродукцией.
Но такой вербальная память была только вначале. Автор считает
значение опытов Эббингауза очень ограниченным и маложизненным
(репродукция бессмысленных звуков). Менее всего подобные опыты могут дать
законы репродукции представлений. Так как эти мнимые законы
формулируются на основании опытов с репродукцией бессмысленных звуков и
т. п. и в терминах ассоциационизма, они не соответствуют
действительности. Автор доказывает это, экспериментально выясняя сущность
вербального запоминания. Сущность его — запечатлевание вербальных навыков,
в легких случаях — однократное, в трудных — повторное. Автор критикует
выводы Торндайка относительно значения повторения. Вербальная память —
повышенная возбудимость запечатленных вербальных навыков. От нее надо
отличать рассказ об имеющихся образах (образная память плюс рассказ
по образам). Экспериментально показывается, в чем разница рассказа по
репродуцированным образам от вербальной репродукции наглядно
воспринятого. Вербальная репродукция наглядно воспринятого имеет
тенденцию к сжатости, краткости, последовательности и сравнительной
стойкости. Вербальная репродукция словесного материала, поскольку в ней не
фигурирует вышеописанная деградация памяти, сводится к опусканию
непривычного и репродукции привычного или теми или иными способами
превращенного в привычное. Так как вербальная намять благодаря языку
существует для других и сильно питается из речевого общения, то
развитие вербальной памяти, этой специфически человеческой памяти,
социально обусловлено. Под действием социальных влияний вербальная
репродукция все больше и больше стремится быть верной и краткой, т. е.
репродуцировать существенное. Но память, репродуцирующая только
существенное, уже соприкасается с мышлением. Глава о вербальной памяти
заканчивается разбором взглядов тех авторов (Жане, Выготский, Бартлетт),
которые относят проблему памяти к социальной психологии. Соглашаясь
в этом с ними, автор считает, что человеческая память имеет историю,
определяемую общей историей человечества, и пытается установить
основные этапы истории человеческой памяти.
Вербальная память как репродукция существенного теснейшим
образом соприкасается с мышлением. Но проблема «память и мышление»
затемняется теми исследователями, которые отрывают мышление от речи.
Автор считает, что возможна речь (автоматическая) без мышления, но
менее возможно мышление (логическое) без речи. Генетические корни речи и
939
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
мышления общи. Этот общий корень — труд: и речь, и мышление
развились из труда. Первоначальная речь была скорее действием. Первоначальные
интеллектуальные операции были действиями, и лишь постепенно
действительное действие заменялось мысленным: действительное разбивание —
мысленным анализом, действительное действие сложения — мысленным
сложением.
Разбирая проблему «мышление и речь», нельзя, конечно, обойти
проблему внутренней речи. Автор считает неправильным искать начало ее в
метаморфозе громкой речи говорящего. Более вероятно выводить начало
внутренней речи из общения слушателей с говорящим. То обстоятельство,
что внутренняя речь больше всего страдает при сенсорной, а не моторной
афазии, и эксперимент, демонстрирующий невозможность во время
внимательного слушания говорящего внутренней речи, иной, кроме
повторения, подтверждают это предположение. Отсюда вывод, что внешняя и
внутренняя речь развивались одновременно, как одновременно развивались и
речь и мышление в процессе социального общения, производственных
отношений. Выросший на необитаемом острове Адам не говорил бы и не
рассуждал бы.
Речь — та область, где память и мышление теснейшим образом
соприкасаются настолько, что подчас трудно решить, что в речи принадлежит
памяти, а что — мышлению: то и дело одно переходит в другое. Автор на
основании лингвистического материала доказывает, что самые ранние
слова имели чрезвычайно общее значение, и потому уже с самого начала слово
было подходящим средством для мышления в понятиях. Но именно с
образования понятий начинает свою деятельность мышление, и автор
полемизирует с теми, кто считает первичной деятельностью мышления
суждение. Он подчеркивает роль памяти в образовании общих понятий,
предостерегая однако от переоценки этой роли. Память играет только
некоторую роль в этом вместе с рядом других функций, притом скорее на
ранних стадиях образования понятий, когда они еще логически
несовершенны. Тем самым подчеркивается качественное своеобразие мышления.
Точно так же, анализируя начатки рассуждающего мышления,
умозаключения, автор на основании экспериментального исследования развития
умозаключений у детей выясняет роль памяти в образовании суждений по
аналогии, а также в развитии предположений — проблематических
суждений и гипотез, становящихся возможными лишь на известном уровне
развития памяти. Но он же указывает, как мышление посредством действия
или эксперимента идет дальше памяти, тем самым снова подчеркивая
качественное своеобразие мышления даже на этих самых ранних этапах
рассуждения и теснейшую связь мышления с действием. Мышление —
высшая, притом новая, стадия развития интеллекта, опирающаяся на память,
но в то же время качественно отличная от нее.
940
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Предостерегая от полного отождествления внутренней речи и
мышления, автор на основании данных самонаблюдения устанавливает, с одной
стороны, место во внутренней речи воображения и памяти, а с другой —
что во внутренней речи мышление нередко существует в неразвитом виде.
Только в тех случаях, когда внутренняя речь и «мышление про себя »
являются подготовкой к социальной речи и к деятельности в обществе, например
участию в общественно-производительном труде, они начинают интенсивней
развиваться. Но в своем вполне развитом виде как логически рассуждающее и
доказывающее мышление выступает в социальной речи — устной и особенно в
письменной.
Достигшее известной ступени развития мышление начинает, в свою
очередь, воздействовать на память. Основываясь на экспериментальных
данных и полемизируя с некоторыми теориями, относящимися к
проблемам забывания и логической памяти, автор показывает, как на высшей
стадии развития памяти, при достаточно развитом мышлении, происходит
запоминание и припоминание при помощи понятий (так называемая
логическая память) и как таким образом запоминаемый материал
становится мыслями запоминающего субъекта.
В заключение дается объяснение с точки зрения развиваемых в книге
положений некоторым психопатологическим явлениям. Именно
показывается, как по мере деградации интеллекта начинает выступать порой
взамен мышления или даже вопреки ему память, начиная с высших форм ее и
кончая воображением, аффективной гипермнезией и привычными
автоматическими движениями, при одновременном ослаблении высших форм
памяти. С этой точки зрения разбираются некоторые явления навязчивых
или переоцененных идей, бреда, фобий, галлюцинаций, автоматизма и т. д.
Развиваемая автором генетическая теория памяти позволяет без
особого труда связать ее с популярным в неврологии учением о генетически
различных нервных уровнях, начиная с подкоркового и идя дальше к
большим полушариям — их ольфакторным, оптическим и речевым уровням.
1935 г.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
С.Л. РУБИНШТЕЙН:
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ
Рубинштейн Сергей Леонидович (1889-
1960) — психолог и философ. Крупный
организатор советской психологической науки: 1930-
1942 — зав. кафедрой психологии Ленинградского
педагогического института им. Герцена; 1942-
1949 — зав. кафедрой психологии Московского
университета; 1943-1945 — директор Института
психологии Академии педагогических наук;
основатель и зав. сектором психологии и зам. директора
Института философии АН СССР (1945 — конец
40-х гг., 1956-1960).
Разрабатывал философские принципы
психологии: детерминизма, единства сознания и деятельности и др. На их основе
выдвинул целостную психологическую концепцию. Главные труды: «Основы
общей психологии» (1942,1946), «Бытие и сознание» (1957), «Пути и принципы
развития психологии» (1959), «Человек и мир» (первая публикация —
1973 г.). Книга «Основы общей психологии» остается важнейшим
руководством в процессе подготовки профессиональных психологов.
В антологию включены отрывки из этого труда1, а также статья
«Проблемы психологии в трудах Карла Маркса» (1934), которая
является лучшим изложением общих положений К. Маркса в их значении для
психологии.
ПРИРОДА ПСИХИЧЕСКОГО
И СПЕЦИФИКА ЕГО ПОЗНАНИЯ
Уяснение природы психического определяет теоретические задачи
психологии, специфику психологического познания. Анализ любого
психического явления показывает, что осознание — а значит, всякое, даже
наивное познание — психических явлений всегда предполагает раскрытие
тех предметных связей, посредством которых психические переживания
впервые выделяются из мистической туманности чистой
непосредственности, лишенной всякой определенности и членораздельности, и
определяются как объективные психологические факты. Поскольку предметные
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 34-44.
942
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
отношения могут быть неправильно или неполно, неадекватно раскрыты в
непосредственных данных сознания, эти последние могут давать
неадекватное познание психических явлений. Не все то, что человек переживает,
он адекватно осознает, потому что не все отношения, выражающиеся в
переживании и определяющие его, сами адекватно даны в сознании как
отношения. Именно поэтому встает задача — отличного от простого
переживания — познания психического посредством раскрытия тех
объективных связей, которыми оно объективно определяется. Это и
есть задача психологии. Психологическое познание — это
опосредованное познание психического через раскрытие его существенных,
объективных связей и опосредовании.
Психологическая наука, радикально отличная от основных тенденций
традиционной психологии, изучавшей функции или структуру сознания
только имманентно, в замкнутом внутреннем мире, должна исходить при
изучении человеческого сознания из его отношения к предметному миру
объективной действительности.
Заодно с преодолением дуалистического противопоставления
психического как будто бы замкнутого внутреннего мира миру внешнему падает
традиционное дуалистическое противопоставление самонаблюдения,
интроспекции внешнему наблюдению, падает самое понятие
самонаблюдения в его традиционной трактовке, которая, замыкая самонаблюдение в
самодовлеющем внутреннем мире, механически противопоставляет его
внешнему, объективному наблюдению.
Поскольку, с одной стороны, действие или поступок не могут быть
определены вне своего отношения к внутреннему содержанию сознания,
объективное психологическое наблюдение, исходящее из внешней стороны
поведения, не может брать внешнюю сторону поведения в отрыве от внутренней
его стороны. С другой стороны, осознание моих собственных переживаний
совершается через раскрытие их отношений к внешнему миру, к тому, что в
них переживается, познание психических фактов, исходящее из внутренней
их стороны, из самонаблюдения, не может определить, что, собственно, оно
дает, вне соотношения психического, внутреннего с внешним.
Пусть я исхожу из самонаблюдения: мне даны мои переживания так,
как мои переживания никому другому не могут быть даны. Многое из того,
что сторонний наблюдатель должен был бы установить косвенным путем
посредством кропотливого исследования, мне как будто непосредственно
открыто. Но все же: что, собственно, представляет собой мое
переживание, каково объективное психологическое содержание того процесса,
субъективным показателем которого оно служит? Чтобы установить это и
проверить показания моего сознания, я вынужден, становясь
исследователем собственной психики, прибегнуть принципиально к тем же средствам,
которыми пользуется в объективном психологическом исследовании
сторон943
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ний наблюдатель. Сторонний наблюдатель вынужден прибегнуть к
опосредованному познанию моей психики через изучение моей деятельности
не потому только, что ему непосредственно не даны мои переживания, но и
потому, что, по существу, нельзя объективно установить психологический
факт или проверить объективность психологического познания иначе как
через деятельность, через практику. (...)
Восприятие предполагает наличие реального объекта, непосредственно
действующего на наши органы чувств. Оно всегда при этом есть восприятие
какого-то материала (предмета, текста, нот, чертежа), которое совершается
в определенных реальных условиях (при определенном освещении и пр.).
Для того чтобы установить наличие этого объекта и, значит, наличие
восприятия (а не галлюцинации), необходимо, очевидно, прибегнуть к ряду
операций, совершаемых в определенных реальных условиях. Для того, например,
чтобы утверждение о четкости восприятия не было фразой, лишенной
всякого определенного значения, нужно прибегнуть к объективному мерилу,
дающему возможность придать утверждению точное содержание,
например: четкость и острота зрения при чтении такого-то текста в таких-то
реальных условиях, на таком-то расстоянии, при таком-то освещении. Но для
того чтобы это установить, необходимо, очевидно, испытать функцию в этих
конкретных реальных условиях — действительно прочитать этот текст.
Воспроизведение предполагает соответствие воспроизведенного
образа реальному объекту. Для того чтобы установить наличие этого
соответствия и, значит, наличие подлинного воспроизведения (а не
воображения) и характер соответствия (степень точности) и, значит,
психологические особенности воспроизведения или памяти, необходимо, очевидно,
объективизировать воспроизведенный образ, выявить его вовне, хотя бы
зафиксировать словесно и создать таким образом возможность
проверки этого соответствия в определенных условиях, доступных реальному
контролю.
Имеется ли налицо действительно мышление (а не случайная
ассоциации представлений), определяется тем, осознанны ли объективные
предметные отношения, которые дают решение задачи. Но дают ли осознанные в
данном психологическом процессе отношения действительное решение
задачи, — это доказывается и проверяется ее решением. Субъективное
чувство понимания — это симптом, который может быть обманчивым. Оно, по
существу, заключает в себе гипотезу о возможных действиях субъекта. Эта
гипотеза проверяется действием: понимание решения задачи
определяется умением ее решить, а умение ее решить доказывается ее решением. (...)
Через посредство деятельности субъекта его психика становится
познаваема для других. Через посредство нашей деятельности объективно
познаем нашу психику, проверяя показания нашего сознания, даже мы сами.
Случается поэтому — каждый это когда-либо испытывал, — что
собствен944
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ный наш поступок внезапно открывает нам в нас чувство, о существовании
которого мы не подозревали, и совсем по-новому нам же освещает наши
собственные переживания. Мы сами через нашу деятельность, не
непосредственно, а в испытаниях жизни глубже всего познаем самих себя. По тем
же самым данным нашей деятельности познают нашу психику и другие.
Понятным, таким образом, становится, что другие люди, перед которыми
разворачивается наша деятельность, иногда раньше замечают в нас вновь
зародившееся чувство, во власти которого мы находимся, чем мы сами его
осознаем, и порой даже правильнее судят о нашем характере и о наших
реальных возможностях, чем мы сами в состоянии это сделать.
Показания нашего сознания о наших собственных переживаниях,
данные самонаблюдения, как известно, не всегда достоверны; иногда мы не
осознаем или неадекватно осознаем свои переживания. Для познания
собственной психики мы всегда должны исходить — в принципе так же, как
при познании чужой психики, но лишь в обратной перспективе — из
единства внутренних и внешних проявлений. Интроспекция как такое
погружение во внутреннюю сторону, которое бы вовсе изолировало и оторвало
психическое от внешнего, объективного, материального, не может дать
никакого психологического познания. Она уничтожает самое себя и свой
объект. Психическое переживается субъектом как непосредственная
данность, но познается лишь опосредованно — через отношение его к
объективному миру. В этом ключ к разгадке таинственной природы
психологического познания; отсюда открывается путь для преодоления
феноменализма, разъедающего систему традиционной психологии.
Единство между сознанием и деятельностью, которое таким образом
устанавливается, создает основу объективного познания психики: падает
утверждение субъективной идеалистической психологии о
непознаваемости чужой психики и утверждение противников психологии о
субъективности, т. е. ненаучности, всякого психологического познания; психика,
сознание может стать предметом объективного познания.
Это единство является основой подлинно научного объективного
познания психики. Оно открывает возможность идти к познанию
внутреннего содержания личности, ее переживаний, ее сознания, исходя из внешних
данных ее поведения, из дел ее и поступков. Оно дает возможность как бы
просвечивать через внешние проявления человека, через его действия и
поступки его сознание, тем самым освещая психологические особенности
его поведения. Деятельность человека, — как писал К. Маркс о
промышленной деятельности, — является «раскрытой книгой человеческих
сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой
психологией» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 42. С. 123).
Единство сознания и поведения, однако, не тожество; речь идет не об
автоматическом совпадении внешних и внутренних проявлений человека.
945
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Действия людей по отношению к окружающему не всегда
непосредственно соответствуют тем чувствам, которые они к ним питают: в то время как
человек действует, в нем обычно перекрещиваются различные, порой
противоречивые чувства. Внешне различные и даже противоположные поступки
могут выражать применительно к различным условиям конкретной
ситуации одни и те же черты характера и проистекать из одних и тех же
тенденций или установок личности. Обратно: внешне однородные и как будто
тожественные поступки могут совершаться по самым разнородным мотивам,
выражая совершенно не однородные черты характера и установки или
тенденции личности. Один и тот же поступок один человек может совершать
для того, чтобы помочь кому-нибудь, а другой — чтобы перед кем-нибудь
выслужиться. Одна и та же черта характера, застенчивость например,
может в одном случае проявиться в смущении, растерянности, в другом —
в излишней шумливости и как будто развязности поведения, которой
прикрывается то же смущение. Самое же это смущение и застенчивость
нередко порождаются диспропорцией в одних случаях между притязаниями
личности и ее способностями, в других — между ее способностями и
достижениями и множеством других самых разнообразных и даже
противоположных причин. Поэтому ничего не поймет в поведении человека тот,
кто не сумеет за внешним поведением вскрыть свойства личности, ее
направленность и мотивы, из которых исходит ее поведение. Бывают
случайные поступки, не характерные для человека, и не всякая ситуация способна
адекватно выявить внутренний облик человека (поэтому перед
художниками встает специальная композиционная задача — найти такую, для
каждого действующего лица специфическую, ситуацию, которая в состоянии
выявить именно данный характер). Непосредственные данные поведения
могут быть так же обманчивы, как и непосредственные данные сознания,
самосознания, самонаблюдения. Они требуют истолкования, которое
исходит из внешних данных поведения, как отправных точек, но не
останавливается на них как на чем-то конечном и самодовлеющем. Отдельный,
изолированно взятый, как бы выхваченный из контекста, акт поведения
обычно допускает самое различное истолкование. Его внутреннее
содержание и подлинный смысл обычно раскрывается лишь на основе более или
менее обширного контекста жизни и деятельности человека — так же, как
смысл фразы часто раскрывается лишь из контекста речи, а не
определяется однозначно одним лишь словарным значением составляющих ее слов.
Таким образом, между внутренними и внешними проявлениями человека,
между его сознанием и поведением всегда существует связь, в силу
которой внутренняя психологическая природа акта деятельности сказывается
и на внешнем его протекании. Однако это отношение между ними не
зеркально; их единство — не автоматическое совпадение; оно не всегда
адекватно. Если бы это отношение между внутренней психологической
при946
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
родой акта и его внешним протеканием вовсе не существовало,
объективное психологическое познание было бы невозможно; если бы оно всегда
было адекватно, зеркально, так что каждый совершенный акт не требовал
бы никакого истолкования для квалификации его внутренней природы,
психологическое познание было бы излишне. Но это отношение существует,
и оно не однозначно, не зеркально; поэтому психологическое познание и
возможно и необходимо.
В своем конкретном содержании психика человека, его сознание,
образ его мыслей зависят от образа его жизни и деятельности, формируясь в
процессе их развития. Основное значение для понимания психики
животных приобретает изучение ее развития в процессе биологической
эволюции, для понимания сознания человека — его развитие в историческом
процессе: психология изучает психику в закономерностях ее развития.
Психология изучает при этом не одни лишь абстрактно взятые функции,
а психические процессы и свойства конкретных индивидов в их реальных
взаимоотношениях со средой; психология человека — психику, сознание
человека как конкретной личности, включенной в определенную систему
общественных отношений. Сознание человека формируется и развивается
в процессе общественно-организованной деятельности (труда, обучения);
оно исторический продукт. Психология человека не перестает из-за этого
быть естественной наукой, изучающей психологическую природу
человека, но она вместе с тем и даже тем самым (а не несмотря на это)
историческая наука, поскольку самая природа человека — продукт истории.
Психология человека обусловлена общественными отношениями,
поскольку сущность человека определена совокупностью общественных
отношений. Если в отличие от организма, как только биологического
индивида, термином «личность» обозначить социальный индивид, то можно будет
сказать, что психология человека изучает психику как качественно
специфическое свойство личности или что она изучает психику личности в
единстве ее внутренних и внешних проявлений. Всякое изучение сознания вне
личности может быть только идеалистическим, так же как всякое
изучение личности помимо сознания может быть только механистическим.
Изучая сознание в его развитии, психология изучает его в процессе
становления сознательной личности.
Закономерности общественного бытия являются наиболее
существенными ведущими закономерностями развития человека. Психология в
своем познании психики человека должна поэтому исходить из них, но,
однако, никак не сводить ни психологические закономерности к социальным,
ни социальные к психологическим. Точно так же — как ни велико значение
физиологического анализа «механизмов» психических процессов для
познания их природы, — никак нельзя свести закономерности психических
процессов к физиологическим закономерностям. Отражая бытие,
суще947
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ствующее вне и независимо от субъекта, психика выходит за пределы
внутриорганических отношений и выражается в качественно иной, отличной
от физиологической, системе понятий; она имеет свои специфические
закономерности. Основная, конечная теоретическая задача психологии и
заключается в раскрытии специфических психологических закономерностей.
Психологическое познание — это познание психического,
опосредованного всеми существенными конкретными связями, в которые включена
жизнь человека; оно поэтому изучение не только механизмов психики, но
и ее конкретного содержания.
Эти последние формулы означают принципиальное преодоление
чисто абстрактной психологии: они означают приближение психологии к
конкретным вопросам практической жизни1. (...)
Фрагмент из книги «Бытие и сознание» М., 1957. С. 255-264
а) Процесс, деятельность как основной способ существования
психического.
Основным способом существования психического является его
существование в качестве процесса, в качестве деятельности. Это
положение непосредственно связано с рефлекторным пониманием
психической деятельности, с утверждением, что психические явления возникают и
существуют лишь в процессе непрерывного взаимодействия индивида с
окружающим его миром, непрекращающегося потока воздействий
внешнего мира на индивида и его ответных действий, причем каждое действие
Приводимый далее фрагмент из другой работы дает представление о
существенной эволюции воззрений С.Л. Рубинштейна на предмет психологической науки.
Вмонографиях «Основы психологии» (1935)и «Основы общей психологии »(1940,
1946) автор разрабатывал принцип единства сознания (вообще психики) и
деятельности, систематически не дифференцируя в самой психике объективно присущие
ей два аспекта: психическое как процесс и как продукт (результат) указанного
процесса. Отсюда обобщающие формулировки: человек и его психика
проявляются, формируются (и изучаются) в деятельности; психология изучает психику в
закономерностях ее развития и т. д. При этом деятельность обычно понимается
строго однозначно — как практическая и теоретическая деятельность субъекта.
Однако позднее — в неопубликованной книге «Философские корни психологии»
(1946) и особенно в выросшей из нее монографии «Бытие и сознание» (1957),
а также во всех последующих рукописях, книгах и статьях — С.Л. Рубинштейн
систематически вычленяет в психике ее процессуальный аспект, доказывая, что
именно процесс есть основной способ существования психического (другие
способы его существования —результаты психического процесса и психические
свойства, состояния и т. д.). — Прим. сост.
948
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
обусловлено внутренними причинами, сложившимися у данного индивида
в зависимости от внешних воздействий, определивших его историю.
В соответствии с этим исходная задача психологического
исследования — изучение психических процессов, психической деятельности. Так,
исследование мышления должно прежде всего вскрыть его как процесс
анализа, синтеза, обобщения. Психологическое исследование
запоминания должно выявить, что делает человек, когда он запоминает; как он
анализирует подлежащий запоминанию материал, группирует, синтезирует
его, как его обобщает, каков состав и ход процесса, в результате которого
совершается запоминание. При восприятии результат его — образ
предмета — выступает в сознании человека при определенных условиях
видимым образом как бы вне процесса, поскольку последний не осознается.
В этом случае психологическое исследование должно, меняя условия
протекания процесса (создавая затрудненные условия познания предмета,
обращаясь к начальным этапам формирования восприятия), все же выявить
процесс восприятия — чувственный (например, зрительный) анализ,
синтез выделенных анализом сторон, обобщение, интерпретацию — словом,
весь психический состав процесса восприятия.
Мы говорили до сих пор о процессе или деятельности, не различая их.
Но их следует дифференцировать.
Во избежание всякой двусмысленности само понятие деятельности
также должно быть дифференцировано. В одном смысле эго понятие
употребляется, когда говорят о деятельности человека. Деятельность в этом
смысле — всегда взаимодействие субъекта с окружающим миром.
Понятие деятельности употребляется в науке (в физиологии) и
соотносительно не с субъектом, а с органом (сердечная, дыхательная
деятельность)1. В этом последнем смысле всякий психический процесс есть
деятельность, а именно деятельность мозга.
О деятельности в другом смысле говорят применительно уже не к
органу (в данном случае — мозгу), а к человеку как субъекту деятельности.
Здесь надо различать процесс и деятельность. Всякая деятельность есть
вместе с тем и процесс или включает в себя процессы, но не всякий процесс
выступает как деятельность человека. Под деятельностью мы будем здесь
разуметь такой процесс, посредством которого реализуется то или иное
отношение человека к окружающему его миру, другим людям, к задачам,
которые ставит перед ним жизнь. Так, мышление рассматривается как
деятельность, когда учитываются мотивы человека, его отношение к
задаДеятелъностъ в этом смысле означает функционирование органа. Характеристика
функции органа как деятельности подчеркивает роль в его функционировании
взаимодействия организма со средой в отличие от трактовки функции как
отправления органа, детерминированного якобы только изнутри.
949
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
чам, которые он, мысля, разрешает, когда, словом, выступает личностный
(а это прежде всего значит мотивационный) план мыслительной
деятельности. Мышление выступает в процессуальном плане, когда изучают
процессуальный состав мыслительной деятельности — те процессы анализа,
синтеза, обобщения, посредством которых разрешаются мыслительные
задачи. Реальный процесс мышления, как он бывает дан в
действительности, представляет собой и деятельность (человек мыслит, а не просто ему
мыслится), и процесс или деятельность, включающую в себя совокупность
процессов (абстракцию, обобщение и т. д.)
В ходе исследования на первое место может выступать то
процессуальный план, образующий необходимую основу мыслительной
деятельности, то надстраивающийся над ним верхушечный личностный план, в
котором мышление только и выступает как деятельность субъекта, выражающая
его отношение к задачам, которые перед ним встают. Как деятельность,
выражающая или осуществляющая отношение человека к окружающему,
мышление, точно так же как восприятие и т. д., выступает уже в качестве
деятельности познавательной, эстетической — вообще теоретической,
а не просто психической. Психической она является только по своему
процессуальному и мотивационному составу, а не по задачам, которые она как
деятельность разрешает.
Деятельность человека как субъекта — это его практическая и
теоретическая деятельность. Точка зрения, согласно которой психическая
деятельность как таковая, как «производство» представлений, воспоминаний,
вообще психических образований, якобы является деятельностью
человека как субъекта (а не только его мозга), связана с прочно укоренившимися
в психологии интроспекционистскими воззрениями. Лишь на основе
интроспекционистской концепции представляется, что при так называемом
произвольном запоминании или припоминании человек решает
«мнемическую» задачу, заключающуюся в производстве определенного
представления, и что производство представлений как таковых является в данном
случае деятельностью человека. На самом деле, когда человек что-то
припоминает, он не производит внутренние психические образы, а решает
познавательную задачу по восстановлению хода предшествующих событий;
подобно этому ученик выучивающий заданный ему урок, осуществляет
учебную, а не просто психическую деятельность.
Таким образом, понятие деятельности человека приобретает в
конечном счете свой естественный, здравый смысл, очищенный от тех
двусмысленностей, которые вносит в него психология, еще не освободившаяся от
наследия интроспекционизма. Психология от этого будет в прямом
выигрыше: она освободится от неблагодарной обязанности изучать
совершенно фиктивный объект — интроспективно понимаемую психическую
деятельность и вместе с тем получит непосредственный доступ к психологическому
950
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
изучению подлинной деятельности человека — той деятельности,
посредством которой он познает и изменяет мир.
Виды человеческой деятельности определяются по характеру
основного «продукта», который создается в результате деятельности и
является ее целью. С этой точки зрения можно различать практическую
(специально трудовую) и теоретическую (специально познавательную)
деятельности. Они образуют, собственно, единую деятельность человека,
поскольку теоретическая выделяется в особую деятельность из
первоначально единой практической лишь на определенном уровне, и продукты ее
в конечном счете опять-таки включаются в практическую деятельность,
поднимая последнюю на все более высокий уровень. Это и есть
деятельность человека в собственном смысле слова.
Практическая деятельность выступает как материальная, а
теоретическая (деятельность ученого, художника и т. д.) — как идеальная именно
по характеру своего основного продукта, создание которого составляет ее
цель. Практическая деятельность материальна, поскольку основной
эффект, на который она направлена, заключается в изменении материального
мира, в создании материальных продуктов. Теоретическая деятельность
«идеальна», опять-таки поскольку «идеален» продукт, который она
порождает, — наука, искусство. Эта характеристика практической
деятельности как материальной, а теоретической как идеальной по характеру
продукта, составляющего ее цель, не определяет, как уже отмечалось, состава
практической и теоретической деятельности. Нет такой теоретической
деятельности, которая не включала бы каких-либо материальных актов, как
то: движения пишущей руки при написании текста книги — научной или
художественной — или партитуры музыкального произведения —
симфонии или оперы; а в деятельности скульптора, высекающего статую из
мрамора, физического труда не меньше, чем в деятельности любого рабочего
на производстве, хотя, создавая произведение искусства, он занят
идеальной деятельностью. Подобно этому нет такой практической деятельности,
которая, создавая материальный продукт, состояла бы только из
материальных актов и осуществлялась бы без участия психических процессов.
Поэтому и практическая деятельность человека должна войти в сферу
психологического исследования.
В задачи психологического исследования входит изучение и
теоретической, «идеальной» (в частности, познавательной деятельности ученого)
и практической (прежде всего трудовой) деятельности — реальной,
материальной, посредством которой люди изменяют природу и перестраивают
общество. Психология, которая отказалась бы от изучения деятельности
людей, утеряла бы свое основное жизненное значение. Таким образом,
предмет психологического исследования никак не сконцентрирован на
изучении «психической деятельности». Положение это имеет двойное
ост951
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
рие: оно означает как то, что психология изучает не только психическую
деятельность, но и психические процессы, так и то, что она изучает не
только психическую деятельность, но и деятельность человека в
собственном смысле слова, в ее психологическом составе. И именно в этом —
в изучении психических процессов и в психологическом изучении
деятельности человека, посредством которой он познает и изменяет мир, — и
заключается основное. (...)
При изучении психической деятельности или психических процессов
принципиально важно учитывать, что они обычно протекают
одновременно на разных уровнях и что вместе с тем всякое внешнее
противопоставление «высших» психических процессов «низшим» неправомерно, потому
что всякий «высший» психический процесс предполагает «низшие» и
совершается на их основе. Так, не приходится думать, что происходит либо
непроизвольное запоминание, либо произвольное. Исследование
показало, что, когда совершается произвольное запоминание, вместе с тем
закономерно происходит и непроизвольное. Психические процессы протекают
сразу на нескольких уровнях, и «высший» уровень реально всегда
существует лишь неотрывно от «низших». Они всегда взаимосвязаны и
образуют единое целое. Всякая познавательная деятельность, всякий
мыслительный процесс, взятый в своей реальной конкретности, совершаются
одновременно на разных уровнях, многопланово. Подспудно во всякую,
казалось бы совсем абстрактную, мыслительную деятельность включены
чувственные компоненты, продукты чувственных познавательных
процессов; самые абстрактные понятия, взятые как реальные акты познания,
представляют собой пирамидальные сооружения, в которых абстракции все
более высокого порядка образуют вершину, а в основе лежат прикрытые
несколькими слоями абстракций разного уровня чувственные обобщения,
продукты более или менее элементарной генерализации.
Аналогично обстоит дело и с мотивацией. При объяснении любого
человеческого поступка надо учитывать побуждения разного уровня и
плана в их реальном сплетении и сложной взаимосвязи. Мыслить здесь
однопланово, искать мотивы поступка только на одном уровне, в одной
плоскости, — значит заведомо лишить себя возможности понять
психологию людей и объяснить их поведение.
б) Психические процессы и психические образования.
В результате всякого психического процесса как деятельности мозга
возникает то или иное образование — чувственный образ предмета, мысль о нем и
т. д.1 Это образование (образ предмета), однако, не существует вне
соответ1 Их мы обычно разумеем, говоря о психических явлениях.
952
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ствующего процесса, помимо отражательной деятельности; с прекращением
отражательной деятельности перестанет существовать и образ. Будучи
продуктом, результатом психической деятельности, образ фиксируясь (в слове),
в свою очередь, становится идеальным объектом и отправной точкой
дальнейшей психической деятельности. Образ, следовательно, двояко, двусторонне
включается в психическую деятельность.
Всякий эмоциональный процесс, т. е. процесс, в котором его
эмоциональный эффект — изменение эмоционального состояния человека — является
главным психологическим эффектом, тоже оформляется в виде некоего
образования — эмоции, чувства. И эти образования, как и образы предмета, не
существуют вне, помимо тех процессов, в которых они формируются. Каждое
чувство, выступающее как устойчивое образование, длящееся годы, иногда
проходящее через всю жизнь человека (любовь к другому человеку, к своему
народу, к правде, к человечеству и т. д.), есть сплетение чувств-процессов, закономерно
возникающих при соответствующих обстоятельствах. Так, чувство любви к
другому человеку—это чувство радости от общения с ним, восхищения от того образа
человеческого, который при таком общении с ним выявляется, связанной с этим
нежности к нему, заботы о нем, как только ему начинает что-то угрожать,
огорчения, когда он терпит неудачи или подвергается страданиям, возмущения, когда по
отношению к нему совершается несправедливость, гордости, когда в трудных
условиях он оказывается на высоте, — все эти чувства выражают применительно к
разным обстоятельствам, их вызывающим, одно и то же отношение к человеку.
Каждое из них, как и все они вместе, — процессы закономерно вызываемые их
объектами (конечно, в данном случае, как и вообще, воздействия объектов могут
закономерно вызывать психические явления лишь постольку, поскольку они
преломляются через сложившиеся в субъекте внутренние отношения,
обусловливаясь их закономерностями).
Изучать психические процессы, психическую деятельность — значит тем
самым изучать формирование соответствующих образований.
Безотносительно к образованию, которое формируется в процессе, нельзя, собственно,
очертить и самый процесс, определить его в специфическом отличии от других
психических процессов. С другой стороны, психические образования не
существуют сами по себе вне соответствующего психического процесса.
Всякое психическое образование (чувственный образ вещи, чувство и т. д.) — это,
по существу, психический процесс в его результативном выражении.
Через свое результативное выражение, через свои продукты психическая
деятельность соотносится со своим объектом, с объективной реальностью,
с теми областями знания, которые ее отражают. Через свои продукты —
понятия — мыслительная деятельность переходит в сферу логики, математики и
т. д. Поэтому превращение продуктов мыслительной деятельности, например
понятий, их усвоения, в основной предмет психологического исследования
грозит привести к утрате его специфики.
953
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Концентрация психологического исследования на продуктах
мыслительной деятельности, взятых обособленно от нее, — это и есть тот
«механизм», посредством которого сплошь и рядом осуществляется
соскальзывание психологического исследования в чуждый ему план
методически-геометрических, арифметических и тому подобных
рассуждений. В психологическом исследовании психические образования —
продукты психических процессов — должны быть взяты именно в
качестве таковых. Изучение психической деятельности, процесса, в
закономерностях его протекания всегда должно оставаться в психологическом
исследовании основным и определяющим.
Всякий психический процесс есть отражение, образ вещей и явлений мира,
знание о них, но, взятые в своей конкретной целостности, психические
процессы имеют не только этот познавательный аспект. Вещи и люди, нас
окружающие, явления действительности, события, происходящие в мире, так или иначе
затрагивают потребности и интересы отражающего их субъекта. Поэтому
психические процессы, взятые в их конкретной целостности, — это процессы не
только познавательные, но и «аффективные»1, эмоционально-волевые. Они
выражают не только знание о явлениях, но и отношение к ним; в них
отражаются и сами явления, и их значение для отражающего их субъекта, для его
жизни и деятельности. Подлинной конкретной «единицей » психического
(сознания) является целостный акт отражения объекта субъектом. Это сложное
по своему составу образование; оно всегда в той или иной мере включает
единство двух противоположных компонентов — знания и отношения,
интеллектуального и «аффективного »(в вышеуказанном смысле), из которых то один,
то другой выступает в качестве преобладающего. Подлинно жизненной
наукой психология может быть, только когда она сумеет, не исключая и
аналитического изучения ощущений, чувств и т. п., психологически анализировать
жизненные явления, оперируя такими нефункциональными «единицами»
психического. Только таким образом можно, в частности, построить
подлинно жизненное учение о мотивации, составляющее основное ядро психологии
личности.
ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ В ТРУДАХ КАРЛА МАРКСА2
Психология не принадлежит к числу тех дисциплин, которые
систематически, как политическая экономия, разрабатывались Марксом. Мы не
найдем, как известно, в собрании сочинений Маркса специально
психолоПонятие аффекта берется здесь в смысле не современной патопсихологии, а
классической философии XVII-XVIII столетий (см., например, у Спинозы).
Вопросы психологии. 1983. № 2. С. 8-24. Впервые опубликована 50 лет назад в
журнале «Советская психотехника» в 1934 г. (т. VII, № 1; статья была получена
954
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
гических трактатов. Но и в различных его работах, как бы попутно, этим
гениальным умом разбросан ряд замечаний по различным вопросам
психологии. Стоит вдуматься в эти внешне разрозненные замечания, и
становится очевидным, что, внешне не систематизированные, они представляют из
себя внутренне единую систему идей. По мере того как раскрывается их
содержание, замечании эти смыкаются друг с другом и оказываются
одним монолитным целым, проникнутым единством миросозерцания
Маркса, исходящим из его основ.
Поэтому и в области психологии Маркса можно и нужно сейчас
трактовать не как великого представителя прошлого, подлежащего
историческому изучению и филологическому комментированию. К нему надлежит
нам подойти как к современнейшему из наших современников, поставить
перед ним самые актуальные проблемы, над которыми бьется современная
психологическая мысль, с тем чтобы уяснить в первую очередь, какие
ответы на самые узловые вопросы психологии заключаются в высказываниях
Маркса, взятых в свете общих основ марксистско-ленинской
методологии, и какие пути намечаются им для построения психологии.
Современная зарубежная психология, как известно, переживает
кризис. Этот кризис, совпавший с периодом значительного развития
экспериментального исследования, является, как и кризис современной физики,
о котором писал Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме», кризисом
методологическим. Он отражает общую идеологическую борьбу,
ведущуюся в современной науке и выявляющуюся в кризисе методологических
основ различных дисциплин, начиная с современной математики. В
психологии этот кризис привел к тому, что психология распалась на психологии,
а психологи разбились на школы, друг с другом враждующие. Кризис в
психологии принял, таким образом, настолько острую и открытую форму,
что он не мог не быть осознан крупнейшими представителями
психологической науки (...).
Не принимая того решения основной проблематики современного
кризиса психологии, которое попытался дать Бюлер в своей работе «Кризис
психологии» («Die Krise der Psychologie»), можно, пожалуй, с ним
согласиться в том, что узловой является та проблема, которая особенно
заостдля опубликования 31 мая 1933 г). В этой статье на основе теоретических
положений К. Маркса разработаны наиболее общие методологические принципы
психологии. В силу своей большой общности и философской фундаментальности
многие положения статьи сохраняют свое эвристическое значение до сих пор. Поэтому
редакция считает полезным опубликовать данную статью с некоторыми
сокращениями (они обозначены в статье (...) на страницах журнала, учитывая вместе с тем,
что современная советская психология прошла большой путь и достигла
значительных успехов в реализации марксистской методологии.
955
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
рилась в конфликте между интроспективной психологией, поведенчеством
и так называемой психологией духа. В задачу настоящей статьи,
посвященной Марксу, не может, конечно, входить анализ этих течений,
которые, в их конкретности, являются историческими образованиями,
подлежащими историческому изучению и анализу. Здесь задача, по существу,
иная: раскрыть с максимальной теоретической заостренностью основную
проблематику современной психологии, с тем чтобы со всей возможной
четкостью выяснить на основе изучения психологических высказываний
Маркса, какое решение этих узловых проблем должно быть положено в
основу построения марксистско-ленинской психологии.
Господствующая концепция психики, установленная традиционной
интроспективной психологией, отождествляет психику с явлениями
сознания; задача психологии, согласно этой концепции, заключается в том,
чтобы изучать явления сознания в пределах того индивидуального
сознания, которому они непосредственно даны; бытие психики исчерпывается
ее данностью, переживаемой в сознании. В отличие от всех других наук,
которые в изучаемых ими явлениях раскрывают их сущность, психология,
с этой точки зрения, оказывается в силу самого существа своего предмета
обреченной на то, чтобы принципиально всегда оставаться на махистской
позиции чистого феноменализма. Явления в ней якобы совпадают
сущностью (Э. Гуссерль). Маркс указывал на то, что если бы внутренняя сущность
вещей и внешняя форма их проявления непосредственно совпадали, то
всякая наука была бы излишней. Психология в этой концепции оказывается
такой излишней наукой, ставящей себе задачу вскрывать то, что и так
непосредственно дано.
Если проанализировать эту концепцию, то в основе ее, как
определяющее ее положение, мы найдем принцип непосредственной данности
психического. Задача интроспекции как метода в том и заключается, чтобы
вычленить психическое из всех объективных опосредствовании. Это, по
существу, радикально идеалистический тезис: все материальное,
внешнее, физическое опосредствование через сознание, через психику;
психика же есть первичная, непосредственная данность. В своей
непосредственности она замыкается во внутреннем мире и превращается в сугубо
личностное достояние. Каждому субъекту даны только явления его
сознания, и явления его сознания даны только ему. Они принципиально
недоступны другому наблюдателю. Возможность объективного познания
чужой психики, которое могло бы быть лишь опосредствованным,
неизбежно отпадает. Но вместе с тем — ив этом корень вопроса —
невозможным становится объективное познание психики и со стороны
переживающего ее субъекта. Крайние и, в сущности, единственно последовательные
интроспекционисты утверждали, что данные интроспекции абсолютно
достоверны.
956
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Это значит, что нет инстанции, способной их опровергнуть, что
справедливо в той же мере, как и то, что нет инстанции, способной их
подтвердить. Если психическое есть чистая непосредственность, не определяемая
в собственном своем содержании объективными опосредствованиями, то
нет вообще объективной инстанции для того, чтобы данные интроспекции
проверить. Возможность проверки, отличающей знание от веры, в
психологии, таким образом, отпадает; она для самого субъекта так же
невозможна, как и для постороннего наблюдателя. Тем самым становится
невозможной психология как объективное знание, как наука.
И тем не менее эта концепция психического определила все, в том
числе и резко враждебные интроспективной психологии, психологические
системы. В своей борьбе против сознания представители поведенчества —
американского и российского — всегда исходили из того его понимания,
которое установили интроспекционисты.
Вся их аргументация, обосновывающая необходимость выключения
сознания из психологии и превращения поведения в предмет психологической
науки, сводилась в основном к тому, что психические явления, или явления
сознания, принципиально доступны только одному наблюдателю; они «не
поддаются объективной проверке и поэтому никогда не смогут стать предметом
научного исследования» [7; 1-2]. В конечном счете эта аргументация против
сознания опиралась на интроспекционистскую концепцию сознания. Вместо
того чтобы в целях реализации объективного подхода к психическим
явлениям перестроить интроспекционистскую концепцию сознания, поведенчество
отбросило сознание, потому что ту концепцию сознания, которую оно нашло в
готовом виде у своих противников, оно приняло как нечто непреложное, как
нечто, что можно либо взять, либо отвергнуть, но не изменить.
Исходя именно из этой — интроспективной, психологией
созданной — концепции психики и, таким образом, показательно
осуществляя единство идеализма и механицизма, поведенческая психология
пришла к своему пониманию деятельности человека как поведения, как
совокупности внешних реакций на стимулы среды.
Первая операция, которую поведенческая психология в целях
высвобождения ее от связи с изгнанным из психологии сознанием
произвела над конкретной человеческой деятельностью, препарируя из нее
предмет психологии, заключалась в том, что деятельность человека, понятая
как совокупность внешних реакций на внешние раздражители среды,
была отчленена от действующего субъекта как конкретной,
сознательной исторической личности. Сознанию, оторванному от деятельности,
поведенческая психология противопоставила деятельность —
поведение, оторванное от сознания.
И вслед за этим неизбежно над этой же деятельностью была
произведена и вторая операция. Взятая в зависимости лишь от физиологических
957
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
механизмов, посредством которых она осуществляется, деятельность
человека была извлечена также и из связи с продуктами этой деятельности и
той средой, в которой она осуществляется. В результате она лишилась и
социального характера, и психологического содержания; из сферы
социальной и психологической она выпала исключительно в физиологический
план.
Этой второй операцией — отрывом деятельности от продуктов или
результатов этой деятельности, в которых она реализуется и благодаря
которым она становится содержательной, — поведенчество произвело над
человеческой деятельностью операцию, аналогичную той, которой
интроспективная психология подвергла сознание человека. Замыкая сознание
человека во внутреннем мире, интроспективная психология оторвала его
не только от объективной деятельности, но и вычленила сознание из
опосредствующих его связей с идеологией.
Антипсихологизм руководящих направлений идеалистической
философии XX столетия, как гуссерлевского, так и риккертовского толка, внешне
противопоставляя логическое, идеологическое — в виде идеи или ценности —
психологическому, тем самым закрепил проводившееся механистическими
течениями в психологии выхолащивание из психики объективных, ее
опосредствующих связей с идеологией. Выпавшие из сознания смысловые связи этого
сознания с идеологией «психология духа» попыталась превратить в
самодовлеющий объект и сделать их предметом подлинной психологии (der
«eigentlichen Psychologie») как науки о субъективном духе. Но эти
вычлененные из реального психофизического субъекта смысловые связи
(«Sinnbänder» Э. Шпрангера) также мало или еще меньше могли стать
полноценным предметом единой психологии, как сознание интроспективной
психологии или поведение бихевиористов и рефлексологов. Психология в
результате оказалась перед тремя абстрактными конструкциями,
своеобразными продуктами распада, получившимися в результате расчленения
реального сознания и реальной деятельности живого человека как
конкретной исторической личности. Перед психологией встала тогда задача
подняться над этими ограниченными концепциями, на которые распалась
психология.
Первый путь, который в очень тонкой форме попытался проложить на
Западе К. Бюлер (и которым в ином плане у нас пошел К.Н. Корнилов в
своей попытке создать марксистскую психологию), заключался попросту
в том, чтобы прийти к единой психологии в результате синтеза различных
психологии как различных друг друга дополняющих аспектов. Бюлер
попытался объединить подход к предмету психологии интроспективной,
психологии бихевиоризма и психологии духа, рассматривая их как три
аспекта единого предмета психологии. Этот путь заранее обречен был на неудачу.
Он приводит лишь к объединению субъективной идеалистической
концеп958
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ции сознания с механистической концепцией человеческой деятельности.
В результате такого объединения не может получиться ничего, помимо
суммирования ошибок, допущенных синтезируемыми направлениями, —
соединения несостоятельной концепции сознания с ложной концепцией
деятельности человека и неправильным пониманием отношения
психологии и идеологии.
Подлинная задача должна, очевидно, заключаться не в таком
«синтезе », а в «борьбе на два фронта », не в том, чтобы принять все то, что
признается в каждой из этих концепций, а в том, чтобы преодолеть те общие
предпосылки, из которых исходят все эти враждующие теории и сама их вражда.
Нужно не соединять концепцию сознания интроспективной психологии с
поведенческой концепцией деятельности человека и т. д., а преодолеть эти
концепции, преобразовав понимание как сознания, так и человеческой
деятельности, установившееся в психологических концепциях,
определивших кризис современной психологии. Ошибка интроспективной
психологии заключалась не в том, что она хотела сделать сознание предметом
психологического изучения, а в том, как она понимала сознание, психику
человека. Не в том была ошибка поведенчества, что оно и в психологии
хотело изучать человека в его деятельности, а прежде всего в том, как оно
понимало эту деятельность. И заблуждение психологии духа заключается
не в признании опосредованности сознания его отношением к культуре,
к идеологии, а в том, как она трактует это отношение. Поэтому путь для
преодоления кризиса не может заключаться в том, чтобы, исходя из
ложного инроспекционистского понимания сознания, вовсе отвергнуть
сознание и — как поведенчество — пытаться строить психологию без психики,
или же, исходя из ложного — поведенческого — понимания деятельности
человека, пытаться — как субъективная психология сознания — строить
психологию, не учитывая деятельности человека, или же, наконец,
попытаться исправить ошибку ложного понимания сознания присоединением к
ней другой ошибки — ложного понимания деятельности человека, и т. д.
Путь для разрешения кризиса, выражающегося в борьбе этих
направлений, может быть только один: только радикальная перестройка самого
понимания и сознания и деятельности человека, неразрывно связанная с
новым пониманием их взаимоотношений, может привести к правильному
раскрытию предмета психологии. Таков именно — это наше основное
положение — тот путь, который с полной определенностью указан в
психологических высказываниях Маркса. Они ясно намечают иную трактовку и
сознания и деятельности человека, которая в корне преодолевает их
разрыв и создает базу для построения марксистско-ленинской психологии как
«действительно содержательной и реальной» [4, 123] науки.
Исходным пунктом этой перестройки является марксовская
концепция человеческой деятельности. В «Экономическо-философских
рукопи959
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
сях 1844 года» Маркс, пользуясь гегелевской терминологией, определяет
человеческую деятельность как опредмечивание субъекта, которое вместе
с тем есть распредмечивание объекта. «Величие гегелевской
«Феноменологии » и её конечного результата — диалектики отрицательности как
движущего и порождающего принципа, — пишет Маркс, — заключается,
следовательно, в том, что Гегель рассматривает самопорождение человека как
процесс, рассматривает опредмечивание как распредмечивание, как
отчуждение и снятие этого отчуждения, в том, что он, стало быть, ухватывает
сущность труда и понимает предметного человека, истинного, потому что
действительного, человека как результат его собственного труда» [4,158]
Вся деятельность человека для Маркса есть опредмечивание его самого
или, иначе, процесс объективного раскрытия его «сущностных сил». В
«Капитале » он скажет просто, что в труде «субъект переходит в объект ». Итак,
деятельность — не реакция на внешний раздражитель, она даже не
делание, как внешняя операция субъекта над объектом, — она «переход
субъекта в объект». Но тем самым смыкается связь не только между субъектом и
его деятельностью, но и связь между деятельностью и ее продуктами.
Самое понимание деятельности как опредмечивания заключает уже эту
мысль; Маркс заострит и подчеркнет ее, когда, анализируя в «Капитале»
труд, он скажет, что «деятельность и предмет взаимно проникают друг в
друга». Поскольку деятельность человека есть опредмечивание,
объективирование его или переход субъекта в объект, раскрытие в объектах его
деятельности, его сущностных сил, в том числе его чувств, его сознания,
постольку предметное бытие промышленности есть раскрытая книга
человеческих сущностных сил, чувственно предлежащая перед нами
человеческая психология [4; 123]. Поэтому «психология, для которой эта книга,
т. е. как раз чувственно наиболее осязательная, наиболее доступная часть
истории, закрыта, не может стать действительно содержательной и
реалъной наукой».
Но за сомкнувшейся, таким образом, связью, идущей от субъекта к
объекту, в деятельности человека сейчас же раскрывается другая
фундаментальная зависимость, идущая от объекта к субъекту. Опредмечивание
или объективирование не есть «переход в объект» уже готового,
независимо от деятельности данного субъекта, сознание которого лишь
проецируется вовне. В объективировании, в процессе перехода в объект,
формируется сам субъект. «Лишь благодаря предметно развернутому богатству
человеческого существа развивается, а частью и впервые порождается,
богатство субъективной человеческой чувственности: музыкальное ухо,
чувствующий красоту формы глаз, — короче говоря, такие чувства, которые
способны к человеческим наслаждениям и которые утверждают себя как
человеческие сущностные силы. Ибо не только пять внешних чувств, но и
так называемые духовные чувства, практические чувства (воля, любовь и
960
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
т. д.), — одним словом, человеческое чувство, человечность чувств, —
возникают лишь благодаря наличию соответствующего предмета,
благодаря очеловеченной природе» [4; 122]. И далее: «Таким образом,
необходимо опредмечивание человеческой сущности — как в теоретическом, так и в
практическом отношении, — чтобы, с одной стороны, очеловечить
чувства человека, а с другой стороны, создать человеческое чувство,
соответствующее всему богатству человеческой и природной сущности» [4; 122].
Таким образом, объективируясь в продуктах своей деятельности,
формируя их, человек формирует — «отчасти порождает, отчасти развивает» —
свои чувства, свое сознание согласно известной формуле «Капитала »:
«...изменяя внешнюю природу, человек в то же время изменяет свою
собственную природу». Не путем погружения в неизрекаемые глубины
непосредственности, не в бездеятельности, а в труде, в самой деятельности человека,
преобразующей мир, формируется его сознание.
Чтобы окончательно очертить мысль Маркса и отмежевать ее от
идеалистической концепции Гегеля о самопорождающемся субъекте,
необходимо в эту цепь рассуждений Маркса включить еще одно
существеннейшее звено.
Когда я объективируюсь в своей деятельности, то я тем самым
включаюсь в объективный контекст от меня и моей воли независящей ситуации.
Я вхожу, в процессе взаимопроникновения действия и предмета, в
объективную, общественными закономерностями детерминированную
ситуацию, и объективные результаты моей деятельности определяются
объективными общественными отношениями, в которые я включился: продукты
моей деятельности суть продукты общественной деятельности.
«Деятельность и пользование ее плодами, как по своему содержанию, так и по
способу существования, носят общественный характер: общественная
деятельность и общественное пользование» [4; 118].
И это относится не только к моей практической деятельности в узком
смысле, но и к моей теоретической деятельности. Каждая мысль, которую
я сформулировал, приобретает объективный смысл, объективное
значение в том общественном употреблении, которое она получает в
зависимости от той объективной ситуации, в которую она, мною сформулированная,
вошла, а не в зависимости лишь от тех субъективных намерений и
побуждений, исходя из которых я к ней пришел; продукты моей теоретической,
как и продукты моей практической, деятельности в их объективном
содержании суть продукты общественной деятельности: «Общественная
деятельность и общественное пользование существуют отнюдь не только в
форме непосредственно коллективной деятельности и непосредственно
коллективного пользования», т. е. не только в деятельности и духе,
обнаруживающихся «в действительном общении с другими людьми... Но даже
и тогда, когда я занимаюсь научной и т. п. деятельностью, —
деятельно31 Российская психология 961
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
стью, которую я только в редких случаях могу осуществлять в
непосредственном общении с другими, — даже и тогда я занят общественной
деятельностью, потому что я действую как человек. Мне не только дан, в
качестве общественного продукта, материал для моей деятельности — даже и
сам язык, на котором работает мыслитель,— но и мое собственное бытие
есть общественная деятельность; а потому и то, что я делаю из моей
особы, я делаю из себя для общества, сознавая себя как общественное
существо» [4; 118].
Итак, человек — не гегелевский самопорождающийся субъект: если
мое сознание формируется в моей деятельности через продукты этой
деятельности, оно объективно формируется через продукты общественной
деятельности. Мое сознание в своей внутренней сущности
опосредствовано объективными связями, которые устанавливаются в общественной
практике и в которые я включаюсь, вхожу каждым актом своей деятельности,
практической и теоретической. Каждый акт моей деятельности и я сам в
нем через него тысячами нитей вплетен, многообразными связями
включен в объективные образования исторически сложившейся культуры, и мое
сознание насквозь опосредствовано ими.
Эта центральная концепция Маркса о формировании человеческой
психики в процессе деятельности опосредствованно через продукты этой
деятельности разрешает узловую проблему современной психологии и
открывает путь к принципиально иному решению вопроса о ее предмете, чем
это делают борющиеся между собой течения современной психологии.
В противовес основной идее интроспективной психологии о
непосредственности психики (непосредственный опыт как предмет психологии)
у Маркса со всей возможной отчетливостью сформулировано положение
об объективной опосредствованности сознания. Ведь «только благодаря
(предметно) объективно развернутому богатству человеческого существа»
получается богатство субъективной человеческой чувственности. Эта идея
об объективной опосредствованности психики с большой
последовательностью проводится Марксом через все его психологические
высказывания: для Маркса язык есть «практически существующее для других
людей, а значит, и для меня самого реальное сознание...», «только через
отношение к человеку Петру, как к себе подобному, начинает человек
Павел относиться к самому себе, как человеку», и т. д. Этим открывается
принципиальная возможность объективного изучения психики. Психика не
субъективно, не для познания только представляется опосредствованной;
она может быть познана опосредствованно через деятельность человека и
продукты этой деятельности, потому что она в бытии своем объективно
опосредствована ими. На основе этой концепции самая интроспекция не
должна быть вовсе исключена, а должна и может быть перестроена.
Психика, сознание могут стать предметом психологии — содержательной и
962
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
реальной. Объективность в психологии достигается не выключением
психики, а принципиальным преобразованием концепции человеческого
сознания и концепции человеческой деятельности.
Марксов анализ человеческого сознания и труда в форме,
«составляющей исключительное достояние человека», обнаруживает со всей
возможной ясностью, в чем выражается эта перестройка, как радикально она
изменяет всю ситуацию, открывая путь для объективного познания
психического.
Основные формулы Маркса о сознании общеизвестны. «Сознание
(das Bewußtsein) никогда не может быть чем-либо иным, как
осознанным бытием (das bewußte Sein), а бытие людей есть реальный процесс их
жизни » [1; 25], т. е. сознание как отражение бытия — по формуле Ленина.
Наряду с этой первой — вторая формула: «Мое отношение к моей среде
есть мое сознание» [1; 29], причем в отличие от животного, которое ни к
чему не относится, человеку его отношение к другим дано как отношение и,
наконец, в непосредственной связи с этим: язык — это практическое,
существующее для других людей, а значит, и существующее также для меня
самого, реальное сознание. Взятые в их внутреннем взаимоотношении и в
связи с марксовской концепцией деятельности человека как труда в
форме, составляющей исключительное достояние человека, эти формулы
вполне определяют марксовскую концепцию сознания. Сущность сознания в
том, что мое отношение к моей среде в сознании человека само дано как
отношение, т. е. реальное отношение человека к среде становится
опосредствованным — через идеальное ее отражение, которое практически
осуществляется в языке. Язык служит тем планом, на котором я фиксирую
отражаемое мной бытие и проецирую мои операции. Таким образом,
идеальный план включается между непосредственно наличной ситуацией,
которую я познаю, и операцией или действием, которым я изменяю мир.
В связи с этим неизбежно иной оказывается и самая структура действия.
Возникновение опосредствующего идеального плана высвобождает
действие из исключительной зависимости от непосредственно наличной
ситуации. «Сознательный человек» благодаря этому выделяет себя из
природы, как пишет Ленин [6; 85], и противопоставляет себя предметному миру.
Человек перестает быть рабом непосредственно наличной ситуации,
действия его, становясь опосредствованными, могут определяться не только
стимуляцией, исходящей из непосредственно наличной ситуации, но
целями и задачами, лежащими за ее пределами: они становятся
избирательными, целевыми и волевыми; именно эти черты характеризуют деятельность
человека в его специфических отличиях от поведения животных. «Труд в
форме, составляющей исключительное достояние человека»,
характеризуется прежде всего двумя чертами. «В конце процесса труда получается
результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении
эр 963
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
человека, т. е. идеально»: в реальную деятельность включается идеальный
план, ее опосредствующий, и в связи с этим он «не только изменяет форму
того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе
с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и
характер его действий и которой он должен подчинять свою волю »[3; 189].
Наличие идеального плана сознания связано с изменением характера
самой деятельности (...).
Не менее показательны в этом отношении новые исследования
расстройства речи и действия — афазии и апраксии (...). Нарушение
возможности сформулировать план действия и идеально опосредствовать свою
деятельность оказывается связанным с превращением действия в простую
реакцию, являющуюся лишь механическим разрядом, под воздействием
непосредственно наличного стимула; человек снова становится рабом
непосредственно наличной ситуации, каждое действие его как бы приковано
к ней; он не в состоянии регулировать его в соответствии с задачами или
целями, лежащими за ее пределами. Выпадает идеальный план, и характер и
«способ действия» человека перестают «как законом» определяться
сознательной целью, которой человек подчиняет свою волю, т. е. разрушается
форма деятельности, составляющая исключительное достояние человека. Эта
связь между своеобразием человеческого сознания и своеобразием
человеческой деятельности вскрывается Марксом положительно и
фундаментально в анализе сознания и труда. Стоит теперь сопоставить отношение
сознания в интроспективной его концепции и поведения как совокупности
реакций, с одной стороны, и, с другой, отношение между трудом и
сознанием у Маркса. Отношение между первыми двумя чисто внешнее; вторые
так взаимосвязаны, что открывается подлинная возможность как бы
просвечивать сознание человека через анализ его деятельности, в которой
сознание формируется и раскрывается. Когда Маркс определяет специфику
человеческого сознания как мое отношение к моей среде, которое дано мне
как отношение, т. е. имеет опосредствованный характер, он определяет
самое сознание, исходя из тех изменений в реальных отношениях человека, к
его среде, которые связаны с генезисом и развитием человеческого
сознания. Это методологически решающий пункт.
Человеческое сознание, будучи предпосылкой специфической
человеческой формы деятельности — труда, является также и в первую очередь
его результатом. В направленной на изменение внешнего мира, на
формирование объектов деятельности формируется сознание в своем внутреннем
существе. Это внутрь проникающее и изнутри человеческое сознание
формирующее воздействие общественной практики является решающим
моментом концепции Маркса. Чтоб убедиться в этом, достаточно
нескольких сопоставлений. А. Бергсон также подчеркивает роль практики в
формировании интеллекта; интеллект формируется для нужд практики
964
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
в целях воздействия на внешний материальный мир. Но из этого положения
Бергсон, как известно, сделает тот вывод, что интеллект выражает не сознание
в его внутренней сущности, а лишь очерчивает контуры материи в ее
расчленении, устанавливаемом в целях практического на нее воздействия [8]. Психолог
и философ должны поэтому прорваться за эту внешнюю оболочку,
повернутую лицом к материальному миру, и вернуться снова к «непосредственным
данным сознания », потому что практика лишь реформирует, а не формирует
внутренний мир сознания. Французская социологическая школа Э.
Дюркгейма также выдвинет положение о социальной природе сознания, но из этого
понимания сознания как социального образования одни, как Дюркгейм,
Л. Леви-Брюль, придут к сведению психологии к идеологии, другие
сделают тот неожиданный вывод, что сознание, в силу именно этой социальной
своей природы, совершенно неадекватно психической реальности (Ш.
Блондель), что сознание и психика, сознание и область психологии совершенно друг
другу внешни и чужды (А. Валлон) [12].
Наконец, Фрейд признает «я», сознание, в известном смысле
социальным продуктом, но опять-таки внутренние движущие силы
психологического развития личности окажутся тогда в сфере бессознательного;
между сознанием и бессознательным будут установлены внешние отношения,
находящиеся под воздействием антагонистических сил вытеснения.
Таким образом, решающим для марксистско-ленинской концепции
является преодоление противоположности социального и
индивидуального, внешнего и внутреннего, осуществляемое в исходной концепции о
формировании внутренней сущности человеческого сознания в процессе
воздействия человека на внешний мир, в процессе общественной практики,
в которой происходит взаимопроникновение действия и предмета и
формирование субъекта и сознания через продукты общественной практики.
В этом тезисе в качестве центрального момента заключается
положение об историчности сознания. Формируясь в процессе общественной
практики, оно развивается вместе с ней. «Сознание, следовательно, с самого
начала есть общественный продукт и остается им, — добавляет Маркс, —
пока вообще существуют люди» [1; 29].
У нас встречается иногда взгляд, согласно которому признание
историчности психики, даже признание генетической точки зрения вообще,
является специфичным для марксистско-ленинской психологии. Это,
конечно, не так. Не говоря уже о генетической точке зрения, о признании
принципа развития, который со времен Г. Спенсера является в его
эволюционной трактовке чуть не господствующей идеей современной
буржуазной психологии, — и идея историчности сознания, как известно, не
является специфической особенностью и исключительным достоянием
марксистской психологии. Суть дела уже поэтому не в том только, чтобы
вообще признать историчность сознания, а в том, как ее понять.
965
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Решающие моменты четко выступают при сопоставлении
марксовской концепции с концепцией Л. Леви-Брюля. Леви-Брюль также, как
известно, признает не количественную только, а качественную перестройку
психики в процессе социально-исторического развития, изменение не
только содержания, но и формы или структуры. Это историческое развитие
сознания он считает принципиально невозможным свести к факторам
только индивидуального порядка, а связывает его с изменениями
общественных формаций. Он, таким образом, как будто трактует эту проблему
диалектически и признает социальную природу процесса психического
развития. Однако самая социальность сводится Леви-Брюлем к чистой
идеологии, к которой, с другой стороны, он сводит и психологию.
Общественные отношения лежат для него в основном в плане общественного
сознания. Общественное бытие — это, по существу, социально организованный
опыт. Из социальности, таким образом, выпадает всякое реальное
отношение к природе, к объективному миру и реальное на него воздействие,
выпадает человеческая практика.
В соответствии с этим при изучении исторического развития психики
из поля зрения исследователя выпадают те формы сознания, которые
связаны со сферой практики, и в качестве единственных источников,
определяющих психологию человека на ранних стадиях
социально-исторического развития, остается лишь идеология, в первую очередь религиозная
мифология соответствующего периода. На основе одной лишь идеологии,
вне связи с практикой, определяется у Леви-Брюля психология
«примитивного человека ». В результате оказывается, что все его мышление
прелогично и мистично, непроницаемо для опыта и нечувствительно к
противоречию. Человек на ранних стадиях социально-исторического развития
лишается и тех элементов интеллектуальности, которые В. Кёлер (Köhler)
признавал у своих обезьян при пользовании ими орудиями; у него
отсутствуют какие-либо элементы интеллектуальных операций; он, таким
образом, по существу, выпадает, даже как начальная стадия, из плана
умственного развития человечества; устанавливается не качественное различие,
а полная противоположность двух структур: нужно выйти из одной, для
того чтобы войти во внешнюю ей другую. Всякая преемственность, а не
только непрерывность в развитии мышления разрывается; развитие, по
существу, оказывается невозможным. И в связи с этой принципиально
неправильной и политически реакционной универсализацией различий,
установленных на основе сопоставления примитивных форм идеологии с
формами современного научного знания, оттесняется на задний план то
основное, по отношению к которому идеологичный мистицизм является
производным: не мистичность, а узкий практицизм первичных форм
мышления, прикованность его к непосредственно наличным конкретным
ситуациям, слабая отчлененность идеального плана.
966
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В результате этой идеалистической трактовки социальных отношений
в плане общественного сознания утрачивается понимание движущих сил
развития. Общественные формации, которым должны соответствовать
различные психологические структуры, сами оказываются статическими
образованиями.
Концепции Маркса отличаются от этой концепции в самой основе
своей. И основное различие заключается, конечно, в том, что социальность,
общественные отношения людей не противопоставляются их отношениям
к природе. Они не исключают, а включают в себя отношения к природе.
«Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и
природой...» [3; 188]. И он же есть основная общественная категория.
Общественные отношения — это прежде всего реальные производственные
отношения между людьми, складывающиеся в процессе их воздействия на
природу. Только правильное понимание устанавливаемого Марксом
соотношения между природой и общественной сущностью человека может
привести к достаточно глубокому и принципиально правильному пониманию
исторического развития психики. Свою точку зрения на отношение
человека к природе Маркс формулирует с полной четкостью. «Человек, —
пишет Маркс, — является непосредственно природным существом » [4; 162].
«Человек есть непосредственный предмет естествознания», «А природа
есть непосредственный предмет науки о человеке. Первый предмет
человека — человек — есть природа» [4; 124-125]. И поэтому — «сама история
является действительной частью истории природы, становления
природы человеком» [4; 124].
Существенной предпосылкой правильного понимания этого
«становления природы человеком» является понимание Марксом «снимания»,
принципиально отличное от гегелевской его трактовки. О гегелевском
понимании «снимания» Маркс говорит, что в нем заключается «корень
ложного позитивизма Гегеля, или его лишь мнимого критицизма...» [4; 166] —
того позитивизма, который нашел себе теоретическое выражение в
тезисе «все действительное разумно» и практически привел к оправданию
действительности прусского монархического государства. «Снятие» у
Гегеля — это чисто идеальная операция: переход от низшей формы к
высшей соединяется с диалектическим пониманием этой низшей формы как
«неистинной», несовершенной, как низшей. Но после этого «снятия»
низшая форма, над которой теперь надстроилась высшая, остается в полной
неприкосновенности, тем, чем она была. «Человек, понявший, что в праве,
политике и т. д. он ведет отчужденную жизнь, ведет в этой отчужденной
жизни как таковой свою истинную человеческую жизнь» [4; 166]. И таким
образом, «после снятия, например, религии, после признания в религии
продукта самоотчуждения он все же считает себя подтвержденным в
религии как религии» [4; 166].
967
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Для Маркса снимание не идеальная операция только, а процесс
реальной переделки; нужна не «критика» (излюбленный термин
младогегельянцев), а революция. В процессе развития, в том числе и психологического,
возникновение новых высших форм связано не с осознанием
неистинности, несовершенства низших форм, а с их реальной перестройкой. Развитие
человека, таким образом, — это не процесс надстройки над природой
общественного бытия человека, это процесс «становления природы
человеком ». Это развитие проявляется в том, «насколько стала для человека
природой человеческая сущность, или насколько природа стала человеческой
сущностью человека» [4; 115], «в какой мере естественное поведение
человека стало человеческим у или в какой мере человеческая сущность стала для
него естественной сущностью, а какой мере его человеческая природа стала
для него природой» [4; 115]. Применительно к психологическому развитию
человека историческое развитие психики не сводится к надстройке
«царства духа» над чувственностью и инстинктами природного существа; оно
не исчерпывается тем, что над примитивными животными инстинктами
надстраиваются «высшие духовные чувства», над «грубыми чувствами» —
мышление человека. Процесс развития проникает глубже; он захватывает
все самые примитивные его проявления. Инстинкты становятся
потребностями человека, которые в процессе исторического развития становятся
человеческими потребностями.
Развиваются чувства человека; при этом они вовлечены в процесс
всего исторического развития: «Образование пяти внешних чувств — это
работа всей предшествующей всемирной истории» [4; 122]. И Маркс одним
штрихом указывает, в чем основная сущность этого развития: «...чувства
непосредственно в своей практике стали теоретиками. Они имеют
отношение к вещи ради вещи, но сама эта вещь есть предметное
человеческое отношение к самой себе и к человеку...» [4; 120—121]. Это замечание
Маркса в краткой формуле выражает основной и самый значительный факт,
вскрываемый наиболее глубокими современными исследованиями об
историческом развитии восприятия: высвобождение восприятия из
поглощенности действием, превращение ситуационных объектов действий в
константные предметы и высших форм человеческого восприятия — особенно
зрительного, осязательного — в формы предметного, «категориального»,
теоретического сознания, являющегося и результатом и предпосылкой
более совершенных форм человеческой деятельности. (...) Это глубокая
перестройка, которой в процессе исторического развития подвергаются
сами чувства. При этом Маркс подчеркивает историчность этого процесса,
показывая, как в зависимости от изменяющихся социально-исторических
условий утрачивается это отношение «к вещи ради вещи». Когда минерал
становится товаром, меновой ценностью, глаз человека перестает видеть
красоту его формы, перестает относиться к вещи ради вещи [4; 122].
968
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Итак, и элементарные чувства и инстинкты — вся психика человека в
целом — вовлечены в процесс исторического развития; переделке подвергаются
все участки сознания; не на всех участках перестройка проходит равномерно:
есть участки передовые, есть функции, исторически быстрее
перестраивающиеся, есть участки отстающие. Сознание представляет собой не плоскостное
образование: различные участки его находятся на различных уровнях
развития; но, во всяком случае, всем своим массивом участвует оно в процессе
исторического развития. Так именно, как процесс «становления природы
человеком», должно быть понято психологическое развитие человека; в этом лишь
плане проблема психологического развития может и должна получить
действительно глубокую и радикальную трактовку.
Раскрывая процесс развития как развития и изменения самой
природы человека, прежде всего его психологической природы, Маркс при этом
вскрывает социально-историческую обусловленность этого процесса. Он
показывает совершенно конкретно, как различные формы разделения
труда перестраивают психологические способности человека, как частная
собственность искажает и опустошает человеческую психику. В этой
концепции развития революционная теория с естественной необходимостью
приводит к революционной практике. Из понимания зависимости
психологической природы человека от их искажающих, препятствующих их
полноценному развитию общественных форм неизбежно вырастают
требования изменения этих общественных условий. Рушатся ссылки, так часто
практиковавшиеся в буржуазной науке, на будто бы неизменную природу
человека для обоснования неизменности существующего строя, и эту
«природу » в действительности обусловившего. Падает и поверхностно
идеалистическая концепция об изменении сознания как простой смены мнений и
представлений, совершающейся автогенно и являющейся двигателем
исторического процесса. Лишь в реальной перестройке общественной
практики — но в этой перестройке доподлинно, — в трудном, исполненном
внутренних противоречий процессе становления и борьбы перестраивается в
своей внутренней сущности сознание человека.
Все политически заостренные требования, которые ставит перед нами
практика социалистического строительства — переделки сознания людей,
преодоления пережитков капитализма не только в экономике, но и в
сознании людей, — все они своим теоретическим основанием имеют эту
Марксом заложенную концепцию исторического развития сознания под
воздействием перестраивающейся общественной практики. И с другой
стороны, будучи, во-первых, результатом исторического развития,
сознание является вместе с тем и предпосылкой исторического развития,
будучи зависимым, но все же существенным его компонентом.
«Сознание человека не только отражает объективный мир, но и
творит его», — писал Ленин [6; 194]. Изменение сознания — и содержания и
969
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
формы его в их неразрывной связи — далеко не безразличная составная
часть исторического процесса: оно так же мало есть только эпифеномен
социально-исторического процесса, как и физиологического процесса.
Бытие определяет сознание. Но изменения в сознании, определенные
изменениями бытия, сами, в свою очередь, означают изменения условий,
в которых осуществляется определение деятельности людей
детерминирующими их — в значительной мере опосредствовано через их сознание —
объективными факторами. Ленинская проблема стихийности и
сознательности (см.: Ленин В.И. Что делать? [5; 28-53] выходит, конечно, за рамки
психологии, но переход от стихийности к сознательности включает в себя
вместе с тем и глубокую переделку человеческой психики.
В неразрывной связи со всей этой системой психологических идей
Маркса, в качестве одного из центральных ее звеньев, выступает
марксовская трактовка проблемы личности. В кризисе буржуазной психологии идея
личности была одной из наиболее критических. Психология, в сущности,
вовсе утеряла личность. Интроспективная психология, ограничившая
психологическую проблематику анализом явлений сознания, принципиально
не могла эту проблему должным образом поставить. Поведенчество,
сводящее деятельность человека к совокупности внешне друг на друга
наслаивающихся или механически друг с другом сцепляющихся навыков,
осуществляло в плане поведения в конечном счете ту же аналитическую,
механически суммативную методологию, которую интроспективная
психология применяла к сознанию. Каждая из этих психологических
концепций рассекла личность, оторвав, во-первых, друг от друга ее сознание и ее
деятельность, с тем чтобы затем: одна — разложить сознание на
безличные функции и процессы, другая — расчленить поведение на отдельные
навыки или реакции.
В настоящее время идея личности занимает одно из центральных мест
в психологии, но ее трактовка определяется «глубинной психологией»
фрейдовского толка или в последнее время привлекающим все большее
внимание персонализмом В. Штерна, который дает ее постановку,
принципиально чуждую и непримиримую с той, которую мы находим у Маркса.
И глубоко симптоматичным для состояния психологии в СССР является
то обстоятельство, что и наша психология — психология, которая хочет
быть марксистской, — не осознала значения и места проблемы личности;
а в эпизодической ее трактовке у тех немногих авторов, которые не прошли
мимо нее, нашли себе отражение лишь фрейдистско-адлеровские и
штернианские идеи.
Между тем в системе марксистско-ленинской психологии проблема
личности должна занять одно из центральных мест и получить, конечно,
совсем иную трактовку. Вне связи с личностью невозможно понимание
психологического развития, потому что «люди, развивающие свое
матери970
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
альное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой
своей действительностью также свое мышление и продукты своего
мышления» [1; 25].
Формы сознания развиваются не сами по себе — в порядке автогенеза,
а как атрибуты или функции того реального целого, которому они
принадлежат. Вне личности трактовка сознания могла бы быть лишь
идеалистической. Тому способу рассмотрения, который исходит из сознания, Маркс
поэтому противопоставляет другой — соответствующий реальной жизни,
при котором «исходят из самих действительных живых индивидов и
рассматривают сознание только как их сознание» [1; 25].
Марксистская психология не может, таким образом, быть сведена к
анализу отчужденных от личности, обезличенных процессов и функций.
Сами эти процессы или функции суть для Маркса «органы
индивидуальности». «Человек, — пишет Маркс, — присваивает себе свою всестороннюю
сущность всесторонним образом, следовательно, как целостный человек».
В этом участвует и каждое из его «человеческих отношений к миру —
зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, мышление, созерцание, ощущение,
желание, деятельность, любовь, словом, все органы его
индивидуальности...» [4; 120].
Вне этой трактовки нереализуем был бы основной для марксистской
концепции тезис, согласно которому сознание человека есть
общественный продукт и вся психика его социально обусловлена. Общественные
отношения — это отношения, в которые вступают не отдельные органы чувств
или психологические процессы, а человек, личность. Определяющее
влияние общественных отношений труда на формирование психики
осуществляется лишь опосредствованно через личность.
Но включение проблемы личности в психологическую проблематику,
конечно, ни в коем случае не должно означать ее психологизации.
Личность не тождественна ни с сознанием, ни с самосознанием. Это
отождествление, проводившееся в психологии сознания, поскольку она вообще
ставила проблему личности, для Маркса, само собой разумеется,
неприемлемо.
Анализируя ошибки гегелевской «феноменологии» [4; 556], Маркс в
числе их отмечает, что и для Гегеля субъект есть всегда сознание или
самосознание, или, вернее, предмет является всегда только как абстрактное
сознание. Однако, не будучи тождественны с личностью, сознание и
самосознание существенны для личности.
Личность существует только при наличии у нее сознания: ее
отношения к другим людям должны быть ей даны как отношения. Сознание,
будучи свойством материи, которая может обладать и может не обладать
сознанием (марксизм — не панпсихизм!), является качеством человеческой
личности, без которого она не была бы тем, что она есть.
971
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Но сущность личности есть совокупность общественных отношений
[1, 3] (...)•
К. Бюлер, ссылаясь на (...) Тренделенбурга [11], замечает, что сейчас
значение этого слова [persona] сдвинулось: оно обозначает не
общественную функцию человека, а внутреннюю сущность (Wesensart) его, и
задается вопросом: в какой мере обоснованно по тому, как человек выполняет
свою общественную функцию, заключать о его внутренней сущности. Здесь
для Бюлера внутренняя сущность личности и ее общественные отношения
оказываются внешними друг другу, и термин «личность» обозначает либо
то, либо другое; личность входит в определенные общественные
отношения и выходит из них, надевая и снимая их с себя, как маски
(первоначальное значение этрусского слова, из которого происходит термин persona)
[11; 4—5]; лица личности, ее внутренней сущности они не определяют. Ряд
общественных функций, которые приходится выполнять человеку в
буржуазном обществе, остаются внешними для его личности, но в основном в
конечном итоге личность обозначает не либо общественную функцию, либо
внутреннюю сущность человека, а внутреннюю сущность человека,
определяемую общественными отношениями!
Человеческая личность в целом формируется лишь через посредство
своих отношений к другим людям. Лишь по мере того, как у меня
устанавливаются человеческие отношения к другим людям, я сам формируюсь как
человек: «Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек
Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и
Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него
формой проявления рода «человек» [3; 62].
В противоположность господствующим в современной психологии и
психопатологии учениям, в которых личность в своей биологической
обособленности выступает как первичная непосредственная данность, как
абсолютная в себе существующая самость, определяемая глубинными,
биологически детерминированными влечениями или
конституциональными особенностями, независимо от общественных связей и
опосредствовании, — для Маркса личность, а вместе с тем и ее сознание
опосредствованы ее общественными отношениями, и ее развитие определяется
прежде всего динамикой этих отношений. Однако так же, как отрицание
психологизации личности не означает выключения сознания и
самосознания, точно так же и отрицание биологизации никак не означает
выключение биологии, организма, природы из личности. Психофизическая
природа не вытесняется и не нейтрализуется, а опосредствуется общественными
отношениями и перестраивается — природа становится человеком!
В психологическом плане основное значение для реализации в самом
понимании природы личности, революционизирующей ее исторической
концепции имеет понимание Марксом человеческих потребностей.
972
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Понятие потребности должно будет в противовес понятию инстинкта
занять в марксистско-ленинской психологии крупное место, войдя в
инвентарь основных ее понятий. Неучет потребностей в понимании
мотивации человеческого поведения неизбежно приводит к идеалистической
концепции. «Люди привыкли, — пишет Энгельс, — объяснять свои действия
из своего мышления, вместо того чтобы объяснять их из своих
потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются), и этим
путем с течением времени возникло то идеалистическое мировоззрение,
которое овладело умами в особенности со времени гибели античного
мира» [2; 493]. На основе понятия потребности все учение о мотивации
человеческого поведения получает принципиально иную постановку,
чем та, которая ему обычно дается на основе учения об инстинктах и
влечениях. В противоположность всяким рационалистическим
концепциям, в потребностях учитываются запросы человеческой «природы»,
человеческого организма. Но потребности, сближаясь в этом отношении с
инстинктами и влечениями, принципиально отличаются от них.
Опосредствованные общественными отношениями, через которые они
преломляются, они — продукт истории, в отличие от инстинктов как только
физиологических образований; они далее имеют и онтогенез, в отличие от
инстинктов, продуктов филогенеза.
Понятие потребности начинает завоевывать себе значительное место
в современной психологии. Как замечает в своем докладе на X
Международном психологическом конгрессе Д. Кац, специально разрабатывающий
проблему голода и аппетита в аспекте «психологии потребностей»:
«Понятие потребности решительно должно будет заменить понятие
инстинкта, которое оказалось малопригодным для начала работ над новыми
проблемами»; понятие потребности «охватывает как естественные, так и
искусственные, как прирожденные, так и приобретенные потребности»1.
На том же конгрессе значение потребности и ее место в психологии
особенно подчеркнул Э. Клапаред [9]. Устанавливая, что поведением человека
движут потребности, современная психология в работах К. Левина [10]
наряду с врожденными инстинктивными потребностями открывает
временные, в онтогенезе возникающие потребности, которые, однако,
представляются квазипотребностями, в отличие от первых как подлинных,
реальных, над которыми вторые надстраиваются. И эти теории потребностей,
подчеркивая изменчивость, динамичность потребностей, остаются еще в
биологическом плане; особенно подчеркнута эта биологическая установка
у Клапареда. В отличие от всех этих в основе своей биологических теорий
См. его доклад «Hunger und Appetit »(Bericht über den XII Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Psychologie, hrsg. von Kafka, 1932. S. 285) и монографии на ту же
тему.
973
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Маркс вскрывает социально-историческую обусловленность человеческих
потребностей, опять-таки не упраздняющую, а опосредствующую
«природу» человека. При этом в историческом развитии не только
надстраиваются новые потребности над первичными инстинктивными
потребностями, но и преобразуются эти последние, многократно преломляясь сквозь
изменяющуюся систему общественных отношений: по формуле Маркса,
потребности человека становятся человеческими потребностями. Итак, в
противоположность абстрактно-идеалистическим концепциям потребности
движут поведением человека, но и в противоположность биологизаторским
теориям эти потребности — не фиксированные во внеисторической природе
неизменные инстинктивные влечения, а исторические, в истории все
по-новому опосредствуемые и перестраивающиеся потребности.
Выдвинутые на место инстинктивных влечений потребности
реализуют, таким образом, историчность в учении о мотивах, о движущих силах
поведения. Они же раскрывают богатство человеческой личности и
мотивов ее поведения, преодолевая то сужение основных двигателей
человеческой деятельности, к которому неизбежно приводит учение об
инстинктивных влечениях, в пределе своем приходящее — в фрейдовском учении о
сексуальном влечении — к представлению об одном-единственном
двигателе, к которому сводится все. Богатство же и многообразие исторически
формирующихся потребностей создает все расширяющиеся источники
мотивации человеческой деятельности, значение которых зависит притом
от конкретных исторических условий. «Мы видели, — пишет Маркс, —
какое значение имеет при социализме богатство человеческих
потребностей, а следовательно, и какой-нибудь новый способ производства и
какой-нибудь новый предмет производства: новое проявление человеческой
сущностной силы и новое обогащение человеческого существа» [4; 128].
«При господстве же частной собственности, — подчеркивает Маркс
социальную обусловленность этого положения, — мы наблюдаем обратное
отношение»: каждая новая потребность создает и новую зависимость. Но,
«при допущении наличия социализма», это богатство исторически
развивающихся потребностей — все более многообразных и создающихся на
все более и более высоком уровне — открывает перспективы богатой,
содержательной, динамически развивающейся и поднимающейся на все
более высокий уровень стимуляции человеческой деятельности.
Над учением о потребностях в учении о мотивации поднимается далее
учение об интересах, и здесь в концепции Маркса снова с особой силой
выступает социально-историческая, классовая обусловленность
движущих сил человеческой деятельности.
С учением об историчности потребностей связано у Маркса и учение
об исторической обусловленности различий способностей. «Разнообразие
человеческих дарований, — пишет Маркс, — скорее следствие, чем
причи974
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
на разделения труда» [4; 143]. Это означает, что столь несходные
способности, свойственные, по-видимому, людям, занятым в различных
профессиях и достигшим зрелого возраста, составляют не столько причину,
сколько следствие разделения труда; не столько причина, сколько следствие, но
не только следствие, а также и причина. В «Капитале » Маркс пишет:
«Различные операции, попеременно совершаемые производителем товара и
сливающиеся в одно целое в процессе его труда, предъявляют к нему разные
требования. В одном случае он должен развивать больше силы, в другом
случае — больше ловкости, в третьем — больше внимательности и т. д., но
один и тот же индивидуум не обладает всеми этими качествами в равной
мере. После разделения, обособления и изолирования различных
операций рабочие делятся, классифицируются и группируются сообразно их
преобладающим способностям. Если, таким образом, природные
особенности1 рабочих образуют ту почву, на которой произрастает разделение
труда, то, с другой стороны, мануфактура, коль скоро она введена,
развивает рабочие силы, по самой природе своей пригодные лишь к
односторонним специфическим функциям» [3; 361].
Итак, «природные особенности рабочих образуют ту почву, в
которую пускает свои корни разделение труда», но раз уже введенное
разделение труда формирует и трансформирует человеческие способности.
Возникая на почве «природных особенностей», они не являются неизменными,
абсолютными сущностями, а подчиняются в своем развитии
закономерностям общественного бытия, их преобразующим. Маркс выявляет
зависимость структуры человеческих способностей от исторически
изменяющихся форм разделения труда конкретно демонстрируя в блестящем и тонком
анализе изменение психики человека при переходе от ремесла к
мануфактуре, от мануфактуры к крупной промышленности, от ее начальных к
более поздним, зрелым капиталистическим формам [3; 361]. Здесь
центральное значение имеет обнаружение того, как развитие мануфактуры и
разделение труда приводят к крайней специализации способностей, к
формированию «частичного рабочего, простого носителя известной частичной
общественной функции...» [3; 499], а дальнейшее развитие автоматизации,
при которой труд теряет характер специальности, приводит к замене его
«индивидуумом, для которого различные общественные функции суть
сменяющие друг друга способы жизнедеятельности».
В «Экономическо-философских рукописях 1844 года » Маркс очень подчеркивает
эту природную основу способностей: «Человек является непосредственно
природным существом, В качестве природного существа, притом живого природного
существа, он, с одной стороны, наделен природными силами, жизненными
силами, являясь деятельным природным существом; эти силы существуют в нем в виде
задатков и способностей... »[4; 162-163].
975
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В своих потребностях и способностях конкретизируется
психологическая природа личности. Она при этом в самом своем существе
оказывается обусловленной, опосредствованной теми конкретными
общественноисторическими условиями, в которых она формируется. Эту зависимость
личности, ее структуры и судьбы от общественно-исторической формации
Маркс с показательной остротой и яркостью выявляет далее, вскрывая
судьбы личности при господстве частной собственности и при
коммунизме. Он начинает с заостренной критики «грубого коммунизма», как Маркс
обозначает анархический коммунизм Прудона. «Этот коммунизм
отрицает повсюду личность человека », он проникнут жаждой нивелирования. Но
таковым он является только потому, что он есть не преодоление, а
завершение принципа частной собственности. Его идеал в том, чтобы все было
частной собственностью всех; поэтому «он стремится уничтожить все то,
чем, на началах частной собственности, не могут обладать все»; «он
хочет насильственно абстрагироваться от таланта »[4; 114]. Отрицание
личности человека есть, по существу, «только форма проявления гнусности
частной собственности, желающей утвердить себя в качестве
положительной общности» [4; 116].
Продукты человеческой деятельности, которые являются
«опредмеченной», объективированной сущностью человека (его сущностных
сил), благодаря объективному предметному бытию которых
формируется внутреннее субъективное богатство человека, оказываются при
господстве частной собственности отчужденными, чужими вещами. В
результате каждая новая потребность человека, которая могла бы быть новым
проявлением и новым источником богатства человеческой природы,
становится источником новой зависимости; каждая способность, порождая в
результате своей реализации новые потребности, умножает эти
зависимости, и человек в результате как бы непрерывно отчуждает свое собственное
внутреннее содержание и как бы опустошается, становясь во все новые и
новые внешние зависимости. Лишь преодоление этого отчуждения, не
идеально метафизически, а грубо реально осуществляемого режимом
частной собственности, т. е. лишь осуществление коммунизма, может
обеспечить подлинное развитие личности. «Поэтому уничтожение частной
собственности означает полную эмансипацию всех человеческих чувств и
свойств; но оно является этой эмансипацией именно потому, что чувства и
свойства эти стали человеческими как в субъективном, так и в
объективном смысле» [4, 120].
Лишь осуществление подлинно человеческих отношений в
коллективе обеспечит развитие человеческой личности. Богатство действительных
отношений к людям становится здесь действительным, духовным
богатством человека, и в сильном коллективе сильной будет и личность.
Стремление к нивелировке, к обезличению подлинному коммунизму чуждо.
976
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Маркс углубляет затем свою постановку вопроса о нивелировании
способностей в полемике против Лассаля в «Критике готской программы».
Посвященные вопросу о равенстве страницы в «Государстве и революции»
Ленина дают дальнейшее развитие этих идей. Современная борьба против
«уравниловки» и вся наша теперешняя практика с ее тщательным учетом
индивидуальных особенностей каждого работника и учащегося и
системой персонального выдвижения являются реализацией на практике
социалистического строительства этого теоретического положения Маркса.
«Только в коллективности, — развивает дальше Маркс свои
положения о роли подлинного коллектива в развитии личности, — получает
индивид средства, дающие ему возможность всестороннего развития
своих задатков; следовательно, только в коллективности возможна
личная свобода. В действительной коллективности индивиды добьются в
своей ассоциации и через эту ассоциацию в то же время и своей
свободы». Здесь Маркс употребляет термин «личная слобода» в значении,
принципиально отличном от того, которое установилось в буржуазном
обществе и которое Маркс подверг критике в «Капитале», говоря о
пролетариях, как птицах свободных — умирать с голоду. Понятие личной
свободы может быть формальным и отрицательным или
содержательным и положительным. Первое спрашивает: свободен от чего. Второе —
свободен для чего. Для первого всякие скрепы и связи только путы, второе
знает, что они могут быть и опорами, и решающим является вопрос: какие
реальные возможности развития и действия этим обеспечены. Маркс
показывает, что в этом положительном и реальном смысле только действительная
коллективность обеспечивает личную свободу, поскольку она открывает
возможность всестороннего и полного развития личности. Он подытоживает в
«Экономическо-философских рукописях 1844 года» значение
действительной коллективности: «Коммунизм как положительное упразднение частной
собственности — этого самоотчуждения человека — ив силу этого как
подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека, а
потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего
богатства предшествующего развития, возвращение человека к самому себе
как человеку общественному, т. е. человечному. Такой коммунизм, как
завершенный натурализм, = гуманизму, а как завершенный гуманизм, =
натурализму, он есть действительное разрешение противоречия между человеком
и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между
существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением,
между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он —
решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение »[4; 116].
В настоящей статье, конечно, далеко не исчерпано все богатство идей,
которые психология может извлечь из работ Маркса. Здесь лишь бегло
намечено заключающееся в высказываниях Маркса решение нескольких
977
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
узловых вопросов — таких, как вопрос о предмете психологии (проблема
сознания в его отношении к деятельности человека), проблема развития и
проблема личности. Но из этого беглого очерка очевидным
представляется, что во внешне разрозненных высказываниях Маркса по вопросам
психологии мы имеем целостную систему идей; в связи общих основ
марксистско-ленинской методологии они очерчивают основные линии
психологической системы и намечают тот путь, идя по которому психология
сможет стать «действительно содержательной и реальной наукой». Перед
советской психологией стоит сейчас большая задача: в конкретной
исследовательской работе реализовать эту открывающуюся перед психологией
возможность и, осуществляя неразрывное единство как методологии и
пронизанного ею фактического материала, так и теории и практики, создать
психологическую науку, сильную четкостью своих методологических
позиций и сознательной устремленностью на служение тому делу
построения бесклассового социалистического общества, которое куется у нас в
СССР учениками Маркса и Ленина, продолжающими то дело, которое было
основным делом жизни Маркса.
Литература:
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42.
5. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 6.
6. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29.
7. УотсонДж. Психология как наука о поведении. Одесса, 1926.
8. Bergson H. V Evolution creatrice. Paris, 1911.
9. Claparede E. La psychologie fonctionnelle // Revue philosophique.
1933. № 1-2.
10. Lewin К. Vorsatz, Wille und Bedürfnis. — Berlin, 1926.
IL Trendelenburg A. Zur Geschichte des Wortes «Person»// Kantstudien.
1908. № 13.
12. Walion H. Le probleme biologique de la conscience. Paris, 1929.
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Л.С. ВЫГОТСКИЙ:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Выготский Лев Семенович (1896-1934) —
психолог, крупный теоретик и методолог
психологической науки. Разработал
культурно-историческую концепцию, влияние которой на
современную науку продолжается и сегодня.
Из богатого наследия Выготского в антологию
включены статья «Проблема культурного развития
ребенка » (1928 г.)1, в которой дается первое
целостное изложение концепции, и доклад, сделанный в
1930 г., посвященный вопросам соотношения
психологии с распространенными в 20-30-х гг. научными
движениями — педологией и психотехникой. Текст
доклада воссоздает фрагмент конкретной картины состояния отечественной
психологии в этот период, раскрывает позицию Л.С. Выготского по ряду
теоретических вопросов о предмете и методе педологии, о соотношении с
таковыми в психологии, а также в психотехнике.
ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Вечные законы природы превращаются
все более и более в исторические законы.
Ф. Энгельс
I. Проблема
В процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание
культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения,
культурные способы мышления. В развитии поведения ребенка следует, таким
образом, различать две основные линии. Одна — это линия естественного
развития поведения, тесно связанная с процессами общеорганического
роста и созревания ребенка. Другая — линия культурного
совершенствования психологических функций, выработки новых способов мышления,
овладения культурными средствами поведения.
1 Выготский A.C. Проблема культурного развития ребенка// Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 14. Психология. № 4. С. 5-19.
979
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Так, например, ребенок старшего возраста может запоминать лучше и
больше, чем ребенок младшего возраста по двум совершенно различным
причинам. Процессы запоминания проделали в течение этого срока
известное развитие, они поднялись на высшую ступень, но по какой из двух линий
шло это развитие памяти, — это может быть вскрыто только при помощи
психологического анализа.
Ребенок, может быть, запоминает лучше потому, что развились и
усовершенствовались нервно-психические процессы, лежащие в основе
памяти, развилась органическая основа этих процессов, короче — «мнема»
или «мнемические функции» ребенка. Но развитие могло идти и
совершенно другим путем. Органическая основа памяти, или мнема, могла и не
измениться за этот срок сколько-нибудь существенным образом, но
могли развиться сами приемы запоминания, ребенок мог научиться лучше
пользоваться своей памятью, он мог овладеть мнемотехническими
способами запоминания, в частности — способом запоминать при помощи
знаков.
В действительности всегда могут быть открыты обе линии
развития, потому что ребенок старшего возраста запоминает не только
больше, чем ребенок младшего, но он запоминает также иначе, иным
способом. В процессе развития происходит все время это качественное
изменение форм поведения, превращение одних форм в другие.
Ребенок, который запоминает при помощи географической карты или при
помощи плана, схемы, конспекта, может служить примером такого
культурного развития памяти.
Есть все основания предположить, что культурное развитие
заключается в усвоении таких приемов поведения, которые основываются на
использовании и употреблении знаков в качестве средств для
осуществления той или иной психологической операции; что культурное развитие
заключается именно в овладении такими вспомогательными средствами
поведения, которые человечество создало в процессе своего
исторического развития, и какими являются язык, письмо, система счисления и
др. В этом убеждает нас не только изучение психологического развития
примитивного человека, но и прямые и непосредственные наблюдения над
детьми.
Для правильной постановки проблемы культурного развития ребенка
имеет большое значение выделенное в последнее время понятие детской
примитивности. Ребенок-примитив — это ребенок, не проделавший
культурного развития или стоящий на относительно низкой ступени этого
развития. Выделение детской примитивности, как особой формы
недоразвития, может способствовать правильному пониманию культурного развития
поведения. Детская примитивность, т. е. задержка в культурном развитии
ребенка, бывает связана большей частью с тем, что ребенок по каким-либо
980
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
внешним или внутренним причинам не овладел культурными средствами
поведения, чаще всего — языком.
Однако примитивный ребенок — здоровый ребенок. При известных
условиях ребенок-примитив проделывает нормальное культурное
развитие, достигая интеллектуального уровня культурного человека. Это
отличает примитивизм от слабоумия. Правда, детская примитивность может
сочетаться со всеми степенями естественной одаренности.
Примитивность, как задержка в культурном развитии, осложняет
почти всегда развитие ребенка, отягченного дефектом. Часто она сочетается
с умственной отсталостью. Но и при такой смешанной форме все же
примитивность и слабоумие остаются двумя различными по своей природе
явлениями, судьба которых также глубоко различна. Одно есть задержка
органического или естественного развития, коренящаяся в дефектах
мозга. Другое — задержка в культурном развитии поведения, вызванная
недостаточным овладением средствами культурного мышления.
Приведем пример:
Девочка 9 лет, вполне нормальна, примитивна. Девочку спрашивают:
1) В одной школе некоторые дети хорошо пишут, а некоторые хорошо рисуют,
все ли дети в этой школе хорошо пишут и рисуют? — Ответ: Откуда я знаю, что
я не видела своими глазами, то я не могу объяснить. Если бы я видела своими
глазами. 2) Все игрушки моего сына сделаны из дерева, и деревянные вещи не
тонут в воде. Могут потонуть игрушки моего сына или нет? — Ответ: Нет. —
Почему? — Потому что дерево никогда не тонет, а камень тонет. Сама видела.
3) Все мои братья жили у моря, и все они умеют хорошо плавать. Все ли люди,
которые живут около моря, умеют хорошо плавать или не все? — Ответ:
Некоторые хорошо, некоторые совсем не умеют: сама видела. У меня есть
двоюродная сестра, она не умеет плавать. 4) Почти все мужчины выше, чем
женщины. Выше ли мой дядя, чем его жена или нет? — Ответ: Не знаю. Если бы я
видела, то я бы сказала, если бы я видела вашего дядю: он высокий или низкий,
то я сказала бы вам. 5) Мой двор меньше сада, а сад меньше огорода. Меньше
ли двор, чем огород, или нет? — Ответ: Тоже не знаю. А как вы думаете: разве,
если я не видела, я разве могу вам объяснить? А если я скажу большой огород,
а если это не так?1
Или другой пример: мальчик-примитив. Вопрос: Чем не похожи
дерево и бревно? Ответ: Дерево не видал, ей-богу не видал, дерева не знаю,
ейбогу не видал. Перед окном растет липа. На вопрос с указанием на липу —
а это что? Ответ: Это липа.
Задержка в развитии логического мышления и в образовании понятий
проистекает непосредственно из того, что дети не овладели еще
достаПетрова А. Дети-примитивы//Вопросы педол. и детск. психоневрол. Вып. 2.
С. 6./ Под ред. проф. М.О. Гуревича. М., 1926.
981
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
точно языком, этим главным орудием логического мышления и
образования понятий. «Наши многочисленные наблюдения доказывают, —
говорит А. Петрова, из исследований которой мы заимствуем приведенные
выше примеры, — что полная замена одного, неокрепшего, языка другим,
также не завершенным, не проходит безнаказанно для психики. Эта
замена одной формы мышления другою особенно понижает психическую
деятельность там, где она и без того небогата ».
В нашем примере девочка, сменившая еще не окрепший татарский язык
на русский, так и не овладела до конца умением пользоваться языком как
орудием мышления. Она обнаруживает полное неумение пользоваться
словом, хотя и говорит, т. е. умеет им пользоваться как средством сообщения.
Она не понимает, как можно заключать на основании слов, а не на
основании того, что она видела своими глазами.
Обычно обе линии психологического развития, естественного и
культурного, сливаются так, что их бывает трудно различить и проследить
каждую в отдельности. В случае резкой задержки одной какой-нибудь из этих
двух линий происходит их более или менее явное разъединение, как это мы
видим в случаях детской примитивности.
Эти же случаи показывают нам, что культурное развитие не создает
чего-либо нового сверх и помимо того, что заключено как возможность в
естественном развитии поведения ребенка. Культура вообще не создает
ничего нового сверх того, что дано природой, но она видоизменяет природу
сообразно целям человека. То же самое происходит и в культурном
развитии поведения. Оно также заключается во внутренних изменениях того,
что дано природой в естественном развитии поведения.
Как показал еще Геффдинг1, высшие формы поведения не располагают
такими средствами и фактами, каких не было бы уже при низших формах этой
самой деятельности. «То обстоятельство, что ассоциация представлений
делается при мышлении предметом особого интереса и сознательного выбора,
не может, однако, изменить законов ассоциации; мышлению в собственном
смысле точно так же невозможно освободиться от этих законов, как
невозможно, чтобы мы какой-либо искусственной машиной устранили законы
внешней природы; но психологические законы точно так же, как и физические, мы
можем направить на служение нашим целям».
Когда мы, следовательно, намеренно вмешиваемся в течение процессов
нашего поведения, то это совершается только по тем же законам, каким
подчинены эти процессы в своем естественном течении, точно так же, как только
по законам внешней природы мы можем ее видоизменять и подчинять своим
целям. Это указывает нам верное соотношение, существующее между
культурным приемом поведения и примитивными его формами.
1 Геффдинг Г. Очерки психологии, основанной на опыте. СПб., 1904. С. 173.
982
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
2. Анализ
Всякий культурный прием поведения, даже самый сложный, может
быть всегда полностью и без всякого остатка разложен на составляющие
его естественные нервно-психические процессы, как работа всякой
машины может быть в конечном счете сведена к известной системе
физико-химических процессов. Поэтому первой задачей научного исследования, когда
оно подходит к какому-нибудь культурному приему поведения, является
анализ этого приема, т. е. вскрытие его составных частей, естественных
психологических процессов, образующих его.
Этот анализ, проведенный последовательно и до конца, всегда
приводит к одному и тому же результату, именно он показывает, что нет такого
сложного и высокого приема культурного мышления, который бы не
состоял в конечном счете из некоторых элементарных процессов поведения.
Путь и значение такого анализа легче всего могут быть пояснены при
помощи какого-нибудь конкретного примера.
В наших экспериментальных исследованиях мы ставим ребенка в
такую ситуацию, в которой перед ним возникает задача запомнить известное
количество цифр, слов или другой какой-либо материал. Если эта задача
не превышает естественных сил ребенка, ребенок справляется с ней
естественным или примитивным способом. Он запоминает, образуя
ассоциативные или условно-рефлекторные связи между стимулами и реакциями.
Ситуация в наших экспериментах, однако, почти никогда не
оказывается такой. Задача, встающая перед ребенком, обычно превышает его
естественные силы. Она оказывается не разрешимой таким примитивным и
естественным способом. Тут же перед ребенком лежит обычно какой-нибудь
совершенно нейтральный по отношению ко всей игре материал: бумага,
булавки, дробь, веревка и т. д. Ситуация оказывается в данном случае очень
похожей на ту, которую Келер создавал для своих обезьян. Задача
возникает в процессе естественной деятельности ребенка, но разрешение ее
требует обходного пути или применения орудия.
Если ребенок изобретает этот выход, он прибегает к помощи знаков,
завязывая узелки на веревке, отсчитывая дробинки, прокалывая или надрывая
бумагу и т. д. Подобное запоминание, основывающееся на использовании
знаков, мы рассматриваем как типический пример всякого культурного приема
поведения. Ребенок решает внутреннюю задачу с помощью внешних средств;
в этом мы видим самое типическое своеобразие культурного поведения.
Это же отличает ситуацию, создаваемую в наших экспериментах, от
ситуации Келера, которую сам этот автор, а за ним и другие исследователи
пытались перенести на детей. Там задача и ее разрешение находились
всецело в плане внешней деятельности. У нас — в плане внутренней. Там
нейтральный объект приобретал функциональное значение орудия, здесь —
функциональное значение знака.
983
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Именно по этому пути развития памяти, опирающейся на знаки, и шло
человечество. Такая, мнемотехническая по существу, операция является
специфически человеческой чертой поведения. Она невозможна у
животного. Сравним теперь натуральное и культурное запоминание ребенка.
Отношение между одной и другой формой может быть наглядно
выражено при помощи приводимой нами схемы треугольника.
X
А г *" 6
При натуральном запоминании устанавливается простая
ассоциативная или условно-рефлекторная связь между двумя точками А и В. При
мнемотехническом запоминании, пользующемся каким-либо знаком,
вместо одной ассоциативной связи, AB, устанавливаются две другие, АХ и
ВХ, приводящие к тому же результату, но другим путем. Каждая из этих
связей АХ и ВХ является таким же условно-рефлекторным процессом
замыкания связи в коре головного мозга, как и связь AB. Мнемотехническое
запоминание, таким образом, может быть разложено без остатка на те же
условные рефлексы, что и запоминание естественное.
Новым является факт замещения одной связи двумя другими. Новой
является конструкция или комбинация нервных связей, новым является
направление, данное процессу замыкания связи при помощи знака.
Новыми являются не элементы, но структура культурного приема запоминания.
3. Структура
Второй задачей научного исследования и является выяснение
структуры этого приема. Хотя всякий прием культурного поведения и
составляется, как показывает анализ, из естественных психологических процессов,
однако он объединяет их не механически, а структурно. Это значит, что все
входящие в состав этого приема процессы представляют собою сложное
функциональное и структурное единство.
Это единство образует, во-первых, задача, на разрешение которой
направлен данный прием, и, во-вторых, средство, при помощи которого он
осуществляется. С точки зрения генетической мы совершенно верно
назвали первый и второй моменты. Однако структурно именно второй
момент является главенствующим и определяющим, так как одна и та же
задача, разрешаемая различными средствами, будет иметь и различную
984
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
структуру. Стоит только ребенку в описанной выше ситуации обратиться к
помощи внешних средств для запоминания, как весь строй ее процессов
будет определен характером того средства, которое он избрал.
Запоминание, опирающееся на различные системы знаков, будет
различным по своей структуре. Знак, или вспомогательное средство
культурного приема, образует, таким образом, структурный н функциональный
центр, который определяет состав и относительное значение каждого
частного процесса. Включение в какой-либо процесс поведения знака, при
помощи которого он совершается, перестраивает весь строй
психологических операций наподобие того, как включение орудия перестраивает весь
строй трудовой операции.
Образующиеся при этом структуры имеют свои специфические
закономерности. В них одни психологические операции замещаются другими,
приводящими к тому же результату, но совершенно другим путем. Так,
например, при мнемотехническом запоминании сравнение, догадка,
оживление старой связи, иногда логическая операция становятся на службу
запоминания. Именно структура, объединяющая все отдельные процессы,
входящие в состав культурного приема поведения, превращает этот прием
в психологическую функцию, выполняющую свою задачу по отношению к
поведению в целом.
4. Генез
Однако структура эта не остается неизменной, и в этом заключается
самое важное из всего, что мы сейчас знаем о культурном развитии
ребенка. Эта структура не создается извне. Она возникает закономерно на
известной ступени естественного развития ребенка. Она не может быть
навязана ребенку извне, но всегда возникает изнутри, хотя и складывается под
решающим воздействием внешней среды. Раз возникнув, она не остается
неизменной, а подвергается длительному внутреннему изменению,
которое обнаруживает все признаки развития.
Новый прием поведения не просто остается закрепленным, как
известный внешний навык. Он имеет свою внутреннюю историю. Он включается в
общий процесс развития поведения ребенка, и мы получаем поэтому право
говорить о генетическом отношении, в котором одни структуры
культурного мышления и поведения стоят к другим, о развитии приемов
поведения. Это развитие, конечно, особого рода, глубоко отличное от развития
органического, имеющее свои особые закономерности.
Схватить и верно выразить своеобразие этого типа развития
представляет величайшие трудности. Мы попытаемся ниже набросать
наметившуюся в экспериментальных исследованиях схему этого развития и сделать
некоторые шаги, чтобы приблизиться к верному пониманию этого
процесса. Бинэ, столкнувшийся в своих исследованиях с этими двумя типами
раз985
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
вития, пытался решить задачу наиболее просто. Он исследовал память
выдающихся счетчиков1 и при этом имел случай сравнить запоминание
человека, обладающего действительно выдающейся памятью, с запоминанием
человека, обладающего памятью самой заурядной, но не уступающего
первому в деле запоминания огромного количества цифр.
Мнема и мнемотехника были, таким образом, впервые
противопоставлены друг другу в экспериментальном исследовании и впервые была
сделана попытка найти объективные различия этих, по существу,
различных приемов памяти. Бинэ назвал свое исследование и самое явление,
которому большинство психологических операций могут быть
симулированы, т. е. замещены другими, которые напоминают их только по внешности
и которые отличаются от них по природе. Такой симуляцией выдающейся
памяти представляется Бине мнемотехника, которую он в отличие от
натуральной называет искусственной памятью.
Мнемотехник, которого исследовал Бине, запоминал при помощи
простого приема. Он заменял числовую память словесной. Каждую цифру он
заменял соответствующей буквой, буквы складывал в слова, из слов
получались фразы, и, вместо бессвязного ряда цифр, ему оставалось запомнить
и воспроизвести сочиненный им таким образом маленький роман. На этом
примере легко видеть, в какой степени мнемотехническое запоминание
приводит к замещению одних психологических операций другими.
Именно этот основной факт и бросился в глаза исследователям, он же дал им
повод говорить в данном случае о симуляции естественного развития.
Это определение едва ли можно признать счастливым. Оно верно
указывает на то, что при внешне сходных операциях (оба счетчика запоминали и
воспроизводили одинаково точно одинаковое количество цифр), по существу,
одна операция симулировала другую. Если бы это обозначение имело в виду
выразить только своеобразие второго типа развития памяти, против него
нельзя было бы спорить. Но оно вводит в заблуждение, заключая в себе ту
мысль, что здесь имела место симуляция, т. е. обман. Это — практическая
точка зрения, подсказанная специфическими условиями исследования
субъектов, выступающих со своими фокусами с эстрады и поэтому склонных к
обману. Это скорее точка зрения судебного следователя, чем психолога.
Ведь на деле, как это признает и Бине, подобная симуляция не есть
просто обман; каждый из нас обладает своего рода мнемотехникой, и сама
мнемотехника, по мнению этого автора, должна преподаваться в школах
Исследования памяти выдающихся счетчиков создателем экспериментальной
психологии во Франции Альфредом Бине (1857-1911). Данные, приводимые
Выготским, более подробно описаны С.Л. Рубинштейном (см.: Основы общей психологии:
В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 343), Э. Мейманом (Экономия и техника памяти. М., 1913.
С. 142-147).
986
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
наравне со счетом в уме. Не хотел же этот автор сказать, что в школах
должно преподаваться искусство симуляции.
Так же мало счастливым представляется нам обозначение этого типа
культурного развития как фиктивного развития, т. е. приводящего только
к фикции органического развития. Здесь опять верно выражается
негативная сторона дела, именно то, что при культурном развитии поднятие
функции на высшую ступень, повышение ее деятельности основывается не на
органическом, а на функциональном развитии, т. е. на развитии самого
приема. Однако и это название закрывает ту несомненною истину, что в
данном случае имеет место не фиктивное, а реальное развитие особого типа,
обладающее своими особыми закономерностями.
Нам хотелось бы отметить с самого начала, что это развитие
подвержено влиянию тех же двух основных факторов, которые участвуют и в
органическом развитии ребенка, именно биологического и социального. Закон
конвергенции внутренних и внешних данных, как его называет Штерн,
всецело приложим и к культурному развитию ребенка. И здесь только на
известной ступени внутреннего развития организма становится возможным
усвоение того или иного культурного приема, и здесь внутренне
подготовленный организм нуждается непременно в определяющем воздействии
среды для того, чтобы это развитие могло совершиться. Так, на известной
стадии своего органического развития ребенок усваивает речь, на другой
стадии он овладевает десятичной системой.
Однако соотношение обоих факторов в этом типе развития
существенно изменено. Хотя активная роль и здесь выпадает на долю организма,
который овладевает представленными в среде средствами культурного
поведения, но органическое созревание играет скорее роль условия, чем
двигателя процесса культурного развития, потому что структура этого
процесса определена извне. Большинство исследований до сих пор
односторонне трактовало эту проблему. Так, например, мы имеем много
исследований, посвященных выяснению того, как биологическое созревание
ребенка обусловливает постепенное усвоение речи, но проблема
обратного влияния речи на развитие мышления изучена очень мало. Все средства
культурного поведения по самой своей природе социальны.
Ребенок, усваивающий русский или английский язык, и ребенок,
усваивающий язык примитивного племени, овладевают в зависимости от
среды, в которой протекает их развитие, двумя совершенно различными
системами мышления. Если в какой-нибудь области положение о том, что
поведение индивида есть функция поведения социального целого, к
которому он принадлежит, имеет полный смысл то это именно в сфере
культурного развития ребенка. Это развитие как бы идет извне. Оно может быть
определено скорее как экзо-, чем как эндорост. Оно является функцией
социально-культурного опыта ребенка.
987
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Третьей, и последней, задачей в исследовании культурного развития
ребенка и является выяснение психогенеза культурных форм поведения.
Мы набросаем кратко схему этого процесса развития, как она наметилась
в наших экспериментальных исследованиях. Мы постараемся показать, что
культурное развитие ребенка проходит, если можно доверять
искусственным условиям эксперимента, четыре основные стадии или фазы,
последовательно сменяющие друг друга и возникающие одна из другой. Взятые в
целом, эти стадии описывают полный круг культурного развития
какойлибо психологической функции. Данные, полученные
неэкспериментальным путем, вполне совпадают с намеченной нами схемой, прекрасно
укладываются в нее, приобретают, распределяясь в ней, свой смысл и свое
предположительное объяснение. Мы проследим кратко описание четырех
стадий культурного развития ребенка так, как они последовательно
сменяют друг друга в процессе простого эксперимента описанного выше.
Первую стадию можно было бы назвать стадией примитивного
поведения или примитивной психологии. В эксперименте она сказывается в том,
что ребенок, обычно более раннего возраста, пытается соответственно мере
своей заинтересованности запомнить предлагаемый ему материал
естественным, или примитивным, способом. Сколько он при этом запоминает,
определяется мерой его внимания, мерой его индивидуальной памяти,
мерой его заинтересованности. Обычно только трудности, встречаемые на
этом пути ребенком, приводят его ко второй стадии.
В нашем опыте это происходит обычно так. Или ребенок сам
«открывает» мнемотехническии прием запоминания, или мы приходим на помощь
ребенку, который не может справиться с задачей силами своей
натуральной памяти. Мы раскладываем, например, перед ребенком картинки и
подбираем слова для запоминания так, чтобы они находились в какой-нибудь
естественной связи с картинками. Ребенок, слушая слово, взглядывает на
картинку, а затем легко воспроизводит весь ряд, так как картинки помимо
его намерения напоминают ему только что прослушанные им слова.
Ребенок обычно очень быстро ухватывается за способ, к которому мы
его подвели, но не зная обычно каким способом картинки помогли ему
припомнить слова, он ведет себя так. Когда ему вновь предъявляется ряд слов,
он опять, на этот раз уже по своей инициативе, кладет около себя
картинки, опять взглядывает на них, но так как связи на этот раз нет, а ребенок не
знает, как использовать картинку для того, чтобы запомнить данное слово,
он при воспроизведении, взглядывая на картинку, воспроизводит не то
слово, которое было ему задано, а то, которое напоминает ему картинка.
Эту стадию условно называем мы стадией «наивной психологии» по
аналогии с тем, что немецкие исследователи называют «наивной физикой»
в поведении обезьян и детей при употреблении орудий. Употребление
простейших орудий у детей предполагает наличие известного наивного
физи988
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ческого опыта относительно простейших физических свойств своего
собственного тела и тех объектов и орудий, с которыми ребенок имеет дело.
Очень часто этот опыт оказывается недостаточным, и тогда «наивная
физика» обезьяны или ребенка приводит его к неудаче.
Нечто подобное видим мы и в нашем эксперименте, когда ребенок
уловил внешнюю связь между использованием картинок и запоминанием слов.
Однако «наивная психология», т. е. накопленный им наивный опыт
относительно собственных процессов запоминания, оказывается еще слишком
незначительным для того, чтобы ребенок мог адекватно использовать
картинку в качестве знака или средства для запоминания. Так точно, как в
магическом мышлении примитивного человека связь мыслей принимается
за связь вещей, так здесь у ребенка связь вещей принимается за связь
мыслей. Если там магическое мышление обусловлено недостатком знания
законов природы, то здесь оно обусловлено недостатком знания
собственной психологии.
Эта вторая стадия играет обычно роль переходной. От нее ребенок
обычно очень быстро в эксперименте переходит к третьей стадии, которую
можно назвать стадией внешнего культурного приема. Ребенок после
нескольких проб обычно обнаруживает, если его психологический опыт
достаточно велик, в чем дело, научается правильно пользоваться карточкой.
Теперь он заменяет процессы запоминания довольно сложной внешней
деятельностью. Когда ему представляется слово, он выискивает из
множества лежащих перед ним картинок ту, которая оказывается для него
наиболее тесно связанной с заданным словом. При этом вначале он обычно
старается использовать естественную связь, существующую между
картинкой и словом, а затем довольно быстро переходит к созданию и
образованию новых связей.
Однако и эта третья стадия длится в эксперименте сравнительно
недолго и сменяется четвертой стадией, непосредственно возникающей из
третьей. Внешняя деятельность ребенка при запоминании с помощью
знака переходит во внутреннюю деятельность. Внешний прием как бы
вращивается и становится внутренним. Проще всего наблюдать это тогда, когда
ребенок должен запомнить предъявляемые ему слова, пользуясь
картинками, разложенными в определенном порядке. После нескольких раз
ребенок обычно «заучивает» уже и самые картинки и ему нет больше
надобности прибегать к ним. Он связывает теперь задаваемое слово с названием
той картинки, порядок которых он уже знает.
Такое «вращивание целиком» основывается на том, что внешние
стимулы заменяются внутренними. Мнемотехническая карта, лежащая перед
ребенком, стала его внутренней схемой. Наряду с этим приемом
вращивания мы наблюдали еще несколько типов перехода третьей стадии в
четвертую, из которых мы назовем только два главнейших.
989
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Первый из них можно назвать вращиванием по типу шва. Подобно
тому, как шов, соединяя две части органической ткани, очень быстро
приводит к образованию соединительной ткани, так что сам шов становится
более ненужным, подобно этому происходит и выключение знака, при
помощи которого была опосредствована та или иная психологическая
операция.
Легче всего это наблюдать при сложных реакциях выбора у ребенка,
когда каждый из предъявляемых стимулов связывается с
соответствующим ему движением при помощи вспомогательного знака, например той
же картинки. После ряда повторений знак становится более ненужным,
стимул непосредственно вызывает соответствующую реакцию. Наши
исследования в этом отношении всецело подтвердили то, что было найдено
еще Леманом1, который установил, что при сложной реакции выбора
сначала вдвигаются между стимулом и реакцией названия, или другие
какиелибо ассоциативные посредники. После упражнения эти промежуточные
члены выпадают, реакция переходит в простую сенсорную, а затем в
простую моторную форму. Время реакции у Лемана при этом падало с 300 до
240 и 140 d. Прибавим к этому, что то же самое явление, только в менее
развернутом виде, наблюдалось исследователями и в процессе простой
реакции, которая, как это показал Вундт2, по мере упражнения падает до
времени простого рефлекса.
Наконец, вторым типом перехода третьей стадии в четвертую, или
вращивания внешнего приема внутрь, является следующий. Ребенок,
усвоив структуру какого-нибудь внешнего приема, уже в дальнейшем
строит внутренние процессы по этому типу. Он сразу начинает прибегать
к внутренним схемам, начинает использовать в качестве знака свои
воспоминания, прежние знания и т. д. В этом случае исследователя
поражает, как однажды разрешенная задача приводит к правильному решению
задач во всех аналогичных ситуациях при глубоко измененных внешних
условиях. Здесь, естественно, вспоминаются такие же переносы,
которые наблюдал Келер3 у обезьяны, раз верно разрешившей стоявшую
перед ней задачу.
Эти схематически намеченные нами четыре стадии являются только
первой предположительной наметкой того пути, по которому идет
разЛеман — Lehman Alfred (1858-1921) — датский психолог. Разработал метод
выражения с целью экспериментального исследования чувств. Впоследствии этот
метод был использован В. Вундтом со ссылками на работы Лемана. В 90-е гг. XIX в.
работал в лаборатории Вундта. — Прим. сост.
Вундт В. Очерки психологии. М., 1912. С. 170-171.
Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. М., 1930. — Прим.
сост.
990
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
витие культурного поведения. Однако нам хотелось бы указать, что путь,
намечаемый этой схемой, совпадает с некоторыми данными,
имеющимися уже в психологической литературе по этому вопросу. Мы приведем
три примера, обнаруживающих в главных чертах совпадение с этой
схемой.
Первый — это развитие арифметических операций у ребенка. Первую
стадию здесь образует натуральная арифметика ребенка, т. е. все его
оперирование с количествами до того, как он умеет считать. Сюда входят
непосредственно восприятие количеств, сравнение больших и меньших групп,
опознавание какой-нибудь количественной группы, распределение по
одному там, где надо разделить, и т. д.
Следующей, стадией «наивной психологии », является та
наблюдающаяся у всех решительно детей стадия, когда ребенок, зная внешние приемы счета,
повторяет, подражая взрослым, — один, два, три, когда хочет что либо
сосчитать, но совершенно еще не знает, как именно при помощи чисел производится
счет. На этой стадии находится девочка, описанная Штерном1, которая на его
просьбу сосчитать, сколько у него пальцев, ответила, что она умеет считать
только свои. Третьей стадией является пора счета на пальцах, и четвертой —
счет в уме, когда пальцы становятся более не нужны.
Так же легко располагается в этой схеме развитие памяти в детском
возрасте. Три типа, намеченные Мейманом2: механический,
мнемотехнический и логический (дошкольный возраст, школьный и зрелый), явно
совпадают с первой, третьей и четвертой стадиями нашей схемы. Мейман и
сам, в другом месте, пытается показать, что эти три типа представляют
собою генетический ряд, в котором один тип переходит в другой. С этой
точки зрения логическая память взрослого человека и есть «вращенная
внутрь» мнемотехническая память.
Если бы эти предположения хоть сколько-нибудь оправдались, мы
получили бы новое доказательство тому, как важно применять
историческую точку зрения в подходе к изучению высших функций поведения. Во
всяком случае есть одно чрезвычайно веское обстоятельство, которое
говорит в пользу этого предположения. Это прежде всего тот факт, что
словесная память, т. е. запоминание чего либо в словах, является памятью
мнемотехнической. Напомним, что Компейрэ3 еще определял язык как
мнемотехническое орудие. Мейман справедливо показал, что слова в
отношении нашей памяти имеют двоякую функцию. Они могут выступать
или сами по себе, как материал памяти, или в качестве знака, при помощи
которого совершается запоминание.
1 Штерн В. Психология раннего детства. Пг., 1915. С. 214-215. — Прим. сост.
2 Мейман Э. Экономия и техника памяти. М., 1913. Гл. 4, § 4, 5. С. 168-202.
3 Компейрэ Г. Умственное и нравственное развитие ребенка. М., 1912. — Прим. сост.
991
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Стоит еще напомнить установленную в экспериментах Бюлером1
независимость запоминания смысла от запоминания слов и важную роль,
которую играет внутренняя речь в процессе логического запоминания, для
того чтобы генетическое родство мнемотехнической и логической памяти
выступало со всей ясностью через соединяющее их звено памяти
словесной. Отсутствующая в схеме Меймана вторая стадия обычно, вероятно,
проходит очень быстро в развитии памяти и поэтому ускользает от
наблюдения.
Наконец, укажем и на то, что такая центральная проблема для
истории культурного развития ребенка, как проблема развития речи и
мышления, оказывается в согласии с нашей схемой. Эта схема, думается нам,
позволяет нащупать верный подход к этой в высшей степени сложной и
запутанной проблеме. Как известно, одни авторы считают речь и
мышление совершенно различными процессами, из которых один служит
выражением или внешним одеянием другого. Другие, наоборот,
отождествляют мышление и речь и вслед за Мюллером2 определяют мысль как речь
минус звук.
Что говорит по этому поводу история культурного развития ребенка?
Она показывает, во-первых, что генетически мышление и речь имеют
совершенно различные корни. Уже это одно должно предостеречь нас от
поспешного отождествления того, что генетически оказывается различным.
Как установило исследование, и в онто- и в филогенезе развитие речи и
мышления идет до известного этапа независимыми путями.
Доинтеллектуальные корни речи в филогенезе, как язык птиц и животных, были
известны очень давно. Келеру удалось установить в филогенезе доречевые корни
интеллекта. Точно так же доинтеллектуальные корни в онтогенезе речи,
как крик и лепет ребенка, были известны давно. Келеру, Бюлеру и другим
удалось и в развитии ребенка установить доречевые корни интеллекта. Эту
Об этих исследованиях £. Бюлера см.: Рубинштейн С.Л. Основы общей
психологии: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 311-313.
Мюллер Макс (1823-1900) — английский филолог, специалист по общему
языкознанию, индологии, мифологии. Рассматривал язык в качестве отличительного
признака человека, называя его Рубиконом духа, который животное не в состоянии
перейти. Признавал неразрывную связь языка и мышления. «Слова без мысли —
мертвый звук, мысли без слов — ничто », — писал он в «Лекциях по науке о языке »
(СПб., 1865. С. 294). Считал, что язык и мышление возникли одновременно: «На
той точке, с которой расходится человек с животным миром при первом проблеске
ума, являющемся внутри человека, видим мы истинное начало языка» (там же.
С. 290-291). Нам не удалось найти определения мысли, которое Выготский
приписывает Мюллеру. Заметим вместе с тем, что П.П. Блонский употребляет точно
такую же формулировку в работе «Психологические очерки» (М., 1927. С. 161). —
Прим. сост.
992
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
пору первого проявления интеллектуальных действий у ребенка,
предшествующую образованию речи, Бюлер1 предложил называть
шимпанзеподобным возрастом.
Самым замечательным в интеллектуальном поведении обезьян и
ребенка этого возраста является независимость интеллекта от речи. Именно
это обстоятельство приводит Бюлера к заключению, что
интеллектуальное поведение в форме «инструментального мышления» предшествует
образованию речи2.
В известный момент обе линии развития пересекаются,
перекрещиваются. Этот момент в развитии ребенка Штерн назвал величайшим
открытием, которое делает ребенок в своей жизни. Именно, он открывает
«инструментальную функцию» слова. Он открывает, что «каждая вещь имеет
свое имя»3. Этот перелом в развитии ребенка сказывается объективно в
том, что ребенок начинает активно расширять свой словарь, спрашивая о
каждой вещи: как это называется. Бюлер, а вслед за ним Коффка
указывают, что с психологической стороны существует полная параллель между
этим открытием ребенка и изобретениями обезьян. Функциональное
значение слова, открываемое ребенком, подобно функциональному значению
палки, открываемому обезьяной. Слово, говорит Коффка, входит в
структуру вещи так, как палка в ситуацию «стремления получить плод.
Следующим наиболее важным этапом в развитии мышления и речи
является переход внешней речи во внутреннюю. Когда и как совершается
этот важнейший процесс развития внутренней речи? Исследования
Пиаже над эгоцентризмом детской речи4 позволяют, думается нам, дать
ответ на этот вопрос. Пиаже показал, что речь становится психологически
внутренней прежде, нежели она становится внутренней физиологически.
Эгоцентрическая речь ребенка является внутренней речью по
психологической функции (это — речь для себя) и внешней по форме. Она есть
переходная форма от внешней речи к внутренней, и в этом ее огромное
значение для генетического изучения. Коэффициент эгоцентрической речи
резко падает на границе школьного возраста (с 0,50 до 0,25). Это
указывает, что именно в эту пору совершается переход внешней речи во
внутреннюю.
Нетрудно заметить, что три главнейших этапа в развитии мышления и
речи, как они нами намечены, вполне отвечают трем основным стадиям
культурного развития, как они последовательно проявляются в эксперименте.
Доречевое мышление отвечает в этой схеме первой стадии натурального
1 Бюлер К. Духовное развитие ребенка. М., 1924. С. 97. — Прим. сост.
2 Там же. С. 100. — Прим. сост.
3 Штерн В. Психология раннего детства. Пг., 1915. С. 92. —Прим. сост.
4 Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.; Л., 1932.
32 Российская психология 993
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
или примитивного поведения. «Величайшее открытие в жизни ребенка», —
как указали Бюлер и Коффка, представляет полную параллель с
изобретением орудий, следовательно, соответствует третьей стадии нашей схемы.
Наконец, переход внешней речи во внутреннюю, эгоцентризм в детской
речи, составляет переход из третьей в четвертую стадию, означающий
превращение внешней деятельности во внутреннюю.
5. Метод
Своеобразие культурного развития ребенка требует применения
соответствующего метода исследования. Этот метод можно было бы
условно назвать «инструментальным», так как он основан на раскрытии
«инструментальной функции» культурных знаков в поведении и его развитии.
В плане экспериментального исследования этот метод опирается на
функциональную методику двойной стимуляции, сущность которой
сводится к организации поведения ребенка при помощи двух рядов стимулов,
из которых каждый имеет различное «функциональное значение» в
поведении. При этом непременным условием разрешения стоящей перед
ребенком задачи является «инструментальное употребление» одного ряда
стимулов, т. е. использование его в качестве вспомогательного средства для
выполнения той или иной психологической операции.
Есть основание полагать, что изобретение и употребление этих знаков
в качестве вспомогательных средств при разрешении какой-либо задачи,
стоящей перед ребенком, с психологической точки зрения представляют
структуру поведения, сходную с изобретением и употреблением орудий.
Внутри общего отношения стимул — реакция, лежащего в основе
обычной методики психологического эксперимента, следует еще с точки
зрения развитых здесь мыслей различать двоякую функцию, выполняемую
стимулом по отношению к поведению. Стимул может играть в одном
случае роль объекта, на который направлен акт поведения, разрешающий ту
или иную задачу, стоящую перед ребенком (запомнить, сравнить, выбрать,
оценить, взвесить что-либо); в другом случае — роль средства, при помощи
которого мы направляем и осуществляем необходимые для разрешения
задачи психологические операции (запоминания, сравнения, выбора и т. п.).
В обоих случаях функциональное отношение между актом поведения и
стимулом существенно разное. В обоих случаях стимул совершенно
поразному, совершенно своеобразным способом определяет, обусловливает
и организует наше поведение. Своеобразием психологической ситуации,
создаваемой в наших экспериментах, является одновременное наличие
стимулов обоего порядка, из которых каждый играет качественно и
функционально иную роль.
Выраженное в наиболее общей форме основное допущение, лежащее
в основе этого метода, гласит: ребенок в овладении собой (своим
поведени994
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ем) идет, в общем, тем же путем, что и в овладении внешней природой, т. е.
извне. Человек овладевает собой как одной из сил природы, извне — при
помощи особой культурной техники знаков. Положение Бэкона о руке и
интеллекте могло бы служить девизом всех подобных исследований:
Nee manus nuda, пес intellectus sibi permissus multum valet; instrumentis
et auxiliis res perficitur1.
Этот метод по самому своему существу является методом
историкогенетическим. В исследование он вносит историческую точку зрения:
«Поведение может быть понято только как история поведения» (Блонский)2.
Это положение является исходной точкой всего метода.
Применение этого метода возможно в плане: а) анализа состава
культурного приема поведения, б) структуры этого приема как целого и как
функционального единства всех входящих в его состав процессов, в)
психогенеза культурного поведения ребенка. Метод этот является не только
ключом к пониманию высших, возникающих в процессе культурного
развития форм поведения ребенка, но и путем к практическому овладению
ими в воспитании и школьном обучении.
Этот метод опирается как на свою основу на естественно-научные
методы изучения поведения, в частности — на метод условных рефлексов.
Своеобразие его заключается в изучении сложных функциональных
структур поведения и их специфических закономерностей. Объективность —
вот что роднит его с естественно-научными методами изучения поведения.
В исследовании он пользуется объективными средствами
психологического эксперимента. При исследовании высших функций поведения,
складывающихся из сложных внутренних процессов, этот метод пытается
экспериментально вызвать самый процесс образования высших форм поведения,
вместо того чтобы изучать сложившуюся уже функцию в ее развитом виде.
При этом особенно благоприятной для изучения оказывается третья
стадия — внешнего культурного приема поведения.
Связывая сложную внутреннюю деятельность с деятельностью
внешней, заставляя, например, ребенка при запоминании выбирать и
расклады«Ни голая рука, ни предоставленный самому себе разум не имеют большой силы;
дело совершается орудиями » (Бэкон Ф. Новый Органон)// Сочинения: В 2 т. Т. 2.
М., 1972. С. 12. Эти слова Бэкона встречаются и в других работах Выготского в
связи с положением об опосредствованной природе высших психических
процессов. — Прим. сост.
По-видимому, эта формулировка не является цитатой, но лишь выражением
общего смысла мыслей Блонского, высказываемых им в связи с пониманием
психологии как науки о поведении в работах 20-х гг.: Очерк научной психологии. М., 1921;
Психология как наука о поведении//Психология и марксизм. М., 1925;
Психологические очерки. М., 1927. —Прим. сост.
32*
995
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
вать карточки, при образовании понятий — передвигать и распределять
фигуры и пр., мы создаем внешний, объективный ряд реакций,
функционально связанный с внутренней деятельностью и служащий отправной
точкой для объективного исследования. Мы поступаем при этом так, как —
допустим сравнение — поступил бы тот, кто хотел бы проследить путь,
который проходит рыба в глубине от той точки, где она погружается в воду,
до той, где она снова всплывает на поверхность. Мы набрасываем
веревочную петлю на рыбу и по движению того конца веревки, который мы держим
в руках, стараемся восстановить кривую этого пути. В наших
экспериментах мы также все время стараемся держать в своих руках внешнюю нить от
внутреннего процесса.
Примерами применения этого метода могут служить
произведенные автором и по его почину экспериментальные исследования памяти,
счета, образования понятий и других высших функций поведения у
детей. Эти исследования мы надеемся опубликовать особо. Здесь мы
хотели только в самом сжатом очерке представить проблему культурного
развития ребенка.
ПСИХОТЕХНИКА И ПЕДОЛОГИЯ1
Доклад A.C. Выготского 21/XI 1930 г. на совместном заседании
секции психотехники Комакадемии и психотехнического общества
И педология и психотехника представляют собой научные
дисциплины, в достаточной степени молодые в отношении своего общего возраста и
еще более молодые в отношении их диалектической разработки для того,
чтобы начинать методологические проблемы этих наук взаимной тяжбой
отдельных дисциплин. Вопрос о взаимоотношении педологии и
психотехники есть прежде всего актуальный и остро практический вопрос.
Если бы мы руководствовались исключительно внутренней
очередностью, внутренней закономерностью, теоретическим удельным весом тех
или иных проблем, то и для психотехники и для педологии мы нашли бы
другие проблемы, гораздо более актуальные, гораздо более важные с
точки зрения усвоения, владения этими дисциплинами методологией
марксизма, методологией диалектического материализма. Но именно потому,
что практически в вопросах подготовки кадров и в вопросах подготовки
педологических кадров, в вопросах практики, т. е. участия в
социалистическом строительстве, обслуживания дела подготовки кадров, — ввиду
Психотехника и психофизиология труда. 1931. № 2-3. С. 173-184.
996
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
того, что во всех этих практических областях отношение между
педологией и психотехникой нуждается в выяснении, приходится ставить тот
вопрос, которому посвящена моя сегодняшняя тема. Но для того, чтобы
разрешить этот вопрос, сугубо, как я говорю, практический и острый, надо
все-таки подняться над теми непосредственными практическими
потребностями, которые диктуют его постановку и рассмотреть его сначала в плане
теоретическом, с точки зрения отношений, существующих между одной и
другой науками.
Так как до сих пор существуют среди психотехников и психологов и
кажется среди педологов товарищи, которые недостаточно ясно
представляют себе вопрос, что же такое педология, то мне кажется,
правильнее было начать этот анализ взаимоотношений педологии и
психотехники с некоторых общих положений, с самой общей связи, характеризующей
содержание и установки педологии как отдельной самостоятельной
науки.
Идея педологии как самостоятельной и единой науки возникла не у
нас. Первые опыты педологических исследований, значит педологической
практики, как и самое имя педологии, были изобретены не в нашем
Союзе. Все это результат развития американской и европейской науки. Но
вместе с тем современного исследователя поражает тот факт, что
педология, родившаяся в Европе и Америке, умерла фактически и там и здесь
почти что окончательной смертью настолько, что самое имя «педология»
оказывается основательно забытым среди специалистов, работающих в
смежных областях, среди людей, имена которых красуются в списке
членов первого педологического конгресса, происходившего, как я уже
говорил, не у нас.
Чем же объясняется этот странный факт, что педология, родившись
на Западе и в Америке, фактически там умерла? Многие склонны видеть в
этом факте прямое доказательство нежизнеспособности педологии. Они
склонны рассуждать примерно следующим образом. Мало ли какие
несуразные и нежизнеспособные идеи существуют или появлялись в свое
время в той или иной науке, но это участь всех недоносков умереть или сейчас
же вскоре после рождения или даже в самый момент этого рождения. Так
склонны многие, особенно западные, психологи толковать факт скорой
смерти педологии. Но они забывают при этом, что на обязанности того, кто
хочет объяснить этот факт, лежит дать ответ и на второй вопрос: почему
же педология возникла — просто ли досужие люди и по-видимому не
особенно дальновидные в своей научной области решили изобрести эту науку?
Было бы сейчас с моей стороны прямым отвлечением от темы, если бы
я попытался сколько-нибудь серьезно дать ответ на один и на другой
вопрос. Но я считаю необходимым выяснить свою точку зрения для того,
чтобы все дальнейшее было связано единым теоретическим пониманием, для
997
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
того, чтобы и те товарищи, которые со мной не согласятся, во всяком
случае не имели оснований жаловаться на логическую непоследовательность
моей мысли, могли бы меня во всяком случае понять. Так вот, мне кажется,
что и более внимательное исследование, чем то, которое было в моих
силах, привело бы нас к неизбежному выводу, что факт рождения педологии
на Западе и в Америке и факт смерти требуют гораздо более сложного
объяснения, чем то, которое склонны, под горячую руку, давать ему люди,
не задумывавшиеся над этим вопросом глубоко.
Во-первых, относительно рождения педологии. Педология умерла —
это все знают, педология, как единая самостоятельная наука сейчас на
Западе и в Америке почти не представлена никакими исследованиями,
которые бы себя осознали как педологические. А между тем стихийно целый
ряд отдельных дисциплин, разрабатывающих проблемы, смежные с
педологией, стихийно, сами того не осознавая, становятся на педологическую
точку зрения и этим каждый раз показывают, что идея создания педологии
родилась не случайно, но что весь ход развития детской психологии,
психологии и анатомии детского возраста и та определенная область
исследования, которую американцы называют наукой о ребенке, наукой,
изучающей ребенка, что все эти отдельные области с необходимостью толкали
исследователей, лучших из них, к постановке вопроса о необходимости
особой научной точки зрения, особого разреза научного исследования,
который в свое время был назван педологическим.
Если мы для примера возьмем, с вами, скажем, всю современную
буржуазную психологию подростков, как она развивается, самых
идеалистически настроенных психологов, стоящих на точке зрения
психофизического параллелизма, мы найдем чрезвычайно интересные факты,
характеризующее тенденции перерастания границ психологического
исследования.
Вопросы душевной жизни подростков, как выражаются эти авторы,
настолько ясно, тесно и неотрывно связаны с вопросами полового
созревания, с вопросами формирования в переходном возрасте, что исследователь
становится в тупик, становится перед неразрешимой задачей, если он
захочет оставаться строгим психологом и если он не привлечет в своем
исследовании целых глав, заполненных психологическим материалом. Эти
главы большею частью плохо сделаны, в этом надо сознаться. Большею частью
эти главы заполнены малодоброкачественным материалом. Это стихийная,
так сказать, педология, просто педология плохого качества, чисто
бессознательная педология, но тем не менее сам факт является чрезвычайно
знаменательным. Мы могли бы показать, как целый ряд острейших
проблем той же психологии подростков упирается в проблемы, выходящие за
пределы психологии в собственном смысле этого слова. Просто говоря,
психология подростков, несмотря на то, что она мало задумывается над
998
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
этим, фактически обнаруживает тенденции превращения в педологию.
За исключением небольшой группы психологов, принадлежащих к
крайнему метафизическому крылу идеалистических психологов, мы не
найдем ни одного большого исследования, ни одного серьезного курса, ни
одного глубокого систематического изложения психологии подростков
юношеского возраста, вышедшего за последние 15 лет, которое бы
фактически, стихийно не становилось на точку зрения более широкую, чем
сама психология.
Если мы проанализируем этот факт и сопоставим его с теми
тенденциями, которые обнаруживают в своем развитии эти науки накануне
создания педологии, мы увидим, что педология не была создана на досуге
изобретателями новых наук, но в попытке прокламировать педологию сказалась
и вся беспомощность, вся глубина того кризиса, который стали
переживать отдельные науки тогда, когда они были приложены к проблемам
детского возраста.
Мне кажется, что в самой объективной реальности тех фактов,
которые мы изучаем, заложена необходимость педологического подхода к ним.
Мне думается, и это, с моей точки зрения, является главным решающим
мотивом объяснения педологии как самостоятельной науки, с точки
зрения диалектического материализма, это объективная реальность того
объекта, который психолог исследует, а следовательно невозможность
изучить этот объект и представить его адекватным иначе, как с помощью
педологического исследования, — это и есть та внутренняя причина,
которая толкала отдельные дисциплины, изучающие ребенка, к идее
педологии, так неудачно осуществленной на Западе и в Америке.
Мне остается сказать, как я понимаю вторую сторону поставленного
мной вопроса: почему, если отдельные дисциплины толкались самим
ходом вещей к постановке проблемы педологии, почему же педология так
скоро умерла, и само существование ее оказалось так малоплодотворным
на Западе и в Америке? Мне думается, что это связано с общим
методологическим основанием, на котором пытались построить эту педологию. Если
вы внимательно приглядитесь к первым историческим данным педологии,
вы увидите, что методологический базис, на котором пытались первые
творцы педологии построить эту педологию, был модный в то время
радикальный эмпиризм, т. е. уверенность в том, что эмпирика, факт точного
наблюдения и особенно измеренного наблюдения, является высшей инстанцией
научного знания, не нуждающегося ни в какой методологической
проверке. И вы прекрасно знаете из судеб других эмпирических наук, в частности
эмпирической психологии, что на деле нет возможности создать научное
знание на этом базисе радикального эмпиризма. И это отсутствие
методологического фундамента, мне кажется, и было той причиной, почему
потребность в педологии, ежедневно манифестирующей себя все в новых и
999
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
новых проявлениях, до сих пор не получила, а по моим наблюдениям, и не
может получить, на Западе и в Америке своего удовлетворения.
Я думаю, что педология как единая и самостоятельная наука о
развитии ребенка может методологически и практически оформиться лишь на
основе диалектико-материалистического понимания своего предмета.
Два признака являются существенными для определения этого
предмета:
1) Это целостность, т. е. специальная установка на вскрытие связей,
изучение тех новых качеств, тех своеобразных особенностей, которые
возникают из соединения ряда сторон развития в единый целостный процесс,
вскрытие внутренней структуры того процесса, который лежит в основе
онтогенеза, в основе детского развития, взятого в целом. Вот изучение этих
новых качеств и соответствующих им новых закономерностей, которые
представлены в синтезе отдельных сторон и процессов развития, мне
кажется, это и является первым признаком педологии в целом и каждого
отдельного педологического исследования. Там, где этой установки нет,
там педологического исследования в собственном смысле, какой бы
частной проблеме оно ни было посвящено, нет.
2) Это развитие не в том смысле, в каком развитие является общей
идеей целого ряда наук, развитие не в смысле генетической точки зрения,
которая должна проникать саморазвитие, не в смысле объяснительного
принципа, который должен проходить красной нитью через все
теоретическое здание науки, — развитие как прямой объект исследования.
Предмет исследования есть развитие и его внутренняя закономерность. Там,
где любая частная проблема, как бы она ни была узка, становится иначе,
чем в плане развития, там, где на минуту меняются в фокусе исследования
два момента и развитие становится просто точкой зрения исследователя,
но не объектом самого исследования, там, где объект исследования
стабилизируется, там педологического исследования в собственном смысле этого
слова мы тоже не имеем. Теперь мысль, которая должна стать, как мне
кажется, исходной методологической основой марксистской педологии.
Вы знаете, что западные и американские педологи, идеалисты по существу,
хотя бы они называли себя радикальными эмпириками, как Стэнли Холл,
видели методологическое основание для построения педологии как
отдельной науки в своеобразной точке зрения. Стэнли Холл говорил о том, что ни
одна наука до сих пор не знала такой точки зрения, которая соединяла бы
подход врача, физиолога, историка, психолога, биолога, анатома к одному
и тому же объекту — к ребенку. И вот в своеобразии этой точки зрения,
т. е. чисто субъективной установке самого исследователя, видели авторы
педологии возможность ее обоснования как единой науки.
Судьба науки решается в конечном счете возможностью найти такую
точку зрения, такую субъективную установку, такую кантовскую форму,
1000
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
в которой разум приписывает, как выражался Кант, закон
действительности данному роду, и тогда сделать предметом этой науки те законы,
которые разум, становясь на эту точку зрения, приписывает данной области
явлений.
Одной из немаловажных причин быстрой гибели педологии на Западе
была вот эта точка зрения, и мне думается, что в противовес этому для
марксистской педологии должен быть формулирован тезис
противоположного характера. Я попытаюсь его так формулировать: основание для
построения педологии, как самостоятельной науки заключается в
объективной реальности того единого процесса развития, который является
предметом ее изучения, т. е., проще говоря, те факты, которые изучает
педология, те связи, та зависимость явлений, то сцепление этих явлений,
внутреннее их строение, та их взаимозависимость, те закономерности, которые
возникают и управляют их взаимозависимостью, — все это есть часть
объективной реальности, существующей независимо от нас. И если бы мы сейчас
с вами, например, проголосовали здесь, что педология как
самостоятельная наука не может существовать, прекратили бы всякие педологические
исследования, то мы не могли бы вычеркнуть из действительности того ее
разреза, того рода связей, которые без педологии никогда никакой другой
наукой не могут изучаться. А если они будут изучаться другой наукой, то
она будет той же самой педологией, только носящей другое имя. Вот эта
объективная реальность того предмета, который изучается педологией, и
есть основание для построения педологии.
И здесь, мне кажется, мы находим прочную методологическую
опорную точку, которая позволяет педологии развиваться так же, как
развивается всякое другое научное знание. Если объект изучаемых педологией
связей явлений принадлежит к объекту реальности, то педология,
раскрывая его, раскрывает часть этой объективной реальности, а значит,
раскрывая эти законы, она может предвидеть, т. е. она может практически
доказывать истинность педологического мышления. Возможность такой
педологической практики и возможность воздействия на связь того рода,
о которой я говорю, и является в конечном счете единственным и основным
методологическим критерием истинности, а не фантасмагоричности, не
произвольности, не выдуманности педологических построений.
Стоит только сопоставить эту точку зрения с точкой зрения Стэнли
Холла, как станет совершенно ясно, что педология, понимаемая так, не могла
развиваться ни на почве метафизических, формально логических взглядов на
детское развитие, которые допускают лишь механическое объединение отдельных
сторон развития, ни на почве дуалистического воззрения на человеческую
природу, закрывающего путь к изучению того реального единства,
которым является процесс детского развития в действительности. Проще
говоря, ни дуалист, разделяющий тело и душу и рассматривающий физические и
1001
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
психологические процессы как два параллельных воздействующих ряда, но
искони самостоятельных, ни метафизик, стоящий на точке зрения
формальной логики и знающий только отдельные части, механически объединенные и
соотнесенные друг с другом — ни один, ни другой не могут быть педологами в
настоящем смысле слова, хотя бы потребности их собственного исследования
толкали их к педологической точке зрения, хотя бы стихийно они становились
на эту точку зрения, тем не менее провести ее последовательно и до конца они
не могут. Именно поэтому педология фактически умерла на Западе и в
Америке как особая наука, несмотря на то, что, как я уже говорил, стихийно многие
науки, изучающие ребенка, становятся, сами того не сознавая, на
педологическую точку зрения, выходящую за пределы их компетенции.
В настоящий момент развития педологии представляет чрезвычайный
интерес тот вопрос, которому посвящен мой доклад, как я уже говорил,
раньше всего практически, но который мы должны поставить теоретически
для того, чтобы подняться сколько-нибудь над его чисто случайным
решением, и для того, чтобы найти какое-то теоретическое обоснование для
правильного решения этого практического вопроса. Это вопрос
относительно взаимоотношений педологии и ряда смежных наук, в частности
относительно педологии и психотехники. В разрешении этого вопроса
большинство как педологов, так и психотехников и психологов, писавших по этому
вопросу, становятся на формально-логическую точку зрения, ища
абсолютных метафизических, твердых и нерушимых границ между двумя
областями знаний. Я даже слышал одного из ораторов, высказавшегося так:
покажите мне ту точку, где кончается педология и начинается
психотехника. Тот, кто так формулирует свои мысли, тот представляет себе, что
границы между родственными науками напоминают границы между
государствами, и что если эту точку нельзя показать пограничным столбом, то на
бумаге ее можно провести очень тонкой линией. Это — точка зрения, что
между отдельными научными дисциплинами, изучающими основные,
связанные между собой, многократно переплетающиеся области явлений
реальной действительности, существуют твердые, нерушимые границы. Во
всяком случае я должен признаться, что во всех спорах, которые до сих
пор велись в этом вопросе и в ряде других вопросов относительно
педологии и смежных наук, я не слышал другой точки зрения, других вопросов,
кроме вопросов о размежевании, разграничении путем указания того, где
кончается одно и где начинается другое. И когда в ответ на эти вопросы вы
пытаетесь говорить, что такой точки зрения вообще не существует в
природе и, следовательно, ее не существует в науке, что и науки гораздо более
зрелые и ясно себя осознающие, накопившие гораздо больше материала,
чем, скажем, педология и психотехника, тоже не могут указать точки,
которые отделяют одну науку от другой, больше того, что в природе не
существует твердых границ, которые бы разделяли, например, растения от
жи1002
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
вотных и т. д., то в ответ на это вы слышите, что задача связи между
науками также должна быть поставлена, но это последнее, а наперед должна
быть поставлена задача размежевания. А мне представляется, что с точки
зрения не формальной логики, а диалектической задача должна быть
поставлена обратная. Если мы сперва найдем связь и взаимоотношения
между педологией и рядом смежных наук, если мы найдем верную форму,
которая покажет нам хотя бы в самом схематическом виде, как связаны между
собой психологические и психотехнические исследования, мне кажется,
тогда станет ясна до известной степени и граница между одной и другой
областью знаний. Я не являюсь сторонником того, чтобы бросать все науки
в общий горшок, как говорят немцы, т. е., чтобы без разбора, без
соотнесения специальной конкретной методологии каждой этой науки, разные
дисциплины объединять беспорядочно, независимо от той или иной
конкретной практической задачи или от прихоти исследователя. Но я думаю, что с
точки зрения диалектической логики мы должны поставить вопрос
относительно того, что нельзя игнорировать бесконечно сложные связи,
взаимозависимость и взаимоотношения между различными областями
явлений и, следовательно, между научными дисциплинами. Я думаю, что новая
постановка вопроса позволит отмежеваться от этой ложной установки и
решит проблему взаимоотношения педологии и других родственных наук
не только в плане размежевания и разграничения в области исследования
между отдельными науками, но и в плане установления сотрудничества,
взаимосвязей и сближения дисциплин. Так как эти моменты
обусловливают взаимосвязь психологии и связь тех явлений, которые изучаются
различными науками, поэтому опять, мне кажется, основа для связи между
различными науками лежит в объективной реальности связи тех явлений,
которые изучаются каждой наукой. И если только эта связь, ее
объективное существование станет нам достаточно ясным, то нам станет ясным и
отражение этой связи в известной зависимости, в известном
сотрудничестве различных наук, в их соприкосновении.
Нам надо будет по-новому решить вопрос о взаимосвязи разных наук
и пересмотреть некоторые установки отдельных дисциплин, т. е. поднять
некоторые вопросы не только о взаимоотношении педологии и
психотехники, но и об основных установках самой психотехники и самой
педологии.
Для того чтобы перейти к непосредственно интересующему меня
вопросу, я все-таки должен сделать еще одно небольшое отступление.
Вопрос об отношении педологии и психотехники не может быть решен
непосредственно, сразу. По-моему, для того чтобы правильно ответить на
вопрос о взаимоотношении педологии и психотехники, нам надо между
двумя этими крайними звеньями искомой нами цели вставить
промежуточное звено, именно психологию. Мне кажется, что для того, чтобы
выяс1003
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
нить вопрос о взаимоотношении педологии и психотехники, потребуется
предварительно выяснить более общий вопрос о взаимоотношении
педологии и психологии, ибо сама психотехника является психологической
дисциплиной и по характеру своего исторического развития, и по своему
теоретическому содержанию. Я говорю, что сама психотехника является
психологической дисциплиной, или, правильней сказать, целой областью
психологических знаний. Согласно точке зрения, которую неоднократно
развивал Шпильрейн и которую разделяем все мы, — под психотехникой
следует разуметь все области психологии во всем ее объеме. И поэтому,
говоря о взаимоотношении психотехники и педологии, хотим мы этого или
не хотим, но мы всегда фактически будем дискутировать еще другой
вопрос, именно во-прос об отношении психологии и педологии. Мне
представляется правильным избрать такой, несколько зигзагообразный путь и
начать с этого промежуточного звена рассматривать взаимоотношения между
психологией и педологией и тем самым подготовить почву для решения
многих важных моментов того вопроса, который мы называем
взаимоотношением между педологией и психотехникой.
Мне думается, что взаимоотношения между психологией и
педологией, если их рассматривать не только в плане размежевания, но и в плане
связей и сотрудничества, как я говорил прежде, если все время иметь в
виду обязательную для марксистского мышления точку зрения, именно
оконченным критерием для определения самостоятельности и единства
какой-нибудь науки и ее взаимоотношения с другими является
объективная реальность, реальность объекта и объективные реальные отношения
этого объекта с объектами других наук. Если все это принять, мне
думается, что два основных положения могут объяснить нам отношения
педологии и психологии как двух самостоятельных наук, обладающих каждая
своими объектами и своими методами исследования, но взаимно
методологически и практически тесно связанных между собою.
Первое из этих положений я решился бы сформулировать в
следующем виде: детская психология (для начала давайте говорить о детской
психологии, т. е. о той психологической дисциплине, которая соприкасается с
педологией теснее всех и которую многие психологи склонны
отождествлять с педологией, а многие педологи, напротив, хотят пожрать и
растворить в педологии, отрицая ее самостоятельное существование), даже в
системе марксистских наук развивается как одна из педологических
дисциплин. Что это значит? Я хочу этим сказать, что отношения между
педологией и детской психологией в системе марксистских знаний, мне
представляется, должны напоминать отношения биологии к частным биологическим
дисциплинам, скажем, к эмбриологии, к зоологии, к ботанике.
Разумеется, как всякое сравнение, и это сравнение не является доказательством, но
оно является примером, который позволяет объяснить то, что я здесь имею
1004
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
в виду. Подобно тому, как всякая частная биологическая наука, например
эмбриология — наука о зародышевом развитии, или зоология — наука о
животных, подобно тому, как каждая наука, каждая биологическая
частная дисциплина связана или является биологической дисциплиной в том
смысле, что она исходит из общих представлений о законах развития и
существования живых организмов, т. е. из биологии, подобно этому детская
психология, изучающая поведение ребенка и его развитие, может и
должна развиваться не иначе, как одна из педологических дисциплин, т. е. она
должна исходить в своих основных построениях из целостного, т. е.
педологического представления о том месте, которое занимает
психологическая эволюция в общей системе онтогенеза. Психолог, для того чтобы
строить свое собственное исследование в области детского возраста,
должен считаться с тем, что такое детский возраст, должен считаться с
общими законами жизни ребенка и его развития. Вне этого он не может
научно организовать ни одного исследования в области детской
психологии.
Позвольте мне опять это объяснить на конкретном примере. Вы
знаете, что психология имеет целый ряд отдельных областей знания, например
этническая психология, психология народов или историческая
психология, психология примитивного, первобытного человека, дальше мы имеем,
скажем, психологию других областей, психологию зоологическую,
психологию животных, — спрашивается, может ли психология животных,
изучающая поведение животных и развитие этого поведения, может она
строиться иначе, чем как биологическая дисциплина? Я думаю, что после
Дарвина и даже после Ламарка ставить такой вопрос — значит дать на него
отрицательный ответ. Психология не может ставить эти исследования
иначе, как исследования биологические.
Психология народов не может ставиться иначе, как дисциплина
социологическая, т. е. исходящая из общего представления о законах развития
общества и о всех явлениях, которые встречаются в человеческом
обществе. Так же точно детская психология не может исходить в своих
исследованиях ни из чего другого, как из общего педологического знания того,
что такое вообще ребенок, с которым имеет дело психолог, изучающий его
поведение. Ведь в этом и заключается, мне кажется, материалистическая
точка зрения на поведение, на психику. Психика не представляет собой
самостоятельного начала, развивающегося абсолютно независимо от всех
материальных его носителей, как это представляют себе идеалисты. И
следовательно, если мы изучаем психику и поведение животных, то мы
должны их изучать в общем контексте эволюции животного мира, а этому учит
нас только биология. Если мы изучаем поведение человека в обществе, то,
изучая известные явления общества, явления, рожденные в общественной
жизни, мы не можем иначе организовать психологическое исследование,
1005
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
как опираясь на некоторые общие представления относительно
общественных явлений, об их природе, об их динамике. И так же точно, изучая любой
вопрос поведения ребенка, научная детская психология не может его
ставить иначе как педологически.
Все это, вместе взятое, я и хотел бы формулировать так: детская
психология может и должна развиваться как одна из педологических
дисциплин, исходя в своем исследовании и построении из общего и целостного,
т. е. педологического определения места и отношения процесса
психологического развития к процессу онтогенеза в целом, и из общего учения о
развитии ребенка.
В педологии существует точка зрения на детское развитие, что в
основе детского развития лежат явления роста, что рост, увеличение,
нарастание массы тела является основным фактом, с которым имеет дело
педология, основным стержневым явлением, лежащим в основе всего процесса
развития. Если мы встанем на эту точку зрения, то и вопросы
психологического исследования ребенка должны будут разрешаться под известным
углом зрения, ибо у нас наперед дано педологическое, т. е. общее,
представление относительно природы процесса развития, в данном случае
попытка рассматривать процессы развития как некоторое производное от
процессов роста. Представьте себе, что мы выводим другое понимание
развития педологии; в зависимости от этого изменится и представление о
психологическом развитии, изменится то, чего мы будем искать в
психологическом развитии ребенка.
Если бы я не побоялся занять слишком много времени, если бы я не
боялся показаться парадоксальным, я бы стал утверждать, что можно на
каждом конкретном психологическом исследовании из области детского
возраста показать, из какой неосознанной педологической теории, т. е.
общего представления о детском развитии, исходит тот или иной автор.
В отношении теории Бюллера, изложенной им в «Истории духовного
развития ребенка », я попытался это сделать и в литературной форме, т. е., мне
кажется, что авторы, никогда не задумывавшиеся над тем, что такое
педология, стихийно в своих курсах детской психологии исходят, не сознавая
для себя, значит, не критически, из какого-то очень плохого, но все-таки
педологического по своей природе понимания детского развития. Это
можно показать решительно на каждом детском психологическом
исследовании. Значит, хочет или не хочет детский психолог, но он непременно
отправляется от неосознанного восприятия педологического исследования.
Иначе он вообще не может ставить вопрос о психологии ребенка, как
исходя из какого-то общего представления, что же такое ребенок, что такое
детство, что такое развитие, с которым он имеет дело. Если детская
психология таким образом приобретает в педологии впервые действительно
надежный научный базис для своего развития, как зоология его приобрела в
1006
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
биологии, как этническая психология его приобрела в марксистской
социологии или в теории исторического материализма, так точно, мне кажется,
и педология может на деле заимствовать чрезвычайно много от
психологии, и, в частности, от детской психологии. Это мое второе положение.
Я думаю прежде всего, что в педологии должно найти особо широкое
место применение психологического метода исследования. Мне кажется, что
этот вопрос очень правильно освещен Мюнстербергом в его «Основах
психотехники » (я дальше буду ссылаться на это, когда буду говорить о
психотехнике). Он говорит, что применение какой-нибудь науки, использование
данных какой-нибудь науки в практических целях возможно в двух
различных формах: с одной стороны, возможно использование данных одной
науки для решения теоретических задач другой науки — это будет тоже
применение чужого метода или чужих данных, а с другой стороны,
возможно использование данных какой-нибудь науки для применения к
практике в собственном смысле этого слова. Использование психологического
метода в педологии подходит под эту первую рубрику, намечаемую
Мюнстербергом, — использование одной наукой данных другой науки. Я бы
сказал, что такое использование методов других наук является скорее
правилом, чем исключением, и когда я продумывал тезисы этого доклада, я не
мог найти ни одного примера, ни одной науки, которая не использовала бы,
широко использовала, а не случайно, методы и данные других наук. Я
думаю, что такой науки не существует, да, а приори говоря, и не может
существовать.
В самом деле педология, изучая процесс развития ребенка в целом,
непременно имеет дело и с явлениями психологическими. Но само собой
понятно, что психологические явления не могут научно быть изучены
каким-нибудь другим методом, кроме психологического метода, иначе они
будут изучены не научно, а дилетантски, т. е. с помощью того, что так или
иначе имитирует научное исследование, но не является научным
исследованием в собственном смысле этого слова. И мне кажется, что в этом нет
решительно ничего страшного. Широчайшее использование
психологического метода, наряду с другими методами, не превращает психологию в
детскую психологию, как это думают многие психологи, подобно тому, как
использование математического метода в физике не превращает механику в
алгебру, подобно тому, как использование, скажем, метода химического
исследования в физиологии не превращает физиологию в биохимию и т. д.
Но мне кажется, что применение психологического метода в
педологическом исследовании при изучении развития личности ребенка и его
поведения необходимо и законно должно иметь место лишь в той мере, в
какой это требуется специальными задачами педологического исследования,
т. е. задачи исследования, проблемы должны всегда и все время оставаться
педологическими. Например, если перед педологом стоит задача
целост1007
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ного, характеристики возрастной симптоматики, комплекса, или его
интересуют общие проблемы развития, т. е. некоторые общие закономерности
движения развития в данном возрасте, или его интересует специальный
вопрос о соотношении тех или иных сторон развития, скажем, моторики и
интеллекта, скажем, физического развития, эндокринной эволюции или
интеллектуальной, или, скажем, некоторые проблемы практической
педологии, — во всех этих случаях для решения педологических проблем
необходимо и законно привлекается психологический метод. Но этим дело не
ограничивается. Дело не ограничивается тем, что педология использует
психологический метод, педология в какой-то мере, как я сейчас
постараюсь показать, изучает и поведение ребенка, развитие поведения ребенка,
ибо, изучая развитие ребенка в целом, педологии необходимо и
совершенно законно изучать развитие поведения. Это, мне кажется, является
необходимой и органической составной частью, входящей в систему
педологического исследования, которое в этом отношении опирается на общую
психологию, как детская психология опирается на педологию.
Изучая развитие ребенка, превращение семилетки в школьника,
восьмилетку, я при этом должен изучать и симптомы, если будем так говорить,
психологического характера, т. е. явления, характеризующие развитие
ребенка. Значит, я не только должен приложить психологический метод, но я
должен затронуть и самый предмет психологии, я должен изучить это
поведение. Но для того, чтобы изучить развитие поведения, я раньше должен
знать, что такое это поведение, так точно, как психолог, для того чтобы
изучить ту или иную детскую психологию, должен знать, что такое
ребенок.
Представьте себе такой пример из недавней истории, которая
разыгралась в памяти у всех нас. Раньше чем психология раскрыла, что такое
практический интеллект, что такое форма мышления, и не словесная, а
действенная, до этого психолог не мог поставить вопроса об эволюции
практического мышления ребенка, отличающего его мышление от общего.
Следовательно, педолог, изучая при разрешении тех или иных педологических
проблем движение изменения поведения ребенка в общей системе его
возрастных особенностей, должен, для того чтобы изучить эти особенности
педологически, опереться на общую психологию так, как он в других
отношениях опирается на общую анатомию и на общую физиологию. В самом
деле, могу я изучить развитие мозга в детском возрасте, а педолог должен
это изучить, если я вообще не буду знать законов строения мозга, законов
его напластования в истории построения и развития, законов его
деятельности; могу я, скажем, изучить развитие условной рефлекторной
деятельности ребенка, если я из общей физиологии высшей нервной деятельности
не буду знать вообще, что такое условный рефлекс? И так же точно, как я
не могу изучить — какие должны быть физиологические, анатомические
1008
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
признаки без того, чтобы не знать, чем они являются по существу, так
точно педолог не может научно квалифицировать те или иные явления, с
которыми ему приходится иметь дело, если он не квалифицирует их
психологически, если он в этом отношении не обопрется на общую психологию.
Я думаю, на этом можно подробно не останавливаться, потому что как раз
мысль о том, что педология опирается на общую психологию, на анатомию
и физиологию, — эта мысль стала и у нас чрезвычайно популярной, ее
никто не отрицает и защищать ее — это значит ломиться в открытые двери.
И наконец, последнее, относящееся сюда, — это, мне кажется,
оговорка, которая должна быть, сделана, что вот это изучение развития
поведения, как и изучение развития мозга, как и изучение развития условной
рефлекторной деятельности, ведется педологией со своей специфической
точки зрения, т. е. с точки зрения изучения целого синтеза,
представляющего детское развитие в целом, вследствие чего, — тут мне хочется это
объяснить, — если психолог или педолог изучают одни и те же объекты, они
изучают их в разных заданиях или, правильнее сказать, они изучают в одном и
том же объекте его разные стороны, его разные связи, и в результате этого
изучения они приходят к законам, обобщениям, лежащим в разных планах
научного знания, т. е. соответствующим основным методологическим
установкам педологии и психологии; т. е. и здесь, мне кажется, не происходит
путаницы или смешения педологии и психологии.
Так вот, я хочу объяснить последнее из положений для того, чтобы
расстаться с вопросом и психологии и педологии. Это положение заключается в
том, что если даже наука педология изучает явления педологически и при этом
пользуется психологическими методами, то даже там, где, скажем, изучается
один и тот же объект и педологией и психологией, все же не происходит того
вавилонского смешения, которого у нас боятся пуще огня, которое кажется
гибельным для самостоятельного существования отдельных наук.
Представьте себе, что и педология, и психология практически в своих
исследованиях затрагивают одну и ту же тему. Например, и педология,
и психология интересуются, скажем, теми изменениями, которые
наступают в практическом мышлении ребенка тогда, когда ребенок обучается
речи. И психолог, и педолог занимаются одним и тем же вопросом.
Однако педолог, изучая этот вопрос и разрешая его со своей
специально-педологической точки зрения, интересуется не практическим
интеллектом самим по себе и не его природой и не его судьбой, а интересуется
трехлетним ребенком и его развитием — вот его объект. Поэтому данные,
которые он здесь получит о практическом интеллекте, он соотносит не с
общими данными об интеллекте, он получит крупицы знания не теории
интеллекта, а теории трехлетнего возраста, и те законы, которые он
установит в результате своего исследования, будут педологическими законами,
улавливающими и отражающими движение особенностей мышления
ре1009
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
бенка в системе других его особенностей, на грани, скажем, трехлетнего
или четырехлетнего возраста.
Не то психолог. Психолог, изучая практический интеллект
трехлетнего ребенка, интересуется трехлетним ребенком очень мало, для него это
просто удобная форма, в которой он может кое-что почерпать для своих
общих знаний относительно практического интеллекта. Поэтому те
данные, которые он получит, он соотносит с общими данными об интеллекте,
и та теория, к которой.он приложит крупицу своих новых практических
знаний, будет не теорией трехлетнего возраста, а теорией практического
интеллекта. Те законы, которые он выведет в результате своего
исследования, будут законами, гласящими относительно внутренней структуры
системы функционирования практического интеллекта.
Иначе говоря, мне кажется, что даже там, где внешне будто бы
происходит смешение взглядов, где взгляды кажутся одними и теми же и где психолог
и педолог встречаются на одном и том же объекте, даже там они могут
совершенно спокойно каждый продолжать свое дело, если каждый только знает,
что он делает и занимается научным исследованием. Они могут спокойно
продолжать свое дело и знать, что каждый развивает свое исследование в
своеобразном плане. Это значит, что каждый изучает один и тот же предмет
практический интеллект трехлетнего ребенка в разных связях, в разных
опосредствованиях, как выразился бы диалектик; т. е. из того множества
связей, из тех бесконечных явлений, которые вплетены в общую сеть явлений, из
этого огромного многообразия педолог и психолог, каждый в силу основных
установок своей науки изображает своеобразно связи, и эти связи, как я хотел
показать на своем примере, не совпадают. На этом я закончу вопрос
относительно педологии и психологии. Я хочу только объяснить, что такие вещи в
методологии наук, в истории наук встречаются на каждом шагу.
Я беру в качестве примера отношение, скажем, того, что в
методологии научного познания часто называется, особенно в старых работах,
науками о естественных целых, как, например, география, астрономия, т. е.
науки, которые развились так, что предметом их изучения явилось
какоето естественное целое, как выражаются здесь методологи и историки
науки, — скажем, Земля, земная кора, земная поверхность, которые
изучаются со всех точек зрения. Возникает вопрос, как соотносится исследование
географии и зоологии? Скажем, в географии Азии, определенного ее
участка, в географии Египта, географ непременно должен дать представление и
относительно фауны Египта. Может он изучить животных и
классифицировать их иначе, чем по тем законам, которые ему дает зоология? Конечно,
не существует особой зоологической и особой географической
классификации животных. Значит, волей-неволей наш географ должен будет
обратиться к самой простой зоологии, но только он нисколько не побоится
упрека в том, что география не есть самостоятельная наука, которая прибегает
1010
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
к помощи другой науки, потому что он знает, что он соотнесет свои знания
не с другими знаниями о животных, и теория, которую он построит, не
будет теорией классификации животных видов или историей их
происхождения, а он соотнесет эти данные с другими данными о Египте. Он покажет,
как данные фауны связаны с данными экономики, как она связана со
строением коры, с растительностью, — одним словом, другого рода связи этих
явлений будут интересовать зоолога и другого рода связи будут
интересовать в данном случае географа.
И, наконец, последнее, и заключительное, замечание, которое состоит
в следующем. Может показаться, что все, что я сейчас развернул перед
вами, представляет чрезвычайное нагромождение, представляет очень
сложную вещь, что там, где предполагались отношения еще очень простые,
педология опирается (как это бывает в курсах, наших педологов) на
анатомию, физиологию и психологию, которая по этому случаю получила титул
введения в биологию и т. д. Это все может показаться чрезмерно
усложненным, чрезвычайно мудреным. Но мне хотелось бы предостеречь против
такого понимания, которое гораздо больше эту точку зрения усложняет.
Упрек не в чрезмерном усложнении, а в упрощении, потому что по
сравнению с той реальной сложностью взаимозависимости этих дисциплин,
которая раскроется не сейчас, когда обе науки находятся на младенческой
ступени развития, а по мере их продвижения вперед, — по сравнению с
этой реальной сложностью то схематическое упрощение в главнейших
только пунктах взятой и банальной, в сущности, схемы является
действительным упрощением, т. е. я хочу предупредить, что реальное положение
вещей еще сложнее нежели оно рисуется здесь.
Теперь можно перейти непосредственно к вопросу, который нас
интересует и решение которого, мне кажется, уже подготовлено тем, что я
говорил прежде. Я думаю, что, применяя эти общие положения к вопросу об
отношении педологии и психотехники, мы приходим к двум простым и,
мне кажется, логически неизбежным выводам. Психотехника детского и
юношеского возраста, осознав себя как одну из педологических
дисциплин, должна перестроить всю систему понятий психотехники взрослых в
аспекте развития воспитуемости и воздействия на процесс образования тех
форм поведения, изучением которых психотехника занята. Я, проще
говоря, думаю, что как детская психология может развиваться как одна из
педологических дисциплин, так и психотехника детского и юношеского
возраста может и должна развиваться как одна из педологических дисциплин,
т. е. как только психотехник подходит к любому явлению, входящему в
целом в круг его компетенции, но связанному с ребенком, с процессом
детского развития в целом, так он сейчас же должен строить основную
систему своих понятий педологически, т. е. его наука становится одной из
педологических дисциплин. И вот в зависимости от этого педология (мне
1011
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
кажется поэтому в несколько другой связи неоднократно говорили и
т. Шпильрейн и Геллерштейн) должна перестроить основную систему
своих понятий, которые сложились вне детского возраста, которые
сложились при изучении тех же самых явлений в их стабилизированном виде, как
мы их встречаем у взрослых, которые сложились (это мысль т.
Шпильрейна) под углом зрения определенных практических задач, скажем, подбора
рабочей силы при капиталистической организации хозяйства, но которым
чужды были задачи педагогики и те изменения задач подготовки кадров,
которые выдвигаются в нашем Союзе в настоящее время. Следовательно,
основные понятия, с которыми работала психотехника, должны быть
раньше всего, поскольку мы говорим о психотехнике детского и юношеского
возраста, ориентированы педологически. Если психотехник подходит к
проблеме политехнизации, профориентации, предсказания специальной
одаренности, к любому вопросу, который связан с ребенком, — он не
перестает быть психотехником, но только самая его психотехника, которой он
занимается, должна включаться в новые системы понятий, ибо те явления,
которые он изучает, явления, возникшие в процессе детского развития,
и значит, общее представление об этом детском развитии и о законах, ими
управляющих, должны лечь в основу этого. Мне думается, что проблема
развития, воспитуемости и воздействия, т. е. педагогика, — вот три
основных момента, под углом зрения которых должна быть произведена эта
перестройка и пересмотр основных понятий психотехники, сложившихся при
изучении тех же явлений на взрослых людях в относительно стабильном
виде. Мне кажется, что этой отрасли психотехники, возникающей, кстати
сказать, только у нас (в этом отношении, мне кажется, что психотехника не
представляет особого исключения по сравнению с педологией), и ей
принадлежит эта прекрасная великая перспектива в новой совершенно
системе знаний родиться у нас. Эта область психотехники с полным основанием
должна быть названа педологической психотехникой или педагогической
психотехникой, если угодно, в смысле указания на ту практическую
область, на ту практическую деятельность, которой непосредственно
должно служить психотехническое исследование этого рода.
С другой стороны, педология, строя целостную картину детского
развития, приобретает в общей психотехнике и в педологической психотехнике
значение одной из основных руководящих дисциплин в области своих
собственных исследований, ибо, упоминая о зигзагах детской психологии, педолог,
сталкиваясь с теми же самыми явлениями и фактами, не может подойти к
этим явлениям и фактам, не осознавши раньше всего их психотехнической
природы, т. е. не квалифицировавши их как психотехническое явление. И, мне
кажется, там, где педолог касается всех проблем воздействия с
педологической точки зрения, а это немалая часть, там, где он касается вопросов
профессионального развития, трудовой подготовки, там везде педология
приобретают
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ет в общей психотехнике и педологическую психотехнику, особую в общей
психотехнике, одна из руководящих дисциплин, которая ориентирует
педолога в области этого исследования, как анатомия, физиология и психология
ориентируют его в других областях, о которых я говорил прежде. Мне
думается, что политехнизм является в данном случае наиболее удачным примером,
и мне кажется, что когда сколько-нибудь развернутся педологические
исследования и психотехнические исследования по проблеме политехнизма, тогда
станут совершенно ясными взаимная связь, взаимное, намеченное нами выше
использование, взаимное сотрудничество двух дисциплин, из которых
каждая в этой проблеме не может двигаться одна без другой, из которых каждая
подымется на высшую ступень, как только на высшую ступень поднялась
другая дисциплина. Как только сложились наши знания о развитии ребенка, как
только мы узнали что-нибудь новое относительно развития ребенка и
политехнической деятельности, которую мы изучаем, так сейчас же психотехника
приобретала совершенно новые возможности в деле изучения и обоснования
политехнической работы с ребенком. И наоборот, как только мы получаем
более точные сведения о природе взаимодействия на ребенка, о характере его
трудовой подготовки от психотехники, так сейчас же психология приобретает
новые возможности разграничения, новые возможности знаний и
исследований в данной области.
Есть еще одна проблема, очень большая, которую я позволю себе
задеть совершенно поверхностно, только вскользь.
Можно ли решить вопрос об отношении педологии и психотехники, не
затрагивая вопроса о педагогике и педологии. Разрешить этот вопрос или
хотя бы остановиться на основных моментах было бы сейчас чрезвычайно
трудно, но для того, чтобы связь моих мыслей была ясна, именно для того,
чтобы их можно было критиковать во всей связности, я хочу указать на два
положения, из которых я исхожу в понимании этого вопроса и которые
предполагаются также известными тогда, когда я предлагаю те выводы, о
которых я говорил выше.
Мне кажется, что и здесь отношения между педологией и педагогикой
не всегда у нас достаточно ясно представляются, и раньше всего в том
смысле, что педология противопоставляется часто у нас изучению воспитания и
развития. Забывается при этом, что воспитание является одним из
основных факторов детского развития и упускается из виду, что педология
изучает воспитательный процесс во всех его формах, как один из центральных
факторов детского развития. Иначе говоря, педология изучает ребенка не
только развивающегося, но и воспитуемого. Но мне кажется, что такое
определение было бы неправильным с логической точки зрения, ибо
воспитание-то и изучается педологией с точки зрения развития. И даже там
педология и педагогика, при сотрудничестве в целом ряде вопросов, каждая
изучает свой особый предмет точно так, как изучает свой предмет
психо1013
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
логия и педология, как я старался показать выше. Педология не
воспитательного процесса как такового, а педология развивающегося и
воспитуемого — вот что я включаю в понятие развивающегося ребенка.
Мне остается сейчас сказать только несколько слов относительно
практической стороны дела. Я должен сознаться, что не мог бы ответить на целый
ряд чрезвычайно важных практических вопросов. Я не мог бы сейчас с
достаточной ясностью сказать, какое место должна занимать психотехника в
подготовке педологов, хотя я твердо убежден на основании всего того, что я
сказал выше, и на основании всего своего небольшого опыта педологической
работы, что без основательного знания психотехники, не в качестве
второстепенной дисциплины, но в качестве одной из основных дисциплин, настоящий
педолог, мне кажется, выработаться не может. Если бы меня спросили, какое
место более точно и конкретно должна занимать психотехника в системе
подготовки педологов, я не мог бы дать конкретного ответа, как не мог бы дать
конкретного ответа на целый ряд практических вопросов. Но мне кажется, что
если мы договоримся относительно тех теоретических предпосылок, которые
я затронул сегодня в своем докладе, то это будет подготовкой почвы и пути
для решения этого ряда практических вопросов. В общей форме можно было
бы совершенно смело утверждать, что практическое осуществление задач
научного обслуживания педагогических процессов со стороны и педологии,
и психотехники требует сотрудничества педологов и психотехников в
решении целого ряда вопросов, стоящих перед нашей школой. С полной
несомненностью можно утверждать, что не только в области теории намечается такое
сотрудничество и переплет различных дисциплин, но и что целый ряд
актуальных практических вопросов, выдвигаемых нашей школой, не может быть
сейчас иначе достаточно научно, а не дилетантски разрешен, если он не будет
решен в процессе совместной работы и взаимного сотрудничества педологии и
психотехники.
Опять я не мог бы предложить что-нибудь конкретное в смысле
расстановки педологов и психотехников — в каких вопросах, в каких звеньях
школьной организации, в каких формах должно быть это сотрудничество
осуществлено и увязано. Но я уже сказал, что целый ряд этих вопросов практического и
организационного характера я не затрагивал потому, что не имею на них
готового ответа, не имею достаточного организационного опыта, но ясно, что они
сами по себе возникнут в процессе нашего обсуждения.
В свете задач, выдвигаемых реконструктивным периодом перед
педагогикой и перед организацией труда, встает в качестве очередной и актуальной
задачи, задача сближения педологии и психотехники, сотрудничества по
далеко идущему фронту обслуживания насущных нужд социалистического
строительства. Вот тот небольшой с точки зрения его конкретности, но
чрезвычайно широкий с точки зрения его общего значения вывод, который, мне кажется,
можно было бы сделать из всего того, что я сказал до сих пор.
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
А.Р. ЛУРИЯ:
ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК1
Лурия Александр Романович (1902—1977) —
психолог, основатель нейропсихологии,
экспериментатор и теоретик психологической науки,
замечательный педагог. Велика международная
популярность Лурии. Последователь Л.С.
Выготского. Оставил огромное наследие — более 30
монографий и сборников трудов, около 600 статей.
Среди его трудов — опубликованная после смерти
научная автобиография «Этапы пройденного
пути» (1982). Книга воссоздает личный научный
путь ученого в контексте истории советской
психологии.
В антологию включены две большие статьи, в которых Лурия,
исходя из сложности природы психических процессов, рассматривает
психологию как естественно-научную и одновременно историческую
дисциплину. В отрывке из большой статьи «Функциональная организация
мозга» отражены представления Лурии о главной в его научной
деятельности проблеме — мозговой организации психических процессов.
Эти представления составляют основу нейропсихологии как научной
дисциплины.
О ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ОСНОВАХ ПСИХОЛОГИИ2
Психология как наука о сознательной деятельности человека, о
различных формах получения, переработки и хранения информации, о
мотивах человеческой деятельности и регуляции психических актов всегда
имеет дело со сложными функциональными образованиями, сложившимися в
ходе общественной истории, и в этом смысле должна рассматриваться как
одна из общественных наук.
Название одного из выступлений А.Р. Лурии (1975), которое отражает его
широкое понимание психологии как ориентированной на естественно-научную и
гуманитарную методологии.
Естественно-научные основы психологии / Под ред. A.A. Смирнова и др.
М., 1978. С. 5-23.
1015
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Однако все сложные виды сознательной деятельности человека
осуществляются мозгом, работа которого подчиняется законам высшей
нервной деятельности. Совершенно естественно поэтому, что психолог должен
ясно понимать, что знание законов работы мозга, осуществляющего
психическую деятельность, для него так же обязательно, как и знание
общественно-исторических законов, определяющих формирование
сознательной деятельности людей.
Проблемы, связанные с общественно-исторической природой и
естественно-научными основами психики, очень сложны, и, прежде чем приступить к
характеристике места, занимаемого в психологической науке данными
морфологии мозга, физиологии нервных процессов, психофизиологии и
нейропсихологии, надо остановиться на двух вопросах: о месте психологии в
системе общественных и естественных наук и о ее соотношении с физиологией.
I
О месте психологии в системе социальных и биологических наук
1
Вопрос о месте психологии среди социальных и биологических наук — до
сих пор один из самых острых вопросов теории научного знания.
Одни исследователи, исходящие из того, что морфофизиологические
признаки, с которыми тесно связаны психические процессы, заложены в
генетическом коде, считают, что психология должна быть включена в
число естественных наук.
Другие, отчетливо понимающие, что психические функции человека
формируются в процессе социального общения и что сознание отражает
объективную действительность, занимают иную позицию и считают
возможным рассматривать психологию человека как общественную науку,
отвлекаясь при этом от физиологических процессов, лежащих в основе
психической деятельности.
Наконец, третья группа ученых предлагает компромиссное решение,
рассматривая психологию как «биосоциальную» науку и относя одни
психические свойства к сфере биологических задатков, другие — к сфере
социально обусловленного содержания сознательной жизни человека.
Однако последняя позиция, несомненно содержащая здоровое ядро,
обычно раскрывалась как очень упрощенная и неадекватная
действительности. Сторонники этого подхода резко разделяли биологическое и
социальное в психических процессах, рассматривали их порознь и приходили к
мысли о том, что удельный вес биологического и социального может быть
различен в разных сферах психической деятельности, что в одних
психи1016
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ческих процессах человека преобладает биологическое, в других —
социальное начало.
Этот подход получил в истории психологии название теории двух
факторов, и именно из этой теории исходили многочисленные попытки
американских психологов изучить соотношение nature (биологического) и nurture
(социального), измерить удельный вес обоих факторов в различных
формах психической жизни человека и трактовать психическое развитие как
процесс постепенного увеличения роли социального фактора (вводимого с
помощью обучения) и уменьшения значения биологического фактора.
Считалось, что именно этим количественным изменением соотношения обоих
факторов и характеризуется психическое развитие.
Такая позиция, однако, не выдерживает критики. Вряд ли есть
основания думать, что существуют такие виды сознательной
деятельности человека, которые можно рассматривать как чисто биологические
процессы, не подвергающиеся влияниям общественных форм жизни.
Так же мало оснований считать, что имеются какие-то виды
сознательной деятельности, не стоящие в зависимости от ряда биологических
законов, значение которых полностью сохраняется и у человека.
Принимать первую из этих концепций — значит становиться в объяснении
природы психического на позиции биологизаторства, упрощенного
естественного материализма. Вторая концепция приводит к отрыву
сознательных психических процессов от мозга, к идеалистическому
пониманию психики.
Теория «двух факторов » неприемлема и в другом отношении. Думать,
что биологическое и социальное в психических процессах человека
являются двумя самостоятельными сферами, которые лишь взаимодействуют
друг с другом, что общественные условия ничего не меняют в самих
биологических процессах и лишь оттесняют или «тормозят» их, — значит
игнорировать творческую, формирующую роль общественных форм жизни и
отвлекаться от того кардинального по своему значению факта, что в
процессе общественной истории возникают новые, не существующие у
животных, а присущие только человеку формы сознательной деятельности,
выступающие в виде применения специальных орудий и средств, обеспечивающих
достижение поставленных целей, и использования языка, что играет
решающую роль в самом возникновении этих высших форм сложной
сознательной деятельности человека.
Поэтому теория «двух факторов» неприемлема и для решения
вопросов психического развития человека. Считать, что развитие сводится лишь
к увеличению или уменьшению удельного веса биологического или
социального, пытаться свести все психическое развитие человека к
количественным изменениям соотношения того и другого — значит не понимать самой
сути развития, представляющего собой качественное преобразование,
фор1017
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
мирование новых функциональных систем, появление «новообразований»,
которыми один возраст отличается от другого.
Столь же ошибочно предположение, что формы психической
деятельности (законы протекания психических процессов) относятся к
биологическому фактору (якобы неизменному на всех этапах развития), в то время
как содержание психической жизни находится в пределах социального,
полностью изолированного от естественных предпосылок. Нельзя
разрывать форму и содержание, игнорировать тот факт, что в процессе
приобретения новых «содержаний» психической жизни меняются и способы
переработки получаемой информации и что, наоборот, формирование новых
средств ее переработки неизбежно ведет к решающим изменениям
содержания сознания (к переходу от восприятий к отражению мира в системе
отвлеченных понятий).
2
Обратимся к тем положениям, исходя из которых различные
направления психологической мысли решали проблему движущихся сил
развития психики, и к тому, как эта проблема решается советской психологией.
Психологи-идеалисты трактовали сознание как внутреннее состояние,
источник которого следует искать в качествах «духа ». Корни сознания
лежат якобы в глубоко интимной духовной жизни субъекта.
Не следует думать, что такие взгляды были распространены лишь в
далекую от нас эпоху Средневековья или что они возможны лишь в
пределах религиозно мистического мировоззрения. Идеалистическую
трактовку сознания можно встретить и в трудах зарубежных ученых, в том числе
физиологов, совсем недавнего прошлого и даже у наших современников.
Так, Ч. Шеррингтон, широко известный своими работами по физиологии
рефлекторных процессов, в конце своей жизни опубликовал две книги,
в одной из которых утверждает, что физиология не может объяснить
сознательное поведение человека, поскольку истоки его надо искать якобы в
«духовном мире», в другой откровенно рассматривает сознание как
проявление «чистого» духа; понятно, что в этом случае исследование
выносится за пределы объективной науки.
Дж. Эккзл, разделяя ту же позицию, со всей категоричностью
утверждает, что сознание человека (или его «непосредственный опыт») имеет
свою собственную, особую («духовную») природу, являющуюся
отражением объективно существующего духовного мира. Контакт
человеческого мозга с этим миром осуществляется якобы с помощью особого
тончайшего аппарата — мельчайших нервных синапсов размером 10"16 мк,
которые следует рассматривать как своеобразные «детекторы»
духовного мира.
1018
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Совершенно очевидна безнадежность всех этих предложений искать
истоки сознания внутри «человеческого духа».
Ошибочными являются и механистические направления, исходящие
из позиции редукционизма, сводящие сознательные явления к
элементарным физиологическим процессам, рассматривающие сознание
исключительно как продукт деятельности мозга, а не как продукт сложного
социальноисторического развития. Именно на таких позициях стоит «классический »
американский бихевиоризм, начиная с первых работ Дж. Уотсона и кончая
последними работами Б. Скиннера.
Представители бихевиоризма считают возможным рассматривать все
психические процессы, в том числе и сложнейшие, либо как проявление
врожденных механизмов, либо как продукт самого элементарного
«научения», в ходе которого создаются только механические связи.
Представители механистического направления отвлекаются от того факта, что в процессе
развития человека создаются новые формы сознательной деятельности,
проявляющиеся в актах предметного восприятия, произвольного внимания,
логической памяти, в отвлеченном мышлении, иначе говоря, в сложнейших
формах саморегулирующихся сознательных процессов. Такое сведение
сложнейших видов сознательной деятельности человека к комбинации
врожденных влечений и прижизненно усваиваемых навыков (learning) не
открывает путей к научному познанию сложных форм психической
деятельности человека и неизбежно открывает путь для ненаучной,
идеалистической трактовки тех форм активности, которые выходят за пределы
элементарных влечений и навыков.
Советская психологическая наука в противовес этому выдвигает
положение о том, что истоки сознания как отражения предметной
действительности, как процесса приема и переработки поступающей информации
следует искать не внутри мозга, а в общественной жизни человека —
подлинном источнике сложнейших форм сознательной деятельности людей.
Чтобы научно объяснить происхождение сознательной деятельности
человека и ее высших форм (сложного, категориального восприятия,
произвольного внимания, активного запоминания, отвлеченного мышления,
сознательного произвольного действия), нужно выйти за пределы индивида
и рассматривать те формы психической деятельности человека, которые
возникают в процессе общественной жизни. Иначе говоря, основная
задача психологической науки — тщательное изучение тех новых форм
деятельности, которые возникают в процессе общественного развития и
являются для человека специфическими функциональными системами.
Еще пятьдесят лет назад Л.С. Выготский показал, что такие сложные
процессы, как произвольное внимание, целенаправленное действие, не
являются результатом простого созревания, а формируются в процессе
общения людей (в самом начале жизни уже в условиях общения матери с
1019
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ребенком) и что функции, которые раньше были разделены между двумя
людьми и носили «интерпсихологический » характер, постепенно переносятся внутрь
и становятся формами организации собственной деятельности ребенка,
вызывая к жизни новые функциональные системы и приобретая
«интрапсихологический» характер. Если вначале ребенок выполняет речевую инструкцию
матери, то затем — с развитием его собственной речи — он оказывается в
состоянии подчинять свое поведение собственным речевым процессам, и именно
в результате этого и возникает произвольное внимание, целенаправленная
деятельность, опосредствованное запоминание и в конечном счете — все формы
сложных сознательных, саморегулирующихся процессов. Именно эти
сложившиеся в истории развития общества функциональные системы и
являются основным предметом психологической науки.
Как же на основе этих исходных положений решается вопрос о месте
психологии среди естественных и общественных наук?
Бесспорно, что психология не может быть отнесена к числу
биологических наук. Сложнейшие формы сознательной деятельности,
возникающие в общественной истории, лишь осуществляются мозгом в соответствии
с законами высшей нервной деятельности. Но создаются они под
формирующим влиянием общественной жизни. Под ее воздействием возникают
новые функциональные системы, и поэтому попытки вывести законы
сознательной деятельности только из работы мозга вне связи с социальными
условиями жизни человека обречены на неудачу.
Вместе с тем психология как наука, изучающая мозговую
организацию сознательной деятельности человека, не может быть отнесена только
к числу социальных наук. Отрывать ее от изучения законов работы мозга
значило бы делать не меньшую ошибку, чем трактовать ее как
биологическую науку.
Следует отметить, что названная выше теория «двух факторов»
(биологического и социального), рассматривающая взаимодействие этих
факторов механически и полагающая, что в процессе психического развития
происходит лишь вытеснение биологических факторов социальными, не
раскрывала сущности высших сознательных форм человеческой
деятельности.
Научная психология изучает сложнейшие формы сознательной
деятельности, общественной по происхождению, опосредствованной по
строению и осуществляемой мозгом — продуктом эволюции животного мира.
Естественно поэтому, что так понимаемая психология — подлинно
научная психология — находится на стыке, на границе естественных и
общественных наук.
Как уже было сказано, в процессе общественной истории человека
создаются качественно новые формы работы мозга, новые
функциональные системы, и именно эти последние должны быть предметом
психологи1020
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
чески ориентированной физиологии. Именно так следует понимать
развитие психической деятельности людей в свете
диалектико-материалистической философии. Такое понимание развития работы мозга
соответствует характеристике диалектики, данной В.И. Лениным в его статье «К вопросу
о диалектике» [Поли. собр. соч. Т. 29. С. 316-322].
II
Психологическая наука и физиология человека
1
Если отвлечься от упрощенного понимания «локализации»
психических функций в изолированных участках мозга, от донаучного прямого
сопоставления психических явлений с мозгом, которое начиналось в
Античности, продолжалось все Средневековье (учение о «трех мозговых
желудочках») и даже в Новое время («френология» Ф.А. Галля), то серьезная
постановка вопроса о физиологических коррелятах психических
процессов окажется насчитывающей лишь немногим более столетия, и начало их
исследования относится к тому времени, когда и психология и физиология
были еще недостаточно зрелыми науками.
В психологии XIX в. сложные психические процессы обычно
расчленялись на составляющие их элементы (ощущения, представления) и их
ассоциации. Эти представления, сложившиеся еще в эмпирической английской
философии XVIII в. и в немецкой психологии, продолжали господствовать в течение
очень длительного времени. Совершенно естественно, что первые
экспериментальные исследования (В. Вундта и его последователей) сводились прежде всего
к попыткам изучать именно такие элементы (двигательные реакции,
ощущения, представления) и их ассоциации в более сложные комплексы.
Все эти попытки были тесно связаны с господствовавшими в то время
физиологическими концепциями, наиболее ярко проявившимися в
целлюлярной физиологии и патологии, согласно которой истоки всех
биологических и патологических процессов надо искать в отдельных клетках —
этих мельчайших составных элементах целого организма.
Легко видеть, что сопоставление элементарных психологических
явлений со столь же элементарными физиологическими процессами не
выходило за пределы господствовавшего тогда психофизического
параллелизма, который пытался обнаружить соответствие между субъективными
состояниями и объективно регистрируемыми физиологическими
процессами. На этой основе и возникла особая область науки — физиологическая
психология, основной задачей которой было нахождение
физиологических коррелятов элементарных психических явлений.
1021
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Именно таким был первый этап сопоставления психологических и
физиологических фактов, характер которых отчетливо выявился прежде всего во
всех руководствах по экспериментальной психологии того времени.
Несмотря на то, что уже в ранних экспериментальных исследованиях
было получено много ценных фактов, физиологическая психология того
времени, пытавшаяся объяснить физиологические механизмы
элементарных психических процессов, оставляла в стороне изучение высших форм
сознательной деятельности, открывая тем самым путь для возникновения
идеалистических концепций, которые и были положены в основу описания
этих сложнейших процессов психической реальности. Именно поэтому
объяснительная психология (erklärende Psychologie) мирно
сосуществовала с «описательной», или «духовной», психологией (beschreibende,
geisteswissenschaftliche Psychologie).
К концу XIX в. границы физиологической психологии начали
изменяться, что определялось поступательным развитием как физиологии, так
и психологии. Успехи физиологической науки в этот период связаны прежде
всего с именами И.П. Павлова и Ч. Шеррингтона. Однако эти ученые в
исследовании центральной нервной системы пошли совершенно различными
путями.
Ч. Шеррингтон и его ученики открыли главнейшие законы спинальных
рефлексов, анализ которых и был положен в основу всего дальнейшего
развития нейрофизиологии. Однако, продолжая старую традицию дуалистической
философии, Ч. Шеррингтон резко разграничивал элементарные акты и
сложные явления сознательной жизни, которые он относил к совершенно
иной, не имеющей физиологического обоснования «духовной сфере».
Принципиально иной путь избрал И.П. Павлов. Воспитанный на
традициях естественно-научного материализма, он с самого начала поставил
перед собой задачу не ограничиваться анализом косвенных показателей
физиологических процессов, «сопровождающих» психическую
деятельность (как это делалось В. Вундтом и др.), а найти путь к прямому
изучению физиологических механизмов психической деятельности. Отвергнув
субъективные подходы к изучению внутреннего мира, И.П. Павлов
поставил перед собой задачу раскрыть сущность психического объективными
физиологическими методами исследования. Решение именно этой задачи
и привело его к созданию новой области науки — физиологии высшей
нервной деятельности, которая, по мысли И.П. Павлова, должна быть
объективной наукой о целостном поведении животных и человека.
Самая постановка задачи — найти физиологические механизмы
психических процессов — огромная заслуга И.П. Павлова, а решение этой
задачи сделало его труды настоящей физиологией головного мозга.
Применение метода условных рефлексов впервые открыло путь к научному
анализу целостных актов поведения, а описанные им законы иррадиации и
1022
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
концентрации возбуждения и торможения, физиологические механизмы
анализа и синтеза, замыкание временных связей, фазовые состояния коры
больших полушарий и ряд других физиологических закономерностей
являются неоценимым вкладом в науку, имеющим решающее значение для
развития физиологии и психологии.
И.П. Павлов не занимался непосредственно изучением высшей нервной
деятельности человека; вместе с тем, исследуя физиологические
механизмы поведения животных, он сформулировал ряд ценных идей (о двух
сигнальных системах, об индивидуальных особенностях высшей нервной
деятельности, о взаимоотношениях коры и подкорки и др.), весьма важных
для понимания физиологических механизмов психики человека.
Необходимо отметить, что, борясь за объективное изучение поведения,
И.П. Павлов не отрицал психологию как науку о субъективном мире человека,
который представлялся ему «первой реальностью» [Т. III. Ч. 2. С. 21]. «В
сущности, — писал он, — интересует нас в жизни только одно: наше психическое
содержание »[Т. III. Ч. 1. С. 63]. В своем письме Г.И. Челпанову, содержащем
поздравление по поводу открытия при Московском университете
Психологического института (сейчас НИИ общей и педагогической психологии
АПН СССР), он отмечает: «Все работники мысли, с какой бы стороны они
ни подходили к предмету, все увидят нечто на свою долю, а доли всех рано
или поздно сложатся в разрешение величайшей задачи человеческой
мысли. Вот почему я, исключающий в своей лабораторной работе над мозгом
малейшее упоминание о субъективных состояниях, от души приветствую
Ваш Психологический институт... и горячо желаю Вам полного успеха»1
[Павлов И.П. ПСС, 1951-1952].
Однако среди некоторых физиологов, относивших себя даже к
последователям И.П. Павлова, возникла тенденция заменить учением об
условных рефлексах всю психологию человека и объяснить все формы
сознательной деятельности людей законами образования и функционирования
условных рефлексов.
Представители подобного физиологического редукционизма в 20-х
годах пытались трактовать любые, даже самые сложные формы
психической деятельности как систему условных рефлексов, образованную на
основе безусловного подкрепления условных сигналов. Однако с позиций
физиологического редукционизма правильное объяснение сложных форм
психической деятельности оказалось невозможным. Законы
условно-рефлекторного образования новых связей, на которые указывали эти
авторы, оставались слишком общими, равно относящимися ко всем формам
сознательной деятельности — от простых до наиболее сложных. Поэтому
им не удалось раскрыть специфику высших форм психических процессов
Вопросы психологии. 1955. № З.С. 100.
1023
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
человека, социальных по происхождению, опосредствованных по
строению, сознательных и саморегулирующихся по своей функциональной
организации. В итоге все высшие психические функции (осмысленное восприятие,
произвольное внимание, активное запоминание, сознательное «принятие
решений » и т. д.) фактически остались за пределами физиологического анализа.
Совершенно бесплодным оказался физиологический редукционизм и
для практических целей — научного обоснования процессов обучения и
воспитания, диагностики и терапии заболеваний мозга. Предлагавшиеся
одно время схемы условнорефлекторных основ обучения были весьма
упрощенными и совершенно не отвечающими сложным задачам
сознательного обучения и воспитания. А десятки лабораторий высшей нервной
деятельности, организованных в клиниках для диагностики нервных и
психических заболеваний, оказались непригодными для клинической практики
и вскоре были закрыты.
2
Позиции редукционизма особенно широкое распространение получили
в зарубежной психологии. Вскоре после появления первых работ И.П.
Павлова группа американских психологов полностью взяла на вооружение как
установку И.П. Павлова на объективное исследование поведения
животных, так и те методические пути сочетания сигналов и подкреплений,
которые лежали в основе выработки условных рефлексов. Однако
одновременно эти психологи полностью отбросили то, что составляет подлинную суть
павловского учения о высшей нервной деятельности, — научный анализ
динамики нервных процессов, лежащих в основе психических явлений. Эту
сторону учения И.П. Павлова они считали выходящей за пределы
непосредственных наблюдений и поэтому игнорировали ее.
Такова была исходная позиция американского бихевиоризма, на
долгие годы задержавшего развитие подлинной научной психологии.
Расцениваемый Д. Хэббом как «американская революция в
психологии », бихевиоризм в действительности возник как конкретное воплощение
прагматизма или американского варианта позитивизма и обнаружил лишь
поверхностное усвоение идей И.П. Павлова. И Дж. Уотсон, заложивший
основу психологии поведения, и Б. Скиннер, в трудах которого
бихевиоризм получил свое законченное оформление, неоднократно повторяли, что
считают себя не только продолжателями американского психолога Э.
Торндайка, но и учениками И.П. Павлова, продолжателями и его учения. Если
сама терминология, основные понятия, из которых исходил бихевиоризм
(стимул — реакция, их совпадение, подкрепление, выработка условных
связей), были целиком перенесены из учения об условных рефлексах, то
реальные научные позиции бихевиористов резко расходились с духом и
1024
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
буквой павловского учения. Позиции редукционизма — поиска
элементарных процессов, к которым можно было бы без остатка сводить все
высшие формы психической деятельности, — оставались основными для
бихевиористов и, конечно, были непригодными для адекватного описания
сложных форм сознательной деятельности.
Предложенная бихевиористами сверхупрощенная модель поведения
могла, однако, лишь на некоторый период удовлетворить научную мысль и
привела к попыткам внести в выдвинутую концепцию ряд поправок с целью
ликвидации присущего ей крайнего механицизма. «Прямолинейный
бихевиоризм» начал «подправляться» у одних авторов введением в схему
«стимул — реакция» «промежуточных переменных», у других — включением
в нее понятия «цели», приводившим к компромиссному «целевому
бихевиоризму». В результате «прямолинейный бихевиоризм » продолжал
разрабатываться (если иметь в виду наиболее крупных американских
исследователей) лишь Б. Скиннером, которого многие американские ученые
считают самым последовательным психологом (хотя и добавляют при этом,
что он почти не имеет последователей). Надежды, возлагавшиеся на это
направление, все больше угасали, и в конечном счете вся система
бихевиористского редукционизма вызвала резкую критику у многих
американских психологов, равно как и у представителей смежных наук.
Бесплодность американского бихевиоризма как одной из
разновидностей редукционизма, его неспособность предложить хоть
сколько-нибудь плодотворные гипотезы для исследования физиологических
механизмов сложных форм сознательной деятельности человека привели к
настоятельной потребности найти новые пути, следуя которым ученые не
уклонялись бы от изучения сложнейших видов сознательной
деятельности человека и не шли бы по пути их сведения к упрощенным,
механистическим схемам.
Попытки найти правильные решения этих вопросов были сделаны
советской наукой.
3
Корни решительной перестройки психологической науки и создания
советскими учеными новой физиологии, подводящей вплотную к анализу
физиологических механизмов сложных форм сознательной деятельности
человека, уходят в середину XIX в. и связаны с именем выдающегося
русского психолога и физиолога И.М. Сеченова.
Мировоззрение И.М. Сеченова сформировалось под
непосредственным влиянием русских революционных демократов середины XIX в.
Крупнейший философ-материалист, образованнейший человек своего времени,
выдающийся естествоиспытатель, он с самого начала отвергал всякие
дуа33 Российская психология 1025
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
листические попытки отрицать детерминистическое объяснение
психических явлений. Он прочно стоял на позициях естественно-научного анализа
сознательной деятельности человека, ведя решительную борьбу с
идеалистической психологией, с «обособителями психического». Эти позиции
стали в дальнейшем основой исследований И.П. Павлова, успешно
продолжившего гениальный взлет сеченовской мысли.
Важнейшим открытием И.М. Сеченова было создание физиологической
модели волевого акта. Начало разработке этой проблемы положил
знаменитый опыт И.М. Сеченова, показавший, что раздражитель, приложенный к
зрительным буграм лягушки, вызывает не возбуждение, а торможение
движений. Это центральное торможение и было оценено им как прототип волевого
действия.
Уже в этом открытии И.М. Сеченов выступает как ученый, стремящийся
к созданию физиологических моделей сложных психических явлений. В
дальнейшем он стал все отчетливее видеть огромную сложность высших уровней
организации поведения и те качественно новые функциональные
образования, которые возникают по мере эволюции нервной системы. Это
означало, что физиология должна отбросить путь упрощенного редукционизма и
искать физиологические модели, адекватные тем задачам, которые
возникают перед психологией человека. Именно поэтому И.М. Сеченов и встал
на путь создания той науки, которую условно можно обозначить как
психологически ориентированную физиологию.
4
Идеи И.М. Сеченова намного опередили современную ему науку и
получили дальнейшее развитие в советской психологии, покончившей с трактовкой
психологии как субъективной науки и поставившей своей целью объективное
изучение сложнейших форм сознательной деятельности человека. Эта
коренная перестройка психологии заняла едва ли не половину столетия. Видную
роль в ее осуществлении играла уже указанная выше концепция развития
психики, выдвинутая в 30-х годах текущего столетия A.C. Выготским.
По мысли A.C. Выготского, для объяснения сущности психического
следует выйти за пределы организма и изучать те реальные формы
деятельности человека, социально-исторические формы его жизни, которые
составляют основное условие развития высших психических функции.
Только при обращении к истории общества (к факту создания и
употребления орудий, к труду как основному виду деятельности людей, к
появлению языка как средства общения) можно объяснить возникновение
высших форм сознательной жизни и историю их развития.
Человек, применяющий орудие, создает тем самым новые,
опосредствованные формы психической деятельности. Усваивая язык, он
присваи1026
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
вает себе общечеловеческий опыт, по-новому кодирует свой собственный
опыт и получает возможность передать все усвоенное им последующим
поколениям. Социально опосредствованный опыт человека, его
предметная деятельность являются основой возникновения и развития высших
функциональных систем, осуществляющих его сознательную
деятельность.
Естественно, что изучение этих высших форм сознательной,
саморегулирующейся психической деятельности людей требует и новых путей
физиологического анализа, новых физиологических понятий. Оно
нуждается в разработке проблем физиологии целостного поведения, которая
могла бы раскрыть физиологические механизмы, лежащие в основе
сложных видов психической деятельности, описать в физиологических
понятиях особую архитектуру лежащих в его основе нервных процессов.
Возникала задача создать психологически ориентированную физиологию,
которая позволяла бы описать физиологические механизмы сложнейших
форм сознательной деятельности человека, не упрощая ее, не сводя к
элементарным физиологическим схемам.
Основы такой психологически ориентированной физиологии, как уже
сказано, были заложены еще И.М. Сеченовым и развиты И.П. Павловым.
В последние годы крупный вклад в разработку специальных разделов
физиологии, соответствующих задачам психологической науки, был сделан
рядом советских ученых, и прежде всего двумя из них, жившими в одно время,
но работавшими независимо друг от друга, — П.К. Анохиным и H.A.
Бернштейном, посвятившими свою научную деятельность экспериментальному
анализу физиологических основ сложного, саморегулирующегося поведения
животных. П.К. Анохиным была создана теория функциональных систем,
явившаяся одной из первых моделей подлинной психологически
ориентированной физиологии. Хотя П.К. Анохин экспериментировал на животных, его
работы имеют весьма важное значение для раскрытия механизмов целостных
форм психической деятельности не только животных, но и человека.
Редукционизм классической физиологии был глубоко чужд П.К.
Анохину, исходившему из того, что законы функционирования отдельного
рефлекса, так же как и законы, лежащие в основе работы изолированного
нейрона, не могут объяснить целостные формы поведения. Особые формы
нервных процессов, составляющие физиологическую основу психической
деятельности, по его мысли, возникают тогда, когда отдельные нейроны
или рефлекторные акты включаются в целостные функциональные
системы, обеспечивающие целостные поведенческие акты.
Факты, полученные П.К. Анохиным, показали, что работа
изолированных нервных аппаратов во многом зависит именно от их включения в
такого рода системы и что только целостный, синтетический подход
может создать физиологию, способную анализировать механизмы
целостнозз* 1027
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
го поведения. На основании обширного цикла исследований П.К. Анохин
приходит к выводу, что целостное поведение животного или человека
определяется не изолированным сигналом, а целостным афферентным
синтезом всей доходящей до него в данный момент информации. Изучение роли,
которую эти афферентные синтезы играют в формировании
функциональных систем, показало, что они запускают в ход сложные виды поведения
животных (предпусковая афферентация). В дальнейших исследованиях
П.К. Анохиным было выявлено, в частности, какую роль в таких
афферентных синтезах играют лобные доли мозга и как при их поражении
распадается обстановочная афферентация, обычно (при нормальной работе мозга)
приводящая к организованному, целесообразному поведению.
В итоге П.К. Анохин пришел к выводу о необходимости коренного
пересмотра классических представлений о рефлекторной дуге и
«замыкательных функциях», которые были выработаны в предшествующий
период господства аналитической физиологии. На этой основе им и была
сформулирована теория функциональных систем, исходящая из
материалистического понимания рефлекторной природы поведения, но
существенно дополнившая прежние представления классической физиологии.
Согласно П.К. Анохину, движущей силой поведения могут быть не
только непосредственно воспринимаемые воздействия, но и
представления о будущем, ожидаемый эффект поведенческого акта. Далее,
поведение вовсе не заканчивается ответной реакцией организма. Последняя
создает систему «обратной афферентации », сигнализирующей об успехе или
неуспехе действия, и формирует тот аппарат, который П. К. Анохин назвал
акцептором результатов действия. Такой процесс сличения модели
будущего с эффектом выполненного действия является существенным
механизмом поведенческого акта. Только при условии их полного совпадения
действие прекращается. Если же они оказываются «рассогласованными»
(а это указывает на неудачу действия), то действие продолжается и
корригируется.
Теория функциональных систем позволила существенно пересмотреть
прежние представления о физиологических механизмах целесообразного
поведения и заменить упрощенные представления о стимуле как
единственной детерминанте поведения более сложными представлениями о
факторах, определяющих поведение, с включением в их число «опережающего
отражения» (как образа ожидаемого результата действия).
Важным дополнением к традиционным представлениям о
деятельности мозга явилось положение о роли обратной афферентации.
Классическая схема рефлекторной дуги была заменена П.К. Анохиным более
сложной схемой рефлекторного кольца, объясняющей саморегулирующийся
характер поведения. Это во многом предвосхищало те идеи
саморегуляции, которые были значительно позднее внесены в науку кибернетикой.
1028
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Все эти представления открывали новые пути для конкретных
физиологических исследований важнейших сторон психической деятельности,
и в этом было их весьма важное принципиальное значение.
Не меньшее значение имеет тот вклад в современную психологически
ориентированную физиологию, который внес другой видный советский
физиолог — H.A. Бернштейн. Истоками его исследования был глубокий
анализ целостных, активных движений человека — ходьбы, трудовых
движений, действий с орудиями и предметами. Эти исследования H.A.
Бернштейна послужили фундаментом для создания им теории «физиологии
активности», являющейся существенным вкладом в новое направление
физиологических исследований.
Изучая движения человека, отмечая их почти фантастическую точность,
выражающуюся как в построении пространственной траектории движения,
так и в системе ускорения и переменных усилий, с которыми они протекают,
H.A. Бернштейн обнаружил существенный парадокс. Как известно,
костномышечный и суставной аппарат, с помощью которого осуществляются
движения человека, обладает практически бесконечным числом «степеней
свободы». В этих условиях выбор усилий и траектории, необходимых в каждый
данный момент движений, кажется просто невозможным. И однако такие
движения постоянно выполняются. При объяснении возможности их
выполнения H.A. Бернштейн исходил из положения о принципиальной
неуправляемости двигательной деятельности одними лишь эфферентными импульсами и о
решающей роли афферентных импульсов (сигналов о внешнем мире, которые
поступают в мозг в каждый данный момент выполнения движений). Именно
эти афферентные сигналы и обеспечивают «следящее устройство», которое
осуществляет постоянную коррекцию движения, ограничивая число степеней
свободы, отбирая нужные движения, меняя их траекторию, регулируя
систему напряжений и ускорений в соответствии с изменившимися условиями
выполнения действий.
H.A. Бернштейном была прослежена система различных уровней
организации нервного аппарата, обеспечивающая выполнение движений
разной сложности, начиная с врожденных синергии и кончая выполнением
сложных предметных и символических действий. Анализ роли этих
уровней в организации движений и стал предметом его капитального по своему
содержанию труда «О построении движений». В нем описаны различные
виды регулирующих наши действия афферентных влияний и показано, что
по мере выработки навыка меняется и структура нервной организации
двигательного акта, что сначала афферентные импульсы приходят к
опорномышечному аппарату с известным запозданием, вызывая лишь
«вторичную» коррекцию уже начавшегося движения. Однако со временем, в
результате упражнения и «функционального развития», движения
начинают опираться на вновь образованное пластически меняющееся
«афферен1029
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
тное поле», обеспечивающее нужные изменения движений раньше, чем они
начинаются, и предотвращающее ошибочные движения с помощью
аппарата «первичных коррекций». Эти механизмы афферентных влияний
являются все же лишь частью того, что составляет механизм организации
произвольных движений. Существен тот факт, что движения и действия
человека не «реактивны»; они целенаправленны, активны и меняются в
зависимости от исходного замысла.
Как же детерминистически объяснить произвольные действия
человека?
Дать ответ на этот извечный вопрос психологии, согласно H.A.
Бернштейну, можно с помощью нового направления физиологических
исследований — физиологии активности. Исходя из положений И. М. Сеченова
0 том, что у человека «чувствование превращается в повод и цельу а
движение в — действие»1, а также из положений современной психологии о
сложной структуре психической деятельности человека, о той роли,
какую в формировании целей играет речь, H.A. Бернштейн сформулировал
основные принципы «физиологии активности». Слово, являясь слепком с
внешней действительности, сформированным в процессе предметной,
трудовой деятельности человека, оказывается и основным «орудием», с
помощью которого создается «модель потребного будущего». Эта модель
сличается затем человеческим мозгом с картиной наличной ситуации,
и именно различие между моделью будущего и реальной ситуацией и
образует движущую силу, определяющую дальнейшее построение
целесообразного произвольного действия. По мнению H.A. Бернштейна, этот
механизм является решающим звеном в формировании саморегулирующейся
системы поведения.
Хотя положения, сформулированные H.A. Бернштейном в его
последней публикации «Очерки физиологии движений и физиологии
активности», во многом лишь эвристические предвидения, они открывают путь для
будущих экспериментальных исследований, развитие которых, по всей
видимости, займет еще не одно поколение ученых. Так же как и концепция
П.К. Анохина, эти представления могут рассматриваться как один из
первых вариантов психологически ориентированной физиологии, и в этом их
огромное научное значение.
5
Было бы неправильно думать, что «теория функциональных систем»
П.К. Анохина и физиология активности H.A. Бернштейна уже создали
физиологическую систему, полностью соответствующую основной задаче —
объяс1 Сеченов И.М. Физиология нервных центров. М., 1926. С. 44.
1030
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
нению физиологических механизмов высших форм сознательной
деятельности человека. Обе теории заложили лишь основы для решения этой
проблемы. Предстоит огромная работа по созданию системы, которая
анализировала бы конкретные физиологические процессы, лежащие в основе
сложных форм психической деятельности, и в первую очередь
сознательной деятельности человека. Для этого требуется изучение реальных
нейрофизиологических процессов, необходимых для реализации различных
по строению и по уровню форм сознательной деятельности людей. В
качестве моделей психической деятельности должно быть использовано
выполнение конкретных задач, психологическая структура которых должна быть
известна и которые могут быть построены на разных
нейрофизиологических уровнях. Общую физиологию нервных процессов должна сменить
специальная физиология нервных процессов, обеспечивающих реализацию
различных форм психической деятельности. Создание такой физиологии
потребует слаженной совместной работы психологов и физиологов, а
может быть, и формирования нового типа ученого — психофизиолога,
объединяющего в себе обе компетенции.
Всем этим не отрицается необходимость изучения процессов,
протекающих в отдельных нейронах и в отдельных зонах коры головного мозга и
подкорки в различные моменты психической деятельности. Естественно,
что на современном уровне знаний остается остро необходимым
исследование роли разных нейронных популяций и разных отделов мозга в общей
архитектонике функциональных систем, обеспечивающих целостные акты
поведения.
Попытки решить эту задачу уже делались как в нашей стране, так и за
рубежом.
Как известно, в последние три десятилетия были детально описаны
образования мозгового ствола и ретикулярной формации, составляющие
восходящую и нисходящую активирующую и дезактивирующую системы,
играющие решающую роль в модуляции состояний активности и
регуляции сна и бодрствования. Работы Моруцци, Г. Мэгуна, Д. Линдсли, Г.
Джаспера вошли в классический фонд современной физиологии.
Еще в начале 60-х годов английский физиолог Г. Уолтер показал, что
поставленная перед человеком задача приводит к появлению медленной
биоэлектрической активности, названной им волнами ожидания. Это
открыло возможность объективно проследить физиологические механизмы
подготовительных состояний (намерений, установок), которые
вызываются поставленной перед человеком задачей, что вызвало к жизни большую
серию исследований, посвященных нейрофизиологическим основам
внимания в различных видах психической деятельности. Рядом
исследователей показано, что привлечение внимания к стимулу вносит значительные
изменения в электрическую активность мозга.
1031
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Важное значение для дальнейшего развития учения о
физиологических механизмах сложных форм психической деятельности имеют
исследования E.H. Соколова и О.С. Виноградовой, посвященные динамике
ориентировочного рефлекса у человека и уточняющие физиологические
процессы, лежащие в основе внимания. Плодотворным оказалось
введение Е. Н. Соколовым понятия «нервной модели стимула».
Большой интерес для психологически ориентированной физиологии
представляют широко развернутые исследования процессов активации,
вызываемой предъявляемыми задачами. В работах Е.Д. Хомской показано
как эти процессы могут быть опосредствованы речью, формулировкой
задачи выполняемых действий, направляющей внимание субъекта.
Высокоперспективными являются исследования процессов,
протекающих на нейронном уровне, которые раскрывают физиологические
основы сенсорных и перцептивных процессов. Рядом таких работ, начавшихся с
известных исследований Д. Хьюбела и Т. Визела, с помощью
микроэлектронной техники было показано, что в коре затылочной области животных
существуют нейроны-детекторы, реагирующие на такие дробные
признаки, как наклон линии, величина угла, направление движения и т. д. Эти
данные весьма важны для анализа структуры сложного зрительного
восприятия, начинающегося с выделения отдельных признаков и завершающегося
их синтезом в целостные картины-образы.
Не меньшее значение для психологии восприятия имеют работы,
посвященные применению физиологических методов для изучения
процессов биоакустики и речевого слуха человека.
Большое внимание за последние годы привлекло физиологическое
исследование процессов памяти. Широкий круг исследований,
посвященных изучению их на биохимическом, молекулярном, нейронном и
макроанатомическом уровнях, позволил выявить значительное число важных
фактов (роль рибонуклеиновых кислот в сохранении следов памяти,
участие нейронов и глии в удержании и воспроизведении следов,
существование реверберационных кругов возбуждения, являющихся, по-видимому,
физиологической основой кратковременной памяти, ряд изменений в
отдаленных областях коры и при фиксации модально специфических следов
памяти и др.).
Несомненное значение для психологии памяти представляют
физиологические исследования «консолидации следов», показавшие значение
факторов времени при запечатлении воспринятой информации.
Важное место занимают исследования физиологических основ
памяти на нейронном уровне, обнаружившие, что нейроны древней коры и
связанных с нею образований имеют морально неспецифические функции,
реагируя лишь на новизну стимула и обеспечивая сравнение (компарацию)
ранее поступивших привычных раздражителей с новыми. Изучение
рабо1032
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ты этих нейронов, названных нейронами новизны и нейронами памяти [963],
дает важный материал для понимания как физиологических механизмов
непроизвольного внимания, так и физиологических основ памяти.
Большое значение для психологии имеет новый цикл исследований,
проведенных под руководством Н.П. Бехтеревой и др. Эти исследования
показали, что следы, хранящиеся не только в коре, но и в глубинных
структурах мозга, могут носить высокодифференцированный характер и что
отдельные нейронные группы глубинных образований мозга могут
избирательно реагировать на семантические признаки языка. В этих
исследованиях впервые показано, что даже очень сложные и специфически
человеческие формы деятельности, в которых используются известные системы
кодов, могут осуществляться вполне определенными нейронными
структурами. Все эти исследования, которые также относятся к психологически
ориентированной физиологии человека, позволяют получать факты, остро
необходимые для психологической науки.
Следует остановиться, наконец, и на психофизиологических
исследованиях, посвященных изучению тех механизмов распространения возбуждений
по коре мозга, которые лежат в основе сложных интеллектуальных
процессов. Сюда в первую очередь относятся исследования, проведенные под
руководством М.Н. Ливанова и продолженные рядом авторов. Ими была
использована методика изучения пространственной синхронизации биопотенциалов
мозга, разработанная М.Н. Ливановым. Эта методика позволила проследить,
как процессы возбуждения распространяются по коре головного мозга при
выполнении испытуемым задач, требующих участия различных психических
процессов, какие участки мозговой коры функционируют в этом случае
синхронно и как меняется с возрастом синхронная работа разных участков коры.
Результаты этих исследований показали, какие динамически меняющиеся
структуры возбуждения возникают при различных формах психической
деятельности и какие участки мозга вовлекаются в тех случаях, когда человек
выполняет различные по содержанию задачи.
Нет сомнений в том, что эти психологически ориентированные
физиологические исследования сыграют существенную роль для развития как
психологической науки, так и физиологии человека.
Необходимо, далее, указать на те работы, авторы которых, будучи
психологами, использовали физиологические методы для изучения
психологических проблем. Таковы работы Е.И. Бойко и его сотрудников
по изучению выявленных ими динамических нервных связей,
образующихся на основе работы второй сигнальной системы. Таковы труды А.Н.
Соколова и его сотрудников, показавшие, что разные формы мышления
(наглядно-образное и вербально-логическое) вовлекают в действие
различные участки мозга и сопровождаются возникновением различных
биоэлектрических явлений.
1033
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Особым направлением исследований, результаты которых,
несомненно, войдут в естественно-научный базис психологии, является изучение
физиологических основ индивидуальных различий между людьми.
Начало этого направления, которое может быть названо дифференциальной
психофизиологией, было заложено еще работами И.П. Павлова,
посвященными типам нервной системы животных. Применительно к человеку
оно было с большим успехом развито Б.М. Тепловым, а затем В.Д.
Небылицыным совместно с их сотрудниками. Новым аспектом этих
исследований являются работы И.Б. Равич-Щербо и ее сотрудников, посвященные
изучению (близнецовым методом) генетической обусловленности
различных нейрофизиологических функций. Все эти исследования составили один
из важных разделов советской психологической науки.
6
Наш очерк естественно-научных основ психологии был бы неполным,
если бы мы хотя бы кратко не остановились еще на одной, специальной
области психологической науки, которая также касается проблем
мозговой организации психических процессов. Эта область получила название
нейропсихологии.
Уже давно было известно, что к изучению мозговой организации
психических процессов можно подойти не только путем проведения
специальных физиологических экспериментов, при которых раздражаются
отдельные участки мозговой коры и прослеживаются те психические реакции,
которые возникают в результате таких раздражений.
Еще более полутораста лет назад поставлен вопрос о мозговой
локализации психических процессов, и более ста лет назад к решению этого
вопроса были привлечены наблюдения над тем, как нарушаются
психические процессы при локальных поражениях мозга. Известные наблюдения
французского анатома П. Брока и немецкого психиатра Е. Вернике
послужили началом целой серии исследований, в которых было прослежено,
какие нарушения в гнозисе и праксисе, в речи и мышлении, в
целенаправленной деятельности и регуляции психических процессов могут возникать при
различных по локализации поражениях мозга. Эти наблюдения,
продолжавшиеся более столетия, позволили накопить материал, опираясь на
который можно было наметить новые пути для изучения мозговой
организации психических процессов человека. Они легли в основу представлений о
строении коры головного мозга, закрепленных в картах
цитоархитектонических полей, но, к сожалению, эти же исследования привели затем к
упрощенному предположению о том, что психические процессы
непосредственно «локализованы» в ограниченных участках мозга и что при поражении
этих участков могут изолированно выпадать такие процессы, как
актуаль1034
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ная речь или понимание речи, письмо или чтение, праксис или гнозис и т. д.
Исходные позиции «узкого локализационизма» оказались, однако,
глубоко ошибочными, и наблюдения, проводившиеся с этих позиций, неизбежно
снижали, если не обесценивали получаемые результаты.
Известно, что все психические процессы (перцепторное действие,
активное движение, речевая и интеллектуальная деятельность) являются
сложными функциональными системами, которые включают в свой состав мотивы и
цели, осуществляются сложным набором операций (которые часто могут
взаимно заменяться) и опираются на «чувственную ткань», создаваемую
непосредственными иннервациями определенных групп нейронов. Известно
также, что все эти формы психической деятельности, как это говорилось
выше, являются социальными по своему происхождению,
опосредствованными по строению и системными по способам организации.
Отсюда с очевидностью вытекает, что эти сложные системы,
включающие целые группы компонентов, не могут быть непосредственно
«локализованы» в изолированных участках мозга, что они, скорее, размещены
по всем участкам мозговой коры и ближайшей подкорки, каждый из
которых вносит свой вклад в организацию той или другой психической
деятельности.
Естественно, что такие представления должны были неизбежно
привести к пересмотру прочно устоявшихся понятий «узкого
локализационизма» и что перед исследователем возникал совершенно новый вопрос:
как именно изменяются отдельные виды психической деятельности при
поражении отдельных участков мозга и какой именно вклад вносят эти
участки мозга в системное строение психических процессов?
Такая постановка вопроса, являющаяся исходной для советской
нейропсихологии, позволила по-новому подойти к использованию
наблюдений над больными с локальными поражениями мозга для дальнейшей
разработки проблемы мозговой организации психических процессов. Вместе
с тем она открыла новые возможности для применения психологических
методов в целях научно обоснованной диагностики локальных поражений
мозга и дала основания для решения практически важного вопроса —
о путях восстановления высших психических функций, нарушаемых при
мозговых поражениях.
Разработка проблем естественно-научных основ психологии
является одной из важнейших задач психологической науки. Для осуществления
ее сделано уже немало. Однако следует отметить и то, что сделанное
является всего лишь небольшой частью того, что предстоит сделать, что глыба
неизвестного остается все еще неизмеримо больше изведанного и что тем
не менее при бурном научно-техническом прогрессе, отчетливо
выступающем и в области изучения естественно-научных основ психологии,
несомненно, будет сделано еще очень и очень многое.
1035
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПСИХОЛОГИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА1
(К вопросу об исторической природе психологических процессов)
В классической психологии веками складывалось представление о том,
что основные законы сознания человека всегда остаются неизменными, что
в их основе лежат определенные, четко фиксированные процессы
ассоциаций, или логические отношения, структура которых не зависит от
общественно-исторических изменений и остается идентичной на любом
обозримом отрезке истории.
Эти представления молчаливо принимались за основу
психологических концепций любого направления классической психологии, и, если
отдельными течениями психологии природа психических процессов
толковалась то как проявление общих категорий духовной жизни, то как
естественная функция мозговой ткани, — идея о внеисторическом
характере основных законов сознания оставалась неизменной.
Однако в конкретных психологических исследованиях накапливалось
все больше фактов, показывавших, что строение сознания изменяется с
историей и что как по мере развития ребенка, так и по мере перехода от
одной общественно-исторической формации (или уклада) к другой
меняется не только содержание сознания, но и его строение. Иначе говоря,
факты все более и более отчетливо начинали указывать на историческую
природу психических процессов человека.
Это положение и будет предметом рассмотрения настоящей статьи.
1
Еще в конце 20-х годов этого века замечательный советский
психолог Л.С. Выготский высказал предположение: если такие элементарные
психофизиологические явления, как ощущение и движение,
элементарные формы внимания и памяти, несомненно являются естественными
функциями нервной ткани, то высшие психические процессы
(произвольное запоминание, активное внимание, отвлеченное мышление, волевое
действие) нельзя понять как непосредственные функции мозга. Он
высказал необычно звучавшее в то время положение, что для понимания
сущности высших психических процессов человека необходимо выйти за
пределы организма и искать корни этих сложных процессов в
общественных условиях жизни, в общении ребенка со взрослым, в объективной
реальности предметов, орудий и языка, сформировавшихся в
обществен1 История и психология. М., 1971. С. 36; 48-62.
1036
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ной истории, — т. е. в усвоении общечеловеческого, исторически
накопленного опыта.
Л.С. Выготский был убежден в том, что усвоение общественного
опыта изменяет не только содержание психической жизни (круг
представлений и знаний), но и создает новые формы психических процессов, которые
принимают вид высших психологических функций, отличающих человека
от животного, и составляют наиболее существенную сторону структуры
сознательной деятельности человека.
Используя исторически сложившуюся систему языка, мать
указывает ребенку на предмет и обозначает его соответствующим словом; этим
она качественно изменяет характер восприятия ребенком среды, выделяет
названный предмет, привлекает к нему внимание. Это служит началом
важнейшей эволюции психических процессов ребенка. Подчиняясь сначала
указанию матери, ребенок в дальнейшем сам начинает использовать речь,
называет интересующий его предмет, выделяет его из среды и,
сосредоточивая на нем свое внимание, активно тянется к нему. Процесс общения
между двумя людьми превращается в новую форму организации
психических процессов растущего человека; функция привлечения внимания,
которая была разделена между двумя людьми и носила рефлекторный
характер, превращается во внутреннюю организацию психической
деятельности; создается новая категория высших психологических процессов,
общественных по своему происхождению, опосредствованных по своему
строению и саморегулирующихся, произвольно управляемых по
особенностям своего функционирования.
Корень высших психических процессов оказывается лежащим вне
организма; конкретные формы общественно-исторической
деятельности, которые никогда не рассматривались классической психологией как
имеющие основное значение для формирования психических
процессов, становятся решающими для их научного понимания. «Камень,
который презрели строители, ложится во главу угла», психология
перестает трактоваться в свете концепции естественно-научного позитивизма;
психология становится общественно-исторической наукой.
Величайшая заслуга Л.С. Выготского состоит в том, что, сохраняя
представления о естественных законах работы мозга, он показал, какие
новые свойства приобретают эти законы, включаясь в систему
общественно-исторических отношений... основные категории сознательной жизни
человека имеют не априорный духовный характер, но являются
продуктом исторического развития. Отсюда вполне естествен был вывод, что по
мере перехода от одной исторической формации к другой меняется не
только содержание сознания, но и структура тех высших психических
процессов, которые лежат в основе конкретных форм психической
деятельности.
1037
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
С другой стороны, эпоха, в которую жили советские исследователи, —
с исключительными по глубине и темпу перестройками исторических
укладов, — давала уникальные возможности проследить перестройку
психических процессов, являвшуюся следствием социально-экономической и
культурной революции и в таких масштабах нигде и никогда не
наблюдавшуюся.
Все это и определило решение непосредственно проследить
психологические результаты огромных социально-исторических сдвигов, которое
было принято еще в самом начале 30-х годов группой советских
психологов и осуществлено автором настоящей статьи и его сотрудниками под
прямым руководством и при непосредственном участии A.C. Выготского.
Мы остановимся на некоторых результатах этого исследования,
которое было завершено в начале 30-х годов, но материалы которого
публикуются лишь теперь1.
Исходным для нашего наблюдения было положение, что отдельные
психические и, в частности, познавательные процессы — восприятие и
запоминание, отвлечение и обобщение, суждение и рассуждение — не
являются самостоятельными и неизменными «способностями» или
«функциями» человеческого сознания, что они включены в конкретную практическую
деятельность человека, формируются в рамках этой деятельности и что в
зависимости от этой деятельности находится не только содержание, но и
строение этих психических процессов.
Такое представление о тесной связи отдельных психических
процессов и конкретных форм деятельности знаменует отказ от ненаучного
представления о «психических функциях» как независимых от истории
формах проявления «духа» и базируется на основных идеях марксистской
философии и советской материалистической психологической науки.
Это исходное положение заставляет нас предполагать, что различные
формы практики, которые соответствуют разным периодам или укладам
социально-психологического развития, определяют формирование
различных по своей структуре психологических процессов и что люди, живущие
в условиях различных исторических укладов, различаются не только
различной формой практики и различным содержанием своего сознания, но и
различной структурой основных форм сознательной деятельности.
Наше исходное положение заставляло вместе с тем предполагать, что
знаВ работе, о которой будет идти речь, кроме автора принимали участие П.И.
Левентуев, Ф.Н. Шемякин, А. Богоутдинов, X. Хакимов, A.C. Захарьянц, Э. Байбурова и
ряд других. Полный материал этих исследований составляет содержание книги,
над которой автор работает в настоящее время (речь идет о книге А.Р. Лурия об
историческом развитии познавательных процессов.
Экспериментально-психологическое исследование. М., 1974). — Прим. сост.
1038
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
чительные социально-исторические сдвиги, связанные со сменой
общественно-исторических укладов и коренными культурными изменениями,
приводят и к коренным изменениям строения психических процессов,
в первую очередь к коренной перестройке познавательной деятельности.
Такая перестройка включает не только использование новых кодов,
организующих познавательную деятельность, но и существенные изменения в
соотношении психических процессов, с помощью которых эта
познавательная деятельность начинает осуществляться.
С этими исходными предположениями мы и подошли к исследуемому
материалу.
Объектом исследования были жители отдаленных кишлаков Средней
Азии, жизнь которых в 30-х годах претерпевала радикальные изменения в
связи с бурно протекавшей в то время социально-экономической
перестройкой (коллективизацией) и культурной революцией (ликвидацией
неграмотности). Население этих кишлаков принадлежало к народам древней
культуры, однако эта культура оставалась достоянием сравнительно
узкой классовой прослойки. Население кишлаков (как и население русской
дореволюционной деревни) продолжало к тому времени жить в условиях,
близких к натуральному хозяйству, и оставалось почти поголовно
неграмотным. Религиозные представления, которые формально доминировали,
фактически не оказывали большого влияния на познавательные процессы
этих людей, и их основные представления не выходили существенно за
пределы той сферы практической деятельности, которая определялась
потребностями натурального хозяйства.
Социально-экономическая перестройка начала 30-х годов внесла
коренные изменения в жизнь этих районов. Натуральное хозяйство
(садоводство, возделывание хлопка, скотоводство) заменилось более сложной
экономической системой; резко возросла связь с городом; в кишлаке
появились новые люди; коллективное хозяйство, совместное планирование и
совместная организация производства радикально изменяли устои
прежнего экономического уклада; большая разъяснительная и
пропагандистская работа способствовала росту классового сознания, раньше
определявшегося застойным бытом деревни; большая сеть школ по ликвидации
неграмотности охватила широкие слои населения и в течение нескольких
лет ввела жителей отдаленных кишлаков в систему учебы и тем самым —
в круг тех теоретических операций, которые ранее в этих условиях не
осуществлялись.
Нет нужды говорить о том, какая радикальная перестройка понятий и
какое решающее расширение круга представлений были результатом этих
социальных и культурных сдвигов.
Перед психологами, участвовавшими в исследовании, стоял вопрос:
исчерпываются ли возникшие сдвиги в сознательной жизни дехкан лишь ее
1039
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
содержанием или же они изменяют и ее формы, перестраивают структуру
психических процессов, создают новые виды функционирования сознания?
Ответ на этот вопрос дал бы нам возможность сделать выводы и об
основных положениях психологии как исторической науки.
Обратимся к соответствующим фактам.
5
В психологии давно сложилось убеждение, что операция подведения
под определенную категорию, иначе говоря — операция логического
обобщения и образования понятия, является не только основным логическим
процессом, но и должна пониматься как основная форма работы сознания;
по мнению многих авторов — психологов и логиков, она равно существует
у всех людей, независимо от окружающих условий.
Однако такое представление о внеисторичности логических категорий как
основных способов мышления противоречило нашим исходным положениям.
В гораздо большей степени нам импонировала мысль, что абстракция и
обобщение, образование отвлеченных понятий и отнесение предмета к
определенной категории являются продуктом исторического развития и что они
занимают определенное место в познавательной деятельности только на
определенных этапах исторического развития, когда — с овладением
письменной речью и развитием культуры — ведущая роль узкопрактической
деятельности уступает место новым формам теоретической деятельности и когда
подобные отвлеченные операции приобретают свой смысл. Наши исходные
предположения заставляли думать, что в условиях, более простых
социально-экономических укладов психологическая структура мышления могла
носить характер, значительно отличающийся от тех форм, которые возникают
на более развитых ступенях общественной жизни. Структура сознания
неизбежно должна носить отпечаток той наглядно-практической деятельности,
которая занимала в описываемом укладе ведущее место.
Люди, жившие в условиях этих укладов, обладали богатым языком;
у них имелся богатейший фольклор, и естественно, что потенциально им
были доступны все основные формы отвлеченного и обобщенного
мышления, тесно связанные с развитым языком. Однако можно было думать, что
преобладание наглядно-действенных, конкретных форм практики
создавало у них предпочтение к иным формам мыслительных операций, сильно
отличающимся от операций теоретического мышления, и что отношение к
теоретическим, вербально-логическим операциям было у них совсем иное,
чем это имеет место при более развитых укладах общественной жизни с
устойчивым развитием теоретических форм деятельности.
У обследованных нами жителей отдаленных районов Средней Азии
мы предполагали обнаружить недоверие к формальным,
вербально-логи1040
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ческим операциям, оторванным от непосредственной конкретной
практики, и вместе с тем преобладание связанных с конкретной практикой
наглядно-действенных форм мышления, имеющих свою собственную
психологическую структуру. Мы имели также полное основание ожидать, что те
резкие социально-экономические и культурные сдвиги, которые внесла
революционная перестройка Средней Азии, должны были неизбежно
вызвать кардинальные изменения форм деятельности изучаемых нами
людей, а вместе с этим и коренное изменение их отношения к сложным видам
отвлеченного вербально-логического мышления. Можно было с полным
основанием полагать, что этот процесс социально-экономических и
культурных сдвигов должен был привести к глубокой перестройке основных форм
мышления, к коренному изменению его психологической структуры.
Анализ этой перестройки и стал основной задачей нашего
исследования.
Чтобы получить ответ на вопрос, какие именно связи доминируют в
сознании на различных этапах исторического развития, мы обратились к
простому психологическому эксперименту: испытуемым были
предложены четыре карточки, на трех из которых были нарисованы изображения
предметов, входивших в состав определенной категории (например, пила,
топор, лопата), в то время как на четвертой — предмет, явно не входивший
в эту категорию (например, кусок дерева); испытуемому предлагалось
отобрать три картинки, изображавшие «сходные» предметы или предметы,
которые можно назвать одним словом («орудия»), и оставить в стороне
картинку, на которой изображен предмет, не входящий в эту категорию.
Правильное решение такой задачи не представляло никакого труда для
людей, у которых операция подведения конкретных объектов под
отвлеченное понятие (логическая операция «категориального мышления»)
составляет хорошо упроченную, доминирующую систему логических
операций.
Совершенно иные результаты дали наши наблюдения над жителями
отдаленных районов, еще находившихся на уровне относительно простого
социально-экономического уклада.
Ни у одного из этой категории испытуемых предложенная задача не
вызывала отвлеченного хода операций; они не оперировали категорией
«орудие» и не шли по пути отвлечения существенных признаков и
объединения предметов в отвлеченном понятии. Их операции были совсем иными:
они восстанавливали ту наглядную практическую ситуацию, в
которую включались три предмета, оставляя в стороне тот предмет, который
практически не участвовал в этой ситуации. «Ясно, — говорили они, — вот
полено, пила, топор — они идут вместе: надо дерево распилить, потом
разрубить, а лопата к этому не относится, она в огороде нужна...». Попытки
подсказать правильное решение не принимались нашими испытуемыми.
1041
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Если им говорилось, что можно разбить картинки на другие группы, что
«один человек сказал, что топор, пилу и лопату надо положить вместе, что
они похожи друг на друга», и что их можно назвать одним словом, и что
полено не является орудием, что оно не относится сюда, — наши
испытуемые не принимали этого решения, не считали его правильным и часто
заявляли: «Нет, этот человек неправильно сказал; он дела не знает: ведь пиле и
топору — что без полена делать?, а лопата — она тут не нужна!»
Таким образом, из всех возможных связей, возникающих при
сопоставлении изображений, у наших испытуемых возникали лишь
конкретнодейственные, практические связи, в то время как отвлеченные,
«категориальные» если и возникали (что имело место далеко не всегда), то считались
несущественными, непригодными для практической,
наглядно-действенной операции. Там, где мы производили операцию отвлечения и
обобщения, — наши испытуемые начинали припоминать наглядную практическую
ситуацию, в которой принимали участие три предмета из числа
изображенных. Ведущее место в психологических операциях сопоставления
предметов занимали не вербально-логические связи, а процессы припоминания
наглядной ситуации.
Едва ли не самым существенным оказался тот факт, что введение в
операцию сопоставления предметов обобщающего слова не приводило, как
правило, к изменению процесса. Когда мы спрашивали испытуемых, верно
ли, что отобранные ими предметы «похожи» («ухшайди»), они
утвердительно кивали головой, заявляя, что они, конечно, похожи: слово
«похожи» употреблялось ими в смысле «подходят друг к другу», хотя для
последнего в узбекском языке есть совсем другое обозначение («мое келды »).
Когда мы прямо вводили обобщающее понятие «орудия» («асбоб»), они
формально соглашались с этим, но тут же заявляли, что это
несущественно и что в той ситуации, о которой идет речь, и пила, и топор, и полено в
одинаковой степени могут быть обозначены как «асбоб», потому что они
«вместе работают», и что лопата остается здесь по-прежнему ни при чем.
Совершенно идентичные факты были получены при попытке
классифицировать другие группы предметов (например, колос — цветок —
дерево и серп; тарелку — ножик — стакан и хлеб). Во всех случаях наши
испытуемые вместо операции отнесения предметов к определенной категории
выполняли все ту же операцию — восстановления наглядной
практической ситуации, которая занимала в их сознании доминирующее место.
Резко отличные результаты получались при проведении подобного
опыта с теми жителями кишлаков, которые прошли кратковременные
курсы ликвидации неграмотности и активно участвовали в только что
сформированных коллективных хозяйствах. Никто из этих испытуемых не
заменял требуемую отвлеченную операцию восстановлением
нагляднодейственной практической ситуации. Они очень легко овладевали
процес1042
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
сом отвлеченного вербально-логического обобщения; У3 наших
испытуемых обнаруживала наличие обоих планов мышления (ситуационный и
категориальный); 2/3 выполняли абстрактную операцию отнесения
предметов к известной категории без всякого труда.
Почти аналогичные результаты были получены и в процессе опытов,
проведенных с колхозной молодежью тех же кишлаков, окончившей
одиндва класса школы: все молодые колхозники использовали операции
отнесения предметов к нужным категориям, легко отвлекаясь от
взаимодействия тех же предметов в практической ситуации.
Итак, логические операции с отношениями типа «род — вид», сравнение
предметов по логическим признакам и обобщение их в известные логические
категории вовсе не являются универсальными операциями, занимающими
ведущее место в познавательной деятельности людей, стоящих на разных
уровнях общественно-исторического и культурного развития. Познавательные
процессы людей, живущих в условиях менее сложных
социально-исторических укладов, включаются в иную деятельность и строятся существенно
иначе, чем познавательные процессы, известные нам по нашему
собственному опыту. Эти различия вовсе не исчерпываются различиями в содержании
познавательных процессов и в круге представлений; они глубоко отличаются
по своему характеру, по структуре познавательных процессов; ведущее место
в них занимают не отвлеченные вербально-логические, а конкретные
наглядно-практические операции, и именно они кладутся в основу отбора
существенных связей между предметами. Не отвлеченное значение слова, а конкретные
практические связи, воспроизводимые в опыте субъекта, играют здесь
направляющую роль; не отвлеченное мышление определяет ход воспоминаний, а
наглядно-действенные воспоминания определяют ход мышления.
Описанные особенности способа мышления не имеют ничего общего с
биологической спецификой изучавшихся нами людей. Они являются
целиком общественно-исторической характеристикой психической
деятельности. Стоит общественно-историческим условиям измениться, чтобы
изменились и особенности познавательных процессов.
Изменение психологического строения основных познавательных
процессов — обобщения и образования «понятий» — в условиях различных
социально-экономических укладов является едва ли не самым ярким
примером исторической природы психической деятельности человека.
6
Тот факт, что основной процесс познания — образование понятий —
имеет в условиях разных исторических укладов разное строение,
определяет и глубокие различия в других познавательных процессах, в первую
очередь в операциях вывода и умозаключения.
1043
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Многие философы, так же как и психологи, никогда не сомневались в
том, что операции силлогизма и силлогистического мышления носят
универсальный характер и психологически одинаковы на всех этапах
исторического развития. Они молчаливо принимали положение, что соотношение
большой и малой посылок («Драгоценные металлы не ржавеют » —
«Золото — драгоценный металл») автоматически ведет за собой логический
вывод и что обязательность этого вывода психологически одинакова на
любых этапах общественно-исторического развития.
Это положение совершенно не оправдывается при его ближайшей
психологической проверке, которая показывает, что психологические приемы
или средства мышления существенно меняются на последовательных
ступенях социально-исторического развития.
Наличие двух первых частей силлогизма (большой и малой посылки)
необходимо и достаточно для появления «логического чувства »
незаконченности суждения и для операции логического вывода — но лишь на том этапе
исторического развития, когда образование понятий составляет особую форму
деятельности и когда оно заключается в отвлечении существенного признака,
в логическом отнесении предмета к соответствующей категории, иначе
говоря, когда мыслительные процессы совершаются в вербально-логическом
плане. Однако наличия двух первых частей силлогизма совершенно недостаточно
для появления «логического чувства неполноты суждения» и для
автоматического выполнения операции логического вывода на тех этапах, когда
мышление носит практический, наглядно-действенный характер. Предъявление
двух первых посылок испытуемым, живущим в условиях более простых
социально-экономических укладов, вовсе не ведет к автоматически
появляющемуся логическому выводу. /ь,ля них полноценный логический вывод вытекает
не столько из сопоставления двух вербально-логических составных частей
силлогизма, сколько из непосредственного практического опыта.
Рассмотрим этот важнейший факт исторической психологии.
Для того чтобы получить нужные факты, обратимся к специальной
серии опытов.
Мы предлагали жителям отсталых кишлаков два вида незаконченных
силлогизмов: содержание одних было взято из конкретной практики этих
испытуемых, содержание других не имело знакомого практического
содержания. Если бы логическое соотношение большой и малой посылок
всегда играло для испытуемых решающую роль в операциях суждения и было
бы достаточным, чтобы сделать соответствующий логический вывод, в
обоих случаях испытуемые делали бы нужный вывод из силлогизма
одинаково легко. Если же ведущую роль в операциях вывода играют не
вербальнологические отношения, а непосредственный практический опыт, вывод из
первых силлогизмов делался бы уверенно, в то время как вывод из второй
группы силлогизмов оказывался бы невозможным.
1044
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Факты, полученные в этом исследовании, целиком подтверждают
последнее предположение.
В качестве силлогизмов, связанных с непосредственным практическим
опытом испытуемых, им давались примерно такие логические фигуры: «Там,
где тепло и влажно, растет хлопок. В кишлаке N тепло и влажно. Растет там
хлопок или нет? » В качестве силлогизмов, оторванных от
непосредственного опыта, им давались логические фигуры типа: «На севере, где вечный снег,
все медведи белы. Место X находится на таком севере. Белы там медведи
или нет? »
Решение первого типа силлогизмов не вызывало у наших испытуемых
заметных затруднений. Они говорили: «Ну, конечно, если в кишлаке N
тепло и влажно, то там хлопок обязательно растет, должен, конечно, если там
близко гор нет...» — и прибавляли: «Так оно и есть, я сам это знаю ».
Характерная добавка — «сам это знаю» раскрывает психологическую природу
сделанного вывода, показывает, что если отношение большой и малой
посылок силлогизма и играет некоторую роль в умозаключении, то основная
роль все же остается за собственным практическим опытом субъекта,
и что в данном случае мы имеем не столько операцию вывода из
силлогизма, сколько заключение из собственного практического опыта.
Это предположение подтверждается еще более явно, когда мы
переходим к опытам со второй группой силлогизмов. Результаты, полученные
во второй части опыта, оказываются совсем иными.
Особенности начинаются с того, что самые посылки силлогизмов
нередко воспринимаются здесь не как система логических отношений,
а как два изолированных вопроса. Так, вместо приведенной выше системы
посылок испытуемый говорит: «На севере, где вечные снега, — белые
медведи или нет? В местечке X белые медведи или нет? » — явно показывая, что
большая посылка не принимается им как всеобщее положение,
достаточное для дальнейшего вывода, и что подлинного силлогизма в этих случаях
так и не получается.
Как видим, наши испытуемые, которые легко делали нужные выводы
из посылок, включенных в их непосредственную практику, отказывались
делать логические выводы из посылок, оторванных от их прямого
практического опыта. На вопрос, сформулированный после предъявления двух
соответствующих посылок, они отвечали: «А я не знаю, какие там бывают
медведи. Я там не бывал и не знаю. Вот спросите старика X, он там был, он
вам скажет». Иногда эти же испытуемые отвечали: «Нет, я не знаю, какие
там бывают медведи. Я там не бывал. Я врать не буду!»
Отказ от того, чтобы принять систему логических посылок и сделать из
них вывод, мысль о том, что делать логический вывод, не имея собственного
опыта, значит «врать », — все это было типичным для подавляющего числа той
группы испытуемых, познавательные процессы которых определялись в
неиз1045
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
меримо большей степени личным практическим опытом, чем системой
словесно-логических связей. Наоборот, у испытуемых, прошедших даже
относительно небольшую школьную подготовку, овладевших начальной грамотой или
включенных в активную деятельность коллективного хозяйства с совместным
планированием производства и коллективными рассуждениями о
перспективах хозяйства, картина радикально изменялась — все они с легкостью
принимали всеобщий характер суждения, заключенного в большой посылке,
строили соответствующую систему силлогизма и без труда делали из соотношения
обеих посылок нужный логический вывод.
Приведенные факты показывают, что операции логического вывода из
посылок с социально-психологической точки зрения вовсе не имеют
универсального значения. На ранних стадиях социально-экономических
укладов доминирующую роль в познавательных процессах играет личный
практический опыт, доверия к логическим посылкам и системы
вербально-логических отношений еще не возникает, и операции логического
вывода из посылок еще не приобретают того значения для получения новых
знаний, которые они имеют и условиях более развитых
социально-экономических формаций, т. е. в условиях, когда развиваются и получают
массовое распространение творческие формы деятельности.
Историческое происхождение словесно-логических заключений
является, таким образом, существенным фактом исторической психологии и
познавательных процессов человека.
7
Мы оставим рассмотрение фактов, говорящих о глубоком отличии
психологического строения сложных познавательных процессов в
условиях различных социально-экономических укладов, и обратимся вновь к
рассмотрению более простых психологических фактов, которые имеют,
однако, для исторической психологии не меньший интерес.
В психологической науке первой половины XX в. было проведено немало
исследований, описывавших основные законы человеческого восприятия.
Авторы классической психологии, изучавшие эту проблему, никогда
не сомневались в том, что зрительное восприятие человека (восприятие
цвета и геометрической формы) является процессом, в основе которого
лежат четкие физиологические (или даже физические) законы, и что оно
имеет отчетливый естественный характер. Мысль о том, что восприятия
цвета или формы, в частности оптические иллюзии, могут формироваться
в процессе истории, что основные законы зрительного восприятия могут
иметь общественно-исторический характер, была совершенно чужда
психологии истекшей половины столетия и стала появляться только в
отдельных исследованиях последнего десятилетия.
1046
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Однако внимательное рассмотрение этого раздела психологии дает
много оснований для предположения, что даже относительно простые
формы зрительного восприятия являются продуктом
общественно-исторического развития и что основные законы восприятия цвета и формы, а также
зрительных иллюзий не остаются одинаковыми в условиях различных
социально-экономических укладов и на различных этапах развития
культуры. Для современной психологической науки процессы восприятия цвета
или формы не являются теми элементарными явлениями, из которых, как
из кирпичиков, могут быть построены более сложные познавательные
процессы; скорее наоборот — восприятие цвета и формы само входит в состав
сложной познавательной деятельности и, следовательно, во многом
зависит от ее строения.
Мы знаем, что существует более 3 млн различимых оттенков цвета.
Однако существует лишь 10-12 названий основных цветов, и человек,
воспринимающий цветовые оттенки, непроизвольно кодирует их с помощью
соответственных названий, разбивает их на соответствующие группы. Вот
почему восприятие цветов как оттенков красного, желтого, зеленого,
синего, иначе говоря — классификация их на определенные категории,
является основной характерной чертой развитого зрительного восприятия.
Аналогичное заключение может быть сделано и о восприятии
геометрических форм.
Наиболее существенным был... тот факт, что и непосредственное
восприятие геометрических фигур приобретало в этих условиях
своеобразные черты.
Психологи хорошо знают, что незаконченные фигуры (незаконченный
треугольник, незаконченный круг) воспринимаются обычно как
соответствующие геометрические формы (треугольник, круг) и что «процесс
заканчивания геометрической фигуры до целого» рассматривался
представителями гештальт-психологии как естественный процесс, протекающий
по универсальным физиологическим (или даже физическим) законам.
Ничего подобного мы не встречали в опытах, проведенных с людьми,
живущими в условиях простых социально-экономических укладов.
Наши испытуемые воспринимали незаконченный круг как «браслет»,
незаконченный треугольник — как «мерку для керосина», незаконченный
квадрат — как «ящик без крышки» и соответственно этому никогда не
относили эти фигуры в одну и ту же группу с законченными геометрическими
формами.
Процесс заканчивания фигур до целого, который рассматривался
как естественный физиологический процесс и обозначался
специальным термином «амплификация», таким образом, оказывается
наличным только на определенном историческом уровне развития
«геометрического сознания».
1047
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
8
Мы закончили краткий обзор отдельных фактов из большого
материала, которым мы располагаем, и можем теперь сделать соответствующие
выводы.
Мысль о том, что основные процессы психической жизни человека
носят универсальный, неизменный, внеисторический характер и должны
рассматриваться потому либо как категории духа, либо как естественные
функции мозга, независимые от общественно-исторических условий, при
ближайшем рассмотрении оказывается ложной.
Психические процессы, и в первую очередь высшие специфически
человеческие формы психической деятельности, такие, как
произвольное внимание, активная память, отвлеченное мышление, по своему
происхождению должны пониматься как социальные процессы,
формирующиеся в условиях общения ребенка со взрослыми, в условиях усвоения
общечеловеческого опыта. Они являются
общественно-историческими по своему происхождению у опосредствованными по своему
строению и сознательными у произвольно-управляемыми по способу своего
функционирования.
Рассмотрение развития этих процессов в онтогенезе показывает, что,
возникнув как сложные, опирающиеся на внешние средства и язык,
развернутые формы деятельности, они постепенно свертываются,
сокращаются и приобретают тот характер внутренних «умственных » действий,
которые только кажутся нам первичными и непосредственными, а на самом
деле являются продуктом длительного исторического развития.
Данные психологических исследований показывают, далее, что по мере
развития и усвоения социально-исторических кодов языка психические
процессы изменяют не только свою психологическую структуру, но и свою
природу, их изменчивость теряет свою непосредственную связь с
генотипом и начинает определяться сложными внешними — паратипическими —
факторами. Данные исследования показали также, что в процессе
онтогенетического развития существенно меняется также и исходное отношение
между психологическими процессами. На ранних ступенях
непосредственное восприятие и память определяли протекание мышления, на
позднейших же ступенях с развитием вербально-логических процессов
сформированные на их основе процессы мышления начинают определять формы
восприятия и памяти.
Положение об историческом характере психологических
процессов не ограничивается лишь фактами онтогенетического развития. Оно
подтверждается и исследованиями тех изменений, которые
претерпевают психические процессы при переходе от одной ступени
общественного развития к другой.
1048
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Эти факты показывают, что развитие психических процессов в
общественной истории вовсе не сводится только к получению нового опыта и к
обогащению круга представлений. Возникновение новых форм
практической деятельности, переход от наглядно-действенных видов практики к
сложным формам теоретической деятельности, являющийся одним из
важных аспектов исторического развития, приводит к коренной перестройке
основных психических процессов, к радикальному изменению их
психологического строения, к появлению новых видов психической деятельности,
которые до этого не имели места.
Факты, полученные в специальных исследованиях, показали, что даже
такие процессы, как образование понятий, логический вывод и
умозаключение, не должны пониматься как внеисторические категории психологии,
что они формируются в конкретных общественно-исторических условиях
и имеют принципиально различную структуру в условиях доминирования
различных форм деятельности. Историческое формирование психических
процессов не исчерпывается лишь наиболее сложными формами
познавательных процессов, но может быть прослежено и при анализе простых
видов психических процессов, которые классической психологией обычно
рассматривались как естественные функции мозга, но которые на самом
деле являются таким же продуктом социально-исторических условий, как
и сложные вербально-логические процессы.
Положение, что основные категории психических процессов
человека имеют исторический характер и что психология человека должна
пониматься как историческая наука, является новым и еще недостаточно
разработанным. Оно было впервые сформулировано в философии
марксизма, но только сейчас начинает по-настоящему усваиваться и в самой
психологической науке.
Есть все основания думать, что оно органически войдет в
психологическую науку и что перед будущими поколениями психологов
раскрываются новые и важнейшие перспективы изучения основных
психологических процессов человека, как результата исторического развития.
ТРИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКА МОЗГА1
Поскольку психические процессы человека являются сложными
функциональными системами, не локализованы в узких, ограниченных
участках мозга, а осуществляются при участии сложных комплексов совместно
работающих мозговых аппаратов, становится необходимым выяснить, из
1 ЛурияА.Р. Функциональная организация мозга// Естественно-научные основы
психологии/ Под ред. A.A. Смирнова и др. М., 1978. С. 120-122; 126-134; 138-139.
1049
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
каких основных функциональных единиц состоит мозг человека и какую
роль играет каждая из них в осуществлении сложных форм психической
деятельности.
Можно с полным основанием выделить три основных
функциональных блока (или три основных аппарата) мозга, участие которых
необходимо для осуществления любой психической деятельности. С некоторым
приближением к истине их можно обозначить как: 1) блок,
обеспечивающий регуляцию тонуса или бодрствования; 2) блок получения,
переработки и хранения информации, поступающей из внешнего мира; 3) блок
программирования, регуляции и контроля психической деятельности.
Психические процессы человека, в частности различные виды его
сознательной деятельности, всегда протекают при участии всех трех блоков,
каждый из которых играет свою роль в обеспечении психических
процессов, вносит свой вклад в их осуществление.
1. Блок регуляции тонуса и бодрствования
Для того чтобы обеспечить полноценные психические процессы,
необходимо бодрственное состояние человека. Только в условиях
оптимального бодрствования человек может наилучшим образом принимать и
перерабатывать информацию, вызывать в памяти нужные избирательные
системы связей, программировать деятельность, осуществлять контроль
за ней, корригируя ошибки и сохраняя ее направленность. Хорошо
известно, что в состоянии сна такая четкая регуляция психических процессов
невозможна, ход всплывающих воспоминаний и ассоциаций приобретает
неорганизованный характер и направленное выполнение психической
деятельности становится недоступным.
О том, что для осуществления организованной, целенаправленной
деятельности необходим оптимальный тонус коры, говорил еще И.П.
Павлов, писавший, что, если бы мы могли видеть систему возбуждений,
распространяющуюся по коре бодрствующего животного (или человека), мы
могли бы наблюдать движущееся концентрированное «световое пятно»,
перемещающееся по коре по мере перехода от одной деятельности к
другой и олицетворяющее пункт оптимального возбуждения, без которого
невозможно нормальное осуществление деятельности.
В дальнейшем развитие электрофизиологической техники позволило
увидеть такое «пятно оптимального возбуждения» на специальном
приборе — топоскопе, разработанном М.Н. Ливановым, на котором возможно
одновременно регистрировать до 150 пунктов возбуждения коры
головного мозга и отражать динамику этих пунктов на телевизионном устройстве.
Это позволило наблюдать^ как в коре бодрствующего мозга действительно
возникает «пятно оптимального возбуждения», как оно продвигается по
1050
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
мозговой коре и как при переходе в сонное состояние это пятно теряет
свою подвижность, становится инертным и наконец угасает.
И.П. Павлову принадлежит заслуга не только в том, что он указал на
необходимость возникновения такого оптимального состояния мозговой
коры для осуществления каждой организованной деятельности, но и в том,
что им были установлены те основные нейродинамические законы,
которыми характеризуется такое оптимальное состояние коры. Как было
показано его исследованиями, процессы возбуждения, протекающие в
бодрствующей коре, подчиняются закону силы, согласно которому каждое
сильное (или биологически значимое) раздражение вызывает сильную,
а каждое слабое раздражение — слабую реакцию. И.П. Павловым было
показано также, что в этих случаях нервные процессы характеризуются
известной концентрированностью, уравновешенностью возбуждения и
торможения, наконец, высокой подвижностью, позволяющей с легкостью
переходить от одной деятельности к другой.
Именно эти черты оптимальной нейродинамики исчезают в
просоночном или сонном состоянии, при котором тонус коры снижается. В
тормозных, или «фазовых», состояниях «закон силы» нарушается, вследствие чего
слабые раздражители либо уравниваются с сильными по интенсивности
вызываемых ими ответов («уравнительная фаза»), либо даже превосходят
их, вызывая более интенсивные реакции, чем те, которые вызываются
сильными раздражителями («парадоксальная фаза»), либо вообще перестают
вызывать какие бы то ни было ответы («ультрапарадоксальная фаза»).
Известно, далее, что в состоянии сниженного тонуса коры нарушается
нормальное соотношение возбудительных и тормозных процессов и та
подвижность нервной системы, которая необходима для протекания каждой
нормальной психической деятельности. Все это показывает, какую
решающую роль играет сохранение оптимального тонуса коры для
организованного протекания психической деятельности.
Возникает, однако, вопрос какие аппараты мозга обеспечивают
сохранение этого тонуса коры?
Одним из наиболее важных открытий было установление того факта,
что аппараты, обеспечивающие и регулирующие тонус коры, находятся не
в самой коре, а в лежащих ниже стволовых и подкорковых отделах мозга и
что эти аппараты находятся в двойных отношениях с корой, тонизируя ее и
испытывая ее регулирующее влияние.
В 1949 г. Г. Мэгун и Г. Моруцци обнаружили, что в стволовых отделах
головного мозга находится особое нервное образование, по своему
морфологическому строению и по своим функциональным свойствам
приспособленное к тому, чтобы градуально (а не по принципу «все или ничего»)
регулировать состояние мозговой коры, изменяя ее тонус и обеспечивая ее
бодрствование. Поскольку оно построено по типу нервной сети, в которую
1051
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
вкраплены тела нервных клеток, соединяющихся друг с другом короткими
отростками, оно было названо ретикулярной формацией (reticulum — сеть).
Она-то и модулирует состояние нервного аппарата.
Одни из волокон этой ретикулярной формации (РФ) направляются
вверх, оканчиваясь в конечном итоге в новой коре. Это восходящая
ретикулярная система, играющая решающую роль в активации коры и в
регуляции ее активности. Другие волокна идут в обратном направлении:
начинаясь в новой и древней коре, направляются к расположенным ниже
образованиям мозга. Это нисходящая ретикулярная система. Она ставит
нижележащие образования под контроль тех программ, которые
возникают в коре головного мозга и выполнение которых нуждается в
модификации и модуляции состояний бодрствования.
Оба эти раздела РФ составляют единую систему, единый
саморегулирующийся аппарат, который обеспечивает изменение тонуса коры, но
вместе с тем сам находится под ее влиянием, изменяясь и модифицируясь под
регулирующим влиянием происходящих в ней изменений.
Описание РФ явилось открытием первого функционального
мозгового блока, обеспечивающего регуляцию тонуса коры и состояний
бодрствования, позволяющего регулировать эти состояния соответственно
поставленным перед человеком задачам. Исследование его действия показало,
что этот блок вызывает реакцию пробуждения (arousal), повышает
возбудимость, обостряет чувствительность и оказывает тем самым общее
активирующее влияние на кору головного мозга. Поражение входящих в него
структур приводит к резкому снижению тонуса коры, к появлению
состояния сна, а иногда и к коматозному состоянию. Вместе с тем было
обнаружено, что раздражение других ядер РФ (тормозящих) вело к
возникновению характерных для сна изменений в электрической активности коры и к
развитию сна...
2. Блок приема, переработки и хранения информации
Как было сказано, первый функциональный блок построен по типу
«неспецифической» нервной сети, которая осуществляет свою функцию
постепенного, градуального изменения состояний и не имеет прямого
отношения ни к приему и переработке информации, ни к выработке
содержательных намерений, планов и программ поведения. Во всем этом данный
блок мозга (расположенный в основном в пределах мозгового ствола,
образований межуточного мозга и медиальных отделов коры) существенно
отличается от аппаратов второго функционального блока мозга, несущего
основную функцию приема, переработки и хранения информации.
Этот блок расположен в конвекситальных (наружных) отделах новой
коры (неокортекса) и занимает ее задние отделы, включая в свой состав
1052
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
аппараты зрительной (затылочной), слуховой (височной) и
общечувствительной (теменной) области. По своему гистологическому строению он
состоит не из сплошной нервной сети, а из изолированных нейронов,
которые составляют толщу мозговой коры, располагаясь в шести слоях, и в
отличие от аппаратов первого блока работают не по принципу градуальных
изменений, а по закону «все или нечего», принимая отдельные импульсы и
передавая их на другие группы нейронов.
По своим функциональным особенностям аппараты этого блока
приспособлены к приему раздражителей, доходящих до головного мозга от
периферических рецепторов, к дроблению их на огромное число
составляющих элементов (анализу на мельчайшие составляющие детали) и к их
комбинации в нужные динамические функциональные структуры (к
образованию целых функциональных систем).
Этот блок состоит из частей, обладающих высокой модальной
специфичностью. Входящие в его состав части приспособлены к тому, чтобы
принимать зрительную, слуховую, вестибулярную или общечувствительную
информацию. В этот блок включаются также центральные аппараты
вкусовой и обонятельной рецепции, хотя у человека они настолько
оттесняются центральным представительством высших экстероцептивных,
дистантных анализаторов, что занимают в пределах коры головного мозга очень
незначительное место.
Основу этого блока образуют первичные, или проекционные, зоны коры,
состоящие главным образом из нейронов 4-го афферентного слоя,
значительная часть которых обладает высочайшей специфичностью. Так,
например, нейроны зрительных аппаратов коры реагируют только на
узкоспециальные свойства зрительных раздражителей (одни — на оттенки цвета,
другие — на характер линий, третьи — на направление движения и т. п.).
Естественно, что такие высочайшие по своей дифференцированности
нейроны сохраняют строгую модальную специфичность, и в первичной
затылочной коре нельзя найти клеток, которые реагировали бы на звук, так
же как и в первичной височной коре мы не обнаружили клеток, которые
реагировали бы на зрительные раздражители.
Следует, однако, отметить, что первичные зоны отдельных областей
коры, входящих в состав этого блока, включают в свой состав и клетки
мультимодального характера, реагирующие на несколько видов
раздражителей, равно как и клетки, не реагирующие на какой-либо
модальноспецифический тип раздражителей и, по-видимому, сохраняющие
свойства неспецифического поддержания тонуса. Однако эти клетки составляют
лишь очень небольшую часть всего нейронного состава первичных зон коры
(по некоторым данным — не превышают 4 % общего состава всех клеток).
Первичные, или проекционные, зоны коры названного блока мозга
составляют основу его работы. Они окружены надстроенными над ними
1053
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
аппаратами вторичных (или гностических) зон коры, в которых 4-й
афферентный слой уступает ведущее место 2-му и 3-му слоям клеток, не
имеющим столь выраженной модальной специфичности. Эти слои в
значительно большей степени включают в свой состав ассоциативные нейроны с
короткими аксонами, позволяющие комбинировать поступающие
возбуждения в те или иные функциональные узоры и осуществляющие, таким
образом, синтетическую функцию.
Подобное иерархическое строение в одинаковой степени свойственно
всем областям коры, включенным во второй блок мозга.
В зрительной (затылочной) коре — над первичными зрительными
зонами (17-е поле Бродмана) надстроены вторичные зрительные поля (18-е и
19-е поля Бродмана), которые, превращая соматотопическую проекцию
отдельных участков сетчатки в ее функциональную организацию,
сохраняют свою модальную (зрительную) специфичность, но работают в
качестве аппарата, организующего зрительные возбуждения, поступающие в
первичные зрительные поля.
Слуховая (височная) кора сохраняет тот же принцип построения. Ее
первичные (проекционные) зоны скрыты в глубине височной коры в
поперечных извилинах Гешля и представлены 41-м полем Бродмана, нейроны
которого имеют высокую модальную специфичность, реагируя только на
высокодифференцированные свойства звуковых раздражителей. Как и
первичное зрительное поле, эти первичные отделы слуховой коры имеют
четкое топографическое строение. Ряд авторов полагает, что волокна,
несущие возбуждение от тех отделов кортиева органа, которые реагируют на
высокие тоны, располагаются во внутренних (медиальных), а волокна,
реагирующие на низкие тоны, — в наружных (латеральных) отделах извилины
Гешля. Отличие в построении первичных (проекционных) зон слуховой
коры состоит лишь в том, что если в проекционных отделах зрительной
коры правые поля зрения обоих глаз представлены только в зонах левого,
а левые поля зрения обоих глаз — в тех же зонах правого полушария, то
аппараты кортиева органа представлены в проекционных зонах слуховой
коры обоих полушарий, хотя преимущественно контрлатеральный
характер этого представительства сохраняется.
Над аппаратами первичной слуховой коры надстроены аппараты
вторичной слуховой коры, расположенные во внешних (конвекситальных)
отделах височной области (22-е и частично 21-е поля Бродмана) и также
состоящие преимущественно из мощно развитого 2-го и 3-го слоя клеток.
Так же как это имеет место в аппаратах зрительной коры, они превращают
соматотопическую проекцию слуховых импульсов в функциональную
организацию.
Наконец, та же принципиальная функциональная организация
сохраняется и в общечувствительной (теменной) коре. Основой и здесь являются
пер1054
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
вичные, или проекционные, зоны (3-е, 1-е и 2-е поля Бродмана), толща
которых также преимущественно состоит из обладающих высокой модальной
специфичностью нейронов 4-го слоя, а топография отличается четкой
соматотопической проекцией отдельных сегментов тела, в силу чего раздражение
верхних участков этой зоны вызывает появление кожных ощущений в нижних
конечностях, средних участков — в верхних конечностях контрлатеральной
стороны, а раздражение пунктов нижнего пояса этой зоны —
соответствующие ощущения в контрлатеральных отделах лица, губ и языка.
Над этими первичными зонами общечувствительной (теменной) коры
надстраиваются ее вторичные зоны (5-е и частично 40-е поле Бродмана),
так же как и вторичные зоны зрительного и слухового анализаторов,
состоящие преимущественно из нейронов 2-го и 3-го (ассоциативных) слоев,
вследствие чего их раздражение приводит к возникновению более
комплексных форм кожной и кинестетической чувствительности.
Таким образом, основные, модально-специфические зоны второго
блока мозга построены по единому принципу иерархической организации,
который одинаково сохраняется во всех этих зонах. Каждая из них
должна рассматриваться как центральный, корковый аппарат того или иного
модально-специфического анализатора. Все они приспособлены для того,
чтобы служить аппаратом приема, переработки и хранения поступающей
из внешнего мира информации, или, иначе говоря, мозговыми
механизмами модально-специфических форм познавательных процессов.
Однако познавательная деятельность человека никогда не протекает,
опираясь лишь на одну изолированную модальность (зрение, слух,
осязание). Любое предметное восприятие — и тем более представление —
системно, оно является результатом полимодальной деятельности, которая
носит сначала развернутый, а затем свернутый характер. Поэтому
совершенно естественно, что она должна опираться на совместную работу целой
системы зон коры головного мозга.
Функцию обеспечения такой совместной работы целой группы
анализаторов несут третичные зоны второго блока: зоны перекрытия корковых
отделов различных анализаторов, расположенные на границе затылочной,
височной и задне-центральной коры. Их основная часть — образования
нижнетеменной области, которая у человека развилась настолько, что
составляет едва ли не четвертую часть всех образований описываемого
блока. Именно это дает основание считать третичные зоны (или, как их
обозначал П. Флексиг, «задний ассоциативный центр») специфически
человеческими образованиями.
Эти третичные зоны задних отделов мозга состоят преимущественно из
клеток 2-го и 3-го (ассоциативных) слоев коры и, следовательно, почти нацело
осуществляют функцию интеграции возбуждений, приходящих из разных
анализаторов. Есть основания думать, что подавляющее большинство
нейро1055
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
нов этих зон имеют мультимодальный характер и, по некоторым данным,
реагируют на такие обобщенные признаки (например, на признаки
пространственного расположения или количества элементов), на которые не могут
реагировать нейроны первичных и даже вторичных зон коры.
На основании анализа психологических экспериментов и клинических
данных показано, что основная роль этих зон связана с пространственной
организацией притекающих в различные сферы возбуждений, в
превращении последовательно поступающих (сукцессивных) сигналов в
одновременно обозримые (симультанные) группы, что только и может обеспечивать
тот синтетический характер восприятия, о котором в свое время упоминал
еще И.М. Сеченов.
Такая работа третичных зон задних отделов коры необходима не
только для успешного синтеза доходящей до человека наглядной информации,
но и для перехода от непосредственных, наглядных синтезов к уровню
символических процессов — для операций значениями слов, сложными
грамматическими и логическими структурами, системами чисел и отвлеченных
соотношений. Именно в силу этого третичные зоны задних отделов коры
являются аппаратами, участие которых необходимо для превращения
наглядного восприятия в отвлеченное мышление, всегда протекающее в
известных внутренних схемах, и для сохранения в памяти материала
организованного опыта, иначе говоря — не только для получения и кодирования
(переработки), но и для хранения полученной информации.
Все это и дает основание обозначить весь этот функциональный блок
мозга как блок получения, переработки и хранения информации.
Можно выделить три основных закона, по которым построена работа
отдельных частей коры, входящих в состав этого мозгового блока.
Первый из них — закон иерархического строения входящих в состав
этого блока корковых зон. Соотношение первичных, вторичных и третичных зон
коры, осуществляющих все более сложные синтезы доходящей до человека
информации, является иллюстрацией этого закона. Следует, однако,
отметить, что отношения этих зон коры не остаются одинаковыми, а изменяются в
процессе онтогенетического развития. У маленького ребенка для
формирования успешной работы вторичных зон необходима сохранность первичных,
которые являются их основой, а для формирования работы третичных зон —
достаточная сформированность вторичных (гностических) зон коры,
обеспечивающих нужный материал для создания больших познавательных
синтезов. Поэтому нарушение низших зон соответствующих типов коры в раннем
возрасте неизбежно приводит к недоразвитию более высоких, и,
следовательно, как это формулировал A.C. Выготский, основная линия взаимодействия
этих зон направлена «снизу вверх».
Наоборот, у взрослого человека, с его полностью сложившимися
высшими психическими функциями, ведущее место переходит к высшим
зо1056
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
нам коры. Воспринимая окружающий мир, взрослый человек организует
(кодирует) свои впечатления в известные логические системы. Поэтому
наиболее высокие (третичные) зоны коры начинают управлять работой
подчиненных им вторичных зон, а при поражении последних оказывают на их
работу компенсирующее влияние. Такое взаимоотношение основных
иерархически построенных зон коры в зрелом возрасте дало основание
Л.С. Выготскому заключить, что на позднем этапе онтогенеза основная
линия их взаимодействия направлена «сверху вниз» и что в работе коры
головного мозга у взрослого человека обнаруживается не столько
зависимость высших зон от низших, сколько обратная зависимость — низших
(модально-специфических) зон от высших.
Второй закон работы этого функционального блока можно
формулировать как закон убывающей специфичности иерархически построенных
зон коры, входящих в его состав.
Первичные зоны обладают максимальной модальной
специфичностью. Это присуще первичным зонам и зрительной (затылочной), и
слуховой (височной), и общечувствительной (задне-центральной) коры.
Наличие в их составе огромного числа нейронов с высокодифференцированной,
модально-специфической функцией подтверждает это положение.
Вторичные зоны коры (с преобладанием у них верхних слоев ее с их
ассоциативными нейронами) обладают модальной специфичностью в
значительно меньшей степени. Сохраняя свое непосредственное отношение
к корковым отделам соответствующих анализаторов, эти зоны (которые
Г.И. Поляков предпочитает называть проекционно-ассоциационными)
сохраняют свои модально-специфические гностические функции,
интегрируя в одних случаях зрительную (вторичные затылочные зоны), в других
случаях — слуховую (вторичные височные зоны), в третьих случаях —
тактильную информацию (вторичные теменные зоны). Однако ведущая роль
этих зон, характеризующихся преобладанием мультимодальных нейронов
и нейронов с короткими аксонами, в превращении соматотопической
проекции в функциональную организацию поступающей информации указывает
на меньшую специализированность их клеток, и, следовательно, переход к
ним знаменует существенный шаг на пути убывающей модальной
специфичности.
Еще меньше модальная специфичность третичных зон описываемого
блока, обозначаемых как зоны перекрытия корковых отделов различных
анализаторов; эти зоны осуществляют симультанные (пространственные)
синтезы, что делает практически почти невозможным говорить о том,
какой модально-специфический (зрительный или тактильный) характер они
имеют. В еще меньшей степени это можно относить к высшим,
символическим уровням работы третичных зон, в которых их функция в известной
мере приобретает надмодальный характер.
34 Российская психология 1057
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Таким образом, закон убывающей специфичности является другой
стороной закона иерархического строения зон коры, входящих в состав
второго блока и обеспечивающих переход от дробного отражения частных
модально-специфических признаков к синтетическому отражению более
общих и отвлеченных схем воспринимаемого мира.
И.П. Павлов утверждал, что проекционные зоны коры по своему
строению являются наиболее высокодифференцированными, в то время как
окружающие их зоны представляют собой рассеянную периферию,
выполняющую те же функции, но с меньшей четкостью. То, что первичные зоны
коры представляют собой аппараты с высочайшей модальной
специфичностью, не вызывает сомнений. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что
окружающие вторичные и третичные зоны можно расценивать лишь как
«рассеянную периферию », сохраняющую те же функции, но лишь в менее
совершенном виде.
Закономерным следует считать положение, что вторичные и третичные
зоны коры (с преобладанием у них мультимодальных и ассоциативных
нейронов и при отсутствии прямой связи с периферией) обладают не менее
совершенными (низшими), а более совершенными (высшими) функциональными
особенностями, чем первичные зоны коры, и что, несмотря на убывающую
специфичность (а может быть, как раз в силу этого), они способны играть
организующую, интегрирующую роль в работе более специфических зон,
приобретая ключевое значение в организации функциональных систем,
необходимых для осуществления сложных познавательных процессов.
Без учета этого принципа все клинические факты функциональных
нарушений, возникающих при локальных поражениях мозга, остаются
непонятными.
Третий, основной закон, которому подчиняется работа описываемого
(второго) функционального блока (как, впрочем, и коры головного мозга в
целом), можно обозначить как закон прогрессивной латерализации
функций, вступающих в действие по мере перехода от первичных зон мозговой
коры к вторичным и затем третичным зонам.
Известно, что первичные зоны обоих полушарий мозговой коры,
построенных по принципу соматотопической проекции, равноценны.
Каждая из них является проекцией контрлатеральных (расположенных на
противоположной стороне) воспринимающих поверхностей, и ни о каком
доминировании первичных зон какого-либо одного из полушарий говорить
нельзя.
Иначе обстоит дело при переходе к вторичным, а затем и третичным
зонам, где возникает известная латерализация функций, не имеющая
места у животных, но характерная для функциональной организации
человеческого мозга. Левое полушарие (у правшей) становится доминантным.
Именно оно начинает осуществлять речевые функции, в то время как
пра1058
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
вое полушарие, не связанное с деятельностью правой руки и речью,
остается субдоминантным. Мало того, это левое полушарие начинает играть
существенную роль не только в мозговой организации речевых процессов, но
и в мозговой организации всех связанных с речью высших форм
психической деятельности — организованного в логические схемы восприятия,
активной вербальной памяти, логического мышления (в то время как правое,
субдоминантное, полушарие либо играет в мозговой организации этих
процессов подчиненную роль, либо вообще не участвует в их обеспечении).
В итоге латерализации высших функций в коре головного мозга
функции вторичных и третичных зон левого (ведущего) полушария у взрослого
человека значительно отличаются от функций вторичных и третичных зон
правого (субдоминантного) полушария, вследствие чего при локальных
поражениях мозга подавляющее число симптомов нарушения высших
психических процессов возникает при поражениях вторичных и третичных зон
доминантного (левого) полушария. Эта ведущая роль левого
(доминантного) полушария (как и общий принцип прогрессивной латерализации
функций) резко отличает организацию человеческого мозга от мозга животных,
поведение которых не связано с речевой деятельностью.
Следует, однако, учитывать, что абсолютная доминантность одного
(левого) полушария встречается далеко не всегда и закон латерализации
носит лишь относительный характер. По данным последних исследований,
лишь одна четверть всех людей являются полностью правшами, причем
только несколько больше одной трети проявляет выраженное
преобладание левого полушария, в то время как остальные отличаются относительно
слабо выраженным преобладанием левого полушария, а в одной десятой
всех случаев преобладание левого полушария вообще отсутствует.
3. Блок программирования, регуляции и контроля деятельности
Прием, переработка и хранение информации составляют только одну
сторону сознательной жизни человека. Ее другая сторона — организация
активной, сознательной, целенаправленной деятельности. Она
обеспечивается третьим функциональным блоком мозга — блоком
программирования, регуляции и контроля.
Человек не только пассивно реагирует на доходящие до него сигналы.
Он создает замыслы, формирует планы и программы своих действий,
следит за их выполнением, регулирует свое поведение, приводя его в
соответствие с планами и программами; он контролирует свою сознательную
деятельность, сличая эффект действий с исходными намерениями и корригируя
допущенные ошибки.
Все эти процессы требуют иных мозговых аппаратов, чем описанные
выше, и если даже в простых рефлекторных актах, наряду с их афференной
34* 1059
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
стороной, существует как эффекторная сторона, так и аппараты обратной
связи, служащие контрольным сервомеханизмом, то тем более такие
специальные нервные образования необходимы в работе головного мозга,
регулирующего сложную сознательную деятельность. Этим задачам и
служат аппараты третьего блока головного мозга, расположенные в передних
отделах больших полушарий — к переди от передней центральной
извилины. Выходными воротами этого блока служит двигательная зона коры (4-е
поле Бродмана), 5-й слой которой содержит гигантские пирамидные
клетки Беца. Волокна от них идут к двигательным ядрам спинного мозга, а
оттуда к мышцам, составляя части большого пирамидного пути. Эта зона коры
имеет проекционный характер и топографически построена так, что в ее
верхних отделах берут начало волокна, идущие к нижним, в средних
отделах — к верхним конечностям противоположной стороны, в нижних
отделах — волокна, идущие к мышцам лица, губ, языка. Максимальное
представительство в этой зоне имеют органы, особо значимые и нуждающиеся
в наиболее тонкой регуляции.
Проекционная двигательная кора не может, однако, функционировать
изолированно. Все движения человека в той или иной степени нуждаются в
известном тоническом фоне, который обеспечивается базальными
двигательными узлами и волокнами экстрапирамидной системы.
Первичная (проекционная) двигательная кора является, как уже
сказано, выходными воротами двигательных импульсов («передними рогами
головного мозга », как назвал их H.A. Бернштейн). Естественно, что
двигательный состав импульсов, посылаемых на периферию, должен быть
хорошо подготовлен, включен в известные программы, и только после такой
подготовки импульсы, направленные через переднюю центральную
извилину, могут обеспечить нужные целесообразные движения. Такая
подготовка двигательных импульсов не может быть выполнена самими
пирамидными клетками. Она должна быть обеспечена как в аппарате передней
центральной извилины, так и в аппаратах надстроенных над ней вторичных
зон двигательной коры, которые готовят двигательные программы, лишь
затем передающиеся на гигантские пирамидные клетки.
В пределах самой передней центральной извилины таким аппаратом,
участвующим в подготовке двигательных программ для передачи их на
гигантские пирамидные клетки, являются верхние слои коры и внеклеточное
серое вещество, составленное из элементов дендритов и глии. Отношение
массы этого внеклеточного серого вещества к массе клеток передней
центральной извилины резко возрастает по мере эволюции, так что величина
его у человека вдвое больше, чем у высших, и почти в пять раз больше, чем
у низших обезьян. Это означает, что по мере перехода к высшим ступеням
эволюционной лестницы и особенно по мере перехода к человеку
двигательные импульсы, генерируемые гигантскими пирамидными клетками
1060
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Беца, должны становиться все более управляемыми, и именно эта
управляемость обеспечивается мощно возрастающими аппаратами
внеклеточного серого вещества, состоящего из дендритов и глии.
Передняя центральная извилина является, однако, лишь
проекционной зоной, исполнительным аппаратом мозговой коры. Решающее
значение в подготовке двигательных импульсов имеют надстроенные над ней
вторичные и третичные зоны, так же подчиняющиеся принципам
иерархического строения и убывающей специфичности, как и организация блока
приема, переработки и хранения информации. Но ее основное отличие от
второго (афферентного) блока заключается в том, что процессы здесь идут
в нисходящем направлении, начинаясь с наиболее высоких — третичных и
вторичных зон, где формируются двигательные планы и программы, и лишь
затем переходя к аппаратам первичной двигательной зоны, которая
посылает подготовленные двигательные импульсы на периферию.
Следующая черта, отличающая работу третьего (эфферентного) блока
коры от работы ее второго (афферентного) блока, заключается в том, что этот
блок сам не содержит набора модально-специфических зон, представляющих
отдельные анализаторы, а состоит целиком из аппаратов эфферентного
(двигательного) типа и сам находится под постоянным влиянием аппаратов
афферентного блока. Роль основной зоны блока играют премоторные отделы
лобной области. Морфологически они сохраняют тот же тип «вертикальной»
исчерченности, который характерен для всякой двигательной коры, но
отличается несравненно большим развитием верхних слоев коры — слоев малых
пирамид. Раздражение этих отделов коры вызывает не соматотопически
ограниченные вздрагивания отдельных мышц, а целые комплексы движений,
имеющих системно организованный характер (повороты глаз, головы и всего тела,
хватательные движения рук), что уже само по себе указывает на
интегративную роль этих зон коры в организации движений.
Следует отметить также, что если раздражение передней
центральной извилины вызывает ограниченное возбуждение, распространяющееся
лишь на близлежащие точки, то раздражение премоторных отделов коры
распространяется на достаточно отдаленные участки, включающие и
постцентральные зоны, и, наоборот, сами участки премоторных зон
возбуждаются под влиянием раздражения далеко расположенных от них участков
афферентных отделов коры.
Все эти факты дают полное основание отнести премоторные зоны к
вторичным отделам коры и высказать предположение, что они
осуществляют в отношении движений такую же организующую функцию, какую
выполняют вторичные зоны задних отделов коры, превращающие
соматотопическую проекцию в функциональную организацию.
Наиболее существенной частью третьего функционального блока
мозга являются, однако, лобные доли, или, если выражаться точнее,
префрон1061
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
тальные отделы мозга, которые вследствие отсутствия в их составе
пирамидных клеток иногда называются гранулярной лобной корой. Именно эти
разделы мозга, относясь к третичным зонам коры, играют решающую роль
в формировании намерений и программ, в регуляции и контроле наиболее
сложных форм поведения человека. Они целиком состоят из мелких,
зернистых клеток верхних слоев коры, обладающих лишь короткими
аксонами и несущих, таким образом, ассоциативные функции.
Особенностью данной области мозга является ее богатейшая система
связей как с нижележащими отделами мозга (медиальными ядрами,
подушкой зрительного бугра и другими образованиями) и
соответствующими отделами РФ, так и со всеми остальными отделами коры. Эти связи
носят двусторонний характер и делают префронтальные отделы коры
образованиями, находящимися в особенно выгодном положении как для
приема и синтеза сложнейшей системы афферентаций, идущих от всех
отделов мозга, так и для организации эфферентных импульсов,
позволяющих оказывать регулирующие воздействия на все эти структуры.
Решающее значение имеет тот факт, что лобные доли мозга, и в
частности их медиальные и базальные отделы, обладают особенно мощными
пучками восходящих и нисходящих связей с РФ и получают мощные
импульсы от систем первого функционального блока, «заряжаясь» от него
соответствующим энергетическим тонусом. Вместе с тем они могут
оказывать особенно мощное модулирующее влияние на РФ, придавая ее
активирующим импульсам известный дифференцированный характер и
приводя их в соответствие с динамическими схемами поведения, которые
непосредственно формируются в лобной коре мозга.
Наличие как тормозящих, так и активирующих и модулирующих
влияний, которые лобные доли оказывают на аппараты РФ первого блока,
доказано многочисленными электрофизиологическими экспериментами,
а также с помощью условнорефлекторных методик (в экспериментах с
животными), результаты которых резко изменялись после хирургических
вмешательств, нарушавших нормальное функционирование лобных отделов
мозга.
Влияние префронтальной коры, и особенно ее медиальных и
базальных отделов, на высшие формы процессов активации было подробно
изучено на человеке Е.Д. Хомской и ее сотрудниками. Было установлено, что
префронтальные отделы коры действительно играют существенную роль в
регуляции состояния активности, меняя его в соответствии с наиболее
сложными, формулируемыми с помощью речи намерениями и замыслами
человека. Следует отметить, что эти отделы мозговой коры созревают лишь
на очень поздних этапах онтогенеза и становятся окончательно
подготовленными к действию лишь у ребенка 4-7-летнего возраста. Темп роста
площади лобных областей мозга резко повышается к 3,5-4 годам и
испытыва1062
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ет затем второй скачок к 7-8-летнему возрасту. К первому из этих
периодов относится и существенный скачок роста клеточных тел, входящих в
состав префронтальных отделов коры.
В филогенезе эти отделы мозга получают мощное развитие лишь на
самых поздних этапах эволюции. У человека они занимают до У3 всей
массы мозга и имеют помимо указанных и другие функции, более
непосредственно связанные с организацией активной деятельности
людей.
Все названные исследования, проведенные независимо друг от друга,
убедительно свидетельствуют о том, что кора лобных долей мозга
участвует в генерации процессов активации, возникающей при наиболее сложных
формах сознательной деятельности, в организации которой важнейшую
роль играет речь. Подобные факты становятся ясными, если учесть, что
именно эти разделы мозговой коры особенно богаты связями с
нисходящей активирующей РФ, в силу чего имеется основание думать, что лобные
доли человека принимают самое непосредственное участие в повышении
состояния активности, которое сопровождает всякую сознательную
деятельность. Эти же факты заставляют предполагать, что именно
префронтальные отделы коры, вызывающие такую активацию, как раз и
обеспечивают те сложнейшие формы программирования, регуляции и контроля
сознательной деятельности человека, которые не могут осуществляться
без участия оптимального тонуса корковых процессов.
4. Взаимодействие трех основных функциональных блоков мозга
Было бы неправильно предполагать, что каждый из описанных блоков
может самостоятельно осуществлять ту или иную форму деятельности.
Любая сознательная деятельность, как уже неоднократно отмечалось,
всегда является сложной функциональной системой и осуществляется,
опираясь на совместную работу всех трех блоков мозга, каждый из которых
вносит свои вклад в ее осуществление.
Уже давно прошло то время, когда психологи рассматривали
психические функции как изолированные «способности», каждая из которых
могла быть локализована в определенном участке мозга. Однако миновало
и то время, когда психические процессы представлялись по модели
рефлекторной дуги, первая часть которой имела чисто афферентный характер и
выполняла функции ощущения и восприятия, в то время как вторая —
эффекторная — часть целиком осуществляла движения и действия.
Современные представления о строении психических процессов
носят совсем иной характер и исходят, скорее, из модели «рефлекторного
кольца» или сложной саморегулирующейся системы, каждое звено
которой включает как афферентные, так и эффекторные компоненты, а все
зве1063
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
нья этой системы в целом носят характер сложной и активной психической
деятельности.
Было бы неверно, например, представлять ощущение и восприятие как
чисто пассивные процессы. Известно, что уже в ощущение включены
двигательные компоненты, и современная психология представляет
ощущение, а тем более восприятие как рефлекторный акт, включающий как
афферентное, так и эфферентное звено. Чтобы убедиться в сложном активном
характере ощущений, достаточно напомнить, что даже у животных оно
включает как необходимое звено отбор биологически значимых
признаков, а у человека — и активное кодирующее влияние языка.
Особенно отчетливо выступает активный характер сложного
предметного восприятия. Хорошо известно, что предметное восприятие носит не
только полирецепторный характер, что оно, опираясь на совместную
работу целой группы анализаторов, всегда имеет в своем составе и активные
двигательные компоненты. Решающую роль движений глаз в зрительном
восприятии отмечал еще И.М. Сеченов, но экспериментально доказано это
было лишь в последнее время рядом психофизиологических исследований,
показавших, что неподвижный глаз практически не может устойчиво
воспринимать комплексные предметы и что сложное предметное восприятие
всегда предполагает использование активных, поисковых движений глаз,
выделяющих нужные признаки и лишь постепенно принимающих
свернутый характер.
Все эти факты делают очевидным, что восприятие осуществляется при
совместном участии всех трех функциональных блоков мозга, из которых
первый обеспечивает нужный тонус коры, второй — дает возможность
анализа и синтеза поступающей информации, а третий — необходимые
направленные поисковые движения; последнее придает активный характер
воспринимающей деятельности человека в целом.
Аналогичное можно сказать и о построении произвольных движений
и действий.
Участие эфферентных механизмов в построении движения
самоочевидно. Однако, как показал H.A. Бернштейн, движение не может управляться
одними эфферентными импульсами. Для его организованного выполнения
необходимы постоянные афферентные импульсы, сигнализирующие
состояние сочленений и мышц, положение сегментов движущегося аппарата и
те пространственные координаты, в которых движение протекает.
Все это делает понятным, что произвольное движение, а тем более
предметное действие опираются на совместную работу самых различных
отделов мозга. Если аппараты первого блока обеспечивают нужный тонус мышц,
без которого никакое координированное движение не было бы
возможным, то аппараты второго блока позволяют осуществить те афферентные
синтезы, в системе которых протекает движение, а аппараты третьего
бло1064
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ка обеспечивают подчинение движения и действия соответствующим
намерениям, способствуют созданию программы выполнения двигательных
актов и осуществляют как регуляцию движений, так и контроль над ними,
без чего не может сохраниться организованный, осмысленный характер
двигательных и любых других действий.
Все это делает очевидным, что только учет взаимодействия всех трех
функциональных блоков мозга, их совместной работы и того, каков
специфический вклад каждого из них в отражательную деятельность мозга,
позволяет правильно решать вопрос о мозговых механизмах психической
деятельности.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Б.В. ЗЕЙГАРНИК
«ЭФФЕКТ ЗЕЙГАРНИК»: СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕЙ
ПАТОПСИХОЛОГИИ
Зейгарник Блюма Вульфовна (1900-1988) —
психолог. Ученица одного из основателей
гештальт-психологии Курта Левина. В дипломной
работе «Запоминание законченных и незаконченных
действий», выполненной под руководством К.
Левина, описала феномен лучшего запоминания
незавершенных действий в сравнении с
завершенными, вошедший в мировую психологию под
названием «эффект Зейгарник».
На основе культурно-исторической психологии
разрабатывала проблемы патологии психики.
Является одним из основателей отечественной
патопсихологии как особой отрасли психологической науки, одной из ветвей
клинической психологии, области знания, пограничной между психологией и
психиатрией. («Патопсихология», 1976). Способствовала (в содружестве с
В.Н. Мясищевым и его школой) созданию в нашей стране психологической
службы в психиатрии, становлению клинической психологии как новой
психологической специальности.
Патопсихологию рассматривала в ее значении для изучения общих
закономерностей развития и функционирования психики в норме (глава
«О значении патопсихологических исследований для теоретических и
методологических вопросов психологии » в книге «Патопсихология »).
Большое место в творчестве Зейгарник занимала проблема
психологии личности («Теории личности в зарубежной психологии », 1982).
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ1
Проблема метода в науке непроста и неодносложна. С одной стороны,
применяемые методы исследования зависят от уровня развития науки, от
тех принципиальных положений, теоретических, методологических
установок, на которых данная область знаний базируется. Само развитие той
или иной области знаний зависит в известной мере от применяемых
метоЗейгарникБ.В. Патопсихология. 2-е изд. М., 1986. С. 24-47.
1066
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
дов исследования. С другой стороны, экспериментальное исследование,
в том числе и патопсихологическое, выбор экспериментальных приемов
зависят от той задачи, которую ставит перед ним клиника
(дифференциально-диагностическая, психокоррекционная, экспертная и др.).
Патопсихологическое исследование включает в себя ряд
компонентов: эксперимент, беседу с больным, наблюдение за поведением больного
во время проведения исследования, анализ истории жизни заболевшего
человека (которая представляет собой профессионально написанную
врачом историю болезни), сопоставление экспериментальных данных с
историей жизни. Чрезвычайно важно (хотя в силу объективных обстоятельств
это не всегда возможно) проводить исследование в динамике, т. е. через
год-два.
§ 1. Патопсихологический эксперимент
Рассмотрим принципы построения патопсихологического
эксперимента. Для того чтобы понять его особенности, необходимо остановиться в
нескольких словах на методах исследования общей психологии. Метод
эксперимента не является единственным путем познания в психологии. Он
стал главенствующим помере развития психологии как точной науки в связи
с ее общими теоретическими положениями и применением в практике.
Как известно, внимание психологов-рационалистов было направлено
на разграничение в психике человека отдельных «душевных способностей»,
каждая из которых по-своему перерабатывает получаемый извне
материал. Психология сводилась к описанию работы этих способностей.
Умозрительное описание внутреннего мира человека получило свое
отражение не только у психологов-рационалистов. Оно нашло свое место
у представителей так называемой «понимающей» психологии (Э.
Шпрангер, В. Дильтей). Отрицая дробление психики на отдельные процессы или
функции, признавая неделимость, единство психического, представители
этого направления отказываются от научного исследования психического,
считая, что если природу можно объяснить, то психику можно только
понять. Эти положения «понимающей» психологии нашли свое отражение в
концепции психологов-экзистенциалистов.
На практике это означает, что психолог должен ограничиться лишь
наблюдением за поведением субъекта, регистрацией его высказываний и
самонаблюдением и отказаться от эксперимента, от возможности
изменения условий и деятельности, от которых зависит протекание того или
иного процесса. По существу, психолог-экзистенциалист стремится описать
явление, но не проникать в его сущность.
Пришедшая на смену рационалистической эмпирическая психология
принесла с собой иное понимание метода исследования. С развитием
эм1067
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
лирической психологии, развитием психофизиологии начинает
внедряться в психологию метод эксперимента (В. Вундт, Г. Эббингауз, Э. Титченер).
Однако некоторые положения, особенно Вундта, внесшие большой
вклад в психологию, способствовали вместе с тем тому, что психика была
разделена на отдельные функции-«полочки» памяти, внимания,
восприятия и т. д., и психологическое исследование сводилось к исследованию этих
отдельных функций. Исследование же данных функций должно сводиться
к их измерению.
Как указывалось в предыдущей главе, метод эксперимента начинает
проникать в психиатрию и неврологию. В этой связи интересно отметить,
что уже в 1896 г. A.A. Токарский писал в «Записках психологической
лаборатории психиатрической клиники Московского университета» о
необходимости эксперимента и недостаточности метода наблюдения:
«Наблюдением называется изучение явления при тех условиях, при которых оно
возникает независимо от нашего вмешательства, в силу естественного хода
вещей. Вследствие того, что условия, при которых возникает явление,
равно как и сопровождающие обстоятельства, могут меняться в силу
естественных причин, является возможность, повторяя наблюдения одного и
того же явления в различные моменты, установить существование
некоторых фактов с достаточной степенью достоверности. Однако, для того
чтобы знание явления стало несомненным, требуется его проверка и
доказательство. Для этого служит опыт, или эксперимент. Экспериментом
называется искусственное изменение условий наблюдения с целью
определения отношений между явлением и условиями его возникновения. Этим
прежде всего доказывается самый факт существования явления, которое
было ранее обнаружено простым наблюдением, затем определяется
отношение явления к его условиям, причинам или сопровождающим
обстоятельствам. Таким образом, эксперимент есть только проверка
наблюдения. Это не есть, следовательно, наблюдение при искусственно измененных
условиях, как часто говорится, но есть именно изменение условий, за
которым вновь начинается наблюдение, которое, совершаясь при измененных
экспериментом условиях, тем не менее остается наблюдением».
Таким образом, в основании научных данных лежат результаты
наблюдения, проверенные с помощью эксперимента. Изучить явление —
значит определить его составные части, его общие свойства, характерные
признаки, причины, его вызывающие, и следствия, им обусловленные,
следовательно, привести его в полную связь с остальными, уже
проверенными фактами. Эта задача не всегда может быть исполнена в настоящее
время, с одной стороны, вследствие недостатка точно проверенных
фактов, с другой — вследствие сложности явлений. Для того чтобы добытые
частные факты могли дополняться впоследствии, чтобы они представляли
собой научный материал, необходимо эти наблюдения и эксперименты
про1068
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
водить по строгому методу, что даст возможность их повторения и
проверки другими лицами.
Поэтому в психологии, как и в других науках, эксперимент имеет
решающее значение: только посредством эксперимента психология
становится наукой и только посредством эксперимента может она освободиться
от бесплодных и произвольных гипотез. Отсюда следует, что выделение
экспериментальной психологии как особой науки, в отличие от психологии
так называемой физиологической, эмпирической, интуитивной и пр., не имеет
никакого основания. Психология как наука едина, пользуется всеми
методами естествознания, и только добытые с помощью этих методов
данные могут иметь для нее значение. Из того обстоятельства, что
некоторые факты душевной жизни познаются только самонаблюдением или
что некоторые факты стоят в близкой связи с фактами, изучаемыми
другими отраслями естествознания — биологией, физиологией, химией и
т. д., никак не следует, что эти факты могут быть содержанием
отдельной науки и что необходимо различать химическую, физическую,
физиологическую психологию. Это ведет только к недоразумению, которое
выражается в предположении, что каждая из этих наук занимается
изучением особых явлений, например что психология изучает высшие
свойства духа, физиология— низшие свойства, связанные с животными
отправлениями, что в конце концов является только препятствием к
правильному выяснению значения метода в науке и, следовательно,
тормозит научное исследование.
«Ближайшая задача психологии заключается в том, чтобы изучить
психическое содержание, разложить его на составные элементы,
определить связь между этими элементами и отношениями, которые существуют
между явлениями внешнего мира и психическими явлениями.
Психическое содержание состоит из ощущений, восприятий,
представлений, понятий, ассоциативных сочетаний этих величин, чувствований и
чувств, действий, обусловленных суммой находящихся налицо в данный
момент двигательных импульсов.
Мы имеем возможность изучать посредством эксперимента
ощущения, восприятия, представления и их отношения к внешним влияниям,
законы памяти и связи представлений, степень и качество воспроизведений
по их отношению к первоначальным восприятиям, условия возникновения
внимания, его колебания, некоторые проявления бессознательной
мозговой деятельности, автоматические акты, явления внушения, дающие
возможность наблюдения сложнейших проявлений психической деятельности.
Далее посредством наблюдения за действием ядов1 и над душевнобольными
мы имеем возможность проверять и устанавливать некоторые общие
фак1 Л.А. Токарский имел здесь в виду лекарственные препараты. — Прим. авт.
1069
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ты душевной жизни, однообразно возникающие при определенных
условиях, и некоторые своеобразные изменения нормальной психической
деятельности.
Так образуется фактически проверенный материал психологии.
Данные самонаблюдения отдельного лица могут явиться существенным
подспорьем при анализе психических явлений, представляя собой
определенный факт психической жизни. Однако значение этого факта не
возвышается над значением единичного наблюдения, и в тех случаях, где
самонаблюдение не допускает проверки, что еще так часто случается по
отношению ко многим сторонам психической жизни, главным образом
по отношению к чувствам и очень сложным воспроизведениям, даже
фактическая достоверность самонаблюдения может оставаться
сомнительной. Ошибки самонаблюдения свойственны всем людям без
исключения, и, к сожалению, нет никакой возможности сказать, что
самонаблюдение, положим, Канта или Гёте более достоверно, чем
самонаблюдение простолюдина. Оно более сложно, и только, но, если оно
относится к явлению, не допускающему воспроизведения или
проверки, оно не может и не должно быть принимаемо за действительный факт
душевной жизни, имевший место в том виде, как он нам описан, тем
более что для правильного изображения сложных душевных состояний у
человека не всегда хватает средств.
Таким образом, сложнейшие явления душевной жизни ускользают от
нашего анализа и проверки; они остаются, однако, в сфере науки, будучи
постоянно целью ее стремлений, и наше бессилие в настоящую минуту
разрешать сложнейшие задачи психологии свидетельствует только о величии
этой науки и еще более подтверждает необходимость строгой
методичности в изысканиях для того, чтобы систематически расширить область
положительного знания. Методы психологического исследования в
зависимости от указанных психических величин разделяются на следующие:
1. Методы анализа ощущений.
2. Методы анализа восприятия.
3. Методы измерения времени психических процессов.
4. Методы анализа воспроизведений:
а) простых воспроизведений;
б) сложных представлений.
5. Методы анализа сложных психических актов.
Наиболее плодотворное исследование возможно только по
отношению к тем психическим явлениям, которые характеризуются более
определенной зависимостью от внешних объектов, с которыми связана наша
психическая деятельность, — с ощущениями, восприятиями,
представлениями, понятиями и их сочетанием, словом, с той частью психического
содержания, которая называется интеллектуальной сферой. Что же
касает1070
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ся настроения, чувств, влечений, то они имеют характер гораздо более
изменчивый, в высокой степени зависящий от неуловимых внутренних
изменений».
Таким образом, уже в конце XIX в. лучшие представители нашей
науки приходили к выводу о необходимости экспериментального
исследования психических явлений (будь это даже в рамках функциональной
психологии).
Необходимость экспериментального исследования стала особенно
очевидной в начале XX в. Так, известный, представитель
гештальт-психологии К. Левин настаивал на том, что развитие психологии должно идти не
по пути собирания эмпирических фактов (пути, по которому идет и сейчас
американская психология), а что решающей в науке является теория,
которая должна быть подтверждена экспериментом. Не от эксперимента к
теории, а от теории к эксперименту — генеральный путь научного анализа.
Всякая наука нацелена на нахождение закономерностей — психология
должна тоже стремиться к нахождению психологических
закономерностей. Курт Левин подчеркивал это положение. Он говорил о том, что
задачей психологической науки должно быть даже не только установление
законов, а предсказание индивидуальных явлений (в терминологии Левина —
«событий») на основании закона. Но они предсказуемы только при
наличии достоверной теории. Критерием научной достоверности является не
повторяемость единичных фактов, а, наоборот, единичные факты должны
подтвердить теорию. Такой подход к объекту психологической науки К. Левин
назвал «переходом от аристотелевского мышления к галилеевскому ».
Левин указывал, что для мышления Аристотеля было характерно
утверждение, что мир гетерогенен, что каждому явлению присуща
свойственная именно ему имманентная закономерность: дым поднимается
кверху, потому что он легкий; камень падает вниз, потому что он тяжелый.
Галилей же установил, что мир гомогенен. Всякое отдельное явление
подчиняется общим закономерностям. Исследование должно выявить эти
общие закономерности и условия, при которых то или иное явление
развивалось. К. Левин считал, что психология должна использовать галилеев-ское
мышление. Поэтому эксперимент должен быть строго продуман:
необходимо создать определенные условия, чтобы получить, вычленить само
изучаемое явление.
Иными словами, различение аристотелевского и галилеевского
подходов по отношению к психологическому исследованию означает переход
от описательного метода к конструктивному. Аристотелевский метод в
психологии состоит в том, что причина отождествляется с сущностью
изучаемого явления, в результате чего научное объяснение сводится к
классификации и приводит к выделению средних статистических характеристик,
в которых преобладают оценочные критерии.
1071
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Галилеевский же метод в психологии предполагает теоретическое
объяснение фактов на основе целостной системы причинных соотношений.
Именно нахождение причинных соотношений дает возможность
предсказания единичных событий. Каждое единичное событие должно быть
осмыслено в контексте целостной ситуации данного момента. Эмпирическое
доказательство должно уступить место конструктивно-теоретическому.
Психология должна изучать не фенотипы, а генотипы. Эксперимент в
психологии призван давать объяснительную характеристику, а не
установление факта, он должен объяснить причину, детерминацию человеческого
поведения, того или иного психического явления.
Принципы методических приемов, использующихся в лабораториях,
различны. Кратко остановимся на них.
Долгое время в клиниках господствовал метод количественного
измерения психических процессов, метод, который основывался на
вундтовской психологии. Взгляд на психические процессы как на врожденные
способности, которые лишь количественно меняются при развитии, привел к
идее о возможности создания «измерительной» психологии.
Экспериментальное исследование психических процессов сводилось к установлению
лишь его количественной характеристики, точнее, к измерению отдельных
психических способностей.
Принцип количественного измерения врожденных способностей лег в
основу психологических методов исследования в психиатрических и
неврологических клиниках. Исследование распада какой-нибудь функции
состояло в установлении степени количественного отклонения от ее
«нормального стандарта ».
В 1910 г. виднейший невропатолог Г.И. Россолимо разработал
систему психологических экспериментов, которая, по его мнению, якобы
позволяла установить уровень отдельных психических функций, или
«психологический профиль субъекта». По мнению автора, различные патологические
состояния мозга вызывали определенные типичные «профили изменения
психодинамики». В основе этого метода лежала концепция эмпирической
психологии о существовании врожденных изолированных способностей.
Эта ложная теория так же, как и упрощенный количественный подход к
анализу нарушений психической деятельности, не могла обеспечить
внедрения методов, адекватных запросам клинической практики, хотя сама
попытка приблизить психологию к решению клинических задач была
прогрессивной для своего времени.
Метод количественного измерения отдельных психических функции
достиг своей крайней выраженности в тестовых исследованиях
Бине-Симона, которые были вначале направлены на выявление уровня умственных
способностей. Измерительные тестовые исследования базировались на
концепции, согласно которой умственные способности ребенка фатально
1072
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
предопределены наследственным фактором и в малой степени зависят от
обучения и воспитания. Каждому ребенку свойствен определенный, более
или менее постоянный возрастной интеллектуальный коэффициент (JQ).
Задачи, которые предлагались детям, требовали для своего решения
определенных знаний, навыков и позволили судить в лучшем случае о
количестве приобретенных знаний, а не о строении и качественных
особенностях их умственной деятельности.
Подобные исследования, направленные на чисто количественные
измерения, не позволяют прогнозировать дальнейшее развитие ребенка.
А между тем с помощью этих тестов проводилось и сейчас проводится в
некоторых странах отделение детей, якобы «способных » от рождения, от
других, задержка умственного развития которых объяснялась зависящей
тоже от врожденных особенностей...
Метод количественного измерения остается до настоящего времени
ведущим в работе многих психологов за рубежом, работающих в области
психиатрии. В многочисленных опубликованных за последние годы
монографиях и статьях, посвященных экспериментально-психологическому
исследованию больных, приводятся методы тестовых исследований вплоть
до вычисления JQ.
При исследовании больных методами, направленными на измерение
функций, не могут быть учтены ни особенности умственной деятельности,
ни качественная сторона нарушения, ни возможности компенсации,
анализ которых столь необходим при разрешении клинических задач,
особенно психокоррекционных.
Путем измерения выявляются лишь конечные результаты работы, сам
же процесс ее, отношение испытуемого к заданию, мотивы, побудившие
испытуемого избрать тот или иной способ действия, личностные
установки, желания, словом, все многообразие качественных особенностей
деятельности испытуемого не может быть обнаружено.
Одним из основных принципов патопсихологического эксперимента
является системный качественный анализ исследуемых нарушений
психической деятельности. Этот принцип обусловлен теоретическими
положениями общей психологии. Основываясь на тезисе К. Маркса, что «люди
суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно,
изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного
воспитания...», советские психологи (A.C. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев, П.Я. Гальперин, Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев) показали, что
психические процессы формируются прижизненно по механизму
присвоения общечеловеческого опыта в процессе деятельности субъекта, его
общения с другими людьми. Поэтому патопсихологический эксперимент
направлен не на исследование и измерение отдельных процессов, а на
исследование человека, совершающего реальную деятельность. Он
направ1073
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
лен на качественный анализ различных форм распада психики, на
раскрытие механизмов нарушенной деятельности и на возможности ее
восстановления. Если речь идет о нарушении познавательных процессов, то
экспериментальные приемы должны показать, как распадаются мыслительные
операции больного, сформированные в процессе его жизнедеятельности,
в какой форме искажается возможность пользования системой старых,
образовавшихся в прежнем опыте связей. Исходя из того, что всякий
психический процесс обладает известной динамикой и направленностью,
следует так построить экспериментальные исследования, чтобы они
отражали сохранность или нарушение этих параметров. Результаты эксперимента
должны дать не столько количественную, сколько качественную
характеристику распада психики1.
Разумеется, что экспериментальные данные должны быть надежны,
что статистическая обработка материала должна быть использована там,
где поставленная задача этого требует и допускает, но количественный
анализ не должен ни заменить, ни оттеснить качественную характеристику
экспериментальных данных...
...основным принципом построения психологического эксперимента
является принцип качественного анализа особенностей протекания
психических процессов больного в противоположность задаче лишь одного
количественного их измерения. Важно не только то, какой трудности или
какого объема задание больной осмыслил или выполнил, но и то, как он
осмыслял, чем были обусловлены его ошибки и затруднения. Именно
анализ ошибок, возникающих у больных в процессе выполнения
экспериментальных заданий, представляет собой интересный и показательный
материал для оценки того или иного нарушения психической деятельности
больных.
Один и тот же патопсихологический симптом может быть обусловлен
различными механизмами, он может явиться индикатором различных
состояний. Так, например, нарушение опосредованной памяти или
нестойкость суждений могут возникнуть вследствие нарушений умственной
работоспособности больного (как это имеет место при астениях разного
органического генеза), оно может быть обусловлено нарушением
целенаправленности мотивов (например, при поражениях лобных отделов мозга)
и при некоторых формах и течении шизофрении, оно может быть
проявлением дезавтоматизации действий (при сосудистых изменениях мозга,
эпилепсии).
Характер нарушений не является патогномоничным, т. е.
специфическим, для того или иного заболевания или формы его течения; он является
Мы не останавливаемся на описании конкретных методик. Они изложены в
книге: Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии.
1074
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
лишь типичным для них и должен быть оценен в комплексе с данными
целостного патопсихологического исследования, т. е. необходим
синдромальный анализ (А.Р. Лурия),
Психологическое исследование в клинике может быть приравнено к
«функциональной пробе» — методу, широко используемому в
медицинской практике и состоящему в испытании деятельности какого-нибудь
органа. В ситуации психологического эксперимента роль «функциональной,
пробы» могут играть те экспериментальные задачи, которые в состоянии
актуализировать умственные операции, которыми пользуется человек в
своей жизнедеятельности, его мотивы, побуждающие эту деятельность.
Следует подчеркнуть, что патопсихологический эксперимент должен
актуализировать не только умственные операции больного, но и его
личностное отношение. Еще в 1936 г. В.Н. Мясищев выдвинул эту проблему в
своей статье «Работоспособность и болезнь личности ». Он указывает, что
психическое и психопатологическое явления могут быть поняты на основе учета
отношения человека к работе, его мотивов и целей, отношения к самому
себе, требований к себе, к результату работы и т. д. Такой подход к
психологическим проявлениям требует, как об этом говорит В.Н. Мясищев,
знания и изучения психологии личности.
Этот подход диктуется и правильным пониманием детерминации
психической деятельности. Говоря о механизмах детерминации
психического, С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что внешние условия не определяют
непосредственно поведение и поступки человека, что причина действует
«через внутренние условия». Это означает, что суждения, действия,
поступки человека не являются непосредственной реакцией на внешние
раздражители, а что они опосредствуются его установками, мотивами,
потребностями. Эти установки складываются прижизненно под влиянием
воспитания и обучения, но, сформировавшись, они сами определяют
действия и поступки человека, здорового и больного.
Отношения человека связаны со структурой личности человека, с его
потребностями, с его эмоциональными и волевыми особенностями.
Несмотря на то, что последние рассматриваются психологией как процессы,
они, по существу, являются включенными в структуру личности. В
потребностях человека, материальных и духовных, выражается его связь с
окружающим миром, людьми. Оценивая человека, мы прежде всего
характеризуем круг его интересов, содержание его потребностей. Мы судим о
человеке по мотивам его поступков, по тому, к каким явлениям жизни он
равнодушен, по тому; чему он радуется, на что направлены его мысли и
желания.
О патологическом изменении личности мы говорим тогда, когда под
влиянием болезни у человека скудеют интересы, мельчают потребности,
когда у него проявляется равнодушное отношение к тому, что его раньше
1075
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
волновало, когда действия его лишаются целенаправленности, поступки
становятся бездумными, когда человек перестает регулировать свое
поведение, не в состоянии адекватно оценивать свои возможности, когда
меняется его отношение к себе и окружающему. Такое измененное отношение
является индикатором измененной личности.
Это измененное отношение приводит не только к ослаблению
работоспособности больного, к ухудшению его умственной продукции, но само
может участвовать в построении психопатологического синдрома. Так, при
исследовании больных артериосклерозом головного мозга отмечено, что
чрезмерная фиксация на своих ошибках нередко приводила больных к
преувеличенным опосредствованным действиям, которые снижали
умственную продукцию больных, и к чрезмерным коррекционным приемам,
нарушавшим их зрительно-моторную координацию. Иными словами, само
отношение больного к ситуации, к себе должно стать предметом
исследования и должно быть отражено в построении эксперимента.
Патопсихологический эксперимент является, по существу, взаимной
деятельностью, взаимным общением экспериментатора и испытуемого.
Поэтому его построение не может быть жестким. Как бы жестка ни была
инструкция, часто взгляд экспериментатора, его мимика могут изменить
ситуацию эксперимента, отношение больного, а это означает, что и его
действия могут измениться неосознаваемо для самого испытуемого. Иными
словами, качественный анализ потому и необходим, что ситуация
патопсихологического эксперимента — это отрезок реальной жизни. Именно
поэтому данные патопсихологического исследования могут быть
использованы при решении вопросов реальной конкретной жизни, вопросов,
касающихся судьбы реальных людей; это вопросы, правильное решение
которых оздоровляет и охраняет общество (например, участие в
психолого-психиатрической судебной экспертизе, воинской, трудовой).
Особое значение приобретают данные патопсихологического
эксперимента при рекомендации психокоррекционных мероприятий.
Следует остановиться еще на одной особенности
патопсихологического эксперимента. Его строение должно дать возможность обнаружить
не только структуру измененных, но и оставшихся сохранными форм
психической деятельности больного. Необходимость такого подхода важна
при решении вопросов восстановления нарушенных функций.
Еще в 1948 г. А.Р. Лурия высказал мнение, что успешность
восстановления нарушенных сложных психических функций зависит от того,
насколько восстановительная работа опирается на сохранные звенья
психической деятельности: он подчеркивал, что восстановление нарушенных
форм психической деятельности должно протекать по типу перестройки
функциональных систем. Плодотворность такого подхода была доказана
работами многих советских ученых. Исследования, направленные на
ана1076
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
лиз принципов восстановления нарушенных движений, возникших как
следствие огнестрельных ранений во время Великой Отечественной
войны, показали, что в процессе восстановительной трудовой терапии
решающая роль принадлежала мобилизации сохранных функций больного,
сохранности его установок (С.Г. Геллерштейн, A.B. Запорожец, А.Н. Леонтьев,
С.Я. Рубинштейн). К аналогичному выводу пришли и психологи, работавшие в
области восстановления речевых расстройств.
Э.С. Бейн в монографии «Афазия и пути ее преодоления» говорит о
том, что при восстановлении афазических расстройств речь идет о
включении сохранного звена, о его развитии, о постепенном «накоплении
возможности его использования» для практики дефектных функций.
Перестройка дефектной функции происходит в тесном комплексе с развитием
сохранной. Еще шире поставлена эта проблема у В.М. Когана. В своей
монографии «Восстановление речи при афазии» автор убедительно
показывает, что восстановительная работа должна базироваться на оживлении
оставшихся в сохранности знаний. С полным правом автор подчеркивает,
что при восстановительной работе (в данном случае восстановление речи)
должна быть актуализирована вся система связей, установок активности
человеческой, хотя и болезненно измененной, личности. Поэтому В.М.
Коган призывает в восстановительной работе вызвать «осознанное отношение
больного к смысловому содержанию слова в его связи с предметом».
Приведенные взгляды исследователей касаются восстановления функций, носящих,
условно говоря, узкий характер речи, праксиса.
Они могут быть с еще большим правом отнесены к восстановлению
более сложных форм психической деятельности, к восстановлению
утраченной умственной работоспособности (целенаправленность, активность
больного). В этих случаях вопрос о сохранных возможностях встает
особенно остро (например, при решении вопроса о трудоспособности
больного, о возможности продолжать учебу в вузе и т. д.).
Для того чтобы психологический эксперимент мог ответить на эти
сложнейшие вопросы, аля того чтобы он мог выявить сохранные звенья измененной
психической деятельности больного, он должен быть направлен не только на
обнаружение результативной стороны деятельности больных, не только на
анализ окончательной продукции. Построение экспериментальных приемов
должно предоставить возможность учитывать поиски решений больного.
Больше того, строение психологического эксперимента должно дать возможность
экспериментатору вмешаться в «стратегию» эксперимента, чтобы обнаружить,
как больной воспринимает «помощь » экспериментатора, может ли он ею
воспользоваться. Построение же эксперимента по типу жестко
стандартизированных тестов не дает этой возможности.
Необходимо отметить еще раз особенности, которые отличают
эксперимент в клинике от эксперимента, направленного на исследование
психи1077
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ки здорового человека, т. е. эксперимента, направленного на решение
вопросов общепсихологического порядка.
Основное отличие заключается в том, что мы не всегда можем учесть
своеобразие отношения больного к опыту, зависящее от его болезненного
состояния. Наличие бредового отношения, возбуждения или
заторможенности — все это заставляет экспериментатора иначе строить опыт, иногда
менять его на ходу.
При всех индивидуальных различиях здоровые испытуемые
стараются выполнить инструкцию, «принимают» задание, между тем как
психические больные иногда не только не стараются выполнить задание, но и
превратно толкуют опыт или активно противостоят инструкции.
Например, если при проведении ассоциативного эксперимента со здоровым
человеком экспериментатор предупреждает, что будут произнесены слова,
в которые он должен вслушаться, то здоровый испытуемый активно
направляет свое внимание на произносимые экспериментатором слова. При
проведении же этого эксперимента с негативистичным больным часто
возникает противоположный эффект: экспериментатор вынужден проводить
эксперимент как бы «обходным путем», произнося слова как бы невзначай
и регистрируя реакции больного. Нередко приходится
экспериментировать с больным, который бредовым образом интерпретирует ситуацию
опыта, например считает, что экспериментатор действует на него «гипнозом»,
«лучами ». Естественно, что такое отношение больного к эксперименту
сказывается в способах выполнения задания; он часто выполняет просьбу
экспериментатора умышленно неправильно, отсрочивает ответы и др. В
подобных случаях построение эксперимента также должно быть изменено.
Построение экспериментально-психологического исследования в
клинике отличается от обычного психологического эксперимента еще одной
особенностью: многообразием, большим количеством применяемых
методик. Объясняется это следующим. Процесс распада психики не
происходит однослойно. Практически не бывает так, чтобы у одного больного
нарушались только процессы синтеза и анализа, а у другого — страдала бы
исключительно целенаправленность личности. При выполнении любого
экспериментального задания можно в известной мере судить о различных
формах психических нарушений. Однако, несмотря на это, не каждый
методический прием позволяет с одинаковой очевидностью, четкостью и
достоверностью судить о той или иной форме или степени нарушения.
Очень часто изменение инструкции, какой-нибудь
экспериментальный нюанс меняют характер показаний эксперимента. Например, если в
опыте на запоминание и воспроизведение слов экспериментатор
подчеркивает значимость своей оценки, то результаты этого эксперимента будут
более показательны для оценки процесса его запоминания. А так как в
ситуации эксперимента с больным человеком все течение опыта по
необхо1078
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
димости часто меняется (хотя бы потому, что меняется состояние
больного), сопоставление результатов различных вариантов эксперимента
становится обязательным. Такое сопоставление необходимо еще и по другим
причинам. Выполняя то или иное задание, больной не только правильно
или ошибочно его решает; решение задания часто вызывает осознание
своего дефекта; больные стремятся найти возможность компенсировать его,
найти опорные пункты для исправления дефекта. Разные задания
предоставляют различные возможности для этого. Часто бывает так, что
больной правильно решает более трудные задания и не в состоянии решить
более легкие. Разобраться в природе такого явления возможно только при
сопоставлении результатов различных заданий.
Следует отметить, что нарушение психической деятельности
больного бывает часто нестойким. При улучшении состояния больного
некоторые особенности его мыслительной деятельности исчезают, другие —
остаются резидентными. При этом характер обнаруживаемых нарушений
может изменяться в зависимости от особенностей самого
экспериментального приема; поэтому сопоставление результатов различных вариантов
какого-нибудь метода, при этом многократно применяемого, дает право
судить о характере, качестве, динамике нарушений мышления больного.
Поэтому тот факт, что при исследовании распада психики часто
приходится не ограничиваться одним каким-нибудь методом, а применять
комплекс методических приемов, имеет свой смысл и свое обоснование.
Направленность экспериментально-психологических приемов на
раскрытие качественной характеристики психических нарушений с
особенной необходимостью выступает при исследовании аномальных детей. При
любой степени психического недоразвития или заболевания всегда
происходит дальнейшее (пусть замедленное или искаженное) развитие ребенка.
Психологический эксперимент не должен ограничиваться установлением
структуры уровня психических процессов больного ребенка; он должен
выявить прежде всего потенциальные возможности ребенка.
Как известно, это указание было впервые сделано еще в 30-х годах
Л.С. Выготским в его положении о «зоне ближайшего развития». В своей
работе «Проблема обучения и умственного развития в школьном
возрасте» Л.С. Выготский пишет, что состояние умственного развития ребенка
может быть определено по меньшей мере с помощью выяснения двух его
уровней: уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Под
«зоной ближайшего развития» Л.С. Выготский понимает те
потенциальные возможности ребенка, которые самостоятельно, под влиянием тех или
иных условий, не выявляются, но которые могут быть реализованы с
помощью взрослого.
Существенным, по мысли Л.С. Выготского, является не только то, что
ребенок может и умеет делать самостоятельно, но то, что он умеет делать
1079
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
с помощью взрослого. Умение ребенка перенести усвоенные с помощью
взрослого способы решения задачи на действия, которые он выполняет
самостоятельно, является главным индикатором его умственного развития.
Поэтому психическое развитие ребенка характеризуется не столько его
актуальным уровнем, сколько уровнем его ближайшего развития.
Решающим является «расхождение между уровнем решения задач, доступных
под руководством, при помощи взрослых, и уровнем решения задач,
доступных в самостоятельной деятельности».
Мы несколько подробно остановились на этом хорошо известном
положении A.C. Выготского потому, что оно определяет принципы
построения психологического эксперимента применительно к аномальным детям.
Измерительные исследования, принятые в зарубежной психологии, могут
выявить в лучшем случае лишь «актуальный » (в терминологии A.C.
Выготского) уровень психического развития ребенка и то лишь в его
количественном выражении. Потенциальные же возможности ребенка остаются
невыясненными. А ведь без такого «прогнозирования» дальнейшего развития
ребенка многие теоретические и практические задачи, например задача
отбора в специальные школы обучения, не могут быть, по существу, решены.
Экспериментальные психологические исследования, применяемые в
области детской психоневрологии, должны проводиться с учетом этих
положений A.C. Выготского.
Таким путем идут исследования, проводимые А.Я. Ивановой. Автор
строит свои экспериментально-психологические исследования по типу
обучающего эксперимента. А.Я. Иванова предлагала детям задания,
которые им не были до того известны. В процессе выполнения детьми этих
заданий экспериментатор оказывал им разные виды помощи, которые строго
регулируются. То, как испытуемый принимает эту помощь, количество
«подсказок», учитывается. Такой вид помощи входит в структуру
эксперимента.
Для осуществления «регламентированной помощи» А.Я. Иванова
внесла видоизменения в некоторые общепринятые методики
патопсихологического исследования: предметную классификацию, методику Кооса,
классификацию геометрических фигур, серию последовательных картин. Автор
подробно регламентирует и фиксирует этапы помощи. Учитывается их
количественная градация и их качественная характеристика. Применение
«обучающего эксперимента» дало А.Я. Ивановой возможность
разграничить разные формы аномального психического развития. Метод
обучающего эксперимента был также использован Н.И. Непомнящей,
исследовавшей формирование счета умственно отсталых детей. Исходя из
теоретических положений П.Я. Гальперина о поэтапном формировании
умственных действий, Н.И. Непомнящей было показано, что у умственно
отсталых детей обнаруживаются трудности процесса сокращения
первона1080
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
чально развернутого действия. Его приходилось специально и длительно
отрабатывать. Если же путем специального обучения и «отработки»
удавалось добиться механизма сокращения, то можно было в известных
пределах преодолеть дефект этих детей.
Система дозированных подсказок была использована Р.Г. Натадзе при
формировании искусственных понятий у здоровых детей. С помощью
детально разработанной методики Р.Г. Натадзе обнаружил разные уровни развития
детей. Таким образом, обучающий эксперимент, в основе которого лежит
положение Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития », вскрывающий
потенциальные возможности ребенка, может явиться орудием при
исследовании структуры и степени снижения психики аномального ребенка и при
решении практической задачи — отбора детей в специальные школы.
В настоящее время в патопсихологии детского возраста
разрабатываются методы коррекции патологических явлений. Нахождение этих
коррекционных путей требует не только знаний возрастных особенностей
ребенка и анализа их отклонений, но и осуществления, по выражению
Д.Б. Эльконина, «контроля за ходом психического развития детей». В
качестве одного из таких коррекционных методов выступает игровая
деятельность. Исходя из того, что игра «ведет за собой развитие» (Л.С.
Выготский), в детской патопсихологии делается попытка нахождения
адекватных, приемов для коррекции искаженной игры (В.В. Лебединский,
A.C. Спиваковская, О.Л. Раменская). Эти коррекционные приемы служат
одновременно для диагностических целей.
Следует учесть еще одну особенность патопсихологического
исследования. Выполнение экспериментальных заданий имеет для разных
больных различный смысл. Еще в школе К. Левина указывалось на то, что у
одних испытуемых экспериментальные задания вызывают познавательный
мотив, другие испытуемые выполняют задачи из любезности к
экспериментатору (так называемые «деловые испытуемые»), третьи —
увлекаются процессами решения («наивные испытуемые») Отношение к
эксперименту зависит от отношения больного к факту стационирования, от
отношения к самому экспериментатору.
Также следует учесть, что патопсихологическое, да и любое
исследование в условиях психоневрологического учреждения неминуемо
означает для больного ситуацию некой «экспертизы». Поэтому патопсихологу
приходится в своем заключении оперировать системой понятий,
характеризующих личность больного в целом (его мотивы, целенаправленность,
самооценка и др.). Однако это не исключает отказа от характеристики
отдельных процессов. Но эта характеристика углубляется анализом общего
состояния больного. Резюмируя, можно сказать, что
патопсихологический эксперимент направлен не только на анализ отдельных симптомов, но
и на выявление психологических синдромов.
1081
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Важен также вопрос интерпретации полученных данных, в основе
которой лежит та или иная теоретическая концепция. Например, у больного
обнаруживается плохая память: это можно интерпретировать как
результат познавательных нарушений вследствие сосудистых заболеваний, но это
может быть и проявлением снижения мотивационной активности, как это
имеет место у больных шизофренией. Интерпретация же проводится на
основании системного анализа.
Важно, не сколько раз больной ошибался, а как он отнесся к оценке
экспериментатора, критически ли он оценил поправку, поощрение или
порицание экспериментатора. Поэтому нередко анализ ошибок оказывается
продуктивным для интерпретации состояния больного.
Патопсихологов часто упрекают в том, что их методики не
стандартизированы, что они субъективны. В связи с этим хочется вспомнить слова
A.C. Выготского о том, что чрезмерная боязнь так называемых
субъективных моментов в толковании (а у Выготского речь шла о нарушении психики
у детей) и попытки получить результаты исследований чисто
механическим, арифметическим путем, как это имеет место в системе Бине,
являются ложными. Без субъективной обработки, т. е. без мышления, без
интерпретации, расшифровки результатов, обсуждения данных, нет
научного исследования.
Сказанное не должно быть понято как отрицание статистической
выверенности результатов эксперимента. Для многих вопросов прикладной,
психологии это необходимо. Речь идет о том, что при решении таких
практических задач клиники, как трудовая или судебная экспертиза или учеба
ребенка с аномальным развитием, патопсихологический эксперимент
носит характер исследования, т. е. того, как выполнил экспериментальную
работу сидящий перед психологом конкретный человек, с какой степенью
усилий, с какой степенью регуляции, с каким отношением подходил
именно этот больной к заданию. На это указывает и Б.Ф. Ломов, считая, что
сопоставлений «объективных отчетов испытуемых» с объективными
данными эксперимента при соответствующей проверке может раскрыть для
опытного экспериментатора очень многое и в конце концов служит
главной задаче — познанию объективных закономерностей психики.
Патопсихологическое исследование обладает еще одной
особенностью. Предъявленный испытуемому реальный отрезок деятельности,
реплики экспериментатора вызывают столь же реальное переживание,
определенное эмоциональное состояние испытуемого. Иными словами,
патопсихологическое исследование обнажает реальный пласт жизни
больного.
Поэтому программа исследования больного в психиатрической
практике не может быть принципиально единообразной, стандартной, она
зависит от клинической задачи (научной или практической). Например, при
1082
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
необходимости дифференциально-диагностического отграничения
шизофрении от шизофреноподобных картин при органических заболеваниях ЦНС
основное внимание будет уделено выявлению особенностей расстройств
мышления (методом «классификациипредметов»,
«пиктограммы^сравнения понятий), с одной стороны, а также характеристике работоспособности
(пробы «на совмещение», «отыскивание чисел» и др.) — с другой.
Совсем другие методы являются адекватными при отграничении
сосудистой деменции от деменции при болезнях Пика, Альцгеймера, т. е.
атрофических процессов. В этих случаях применяются пробы, выявляющие
нарушения навыков письма, счета, праксиса, нейропсихологические
методики.
§ 2. Беседа патопсихолога с больным и наблюдение за его поведением
во время исследования
Выше мы говорили о том, что патопсихологическое исследование
включает и беседу с больным, которую часто называют «направленной»,
«клинической». Проще ее назвать «беседа с испытуемым», в данном случае с
больным испытуемым.
Беседа состоит из двух частей. Первая часть — это беседа, в узком
смысле этого слова. Экспериментатор разговаривает с больным, не
проводя еще никакого эксперимента. Беседа может осуществляться до или
после экспериментальной работы с больным.
Вторая часть беседы — это беседа во время эксперимента, потому
что эксперимент — это всегда общение с больным. Общение может быть
вербальное, т. е. экспериментатор что-то говорит ему, указывает,
подсказывает, хвалит или, наоборот, порицает. Но эта «беседа » может быть и не в
вербальном плане, но своей мимикой экспериментатор показывает
больному, хорошо или плохо он делает; как и в реальной жизни, можно пожать
плечами, поднять брови, можно удивленно посмотреть, улыбнуться,
нахмуриться, т. е. в зависимости от обстоятельств (это тоже вид общения).
Остановимся на тех вопросах, которые касаются беседы в более
узком плане. Прежде всего беседа не может быть проведена «вообще». Она
всегда зависит от поставленной задачи. Задача ставится большей частью
самим лечащим врачом. Врач просит посмотреть экспериментально
такого-то больного, ему неясен диагноз. Или, наоборот, больной находится в
стационаре для прохождения экспертизы: трудовой, воинской, судебной.
Или врач хочет знать, каково влияние психофармакологических средств,
которые принимает данный больной. В этих случаях врач ставит перед
психологом определенную практическую задачу. Соответственно этой задаче
проводится эксперимент, т. е. психолог выбирает стратегию своих действий
и беседы в зависимости от задачи, которую перед ним поставили. Это
пер1083
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
вое. Но нередко бывают случаи, когда врач (если это неопытный врач) не
всегда ставит перед психологом задачу. Порой бывает так, врач просит
патопсихолога посмотреть именно этого, «очень сложного больного
пациента». Задача не поставлена, и психологу следует хорошо изучить историю
болезни. Если внимательно прочесть историю болезни человека, то
психолог может понять, какая перед ним стоит задача. Но для этого надо иметь
знания в области клиники. Поэтому студентам, которые проходят
специализацию на кафедре нейро- и патопсихологии, читают курс лекций:
введение в психиатрию, введение в неврологию, введение в клиническую
психотерапию — это обязательные курсы со сдачей экзаменов или зачетов.
Прочтя историю болезни, узнав, кто перед ним сидит, психолог
решает, «для чего он будет проводить эксперимент», проводить «узкую
беседу». Следует подчеркнуть, что прежде всего она не должна повторять
вопросы врача, т. е. не следует задавать такие вопросы, которые задавал врач
и которые отражены в истории болезни. Психолог не должен собирать
анамнез, который должен быть в истории болезни. Если же в истории
болезни этого нет, то следует обратиться к лечащему врачу и, вероятно,
вместе с ним собрать анамнез.
Конкретно говоря, не следует начинать свою беседу с больным с
вопросов: есть ли у него бред, есть ли галлюцинации? Этого не надо делать.
Если во время беседы он сам заговорит об этом, то тогда следует об этом с
ним поговорить.
Необходимо очень тонко подойти к вопросу о его состоянии. Если
больной депрессивный и вы прочли об этом в истории болезни, тоже не
следует начинать разговор о его депрессии, а можно как бы «окольным»
путем спросить, как он себя сегодня чувствует? Не трудно ли будет ему
сегодня поработать, потому что вы хотите проверить его память.
И если больной или больная отвечает «мне всегда плохо, мне не до
того, мне не хочется этого делать, мне вообще ничего не хочется», тогда
можно продолжить как бы ее мысль: «А что, вы всегда ничего не делаете?
А как вы проводите время? Что вы делаете? » И тогда больной начнет
говорить. Не следует спрашивать его о том, когда у него худшее настроение:
утром или вечером? Это обязан спрашивать врач. Психолог должен это
делать не прямо, а как бы «окольным» путем. Но самое главное надо знать
и всегда помнить, для чего послан к вам данный больной-испытуемый. Это
касается не только больного человека, это касается и бесед, которые
психолог проводит с нормальным, здоровым человеком для исследования,
например, логических способностей.
Далее, всегда в своей беседе следует учитывать отношение больного к
ситуации эксперимента, к вам как экспериментатору. Необходимо знать
преморбидные особенности больного, т. е. те особенности, которые были
свойственны данному человеку до его заболевания. Сведения об этом
пси1084
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
холог должен находить в истории болезни, а не спрашивать у больного,
каким он был до болезни. Другое дело, когда перед нами стоит
какая-нибудь научная задача и мы сами должны в рамках научной проблематики
беседовать с его родителями, сослуживцами, тогда это возможно, но это
уже другой вопрос, сейчас речь идет о беседе в условиях практической
работы патопсихологов.
Отношение к экспериментатору. Бывает часто так, что
экспериментатор — молодой человек, молодая девушка, а перед ним сидит уже
пожилой человек. Он даже не хочет с вами разговаривать. Не следует никогда на
это обижаться, если больной не желает со «всякими мальчишками и
девчонками» разговаривать. Нужно действовать методом убеждения: «У вас
(т. е. у больного) действительно больше жизненный опыт в других
областях. Вы, конечно, знаете больше меня, но здесь речь идет об исследовании,
которое просил сделать врач, а если это будет не в медицинском
учреждении, вы можете сказать, что просил сделать инженер, учитель, и в этом я
немного понимаю. Кроме того, я всегда консультируюсь со старшими
товарищами», — т. е. вы должны попытаться как-то заслужить его доверие.
Очень важно, как больной относится к эксперименту. Ведь дело в том, что
до того, как вы провели эксперимент, он знает, что вы будете показывать
(по его мнению, это какие-то «игрушки»), что он будет рисовать, отвечать
на какие-то вопросы (ему ведь другие больные рассказывали, так как это
очень быстро распространяется). И он может очень пренебрежительно
относиться: «Знаем мы ваши игрушечки. Это ведь ничего не дает». И тогда вы
должны тоже уметь убедить, что это только выглядит как игрушечки, что
это задачи, которые требуют умственного напряжения, которые требуют
творческого мышления, т. е. следует уметь доказать, что все эти
«игрушечки », которые ему показывают, все эти картинки типа «классификации
предметов» или тематические перцептивные тесты, тесты Роршаха (которые ему
кажутся игрушками) требуют большого умения. Ведь больной иногда
действительно приходит настроенный антагонистично, а иногда, наоборот,
с желанием проверить свои возможности. Очень часто бывает так, что
больные только во время эксперимента впервые узнают о недостатках своей
памяти, своего мышления. Часто они вполне серьезно работают вместе с
экспериментатором, и во время беседы это чувствуется. В большинстве
случаев больной понимает, что тот эксперимент, который будет
проводиться, имеет отношение к постановке диагноза, к уточнению выписки, к смене
лекарств. Иногда больной понимает, а если нет, то можно ему сказать, что,
действительно, то, что мы с вами будем делать, — серьезное дело.
Особенно трудно приходится преподавателю, когда показывают больного,
например, на спецпрактикуме. Перед больным и аудитория, где сидят 10-15
молодых людей. И он начинает возмущаться: «Я не подопытный кролик».
И тогда, если это не слабоумный больной, надо погасить его возмущение,
1085
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
по возможности оперировать к его пониманию: «Да это, действительно,
молодые врачи или студенты, молодые врачи-ординаторы, среди них есть и
студенты. Но вы же культурный, человек, вы понимаете, что необходимо
обучать их. А как же мы можем их обучать, если не будем показывать
больных. Любой врач начинает с того, что он обучается работе с больным».
Следует абсолютно серьезно, с полным уважением относиться к личности, хотя
перед нами может сидеть психически глубоко больной человек. Особенно
это касается невротиков. Больные неврозом — это очень чувствительные
люди. Они заняты своими переживаниями, им нет дела до учебы
студентов, до спецпрактикумов, спецкурсов. Только корректное и абсолютно
серьезное отношение к больному-испытуемому гарантирует достижение
успеха в беседе.
Нужно объяснить больному, что это один из частных моментов его
жизни, что ему это не повредит, т. е. всеми способами нужно уметь в
беседе показать, что то, о чем вы будете говорить, будет иметь значение для
него самого в дальнейшем. Это очень важно.
Кроме того, есть еще одна особенность. Иногда больной приходит в
плохом настроении, очень хмурый, недовольный. Нужно спросить его: «Как
вы себя сегодня чувствуете? Что-то вы бледны немного, не болит ли у вас
голова? » И тогда он, может, расскажет о своем состоянии: «Дело не в том,
что болит голова, а в том, что у него плохое настроение ». И тогда
необходимо продолжить, «завязать» разговор. Такая беседа очень важна для
анализа самооценки больного, для его самоконтроля, для понимания его
критичности.
Например, скажем, вы прочли в истории болезни, что данный больной
занимал в прошлом высокое положение, руководил другими людьми или
это заведующий каким-нибудь отделением, больницей, производственник
или актер, а сейчас он общается в больнице только со слабоумными
алкоголиками, другими слабоумными больными. И тогда не следует его
спрашивать:
«Почему вы общаетесь с этими алкоголиками?» А следует спросить
совсем иначе: «Вас не тяготит отделение в больнице? Как вы себя чувствуете в
отделении? Много ли людей в вашей палате? Они вас не беспокоят? » И очень
интересно, что он ответит. Иногда больной отвечает: «Нет, что вы. Наоборот,
вот здесь-то я и нашел своих лучших друзей (и называет вам имена
слабоумных алкоголиков)». И вы не удивляетесь. «Ну, а почему вам именно с ними
интересно общаться? »Ив зависимости от его ответа, должен быть поставлен
и ваш вопрос (иногда вы рискуете получить реплику с его стороны). Далее вы
можете спросить у него: «Скажите, пожалуйста, вот больной Н. (назовите
фамилию определенного больного), не правда ли, он очень интересный
человек? Вы с ним никогда не разговаривали? » И вы увидите, что он ответит. Тут
явно выступит его критичность к больным по палате.
1086
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
У больного надо спросить, читает ли он, что читает, приносят ли ему из
дому книги, какие. Далее продолжить разговор о том, почему он любит
такого-то автора? И если человек культурный, можно завязать с ним
разговор о театре. И вы увидите, снижено ли стало его представление. Или,
наоборот, в своей профессиональной жизни он остался на высоте, хотя в
отделении он общался только с больными-алкоголиками и сам болен
хроническим алкоголизмом.
Иногда бывает так, что из истории болезни видна очень непонятная
картина. Приведу пример одного больного. Этот больной был
высококультурным человеком с гуманитарным образованием, с ним можно было
прекрасно поговорить об искусстве, литературе. Но этот же больной мог в
присутствии сестры употреблять нецензурные слова. Почему это
происходило? И тогда беседа с больным навела на мысль о том, что диагноз
поставлен неправильно. Думали, что это прогрессивный паралитик, так как
нарушены критичность и самоконтроль. А вот беседа психолога навела
врача на мысль о том, что здесь не прогрессивный паралитик, а налицо
шизофрения, как и подтвердилось впоследствии (об этом свидетельствовали данные
исследования его познавательной деятельности). Результаты эксперимента
выявили и чрезвычайную скудность его эмоций, обеднение
смыслообразующих мотивов.
Таким образом, и беседа и эксперимент должны содержать в себе
элементы психокоррекции, например, если больной плохо решает задачи (эта
беседа должна проходить в конце эксперимента), то нужно с ним,
побеседовать и сказать, что он сделал такие-то ошибки, но, в общем, их было не
очень много; или больной плохо решал задачу или совсем не решил, надо
сделать вид, что будто он довел ее до конца, но только использовал вашу
подсказку, и это естественно. Так бывает и у здоровых людей. Вы можете
назвать ему какие-нибудь цифры, что столько-то процентов здоровых
людей не решает сразу, а решает после третьего-пятого захода. Элементы
психотерапевтических приемов всегда должны присутствовать. Но это не
сеанс истинной психотерапии, где существуют особые приемы, и это не
должно превратиться в соболезнование. Больного следует одобрить,
сказать, что «вы очень оригинально решили вот эту задачу, я даже удивляюсь.
Многие решали у меня и даже скорей, чем вы, но такие оригинальные
решения я видела редко ». Если перед вами сидит депрессивный больной, который
разочаровался в себе, у которого снижено самоуважение, самооценка, то
следует провести беседу после эксперимента. Вот этот психотерапевтический
нюанс беседы должен особенно четко выступить в беседе с больными
тяжелыми соматическими заболеваниями, скажем раковыми,
сердечнососудистыми. Когда больная узнает, что у нее тяжелое, грозящее ее жизни
заболевание, скажем, рак груди, то у нее существует только один мотив,
одна цель — выжить. Но вот больной сделали операцию, она выжила. Ей
1087
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
сказали, что у нее не было злокачественной опухоли, но все-таки ее
поставили на учет. Страх перед смертью у нее прошел, встала другая проблема:
а как отнесется муж к тому, что она изменилась физически, стала другой?
Беседы с такими больными должны носить психокоррекционный
компонент, но не «в лоб». Когда лучше проводить беседу: в начале или в конце
операции? Нет рецептов. С соматическими больными легче говорить после
операции. А вот с психическими больными и до и после лечения. Если
больной прислан с задачей:-помочь врачу установить диагноз, тогда лучше
проводить ее до эксперимента, если больной прислан с целью экспертизы, то
надо проводить до и после, потому что очень часто этот момент экспертизы
ослабляется во время эксперимента, и вы можете потом в беседе это учесть.
Бывает, что больной стремится получить инвалидность и немного
усиливает свое состояние. Что-то не решив, он говорит: «Вот видите, видите,
я все-таки не решил, я все-таки не смог этого сделать». Вы молчите, вы не
говорите, что это плохо, но, как бы невзначай, предлагаете ему очень
интересную задачку, и он вдруг увлекается и прекрасно решает ее. Тогда в
самом конце эксперимента вы проводите беседу и говорите: «Вот видите, вам
действительно трудно, это правильно, у вас снижена память, но это не так
плохо. Смотрите, сложную задачу, которую большинство людей плохо
решает, вы решили прекрасно, значит, все не так плохо. Вероятно, надо
собраться, немножко полечиться. Врачи вам помогут своим лечением ». Эта
беседа, носит в данном случае тоже не психотерапевтический, а
коррекционный характер, изменяет установку больного.
Самое главное в этой беседе — это умение показать больному, что дело
не только во враче и не только в лекарствах, но, и в нем самом, что он сам,
своим поведением, своим отношением, выполнением того, что от него
требуется, помогает лечению.
Вторая часть беседы — это, как уже отмечалось, беседа во время
эксперимента или общение с больным во время эксперимента.
Эксперимент всегда является некоторой «экспертизой», и не только
для больного человека. Если здоровый человек участвует в качестве
испытуемого в ситуации, где исследуется восприятие, скорость реакции, нюанс
«экспертизы» существует. У человека возникает вопрос: «А справился я с
заданием или не справился?» Здоровый человек тоже не знает, что в конце
концов хочет экспериментатор. Он не рассказал о своей теме, значит,
испытуемому все-таки интересно знать, справился он с задачей или не
справился? Этот момент очень важно учесть. Экспериментатор всегда беседует
с больным, если, например, решается задача Выготского-Сахарова или
Дункера. Он открыл неправильно фигурку. Вы ему говорите: «Нет, это не
совсем так. Сравните вот эту с этим». И вы должны уметь это записать в
протоколе; это касается и здорового человека, что он ответил на ваше
замечание, на подсказку. Бывает, что испытуемый не обращает внимания на
1088
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
то, что вы ему говорите, и идет «собственным ходом». Тогда нужно его
остановить: «Видите, я вам, показал, почему вы не посмотрели на то, что я
вам показал? Ведь я не зря это сказал. Ведь это очень интересно». И тут
очень важен ответ больного, один скажет: «Простите, я был
невнимательным», — а другой: «А я хочу по-своему решать». Но бывают больные с
большим самомнением, которые хотят «показать себя». Если
экспериментатор подсказывает, испытуемый должен вслушиваться в то, что ему
говорят. Это тоже есть момент исследования, момент общения с больным,
Иногда наблюдаются психопаты, которые очень бурно реагируют на
предлагаемые игрушки: «что вы мне за кубики даете», «это все ерунда», «разве
это может что-нибудь показать?» Здесь необходимо убедить больного в
обратном. Если вы хотите погасить самоуверенность больного, можно
только пожать плечами, удивленно поднять брови и т. д., посмотреть как он
отреагирует. Один поймет, что его решение неправильно, другой обидится
на вас. Были такие случаи, когда психопат в ответ на ваше «не
психотерапевтическое» поведение бросает эти кубики: «а, ну их, ваши игрушки, не
хочу ими заниматься ». Бывает и так. Поведение экспериментатора зависит
от поведения испытуемого и от того, что необходимо узнать относительно
этого испытуемого. Поэтому, иногда больного надо подбадривать, иногда
давать легкую задачу и, когда он ее решит, обязательно похвалить его. Если
этот человек самокритичный, он скажет, что это «ерунда, ребенок 10 лет
также может решить, ничего удивительного в том, что я решил». А другой
больной ведет себя иначе, при похвале он говорит, что «тут нет ничего
особенного», хотя ему было сказано, что это очень трудная задача.
Реакция больного на подсказки экспериментатора, на его мимику —
все должно быть отражено в протоколе, поскольку эти данные
сопоставляются, если речь идет о больном человеке, с теми данными, которые есть
в истории болезни, и с данными, которые получены с помощью
эксперимента. И это очень важно.
35 Российская психология
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
А.Н. ЛЕОНТЬЕВ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Леонтьев Алексей Николаевич (1903-1979) —
психолог, философ, педагог, крупный, организатор
психологической науки: по его инициативе и при
активном участии в Московском университете был
открыт факультет психологии (1966 г.), первым
деканом которого он был до своей кончины. В 50-е гг. был
академиком-секретарем и вице-президентом АПН
РСФСР. Создатель научной школы психологии
деятельности, идейно восходящей к
культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, в сотрудничестве
с которым начинался научный путь Леонтьева. С
начала 30-х годов, опираясь на методологию Маркса,
разрабатывает категорию деятельности, которая стала фундаментом
собственной концепции. Разные ее аспекты получили отражение в многочисленных
трудах Леонтьева: «Проблемы развития психики» (1959), итоговая монография
«Деятельность. Сознание. Личность» (1975), статьи. Опубликованный в 1994 г.
сборник работ из научного архива Леонтьева «Философия психологии »
существенно дополняет материалы теоретических и методологических
исследований, содержащихся в опубликованных трудах А.Н. Леонтьева.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЗНАНИЕ1
1. Генезис сознания
Деятельность субъекта — внешняя и внутренняя —
опосредствуется и регулируется психическим отражением реальности. То, что в
предметном мире выступает для субъекта как мотивы, цели и условия его
деятельности, должно быть им так или иначе воспринято, представлено,
понято, удержано и воспроизведено в его памяти; это же относится к
процессам его деятельности и к самому себе — к его состояниям, свойствам,
особенностям. Таким образом, анализ деятельности приводит нас к
традиционным темам психологии. Однако теперь логика исследования
оборачивается: проблема проявления психических процессов превращается
в проблему их происхождения, их порождения теми общественными
связями, в которые вступает человек в предметном мире.
1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 124-158.
1090
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Психическая реальность, которая непосредственно открывается нам, —
это субъективный мир сознания. Потребовались века, чтобы освободиться
от отождествления психического и сознательного. Удивительно то
многообразие путей, которые вели к их различению в философии, психологии,
физиологии: достаточно назвать имена Лейбница, Фехнера, Фрейда,
Сеченова и Павлова.
Решающий шаг состоял в утверждении идеи о разных уровнях
психического отражения. С исторической, генетической точки зрения это
означало признание существования досознательной психики животных и
появления у человека качественно новой ее формы — сознания. Так
возникли новые вопросы: о той объективной необходимости, которой
отвечает возникающее сознание, о том, что его порождает, о его внутренней
структуре.
Сознание в своей непосредственности есть открывающаяся субъекту
картина мира, в которую включен и он сам, его действия и состояния.
Перед неискушенным человеком наличие у него этой субъективной картины
не ставит, разумеется, никаких теоретических проблем: перед ним мир,
а не мир и картина мира. В этом стихийном реализме заключается
настоящая, хотя и наивная, правда. Другое дело — отождествление психического
отражения и сознания, это не более чем иллюзия нашей интроспекции.
Она возникает из кажущейся неограниченной широты сознания.
Спрашивая себя, сознаем ли мы то или иное явление, мы ставим перед собой
задачу на осознание и, конечно, практически мгновенно решаем ее.
Понадобилось изобрести тахистоскопическую методику, чтобы
экспериментально разделить «поле восприятия» и «полесознания».
С другой стороны, хорошо известные и легко воспроизводимые в
лабораторных условиях факты говорят о том, что человек способен
осуществлять сложные приспособительные процессы, управляемые предметами
обстановки, вовсе не отдавая себе отчета в наличии их образа; он обходит
препятствия и даже манипулирует вещами, как бы «не видя» их.
Другое дело, если нужно сделать или изменить вещь по образцу
или изобразить некоторое предметное содержание. Когда я выгибаю из
проволоки или рисую, скажем, пятиугольник, то я необходимо
сопоставляю имеющееся у меня представление с предметными условиями,
с этапами его реализации в продукте, внутренне примериваю одно к
другому. Такие сопоставления требуют, чтобы мое представление
выступило для меня как бы в одной плоскости с предметным миром, не
сливаясь, однако, с ним. Особенно ясно это в задачах, для решения которых
нужно предварительно осуществить «в уме» взаимные
пространственные смещения образов объектов, соотносимых между собой; такова,
например, задача, требующая мысленного поворачивания фигуры,
вписываемой в другую фигуру.
35* 1091
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Исторически необходимость такого «предстояния»
(презентированности) психического образа субъекту возникает лишь при переходе от
приспособительной деятельности животных к специфической для человека
производственной, трудовой деятельности. Продукт, к которому теперь
стремится деятельность, актуально еще не существует. Поэтому он может
регулировать деятельность лишь в том случае, если он представлен для
субъекта в такой форме, которая позволяет сопоставить его с исходным
материалом (предметом труда) и его промежуточными
преобразованиями. Более того, психический образ продукта как цели должен
существовать для субъекта так, чтобы он мог действовать с этим образом —
видоизменять его в соответствии с наличными условиями. Такие образы и суть
сознательные образы, сознательные представления — словом, суть
явления сознания.
Сама но себе необходимость возникновения у человека явлений
сознания, разумеется, еще ничего не говорит о процессе их порождения. Она,
однако, ясно ставит задачу исследования этого процесса, задачу, которая в
прежней психологии вообще не возникала. Дело в том, что в рамках
традиционной диодической схемы объект —» субъект феномен сознания у
субъекта принимался без всяких объяснений, если не считать
истолкований, допускающих существование под крышкой нашего черепа некоего
наблюдателя, созерцающего картины, которые ткут в мозге нервные
физиологические процессы.
Впервые метод научного анализа порождения и функционирования
человеческого сознания — общественного и индивидуального — был
открыт Марксом. В результате, как это подчеркивает один из современных
авторов, предмет исследования сознания переместился от субъективного
индивида на социальные системы деятельности, так что «метод
внутреннего наблюдения и понимающей интроспекции, долгое время монопольно
владевший исследованиями сознания, затрещал по швам»1. На немногих
страницах невозможно, разумеется, охватить сколько-нибудь полно даже
только главные вопросы марксистской теории сознания. Не претендуя на
это, я ограничусь лишь некоторыми положениями, которые указывают пути
решения проблемы деятельности и сознания в психологии.
Очевидно, что объяснение природы сознания лежит в тех же
особенностях человеческой деятельности, которые создают его необходимость:
в ее объективно-предметном, продуктивном характере.
Трудовая деятельность запечатлевается в своем продукте. Происходит,
говоря словами Маркса, переход деятельности в покоящееся свойство.
Переход этот представляет собой процесс вещественного воплощения
предМамардагивили М.К. Анализ сознания в работах Маркса// Вопросы философии
1968. №6. С. 14.
1092
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
метного содержания деятельности, которое презентируется теперь
субъекту, т. е. предстает перед ним в форме образа воспринимаемого предмета.
Иначе говоря, в самом первом приближении порождение сознания
рисуется так: представление, управляющее деятельностью, воплощаясь в
предмете, получает свое второе, «объективированное» существование,
доступное чувственному восприятию; в результате субъект как бы видит
свое представление во внешнем мире; дублицируясь, оно осознается.
Схема эта является, однако, несостоятельной. Она возвращает нас к прежней
субъективно-эмпирической, по сути, идеалистической, точке зрения,
которая как раз и выделяет прежде всего то обстоятельство, что указанный
переход имеет в качестве своей необходимой предпосылки сознание —
наличие у субъекта представлений, намерений, мысленных планов, схем или
«моделей »; что эти психические явления и объективируются в деятельности
и ее продуктах. Что же касается самой деятельности субъекта, то,
управляемая сознанием, она выполняет по отношению к его содержанию лишь
передаточную функцию и функцию их «подкрепления-неподкрепления».
Однако главное состоит вовсе не в том, чтобы указать на активную,
управляющую роль сознания. Главная проблема заключается в том, чтобы
понять сознание как субъективный продукт, как преобразованную форму
проявления тех общественных по своей природе отношений, которые
осуществляются деятельностью человека в предметном мире.
Деятельность является отнюдь не просто выразителем и
переносчиком психического образа, который объективируется в ее продукте. В
продукте запечатлевается не образ, а именно деятельность, то предметное
содержание, которое она объективно несет в себе.
Переходы субъект —» деятельность —> предмет образуют как бы
круговое движение, поэтому может казаться безразличным, какое из
его звеньев или моментов взять в качестве исходного. Однако это вовсе
не движение в заколдованном круге. Круг этот размыкается, и
размыкается именно в самой чувственно-практической деятельности.
Вступая в прямое соприкосновение с предметной действительностью и
подчиняясь ей, деятельность видоизменяется, обогащается, в этой своей
обогащенности она кристаллизируется в продукте. Осуществленная
деятельность богаче, истиннее, чем предваряющее ее сознание. При этом
для сознания субъекта вклады, которые вносятся его деятельностью,
остаются скрытыми; отсюда и происходит, что сознание может
казаться основой деятельности.
Выразим это иначе. Отражение продуктов предметной деятельности,
реализующей связи, отношения общественных индивидов выступают для
них как явления их сознания. Однако в действительности за этими
явлениями лежат упомянутые объективные связи и отношения, хотя и не в явной,
а в снятой, скрытой от субъекта форме. Вместе с тем явления сознания
1093
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
составляют реальный момент в движении деятельности. В этом и
заключается их не «эпифеноменальность», их существенность. Как верно
отмечает В.П. Кузьмин, сознательный образ выступает в функции идеальной меры,
которая овеществляется в деятельности1.
Подход к сознанию, о котором идет речь, в корне меняет постановку
важнейшей для психологии проблемы — проблемы соотношения
субъективного образа и внешнего предмета. Он уничтожает ту мистификацию этой
проблемы, которую создает в психологии многократно упомянутый мною
постулат непосредственности. Ведь если исходить из допущения, что
внешние воздействия непосредственно вызывают в нас, в нашем мозге,
субъективный образ, то тотчас встает вопрос, как же происходит, что образ этот
выступает как существующий вне нас, вне нашей субъективности — в
координатах внешнего мира.
В рамках постулата непосредственности ответить на этот вопрос
можно, только допустив процесс вторичного, так сказать, проецирования
психического образа вовне. Теоретическая несостоятельность такого
допущения очевидна2; к тому же оно находится в явном противоречии с фактами,
которые свидетельствуют о том, что психический образ с самого начала
уже «отнесен » к внешней по отношению к мозгу субъекта реальности и что
он не проецируется во внешний мир, а, скорее, вычерпывается из него3.
Конечно, когда я говорю о «вычерпывании », то это не более чем метафора.
Она, однако, выражает реальный, доступный научному исследованию
процесс — процесс присвоения субъектом предметного мира в его идеальной
форме, в форме сознательного отражения.
Этот процесс первоначально возникает в той же системе объективных
отношений, в которой происходит переход предметного содержания
деятельности в ее продукт. Но для того чтобы процесс этот реализовался,
недостаточно, чтобы продукт деятельности, впитавший ее в себя, предстал перед
субъектом своими вещественными свойствами; должна произойти такая его
трансформация, в результате которой он мог бы выступить как познаваемый
субъектом, т. е. идеально. Трансформация эта происходит посредством
функционирования языка, являющегося продуктом и средством общения между
собой участников производства. Язык несет в своих значениях (понятиях) то
или другое предметное содержание, но содержание, полностью
освобожденСм. История марксистской диалектики. М., 1971. С. 181-184.
Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 34; В.А. Лекторский. Проблема
субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии. М.,
1965; Бругилинский A.B. О некоторых методах моделирования в психологии.
В сборнике Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1969.
С. 148-254.
См. Леонтьев А.Н. Образ и модель// Вопросы психологии. 1970. № 2.
1094
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ное от своей вещественности. Так, пища является, конечно, вещественным
предметом, значение же слова «пища » не содержит в себе ни грамма пищевого
вещества. При этом и сам язык тоже имеет свое вещественное существование,
свою материю; однако язык, взятый по отношению к означаемой реальности,
является лишь формой ее бытия, как и те вещественные мозговые процессы
индивидов, которые реализуют ее осознание1.
Итак, индивидуальное сознание как специфически человеческая
форма субъективного отражения объективной реальности может быть понято
только как продукт тех отношений и опосредствовании, которые
возникают в ходе становления и развития общества. Вне системы этих отношений
(и вне общественного сознания) существование индивидуальной психики в
форме сознательного отражения, сознательных образов невозможно.
Для психологии ясное понимание этого тем более важно, что она до
сих пор окончательно не отрешилась в объяснении явлений сознания от
наивного антропологизма. Даже деятельностный подход в
психологическом изучении явлений сознания позволяет понять их лишь при том
непременном условии, что сама деятельность человека рассматривается как процесс,
включенный в систему отношений, осуществляющий его общественное
бытие, которое есть способ его существования также и в качестве природного,
телесного существа.
Конечно, указанные условия и отношения, порождающие
человеческое сознание, характеризуют его лишь на самых ранних этапах.
Впоследствии в связи с развитием материального производства и общения,
выделением, а потом и обособлением духовного производства и происходящей
технизации языка сознание людей освобождается от прямой связи с их
непосредственно-практической трудовой деятельностью. Круг
сознаваемого все более расширяется, так что сознание становится у человека
универсальной, хотя и не единственной, формой психического отражения. Оно
претерпевает при этом ряд радикальных изменений.
Первоначальное сознание существует лишь в форме психического
образа, открывающего субъекту окружающий его мир, деятельность же
попрежнему остается практической, внешней. На более позднем этапе
предметом сознания становится также и деятельность: осознаются действия
других людей, а через них и собственные действия субъекта. Теперь они
коммуницируются, означаясь с помощью жестов или звуковой речи. Это и
является предпосылкой порождения внутренних действии и операций,
протекающих в уме, в «плане сознания». Сознание-образ становится также
сознанием-деятельностью. Именно в этой своей полноте сознание и
начинает казаться эмансипированным от внешней, чувственно-практической
деятельности и более того — управляющим ею.
1 См. Ильенков Э.В. Идеальное// Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962.
1095
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Другое капитальное изменение, претерпеваемое сознанием в ходе
исторического развития, состоит в разрушении первоначальной слитности
сознания трудового коллектива и сознания образующих его индивидов.
Это происходит в силу того, что осознаваемым становится широкий круг
явлений, включающий в себя также явления, принадлежащие к сфере
таких отношений индивидов, которые составляют особенное в жизни
каждого из них. При этом классовое расслоение общества, приводит к тому, что
люди оказываются в неодинаковых, противопоставленных друг другу
отношениях к средствам производства и общественному продукту;
соответственно и их сознание испытывает на себе влияние этой неодинаковости,
этой противопоставленности. Вместе с тем вырабатываются
идеологические представления, которые включаются в процесс осознания
конкретными индивидами их реальных жизненных отношений.
Возникает сложнейшая картина внутренних связей, переплетений и
взаимопереходов, порождаемая развитием внутренних противоречий,
которые в своем абстрактном виде выступают уже при анализе самых
простых отношений, характеризующих систему человеческой деятельности.
На первый взгляд погружение исследования в эту сложнейшую картину
может казаться уводящим от задач конкретно-психологического
изучения сознания, к подмене психологии социологией. Но это вовсе не так.
Напротив, психологические особенности индивидуального сознания
только и могут быть поняты через их связи с теми общественными
отношениями, в которые вовлечен индивид.
2. Чувственная ткань сознания
Развитое сознание индивидов характеризуется своей
психологической многомерностью.
В явлениях сознания мы обнаруживаем прежде всего их чувственную
ткань. Эта ткань и образует чувственный состав конкретных образов
реальности, актуально воспринимаемой или всплывающей в памяти, относимой к
будущему или даже только воображаемой. Образы эти различаются по своей
модальности, чувственному тону, степени ясности, большей или меньшей
устойчивости и т. д. Обо всем этом написаны многие тысячи страниц. Однако
эмпирическая психология постоянно обходила важнейший с точки зрения
проблемы сознания вопрос: о той особой функции, которую выполняют в
сознании его чувственные элементы. Точнее, этот вопрос растворялся в косвенных
проблемах, таких как проблема осмысленности восприятия или проблема роли
речи (языка) в обобщении чувственных данных.
Особая функция чувственных образов сознания состоит в том, что они
придают реальность сознательной картине мира, открывающейся
субъекту. Что, иначе говоря, именно благодаря чувственному содержанию
созна1096
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ния мир выступает для субъекта как существующий не в сознании, а вне его
сознания — как объективное «поле» и объект его деятельности.
Это утверждение может показаться парадоксальным, потому что
исследования чувственных явлений издавна исходили из позиций,
приводивших, наоборот, к идее об их «чистой субъективности»,
«иероглифичности». Соответственно, чувственное содержание образов представлялось
не как осуществляющее непосредственную связь сознания с внешним
миром1, а, скорее, как отгораживающее от него.
В послегельмгольцевский период экспериментальное изучение
процессов перцепции ознаменовалось огромными успехами, так что
психология восприятия наводнена сейчас великим множеством
разнообразных фактов и частных гипотез. Но вот что удивительно: несмотря на эти
успехи, теоретическая позиция Гельмгольца осталась непоколебленной.
Правда, в большинстве психологических работ она присутствует
невидимо, за кулисами. Лишь немногие обсуждают ее серьезно и открыто,
как, например, Р. Грегори — автор самых, пожалуй, увлекательных
современных книг о зрительном восприятии2.
Сила позиции Гельмгольца в том, что, изучая физиологию зрения, он понял
невозможность вывести образы предметов непосредственно из ощущений,
отождествить их с теми «узорами», которые световые лучи рисуют на сетчатке глаза.
В рамках понятийного строя естествознания того времени решение проблемы,
предложенное Гельмгольцем (а именно, что к работе органов чувств
необходимо присоединяется работа мозга, строящего по сенсорным намекам гипотезы о
предметной действительности), было единственно возможным.
Дело в том, что предметные образы сознания мыслились как
некоторые психические вещи, зависящие от других вещей, составляющих их
внешнюю причину. Иначе говоря, анализ шел в плоскости двоякой абстракции,
которая выражалась, с одной стороны, в изъятии сенсорных процессов из
системы деятельности субъекта, а с другой — в изъятии чувственных
образов из системы человеческого сознания. Сама идея системности объекта
научного познания оставалась неразработанной.
В отличие от подхода, рассматривающего явления в их
изолированности, системный анализ сознания требует исследовать «образующие»
сознания в их внутренних отношениях, порождаемых развитием форм связи
субъекта с действительностью, и, значит, прежде всего со стороны той
функции, которую каждое из них выполняет в процессах презентирования
(представленности) субъекту картины мира.
Чувственные содержания, взятые в системе сознания, не открывают
прямо своей функции, субъективно она выражается лишь косвенно — в
безотчетЛенин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 46.
См. Грегори Р. Разумный глаз. М., 1972.
1097
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ном переживании «чувства реальности ». Однако она тотчас обнаруживает себя,
как только возникает нарушение или извращение рецепции внешних
воздействий. Так как свидетельствующие об этом факты имеют для психологии
сознания принципиальное значение, то я приведу некоторые из них.
Очень яркое проявление функции чувственных образов в сознании
реального мира мы наблюдали в исследовании восстановления предметных
действий у раненых минеров, полностью ослепших и одновременно потерявших
кисти обеих рук. Так как у них была произведена восстановительная
хирургическая операция, связанная с массивным смещением мягких тканей
предплечий, то они утрачивали также и возможность осязательного восприятия
предметов руками (явление асимболии). Оказалось, что при невозможности
зрительного контроля эта функция у них не восстанавливалась,
соответственно у них не восстанавливались и предметные ручные движения. В результате
через несколько месяцев после ранения у больных появлялись необычные
жалобы: несмотря на ничем не затрудненное речевое общение с
окружающими и при полной сохранности умственных процессов, внешний предметный
мир постепенно становился для них «исчезающим». Хотя словесные понятия
(значения слов) сохраняли у них свои логические связи, они, однако,
постепенно утрачивали свою предметную отнесенность. Возникала поистине
трагическая картина разрушения у больных чувства реальности. «Я обо всем как
читал, а не видел... Вещи от меня все дальше » — так описывает свое состояние
одни из ослепших ампутантов. Он жалуется, что когда с ним здороваются, «то
как будто и человека нет»1.
Сходные явления потери чувства реальности наблюдаются и у
нормальных испытуемых в условиях искусственной инверсии зрительных впечатлений.
Еще в конце прошлого столетия Стреттон в своих классических опытах с
ношением специальных очков, переворачивающих изображение на сетчатке,
отмечал, что при этом возникает переживание нереальности воспринимаемого мира2.
Требовалось понять суть тех качественных перестроек зрительного
образа, которые открываются субъекту в виде переживания нереальности
зрительной картины. В дальнейшем были обнаружены такие особенности
инвертированного зрения, как трудность идентификации знакомых
предметов3 и особенно человеческих лиц4, его аконстантность5 и т. п.
1 Леонтьев А.Н., Запорожец A.B. Восстановление движения. М., 1945. С. 75.
2 Stratton М. Some preliminary experiments in vision without inversion of the retinal
image// «Psychological Review». 1897. N 4.
3 Gaffron M. Perceptual experience: an analysis of its Relation to the external world
through internal processings// «Psychology: A Study of a Science », Vol. 4.1963.
4 fin. Looking en upside-down fase. «Journal of Experimental Psychology», Vol. 81 (1).
1969.
5 См. Логвиненко А.Д., Столин В.В. Восприятие в условиях инверсии поля зрения //
«Эргономика. Труды ВНИИТЭ ». Вып. 6. М., 1973.
1098
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Отсутствие прямой отнесенности инвертированного зрительного
образа к объективному предметному миру свидетельствует о том, что
на уровне рефлектирующего сознания субъект способен
дифференцировать восприятие реального мира и свое внутреннее феноменальное
поле. Первое представлено сознательными «значимыми» образами,
второе — собственно чувственной тканью. Иначе говоря, чувственная ткань
образа может быть представлена в сознании двояко: либо как то, в чем
существует для субъекта предметное содержание (и это составляет
обычное, «нормальное» явление), либо сама по себе, В отличие от
нормальных случаев, когда чувственная ткань и предметное содержание
слиты между собой, их несовпадение обнаруживается либо в
результате специально направленной интроспекции1, либо в особых
экспериментальных условиях — особенно отчетливо в опытах с длительной
адаптацией к инвертированному зрению2. Сразу после надевания
инвертирующих призм субъекту презентируется лишь чувственная ткань
зрительного образа, лишенная предметного содержания. Дело в том, что
при восприятии мира через меняющие проекцию оптические устройства
видимые образы трансформируются в сторону их наибольшего
правдоподобия; другими словами, при адаптации к оптическим искажениям
происходит не просто иное «декодирование» проекционного образа,
а сложный процесс построения воспринимаемого предметного
содержания, имеющего определенную предметную логику, отличную от
«проекционной логики» сетчаточного образа. Поэтому невозможность
восприятия предметного содержания в начале хронического эксперимента
с инверсией связана с тем, что в сознании субъекта образ представлен
лишь его чувственной тканью. В дальнейшем же перцептивная
адаптация совершается как своеобразный процесс восстановления
предметного содержания зрительного образа в его инвертированной
чувственной ткани3.
Возможность дифференцирования феноменального поля и
предметных «значимых» образов, по-видимому, составляет особенность только
человеческого сознания, благодаря которой человек освобождается от
рабства чувственных впечатлений, когда они извращаются случайными
условиями восприятия. Любопытны в этой связи эксперименты с обезьянами,
которым одевались очки, инвертирующие сетчаточный образ; оказалось,
Это дало основание ввести понятие «видимое поле» в отличие от понятия
«видимый мир». Gibson f.f. Perception of the visual world. Boston, 1950.
См. Аогвиненко Л.Д. Инвертированное зрение и зрительный образ// Вопросы
психологии. 1974. № 5.
См. Аогвиненко А.Д. Перцептивная деятельность при инверсии сетчаточного
образа// В сб. «Восприятие и деятельность». М., 1975.
1099
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
что, в отличие от человека, у обезьяны это полностью разрушает их
поведение и они впадают на длительный срок в состояние инактивности1.
Я мог привести здесь лишь немногие данные, касающиеся того
особенного вклада, который чувственность вносит в индивидуальное
сознание; были, например, вовсе опущены некоторые важные факты,
полученные в условиях длительной сенсорной депривации2. Но и сказанного
достаточно, чтобы поставить вопрос, центральный для дальнейшего
анализа рассматриваемой проблемы.
Глубокая природа психических чувственных образов состоит в их
предметности, в том, что они порождаются в процессах деятельности,
практически связывающей субъекта с внешним предметным миром. Как бы ни
усложнялись эти связи и реализующие их формы деятельности,
чувственные образы сохраняют свою изначальную предметную отнесенность.
Конечно, когда мы сопоставляем с огромным богатством
познавательных результатов мыслительной человеческой деятельности те вклады,
которые непосредственно вносит в него наша чувственность, то прежде всего
бросается в глаза их крайняя ограниченность, почти ничтожность; к тому
же обнаруживается, что чувственные впечатления постоянно вступают в
противоречие с более полным знанием. Отсюда и возникает идея, что
чувственные впечатления служат лишь толчком, приводящим в действие наши
познавательные способности, и что образы предметов порождаются
внутренними мыслительными — бессознательными или сознательными —
операциями, что, иначе говоря, мы не воспринимали бы предметного мира, если бы не
мыслили его. Но как могли бы мы мыслить этот мир, если бы он изначально не
открывался нам именно в своей чувственно данной предметности?
3. Значение как проблема психологии сознания
Чувственные образы представляют всеобщую форму психического
отражения, порождаемого предметной деятельностью субъекта. Однако
у человека чувственные образы приобретают новое качество, а именно свою
означенность. Значения и являются важнейшими «образующими»
человеческого сознания.
Как известно, выпадение у человека даже главных сенсорных
систем — зрения и слуха — не уничтожает сознания. Даже у
слепоглухонемых детей в результате овладения ими специфически человеческими
операциями предметного действия и языком (что, понятно, может происходить
Foley /. В. An experimental investigation of the visual field in the Resus monkey//
Journal of gene Psychology. 1940. № 56.
Solomon Ph., Kubzansry P. and oth. Physiological and Psychological aspects of sensory
deprivation. «Sensory deprivation ».Cambridge: Mass., 1965.
1100
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
лишь в условиях специального воспитания) формируется нормальное
сознание, отличающееся от сознания видящих и слышащих людей только
своей крайне бедной чувственной тканью1. Другое дело, когда в силу тех
или иных обстоятельств «гоминизация» деятельности и общения не
происходит. В этом случае, несмотря на полную сохранность сенсомоторной
сферы, сознание не возникает. Это явление (назовем его «феноменом
Каспара Гаузера») сейчас широко известно.
Итак, значения преломляют мир в сознании человека. Хотя носителем
значений является язык, но язык не демиург значений. За языковыми
значениями скрываются общественно выработанные способы (операции)
действия, в процессе которых люди изменяют и познают объективную
реальность. Иначе говоря, в значениях представлена преобразованная и
свернутая в материи языка идеальная форма существования предметного
мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых совокупной
общественной практикой. Поэтому значения сами по себе, т. е. в абстракции от их
функционирования в индивидуальном сознании, столь же «не
психологичны», как и та общественно познанная реальность, которая лежит за ними2.
Значения составляют предмет изучения в лингвистике, семиотике,
логике. Вместе с тем в качестве одной из «образующих» индивидуальное
сознание они необходимо входят в круг проблем психологии. Главная
трудность психологической проблемы значения состоит в том, что в ней
воспроизводятся все те противоречия, на которые наталкивается более
широкая проблема соотношения логического и психологического в мышлении,
логике и психологии понятия.
В рамках субъективно-эмпирической психологии эта проблема
решалась в том смысле, что понятия (resp. — словесные значения) являются
психологическим продуктом — продуктом ассоциирования и
генерализации впечатлений в сознании индивидуального субъекта, результаты
которых закрепляются за словами. Эта точка зрения нашла, как известно, свое
выражение не только в психологии, но и в концепциях,
психологизирующих логику.
Другая альтернатива заключается в признании, что понятия и
операции с понятиями управляются объективными логическими законами; что
психология имеет дело только с отклонениями от этих законов, которые
наблюдаются в примитивном мышлении, в условиях патологии или при
снятых эмоциях; что, наконец, в задачу психологии входит изучение
онтогенеСм. Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. М., \Э1А\Гургенидзе Г.С. и
Ильенков Э.В. Выдающееся достижение советской науки// Вопросы философии.
1975. № 6.
В данном контексте нет необходимости жестко различать понятия и словесные
значения, логические операции и операции значения. — Прим. авт.
1101
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
тического развития понятий и мышления. Исследование этого процесса и
заняло в психологии мышления главное место. Достаточно указать на
труды Пиаже, Выготского и на многочисленные советские и зарубежные
работы по психологии обучения.
Исследования формирования у детей понятий и логических
(умственных) операций внесли очень важный вклад в науку. Было показано, что
понятия отнюдь не формируются в голове ребенка по типу образования
чувственных генетических образов, а представляют собой результат процесса
присвоения «готовых», исторически выработанных значений и что процесс
этот происходит в деятельности ребенка, в условиях общения с
окружающими людьми. Обучаясь выполнению тех или иных действий, он
овладевает соответствующими операциями, которые в их сжатой,
идеализированной форме и представлены в значении.
Само собой разумеется, что первоначально процесс овладения
значениями происходит во внешней деятельности ребенка с вещественными
предметами и в симпраксическом общении. На ранних стадиях ребенок
усваивает конкретные, непосредственно предметно отнесенные значения;
впоследствии ребенок овладевает также и собственно логическими
операциями, но тоже в их внешней, экстериоризированной форме — ведь иначе
они вообще не могут быть коммуницированы. Интерйоризуясь, они
образуют отвлеченные значения, понятия, а их движение составляет
внутреннюю умственную деятельность, деятельность «в плане сознания».
Этот процесс подробно изучался последние годы П.Я. Гальпериным,
который выдвинул стройную теорию, названную им «теорией поэтапного
формирования умственных действий и понятий»; одновременно им
развивалась концепция об ориентировочной основе действий, о ее особенностях
и о соответствующих ей типах обучения1.
Теоретическая и практическая продуктивность этих и идущих вслед
за ними многочисленных исследований является бесспорной. Вместе с тем
проблема, которой они посвящены, была с самого начала жестко
ограничена; это проблема целенаправленного, «не стихийного» формирования
умственных процессов по извне заданным «матрицам» — «параметрам».
Соответственно анализ сосредоточился на выполнении заданных действий;
что же касается их порождения, т. е. процесса целеобразования и
мотивации деятельности (в данном случае учебной), которую они реализуют, то
это осталось за пределами прямого исследования. Понятно, что при этом
условии нет никакой необходимости различать в системе деятельности
См. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных
действий// Психологическая наука в СССР. Т. 1. М., 1959; его же. Психология
мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий// В сб.
«Исследования мышления в советской психологии». М., 1966.
1102
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
собственно действия и способы их выполнения, не возникает
необходимости системного анализа индивидуального сознания.
Сознание как форма психического отражения, однако, не может быть
сведено к функционированию усвоенных извне значений, которые,
развертываясь, управляют внешней и внутренней деятельностью субъекта.
Значения и свернутые в них операции сами по себе, т. е. в своей абстракции от
внутренних отношений системы деятельности и сознания, вовсе не
являются предметом психологии. Они становятся им, лишь будучи взяты в этих
отношениях, в движении их системы.
Это вытекает из самой природы психического. Как уже говорилось,
психическое отражение возникает в результате раздвоения жизненных
процессов субъекта на процессы, осуществляющие его прямые биотические
отношения, и «сигнальные» процессы, которые опосредствуют их;
развитие внутренних отношений, порождаемых этим раздвоением, и находит свое
выражение в развитии структуры деятельности, а на этой основе — также
в развитии форм психического отражения. В дальнейшем, на уровне
человека, происходит такая трансформация этих форм, которая приводит к
тому, что, фиксируясь в языке (языках), они приобретают
квазисамостоятельное существование в качестве объективных идеальных явлений. При
этом они постоянно воспроизводятся процессами, совершающимися в
головах конкретных индивидов. Последнее и составляет внутренний
«механизм» их передачи от поколения к поколению и условие их обогащения
посредством индивидуальных вкладов.
Здесь мы вплотную подходим к проблеме, которая является
настоящим камнем преткновения для психологического анализа сознания. Это
проблема особенностей функционирования знаний, понятий, мысленных
моделей, с одной стороны, в системе отношений общества, в
общественном сознании, а с другой — в деятельности индивида, реализующей его
общественные связи, в его сознании.
Как уже говорилось, сознание обязано своим возникновением
происходящему в труде выделению действий, познавательные результаты которых
абстрагируются от живой целостности человеческой деятельности и
идеализируются в форме языковых значений. Коммуницируясь, они становятся
достоянием сознания индивидов. При этом они отнюдь не утрачивают своей
абстрагированности; они несут в себе способы, предметные условия и результаты
действий, независимо от субъективной мотивации деятельности людей, в
которой они формируются. На ранних этапах, когда еще сохраняется общность
мотивов деятельности участников коллективного труда, значения как
явления индивидуального сознания находятся в отношениях прямой
адекватности. Это отношение, однако, не сохраняется. Оно разлагается вместе с
разложением первоначальных отношений индивидов к материальным условиям и
средствам производства, возникновением общественного разделения труда и
1103
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
частной собственности1. В результате общественно выработанные значения
начинают жить в сознании индивидов как бы двойной жизнью. Рождается еще
одно внутреннее отношение, еще одно движение значений в системе
индивидуального сознания.
Это особое внутреннее отношение проявляет себя в самых простых
психологических фактах. Так, например, все учащиеся постарше, конечно,
отлично понимают значение экзаменационной отметки и вытекающих из нее
следствий. Тем не менее отметка может выступить для сознания каждого из них
существенно по-разному: скажем, как шаг (или препятствие) на пути к
избранной профессии, или как способ утверждения себя в глазах окружающих,
или, может быть, как-нибудь еще иначе. Вот это-то обстоятельство и ставит
психологию перед необходимостью различать сознаваемое объективное
значение и его значение для субъекта. Чтобы избежать удвоения терминов, я
предпочитаю говорить в последнем случае о личностном смысле. Тогда
приведенный пример может быть выражен так: значение отметки способно приобретать
в сознании учащихся разный личностный смысл.
Хотя предложенное мною понимание соотношения понятий значения
и смысла было неоднократно пояснено, оно все же нередко
интерпретируется совершенно неправильно. По-видимому, нужно вернуться к анализу
понятия личностного смысла еще раз.
Прежде всего несколько слов об объективных условиях, приводящих
к дифференциации в индивидуальном сознании значений и смыслов. В
своей известной статье, посвященной критике А. Вагнера, Маркс отмечает,
что присваиваемые людьми предметы внешнего мира первоначально
словесно обозначались ими как средства удовлетворения их потребностей,
как то, что является для них «благами». «...Они приписывают предмету
характер полезности, как будто присущий самому предмету»2, — говорит
Маркс. Эта мысль оттеняет очень важную черту сознания на ранних этапах
развития, а именно, что предметы отражаются в языке и сознании слитно с
конкретизованными (опредмеченными) в них потребностями людей.
Однако в дальнейшем эта слитность разрушается. Неизбежность ее
разрушения заложена в объективных противоречиях товарного производства,
которое порождает противоположность конкретного и абстрактного труда,
ведет к отчуждению человеческой деятельности.
Эта проблема неизбежно возникает перед анализом, понимающим всю
ограниченность представления о том, что значения в индивидуальном
сознании являются лишь более или менее полными и совершенными
проекциями «надиндивидуальных» значений, существующих в данном обществе.
Она отнюдь не снимается и ссылками на тот факт, что значения
преломля1 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 17-48.
2 Там же. Т. 19. С. 378,146.
1104
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ются конкретными особенностями индивида, его прежним опытом,
своеобразием его установок, темперамента и т. д.
Проблема, о которой идет речь, возникает из реальной двойственности
существования значений для субъекта. Последняя состоит в том, что значения
выступают перед субъектом и в своем независимом существовании — в
качестве объектов его сознания и вместе с тем в качестве способов и «механизма »
осознания, т. е. функционируя в процессах, презентирующих объективную
действительность. В этом функционировании значения необходимо вступают
во внутренние отношения, которые связывают их с другими «образующими »
индивидуального сознания; в этих внутренних отношениях они единственно и
обретают свою психологическую характеристику.
Выразим это иначе. Когда в психическое отражение мира
индивидуальным субъектом вливаются идеализированные в значениях продукты
общественно-исторической практики, то они приобретают новые системные
качества. Раскрытие этих качеств и составляет одну из задач психологической науки.
Наиболее трудный пункт создается здесь тем, что значения ведут
двойную жизнь. Они производятся обществом и имеют свою историю в развитии
языка, в развитии форм общественного сознания; в них выражается движение
человеческой науки и ее познавательных средств, а также идеологических
представлений общества — религиозных, философских, политических. В этом
объективном своем бытии они подчиняются общественно-историческим
законам и вместе с тем внутренней логике своего развития.
При всем неисчерпаемом богатстве, при всей многосторонности этой
жизни значений (подумать только — все науки занимаются ею!) в ней
остается полностью скрытой другая их жизнь, другое их движение — их
функционирование в процессах деятельности и сознания конкретных
индивидов, хотя посредством этих процессов они только и могут существовать.
В этой второй своей жизни значения индивидуализируются и
«субъективируются», но лишь в том смысле, что непосредственно их движение в
системе отношений общества в них уже не содержатся; они вступают в иную
систему отношений, в иное движение. Но вот что замечательно: они при
этом отнюдь не утрачивают своей общественно-исторической природы,
своей объективности.
Одна из сторон движения значений в сознании конкретных индивидов
состоит в том «возвращении» их к чувственной предметности мира, о
котором шла речь выше. В то время как в своей абстрактности, в своей
«надиндивидуальности» значения безразличны к формам чувственности, в
которых мир открывается конкретному субъекту (можно сказать, что сами
по себе значения лишены чувственности), их функционирование в
осуществлении его реальных жизненных связей необходимо предполагает их
отнесенность к чувственным впечатлениям. Конечно,
чувственно-предметная отнесенность значений в сознании субъекта может быть не прямой, она
1105
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
может реализоваться через как угодно сложные цепи свернутых в них
мыслительных операций, особенно когда значения отражают действительность,
которая выступает лишь в своих отдаленных косвенных формах. Но в
нормальных случаях эта отнесенность всегда существует и исчезает только в
продуктах их движения, в их экстериоризациях.
Другая сторона движения значений в системе индивидуального
сознания состоит в той особой их субъективности, которая выражается в
приобретаемой ими пристрастности. Сторона эта, однако, открывает себя лишь
при анализе внутренних отношений, связывающих значения с еще одной
«образующей » сознания — личностным смыслом.
4. Личностный смысл
Психология издавна описывала субъективность, пристрастность
человеческого сознания. Ее проявления видели в избирательности внимания,
в эмоциональной, окрашенности представлений, в зависимости
познавательных процессов от потребностей и влечений. В свое время Лейбниц
выразил эту зависимость в известном афоризме: «... Если бы геометрия так
же противоречила нашим страстям и нашим интересам, как нравственность,
то мы бы также спорили против нее и нарушали ее вопреки всем
доказательствам Эвклида и Архимеда...»1
Трудности заключались в психологическом объяснении
пристрастности сознания. Явления сознания казались имеющими двойную
детерминацию — внешнюю и внутреннюю. Соответственно они трактовались как
якобы принадлежащие к двум разным сферам психики: сфере познавательных
процессов и сфере потребностей, аффективности. Проблема соотношения
этих сфер — решалась ли она в духе рационалистических концепций или в
духе психологии глубинных переживаний — неизменно
интерпретировалась с антропологической точки зрения, с точки зрения взаимодействия
разных по своей природе факторов-сил.
Однако действительная природа как бы двойственности явлений
индивидуального сознания лежит не в их подчиненности этим независимым
факторам.
Не будем вдаваться здесь в те особенности, которые отличают в этом
отношении различные общественно-экономические формации. Для общей
теории индивидуального сознания главное состоит в том, что деятельность
конкретных индивидов всегда остается «втиснутой» (insere) в наличные
формы проявления этих объективных противоположностей, которые и
находят свое косвенное феноменальное выражение в их сознании, в его
особом внутреннем движении.
1 Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. М.; Л., 1936. С. 88.
1106
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Деятельность человека исторически не меняет своего общего
строения, своей «макроструктуры». На всех этапах исторического развития она
осуществляется сознательными действиями, в которых совершается
переход целей в объективные продукты, и подчиняется побуждающим ее
мотивам. Что радикально меняется, так это характер отношений, связывающих
между собой цели и мотивы деятельности.
Эти отношения и являются психологически решающими. Дело в том,
что для самого субъекта осознание и достижение им конкретных целей,
овладение средствами и операциями действия есть способ утверждения
его жизни, удовлетворения и развития его материальных и духовных
потребностей, опредмеченных и трансформированных в мотивах его
деятельности. Безразлично, осознаются или не осознаются субъектом мотивы,
сигнализируют ли они о себе в форме переживаний интереса, желания или
страсти; их функция, взятая со стороны сознания, состоит в том, что они
как бы «оценивают» жизненное значение для субъекта объективных
обстоятельств и его действий в этих обстоятельствах, придают им
личностный смысл, который прямо не совпадает с понимаемым объективным их
значением. При определенных условиях несовпадение смыслов и значений
в индивидуальном сознании может приобретать характер настоящей
чуждости между ними, даже их противопоставленности.
В товарном обществе эта чуждость возникает необходимо, и притом у
людей, стоящих на обоих общественных полюсах. Наемный рабочий,
конечно, отдает себе отчет в производимом им продукте, иначе говоря, он
выступает перед ним в его объективном значении (Bedeutung), по крайней
мере в пределах, необходимых для того, чтобы он мог разумно выполнять
свои трудовые функции. Но смысл (Sinn) его труда для него самого
заключается не в этом, а в заработке, ради которого он работает. «Смысл
двенадцатичасового труда заключается для него не в том, что он ткет, прядет,
сверлит и т. д., а в том, что это — способ заработка, который дает ему
возможность поесть, пойти в трактир, поспать»1. Эта отчужденность
проявляется и на противоположном общественном полюсе: для торговцев
минералами, замечает Маркс, минералы не имеют смысла минералов2.
Уничтожение отношений частной собственности уничтожает эту
противопоставленность значений и смыслов в сознании индивидов; их
несовпадение, однако,сохраняется.
Необходимость их несовпадения заложена уже в глубокой предыстории
человеческого сознания, в существовании у животных двух видов
чувственности, опосредствующих их поведение в предметной среде. Как известно,
вос1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 432.
2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. С. 594.
1107
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
приятие животных ограничено воздействиями, сигнально связанными с
удовлетворением их потребностей, хотя бы только эвентуально, в возможности1.
Но потребности могут осуществлять функцию психической регуляции, лишь
выступая в форме побуждающих объектов (и соответственно средств
овладения ими или защиты от них). Иначе говоря, в чувственности животных
внешние свойства объектов и их способность удовлетворять те или иные
потребности не отделяются друг от друга. Вспомним: собака в ответ на воздействие
условного пищевого раздражителя рвется к нему, лижет его2. Однако
неотделимость восприятия животными внешнего облика объектов от его
потребностей вовсе не означает их совпадения. Напротив, в ходе эволюции их связи
становятся все более подвижными и до чрезвычайности усложняются,
сохраняется лишь, невозможность их обособления. Они разделяются только на
уровне человека, когда во внутренние связи обеих этих форм чувственности
вклиниваются словесные значения.
Я говорю, что значения вклиниваются (хотя, может быть, лучше было бы
сказать «вступают » или «погружаются »), единственно для того, чтобы
заострить проблему. В самом деле: ведь в своей объективности, т. е. как явления
общественного сознания, значения преломляют для индивида объекты
независимо от их отношения к его жизни, к его потребностям и мотивам. Даже для
сознания утопающего соломинка, за которую он хватается, все же сохраняет
свое значение соломинки; другое дело, что эта соломинка — пусть только
иллюзорно — приобретает в этот момент для него смысл спасающей его жизнь.
Хотя на первоначальных этапах формирования сознания значения
выступают слитно с личностными смыслами, однако в этой слитности
имплицитно уже содержится их несовпадение, которое далее неизбежно приобретает и
свои открытые, эксплицированные формы. Последнее и делает необходимым
выделять в анализе личностный смысл в качестве еще одной образующей
систему индивидуального сознания. Они-то и создают тот «утаенный », по
выражению A.C. Выготского, план сознания, который столь часто
интерпретируется в психологии не как формирующийся в деятельности субъектов, в развитии
ее мотивации, а как якобы непосредственно выражающий изначально
заключенные в самой природе человека внутренние движущие им силы.
В индивидуальном сознании извне усваиваемые значения действительно
как бы раздвигают и одновременно соединяют между собой оба вида
чувственности — чувственные впечатления внешней реальности, в которой протекает
его деятельность, и формы чувственного переживания ее мотивов,
удовлетворения или не удовлетворения скрывающихся за ними потребностей.
1 Это и послужило основанием для немецких авторов различать окружение (Umwelt)
как то, что воспринимается животными, и мир (Welt), который открывается
только сознанию человека.
2 См. Павлов ИЛ. Поли. собр. соч. Т. III. Кн. 1. С. 157.
1108
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В отличие от значений личностные смыслы, как и чувственная ткань
сознания, не имеют своего «надиндивидуального », своего «не
психологического» существования. Если внешняя чувственность связывает в сознании
субъекта значения с реальностью объективного мира, то личностный смысл связывает
их с реальностью самой его жизни в этом мире, с ее мотивами. Личностный
смысл и создает пристрастность человеческого сознания.
Выше говорилось о том, что в индивидуальном сознании значения
«психологизируются », возвращаясь к чувственно данной человеку реальности мира.
Другим, и притом решающим, обстоятельством, превращающим значения в
психологическую категорию, является то, что, функционируя в системе
индивидуального сознания, значения реализуют не самих себя, а движение
воплощающего в них себя личностного смысла — этого для-себя-бытия
конкретного субъекта.
Психологически, т. е. в системе сознания субъекта, а не в качестве его
предмета или продукта, значения вообще не существуют иначе как реализуя
те или иные смыслы, так же, как его действия и операции не существуют иначе
как реализуя ту или иную его деятельность, побуждаемую мотивом,
потребностью. Другая сторона состоит в том, что личностный смысл — это всегда
смысл чего-то: «чистый», непредметный смысл есть такая же бессмыслица,
как и непредметное существо.
Воплощение смысла в значениях — это глубоко интимный, психологически
содержательный, отнюдь не автоматически и одномоментно происходящий
процесс. В творениях художественной литературы, в практике морального и
политического воспитания этот процесс выступает во всей своей полноте. Научная
психология знает этот процесс только в его частных выражениях: в явлениях
«рационализации » людьми их действительных побуждений, в переживании муки
перехода от мысли к слову («Я слово позабыл, что я хотел сказать, и мысль
бесплотная в чертог теней вернется », — цитирует Тютчева Л. С. Выготский).
В своих наиболее обнаженных формах процесс, о котором идет речь,
выступает в условиях классового общества, борьбы идеологий. В этих условиях
личностные смыслы, отражающие мотивы, порождаемые действительными
жизненными отношениями человека, могут не найти адекватно воплощающих
их объективных значений, и тогда они начинают жить как бы в чужих одеждах.
Нужно представить себе капитальное противоречие, которое порождает это
явление. Ведь в отличие от бытия общества, бытие индивида не является
«самоговорящим», т. е. индивид не имеет собственного языка, вырабатываемых
им самим значений; осознание им явлений действительности может
происходить только посредством усваиваемых им извне «готовых» значений —
знаний, понятий, взглядов, которые он получает в общении, в тех или иных
формах индивидуальной и массовой коммуникации. Это и создает возможность
внесения в его сознание, навязывания ему искаженных или фантастических
представлений и идей, в том числе таких, которые не имеют никакой почвы в
1109
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
его реальном, практическом жизненном опыте. Лишенные этой почвы, они
обнаруживают в сознании человека свою шаткость; вместе с тем, превращаясь
в стереотипы, они, как и любые стереотипы, способны к сопротивлению, так
что только серьезные жизненные конфронтации могут их разрушить. Но и их
разрушение не ведет еще к устранению дезинтегрированности сознания, его
неадекватности, само по себе оно создает лишь его опустошение, способное
обернуться психологической катастрофой. Необходимо еще, чтобы в
сознании индивида осуществилось перевоплощение субъективных личностных
смыслов в другие, адекватные им значения.
Более пристальный анализ такого перевоплощения личностных смыслов
в адекватные (более адекватные) значения показывает, что оно протекает в
условиях борьбы за сознание людей, происходящей в обществе. Я хочу этим
сказать, что индивид не просто «стоит» перед некоторой «витриной»
покоящихся на ней значений, среди которых ему остается только сделать выбор,
что эти значения — представления, понятия, идеи — не пассивно ждут его
выбора, а энергично врываются в его связи с людьми, образующие круг его
реальных общений. Если индивид в определенных жизненных обстоятельствах
и вынужден выбирать, то это выбор не между значениями, а между
сталкивающимися общественными позициями, которые посредством этих значений
выражаются и осознаются.
В сфере идеологических представлений этот процесс является
неизбежным и имеющим всеобщий характер лишь в классовом обществе. Однако
он сохраняется и в условиях социалистического, коммунистического
общества, — в той мере, в какой здесь проявляются особенности
индивидуальной жизни человека, особенности складывающихся личных его отношений,
общений и жизненных ситуаций; он сохраняется и потому, что остаются
неповторимыми и его особенности как телесного существа и конкретные
внешние условия, которые не могут быть идентичными для всех.
Не исчезает, да и не может исчезнуть постоянно воспроизводящее себя
несовпадение личностных смыслов, несущих в себе интенциональность,
пристрастность сознания субъекта и «равнодушных» к нему значений,
посредством которых они только и могут себя выразить. Потому-то внутреннее
движение развитой системы индивидуального сознания и полно драматизма. Он
создается смыслами, которые не могут «высказать себя » в адекватных
значениях; значениями, лишенными своей жизненной почвы и поэтому иногда
мучительно дискредитирующими себя в сознании субъекта; они создаются,
наконец, существованием конфликтующих между собой мотивов-целей.
Нет надобности повторять, что это внутреннее движение
индивидуального сознания порождается движением предметной деятельности человека,
что за его драматизмом скрывается драматизм его реальной жизни, что
поэтому научная психология сознания невозможна вне исследования деятельности
субъекта, форм ее непосредственного существования.
1110
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В заключение я не могу не затронуть здесь проблемы так называемой
«жизненной психологии», психологии переживаний, которая в последнее время вновь
обсуждается в нашей литературе1. Из того, что было изложено, прямо вытекает,
что хотя научная психология не должна выбрасывать из поля своего зрения
внутренний мир человека, но его изучение не может быть отделено от исследования
деятельности и не составляет никакого особого направления
научно-психологического исследования. То, что мы называем внутренними переживаниями, суть
явления, возникающие на поверхности системы сознания, в форме которых
сознание выступает для субъекта в своей непосредственности. Поэтому сами
переживания интереса или скуки, влечения или угрызений совести еще не открывают
субъекту своей природы; хотя они кажутся внутренними силами, движущими его
деятельностью, их реальная функция состоит лишь в наведении субъекта на их
действительный источник, в том, что они сигнализируют о личностном смысле
событий, разыгрывающихся в его жизни, заставляют его как бы приостановить на
мгновение поток своей активности, всмотреться в сложившиеся у него жизненные
ценности, чтобы найти себя в них или, может быть, пересмотреть их.
Итак, сознание человека, как и сама его деятельность, не аддитивно. Это не
плоскость, даже не емкость, заполненная образами и процессами. Это и не связи
отдельных его «единиц», а внутреннее движение его образующих, включенное в
общее движение деятельности, осуществляющей реальную жизнь индивида в
обществе. Деятельность человека и составляет субстанцию его сознания.
Психологический анализ деятельности и сознания раскрывает лишь
их общие системные качества и, понятно, отвлекается от особенностей
специальных психических процессов — процессов восприятия и мышления,
памяти и научения, речевого общения. Но сами эти процессы существуют
только в описанных отношениях системы, на тех или иных ее уровнях.
Поэтому, хотя исследования этих процессов составляют особую задачу, они
отнюдь не являются независимыми от того, как решаются проблемы
деятельности и сознания, ибо это и определяет их методологию.
И, наконец, главное. Анализ деятельности и индивидуального сознания,
конечно, исходит из существования реального телесного субъекта. Однако
первоначально, т. е. до и вне этого анализа, субъект выступает лишь как некая
абстрактная, психологически «не наполненная » целостность. Только в
результате пройденного исследованием пути субъект открывает себя и
конкретнопсихологически — как личность. Вместе с тем обнаруживается, что анализ
индивидуального сознания, в свою очередь, не может обойтись без обращения
к категории личности. Поэтому в этот анализ пришлось ввести такие понятия,
как понятия о «пристрастности сознания» и о «личностном смысле», за
которыми скрывается дальнейшая, еще не затронутая проблема — проблема
системного психологического исследования личности.
См. Вопросы психологии, 1971. № 4, 5; 1972, № 1,2, 3, 4.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
A.B. ЗАПОРОЖЕЦ:
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ДОШКОЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ
Запорожец Александр Владимирович (1905-1981)
психолог, ученик и последователь A.C.
Выготского. Вместе с А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьевым
разрабатывал деятельностный подход в психологии.
Внес существенный вклад в общую,
педагогическую, возрастную и детскую психологию.
Создал теорию развития произвольных
движений («Развитие произвольных движений»,
1960). Показал роль ориентировочной
деятельности в формировании и осуществлении
произвольных движений.
Основной темой исследований A.B.
Запорожца было выявление закономерностей психического развития детей раннего
и дошкольного детства. Подчеркивал положение об «абсолютном
значении для всестороннего развития индивида психологических
новообразований, возникающих на ранних возрастных ступенях». Разрабатывал
проблему возрастной периодизации психического развития ребенка.
Исследовал особенности эмоционального развития, ввел понятие
«эмоциональная коррекция поведения», которым обозначал особый, отличный
от когнитивного, психологический процесс регулирования деятельности,
определяющий ее общую направленность и динамику.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОНТОГЕНЕЗА ПСИХИКИ1
1. Введение
Детская психология — отрасль психологической науки, изучающая
факты и закономерности психологического развития ребенка. Такого
рода исследования имеют важное значение прежде всего для
педагогики, для разработки проблем обучения и воспитания подрастающего
поколения.
«Если педагогика, — писал К.Д. Ушинский, — хочет воспитать
человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех
Запорожец A.B. Избранные психологические труды: В 2 т. Психическое развитие
ребенка. М., 1986. Т. 1. С. 223-257.
1112
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
отношениях» (1950. Т. 8. Кн. 1. С. 23). Эффективное управление
процессом детского развития невозможно без знания условий и
закономерностей этого развития. Исследование психологических особенностей и
возможностей детей различных возрастов необходимо для определения
содержания и методов учебно-воспитательной работы на различных
ступенях обучения и воспитания, а изучение
индивидуально-психологических особенностей ребенка позволяет осуществить индивидуальный
подход к учащемуся и таким путем достигнуть максимального
педагогического эффекта в каждом отдельном случае. Наконец, исследования
различных форм аномального развития психики, вызванного патологией нервной
системы или органов чувств, создают необходимые основы для разработки
рациональных форм коррекционно-воспитательной работы с различными
категориями дефективных детей.
Наряду с важной ролью, которую играют исследования детской
психики в решении практических вопросов воспитания и обучения, они имеют
немаловажное теоретическое значение, и прежде всего для решения
некоторых узловых проблем общей психологии. Дело заключается в том, что
изучение ряда психических процессов и свойств у взрослого человека,
у которого эти процессы приобретают обычно чрезвычайно свернутый,
автоматизированный, и скрытый, интериоризованный, характер,
представляет большие, подчас непреодолимые трудности. И тогда на помощь
приходит генетическое исследование, позволяющее обнаружить истинную
природу и происхождение этих психических процессов и свойств, их
функцию и структуру. Вот почему многие видные ученые в Советском Союзе
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), а также за
рубежом (К. Бюлер, В. Штерн, Ж. Пиаже и др.) прибегали и прибегают к
исследованию онтогенеза человеческой психики для разработки вопросов
общей психологии.
Такие исследования могут иметь значение для решения не только
психологических, но и общих философских проблем...
Предметом детской психологии является изучение условий и
движущих причин онтогенеза человеческой психики, развития отдельных
психических процессов (познавательных, волевых, эмоциональных), а также
различных видов деятельности ребенка (игры, труда, учения), формирования
качеств личности, возрастных и индивидуальных психологических
особенностей детей. Объект, изучаемый детской психологией, — сложная
динамическая система взаимосвязанных процессов и явлений. Отдельные
психические процессы развиваются не самостоятельно, а как свойства
целостной личности ребенка, который обладает определенными
природными задатками и который живет, действует и воспитывается в
определенных социальных условиях. В процессе превращения беспомощного
младенца в самостоятельного взрослого человека, полноценного члена
1113
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
общества, происходит и развитие психики ребенка, усложняется и
совершенствуется отражение им объективной действительности.
В соответствии с таким диалектико-материалистическим пониманием
объекта исследования методы детской психологии направлены не только
на констатацию происходящих в психике возрастных изменений, но и на
изучение движущих причин и закономерностей, на установление
зависимости этих изменений от условий жизни и деятельности ребенка, от его
взаимоотношений с окружающими людьми. К числу частных
методических приемов, используемых в детской психологии, относятся
систематическое наблюдение, беседы, собирание и анализ продуктов детской
деятельности (рисование, лепка конструирование, литературное творчество),
а также различные виды эксперимента. Наряду с лабораторным
экспериментом широко используется естественный эксперимент, проводимый в
условиях, привычных для ребенка, и в формах близкой и интересной для
него деятельности (игры, учебные занятия и т. д.). Особо важное значение
не только для детской, но и для общей психологии имеет разработанный
советскими учеными метод формирующего генетически-моделирующего
эксперимента, который позволяет путем искусственного воспроизведения
наиболее существенных условий процесса формирования тех или иных
психических свойств у ребенка обнаружить внутренние закономерности
этого процесса.
Изучение детской психологии проводится в форме либо продольного
исследования, либо исследования посредством поперечных срезов. При
продольном исследовании изучается общее психическое развитие
отдельных психических процессов у одних и тех же детей на протяжении более
или менее продолжительного периода их жизни. При исследовании
посредством поперечных срезов один и тот же психический процесс изучается у
различных групп детей, стоящих на различных возрастных ступенях
развития или живущих и воспитывающихся в разных условиях. Первая форма
исследования более трудоемка и требует значительно большего
количества времени, чем вторая, но для выяснения ряда проблем детской
психологии, таких, например, как проблема становления детской личности, она
обладает определенными преимуществами.
История детской психологии как самостоятельной отрасли знания
началась в середине XIX в. До этого времени вопросы детской психологии
разрабатывались внутри общей психологии. В ранний период становления детской
психологии шло накопление эмпирического материала путем наблюдения за
ходом психического развития отдельных детей (дневниковые записи). Позднее
были сделаны попытки систематизировать и обобщить полученные
материалы. В конце XIX — начале XX в. в ряде стран появились обобщающие работы,
либо дающие суммарную характеристику психического развития ребенка,
либо освещающие отдельные вопросы детской психологии. Развитие детской
1114
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
психологии определялось требованиями педагогической практики и было
связано с развитием смежных наук. Значительную роль в ее становлении сыграли
появление эволюционной теории Ч. Дарвина, успехи физиологии нервной
системы и органов чувств (Г. Гельмгольц, И.М. Сеченов и др.), внедрение в
психологию объективных методов исследования.
Время формирования детской психологии совпало с периодом
методологического кризиса буржуазной науки вообще и психологии в
частности. В связи с этим в буржуазной детской психологии наблюдался отход от
стихийно-материалистических сенсуалистических тенденций и усиливались
идеалистические и механистические направления. Наряду с ценными
исследованиями таких видных зарубежных детских психологов, как А.
Валлон (1956, 1967), Дж. Брунер (1977), Ж. Пиаже (1969) и др., в США и
Западной Европе широкое распространение получили сочинения, в которых
детское развитие трактовалось с позиций фрейдизма, гештальтизма,
бихевиоризма и других психологических концепций.
В русской дореволюционной психологии наряду с идеалистическими
направлениями с самого начала обнаружилось сильное
материалистическое направление, связанное с общефилософскими воззрениями
революционных демократов и опирающееся на успехи естествознания. В 60-е годы
XIX в. И.М. Сеченов заложил основы материалистического понимания
онтогенеза человеческой психики, рассматривая психические процессы,
возникающие у ребенка, как рефлекторные по происхождению,
детерминированные в своем развитии условиями жизни и воспитания (И.М.
Сеченов, И.П. Павлов, Н.Е. Введенский).
Прогрессивное значение имели труды К.Д. Ушинского, который в книге
«Человек как предмет воспитания» (1950. Т. 8. Кн. 1) раскрыл роль
воспитания в психическом развитии ребенка и подчеркнул важное значение
психологии для педагогической теории и практики. Психологические идеи
К.Д. Ушинского разрабатывались П.Ф. Каптеревым. В дальнейшем начала
развиваться экспериментальная детская психология. Так, И.А. Сикорский
провел ряд экспериментальных психологических исследований и
опубликовал монографию «Душа ребенка» (1911). Много сделал для внедрения
экспериментальных методов в детскую и педагогическую психологию
А.П. Нечаев (1925). Появились труды П.О. Эфрусси (1928), H.A.
Рыбникова (1922, 1926), К.Н. Корнилова (1926). Вопросами формирования
детской личности занимались П.Ф. Лесгафт (1956), А.Ф. Лазурский (1923,
1925) и др. В 1903 г. ученик И.П. Павлова Н.И. Красногорский начал
изучение физиологии головного мозга у детей. Эти исследования, так же как и
близкие к ним работы В.М. Бехтерева и Н.М. Щелованова, были
продолжены в советской физиологии высшей нервной деятельности ребенка.
После Великой Октябрьской социалистической революции была
предпринята перестройка учения о психическом развитии ребенка на основе
1115
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
диалектического материализма. Первые попытки подойти к проблемам
детской психологии с позиций диалектического материализма сделаны в
20-х гг. К.Н. Корниловым и П.П. Блонским. В дальнейшем A.C. Выготский
совместно с А.Р. Лурия, а также А.Н. Леонтьевым и другими начал
теоретически и экспериментально разрабатывать проблемы
общественно-исторической обусловленности психического развития ребенка и изучать роль
усвоения общественного опыта в онтогенетическом формировании
высших, специфически человеческих психических процессов (осмысленное
восприятие, произвольное внимание, логическая память, понятийное
мышление и т. д.).
Существенное значение для дальнейшего развития советской детской
психологии имели проведенные в 30-х гг. теоретические и
экспериментальные исследования А.Н. Леонтьева (1931), С.Л. Рубинштейна (1946,1957) и
др., которые начали изучать зависимость развития психических процессов
и свойств личности ребенка от особенностей содержания и структуры его
деятельности. <...>
Выяснение роли деятельности и активного усвоения общественного
опыта в психическом развитии ребенка позволило обнаружить
несостоятельность концепций фатальной обусловленности судьбы детей
наследственностью и неизменной якобы средой и определило пути
продуктивного исследования истинных движущих причин онтогенеза человеческой
психики. Убедительные данные, показывающие зависимость развития
различных психических процессов и свойств у ребенка от содержания и
структуры его деятельности, были получены при исследовании детского
восприятия (Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко, 1964; Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Н. Леонтьев,
О.В.Овчинникова, 1957-1959; Б.М. Теплов, 1961), памяти (П.И.
Зинченко, 1961; A.A. Смирнов, 1966; и др.), мышления (П.Я. Гальперин, 1954,
1957, 1966; Г.С. Костюк, 1959; A.A. Люблинская, 1948, 1955, 1959;
H.A. Менчинская, 1966; Р.Г. Натадзе, 1940, 1975, 1976; Д.Б. Эльконин —
в кн.: Психология детей дошкольного возраста, 1964), мотивов и
ценностных установок детской личности (Л.И. Божович, 1968; А.Н. Леонтьев,
1972), а также самосознания и самооценки у детей (Б.Г. Ананьев, 1948).
По мере того как осуществлялся переход от описания процесса
психического развития детей к изучению движущих причин и
закономерностей этого процесса, возрастала практическая значимость детской
психологии и ее роль в разработке актуальных педагогических проблем обучения
и воспитания подрастающего поколения. Так, исследование Д.Б.
Элькониным, В.В. Давыдовым (Возрастные возможности усвоения знаний, 1966)
и другими психологами возможностей усвоения детьми младшего
школьного возраста содержательных научных понятий и разработка методов
поэтапной отработки умственных действий (П.Я. Гальперин, 1954, 1966)
открыло перспективы существенного обогащения программ начального
1116
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
обучения, что привело к значительному повышению уровня общего
развития учащихся начальных классов.
Подобно этому исследования советских психологов, выясняющие
психофизиологические возможности детей дошкольного возраста и
оптимальные педагогические условия реализации этих возможностей, создали
необходимую психологическую основу для дальнейшего совершенствования
программ и методов дошкольного воспитания и обучения.
2. Условия и движущие причины психического развития ребенка
Одна из важнейших проблем детской психологии — проблема
условий и движущих причин развития психики ребенка. Долгое время эта
проблема рассматривалась (и сейчас рассматривается многими психологами)
в плане метафизической теории двух факторов (наследственности и
внешней среды), которые в качестве внешних и неизменных сил
предопределяют ход развития детской психики. При этом одни авторы считали, что
решающее значение имеет фактор наследственности, другие приписывали
ведущую роль среде; наконец, третьи полагали, что оба фактора
взаимодействуют, конвергируют друг с другом (В. Штерн, 1922).
Л.С. Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др., исходя из
положений классиков марксизма-ленинизма о «социальном наследовании»,
о «присвоении» отдельным индивидом произведений материальной и
духовной культуры, созданных обществом, и опираясь на ряд теоретических и
экспериментальных исследований, заложили основы теории психического
развития ребенка и выяснили специфическое отличие этого процесса от
онтогенеза психики животного. В индивидуальном развитии психики животных
фундаментальное значение имеет проявление и накопление двух форм опыта:
видового (который передается будущим поколениям в виде наследственно
фиксированных морфологических свойств нервной системы) и
индивидуального, приобретенного индивидом путем приспособления к наличным
условиям существования. В отличие от этого в развитии ребенка, наряду с двумя
предыдущими, возникает и приобретает доминирующую роль еще одна,
совершенно особая форма опыта. Это опыт социальный, воплощенный в
продуктах материального и духовного производства, который усваивается
ребенком на протяжении всего его детства. В процессе усвоения детьми
социального опыта не только приобретаются отдельные знания и умения, но и
развиваются способности, формируется личность ребенка.
Ребенок приобщается к духовной и материальной культуре,
создаваемой обществом, не пассивно, а активно, в процессе деятельности, от
характера которой и от особенностей взаимоотношений, складывающихся у него
с окружающими людьми, во многом зависит процесс формирования его
личности.
1117
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Соответственно такому пониманию онтогенеза человеческой психики
возникает необходимость различать смешивавшиеся ранее понятия
движущих причин и условий развития. Так, врожденные свойства организма и
его созревание являются необходимым условием, но не движущей
причиной рассматриваемого процесса. Оно создает анатомофизиологические
предпосылки для формирования новых видов психической деятельности,
но не определяет ни их содержания, ни их структуры.
Говоря об общечеловеческих природных особенностях, и в частности
об особенностях человеческой нервной системы, необходимо иметь в виду,
что всякий нормальный ребенок рождается с мозгом, неизмеримо более
совершенным, чем мозг самых высших животных, позволяющим ребенку
усваивать такие знания и приобретать такие психические качества,
которым ни одно животное ни при каких условиях, ни при каких способах
обучения овладеть не может. Опыты, проводившиеся в СССР H.H.
Ладыгиной-Коте (1935) и за рубежом В. Келлог (L.A. Kellog, W.N. Kellog, 1933) по
воспитанию детенышей высших обезьян в человеческих условиях,
показали, что эти животные способны усвоить некоторые бытовые навыки и
довольно хорошо приспосабливаются к необычным для представителей их
вида обстоятельствам. Однако у них невозможно сформировать ничего
похожего на человеческое мышление или на человеческую волю.
Особенностью человеческого мозга является преобладание в его
структуре высших отделов — коры больших полушарий, т. е. органа
прижизненного формирования новых знаний и умений. В связи с этим ребенок
рождается с гораздо меньшим, чем у детенышей животных,
ассортиментом готовых, врожденных, форм поведения, но вместе с тем с неизмеримо
большими, чем у них, возможностями научения, что и позволяет ему
сделаться в конечном счете полноценным членом общества, овладевшим
опытом предшествующих поколений. Исследование онтогенеза нервной
системы показывает, что мозг новорожденного как по размерам, так и по
строению существенно отличается от мозга взрослого и лишь постепенно,
на протяжении детства, завершается процесс его созревания.
Вместе с морфологическими изменениями значительно изменяются
функции нервной системы. Так, исследования Н.И. Красногорского (1958),
A.A. Орбели (1955), Н.М. Щелованова (1949), Н.И. Касаткина (1951) и
других свидетельствуют о развитии высшей нервной деятельности на
протяжении детства, о совершенствовании основных нервных процессов —
возбуждения, торможения, индукции и т. д. Взаимоотношения между
морфогенезом и функционированием коры в онтогенезе, по данным
некоторых авторов (Б.Н. Клосовский, 1949; Н.И. Касаткин, 1951), сложные и
двусторонние. С одной стороны, для появления определенной функции
требуется известная степень зрелости нервной системы, с другой — само
функционирование оказывает влияние на созревание соответствующих
1118
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
структурных элементов. Таким образом, процесс созревания детского
организма, ход формирования его морфологических и функциональных
особенностей определяется не только генетической программой, но и
условиями жизни ребенка.
Наряду с общечеловеческими существуют и индивидуальные
особенности нервной системы, которые составляют одно из условий
психического развития в онтогенезе. К ним относятся типологические особенности,
как общие, так и «парциальные», характеризующие структурные и
функциональные свойства отдельных зон мозговой коры, составляющие
природные условия формирования тех или иных способностей. Исследования
Б.М. Теплова (1957,1961) и других ученых позволили более точно
определить типологические особенности высшей нервной деятельности человека
и их роль в происхождении индивидуальных психологических различий.
Типологические особенности, являясь относительно устойчивыми, все же
изменяются под влиянием обстоятельств жизни и деятельности человека.
Вместе с тем обнаруживается, что при всех типах нервной системы
имеются неограниченные возможности развития и каждый из типов
обладает своими преимуществами.
Признав важное значение для психического развития ребенка его
общечеловеческих и индивидуальных органических особенностей, а также
хода их созревания в онтогенезе, необходимо, однако, подчеркнуть, что
эти особенности представляют собой лишь условия, лишь необходимые
предпосылки, а не движущие причины формирования человеческой
психики. Как справедливо указывал Л.С. Выготский (Собр. соч.: В 6 т. Т. 2), ни
одно из специфически человеческих психических качеств, таких как
логическое мышление, творческое воображение, волевая регуляция действий и
т. д., не может возникнуть лишь путем вызревания органических задатков.
Для формирования такого рода качеств требуются определенные
социальные условия жизни и воспитания.
Об этом свидетельствует громадный фактический материал,
накопленный в современной психологии. Например, известны многочисленные
данные о том, что так называемый госпитализм, дефицит общения с
окружающими, различные виды изоляции от воспитательного влияния
взрослых людей (как это имело место в случаях, к сожалению, мало пока
изученных, когда дети раннего возраста были похищены и вскармливались
животными) приводят к резкому нарушению детского развития уже на
ранних возрастных ступенях и обусловливают возникновение глубоких
психических дефектов, которые с большим трудом преодолеваются на
последующих генетических стадиях. Но, пожалуй, наиболее убедительный ответ
на вопрос о том, что является истинной движущей причиной, а что лишь
условием, лишь предпосылкой духовного развития, дает исследование
слепоглухонемых детей.
1119
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Случаи слепоглухонемоты, углубленно и всесторонне исследованные
в нашей стране И.А. Соколянским (1947, 1961), а затем его учеником
А.И. Мещеряковым (1974), представляют собой жестокий и
драматический эксперимент природы, как будто специально предназначенный для
изучения внутренних законов формирования человеческой психики.
Слепоглухонемые от рождения, обладая нормальным человеческим
мозгом и, следовательно, обладая потенциально возможностями стать
полноценными людьми, вследствие слепоты и глухоты лишены тех
каналов связи с окружающим миром, которые используются при
обычных формах семейного и общественного воспитания, апеллирующих в
первую очередь к слуху (речевые воздействия) и зрению (наглядные
средства обучения). Обнаруживается, что в такого рода случаях
применение «обширных» педагогических воздействий бесплодно и,
несмотря на наличие соответствующих органических предпосылок,
слепоглухонемой ребенок фактически не может развиваться и даже на
поздних возрастных ступенях не в состоянии овладеть теми
простейшими способами практической и умственной деятельности, которые
легко усваиваются слышащими и видящими детьми уже в первые годы
жизни. Не подвергнувшийся специальному обучению
слепоглухонемой ребенок напоминает, скорее, детеныша животного, чем
человеческое дитя, он обладает весьма смутными представлениями об
окружающих людях и вещах, не владеет простейшими навыками
человеческого обихода, не обнаруживает никаких проблесков мышления,
лишен даже зачаточных форм речи.
Положение резко изменяется, когда с помощью специально
разработанных методов педагогического воздействия (они основываются на
использовании сохранного у этих детей тактильно-кинестетического
анализатора) удается пробить брешь в глухой стене, отделяющей
слепоглухонемых от окружающего мира, наладить их общение с людьми и
приобщить к культуре, созданной человечеством. В этих условиях, в
результате целенаправленного воспитания, реализуются потенциальные
возможности слепоглухонемого ребенка, и, как показывают уже
упоминавшиеся нами работы И.А. Соколянского, А.И. Мещерякова и
других, он способен, несмотря на органический дефект, достичь высших
ступеней человеческого развития, получить не только среднее, но и
высшее образование, стать ученым, писателем и т. д.
Проблема роли среды в психическом развитии ребенка решается
поразному, в зависимости от понимания общей природы изучаемого
генетического процесса. Даже те буржуазные авторы, которые признают
важную роль социальной среды в развитии человеческого индивида, обычно
рассматривают ее метафизически и считают, что она воздействует на
ребенка так же, как биологическая среда на детенышей животных. В
действи1120
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
тельности в обоих случаях различны не только среда, но и способы ее
влияния на процесс развития. Социальная среда (и преобразованная
человеческим трудом природа) не просто внешнее условие, а подлинный
источник развития ребенка, поскольку в ней содержатся все те материальные и
духовные ценности, в которых воплощены, по выражению К. Маркса,
способности человеческого рода и которыми отдельный индивид должен
овладеть в процессе своего развития (т. 42. С. 120-125).
Социальным опытом, воплощенным в орудиях труда, языке,
произведениях науки и искусства и т. д., дети овладевают не
самостоятельно, а при помощи взрослых, в процессе общения с окружающими
людьми. В связи с этим возникает важная и малоизученная в детской
психологии проблема общения ребенка с другими людьми и роли этого
общения в психическом развитии детей на разных генетических
ступенях. Исследования советских авторов показывают, что характер
общения ребенка со взрослыми и сверстниками изменяется и усложняется
на протяжении детства, приобретая форму то непосредственного,
эмоционального контакта, то общения речевого, то совместной
деятельности. Развитие общения, усложнение и обогащение его форм открывают
перед ребенком все новые возможности усвоения от окружающих
различного рода знаний и умений, что имеет первостепенное значение для
всего хода психического развития.
Усвоение детьми общественного опыта происходит не путем
пассивного восприятия, а в активной форме. Проблема роли различных видов
деятельности в психическом развитии ребенка интенсивно разрабатывается
в советской детской психологии. Изучались психологические особенности
игры, учения и труда у детей различных возрастов и влияние этих видов
деятельности на развитие отдельных психических процессов и
формирование личности ребенка в целом. Исследования ориентировочной части
деятельности позволили более глубоко проникнуть в ее структуру и более
детально выяснить ее роль в усвоении нового опыта. Обнаружилось, что
ориентировочные компоненты какой-либо целостной деятельности
выполняют функцию уподобления, моделирования тех материальных или
идеальных предметов, с которыми ребенок действует, и приводят к созданию
адекватных представлений или понятий о конкретных предметах. Это
положение имеет не только теоретическое, но и важное практическое
значение. Специальная организация ориентировочной деятельности играет
существенную роль в процессе педагогического руководства различными
видами деятельности детей. Диалектико-материалистический подход к
психическому развитию ребенка выдвигает проблему спонтанности
развития, наличия в нем мотивов самодвижения. Признание
детерминированности психического развития условиями жизни и воспитанием не отрицает
особой логики этого развития, наличия в нем определенного
самодвиже36 Российская психология 1121
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ния1. Каждая новая ступень психического развития ребенка закономерно
следует за предыдущей, и переход от одной ступени к другой обусловлен не
только внешними, но и внутренними причинами. Как во всяком диалектическом
процессе, в процессе развития ребенка возникают противоречия, связанные
с переходом от одной стадии развития к другой. Одно из основных
противоречий такого рода — противоречие между возросшими
физиологическими и психическими возможностями ребенка и сложившимися ранее
видами взаимоотношений с окружающими людьми и формами деятельности.
Эти противоречия, приобретающие подчас драматический характер
возрастных кризисов, разрешаются путем установления новых
взаимоотношений ребенка с окружающими, формирования новых видов деятельности,
что знаменует собой переход на следующую возрастную ступень
психического развития.
3. Возрастные периоды психического развития ребенка
Проблема возрастной периодизации принадлежит к числу весьма
важных и недостаточно разработанных проблем детской психологии.
Возрастные периоды психического развития представляют собой качественно
своеобразные ступени формирования детской личности. Дети разного возраста
отличаются друг от друга не только количеством приобретенных знаний и
умений, но и особенностями психики, отношением к окружающей
действительности. Хотя возрастные периоды психического развития
определенным образом зависят от количества прожитых лет и степени зрелости
организма, однако они могут не совпадать с хронологическим возрастом и
уровнем физического развития.
Различение отдельных возрастных периодов всегда в какой-то
степени приблизительно, так как развитие происходит непрерывно и трудно
установить четкую грань, когда кончается один период и начинается
другой; существуют и значительные индивидуальные вариации. За основу
возрастной периодизации нередко брали лишь показатели биологического
созревания, например смену зубов (беззубое, молочнозубое, постояннозубое
детство), кривую роста (первая полнота, первое вытягивание,
замедленный рост, второе вытягивание), половое развитие (предпубертатный и
пубертатный периоды) и др. В действительности созревание создает лишь
Следует строго различать смысл, с одной стороны, используемого
представителями биологизаторских концепций термина «спонтанность развития » как якобы
независимого от условий жизни и предопределенного внутренними генетическими
факторами и диалектико-материалистического понятия «спонтанейность
развития » как процесса, по ходу Которого возникают внутренние противоречия,
являющиеся его внутренними движущими причинами. — Прим. ред.
1122
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
известные предпосылки возрастных изменений. Возрастные особенности
психики существенным образом зависят от социальных условий и
воспитания. Так, Д.Б. Эльконин (1978), используя данные этнографии, детской
и сравнительной психологии, убедительно показал, что дошкольный
возраст с его специфическими проявлениями (в виде сюжетной игры и т. д.)
возникает в истории человечества относительно поздно, и было время,
когда его вообще не существовало.
Особое значение для характеристики возраста имеет ведущая
деятельность, в которой реализуются типичные для данной ступени развития
отношения ребенка с людьми и предметной действительностью и осуществляются
основные изменения его психики. В качестве такой деятельности в
дошкольном возрасте выступает игра, в школьном возрасте — учение и,
наконец, у взрослого человека — общественно полезный труд. В процессе
ведущей деятельности совершается активное усвоение детьми социального
опыта. Переход от более элементарных к более сложным ведущим
деятельностям увеличивает возможность усвоения нового опыта. Однако
каждый возрастной период обладает особой чувствительностью,
сензитивностъюу к определенного рода воздействиям, в связи с чем обучение
некоторым знаниям и умениям в младших возрастах оказывается иногда
более эффективным, чем в старших.
Сложившийся педагогический опыт и психологические наблюдения
позволили выделить в ходе развития ребенка следующие возрастные
периоды: младенческий возраст (от рождения до 1 года), раннее детство (от 1 года
до 3 лет), дошкольный возраст (от 3 до 7 лет), младший школьный возраст
(от 7 до 11-12 лет), подростковый возраст (от 11-12 до 14-15 лет), ранний
юношеский возраст (от 14-15 до 17-18 лет).
Следует отметить, что хотя ранее накопленный в детской психологии
материал довольно хорошо укладывается в приведенную схему
возрастной периодизации, однако последняя лишена подлинно научных
оснований, носит эмпирический, а не концептуальный характер и, отражая
особенности фактического хода развития при уже сложившейся системе
общественного и семейного воспитания, не может служить руководством
к перестройке и совершенствованию воспитательно-образовательного
процесса в новых общественно-исторических условиях.
Концепция «психологического возраста» существенно изменялась в
ходе развития детской психологии. Ассоциационисты, начиная с Д. Гартли
(D. Hartley, 1791), впервые в истории психологической науки предприняв
разработку проблем духовного развития ребенка, сводили это развитие к
количественным изменениям, к последовательному образованию у
индивида различного рода ассоциаций между получаемыми им впечатлениями
и представлениями. Представители бихевиоризма, которые вслед за Д.
Уотсоном (1926) считали, что духовная эволюция сводится к образованию
мезб* 1123
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ханических навыков и привычек, отрицали качественные изменения в ходе
психического развития ребенка.
Для позитивного решения проблемы периодизации важное значение
имели исследования швейцарского психолога Ж. Пиаже (1932; Ж. Пиаже,
Б. Инельдер, 1963; J. Piaget, 1947). Он подверг критике концепцию,
согласно которой ребенок — это маленький взрослый, отличающийся от
последнего лишь меньшим количеством знаний и умений. На основании своих
исследований Ж. Пиаже и его сотрудники пришли к выводу, что психика
маленького ребенка качественно своеобразна и его логика существенно
отличается от логики взрослого, в связи с чем в детском мышлении
обнаруживаются такие специфические особенности, как эгоцентризм, синкретизм,
нечувствительность к противоречиям и т. д. В дальнейшем, разрабатывая
новые методики психологического эксперимента и используя аппарат
современной логики, Ж. Пиаже выделил такие последовательные периоды
прогрессивного развития детского мышления, как периоды
сенсомоторного интеллекта, конкретных операций и, наконец,
формально-логического, дедуктивно-гипотетического мышления.
Если концепция Ж. Пиаже носит интеллектуалистический характер и
строится лишь на учете возрастных изменений в мышлении ребенка, то
представители фрейдизма и неофрейдизма пытались создать возрастную
периодизацию, имея в виду только эволюцию
мотивационно-эмоциональной сферы личности. Прогресс детского развития трактовался
фрейдистами как эволюция изначально присущих и имеющих доминирующее для
ребенка побудительное значение биологических влечений (в первую
очередь влечений сексуальных), которые в ходе адаптации к окружающим
условиям лишь видоизменяются, приобретают новую форму проявления
на различных стадиях возрастного развития при неизменности их сути, их
природы.
При разработке проблем возрастной периодизации детства
обнаружился своеобразный дуализм, выразившийся в том, что две неразрывно
связанные стороны развития ребенка (развитие интеллектуальной и
мотивационно-эмоциональной сфер) рассматривались отдельно, независимо
друг от друга. При всем различии взглядов сторонников Ж. Пиаже, с
одной стороны, и 3. Фрейда — с другой, их сближает, как справедливо
отмечает Д.Б. Эльконин (1960,1971), ложно натуралистическое понимание
ребенка как индивида, для которого общество представляет лишь особую
среду обитания, к этой среде человеческие дети адаптируются так же, как
адаптируются к биологической среде детеныши животных.
Решающую роль в критике такого рода натуралистических взглядов
сыграли исследования Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева (1972, 1975),
С.Л. Рубинштейна (1946), Д.Б. Эльконина (1971,1978), которые показали,
что ребенок развивается как член общества и что его мышление так же, как
1124
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
мотивы его поведения, формируется под влиянием социальных условий
жизни и воспитания, в результате усвоения способов действия, имеющих
социальное происхождение, нравственных норм и идеалов. Согласно А.Н. Леонтьеву,
такое усвоение происходит в активной форме, в процессе деятельности
ребенка, содержание и структура которой изменяются на протяжении
детства. В результате исследований А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, Д.Б.
Эльконина и других было установлено, что переход от одного этапа
возрастного развития к другому связан со сменой одного вида ведущей деятельности
другим.
4. Особенности различных видов детской деятельности и их роль
в психическом развитии ребенка
Одним из выдающихся достижений детской психологии явилось
систематическое изучение генезиса, строения и специфического содержания
различных видов детской деятельности и их роли в психическом развитии
ребенка.
Так, работы М.И. Лисиной (1974) и ее сотрудников позволили
проследить возникновение уже в первые месяцы жизни ребенка своеобразной
деятельности «непосредственно-эмоционального общения» с
окружающими, которая приобретает ведущее значение в младенческом возрасте.
Оказалось, что так называемый комплекс оживления, который впервые был
описан Н.Л. Фигуриным (Н.Л. Фигурин, М.П. Денисова, 1949) и Н.М.
Щеловановым (1938) и который первоначально складывается как «пассивная»
комплексная эмоциональная реакция на появление взрослого, затем
перерастает при определенных условиях в систему активных действий,
направленных на привлечение внимания окружающих, на общение с ними, на
получение от них новой информации. Эмоциональное общение со взрослыми,
осуществляемое еще без речи, с помощью мимически-выразительных
средств, играет, как свидетельствуют многочисленные данные,
накопленные в детской психологии, очень важную роль в психическом развитии
ребенка. К концу первого года жизни характер общения изменяется и
появляются новые его формы — синпрактического, наглядно-действенного
общения с окружающими, осуществляемого в деятельности,
производимой ребенком совместно со взрослым. В связи с этим совершается переход
к предметным действиям, приобретающим ведущее значение в раннем
детстве (от 1 до 3 лет).
Изучая особенности предметных действий ребенка раннего возраста
и использования им окружающих вещей в качестве орудий при
достижении целей, одни западноевропейские исследователи трактовали такого рода
использование как проявление интеллектуального озарения, как продукт
индивидуального изобретения ребенка (К. Бюлер, 1924; В. Келер, 1930),
1125
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
другие — как результат его приспособления, адаптации к окружающей
предметной среде (Ж. Пиаже, 1969; Ж. Пиаже, Б. Инельдер, 1963; и др.).
И те и другие ошибочно отождествляли процессы овладения орудиями у
детей и использования естественных средств у животных, игнорируя
принципиальное различие указанных процессов.
В противоположность этому в советской детской психологии
благодаря исследованиям П.Я. Гальперина (1936) и других ученых удалось
выявить существенное качественное различие между человеческими
орудиями и средствами, используемыми животными, а также установить
закономерный ход формирования орудийных операций у детей в процессе
овладения ими общественно сложившимися способами употребления
предметов домашнего обихода и простейших инструментов.
Многочисленные данные говорят о том, что в процессе предметных
действий у детей интенсивно развивается восприятие, а затем и
нагляднодейственный, или, как выражается Ж. Пиаже, «сенсомоторный»,
интеллект. Исследования Ф.И. Фрадкиной (1950) показали, что по мере
овладения детьми предметными действиями происходит обобщение последних и
возникает возможность их переноса с одних предметов на другие,
имеющие в реальной жизни иное назначение. Таким образом, создаются
предпосылки для перехода к игровой деятельности, которая приобретает
ведущее значение в дошкольном возрасте.
Одна из основных проблем психологии детской игры, имеющая и
важное педагогическое значение, — проблема происхождения игры. В
западноевропейской и американской психологии распространена точка зрения,
что детская игра имеет инстинктивный, биологический характер и что
принципиальной разницы между игрой ребенка и игрой животного нет. Эта
точка зрения была сформулирована еще К. Гроосом (1916). В дальнейшем
натуралистическое понимание игры получило развитие у фрейдистов, для
которых игра представляет собой проявление антисоциальных влечений.
В марксистской литературе Г.В. Плеханов (1925), критикуя К.
Грооса, первым поставил вопрос о социальной природе детской игры. В
дальнейшем проблемы социального происхождения игры ребенка, ее
специфического содержания и структуры, в отличие от игровой деятельности
животных, разрабатывались психологами A.C. Выготским (1966, 1982.
Т. 1; 1983, Т. 3), А.Н.Леонтьевым (1972), Д.Б. Элькониным (1948, 1966,
1978) и др.
Д.Б. Эльконин, проанализировав большой исторический и
этнографический материал, убедительно показывает, что игра в ходе развития
общества появляется относительно поздно. Есть данные, что на самых ранних
ступенях развития человеческого общества, когда основным способом
добывания пищи было собирательство с применением примитивных орудий
для сбивания плодов и выкапывания съедобных корней, никакой игры не
1126
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
существовало. Ребенок рано приобщался к труду взрослых, практически
усваивая способы добывания пищи и употребления примитивных орудий.
При таких условиях не было ни необходимости, ни времени для
подготовительных стадий, в частности для стадии «игровой» подготовки детей к
будущей трудовой деятельности.
Рост производительных сил и усложнение общественных отношений
в эпоху первобытно-общинного строя существенно изменили положение
ребенка в обществе. С одной стороны, происходило половое и возрастное
разделение труда, сопровождающееся вычленением особых видов работ,
поручаемых детям, с другой — появились такие виды труда и такие
способы трудовых действий, которые были недоступны маленьким детям и
требовали их специальной подготовки. Так создалась общественная
необходимость готовить подрастающее поколение к будущей общественно
полезной деятельности. В этих условиях, по предположению Д.Б.
Эльконина, и возникла детская игра, сначала — в форме игры-упражнения, где
функции игровой деятельности и прямого обучения еще не разграничены,
а позднее — в форме сюжетно-ролевой игры с ее особым содержанием и
особым воспитательным значением.
Социальная обусловленность этого процесса осуществляется как бы
в двух планах и может быть.рассмотрена с двух точек зрения.
С одной стороны, изменение положения детей в обществе, их
вытеснение из сложных форм производственной деятельности взрослых
вызывают у ребенка потребность приобщиться к этой деятельности, если не
понастоящему, то хотя бы в игровой форме. Как ни стремится ребенок быть
воспитателем, строителем или шофером, он не в состоянии это сделать
реально, потому что у него нет ни физических сил, ни знаний и умений. Но он
может сделать все это в игре, активно воспроизводя привлекательные для
него действия и взаимоотношения взрослых и тем самым приобщаясь к
социальной жизни, становясь в известном смысле ее участником. Таким
образом, выясняется, что, вопреки утверждениям фрейдистов,
происхождение мотивов детской игры не биологическое, а социальное.
С другой стороны, игра ребенка социальна не только по мотивам, но и
по структуре, по способам осуществления. На эту сторону впервые
обратил внимание Л.С. Выготский (1982, Т. 2; 1966), указав, в частности, на
опосредующую роль речевых знаков в игровой деятельности и подчеркнув
важное значение этого момента для формирования в игре специфически
человеческих психических функций — речевого мышления, произвольной
регуляции действий и т. д.
В дальнейшем этот вопрос изучал Ж. Пиаже, который собрал и
систематизировал ряд интересных фактов, касающихся символизма детской
игры. Обстоятельный критический анализ концепции символизма игры,
предложенной Ж. Пиаже, содержится в работе Д.Б. Эльконина (1978).
1127
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Укажем лишь на один момент, непосредственно касающийся проблемы
детерминации игры. Выдвинув вопрос генетической связи игровых и более
сложных форм интеллектуального воспроизведения действительности,
Ж. Пиаже неправомерно противопоставил общественной природе знака
чисто субъективное индивидуальное происхождение игрового символа,
рассматривая его как результат ассимиляции воспринимаемой
действительности эгоцентрическим мышлением ребенка. С этой точки зрения способы
игрового изображения окружающего возникают как бы спонтанно, в
процессе саморазвития детского интеллекта.
В действительности дело обстоит иначе. На определенной ступени
исторического развития общество, сообразуясь с воспитательными
задачами и возрастными особенностями детей, начинает культивировать игру,
производя определенные игрушки и игровые материалы, создавая
традиционные сюжеты и правила игры, передаваемые из поколения в поколение.
Так вырабатываются и фиксируются общественно сложившиеся способы
игрового изображения действительности. Они становятся своеобразными
элементами культуры, наподобие художественных приемов, используемых
в таких видах народного творчества, как сказки, создаваемые специально
для детей, для их воспитания и развития.
Если это так, то следует предположить, что в ходе развития
отдельного ребенка игра возникает не самопроизвольно — как продукт
индивидуального творчества, а под влиянием социального окружения, в результате
усвоения социального опыта.
Существуют, по-видимому, органические предпосылки игры в виде,
например, разнообразных ориентировочно-исследовательских реакций,
которые обнаруживаются в игровых манипуляциях предметами у детей
раннего возраста. Но одних предпосылок недостаточно для
возникновения специфически человеческих форм игровой деятельности, к которым в
первую очередь должна быть отнесена сюжетно-ролевая игра. Чтобы она
появилась, ребенку необходимо овладеть некоторыми способами
игрового воспроизведения действительности, научиться пользоваться
игрушками, приобрести умение разыгрывать известные сюжеты и подчиняться
правилам игры.
В условиях семейного воспитания игровые формы обычно
усваиваются стихийно, в результате непосредственного общения со взрослыми, со
старшими братьями и сестрами. Именно потому, что этот процесс
проходит стихийно, без сознательно поставленных педагогических целей, он
производит впечатление спонтанного и часто трактуется именно так в
психологической и педагогической литературе.
В условиях общественного воспитания (например, яслях), когда
детей-однолеток в группе много, а воспитателей мало и они принуждены
осуществлять педагогическое влияние на ребенка более целенаправленно,
бо1128
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
лее планомерно, чем это делается в семье, иллюзия спонтанности
возникновения игры рушится. Исследования педагогов (Н.М. Аксарина, 1944;
и других) и психологов (Ф.И. Фрадкина, 1950; и других), изучавших игры
детей раннего возраста в яслях, убедительно свидетельствуют о том, что на
определенной возрастной ступени ребенка необходимо учить играть и что
без соответствующих воспитательных воздействий игра не возникает или
задерживается в развитии.
Однако из того, что ребенок на первых порах усваивает технику игры,
вовсе не следует, что этим дело ограничивается и что дальнейшее развитие
игровой деятельности можно представить себе как прямой результат
обучения разыгрывать все более сложные сюжеты, предлагаемые
воспитателем в известной последовательности. Усваиваемые способы игрового
изображения действительности рано обобщаются, переносятся в новые
ситуации и существенно видоизменяются детьми в соответствии с
формирующимися у них потребностями и интересами. Именно переходя в форму
детской самодеятельности, игра приобретает наибольшее влияние на
психическое развитие ребенка и вместе с тем получает наибольшую
педагогическую ценность. Чтобы обеспечить этот переход, воспитатель должен
вовремя изменить методы руководства игрой и выполнять уже функции не
столько обучающего, сколько организатора детской жизни и
деятельности.
Иногда приходится слышать возражения против самой постановки
указанного вопроса на том основании, что психическое развитие ребенка
идет путем усвоения общественного опыта, а из этого якобы следует,
будто на любой генетической ступени развитие осуществляется не в игре, а в
обучении. Такого рода возражения основываются на недоразумении.
Обучение есть двусторонний процесс. С одной стороны, он предполагает
деятельность обучающего, который учит, передает детям те или иные знания и
умения; с другой — деятельность ребенка, в процессе которой он
овладевает новым содержанием. Детская деятельность бывает различной: в
зависимости от обстоятельств, применяемых педагогических воздействий и
возраста ребенка она может приобретать характер практических
манипуляций с предметами, игры или специальной учебной деятельности. Во всех
случаях имеет место обучение в широком смысле слова, хотя оно и
протекает различным образом в условиях разных видов детской деятельности.
Нельзя противопоставлять игру обучению вообще, а необходимо выяснить,
как в игре осуществляется обучение и как оно влияет на развитие
способностей ребенка.
В западноевропейской детской психологии распространен взгляд на игру
лишь как на выражение психических способностей, вызревающих независимо
от нее. Еще В. Штерн (1922) подчеркивал, что для появления творческой
ролевой игры необходимо созревание способностей к воображению.
1129
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Исследования А.Н. Леонтьева (1972) и его сотрудников обнаружили,
что на самом деле имеется обратная зависимость. Так, исследования
Г.Д. Лукова (1937) и Ф.И. Фрадкиной (1950) показали, что в ранних
формах детской игры отсутствует воображение и что оно постепенно
складывается под влиянием игровой деятельности.
Роль игры в развитии психических процессов у дошкольников
изучалась в сравнительных исследованиях. Т.В. Ендовицкая (1947) установила
повышение эффективности сенсорных процессов у ребенка-дошкольника
в условиях игры. З.М. Богуславская (1955, 1966) обнаружила переход
детей на более высокий уровень абстракции и обобщения, осуществляемых в
играх. З.М. Истомина (1948) показала, что в игре создаются наилучшие
условия для формирования процессов произвольного запоминания и
припоминания. Пользуясь выражением С.Л. Рубинштейна (1946), можно
сказать, что психические процессы ребенка не только проявляются, но и
формируются в играх.
Почему именно в игре создаются благоприятные условия для
усвоения новых знаний и умений и для развития у дошкольников психических
процессов? Пытаясь ответить на этот вопрос, обратимся к данным
исследований формирования умственных действий и понятий, которые были
начаты A.C. Выготским (1982. Т. 2), А.Н. Леонтьевым (1972, 1980) и
А.Р. Лурия (1974, 1975) и интенсивно осуществляются П.Я. Гальпериным
(1954, 1957, 1966) и его сотрудниками. Внутренние, умственные, или
идеальные, действия формируются у человека на основе внешних,
материальных, действий путем их «поэтапного» изменения и преобразования. Это
положение имеет весьма важное теоретическое значение, ибо оно
устанавливает генетическую связь идеальных, психических, действий с
действиями материальными, практическими, и, таким образом, является крупным
шагом в развитии материалистического понимания; психического. Вместе
с тем это положение имеет большое практическое значение: оно создает
психологические основы для педагогического руководства самим
процессом формирования умственных действий и понятий, для сознательного
управления этим процессом.
До сих пор проблемы формирования умственных действий
разрабатывались главным образом на материале школьного обучения письму,
счету, грамоте и т. д. Однако есть данные, свидетельствующие о том, что эти
закономерности обнаруживаются и в дошкольном возрасте, в частности в
игровой деятельности детей. В игре своеобразными путями
осуществляется поэтапное формирование психических процессов, формирование,
идущее от внешних, материальных (или материализованных), действий к
действиям в уме, в плане представлений.
Поэтапная отработка умственных действий и понятий в игре
обычно происходит стихийно, неорганизованно; одни этапы опускаются,
дру1130
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
гие совмещаются между собой, и общая эффективность процесса
оказывается не во всех случаях одинаково высокой. Но, как показывают
исследования, при соответствующих методах педагогического руководства
игрой в дидактических целях этот процесс может быть упорядочен и его
эффективность значительно повышена.
С точки зрения отмеченных выше теоретических соображений,
важная роль игры в психическом развитии объясняется тем, что она вооружает
дошкольника доступными для него способами активного воссоздания,
моделирования с помощью внешних, предметных, действий таких
содержаний, которые при других условиях были бы недосягаемыми и,
следовательно, не могли быть по-настоящему освоены.
До появления сюжетной игры возможности ребенка раннего возраста
ограничены узкими пределами непосредственного практического
манипулирования предметами. С появлением сюжетной игры положение
коренным образом изменяется. Игра позволяет воссоздать в активной,
нагляднодейственной форме неизмеримо более широкие сферы действительности,
далеко выходящие за пределы личной практики ребенка. В игре
дошкольник с помощью своих движений и действий с игрушками активно
воссоздает труд и быт окружающих взрослых, события их жизни, отношения
между ними и т. д. Тем самым складываются необходимее условия для
осознания ребенком новых областей действительности, а вместе с тем и
для развития соответствующих способностей.
Согласно данным психологических исследований (Г.Д. Луков, 1937;
Ф.И. Фрадкина, 1950; и другие), игровые действия ребенка на первых
порах носят максимально развернутый характер и обязательно требуют
материальной опоры в реальных предметах или замещающих их игрушках.
На этом этапе новое содержание не может быть воспроизведено ребенком
в уме, в воображаемом плане — нужны внешние игровые действия с
предметами. В дальнейшем игровые действия своеобразно изменяются. По
данным Д.Б. Эльконина (1978), они начинают сокращаться и обобщаться,
постепенно снижается значение материальной опоры (если, например,
отсутствуют необходимые игрушки, ребенок совершает соответствующие
действия с воображаемыми предметами). Л.С. Выготский (1983. Т. 3)
подчеркивал в свое время существенное значение речи в такого рода
изменениях игровых действий. Положение Л.С. Выготского о важности слова в
детской игре (противоположное, как известно, точке зрения Ж. Пиаже)
получило дополнительное экспериментальное подтверждение в
исследовании Г.Л. Выгодской (1964,1966), которая убедительно показала, что при
задержках в усвоении речи (у глухонемых детей) задерживается и
развитие игры.
У говорящих детей стихийно возникающее или стимулируемое
взрослым словесное формулирование игрового замысла, речевое обозначение
1131
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
совершаемых поступков, игровое переименование предметов и т. д.
способствуют сокращению и обобщению игровых действии, а также их
переносу на новые предметы и в новые ситуации. Вместе с тем вербализация
игровых действий, или, как выражается П.Я. Гальперин, «отработка » этих
действий в плане громкой речи, приводит к тому, что они могут
совершаться частично в умственном плане, в плане воображения. У старших
дошкольников, в отличие от младших, в игре много воображаемого и действия
внешние как бы чередуются, с действиями внутренними, представляемыми.
На более поздних ступенях развития, обычно уже в школьном
возрасте, некоторые виды игр почти полностью переносятся в умственный план.
Под влиянием пережитого или прочитанных книг дети разыгрывают в
воображаемом плане различные путешествия, приключения любимых
героев, исторические события и т. д., почти не совершая внешних действий. Так
на основе внешней игры с материальными предметами складывается
идеальная игра, «игра воображения».
По мере развертывания детских игр происходит два рода тесно
связанных, но не совпадающих друг с другом изменений в психике ребенка.
Одно изменение заключается в усвоении детьми в процессе игры
отдельных знаний и умений. Эта важная сторона игры используется и должна
использоваться еще больше в дидактических играх, занимающих
немаловажное место в системе дошкольного воспитания. А вот в
сюжетно-ролевой игре наиболее существенна не эта сторона. Ведь уже в дошкольном
возрасте знания и умения, как показали исследования А.П. Усовой (1976)
и ее сотрудников, могут успешно усваиваться в процессе обучения на
занятиях. При этом есть возможность гораздо более организованно и
последовательно производить поэтапную отработку усваиваемых знаний и умений
(которая в игре, как мы говорили, осуществляется в значительной мере
стихийно).
Поэтому мы придаем большое значение другого рода психическим
изменениям, происходящим в игре. Они заключаются не в переходе
отдельных действий из материального в идеальный, умственный, план, а в
формировании у ребенка на основе внешней игровой деятельности самого
этого умственного плана, в развитии способности создавать системы
обобщенных, типичных образов окружающих предметов и явлений и затем
совершать различные их мысленные преобразования, подобные тем,
которые ранее совершались реально с материальными объектами.
Трудно переоценить развитие такой способности к воображению или
к образному мышлению для всего последующего развития ребенка. Не
говоря уже о том, что без воображения невозможна никакая специфически
человеческая деятельность, складывающийся у ребенка план наглядных
представлений о действительности и формирующаяся способность ими
оперировать, составляют первый, так сказать, цокольный этаж общего
зда1132
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ния человеческого мышления. Без такой основы невозможно построение и
функционирование в будущем более высоких этажей, или уровней,
интеллекта, которые характеризуются сложными системами абстрактных
логических операций с помощью специальных знаковых средств.
В тесной связи с развитием образного мышления в игре формируется
и способность руководствоваться при выполнении системы действий
определенными умственными образами, представлениями. В процессе игры
ребенок приобретает возможность совершать такие действия не только под
влиянием непосредственно воспринимаемой ситуации, но и
соответственно имеющемуся замыслу, игровым правилам. Так, дошкольник, умывая и
одевая куклу, готовя ей завтрак, отправляя ее в детский сад и т. д.,
руководствуется не непосредственно воспринимаемыми свойствами
находящихся перед ним игрушек, а представлениями о том, как и в какой
последовательности все это делается или должно делаться в известной ему социальной
среде. Здесь обнаруживаются простейшие формы действия в соответствии
с представляемой целью, и недаром Л.С. Выготский (1983. Т. 3), а затем
А.Н.Леонтьев (1972) подчеркивали важное значение игры для развития
произвольности детского поведения. Может быть, самое важное качество,
которое формируется у ребенка в процессе игровой деятельности, — это,
по словам глубокого знатока детской психологии К.И. Чуковского,
«дивная способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться
радостями другого, переживать чужую судьбу как свою» (К.И.
Чуковский. От двух до пяти. В кн.: Стихи и сказки. М., 1984. С. 443-444). Игра,
как и сказка, учит ребенка проникаться мыслями и чувствами
изображаемых людей, выходя за крут обыденных впечатлений, в более широкий мир
человеческих стремлений и героических поступков.
Итак, не отрицая специальной дидактической ценности игры (любой
игры вообще и дидактической в особенности), мы придаем гораздо
большее значение ее общевоспитательной роли в развитии способностей к
творческому воображению, к произвольному управлению своими действиями,
к сопереживанию.
Поскольку мы коснулись воспитательной роли игры, необходимо
остановиться на вопросе о влиянии игровой деятельности на формирование
нравственных качеств детской личности. До недавнего времени педагоги и
психологи, изучая этот вопрос, сосредоточивали внимание по преимуществу на
сюжетной стороне игры. Предполагалось, что если сюжеты детских игр
имеют положительное моральное содержание, если дети воспроизводят в игре
человеческие действия, обладающие положительной нравственной ценностью,
то это и должно в основном обеспечить формирование соответствующих
нравственных качеств личности. Бесспорно, сюжет — важнейшая сторона игры,
и через сюжет педагог может существенно влиять на игру и на
взаимоотношения играющих. Однако только ли в сюжетном содержании игры заключается
1133
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ее воспитательная роль? Обеспечивает ли сюжетное содержание само по себе
полноценное нравственное развитие ребенка?
Отвечая на эти вопросы, мы будем основываться главным образом на
результатах исследований А.П. Усовой (1976), посвященных проблемам
игры как формы организации детской жизни. Научная заслуга А.П.
Усовой в том, что она открыла в игре как бы новый пласт процессов и
отношений, ранее исследователям не известный или, во всяком случае,
недостаточно изученный. Она показала, что помимо взаимоотношений, которые
разыгрываются детьми в соответствии с принятым сюжетом и взятой на
себя ролью, в игре или по поводу игры возникают другого рода
отношения — уже не мнимые, не изображаемые, а действительные, реальные.
Отношения разыгрываемые и реальные, тесно связаны, однако они не
тождественны и могут расходиться друг с другом.
Когда, например, ребенок выполняет весьма положительную роль
доктора, который заботливо осматривает и лечит своих партнеров, то еще
неизвестно, какие реальные отношения скрываются за такого рода
высоконравственным сюжетом. Может быть, между играющими имеется полное
дружеское согласие. А может случиться и так, что здесь назревает
конфликт, ибо дети, изображающие больных, тяготятся своими
малосодержательными, пассивными ролями, а ребенок, изображающий доктора, не
считается с ними и руководствуется в игровой деятельности лишь
узкоэгоистическими интересами. Таким образом, несмотря на моральность
сюжета, нравственный уровень реальных взаимоотношений детей в игре
может оказаться весьма низким.
Хотя наличие реальных взаимоотношений детей в игре отмечалось и
раньше в педагогических работах (В.П. Залогина, 1945; и других), а также в
психологических исследованиях (Д.Б. Эльконин, 1948), однако А.П.
Усова впервые подвергла специальному изучению их особенности и влияние на
становление детского коллектива, а вместе с тем и на формирование
общественных качеств личности.
Основное значение А.П. Усова придавала не парной педагогике, а
«педагогике детского коллектива », где воздействие воспитателя
опосредуется детским обществом, через которое осуществляется влияние на
отдельного ребенка. Конечно, социальные отношения между детьми
устанавливаются не только в игре, но и в других видах деятельности: в
труде, учении и т. д. Но в неигровых деятельностях функции и связи
участников по необходимости жестко определяются взрослым и на долю детей
остается ограниченная возможность приобрести какой-либо опыт
самостоятельного налаживания взаимоотношений, опыт, столь необходимый
для жизни в обществе, в коллективе.
Иное дело — самостоятельная игра, где дошкольники вступают в
разнообразные контакты между собой по собственной инициативе, где они
1134
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
имеют возможность строить взаимоотношения в значительной мере
самостоятельно, сталкиваясь с особенностями и интересами партнеров и
приучаясь считаться с ними в совместной деятельности. Это подлинная
социальная практика ребенка, его реальная жизнь в коллективе, в котором
формируются общественные качества и моральное сознание личности. Вот
почему важно использовать игру в широких воспитательных целях как
форму организации совместной жизни и деятельности детей.
Указание на самодеятельный характер игры и на первостепенное
значение самостоятельности детей в установлении взаимоотношений друг с
другом вовсе не означает отрицания необходимости педагогического
руководства игрой. Однако это руководство, как справедливо отмечает
А.П. Усова, должно существенно отличаться от руководства другими
видами деятельности. Нельзя учить детей правильным взаимоотношениям
так, как обучают навыкам счета или письма, но можно и должно управлять
формированием этих взаимоотношений, организуя жизнь детей с учетом
их возможностей и интересов и направляя самодеятельность детского
коллектива в требуемое русло. Педагог здесь выступает не столько в роли
обучающего, сколько в роли организатора детской деятельности. Именно эту
роль A.C. Макаренко считал важнейшей и специфической для
воспитательного процесса.
Направляя игру, воспитатель тоже учит детей, учит их, в частности,
простейшим нравственным нормам, становится регулятором
коллективных взаимоотношений, помогает справедливо решать возникающие споры
и повышает моральный уровень детского поведения. Чтобы эти нормы
выполнялись не только под давлением авторитета взрослого и
использовались не только в качестве внешнего аргумента при решении уже
разразившихся ссор и конфликтов, но и стали бы внутренними мотивами поведения,
следует подготовить почву для их усвоения. Такая психическая почва
создается лишь путем специально организованной практики
взаимоотношений детей как в процессе игры, так и в других видах деятельности. В
дружном коллективе, живущем содержательной, полноценной жизнью, дети
приобретают положительный социальный опыт и проникаются
общностью чувств и стремлений задолго до того, как начинают отчетливо
осознавать высокие моральные принципы.
На протяжении дошкольного детства в ситуации игры в тесной связи с
ней складываются новые виды деятельности, которые все больше влияют
на психическое развитие ребенка. Об этом свидетельствуют данные
Я.З. Неверович, изучавшей психологические особенности простейших
видов трудовой деятельности дошкольников, а также работы H.H.
Поддьякова (1977), A.A. Венгера (в кн.: Диагностика умственного развития
дошкольников, 1978) и других, исследовавших формирование компонентов
учебной деятельности в процессе дошкольного обучения.
1135
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Таким образом, создаются предпосылки для перехода от
дошкольного к школьному возрасту, когда ведущее значение в детском развитии
приобретает уже не игра, а учебная деятельность.
Если ранее в детской и педагогической психологии при
характеристике учебной деятельности указывали лишь на то, что при ее осуществлении
ребенок обучается определенным знаниям и умениям, то теперь
обнаружилось, что такого определения недостаточно. Дело в том, что ребенок
обучается и до школы, на всех ступенях развития, в самых различных
видах детской деятельности: в процессе непосредственного общения с
окружающими людьми, в результате осуществляемых им предметных действий,
игры и т. д.
В школьном возрасте, в связи с формированием учебной
деятельности, ребенок переходит к новой, более высокой ступени усвоения
общественного опыта, накопленного предшествующими поколениями. Исследования
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова (в кн.: Вопросы психологии учебной
деятельности младших школьников, 1962) и других авторов позволили
выявить основные компоненты учебной деятельности и некоторые
закономерности ее формирования в школьном возрасте.
По данным Л.И. Божович (1948, 1951, 1968) и ее сотрудников,
учебная деятельность отличается от игры прежде всего мотивацией. Уже к
концу дошкольного возраста игровые мотивы постепенно теряют для ребенка
побудительную силу, и у него возникает стремление к серьезной,
общественно значимой деятельности. Такой доступной каждому ребенку в
современных условиях деятельностью является учебная деятельность. Для
ее успешного осуществления очень важно, чтобы соответствующие
мотивы и стремления к серьезной деятельности начали формироваться в
первоначальном виде уже в дошкольном детстве. В дальнейшем, в процессе
школьного обучения, детям открывается его социальный смысл, который
заключается в том, чтобы под влиянием учения достигнуть не каких-либо
внешних результатов, а совершенствования самих учащихся, вооружить
их новыми знаниями и умениями, развить их способности, необходимые
для будущей общественно полезной деятельности. В соответствии с этим
перед ребенком выступают и приобретают побудительную силу новые
задачи, отличные от тех, которые решались им ранее — в процессе
практической или игровой деятельности.
Если ранее сложившиеся виды детской деятельности были
направлены на преобразование внешней действительности, то теперь перед
ребенком стоит задача изменить самого себя путем овладения определенными
обществом способами действия. Формирование в процессе школьного
обучения новых мотивов и новых задач деятельности предполагает коренное
изменение внутренней позиции ребенка в условиях школьного обучения,
переход от позиции, которая, пользуясь выражением Д.Б. Эльконина,
мо1136
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
жет быть условно названа практической или утилитарной, к позиции
теоретической или познавательной.
Выделение и решение учебных задач связано с формированием
третьего важнейшего компонента учебной деятельности — учебных
операций, входящих в состав способа действий и представляющих собой его
оперативные содержания. Ведь обобщенные научные знания не могут быть
просто пересажены из головы учителя в голову ученика. Усвоение научных
понятий необходимо предполагает, что учащийся владеет определенными
операциями, позволяющими ему выделить и обобщить те свойства и
отношения объектов, которые составляют содержание этих понятий.
Учебные операции, которыми овладевает школьник в процессе
обучения различным учебным предметам, многочисленны и многообразны. Так,
при формировании способа определения морфосемантической структуры
слова это операции, направленные на конкретные изменения слова, на
сравнение слов и установление сходства и различия между ними, на выяснение
их фонемного состава и т. д. При формировании операций, необходимых
для установления математических отношений, это измерение с помощью
меры, сравнение двух величин путем установления взаимно-однозначного
соответствия между ними, различного рода графические операции и т. д.
Одним из важнейших компонентов учебной деятельности является
также действие контроля. Причем, учитывая специфику учебной задачи,
важно, чтобы ребенок научился контролировать свои действия не только
по их конечному результату, но и по ходу его достижения, т. е. чтобы
контроль приобрел процессуальный, пооперационный характер. Такая форма
контроля в наибольшей мере способствует целенаправленному и
осмысленному овладению детьми соответствующими способами действия, что
составляет важнейшую задачу учебной деятельности.
Учебная деятельность играет, как указывал еще Л.С. Выготский (1982.
Т. 2), ведущую роль в психическом развитии ребенка школьного возраста.
В процессе учебной деятельности формируются такие специфические для
данного возраста психические новообразования, как понятийное
мышление, произвольное внимание, логическая память, складывается
мировоззрение и система нравственных установок личности.
Процесс формирования учебной деятельности весьма сложен и
зависит от тех социально-исторических условий, в которых живет и
развивается ребенок, а также от содержания и организации школьного обучения. {...}
Как мы уже указывали, смена одного рода ведущей деятельности
другой знаменует собой переход от одного этапа психического развития к
другому и приводит к глубоким качественным изменениям детского сознания.
В этих переходах обнаруживается внутренняя логика развития, так как
психофизиологические предпосылки перехода к новому виду
деятельности подготавливаются на предшествующем возрастном этапе. Вместе с тем,
1137
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
поскольку формирование нового вида деятельности существенным
образом зависит, как мы пытались показать, от условий жизни и воспитания
ребенка, дети одного и того же возраста, подвергавшиеся различным
педагогическим воздействиям, могут приобретать неодинаковые
психологические особенности. Поэтому в настоящее время выдвигается динамическая
теория психического возраста, основывающаяся на характеристике
возрастных психологических особенностей не абстрактного ребенка вообще,
а ребенка конкретного, живущего в определенных социальных условиях и
воспитывающегося определенным образом.
5. Значение последовательных возрастных периодов детства
для общего хода формирования человеческой личности
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что
психофизиологические возможности детей, в частности детей дошкольного и
младшего школьного возрастов, значительно выше, чем предполагалось ранее,
и эти возможности далеко не полностью используются при современных
методах семейного и общественного воспитания.
Так, исследования A.A. Венгера (в кн.: Диагностика умственного
развития дошкольников, 1978) и H.H. Поддьякова (1977) обнаружили
несостоятельность взглядов таких видных зарубежных ученых, как Ж. Пиаже,
Б. Инельдер, которые утверждали, что мышление маленького ребенка
алогично, синкретично, что оно способно схватывать лишь внешнее, лишь
единичное в наблюдаемых явлениях, а не общее, существенное. В
противоположность этому упомянутые исследователи убедительно показали: хотя
мышление дошкольников носит наглядно-образный характер, при
соответствующей организации обучения они могут в наглядно-образной форме
отразить не только единичное, но и общее, не только внешнюю сторону
воспринимаемых предметов и явлений, но и некоторые существенные
связи и взаимозависимости между ними. Иначе говоря, при определенных
условиях дошкольники могут овладеть такими обобщенными
умственными действиями, которые, как полагали ранее, становятся доступными лишь
детям школьного возраста.
Советские исследователи опровергают господствующие в зарубежной
детской психологии представления о дошкольнике как существе
индивидуалистическом, эгоцентрическом, у которого преобладают узколичные,
эгоистические мотивы поведения. В противоположность этому
исследования Л.И. Божович (1972, 1978), Я.З. Неверович (1955), A.C. Славиной
(1947) и других говорят о том, что нравственный эгоцентризм маленького
ребенка не есть некая обязательная и неизменная особенность его
возраста и что при определенной организации воспитательной работы у него
могут быть сформированы такие социальные мотивы поведения и такие
нрав1138
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ственные и волевые качества личности, которые прежде считали
характерными для детей значительно более старших возрастов.
Таким образом, экспериментальные психологические исследования
подтверждают положение о том, что психологические особенности детей
разных возрастов существенным образом зависят от социальных условий
жизни и воспитания. Вместе с тем эти исследования открывают новые
перспективы для дальнейшего совершенствования программ и методов
дошкольного воспитания и школьного образования в целях повышения
уровня общего развития детей.
Приведенные данные не могут служить, однако, основанием для
полного отрицания, как это делают в настоящее время некоторые
американские психологи (A. Bandura, R.H. Walters), качественного своеобразия
психики детей различных возрастов. Они не могут также служить основанием
для того, чтобы, становясь на позиции модной на Западе концепции
искусственной акселерации детского развития, идти по пути сверхраннего
максимально форсированного обучения маленького ребенка, не считаясь с его
возрастными психофизиологическими особенностями.
На первый взгляд убедительным аргументом в пользу концепции
искусственной акселерации развития могут служить результаты
исследований М.Б. Мак-Гроу (М.В. McGrow, 1935), успешно обучавшей младенцев
плаванию, катанию на роликах и различным акробатическим
упражнениям; О. Моора, вырабатывавшего навыки чтения и печатания на машинке на
втором году жизни; П. Супписа, формировавшего довольно сложные
логико-математические операции у 4-5-летних детей, и т. д.
Не входя в обсуждение конкретных результатов каждого из упомянутых
исследований (некоторые из них, несомненно, представляют известный
научный интерес), остановимся на критическом анализе общей концепции
детского развития, которая обосновывается данными этих исследований. По
существу, эта концепция представляет собой современный вариант подвергнутой в
свое время критике A.C. Выготским (1982. Т. 2), Г.С. Костюком (1956),
С.Л. Рубинштейном (1946) бихевиористской теории, отождествляющей
развитие с обучением, отрицавшей качественное своеобразие последовательных
возрастных периодов детства, а заодно и специфическое значение данных
этапов онтогенеза для общего формирования человеческой личности.
Для критического анализа подобного рода концепций и для
позитивного решения проблемы возраста требуется, по-видимому, более
дифференцированный подход к процессам обучения и развития, выделение разных
видов и форм этих процессов. В частности, представляется существенным
различение тесно связанных (но все же не тождественных) процессов
функционального и собственно возрастного развития ребенка.
Процесс функционального развития, который может наблюдаться у
детей различных возрастов и который происходит при усвоении ребенком,
на1139
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
пример, отдельных умственных действий и понятий, был подвергнут
углубленному систематическому исследованию П.Я. Гальпериным и его
сотрудниками. Согласно ПЯ. Гальперину, после предварительной ориентировки в
задании формирование умственного действия проходит ряд этапов. Первоначально
ребенок осваивает его в плане внешнего материального действия с вещами.
Потом оно переносится в план громкой речи, пока наконец не превращается в
действие умственное, осуществляемое в идеальном плане. «Первая
самостоятельная форма нового действия ребенка — материальная, окончательная его
форма — «умственная », идеальная, а переход от первой к последней, процесс
в целом, есть не что иное, как образование ряда качественно разных
отражений этого материального действия, с последовательным отвлечением
определенной стороны его и превращением таким путем материального
преобразования вещей в способ мышления о них, явления материального — в явление
сознания» (П.Я. Гальперин. В кн: Доклады на совещании по вопросам
психологии (3-8 июля 1953 г.). М., 1954. С. 199).
Обычно при традиционных методах обучения последовательность
указанных этапов во многом нарушается, отработка действий в том или ином
плане не осуществляется или осуществляется неполностью, в связи с чем
соответствующие умственные процессы образуются медленно и часто
оказываются в том или ином отношении дефектными; обладающими
существенными недостатками. В противоположность этому целенаправленное
поэтапное формирование позволяет в относительно короткий срок
выработать полноценные умственные действия со всеми необходимыми,
заранее заданными свойствами.
Выявленная П.Я. Гальпериным закономерность поэтапного
формирования носит, вероятно, в общем, универсальный характер и проявляется в
том или ином виде (об этих видах мы еще будем говорить в дальнейшем) на
разных возрастных ступенях при овладении детьми различными знаниями
и умениями. Вместе с тем проведенное исследование свидетельствует о том,
что функциональное и возрастное развитие не тождественны, не
совпадают друг с другом. Так, хотя при целенаправленном, специально
организованном поэтапном формировании возможно уже на ранних возрастных
ступенях выработать у ребенка весьма сложные отдельные действия и
понятия, это, согласно данным П.Я. Гальперина, далеко не всегда само по себе
приводит к более общим изменениям мышления ребенка и характера его
деятельности, знаменующим собой переход на новую ступень возрастного
развития.
В то же время обнаруживается, что, не будучи тождественными,
процессы функционального и возрастного развития органически связаны друг
с другом. С одной стороны, есть основания полагать, что частные,
парциальные изменения, происходящие при формировании отдельных действий,
создают необходимые предпосылки для тех глобальных перестроек
дет1140
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ского сознания, которые характеризуют ход возрастного развития. С
другой стороны, выясняется (и это имеет очень важное значение для
обсуждаемой нами проблемы), что функциональное развитие протекает
по-разному в разные возрастные периоды развития ребенка, так как поэтапное
формирование умственных действий предполагает последовательное их
осуществление на различных уровнях, в различных планах, что было бы
невозможно, если бы эти уровни или планы, уже предварительно не
сложились на данной возрастной ступени. Например, отработка действия в
речевом плане невозможна у младенца, у которого еще не сложилась
вторая сигнальная система, а выполнение этих действий в
«материализованном плане», в плане оперирования наглядными моделями недоступно
ребенку раннего возраста, у которого еще не развита способность соотносить
изображение с изображаемым. Как же образуются новые уровни, новые
планы отражения действительности?
П.Я. Гальперин на основании своих исследований делает вывод, что
такого рода более общие сдвиги в детской психике, знаменующие собой
переход на новую, более высокую ступень развития, совершаются при
особом (третьем) типе учения, связанном с кардинальной перестройкой
ориентировочной основы действия, с образованием новых «общих схем»,
новых структур мышления.
Что же служит предпосылкой такого рода перестройки, такого рода
переориентации? Есть основания полагать, что такие фундаментальные
изменения могут происходить лишь на базе существенных изменений
деятельности в целом. Например, маловероятно, чтобы упомянутая
концептуальная ориентировочная схема могла образоваться в ситуации
специфической для дошкольника игровой или практической деятельности.
По-видимому, для ее формирования необходим переход к учебной
деятельности школьного типа, которая, судя по результатам исследований
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова (в кн.: Вопросы психологии учебной
деятельности младших школьников, 1962; В.В.Давыдов, 1972), имеет
значительно более сложное содержание, чем деятельность дошкольника, и
характеризуется своими особыми способами, задачами и мотивами.
Итак, есть основания полагать, что возрастное развитие, в отличие от
функционального, заключается не столько в усвоении отдельных знаний и
умений, сколько в образовании новых психофизиологических уровней,
новых планов отражения действительности и определяется общими
изменениями характера детской деятельности; оно связано с перестройками
системы отношений ребенка с предметным миром и окружающими людьми.
«...В изучении развития психики ребенка,— пишет А. Н. Леонтьев,—
следует исходить из анализа развития его деятельности так, как она
складывается в данных конкретных условиях его жизни » (Проблемы развития
психики. 1972. С. 505). «Жизнь или деятельность в целом, — пишет далее
1141
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
А.Н. Леонтьев, — не складывается, однако, механически из отдельных
видов деятельности. Одни виды деятельности являются на данном этапе
ведущими и имеют большее значение для дальнейшего развития личности,
другие — меньшее. Одни играют главную роль в развитии, другие —
подчиненную. Поэтому нужно говорить о зависимости развития психики не от
деятельности вообще, а от ведущей деятельности.
В соответствии с этим можно сказать, что каждая стадия
психического развития характеризуется определенным, ведущим на данном этапе
отношением ребенка к действительности, определенным, ведущим типом его
деятельности.
Признаком перехода от одной стадии к другой является именно
изменение... ведущего отношения ребенка к действительности» (там же).
Под влиянием ведущей деятельности происходят двоякого рода
изменения в психике ребенка. Так, многочисленные исследования,
проведенные под руководством А.Н. Леонтьева, говорят о том, что в дошкольном
возрасте функциональное развитие, формирование отдельных действий,
переход от выполнения в материальном плане к осуществлению их в плане
представлений наиболее эффективно происходит в игре и близких к ней по
характеру формах изобразительной деятельности. Наряду с этим в
психике ребенка-дошкольника происходят и более фундаментальные
изменения. Они заключаются уже не в овладении отдельными действиями и их
последовательном осуществлении на различных уровнях, в различных
планах, а в формировании самих этих уровней, например в возникновении на
основе внешней игровой деятельности внутреннего плана представляемых,
воображаемых преобразований действительности.
При анализе закономерностей возрастного развития психики,
связанного с переходом от одного вида ведущей деятельности к другому,
обнаруживается также важное значение усвоения общественного опыта,
накопленного предшествующими поколениями. В связи с этим психика детей
одного и того же возраста, живущих в различных социально-исторических
условиях и подвергающихся различным воспитательным воздействиям,
сохраняя некоторые общие возрастные черты, может приобретать весьма
различное конкретное содержание и разные структурные особенности.
Вместе с тем сопоставление хода возрастного и функционального
развития говорит о том, что по сравнению с овладением отдельными действиями
процесс возрастных преобразований детской деятельности носит
значительно более глубокий, фундаментальный характер. Основой таких
преобразований является, как показали исследования А.Н. Леонтьева (1972), Л.И.
Божович (1968) и других, не только усвоение известной совокупности знаний и умений,
но и кардинальное изменение жизненной позиции ребенка, установление новых
взаимоотношений с окружающими людьми, переориентация на новое
содержание, формирование новых мотивов поведения и ценностных установок.
1142
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Говоря о социальной детерминации рассматриваемого процесса,
необходимо иметь в виду не узко понимаемое обучение, а воспитание в
широком смысле слова, которое не сводится к формированию отдельных действий
и понятий, а необходимо предполагает соответствующую организацию
жизни и деятельности ребенка в целом. Вместе с тем следует согласиться с
А. Валлоном (Н. Wallon, 1963), что, хотя созревание организма ребенка не
является, как мы уже указывали, движущей причиной возрастного
развития детской психики, оно составляет его необходимое условие. Этим,
в частности, существенно отличается, как подчеркивал A.C. Выготский,
онтогенез человеческой психики от ее филогенеза, от
общественно-исторического развития человеческого сознания, которое происходило, как
известно, в течение последних 30-40 тыс. лет без каких-либо существенных
изменений морфологических свойств homo sapiens, сложившихся в период
возникновения человеческого рода.
Очевидная несостоятельность старых теорий рекапитуляции С.
Холла или позднее появившейся теории «трех ступеней» К. Бюлера (1924),
пытавшихся доказать, что все психическое развитие ребенка
предопределено ходом созревания его организма, вызвала скептическое отношение к
проблеме взаимозависимости созревания и развития и побудила,
например, Ж. Пиаже усомниться в значимости данной проблемы для
психологии вообще. По этому поводу можно лишь заметить, что ложная трактовка
проблемы еще не означает, что проблема сама по себе является мнимой.
Особая необходимость в ее рассмотрении ощущается при изучении
ранних периодов психического развития, когда наблюдается наиболее
интенсивное созревание детского организма. Взаимосвязь развития и
созревания пока мало изучена. Но накапливающиеся в детской психологии,
генетической физиологии и возрастной морфологии факты дают
известные основания считать, что такая зависимость существует и что она носит
не односторонний, а двусторонний характер.
С одной стороны, созревание организма ребенка вообще и его нервной
системы в частности, которое носит, как показывают морфогенетические
исследования (Цитоархитектоника коры большого мозга человека, 1949),
также стадиальный характер, не порождая само по себе новых
психологических образований, создает на каждой возрастной ступени
специфические предпосылки для усвоения нового рода опыта, для овладения новыми
способами деятельности, для формирования новых психических
процессов.
Так, можно предположить, что интенсивное созревание
проекционных зон коры в раннем детстве создает известные органические
предпосылки для формирования предметных действий и развития предметных
восприятий на данной возрастной ступени. Подобно этому начинающееся
в дошкольном возрасте созревание интегративных, ассоциативных
корко1143
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
вых зон создает, по-видимому, необходимую органическую основу для
объединения отдельных действий ребенка в целостные системы игровых и
продуктивных деятельностей и для овладения относительно сложными
комплексами новых знаний и умений.
С другой стороны, обнаруживается и обратная зависимость
созревания от развития, обусловленного жизнью и воспитанием ребенка.
Вызываемое этими условиями усиленное функционирование определенных
систем организма, определенных мозговых структур, находящихся на данном
возрастном этапе в стадии интенсивного созревания, оказывает, как об этом
свидетельствуют работы Н.И. Касаткина (1951), Б.Н. Клосовского (1949),
Д. Креча, Р. Розенцвейга и других авторов, существенное влияние на
биохимию мозга, на морфогенез нервных структур, в частности на
миелинизацию нервных путей, на рост и дифференциацию нервных клеток в
соответствующих зонах мозговой коры.
Таким образом, возрастное психическое развитие ребенка,
определяемое в основном, как выражается Н.П. Дубинин (1983), «социальной
программой», зависящее от усвоения общественного опыта, накопленного
предшествующими поколениями, имеет вместе с тем глубокую
органическую основу, с одной стороны, создающую необходимые предпосылки для
развития, а с другой — претерпевающую существенные изменения под
влиянием особенностей функционирования соответствующих органических
систем, реализующих те или иные виды детской деятельности.
Итак, хотя критический анализ обнаруживает несостоятельность
метафизических теорий возраста, это еще не дает основания отрицать
качественное своеобразие последовательных этапов возрастного развития
психики ребенка и игнорировать такого рода своеобразие при организации
педагогического процесса.
Современные данные говорят о том, что маленькие дети обладают
психофизиологическими возможностями значительно большими, чем
предполагалось до сих пор. Однако обнаруживается, что у детей различных
возрастов эти возможности разные и их следует по-разному использовать.
Подчеркивая, например, чрезвычайную пластичность, обучаемость
детей дошкольного возраста, бихевиористы не учитывают того, что эта
обучаемость носит избирательный, специфический характер, и дети, стоящие
на данной возрастной ступени, обнаруживают сенсибильность не ко всем,
а к определенного рода воздействиям и наиболее эффективно овладевают
не любыми, а лишь определенного рода содержаниями и определенного
рода способами деятельности. Представители механистической теории
развития полагают, что ребенка-дошкольника можно обучить чему угодно
путем специальной тренировки, и, таким образом, фактически отрицают
особое значение ранних периодов детства и тех качественных изменений
психики, которые совершаются в эти периоды, для общего хода
человече1144
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ского развития. Отсюда следует вывод, формулируемый некоторыми
современными представителями американской педагогической психологии
относительно того, что дальнейший прогресс интеллектуального развития
человечества будет якобы связан с сокращением детства. Так, исходя из
современных данных о больших психофизиологических возможностях
маленьких детей, некоторые американские педагоги предлагают в целях
ускорения развития фактически ликвидировать дошкольное детство и
осуществлять школьное обучение основам наук начиная с 4-летнего возраста.
Как известно, большая заслуга в преодолении подобных
механистических концепций, сводящих психическое развитие к количественному
накоплению знаний и умений, которое может быть ускорено путем
форсирования обучения, принадлежит Ж. Пиаже. Его исследования позволили
обнаружить глубокие качественные изменения в мышлении ребенка при
переходе от одного возрастного периода к другому. Вместе с тем он
рассматривает психическое развитие ребенка как результат его
индивидуального приспособления к окружающему, игнорируя роль в этом процессе
усвоения общественного опыта, приводящего не только к формированию
отдельных действий и умственных операций, но и к воспроизведению,
воссозданию на протяжении детства всей целостной структуры основных
свойств человеческой личности, сложившейся в ходе
социально-исторического процесса и отвечающей требованиям того общества, в котором
ребенок живет и развивается.
Неверное понимание движущих причин детского развития приводит к
ошибочной точке зрения на значение последовательных возрастных
периодов этого развития. Эту точку зрения можно было бы назвать
финалистской. Согласно Ж. Пиаже, те последовательные стадии, которые проходит
в развитии ребенок, стадии сенсомоторного интеллекта, интуитивного,
образного мышления, конкретных операций и т. д., имеют, так сказать,
преходящее значение, лишь подготавливая возможность возникновения
мышления формально-логического. Когда в подростковом возрасте в качестве
финального, конечного, результата всего предшествующего развития
появляется формально-логическое, гипотетико-дедуктивное мышление, все
ранее возникшие виды интеллектуальной деятельности якобы теряют
значение, уступая место более сложным и более совершенным формам
познания действительности.
Один из существенных недостатков такого рода финалистской
концепции — отсутствие системного подхода к структуре психических свойств
развитой человеческой личности, ошибочное ее понимание как
одноуровневого монопланового образования, характеризующегося лишь ансамблем
поздно формирующихся логических операций, которые якобы способны
осуществить ориентирующую роль в поведении без опоры на ранее
образующиеся психические процессы.
1145
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В противоположность этому в советской психологической и
физиологической литературе были выдвинуты положения о системном и
смысловом строении человеческого сознания (A.C. Выготский. 1982. Т. 1; 1984.
Т. 4), О многоуровневом строении механизмов регуляции поведения
(H.A. Бернштейн, 1966), о иерархической соподчиненности деятельности
как существенной психологической характеристике человеческой
личности (А.Н. Леонтьев, 1972,1975). Такой системный подход к проблеме дает
возможность хотя бы гипотетически представить себе
психофизиологическую структуру зрелой человеческой личности как сложную
иерархическую систему соподчиненных, надстраивающихся друг над другом
планов, или уровней, отражения действительности и психической регуляции
деятельности субъекта, как, фигурально выражаясь, здание, состоящее из
ряда надстраивающихся друг над другом этажей.
Не говоря о допсихических уровнях афферентации и регуляции
безусловнорефлекторных функций, есть основания выделить уровень
перцептивных действий, осуществляемый в поле непосредственного
восприятия окружающей ситуации, уровень воображаемых преобразований
действительности в плане наглядно-образного мышления, затем уровень
умственных действий, осуществляемых с помощью знаковых систем в плане
отвлеченного, понятийного мышления, и т. д. Насколько позволяют судить
накопленные в психологии данные, эти уровни отражения
действительности внутренне связаны с уровнями мотивации человеческой деятельности,
которые тоже соподчинены друг другу, характеризуются известной
иерархией ценностных ориентации и установок личности.
Можно полагать, что в развитой форме у взрослого человека такая
многоуровневая, «многоэтажная» система функционирует как единое
целое и при решении сложных практических или умственных задач
требуется согласованная работа всех психофизиологических механизмов,
осуществляющих преобразование получаемой информации на всех уровнях, на
всех «этажах» этой системы.
В ходе развития ребенка отдельные уровни подобного рода системы
формируются поэтапно, один за другим, и хотя при возникновении более
высокого уровня деятельности нижележащие уровни видоизменяются,
проходят путь дальнейшего развития, подчиняясь высшему контролю, они
не теряют своего значения, выполняя подспудную роль в общей системе
ориентации и регуляции осмысленной деятельности. Так, чрезвычайно
быстро развивающиеся у ребенка раннего возраста процессы восприятия
или интенсивно формирующиеся в дошкольном детстве процессы
наглядно-образного мышления и творческого воображения играют важную роль
не только в жизни маленьких детей, но и в деятельности взрослого
человека — рабочего, инженера, ученого, писателя. Даже в области математики и
теоретической физики, где, казалось бы, отвлеченное абстрактное
мышле1146
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ние должно иметь исключительное значение, по свидетельству таких
выдающихся ученых, как Н. Винер (1983), П.Л. Капица (1965), А. Эйнштейн
(см.: В.Е. Львов, 1958), первостепенную роль играет интуитивное,
наглядно-образное познание действительности (...)
«...Никакое отвлеченное познание, — писал С.Л. Рубинштейн, —
невозможно в отрыве от чувственного. Это верно не только в том смысле, что
любое теоретическое мышление исходит в конечном счете из
эмпирических данных и приходит к самому отвлеченному содержанию в результате
более или менее глубокого анализа чувственных данных, но и в том, более
глубоком смысле, что то или иное, пусть очень редуцированное,
чувственное содержание всегда заключено и внутри отвлеченного мышления,
образуя его подоплеку» (Бытие и сознание, 1957. С. 70-71). А эта подоплека,
эта чувственная основа всякой умственной деятельности, начинает
складываться уже в первые годы жизни ребенка.
Существенный вклад в общий ход формирования человеческой
личности вносит развитие в раннем возрасте не только интеллектуальной, но и
мотивационно-эмоциональной сферы ребенка. Те первые эмоциональные
отношения, которые складываются у младенца с матерью и другими
близкими людьми, а затем и более широким кругом сверстников и взрослых,
чувства сыновней любви, сочувствие другому человеку, дружеская
привязанность и т. д. затем обогащаются, претерпевают глубокие изменения и
служат необходимой основой для возникновения впоследствии более
сложных социальных чувств. Происходит как бы перенос этих рано
возникающих человеческих эмоций с близкого на далекое, с более узкой на более
широкую область социальных отношений, приобретающих в процессе
развития ребенка такой же глубокий личностный смысл, как и его
взаимоотношения с родными и близкими. Образные выражении «любовь к
материродине», «преданность отчизне», «братство всех трудящихся» говорят о
том, что истоки высших человеческих эмоций лежат в переживаниях
раннего детства.
Многочисленные факты свидетельствуют: если соответствующие
интеллектуальные и эмоциональные качества по тем или иным причинам не
развиваются должным образом в раннем детстве, то позже преодолеть
такие недостатки трудно, а подчас и невозможно. Так, ум человека, у
которого в детские годы не сформировалось должным образом
непосредственное восприятие окружающего и наглядно-образное мышление, может
получить впоследствии одностороннее развитие, приобрести чрезмерно
отвлеченный, оторванный от конкретной действительности характер.
Подобно этому раннее неблагополучие аффективных
взаимоотношений с близкими взрослыми и сверстниками или дефектность
эмоционального общения с окружающими создает опасность нарушения
последующего формирования личности и может привести, например, к тому, что
1147
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ребенок, став взрослым, даже если и достигнет высокого уровня
интеллектуального развития, окажется человеком сухим и черствым, неспособным
вчувствоваться в радости и печали других людей, устанавливать с ними
теплые, дружеские взаимоотношения.
Все сказанное заставляет сделать вывод, что отрицание качественного
своеобразия ступеней возрастного развития ребенка и трактовка их как
имеющих временное, преходящее значение, как проявление лишь
незрелости, несовершенства маленького ребенка неправомерны.
Мы попытались обосновать положение, согласно которому
возникающие на ранних возрастных ступенях психологически, новообразования
имеют непреходящее, абсолютное значение для всестороннего развития
индивида, вносят свой особый, неповторимый вклад в формирование
человеческой личности.
Радикальным по видимости, но утопическим по сути является
утверждение о том, что ценой искусственной акселерации развития ребенка,
путем сокращения детства может быть достигнут в дальнейшем духовный
прогресс человечества. Человеческое детство, значительно более
длительное и неизмеримо более богатое по характеру происходящих на его
протяжении психических изменений, чем детство животных,— величайшее
достижение и громадное преимущество homo sapiens. Оно дает возможность
ребенку до достижения зрелости приобщиться к богатствам духовной и
материальной культуры, созданной обществом, приобрести
специфические для человека способности и нравственные качества личности и, став,
таким образом, «на плечи» предшествующих поколений, двигаться далее
по пути социального и научно-технического прогресса. ...надо не
сокращать детство, а так совершенствовать содержание, формы и методы
воспитания, чтобы на каждой возрастной ступени развития ребенка обеспечить
последовательное поэтапное формирование всех ...физических и
духовных качеств, всех ...творческих способностей и высоких нравственных
побуждений...
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Д.Б. ЭЛЬКОНИН:
«ПРОЦЕСС ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕН
И КОНКРЕТЕН»
Эльконин Даниил Борисович (1904-1984)
психолог, соратник Л.С. Выготского. С позиций
культурно-исторической теории и теории деятельности
А.Н. Леонтьева решал широкий круг проблем
генетической (возрастной) психологии. Произвел
психологический анализ игры, выявил ее роль в процессе
развития ребенка («Детская психология», 1960;
«Психология игры», 1978). Исследовал учебную
деятельность, показал новые возрастные
возможности детей. На основе этих исследований
совместно с В.В. Давыдовым был разработан проект
развития системы образования, известный как
развивающее обучение по системе Эльконина-Давыдова. Дал глубокий анализ
новаторской научной концепции Л.С. Выготского, обозначив ее термином
«неклассическая психология». Выдвинутая Элькониным концепция
периодизации психического развития детей, основанная на понятии «ведущей
деятельности», остается крупным вкладом в одну из фундаментальных
проблем психологии.
К ПРОБЛЕМЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ1
I
Проблема периодизации психического развития в детском возрасте
является фундаментальной проблемой детской психологии. Ее
разработка имеет важное теоретическое значение, поскольку через определение
периодов психического развития и через выявление закономерностей
переходов от одного периода к другому в конечном счете может быть решена
проблема движущих сил психического развития. Можно утверждать, что
всякое представление о движущих силах психического развития должно
быть прежде всего поверено на «оселке» периодизации.
От правильного решения проблемы периодизации во многом
зависит стратегия построения системы воспитания и обучения
подрастающих поколений в нашей стране. В этом заключается практическое
зна1 Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском
возрасте// Вопросы психологии. 1971. № 4. С. 6-20.
1149
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
чение этой проблемы, которое будет нарастать по мере того, как будет
приближаться время для разработки принципов единой общественной
системы воспитания, охватывающей весь период детства. Необходимо
подчеркнуть, что возможность построения такой системы в
соответствии с законами смены периодов детства впервые возникает в
социалистическом обществе, так как только такое общество максимально
заинтересовано во всестороннем и полном развитии способностей каждого
своего члена, а следовательно, в возможно более полном
использовании возможностей каждого периода.
В настоящее время в нашей детской психологии используется
периодизация, построенная на основе фактически сложившейся системы
воспитания и обучения. Процессы психического развития теснейшим образом
связаны с обучением и воспитанием ребенка, а само членение
воспитательно-образовательной системы основано на громадном практическом
опыте. Естественно, что установленное на педагогических основаниях
членение детства относительно близко подходит к истинному, но не совпадает с
ним, а главное, не связано с решением вопроса о движущих силах развития
ребенка, о закономерностях переходов от одного периода к другому.
Изменения, происходящие в системе воспитательно-образовательной
работы, вскрывают то обстоятельство, что «педагогическая периодизация» не
имеет должных теоретических оснований и не в состоянии ответить на ряд
существенных практических вопросов (например, когда надо начинать
обучение в школе, в чем заключаются особенности
воспитательно-образовательной работы при переходе к каждому новому периоду и т. д.).
Назревает своеобразный кризис существующей периодизации.
В тридцатые годы проблеме периодизации большое внимание уделяли
П.П. Блонский и A.C. Выготский, заложившие основы развития детской
психологии в нашей стране. К сожалению, с того времени, у нас не было
фундаментальных работ по этой проблеме.
П.П. Блонский указывал на историческую изменчивость процессов
психического развития и на возникновение в ходе исторического развития
новых периодов детства. Так, он писал: «Современный человек при
благоприятных социальных условиях развития развивается дольше и быстрее
человека прежних исторических эпох.
Таким образом, детство — не вечное неизменное явление; оно — иное
на иной стадии развития животного мира, оно иное и на каждой иной
стадии исторического развития человечества.
Чем благоприятнее экономические и культурные условия развития,
тем быстрее темпы развития. В коммунистическом обществе дети будут
быстрее развиваться и, конечно, будут гораздо развитее теперешних своих
сверстников» [1; 326]. И далее: «В то же время мы видим, что сейчас еще
юность, т е. продолжение роста и развития после полового созревания,
яв1150
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ляется далеко не общим достоянием: у находящихся в неблагоприятных
условиях развития народов или общественных групп рост и развитие
заканчивается вместе с половым созреванием. Таким образом, юность не есть
вечное явление, но составляет позднее, почти на глазах истории
происшедшее приобретение человечества» [1; 326].
П.П. Блонский был противником чисто эволюционистских
представлений о ходе детского развития. Он считал, что детское развитие является
прежде всего процессом качественных преобразований,
сопровождающихся переломами, скачками. Он писал, что эти изменения «могут
происходить резко критически, и могут происходить постепенно, литически.
Условимся называть эпохами и стадиями времена детской жизни, отделенные
друг от друга кризисами, более (эпохи) или менее (стадии) резкими.
Условимся также называть фазами времена детской жизни, отграниченные друг
от друга литически » [2; 7].
В последние годы своей жизни Л.С. Выготский писал большую книгу
по детской психологии. Некоторые ее главы были им написаны, а
некоторые только намечены и сохранились в виде стенограмм лекций, которые он
читал. Самим Л.С. Выготским были подготовлена к печати глава
«Проблема возраста », в которой дается обобщение и теоретический анализ
материалов по проблеме периодизации психического развития в детстве,
накопленных к тому времени в советской и зарубежной психологии.
«Мы могли бы предварительно определить психологический
возраст, — писал Л.С. Выготский, — как определенную эпоху, цикл или
ступень развития, как известный относительно замкнутый период развития,
значение которого определяется его местом в общем цикле развития и в
котором, общие законы развития находят всякий раз качественно
своеобразное выражение.
В этом смысле возрастные ступени развития можно было бы сравнить
с историческими ступенями или эпохами в развитии человечества, с
эволюционными эпохами в развитии органической жизни или с геологическими
эпохами в истории развития Земли. При переходе от одной возрастной
ступени к другой возникают новые образования, не существовавшие в
предшествующие периоды, перестраивается и изменяется самый ход развития.
Таким образом, развитие ребенка и есть не что иное, как постоянный
переход от одной возрастной ступени к другой, связанный с изменением и
построением личности ребенка. Изучить детское развитие — значит изучить
переход ребенка от одной возрастной ступени к другой и изменение его
личности внутри каждого возрастного периода, происходящее в
конкретных социально-исторических условиях» [5; 5]. «Мы уже знаем, —
продолжает Л.С. Выготский, — где следует искать принципы реального
основания для возрастной периодизации детства. Только внутренние изменения
хода самого развития, только переломы и повороты в его течении могут
1151
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
дать нам надежное основание для определения основных эпох построения
личности ребенка, которые мы называем возрастами» [5; 23].
Охарактеризовав основные особенности переходных периодов
развития, A.C. Выготский заключает: «Таким образом, перед нами
раскрывается совершенно закономерная, полная глубочайшего смысла и ясная
картина. Критические возрасты перемежают стабильные. Они являются
переломными, поворотными пунктами в развитии, лишний раз
подтверждая то, что развитие ребенка есть диалектический процесс, в котором
переход от одной ступени к другой совершается не эволюционным, а
революционным путем.
Если бы даже критические возрасты не были открыты чисто
эмпирическим путем, понятие о них следовало бы ввести в схему развития на
основании теоретического анализа. Сейчас теории остается только осо-знать и
осмыслить то, что уже установлено эмпирическим исследованием» [5; 34].
На наш взгляд, подходы к проблеме периодизации, намеченные П.П.
Блонским и A.C. Выготским, должны быть сохранены и вместе с тем развиты в
соответствии с современными знаниями о психическом развитии детей. Это,
во-первых, исторический подход к темпам развития и к вопросу о
возникновении отдельных периодов детства в ходе исторического развития
человечества. Во-вторых, подход к каждому возрастному периоду с точки
зрения того места, которое он занимает в общем цикле психического развития
ребенка. В-третьих, представление о психическом развитии как о
процессе, диалектически противоречивом, протекающем не эволюционным
путем, а путем перерывов непрерывности, возникновения в ходе развитая
качественно новых образований. В-четвертых, выделение как обязательных
и необходимых переломных, критических точек в психическом развитии,
являющихся важными объективными показателями переходов от одного
периода к другому. В-пятых, выделение различных по своему характеру
переходов и в связи с этим различение в психическом развитии эпох,
стадий, фаз. П.П. Блонский и A.C. Выготский не реализовали предложенные
ими принципы периодизации, так как в их время еще не было условий для
решения вопроса о движущих силах психического развития ребенка.
Решение этого вопроса вращалось тогда вокруг проблемы факторов
развития, вокруг проблемы относительной роли среды и наследственности в
психическом развитии. Хотя оба эти исследователя искали выход из тупика,
создаваемого теорией «факторов развития», хотя они видели ее
методологические и конкретно-научные недостатки, хотя A.C. Выготский
заложил основания для разработки проблемы обучения и развития, — все же
их теоретические поиски не привели к решению указанного вопроса. Это
затрудняло и специальное изучение проблемы периодизации.
Важным достижением советской психологии конца тридцатых годов
было введение в рассмотрение проблемы становления и развития
психи1152
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ки и сознания понятия деятельности (исследования А.Н. Леонтьева и
С.Л. Рубинштейна). При этом кардинально менялись как представления о
движущих силах психического развития, так и принципы выделения его
отдельных стадий. И впервые решение вопроса о движущих силах
психического развития непосредственно смыкалось с вопросом о принципах
выделения отдельных стадий в психическом развитии детей.
Наиболее развернутую форму это новое представление нашло в
работах А.Н. Леонтьева. «Значит, — писал А.Н. Леонтьев, — в изучении
развития психики ребенка следует исходить из развития его деятельности так,
как она складывается в данных конкретных условиях его жизни» [6; 501 ].
«Жизнь или деятельность в целом, — продолжает А.Н. Леонтьев, — не
складывается, однако, механически из отдельных видов деятельности.
Одни виды деятельности являются на данном этапе ведущими и имеют
большее значение для дальнейшего развития личности, другие — меньшее. Одни
играют главную роль в развитии, другие — подчиненную. Поэтому нужно
говорить о зависимости развития психики не от деятельности вообще, а от
ведущей деятельности.
В соответствии с этим можно сказать, что каждая стадия
психического развития характеризуется определенным, ведущим на данном этапе
отношением ребенка к действительности, определенным, ведущим типом
деятельности.
Признаком перехода от одной стадии к другой является именно
изменение ведущего типа деятельности, ведущего отношения ребенка к
действительности» [6; 502].
Экспериментальные исследования А.Н. Леонтьева, A.B. Запорожца и
их сотрудников, а также A.A. Смирнова, П.И. Зинченко, сотрудников
С.Л. Рубинштейна показали зависимость уровня функционирования
психических процессов от характера их включенности, в ту или иную
деятельность, т. е. зависимость психических процессов (от элементарных
сенсорно-двигательных до высших интеллектуальных) от мотивов и задач той
деятельности, в которую они включены, от их места в структуре
деятельности (действия, операции). Эти данные имели важное значение для
решения ряда методологических проблем психологии.
Но, к сожалению, эти новые положения не привели к разработке
соответствующей теории психического развития и его стадиальности. Основная
причина этого состояла, на наш взгляд, в том, что при поисках психологического
содержания деятельности игнорировалась ее содержательно-предметная
сторона, как якобы не психологическая, и основное внимание обращалось лишь
на структуру деятельности, на соотношение в ней мотивов и задач,
действий и операций. Решение вопроса о стадиальности психического
развития ограничивалось также тем, что были изучены только два типа
деятельности, непосредственно относящиеся к психическому развитию в детстве —
37 Российская психология 1153
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
игра и учение. На самом деле процесс психического развития нельзя
понять без глубокого исследования содержательно-предметной стороны
деятельности, т е. без выяснения того, с какими сторонами действительности
взаимодействует ребенок в той или иной деятельности и, следовательно,
ориентация в каких сторонах действительности при этом формируется.
II
До настоящего времени существенным недостатком рассмотрения
психического развития ребенка является разрыв между процессами
умственного развития и развития личности. Развитие личности без
достаточных оснований сводится при этом к развитию аффективно-потребностной
или мотивационно-потребностной сферы.
Еще в тридцатые годы A.C. Выготский указывал на необходимость
рассмотрения развития аффекта и интеллекта в динамическом единстве.
Но до сих пор развитие познавательных сил ребенка и развитие
аффективно-потребностной сферы рассматриваются как процессы, имеющие свои
независимые, взаимно не пересекающиеся линии. В педагогической теории
и практике это находит выражение в отрыве воспитания от обучения и
обучения от воспитания. Картина развития интеллекта в отрыве от развития
аффективно-потребностной сферы наиболее ярко представлена в
концепции Ж. Пиаже. Пиаже дана наиболее законченная концепция выведения
всякой последующей стадии в развитии интеллекта непосредственно из
предыдущей (впрочем, такое рассмотрение развития интеллекта у детей в
разной степени присуще почти всем интеллектуалистическим
концепциям). Основной недостаток этой концепции — в невозможности объяснить
переходы от одной стадии развития интеллекта к другой. Почему ребенок
переходит от дооперациональной стадии к стадии конкретных операций,
а затем к стадии формальных операций (по Пиаже)? Почему ребенок
переходит от комплексного мышления к предпонятийному, а затем к
понятийному (по A.C. Выготскому)? Почему происходит переход от
практическидейственного к образному, а затем вербально-дискурсивному (по ныне
принятой терминологии)? На эти вопросы нет четкого ответа. А при их
отсутствии легче всего сослаться или на «созревание», или на какие-либо
другие силы, внешние для самого процесса психического развития.
Аналогично рассматривается и развитие аффективно-потребностной
сферы, которое, как мы уже указывали, часто отождествляется с
развитием личности. Его стадии выстраиваются в линию, независимую от
интеллектуального развития. Переходы от одних потребностей и мотивов
деятельности к другим также остаются при этом не объясненными.
Таким образом, при рассмотрении психического развития имеет
место, с одной стороны, своеобразный дуализм, с другой — параллелизм двух
1154
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
основных линий: развития мотивационно-потребностной сферы и
развития интеллектуальных (познавательных) процессов. Без преодоления
этого дуализма и параллелизма нельзя понять психическое развитие ребенка
как единый процесс.
В фундаменте такого дуализма и параллелизма лежит
натуралистический подход к психическому развитию ребенка, характерный для
большинства зарубежных теорий и, к сожалению, не до конца преодоленный в
советской детской психологии. При таком подходе, во-первых, ребенок
рассматривается как изолированный индивид, для которого общество
представляет лишь своеобразную «среду обитания». Во-вторых, психическое
развитие берется лишь как процесс приспособления к условиям жизни в
обществе. В-третьих, общество рассматривается как состоящее, с одной
стороны, из «мира вещей», с другой — из «мира людей», которые, по
существу, между собою не связаны и являются двумя изначально данными
элементами «среды обитания». В-четвертых, механизмы адаптации к «миру
вещей» и к «миру людей», развитие которых и представляет собой
содержание психического развития, понимаются как глубоко различные.
Рассмотрение психического развития как развития адаптационных
механизмов в не связанных между собой системах «ребенок-вещи» и
«ребенок-другие люди» как раз и породило представления о двух не
связанных линиях психического развития. Из этого же источника родились две
теории — теория интеллекта и интеллектуального развития Ж. Пиаже и
теория аффективно-потребностной сферы и ее развития 3. Фрейда и
неофрейдистов. Несмотря на различия в конкретном психологическом
содержании, эти концепции глубоко родственны по принципиальному
истолкованию психического развития как развития адаптационных механизмов
поведения. Для Ж. Пиаже интеллект есть механизм адаптации, а его
развитие есть развитие форм адаптации ребенка к «миру вещей». Для 3.
Фрейда и неофрейдистов механизмы вытеснения, цензуры, замещения и т. п.
выступают как механизмы адаптации ребенка к «миру людей».
Необходимо подчеркнуть, что при рассмотрении приспособления
ребенка в системе «ребенок — вещи » последние выступают прежде всего как
физические объекты с их пространственными и физическими свойствами. При
рассмотрении приспособления ребенка в системе «ребенок— другие люди»
последние выступают как случайные индивиды со своими индивидуальными
чертами характера, темперамента и т. п. Если вещи рассматриваются как
физические объекты, а другие люди как случайные индивидуальности, то
приспособление ребенка к этим «двум мирам» действительно можно
представить как идущее по двум параллельным, в основе самостоятельным линиям1.
В нашу задачу не входит анализ исторических условий возникновения такого
дуализма и параллелизма в рассмотрении психического развития. Отметим только, что
37*
1155
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Преодоление указанного подхода является трудным делом — и прежде
всего потому, что для самого ребенка окружающая его действительность
выступает в двух формах. С таким разделением для ребенка действительности на
«мир вещей » и «мир людей » мы встретились в экспериментальном
исследовании, посвященном вопросу о природе ролевой игры детей дошкольного
возраста. Выясняя сензитивность ролевой игры к этим двум сферам
действительности, мы в одних случаях знакомили детей с вещами, их свойствами и
назначением. Так, во. время экскурсии в зоопарк детей знакомили со зверями,
их повадками, внешним видом и т. п. После экскурсии в детскую комнату
вносились звери-игрушки, но ролевая игра не развертывалась. В других случаях
во время такой же экскурсии детей знакомили с людьми, обслуживающими
зоопарк, с их функциями и взаимоотношениями — с кассиром и контролером,
с экскурсоводом, со служителями, кормящими зверей, со «звериным
доктором » и т. п. После этой экскурсии, как правило, развертывалась длительная и
интересная ролевая игра, в которой дети «моделировали» задачи
деятельности взрослых людей и отношения между ними. В условиях такой игры
находили себе место и приобретали смысл и ранее приобретенные детьми знания о
зверях. Результаты этого исследования показали, что ролевая игра
сензитивна именно к «миру людей » — в ней в особой форме «моделируются » задачи и
мотивы человеческой деятельности и нормы отношений между людьми.
Вместе с тем, исследование показало, что для ребенка окружающий мир,
действительно, как бы разделен на две сферы, а между действиями ребенка в них
существует тесная связь (правда, особенности этой связи в данном исследовании
выяснить не удалось).
III
Преодоление натуралистического представления о психическом развитии
требует радикального изменения взгляда на взаимоотношения ребенка и
общества. К этому выводу нас привело специальное исследование исторического
возникновения ролевой игры. В противоположность взглядам на ролевую игру как на
вечную, внеисторическую особенность детства, мы предположили, что ролевая
игра возникла на определенном этапе развития общества, в ходе исторического
изменения места ребенка в нем. Игра является социальной по происхождению
деятельностью, и поэтому она социальна по своему содержанию.
Эта гипотеза об историческом происхождении игры подтверждается
большим антропологическим и этнографическим материалом. Он показывает, что
возникновение ролевой игры определяется изменением места, занимаемого
ребенком в обществе.
эти представления являются отражением реально существующего в классовом
обществе отчуждения человека от продуктов его деятельности.
1156
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В ходе исторического развития менялось место ребенка в обществе,
но везде и всегда ребенок являлся его частью. На ранних этапах развития
человечества связь ребенка с обществом была прямой и
непосредственной — дети с самого раннего возраста жили общей жизнью со взрослыми.
Развитие ребенка проходило внутри этой общей жизни как единый
нерасчлененный процесс. Ребенок составлял органическую часть совокупной
производительной силы общества, и его участие в ней ограничивалось лишь
его физическими возможностями.
По мере усложнения средств производства и общественных
отношений связь ребенка с обществом изменяется, превращаясь из
непосредственной в опосредствованную процессом воспитания и обучения. При этом
система «ребенок — общество» не изменяется. Она не превращается в
систему «ребенок и общество» (союз «и», как известно, имеет не только
соединительное, но и противопоставительное значение). Правильнее
говорить о системе «ребенок в обществе». В процессе общественного развития
функции образования и воспитания все больше передаются семье, которая
превращается в самостоятельную экономическую единицу, а ее связи с
обществом становятся все более опосредствованными. Тем самым
система отношений «дети в обществе» вуалируется, закрывается системой
отношений «ребенок — семья », а в ней — «ребенок — отдельный взрослый ».
При рассмотрении формирования личности в системе «ребенок в
обществе» радикально меняется характер связи систем «ребенок — вещь»
и «ребенок — отдельный взрослый ». Из двух самостоятельных систем они
превращаются в единую систему. В связи с этим существенно изменяется
содержание каждой из них. При рассмотрении системы «ребенок — вещь »
теперь оказывается, что вещи, обладающие определенными физическими
и пространственными свойствами, открываются ребенку как
общественные предметы, в них на первый план выступают общественно
выработанные способы действий с ними.
Система «ребенок — вещь» в действительности является системой
«ребенок — общественный предмет». Общественно выработанные
способы действий с предметами не даны непосредственно как некоторые
физические характеристики вещей. На предмете не написаны его общественное
происхождение, способы действий с ним, способы и средства его
воспроизведения. Поэтому овладение таким предметом невозможно путем
адаптации, путем простого «уравновешивания» с его физическими свойствами.
Внутренне необходимым становится особый процесс усвоения ребенком
общественных способов действий с предметами. При этом физические
свойства вещи выступают лишь как ориентиры для действий с нею1.
Этот процесс усвоения общественно выработанных способов действий наиболее
подробно показан в исследованиях П.Я. Гальперина и его сотрудников.
1157
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
При усвоении общественно выработанных способов действий с
предметами происходит формирование ребенка как члена общества, включая
его интеллектуальные, познавательные и физические силы. Для самого
ребенка (как, впрочем, и для взрослых людей, непосредственно не
включенных в организованный процесс воспитания и обучения) это развитие
представлено прежде всего как расширение сферы и повышение уровня
овладения действиями с предметами. Именно по этому параметру дети
сравнивают свой уровень, свои возможности с уровнем и возможностями
других детей и взрослых. В процессе такого сравнения взрослый
открывается ребенку не только как носитель общественных способов действий с
предметами, но и как человек, осуществляющий определенные
общественные задачи.
Особенности открытия ребенком человеческого смысла предметных
действий были показаны в ряде исследований. Так, Ф.И. Фрадкина [9]
описала то, как на определенном этапе овладения предметными действиями
маленький ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями
взрослого человека. Это находит свое проявление в своеобразном двойном
назывании себя одновременно собственным именем и именем взрослого
человека. Например, изображая действия взрослого человека, читающего
газету или пишущего, ребенок говорит: «Миша — папа », а изображая
действия по укладыванию куклы спать, заявляет: «Вера — мама ». A.C.
Славина [8] в своем исследовании показала, как ребенок, однажды раскрыв
человеческий смысл предметных действий, затем цепко держится за него,
придавая этот смысл даже простым манипуляциям.
Эти исследования проведены на ограниченном материале развития
предметных действий у детей раннего возраста. Но они дают основание
предполагать, что овладение ребенком способами действий с предметами
закономерно приводит его к взрослому человеку как носителю
общественных задач деятельности. Каков психологический механизм этого перехода
в каждом конкретном случае и на каждом отдельном этапе развития —
проблема дальнейших исследований.
Система «ребенок — взрослый», в свою очередь, также имеет
существенно иное содержание. Взрослый прежде всего выступает перед
ребенком не со стороны случайных и индивидуальных качеств, а как носитель
определенных видов общественной по своей природе деятельности,
осуществляющий определенные задачи, вступающий при этом в
разнообразные отношения с другими людьми и сам подчиняющийся определенным
нормам. Но на самой деятельности взрослого человека внешне не указаны
ее задачи и мотивы. Внешне она выступает перед ребенком как
преобразование предметов и их производство. Осуществление этой деятельности в
ее законченной реальной форме и во всей системе общественных
отношений, внутри которых только и могут быть раскрыты ее задачи и мотивы,
1158
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
для детей недоступно. Поэтому становится необходимым особый процесс
усвоения задач и мотивов человеческой деятельности и тех норм
отношений, в которые вступают люди в процессе ее осуществления.
К сожалению, психологические особенности этого процесса
исследованы явно недостаточно. Но есть основания предполагать, что усвоение детьми
задач, мотивов и норм отношений, существующих в деятельности взрослых,
осуществляется через воспроизведение или моделирование этих отношений в
собственной деятельности детей, в их сообществах, группах и коллективах.
Примечательно то, что в процессе этого усвоения ребенок сталкивается с
необходимостью овладения новыми предметными действиями, без которых
нельзя осуществлять деятельность взрослых. Таким образом, взрослый
человек выступает перед ребенком как носитель новых и все более сложных
способов действий с предметами, общественно выработанных эталонов и мер,
необходимых для ориентации в окружающей действительности.
Итак, деятельность ребенка внутри систем «ребенок-общественный
предмет» и «ребенок-общественный взрослый» представляет единый
процесс, в котором формируется его личность
Но этот единый по своей природе процесс жизни ребенка в обществе в
ходе исторического развития раздваивается, расщепляется на две
стороны. Такое расщепление создает предпосылки для именно
гипертрофированного развития любой из сторон. Эту возможность и использует школа
классового общества, воспитывая одних детей главным образом как
исполнителей, операционно-технической стороны трудовой деятельности,
а других, по-преимуществу, как носителей задач и мотивов той же
деятельности. Такое использование исторически возникшего расщепления
единого процесса жизни и развития ребенка в обществе на две стороны
присуще лишь классовым формациям.
Изложенные теоретические положения имеют прямое отношение к
проблеме периодизации психического развития ребенка. Обратимся к
фактическим материалам, накопленным в детской психологии. Из всего
богатства исследований, проведенных психологами за последние 20-30 лет, мы
выберем те, которые обогатили наши знания об основных типах
деятельности детей. Рассмотрим кратко главнейшие из них.
1. До самого последнего времени не было ясности относительно
предметно-содержательной характеристики деятельности младенцев. В
частности, не был ясен вопрос о том, какая деятельность является в этом возрасте
ведущей. Одни исследователи (Л.И. Божович и другие) считали первичной
потребностью потребность ребенка во внешних раздражителях, а поэтому
наиболее важным моментом — развитие у него ориентировочных действий
Другие (Ж. Пиаже и другие) основное внимание обращали на развитие
сенсомоторно-манипулятивной деятельности. Третьи (Г.Л. Розенгард-Пупко и
другие) указывали на важнейшее значение общения младенца со взрослыми.
1159
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В последние годы исследования М.И. Лисиной и ее сотрудников [7]
убедительно показали существование у младенцев особой деятельности
общения, носящего непосредственно-эмоциональную форму. «Комплекс
оживления», возникающий на третьем месяце жизни и ранее
рассматривавшийся как простая реакция на взрослого (наиболее яркий и
комплексный раздражитель), в действительности является сложным по составу
действием, имеющим задачу общения со взрослыми и осуществляемым
особыми средствами. Важно отметить, что это действие возникает задолго
до того, как ребенок начинает манипулировать с предметами, до
формирования акта хватания. После формирования этого акта и манипулятивной
деятельности, осуществляемой со взрослыми, действия общения не
растворяются в совместной деятельности, не сливаются с практическим
взаимодействием со взрослыми, а сохраняют свое особое содержание и средства.
Эти и другие исследования показали, что дефицит эмоционального
общения (как, вероятно, и его избыток) оказывает решающее влияние на
психическое развитие в этот период.
Таким образом, есть основания предполагать, что
непосредственноэмоциональное общение со взрослым представляет собой ведущую
деятельность младенца, на фоне и внутри которой формируются
ориентировочные и сенсомоторно-манипулятивные действия.-
2. В этих же исследованиях был установлен переход ребенка — на
границе раннего детства — к собственно предметным действиям, т. е. к
овладению общественно выработанными способами действий с предметами.
Конечно, овладение этими действиями невозможно без участия взрослых,
которые показывают их детям, выполняют их совместно с детьми.
Взрослый выступает, хотя как и главный, но все же лишь как элемент ситуации
предметного действия. Непосредственное эмоциональное общение с ним
отходит здесь на второй план, а на первый выступает деловое практическое
сотрудничество. Ребенок занят предметом и действием с ним. Эту
связанность ребенка полем непосредственного действия неоднократно отмечал
ряд исследователей. Здесь наблюдается своеобразный «предметный
фетишизм»: ребенок как бы не замечает взрослого, который «закрыт»
предметом и его свойствами.
Многие исследования советских и зарубежных авторов показали, что
в этот период происходит интенсивное овладение предметно-орудийными
операциями. В этот период формируется так называемый «практический
интеллект». Детальные исследования генезиса интеллекта у детей,
проведенные Ж. Пиаже и его сотрудниками, показывают также, что именно в
этот период происходит развитие сенсорно-моторного интеллекта,
подготавливающего возникновение символической функции.
Мы уже упоминали исследование Ф.И. Фрадкиной, в котором
показано, что в процессе усвоения действия как бы отделяются от предмета, на
1160
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
котором они были первоначально усвоены: происходит перенос этих
действий на другие предметы, сходные, но не тождественные исходному. На
этой основе формируется обобщение действий. Ф.И. Фрадкина показала,
что именно на основе отделения действий от предмета и их обобщения
становится возможным их сравнение с действиями взрослых, а благодаря
этому и проникновение ребенка в задачи и смысл человеческих действий.
Итак, есть основания полагать, что именно предметно-орудийная
деятельность, в ходе которой происходит овладение общественно
выработанными способами действий с предметами, является ведущей в раннем детстве.
Этому на первый взгляд противоречит факт интенсивного развития в
этот период вербальных форм общения ребенка со взрослыми. Из
бессловесного существа, пользующегося для общения со взрослыми
эмоционально-мимическими средствами, ребенок превращается в говорящее существо,
пользующееся относительно богатым лексическим составом и
грамматическими формами. Однако анализ речевых контактов ребенка показывает,
что речь используется им главным образом для налаживания
сотрудничества со взрослыми внутри совместной предметной деятельности. Иными
словами, она выступает как средство деловых контактов ребенка со
взрослыми. Более того, есть основания думать, что сами предметные действия,
успешность их выполнения, являются для ребенка способом налаживания
общения со взрослыми. Само общение опосредуется предметными
действиями ребенка. Следовательно, факт интенсивного развития речи, как
средства налаживания сотрудничества со взрослыми, не противоречит
положению о том, что ведущей деятельностью в этот период все же является
предметная деятельность, внутри которой происходит усвоение
общественно выработанных способов действия с предметами.
3. После работ Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и других в советской
детской психологии твердо установлено, что в дошкольном возрасте
ведущей деятельностью является игра в ее наиболее развернутой форме
(ролевая игра). Значение игры для психического развития детей дошкольного
возраста многосторонне. Главное ее значение состоит в том, что благодаря
особым игровым приемам (принятию ребенком на себя роли взрослого
человека и его общественно-трудовых функций, обобщенному
изобразительному характеру воспроизведения предметных действии и переносу
значений с одного предмета на другой и т. д.) ребенок моделирует в ней отношения
между людьми. На самом предметном действии, взятом изолированно, «не
написано», ради чего оно осуществляется, каков его общественный смысл,
его действительный мотив. Только тогда, когда предметное действие
включается в систему человеческих отношений, в нем раскрывается его
подлинно общественный смысл, его направленность на других людей. Такое
«включение» и происходит в игре. Ролевая игра выступает как деятельность,
в которой происходит ориентация ребенка в самых общих, в самых
фунда1161
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ментальных смыслах человеческой деятельности. На этой основе у
ребенка формируется стремление к общественно значимой и общественно
оцениваемой деятельности, которое является основным моментом
готовности к школьному обучению. В этом заключается основное значение игры
для психического развития, в этом заключается ее ведущая функция.
4. A.C. Выготский в самом начале тридцатых годов выдвинул положение
о ведущем значении обучения для умственного развития детей школьного
возраста. Конечно, не всякое обучение оказывает такое влияние на развитие,
а только «хорошее >>. Качество обучения все более и более начинает
оцениваться именно по тому воздействию, которое оно оказывает на интеллектуальное
развитие ребенка. По вопросу о том, каким образом обучение влияет «на
умственное развитие, психологами проведено большое количество
исследований. Здесь обозначились различные взгляды, которые нет возможности
специально рассматривать в данной статье. Отметим лишь, что большинство
исследователей, как бы они ни представляли себе внутренний механизм
такого влияния, какое бы значение ни приписывали разным сторонам обучения
(содержанию, методике, организации), сходится на признании ведущей роли
обучения в умственном развитии детей младшего школьного возраста.
Учебная деятельность детей, т. е. та деятельность, в процессе которой
происходит усвоение новых знаний и управление которой составляет
основную задачу обучения, является ведущей деятельностью в этот период.
В процессе ее осуществления ребенком происходит интенсивное
формирование его интеллектуальных и познавательных сил. Ведущее значение
учебной деятельности определяется также и тем, что через нее
опосредствуется вся система отношений ребенка с окружающими взрослыми
вплоть до личностного общения в семье.
5. Выделение ведущей деятельности подросткового периода развития
представляет большие трудности. Они связаны с тем, что для подростка
основной деятельностью остается его учение в школе. Успехи и неудачи в
школьном учении продолжают оставаться основными критериями оценки
подростков со стороны взрослых. С переходом в подростковый возраст в
нынешних условиях обучения с внешней стороны также не происходит
существенных изменений. Однако именно переход к подростковому
периоду выделен в психологии как наиболее критический.
Естественно, что при отсутствии каких-либо перемен в общих
условиях жизни и деятельности причину перехода подростковому возрасту
искали в изменениях самого организма, в наступающем в этот период половом
созревании. Конечно, половое развитие оказывает влияние на
формирование личности в этот период, но это влияние не является первичным. Как и
другие изменения, связанные с ростом интеллектуальных и физических
сил ребенка, половое созревание оказывает свое влияние
опосредствовано, через отношения ребенка к окружающему миру, через сравнение себя
1162
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
со взрослыми и другими подростками, т. е. только внутри всего комплекса
происходящих изменений.
На возникновение в начале этого периода новой сферы жизни
указывал ряд исследователей. Наиболее ясно эту мысль выразил А. Валлон,
который писал: «Когда дружба и соперничество больше не основываются на
общности или антагонизме выполняемых задач или тех задач, которые
предстоит разрешить, когда дружбу и соперничество пытаются объяснить
духовной близостью или различием, когда кажется, что они касаются личных
сторон и не связаны с сотрудничеством или деловыми конфликтами,
значит, уже наступила половая зрелость» [3; 194].
В последние годы в исследованиях, проведенных под руководством
Т.В. Драгуновой и Д.Б. Эльконина [4], было установлено, что в
подростковом возрасте возникает и развивается особая деятельность,
заключающаяся в установлении интимно-личных отношений между подростками. Эта
деятельность была названа деятельностью общения. Ее отличие от других
форм взаимоотношений, которые имеют место в деловом сотрудничестве
товарищей, заключается в том, что основным ее содержанием является
другой подросток, как человек с определенными личными качествами. Во всех
формах коллективной деятельности подростков наблюдается подчинение
отношений своеобразному «кодексу товарищества». В личном же
общении отношения могут строиться и строятся не только на основе взаимного
уважения, но и на основе полного доверия и общности внутренней жизни.
Эта сфера общей жизни с товарищем занимает в подростковом периоде
особо важное место. Формирование отношений в группе подростков на
основе «кодекса товарищества » и особенно тех личных отношений, в
которых этот «кодекс » дан в наиболее выраженной форме, имеет важное значение
для формирования личности подростка. «Кодекс товарищества » по своему
объективному содержанию воспроизводит наиболее общие нормы
взаимоотношений, существующих между взрослыми людьми в данном обществе.
Деятельность общения является здесь своеобразной формой
воспроизведения в отношениях между сверстниками тех отношений, которые
существуют среди взрослых людей. В процессе общения происходит
углубленная ориентация в нормах этих отношений и их освоение.
Таким образом, есть основания полагать, что ведущей деятельностью
в этот период развития является деятельность общения, заключающаяся в
построении отношений с товарищами на основе определенных
моральноэтических норм, которые опосредуют поступки подростков.
Дело, однако, не только в этом. Построенное на основе полного
доверия и общности внутренней жизни, личное общение является той
деятельностью, внутри которой оформляются общие взгляды на жизнь, на
отношения между людьми, на свое будущее — одним словом, формируются
личные смыслы жизни. Тем самым в общении формируется самосознание
1163
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
как «социальное сознание, перенесенное внутрь» (A.C. Выготский).
Благодаря этому возникают предпосылки для возникновения новых задач и
мотивов дальнейшей собственной деятельности, которая превращается в
деятельность, направленную на будущее и приобретающую в связи с этим
характер профессионально-учебной.
В кратком обзоре мы могли представить только самые важные факты,
касающиеся, содержательно-предметных характеристик ведущих типов
деятельности, выделенных к настоящему времени. Эти характеристики
позволяют разделить все типы на две большие группы.
В первую группу входят деятельности, внутри которых происходит
интенсивная ориентация в основных смыслах человеческой деятельности
и освоение задач, мотивов и норм отношений между людьми. Это
деятельности в системе «ребенок — общественный взрослый». Конечно,
непосредственно-эмоциональное общение младенца, ролевая игра и
интимноличное общение подростков существенно различаются по своему
конкретному содержанию, по глубине проникновения ребенка в сферу
задач и мотивов деятельности взрослых, представляя собой своеобразную
лестницу последовательного освоения ребенком этой сферы. Вместе с тем
они общи по своему основному содержанию. При осуществлении именно
этой группы деятельности происходит преимущественное развитие у
детей мотивационно-потребительской сферы.
Вторую группу составляют деятельности, внутри которых
происходит усвоение общественно выработанных способов действий с предметами
и эталонов, выделяющих в предметах те или иные их стороны. Это
деятельности в системе «ребенок — общественный предмет». Конечно, разные виды
этой группы существенно отличаются друг от друга.
Манипулятивно-предметная деятельность ребенка раннего возраста и учебная деятельность
младшего школьника, а тем более учебно-профессиональная деятельность
старших подростков внешне мало похожи друг на друга. В самом деле, что
общего между овладением предметным действием с ложкой или стаканом
и овладением математикой или грамматикой? Но существенно общим в
них является то, что все они выступают как элементы человеческой
культуры. Они имеют общее происхождение и общее место в жизни общества,
представляя собой итог предшествующей истории. На основе усвоения
общественно выработанных способов действий с этими предметами
происходит все более глубокая ориентировка ребенка в предметном мире и
формирование его интеллектуальных сил, становление ребенка как
компонента производительных сил общества.
Необходимо подчеркнуть, что, когда мы говорим о ведущей
деятельности и ее значении для развития ребенка в тот или иной период, то это вовсе не
означает, будто одновременно не осуществляется развитие по другим
направлениям. Жизнь ребенка в каждый период многогранна, и деятельности,
по1164
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
средством которых она осуществляется, многообразны. В жизни возникают
новые виды деятельности, новые отношения ребенка к действительности. Их
возникновение и их превращение в ведущие не отменяет прежде
существовавших, а лишь меняет их место в общей системе отношений ребенка к
действительности, которые становятся все более богатыми.
Если расположить выделенные нами виды деятельности детей по
группам в той последовательности, в которой они становятся ведущими, то
получится следующий ряд:
непосредственно-эмоциональное общение — первая группа
предметно-манипулятивная деятельность — вторая группа
ролевая игра — первая группа
учебная деятельность — вторая группа
интимно-личное общение — первая группа
учебно-профессиональная деятельность — вторая группа
Таким образом, в детском развитии имеют место, с одной стороны,
периоды, в которые происходит преимущественное освоение задач,
мотивов и норм отношений между людьми и на этой основе — развитие
мотивационно-потребностной сферы, с другой стороны, периоды, в которые
происходит преимущественное освоение общественно выработанных способов
действий с предметами и на этой основе — формирование
интеллектуально-познавательных сил детей, их операционно-технических
возможностей.
Рассмотрение последовательной смены одних периодов другими
позволяет сформулировать гипотезу о периодичности процессов
психического развития, заключающейся в закономерно повторяющейся смене
одних периодов другими. Вслед за периодами, в которых происходит
преимущественное развитие мотивационно-потребностной сферы,
закономерно следуют периоды, в которых идет преимущественное формирование
операционно-технических возможностей детей. Вслед за периодами, в
которые идет преимущественное формирование операционно-технических
возможностей детей, закономерно следуют периоды преимущественного
развития мотивационно-потребностной сферы.
В советской и зарубежной детской психологии накоплен
значительный материал, дающий основание для выделения двух резких переходов в
психическом развитии, детей. Это, во-первых, переход от раннего детства
к дошкольному возрасту, известный в литературе как «кризис трех лет»,
и, во-вторых, переход от младшего школьного возраста к подростковому,
известный в литературе под названием «кризиса полового созревания»,
Сопоставление симптоматики этих двух переходов показывает наличие
между ними большого сходства. В обоих переходах имеет место
появле1165
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ние тенденции к самостоятельности и ряд негативных проявлений,
связанных с отношениями со взрослыми. При введении этих переломных точек в
схему периодов детского развития мы получим ту общую схему
периодизации детства на эпохи, периоды и фазы, которая представлена на рис. 1.
Рис. 1
Как показывает эта схема, каждая эпоха состоит из закономерно
связанных между собой двух периодов. Она открывается периодом, в
котором идет преимущественное усвоение задач, мотивов и норм человеческой
деятельности и развитие мотивационно-потребностной сферы. Здесь
подготавливается переход ко второму периоду, в котором происходит
преимущественное усвоение способов действий с предметами и
формирование операционно-технических возможностей.
Все три эпохи (эпоха раннего детства, эпоха детства, эпоха
подростничества) построены по одному и тому же принципу и состоят из закономерно
связанных двух периодов. Переход от одной эпохи к следующей происходит
при возникновении несоответствия между операционно-техническими
возможностями ребенка и задачами и мотивами деятельности, на основе
которых они формировались. Переходы от одного периода к другому и от
одной фазы к другой изучены в психологии очень слабо.
В чем теоретическое и практическое значение гипотезы о
периодичности процессов психического развития и построенной на ее основе схемы
периодизации?
Во-первых, ее основное теоретическое значение мы видим в том, что она
позволяет преодолеть существующий в детской психологии разрыв между
развитием мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной
1166
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
сторон личности, позволяет показать противоречивое единство этих сторон
развития личности. Во-вторых, эта гипотеза дает возможность рассмотреть
процесс психического развития не как линейный, а как идущий по восходящей
спирали. В-третьих, она открывает путь к изучению связей, существующих
между отдельными периодами, к установлению функционального значения
всякого предшествующего периода для наступления последующего.
В-четвертых, наша гипотеза направлена на такое расчленение психического
развития на эпохи и стадии, которое соответствует внутренним законам этого
развития, а не каким-либо внешним по отношению к нему «факторам».
Практическое значение гипотезы состоит в том, что она помогает
приблизиться к решению вопроса о сензитивности отдельных периодов детского
развития к определенному типу воздействий, помогает по-новому подойти к
проблеме связи между звеньями существующей системы образовательных
учреждений. Согласно требованиям, вытекающим из этой гипотезы, там, где в
системе наблюдается разрыв (дошкольные учреждения — школа), должна
существовать более органичная связь. Наоборот, там, где ныне существует
непрерывность (начальные классы — средние классы), должен быть переход к
новой воспитательно-образовательной системе.
Конечно, только дальнейшие исследования покажут, насколько в нашей
гипотезе правильно отражена действительность психического развития детей.
Вместе с тем мы считаем, что ее публикация правомерна при всей
недостаточности имеющихся здесь фактических материалов. Следует помнить слова
Ф. Энгельса о том, что «если бы мы захотели ждать, пока очистится материал
для закона, то пришлось бы до того момента отложить теоретическое
исследование, и уже по одному этому мы не получили бы никогда закона.
Цитированная литература:
1. Блонский П.П. Педология. М.: Учпедгиз, 1934.
2. Блонский П.П. Возрастная педология. М.-Л.: Работник просвещения,
1930.
3. Валлон А. Психическое развитие ребенка. М.: Просвещение, 1967.
4. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков/ Под
ред. Д.Б. Эльконина и Т.В. Драгуновой. М.: Просвещение, 1967.
5. Выготский A.C. Проблема возраста: Рукопись.
6. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 2-е изд. М.: Мысль, 1965.
7. Развитие общения со взрослыми и сверстниками у детей раннего и
дошкольного возраста/ Под ред. A.B. Запорожца и М.И. Лисиной.
8. Славина A.C. Развитие мотивов игровой деятельности // Известия
АПН РСФСР. Вып. 14.1948.
9. Фрадкина Ф.И. Психология игры в раннем детстве: Канд. дисс. М.,
1946.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
П.Я. ГАЛЬПЕРИН:
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ
ПСИХОЛОГИИ
Гальперин Петр Яковлевич (1902-1988) —
психолог. Создал научную школу. Центральной
те• мой творчества П.Я. Гальперина является вопрос о
предмете психологии, который он считал
основным. Его систематическое рассмотрение,
критический анализ его трактовок различными авторами
привели к оригинальной концепции, согласно
которой предметом психологии является
ориентировочная деятельность, а методом — планомерное
формирование психических явлений. Эта
концепция была положена в основу курса общей
психологии. Все психические процессы рассматривались
как формы ориентировочной деятельности. Экспериментальному
исследованию было подвергнуто действие. Выявлены эволюционные уровни
действия, дана характеристика свойств (параметров) действия, раскрыт
психологический механизм формирования действий. В результате сложилась
теория поэтапного формирования умственных действий и понятий как
общепсихологическая концепция с широкими практическими выходами в
самые различные области в которых существует задача обучения новому —
знанию, действию, трудовой операции, спортивному навыку:
педагогическую психологию (создана теория учения и описаны три типа учения),
психологию труда, нейропсихологию (восстановление высших психических
функций, нарушенных в результате локальных поражений мозга) и др.
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ1
Теперь нам предстоит уточнить представление об ориентировочной
деятельности субъекта в ее собственно психологическом содержании.
1. Мы обязаны И.П. Павлову выделением
ориентировочно-исследовательского рефлекса из всех остальных, указанием на его
фундаментальное значение в жизни животных и человека и, наконец, указанием на его
роль в образовании условных связей. Но сейчас нас интересует само
понятие об этом ориентировочно-исследовательском рефлексе.
1 Гальперин П.Я. Введение в психологию М.,1976. С. 90-96; 122-127; 143-147.
1168
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В настоящее время многие ученики И.П. Павлова считают, что
необходимо различать ориентировочный рефлекс и
ориентировочно-исследовательскую деятельность1. Ориентировочный рефлекс — это система
физиологических компонентов ориентировки: поворот на новый раздражитель
и настройка органов чувств на лучшее его восприятие; к этому можно
добавить разнообразные вегетативные изменения организма, которые
содействуют этому рефлексу или его сопровождают. Словом, ориентировочный
рефлекс — это чисто физиологический процесс.
Другое дело — ориентировочно-исследовательская деятельность,
исследование обстановки, то, что Павлов называл «рефлекс что такое». Эта
исследовательская деятельность во внешней среде лежит уже за
границами физиологии. По существу, ориентировочно-исследовательская
деятельность совпадает с тем, что мы называем просто ориентировочной
деятельностью. Но прибавление «исследования» к «ориентировке» (что нисколько
не мешало в опытах Павлова) для нас становится уже помехой, потому что
ориентировка не ограничивается исследованием, познавательной
деятельностью, а исследование может вырастать в самостоятельную деятельность,
которая сама нуждается в ориентировке.
Даже у животных ориентировка не ограничивается исследованием
ситуации; за ним следуют оценка ее различных объектов (по их значению
для актуальных потребностей животного), выяснение путей возможного
движения, примеривание своих действий к намеченным объектам и,
наконец, управление исполнением этих действий. Все это входит в
ориентировочную деятельность, но выходит за границы исследования в собственном
смысле слова.
С другой стороны, чрезмерно широкое применение термина
«исследовательская деятельность» к самым ранним, простым формам
ориентировки стирает существенные различия между обследованием (ситуации и
ее отдельных объектов), ограниченным элементарными интересами
ознакомления, и собственно теоретической деятельностью, которая
выделяется и приобретает новое и ценнейшее качество только у человека, да и у него
лишь с определенного уровня развития и только при определенных
общественных условиях. Неучет этого качественного различия ведет к такому
представлению, будто мы всегда имеем дело с одной и той же
познавательной деятельностью, которая у разных живых существ и на разных уровнях
индивидуального развития отличается лишь количественно, лишь по
степени, а это, конечно, совершенно неверно даже в отношении животных и
тем более в отношении человека.
См. кн.: Ориентировочный рефлекс и ориентировочно-исследовательская
деятельность// Под ред. E.H. Соколова, Л.Г. Воронина и др. М.: Изд-во АПН РСФСР,
1958.
1169
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Ориентировка — это не только исследование, а содержащийся в ней
элемент исследования гораздо чаще составляет обследование, чем
собственно исследование. Но даже на ранних уровнях развития
ориентировочная деятельность всегда гораздо шире, чем только обследование.
В субъективной оценке объектов, выборе путей и в контроле за действиями
ориентировка и практическое действие еще не разделены и не только
переплетаются, но и определяют друг друга по характеру своих задач.
Поэтому лучше говорить не «ориентировочно-исследовательская» и
не «исследовательская деятельность», а именно «ориентировочная
деятельность».
2. Ориентировочная деятельность не ограничивается одними
интеллектуальными функциями, даже во всем их диапазоне — от восприятия до
мышления включительно. И потребности, и чувства, и воля не только
нуждаются в ориентировке, но с психологической стороны представляют не
что иное, как разные формы ориентировочной деятельности субъекта в
различных проблемных ситуациях, разных задачах и с разными
средствами их решения.
Потребности означают не только побуждения к действию во внешней
среде, они предопределяют избирательное отношение к ее объектам и
намечают общее направление действий на то, чего субъекту недостает и в чем
он испытывает потребность. В этом смысле потребности являются
исходным и основным началом ориентировки в ситуациях. Известно, что
воспитать условные рефлексы на пищевом подкреплении можно только у
голодного животного, сытое животное не будет ориентироваться на пищевое
подкрепление, сколько бы его ни предлагали. Потребности являются
чрезвычайно важным моментом ориентировки в ситуации, и эта сторона
потребностей, их отношение к определенным объектам и условиям, которые
удовлетворяют эти потребности, составляет важную психологическую
сторону потребностей — предмет их собственно психологического изучения.
Чувства тоже представляют собой не просто субъективное отражение
большей или меньшей физиологической взволнованности. Появление
чувства означает резкое изменение оценки предмета, на котором
сосредоточивается чувство, а в связи с этим изменение в оценке остальных предметов
и, следовательно, ситуации в целом. Созревая и оформившись, чувства
становятся могучим средством переориентировки в ситуации и, собственно,
эта сторона чувства и составляет их психологический аспект. Конечно,
возникает много вопросов о различии между ориентировкой познавательного
и аффективного характера, но это уже дальнейшие вопросы. Первое и
главное заключается в том, что чувства интересуют психолога не просто как
«переживания», наоборот, сами переживания составляют предмет
психологии как особый способ ориентировки в жизненных условиях, новый по
сравнению с интеллектуальной деятельностью.
1170
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
То же самое мы должны сказать о воле. И воля представляет собой
особую форму ориентировки субъекта в таких положениях, где ни
интеллектуальной, ни аффективной оценки уже недостаточно. Воля,
собственно, потому и выделяется как особая форма душевной жизни, что
представляет новый способ решения задач об общем направлении своего поведения
в особых, своеобразных и специфически человеческих ситуациях.
Таким образом, все формы психической деятельности, а не только
познавательные, интеллектуальные представляют собой различные
формы ориентировки субъекта в проблемных ситуациях. Эти различные
формы возникают потому, что существенно различны обстоятельства, в
которых оказывается субъект, различны встающие перед ним задачи и средства,
с помощью которых решаются эти задачи.
Мы должны еще раз подчеркнуть, что ориентировочная деятельность,
несмотря на постоянную связь с исследовательской деятельностью, никогда
не ограничивается ею. С психологической стороны активная ориентировка
характеризует все формы душевной деятельности: они представляют собой
разные формы ориентировки субъекта в различных жизненных ситуациях.
3. Если все формы душевной жизни представляют собой разные
формы ориентировочной деятельности, то другая сторона этого положения
заключается в том, что психология во всех так называемых психических
процессах или функциях изучает именно эту их ориентировочную сторону
Это значит, что неправильно было бы сказать, что психология изучает
мышление, чувства, воображение, волю и т. д., неправильно прежде всего
потому, что психология изучает вовсе не все стороны (аспекты) мышления,
чувства, воли и других психических функций.
В самом деле, разве мышление изучает только психология?
Мышлением занимается и логика, и теория познания; можно изучать развитие
мышления в истории человеческого общества, особенности мышления в разных
общественных формациях, развитие мышления ребенка, патологию мышления
при разных локальных поражениях головного мозга и различных душевных
заболеваниях. Мышлением занимается также педагогика, и, конечно,
можно и должно изучать те процессы высшей нервной деятельности, которые
составляют физиологическую основу мышления. Существуют проблемы
этики мышления и мышления в этике, эстетики мышления и роли мышления
в искусстве и многие другие проблемы мышления, которыми интересуются
разные науки. Поэтому нельзя, неправильно указать на мышление и сказать:
вот предмет психологии, как будто все мышление составляет предмет одной
только психологии. Постоянные споры между разными науками по вопросу
о мышлении, в частности, столь оживленные в последнее время споры о
мышлении машин и их отношении к человеческому мышлению, вопросы о
применении принципов кибернетики к человеческому мышлению, все такого рода
споры возникают именно из-за того, что не разграничиваются разные
аспек1171
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ты изучения этого реального, процесса, действительно обладающего
многими и разными сторонами. И если мы хотим построить научную психологию
мышления, то прежде всего долж-ны выделить то, что в процессе мышления
может и должна изучать психология, в отличие от всех других наук, которые
тоже изучают мышление. На этот вопрос, в соответствии с тем, что
изложено выше, мы отвечаем: психология изучает не просто мышление и не все
мышление, а только процесс ориентировки субъекта при решении
интеллектуальных задач, задач, на мышление. Психология изучает ориентировку
субъекта в интеллектуальных задачах на основе того, как содержание этих
задач открывается субъекту и какими средствами может воспользоваться
субъект для обеспечения продуктивной ориентировки в такого рода
задачах, для ориентировки в процессе мышления.
То же самое, даже в еще большей степени, следует сказать в отношении
чувств. В чувствах так значительна роль физиологических изменений
организма, что последние сто лет исследование чувств сосредоточивалось
главным образом на этих физиологических изменениях Чувства начали
рассматривать как субъективные переживания этих физиологических изменений и
совсем отодвинули на задний план то важнейшее обстоятельство, что
возникновение чувства означает качественное изменение прежней
ориентировки субъекта в жизненно важных ситуациях. В последнее время открытие так
называемых центров основных эмоциональных состояний и вызывание этих
состояний путем электрического раздражения соответствующих нервных
центров в еще большей степени подчеркнули значение физиологических
механизмов чувств1. Эти открытия, действительно, интересны и важны, но,
собственно говоря, они ничего не меняют в том принципиальном положении,
что, во-первых, всякое психологическое явление возникает и существует
только на определенном физиологическом основании и, во-вторых, что эти
физиологические механизмы объясняют только реализацию этих
психических процессов, но ничего не говорят об их роли в поведении, а следовательно,
об их происхождении и формировании, их внутренней структуре и
возможностях рационального воспитания. Для психологии самое важное
заключается в том, что чувства представляют собой очень своеобразные и притом
могущественные способы ориентировки в жизненно важных
обстоятельствах, что этого рода ориентировку нельзя заменить ни интеллектуальным
решением, ни волевым усилием и что глубокие физиологические изменения
(при остром возникновении чувств) и нервные механизмы, обеспечивающие
эти изменения, генетически сложились и в нормальных условиях служат для
сохранения этой ориентировки и успешного выполнения последующей
деятельности. Именно эта ориентировочная сторона чувств, и только она,
составляет собственный предмет психологии чувств.
Делъгадо X. Мозг и сознание М.: Мир, 1971.
1172
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Вкратце мы должны повторить то же и о волевых процессах. Усилие,
которое связано с волевым решением, предполагает известные энергетические
затраты, и они, конечно, подлежат физиологическому расчету. Не
приходится и говорить, что общественные соображения, в частности этические взгляды
и мера их усвоения (что относится уже к вопросам воспитания), имеют
огромное значение при изучении проблем воли. Но что же составляет собственно
психологическую сторону этой проблемы? И мы опять приходим к
заключению, что той особенной стороной, которую изучает психология воли и
которая одна только и составляет ее предмет, этой особенной стороной является
ориентировка субъекта в таких обстоятельствах, в которых одного только
разума или чувства, или того и другого вместе недостаточно Характерная и
своеобразная ориентировка субъекта в ситуациях моральной
ответственности, ориентировка, ведущая к принятию того или другого решения, — вот что,
собственно, и составляет предмет психологии воли.
Если, следовательно, все психологические функции представляют
собой разные формы ориентировочной деятельности субъекта, то, с другой
стороны, только ориентировочная деятельность и составляет предмет
психологии в каждой из этих функций. Предмет психологии должен быть
решительно ограничен. Психология не может и не должна изучать всю
психическую деятельность и все стороны каждой из ее форм. Другие науки не
меньше психологии имеют право на их изучение. Претензии психологии
оправданны лишь в том смысле, что процесс ориентировки составляет
главную сторону каждой формы психической деятельности и всей
психической жизни в целом; что именно эта функция оправдывает все другие ее
стороны, которые поэтому практически подчинены этой функции. Потому
что самое важное в жизни — правильно сориентироваться в ситуации,
требующей действия, и правильно ориентировать его исполнение1.
Объективные признаки психики
Понимание предмета психологии как ориентировочной деятельности
позволяет наметить решение нескольких трудных вопросов психологии.
Один из них — это вопрос об объективных признаках психики. С
точки зрения традиционного понимания предмета психологии как явлений
сознания, которые открываются только в самонаблюдении, на этот вопрос
можно ответить лишь отрицательно. В аспекте этого классического
понимания объективно наблюдаются только разные физиологические
изменения: движения тела или его отдельных частей, изменения окраски кожи,
потоотделения, электропроводности и т. д. Все эти изменения имеют свои
Что является «правильным» — это другой и особый вопрос, но уже
целенаправленность действий субъекта предполагает некие критерии их «правильности ».
1173
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
физиологические причины, которые в конце концов приводят
исследователя к процессам в нервной системе, а эти нервные процессы, в свою
очередь, вызываются определенными физическими агентами,
раздражителями. Получается так, что, переходя от внешних проявлений так называемых
душевных состояний к их внутрителесному, физиологическому
механизму, а от него — к причинам, вызывающим его работу, исследователь
обнаруживает только цепь физических причин и действий и нигде не находит
такого, хотя бы самого малого, участка, где бы эта цепь прерывалась и в
качестве причины выступало какое-нибудь «душевное движение».
Отсюда следует, что объяснение тех внешних реакций и внутренних изменений
тела, которые в общежитии приписываются душевной жизни, не
нуждается в предположении о вмешательстве психических факторов. Более того,
подобное вмешательство означало бы принципиальное нарушение
причинно-следственных закономерностей материальных процессов —
принципиальное нарушение естественно-научных представлений о мире.
Это положение, давно известное и общепризнанное в буржуазной
психологии, в конце прошлого столетия было еще раз в полемической форме
изложено А.И. Введенским (1892) в качестве основного
психофизиологического закона, содержание которого можно кратко формулировать так:
«Отсутствие объективных признаков одушевленности»1. Правда,
Введенский тут же отмечал, что для каждого человека его собственная душевная
жизнь представляет нечто совершенно несомненное; но душевная жизнь
других людей есть уже голое предположение, которое с одинаковым правом
можно и принять и отвергнуть. Поскольку каждый человек в своей
душевной жизни нисколько не сомневается, а другие люди могут с полным
основанием сделать то же самое и отрицать его душевную жизнь, Введенский
утверждал, что «там, где наверное существует душевная жизнь (то есть во
мне самом), она всегда течет таким образом, что сопутствующие ей телесные
явления совершаются по собственным материальным законам так, будто бы
там совсем нет душевной жизни »2. Иначе говоря, такое представление о
психике изображает ее как процесс, параллельный некоторым физическим
процессам организма и никак на эти физические процессы не влияющий. Это
типичное выражение дуализма, в частности психофизиче-ского
параллелизма, столь распространенного в буржуазной психологии XIX и XX столетий.
Отсюда, из такого идеалистического понимания психики с
одинаковым правом вытекают два противоположных утверждения. Одно
заключается в том, что только я, наблюдающий в себе самом непосредственным и
несомненным образом душевную жизнь, только я один являюсь
одушевленным существом, все остальные — как люди, так и животные — суть
Введенский А.И. Психология без всякой метафизики. Пг., 1917. С. 78.
Там же.
1174
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
только сложные машины. Эта точка зрения (так называемого солипсизма —
«я один») категорически отрицает какие бы то ни было объективные
признаки душевной жизни. Другое, прямо противоположное, выражение того
же основного положения составляет панпсихизм — учение о всеобщем
одушевлении. Эта точка зрения возникает из таких соображений: объективно
наблюдаются только физические процессы, а среди них нельзя провести
четкой, качественной границы между человеком и животными,
животными и растениями, растениями и простейшими живыми существами и,
наконец, между ними и неодушевленной материей; поскольку в себе мы,
несомненно, находим душевную жизнь, то должны признать возможность и даже
весьма большую вероятность наличия ее в других людях, в других живых
существах в постепенно уменьшающейся степени и даже в какой-то очень
малой доле в неживой материи.
Привлекательная сторона этого учения о всеобщем одухотворении,
одушевлении заключается в том, что окружающая нас природа наделяется
духовной жизнью и тем восстанавливается ее внутренняя близость человеку1.
Создается ощущение родственности человека с окружающим миром, который
обычно представляется таким чуждым и нередко даже враждебным. Чувство
родства с окружающим миром — прекрасное чувство, но эти
сентиментальные переживания таят в себе большую теоретическую опасность. Не говоря
уже о том, что они порождают неоправданное доверие и снисхождение ко
многим, несомненно отрицательным, явлениям окружающего мира, они
оставляют и даже делают принципиально непонятным само духовное начало: оно
объявляется первичным и, следовательно, не подлежащим объяснению.
Более того, его всевозрастающая роль в развитии животных и особенно человека
легко истолковывается в том смысле, что назначение психики —
одухотворить материю, поставить дух руководить ею, ее развитием и через завоевание
мира человеком подчинить весь мир неким надматериальным целям, иначе
говоря, утвердить идеалистическое мировоззрение.
В противоположность этому одно из основных положений
диалектического материализма заключается в том, что психика есть особое свойство
высокоорганизованной материи — не особое бытие, а только особое свойство,
и не первичное, а вторичное. Оно возникает благодаря тому, что на
определенной ступени развития организмов психика становится необходимым условием
Г.Т. Фехнер после пережитого им душевного кризиса, с наивным простодушием
возвещал эту точку зрения своим согражданам и, видя их равнодушие, решил
доказать ее убедительно, так сказать с принудительностью научной истины, для чего
и разработал свою психофизику (хороший очерк о Фехнере см. в кн. Джеймс В.
Вселенная с плюралистической точки зрения М., 1911. В очень яркой форме это
воззрение излагал Ф. Паулъсен (его «Введение в философию » пользовалось в свое
время большой популярностью).
1175
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
подвижного образа жизни и их дальнейшего развития. Это основное
положение диалектического материализма философски завершает развитие
естественно-научных представлений о возникновении и роли психики.
Поэтому для нас вопрос об объективных признаках психической
деятельности — это уже не философский, а конкретно научный вопрос, и
заключается он в следующем: на каком основании можно утверждать, что
наблюдаемые действия являются активными, а не автоматическими, что
они выполняются на основе ориентировки в плане образа, хотя бы
восприятия, а не как результат взаимодействия раздражителей и двигательных
возможностей организма. Прежний критерий — целесообразности —
оказался принципиально недостаточным; автоматические реакции любой
сложности могут быть вполне целесообразными. Сигнальность
раздражителей и «экстраполяционный рефлекс»1 сами нуждаются в разделении тех
случаев, где они могут служить показателями психической деятельности,
от других случаев, где они такими показателями служить не могут (так как
полностью обеспечиваются безусловнорефлекторным механизмом).
Ориентировочная деятельность становится необходимой там, где наличных
механизмов недостаточно и нужно или заново наметить действие, или
приспособить, подогнать его к наличным условиям.
В настоящее время ориентировка на определенные части того поля,
которое открывается в плане образа, ориентировка «на что» и «как» есть
экспериментально доказанный факт и устанавливается совершенно
объективно. В этой связи кратко напомним о широко известных опытах
В. Кёлера2. Разумное решение задач, предлагавшихся Кёлером, отличалось
именно тем, что животные начинали ориентировать свои действия на
существенные отношения «проблемной ситуации», причем такие отношения,
которые в начале опыта ими не замечались и не выделялись. Можно без
конца спорить о том, как происходит выделение этих существенных
отношений и что представляет собой мышление животных3. Но сам факт
активного выделения этих существенных отношений и ориентации действия по
линиям этих, тут же выделенных отношений является совершенно
несомненным. Такого же рода опыты были затем успешно проведены Ф.
Бойтендайком (F. Buytendijk) на собаке4 и А. В. Запорожцем на кошке5.
Исключи1 Крушинский A.B. Проблема экстраполяции в физиологии высшей нервной
деятельности// В сб.: Достижения современной физиологии. М.: Наука, 1970.
2 Кёлер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. М., 1930.
3 См. предисловие A.C. Выготского к русскому изданию кн. В Кёлера
«Исследование интеллекта человекоподобных обезьян». М., 1930.
4 Buytendijk F. The mind of the Dog. London, 1935.
5 Запорожецъ A.B. 1нтелектуальн1 моменти в поведшку тварини. «Науков1 записки
Харьювского Державного Педагогичного инстпуту », 1941. Т. VI (на укр. яз.).
1176
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
тельно важный по своему теоретическому значению экстраполяционный
рефлекс, выделенный Л.В. Крушинским, представляет собой
прослеживание животным того направления, в котором движется приманка, и учет этого
направления после того, как приманка скрывается за ширмой1; наконец,
все многочисленные опыты с так называемым «латентным обучением» и
«викарными пробами и ошибками»2, опыты по изучению
ориентировочноисследовательской деятельности животных в процессе выработки
условных рефлексов, проведенные И.П. Павловым и его школой, — все они
свидетельствуют о том, что ориентировка животного на определенные
объекты, ситуации, их свойства и отношения есть факт, который
устанавливается совершенно объективно; сам способ выделения объектов
ориентировки и ее последовательные изменения прослеживаются тоже
совершенно объективно.
Что же происходит в процессе ориентировки? На основе
первоначального образа проблемной ситуации устанавливаются действительные
признаки, свойства, связи и отношения ее объектов, прослеживаются
движения приманки к ним, примериваются собственные действия и в результате
всего этого уточняются или даже впервые выделяются те элементы или
отношения, которые прежде не выступали или не выступали в том
значении, которое существенно для решения актуальной задачи. Словом,
прежнее значение объектов, их свойств или отношений между ними меняется,
они приобретают новое значение, полностью или частично отличающееся
от того, которое они имели в прошлом опыте животного. Эта ориентировка
на новое значение объектов, их свойств или отношений, значение, которого
они не имели в прошлом опыте данного животного (что должно быть
предварительно и специально установлено) и которое они впервые
приобретают благодаря ориентировке в наличной ситуации, — вот это и составляет
объективные показатели ориентировочной деятельности, объективные
признаки психики.
...ориентировка на такое новое значение элементов ситуации должна
быть каждый раз специально установлена.
Схема основных уровней действия
Мы рассматриваем психику, точнее ориентировочную деятельность,
как важнейший вспомогательный аппарат поведения, аппарат управления
Крушинский A.B. Формирование поведения животных в норме и патологии. М.,
1960; его же. Проблема экстраполяции в физиологии высшей нервной
деятельности// В сб.: Достижения современной физиологии. М.: Наука, 1970.
Анциферова Л.И. О закономерностях элементарной познавательной
деятельности. М.: Изд-во АН СССР, 1961.
1177
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
поведением. Этот аппарат возникает на том уровне развития активных
животных, когда в результате их подвижности и возрастающей
изменчивости отношений между ними и объектами среды животные оказываются в
непрерывно меняющихся индивидуальных, одноразовых ситуациях. С этого
уровня возникает необходимость приспосабливать действия к этим
одноразовым условиям. Такое приспособление достигается с помощью
примеривания, экстраполяции и коррекции действий в плане образа наличной
ситуации, что и составляет жизненную функцию ориентировочной
деятельности. Понимая так психическую деятельность, мы можем представить себе
ее место в общем развитии мира, если рассмотрим отдельную единицу
поведения — отдельное действие — со стороны отношения между его
результатом и его механизмом, с точки зрения того, поддерживает ли
результат действия производящий его механизм. Тогда общую линию эволюции
действия — от неорганического мира до человека включительно — можно
схематически разделить на четыре большие ступени, каждой из которых
соответствует определенный тип действия: физическое действие,
физиологическое действие, действие субъекта и действие личности.
Уровень физического действия. У нас нет оснований исключить
действие физических тел из группы тех явлений, которые на всех языках
обозначаются словом «действие». Наоборот, физическое действие
составляет основное содержание понятия о действии; оно должно быть нами принято
в качестве исходного. Особенность и ограниченность физического действия
в интересующем нас аспекте заключается в том, что в неорганическом мире
механизм, производящий действие, безразличен к его результатам, а
результат не оказывает никакого, кроме случайного, влияния на сохранение
породившего его механизма. «Вода точит камень» таково действие воды
на камень, но результаты этого действия безразличны для источника и не
поддерживают ни его существование, ни этого его действия.
Существование потока, который прокладывает себе путь через скалы, зависит вовсе не
от этого пути, а от того, что снова и снова пополняет воды потока.
Если мы возьмем машины, созданные человеком, то их можно
снабдить программой управления, механизмом обратной связи, с помощью
которых регулируется действие этой машины. Но результат, который
служит объектом обратной связи, не поддерживает существование такой
машины. Он только регулирует ее работу. Но работа машины и этого
регулирующего механизма ведет к их износу и разлаживанию, к сбою. Если
предоставить машину самой себе, то вместе со своим регулирующим
механизмом она в конце концов будет давать такой продукт, который будет
негоден с точки зрения человека, построившего эту машину. Не результат
действий машины, а человек, заинтересованный в этом результате,
заботится о сохранении такого механизма (или о его замене более
совершенным); результат действия машины не поддерживает ее существование.
1178
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Уровень физиологического действия. На этом уровне мы находим
организмы, которые не только выполняют действия во внешней среде, но и
заинтересованы в определенных результатах этих действий, а
следовательно, и в их механизмах. Здесь результаты действий не только регулируют их
исполнение, но если эти результаты положительны, то они и подкрепляют
механизм, производящий эти действия.
Однако для этого нового уровня развития действий характерно одно
существенное ограничение — результаты действуют лишь после того, как
они физически достигнуты. Такое влияние может иметь не только
конечный, но и промежуточный результат, однако лишь результат, материально
уже достигнутый. На уровне чисто физиологических отношений такой
коррекции вполне достаточно.
Уровень действия субъекта. Как мы видели выше, условия
подвижной жизни в сложно расчленной среде постоянно приводят животное к
таким одноразовым вариантам ситуаций, в которых прошлый опыт
недостаточен для успешного выполнения действий. Наоборот, воспроизведение
действий в том виде, в каком они были успешны в прошлом опыте, может
привести к неудаче в новых, несколько изменившихся условиях. Здесь
необходимо приспособление действия и до его начала, и по ходу исполнения,
но обязательно до его окончания. А для этого необходимо прибегнуть к
примериванию действий или к их экстраполяции в плане образа. Лишь это
позволяет внести необходимые поправки до физического выполнения или,
по меньшей мере, до завершения этих действий и тем обеспечить их
успешность.
Принципиальное значение в расширении приспособительных
возможностей животного на этом уровне действия заключается именно в том, что
животное получает возможность установить пригодность действия и
внести в него изменения еще до его физического исполнения или завершения.
Здесь тоже действуют принципы обратной связи, необходимых
коррекций, подкрепления удачно исполненных действий, но они действуют не
только в физическом поле, но и в плане образа. Новые, более или менее
измененные значения объектов (по сравнению с теми значениями, которые они
имели в прошлом опыте) используются без их закрепления, только для
одного раза. Но зато каждый раз процедура может быть легко повторена,
действие приспособлено к индивидуальным, единичным обстоятельствам
и удачный результат подкрепляет не только исполнительный, но и
управляющий механизм действия.
Уровень действия личности. Если действие животного отличается
от чисто физиологических отношений с окружающей средой тем, что его
коррекции возможны в плане образа, восприятия открывающейся перед
животным среды, то действие личности означает принципиально новый шаг
вперед. Здесь субъект действия учитывает не только свое восприятие
пред1179
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
метов, но и накопленные обществом знания о них, и не только их
естественные свойства и отношения, но также их социальное значение и
общественные формы отношения к ним. Человек не ограничен индивидуальным
опытом, он усваивает и использует общественный опыт той социальной
группы, внутри которой он воспитывается и живет.
И у человека в его целенаправленных предметных действиях
полностью сохраняются принципы кибернетического управления. Но условия этих
действий, факторы, с которыми считается такое управление, — это прежде
всего общественная оценка и характеристика целей, вещей и намечаемых
действий.
У животного намечаемый план действия выступает лишь как
непосредственно воспринимаемый путь среди вещей; у человека этот план
выделяется и оформляется в самостоятельный объект, наряду с миром вещей,
среди которых или с которыми предстоит действовать. Таким образом,
в среду природных вещей вводится новая «вещь» — план человеческого
действия. А с ним и цель в прямом смысле слова, т. е. в качестве того, чего в
готовом виде нет и что еще должно быть сделано, произведено.
Соотношение основных эволюционных уровней действия. Каждая
более высокая ступень развития действия обязательно включает в себя
предыдущие. Уровень физиологического действия, конечно, включает
физическое взаимодействие и физические механизмы действия. Уровень
животного как субъекта действия включает физиологические механизмы,
обеспечивающие только физиологическое взаимодействие с внешней
средой, однако над ними надстраиваются физиологические механизмы
высшего порядка, осуществляющие психические отражения объективного
мира и психологическое управление действиями. Наконец, уровень
личности включает и физические, и физиологические, и психические механизмы
поведения. Но у личности над всем этим господствует новая инстанция —
регуляция действия на основе сознания общественного значения ситуации
и общественных средств, образцов и способов действия.
Поэтому каждую более высокую форму действия можно и нужно
изучать со стороны участвующих в ней более простых механизмов, но вместе с
тем для изучения каждой более высокой ступени одного изучения этих
более простых механизмов принципиально недостаточно. Недостаточно
не в том смысле, что эти высшие механизмы не могут возникнуть из более
простых, а в том, что образование высших из более простых не может идти
по схемам более простых механизмов, но требует нового плана их
использования. Этот новый план возникает вследствие включения в новые
условия, в новые отношения. Возникновение живых существ выдвигает новые
отношения между механизмом действия и его результатом, который
начинает подкреплять существование механизма, производящего полезную
реакцию. Возникновение индивидуально изменчивых одноразовых
ситуа1180
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ций диктует необходимость приспособления наличных реакций в плане
образа и, следовательно, необходимость психических отражений.
Возникновение таких общественных форм совместной деятельности (по
добыванию средств существования и борьбы с врагами), которые недоступны даже
высшим животным, диктует необходимость формирования труда и речи,
общественного сознания.
Таким образом, основные эволюционные уровни действия намечают,
собственно говоря, основную линию развития материи: от ее
неорганических форм — к живым существам, организмам, затем — к животным,
наделенным психикой, и от них — к человеку с его общественным сознанием.
А сознание, по меткому замечанию Ленина, «...не только отражает
объективный мир, но и творит его»1. Творит по мере того, как становится все
более полным и глубоким отражением механизмов общественной жизни и
ведущим началом совокупной человеческой деятельности.
Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 194.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
А.А.СМИРНОВ:
ПАМЯТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Смирнов Анатолий Александрович (1894—
1980) — психолог, крупный организатор
отечественной науки, директор Психологического института
(1945-1973).
Исследовал широкий круг проблем общей,
возрастной, педагогической психологии,
разрабатывал теоретические и методологические вопросы
психологии, истории психологии («Развитие и
современное состояние психологической науки в
СССР», 1975).
С позиций принципа единства сознания и
деятельности экспериментально исследовал
проблемы психологии памяти. Рассматривал память как компонент деятельности
человека. Обнаружил взаимосвязь между произвольным и
непроизвольным запоминанием, показал зависимость продуктивности последнего от
места запоминаемого в структуре деятельности. Раскрыл связь памяти с
другими психическими процессами, в первую очередь с мышлением и
пониманием («Психология запоминания», 1948; «Проблемы психологии
памяти», 1966).
ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ЗАПОМИНАНИЯ1
I
Мы рассмотрели проблемы психологии запоминания, наиболее
существенные для понимания этих процессов памяти.
Особенное внимание было уделено изучению зависимости
запоминания от деятельности субъекта и характеристике самого запоминания как
особого рода деятельности человек.
Последний момент занимал центральное место в нашей работе. Мы не
только уделили ему больше внимания при рассмотрении самой проблемы
активности, но и подчинили ему изучение вопросов осмысленности
запоминания. Задача изучения этой проблемы заключалась именно в том, чтобы дать
конкретную характеристику мыслительной деятельности в условиях
заСмирнов АЛ. Избранные психологические труды: В 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 283-294.
1182
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
поминания и тем самым раскрыть существеннейшие моменты
содержания запоминания как особого вида деятельности человека.
Аналогично этому рассматривались и вопросы повторения при
запоминании. Основное внимание при рассмотрении этой проблемы было
уделено опять-таки характеристике деятельности субъекта.
Все это целиком согласуется с основными тенденциями советской
психологии, которые идут именно в этом направлении, и вытекает из
понимания психических процессов как активного отражения объективной
реальности, осуществляемого в конкретной деятельности человека.
Изучая зависимость запоминания от деятельности, в которой оно
осуществляется, мы рассматривали эту зависимость в двояком плане. С одной
стороны, мы пытались выяснить, как влияет на запоминание каждая из
сторон деятельности, которыми она характеризуется: ее направленность и
характер ее выполнения, причем в этом последнем случае мы остановились
главным образом на изучении влияния, оказываемого активностью нашей
деятельности. С другой стороны, изучалось влияние этих сторон
деятельности в их взаимоотношении.
Рассматривая зависимость запоминания от направленности
деятельности, мы остановились на вопросе о влиянии мнемической,
направленности как имеющей особенно важное значение в учебной деятельности, в
процессах усвоения знаний, в условиях школьного обучения. Мы не
ограничились констатированием положительной роли, какую эта мнемическая
направленность играет в запоминании, а пытались выяснить также и то, как
влияют на запоминание различные виды мнемической направленности.
В отличие от других исследователей мы изучали не количественные
соотношения продуктивности отдельных видов мнемической направленности,
а качественные изменения запоминания под влиянием той или иной
мнемической направленности. Основной интерес для нас представляло то, что
именно делает человек в зависимости от конкретного вида его
направленности на запоминание.
Мы проследили влияние разных видов мнемической направленности в
сравнительном плане, сопоставляя между собой характеристику
запоминания, протекающего в этих условиях у взрослых и у детей.
Наряду с изучением разных видов направленности мы рассмотрели
особенности осуществляемого в условиях отсутствия мнемической
направленности, т. е. особенности так называемого непроизвольного
запоминания. По отношению к нему мы ставили тот же вопрос: как влияет на него
направленность деятельности, в которой оно осуществляется?
Проведенные нами и другими авторами исследования показали, что и в этом случае
имеется четкая зависимость запоминания от направленности
деятельности, в которой это запоминание протекает: запоминается главным
образом то, что лежит в основном русле нашей деятельности.
1183
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Рассматривая вопрос о влиянии характера деятельности на
запоминание, мы сосредоточились на зависимости запоминания от активности
деятельности. При этом мы не ограничились констатацией общей
положительной роли активности деятельности, а пытались вскрыть различия в том
влиянии, которое оказывают на запоминание разные виды действий,
включаемых в активно осуществляемую деятельность. В итоге исследований
было обнаружено существенное различие между запоминанием того, что
служит прямой целью деятельности, что является предметом действий,
непосредственно осуществляющих достижение цели, и того, что
представляет собой только отправную точку для деятельности, что служит
объектом таких действий, которые играют только подготовительную роль и
непосредственно к достижению цели еще не приводят.
Изучая зависимость запоминания от направленности и характера
деятельности, мы уделили особенное внимание взаимоотношению этих
сторон деятельности, причем в первую очередь остановились на вопросе о том,
какова сравнительная роль каждой из них в общей зависимости
запоминания от деятельности, в которой оно осуществляется. Исследование этой
проблемы дало возможность вскрыть значительно более сложные
взаимоотношения между произвольным и непроизвольным запоминанием
по сравнению с тем, как они обычно рассматриваются в
психологической литературе.
Никак не отрицая значения направленности на запоминание и,
следовательно, существенного преимущества произвольного запоминания, мы
вместе с тем показали, что это преимущество может быть реализовано только
при определенном характере мнемической деятельности субъекта, и прежде
всего при условии высокой активности его деятельности. Отсутствие этого
условия может вести к прямо противоположному отношению между
произвольным и непроизвольным запоминанием по сравнению с тем, что
рассматривается обычно как единственно характерное для них. Другими словами,
мы показали, что при высокой активности деятельности, в итоге
которой достигается непроизвольное запоминание, оно может быть
значительно более продуктивным, нем произвольное запоминание, если последнее
осуществляется на базе менее активной деятельности субъекта.
При этом обнаружилось, что заучивание, которое носит ярко
выраженный произвольный характер и заключается хотя бы в очень
внимательном и активном восприятии материала, но ограничивается только
восприятием его, не представляет собой той деятельности, которая достаточно
гарантирует высокую успешность запоминания. Оно не сопряжено с такой
интеллектуальной активностью, которая требуется в этих случаях, и
поэтому оказывается менее продуктивным, чем непроизвольное
запоминание, когда это последнее опирается именно на такую активность. Только в
тех случаях, когда произвольное запоминание как бы выходит за рамки
1184
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
простого заучивания, включает в себя многообразные и при этом наиболее
высокие формы интеллектуальной активности, активную мыслительную
деятельность, оно действительно становится максимально продуктивным,
реализует все богатые возможности, которые в нем заключены.
Сама по себе мнемическая направленность не дает еще
следовательно, должного эффекта. Наличие ее самой по себе может не вести к
успешному запоминанию, а отсутствие ее может быть компенсировано
характером деятельности в которой запоминание осуществляется, высокими
формами интеллектуальной активности, хотя бы сама по себе эта
деятельность и не была направлена на запоминание. Только сочетание
направленности на запоминание и высоких форм интеллектуальной активности
действительно создает прочную основу максимально успешного
заучивания, делает запоминание наиболее продуктивным.
Эти положения имеют не только теоретическое, но и существенное
практическое значение.
Не подлежит сомнению, что значение направленности на запоминание
должно быть широко использовано в школьной практике, в практике
обучения. Недостаточное запоминание у учащихся нередко объясняется
именно тем, что у них нет иногда этой направленности там, где объективно они
стоят перед необходимостью что-либо запомнить. Слушая изложение
материала учителем в классе, ученик может воспринимать то, что ему
говорится, без специальной направленности на запоминание, и это,
несомненно, снизит эффект запоминания изложенного учителем. Ясно, что задача
учителя в этих случаях заключается в том, чтобы тем или иным способом
вызвать у учащихся направленность на запоминание, пробудить
стремление запомнить то, что воспринимается ими.
Выдвигая это положение, надо вместе с тем иметь в виду, однако, и тот
факт, что во многих случаях успешное запоминание, как следует из наших
опытов, может быть достигнуто и без специальной направленности на то,
чтобы запомнить.
В нашу задачу не входит рассмотрение вопроса о том, в какой мере
нужно, чтобы у учащихся в процессе учения всегда имелась достаточно
ярко выраженная мнемическая направленность и насколько можно
вызвать ее в каждом отдельном случае. Для нас важно здесь другое — то, что
тогда, когда эта направленность почему-либо не вызвана или вызывается в
недостаточной степени, у учителя всегда есть возможность так
организовать деятельность учащегося, что в итоге ее запоминание будет
достигнуто, хотя бы направленность на него отсутствовала.
Основной путь, который должен быть использован в этих случаях,
как ясно из наших опытов, заключается в том, чтобы вызвать у
учащегося активную мыслительную деятельность над материалом,
который надо запомнить.
38 Российская психология 1185
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Какая именно деятельность должна быть избрана в каждом
отдельном случае — это зависит от особенностей данного конкретного случая.
В качестве общего принципа может быть выдвинуто, однако, следующее:
эта деятельность требует от учащегося действительной интеллектуальной
активности, и непосредственным предметом ее является то, что надо
запомнить, т. е. как раз именно те особенности объекта действий, которые
подлежат запоминанию. Материал, который надо запомнить, должен быть
не чем-то побочным для данной деятельности и лишь более или менее
случайно с ней связанным. Он должен лежать в основном русле данной
деятельности в самом центре ее направленности.
Важнейшая роль, какую играет в запоминании характер
деятельности, требует, как мы видели, особенного внимания к подбору деятельности
не только тогда, когда мнемическая направленность отсутствует, но и
тогда, когда она имеется у учащихся. Между тем в школьной практике
нередки случаи, когда учащиеся стремятся запомнить материал, «направлены»
на запоминание, но деятельность, в итоге которой они хотят достичь
запоминания, почти целиком сводится к повторному многократному
восприятию этого материала, к простому прочитыванию его с намерением
запомнить и не включает в себя никакой мыслительной активности, объектом
которой было бы то, что надо запомнить. В итоге получается, что,
несмотря на наличие мнемической направленности, достаточный эффект
запоминания не достигается. Для достижения его надо, чтобы учащийся не только
ставил себе целью запомнить материал, но и располагал действительными
средствами для этого. А это значит, что даже произвольное запоминание
должно быть включено в такую деятельность, которая в силу самого
характера ее выполнения (интеллектуальной активности, которую
она требует) вела бы к успешному запоминанию.
В качестве одной из ярких иллюстраций сказанного можно привести
следующий факт, наблюдавшийся однажды при изучении того, как готовят
учащиеся уроки, заданные им на дом. Ученик V класса учил заданный в
школе урок по ботанике, включавший в себя сведения о форме листьев растений.
В содержание урока входило восемь названий форм листьев и восемь
названий деревьев, имеющих эти листья. Таким образом, ученику надо было
выучить восемь пар названий, соотнесенных друг с другом. Значительная часть
этих названий, взятых сами по себе, в частности все названия деревьев,
учащемуся была уже знакома, и ему надо было лишь закрепить за каждым
таким названием наименование определенной формы листьев.
Казалось бы, что такая работа не должна представлять собой особых
затруднений для учащегося. В действительности же обнаружилось, что
ученик учил даже такой небольшой материал 30 минут, причем учил его
напряженно и с явным стремлением запомнить, и тем не менее не смог
затем воспроизвести его полностью и без ошибок.
1186
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Конечно, этот случай был среди многих наблюдений не правилом,
а исключением. Однако его надо считать все же весьма показательным. Он
со всей определенностью вскрывает, какие затруднения испытывают
иногда учащиеся, когда им надо что-либо запомнить и когда они сами
действительно хотят заучить то, что им задано, обнаруживают достаточно четко
выраженную мнемическую направленность, но средствами и приемами,
помогающими запоминанию, не располагают и вынуждены поэтому
ограничиваться только многократным однообразным повторением того, что
надо выучить.
Не приходится сомневаться (наши опыты это ясно показывают), что
если бы учащемуся, о котором только что шла речь, было предложено не
просто заучивать данные ему восемь пар названий, а выполнить вместе с
тем некоторую активную интеллектуальную деятельность (указать,
например, чем отличаются и чем сходны между собой разные формы листьев,
зарисовать листья каждого указанного ему вида, определить форму
листьев разных деревьев (по памяти или по картинкам), самому назвать,
пользуясь уже имеющимися знаниями, ряд деревьев, имеющих ту или иную
форму листа, и т. п.), то работа учащегося была бы значительно облегчена;
запоминание протекало бы с меньшим трудом и дало бы больший эффект.
В данном случае этого не было, и успешность запоминания у того
школьника, о котором мы рассказали, оказалась ничтожной, хотя направленность
на то, чтобы запомнить, у него, несомненно, была. Не обладая достаточной
памятью, он вынужден был просто зубрить то, что мог бы выучить без
всякой зубрежки, если бы заучивание было включено в активную
мыслительную деятельность. Именно к этой зубрежке и толкает учащихся
необходимость заучивать что-либо путем простого многократного повторения, не
сопряженного с выполнением таких заданий, которые требовали бы
активной мыслительной деятельности и в силу этого уже сами по себе, самым
фактом своего выполнения содействовали бы запоминанию.
Совершенно очевидно, что выбор такой деятельности не всегда может
быть доступен самим учащимся. Организовать эту деятельность должен
учитель. Он должен уметь подобрать задание для учащихся так, чтобы оно
позволило полностью реализовать влияние «направленности на
запоминание», предохранить от действия ее «вхолостую».
Отмечая недостаточность мнемической направленности самой по себе,
надо указать также на следующий факт, ясно выявленный нашими
опытами. Направленность на запоминание должна не только подкрепляться
выполнением таких действий, которые в силу требуемой ими
интеллектуальной активности способствовали бы запоминанию, но она должна и сама по
себе носить строго определенный характер, быть не мнемической
направленностью вообще, а направленностью на такое запоминание, которое
удовлетворяет определенным требованиям в смысле полноты, точности,
проч38* 1187
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ности и последовательности воспроизведения. Сам процесс заучивания, как
ясно следует из наших опытов, протекает неодинаково — в зависимости от
требований, какие предъявляются к итогам запоминания. Для того чтобы
достичь результата, соответствующего тем или иным конкретным
требованиям, необходимо, чтобы этот процесс протекал определенным
образом, а это достигается прежде всего четко поставленной задачей,
совершенно конкретным ее содержанием, направленностью не на заучивание
вообще, а на заучивание, соответствующее требованиям, предъявляемым
в каждом отдельном случае.
Все это опять-таки выдвигает задачу — добиваться ясного осознания
учащимися требований, предъявляемых к заучиванию, пробуждать у них
направленность на строго определенное запоминание, указывать пути,
которыми они могут достичь его, характер процесса, способствующий
достижению того результата, какой от них требуется.
Значение этой задачи тем более существенно, что сами школьники,
в особенности младших классов, часто вовсе не обнаруживают при
запоминании дифференцированной мнемической направленности, которая
соответствовала бы определенным требованиям к заучиванию, довольствуются самой
общей, неопределенной направленностью на запоминание вообще или, наоборот,
под влиянием ложного понимания требований, предъявляемых школой,
стремятся запоминать материал всегда одним и тем же строго определенным
образом: буквально, причем даже там, где этого вовсе не требуется.
II
Вскрывая взаимоотношение мнемической направленности, с одной
стороны, и характера деятельности, выполняемой при заучивании, с
другой стороны, мы пытались выяснить не только сравнительную долю
влияния обеих этих сторон деятельности на запоминание, но и изучить их
взаимодействие между собой. Особенное внимание мы уделили влиянию, какое
может оказывать первая из только что указанных сторон деятельности —
мнемическая направленность — на вторую, причем мы имели в виду как ее
влияние на понимание того, что запоминается нами, так и воздействие,
которое она оказывает на самый характер мыслительной деятельности,
осуществляемой при запоминании.
Относительно первого из этих моментов мы выявили следующее:
мнемическая направленность может оказывать двоякое действие на понимание
того, что мы запоминаем. В одних случаях она может мешать пониманию,
заслонять собой необходимость понять то, что заучивается, вести к
механическому запоминанию. В других случаях мы сталкиваемся, наоборот, с
противоположным явлением: направленность на запоминание, в особенности
сознательно поставленная задача запомнить, оказывает на понимание
поло1188
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
жительное действие, выступает как стимул к более полному, глубокому и
точному пониманию по сравнению с тем, какое достигается, когда эта задача не
ставится. Это последнее положение представляется особенно важным в связи
с часто наблюдаемым противопоставлением памяти и мышления,
искажающим подлинные взаимоотношения между ними, которые в действительности
носят значительно более сложный и противоречивый характер.
В своем исследовании мы не ограничились изучением действия,
оказываемого мнемической направленностью на результат мыслительной
деятельности, выполняемой при запоминании а подвергли изучению вопрос
и о том, как мнемическая направленность влияет на самый характер
мыслительной деятельности, являющейся опорой запоминания. Решение
этого вопроса дало нам возможность, изучая мыслительные процессы в
условиях запоминания, дать характеристику и самого запоминания как особого
рода деятельности, поскольку именно мыслительные процессы
представляют собой существеннейшие моменты в содержании запоминания как
особой деятельности субъекта.
Отмечая значение этих процессов, мы подробно остановились на
выяснении тех из них, которые играют особенно важную роль в запоминании.
Сюда относятся смысловая группировка материала, выделение
смысловых опорных пунктов, смысловое соотнесение, или сопоставление того,
что запоминается, с чем-либо уже известным. Вскрывая
закономерности, характеризующие эти процессы мы выявили исключительно важную
роль не столько продуктов деятельности, сколько самих действий,
направленных на запоминание, т. е. активного и самостоятельного выполнения
действий, осуществляемых с целью запомнить материал. Весьма ясно это
выявилось при изучении роли плана, который составляется при
запоминании тех или иных текстов и является одним из существеннейших
продуктов мыслительных процессов, участвующих в запоминании.
Наши опыты показали, что не столько план сам по себе, как итог наших
действий или ближайший продукт их, сколько самый процесс его
составления играет особенно важную роль в запоминании, оказывается весьма
важной и действительной опорой запоминания. То же самое вскрылось и
относительно значения промежуточных, подсобных звеньев связи, к
которой мы прибегаем с целью облегчить запоминание и которая
устанавливается в процессе соотнесения того, что запоминается, с тем, что уже
известно. И в этом случае не столько эти звенья сами по себе как продукт соотнесения,
сколько процесс их образования служит основой запоминания.
Для педагогической практики эти положения весьма важны. Они
указывают на необходимость максимально стимулировать активность
школьника при запоминании, добиваться от него активного, самостоятельного
выполнения действий, служащих опорой запоминания, и прежде всего
активной, самостоятельной группировки материала, самостоятельного
вы1189
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
деления смысловых опорных пунктов, самостоятельного соотнесения
нового с известным.
Никак нельзя отрицать значения всех тех средств, которые с этой
целью даются в готовом виде, в частности значения четкой разбивки текста на
абзацы, наличия заглавий отдельных разделов, выделения курсивом
главного, существенного в тексте и т. д. Все это, конечно, должно применяться
в учебниках, в особенности предназначенных для школьников. Однако было
бы большой ошибкой ограничиться только готовыми средствами,
облегчающими запоминание. Исключительно важно, чтобы школьник сам мог
производить и действительно сам производил все операции, необходимые для
более глубокого понимания текста. Он должен сам группировать и
расчленять материал, сам выделять в нем смысловые опорные пункты, сам
сопоставлять и соотносить то, что запоминается, с тем, что уже известно.
Наши опыты показали, что это умение представлено у школьников,
в особенности младшего и среднего возраста, далеко еще недостаточно.
Существенным является следующий факт: между усвоением действий,
служащих опорой запоминания, и использованием их как приемов
запоминания может существовать значительный разрыв. Само действие может
быть усвоено, т. е. может выполняться достаточно успешно, но
выполнение его осуществляется только тогда, когда перед учащимися ставится
специальная цель — выполнить данное действие. В условиях запоминания
когда такая специальная цель отсутствует и когда действие надо выполнить
лишь как средство, облегчающее запоминание, учащийся не прибегает к
нему, не выполняет его. Приемом запоминания оно еще не стало. Это
обстоятельство весьма важно, так как с полной очевидностью подчеркивает,
что недостаточно обучить учащихся действиям, помогающим
запоминанию, самим по себе вне процесса запоминания, а надо научить
пользоваться этими действиями при заучивании как средством, облегчающим
запоминание. Нельзя довольствоваться тем, что учащиеся умеют составить план
материала, когда это от них специально требуется (например, для
письменного изложения или сочинения), а надо научить их пользоваться
составлением плана в интересах заучивания как приемом запоминания, как
действием, подчиненным мнемической задаче — задаче запомнить.
III
Изучение запоминания как особой деятельности человека дало
возможность выяснить не только общее содержание мыслительных
процессов, имеющих место на протяжении процесса запоминания в целом, но и
характер деятельности субъекта на каждом этапе заучивания. С этой
точки зрения запоминание должно быть понято не как однообразное
многократное запечатление того, что надо запомнить, а как разнообразно
1190
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
протекающая деятельность, каждое отдельное звено которой, т. е.
каждое отдельное повторение, направлено на решение новой задачи,
зависящей от общей цели, которую надо достигнуть, и от уже достигнутых
результатов. Постановка таких задач тем, кто запоминает материал, является
одним из существенных показателей активности запоминания и
сознательного отношения к процессу заучивания.
Сравнительные опыты над взрослыми и детьми показали, что и в этом
отношении между теми и другими наблюдаются заметные различия.
В младшем школьном возрасте запоминание характеризуется
однообразием и слагается из звеньев, шаблонно повторяющих друг друга и
подчиненных только одной конечной, самой общей и на разных этапах
заучивания совершенно не дифференцированной задаче. Дифференциация ее и
связанное с ней разнообразие при повторении возникают лишь позднее, по
мере роста практики в запоминании у школьников, и зависят от указаний,
даваемых учителем. Характерно, что первоначально учащиеся вносят
разнообразие в запоминание, сами не замечая этого, и лишь в дальнейшем
разнообразие деятельности начинает носить у них сознательный характер и
направляется сознательной дифференциацией задач, которые ставятся
сейчас на каждом этапе запоминания.
Для продуктивности запоминания разнообразие повторений имеет
важнейшее значение. Оно дает возможность как-то по-новому
посмотреть на уже воспринятый материал, выделить в нем то, что до этого не
было выделено, и в соответствии с новыми задачами, которые ставятся
перед каждым последующим повторением, направлять запоминание
каждый раз по строго определенному пути. Естественно поэтому, что
стандартное запечатление материала дает значительно меньший эффект,
чем запоминание, включающее в себя разнообразное модифицирующее
повторение. Это ясно выражено как в тех случаях, когда заучивание
осуществляется «в один прием», как, например, заучивание заданного
школьнику на дом, так и тогда, когда повторения растянуты во времени
и осуществляются с целью возобновить и закрепить в памяти то, что
уже было выучено раньше.
Это положение накладывает на школу определенное обязательство:
научить школьника в процессе самостоятельной работы при заучивании
учебного материала разнообразить повторение, научить его ставить
конкретные дифференцированные задачи перед каждым повторным
прочитыванием того же самого материала, намечать эти задачи в соответствии с
уже достигнутыми результатами, с требованиями, предъявляемыми к
заучиванию данного материала.
Исходя из этого, надо проводить и повторение пройденного в школе.
В данном случае роль разнообразия повторения еще больше усиливается, так
как помимо своего непосредственного, уже отмеченного выше действия оно
1191
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
оказывает значительное влияние и на отношение учащихся к повторению,
в свою очередь определяющее эффект, который в итоге его достигается.
Хорошо известно, что школьники не любят повторять выученное
раньше и недооценивают значение повторения. Если им задано повторить то,
что у них еще свежо в памяти, они считают такое повторение излишним и
нередко в этих случаях на вопрос, что им задано к следующему разу,
отвечают: «Ничего не задано ». «Задано повторить » в сознании учащегося
оказывается почти тождественным с «ничего не задано». Выученное недавно
кажется настолько известным, что повторение его считается излишним или
таким легким, что для него, как кажется учащемуся, не нужно никаких
усилий, а необходима лишь минимальная затрата времени. С другой
стороны, известно также и то, что, как правильно отмечал еще К.Д. Ушинский,
учащиеся не любят повторять то, что забыли. Восстанавливать в памяти
забытое значит восстанавливать старое, уже выученное, не приобретать
нового, а это, конечно, не вызывает интереса у учащихся, не стимулирует
их к повторению. Чтобы преодолеть как недооценку учащимися
повторения, так и отрицательное к нему отношение, необходимо организовать
повторение так, чтобы оно заключало в себе всегда нечто новое, а не
представляло собой простого восстанавливания того, что уже было,
в том же самом виде. Строить повторение надо на основе разнообразия,
причем в первую очередь разнообразия действий, которые выполняются
учащимися, а частично и материала, который при этом используется.
Важнейшую роль в этих случаях, исходя из принципов активности и
осмысленности запоминания и их значения для пробуждения интереса
учащихся, надо отводить постановке новых мыслительных задач, для решения
которых учащиеся должны использовать сведения, полученные ими раньше,
и проявить самостоятельность в работе. В этом случае повторение старого,
уже выученного, не явится некоторым самодовлеющим действием, а будет
включено в новую деятельность, которая всегда может быть подобрана так,
что будет представлять большой интерес для учащегося. Тем самым она
вызовет интерес и к тому материалу, с которым учащийся будет иметь дело при ее
выполнении и который как раз и нуждается в повторении.
Весьма важно, чтобы повторение включалось в эту новую деятельность
(в решение новой задачи) как его необходимое звено, как основа решения
новой задачи, как средство ее решения. При этих условиях повторение
приобретает новый и интересный смысл для учащихся, так как школьник ясно сознает
теперь, что для выполнения поставленной перед ним новой и важной
задачи действительно надо вновь возвратиться к материалу, изученному
раньше, и повторить его. Из скучного и недооцениваемого учащимися занятия,
выполняемого иногда только под влиянием сознания необходимости
подчиниться требованию школы, повторение превращается в этих случаях в
необходимую часть новой увлекательной работы, интерес к которой
распространя1192
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ется и на само повторение. На этот раз оно сопровождается сознанием его
значения, его новой и более высокой оценкой учащимися.
Положительное влияние разнообразия при повторении тем более
велико, что решение новых мыслительных задач влечет за собой
возникновение новых связей. Для решения новой задачи требуется часто отступить от
того порядка, в каком материал преподносился раньше, и включить старое
в новые связи и отношения.
Лучшие учителя нашей школы так именно и осуществляют
повторение: принципу разнообразия при повторении они придают особенно
важное значение, на реализацию этого принципа направлена значительная доля
их методических исканий; много внимания уделяется ими подбору новых
мыслительных задач, решение которых включает в себя повторение того,
что уже было изучено раньше.
Все сказанное ясно свидетельствует о том, что вне решения проблемы
активности и осмысленности запоминания вопрос о повторении
правильно решен быть не может. Значение этих проблем выступает со всей
определенностью. Именно этим проблемам и было уделено центральное
внимание в нашей работе.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Б.М. ТЕПЛОВ:
ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Теплов Борис Михайлович (1896-1965) —
психолог, крупный теоретик и экспериментатор,
выдающийся организатор психологической науки
в нашей стране. Зам. директора Психологического
института (1945-1952), главный редактор
журнала «Вопросы психологии» (1958-1965). Автор
фундаментальных исследований в различных
областях психологической науки — истории, теории
и методологии психологии, общей психологии
восприятия, творчества, способностей («Психология
музыкальных способностей», 1947; «Ум
полководца», 1943), психологии
индивидуально-психологических различий, а также в военной, инженерной, педагогической
психологии. Создал новое междисциплинарное направление —
дифференциальную психофизиологию («Проблемы индивидуальных различий», 1961).
Вел активную педагогическую деятельность, автор учебников по
психологии для вузов («Психология », 1938) и для средней школы («Психология »:
Учебник для средней школы, 1946).
О НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ ВОПРОСАХ РАЗРАБОТКИ
ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ1
За последнее время развертывается довольно интенсивная работа по
истории психологии на Украине, в РСФСР, Грузии, Армении и других
республиках. Я не ставлю задачи подводить итоги этой работы. Мой доклад
имеет другую цель: обратить внимание на некоторые важнейшие
проблемы, стоящие перед историей психологии, и некоторые принципиальные
требования, которые должны быть предъявлены к
историко-психологическим исследованиям. При этом я хочу уделить особое внимание тем
задачам и требованиям, которые связаны с пониманием истории психологии
как области исследования, насущно необходимой для успешной
разработки актуальных проблем современной науки.
История психологии есть, во-первых, история борьбы идей, борьбы
материалистического и идеалистического понимания психики, история
1 Теплов Б.М. О некоторых общих вопросах разработки истории психологии//
Теплов Б.М. Избр. тр.: В 2 т. Т. IL M.: Педагогика, 1985. С. 191-198.
Ф
1194
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
возникновения и победы диалектико-материалистического учения о
природе психического, на основе которого только и возможно подлинно
научное понимание законов психической жизни.
Следует указать на опасность всякой схематизации и упрощения при
исследовании истории философских основ психологии. Известно,
например, что в истории борьбы философских взглядов сменялись разные
формы материализма. Механицизм, как одна из форм материализма, играл в
определенные эпохи прогрессивную роль в истории психологии (Т. Гоббс,
французские материалисты XVIII в.). Недооценивать эту прогрессивную
роль механистических теорий в определенных конкретных условиях было
бы крупной ошибкой историка психологии. Но в конечном счете
механицизм ведет в тупик психологическую теорию и из прогрессивной силы
становится реакционной. Для историка науки не может быть единого для всех
эпох отношения к механистическому материализму.
Одной из форм упрощения в историко-психологических работах
является безоговорочное принятие некоторых домарксовых
материалистических теорий, высокопрогрессивных для своего времени, но никак не
могущих служить образцом и руководством к действию в настоящее время.
Историки психологии должны показывать пример подлинно
исторического подхода к таким теориям.
История психологии есть, во-вторых, история накопления
конкретных знаний и методов исследования, история накопления фактов,
приводящего к открытию законов. История психологии должна стать историей
научных открытий.
Иногда приходится слышать от психологов, не говоря уже о
представителях других специальностей, мнение, что в психологии не бывает
открытий. Если это так, то психологии как науки не существует.
Правильнее было бы сказать иначе: в психологии еще недостаточно умеют
различать подлинные научные открытия, в психологии почти совсем не
поставлен учет сделанных открытий. Мы еще часто не умеем отличить
научное открытие от описания новыми словами хорошо, известных
фактов и закономерно-стей или от оригинальных мыслей и теоретических
построений, не содержащих в себе, однако, никакого научного открытия.
Дж. Бернал сделал очень глубокое замечание: «Трудность в науке часто
представляет не столько то, как сделать открытие, сколько понять, что
оно сделано» (1955. С. 399). Ему же принадлежит и другая, не менее
важная для историков психологии, мысль: «Во многих областях создалось
такое положение, когда до сути дела легче открыть новый факт или
создать новую теорию, чем удостовериться в том, что они еще не были
открыты и выведены» (там же. С. 681). Никак нельзя утверждать, что это не
относится к психологии. Одна из самых актуальных для современной
науки задач истории психологии заключается в том, чтобы в психологии
1195
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
оставалось возможно меньше проблем, в которых легче открыть
Америку, чем узнать, что она уже открыта.
Существенно важный признак науки — ее кумулятивный характер.
Прогресс науки возможен только путем кумуляции знаний: каждая новая
ступень в познании данной области действительности строится на основе
уже накопленных знаний. Отсюда ясно, какое огромное значение может
иметь правильно ориентированная история психологии для развития
современной научной психологии.
Всякое серьезное научное исследование начинается обычно с
истории вопроса. Такого рода истории вопроса, включаемые в исследования,
представляют собой очень ценный материал для историков психологии.
И не только потому, что дают готовый подбор фактических данных, но еще
и потому, что указывают на те вопросы, история разработки которых
представляет в настоящее время особенно актуальный интерес. Но еще более
очевидно то значение, которое должны иметь работы по истории
психологии для авторов специальных исследований. Историко-психологические
изыскания должны ориентировать исследователей специальных проблем
в том, где и какой материал по данной проблеме они должны искать, как
теоретически оценивать те или иные факты и теории, в каком контексте
открывались эти факты и создавались эти теории.
Лишь в порядке научного анализа я выделил две задачи истории нашей
науки: историю борьбы философских взглядов и историю накопления
конкретных знаний. В подлинном историко-психологическом исследовании
должны быть представлены оба эти аспекта, причем в неразрывном
единстве. Теоретические взгляды ученого определяют направление и характер
его специально-научных поисков. Но не следует понимать этот вопрос
упрощенно. Не следует думать, что ученый, стоящий на неправильных и
даже реакционных для своего времени позициях, не может сделать
важных научных открытий в специальной области. И наоборот, не следует
думать, что всякое специальное положение, защищавшееся ученым,
стоявшим на прогрессивных теоретических позициях, всегда и обязательно верно.
Такое понимание вопроса самоочевидно для марксиста. Однако оно не
всегда учитывается в наших работах по истории психологии.
Слияние теоретических концепций и накопленного фактического
материала осуществляется в системе науки: теоретические концепции
превращают совокупность имеющихся знаний в систему науки. Отсюда
вытекает одна из самых важных и обычно недостаточно сознаваемых задач
истории психологии. Она не может быть только историей борьбы
философских взглядов, она не может сводиться и к истории накопления
фактических знаний. Перед нею задача значительно более трудная, но
совершенно необходимая — она должна быть историей развития системы
науки.
1196
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Задача эта не только важна в плане собственно историческом, она в
высшей степени актуальна. Очевидно, что мы не имеем еще
сколько-нибудь удовлетворяющей нас системы психологии. Построение наших
учебников и пособий не соответствует той системе, которая фактически, хотя
и не осознанно, лежит в основе исследовательской (не только
экспериментальной!) работы советских психологов. Если представить себе человека,
в руки которого попали бы все научные психологические монографии и
статьи, опубликованные за последние, скажем, 20 лет, но не попало бы ни
одного учебника, программы, курса лекций по психологии, то он не смог
бы реконструировать оглавления наших учебников и пособий.
Система подлинной науки не выдумывается отдельными учеными.
Такие надуманные системы обычно и принимаются только самими
авторами и их ближайшими учениками. Подлинная система науки органически
вырастает из хода развития науки и является теоретическим осмыслением
всей совокупности достигнутых знаний в данной области. Не изучив хода
развития науки, нельзя строить систему этой науки. Историки психологии
должны сознательно ставить перед собой цель отразить историю развития
системы психологии как науки.
Широко известно, что психология как самостоятельная наука
оформилась сравнительно недавно: как принято считать, во второй половине XIX в.
Но не менее хорошо известно, что и раньше, в течение многих столетий и даже
тысячелетий, происходило накопление и теоретическое осмысление
психологических знаний. У Аристотеля, величайшего энциклопедиста античной
Греции, «наука о душе » выступает как область знаний, значительно более
отчетливо очерченная и систематизированная, чем многие другие, впоследствии
далеко обогнавшие психологию как самостоятельные науки. Психология —
очень молодая наука, но очень древняя область знаний.
В чем причина столь позднего оформления психологии в
самостоятельную науку? Вот один из важных вопросов, на который должна
ответить история психологии. А ответить на него, как и на все основные
вопросы истории науки можно, только рассматривая историю развития
психологической мысли в связи с широкими проблемами общественной
жизни, борьбы в идеологической области, истории других наук. Нельзя
объяснить основные особенности хода развития отдельной науки, исходя
лишь из внутренней логики этого развития.
В чем, собственно, заключалось выделение психологии в
самостоятельную науку? Вот другой, не менее важный вопрос. Было бы очень наивно
связывать — даже условно — выделение психологии в самостоятельную
науку с каким-либо определенным событием и приурочивать к какой-либо
определенной дате. Это не момент, а процесс, и процесс очень длительный
и сложный. Сколько-нибудь удовлетворительного изучения этого
процесса еще не произведено.
1197
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Мы не можем даже точно ответить на вопрос, в чем заключался тот
основной признак, который характеризовал выделение психологии в
самостоятельную науку. Специальные трактаты и учебники по психологии
писались и раньше, (начиная с XVIII в. — в большом количестве), и в них
психологические знания оформлялись в разного рода системы.
Следовательно, не здесь надо искать признак, характеризующий выделение
психологии в самостоятельную науку.
Напрашивается другой признак — появление психологов как
представителей особой специальности и организационное оформление
психологии как независимой дисциплины. В 1873 г. И.М. Сеченов, задавая вопрос
«кому разрабатывать психологию?», вынужден был делать выбор между
философами (или другими специалистами гуманитарных наук) и
физиологами, не имея в виду возможность такого ответа: психологию надо
разрабатывать психологам. В 1879 г. Т. Рибо в книге «Современная немецкая
психология» писал: «Мы видим, как приближается время, когда
психология будет требовать всех сил человека, когда люди будут только
психологами, как бывают только физиками, только химиками, физиологами ».
Действительно, это время приближалось, и к концу XIX в. «психологи»,
о которых мечтал Рибо, стали реальностью. Не надо забывать, однако, что
выделение психологии, даже и в этом внешнем, организационном, смысле
происходило очень медленно. Типичные в наших глазах представители
психологии как специальной науки В. Вундт, Г. Эббингауз и многие другие в
Германии, H.H. Ланге и Г.И. Челпанов в России были по своему
официальному положению профессорами философии, лишь имевшими склонность
уделять много внимания одной из «философских наук» — психологии. Едва
ли они вполне отвечали идеалу Рибо. Мало того, тот же Вундт, создатель
первой психологической лаборатории, в 1913 г. горячо, протестовал
против проекта выделить психологию в немецких университетах из кафедр
философии и признать ее за самостоятельную специальность. Да и в наши
дни вполне ли закончился процесс организационного выделения
психологии в самостоятельную науку?
Надо сказать, что организационный критерий является, конечно,
вторичным и производным в процессе выделения психологии в
самостоятельную науку. Не он определял ход его.
Наиболее важный признак, который часто указывается как имевший
решающее значение для выделения психологии в самостоятельную науку, —
появление и широкое распространение специальных методов научного
исследования психической жизни, прежде всего экспериментального
метода. Несомненно, что возникновение и стремительное развитие
психологического эксперимента, начавшееся именно во второй половине XIX в., —
одно из самых значительных событий в истории психологии. Несомненно и
то, что этот факт играл чрезвычайно важную роль в выделении психологии
1198
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
в самостоятельную науку. Особенно нужно подчеркнуть, что за введением
в психологию эксперимента последовала разработка и других методов
изучения фактов психической жизни (систематическое наблюдение, так
называемый клинический метод, дневники развития ребенка и многое другое).
Но, как бы ни был важен этот методический показатель, едва ли можно
принять его в качестве единственного. Едва ли легко доказать, что
психологию — в том ее содержании, которое сложилось к настоящему времени, —
следует признавать специальной наукой лишь с того времени и в той мере,
как она стала основываться на научно отработанных методиках.
Один пример из истории науки. Несомненна очень большая роль
Сеченова в развитии научной психологии; притом как раз в наиболее острый с
интересующей нас сейчас точки зрения период — во второй половине XIX в.
Но Сеченов никогда не производил систематических психологических
исследований — ни экспериментальных, ни каких-либо других (за
исключением последней его экспериментальной работы). Можно думать, что
Сеченов поступал так совершенно сознательно. В статье «Кому и как
разрабатывать психологию? » он указывал, что материалом для его теоретических
построений служила «та сумма психологических самонаблюдений и
наблюдений над другими людьми из сферы обыденной жизни, которая
известна всякому под общим именем практической, или обыденной,
психологии». И далее он подчеркивал: «Расширять в настоящее время сферу
исследования за пределы этого материала было бы, по моему мнению,
делом не только бесполезным, но даже вредным»1. Не объяснив смысла этой
позиции Сеченова, историк психологии никогда не поймет ни роли его в
истории психологии, ни всей подлинной сложности процесса развития
научной психологии во второй половине XIX в.
Этот вопрос имеет совершенно актуальное значение и теперь. Попробуем
проанализировать те положения, которые в настоящее время образуют
содержание наших курсов, учебников и пособий по психологии. Можно ли
сказать, что все эти положения являются результатом конкретных
систематических исследований, проведенных на основе тех или других научно
обоснованных методик? Ответ, как мне кажется, должен быть
отрицательный. Откуда же взялись эти положения, входящие в состав науки? Это один из
важнейших вопросов, которые стоят перед историками психологии.
Нельзя полностью отделять друг от друга историю строго научных,
методически проводимых исследований психологических проблем и
историю развития психологически знаний, получаемых другими путями.
Последняя продолжается тысячелетия, первая насчитывает едва ли сто лет.
Содержание психологии настоящего времени почерпнуто из обоих
источников; удельный вес того и другого различен в разных отделах психологии.
1 Сеченов И.М. Избранные произведения. М., 1952. Т. 1. С. 195-196.
1199
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Откуда черпались психологические знания, пока не существовало
специальных психологических лабораторий и не велось систематических
психологических исследований, и откуда эти знания продолжают черпаться
даже и после возникновения психологии как организационно
оформленной специальной дисциплины?
В зарубежных трудах по истории психологии обычно имеется в виду
лишь один источник — философия. Не приходится отрицать значение
этого источника как одного из важнейших хотя бы потому, что психология до
своего выделения в самостоятельную науку развивалась как часть
философии. Однако сочинения философов никогда не являлись единственным
источником психологических знаний. К тому же и сами философы
откудато черпали свои психологические знания.
Другим важнейшим источником психологических знаний было
естествознание, наиболее важная для психологии отрасль которого —
физиология — уже давно опередила в своем развитии психологию. Значение
этого источника психологических знаний хорошо осознано — по крайней мере
в принципе — нашими историками психологии.
Значительно менее, однако, обращается внимание на важнейший для
развития психологических знаний источник — общественную практику.
Пожалуй, только роль медицинской практики находит отражение в истории
психологии, но и то лишь в отношении далеко прошлого (античная медицина,
медицина эпохи Возрождения). Почти не исследованной остается роль
педагогической практики в развитии психологической мысли. В круг внимания
историков психологии включаются обычно лишь теоретические взгляды
крупнейших педагогов прошлого. Попытка H.A. Менчинской исследовать вопросы
психологии обучения арифметике в работах русских методистов и учителей
начиная со второй половины XVIII в. (Психология обучения арифметике, 1955.
Гл. II) показала, как из запросов практики обучения арифметике рождались
многие специальные психологические проблемы. Такое направление
исследования имеет принципиальное значение для истории психологии.
Мысль историков психологии должна обратиться, в сущности, ко всем
областям практики, связанным с воздействием на человека.
Серьезного внимания заслуживает проблема отношения психологии
к художественной литературе (в известной мере к искусству вообще). Едва
ли можно серьезно полагать, что художественная литература —
«человековедение», по известному определению A.M. Горького, — не имела
никакого влияния на развитие психологической мысли. Историкам психологии
следовало бы в первую очередь рассеять распространенное среди
психологов пренебрежительное отношение к литературе как источнику
психологических знаний. До сего времени работы, подобные монографии И.В.
Страхова «Л.Н. Толстой как психолог» (1947), остаются одиночными и никак
не оцененными.
1200
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Наиболее распространенный тип историко-психологического
исследования у нас за последние годы — это монографические работы,
посвященные психологическим взглядам одного автора. Такие работы совершенно
необходимы, но они могут считаться действительно
историко-психологическими исследованиями (а не просто ценным материалом для таких
исследований), если взгляды каждого автора будут рассматриваться в связи
со взглядами его предшественников и современников, если будут
выясняться источники этих взглядов, изменение и развитие их в течение
научной деятельности автора, дальнейшая судьба их в истории развития
психологической мысли, коротко говоря, если в этих работах будет показана
динамика развития психологического знания и психологической мысли на
избранном участке, а не просто дано статичное описание. Этим
требованиям в большей или меньшей мере удовлетворяют некоторые из
опубликованных у нас за последнее время работ, но едва ли эти требования вполне
осознаны как обязательные для историко-психологических исследований.
Большой заслугой советских исследователей следует признать
интенсивную разработку вопросов истории психологии у народов СССР. В этой
области открыто много новых и очень ценных материалов (работы
Б.Г. Ананьева, Г.С. Костюка и его сотрудников, М.В. Соколова и связанных
с ним авторов, A.C. Прангишвили, М.А. Мазманяна и многих других).
Однако важный недостаток указанных работ тот, что психологические
взгляды русских, украинских, грузинских, армянских, азербайджанских и т. д.
авторов рассматриваются, как правило, в отрыве от развития мировой
истории нашей науки. Оценка достижений любого автора должна
соотноситься с разработкой соответствующих проблем в мировой психологии.
И источники психологических взглядов большинства авторов нельзя
полностью понять, если заранее ограничить себя национальными рамками.
Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев сами изучаемые
авторы менее всего повинны в том, что их исследуют вне контекста развития
мировой науки. Достаточно сослаться на пример Сеченова, который стоял
в первых рядах мировой науки своего времени и, несомненно, оказал
существенное (хотя обычно замалчиваемое зарубежными историками) влияние
на мировую психологическую мысль. Связь своих мыслей с идеями
мировой науки сам Сеченов иногда подчеркивал, и даже в очень острой форме.
Так, в первой, вводной, главе «Элементов мысли» он писал: «Для нас,
в нашем частном случае, гипотеза Спенсера имеет значение общей
программы для изучения развития мышления...» И дальше: «Таким образом,
задача моя сводится, в сущности, на то, чтобы согласить физиологические
данные эволюции ощущений в мысли, установленные Гельмгольцем, с общей
программой Спенсера»1.
1 Сеченов И.М. Избранные произведения. М., 1952. Т. 1. С. 296.
1201
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Как ни странно, но никто из авторов, подробно изучавших «Элементы
мысли», не сделал попытки глубоко сопоставить положения,
содержащиеся в этом замечательном сочинении, с физиологическими достижениями
Г. Гельмгольца и со взглядами Г. Спенсера. В последнее время М.Г.
Ярошевский в ряде статей сделал первую попытку исследовать проблему
«Гельмгольц и Сеченов», вопрос же об отношении взглядов Спенсера и Сеченова,
насколько я знаю, даже никем всерьез не поставлен. Но можно ли без
этого установить подлинный вклад в мировую науку великого русского
ученого? Изучение психологического наследия Сеченова неизбежно должно
зайти в тупик, если к нему не будет применен подлинно исторический, а не
статически-описательный подход.
Советские психологи — исключением являются лишь некоторые
работы С.Л. Рубинштейна — избегают до сего времени даже косвенно
касаться истории мировой психологии. Но ведь важнейшая задача, стоящая
перед всеми нашими работниками, занимающимися историей психологии, — это
постепенное приближение к созданию подлинно марксистской истории
мировой психологии. Лишь в контексте решения этой задачи можно с
полной убедительностью показать все значение советской психологии как
качественно нового этапа в развитии психологической науки.
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПСИХОЛОГИИ1
Изучение типологических свойств нервной системы — аспект
исследования большой проблемы физиологических основ индивидуальных
различий между людьми.
Вопрос об индивидуальных различиях всегда интересовал психологов.
Но, как показывает история психологии, интерес к этому вопросу резко
возрос с тех пор, как наша наука начала ставить перед собой практические
задачи, с тех пор, как внутри нее стали возникать практические,
прикладные отрасли (психология труда, педагогическая, медицинская психология
и т. д.) Если общая психология еще могла обходиться без
систематического изучения индивидуальных различий, то для прикладной психологии это
просто невозможно. В прикладных отраслях нашей науки проблема
индивидуальных различий давно уже стала одной из важнейших; этого
требовали запросы практики.
Одно время сложилась даже такая ситуация: в то время как общая
психология почти совсем отвлекалась от индивидуальных различий,
приТеплов Б.М. Типологические свойства нервной системы и их значение для
психологии// Теплов Б.М. Избр. тр.: В 2 т. Т. II. М.: Педагогика. С. 169-189.
1202
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
кладная грозила превратиться просто в психологию индивидуальных
различий, в дифференциальную психологию. Отсюда — глубокий разрыв
между общей и прикладной психологией, очень вредный как для одной, так и
для другой.
Такое положение никак нельзя считать нормальным: общая
психология не может вычеркнуть из своего содержания проблему личности, а
следовательно, и вопросы индивидуальных различий, а прикладная
психология не может ограничиться изучением этих различий, да и в их изучении
она должна опираться на общие законы, устанавливаемые наукой.
Строго говоря, ни в одном разделе психологии нельзя принципиально
отвлекаться от вопроса об индивидуальных различиях; такое отвлечение
возможно лишь как временное самоограничение, естественное во всяком
научном исследовании. В психологии особенно важно принять во
внимание, что нельзя объяснять никакое явление только действием внешних
причин. Такое объяснение было бы механистичным. Внешние причины всегда
действуют через посредство внутренних условий. Внешние причины,
конечно, определяют акты поведения человека, но действие этих причин
всегда опосредуется внутренними условиями, т. е. прежде всего свойствами
личности. Это положение убедительно раскрывал в последних работах
С.Л. Рубинштейн (1957а, 1959).
Конкретное проявление любого общего закона психологии всегда
включает в себя фактор личности, фактор индивидуальности.
В индивидуальности человека прежде всего бросаются в глаза как
наиболее важные те черты, которые прямо определяют его поступки,
поведение: особенности убеждений, интересов, его знаний, умений и привычек,
особенности, относящиеся к содержанию его психической жизни. Эти
особенности складываются в ходе жизни человека, под влиянием внешних
воздействий, в результате воспитания в самом широком смысле слова.
Физиологическую основу рассматриваемых особенностей составляют очень
сложные и более или менее устойчивые системы условных связей.
Изучение того, как складываются убеждения и взгляды человека, как
усваиваются им знания, как формируются у него умения и привычки, составляет
важнейшую и самую очевидную задачу психологии.
При сколько-нибудь глубоком исследовании этих вопросов мы
неизбежно замечаем, что образование тех систем связей, о которых я только что
упомянул, проходит у разных людей различно, что люди отличаются друг от
друга тем, как формируются у них умения и привычки, как усваивают они
знания, хотя формирование и усвоение их всегда подчиняются некоторым
общим законам. Мы замечаем также, что кроме упомянутых различий,
относящихся к содержательной стороне психической жизни, люди
различаются по некоторым формальным особенностям психического склада и
поведения. Последние нередко называют динамическими особенностями.
1203
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Дальше я буду иметь в виду только физиологические основы такого рода
индивидуальных различий, касающихся динамической, формальной, стороны
поведения и влияющих на динамику усвоения знаний и формирования
навыков. При такой постановке вопроса в центре внимания должны оказаться те
физиологические особенности, которые И.П. Павлов назвал свойствами
нервной системы или свойствами высшей нервной деятельности.
Следуя за Павловым, я буду называть свойствами нервной системы ее
природные, врожденные особенности, влияющие на индивидуальные
различия в формировании способностей и характера. Поскольку свойства
нервной системы мы понимаем как врожденные, мы не можем считать их
психическими свойствами, так как никакое психическое свойство не
может быть врожденным. Свойства нервной системы — физиологические
свойства.
Определяя свойства нервной системы как врожденные, мы не
утверждаем тем самым, что эти свойства всегда наследственные. Они могут
сформироваться в период внутриутробного развития, а также и в первые годы
жизни, поскольку формирование центральной нервной системы ребенка
продолжается ряд лет после его рождения. Впрочем, следует подчеркнуть,
что о происхождении свойств нервной системы у человека мы имеем еще
очень мало научно обоснованных знаний.
Научное исследование индивидуального основывается на том, что во
всяком индивидуальном есть и нечто общее. Выделение общего в
индивидуальном может идти различными путями. Среди них особенно
характерны и важны два пути: 1) можно выделять некоторые свойства, общие всем
людям, но количественно различные у разных людей (рост, вес, зрительная
или слуховая чувствительность, быстрота и прочность запоминания и т. д.);
2) можно идти от группировки людей по типам, дающим качественную
характеристику, общую всем членам данной группы (атлетический,
астенический и пикнический типы телосложения; зрительный, слуховой,
двигательный типы памяти и т. п.).
Первый путь по преимуществу аналитический, второй — по
преимуществу синтетический. Первый путь предполагает обязательно
количественный подход (измерение), второй может обходиться без него.
Многие психологи думают, что при изучении индивидуальных
различий (в отличие от изучения общих закономерностей) на первый план
должна выступать синтетическая точка зрения. Я не считаю это правильным.
Синтетические картины, характеризующие тип личности, дающие общий
очерк сложнейших особенностей психического склада, как бы талантливо
они ни были сделаны, в научном исследовании интересны главным образом
как исходный материал. Вычленение и систематическое изучение
отдельных свойств, которые должны быть положены в основу классификации
типов, являются необходимым условием для их научного понимания.
1204
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Концепция Павлова о типах высшей нервной деятельности, или типах
нервной системы, сочетает в себе оба указанных подхода. В трудах
Павлова можно отметить выраженную тенденцию к постепенному переходу от
синтетического понимания типа как характерной картины поведения
животного к аналитико-синтетическому пониманию его как комплекса
определенных, измеряемых в строгом эксперименте свойств нервной системы.
Однако подавляющее большинство исследователей, разрабатывавших этот
вопрос после Павлова, видели главную задачу в том, чтобы группировать
людей или животных по четырем основным типам, намеченным Павловым,
а задачу точного определения и глубокого изучения тех свойств, на основе
которых должна производиться эта группировка, рассматривали скорее
как побочную, вспомогательную.
Лишь теперь некоторые авторитетные исследователи высшей нервной
деятельности животных стали вы двигать на первый план вопрос точного
определения тех или других свойств нервной системы. «Несомненно, —
пишет В.К. Красуский,— что правильнее сопоставлять со степенью
продуктивности животного характеристику какого-либо одного, хорошо
изученного свойства высшей нервной деятельности, чем оперировать с типом
нервной системы, т. е. с очень сложным комплексом этих свойств, но
оценка которых дана лишь приблизительно, "ориентировочно"1. Прямое
доказательство необходимости сопоставлять некоторые особенности
поведения не с типом в целом, а с отдельными свойствами нервной системы, было
получено в лаборатории Красуского при изучении двигательной
активности собак. При сопоставлении степени двигательной активности с типом
нервной системы прямой зависимости не удалось обнаружить. Однако при
сравнении степени двигательной активности с отдельными свойствами
высшей нервной деятельности такая связь была установлена. Л.В.
Крушинский сознательно ставит задачу «изучать формирование поведения в
зависимости от основных свойств нервной системы, а не от типа нервной
деятельности» (1960. С. 61).
Вся работа нашего коллектива посвящена изучению отдельных свойств
нервной системы и взаимоотношений между ними. Пока еще мы считаем
преждевременным ставить вопрос о типах как характерных и наиболее
часто встречающихся комплексах этих свойств, так как научно
обоснованное решение его целиком зависит от знания отдельных свойств и
взаимоотношений между ними.
Мы полагаем, что выдающееся научное значение имеет открытие
Павловым основных свойств нервной системы, а вовсе не установление
четырех типов нервной системы, которые сам Павлов считал лишь «особенно
Красуский В.К. О случаях неправильного подхода к изучению типов высшей
нервной деятельности. ЖВНД. Т. X. Вып. 6. С. 930.
1205
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
резкими, бросающимися в глаза» из числа возможных комбинаций
намеченных им свойств. Число «четыре» применительно к типам нервной
системы упорно сохранялось и сохраняется в значительной мере благодаря
аналогии со старинным учением о четырех темпераментах, не имеющим по
физиологическому содержанию никакой связи с наукой о высшей нервной
деятельности.
В последних работах Павлов принимал за основные свойства нервной
системы следующие три: 1) силу нервной системы, т. е. силу основных
нервных процессов — возбуждения и торможения: 2) баланс между
процессами возбуждения и торможения, т. е. преобладание возбуждения над
торможением, или торможения над возбуждением, или уравновешенность
этих процессов; 3) подвижность процессов возбуждения и торможения.
Эту концепцию мы принимаем за отправную точку в наших исследованиях.
Конечно, в ходе исследования она может и должна развиваться: с одной
стороны, некоторые свойства, принимавшиеся Павловым за «единые
свойства », могут распасться на группы свойств, с другой — могут быть
открыты новые свойства. Например, обсуждается вопрос, не является ли особым
свойством концентрация нервных процессов.
При изучении каждого из этих свойств перед нами прежде всего стоят
две неразрывно связанные друг с другом задачи: 1) выяснение природы
данного свойства, иначе говоря, физиологического содержания
соответствующего понятия и 2) нахождение методик определения и изучения этого
свойства. Методики, применявшиеся Павловым и его сотрудниками в
работе с животными, не могут быть, как правило, перенесены на человека.
В лучшем случае можно лишь использовать принцип той или другой
павловской методики. В настоящее время методическая сторона работы
самая трудная и самая ответственная: лишь путем нахождения подходящей
методики можно сделать новый шаг в понимании того или другого
физиологического свойства.
Важнейшее место в нашей работе занимает сопоставление
результатов, получаемых с помощью разных методик, или, говоря точнее,
сопоставление разных экспериментальных показателей какого-либо свойства
нервной системы. Какие бы веские теоретические соображения мы ни
имели в пользу того, что та или другая методика дает показатель
определенного свойства нервной системы, мы не получим никакого
экспериментального доказательства правильности этих теоретических соображений, пока
будем иметь дело только с одной этой методикой. Но если мы имеем
несколько методик, относительно которых можно предполагать, что они
характеризуют одно и то же свойство нервной системы, то сопоставление
результатов, полученных данными методиками на одних и тех же
испытуемых, может экспериментально подтвердить или опровергнуть это
предположение. Сопоставление методик — это для нас в настоящее время
1206
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
основной прием экспериментальной работы. При сопоставлении
методик важное значение имеют математические методы обработки
результатов — вычисление коэффициентов корреляции и их статистической
значимости, факторный анализ и т. д.
В работе с животными сопоставление результатов, получаемых
разными методиками, если и применялось, то без количественной обработки
этих результатов. Лишь в последнее время стала осознаваться
необходимость сопоставления разных показателей каждого из свойств нервной
системы с применением математических методов обработки результатов...
Методики, которые мы стремимся получить, с формальной стороны
похожи на тесты, в обычном понимании этого термина в психологии: они
должны быть возможно более короткими и строго стандартизованными
испытаниями, результаты которых выражаются в количественной форме
и могут быть подвергнуты статистической обработке. Но, по существу, наши
методики принципиально отличаются от тестов, как они понимаются в
тестологии, широко распространенной на Западе, хотя и подвергающейся там
с каждым годом все более широкой критике.
Мы не можем непосредственно наблюдать процессы возбуждения и
торможения в центральной нервной системе и тем более основные
свойства этих процессов — их силу, подвижность, взаимоотношение между ними
по силе или подвижности и т. д.
...Перейду к очень сжатому изложению результатов, полученных нами
к настоящему времени при изучении отдельных свойств нервной системы.
Начну с силы нервной системы.
Согласно концепции, сложившейся у Павлова в последние годы
жизни, сила нервной системы определяется силой основных нервных
процессов — возбуждения и торможения. В последних высказываниях Павлов
утверждал, что у животного с сильной нервной системой сильны и
возбуждение и торможение, а у животного со слабой нервной системой слабы оба
процесса. Но это не исключает того, что при сильной нервной системе
процесс возбуждения может преобладать над процессом торможения. Таким
образом, возникает понятие баланса нервных процессов, или их
уравновешенности. Отсюда следует различение абсолютной и относительной (по
отношению к силе противоположного процесса) силы каждого из нервных
процессов. При сильной, но возбудимой нервной системе тормозной
процесс абсолютно силен, но относительно (по отношению к возбуждению)
слаб. Итак, говоря о силе нервной системы, мы говорим об абсолютной
силе обоих нервных процессов. При этом имеется в виду, конечно,
условное, активное торможение, а не внешнее и не запредельное торможение.
Наши работы были посвящены до сего времени главным образом
изучению силы процесса возбуждения. Лишь в немногих последних трудах
нашей лаборатории специально изучался вопрос об условном
торможе1207
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
нии. Говоря в дальнейшем о силе нервной системы, я буду всегда иметь в
виду силу нервной системы по отношению к возбуждению.
Содержание понятия силы нервной системы по отношению к
возбуждению рисуется нам в настоящее время следующим образом:
1. Сила нервной системы характеризуется прежде всего пределом
работоспособности нервных клеток, т. е. способностью их выдерживать
длительное и концентрированное возбуждение или действие очень
сильного раздражителя, не переходя в состояние запредельного торможения.
Предел работоспособности нервных клеток характеризуется,
следовательно, порогом запредельного торможения.
В качестве основного экспериментального приема для получения
этого показателя силы нервной системы мы пользуемся так называемым
угашением с подкреплением. При наличии хорошо выработанного условного
рефлекса условный раздражитель предъявляется много раз подряд,
каждый раз, подкрепляясь безусловным раздражителем. При сильной нервной
системе не наблюдается падения условного эффекта, а иногда даже
наблюдается его усиление (благодаря суммации возбуждения). При слабой
нервной системе условный эффект после известного количества
повторений уменьшается вследствие возникновения запредельного торможения.
Мы применяем это испытание в двух разных методиках, т. е. при двух
разных условных рефлексах. В первой методике, разработанной В Л.
Рождественской (1959а), используется условный фотохимический рефлекс, т. е.
условнорефлекторное понижение чувствительности зрения после
многократного сочетания какого-либо условного раздражителя (звука, слабого
красного света, не влияющего на адаптацию, и т. п.) с засветом глаза,
понижающим световую чувствительность. Во второй методике,
электроэнцефалографической, разработанной В.Д. Небылицыным (1961а),
используется условнорефлекторная депрессия альфаритма, возникающая в
результате многократного сочетания звука с предъявлением света.
2. Павловым был сформулирован так называемый «закон силы»:
с увеличением интенсивности условного раздражителя увеличивается
величина условного рефлекса. Наши исследования показали, что сильная
нервная система характеризуется ярким проявлением закона силы в
пределах средних интенсивностей, тогда как при слабой нервной системе в
этом диапазоне интенсивностей закон силы проявляется слабо (или
даже вовсе не проявляется).
Одно из проявлений закона силы — хорошо изученная закономерность
уменьшения времени реакции при увеличении интенсивности
раздражителя. Применяемая нами методика основана на установленном
Небылицыным факте, что у лиц с сильной нервной системой время реакции при
уменьшении интенсивности раздражителя (зрительного или слухового)
значительно увеличивается, тогда как у лиц слабого типа это увеличение
1208
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
выражено гораздо меньше. Степень наклона кривой, выражающей
зависимость времени реакции от интенсивности раздражителя, является одним
из показателей силы нервной системы (Небылицын В.Д., 1960). Этот
показатель был использован также в Институте высшей нервной деятельности
АН СССР И.О. Майер (1961).
3. Сила нервной системы характеризуется сопротивляемостью к
тормозящему действию посторонних раздражителей. Надежна
разработанная Л.Б. Ермолаевой-Томиной (1959) методика, заключающаяся в
измерении абсолютной зрительной чувствительности в тишине и при стуке
метронома или в измерении абсолютной слуховой чувствительности в
темноте и при действии пульсирующего света. У лиц со слабой нервной
системой посторонние раздражители понижают чувствительность, у лиц с
сильной нервной системой в аналогичных условиях чувствительность не
изменяется или даже увеличивается. Методика, основанная на измерении
чувствительности, дает наиболее точные и однозначные результаты. Но
возможно применять и менее тонкие методики, изменяя характер
деятельности испытуемых и характер посторонних раздражителей
(ЕрмолаеваТомина Л.Б., 1960). Замысел этих методик восходит к разработанному еще
в 1951 г. в лаборатории В.К. Красуского (Гуревич Б.Х., Колесников М.С.,
1955) испытанию силы нервных процессов у собак. В последнее время в
ряде лабораторий предложено несколько аналогичных по замыслу
методик для испытания силы нервной системы человека (Сапрыкин П.Г.,
Милерян Е.А., 1954; Попеску-Невяну П.Г., 1954; Крамов A.A., Бездуган З.М.,
1960; Майер И.О., 1961; Петров Ю.А., 1961).
4. Сила нервной системы, характеризуется некоторыми
особенностями концентрации и иррадиации процесса возбуждения. В результате
экспериментальных исследований Павлов сформулировал следующую
закономерность: «При слабом раздражительном процессе происходит
иррадиация, при среднем — концентрация, при очень сильном — опять
иррадиация»1. Уровень силы возбуждения, при котором совершается переход
от концентрации к иррадиации, характерной для сильного
раздражительного процесса, можно назвать порогом иррадиации возбуждения. Этот
порог, так же как и порог запредельного торможения, характеризует силу
нервной системы: у лиц со слабой нервной системой он ниже, чем у лиц с
сильной нервной системой.
Эти особенности концентрации и иррадиации процесса возбуждения
мы определяем методикой, разработанной мною (1937,1941) и
Рождественской (1955,1959) и получившей в нашей лаборатории название
индукционная методика. Она основана на определении изменений чувствительности
зрения к точечному раздражению в присутствии другого точечного
раз1 Павлов ИЛ. ПСС. М.; Л., 1951-1952. Т. III. Кн. 2. С. 329.
1209
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
дражения разной интенсивности. Путем специальных приемов (кофеин,
многократное определение чувствительности как в присутствии
дополнительного раздражителя, так и в отсутствие его) мы получаем, пользуясь
этой методикой, несколько показателей силы нервной системы.
5. Сила нервной системы характеризуется величиной абсолютной
зрительной и слуховой чувствительности: при сильной нервной системе
мы наблюдаем, как правило, низкую чувствительность, т. е. высокие
пороги, при слабой нервной системе — высокую чувствительность, т. е. низкие
пороги.
Надо особенно подчеркнуть, что речь идет об абсолютной, но никак не
о различительной (дифференциальной) чувствительности. Имеются
основания думать, что различительная чувствительность определяется прежде
всего не силой нервной системы, а концентрированностью нервных
процессов (Борисова М.П., 1959). Однако до сих пор не удалось
экспериментально доказать, что различительная чувствительность может служить
прямым показателем концентрированности нервных процессов как
общего и устойчивого свойства нервной системы. Известно, что различительная
чувствительность, в отличие от абсолютной, есть функция в высокой
степени упражняемая. Вследствие этого возникает вопрос, может ли она
вообще служить показателем какого-либо из свойств нервной системы, пока
не будут найдены методические приемы, позволяющие выделись
некоторые устойчивые, не зависящие от упражнения, индивидуальные
особенности различительной чувствительности.
В 1955 г., исходя из павловского понимания предела
работоспособности или функциональной выносливости нервной клетки, я выдвинул
предположение, что слабость нервной системы есть результат ее
высокой реактивности, чувствительности, хотя в учении о типах нервной
системы сам Павлов этого обстоятельства не учитывал, считая сильную нервную
клетку во всех отношениях более совершенной. Высказанная мною
гипотеза получила подтверждение в ряде работ нашей лаборатории, главным
образом в работах Небылицына. Сначала на 9 испытуемых была показана
обратная корреляция между силой нервной системы, определенной по
двум показателям индукционной методики, и абсолютной зрительной
чувствительностью (Небылицын В.Д., 1956). Затем аналогичные
результаты были получены при сопоставлении а) абсолютных порогов зрения с
силой нерв-ной системы по тем же двум показателям индукционной
методики (31 испытуемый) и по результатам угашения с подкреплением
фотохимического условного рефлекса на зрительный раздражитель (12
испытуемых); б) абсолютных порогов слуха с силой нервной системы по
результатам угашения с подкреплением фотохимического условного
рефлекса на слуховой раздражитель (12 испытуемых) (Небылицын В.Д.,
1959).
1210
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Так как методика угашения с подкреплением дает характеристику силы
нервной системы с помощью исходного показателя — предела
работоспособности, то в дальнейшем был сопоставлен именно этот показатель силы нервной
системы с абсолютными порогами зрения и слуха на несколько большем числе
испытуемых: 26 — для зрительного порога и 22 — для слухового. Результаты
получились такие же (Nebylitsyn V.D., Rozhdestvenskaja V.l., Teplov B.M., 1960).
Эта зависимость была подтверждена, наконец, при сопоставлении на 38
испытуемых абсолютных порогов зрения и слуха с несколькими вариантами
угашения с подкреплением, несколькими показателями индукционной методики
и результатами измерения порогов зрения в тишине и при стуке метронома
(Рождественская В.И., Небылицын В.Д., Борисова М.Н.,
Ермолаева-Томина Л.Б., 1960).
Итак, сейчас уже следует говорить не о гипотезе, выдвинутой
Тепловым и Небылицыным, а об экспериментально установленной
закономерности обратной корреляции между силой нервной системы и
чувствительностью, доказанной на достаточно большом материале.
К сожалению, нельзя представить много фактов, подтверждающих эту
зависимость в экспериментах на животных. Но все же некоторый
материал такого рода имеется. Л.В. Крушинский, изучая особенности нервной
системы у собак с разной конституцией, нашел, что собаки одной из
выделенных им двух групп конституций характеризуются большей
возбудимостью и меньшей силой нервной системы, тогда как собаки другой группы
конституций — меньшей возбудимостью и большей силой нервной
системы. Эта корреляция установлена на достаточном материале — 241 собаке.
На небольшом материале М.В. Боброва очень убедительно показала, что
сила нервной системы, характеризуемая предельной дозой кофеина, и
величина моторной реобазы (показатель чувствительности) находятся в
прямой зависимости: чем меньше предельная доза кофеина, тем меньше
реобаза. Иначе говоря, чем слабее нервная система, тем меньше порог, т. е. тем
больше чувствительность или реактивность (1960).
Нельзя, упускать из виду, что устанавливаемая в экспериментах на
достаточно большом, числе испытуемых связь между разными
проявлениями одного свойства нервной системы всегда имеет характер
статистической связи. Иначе говоря, всегда могут встретиться лица, у которых при
большой выносливости нервных клеток к длительному возбуждению
будет высокая чувствительность или при малой выносливости к длительному
возбуждению — хорошая сопротивляемость к тормозящему действию
посторонних раздражителей. Говоря терминами факторного анализа,
результаты, получаемые при помощи любой методики, зависят не только от
интересующего нас группового фактора (в данном случае — от силы
Нервной системы), но и от специфического фактора, т. е. от
специфических особенностей задачи и условий ее выполнения при данной методике.
1211
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Поэтому при обсуждении такого вопроса, как вопрос о связи силы нервной
системы и чувствительности, нельзя основываться на единичных случая,
противоречащих общей тенденции, о которой идет речь.
...Вопрос о связи силы нервной системы и чувствительности
принципиально важен, потому что он непосредственно касается более широкого
вопроса — можно ли считать слабый тип нервной системы безусловно
«плохим», неполноценным. Установленная нами зависимость показывает, что в
слабости нервной системы имеются и положительные (высокая
чувствительность, реактивность) и отрицательные (малая выносливость) стороны.
То же относится и к противоположному полюсу — силе нервной системы.
Каждое свойство нервной системы есть, на наш взгляд, диалектическое
единство противоположных с точки зрения жизненной ценности
проявлений. Такое понимание имеет принципиальное значение: оно снимает
предположение о фатальной неполноценности лиц со слабой нервной
системой.
Конечно, традиционное понимание (слабый тип — «плохой» тип,
сильный тип — «хороший » тип) проще. Но проще не значит правильнее. Вопрос
же о том, какое понимание правильнее, решается на основе анализа
фактов, прежде всего экспериментальных фактов, полученных в возможно
более строгих условиях.
Таковы важнейшие аспекты силы нервной системы по отношению к
возбуждению.
В 1958 и 1959 гг. мы впервые провели на 38 испытуемых широкое
сопоставление 21 экспериментального показателя, обработав результаты
методами факторного анализа (Рождественская В.И., Небылицын В.Д.,
Борисова М.Н., Ермолаева-Томина Л.Б., 1960). По одному фактору
статистически значимые факторные веса (от 49 до 76) дали 13 показателей;
по физиологическому смыслу методик, при которых получены данные
показатели, этот фактор есть сила нервной системы в отношении
возбуждения. Четыре показателя дали значимые факторные веса (от 65 до 83) по
второму фактору, который, как следует из других работ, есть баланс
процессов возбуждений и торможения. Четыре показателя не дали значимых
весов ни по одному из факторов и признаны неудовлетворительными.
В последнее время в нашей лаборатории проведены две другие работы
(В.Д. Небылицын, З.Г. Туровская), включающие в себя сопоставление
частью тех же, частью других показателей. Они подтвердили результаты
первой работы и дали оценку ряду новых показателей.
В итоге наш экспериментальный материал позволяет считать
доказанным, что сила нервной системы является единым свойством, причем одним
из основных, фундаментальных свойств нервной системы. Кратко
охарактеризованные выше показатели этого свойства физиологически
обоснованы, а методики для получения их статистически проверены.
1212
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Указанные выше сопоставления разных показателей выявили, кроме
того, что независимое от силы нервной системы свойство ее есть баланс
возбуждения и торможения. Экспериментально показано, что среди лиц с
абсолютно сильным процессом возбуждения встречаются и такие, у
которых преобладает торможение. Центральное место в этом ряду занимают
лица с уравновешенными нервными процессами. Такие же различия
встречаются и среди лиц с абсолютно слабым процессом возбуждения, т. е. со
слабой нервной системой.
Вместо наиболее распространенного термина уравновешенность
нервных процессов целесообразнее пользоваться термином баланс нервных
процессов именно потому, что встречаются случаи преобладания процесса
как возбуждения, так и торможения. Речь, следовательно, должна идти не
только о том, уравновешены или нет процессы возбуждения и
торможения, но и о том, какой из них преобладает в случае неуравновешенности.
Строго говоря, полная уравновешенность нервных процессов есть
идеальный случай, центральная точка ряда. Чем точнее (количественно)
методика определения баланса нервных процессов, тем реже встречаются случаи
полной уравновешенности. Но это, конечно, не исключает практической
ценности понятия уравновешенная нервная система, обнимающего все
случаи незначительного преобладания того или другого процесса.
В ранних вариантах павловской классификации типов нервной
системы («Лекции о работе больших полушарий головного мозга » (1952. Т. IV),
доклад 1927 г. «Физиологическое учение о типах нервной системы,
темпераментах тож») предусматривалась возможность типов с преобладанием
как возбуждения, так и торможения. В последнем варианте павловской
классификации остался только тип с преобладанием возбуждения, хотя в
статье «Общие типы высшей нервной деятельности животных и человека»,
где излагается этот вариант классификации, Павлов указывает, что
«преобладание при неуравновешенности может принадлежать, вообще говоря,
то раздражительному процессу, то тормозному...»1. Подробнее об
отношении Павлова в последние годы жизни к этому вопросу мне уже
приходилось писать (1956). За последнее время собрано много экспериментальных
фактов, говорящих о возможности преобладания торможения над
возбуждением. Из работ проведенных на животных, сошлюсь на работы М.С.
Алексеевой (1951), А.П. Чесноковой (1951), Л.Н. Норкиной (1952), Л.Д.
Амиантовой (1960), Н.М. Вавиловой (1960). По отношению к человеку следует
прежде всего указать на многочисленные работы лабораторий А.Г.
Иванова-Смоленского, в которых при помощи двигательной методики на
различном подкреплении были установлены четыре «типа замыкательной
деятельности коры», в числе которых — тормозной тип. Смысл экспериментальных
1 Павлов ИЛ. ПСС. М.; Л., 1951-1952. Т. III. Кн. 2. С. 268.
1213
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
фактов, лежащих в основе этой классификации, говорит о том, что тормозной
тип характеризуется преобладанием торможения (активного, условного) над
возбуждением. Но в некоторых последних статьях Иванов-Смоленский
настаивал на том, что этот тип соответствует слабому типу последней
павловской классификации (Иванов-Смоленский А.Г., 1953).
Едва ли можно согласиться с такой интерпретацией. Я думаю,
совершенно права многолетняя сотрудница Иванова-Смоленского, Гаккель,
когда подчеркивает, что тормозной тип Иванова-Смоленского
характеризуется «преобладанием активного торможения над возбуждением». В нашей
лаборатории с помощью совершенно другой методики наличие типа с
преобладанием торможения над возбуждением показала Н.И. Майзель (1956).
В дальнейшем многочисленные случаи преобладания торможения над
возбуждением были показаны (с помощью различных методик) Л.Г.
Ворониным, E.H. Соколовым, У Бао Хуа (1959), B.C. Мерлиным, И.М. Палеем
(1960), Л.И. Уманским (1960). И.О. Майером (1961) и другими. Последние
работы нашей лаборатории подтверждают все эти данные и делают
совершенно несомненным, что отклонение от равновесия между основными
нервными процессами может идти и в сторону преобладания
возбуждения, и в сторону преобладания торможения.
Перечислю кратко основные из изученных нами показателей баланса
возбуждения и торможения.
1. Скорость угасания ориентировочного рефлекса (Воронин Л.Г.,
Соколов E.H., У Бао Хуа, 1959; Рождественская В.И., Небылицын В.Д.,
Борисова М.Н., Ермолаева-Томина Л.Б., 1960). Скорость угасания,
измеряемая числом повторных предъявлений раздражителя, у разных лиц
резко различна: у лиц с преобладанием возбуждения ориентировочный
рефлекс угасает медленно, лишь после многих предъявлений раздражителя,
у лиц с преобладанием торможения он угасает быстро. Мы используем в
наших методиках следующие компоненты ориентировочного рефлекса:
депрессию альфа-ритма затылочной области коры при предъявлении любого
индифферентного (т. е. не зрительного) раздражителя,
кожногальванический рефлекс, сужение сосудов при предъявлении индифферентного
раздражителя.
2. Величина ориентировочного рефлекса (Рождественская В.И.,
Небылицын В.Д., Борисова М.Н., Еромолаева-Томина Л.Б., 1960;
Небылицын В.Д., 1961). У лиц с преобладанием возбуждения она больше, чем у лиц
с преобладанием торможения.
3. Сравнительная скорость образования условных рефлексов и
дифференцировок к ним (многочисленные работы лабораторий
Иванова-Смоленского; Майзель Н.И. 1956; Мерлина B.C., 1958 и ряда работ его
сотрудников; Майер И.О., 1961; неопубликованная работа Л.Б.
Ермолаевой-Томиной и ряд других). Лица с преобладанием возбуждения
пока1214
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
зывают быстрое образование условных рефлексов и медленное
образование дифференцировок; у лиц с преобладанием торможения наблюдается
обратное соотношение. Этот показатель дал надежные, результаты при
выработке фотохимических условных рефлексов, условных
кожногальванических рефлексов, условнорефлекторной депрессии альфа-ритма; он
применялся и при выработке двигательных реакций.
4. Скорость у гашения без подкрепления условных рефлексов
(Майзель Н.И., 1956; Небылицын В.Д., 1961; неопубликованная работа
Л.Б. Ермолаевой-Томиной). Этот показатель дал хорошие результаты при
работе с только что перечисленными условными рефлексами. Нужно
обратить внимание на то, что угашение с подкреплением — один из лучших
показателей абсолютной силы возбуждения, тогда как угашение без
подкрепления — показатель баланса между возбуждением и торможением.
Это положение наиболее ярко показано в исследовании Небылицына,
проведшего на 22 испытуемых сопоставление 18 электроэнцефалографических
показателей свойств нервной системы: коэффициент корреляции между
двумя видами угашения близок к нулю, тогда как каждый из видов
угашения дает высокие коэффициенты корреляции с другими показателями силы
или баланса нервных процессов.
5. Некоторые особенности альфа-ритма в
электроэнцефалограмме, получаемой при отсутствии раздражителей; альфа-индекс (процент
времени, занятого альфа-ритмом), максимальная величина альфа-ритма и
частота его (Небылицын).
Я перечислил только некоторые из показателей баланса нервных
процессов, а именно проверенные нами путем сопоставления их результатов.
Не меньшее значение имеют, по-видимому, некоторые миографические
показатели, тщательно исследованные А.Я. Колодной (1957, 1959).
Интересным показателем может быть появление условного рефлекса
второго порядка при выработке условного тормоза (Майзель Н.И., 1956;
Майер И.О., 1961). Намечаются показатели, связанные с точностью и
устойчивостью некоторых видов двигательных реакций (Борягин Г.И., 1959;
Лейтес Н.С, 1963). По-видимому, баланс нервных процессов легче, чем
другие свойства нервной системы, поддается экспериментальному
определению. Но наша лаборатория до последнего времени менее
систематично занималась им, чем силой нервной системы в отношении возбуждения, и
здесь нами собрано меньше экспериментальных фактов. Наш
экспериментальный материал, однако, не оставляет сомнений в том, что баланс
нервных процессов есть, как и сила нервной системы, единое свойство,
причем одно из основных свойств нервной системы. Повторяю, что эти два
свойства могут рассматриваться как два независимых фактора.
Мы не можем сказать того же о третьем из выделенных Павловым свойств
нервной системы — о подвижности нервных, процессов. (Это свойство,
кста1215
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ти, в отличие от первых двух, было выделено Павловым лишь в самые
последние годы его жизни.) По определению Павлова и его ближайших
сотрудников, подвижность нервных процессов характеризуется скоростью
возникновения этих процессов, скоростью их движения, т. е. концентрации и
иррадиации, скоростью их прекращения, скоростью смены возбуждения
торможением и наоборот и, наконец, скоростью изменения реакций при
изменении внешних условий. В1956 г. мне казалось возможным дать такое
определение подвижности: «Под подвижностью, в широком значении этого термина,
разумеются все временные характеристики работы нервной системы, все
те стороны этой работы, к которым применима категория скорости»1.
Едва ли, однако, это определение можно считать точным: ведь мы видели, что
и другие свойства нервной системы включают в свою характеристику
проявления, связанные с категорией скорости (скорость угашения, скорость
выработки условных рефлексов и тормозов и т. д.).
Позже, подводя итоги некоторым попарным сопоставлениям
показателей подвижности, я писал: «Эти материалы скорее говорят в пользу
признания подвижности единым свойством... но они должны рассматриваться
в свете этого общего вопроса скорее как предварительные данные. В
настоящее время нами проводится широкое сопоставление сравнительно
большого количества показателей подвижности (около 20), которое должно
дать более обоснованный ответ на этот вопрос»2. Теперь такая работа
закончена; проведено сопоставление 36 показателей на 30 испытуемых.
Результаты ее представляют очень сложную картину и во всяком случае не
дают никакого основания считать, что подвижность в указанном широком
значении является единым свойством нервной системы.
Некоторые показатели, рассматривавшиеся нами ранее как
показатели подвижности, по-видимому, скорее являются показателями
баланса нервных процессов. Однако это положение нельзя еще считать
доказанным, поскольку сопоставлялись между собой только
предполагаемые показатели подвижности и в сопоставлении не участвовали
бесспорные показатели баланса возбуждения и торможения.
Некоторые из предполагавшихся показателей подвижности, вероятно, говорят
об особенностях концентрации нервных процессов, что с большой
остротой выдвигает вопрос о тщательном изучении концентрации как
особого свойства нервных процессов.
Намечаются отдельные группы показателей, хорошо коррелирующих
между собой. Несомненно, эти показатели говорят о каком-то одном
свойТеплов Б.М. Некоторые вопросы изучения общих типов высшей нервной
деятельности человека и животных. В кн.: Типологические особенности высшей нервной
деятельности человека. М., 1956. С. 61-62.
ТепловБ.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961. С. 528.
1216
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
стве нервной системы. Однако интерпретация этих фактов остается еще
спорной.
Приведу один пример. И.В. Равич-Щербо и Л.А. Шварц (1959) нашли
высокую корреляцию между скоростью возникновения процесса
возбуждения в зрительном анализаторе (адекватная оптическая хронаксия) и
скоростью его прекращения (критическая частота мельканий или интервал
дискретности). Шварц показала такую же хорошую корреляцию между
критической частотой мельканий и скоростью восстановления зрительной
чувствительности после засвета темноадаптированного глаза (1961). Эти
корреляции подтвердились и при широком сопоставлении разных
показателей подвижности. Мы можем, таким образом, считать, что скорость
возникновения, протекания и прекращения процесса возбуждения в
зрительном анализаторе свидетельствует о каком-то одном свойстве нервного
аппарата. Но с подавляющим большинством других показателей
подвижности в широком значении этого термина они никак не коррелируют. Надо
отметить, что при определении свойств нервной системы у животных
подвижность характеризуется главным образом одним испытанием:
скоростью переделки положительного условного раздражителя в тормозной и
тормозного в положительный. В таком узком и чисто эмпирическом
смысле подвижность может рассматриваться как определенное свойство (но,
может быть, скорее как свойство поведения, чем свойство нервной
системы?). Наши данные не показывают, однако, корреляции между скоростью
переделки и показателями скорости возникновения и прекращения
нервных процессов скорости перехода от торможения к возбуждению и т. д.
Даже показатели скорости переделки, полученные в разных методиках, не
дают между собой значимых корреляций.
Вопрос о подвижности нервных процессов как особом свойстве
нервной системы является для нас еще не решенным.
Я перейду теперь к имеющему принципиальное значение вопросу о
взаимоотношении между свойствами нервной системы, с одной стороны,
и характерными формами поведения или психическими свойствами
личности — с другой. Я уже подчеркивал, что свойства нервной системы — это
физиологические свойства, и поэтому их никак нельзя отождествлять с
психическими свойствами личности. Теперь я остановлюсь на этом
несколько подробнее. Начну со взаимоотношения между свойствами нервной
системы и формами поведения у животных.
В лабораториях Павлова сначала предполагали, что тип нервной
системы прежде всего характеризуется определенными формами поведения:
собаки слабого типа трусливы, собаки возбудимого типа агрессивны,
собаки подвижного типа общительны и «подвижны» в поведении. Постепенно,
однако, накопилось много фактов, говорящих о том, что нет простого
соответствия между типом нервной системы и характером поведения: были
39 Российская психология 1217
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
описаны очень трусливые собаки сильного типа нервной системы,
спокойные собаки возбудимого типа, малоподвижные в поведении собаки,
имеющие, однако, подвижные нервные процессы (см.: Теплов Б.М., 1956). На
этом основании Павлов в конце жизни подчеркивал, что диагноз типа
нервной системы надо ставить на основании экспериментальных испытаний,
а не на основе характеристики внешнего поведения собаки. Но это
указание Павлова далеко не всегда учитывалось: многие физиологи исходили
при диагнозе типа нервной системы только из характеристики поведения
животного.
В последние годы, главным образом работами лаборатории
Красуского, выявлено, что внешнее поведение животного не может быть
однозначным показателем свойств нервной системы. Было выявлено, что формы
поведения животных зависят в сильной степени от условий жизни и
возраста, тогда как свойства нервной системы, по-видимому, очень мало
поддаются изменению под влиянием условий жизни и воспитания
(Красуский В.К., 1959, 1960; Чебыкин Д.А., 1961; Норкина Л.Н., 1961).
Поведение животных есть, по выражению Павлова, «сплав»
врожденных черт типа нервной системы и изменений, обусловленных внешней
средой. Смысл этого положения можно пояснить на примере, касающемся
хорошо изученного свойства поведения собак — трусливости.
Экспериментально доказано, что при определенных условиях воспитания собаки
как со слабой, так и сильной нервной системой могут стать трусливыми.
(Выржиковский С.Н., Майоров Ф.П., 1933; Зевальд Л.О. 1938;
Бурдина В.Н., Красуский В.К., Чебыкин Д.А., 1960). В то же время Л.В.
Крушинский на большом материале показал: если трусливость бывает свойственна
собакам любой степени силы нервной системы, то отсутствие трусливости
можно наблюдать главным образом у собак с сильной нервной системой и
лишь сравнительно редко — у собак слабого типа. Сильная нервная
система является, таким образом, благоприятным условием для развития у
собак поведения, в котором отсутствует трусливость (1960).
Можно выдвинуть следующее общее положение: свойства нервной
системы не предопределяют никаких форм поведения, но образуют почву,
на которой легче формируются одни формы поведения, труднее — другие.
Я остановился на данных, касающихся животных, во-первых, потому,
что формы поведения у животных несравненно проще, чем у человека,
и, во-вторых, потому, что вопрос о свойствах нервной системы изучен
гораздо лучше на животных. Вернемся снова к человеку.
Бесспорно, что влияние воспитания и вообще условий жизни на
формирование психического склада и зависящих от него форм поведения у
человека неизмеримо больше, чем у животных. Поэтому у человека роль
врожденных, свойств нервной системы выделить еще труднее, чем у
животных. Определение свойств нервной системы или тем более сложного
1218
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
комплекса их, называемого типом нервной системы, только на основе
наблюдения за поведением представляет задачу чрезвычайной трудности; для
решения ее нужно длительное и глубокое изучение данного человека и
большое мастерство исследователя. В особенности трудна эта задача по
отношению к взрослым людям.
Взаимоотношение между свойствами нервной системы и
особенностями поведения человека очень сложно. Приведу некоторые примеры.
Из приведенной выше характеристики силы нервной системы в
отношении возбуждения следует, что она должна сказываться в
работоспособности человека. Однако было бы ошибочно полагать, что о силе нервной
системы можно судить по продуктивности работы. Продуктивность
деятельности человека зависит прежде всего от таких факторов, как его
отношение к труду, его интересы, знания и навыки, в частности его умение
организовать свою работу. Все эти факторы не связаны с силой нервной системы.
Поэтому человек со слабой нервной системой может давать высокую
продуктивность работы. О силе или слабости нервной системы говорит не
продуктивность деятельности, а то, как она протекает, сколь быстро и в чем
проявляется утомление, какие способы помогают человеку бороться с
утомлением, какой режим работы для него наиболее благоприятен.
Короче говоря, сила нервной системы проявляется не в том, какова
продуктивность деятельности данного человека, а в том, какими способами и при
каких условиях он достигает наибольшей продуктивности.
Л.Б. Ермолаева-Томина (1960) провела с 22 испытуемыми
эксперимент. Надо было непрерывно в течение 40 мин вести трудный счет в уме.
Все испытуемые прошли через испытание силы нервной системы
несколькими методиками. Оказалось, что у испытуемых слабого типа к 35-й мин
наблюдалось понижение продуктивности работы, чего не было у
испытуемых сильного типа. Испытуемые слабого типа, следовательно, скорее
утомлялись. Однако общая продуктивность работы за все 40 мин оказалась у
испытуемых со слабой нервной системой не меньшей (в среднем даже
немного большей), чем у испытуемых с сильной нервной системой. И
объясняется это тем, что испытуемые слабого типа в среднем давали в начале
работы более высокую продуктивность, чем испытуемые сильного типа.
Е.А. Климов (1958, 1960) изучал особенности производственной
работы ткачих-многостаночниц, экспериментально определив у них
подвижность нервных процессов. (В свете сказанного, может быть, точнее
говорить не о подвижности, а о некотором более узком понятии.). Работа на
нескольких станках требует, казалось бы, большой подвижности, и,
согласно обычному представлению, ткачихи с подвижной нервной системой
должны были бы давать более высокую производительность. Это
предположение, однако, не подтвердилось: оказалось, что продуктивность
работы ткачих-многостаночниц не зависит от подвижности нервных процессов.
39* 1219
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Но это не значит, что характер, «стиль» работы ткачих с подвижными и
инертными нервными процессами одинаков. Климов описал существенные
признаки, характеризующие различие в работе этих двух групп ткачих.
Например, ткачихи с малоподвижными нервными процессами много
времени уделяют действиям, предупреждающим перерывы в работе станка,
и тем самым освобождают себя от требующих большой скорости действий.
Таких различий указано у Климова довольно много. Отсюда следует, что
при малой подвижности нервных процессов можно достичь столь же
быстрой и продуктивной работы, как и при большой подвижности, но
достигается это разными способами. Поэтому характер, «стиль» работы должен
быть различным у лиц с разными свойствами нервной системы.
Тип высшей нервной деятельности, пишет Мерлин, «не определяет
отношения личности к действительности с содержательной стороны, но он
оказывает значительное влияние на некоторые формы этого отношения...»1.
Эту мысль автор иллюстрирует отношением к отметкам двух исследованных
им школьников. Экспериментальное исследование показало, что у первого
ученика нервные процессы слабые и инертные, у второго — сильные и
подвижные с преобладанием возбуждения: оба хорошо относились к учению и
были заинтересованы в получении хороших отметок, но реакции их на
отметки были разные: у первого — длительные (вследствие инертности
нервных процессов), у второго — кратковременные (вследствие их
подвижности); у первого отрицательная отметка вызывала «заторможенное
состояние», у второго — повышенное возбуждение (там же).
Приведенные примеры показывают отсутствие простого
параллелизма между свойствами нервной системы и характером поведения. Но они
говорят также о необходимости учитывать свойства нервной системы для
лучшей организации работы.
Свойства нервной системы накладывают глубокий отпечаток на все
поведение человека. Но в чем именно выражается этот отпечаток — нельзя
вывести из простого переноса слов сила — слабость, возбудимость —
тормозность, подвижность — инертность с характеристики
физиологических процессов на характеристику поведения. Это надо изучать.
Отсюда возникает специальная научная проблема — изучение психических
проявлений основных свойств нервной системы.
Разработка данной проблемы только начинается, что вполне понятно.
Прежде чем приступить к ней, нужно было разработать методики точного
определения свойств нервной системы. Но, как видно из сказанного выше,
и эта задача решена к настоящему времени лишь частично.
Принципиальной ошибкой, лишающей смысла всю работу, было бы подменять
опредеМерлин В.С, Роль темперамента в эмоциональной реакции на оценку// Вопросы
психологии. 1955.№ 6. С. 62.
1220
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ление физиологических свойств нервной системы психологической
характеристикой поведения и затем пытаться решать проблему
взаимоотношения свойств нервной системы и психических свойств личности.
Наша работа по цели и задачам — психологическая, так как мы
стремимся найти физиологические основы психологических различий между
людьми. Но по методам в исходной своей и по используемым нами
понятиям это — работа физиологическая. Проблема, занимающая нас, относится
к той области знания, которую можно назвать психофизиологией и
которая является пограничной между физиологией и психологией в том же
смысле, в каком биохимия есть наука, пограничная между химией и
биологией. Я хотел бы особенно подчеркнуть, что признание законности такой
пограничной между физиологией и психологией дисциплины —
необходимое условие для установления правильного взаимоотношения между
этими двумя науками. За последнее время все шире развертываются
исследования, в отношении которых, по справедливому замечанию В.Н. Мясищева,
трудно определить, где кончается физиологическое, где начинается
психологическое (1960). Хорошо известно, что возникновение пограничных
дисциплин, связывающих две науки, — характерная черта современного
этапа развития научного исследования.
Последний вопрос, имеющий существенное практическое значение.
Иногда полагают, что надо отыскивать пути изменения свойств
нервной системы желательную сторону. Такую точку зрения нельзя считать
правильной. Во-первых, мы еще ничего не знаем о путях и способах
изменения свойств нервной системы, но твердо знаем, что это изменение может
совершаться лишь очень медленно и в результате изменения каких-то
биологически существенных условий жизни. Во-вторых, неизвестно, что
следует считать «желательными» свойствами нервной системы. Слабая нервная
система — это нервная система малой работоспособности (в
физиологическом смысле!), но высокой чувствительности. Кто возьмется решить в
общей форме вопрос, какая нервная система лучше: более чувствительная,
но менее работоспособная, или менее чувствительная, но более
работоспособная?
Существуют некоторые виды деятельности, в которых выносливость
нервной системы к сверхсильным нагрузкам имеет решающее значение
(Гуревич K.M., 1961). Для таких видов деятельности необходимы лица с
сильной нервной системой. Но существуют и такие виды деятельности, где
более важное значение имеет высокая чувствительность, реактивность.
Изменение свойств нервной системы должно вести в конце концов к
нивелированию индивидуальности, к желанию сделать всех людей
одинаковыми.
Конечно, надо стремиться к тому, чтобы все люди нашей страны
удовлетворяли высоким требованиям общества, строящего коммунизм.
Каж1221
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
дый человек должен быть предан делу коммунизма, он должен быть
принципиальным, честным, творчески относиться к труду, руководствоваться в
своем поведении сознанием общественного долга, знать основы наук и т. д.
Все эти качества могут быть развиты при любых особенностях нервной
системы. Но у каждого человека формы проявления одних и тех же
социально необходимых качеств различны.
Общество заинтересовано в богатстве и разнообразии
индивидуальностей у социально ценных личностей, в расцвете индивидуальностей, а не
в нивелировании их.
Практическая задача, к которой направлена наша работа, состоит не в
нахождении способов изменять свойства нервной системы, а в
нахождении наилучших для каждого типа нервной системы путей и методов
воспитания и обучения детей, организации труда и жизни взрослых.
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Б.Г. АНАНЬЕВ:
ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ПОЗНАНИЯ
Ананьев Борис Герасимович (1907-1972) —
психолог, один из основателей Петербургской
научной школы, крупный теоретик и
экспериментатор в различных областях общей, педагогической,
возрастной психологии, выдающийся организатор
психологической науки, с 1967 г. — декан
факультета психологии Ленинградского университета.
Развивал идеи комплексного подхода в
психологии своего учителя В.М. Бехтерева, создал новую
научную область — онтопсихологию —
синтетическую дисциплину, объединяющую возрастную и
дифференциальную психологию, направленную на
изучение целостного жизненного пути человека (Ананьев Б.Г. К
онтопсихологии человека // Теоретическая и прикладная психология в
Ленинградском университете. Л., 1969). В фундаментальном труде «Человек как
предмет познания» (Л., 1968) дал анализ современного состояния наук о
человеке, наметил пути построения общей теории индивидуального
развития человека, направленной на разработку проблемы индивидуальности.
Различал понятия индивид, личность и субъект деятельности.
Рассматривал индивидуальность как высший синтез различных свойств человека
как индивида, личности и субъекта деятельности; является конечным
эффектом социализации.
подступы к проблеме человеческой
индивидуальности1
В нашей работе сделана проба различения свойств человека как
индивида, личности и субъекта деятельности, составляющих единую историческую
природу человека. Понимание социальной детерминации всех этих свойств
и единства их материальных механизмов позволяет объяснить генезис
психических функций, процессов, состояний, тенденций и потенциалов
человека, исследовать его внутренний мир объективными средствами современной
науки.
Ананьев Б.Г. Избр. психологические труды: В 2 т. Т. I. M.: Педагогика, 1980.
С. 170-178.
1223
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Каждая из этих групп человеческих свойств является системой,
открытой внешнему миру (общественной жизни, созданной людьми в их
общественном развитии, искусственной среде обитания, географической среде
и биогеносфере в целом, Вселенной). В постоянном и активном
взаимодействии человека с миром — природой и обществом — осуществляется его
индивидуальное развитие. Обмен веществ, энергии, информации и даже
самих человеческих свойств в этом процессе взаимодействия имеет
универсальный характер для бытия и сознания человека. Именно на этом
постулате основано научное убеждение в объективной познаваемости
субъективных явлений и в эффективной возможности управления процессом
человеческого развития (в этом отношении особенно значителен вклад
С.Л. Рубинштейна в теорию познания человека. Благодаря открытости
системы «человек-мир» человек есть, как утверждала еще античная
философия, микрокосм, отражающий и представляющий в себе макрокосм —
общество, природу, мир в целом.
П. Тейяр де Шарден имел основания «предсказать, что если мы идем к
человеческой эре науки, то эта эра будет в высшей степени эрой науки о
человеке — познающий человек заметит наконец, что человек как
"предмет познания" — это ключ ко всей науке о природе »!. Нельзя не
поражаться удивительной мудрости предвидения де Шардена, который писал далее:
«Человек как предмет познания имеет для науки уникальное значение
по двум причинам: 1) он представляет собой, индивидуально и социально,
наиболее синтетическое строение, в котором нам доступна ткань
универсума, и 2) соответственно в настоящее время мы находим здесь
наиболее подвижную точку этой ткани, находящейся в ходе преобразований.
В силу этих причин расшифровать человека — значит, в сущности,
попытаться узнать, как образовался мир и как должен продолжать
образовываться. Наука о человеке — теоретическая и практическая наука о
гоминизации» (там же. С. 277).
Действительно, современной наукой сделано очень много в познании
происхождения и функционирования человека как открытой системы,
взаимодействующей с миром и им детерминированной. В центре такой
открытой системы находится комплекс свойств личности с ее бесчисленным
рядом социальных связей и свойств субъекта деятельности, преобразующего
действительность.
Для того чтобы подойти к проблеме индивидуальности с точки зрения
целого (на молярном уровне), нужно представить человека не только как
открытую систему, но и как систему «закрытую», замкнутую вследствие
внутренней взаимосвязанности ее свойств (личности, индивида, субъекта).
Конечно, такой подход к человеческой индивидуальности не является
ис1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека/ Пер. с фр. М., 1965. С. 275.
1224
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ключением, так как, по справедливому замечанию В.М. Бехтерева, «мир
строится в форме замкнутых систем, представляя собой особые
индивидуальности. Каждая индивидуальность может быть различной
сложности, но она представляет всегда определенную гармонию частей и обладает
своей формой и своей относительной устойчивостью системы. Гармония
частей есть основа индивидуальности»1.
Подход с этой стороны к явлениям человеческой
индивидуальности нам представляется весьма перспективным. Именно в этих
явлениях как бы замыкается внутренний контур регулирования всех свойств
человека как индивида, личности с ее множеством противоречивых
ролей и субъекта различных деятельностей. В такой относительно
замкнутой системе, «встроенной» в открытую систему
взаимодействия с миром, образуется определенное взаимосоответствие
тенденций и потенций человека, самосознание и «я» — ядро человеческой
личности.
Благодаря противоречивому сочетанию в человеке свойств открытой и
закрытой систем его сознание является одновременно субъективным
отражением объективной деятельности и внутренним миром личности. В этом
относительно обособленном от окружающего внутреннем мире
складываются комплексы ценностей (жизненных планов и перспектив, глубоко
личностных переживаний), определенные организации образов («портретов»,
«пейзажей», «сюжетов») и концептов, притязаний и самооценки.
Но внутренний мир, конечно, если это не «мирок» обывателя, не есть
укромное вместилище для потерянной в мире индивидуальности, как это
полагает экзистенциализм. Внутренний мир человека работает, и мера
напряженности его работы (переработки опыта, выработки собственных
позиций и убеждений, пути самоопределения и т. д.) является показателем
духовного богатства индивидуальности. Эффекты его работы путем
экстериоризации проявляются в поведении и деятельности как продукты
творчества, производящего ценности для общества. Через сложные
переходы по различным видам связей из закрытой системы в открытую человек
вносит свой собственный вклад в материальную и духовную культуру своего
общества и человечества. Возможно, что с этими противоречивыми
переходами связаны явления бессознательной жизни, экстатические состояния
творческого напряжения, уровни сознательной регуляции (см.: М.А.
Мазманян).
В этом контексте уместно употребить слово «неповторимый », так как
именно в продуктах творческой деятельности, изменяющей
окружающую действительность, выражается неповторимый вклад личности в
общественное развитие. Еще Гегель в своей «Феноменологии духа»
заме1 Бехтерев В.М. Общие основы рефлексологии человека. М.; Л., 1926. С. 350.
1225
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
тил противоречие между натуральной индивидуальностью с комплексом
«неповторимых» природных заданных свойств и «индивидуальностью,
которая видит себя реальной в себе самой и для себя самой», т. е.
обладающей самосознанием, «я». Но эта истинная индивидуальность, по
выражению Гегеля, «вкладывает свою сущность в произведение» посредством
деятельности.
Думается, что именно в явлениях экстериоризации внутреннего
мира человека, его объективации в процессах практической
деятельности можно найти возможности объективного исследования
человеческой индивидуальности. Если личность — «вершина» всей структуры
человеческих свойств, то индивидуальность — это «глубина» личности
и субъекта деятельности. Измерение этой внутренней глубины возможно
лишь объективными методами современной науки, в системе
человекознания, которой посвящено наше исследование. Мы думаем, что одним
из важных индикаторов человеческой индивидуальности является
активность созидающей, творческой деятельности человека, воплощение,
реализация в ней всех великих возможностей исторической природы
человека.
В связи с нашим толкованием надо рассмотреть распространенные в
литературе характеристики индивидуальности. С.Л. Рубинштейн ввел в
психологию различение индивидуальных и личностных свойств личности.
«...Свойства личности никак не сводятся к ее индивидуальным
особенностям, — писал С.Л. Рубинштейн в 1957 г. — Они включают и общее, и
особенное, и единичное. Личность тем значительнее, чем больше в
индивидуальном преломлении в ней представлено всеобщее. Индивидуальные
свойства личности — это не одно и то же, что личностные свойства
индивида, т. е. свойства, характеризующие его как личность >>1.
В этом разграничении индивидуальных и личностных свойств С.Л.
Рубинштейн сделал лишь самую начальную попытку различить понятия
«индивид», «личность», «индивидуальность», которые соответствуют главным
характеристикам человека. Но это различение носит линейный характер,
оно не отражает еще сложнейших обратных связей от одной из
характеристик к любой другой.
Вот как С.Л. Рубинштейн описывал соотношение индивидуальности
и личности: «Человек есть индивидуальность в силу наличия у него
особенных, единичных, неповторимых свойств; человек есть личность в силу
того, что он сознательно определяет свое отношение к окружающему.
Человек есть личность, поскольку у него свое лицо. Человек есть в
максимальной мере личность, когда в ней минимум нейтральности,
безразличия, равнодушия, максимум «партийности» по отношению ко всему
1 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 32.
1226
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
общественно значимому. Поэтому для человека как личности такое
фундаментальное значение имеет сознание не только как знание, но и как
отношение. Без сознания, без способности сознательно занять
определенную позицию нет личности» (там же. С. 34). Вместе с тем С.Л.
Рубинштейн оговаривается, что в данное определение должны входить также и
неосознанные тенденции личности, вообще все то, что составляет ядро
личности, ее «я».
Таким образом, в личностные свойства входят направленность,
тенденции, черты характера и способности личности, поскольку они являются
обобщенными результатами деятельности и ее потенциалами.
Осталось неуточненным определение индивидуальных свойств,
к которым относятся не только «неповторимые» явления
индивидуальности, но, как ясно из подтекста этой работы, природные свойства
индивида, которым С.Л. Рубинштейн всегда придавал большое значение.
Таким образом, индивидуальное фигурирует и в собственном смысле
как психологическая неповторимость отдельного, единичного
человека, взятого в целом, во всех его свойствах и отношениях, и в
естественно-научном толковании человека как индивида с комплексом
определенных природных свойств. Подобное сближение, а в некоторых
случаях и отождествление оправдано тем, что индивидуальность всегда
есть индивид с комплексом природных свойств, хотя, конечно, не
всякий индивид является индивидуальностью. На наш взгляд, как было
показано ранее, для этого индивиду нужно стать личностью. Сложные
субординационные, «иерархические» связи здесь можно представить
так: индивид —> личность —> индивидуальность. С.Л. Рубинштейн ясно
сознавал невозможность понимания личности как совокупности
внутренних условий, через которые действует социальная детерминация, без
достаточного учета комплекса ее природных свойств. Другое дело, что
этот комплекс им обозначался то как индивид, то как индивидуальность.
Важнее здесь отметить то, что личность, по мысли С.Л. Рубинштейна,
обязательно включает в себя и преобразует индивидуальные, а с нашей
точки зрения — индивидные свойства.
Сходная точка зрения на соотношение индивидуального и
индивидуальности в сжатом виде изложена A.B. Петровским. «Человека как
личность, — пишет A.B. Петровский, — характеризует система отношений,
обусловленных его жизнью в обществе. В процессе отражения
объективного мира активно действующая личность выступает как целое, в
котором познание объективного осуществляется в единстве с его
переживанием» (Философская энциклопедия. Т. 3. С. 202). A.B. Петровским
употребляется понятие «психический склад личности », который
является, по словам автора, «производным от деятельности человека и
детерминирован прежде всего развитием общественных условий его жизни»
1227
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
(там же). Слово «индивидуальность» используется как идентичное
неповторимости в следующем описании психических свойств личности:
«К психическим свойствам личности относятся характер, темперамент,
способности человека, совокупность преобладающих чувств и мотивов
его деятельности, а также особенности протекания психических
процессов. Это неповторимое в своей индивидуальности сочетание свойств у
каждого конкретного человека образует устойчивое единство, которое
можно рассматривать как относительное постоянство психического
облика или склада личности» (там же. С. 201).
В литературе встречается толкование индивидуального лишь как
единичного. Так, например, А.Г. Ковалев пишет: «Как всякая наука, так и
психология восходит от единичного к общему. Психолог исследует
многочисленный класс индивидуальностей, выясняя существенное и отвлекаясь от
частного, случайного, второстепенного в духовном облике каждого;
обобщая данные, он устанавливает закономерное, т. е. всегда общее или
особенное Индивидуальное бесконечно разнообразно. Несущественное в
индивидуальном научного значения не представляет, от него отвлекаются,
хотя в практике работы должно постоянно учитываться как вариант
типического или отклонения от типического »!.
В.П. Тугаринов включает индивидуальность в число основных
признаков личности наряду с разумностью, ответственностью, свободой, личным
достоинством. При этом индивидуальное, хотя и интерпретируется как
неповторимое, присущее только данной личности, рассматривается как
вариант общезначимого. Самое существенное в индивидуальности, по
мнению В.П. Тугаринова, ее направленность. «Индивидуальность
становится общественной ценностью, — пишет автор, — лишь тогда, когда ее
проявления направлены на служение обществу и общественному
прогрессу»1.
И.С. Кон также отмечает, что «будучи социальной, личность в то
же время индивидуальна, неповторима, так как данная структура и
сочетание ролей и такое именно их осознание характерны лишь для этого
человека и ни для кого другого. Одни и те же объективные условия в
сочетании с разной индивидуальностью дают разный тип личности »
(Философская энциклопедия. Т. 3. С. 196). В связи с этим он определяет
различие социологического и психологического аспектов в изучении
личности, подразумевая приуроченность последнего к анализу
индивидуальных ее параметров.
Примечательно, что В.А. Ядов отделяет индивидуальное от
социально-типичного в личности и рассматривает лишь последнее в качестве
предКовалевА.Г. Психология личности. Л., 1963. С. 16,19.
Тугаринов В,П. Личность и общество. М., 1965. С. 72.
1228
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
мета социологического исследования. В.АЯдов пишет: «Предмет
марксистской социологии — общественные отношения, лежащие в основе
межличностного или группового взаимодействия. Поэтому мы полагаем, что
индивиды интересуют социолога не как личности в точном смысле слова
(индивидуальная неповторимость), но как представители некоторых
социальных типов»1 [1967, с. 21].
Вопрос о личности и индивидуальности человека приобрел особое
значение в связи с марксистской критикой неотомистского их
понимания, персонализма и экзистенциализма. В этом плане интересна
монография Р. Миллера (ГДР), в которой рассмотрены аспекты этих
философско-социологических проблем. Он правильно выделяет положение
о том, что «все богатство человеческой природы основано, по существу,
на множественности и разнообразии способов выражения общего в
индивидуальном» [1965, с. 162], и специально анализирует сложные
целостные характеристики самой индивидуальности.
Но как психологии, так и социологии не удается определить
индивидуальное лишь в качестве неповторимости единичного феномена —
человеческого существования. В естествознании накопилось много
фактов, доказывающих существование такого феномена не только на
молярном, но и на молекулярном уровне.
Неповторимость феноменов обнаружена, как известно, в рисунке
узоров кожного покрова (на чем основаны пробы отпечатков пальцев и
опознавание по ним человека), в тембре голоса, связанного с
конституциональными особенностями человека, в треморе разных двигательных
систем, включая двигательный аппарат глаза. Новым для науки
является открытие неповторимости частот биоэлектрических ритмов
головного мозга и возможность опознания человека по
электроэнцефалограмме (см. об этом главу «Признаки личности» в книге электрофизиолога
Г. Уолтера «Живой мозг» [1966]). Однако самое любопытное
заключается в почти полной автономности каждого из этих феноменов.
Бесконечен ряд таких «неповторимостей». Вместе с тем обнаружить
значимые корреляции между ними у одного и того же человека крайне трудно,
как об этом свидетельствуют коллективные исследования наших
сотрудников: Г.И. Акинщиковой, И.М. Палей, П.Л. Зазулиной, Е.А.
Ивановой, С.Н. Левиевой, В.П. Лисенковой [Человек и общество, 1966].
Создается впечатление, что у взрослого человека как бы
умножается число степеней свободы каждого из компонентов сложной
системы поведения и жизнедеятельности. Известно, что между
множественными проявлениями индивидуальной изменчивости анатомической
Ядов В. А. Методологические проблемы конкретного социологического
исследования: Автореферат докт. дис. Л., 1967. С. 21.
1229
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
структуры не всегда отмечается какая-либо корреляция
(положительная или отрицательная). Но, по мнению Р. Уильямса [1960] существует
определенная связь между анатомической изменчивостью и
изменчивостью химического состава (крови, слюны, желудочного сока,
молока, костной ткани, кожи, волос и т. д.) ферментных систем,
инкреторной деятельностью и типами экскреции.
Определенные взаимосвязи анатомической и биохимической
изменчивости обусловливают особенности основного обмена, темпов роста,
регуляции температуры тела, чувствительности к боли и хеморецепцию
разных видов, а также индивидуальное своеобразие основных
потребностей (в пище, кислороде, половых и т. д.).
Наиболее важная мысль Р. Уильямса, обращенная против идеи
стандартного человека и абстрактного понимания нормы в медицине, —
мысль о том, что «медицина должна признать индивидуальность на
биохимическом и физиологическом уровне», не ограничиваясь признанием
человеческой индивидуальности в социальном и психологическом
отношениях.
Нельзя, конечно, согласиться с подобной рядоположенностью
категории «индивидуальность» в отношении эритроцитов, ферментов,
мозговых структур, синдромов заболеваний, характера и социального
развития человека. Но думается, что смысл утверждения Р. Уильямса о
наличии индивидуальности на биохимическом и физиологическом
уровне заключен в другом. Учитывая огромное число фактов из разных
областей биохимической изменчивости, он, по существу, усомнился в том,
что индивидуальное своеобразие есть только свойство организма как
целого. Разве не говорят факты об исключительной вариативности всех
реакций и процессов, взятых порознь и в разных условиях, и о том, что
индивидуальное своеобразие есть также свойство любой части этого
целого? Новое в этой мысли заключается, как нам кажется, в допущении,
что индивидуальное своеобразие части (функции, ткани, процесса и т. д.)
в какой-то степени независимо от целого, а в какой-то степени даже
детерминирует организм как целое.
Так это или не так, должны показать длительные и систематические
исследования. Но несомненно, что одной из причин кризиса теории
конституции независимо от предлагаемых принципов классификации было
абстрактное толкование целостности организма, при котором целое
рассматривалось как совокупность соотнесенных морфофизиологических
характеристик, совершенно автономная по отношению к каждой из этих
характеристик. Даже допущение о доминировании в конституциональном
типе какой-либо характеристики (например, мускульной в мускулярном
типе, дыхательной в респираторном типе и др., по классификации Сиго) все
равно согласовывалось с основной идеей о структурной независимости
1230
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
индивида как целого от бесчисленного множества индивидуальной
изменчивости «элементов», из которых образуется это целое. Сходной идеей
руководствуются и в тех случаях, когда в диагностике конституции или
нейродинамических типов стремятся к определению «чистых» типов или
когда, напротив, факты «смешанности» типических черт приводят
исследователей к отрицанию фактов существования подобных «чистых» типов.
Более глубокий анализ показывает, что дело здесь вовсе не в том, сводится
ли индивидуальность к типу или, напротив, не сводится, поскольку
типологическая модель всегда есть в той или иной мере абстрагирование от
многих свойств индивида. Диалектика целого и частей выступает и в этой
области во всем своем значении.
Не только целостная система, но и основные ее компоненты
индивидуализируются в процессе их взаимодействия. Мы старались
показать, что в ходе онтогенетического развития и жизненного пути
человека происходит прогрессирующая индивидуализация организма и
личности человека, охватывающая все уровни этого развития (как
молярные, так и молекулярные).
Следует учитывать, что реальный индивид противоречив и его
многочисленные свойства разнонаправленны. Разнонаправленность и
многоплановость индивидуальной изменчивости тканей, органов,
химического состава, ферментов и т. д. определяются внутренними законами и
физико-химической природой каждого из этих компонентов
соматического типа человека. Поэтому и онтогенетические изменения по
возрастным периодам, а также специфические проявления полового
диморфизма можно определять не только при изучении индивида в целом,
но и по индивидуальной изменчивости его частей.
В еще большей мере многообразие противоречивых связей и свойств
представлено в социальном развитии личности и психологической
структуре человека. Единство человеческой индивидуальности и
противоречивость ее множественных состояний составляют две стороны одной и
той же закономерности ее развития.
Единичный человек как индивидуальность может быть понят лишь
как единство и взаимосвязь его свойств как личности и субъекта
деятельности, в структуре которых функционируют природные свойства
человека как индивида. Иначе говоря, индивидуальность человека
можно понять лишь при условии полного набора характеристик человека.
Следовательно, человек как вид (Homo sapiens) и как человечество
(общество в его историческом существовании) составляет основание для
любого определения состояний каждого отдельного, единичного
человека, являющегося индивидом, личностью и индивидуальностью.
Схематически можно было бы выразить общую организацию
характеристик человека и способов развития его свойств так, как показано на рисунке.
1231
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Общая структура человека и взаимосвязи развития его свойств
Мы видим, следовательно, что теория человеческой
индивидуальности может быть построена только в системе синтетического
человекознания.
Формирование системы человекознания в наше время стало
возможным лишь благодаря успехам многих теоретических и прикладных наук, их
взаимодействию в различных областях познания, особенно на почве
психологии. В этом смысле синтетическое человекознание — наиболее общий
результат современного научного развития. Однако в самом ближайшем
будущем, как можно думать, ассоциация наук, образующих систему
человекознания, станет важным фактором прогресса научного познания и
общественного развития.
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Д.Н. УЗНАДЗЕ:
ТЕОРИЯ УСТАНОВКИ
Узнадзе Дмитрий Николаевич (1886-1950) —
психолог, философ, организатор психологической
науки в Грузии. Создал грузинскую научную
школу — психологии установки, основу которой
составляет общепсихологическая теория установки,
направленная на познание закономерностей
психологической активности человека, его действий и
сознания. Значительная часть научного наследия
Узнадзе не переведена на русский язык.
Центральное понятие концепции Узнадзе —
установка как активность целостного субъекта.
Разрабатывалась в ходе экспериментальных
исследований. Выявленный в них факт установки был назван Ж. Пиаже
«эффектом Узнадзе ». На основе этого понятия получили оригинальную трактовку
важнейшие проблемы; предмета психологии, поведения, формирования
понятий, языка и сознания. На основе психологии установки в годы II
мировой войны проводилась практическая работа по восстановлению
нарушенных психических функций воинов. В настоящее время выступает в
качестве теоретической основы одного из вариантов психотерапии.
Существуют и другие формы практических приложений теории установки в
различных областях социальной практики.
В антологию включены фрагменты из сборника Д.Н. Узнадзе
«Психологические исследования» (1966).
ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ
Постановка проблемы установки
1. Иллюзия объема. Возьмем два разных по весу, но совершенно
одинаковых в других отношениях предмета — скажем, два шара, которые
отчетливо отличались бы друг от друга по весу, но по объему и другим
свойствам были бы совершенно одинаковы. Если предложить эти шары
УзнадзеД.Н. Психологические исследования. М., 1966. С. 140-152; 164-169; 291-292.
1233
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
испытуемому с заданием сравнить их между собой по объему, то, как
правило, последует ответ: более тяжелый шар — меньше по объему, чем более
легкий. Причем иллюзия эта обычно выступает тем чаще, чем значительнее
разница по весу между шарами. Нужно полагать, что иллюзия здесь
обусловлена тем, что с увеличением веса предмета обычно увеличивается и
его объем, и вариация его по весу, естественно, внушает субъекту и
соответствующую вариацию его в объеме.
Но экспериментально было бы продуктивнее разницу объектов по
весу заменить разницей их по объему, т. е. предлагать повторно
испытуемому два предмета, отличающихся друг от друга по объему, причем один
(например, меньший) — в правую, а другой (больший) — в левую руку.
Через определенное число повторных воздействий (обычно через 10-
15 воздействий) субъект получает в руки пару равных по объему шаров с
заданием сравнить их между собой. И вот оказывается, что испытуемый
не замечает, как правило, равенства этих объектов; наоборот, ему
кажется, что один из них явно больше другого, причем в преобладающем
большинстве случаев в направлении контраста, т. е. большим кажется ему
шар в той руке, в которую в предварительных опытах он получал меньший
по объему шар. При этом нужно заметить, что явление это выступает в
данном случае значительно сильнее и чаще, чем при предложении
неодинаковых по весу объектов. Бывает и так, что объект кажется большим в
другой руке, т. е. в той, в которую испытуемый получал больший по
объему шар.
В этих случаях мы говорим об ассимилятивном феномене. Так
возникает иллюзия объема.
Но объем воспринимается не только гаптически, как в этом случае, он
оценивается и с помощью зрения. Спрашивается, как обстоит дело в этом
случае.
Мы давали испытуемым на этот раз тахистоскопически пару кругов,
из которых один был явно больше другого, и испытуемые, сравнив их
между собою, должны были указать, какой из них больше. После достаточного
числа (10-15) таких однородных экспозиций мы переходили к
критическим опытам — экспонировали тахистоскопически два равновеликих
круга, и испытуемый, сравнив их между собою, должен был указать, какой из
них больше.
Результаты этих опытов оказались следующие: испытуемые
воспринимали их иллюзорно; причем иллюзии, как правило, возникали почти
всегда по контрасту. Значительно реже выступали случаи прямого,
ассимилятивного характера. Мы не приводим здесь данных этих опытов1. Отметим
только, что число иллюзий доходит почти до 100 % всех случаев.
1 Cp.:UsnadzeD. Ueber die Gewichtstaeuschung und ihre Analoga. Psychol. For. Bd. XIV, 1931.
1234
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
2. Иллюзия силы давления. Но наряду с иллюзией объема мы
обнаружили и целый ряд других аналогичных с ней феноменов и прежде
всего иллюзию давления (1929 г.).
Испытуемый получает при посредстве барестезиометра одно за
другим два раздражения — сначала сильное, потом сравнительно слабое. Это
повторяется 10-15 раз. Опыты рассчитаны на то, чтобы упрочить в
испытуемом впечатление данной последовательности раздражений. Затем
следует так называемый критический опыт, который заключается в том, что
испытуемый получает для сравнения вместо разных два одинаково
интенсивных раздражения давления.
Результаты этих опытов показывают, что испытуемому эти
впечатления, как правило, кажутся не одинаковыми, а разными, а именно: давление
в первый раз ему кажется более слабым, чем во второй раз. Табл. 1,
включающая в себя результаты этих опытов, показывает, что число таких
восприятий значительно выше, чем число адекватных восприятий.
Нужно заметить, что в этих опытах, как и в предыдущих, мы имеем
дело с иллюзиями как противоположного, так и симметричного характера:
чаще всего встречаются иллюзии, которые сводятся к тому, что
испытуемый оценивает предметы критического опыта, т. е. равные
экспериментальные раздражители как неодинаковые, а именно: раздражение с той
стороны, с которой в предварительных опытах он получал более сильное
впечатление давления, он расценивает как более слабое (иллюзия
контраста). Но бывает в определенных условиях и так, что вместо контраста
появляется феномен ассимиляции, т. е. давление кажется более сильным как
раз в том направлении, в котором и в предварительных опытах действовало
более интенсивное раздражение.
Таблица 1
Реакция
Иллюзия давления, %
+
45,6
—
25,0
=
15,0
?
14,4
+число случаев контраста; — число ассимиляций; = число
адекватных оценок; ? число неопределенных ответов. То же значение имеют
эти знаки и во всех нижеследующих таблицах.
Мы находим, что более 60 % случаев оценки действующих в
критических опытах равных раздражений давления нашими испытуемыми
воспринимается иллюзорно. Следовательно, не подлежит сомнению, что
явления, аналогичные с иллюзиями объема, имели место и в сфере восприятия
давления, существенно отличающегося по структуре рецептора от
восприятия объема.
1235
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
3. Иллюзия слуха. Наши дальнейшие опыты касаются слуховых
впечатлений. Они протекают в следующем порядке: испытуемый получает
в предварительных опытах при помощи так называемого «падающего
аппарата» (Fallaparat) слуховые впечатления попарно: причем первый член
пары значительно сильнее, чем второй член той же пары. После 10-15
повторений этих опытов следуют критические опыты, в которых испытуемые
получают пары равных слуховых раздражений с заданием сравнить их
между собой.
Результаты этих опытов суммированы в табл. 2, которая показывает,
что в данном случае число иллюзий доходит до 76 %. Следует заметить, что
здесь, как, впрочем, и в опытах на иллюзию давления (табл. 1), число
ассимилятивных иллюзий выше, чем это бывает обыкновенно; зато, конечно,
значительно ниже число случаев контраста, которое в других случаях
нередко поднимается до 100 %. Нужно полагать, что здесь играет роль то, что
в обоих этих случаях мы имеем дело с последовательным порядком
предложения раздражений, т. е. испытуемые получают раздражения одно за
другим, но не одновременно, с заданием сравнить их между собой, и нами
замечено, что число ассимиляций значительно растет за счет числа
феноменов контраста. Ниже мы попытаемся объяснить, почему это бывает так.
Цифры, полученные в этих опытах, не оставляют сомнения, что
случаи феноменов, аналогичных с феноменом иллюзий объема, имеют место и
в области слуховых восприятий.
Таблица 2
Реакция
Слуховая ассимиляция, %
+
57,0
—
19,0
=
1,0
?
3,0
4. Иллюзия освещения. Еще в 1930 г. я имел возможность
высказать предположение1, что явления начальной переоценки степени
освещения или затемнения при светлостной адаптации могут относиться к той же
категории явлений, что и описанные нами выше иллюзии восприятия. В
дальнейшем это предположение было проверено в моей лаборатории
следующими опытами: испытуемый получает два круга для сравнения их между
собой по степени их освещенности, причем один из них значительно
светлее, чем другой. В предварительных опытах (10-15 экспозиций) круги эти
экспонируются испытуемым в определенном порядке: сначала темный
круг, а затем — светлый. В критических же опытах показываются два
одинаково светлых круга, которые испытуемый сравнивает между собой по их
освещенности. Результаты опытов, как показывает табл. 3, не оставляют
1 Узнадзе Д. Об основном законе смены установки// Психология. 1930. Вып. 9.
1236
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
сомнения, что в критических опытах, под влиянием предварительных,
круги не кажутся нам одинаково освещенными: более чем в 73 % всех случаев
они представляются нашим испытуемым значительно разными. Итак,
феномен наш выступает и в этих условиях.
5. Иллюзия количества. Следует отметить, что при соответствующих
условиях аналогичные явления имеют место и при сравнении между собой
количественных отношений. Испытуемый получает в предварительных
опытах два круга, из которых в одном мы имеем значительно большее
число точек, чем в другом. Число экспозиций колеблется и здесь в пределах
10-15. В критических опытах испытуемый получает опять два круга, но на
этот раз число точек в них одинаковое. Испытуемый, однако, как правило,
этого не замечает, и в большинстве случаев ему кажется, что точек в одном
из этих кругов заметно больше, чем в другом, а именно больше в том круге,
в котором в предварительных опытах он видел меньшее число этих точек.
Таким образом, феномен той же иллюзии имеет место и в этих условиях.
Таблица 3
Реакция
Иллюзия освещения, %
+
56,6
—
16,6
=
21,6
?
6,2
6. Иллюзия веса. Фехнер в 1860 г., а затем Г. Мюллер и Шуман в 1889 г.
обратили внимание еще на один, аналогичный нашим, феномен, ставший
затем известным под названием иллюзии веса. Он заключается в
следующем: если давать испытуемому задачу, повторно, несколько раз подряд,
поднять пару предметов заметно неодинакового веса, причем более
тяжелый правой, а менее тяжелый левой рукой, то в результате выполнения
этой задачи у него вырабатывается состояние, при котором и предметы
одинакового веса начинают ему казаться неодинаково тяжелыми, причем
груз в той руке, в которую предварительно он получал более легкий
предмет, ему начинает казаться чаще более тяжелым, чем в другой руке.
Мы видим, что, по существу, то же явление, которое было указано нами
в ряде предшествующих опытов, имеет место и в области восприятия веса.
7. Попытки объяснения этих феноменов. Теория Мюллера. Если
просмотрим все эти опыты, увидим, что, в сущности, всюду в них мы имеем
дело с одним и тем же явлением: все указанные здесь иллюзии имеют один
и тот же характер — они возникают в совершенно аналогичных условиях и,
следовательно, должны представлять собой разновидности одного и того
же феномена. Поэтому теория Мюллера, построенная специально с целью
объяснения одного из указанных явлений, именно иллюзии веса, не может
1237
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
в настоящее время считаться удовлетворительной. Она имеет в виду
специфические особенности восприятия веса и, конечно, для объяснения
иллюзий других чувственных модальностей должна оказаться
несостоятельной.
В самом деле! Мюллер рассуждает следующим образом: когда мы даем
испытуемому в руки несколько раз по паре неодинаково тяжелых
предметов, то в конце концов у него вырабатывается привычка для поднимания
первого, т. е. более тяжелого члена пары мобилизовать более сильный
мускульный импульс, чем для поднимания второго члена пары. Если же
теперь, после повторения этих опытов достаточное число раз (10-15 раз),
дать тому же испытуемому в каждую руку по предмету одинакового веса,
то предметы эти будут казаться ему опять неодинаково тяжелыми. Ввиду
того, что у него выработалась привычка правой рукой поднимать более
тяжелый предмет, он мобилизует при поднимании тяжести этой рукой более
сильный импульс, чем при поднимании другой рукой. Но раз в данном
случае фактически приходится поднимать предметы одинакового веса, то,
понятно, мобилизованный в правой руке импульс к более тяжелому
«быстрее и легче отрывает» тяжесть с подставки, чем это имеет место с левой
стороны, и тяжесть справа легче «летит вверх», чем тяжесть слева.
Психологическую основу иллюзии следовательно, следует полагать,
согласно этой теории, в переживании быстроты поднимания тяжести:
когда она как бы «летит вверх», она кажется легкой, когда же, наоборот, она
поднимается выше медленно, то она как бы «прилипает к подставке» и
переживается как более тяжелый предмет. Такова теория Мюллера.
Мы видим, что решающее значение, согласно этой теории, имеет
впечатление «взлета вверх» или «прилипания» тяжести к подставке: без этих
впечатлений мы не чувствовали бы различия между обеими тяжестями —
иллюзия бы не имела места.
Но ведь явления этого рода мы можем переживать лишь в случаях
поднимания тяжестей, т. е. там, где имеет смысл говорить о впечатлениях
«взлета вверх » или «прилипания к подставке ». Между тем, по существу то
же явление, как мы видели, имеет место и в ряде случаев, где о
впечатлениях этого рода и речи не может быть. Так, мы имеем дело с иллюзиями
объема, силы давления, слуха, освещения, количества, словом, с иллюзиями,
которые, по существу, нужно трактовать как разновидности одного и того
же явления, не имеющего существенной или вовсе никакой связи с
какими-нибудь определенными периферическими процессами. Оставаясь
одним и тем же феноменом, в тактильной сфере она становится иллюзией
давления, в зрительной и гаптической — иллюзией объема, в мускульной — иллюзией
веса и т. д. По существу же, она остается одним и тем же феноменом, для
понимания сущности которого особенности отдельных чувственных
модальностей, в которых он проявляется, существенной роли не играют.
По1238
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
этому совершенно ясно, что для объяснения этого феномена мы должны
отвлечься от теории Мюллера и искать его в другом направлении.
И вот, прежде всего возникает вопрос: что находим мы общего в
условиях наших опытов, в деятельности отдельных сенсорных модальностей,
что можно было бы признать общей основой, на которой вырастают
констатированные нами аналогичные друг другу явления иллюзии?
Теория «обманутого ожидания». В психологической литературе мы
встречаем теорию, которая, казалось бы, вполне отвечает поставленному
здесь нами вопросу. Это — теория «обманутого ожидания». Правда, при
ее разработке упомянутые нами аналоги иллюзии веса были еще
неизвестны: они были впервые опубликованы нами в связи с проблемой об основах
данной иллюзии позднее1. Тем больше внимания заслуживает эта теория
сейчас, когда наличие этих аналогов определенно указывает, что в основе
интересующих здесь нас феноменов должно лежать нечто, имеющее, по
существу лишь формальное значение и потому могущее оказаться годным
для объяснения тех случаев, которые, касаясь материала различных
чувственных модальностей, столь сильно отличаются друг от друга со
стороны содержания.
Теория «обманутого ожидания » пытается объяснить иллюзию веса
следующим образом: в результате повторного поднимания тяжестей (или же для
объяснения наших феноменов мы могли бы сейчас добавить — повторного
воздействия зрительного, слухового или какого-либо другого впечатления)
у испытуемого вырабатывается ожидание, что в определенную руку ему будет
дан всегда более тяжелый предмет, чем в другую, и когда в критическом опыте
он не поручает в эту руку более тяжелого предмета, чем в другую, его
ожидание оказывается обманутым, и он, недооценивая вес полученного им
предмета, считает его более легким. Так возникает, согласно этой теории,
впечатление контраста веса, а в соответствующих условиях и другие обнаруженные
нами аналоги этого феномена.
Нет сомнения, что теория эта имеет определенное преимущество перед
мюллеровскои, поскольку она в основе признает возможность проявления
наших феноменов всюду, где только может идти речь об «обманутом
ожидании », следовательно, не только в одной, но и во всех наших чувственных
сферах. Наши опыты именно и показывают, что интересующая здесь нас иллюзия
не ограничивается сферой одной какой-нибудь чувственной модальности,
а имеет значительно более широкое распространение.
Тем не менее принять эту теорию не представляется возможным.
Прежде всего она мало удовлетворительна, поскольку не дает никакого
ответа на существенный в нашей проблеме вопрос — вопрос о том, почему,
собственно, в одних случаях возникает впечатление контраста, а в других —
Узнадзе Д. Об основном законе смены установки. «Психология». 1930. Вып. 9.
1239
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ассимиляции. Нет никаких оснований считать, что субъект действительно
«ожидает», что он и в дальнейшем будет получать то же соотношение
раздражителей, какое он получал в предварительных опытах. На самом
деле такого «ожидания» у него не может быть, хотя бы после того, как
выясняется после одной-двух экспозиций, что он получает совсем не те
раздражения; которые он, быть может, действительно «ожидал» получить.
Ведь в наших опытах иллюзии возникают не только после одной-двух
экспозиций, но и далее.
Но и независимо от этого соображения теория «обманутого
ожидания » все же должна быть проверена, и притом проверена, если возможно,
экспериментально; лишь в этом случае можно будет судить окончательно
о ее приемлемости.
Мы поставили специальные опыты, которые должны были разрешить
интересующий здесь нас вопрос о теоретическом значении переживания
«обманутого ожидания ». В данном случае мы использовали состояние
гипнотического сна, поскольку оно предоставляет в наше распоряжение
выгодные условия для разрешения поставленного вопроса. Дело в том, что
факт рапорта, возможность которого представляется в состоянии
гипнотического сна, и создает нам эти условия.
Мы гипнотизировали наших испытуемых и в этом состоянии провели
на них предварительные опыты. Мы давали им в руки обычные шары —
один большой, другой — малый и заставляли их сравнивать эти шары по
объему между собой. По окончании опытов, несмотря на факты обычной
постгипнотической амнезии, мы все же специально внушали испытуемым,
что они должны основательно забыть все, что с ними делали в состоянии
сна. Затем отводили испытуемого в другую комнату, там будили его и
через некоторое время, в бодрствующем состоянии, проводили с ним наши
критические опыты, т. е. давали в руки разные по объему шары с тем, чтобы
испытуемый сравнил их между собой.
Наши испытуемые почти во всех случаях находили, что шары эти
неравны, что шар слева (т. е. в той руке, в которую в предварительных опытах
во время гипнотического сна они получали больший по объему шар)
заметно меньше, чем шар справа.
Таким образом, не подлежит сомнению, что иллюзия может
появиться и под влиянием предварительных опытов, проведенных в состоянии
гипнотического сна, т. е. в состоянии, в котором и речи не может быть ни о
каком «ожидании». Ведь совершенно бесспорно, что наши испытуемые не
имели ровно никакого представления о том, что с ними происходило во
время гипнотического сна, когда над ними проводились критические
опыты, и «ожидать» они, конечно, ничего не могли. Бесспорно, теория
«обманутого ожидания » оказывается несостоятельной для объяснения явлений
наших феноменов.
1240
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
8. Установка как основа этих иллюзий. Что же, если не «ожидание»,
в таком случае определяет поведение человека в рассмотренных выше
экспериментах? Мы видим, что везде, во всех этих опытах, решающую роль
играет не то, что специфично для условий каждого из них, — не сенсорный
материал, возникающий в особых условиях этих задач, или что-нибудь иное,
характерное для них, — не то обстоятельство, что в одном случае речь идет,
скажем, относительно объема, гаптического или зрительного, а в другом —
относительно веса, давления, степени освещения или количества. Нет,
решающую роль в этих задачах играет именно то, что является общим для
них всех моментом, что объединяет, а не разъединяет их.
Конечно, на базе столь разнородных по содержанию задач могло
возникнуть одно и то же решение только в том случае, если бы все они в
основном касались одного и того же вопроса, чего-то общего, представленного в
своеобразной форме в каждом отдельном случае. И действительно, во всех
этих задачах вопрос сводится к определению количественных отношений:
в одном случае спрашивается относительно взаимного отношения объемов
двух шаров, в другом — относительно силы давления, веса, количества.
Словом, во всех случаях ставится на разрешение вопрос как будто об одной и той
же стороне разных явлений — об их количественных отношениях.
Но эти отношения не являются в наших задачах отвлеченными
категориями. Они в каждом отдельном случае представляют собой вполне
конкретные данности, и задача испытуемого заключается в определении
именно этих данностей. Для того чтобы разрешить, скажем, вопрос о величине
кругов, мы сначала предлагаем испытуемому несколько раз по два
неравных, а затем, в критическом опыте, по два равных круга. В других задачах
он получает в предварительных опытах совсем другие вещи: два
неодинаково сильных впечатления давления, два неодинаковых количественных
впечатления, а в критическом опыте — два одинаковых раздражения.
Несмотря на всю разницу материала, вопрос остается во всех случаях, по
существу, один и тот же: речь идет всюду о характере отношения, которое
мыслится внутри каждой задачи. Но отношение здесь не переживается в
каком-нибудь обобщенном образе. Несмотря на то, что оно имеет общий
характер, оно дается всегда в каком-нибудь конкретном выражении. Но
как же это происходит?
Решающее значение в этом процессе, нужно полагать, имеют наши
предварительные экспозиции. В процессе повторного предложения их у
испытуемого вырабатывается какое-то внутреннее состояние, которое
подготовляет его к восприятию дальнейших экспозиций. Что это
внутреннее состояние действительно существует и что оно действительно
подготовлено повторным предложением предварительных экспозиций, в этом
не может быть сомнения: стоит произвести критическую экспозицию
сразу, без предварительных опытов, т. е. предложить испытуемому вместо
1241
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
неравных сразу же равные объекты, чтобы увидеть, что он их
воспринимает адекватно. Следовательно, несомненно, что в наших опытах эти равные
объекты он воспринимает по типу предварительных экспозиций, а именно
как неравные.
Как же объяснить это? Мы видели выше, что об «ожидании» здесь
говорить нет оснований: нет никакого смысла считать, что у испытуемого
вырабатывается «ожидание» получить те же раздражители, какие он
получал в предварительных экспозициях.
Но мы видели, что и попытка объяснить все это вообще как-нибудь иначе,
ссылаясь еще на какие-нибудь известные психологические факты, тоже не
оказывается продуктивной. Поэтому нам остается обратиться к специальным
опытам, которые дали бы ответ на интересующий здесь нас вопрос. Это наши
гипнотические опыты, о которых мы только что говорили.
Результаты этих опытов даны в табл. 4 (в процентах).
Таблица 4
Реакция
16 испытуемых
+
82
—
17
__
1
Мы видим, что результаты эти в основном точно те же, что и в обычных
наших опытах (табл. 1), а именно: несмотря на то, что испытуемый, вследствие
постгипнотической амнезии, ничего не знает о предварительных опытах, не
знает, что в одну руку он получал больший по объему шар, а в другую меньший,
одинаковые шары критических опытов он все же воспринимает как
неодинаковые: иллюзия объема и в этих условиях остается в силе.
О чем же говорят нам эти результаты? Они указывают на то, что,
бесспорно, не имеет никакого значения, знает испытуемый что-нибудь о
предварительных опытах или он ничего о них не знает: и в том, и в
другом случае в нем создается какое-то состояние, которое в полной мере
обусловливает результаты критических опытов, а именно, равные шары
кажутся ему неравными. Это значит, что в результате предварительных опытов у
испытуемого появляется состояние, которое, несмотря на то, что его ни в
какой степени нельзя назвать сознательным, все же оказывается
фактором, вполне действенным и, следовательно, вполне реальным фактором,
направляющим и определяющим содержание нашего сознания.
Испытуемый ровно ничего не знает о том, что в предварительных опытах он получал
в руки шары неодинакового объема, он вообще ничего не знает об этих
опытах, и тем не менее показания критических опытов самым
недвусмысленным образом говорят, что их результаты зависят в полной мере от этих
предварительных опытов.
1242
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Можно ли сомневаться после этого, что в психике наших испытуемых
существует и действует фактор, о наличии которого в сознании и речи не
может быть, — состояние, которое можно поэтому квалифицировать как
внесознательный психический процесс, оказывающий в данных условиях
решающее влияние на содержание и течение сознательной психики.
Но значит ли это, что мы допускаем существование области
«бессознательного» и, таким образом, расширяя пределы психического, находим
место и для отмеченных в наших опытах психических актов? Конечно, нет!
Ниже, когда мы будем говорить специально о проблеме бессознательного,
мы покажем, что в принципе в широко известных учениях о
бессознательном обычно не находят разницы между сознательными и
бессознательными психическими процессами. И в том, и в другом случае речь идет о
фактах, которые, по-видимому, лишь тем отличаются друг от друга, что в одном
случае они сопровождаются сознанием, а в другом — лишены такого
сопровождения, по существу же содержания эти психические процессы
остаются одинаковыми: достаточно появиться сознанию, и бессознательное
психическое содержание станет обычным сознательным психическим
фактом.
Но в нашем случае речь идет не о такого рода различии между
сознательными душевными явлениями и теми специфическими процессами,
которые, будучи лишены сознания, протекают вне его пределов. Здесь
вопрос касается двух различных областей психической жизни, из которых
каждая представляет собой особую, самостоятельную ступень развития
психики и является носительницей специфических особенностей. В нашем
случае речь идет о ранней, досознательнои ступени психического
развития, которая находит свое выражение в констатированных выше
экспериментальных фактах и, таким образом, становится доступной научному
анализу.
Итак, мы находим, что в результате предварительных опытов в
испытуемом создается некоторое специфическое состояние, которое не
поддается характеристике как какое-нибудь из явлений сознания.
Особенностью этого состояния является то обстоятельство, что оно предваряет
появление определенных фактов сознания или предшествует им. Мы
могли бы сказать, что это состояние, не будучи сознательным, все же
представляет своеобразную тенденцию к определенным содержаниям
сознания. Правильнее всего было бы назвать это состояние установкой субъекта,
и это потому, что, во-первых, это не частичное содержание сознания, не
изолированное психическое содержание, которое противопоставляется
другим содержаниям сознания и вступает с ними во взаимоотношения,
а некоторое целостное состояние субъекта; во-вторых, это не просто
какое-нибудь из содержаний его психической жизни, а момент ее
динамической определенности. И, наконец, это не какое-нибудь определенное,
1243
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
частичное содержание сознания субъекта, а целостная направленность его
в определенную сторону на определенную активность. Словом, это,
скорее, установка субъекта как целого, чем какое-нибудь из его отдельных
переживаний, — его основная, его изначальная реакция на воздействие
ситуации, в которой ему приходится ставить и разрешать задачи.
Но если это так, тогда все описанные выше случаи иллюзии
представляются нам как проявление деятельности установки. Это значит, что в
результате воздействия объективных раздражителей, в нашем случае,
например, шаров неодинакового объема, в испытуемом в первую очередь
возникает не какое-нибудь содержание сознания, которое можно было бы
формулировать определенным образом, а скорее, некоторое
специфическое состояние, которое лучше всего можно было бы характеризовать как
установку субъекта в определенном направлении.
Эта установка, будучи целостным состоянием, ложится в основу
совершенно определенных психических явлений, возникающих в сознании.
Она не следует в какой-нибудь мере за этими психическими явлениями,
а, наоборот, можно сказать, предваряет их, определяя состав и течение
этих явлений.
Для того чтобы изучить эту установку, было бы целесообразно
наблюдать ее достаточно продолжительное время. А для этого было бы
важно закрепить, зафиксировать ее в необходимой степени. Этой цели
служит повторное предложение испытуемому наших экспериментальных
раздражителей. Эти повторные опыты мы обычно называем
фиксирующими или просто установочными, а самую установку, возникающую в
результате этих опытов, фиксированной установкой.
Чтобы подтвердить высказанные здесь нами предположения,
дополнительно были проведены следующие опыты. Мы давали испытуемому
нашу обычную предварительную или, как мы будем называть в
дальнейшем, установочную серию — два шара неодинакового объема.
Новый момент был введен лишь в критические опыты. Обычно в
качестве критических тел испытуемые получали в руки шары, по объему
равные меньшему из установочных. Но в этой серии мы пользовались в
качестве критических шарами, которые по объему были больше чем больший из
установочных. Это было сделано в одной серии опытов. В другой серии
критические шары заменялись другими фигурами — кубами, а в
оптической серии опытов — рядом различных фигур.
Результаты этих опытов подтвердили высказанное нами выше
предположение: испытуемым эти критические тела казались неравными —
иллюзия и в этих случаях была налицо.
Раз в критических опытах в данном случае принимала участие
совершенно новая величина (а именно шары, которые отличались по объему от
установочных, были больше, чем какой-нибудь из них), а также ряд пар
1244
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
других фигур, отличающихся от установочных, и тем не менее они
воспринимались сквозь призму выработанной на другом материале установки, то
не подлежит сомнению, что материал установочных опытов не играет роли
и установка вырабатывается лишь на основе соотношения, которое
остается постоянным, как бы ни менялся материал и какой бы чувственной
модальности он ни касался.
Еще более яркие результаты получим мы в том же смысле, если
проведем на этот раз не критические, как выше, а установочные опыты при
помощи нескольких фигур, значительно отличающихся друг от друга по
величине1.
Например, предлагаем испытуемому тахистоскопически,
последовательно друг за другом, ряд фигур: сначала треугольники — большой и
малый, затем квадраты, шестиугольники и ряд других фигур попарно в том
же соотношении.
Словом, установочные опыты построены таким образом, что
испытуемый получает повторно лишь определенное соотношение фигур: например,
справа — большую фигуру, а слева — малую; сами же фигуры никогда не
повторяются, они меняются при каждой отдельной экспозиции.
Надо полагать, что при такой постановке опытов, когда постоянным
остается лишь соотношение (большой — малый), а все остальное меняется,
у испытуемых вырабатывается установка именно на это соотношение, а не
на что-нибудь другое. В критических же опытах они получают пару равных
между собой фигур (например, пару равных кругов, эллипсов, квадратов и
т. п.), которые они должны сравнить между собой.
Каковы же результаты этих опытов? Остановимся лишь на тех из них,
которые представляют непосредственный интерес с точки зрения
поставленного здесь вопроса. Оказывается, что, несмотря на непрерывную
меняемость установочных фигур, при сохранении нетронутыми их
соотношений, факт обычной нашей иллюзии установки остается вне всякого
сомнения. Испытуемые в ряде случаев не замечают равенства критических
фигур, причем господствующей формой иллюзии и в этом случае является
феномен контраста.
Нужно, однако, отметить, что в условиях абстракции от конкретного
материала, т. е. в предлагаемых вниманию читателя опытах, действие
установки оказывается, как правило, менее эффективным, чем в условиях
ближайшего сходства или полного совпадения установочных и критических
фигур. Это, однако, вовсе не означает, что в случаях совпадения фигур
установочных и критических опытов мы не имеем дела с задачей оценки
соотношения этих фигур. Задача, по существу, и в этих случаях остается та же.
Ходжава 3. Фактор фигуры в действии установки// Труды Тбилис. гос. ун-та,
1941. Т. XVII.
1245
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Но меньшая эффективность этих опытов в случаях полной абстракции от
качественных особенностей релятов становится понятной сама собою.
Подводя итоги сказанному, мы можем утверждать, что вскрытые нами
феномены самым недвусмысленным образом указывают на наличие в
нашей психике не только сознательных, но и досознательных процессов,
которые, как выясняется, мы можем характеризовать как область наших
установок.
Основные условия деятельности
Мы должны исходить из мысли о наличии двух основных условий, без
которых акты поведения человека или какого-либо другого живого
существа были бы невозможны. Это прежде всего наличие какой-либо
потребности у субъекта поведения, а затем и ситуации, в которой эта
потребность могла бы быть удовлетворена. Это — основные условия
возникновения всякого поведения и прежде всего установки к нему. Нам
необходимо ближе познакомиться с этими условиями.
1. Потребность. В науке нередко приходится встречаться с термином
«потребность». Особенно часто используется он в экономических науках.
Здесь, однако, мы не думаем лишь о том значении, которое мыслится в
понятии потребности специально с позиций экономических наук. В данном
случае мы имеем в виду самое широкое значение этого слова — не только
экономическое. Если представить себе, что организм испытывает нужду в
чем-нибудь, например в экономическом благе, в какой-нибудь другой
ценности — практической или теоретической безразлично, в самой
активности или, наоборот, в отдыхе и т. п., то во всех этих случаях можно говорить,
что мы имеем дело с той или иной потребностью. Словом, как потребность
можно квалифицировать всякое состояние психофизического организма,
который, нуждаясь в изменениях окружающей среды, дает импульсы к
необходимой для этой цели активности.
При этом нужно помнить, что активность должна быть понимаема в
данном случае не только как прием, гарантирующий нам средства
удовлетворения потребностей, а одновременно и как источник, дающий
возможность непосредственного их удовлетворения.
Дело в том, что необходимо различать два основных рода
потребностей — потребности субстанциональные и потребности функциональные.
В первом случае мы имеем в виду потребности, для удовлетворения
которых необходимо что-нибудь субстанциональное, нечто, по получении
чего потребность оказывается удовлетворенной. Так, например,
состояние голода представляет собой пример определенной субстанциональной
потребности: для того, чтобы утолить голод, необходимо иметь, например,
хлеб.
1246
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Но эта категория еще не исчерпывает всех имеющихся у нас
потребностей. Как мы только что отметили, в живом организме намечается
стремление к тому или иному виду активности. В организме констатируется не
нужда в чем-либо субстанциональном: он стремится к активности как
таковой, он нуждается просто в самой деятельности. Это значит, что
естественное состояние живого организма вовсе не заключается в
неподвижности. Наоборот, живой организм находится в состоянии постоянной
подвижности. Он прекращает ее лишь временно и условно. Это — тогда,
когда организм принужден обратиться к отдыху, хотя, впрочем, и здесь
абсолютной приостановки деятельности у него никогда не бывает:
органические процессы и в этих случаях, как и во всех других, продолжают быть
активными. В зависимости от условий, в которых приходится жить
организму в каждый данный момент, у него появляется потребность к
деятельности и функционированию в том или ином направлении. Этого рода
потребности мы и называем функциональными потребностями1.
Эти две основные группы исчерпывают все богатства потребностей,
имеющихся у животных. Но они же служат основными категориями и тех
потребностей, какие появляются у человека по мере развития условий его
социальной, его культурной жизни. Культура порождает у него ряд новых
потребностей, и чем дальше она развивается, тем обширнее становится их
круг. В качестве примера потребности, которую можно было бы считать
чисто человеческой, можно назвать теоретическую потребность.
Правда, в литературе мы нередко имеем случаи, когда речь заходит
относительно таких, как я думаю, чисто человеческих признаков у животных, в
частности у обезьян, каким является, например, любознательность. Но, строго
говоря, нет оснований антропоморфизировать даже признаки высших
обезьян. Сейчас я хочу лишь отметить, что, бесспорно, в качестве
своеобразной группы потребностей, выработавшихся у человека, можно назвать
группу теоретических потребностей.
Но являются ли эти последние чем-либо новым, с точки зрения той
основной группировки потребностей, которую мы наметили выше?
Субстанциональной считать теоретическую потребность или функциональной?
Если мы вдумаемся в понятие теоретической потребности, мы найдем,
что речь идет здесь о случаях, в которых субъект, стоящий перед
теоретическим разрешением задачи, останавливается, прекращает соответствующие
манипуляции, к которым он прибегает в процессе работы над задачей, и
обращает ее, эту задачу, в специальный объект своего размышления. Вот,
собственно, перед нами момент объективации (о чем мы будем говорить ниже), за
которым начинается процесс теоретического отношения к задаче2.
Ср.:. Узнадзе. Д.Н. Психология ребенка, 1946.
Узнадзе Д. Н. Проблема внимания// Психология, 1947. Вып. 4.
1247
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Спрашивается: что мы имеем здесь? К какой категории можно отнести
потребность, которую мы стремимся удовлетворить в этом случае?
Конечно, говорить здесь о функциональных потребностях вряд ли
имеются основания. Акты теоретической мысли направлены, несомненно, не на
цель удовлетворения той или иной функциональной потребности. Они, эти
акты, нужны для вполне определенных целей, скажем, для разрешения
вопроса о том, в чем, собственно, заключается задача или какие правила было бы
целесообразнее всего применить при ее решении. Нет сомнения, что задача
теоретического отношения к предмету стоит несравненно ближе именно к этой
категории потребностей, чем к категории, функциональных потребностей. При
разрешении задач последней категории нет никакой нужды в теоретической
работе: наличная в этих случаях потребность вовсе не требует процессов
осознания, часто необходимых в случаях удовлетворения потребностей
субстанциональных. И в этом нет ничего удивительного, поскольку при
удовлетворении субстанциональных потребностей всегда может возникнуть вопрос, как и
в какой степени данный материал способен удовлетворить наличную
потребность. А это — уже вопрос, который требует осознания в теоретическом
плане, прежде чем взяться за его практическое разрешение.
Таким образом, теоретические потребности возникают лишь в помощь
нашим субстанциональным потребностям. Поскольку они рассчитаны
всегда на то, чтобы обеспечить удовлетворение этих последних, мы могли бы
сказать, что теоретические потребности представляют собой лишь
дальнейшее осложнение субстанциональных потребностей. Не касаясь сейчас
высших ступеней развития теоретического мышления, мы можем
утверждать, что оно — на начальных стадиях своего развития во всяком случае —
ничего иного не представляет, как форму дальнейшего осложнения
процесса удовлетворения субстанциональных потребностей.
Правда, мы знаем немало случаев действий, направленных на
удовлетворение функциональных потребностей. Но это бывает обычно лишь при
возникновении какого-нибудь из препятствий, затрудняющих нас при
выполнении актов, необходимых для удовлетворения этих потребностей. Однако
возникающая в данном случае задача — определить, что же является
причиной этих затруднений, — это уже задача вовсе не функционального характера.
Она является самостоятельной задачей, разрешение которой требуется в
данном случае в интересах субъекта, настроенного на удовлетворение
функциональных потребностей, но — не непосредственно, а лишь косвенно, как
необходимое условие для достижений его прямых целей.
Коротко говоря, в данном случае мы имеем дело с ситуацией, в
которой для осуществления прямых целей субъекта — удовлетворения его
функциональных потребностей — предварительно требуется разрешение
теоретической задачи — выяснения причин, затрудняющих
осуществление этих целей.
1248
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Таким образом, потребности теоретического характера могут иметь
место и в случаях удовлетворения функциональных потребностей, но от
этого сами они далеко еще не становятся потребностями
функционального содержания.
Итак, мы находим, что одним из основных условий активности субъекта
является наличие в нем какой-нибудь определенной потребности, которая
может быть субстанциональной или функциональной. На человеческой
ступени развития мы становимся свидетелями выступления нового вида
потребностей, т. е. теоретической потребности. Но анализ показывает,
что она относится, скорее, к категории субстанциональных, чем
функциональных потребностей.
2. Ситуация. Необходимым условием появления установки в
определенном направлении, кроме потребности, является и наличие
соответствующей ей ситуации. Если ее нет, то нет и установки: без наличия факта
совместного и согласованного воздействия ситуации и потребности на
субъект нет основания к тому, чтобы в этом последнем образовалась
установка и чтобы, следовательно, он был готов к действию.
Конечно, потребность может существовать и вне ситуации, делающей
возможным ее удовлетворение. Но в таком случае она не имеет
законченного, индивидуально определенного характера. Она получает его лишь в
результате воздействия наличной ситуации, могущей принести ей
удовлетворение: потребность конкретизируется, она становится
индивидуально определенной потребностью, удовлетворение которой возможно в
конкретных условиях данной ситуации лишь при наличии этой последней. Пока
такой ситуации нет, потребность продолжает оставаться
неиндивидуализированной. Но достаточно появиться определенной ситуации, нужной для
удовлетворения этой потребности, чтобы в субъекте возникла конкретно
очерченная установка и он почувствовал бы в себе импульс к деятельности
в совершенно определенном направлении.
Таким образом, для возникновения установки необходимо наличие
соответствующей ситуации, в условиях которой она принимает вполне
определенный, конкретный характер. Следовательно, объективным
фактором, определяющим установку, следует считать именно такого рода
ситуацию.
Мы видим, что установка создается не на основе наличия одной
только потребности или одной только объективной ситуации: для того чтобы
она возникла как установка к определенной активности, нужно, чтобы
потребность совпала с наличием ситуации, включающей в себя условия для
ее удовлетворения.
Здесь было бы интересно коснуться учения Левина о «побуждающем
характере» определенного круга представлений (Aufforderungscharakter).
Характер этот выступает, по его мнению, в случаях наших отношений к
40 Российская психология
1249
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
вещам и явлениям, в которых мы нуждаемся. Когда у нас возникает
какаянибудь потребность, то объекты или явления, имеющие к ней отношение,
приобретают некоторую силу по отношению к нам: они заставляют нас
действовать в определенном направлении, они призывают нас к определенным
актам деятельности: хлеб влечет голодного к тому, чтобы он схватил и съел
его; постель влечет усталого лечь в нее. Но эта побуждающая, эта
направляющая сила обнаруживается только в тех случаях, в которых субъект
имеет соответствующую потребность. Достаточно ее удовлетворить,
чтобы вещи и явления потеряли эту силу.
Это учение Левина интересно в том отношении, что оно представляет
собой результат правильного наблюдения, согласно которому вещи и
явления, когда они выступают компонентами ситуации удовлетворения
какой-нибудь актуальной потребности, действительно становятся как бы
силой по отношению к субъекту этой потребности: они как бы тянут его к
себе в буквальном смысле слова. Но это бывает лишь в тех случаях, когда
соответствующая потребность определенно имеется у субъекта. Левин в
этом случае дает фактическое наблюдение, которое соответствует
предположению о возникновении установки в определенном направлении лишь
у субъекта, имеющего определенную потребность, и при наличии
ситуации, необходимой для ее удовлетворения.
Итак, мы видим, что для возникновения установки в определенном
направлении требуются условия субъективного и объективного
характера: нужно наличие как потребности, так и ситуации, в которой она может
быть удовлетворена.
Это — два основных условия, которые абсолютно необходимы для
того, чтобы могла возникнуть какая-нибудь определенная установка.
Конечно, вне субъективных и объективных условий вообще никакой
активности не бывает. Но в данном случае мы утверждаем не только это. Здесь мы
хотели бы обратить внимание и на то обстоятельство, что необходимым и
действительным условием возникновения установки следует считать как
бы некоторое единство обоих этих условий. В нашем случае это единство
осуществляется в следующем: потребность, которая имеется в субъекте,
становится вполне определенной конкретной потребностью лишь после
того, как выясняется объективная ситуация в форме какой-нибудь
конкретной ситуации, предоставляющей субъекту возможность
удовлетворения данной потребности; оба момента — и ситуация, и потребность —
определяются как конкретные факты в связи друг с другом.
Заключение
Подведем итоги сказанному. На человеческой ступени развития мы
встречаемся с новой особенностью психической активности, с
особенно1250
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
стью, которую мы характеризуем как способность объективации. Она
заключается в следующем: когда человек сталкивается в процессе своей
активности с каким-нибудь затруднением, то он вместо того, чтобы
продолжать эту активность в том же направлении, останавливается на некоторое
время, прекращает ее с тем, чтобы получить возможность
сосредоточиться на анализе этого затруднения. Он выделяет обстоятельства этого
последнего из цепи непрерывно меняющихся условий своей активности,
задерживает каждое из этих обстоятельств перед умственным взором, чтобы
иметь возможность их повторного переживания, объективирует их,
чтобы, наблюдая за ними, решить наконец вопрос о характере дальнейшего
продолжения активности.
Непосредственным результатом этих актов, задерживающих,
останавливающих нашу деятельность, является возможность воспризнания
их как таковых — возможность идентификации их: когда мы
объективируем что-нибудь, то этим мы получаем возможность сознавать, что оно
остается равным себе за все время объективации, что оно остается самим
собой. Говоря короче, в таких случаях вступает в силу прежде всего
принцип тождества.
Но этого мало! Раз у нас появляется идея о тождественности
объективированного отрезка действительности с самим собой, то ничто не мешает
считать, что мы повторно можем переживать эту действительность в
любое число раз, что она за все это время остается равной себе. Это создает
психологически в условиях общественной жизни предпосылку для того,
чтобы объективированную и, значит, тождественную себе
действительность обозначить определенным наименованием, короче говоря, это
создает возможность зарождения и развития речи.
На базе объективированной действительности и развивающейся речи
развертывается далее и наше мышление. Это оно представляет собой
могучее орудие для разрешения возникающих перед человеком затруднений,
оно решает вопрос, что нужно сделать для того, чтобы успешно
продолжать далее временно приостановленную деятельность. Это оно дает
указания на установку, которую необходимо актуализировать субъекту для
удачного завершения его деятельности.
Но для того чтобы реализовать указания мышления, нужна
специфически человеческая способность — способность совершать волевые акты,
необходима воля, которая создает человеку возможность возобновления
прерванной активности и направления ее в сторону, соответствующую его
целям.
Таким образом, мы видим, что в сложных условиях жизни человека,
при возникновении затруднений и задержке в его деятельности, у него
активируется прежде всего способность объективации — эта специфически
человеческая способность, на базе которой возникают далее
идентифика40* 1251
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ция, наименование (или речь) и обычные формы мышления, а затем, по
завершении мыслительных процессов, и акты воли, снова включающие
субъекта в целесообразном направлении в процесс временно
приостановленной деятельности и гарантирующие ему возможность удовлетворения
поставленных им себе целей.
Объективация — специфически человеческая способность, и на ее базе
существенно усложняется и запас фиксированных у человека установок.
Нужно иметь в виду, что установка, опосредованная на базе объективации,
может активироваться повторно, в соответствующих условиях, и
непосредственно, без нового участия акта объективации. Она вступает в круг
имеющихся у субъекта установок и выступает активно, наряду с прочими
установками, без вмешательства акта объективации. Таким образом,
становится понятным, до какой степени сложным и богатым может сделаться
запас человеческих установок, включающих в себя и те, которые были
когда-нибудь опосредованы на базе объективации.
ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЯЗЫКА1
1. Всякая наука стремится к отражению тех закономерностей,
существование которых подразумевается в пределах изучаемого ею предмета —
определенного отрезка действительности.
Это одна из самых основных задач, вообще стоящих перед каждой
отраслью науки. Однако нельзя сказать, чтобы признание наличия такой
задачи, обоснование ее правомерности и соответствия одинаково легко
давалось всюду, для каждой отрасли науки. Сравнительно просто
решается вопрос в случае естественно-научных дисциплин. Они изучают
природу — объективную, совершенно независимую от человека сферу
действительности, — и нет ничего удивительного в том, что эта сфера действительности
является не хаотическим скоплением явлений, а их объективно
обусловленным, закономерным течением; нет ничего неожиданного и удивительного
в том, что явления объективной действительности или какого-либо ее
отрезка зависимы лишь друг от друга, и для объяснения закономерностей,
установленных в них, нет необходимости в помощи какого-либо фактора,
находящегося вне их; и это потому, что кроме них и за ними нет ничего
такого, где бы нужно было искать причины происходящих в них
изменений.
Зато этот вопрос можно считать совершенно законным по отношению к
так называемым общественным наукам. Конечно, как во всех науках, так и
здесь вопрос состоит в отражении закономерностей, существующих в
дей1 Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1966. С. 425-450.
1252
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ствительности: общественная наука тоже не сочиняет того, о чем говорит, она
также стремится к максимально достоверному познанию действительности и
тех закономерностей, которые считает закономерностями, возникшими в
пределах действительности. Но вот тут-то именно и возникает вопрос: по какому
праву общественная наука — нас в данном случае интересует, в частности,
языкознание, — по какому праву приписывает языкознание независимый
закономерный характер изменениям, происходящим в сфере языка. Дело в том,
что та область действительности, которую изучает языкознание, совсем не
является единой объективной, независимой от человека сферой
действительности, например такой, каковой является предмет исследования физики —
область физических явлений. Наоборот, то, что исследует языкознание, —
язык является лишь принадлежностью человека, лишь продуктом его
творчества: язык возник в обществе людей, и он не существует вне человека; в языке
не существует ничего такого, что бы не было сказано человеком, что бы не
было создано им. Гумбольдт говорит, что определение языка может быть лишь
генетическим. А именно, он — «вечно повторяемая работа духа, единственной
целью которой является — снабдить членораздельный звук способностью
выражения мысли ». Следовательно, как будто должно быть ясно, что мир
языковых явлений является производным, так сказать, зависимым миром, за
которым стоит человек, и все, что совершается в нем, совершается посредством
человека.
Но если это так, то будет совершенно справедливым спросить: как
возможно, чтобы происходящие в языковой действительности изменения
бьши обусловлены явлениями самой этой действительности и объяснялись
их взаимоотношением, тогда как за ними всегда стоит человек? По какому
праву мы подразумеваем, что язык сам имеет собственные, независимые
от человека закономерности и, следовательно, должна существовать
наука, которая для изучения языковой действительности может
удовлетвориться изучением фактов, существующих в ее пределах, тогда как эти
факты всегда подразумевают активность человека?
Совершенно очевидно, что без соответствующего ответа на этот
вопрос существование языкознания как независимой науки осталось бы
необоснованным, и не лишено интереса то, что этот вопрос впервые поставил
именно основатель языкознания Вильгельм Гумбольдт. Разумеется, это
было его большой заслугой перед языкознанием. Однако не меньшую
услугу оказал он этой науке и тем, что сумел найти, по существу,
правильный ответ на этот вопрос. Гумбольдт считает, что язык имеет свою
«внутреннюю форму», и те закономерности, которые языковед находит в жизни
языка и рассматривает в виде соответствующих грамматических форм,
должны определяться этой внутренней формой.
Таким образом, по мнению Гумбольдта, язык имеет свой собственный
внутренний принцип, и было бы неоправданно для понимания
закономер1253
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ностей, имеющихся в языке, выходить за его пределы и проводить
исследование вне их. Согласно этому, языкознание должно считаться совершенно
независимой наукой.
2. Однако теперь возникает вопрос: что такое эта внутренняя форма?
Что подразумевает Гумбольдт, когда говорит о ней? Интерпретатор
Гумбольдта, известный Штейнталь остроумно замечает: «Для Гумбольдта
внутренняя форма языка является ребенком, рожденным для высокого
назначения, но в его руках оставшимся навсегда слабым». И действительно, мы
видим, что хотя внутренней форме языка Гумбольдт отводит большую роль
(по его мнению, это она определяет независимость языковой
действительности), однако в конце концов ему все же не удается ясно раскрыть
содержание этого понятия. Можно сказать, что вопрос внутренней формы
языка и поныне остается в ряду неразрешенных вопросов.
Так что же такое внутренняя форма языка? В первую очередь
необходимо принять во внимание взгляд самого Гумбольдта. Правда, как
отмечает и Штейнталь, Гумбольдту трудно «определить, теоретически
фиксировать и отграничить» это понятие, однако это не означает, что относительно
этого последнего он не сказал ничего определенного. Наоборот,
наблюдения Гумбольдта относительно внутренней формы языка, в особенности в
отношении ее функции, ее места, ее структуры, безусловно, заслуживают
большого внимания, и мы не думаем, чтобы, не приняв их во внимание, было
бы возможно постижение настоящего содержания этого понятия.
Несмотря на это, ясного и четкого определения этого понятия, такого, которое бы
достаточно учитывало все то, что отмечено самим Гумбольдтом
относительно внутренней формы языка, у него все же нет.
Всякий язык состоит из огромного количества элементов, из отдельных
слов и частиц, так же как из множества правил их соединения и употребления.
Но, несмотря на эту многообразную пестроту, он все же является единым
целым, единым нерасчлененным живым организмом. Язык — не предмет, не
простой продукт; он больше сила (energeia), полностью индивидуальное
стремление, с помощью которого та или иная нация придает языковую
реальность мысли и чувству. Мы не можем схватить это стремление в
нерасчлененном, целом виде — оно проявляется лишь в отдельных результатах
своей активности, — и, наблюдая эти результаты, мы видим, что в случае
отдельного языка оно всегда действует своеобразно и в этом действии всегда
соблюдено какое-то однообразие, какая-та однородность. В этом однообразии
работы языковой энергии Гумбольдт видит форму языка. «Das in dieser Arbeit des
Geistes, den artikulierten Laut zum Gedankenausdruck zu erheben, liegende Beständige
und gleichförmige, so vollständig als möglich, in seinem Zusammenhänge aufgefasst und
systematisch dargestellt, macht die Form der Sprache aus »(5.264).
Таким образом, согласно Гумбольдту, формой языка вообще можно
назвать все то, в чем виден целостный характер того или иного языка. Она
1254
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
в первую очередь может быть наблюдаема извне: она может быть
представлена наглядно, например в виде грамматических форм —
фонетической, морфологической и синтаксической. В этом случае мы имеем дело с
внешними формами языка, сформировавшимися в звуке, или, просто,
с звуковыми формами.
Однако существует также внутренняя форма языка, которая не
представлена наглядно, не проявлена вовне, не имеет звукового состава, но сама
лежит в основе таких, проявленных вовне, форм, сама определяет их.
Правда, мы не можем «допустить существование внутренней формы там, где ей
не соответствует никакая фонетическая форма» (Штейнталь). Однако это
не означает, что «внутренняя форма» имеет свою твердую, неизменную
«внешность», «что каждая внутренняя форма имеет свое особое
выражение», «это может быть звук, но может быть и его прекращение или
временное отсутствие, может быть лишь качество или сила звука, может быть
готовая морфологическая форма, может быть простой порядок таких
форм». Форма не является выраженной вовне формой, звуковой формой;
она больше является тем, что должно считаться основой этой внешней
формы, что находится за ней или в ней самой, но не имеет звукового
построения, не построено из звукового материала1.
Дело в том, что материал языка, согласно Гумбольдту, составляет не
только звук. Он считает, «что материалом языка является, с одной
стороны, звук вообще, а с другой — единство чувственных впечатлений и
самодействующих движений духа, которые предшествуют составлению понятия с
помощью языка» (Гумбольдт, стр. 268). Если звук должен подразумеваться
в ряду явлений внешней природы, то относительно чувственных
впечатлений и самодействующего движения духа этого сказать нельзя: здесь мы,
конечно, имеем дело с явлениями внутренней природы. Если внешняя
форма языка связана с понятием звука, то естественно было бы думать, что
понятие внутренней формы должно иметь что-то общее с чувственными
впечатлениями и действием духа. Разумеется, это не означает, что
внутренняя форма является формой этих чувственных впечатлений и действия
духа. Нет, она так же не может считаться формой их самих, как и не
считается чувственно данной формой звуков.
Для понимания настоящей мысли Гумбольдта было бы более
уместно, если бы мы предусмотрели процесс возникновения слова так, как он
сам его представляет. Гумбольдт подчеркивает, что слово никогда не
является эквивалентом самого предмета, данного чувственно, что оно больше
является эквивалентом того, как отражает (auffasst) его субъект. Тогда путь
возникновения слова мы должны представить себе так: когда субъект
противопоставляется действительности, в нем — в случае поисков словесного
. Шпет Г. Внутренняя форма слова. 1927.С. 80.
1255
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
выражения — возникают два процесса, которые, правда, в
действительности являются не отдельными, независимыми друг от друга, выделенными
процессами, а единым процессом языкового творчества, однако для
научного анализа выглядят все же как отдельные процессы. Одним процессом
является настоящий, чистый, внутренний процесс — процесс отражения,
освоения объекта, подлежащего наименованию. Следовательно, он
должен считаться «интеллектуальной частью языка» (Гумбольдт), который в
результате дает понятие подлежащего объекта: «язык выражает не сами
предметы, а понятия относительно их, созданные духом в процессе
становления языка», — говорит Гумбольдт (стр. 356). Этот процесс не
является независимым процессом. Он протекает совместно с другим процессом,
как бы его другая сторона: он «предуготовляет ему своеобразное
духовное отражение предмета», а именно — наименованное понятие. Второй же
процесс — процесс, направленный вовне, — протекает на основе звукового
материала и проявляется в оформлении этого материала, т. е. в создании
соответствующего слова.
Таков, в представлении Гумбольдта процесс языкового творчества. Как
видим, он — единый, цельный процесс, но содержит два потока,
протекающих одновременно и вместе, один из которых отражает предмет в понятии
и предуготовляет его второму процессу; второй же, со своей стороны, для
предуготовления первому производит оформление звукового материала.
Первый из этих процессов — внутренний процесс, а второй проявляется в
оформлении звуков и, следовательно, является внешним процессом:
первый дает языку внутренние формы, второй создает его внешние формы.
Таким образом, мы видим, что для Гумбольдта внутренняя форма
языка является «интеллектуальной частью» языка, духовным отражением
объекта, его понятием, следовательно, представляет собой определенное
логическое содержание, которое процесс языкового творчества
«выставляет навстречу слову» («dem Wort entgegen bildet»).
Однако может ли интеллектуальная часть языка, понятие, выполнить
ту роль, которую Гумбольдт с самого же начала отводит понятию
внутренней формы языка? Если звуковые формы, которыми характеризуется тот
или иной язык, закономерности, представленные в них, определяются
внутренней формой этого языка, а эта последняя является
интеллектуальным содержанием, то очевидно, что для объяснения этих закономерностей
языкознанию придется выйти за пределы языка и изучать
интеллектуальное содержание. Ему придется взяться за дело тех наук, сферу
исследования которых составляют эти интеллектуальные процессы и факты; словом,
языкознание будет вынуждено для выполнения своего дела проникнуть в
сферу психологии и логики и использовать их понятия и методы.
Безусловно, напрасно было бы говорить о независимости такого языкознания.
Следовательно, понятие внутренней формы у Гумбольдта, поскольку оно
1256
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
является «интеллектуальным» понятием языка, совершенно не может
выполнить ту роль, для которой оно с самого начала же было призвано; оно не
обосновывает идею языкознания как независимой науки. Наоборот, оно
широко раскрывает двери в языкознание обоим противоположным
ложным направлениям — как логицистическому, так и психологистическому.
3. В недрах учения Гумбольдта о внутренней форме языка возникли две
попытки, имеющие значение для дальнейшего развития этого понятия, — одна
в направлении логики, другая — психологии. Первая принадлежит
Гуссерлю, вторая — Вундту.
Гуссерль, как известно, резко разграничивает друг от друга
выражение, значение и предмет в слове. Выражение является внешней формой,
которая разрабатывается в грамматике. Но одной грамматики
недостаточно, так же как недостаточно учения об отношениях предмета. Анализ
показывает, что грамматическим различиям соответствуют различия и в
сфере значения. Так, например, категорематическим и синкатегорематическим
понятиям, принадлежащим сфере выражения, согласно Гуссерлю,
соответствуют понятия независимого и зависимого значения. Следовательно,
наряду с обыкновенной грамматикой становится необходимым и «учение
относительно чистых форм значения» или, как говорит Гуссерль «чистая
грамматика». И вот, Гуссерль именно в этих чистых формах значения
видит то, что Гумбольдт называет внутренней формой языка.
Таким образом, сферу значения он считает доминантной сферой,
которая определяет и окончательно формирует внешние формы языка.
Чисто языковые закономерности, по существу, являются отражением
закономерностей, действующих в сфере значения, и языкознание, ставящее своей
целью исследование этих языковых закономерностей, вынуждено за
руководством обратиться к логике.
Как видим, гуссерлианское понимание внутренней формы языка не
обладает никакими преимуществами перед пониманием Гумбольдта: здесь
нет даже попытки обоснования идеи независимости языкознания.
Однако учение Гуссерля не совсем удовлетворительно и с другой
стороны. Дело в том, что, как отмечает Порциг, имеются случаи, когда
значение слова остается тем же, т. е. в сфере значения ничего не изменяется,
тогда как в языковом отношении подтверждаются чрезвычайно
существенные изменения. Например, когда одно и то же слово в одном случае
употребляется в качестве объекта, а в другом — как субъект, конечно, его
значение от этого не меняется, хотя с грамматической точки зрения мы имеем
дело с совершенно различными явлениями1. Кроме того, если внутреннюю
форму следует усматривать в идеальных отношениях чистых значений, то
Porzig W. Der Begriff der inneren Sprachform. «Indogerm. Forschungen». B. XLL,
1923. S. 154.
1257
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ясно, что может существовать лишь одна-единственная внутренняя
форма, так как сфера чистых значений может быть лишь одна. Но тогда все
языки должны иметь одинаковую внешнюю форму или же форма ни
одного языка не может быть определена внутренней формой.
На существенно отличающейся позиции стоит Вундт. Если Гуссерль при
установлении понятия внутренней формы языка совершенно игнорирует роль
субъекта, если он во всех попытках учитывания этой роли видит психологизм,
который, как бесплодное и вредное начинание, отрицает, Вундт, наоборот,
выступает против концепции идеальных форм языка, т. е. в первую очередь
против того, что Гуссерль, при установлении понятия внутренней формы
языка, считает именно существенным. Вундт говорит: «Конечно, понятие
внутренней формы языка в том смысле, в каком оно было выставлено
Гумбольдтом с самого же начала, является совершенно законным, весьма необходимым
понятием, к которому мы приходим при учитывании всех структурных свойств
и их взаимоотношений того или иного языка. Однако если мы хотим, чтобы это
понятие осталось действительно полезным, то мы должны совершенно
освободить его от понятий — все равно, существующих в действительности или
вымышленных, — подобных понятию идеальной формы, которыми должен
измеряться каждый отдельный язык и которые, начиная от Гумбольдта и
поныне, сопровождают это понятие. Наоборот, так же, как внешняя форма
языка бесспорно проявляется лишь в конкретном, действительно существующем
языке, точно так же под внутренней формой языка мы должны подразумевать
лишь сумму фактических психологических свойств и их взаимоотношений,
которая порождает определенную внешнюю форму, как свой результат»1.
Следовательно, язык оформляется духовным состоянием говорящего
субъекта, и для понимания закономерностей языка остается единственный
путь, путь психологического исследования. Как видим, идея независимости
языкознания, по существу, полностью отрицается, и понятие внутренней
формы языка, вопреки заявлению Вундта, в действительности предстает
как совершенно бесполезное и, следовательно, лишнее понятие. В самом
деле, для чего нужно понятие внутренней формы языка, если эта
внутренняя форма принадлежит не самому языку, а другой сфере
действительности, с которой язык непосредственно не имеет ничего общего?
Вундт, между прочим, не учитывает одного бесспорного наблюдения, на
которое обратил внимание еще Гумбольдт2. Он упускает из виду то
обстоятельство, что не существует и не мог когда-либо существовать говорящий
субъект так, чтобы он не находился под влиянием уже существующего языка.
Индивид не может говорить, если не существует языка, на котором он мог бы
говорить. Очевидно, закономерности этого языка предшествуют
психическо1 Wundt W. Völkerpsychologie. S. 440.
2 Humboldt W. Указ. соч. С. 249.
1258
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
му состоянию субъекта в момент речи, и, следовательно, невозможно, чтобы
они являлись его результатом, как думает Вундт (Порциг).
4. Если теперь мы окинем взглядом все рассмотренные выше
типичные учения относительно внутренней формы языка, то увидим, что, в
сущности, перед понятием внутренней формы языка ставятся по крайней мере
три требования, без выполнения которых было бы невозможно
формирование правильной концепции этого понятия. Первое, наиболее
существенное, требование таково: слово представляет собой единство значения и
звука, так сказать, синтез двух совершенно гетерогенных процессов,
и неизвестно, как становится возможным, чтобы эти два существенно
отличающихся друг от друга процесса вообще встречались и создавали
конкретное внешнее оформление языка. Концепция внутренней формы языка
была бы неприемлема, если бы она не смогла решить этот вопрос.
Кроме того, внутренняя форма языка должна быть именно формой
языка, она должна принадлежать языковой сфере, чтобы с ее помощью
было возможно объяснение языковых явлений. В противном случае она
была бы не формой языка, а явлением или фактором, взятым из чужой, по
существу, действительности, который, если бы даже имел свою форму или
сам представлял собой какую-либо форму, во всяком случае, был бы его
формой, а не формой языка.
Мы убедились, что ни одна из указанных выше теорий внутренней
формы языка не удовлетворяет этому требованию. Внутренняя форма
Гумбольдта и в особенности Гуссерля взята из сферы логической
действительности: она — форма выражения понятия и, следовательно, форма
логического содержания, а не собственная форма самого языка. Что из
того, что она может иметь большое значение в процессе формирования
языковых форм, что она может даже определять этот процесс! Несмотря на
это она, конечно, не может изменить свою природу — она все же останется
логической категорией.
То же самое можно сказать mutatis mutandis и относительно учения
Вундта. Кто скажет, что в процессе фактической речи состояние психики
субъекта не имеет значения! Кто скажет, что это состояние не влияет на
формирование внешних форм языка? Но разве из-за этого кто-нибудь
скажет, что это состояние превратилось в форму языка? Нет. Совершенно
очевидно, что если действительно существует внутренняя форма языка, то
она каким-то образом должна быть собственностью именно языковой
сферы, должна быть именно формой языка, а не логическим, психологическим
или другим каким-либо неязыковым содержанием.
Второе требование, которое также должно быть принято во внимание,
таково: бесспорно, что язык создан человеком, и, конечно, он нигде не
существует вне речи. Поэтому было бы совершенно необоснованно говорить
о настоящем языке и совершенно игнорировать это обстоятельство, т. е. не
1259
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
учитывать того, что язык дается в речи. Гумбольдт, конечно, не мог
оставить этот факт без внимания, и язык он определяет как работу духа,
(energeia). Но, с другой стороны, язык — не только речь, не только
активность субъекта, не только «энергия», но также и определенная система
знаков, которую уже в готовом виде застает каждый говорящий субъект и
без подчинения которой невозможна никакая речь. Гумбольдт
подчеркивает и это существенное значение языка, для него язык не только
«энергия», но и «эргон». Следовательно, в понятии языка одновременно
объединены два момента — момент психологический, который определяет язык
как речь, как «энергию», и момент логический, который нам представляет
язык, как собственно язык, объективно данную систему знаков, как
«эргон». Само собой разумеется, что понятие внутренней формы языка
можно было бы считать адекватным понятием лишь в том случае, если бы оно
соответственно учитывало оба эти момента — и психологический и
логический. В противном случае оно было бы односторонним и, следовательно,
ошибочным.
Как мы убедились, понятия внутренней формы языка, как Гуссерля,
так и Вундта, являются такими односторонними понятиями. То же самое
можно сказать и относительно Гумбольдта, поскольку его понятие
внутренней формы объявлено «внутренней интеллектуальной частью» языка.
Однако Гумбольдт, в противоположность окончательной дефиниции
этого понятия, все же пытается в процессе суждения о нем как-то отразить в
нем оба момента, как психологический, т. е. момент «энергии », так и
логический, т. е. момент «эргона». Это, безусловно, является большим
преимуществом его концепции. Но как только перед ним ставится вопрос
относительно конкретного раскрытия этого понятия, мы видим, что он также не
может избавиться от односторонности.
Таким образом, мы убеждаемся, что если понятие внутренней формы
языка — законное понятие, то тогда оно должно представлять собой нечто
такое, что будет в силе, во-первых, объяснить факт объединения, факт
синтеза значения и звуковой формы в слове; затем должно учесть двойную
природу языка — психологическую и логическую, и, наконец, оно само по
себе не должно быть ни тем, ни другим, но все же должно принадлежать к
языковой действительности.
Что может отвечать таким требованиям?
1. В повседневной речи человека давно замечен целый ряд факторов,
которые заставляют думать, что структура языка не исчерпывается только
лишь интеллектуальным и звуковым факторами. Без сомнения, обоим этим
факторам предшествует, третий, имеющий фундаментальное значение для
обоих.
а) Когда мы говорим на каком-либо определенном языке, нам
обыкновенно приходят в голову слова и формы этого языка, а не скажем,
родно1260
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
го языка, который, как правило, запечатлен в памяти намного прочнее, чем
какой-либо другой язык. Например, когда говорим по-русски,
находящиеся вокруг нас предметы всплывают в нашем сознании в виде русских слов.
Как только начнем говорить, скажем, по-английски, нож, например,
превратится в knife и выглядит как именно knife. Это обстоятельство играет
большую роль: безусловно, благодаря этому обстоятельству мы можем
говорить бегло и без смешения.
б) Замечено, что дети, говорящие на двух языках, — до того, пока
окончательно овладеют языком, — уже на втором году с матерью пытаются
говорить на одном языке, а с няней, говорящей на другом языке, — на
другом. Здесь интересно то, что дети редко путают друг с другом и
употребляют в своем контексте как отдельные слова, так и формы каждого из этих
языков, которыми они еще не совсем хорошо владеют.
Оба эти наблюдения ясно доказывают, что началу процесса речи
предшествует какое-то состояние, которое в субъекте вызывает действие сил,
необходимых для разговора именно на этом языке. Надо полагать, что в
этом случае субъект, пока он начнет говорить, заранее претерпевает
определенное изменение целостного характера, проявляющееся в установке на
действие в определенном направлении; после этого понятно, что в этом
одном направлении и развертывает он свою активность, — в наших
примерах — говорит на одном определенном языке. Короче, в этих наблюдениях
мы всюду имеем дело с установкой речи.
Однако правильно ли это предположение? В Институте психологии
давно выработан метод, с помощью которого производится фиксация той
или иной установки и, следовательно, имеется возможность проверить,
действительно ли мы имеем дело с установкой в случаях, подобных
вышеуказанным примерам. Если испытуемому для чтения тахистоскопически
предложить написанный латинским шрифтом ряд иностранных слов
(скажем, немецких) и затем, в качестве критического опыта, дать какое-либо
такое русское слово, которое не содержит ни одной специфической
русской буквы, то в таких случаях испытуемый, как правило, и это слово
читает латинской транскрипцией, т. е. как иностранное слово. Из последних
исследований 3. Ходжава известно, насколько закономерно проявляется
этот феномен. Основной смысл этих опытов состоит в следующем: если у
человека выработана достаточно фиксированная установка чтения на
одном из каких-либо языков, то он написанное на другом языке
(аналогичным шрифтом) воспринимает также согласно установке.
Аналогичные результаты дают опыты с установкой письма (А.
Мосиава). Обычным путем у испытуемого вырабатывается фиксированная
установка писать на определенном языке, а именно, ему диктуют ряд слов
определенного языка, и он записывает их. В критических опытах ему дают
слово другого языка; результат обыкновенно бывает таким: испытуемый
1261
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
это слово также воспринимает как слово, принадлежащее тому языку, на
котором была выработана установка, и пишет соответствующим шрифтом.
Таким образом, можно считать экспериментально установленным, что
языковая установка является бесспорным фактом и что эта установка дает
направление механизму речи на соответствующем языке, — в наших
опытах — механизму чтения и письма на данном языке. Или, говоря иначе:
можно считать установленным, что эта установка активизирует именно те
силы субъекта, которые нужны для чтения и письма на этом языке.
Таким образом, наше теоретическое предположение, согласно
которому в основе речи на каждом конкретном языке лежит соответствующая
языковая установка, нужно считать экспериментально доказанным.
Какое значение имеет это приобретение для нашего вопроса и что у
него общего с проблемой внутренней формы языка?
Мы видим, что в языке, кроме работы интеллекта и моторных
процессов, также обязательно принимает участие установка. Мы видим, в
частности, что беглый разговор на каком-либо языке — так, чтобы на каждом
шагу не было бы обязательным вмешательство сознания, — возможен лишь
благодаря участию установки: другой фактор совершенно исключен,
поскольку говорить о бессознательной работе интеллекта лишено смысла,
а упоминать здесь о звукомоторном процессе, конечно, никому даже не
пришло бы в голову. Без соответствующей установки мы не смогли бы
понастоящему говорить ни на одном языке: когда, например, у меня
появляется установка говорить по-русски, тогда, как было отмечено выше,
начинает действовать лишь механизм русского языка, становится актуальным
словарь и грамматика русского языка. Достаточно переключиться на
установку разговора на другом языке, чтобы положение сразу же изменилось и
чтобы не осталось и следа действия механизма русского языка: теперь —
вместо русской лексики и графики — моим сознанием овладевают лексика
и графика другого языка.
Ясно, что к формам какого языка обратимся мы в каждом частном случае
речи, это полностью определяется моей актуальной языковой установкой.
В этом смысле как будто становится бесспорным, что установка выполняет
именно ту роль, которую Гумбольдт отвел внутренней форме языка.
2. Однако какой конкретный вид принимает тогда проблема языка
вообще? Мы думаем, что рассмотрение этой проблемы должно
производиться в двух, отличающихся друг от друга аспектах: в более теоретическом и
более эмпирическом. Первый подразумевает точку зрения языкового
творчества, второй — точку зрения овладения существующим языком и речью
на этом языке. Фактически оба эти процесса — процесс творчества языка и
процесс овладения языком — протекают вместе, и разобщить их трудно:
мы не знаем такого периода в истории человека, когда бы он являлся
только субъектом языкового творчества и не располагал бы уже готовым в
ка1262
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ком-то объеме языком — без этого он вообще не смог бы говорить. Однако
теоретически все же необходимо и возможно представить такого
фиктивного человека и попытаться угадать, как должен был проходить процесс
языкового творчества в этом случае. Второй аспект — это реальный,
обыкновенный процесс, который сегодня проходит каждый человек, пока
превратится в говорящего человека. Правда, первый взгляд мало
соответствует действительности, однако он имеет большее принципиальное
значение, чем точка зрения эмпирически более реального процесса. И
поэтому наш вопрос в первую очередь должен быть рассмотрен с точки зрения
языкового творчества.
Каждое живое существо, в частности человек, вследствие импульса
какой-нибудь потребности и в аспекте этой потребности вынужден
установить определенное отношение с внешней действительностью. После
этого, согласно теории установки, у него, как у целого — субъекта этого
взаимоотношения, — возникает установка определенной активности и
последующая его активность, в частности и психологическая,
направляется этой установкой. То, как отражается внешняя действительность, к
которой он обращается, обусловлено его установкой. Это один из слоев
психической жизни, простейший слой, который является специфическим для
мира животных: ориентация животного в действительности протекает под
непосредственным руководством установки.
Психическая жизнь человека содержит второй, более высокий слой.
Когда вследствие какой-либо причины, например усложнения
потребности, ее удовлетворение задерживается или становится невозможным с
помощью непосредственного импульса установки, тогда субъект на
некоторое время останавливается, чтобы начать повторное осознание, скажем,
повторное восприятие предмета своего восприятия или других
психических процессов: он производит объективацию своего восприятия, или же,
как мы говорим в таких случаях, обращает внимание на предмет своего
восприятия. Начинается второй слой активности психической жизни —
переработка психических содержаний на более высоком уровне, уровне
объективации: повторное переживание уже пережитого на основе
установки, повторное восприятие объективированного содержания.
Понятно, что именно должно быть целью этого процесса повторного
осознания. В первую очередь, конечно, одно — а именно точно найти место
объективированного содержания в объективной действительности,
выяснить, где, в круг каких категорий нужно поместить его.
Мы увидели, что начало действия внимания субъекта, или
объективацию, вызывает та или иная задержка. Это означает, что человек в процессе
всякой своей активности, в частности и особенности в процессе труда,
вынужден противостоять непосредственному руководству импульса
актуальной установки и вместо продолжения активности обратиться к актам
объек1263
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
тивации. Поскольку активность человека, в особенности труд,
представляет собой явление социальной природы, поскольку она подразумевает
необходимость и возможность сотрудничества людей, естественно, что у
субъекта в случае задержки своей активности и объективации
соответствующих содержаний может возникнуть потребность — заставить и другого
объективировать то, объективацию чего производит сам, привлечь на то же
самое внимание и другого и тем самым сделать сотрудничество более
возможным и плодотворным. Ясно, что в таких условиях слово может
выполнить особенно большую роль. Мы не говорим, что с самого начала речь
зародилась именно так. Здесь мы хотим сказать лишь то, что в таких
условиях необходимость словотворчества должна была бы стать особенно
актуальной, поскольку, как мы убедимся ниже, в первую очередь и в
особенности лишь ему, слову, под силу стимулировать объективацию, лишь оно
может заставить другого также совершить объективацию того, что
объективирует сам субъект.
Таким образом, мы как бы оказываемся перед ситуацией
перворождения того или иного слова.
Мы видим, что необходимость в коммуникации вынуждает человека
найти звуковое выражение объективированного и затем осознанного им
содержания, выражение, которое смогло бы и в другом вызвать
объективацию такого же содержания. Каким должно быть это звуковое
выражение, следовательно, зависит от того, как отражено субъектом, в каком виде
осознано им то содержание, объективацию которого он должен
обеспечить посредством слова.
Возникает вопрос: как случается, что психическое отражение
предмета или вообще объективного положения вещей, определенное содержание
сознания, идея, вызывают в субъекте речи определенные звукомоторные
акты и формируются в определенных формах звукового материала, как
происходит, что идея связывается со звуком и в виде слова превращается в
одно неделимое целое? Ведь идея и звук — гетерогенные в своей основе
процессы! Как же делается возможным, что они встречаются друг с
другом и проявляются в слове в соединенном виде? Для теории установки этот
вопрос не представляет никакой трудности, поскольку, согласно одному
из основных положений этой теории, подтвержденному также и
экспериментально, не только воздействие самого объективного положения вещей
вызывает непосредственный эффект в субъекте в виде смены его
установки, но и воздействие идейных содержаний. Следовательно, ничто не
мешает нам считать, что достаточно воздействия хотя бы только идеи на
субъекта, чтобы в нем, в соответствующих условиях, проявилась
соответственная установка.
Однако если это действительно так, то, очевидно, процесс
словотворчества мы могли бы представить себе следующим образом: когда то или
1264
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
иное объективированное содержание окончательно формируется в виде
определенной идеи, оно, в случае потребности в коммуникации, начинает
воздействовать на субъекта и вызывает в нем определенную установку —
специфическое, целостное отражение этой идеи, оформленное на фоне
потребности в коммуникации, своеобразную модификацию личности,
модификацию, которая дает единый источник интеллектуального
содержания этой идеи и ее звукомоторного выражения. Слово, как расчлененное
единство идеи и зву ко моторной формы, является реализацией этой
специфической установки — языковой установки.
Основой его является языковая установка, обусловленная
объективированным содержанием и потребностью в коммуникации. Она определяет его,
как целое, она придает ему специфический звуковой вид, вообще — всю
внешнюю форму. Следовательно, можно сказать, что, в сущности, она является
тем, что выполняет роль так называемой «внутренней формы» языка.
Для примера назовем слово слон в санскрите. Как отмечает Гумбольдт,
здесь слона называют несколькими именами: иногда «дважды пьющим»,
иногда «двузубым», иногда «одноруким». Несомненно, что
множественность названий в этом случае должна объясняться тем, что по отношению к
одному и тому же предмету (например, слону) у человека могут быть
различные установки и, следовательно, он может его отражать в разных
аспектах, воспринимать по-разному. По мнению Гумбольдта, это
наблюдение указывает на то, что «слово является эквивалентом не чувственно
данного предмета, а эквивалентом его отражения — в определенный
момент нахождения слова» и что оно олицетворяет не сам предмет, а
понятие. Гумбольдт убежден, что факт обозначения одного и того же предмета
различными словами должен быть объяснен именно этим (стр. 356).
Это замечание Гумбольдта безусловно правильно. В основе разности
наименования предмета действительно лежит разность отражения. Однако этого
замечания недостаточно. Дело в том, что, во-первых, отражение само
представляет собой вторичное явление и, следовательно, оно, в свою очередь,
нуждается в объяснении. С другой же стороны, оно определяет качество слова не
непосредственно, а лишь с помощью установки, которую в результате своего
воздействия оно вызывает в субъекте, дающем наименование.
Следовательно, можно считать окончательно установленным, что
слово определяется не тем или иным частным психическим содержанием —
тем или иным концептом или идеей, — а самим субъектом, имеющим ту
или иную установку; «внутреннюю форму» слова создает не
«интеллектуальная часть» языка (Гумбольдт) или то или иное психическое содержание
(Вундт), а установка.
3. До сих пор мы говорили о языковом творчестве. Но в реальной
действительности, в которой мы живем, язык с самого же начала дан в готовом
виде. Поэтому здесь вопрос может касаться лишь использования уже
су1265
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ществующего языка — его изучения и употребления, когда появляется
необходимость этого, и его понимания, когда мы выступаем в роли
пассивного субъекта речи — слушателя. Процесс возникновения речи в своих
начальных фазах здесь такой же, как и в случае языкового творчества.
Различие касается лишь одного: если при языковом творчестве мы должны
пользоваться лишь продуктами собственного творчества, здесь в нашем
распоряжении находится богатый, завершенный языковый запас,
накопленный на протяжении многовекового прошлого всей нации, и вопрос
может касаться лишь использования этого запаса.
Как нам это удается? Само собой разумеется, что, для того чтобы
говорить на каком-либо языке, необходимо знать этот язык, необходимо
изучить его. Именно поэтому в первую очередь должны быть освещены
вопросы усвоения языка. Как ребенок усваивает язык, как овладевает им?
Здесь нас, конечно, интересует вопрос усвоения не иностранного, а
родного языка.
Согласно гениальной формуле Гумбольдта, «усвоение ребенком
языка — это не примерка слов, не укладывание их в памяти и затем их
выговаривание губами, а рост способности языка благодаря возрасту и
упражнению. Услышанное делает больше, чем только то, чтобы быть переданным
кому-либо; оно придает способность духу лучше понять то, чего он еще не
слышал; оно внезапно освещает услышанное раньше, но понятое тогда лишь
наполовину или вообще не понятое, поскольку развившаяся за это время
сила сразу замечает сходство между услышанным сейчас и раньше»1.
И действительно, результаты научного изучения развития языка
ребенка, так же как и результаты каждодневного наблюдения, ясно показывают,
что это именно так, что в процессе изучения языка ребенок усваивает больше
того, чему его обучают. Кто не замечал, что ребенок в один прекрасный день
начинает правильно употреблять такие слова, что диву даешься — откуда у
него они берутся, употребляет совершенно правильно такую форму, что
бываешь поражен. Конечно, если бы он никогда не слышал этих слов или если бы
никогда не был свидетелем использования этих форм в речи, он бы никогда не
смог обратиться к ним. Но бесспорно, что то, что до того было совершенно
непонятным для него, сейчас сразу становится настолько доступным, что даже
входит в сокровищницу его активной речи.
Ясно, что вопрос касается не самих форм и слов — усвоения этого
языкового материала, а чего-то другого, находящегося глубже в его
существе, такого, на основе чего возникновение этих форм и слов происходит
как бы само собой, — той стороны речи, которая более существенна, чем
проявленный материал речи — ее правила, ее формы и ее лексический
состав. Очевидно, для того чтобы этот глубинный слой созрел, окреп и начал
1 Humboldt W. Указ. соч. С. 285.
1266
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
действовать, необходимо повторное воздействие проявленного материала
языка; следовательно, процесс усвоения языка в первую очередь нужен не
для того, чтобы этот материал накопился в памяти или чтобы зародились и
укрепились как можно более ясные связи между этими элементами, как
сказала бы всякая ассоциационистическая теория. Коротко говоря, мы бы
не могли не сказать, что в процессе изучения ребенком языка основное
значение имеет развитие фактора, который не проявляется в материале
языка, но лежит в его основе и создает его. Говоря языком Гумбольдта, мы
бы не ошиблись, сказав, что процесс изучения языка, по существу, состоит
в овладении внутренней формой языка.
Следовательно, усвоение языка — процесс преобразования самого
субъекта как целого: свою реализацию он находит в развитии и
уточнении языковой установки субъекта.
Здесь, в этом контексте, нет необходимости со всех сторон
рассматривать процесс усвоения языка: для нас достаточно увидеть, что в нем —
в процессе усвоения языка — установка принимает значительное участие.
Согласно этому, мы можем сказать, что у ребенка, в результате усвоения
языка, вырабатывается соответствующая языковая установка. Конкретно
это означает, что в результате многократного воздействия форм и слов
данного языка в нем происходит фиксация соответствующей установки и
поэтому, когда у него возникает задача речи и он в той же или иной ситуации
что-то должен сказать, у него вместо, так сказать, первого возникновения
соответствующей установки и ее проявления в каком-либо оригинальном
слове или форме возникает фиксированная установка, которая находит
свою реализацию в использовании изученных слов и форм: субъект
использует материал того языка, который он усвоил с детства.
Очень интересен и очень показателен анализ процесса понимания
языка с точки зрения теории установки. Замечательно, чрезвычайно глубоко и
в то же время художественно определяет этот процесс тот же Гумбольдт:
«Беседу никогда нельзя сравнивать с передачей какого-либо предмета.
В слушателе, как и в говорящем, она должна развиться из собственной
внутренней силы, и то, что получает первый, является лишь гармонически
звучащим возбуждением» этой силы. «Слыша то или иное слово, никто не
мыслит именно то и точно то, что мыслит другой... Поэтому всякое
понимание в то же время является и непониманием, всякое согласие в мыслях и
чувствах в то же время является несогласием»,— говорит Гумбольдт.
Как видим, он особо отмечает два момента: 1) беседуя друг с другом,
мы посредством слова не передаем друг другу готовую мысль, а только
возбуждаем в слушателе внутреннюю силу, которая создает
соответствующее понятие; 2) это понятие всегда индивидуально: оно — не совсем то,
что подразумевает говорящий, хотя было бы ошибкой думать, что оно
существенно отличается от него.
1267
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Это наблюдение Гумбольдта, как и многие другие, заслуживает
особого внимания. Мы видим, что он совершенно не согласен с утверждением
ассоциационизма, будто бы слово является знаком, представление
которого вызывает репродукцию связанного когда-то с ним представления,
и что будто бы именно это является тем, что лежит в основе процесса
понимания речи. Однако концепция Гумбольдта не идет дальше признания
негативного значения этого наблюдения; она не может показать, чем в
сущности и конкретно является эта «внутренняя сила», в которой слово в
первую очередь вызывает изменения и которая, следовательно,
подтверждает возможность коммуникации.
Поэтому остается непонятным и второе его наблюдение: будто бы
значение слова всегда индивидуально, но в определенных границах, т. е. будто
все по-своему понимают значение каждого слова, но в то же время все же
подразумевают одно и то же, словом, будто бы значение слова и
индивидуально, и в определенных границах общо. Первый член этого противоречия — факт
индивидуальности языка, как отмечено выше, Гумбольдт объясняет тем,
что человек наименовывает не предмет, а свою концепцию об этом
предмете, понятие, которое у каждого индивида свое, специфическое. Однако люди
никогда бы не поняли друг друга и речь была бы невозможна, «если бы в
различии отдельных людей не было бы скрыто единство расщепленности
человеческой природы на обособленные индивиды» (стр. 284). Как видим,
Гумбольдт объясняет слово как факт единства противоположностей
двумя совершенно различными принципами, не имеющими между собой
ничего общего. Взгляд Гумбольдта в этом случае вкратце можно было бы
передать так: каждый человек своеобразно воспринимает всякое слово, однако
эта особенность не заходит далеко, поскольку все они — люди, а природа
человека едина; поэтому-то слово лишь в определенных границах носит
индивидуальный характер.
Конечно, было бы правильнее, если бы Гумбольдт нашел один
принцип, которого было бы достаточно для объяснения этой двойственности
природы языка — индивидуальности и общности, так же как и тех
особенностей «механизма» понимания языка, которые даны в его первом
наблюдении. Дело в том, что в обоих случаях Гумбольдт отмечает существенные,
т. е. вытекающие из сущности языка, его особенности. Ясно, что они
должны быть выведены из одного принципа и объяснены одним принципом.
Гумбольдт мог бы сказать, что в этом случае мы имеем дело с внутренней
формой языка, что именно она делает понятным все отмеченные здесь
особенности. Однако мы знаем, что это понятие, как его понимает
Гумбольдт, совершенно бессильно выполнить ту роль, которую он отводит ему.
Когда человек выступает в роли слушателя, слово у него в первую
очередь актуализирует установку, фиксированную у него в результате
многократного воздействия этого же слова в прошлом. На основе этой установки
1268
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
у него возникает соответствующее психическое содержание, которое он
переживает как значение слова. Это означает, что он понял слово.
Как видим, слово, в котором говорящий подразумевает определенное,
конкретное содержание, передает слушателю это содержание не прямо, а в
первую очередь пробуждает в последнем определенную установку; и затем,
на основе этой установки, возникает определенное психическое содержание,
которое переживается в качестве значения услышанного слова.
Следовательно, беседу действительно нельзя сравнить с передачей какого-либо предмета
из одних рук в другие. Но если это так, т. е. если слово в слушателе в первую
очередь возбуждает не психическое содержание, а установку, то тогда
понятно, что «при слушании того или иного слова никто не мыслит именно и точно
то, что другой ». Значение слова, как определенное психическое содержание,
является реализацией установки, возбужденной посредством слова. Однако
установка всегда является более или менее генерализованным процессом1:
ее реализация в психике и, возможно, в поведении в определенных границах
различна; следовательно, становится само собой понятно, что слушатель
никогда не мыслит именно и точно то, что говорящий, что понимание (по словам
Гумбольдта) в то же время является и непониманием и «согласованность —
несогласованностью». Таким образом, мы видим, что слово всегда
индивидуально, поскольку оно является реализацией установки.
Однако понимание было бы невозможно, если бы слово в слушателе
возбуждало совершенно другую установку, чем та, которая фиксирована в
нем. Следовательно, то, что слово общо, что всеми понимается
одинаково,— это тоже объясняется понятием установки.
Таким образом, если подразумевать, что слово возбуждает
фиксированную установку, то станет ясным, во-первых, что посредством слова
слушателю передается не определенная мысль, содержание, а в нем возникает
какой-то процесс, который определяет переживание значения слова; и,
вовторых, что, с одной стороны, это значение у каждого субъекта
своеобразно, но, с другой стороны,— все же общо с другими. Отсюда становится
понятным факт «единства противоположностей» в слове.
Таков «механизм» человеческой речи как в случае языкового
творчества, так и при разговоре на уже знакомом готовом языке. Мы видим, что
установка здесь всюду играет большую роль. А это означает, что корни
всех значительных особенностей языка мы должны искать в целостном
модусе актуального бытия человека — в установке субъекта. Очевидно,
что если действительно где-то существует то, что Гумбольдт называл
внутренней формой языка, как первичный фактор, который изнутри с самого
же начала определяет все проявленные особенности языка, то его следует
Узнадзе Д. Основные положения теории установки// Труды Тбил. гос. ун-та. Т. II
(груз,).
1269
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
предполагать в установке говорящего субъекта. Однако мы должны
помнить, что установка ни в коем случае не является чисто субъективным
состоянием; наоборот, она представляет собой сцецифическое целостное
отражение, именно, некий процесс объективных обстоятельств ситуации,
так сказать, голотоксический процесс, в котором субъект впервые приходит в
соприкосновение с объектом и воспринимает его в его сущности. В противном
случае мы имели бы дело с чисто субъективистским, идеалистическим
понятием, которое оказалось бы совершенно беспомощным перед теми
большими задачами, разрешение которых возложено на понятие внутренней
формы языка.
Ус Ус Ус
1. Однако если конкретное содержание внутренней формы языка мы
должны подразумевать в установке, то ясно, что понятие установки
должно учитывать все те требования, которые, как было отмечено выше,
предъявляются правомерной концепции внутренней формы языка.
Понятие внутренней формы языка должно сделать понятной
проблему Гумбольдта — проблему единства значения и звука в слове, проблему
«единства единств», т. е. проблему «синтеза синтезов». Звук и значение —
два гетерогенных содержания. Каким образом возможен факт их встречи,
объединения в слове? Как было отмечено выше, эта проблема не решена ни
в концепции Гумбольдта, ни в концепциях Гуссерля или Вундта.
Как решает ее концепция внутренней формы языка, исходящая из
понятия установки? Если мы признаем факт участия установки в языке, путь
решения проблемы с самого же начала станет ясным. Дело в том, что
установка является характеристикой субъекта, как целого. Следовательно, она —
фактор, одинаково определяющий все, что исходит от субъекта, каждый
вид и форму его активности, в частности, как чувственную, так и
интеллектуальную. Иначе, это означает, что в своей основе всякий поток активности
человека один и тот же, поскольку все они исходят от установки и все они
являются ее реализацией.
В частности, в случае языка вопрос решается так: когда у субъекта на
основании потребности в коммуникации вырабатывается какое-то
понятие или идея, у него появляется определенная языковая установка, т. е.
готовность начать говорить на определенном языке, и затем, как
реализация этой установки, возникает определенная звуковая целостность,
определенное слово. Как видим, слово и значение опосредствуются
установкой, основой их объединения, синтеза является установка.
Таким образом, понятие установки делает понятным факт «синтеза
синтезов», факт возникновения внешних форм на основе внутренней
формы. Это является большим преимуществом, которое, безусловно, имеет
понятие установки перед другими понятиями внутренней формы языка.
1270
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
2. Однако преимущество понятия установки перед другими
концепциями внутренней формы языка состоит не только в этом; понятие
установки имеет и второе преимущество — преимущество, не менее
значительное, чем то, о котором только что говорилось. Когда мы знакомились
с различными типичными учениями о внутренней форме языка, мы уже
останавливалась на том, что каждое из этих учений под внутренней
формой языка подразумевало содержания, взятые из неязыковой сферы, —
чисто логическое или психологическое,— и, постольку, фактически
отрицало независимость языкознания, как науки. И это тогда, когда
основной смысл введения понятия внутренней формы языка с самого же
начала заключался именно в том, чтобы с ее помощью стало возможным
обоснование независимости языковой действительности. Как мы знаем,
от этого недостатка несвободна даже концепция самого Гумбольдта —
во всяком случае, в том виде, как эта последняя отражена в
окончательном определении понятия. Одним словом, можно сказать, что до сих пор
не удалось найти такой фактор, чтобы он не был по существу чуждым для
языка и в то же время мог бы определить его внешние формы. И вот,
второе преимущество понятия установки мы должны искать именно в этом
направлении.
Дело в том, что установка, как это не раз было отмечено1, является не
переживанием частного характера или же каким-либо определенным
моторным актом субъекта; она является специфической модификацией
субъекта как такового, т. е. как целого, и поэтому не имело бы смысла
представить ее в виде интеллектуального или другого какого-либо
психического процесса. Зато она выражает целостную готовность субъекта к
определенной активности. Поэтому нельзя сказать, что установка во всех случаях
обозначает понятие одного и того же содержания: без сомнения,
установка и та активность, в которой сна реализуется, существенно связаны друг с
другом, и понятно, что в каждом отдельном случае мы говорим об
установке той или иной активности.
В случае нашей задачи вопрос касается речи. Следовательно, нам
ничто не мешает, наоборот, все толкает к этому — считать установку не
чуждой языку реальностью, а видом действительности, имеющим свое
определенное место именно в языковом мире. Но если это так, если, с другой
стороны, язык со всеми особенностями строится на основе установки, то
бесспорно, что фактор, определяющий языковые закономерности, мы
должны подразумевать не за пределами сферы языка, а внутри, в недрах
самого языкового мира. Следовательно, концепция внутренней формы
языка, опирающаяся на понятие установки, дает возможность признать
языкознание независимой, самостоятельной наукой.
Узнадзе А- Психология. Гл. III.
1271
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Таким образом, две чрезвычайно важные особенности установки —
с одной стороны, ее целостный характер, а с другой — существенность ее
связи с той активностью, по отношению к которой она является
установкой,— подтверждают мысль, что конкретное содержание внутренней
формы языка мы должны подразумевать именно в установке.
3. Однако имеется и третье требование к внутренней форме языка —
ей должно быть под силу сделать понятным факт объединения в языке двух
противоположных моментов — психологического и логического. Что дает
нам понятие языковой установки в этом отношении? Иными словами,
перед нами стоит вопрос об отношении языка, как объективного и
логического, и речи, как субъективного и психологического, — вопрос об основах их
объединения в понятии языка (в широком смысле). Этот вопрос, как
вопрос о взаимоотношении языка и речи, был поставлен еще Гумбольдтом
(язык как «энергия» и как «эргон»). Несмотря на это, он и поныне не
считается окончательно решенным.
И действительно, что такое язык? Является ли он лишь названием,
обозначающим единство фактов речи, и, следовательно, не является ничем
реальным, а только научной абстракцией, или же он действительно
является объективно существующей реальностью, не имеющей ничего общего с
субъектом и отдельными процессами, происходящими в нем?
Попытка научно обосновать возможность первого решения вопроса
принадлежит Герману Паулю, а второго — Фердинанду Соссюру.
Ипсен так характеризует учение Пауля по этому вопросу:
«Своеобразным элементом языка всегда и всюду является особая парная связь
представлений звука и содержаний представления. Однако его единственной
действительностью является совокупность всех индивидуальных
выражений; по существу, язык не является ничем иным, кроме совокупности
проявлений языковой активности всех индивидов в их взаимном влиянии». От
этого надо отличать носителей языка, «организмы индивидуального
представления», которые составляют образования совокупности всего
когдалибо сказанного или услышанного и включены в длительный процесс
изменения: «чрезвычайно сложные психические образования... многократно
переплетенных друг с другом групп представлений, которые даны в
готовом виде бессознательно и актуализируются в речи»1. Таким образом,
язык, согласно Паулю, должен быть выведен из речи. На самом деле
существует только говорение, т. е. акт речи, то же, что можно было бы назвать
языком в узком значении этого слова, — сравнительно длительный
«организм представлений» в субъекте, — выведен из совокупности актов речи,
как ее результат. Он находится в такой зависимости с этой последней, «как
представление памяти с актуальной связью представлений» (Ипсен).
Ipsen S. Gespräch und Sprachform. «Blätter der deutschen Philosophie». B. 6. S. 57.
1272
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Концепция языка Пауля, в сущности, даже не касается настоящей
проблемы или же, в лучшем случае, лишь односторонне решает ее. Поэтому
неудивительно, что сегодня редко кто серьезно ее учитывает. Пауль все
внимание направляет на обоснование языка как акта, как речи, а второй
член проблемы, более важный и непонятный, — вопрос о собственно языке
он оставляет почти нетронутым. Действительно, в этой концепции
остается совершенно необъяснимым, как и почему переживается «единство
сказанного и услышанного» членами определенной группы, несмотря на
различие их речи, все-таки как одно и то же. Как и почему законы и правила
языка зависят не от речи или говорящего субъекта, а, наоборот, речь и
говорящий субъект зависимы от законов и правил языка?
Единственное, имеющее для нас значение, из того, что Пауль говорит о
языке, это то, что, по его мнению, носителем языка должны считаться
«организмы подсознательных представлений », которые проявляют свою активность
в виде речи. Все, что общо и обязательно в языке, что принуждает переживать
его как объективную и не зависящую от нас реальность,— все это мы должны
искать в сфере этих «организмов бессознательных представлений ». Но дело в
том, что они, как остатки когда-то актуальной речи, существенно ничем не
отличаются от обыкновенных явлений речи и не содержат ничего такого, что
сделало бы понятным, почему язык имеет объективный, стоящий выше
говорящего субъекта, не зависящий от него, обязательный для всех характер.
Несмотря на это, одно все же ясно и отчетливо показано в учении Пауля, именно
то, что язык действительно исходит лишь из отдельных случаев речи, что
какой бы общей и обязательной природой ни обладал язык, он не является ничем
иным, кроме совокупности «сказанного и услышанного». Однако как и
почему язык, несмотря на это, все же существенно отличается от речи,— этот
вопрос Пауль оставил нетронутым.
Зато Соссюр преимущественно касается именно второго члена
проблемы — языка. Он в первую очередь заинтересован вопросом: что устанавливает
в хаотическом многообразии речевых явлений определенный порядок и
единство? В речи его интересует этот момент порядка и единства, т. е. язык в узком
значении этого слова. Он отмечает, что расчлененные звуковые знаки
находятся в неразрывном взаимоотношении и определяют друг друга, в результате
чего намечается сфера самодовлеющих, независимых связей форм,
зарождается то, что называется языком (langue). Понятно, что язык, как сфера
взаимоотношения знаков, определяющих себя как независимая, основанная на себе
сфера форм, не учитывает индивида. Зато этот последний вынужден в каждом
частном случае речи безоговорочно подчиниться требованиям и нормам
языка, как своеобразной системы порядка.
Таким образом, речь, согласно концепции Соссюра, совершенно
лишена независимости: она не является ничем, кроме простей манифестации
Языка.
1273
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Значительной заслугой Соссюра должно считаться то, что он
подчеркнул факт языка как объективную реальность, не зависящую от
индивидуальной речи. В настоящее время никто не сомневается, что язык
действительно является такой реальностью. Однако это совсем не означает, будто
бы речь, как индивидуальный, психологический процесс, не имеет никакой
ценности при рассмотрении проблематики языка. Недостаток Соссюра, как
и Пауля, заключается именно в этой односторонности. В концепции как
одного, так и другого между языком и речью проложена непроходимая
пропасть, и оба пытаются углубить эту пропасть, но один углубляет ее со
стороны речи, а другой — со стороны языка.
Ипсен совершенно справедливо замечает в отношении обеих этих
концепций: «Обе попытки решения вопроса несостоятельны: они не
учитывают бесспорного факта языкового мира. Более того, в последующем
протекании процесса мышления они частично сводят на нет друг друга.
Невозможным кажется выйти из речи и создать правомерное понятие
языка, так же как и наоборот — совершенно невозможно, исходя из понятия
языка, прийти к речи »1.
Несмотря на правомерность этого замечания, попытка самого Ипсена
решить вопрос языка и речи, можно сказать, по существу стоит перед такой же
трудностью, какую он же отметил в отношении концепций Пауля и Соссюра.
«Мы исходим из следующего положения,— говорит он.— Речь и язык не
могут быть каким-либо образом сведены друг к другу, каждое из них является
существенно своеобразной и самостоятельной реальностью» (стр. 61). Поэтому
языковая действительность в каждый данный момент должна быть
рассмотрена или как язык, или как речь и ни в коем случае как то и другое
одновременно. Если мы будем исходить из формы языка, то языковая действительность
предстанет в виде осуществления, или «эргона», если же — из речи, то она
будет понята как категория процесса, или «энергии ».
Одним словом, Ипсен думает, что язык и речь представляют собой
противоположные моменты, однако оба входят в понятие языковой
действительности как ее диалектические члены. Как видим, языковая сфера в
концепции Ипсена является не единством противоположностей,
существующих реально, а, соответственно тому, с какой точки зрения посмотрим на
нее, предстает перед нами целиком или в виде продукта («эргон»), или в
виде процесса («энергия»). Таким образом, поскольку Ипсен с самого же
начала признает факт существования непреодолимой пропасти между
языком и речью, он бессилен объединить их хотя бы как диалектические члены
в понятии единства языковой сферы: язык и речь фактически остаются
чуждыми друг для друга, и простой факт языковой действительности опять
остается необъясненным и непонятым.
Ipsen S. Указ. соч. С. 60.
1274
ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
4. Посмотрим теперь, какой вид принимает проблема языка и речи в
свете теории установки. Если в основе слова, как мы убедились выше,
действительно лежит установка, то с самого же начала становится понятным,
что слово имеет двойную природу, что оно является и субъективным и
объективным, что, в частности, для обозначения одного и того же
содержания можно употреблять несколько различных слов, однако под
каждым из них всегда подразумевать один и тот же предмет.
Дело в том, что в структуре установки отражены два фактора —
потребность субъекта, благодаря импульсу которой устанавливается связь с
действительностью (субъективный фактор), и сама эта действительность, которая
находит отражение своей целостной природы в установке (объективный фактор):
установка, с одной стороны, носит признак субъекта, но, с другой стороны,
отражает и объективную реальность. Поэтому понятно, что какую-нибудь ее
реализацию, скажем, возникшее на ее основе слово, с одной стороны, мы
должны считать чисто субъективным фактом (поэтому оно всегда имеет случайный
характер и возможно, чтобы оно было и иным, как это, например, было
подтверждено в случае со словом «слон » в санскрите), но, с другой стороны, —
отражением чисто объективного положения вещей (слово всегда отражает
объективную действительность, правда, в случае различных потребностей,—
с различных сторон, но все же всегда одну и ту же реальность, как это имеет
место в вышеуказанном случае «слона»: несмотря на разность
наименований, всегда подразумевается один и тот же предмет).
Коротко говоря, слово является истинно диалектическим целым,
настоящим единством противоположностей, неразрывным единством
субъективного и объективного.
Несмотря на это, бесспорно, что ценность каждого слова не
одинакова: не в каждом слове с одинаковой точностью отражена объективная
действительность — существуют слова более адекватные и менее
адекватные. С этой точки зрения само собой разумеется, что чем более точно
отражает слово объективное положение вещей, чем адекватнее оно как
олицетворение этого последнего, тем оно понятнее, тем более приемлемо для
всех и, в случае необходимости выражения этого же объективного
положения вещей, тем более легко используемо. Поэтому такое адекватное
слово, как соответствующее олицетворение объективной
действительности, как, так сказать, сама объективная реальность, делается
собственностью не отдельного субъекта, а всего коллектива, сокровищем, которым в
случае необходимости может пользоваться каждый.
Так возникает система знаков, которая переживается как
независимая от отдельного индивида реальность, — так возникает язык, в узком
значении этого слова, язык, правилам и законам которого — хочешь этого
или нет — должен подчиниться, если желаешь с кем-либо чем-то
поделиться.
1275
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Таким образом, вопрос языка и речи становится достаточно ясным.
В языке нет ничего такого, что никогда не было сказано и услышано.
Однако было бы ошибкой думать, что в язык входит все, что когда-либо
было сказано и услышано. Правда, каждый факт речи, как реализация
установки субъекта, дает отражение объективного положения вещей.
Однако это не означает, что мы всюду имеем дело с одинаково точным
отражением, с одинаково адекватным во всех случаях высказыванием.
Поэтому большая часть из фактов речи исчезает вместе с актом речи; те же,
которые являются максимально адекватными, как олицетворение
объективной реальности, остаются и становятся собственностью
соответствующего языка. Такова проблема языка и речи с точки зрения теории установки.
Эта концепция взаимоотношения языка и речи содержит не одно
преимущество по сравнению с другими. Отметим некоторые из них. Прежде
всего, становится понятным, что язык не оторван от речи, несмотря на то,
что первый является объективным и общим, а вторая субъективна и
индивидуальна. Язык полностью рождается в речи, и все признаки, которыми
он характеризуется, получены им из речи. Из этого само собой становится
ясным, что установка, выполняющая столь большую роль в речи,
должна быть отчетливо запечатлена и в языковом материале.
С этим связано и второе значительное преимущество, которым
характеризуется наша концепция. Если язык является самостоятельной
сферой, совершенно объективной действительностью, у которой имеются свои
независимые законы, то тогда мы обязательно должны думать, что между
ним и человеком проложена непроходимая пропасть и не существует
никакой связи. С другой стороны, бесспорно и то, что язык является
продуктом творчества человека и вне человека не может существовать. Выше мы
видели, что возможность преодоления этой пропасти не признана ни в
учении Пауля, ни Соссюра. Поэтому ни один из них не может избежать
односторонности, сводя все или к речи, или к языку.
Согласно нашей концепции, как видим, для этой пропасти не остается
места. Язык является объективной реальностью благодаря установке,
которая предоставляет ему возможность выражения объективного положения
вещей. В то же самое время установка является все же определенной
модификацией субъекта, и вот именно это и является тем, что представляет субъект в
языке. Язык является независимой сферой благодаря установке, но
посредством этой же установки он существенно связан с субъектом.
Таким образом, в виде заключения можно сказать: в состав языка из
речи входит только то, что имеет способность адекватного отражения
объективного положения вещей. Это означает, что в структуре языка —
в его материале и формах слова — всюду отражена установка, лежащая
в его основе. Из этого ясно, что исследование языка ни в коем случае не
было бы полным, если бы оно оставило без внимания это обстоятельство.
Содержание
А.Н. Ждан. Общий очерк истории психологии в России 3
Часть первая. Первые программы построения психологии как самостоятельной науки 3
П.Д. Юркевич: «Предмет психологии дан во внутреннем самовоззрении» 29
Язык физиологов и психологов 29
ММ. Владислав лев: Психология 37
Н.Я. Грот: «Психический оборот (процесс)
как единство субъективных и объективных моментов» 80
Значение чувствований в ряду психических явлений 80
Основания экспериментальной психологии 103
М.М. Троицкий: Наука о духе. Общие свойства и законы человеческого духа 138
И.М. Сеченов: «Психология как наука о происхождении психических деятельностей» 150
Рефлексы головного мозга 150
Кому и как разрабатывать психологию 154
К.Д. Кавелин: «О программе и методах психологических исследований» 166
Задачи психологии 166
A.M. Лопатин: «Сила и слабость психологии коренятся
в ее основном методе. Этот метод есть самонаблюдение» 205
Метод самонаблюдения в психологии 205
Н.О. Аосский: Психология с точки зрения волюнтаризма 245
Волюнтаристическое учение о воле 245
С. А. Франк: Душа человека как предмет психологии 280
Душа человека. Опыт введения в философскую психологию 280
Г.И. ЧелпаноВ: Предмет, задачи и методы современной психологии 291
Сущность проблемы восприятия пространства 291
О предмете психологии 299
Об отношении психологии к философии 314
Об экспериментальном методе в психологии 324
Об аналитическом методе в психологии (Статья 1-я) 340
Об аналитическом методе в психологии (Статья 2-я) 353
А.И. Введенский: «Надо разрабатывать психологию без всякой метафизики» 368
Психология без всякой метафизики 368
Психологический институт имени Л.Г. Щукиной 394
В.М. Бехтерев: Естественно-научная психология как объективная наука 399
Сознание и его границы ...» 399
Психика и жизнь 420
Часть вторая. Становление экспериментальной и прикладной психологии 425
Л.Л. Потебня: Язык и сознание 427
Мысль и язык 427
К.Д. Ушинский: «Чтобы воспитывать человека во всех отношениях,
его надо раньше узнать во всех отношениях» 436
Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии 436
Г.Я. Трогиин: «Кто хочет знать нормальных детей, должен изучать ненормальных» 441
Антропологические основы воспитания. Сравнительная психология
нормальных и ненормальных детей 442
1277
СОДЕРЖАНИЕ
И.А. Сикорский: Психология в школе и в жизни 449
О явлениях утомления при умственной работе у детей школьного возраста 450
Черты из психологии славян 457
В.Х. Кандинский: Восприятия, галлюцинации и псевдогаллюцинации 468
О псевдогаллюцинациях 468
H.H. Аанге: О значении эксперимента в современной психологии 474
Отчет о докторском диспуте H.H. Ланге 474
Психология экспериментальная 515
A.A. Тохарский: Приложение эксперимента в психологии 522
Ардалион Ардалионович Токарский (некролог) 522
О методах психологического исследования 526
В.Ф. Чиж: О лабораториях экспериментальной психологии в России 537
Письмо в редакцию журнала «Вопросы философии и психологии» 537
А.Ф. Аазурский: Естественный эксперимент и его школьное применение 542
О естественном эксперименте 542
Личность и воспитание 551
Г.И. Россолимо: Психологические профили 562
«Психологические профили » дефективных учащихся
(в отношении возраста, пола, степени отсталости и пр.) 562
А.Ф. Кони: Психология в судебной практике 590
Психология и свидетельские показания (Практические заметки) 590
А.И. Петражщкий: Психология человека и право 612
Психологические основы теорий нравственности и права 612
Часть третья. Психология и религия 619
В.А. Жуковский: «Все, что душа, нетленно» 621
Христианская философия 621
О меланхолии в жизни и в поэзии 623
П.Д. Юркевин. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия 634
Ф.А. Голубинский: «В нас содержится живой образ существа бесконечного » 638
Умозрительная психология 638
Ю.Ф. Самарин: Высшее начало личности — начало религиозное 657
Разбор сочинения К.Д. Кавелина «Задачи психологии» 657
В.И. Несмелов: Загадка человека 659
Наука о человеке 659
Часть четвертая. Психология советского периода 671
В.Н. Ивановский: Методология общая и психологическая 673
Методологическое введение в науку и философию 673
Педология 695
П.П. Блонский:
Педология 695
О педологических извращениях в системе наркомпросов
(Постановление ЦК ВКП(б) 4 июля 1936 г.) 729
Г.Г. Шпет: Психология социального бытия 733
Внутренняя форма слова 734
Введение в этническую психологию 762
В. А. Вагнер: Объективные методы изучения психики животных 772
Биопсихология субъективная и объективная 772
А.Н. Северцов: Психика как фактор эволюции 789
Эволюция и психика 789
1278
СОДЕРЖАНИЕ
И.П. Павлов: Физиология высшей нервной деятельности и психологическая наука 795
Условный рефлекс 795
Письмо к молодежи 813
A.A. Ухтомский: Доминанта 815
Доминанта как рабочий принцип нервных центров 815
Автобиография A.A. Ухтомского 828
H.A. Бернштейн: Физиология движений и физиология активности 831
О построении движений 831
В.М. Бехтерев. Общие основы рефлексологии человека 857
Заключение методологической секции Общества рефлексологии, неврологии,
гипнологии и биологической физики о дискуссии «Рефлексология или психология» 883
М.Я. Басов: Структурные формы поведения (деятельности) 885
Основные структурные формы 885
В.Н. Мясигцев: Психологическая концепция личности и ее отношений 896
Личность и отношения человека (вместо заключения) 896
К.Н. Корнилов: Реактологическая психология 906
Учение о реакциях человека с психологической точки зрения («Реактология ») 907
Психология и марксизм 922
Итоги дискуссии по реактологической психологии (Резолюция общего собрания ячейки ВКП(б)
Государственного института ПП и П от 6/VI 1931г.) 923
П.П. Блонский: «Я стремлюсь положить в основу психологии идею развития » 934
О современной ситуации в психологии 934
Генетическая теория памяти 936
С. А. Рубинштейн: Предмет и задачи психологии как науки 942
Природа психического и специфика его познания 942
Проблемы психологии в трудах Карла Маркса 954
A.C. Выготский: Культурно-историческая психология 979
Проблема культурного развития ребенка 979
Психотехника и педология 996
А.Р.Аурия: Психология в системе естествознания и общественных наук 1015
О естественно-научных основах психологии 1015
Психология как историческая наука 1036
Три основных функциональных блока мозга 1049
Б.В. Зейгарник. «Эффект Зейгарник»: становление общей патопсихологии 1066
Принципы построения патопсихологического исследования 1066
А.Н.Аеонтьев: Психологическая теория деятельности 1090
Деятельность и сознание 1090
A.B. Запорожец: Основы теории и практики дошкольного воспитания 1112
Основные проблемы онтогенеза психики 1112
Д.Б. Эльконин: «Процесс психического развития историчен и конкретен » 1149
К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте 1149
П.Я. Гальперин: Ориентировочная деятельность как предмет психологии 1168
Введение в психологию 1168
А.А.Смирнов: Память и деятельность 1182
Проблемы психологии запоминания 1182
Б.М. Теплов: Психология индивидуальности 1194
О некоторых общих вопросах разработки истории психологии 1194
Типологические свойства нервной системы и их значение для психологии 1202
Б.Г. Ананьев: Человек как предмет познания 1223
Подступы к проблеме человеческой индивидуальности 1223
Д.Н. Узнадзе: Теория установки 1233
Общее учение об установке 1233
Внутренняя форма языка 1252
1279
Научное издание
ЮССИЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
АНТОЛОГИЯ
Автор-составитель А.Н. Ждан
Компьютерная верстка
И. Самсонов
Корректор
А.Конькова
Статьи и обширные
фрагменты из классических трудов
русских философов, психологов,
представителей других
гуманитарных наук XIX-XX вв. —
Н.Я. Грота, К.Д. Кавелина,
Л.М. Лопатина, Г.И. Челпанова,
И.А. Сикорского, В.М.
Бехтерева, Г.И. Россолимо, Л.С.
Выготского, А.Р. Лурия, С.Л.
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и др.
позволяют воссоздать процесс
становления и развития русской
психологии, понять ее связь с
историко-культурными
традициями, социальными и
идейными запросами общества,
оценить сделанный
отечественными учеными вклад в мировую
психологическую науку.