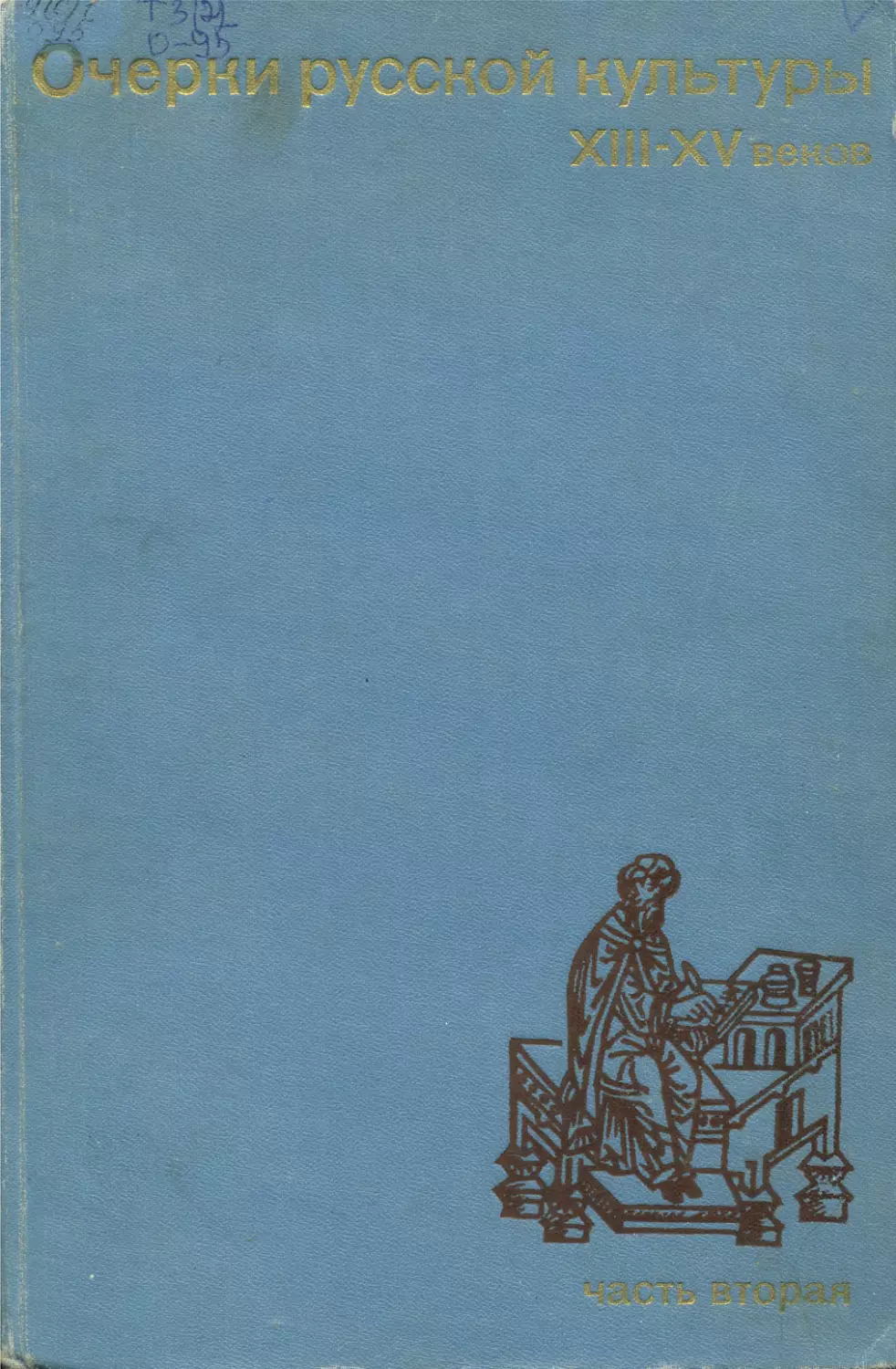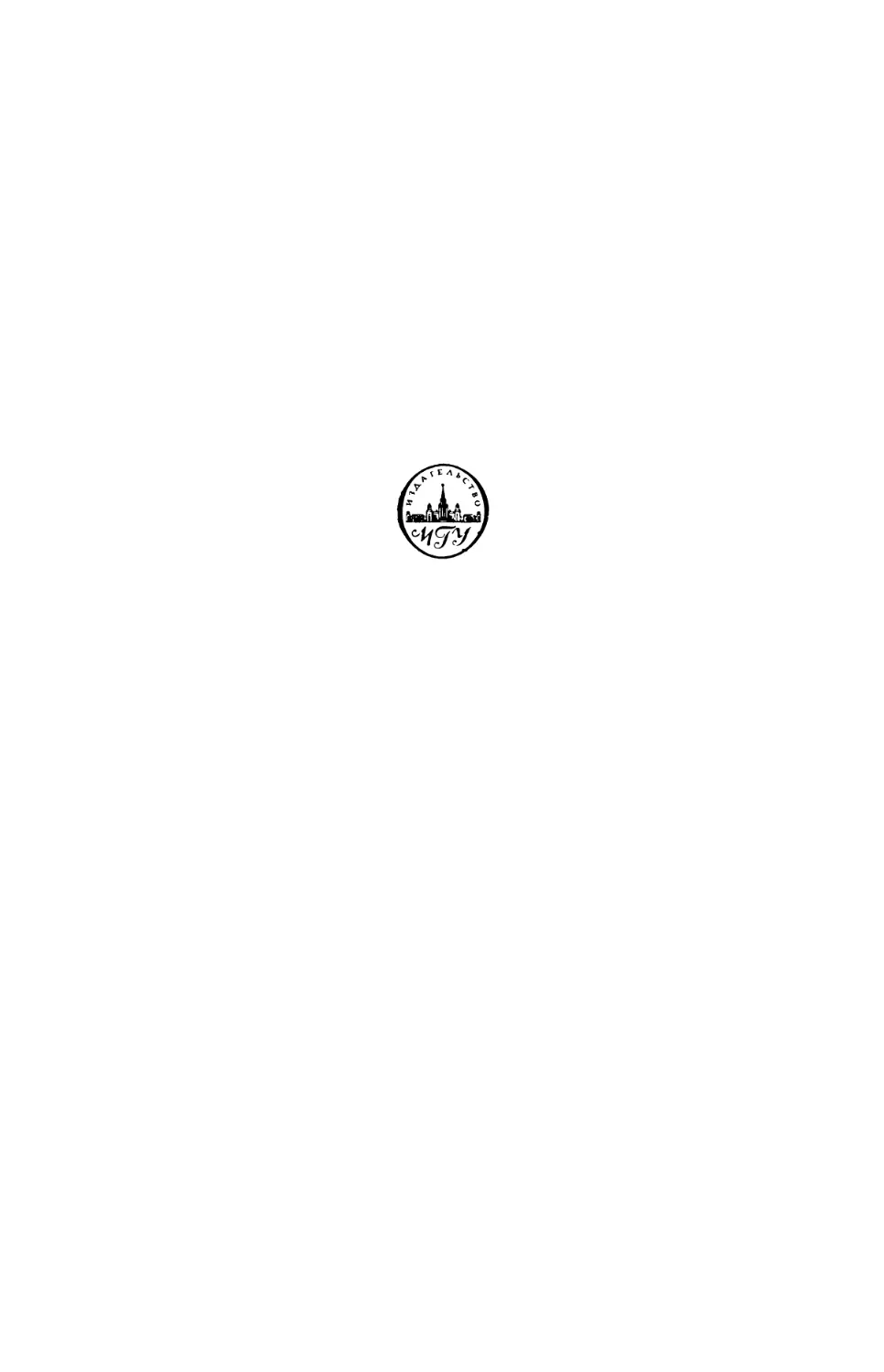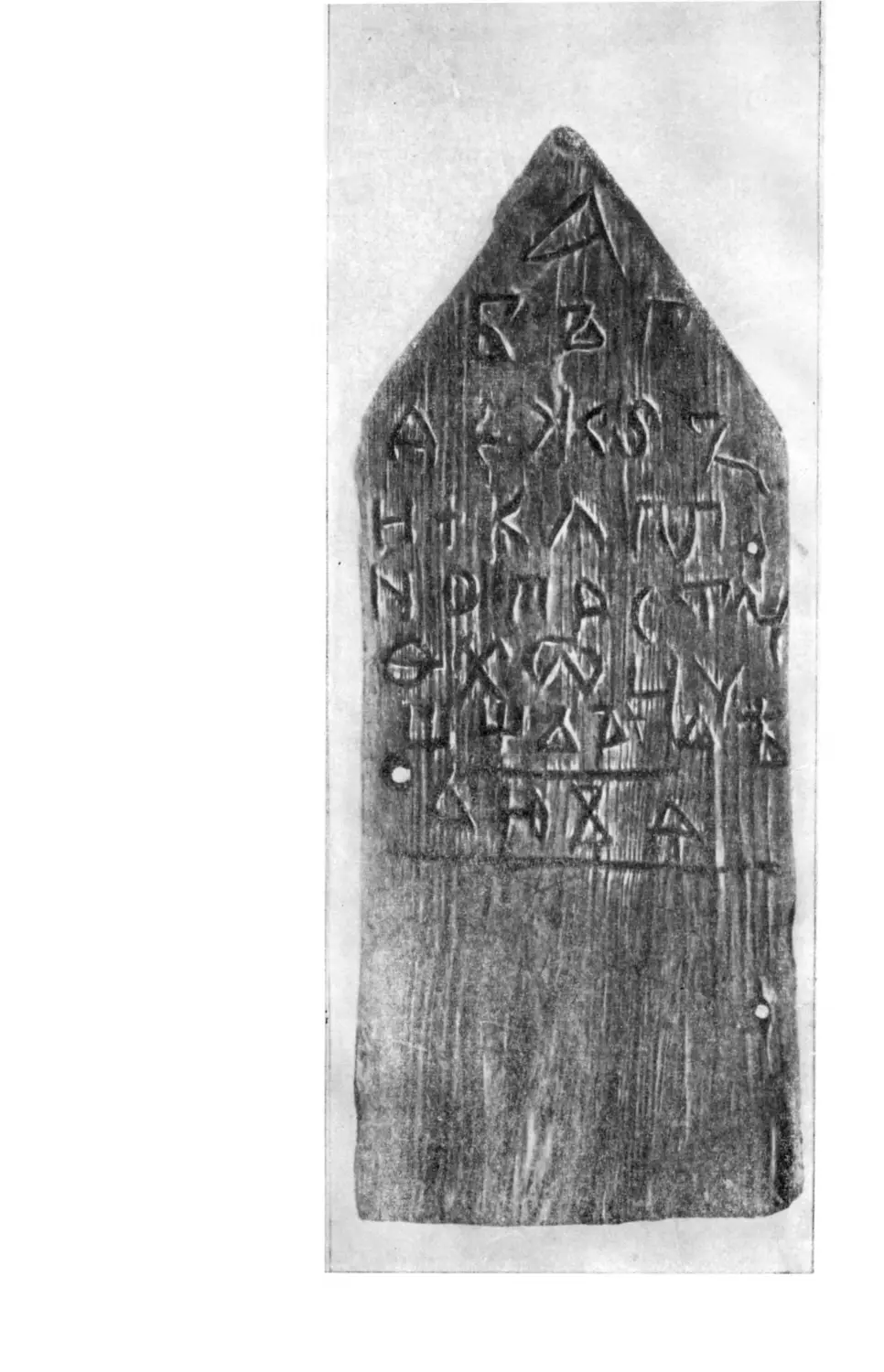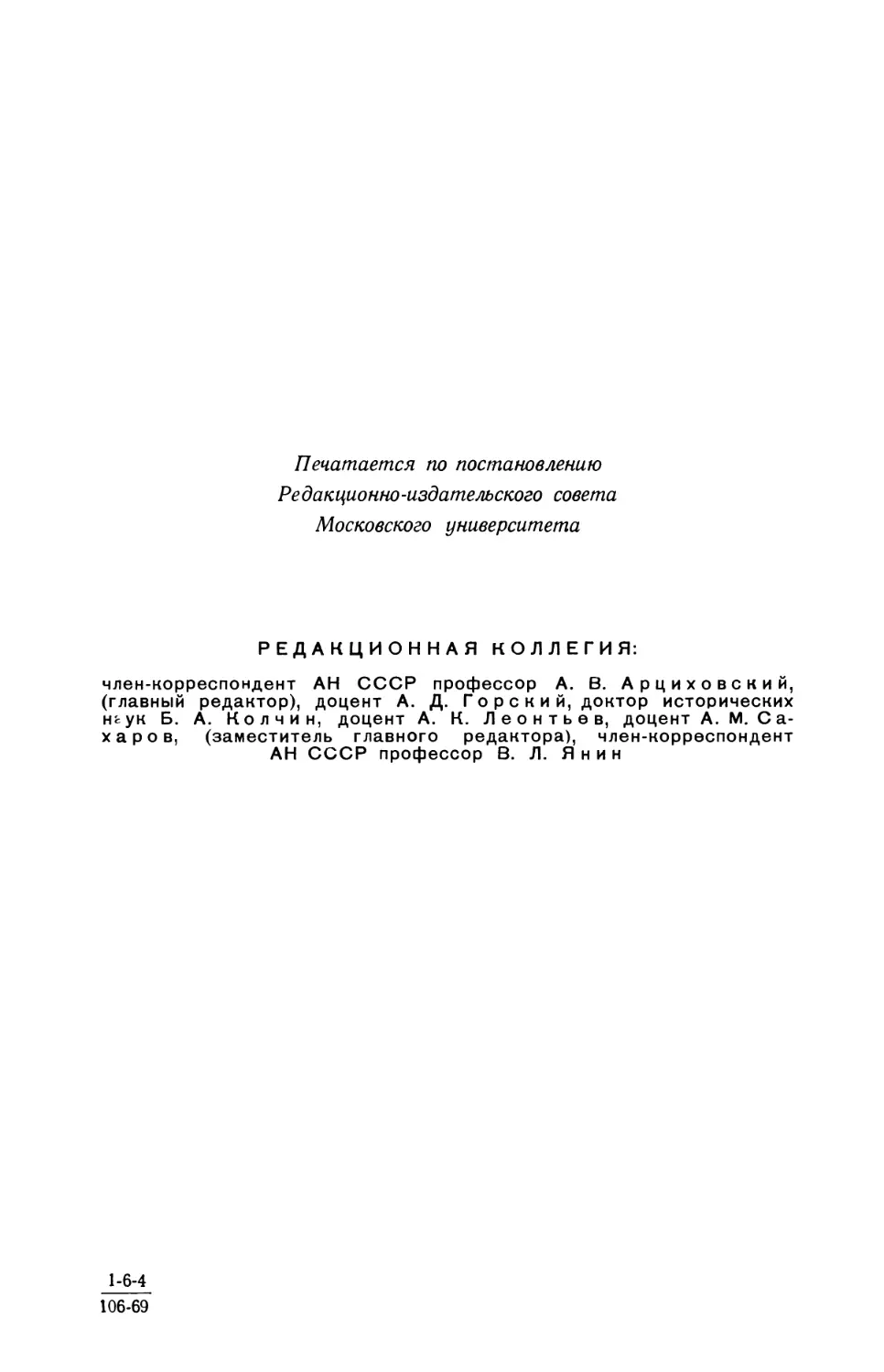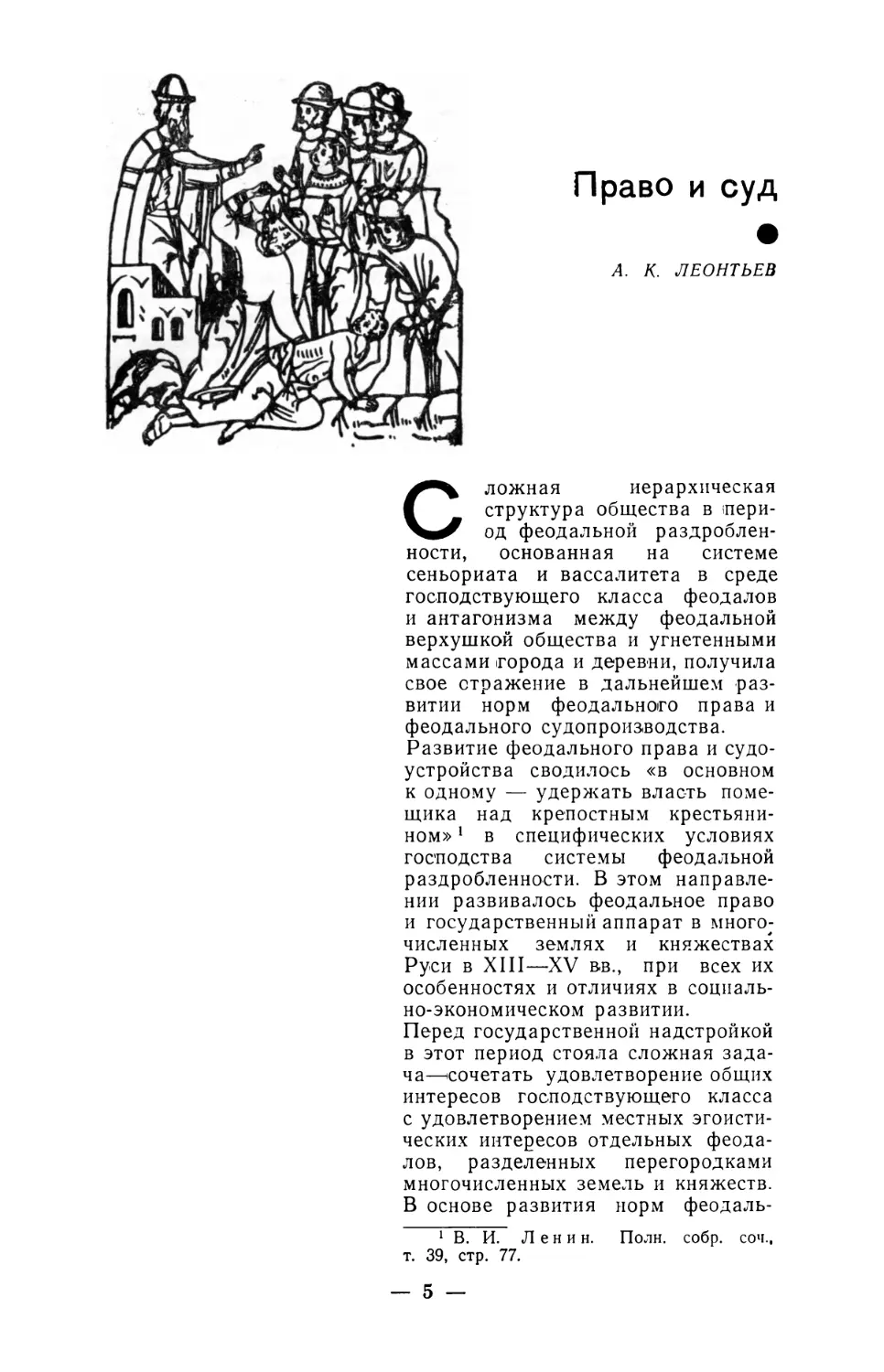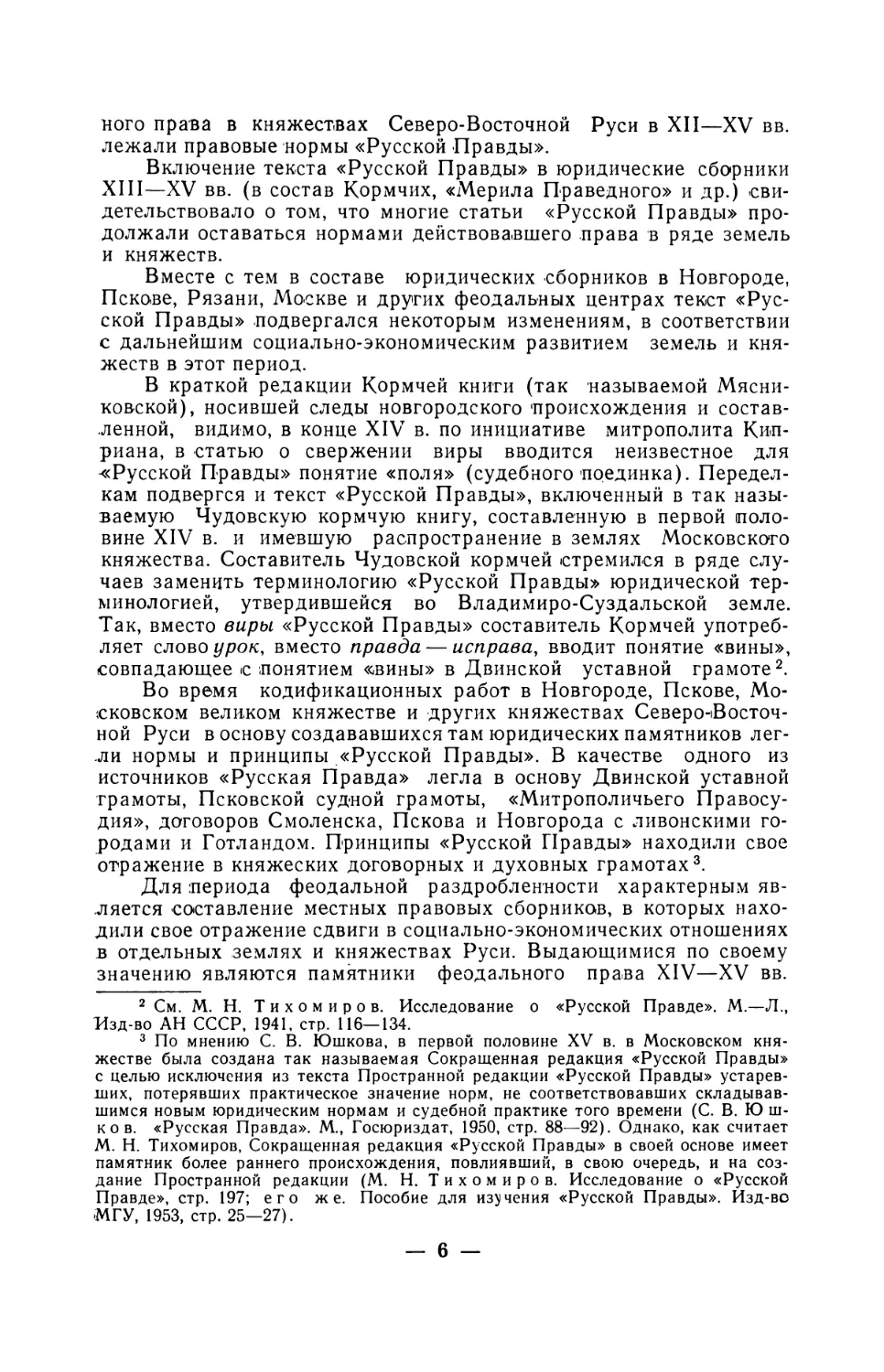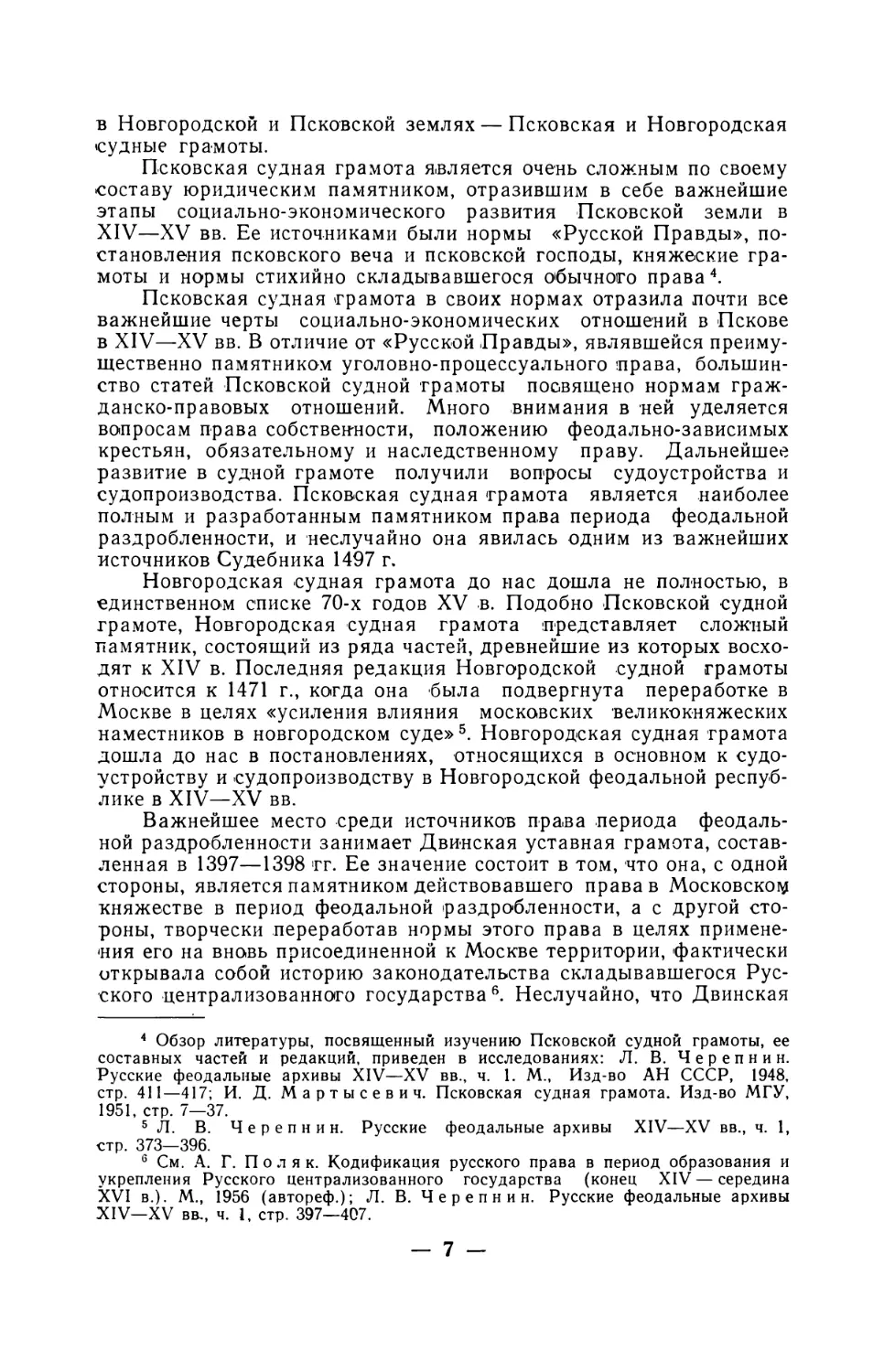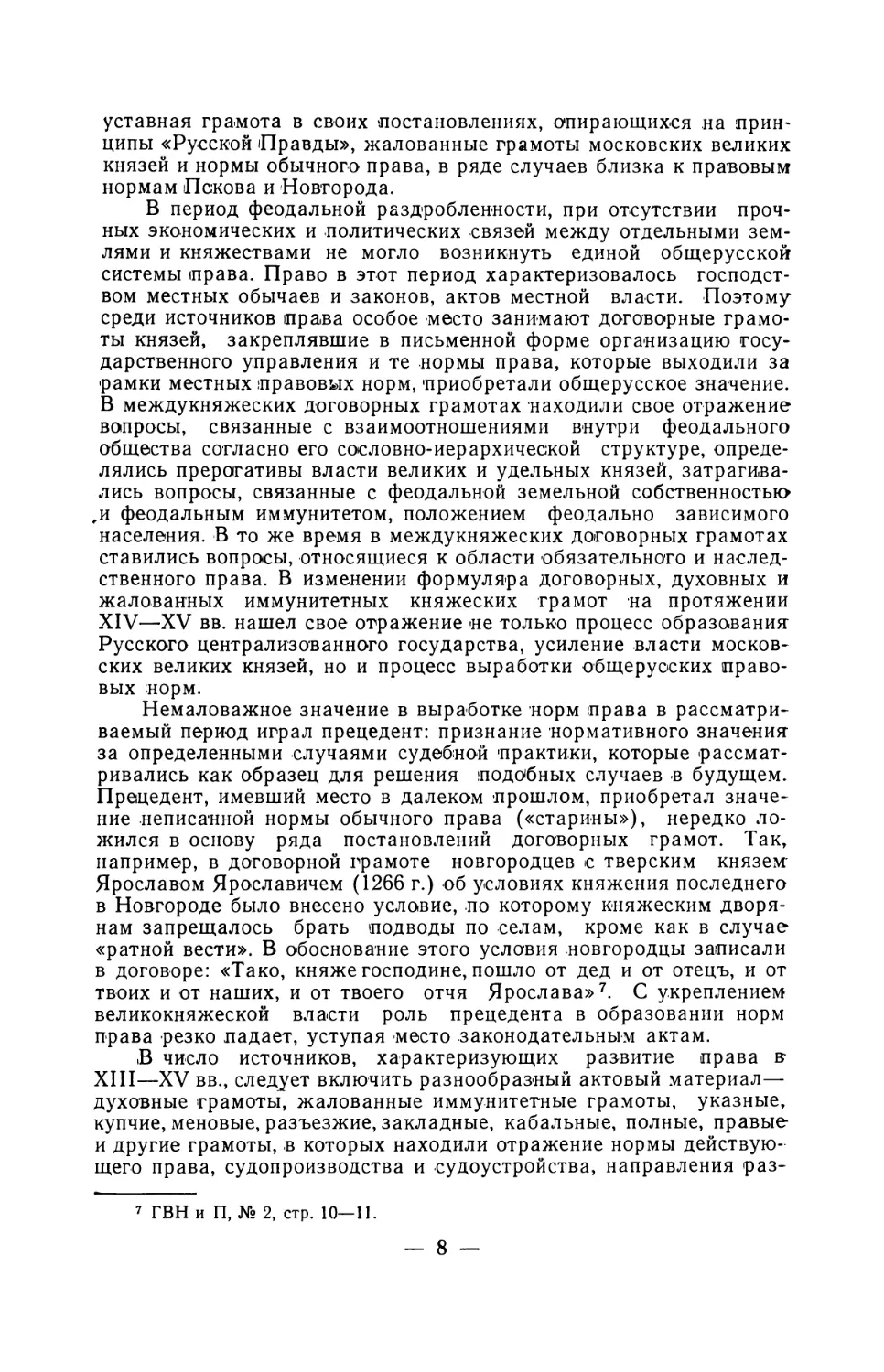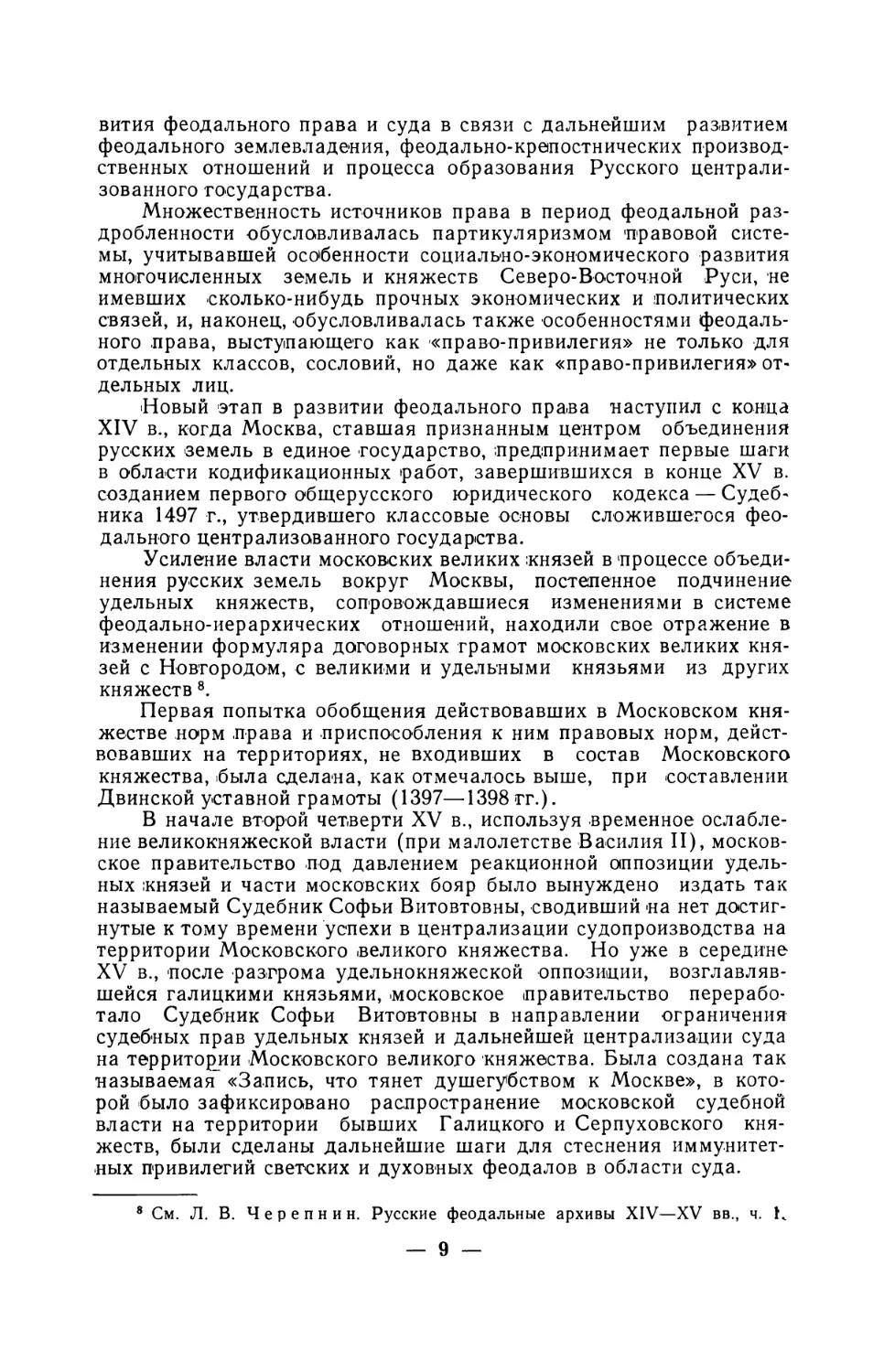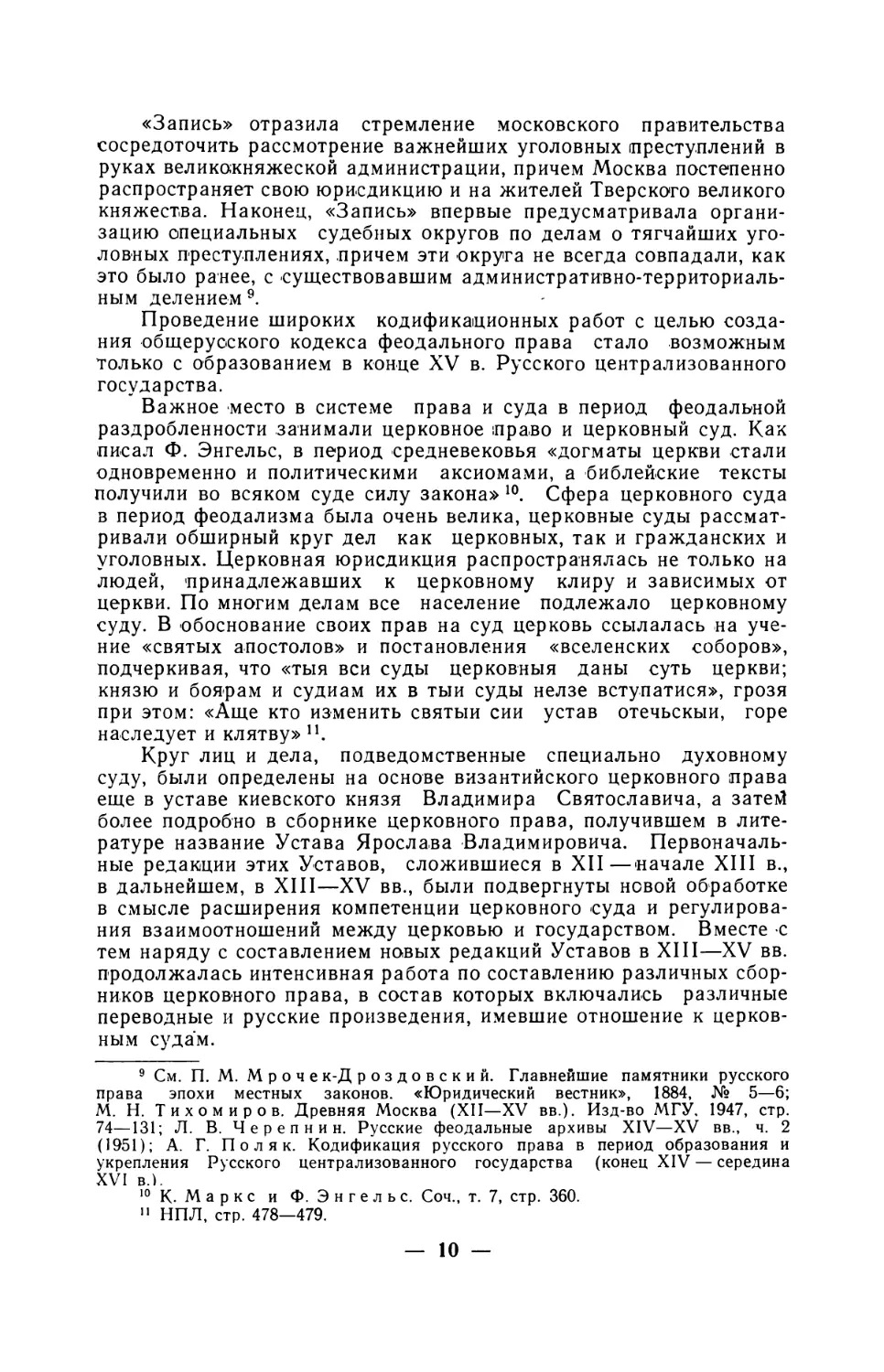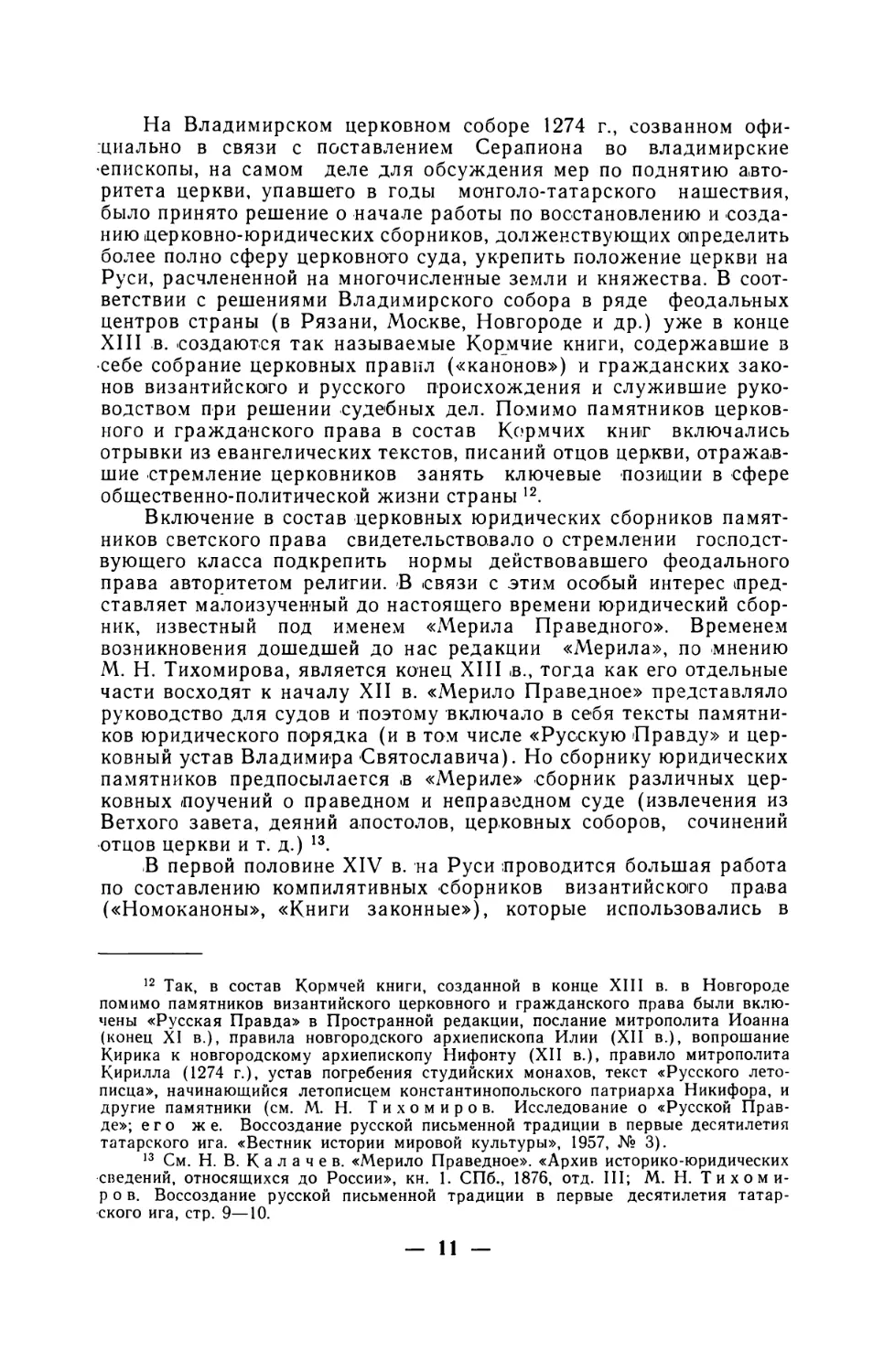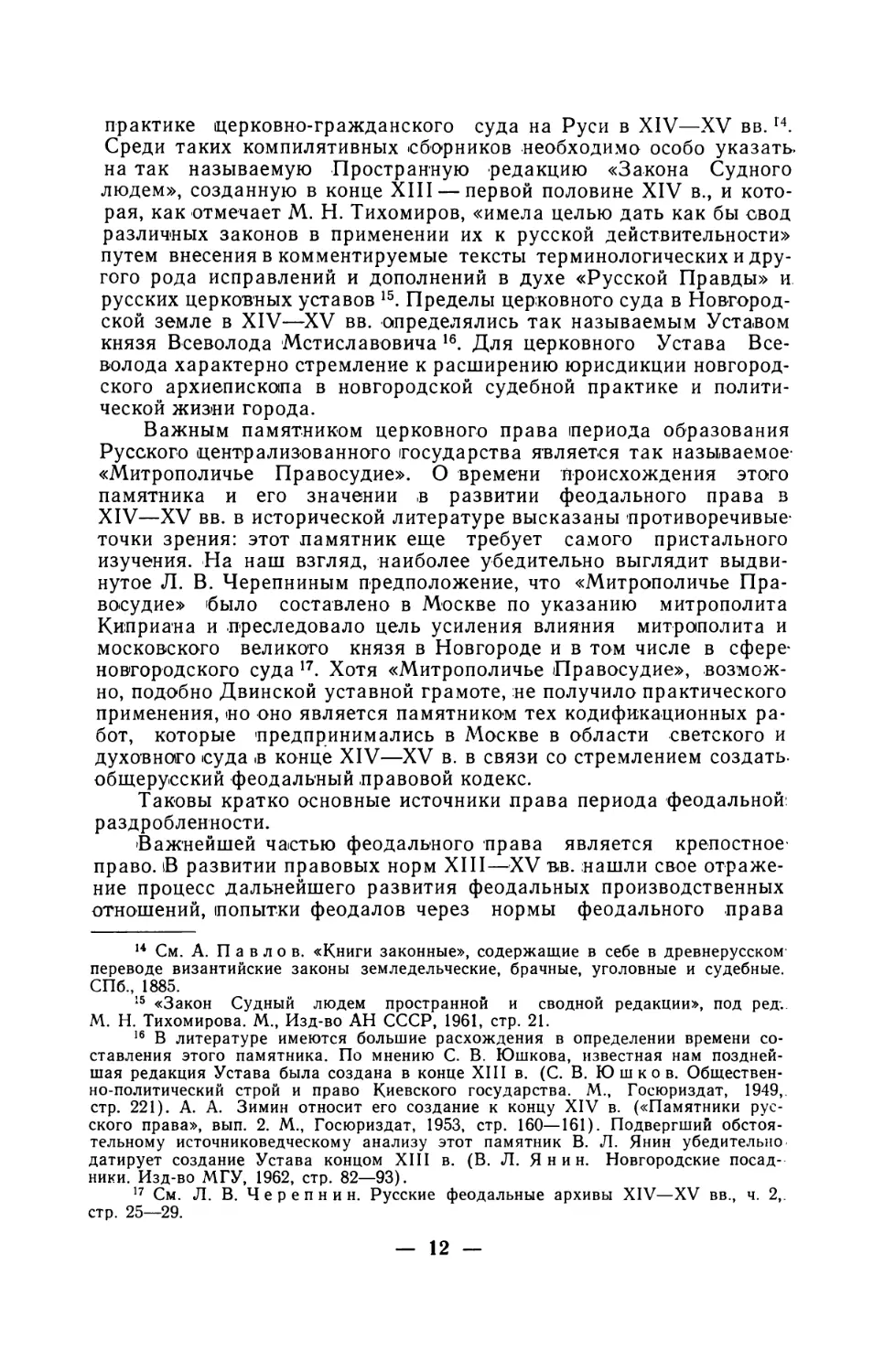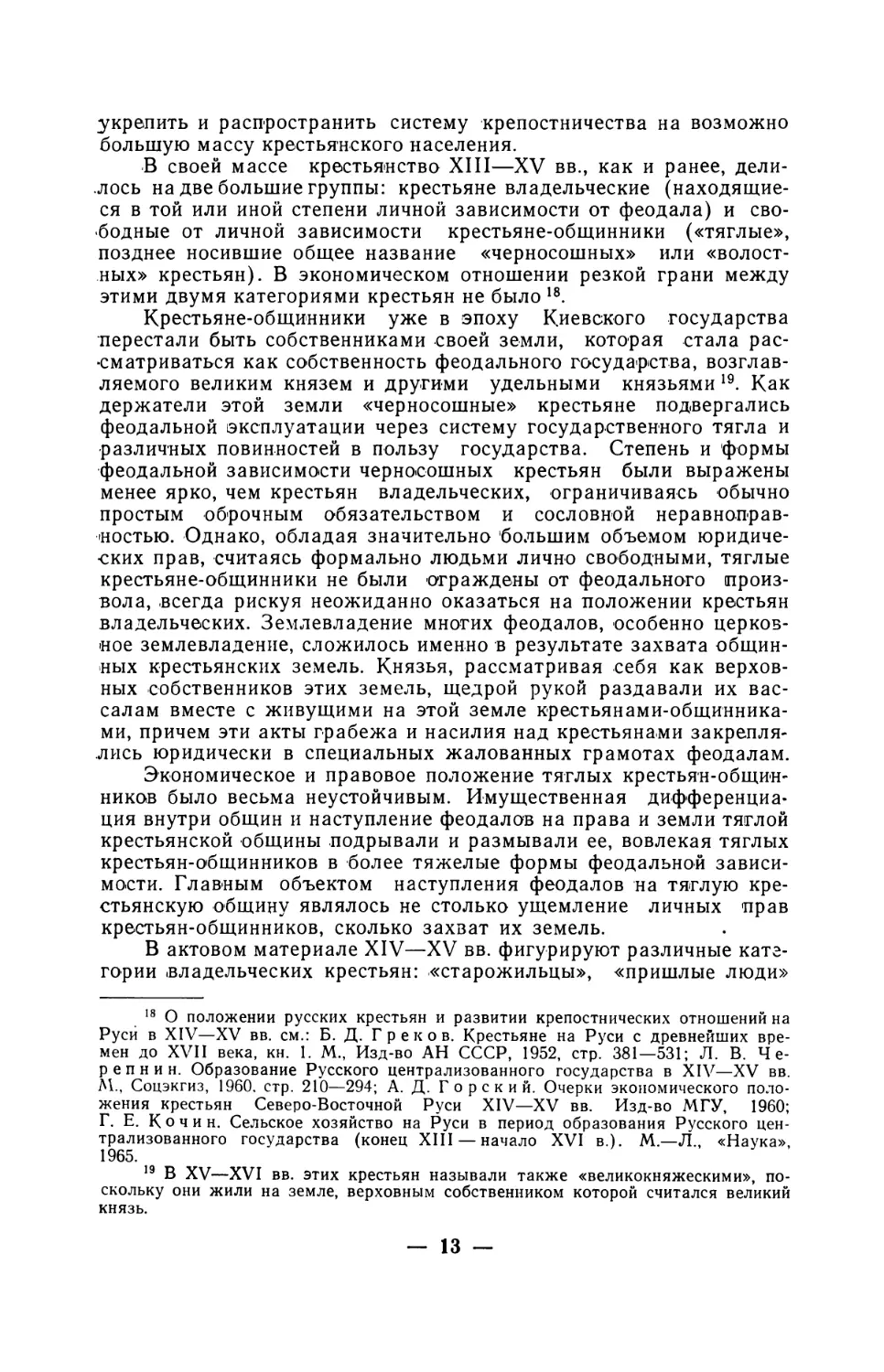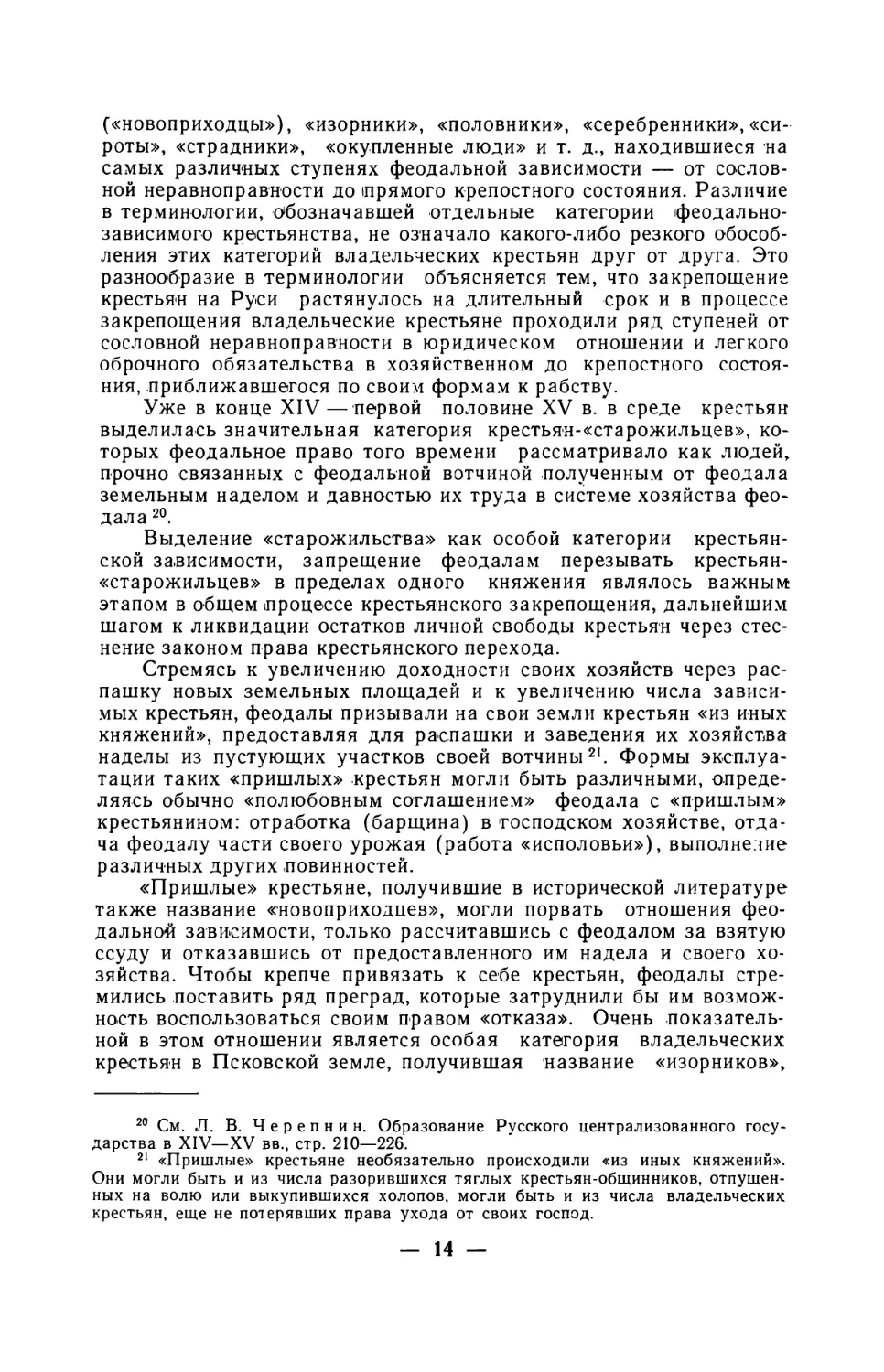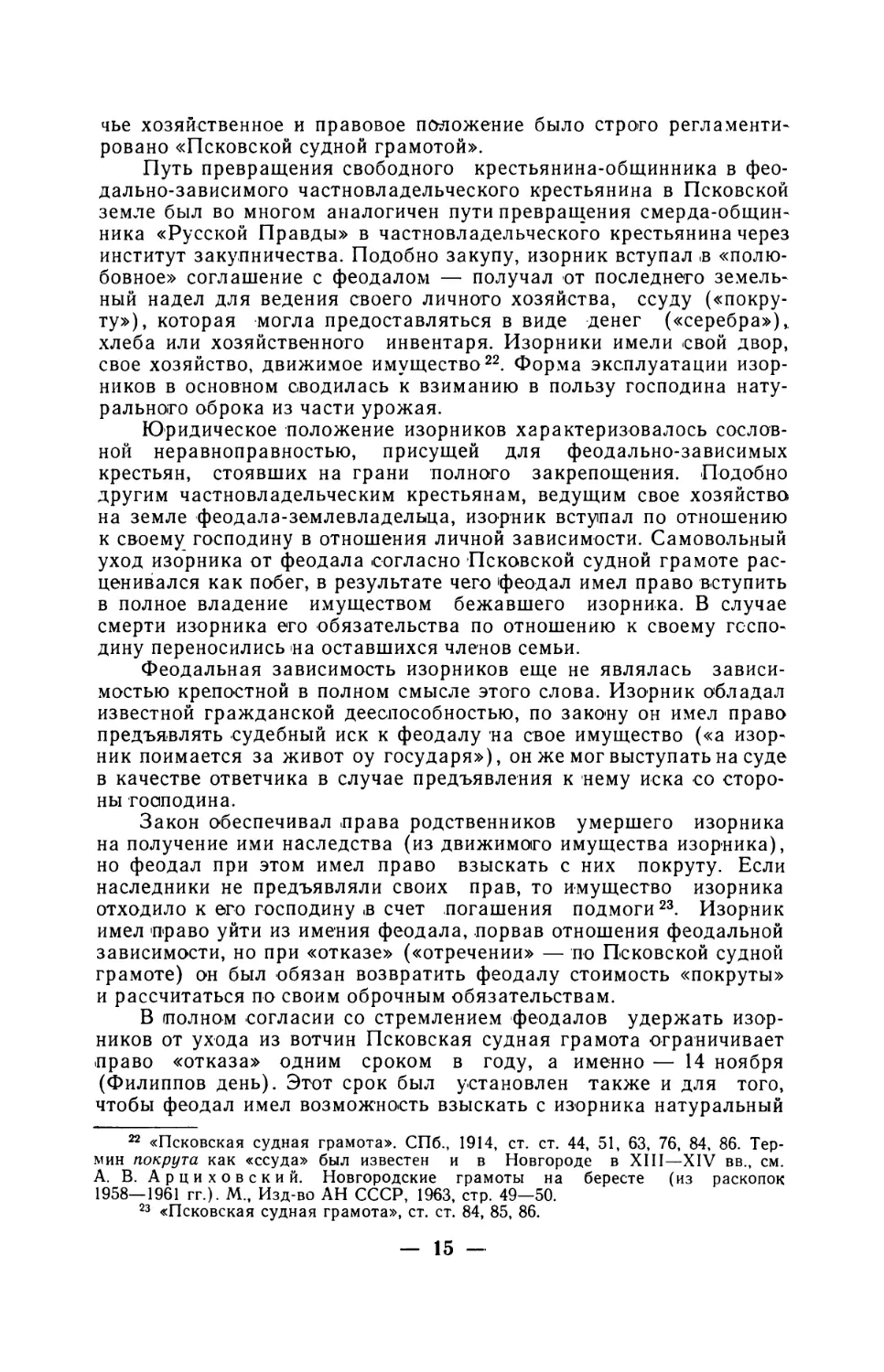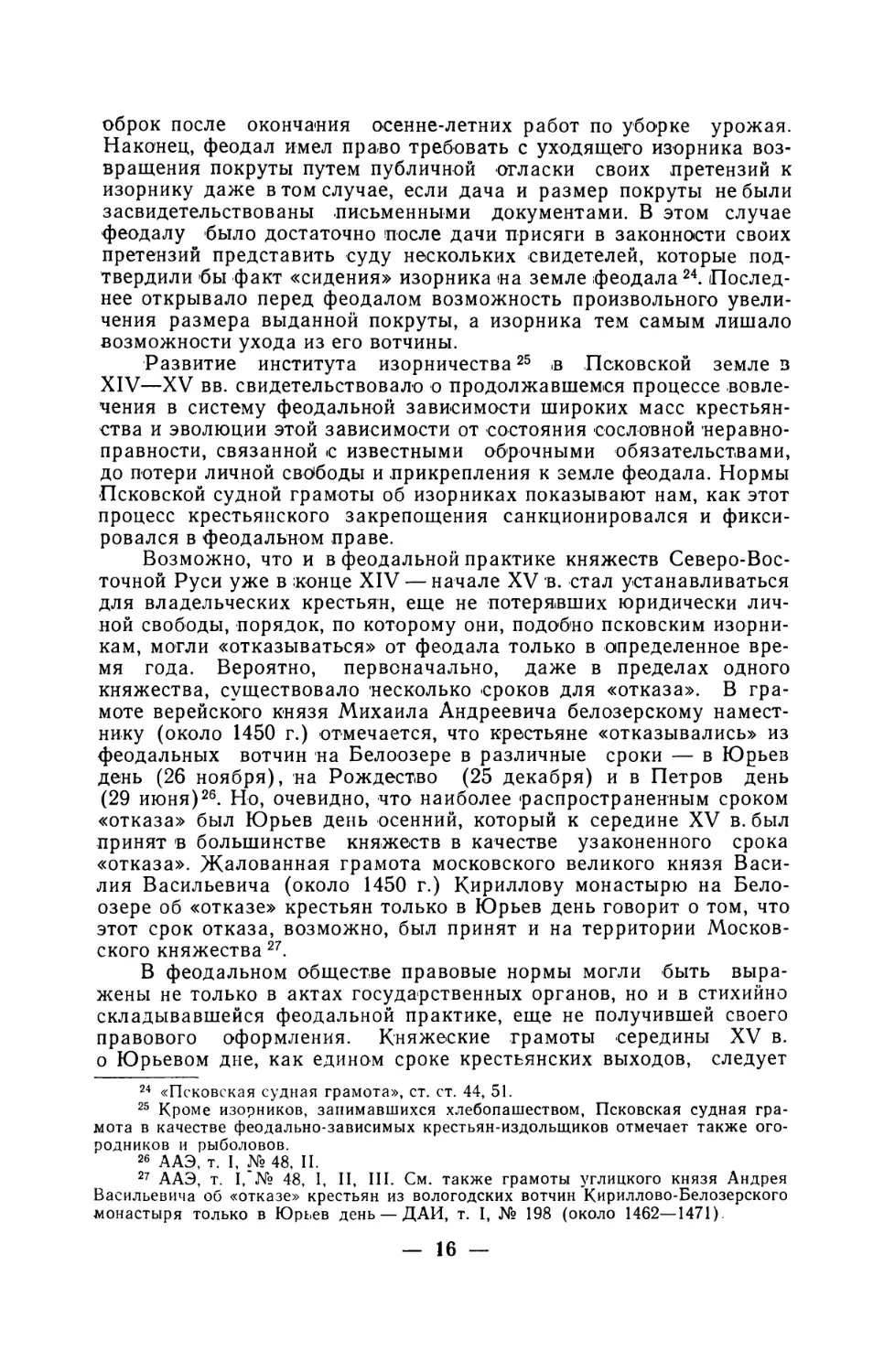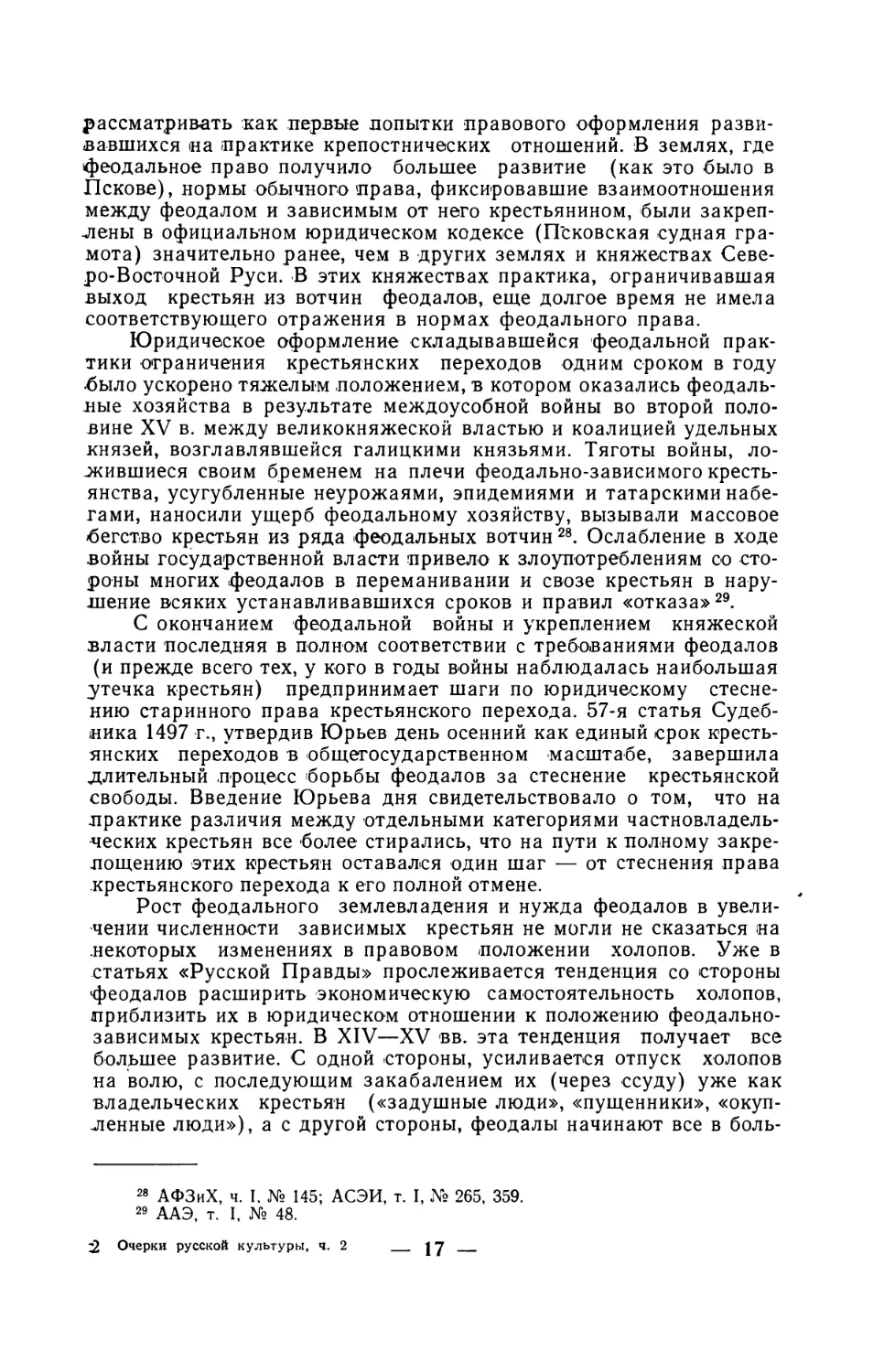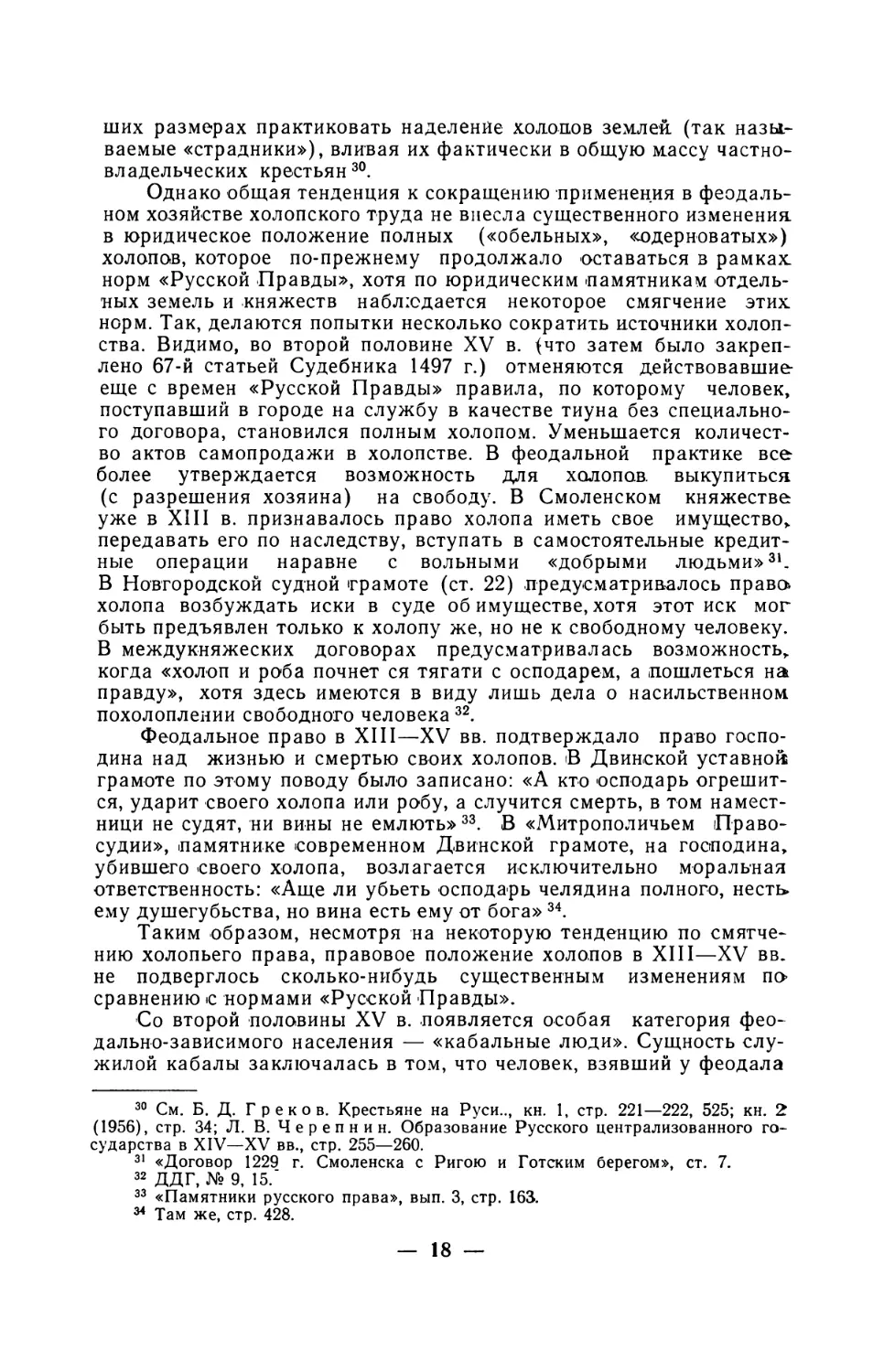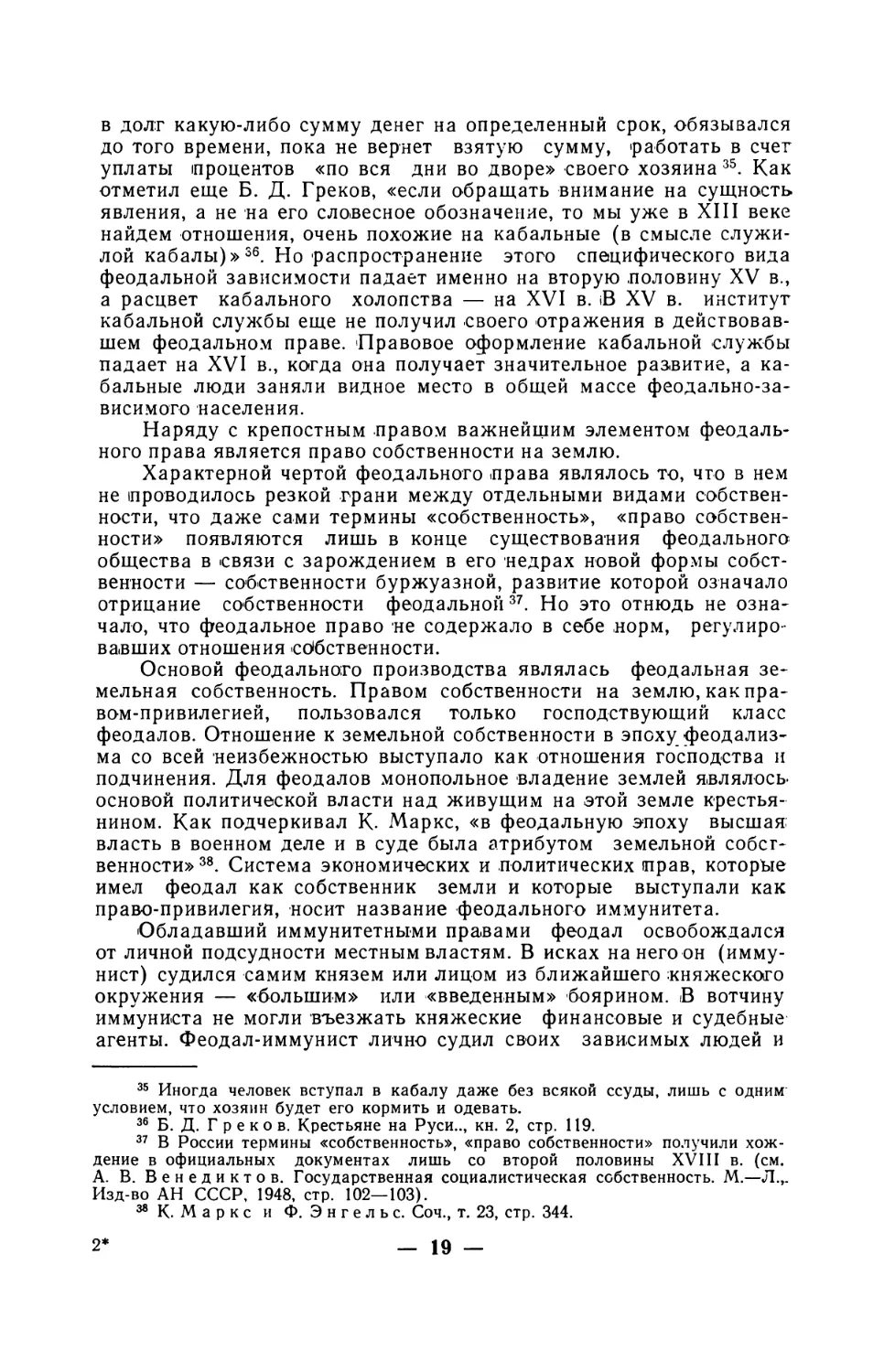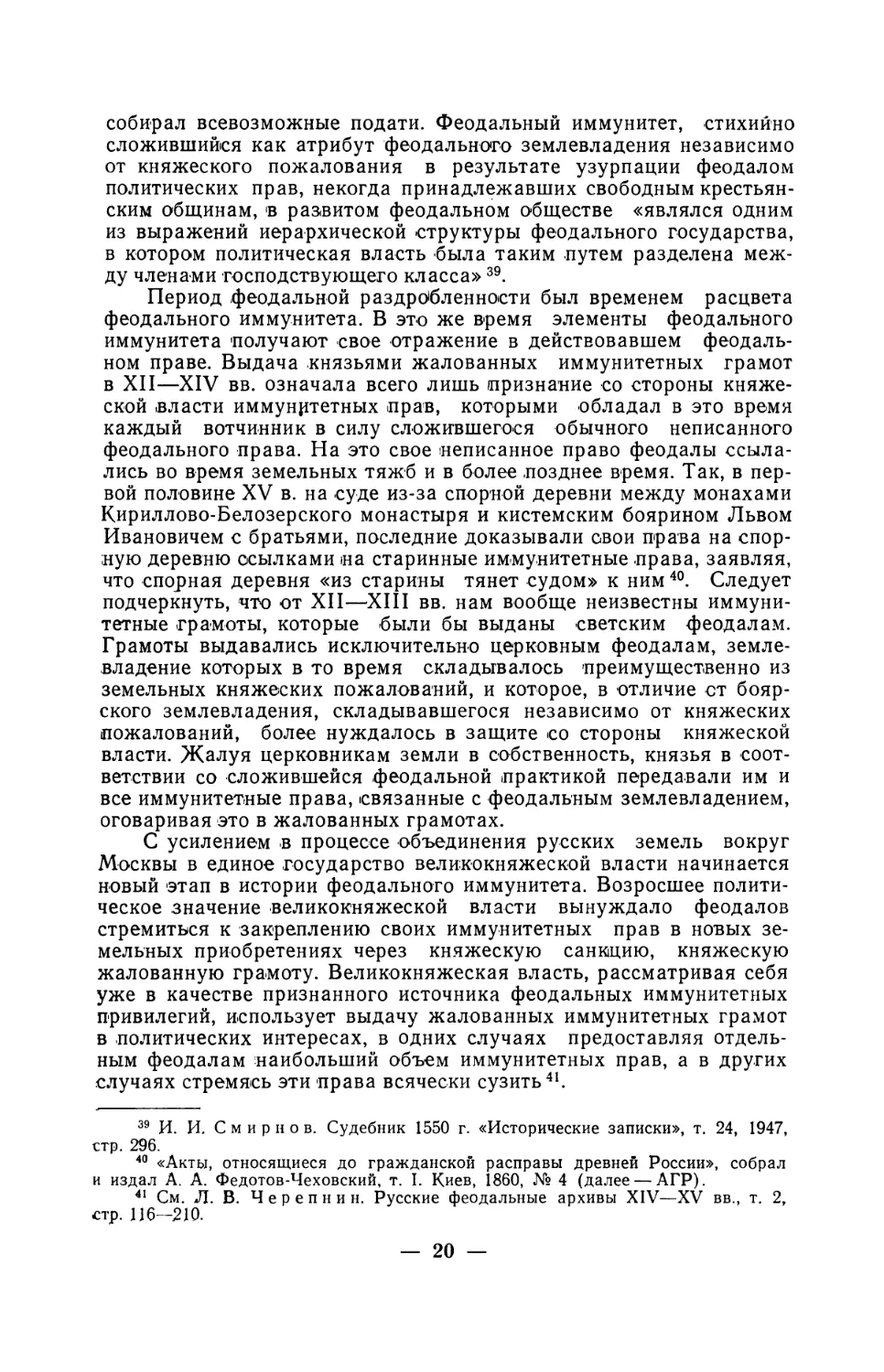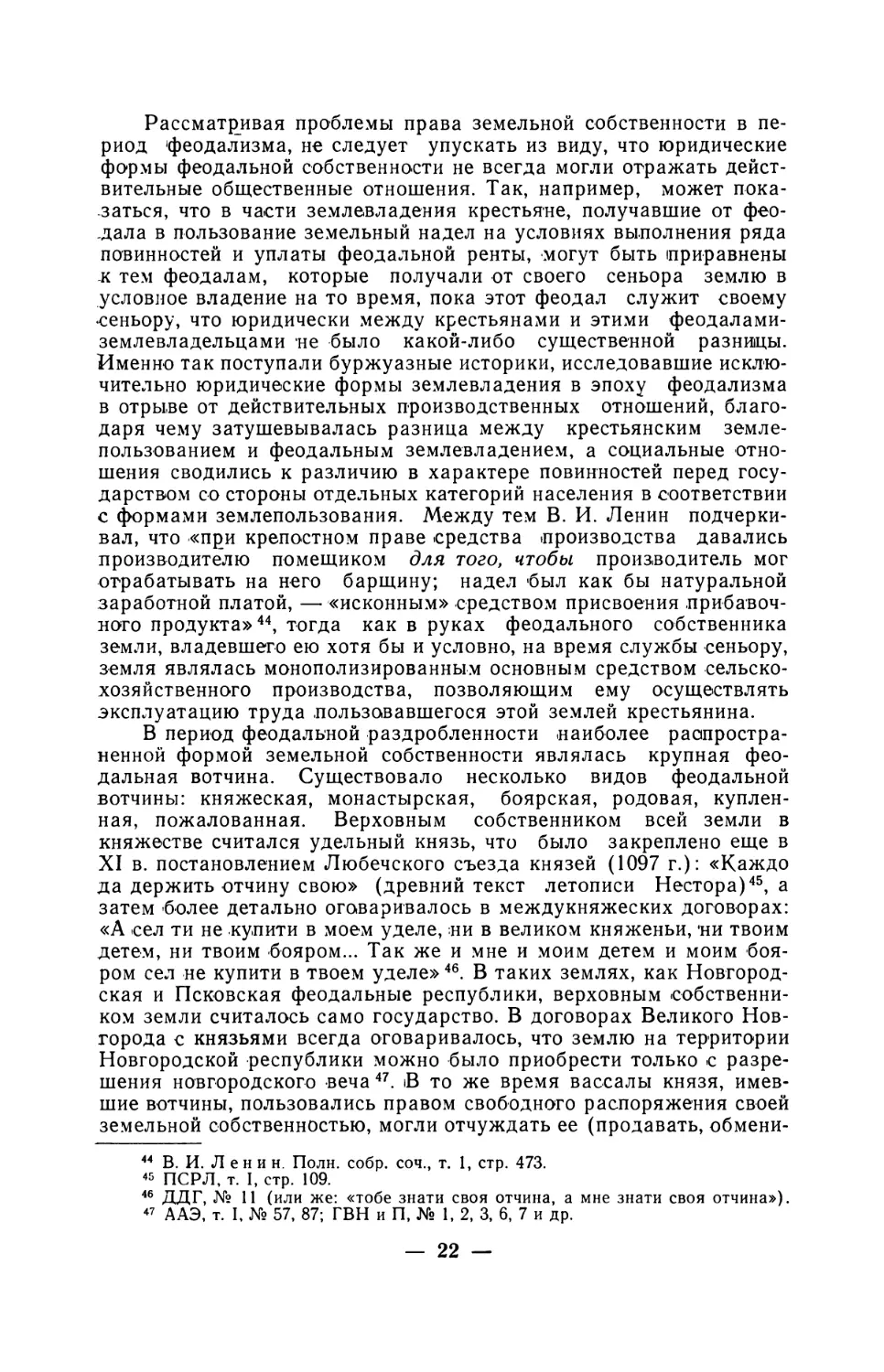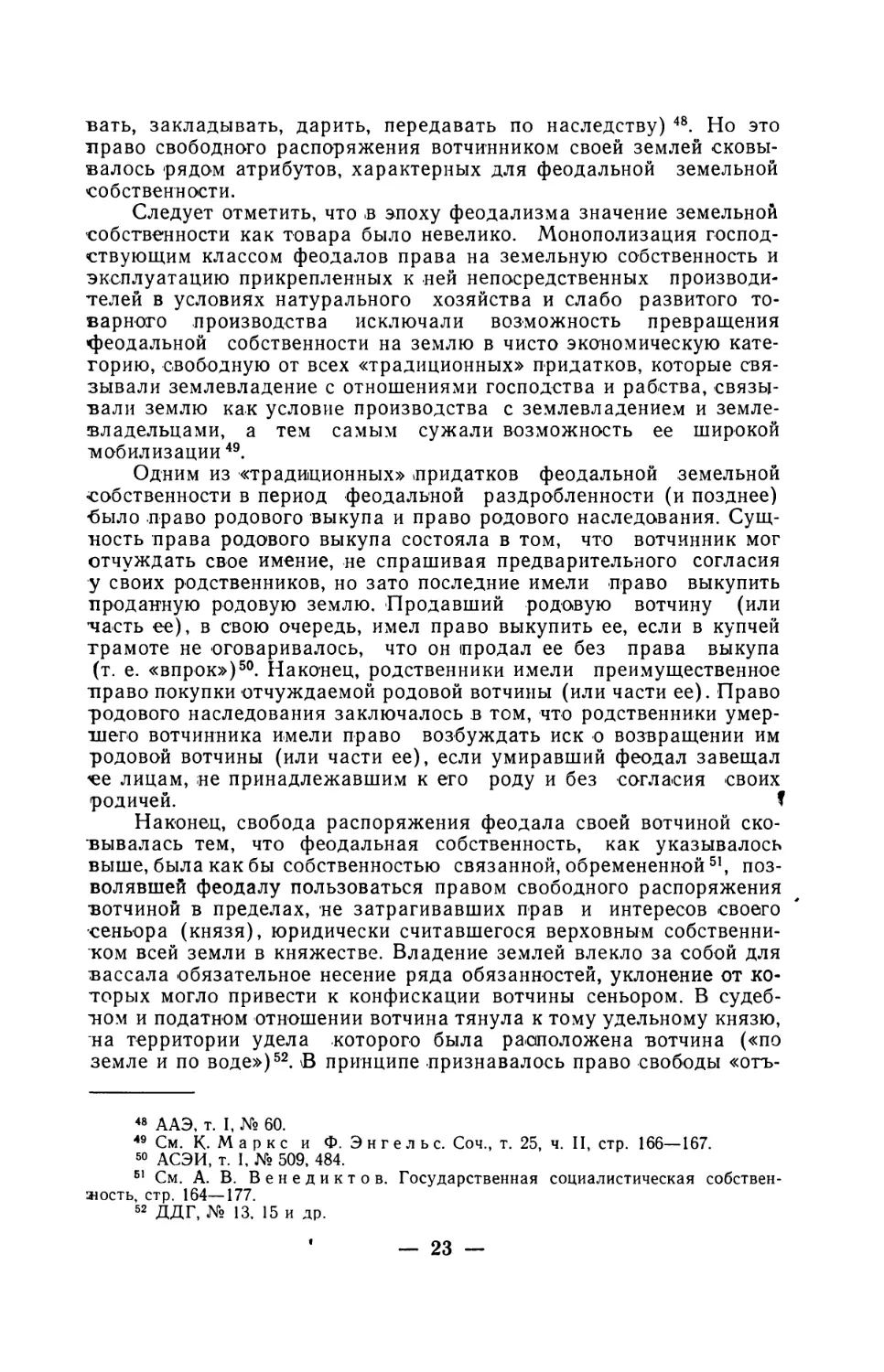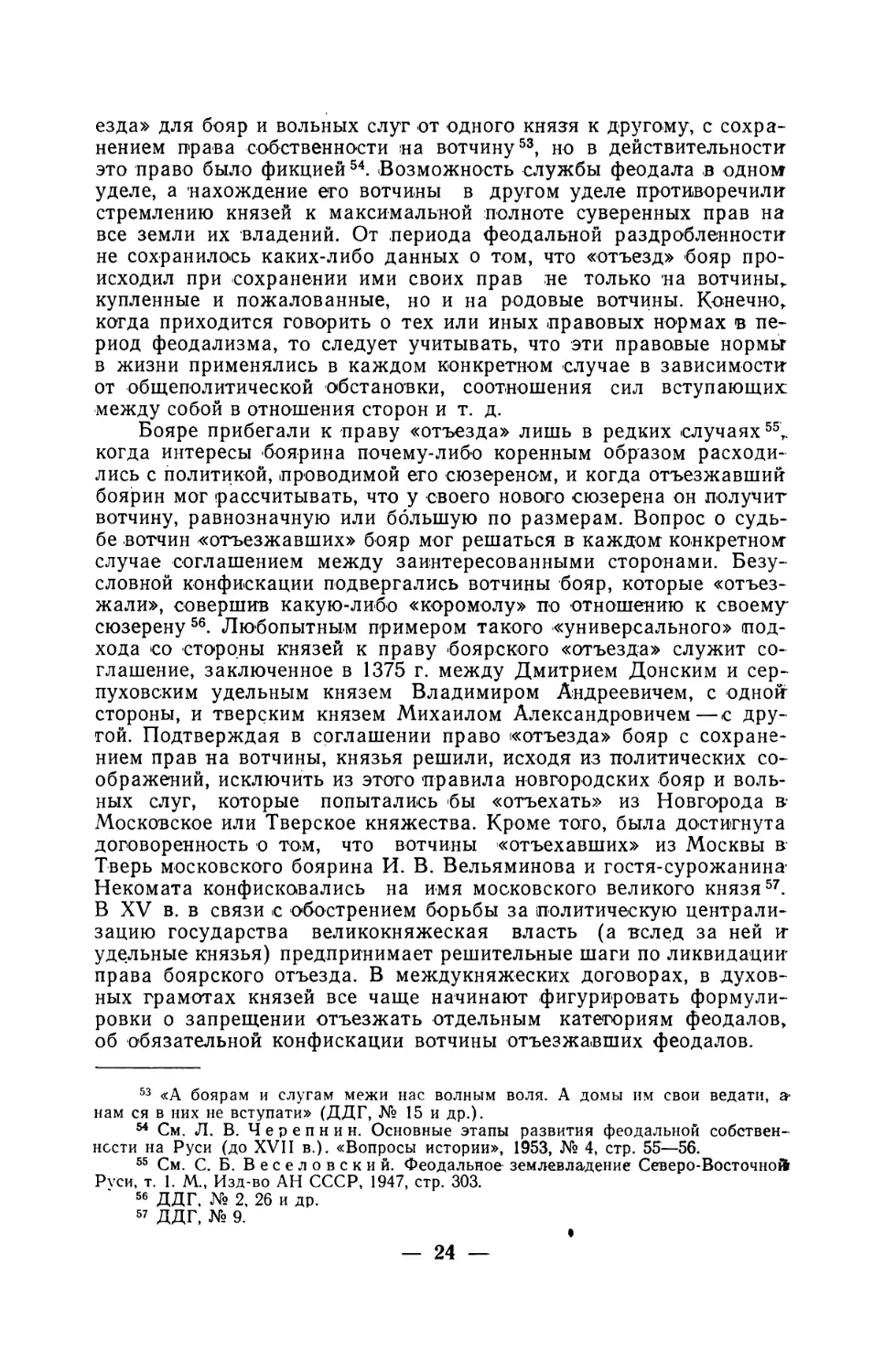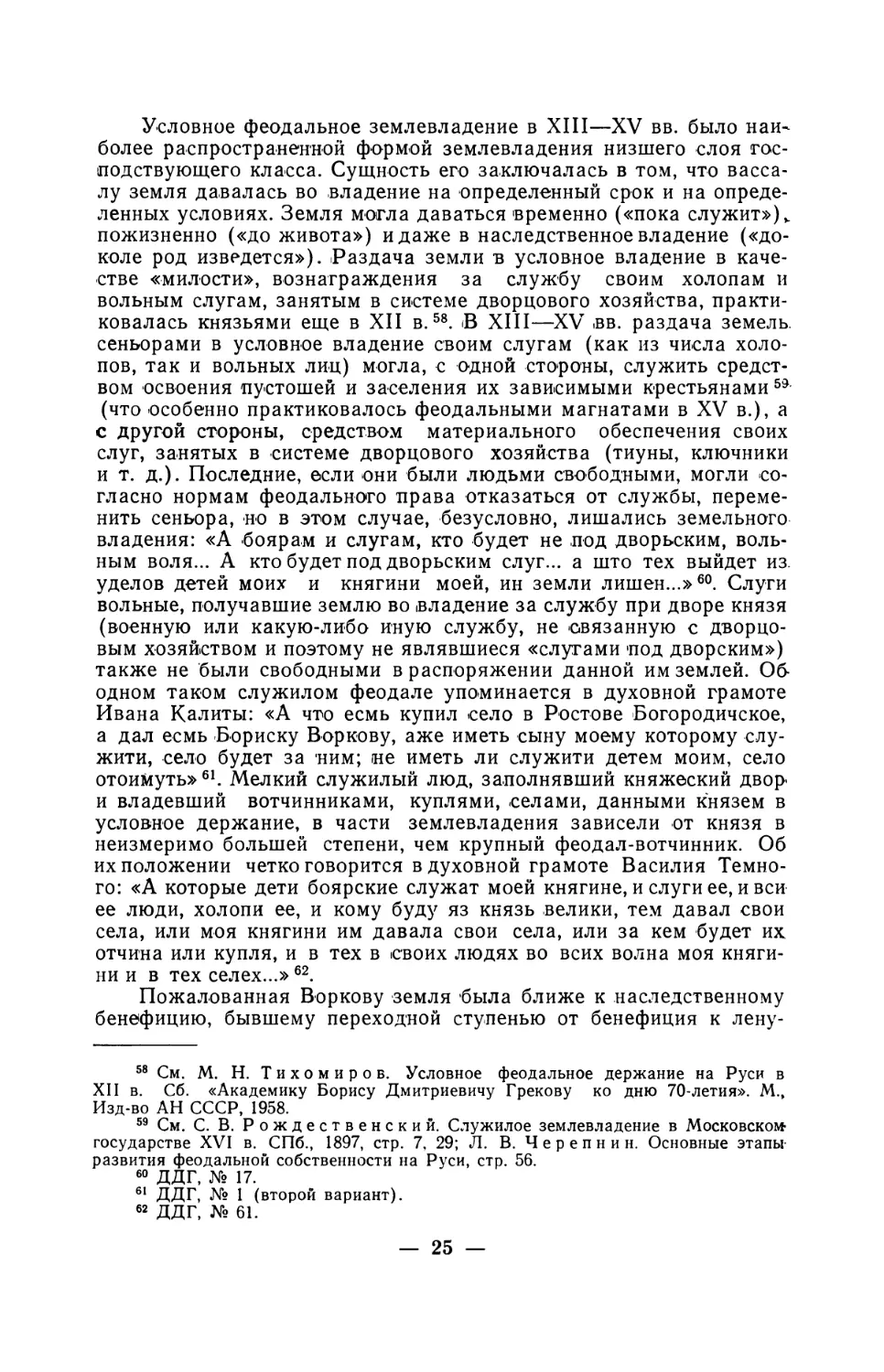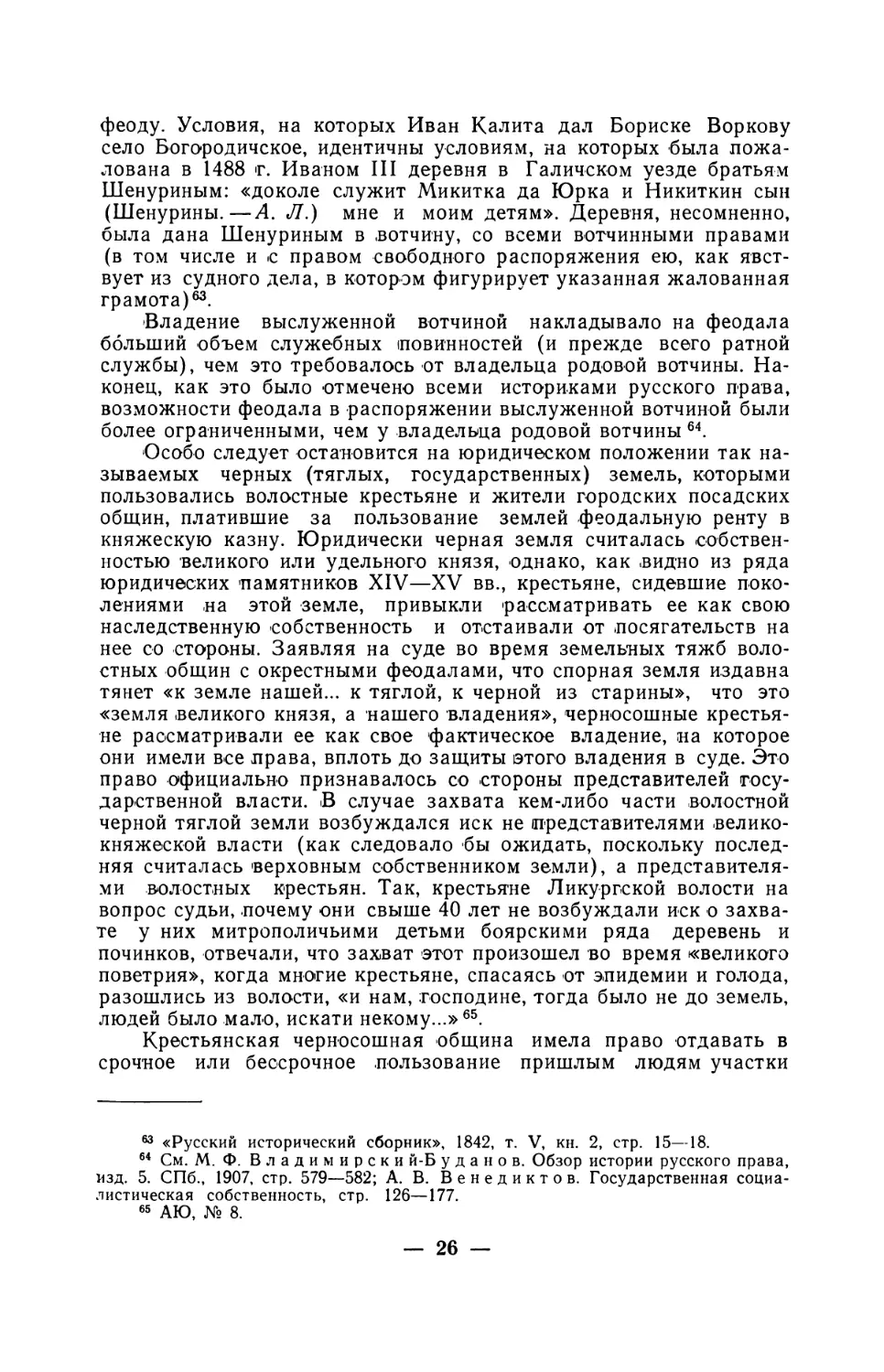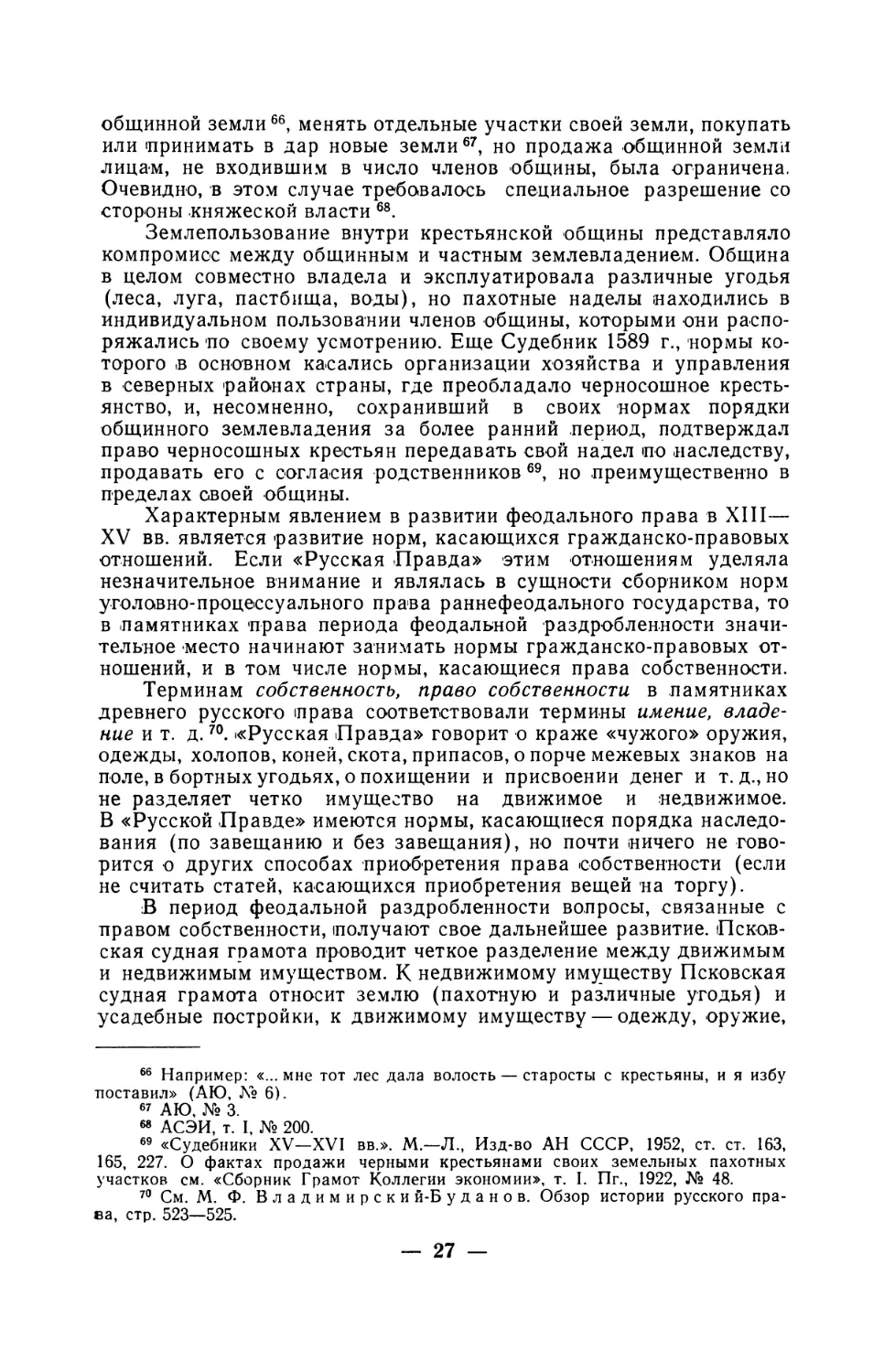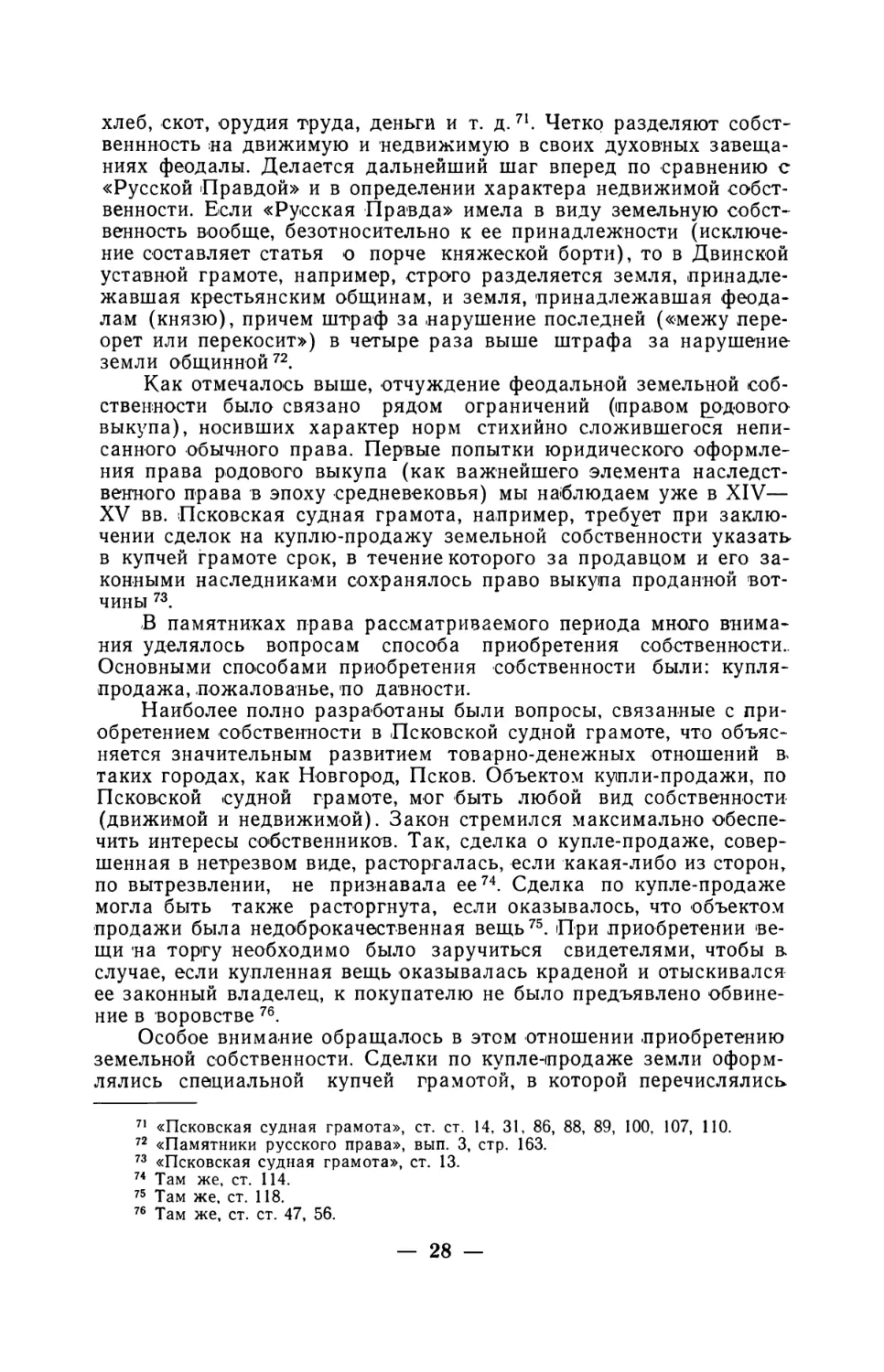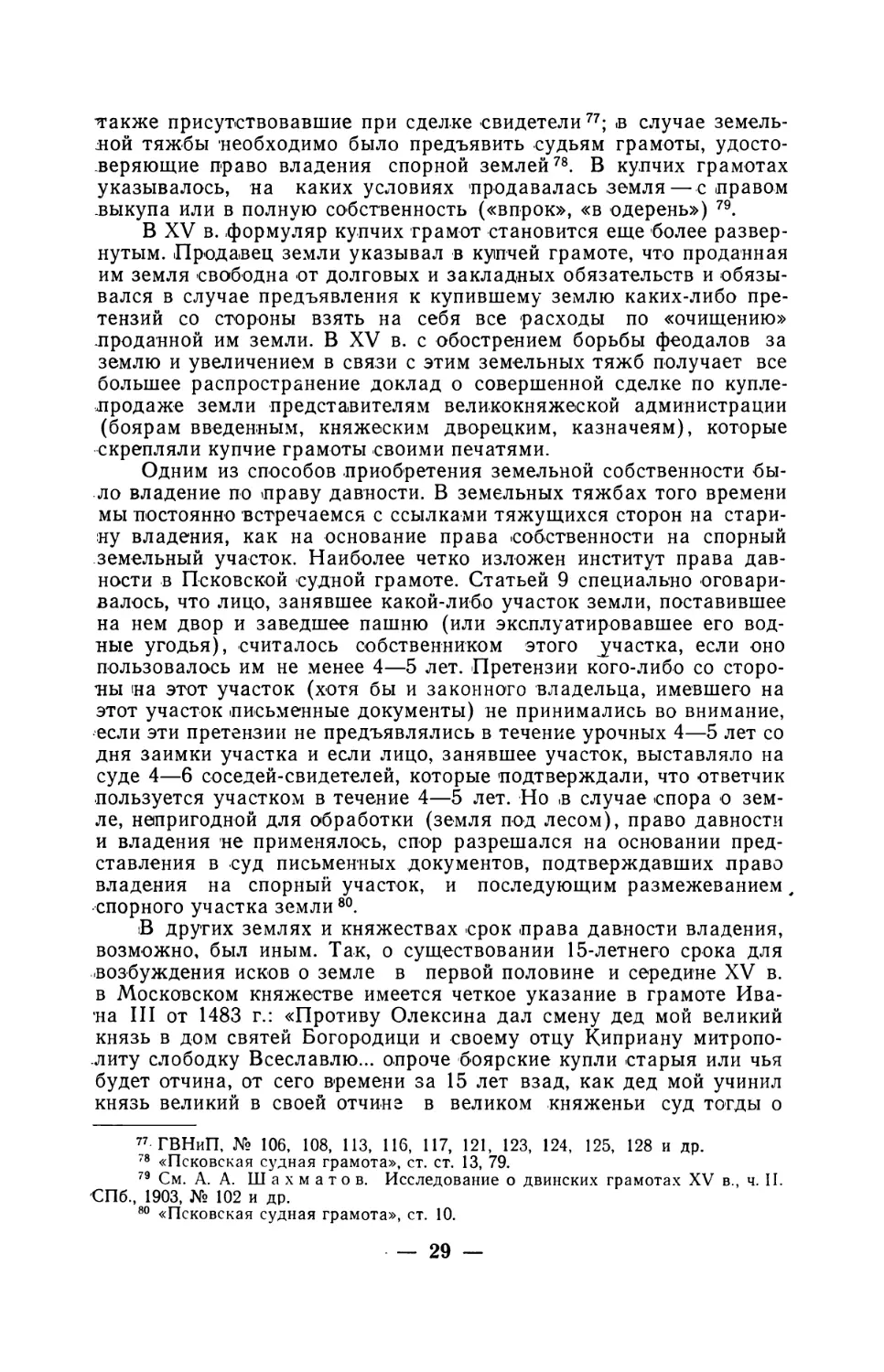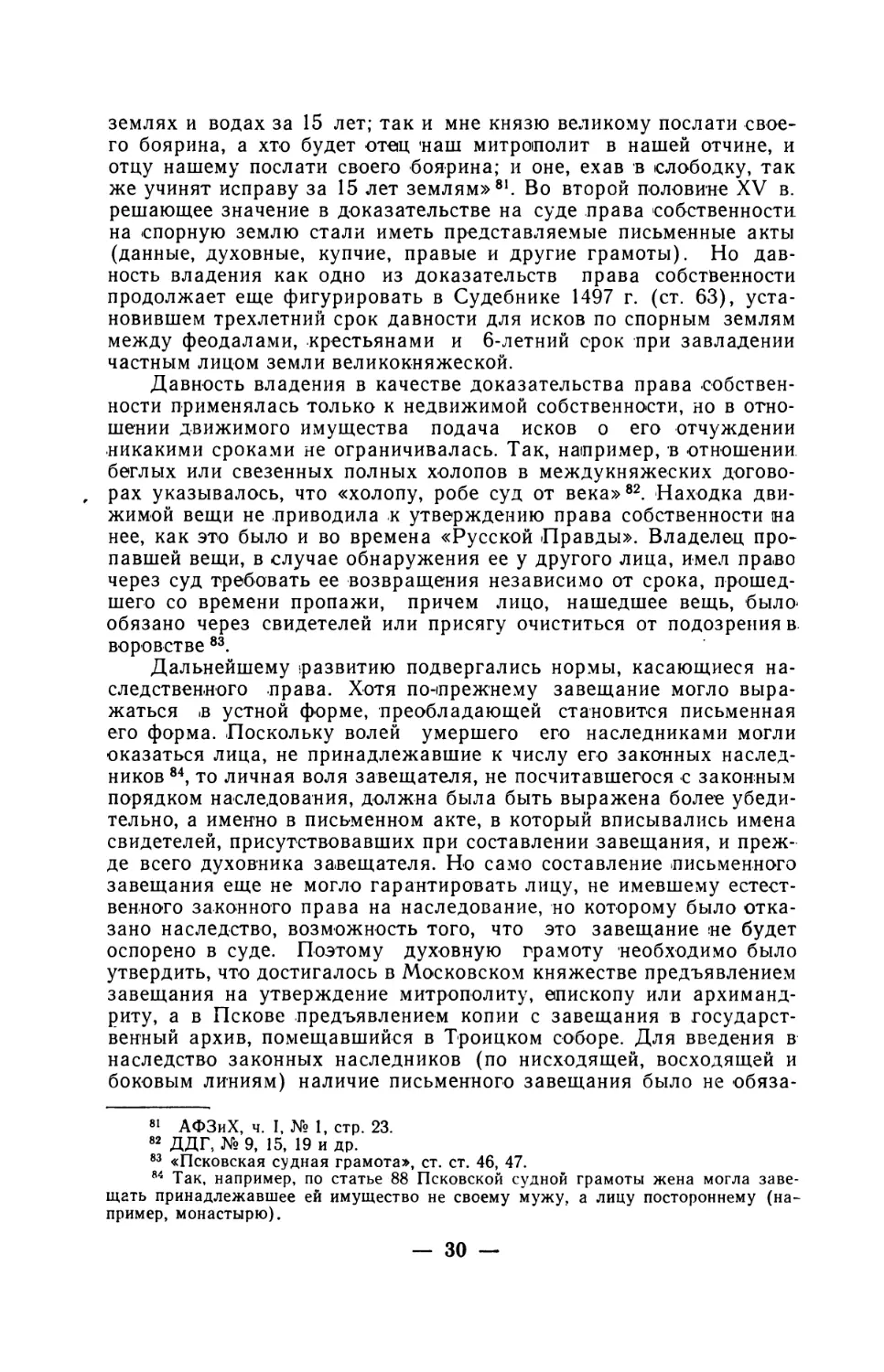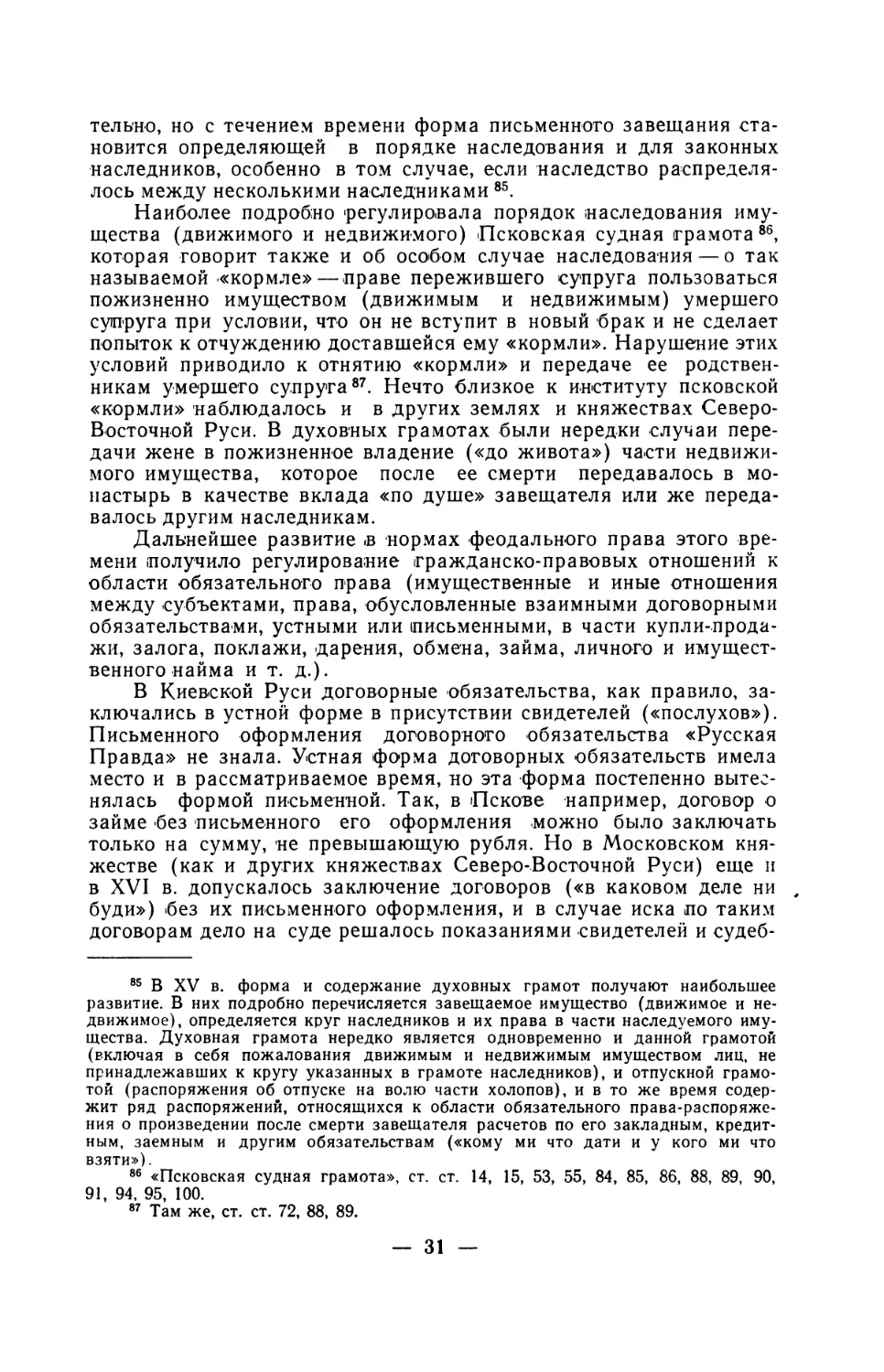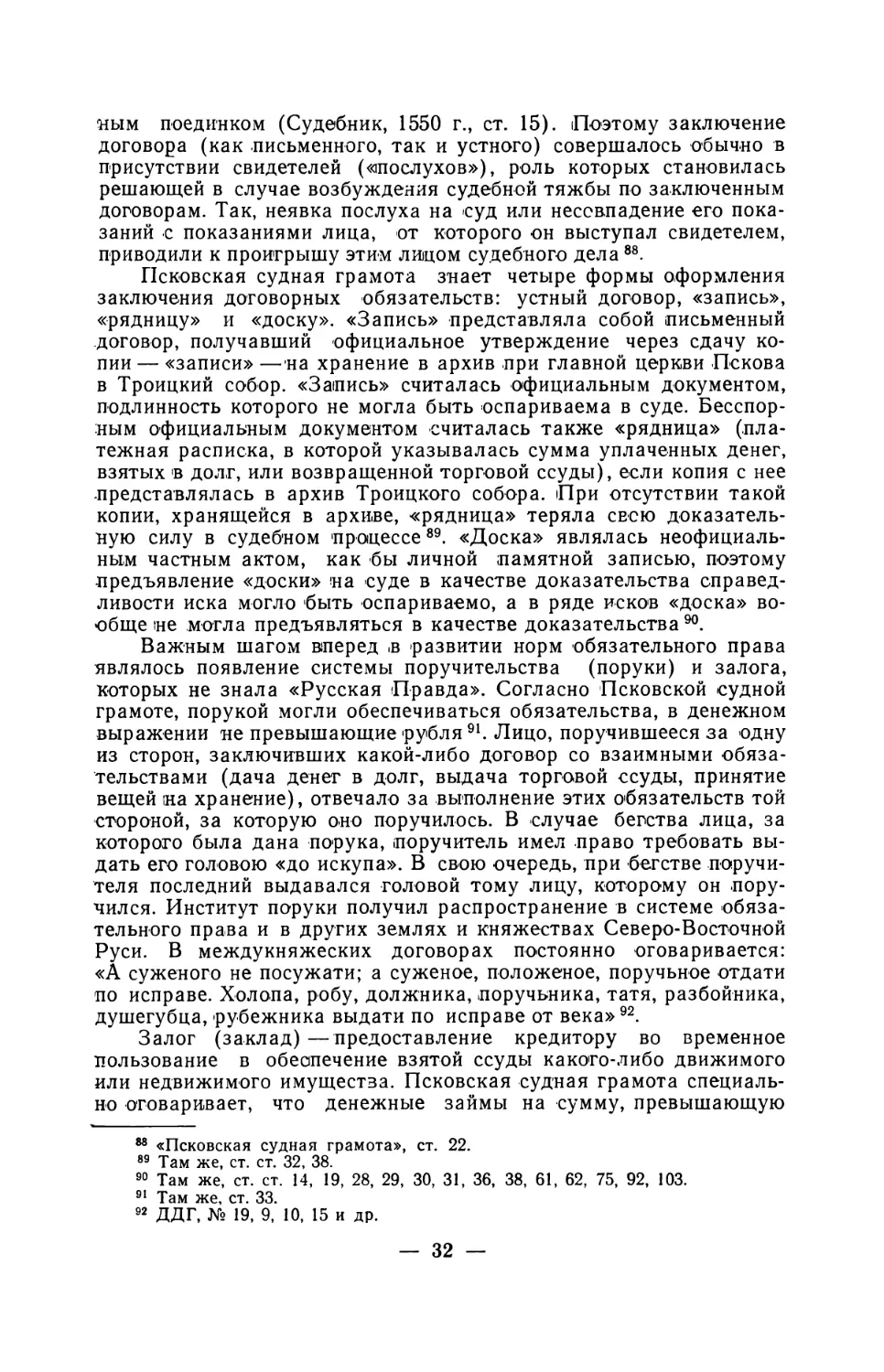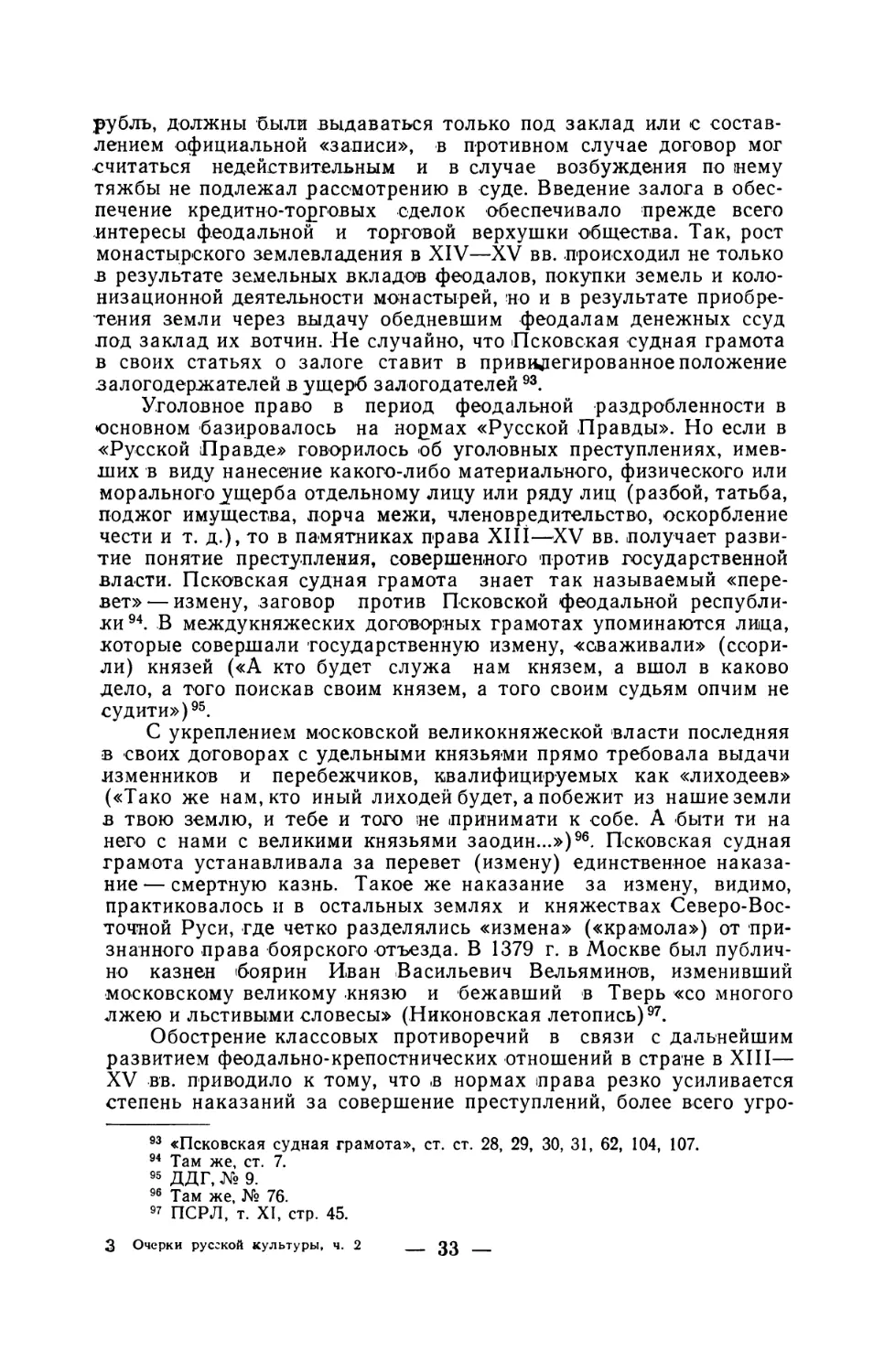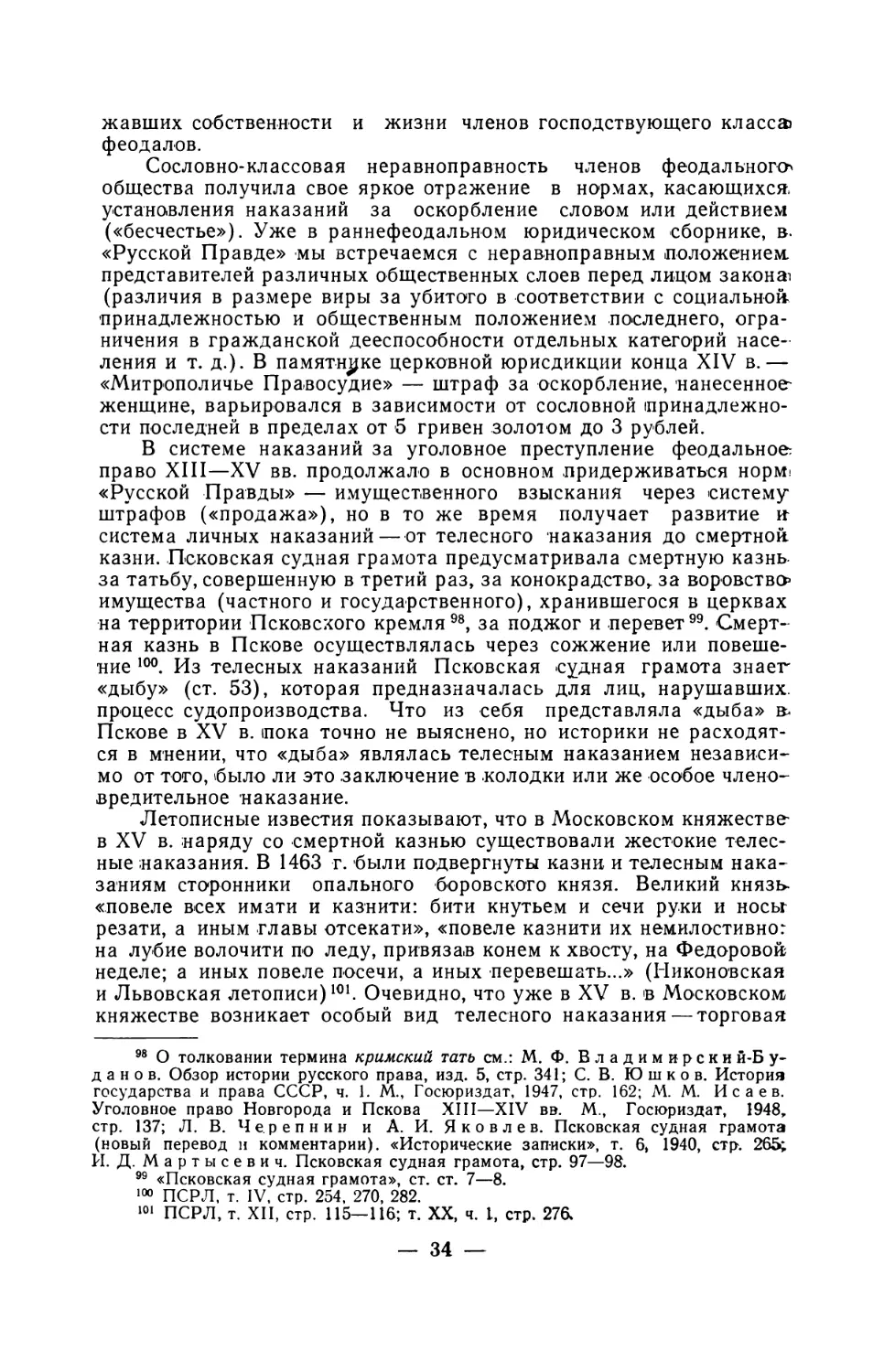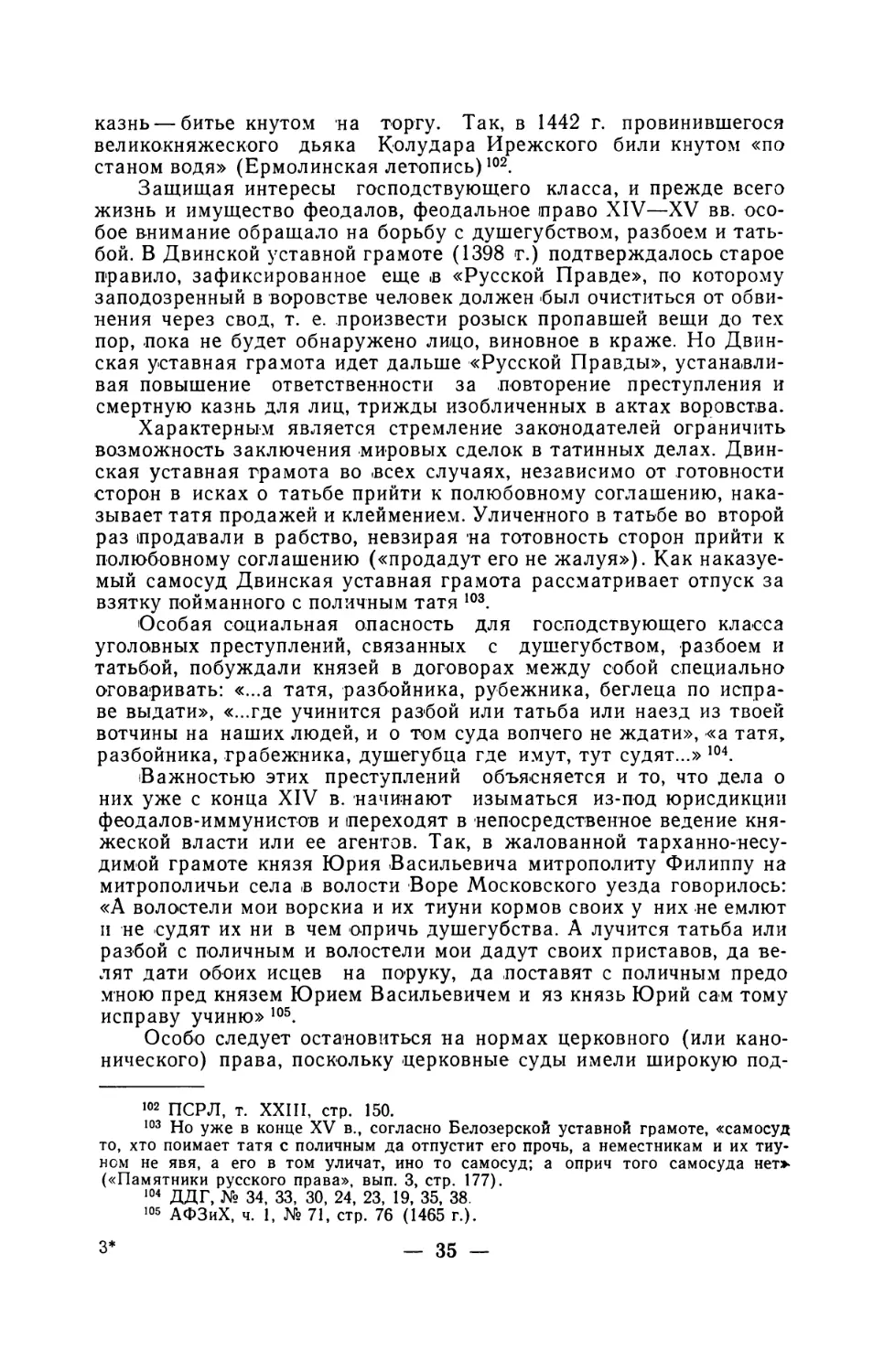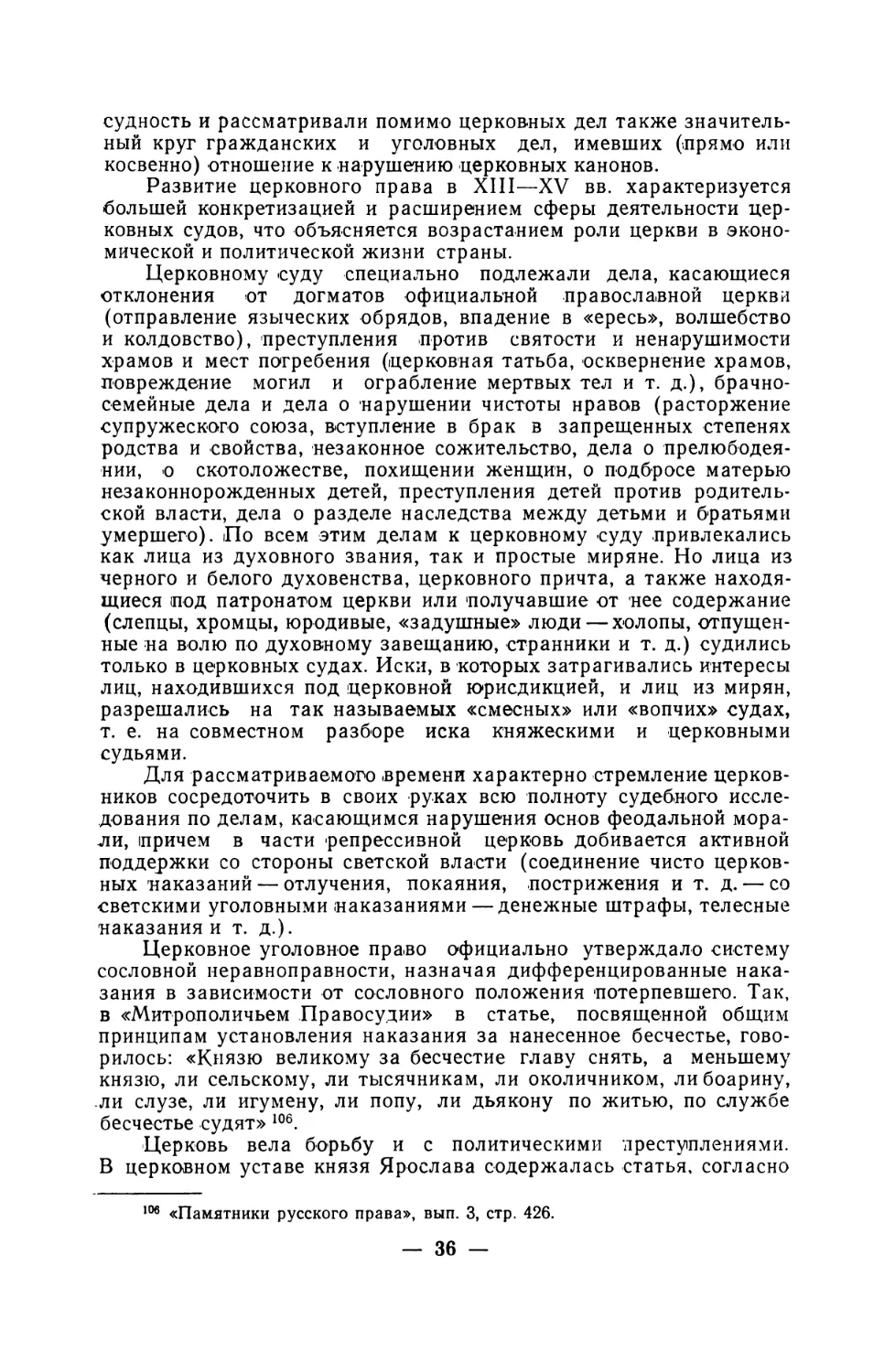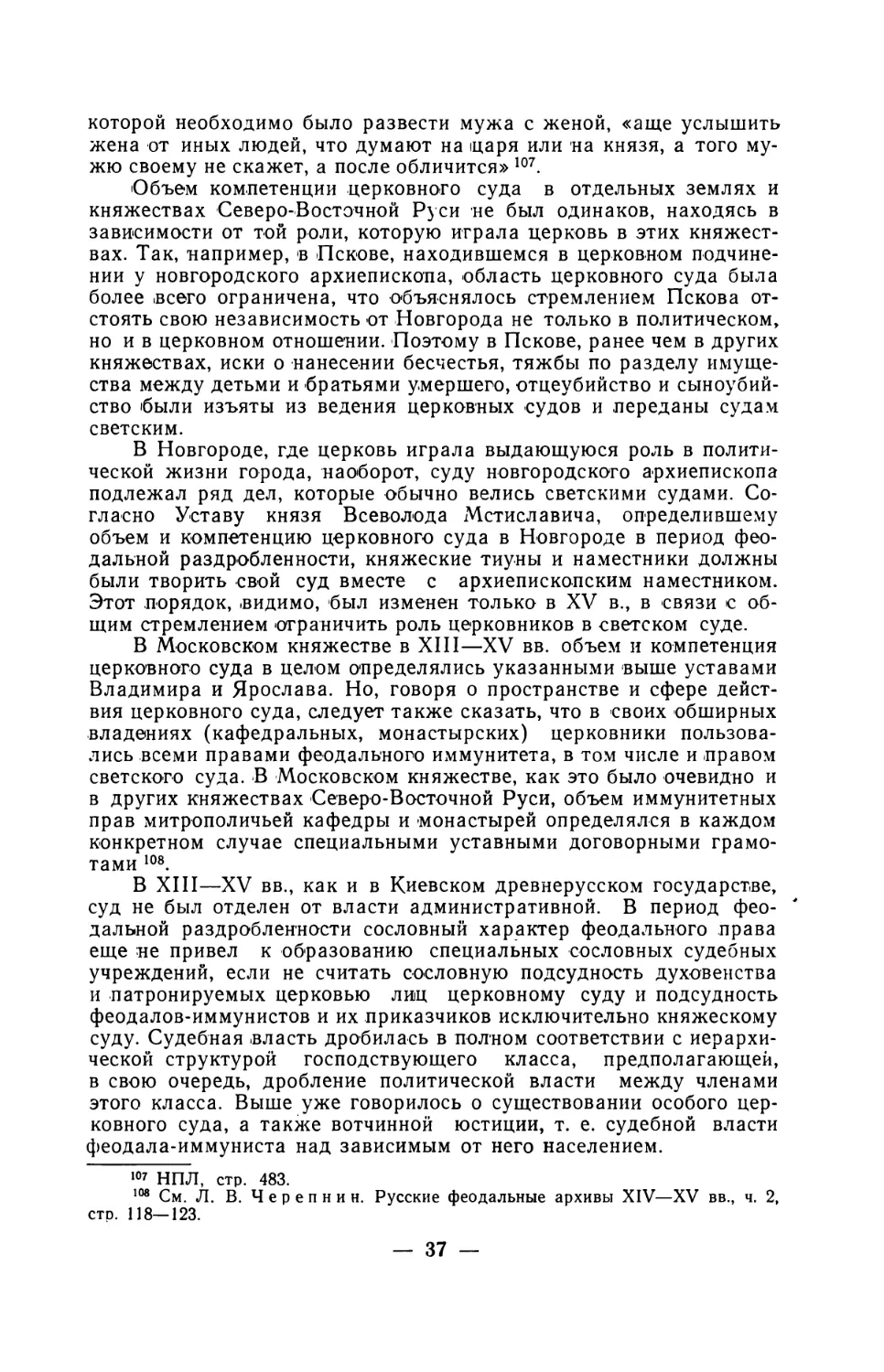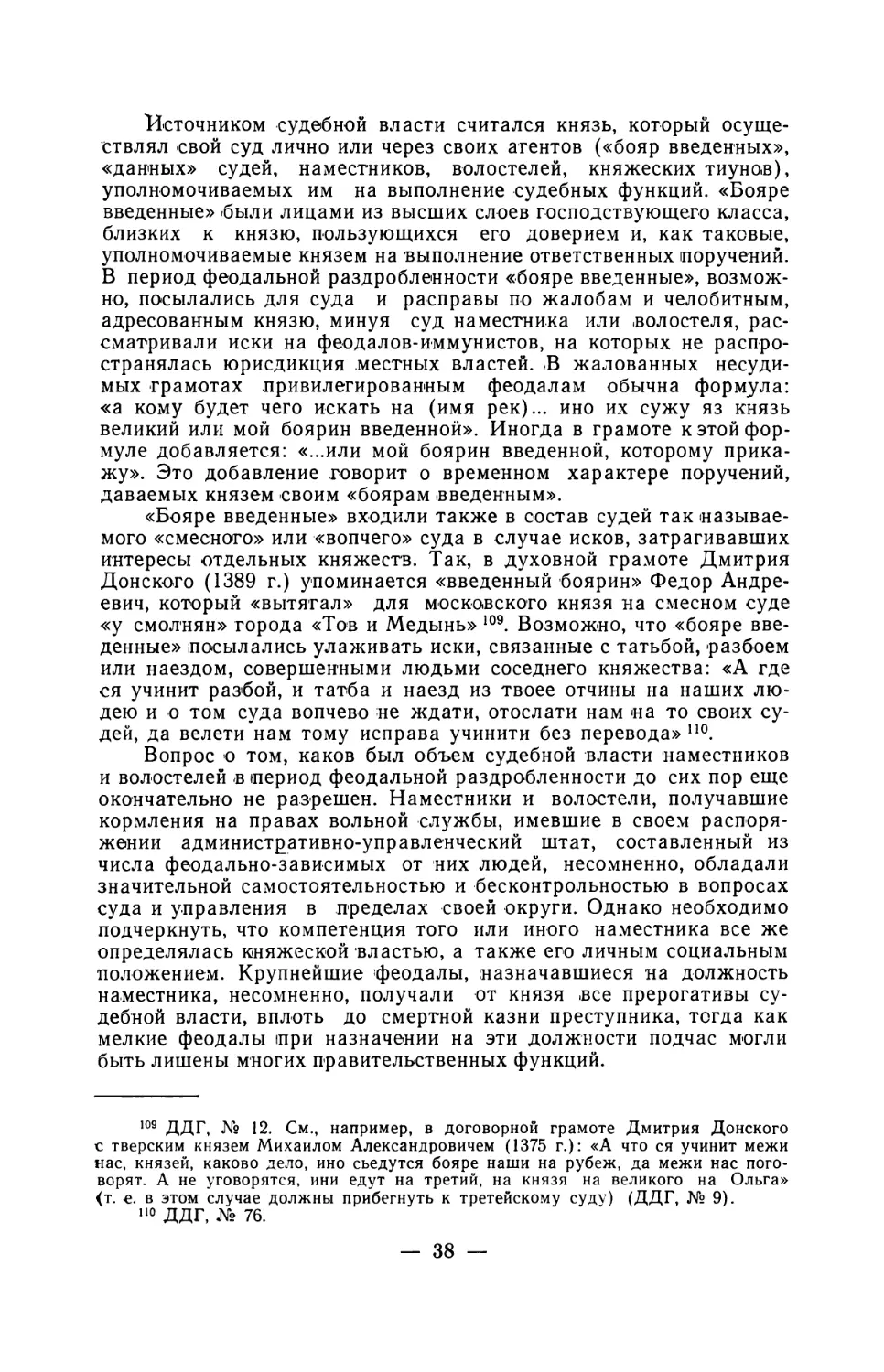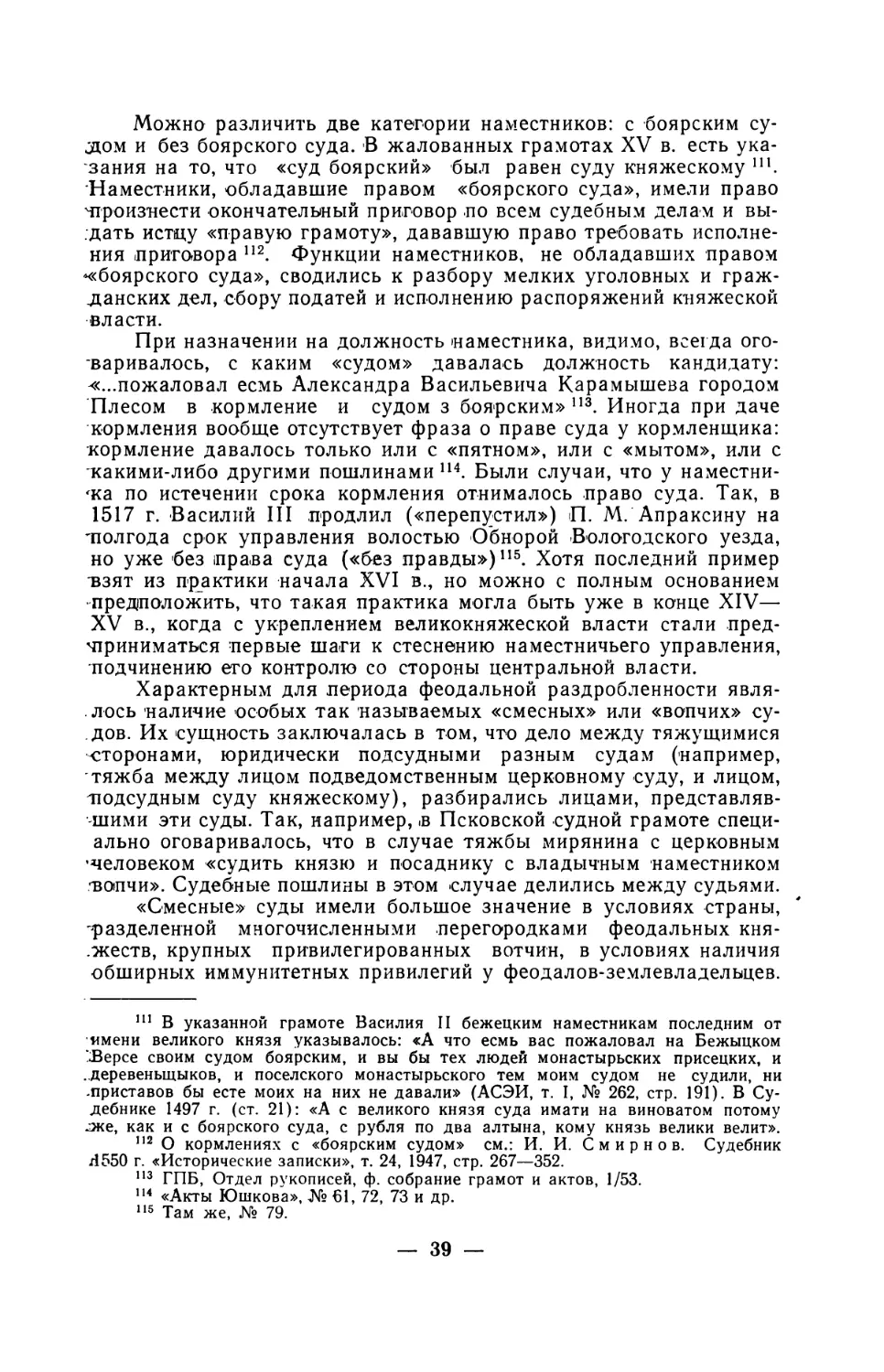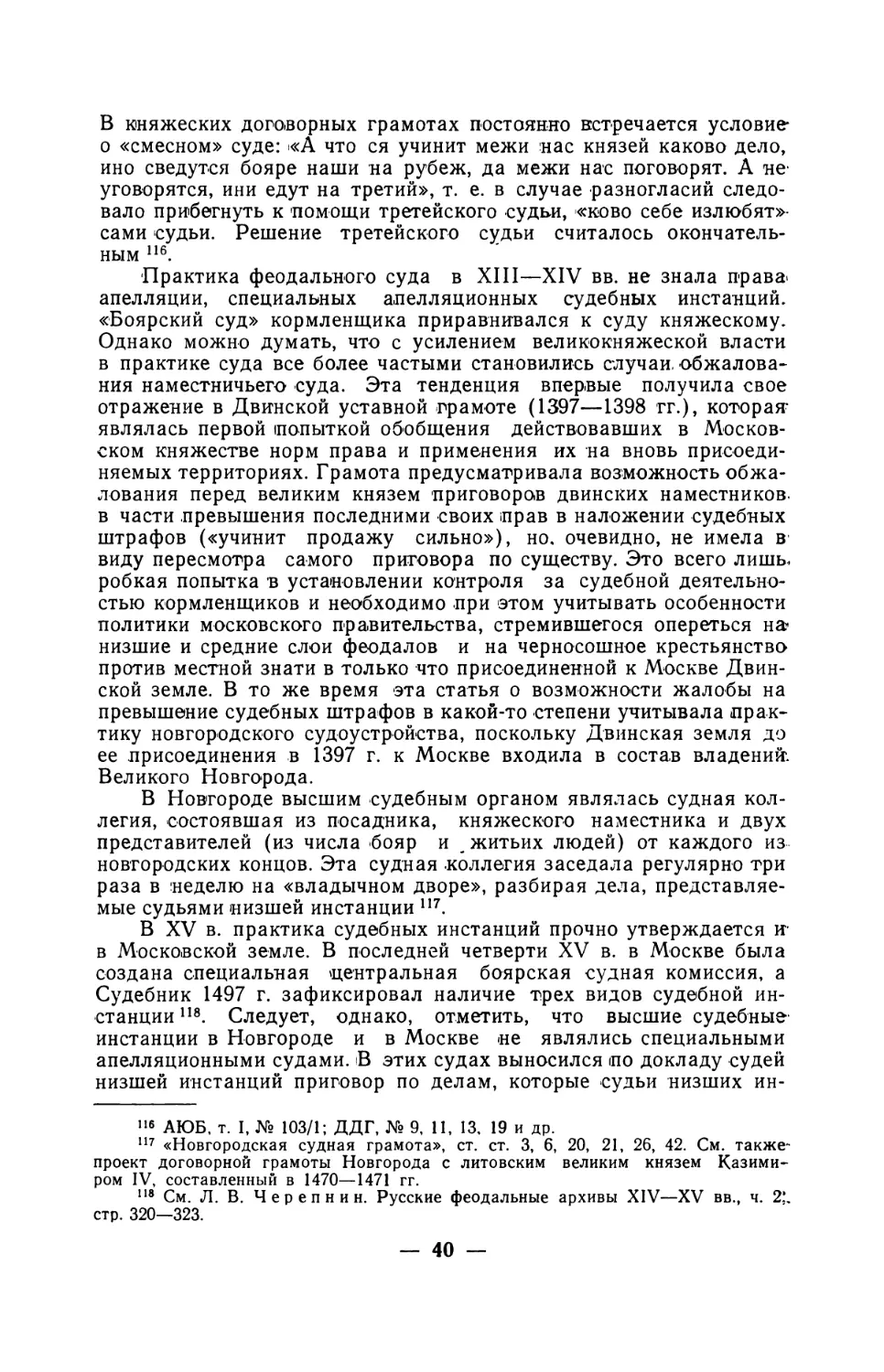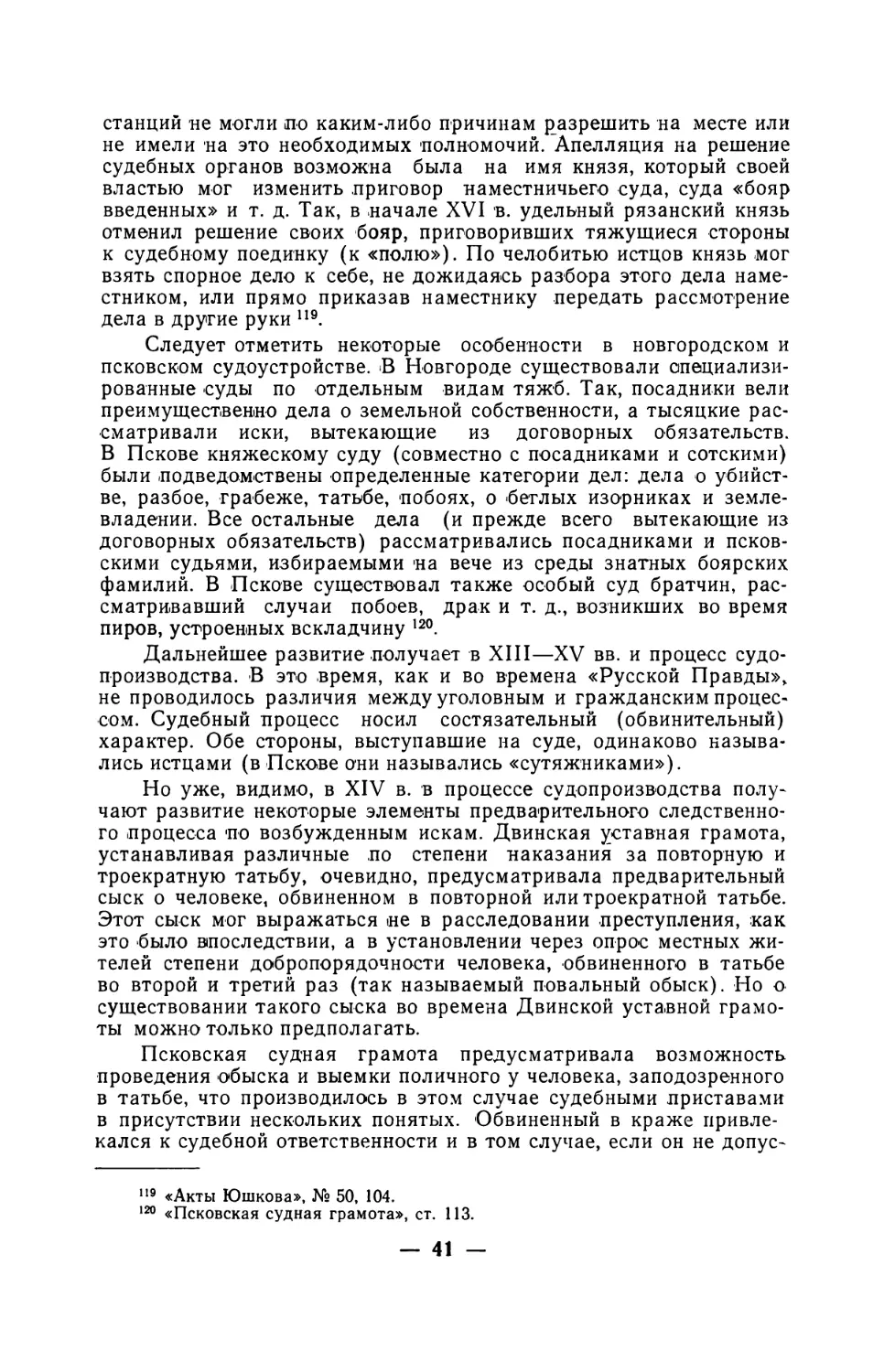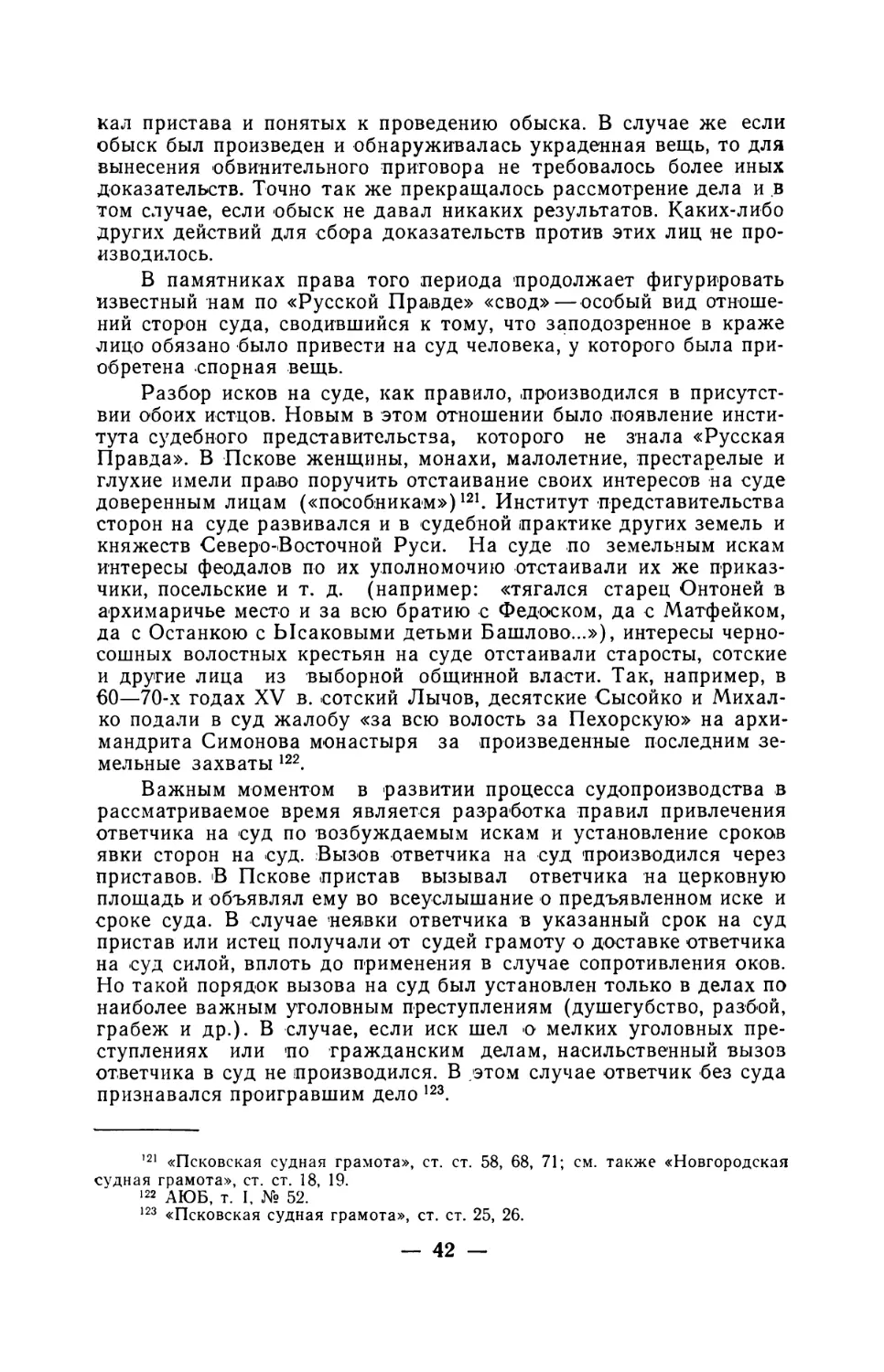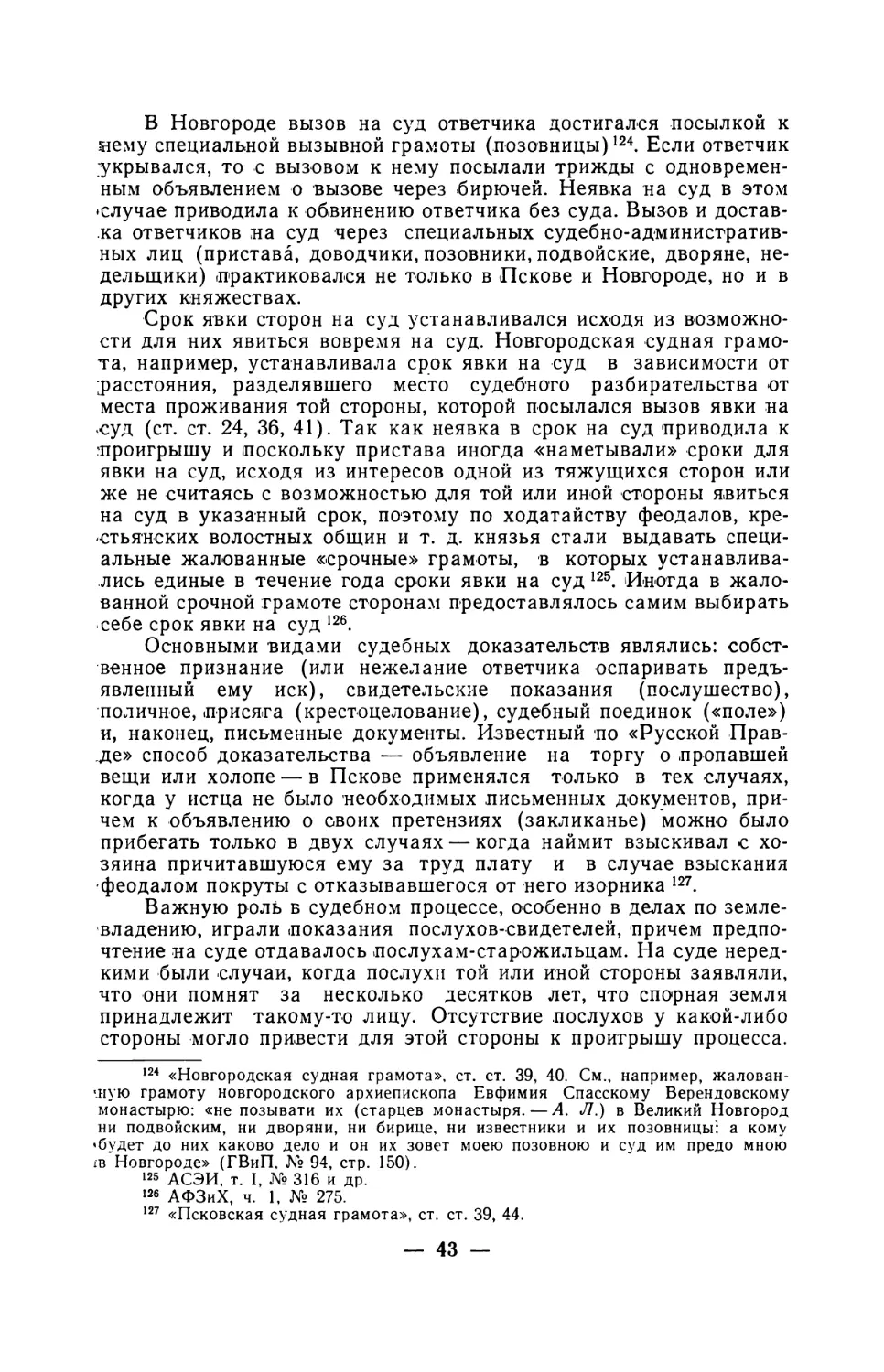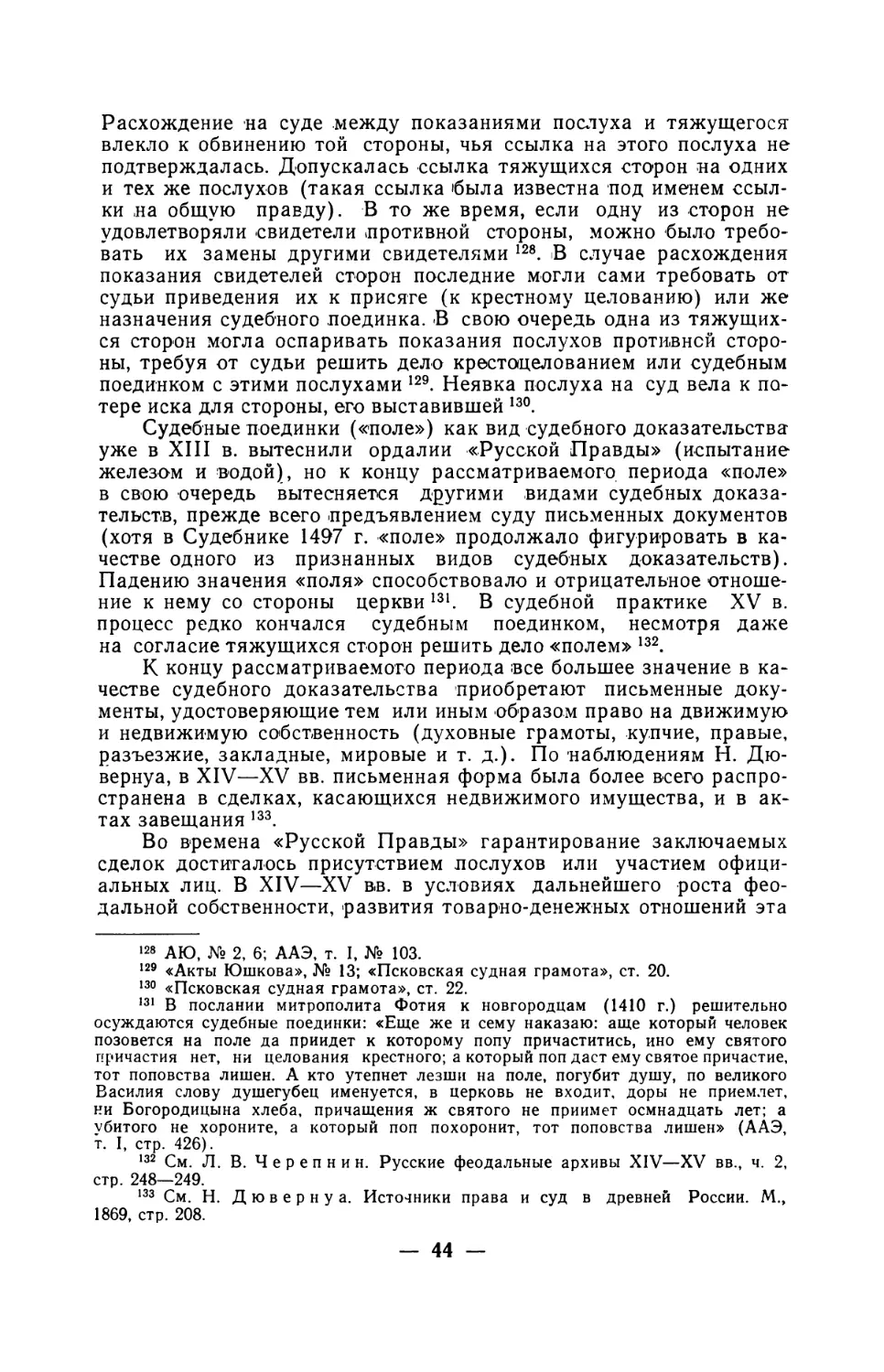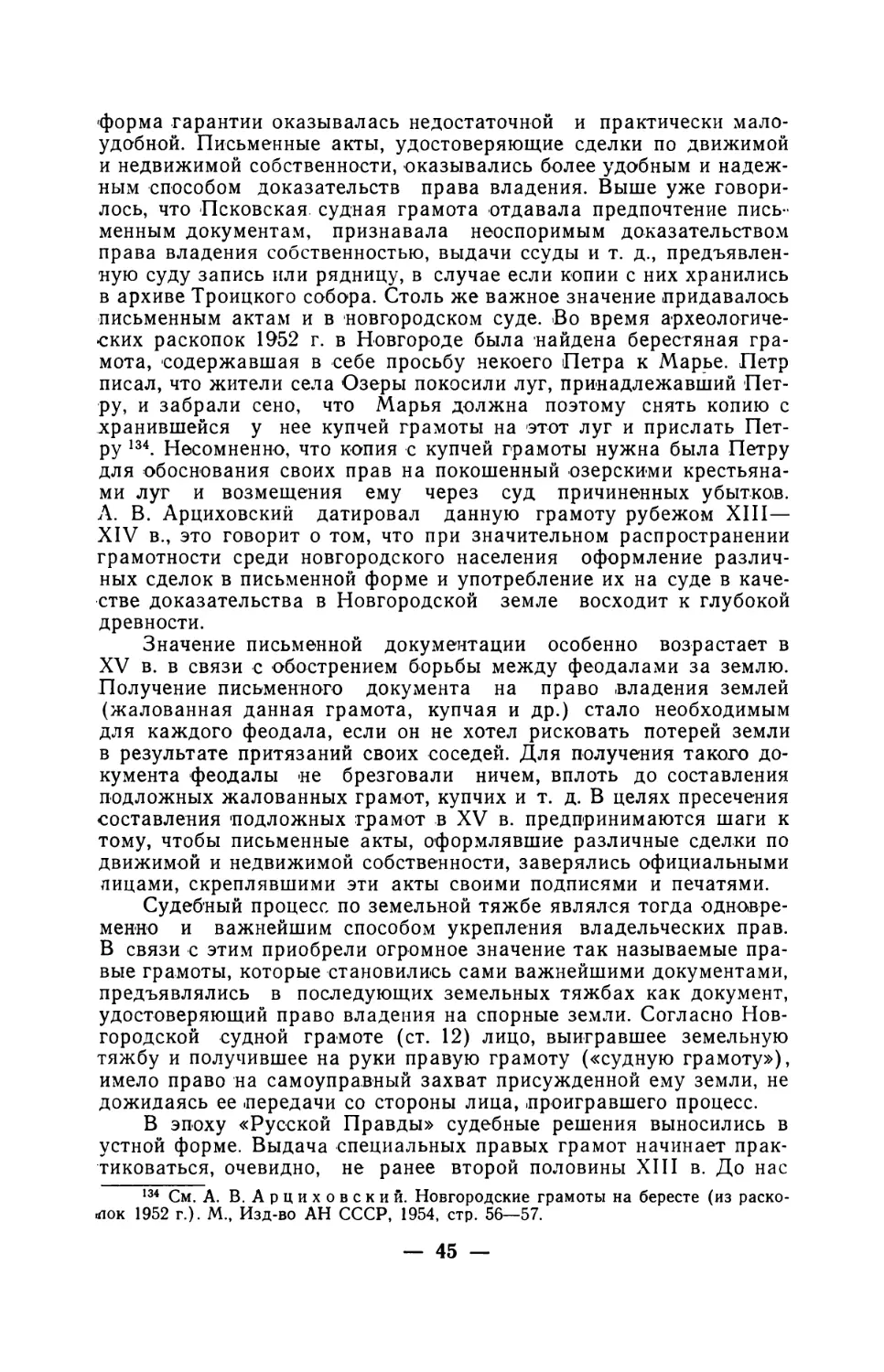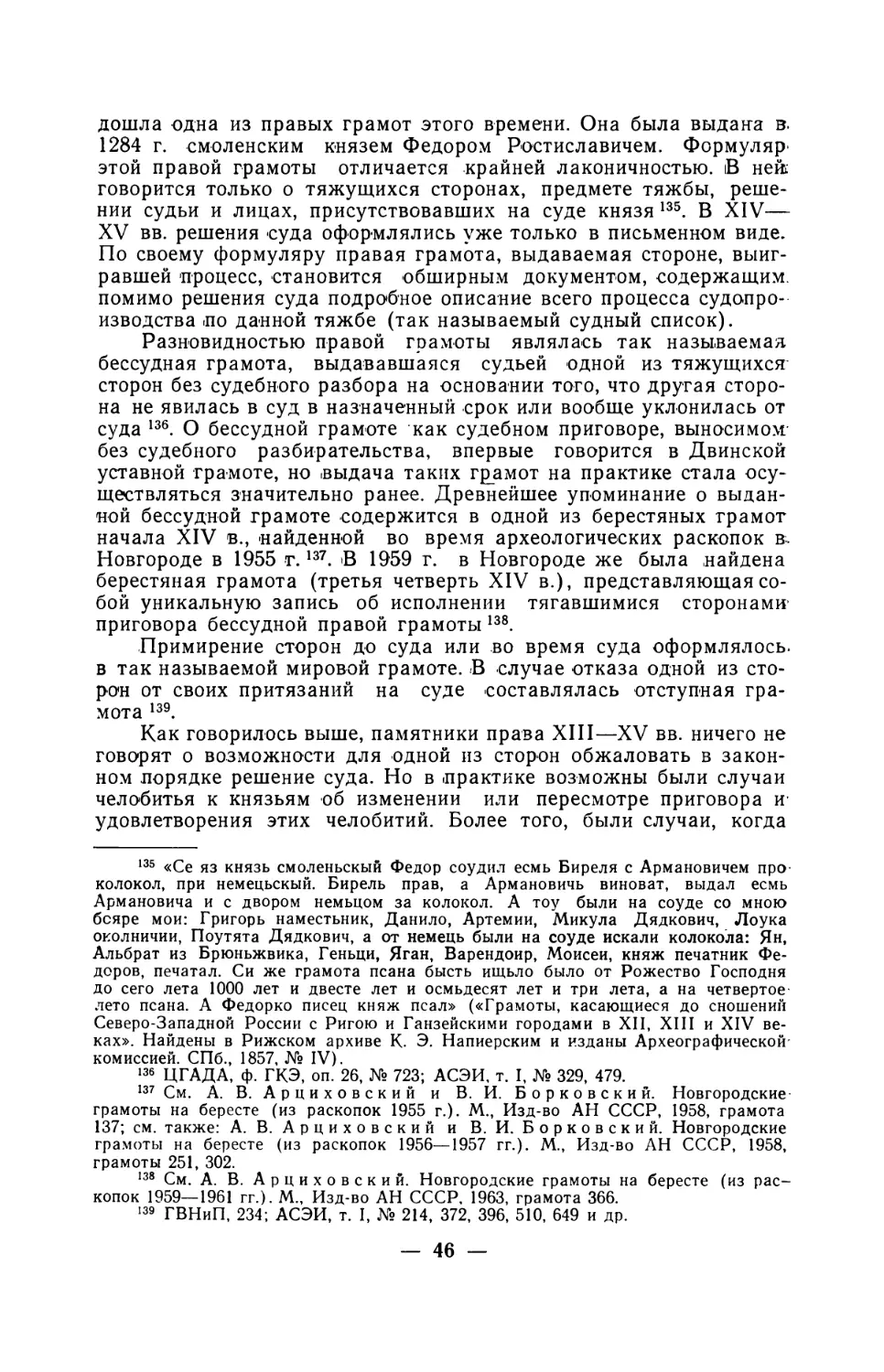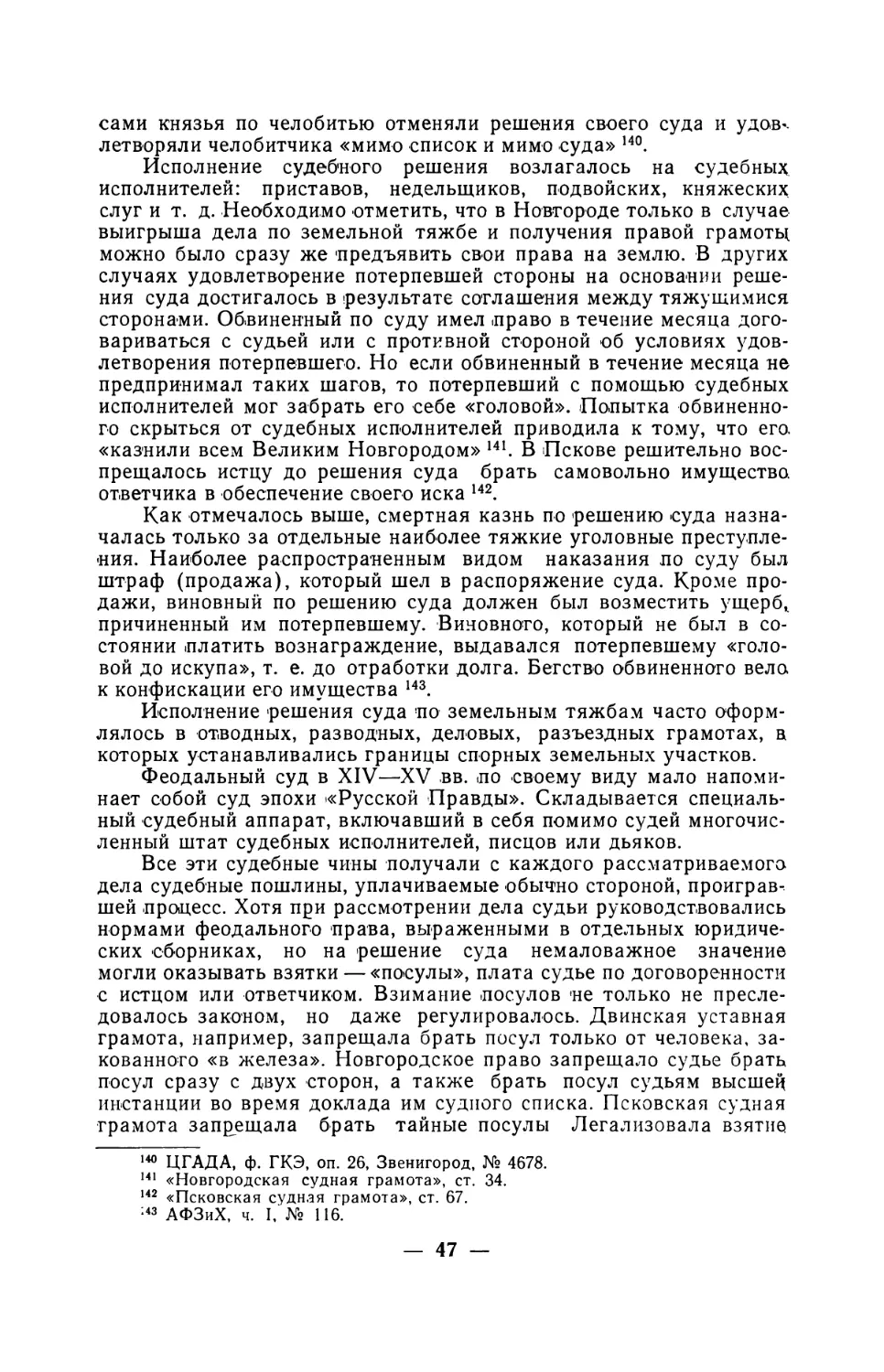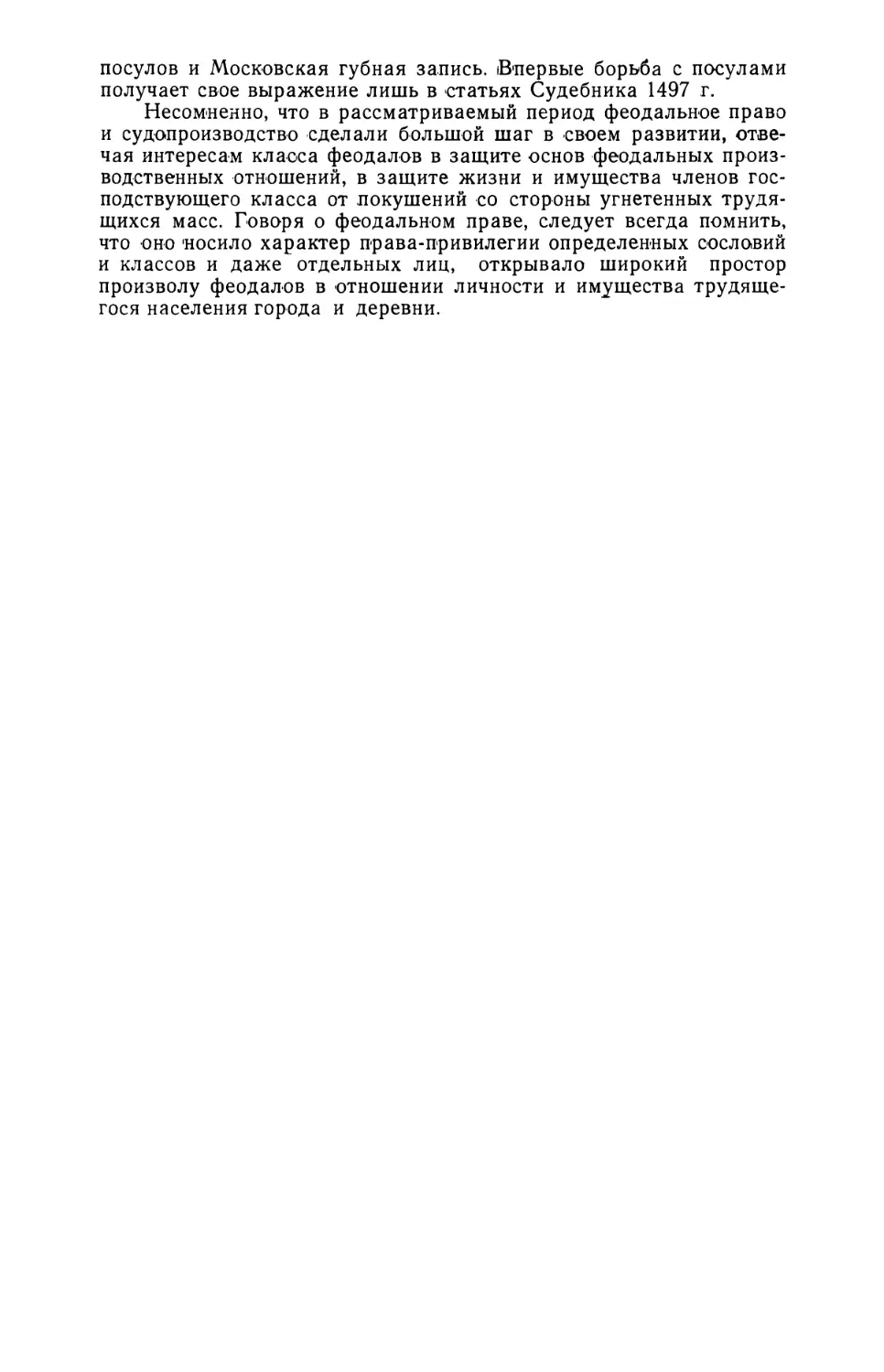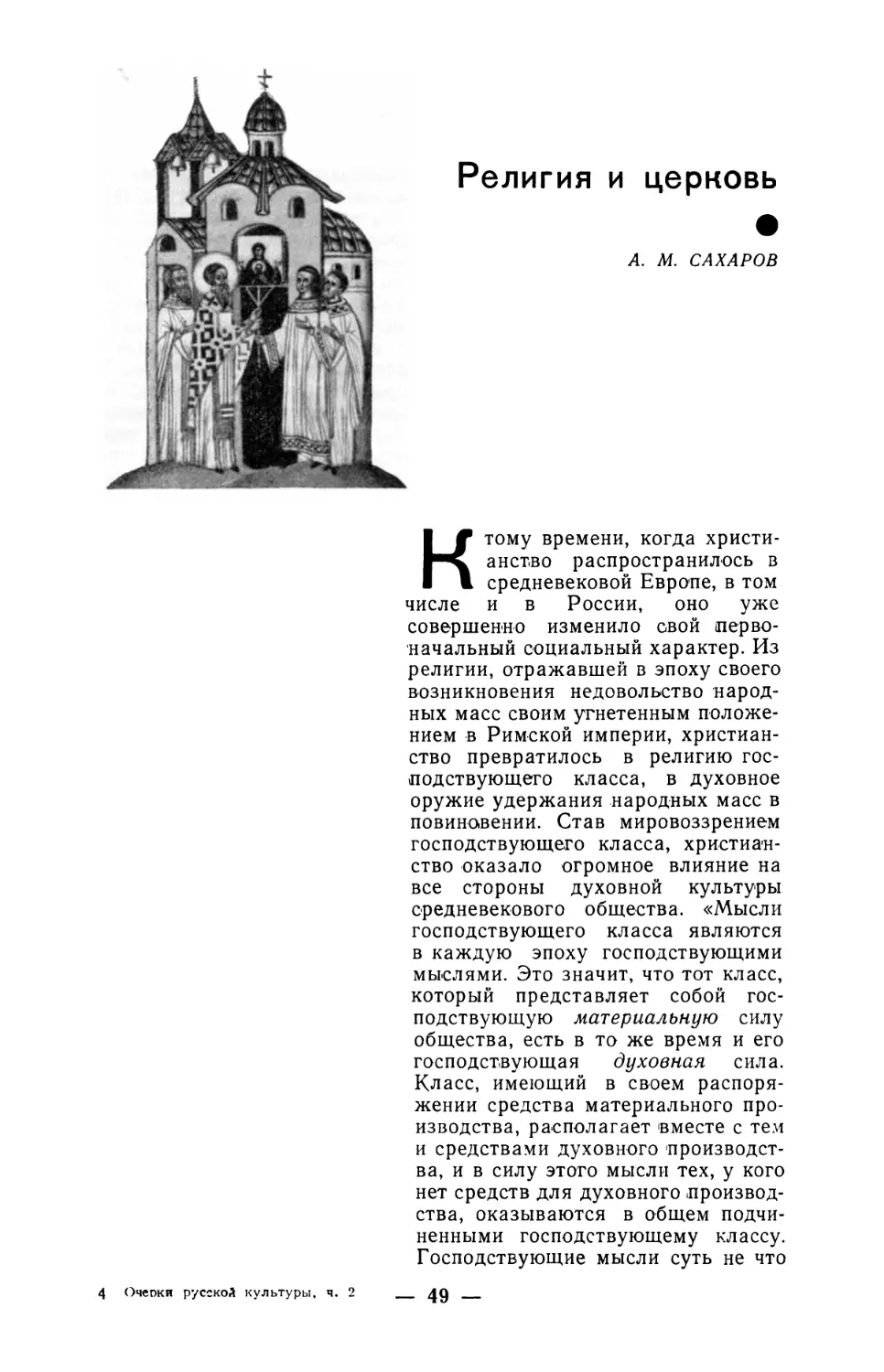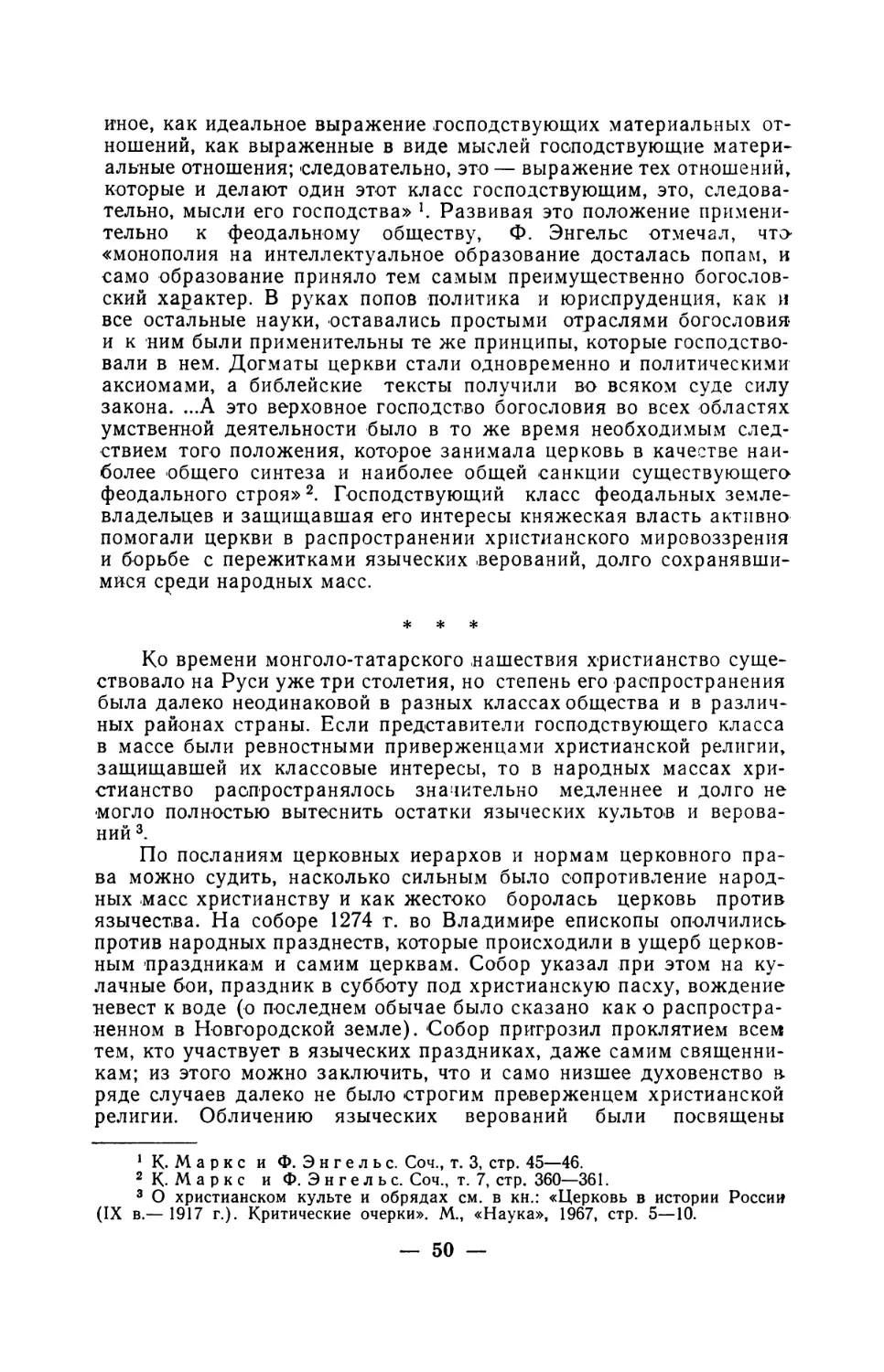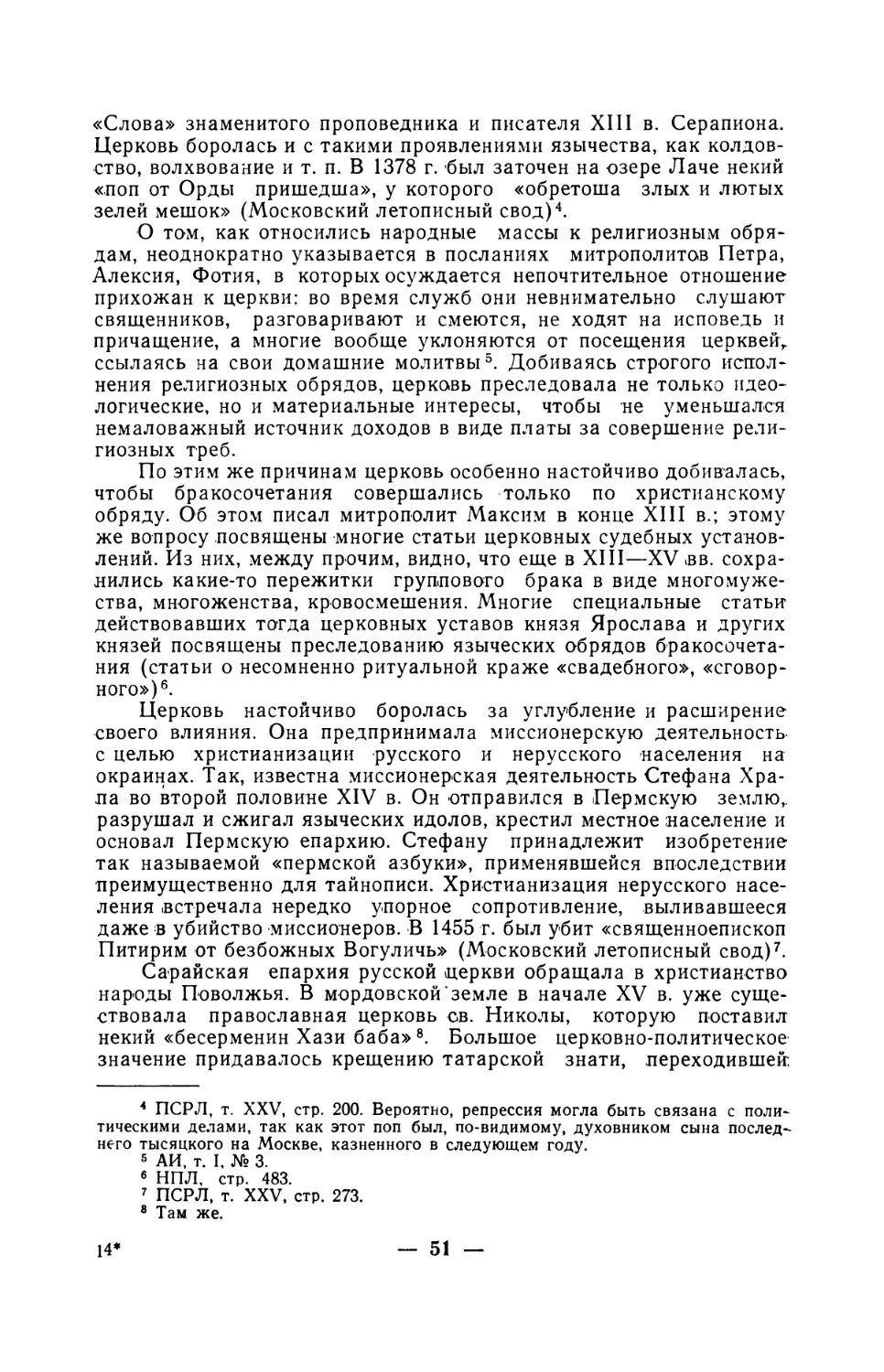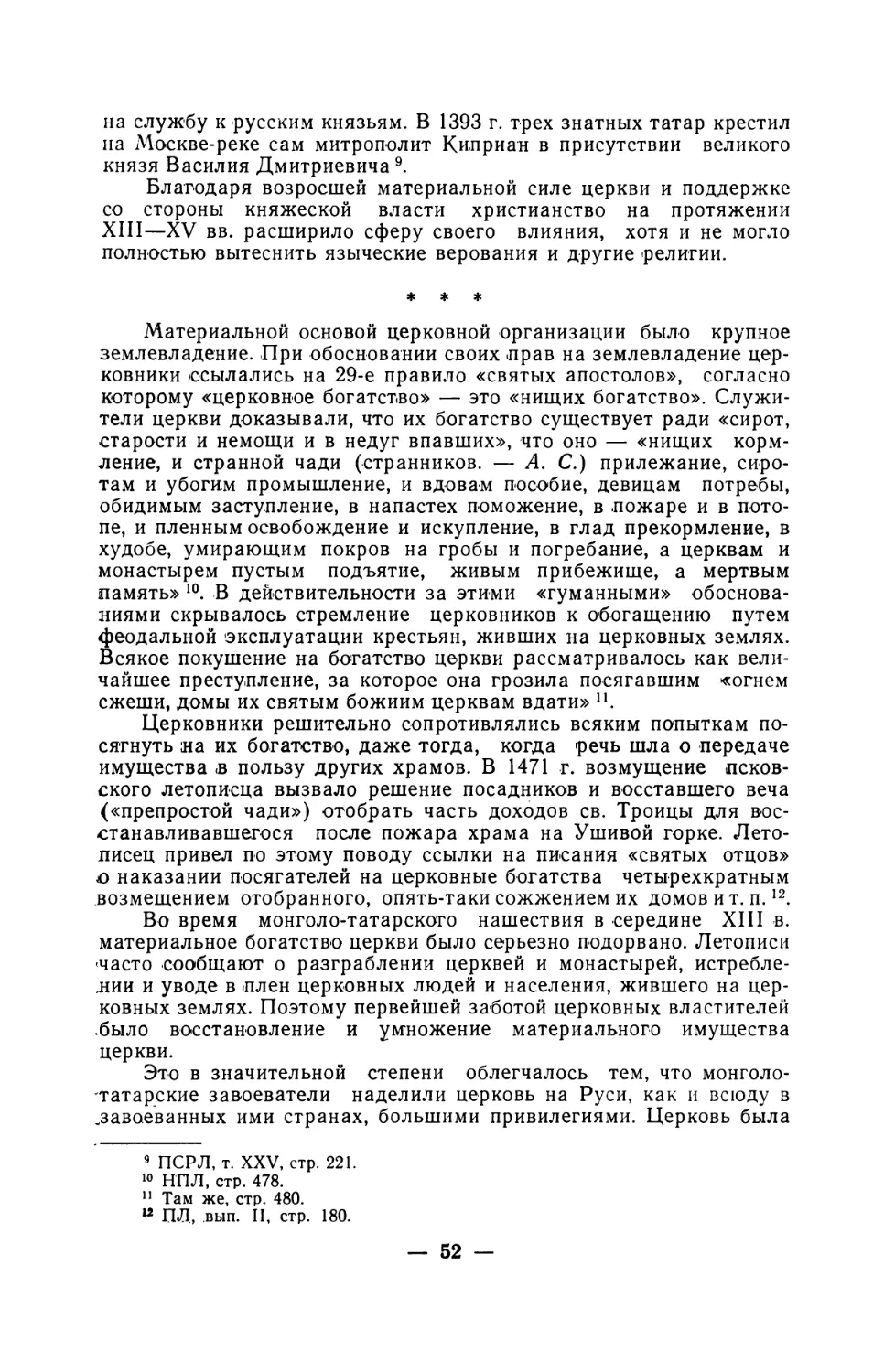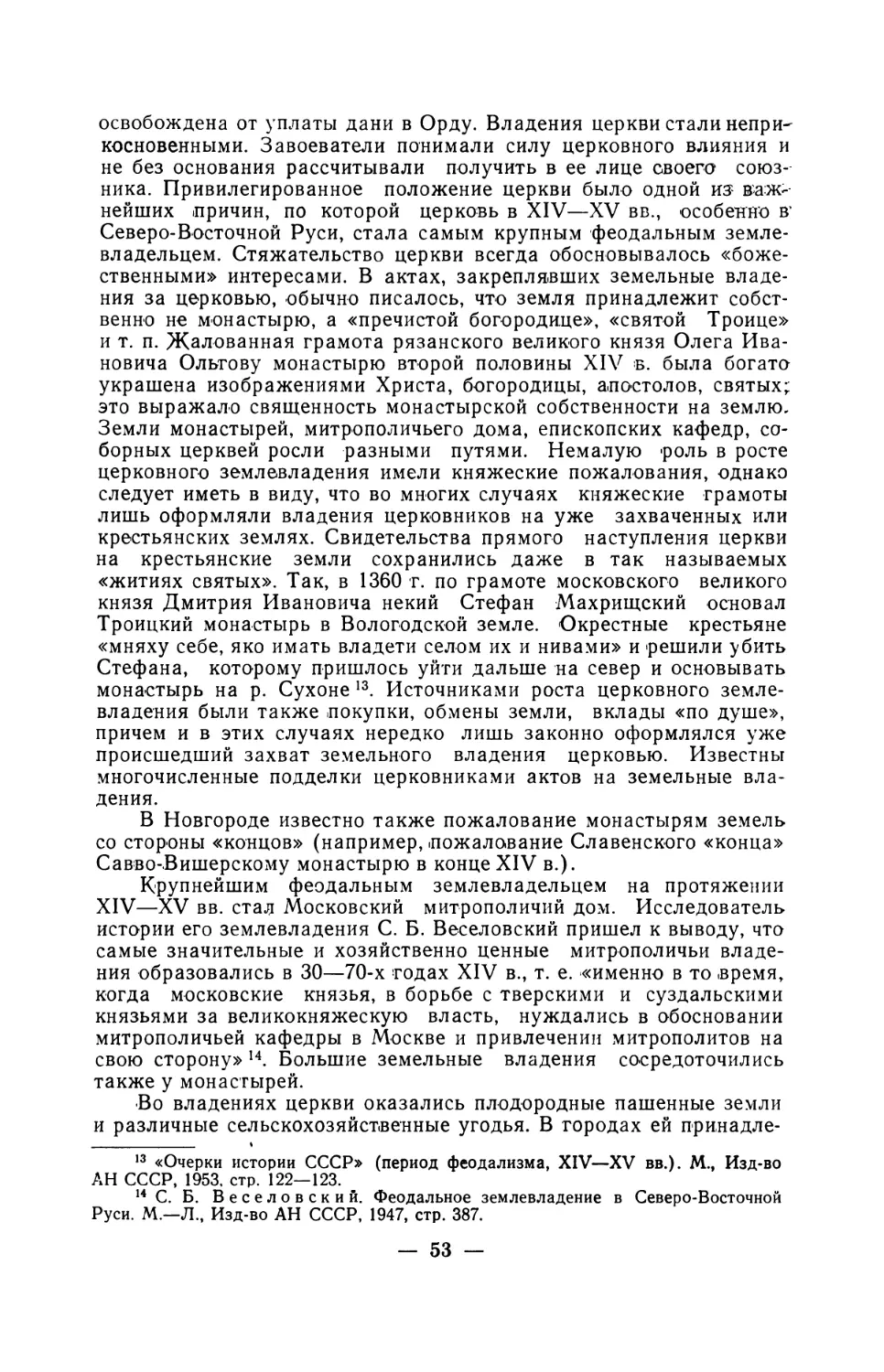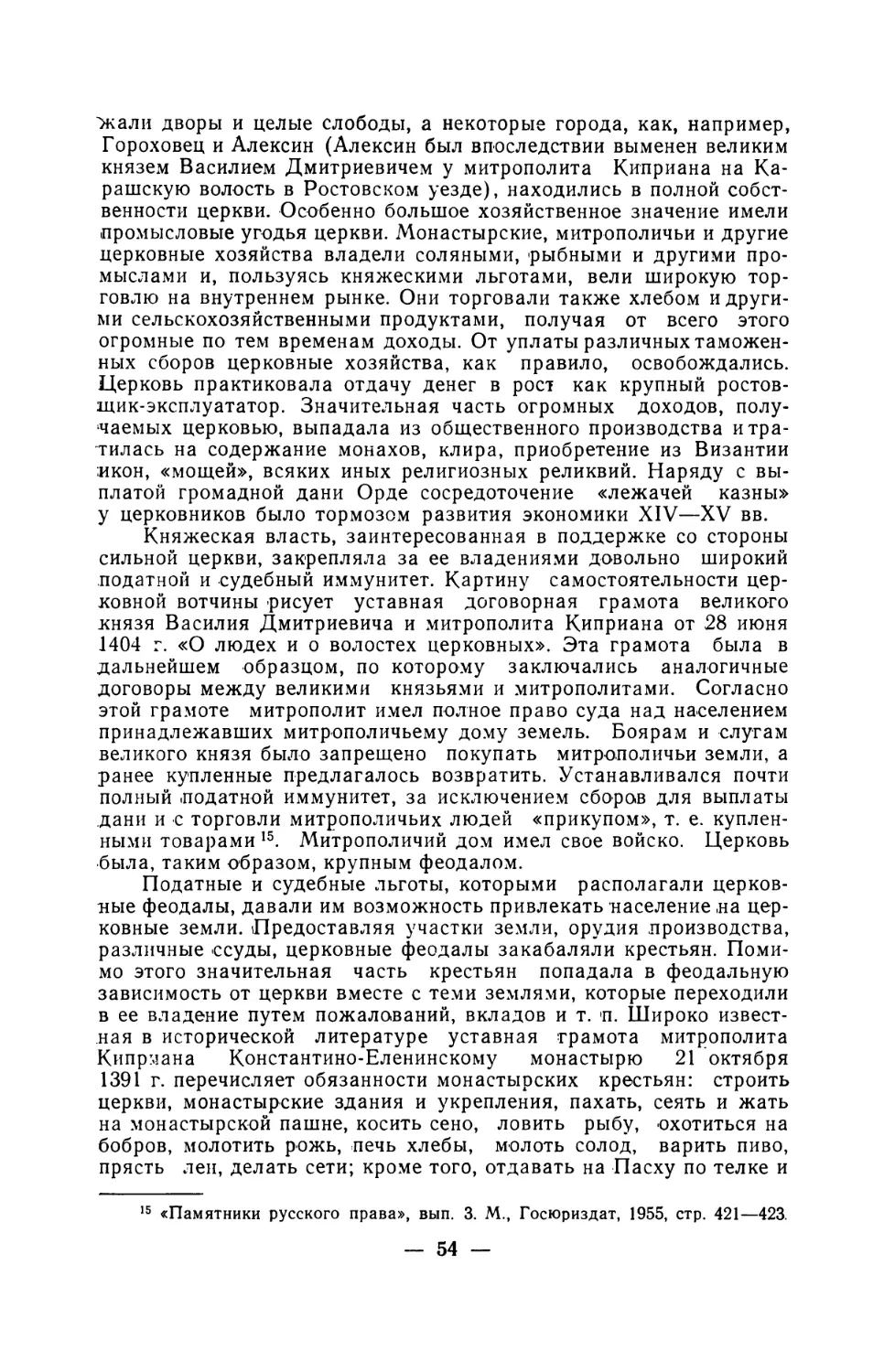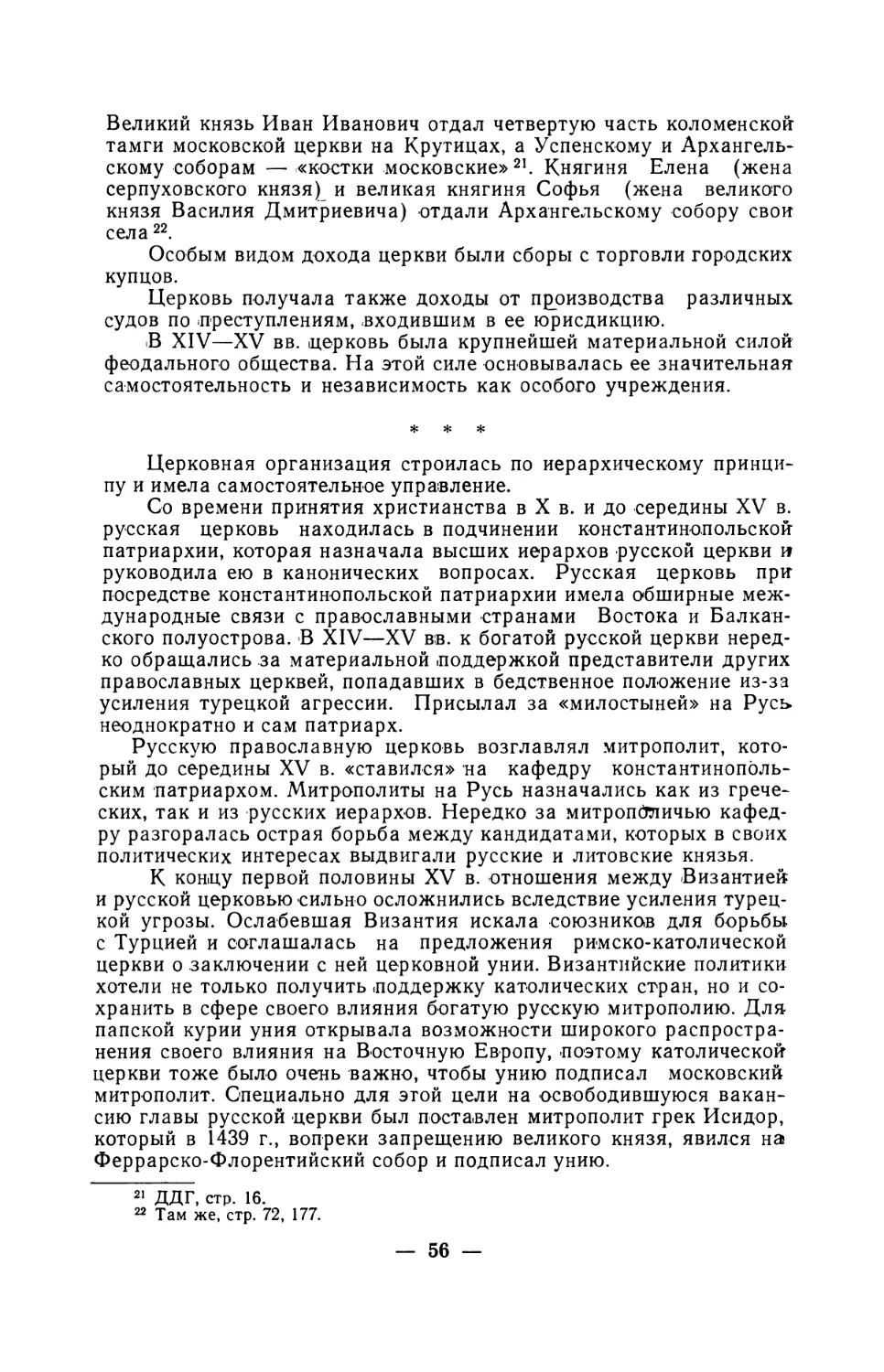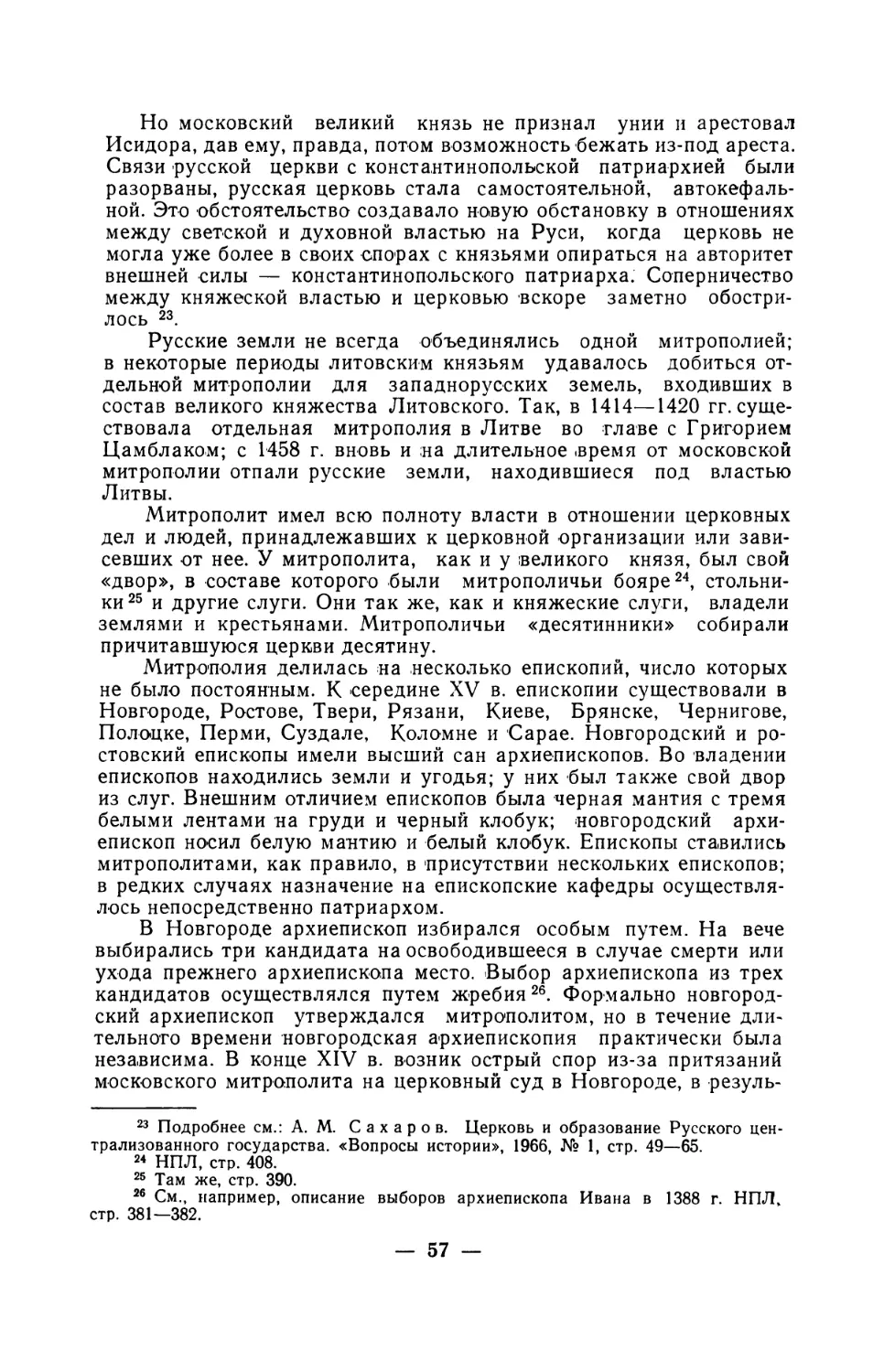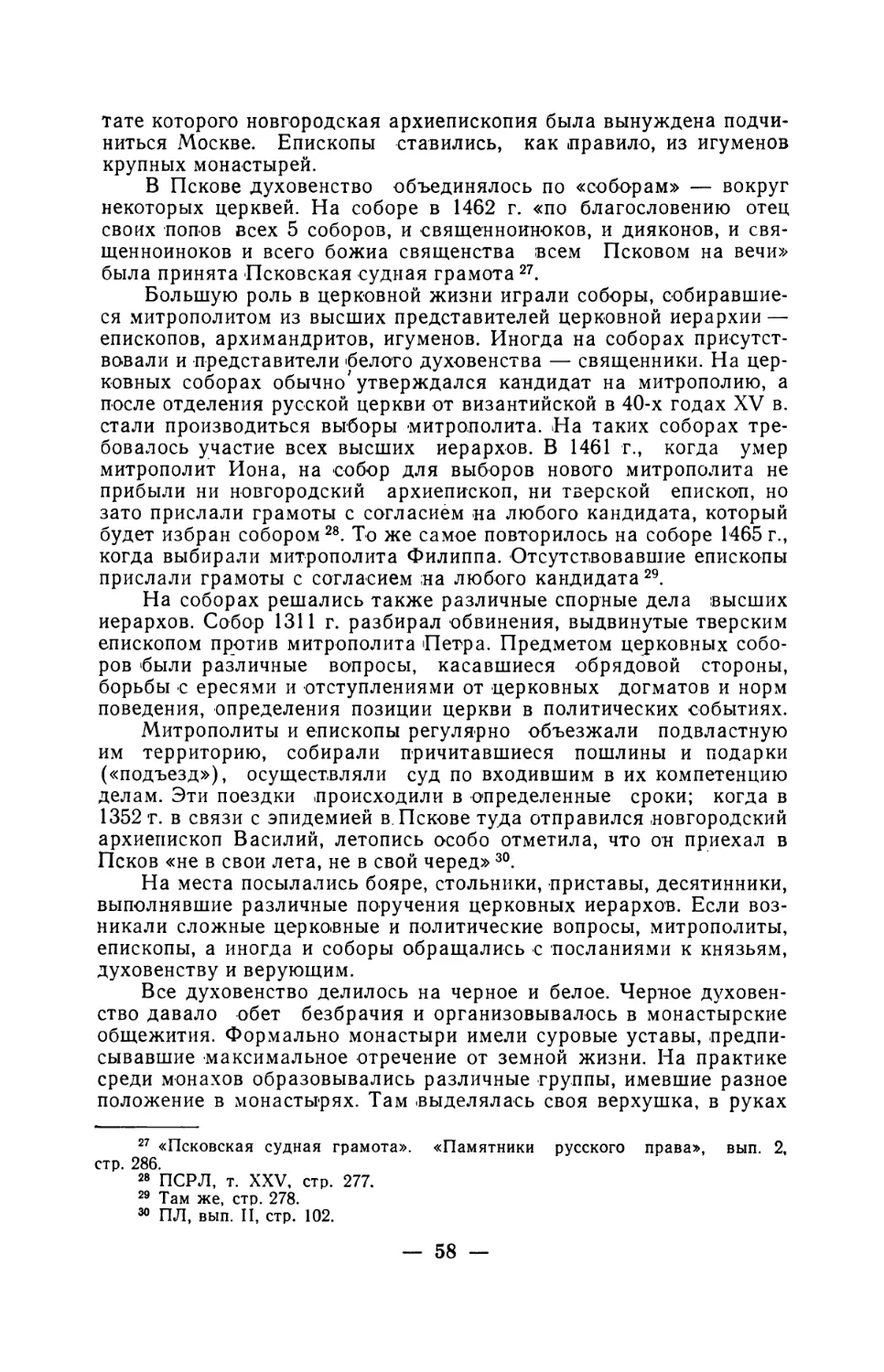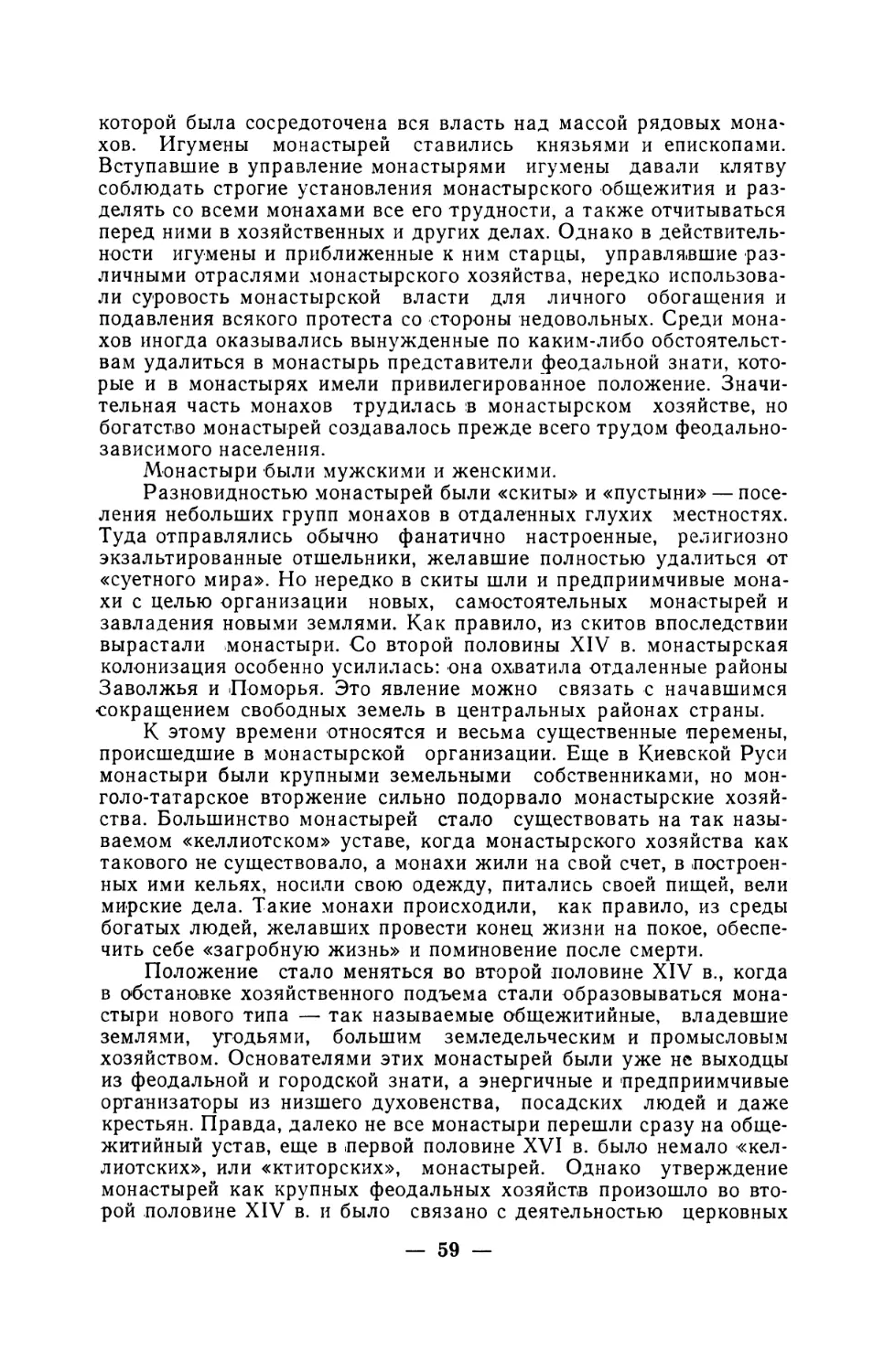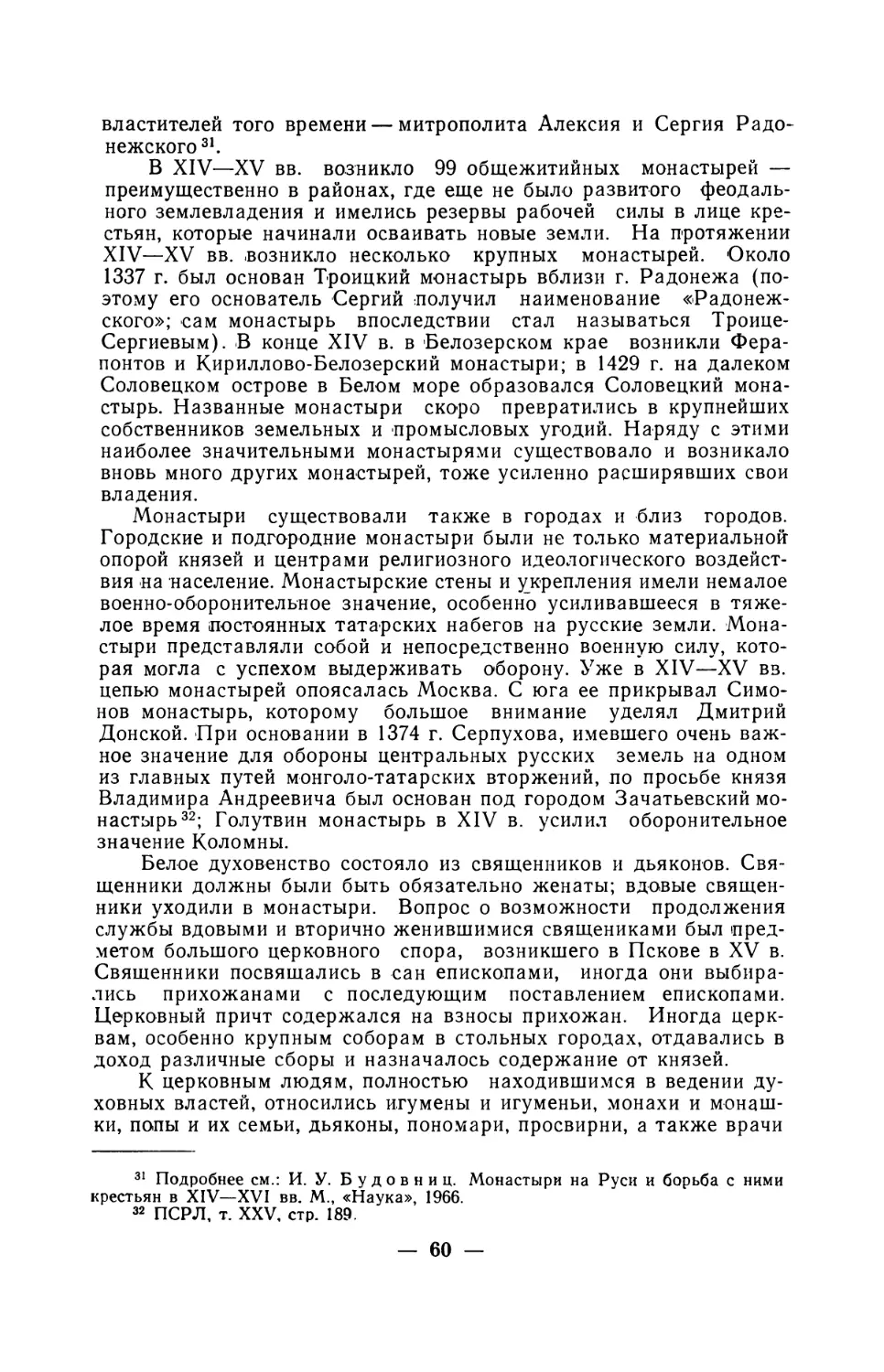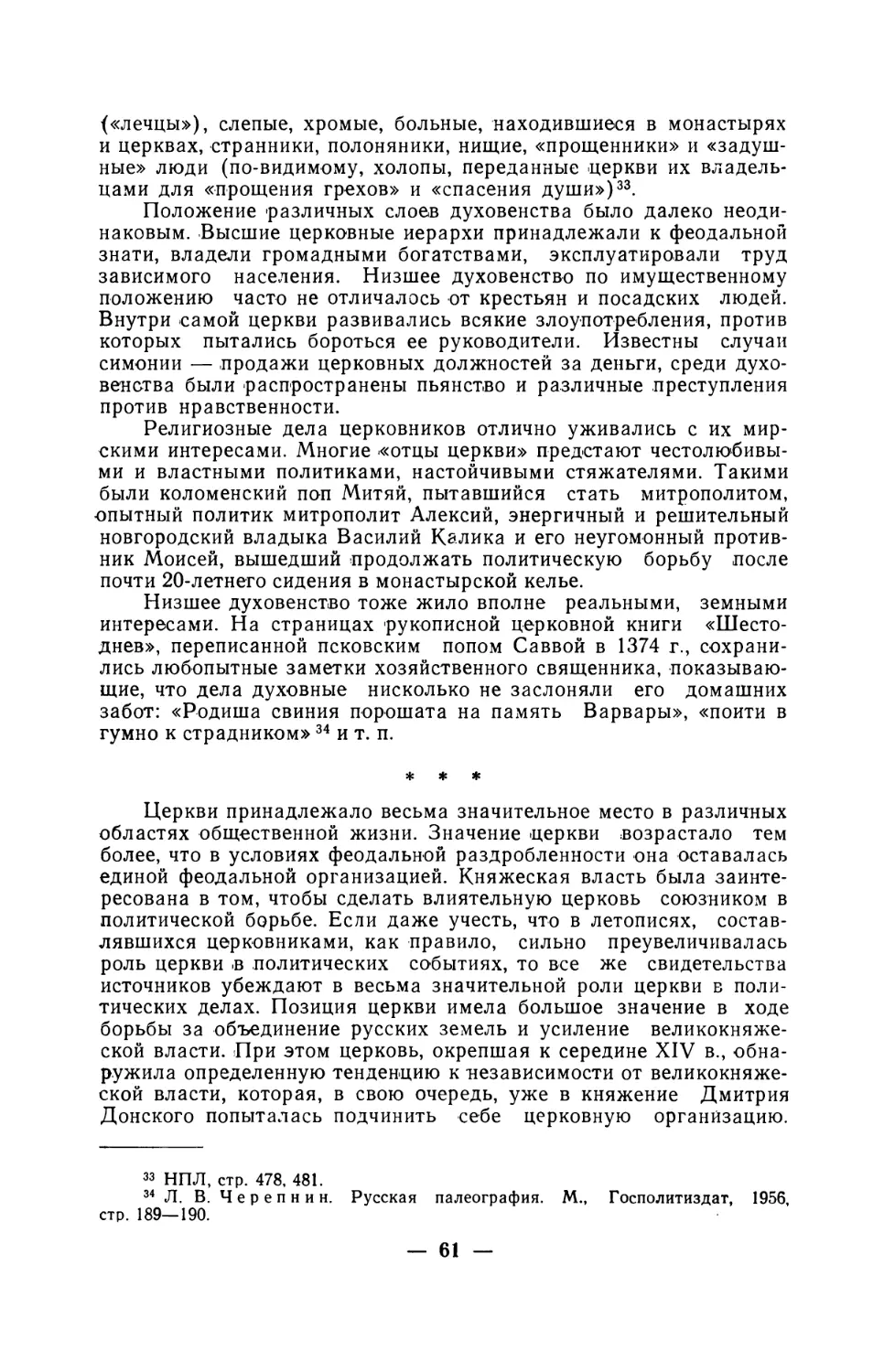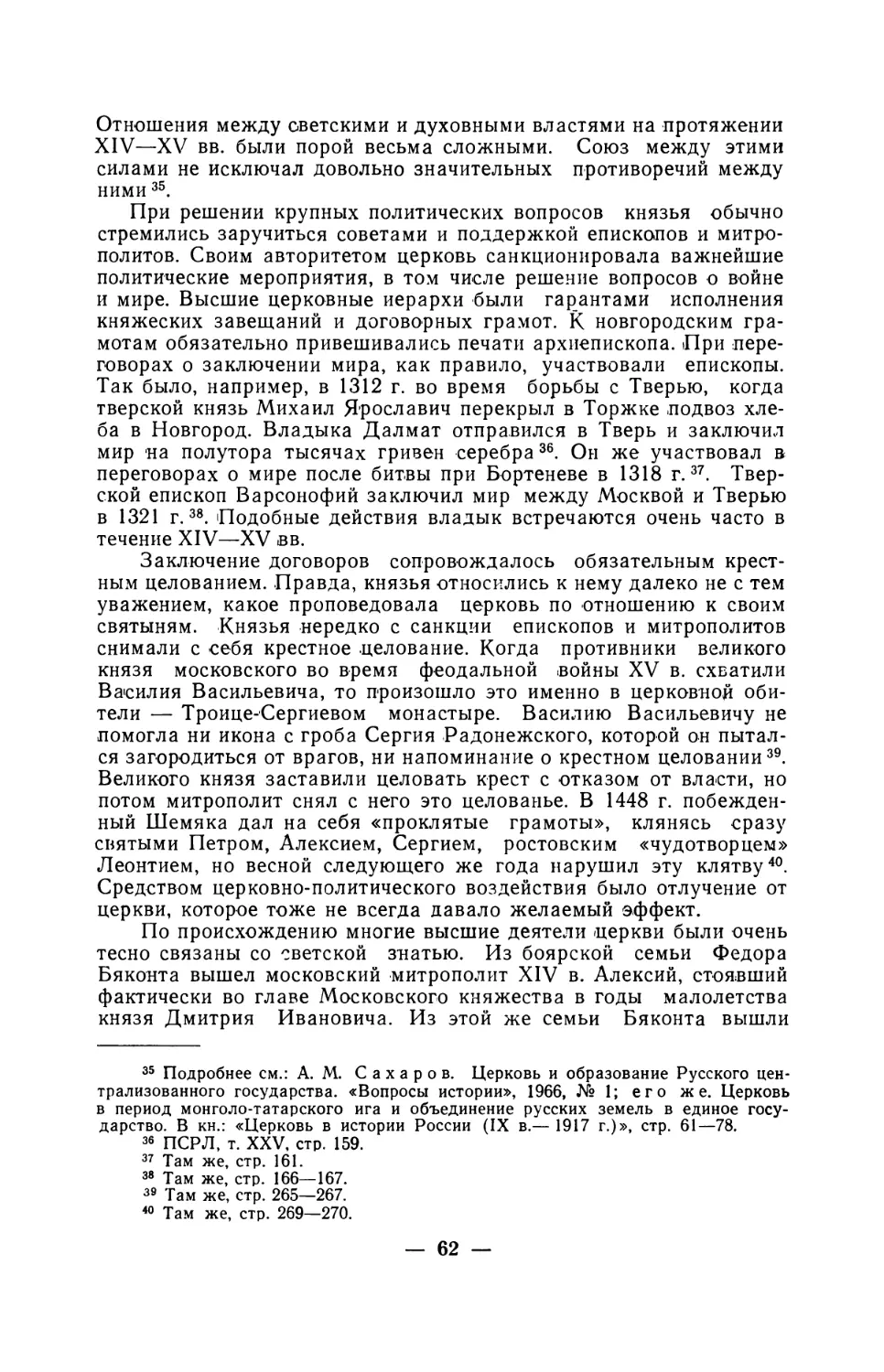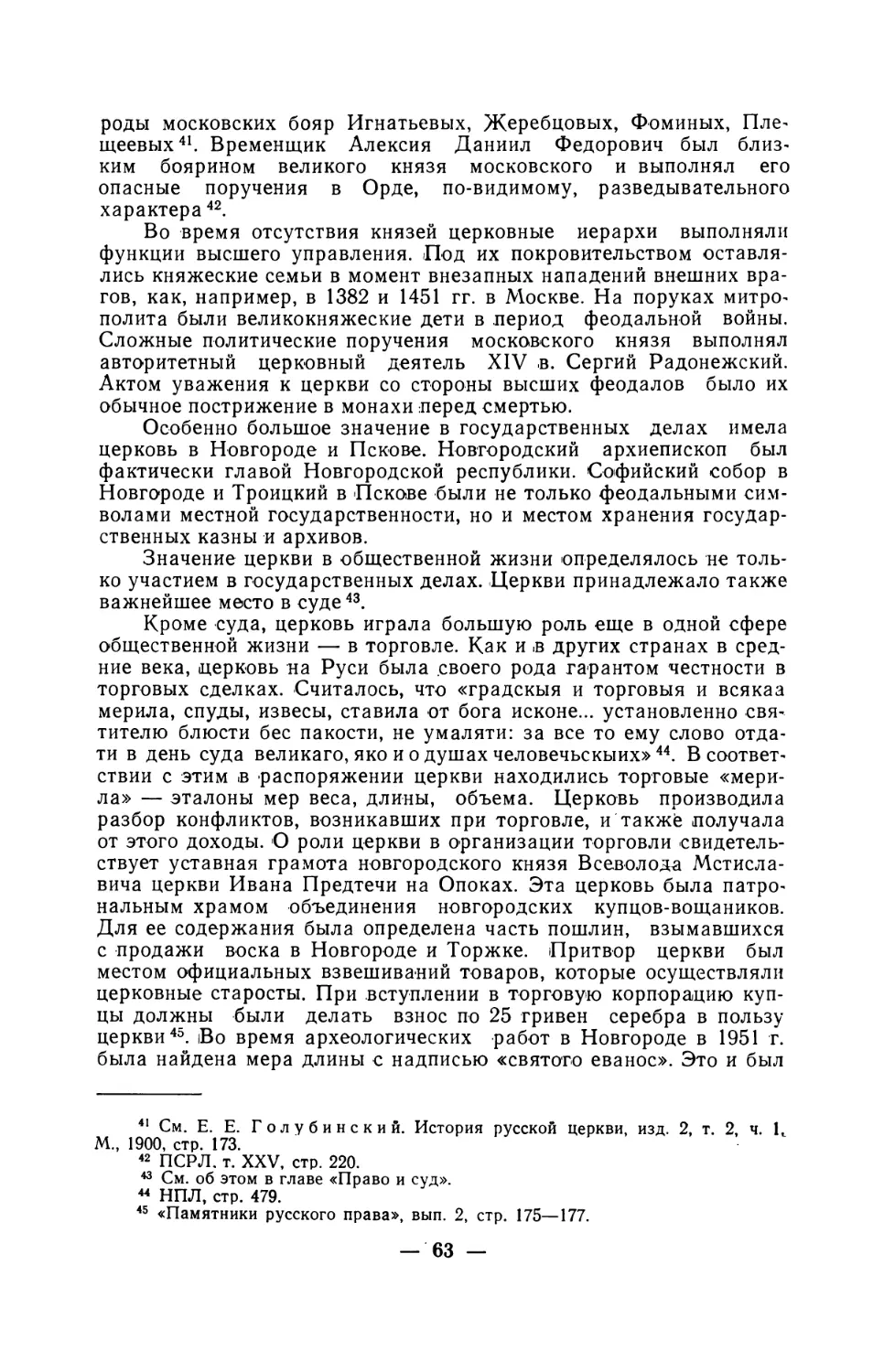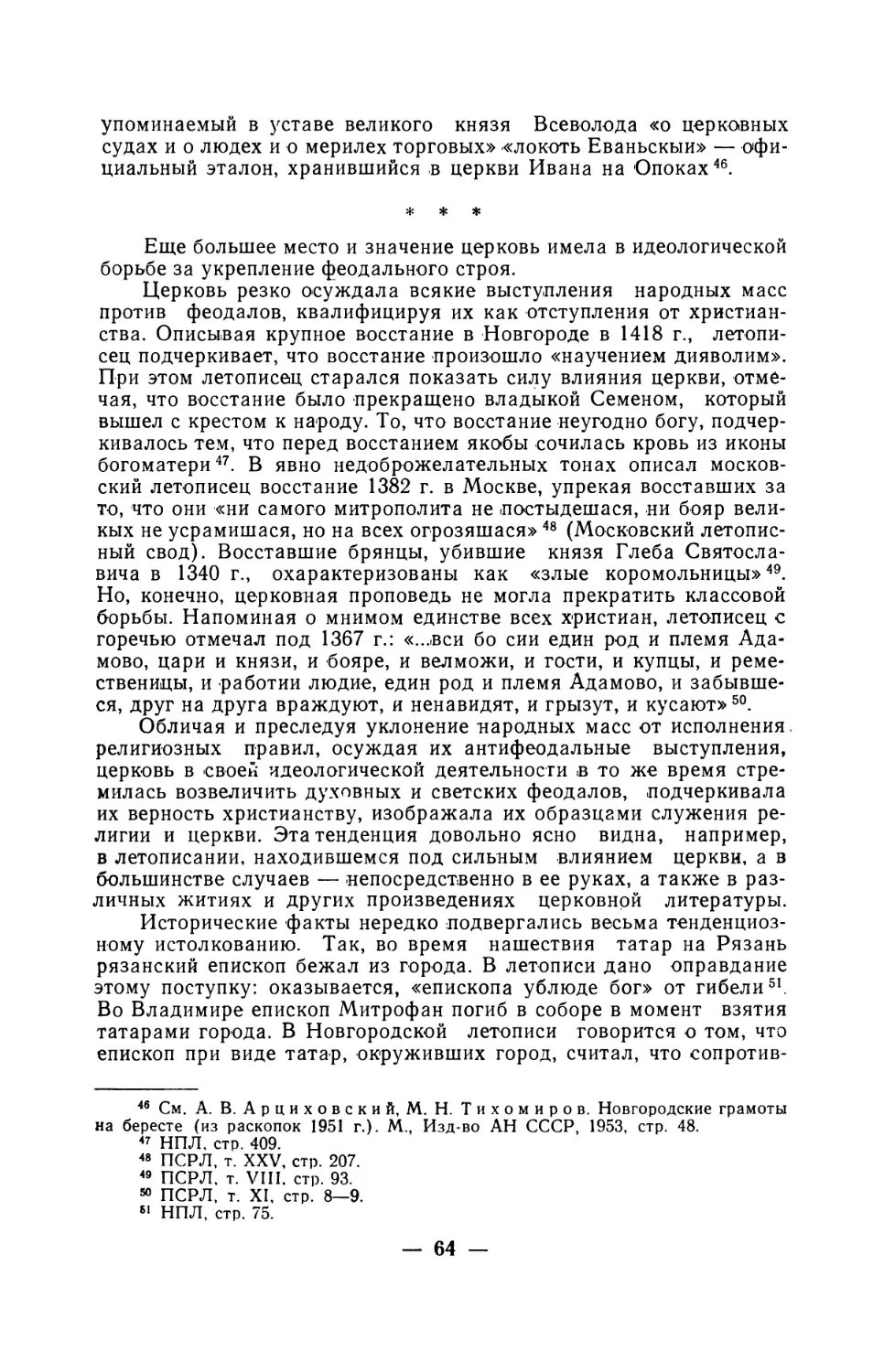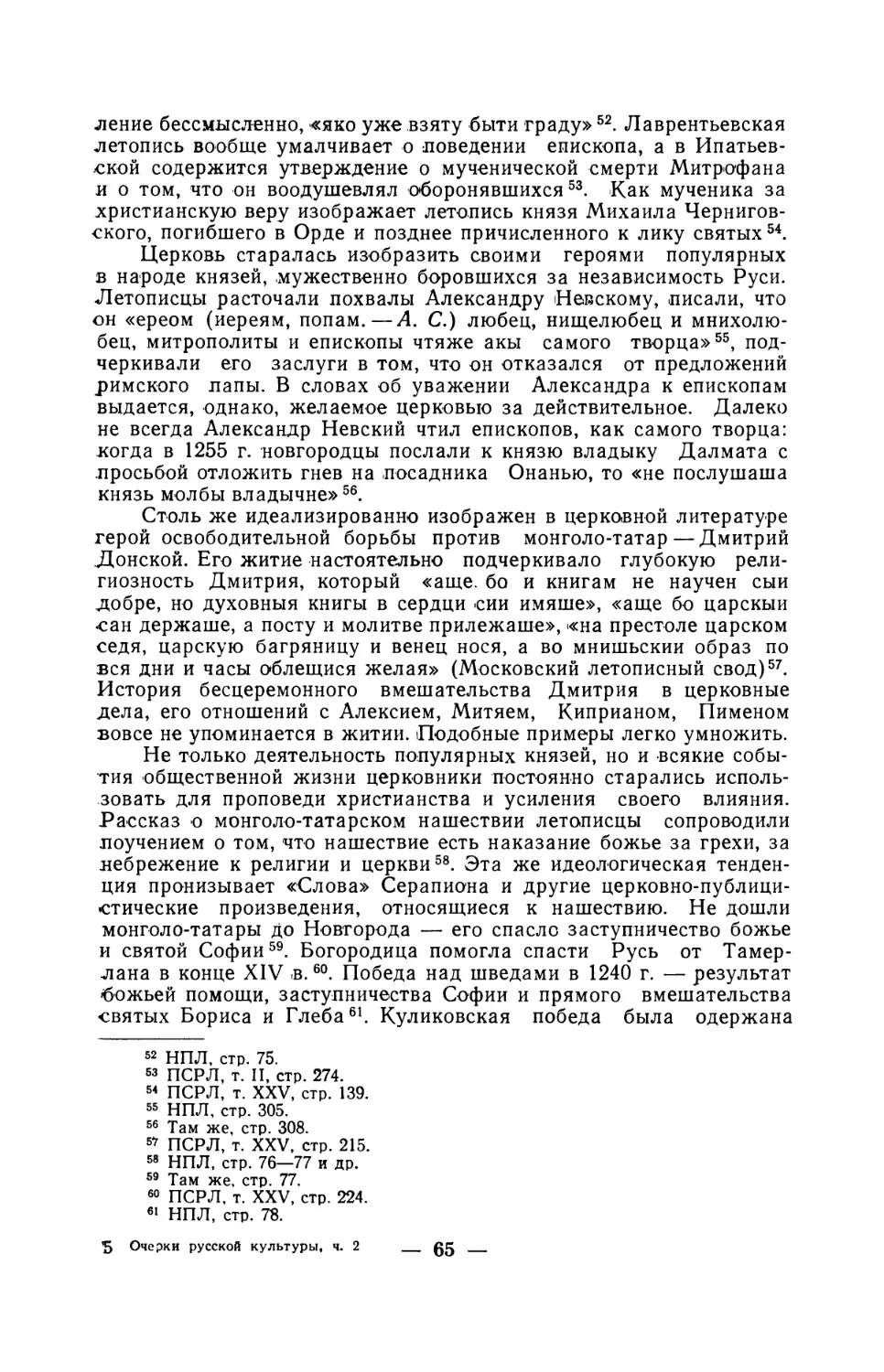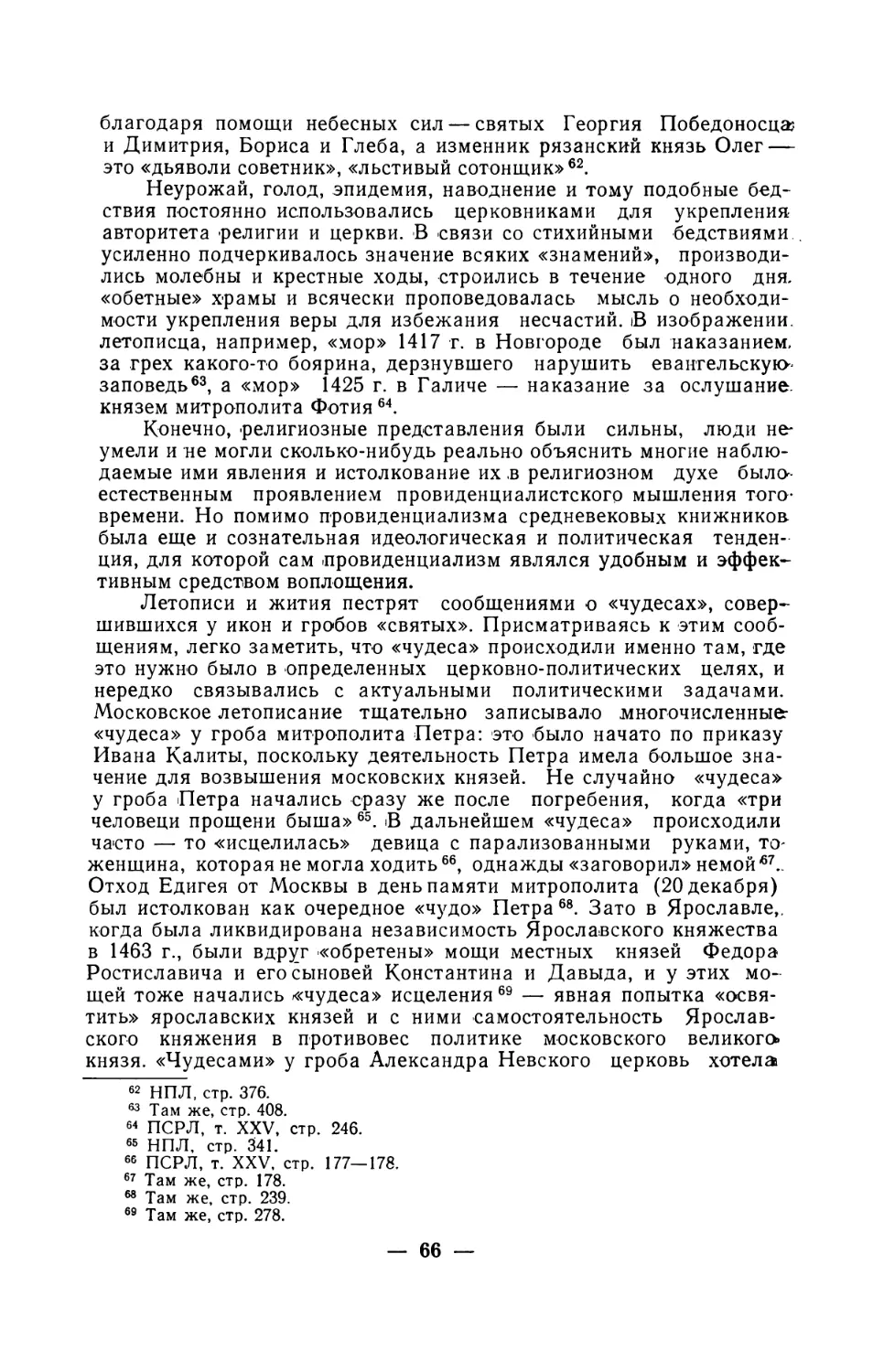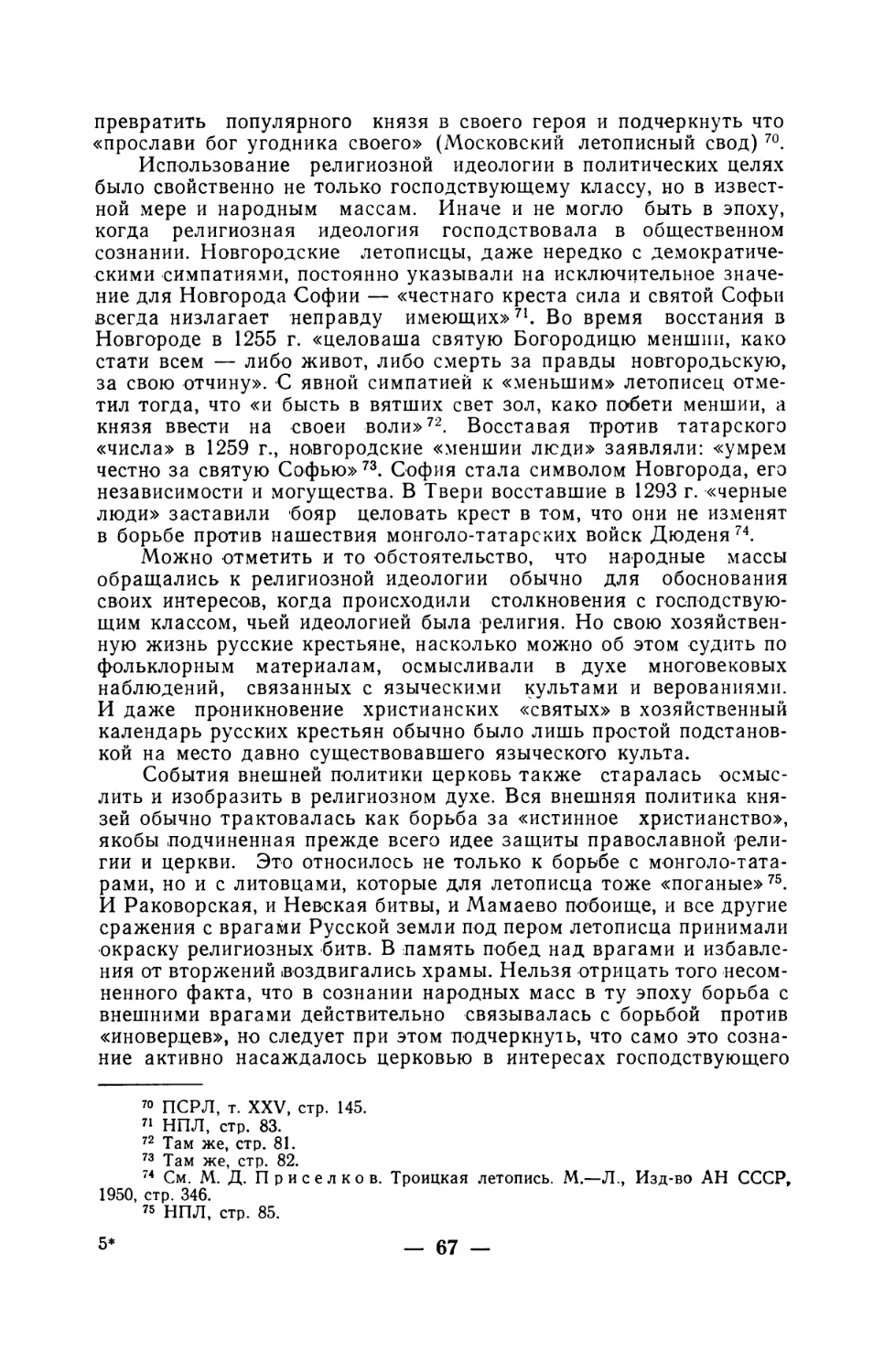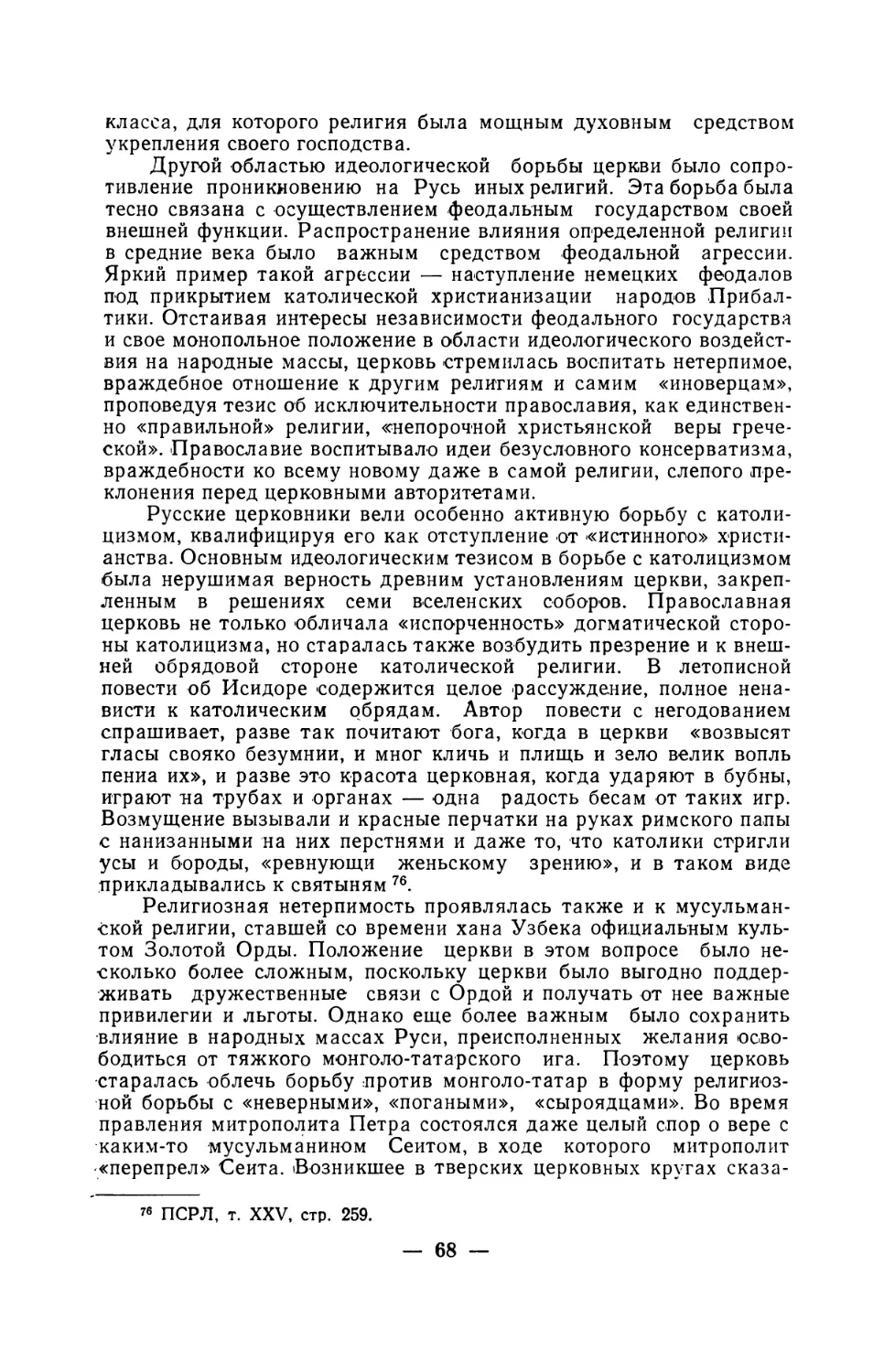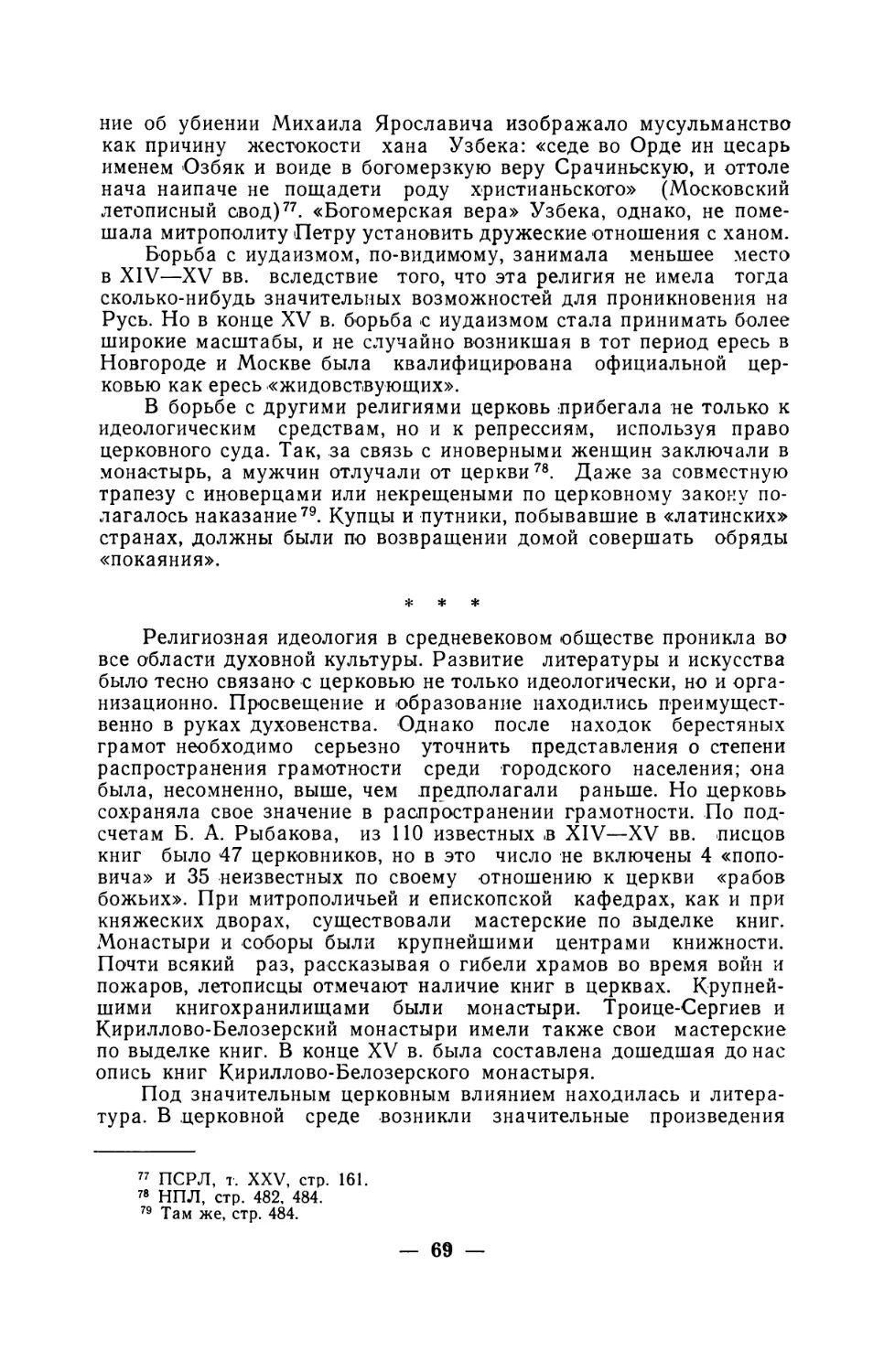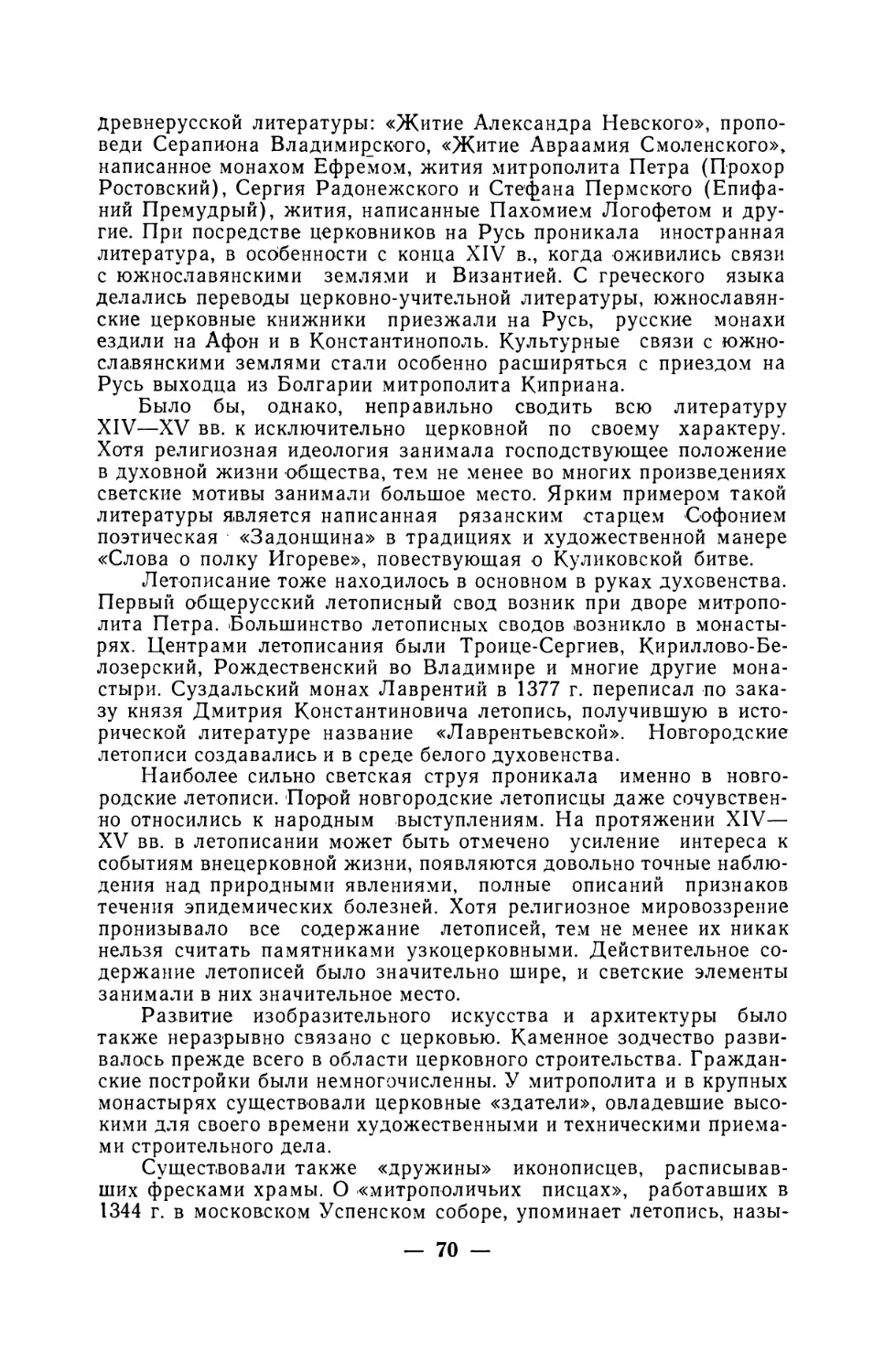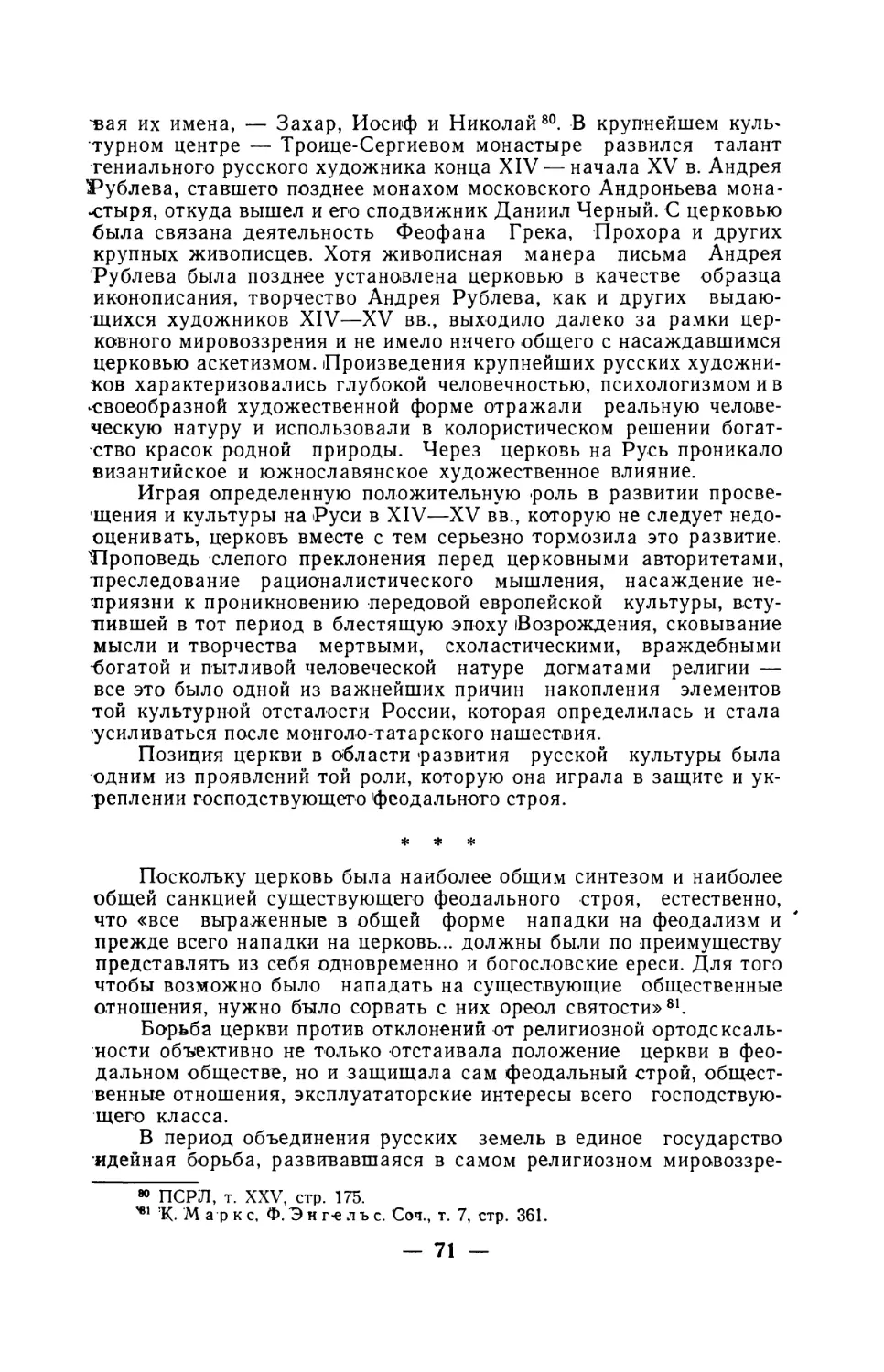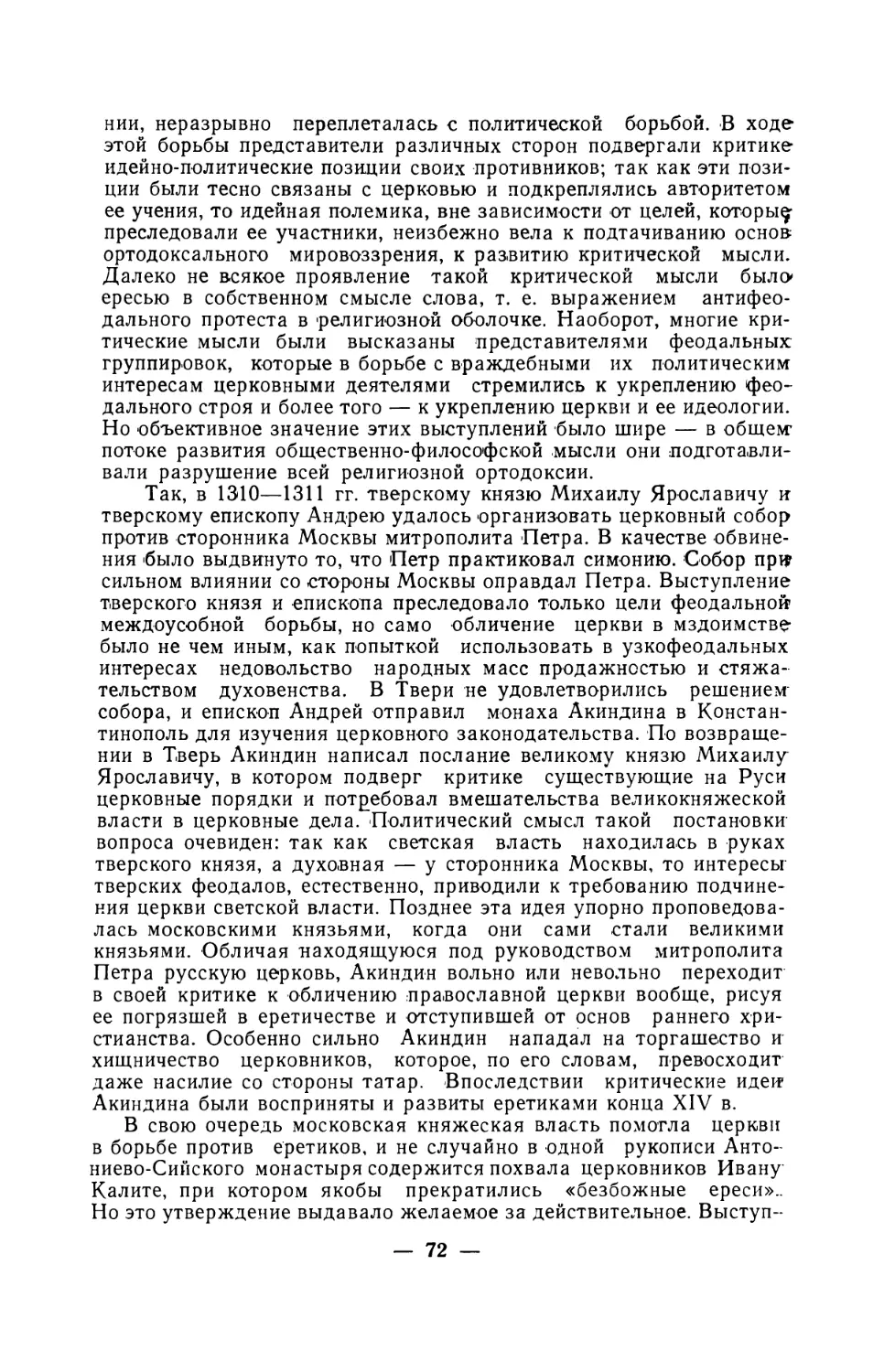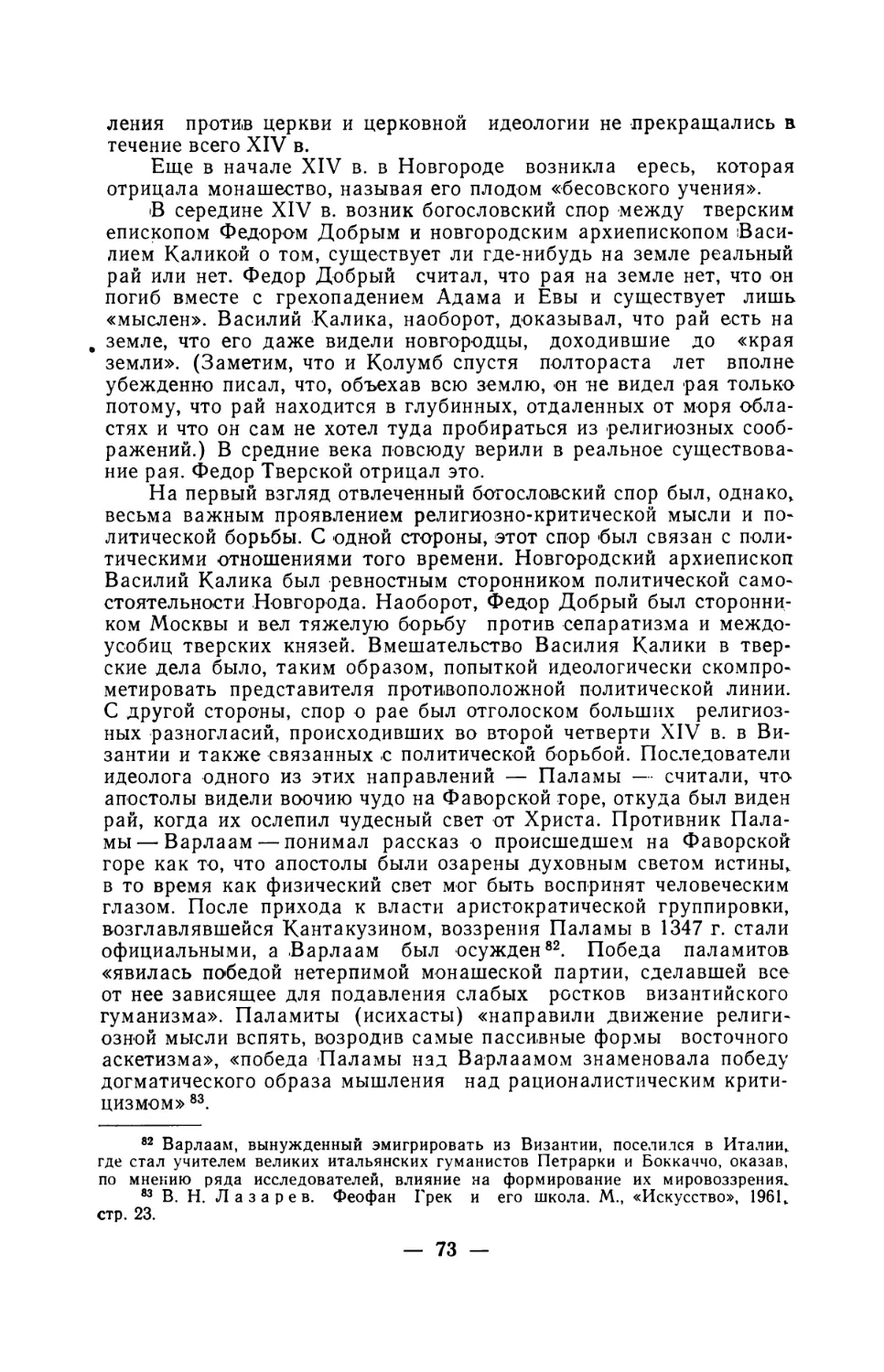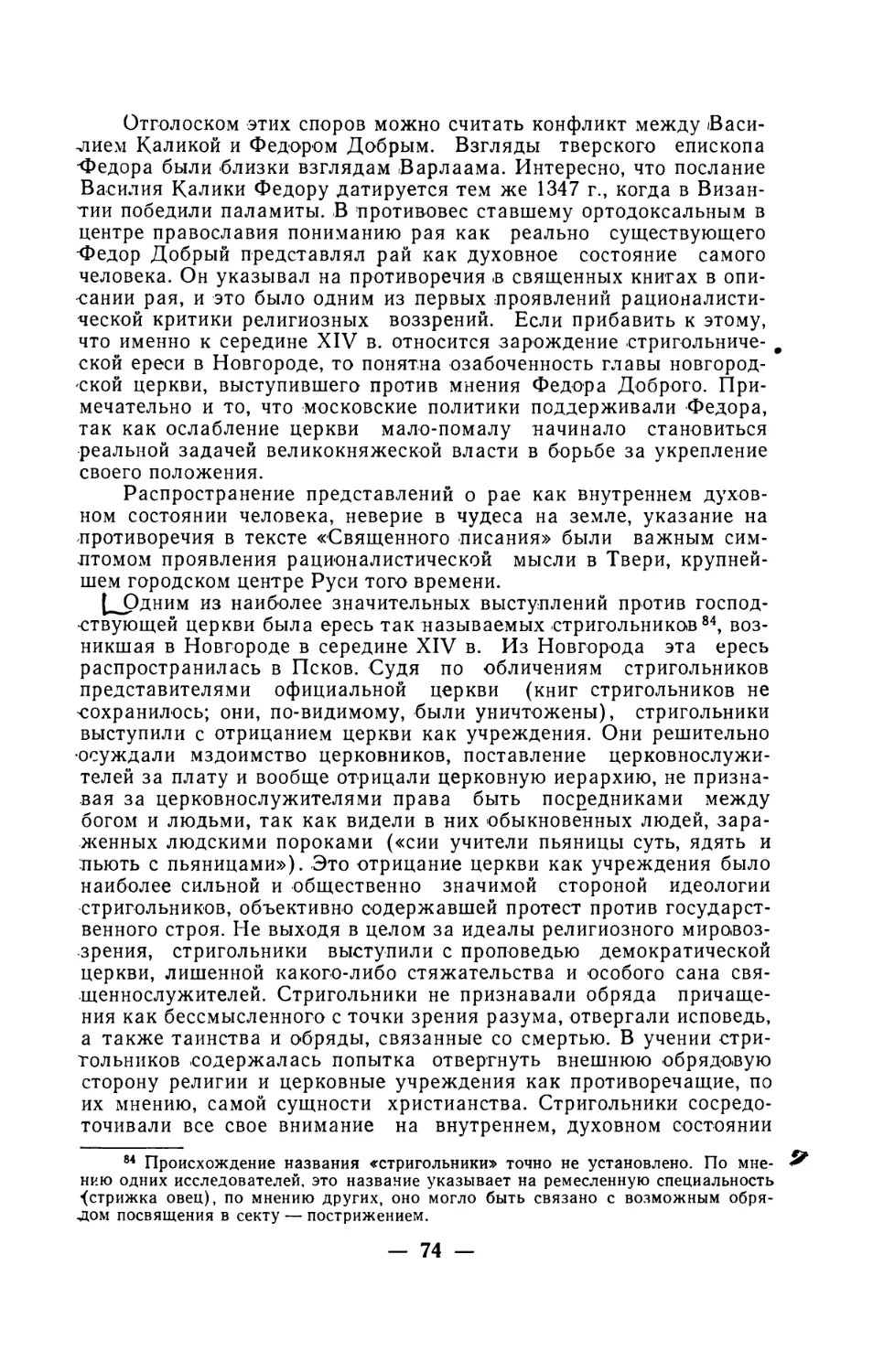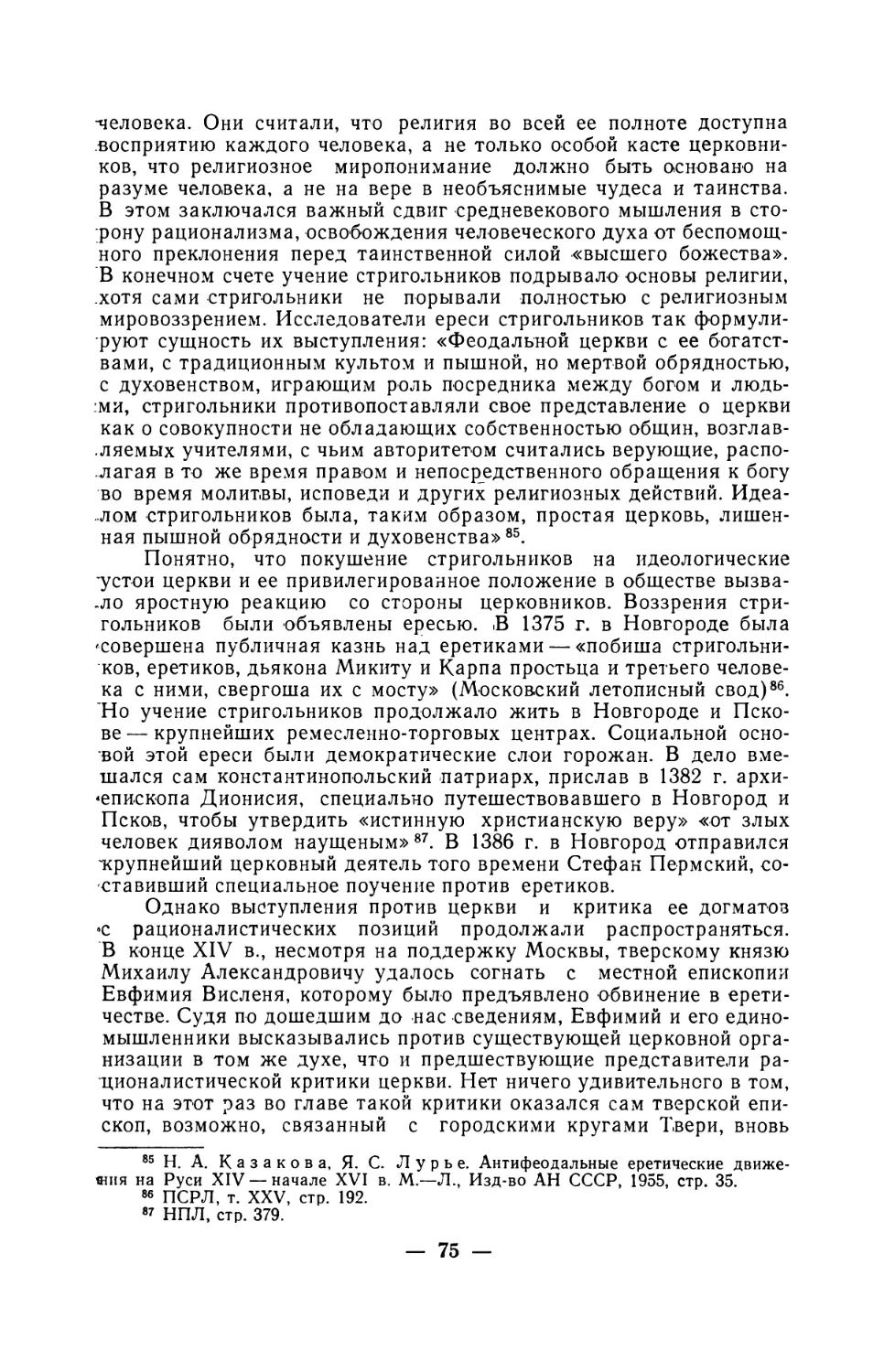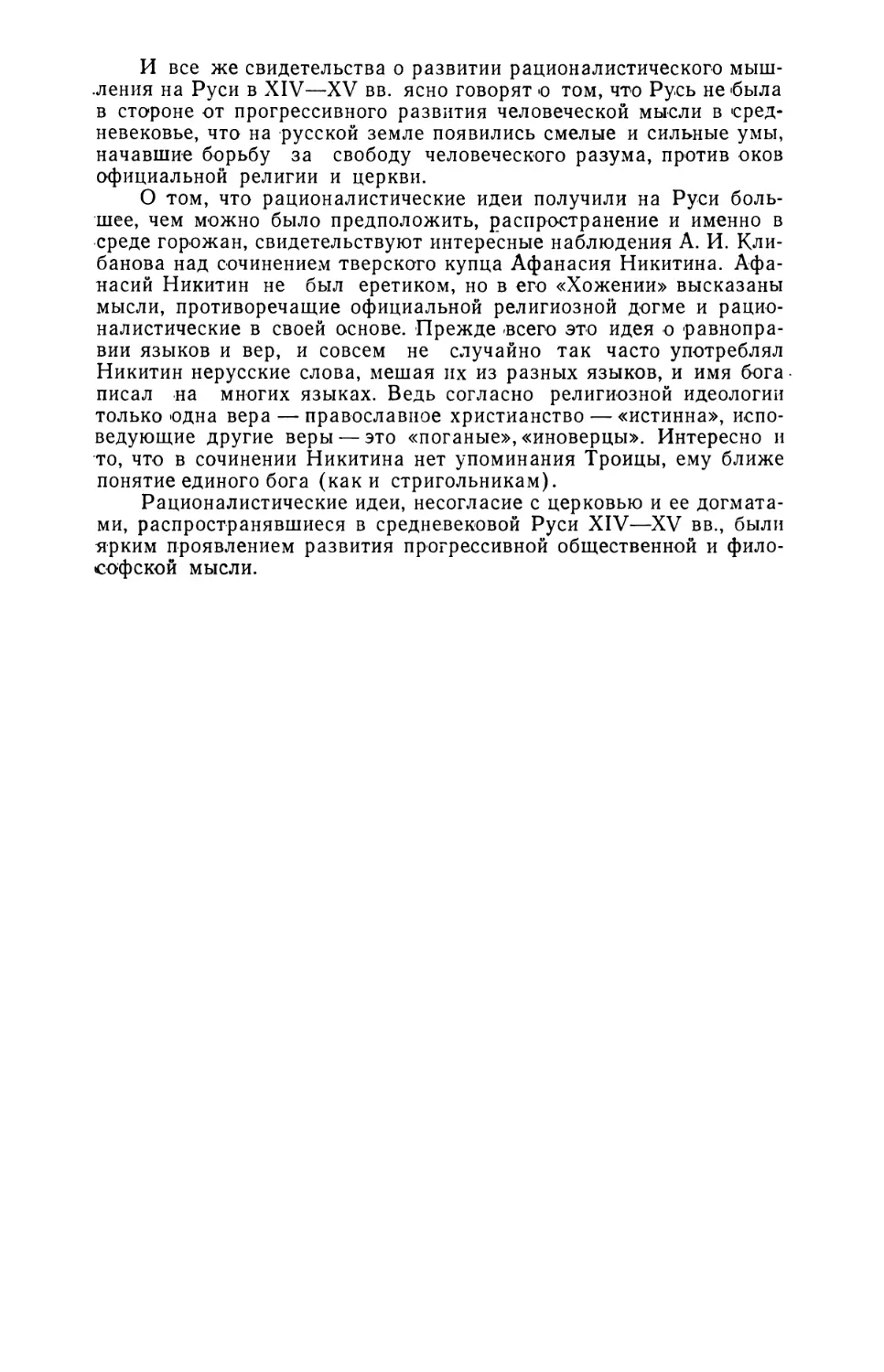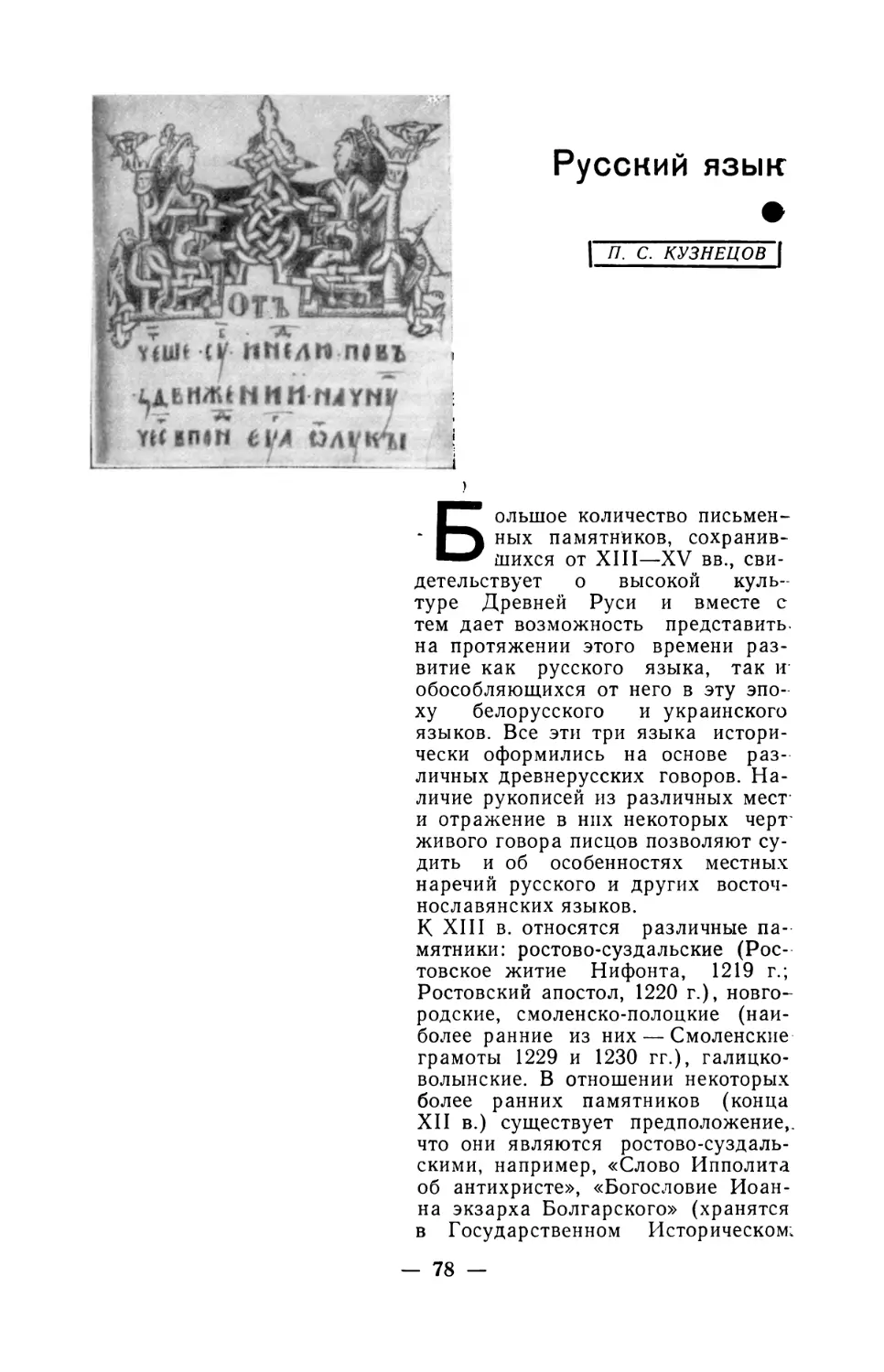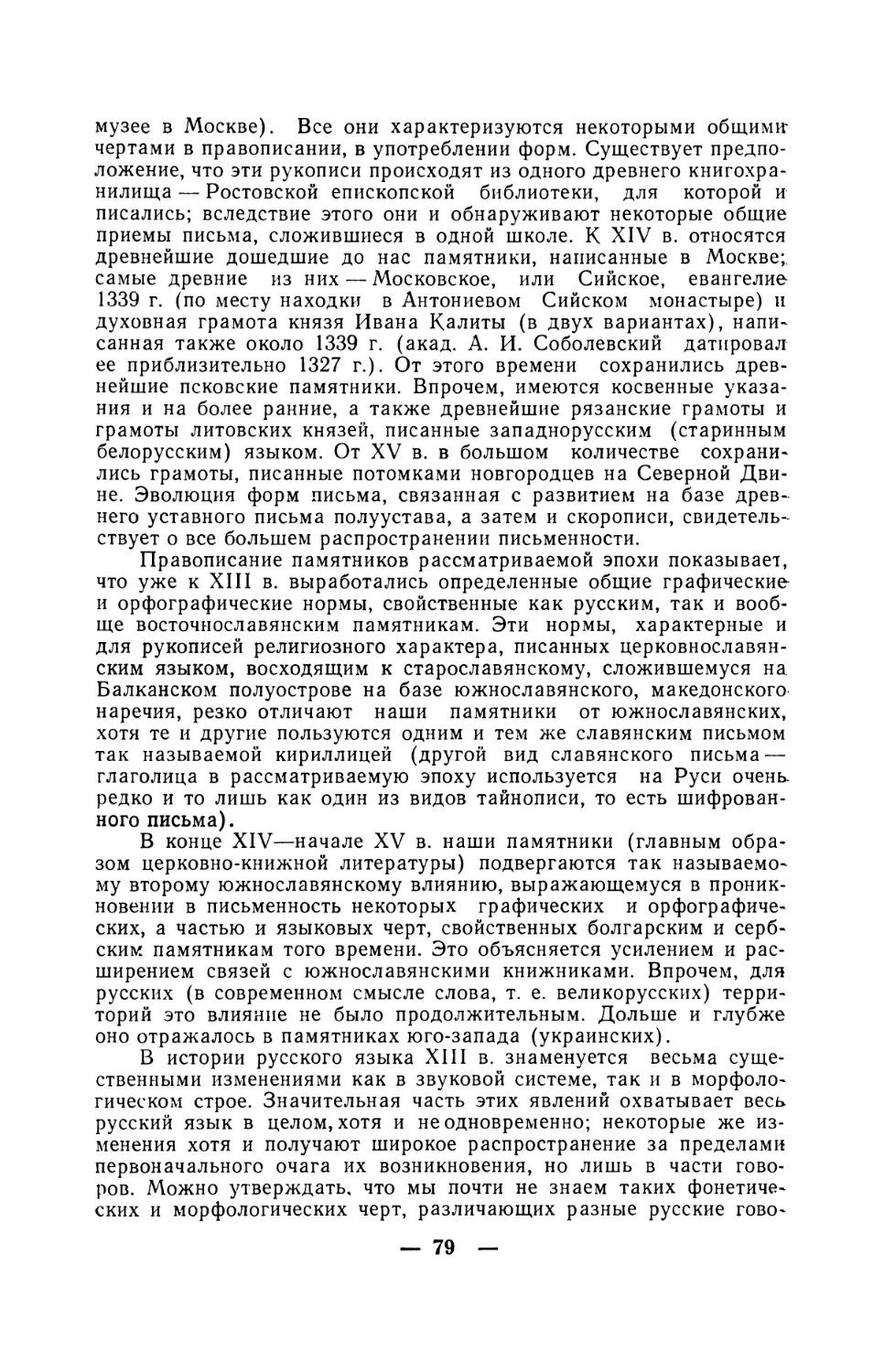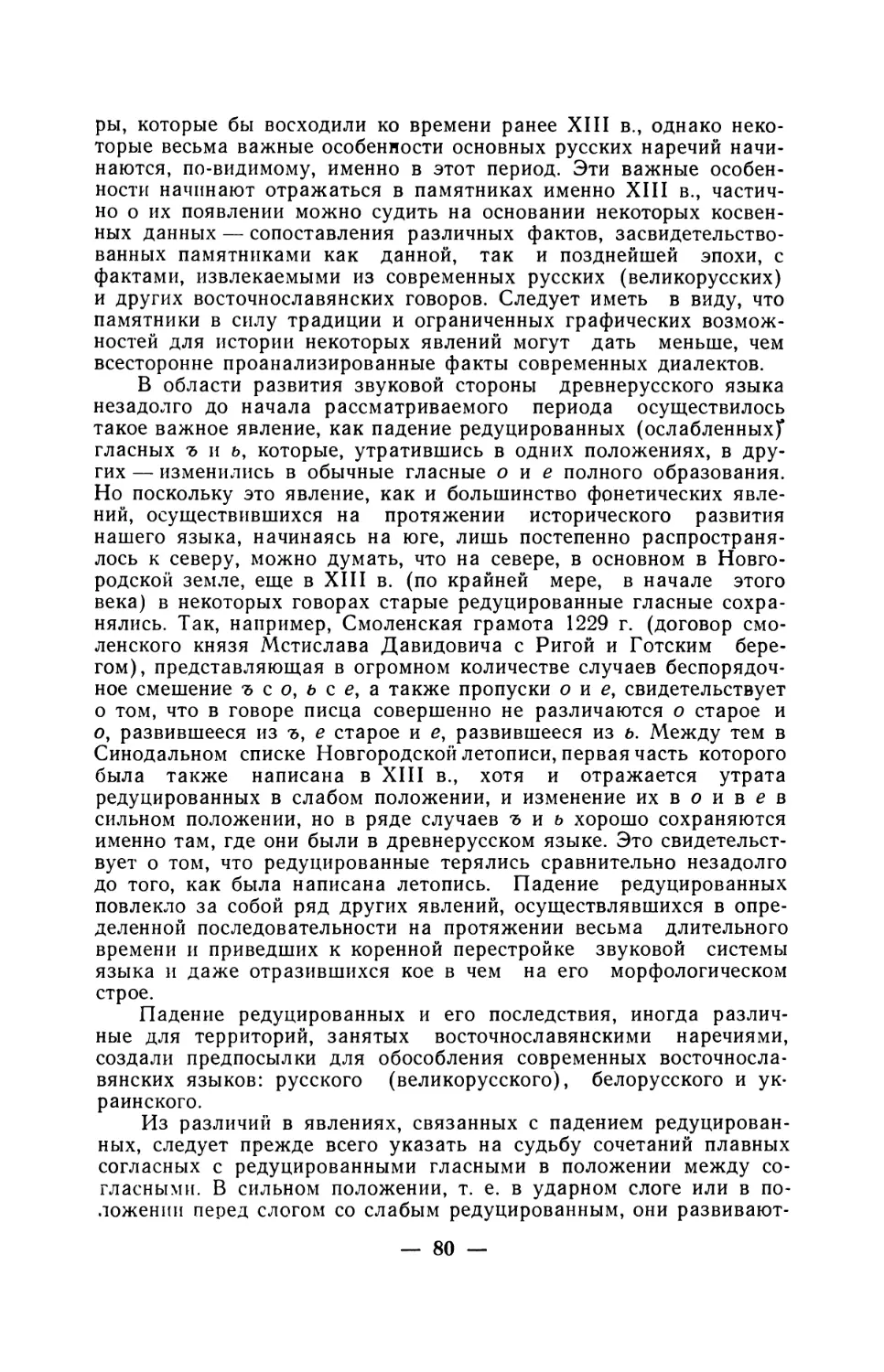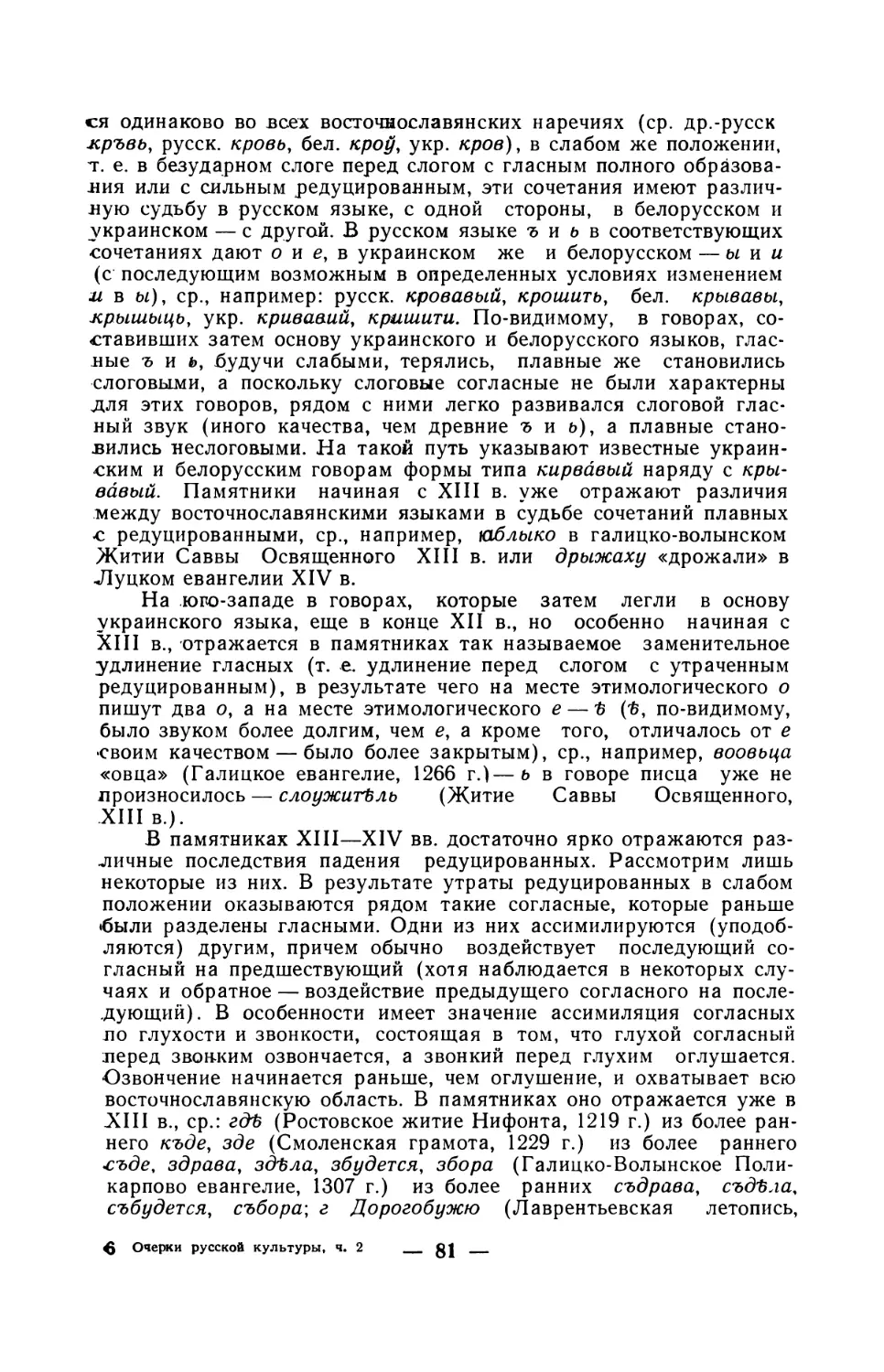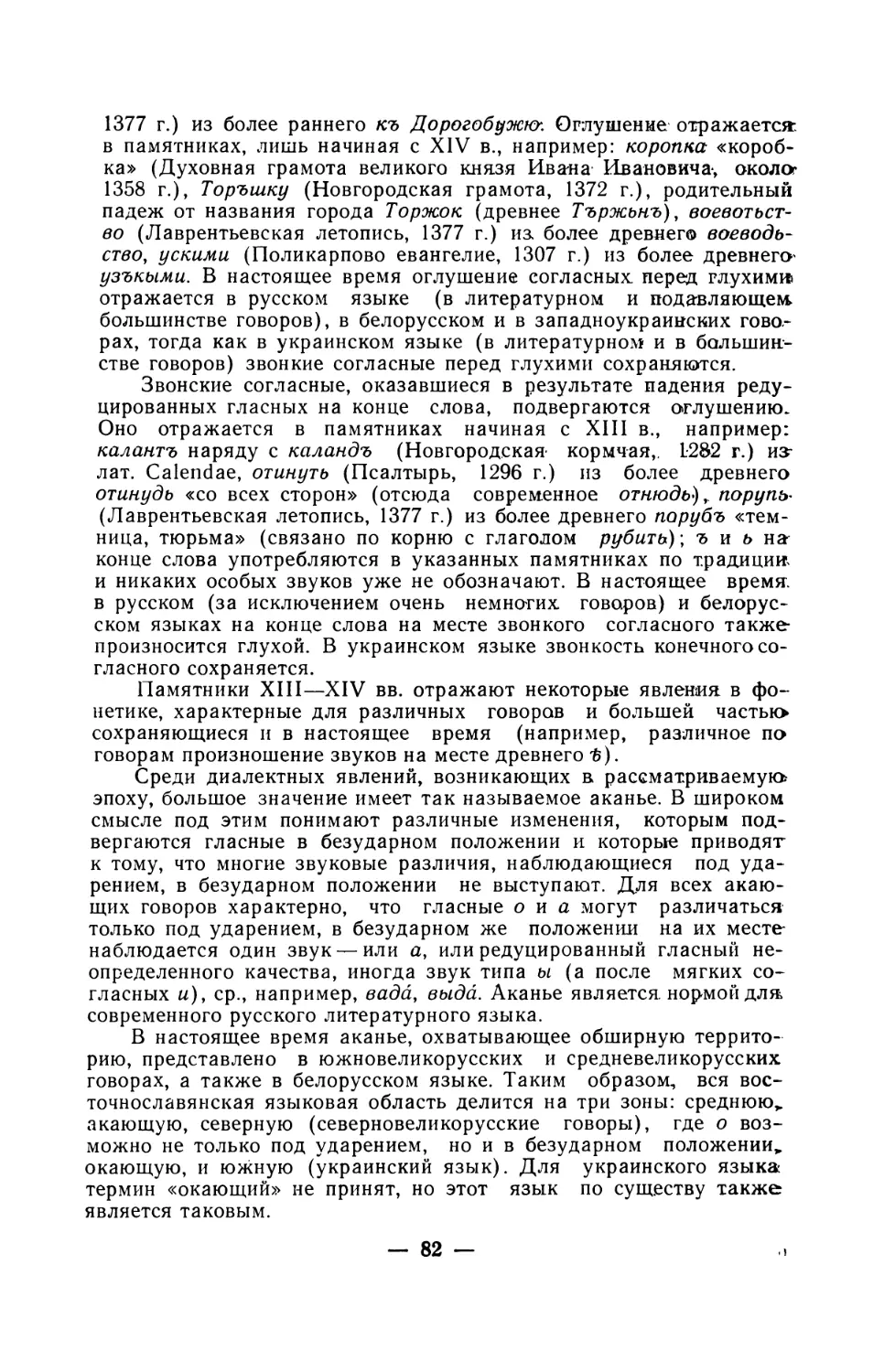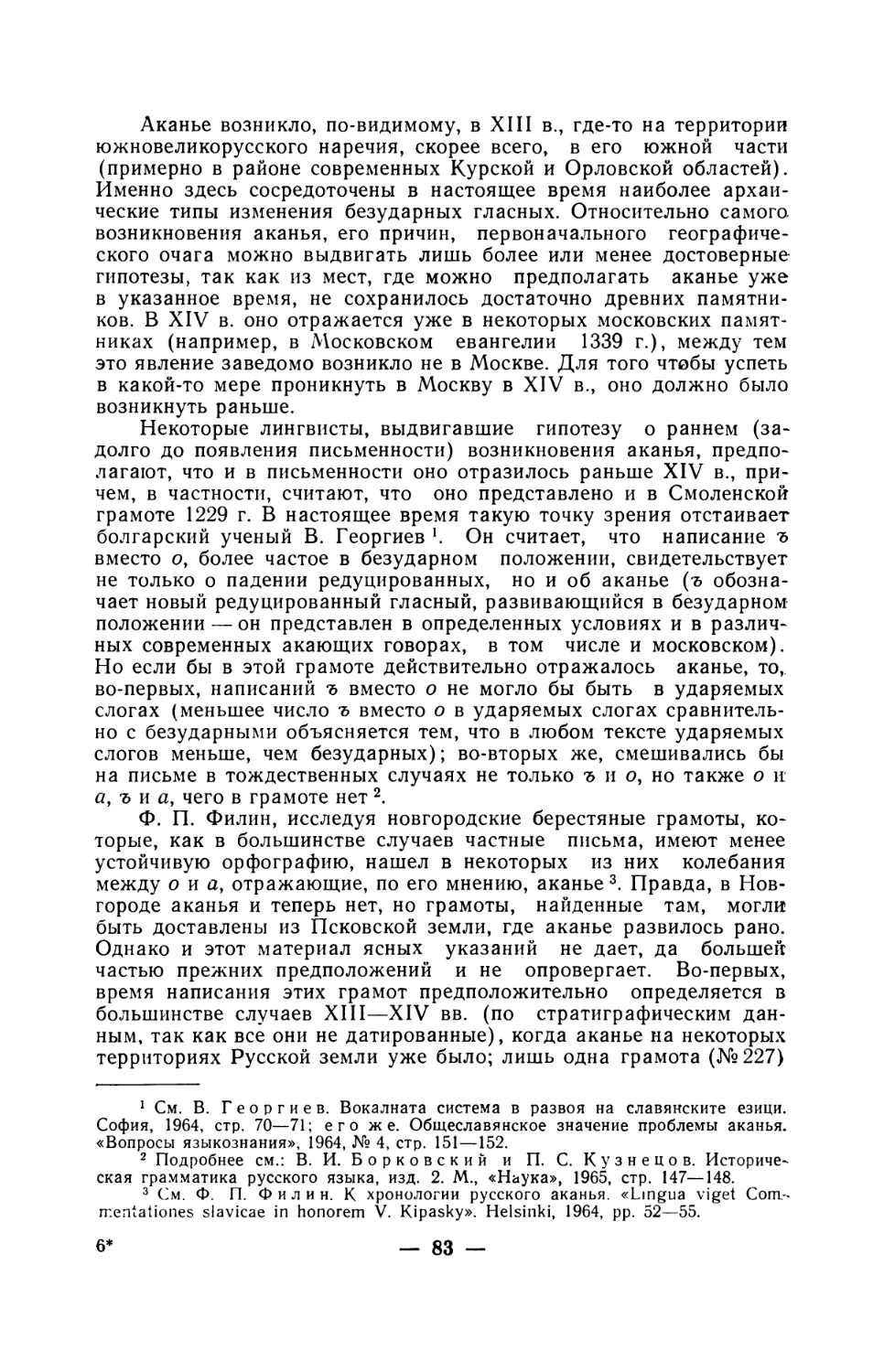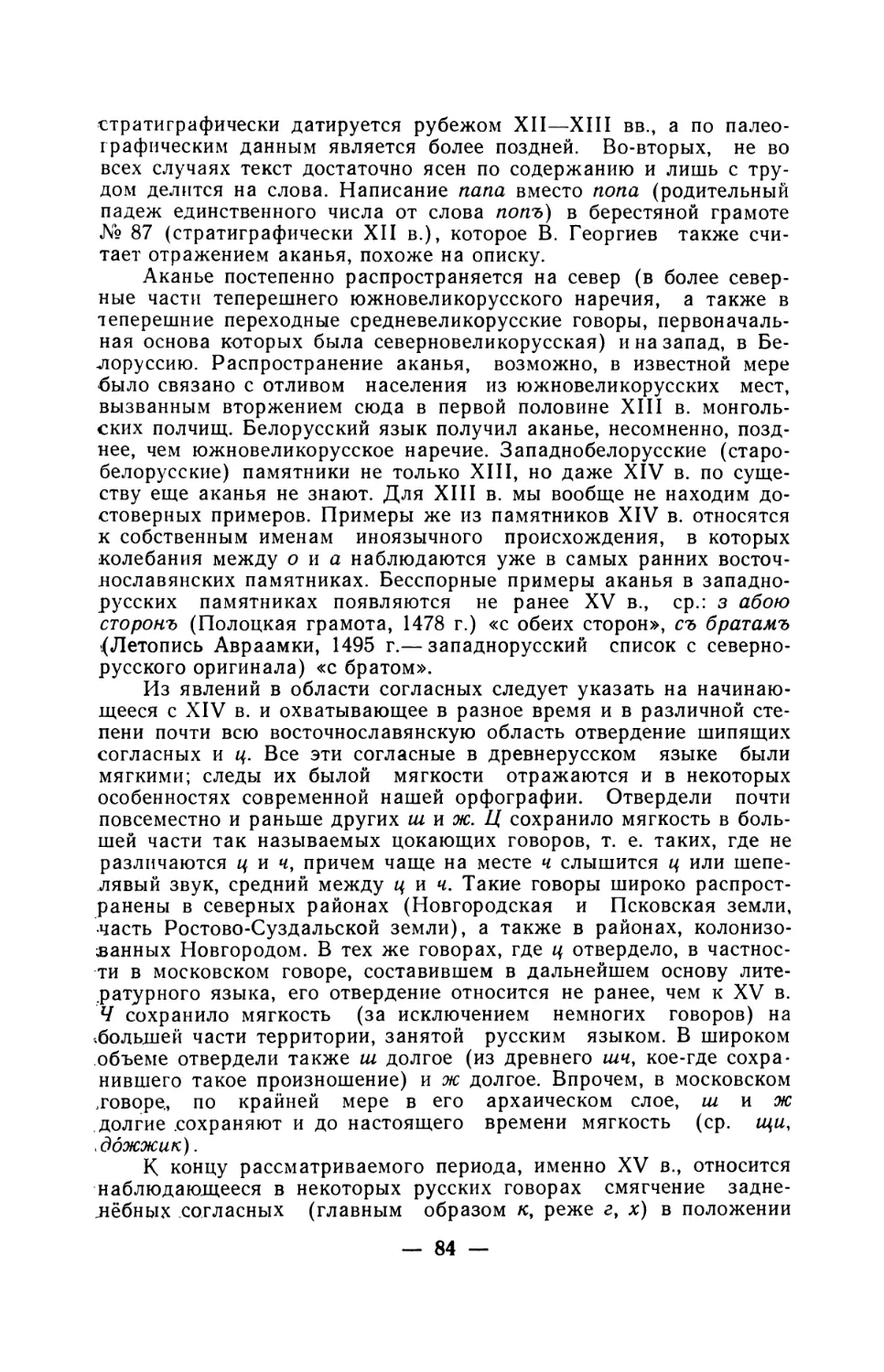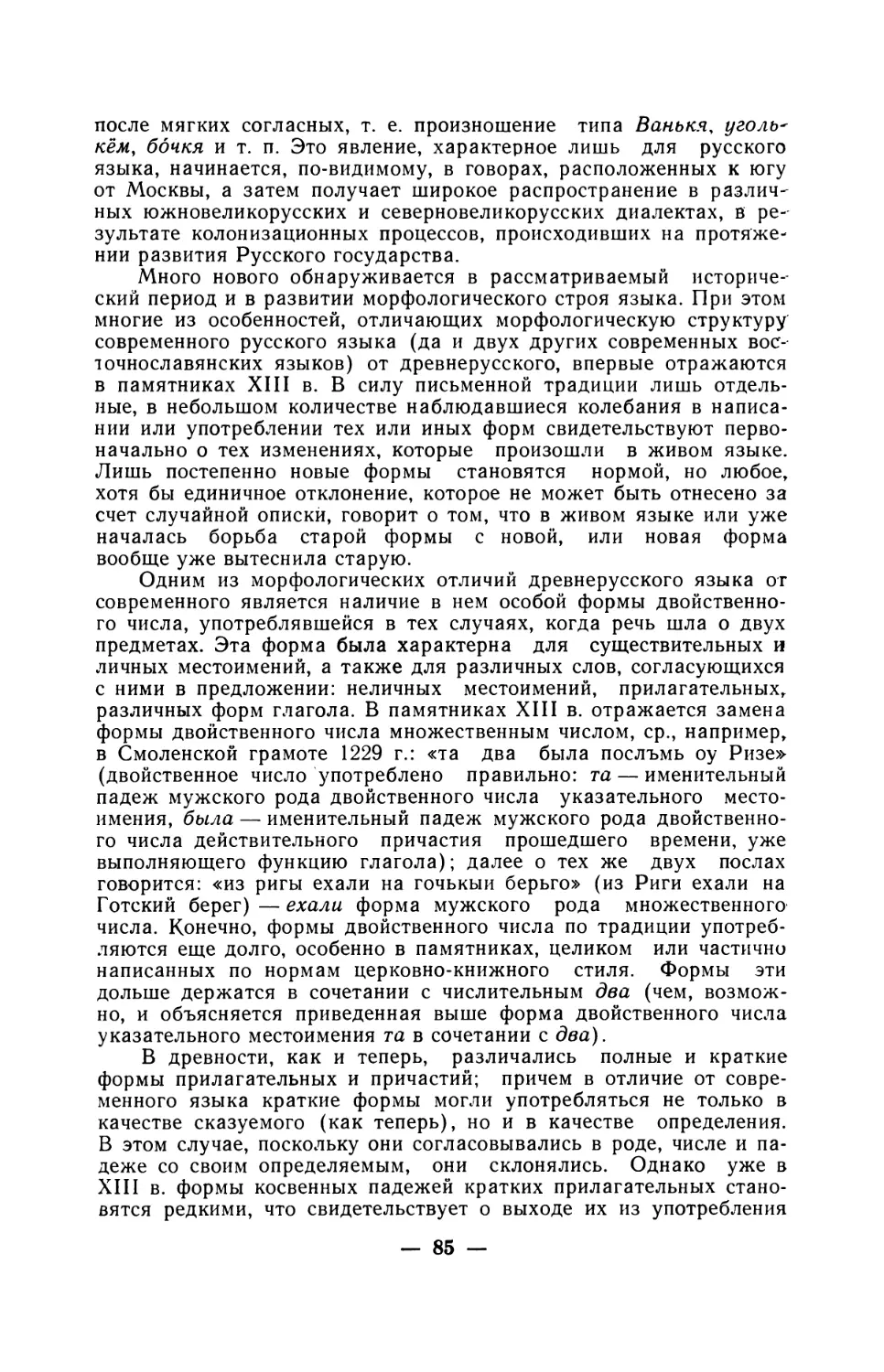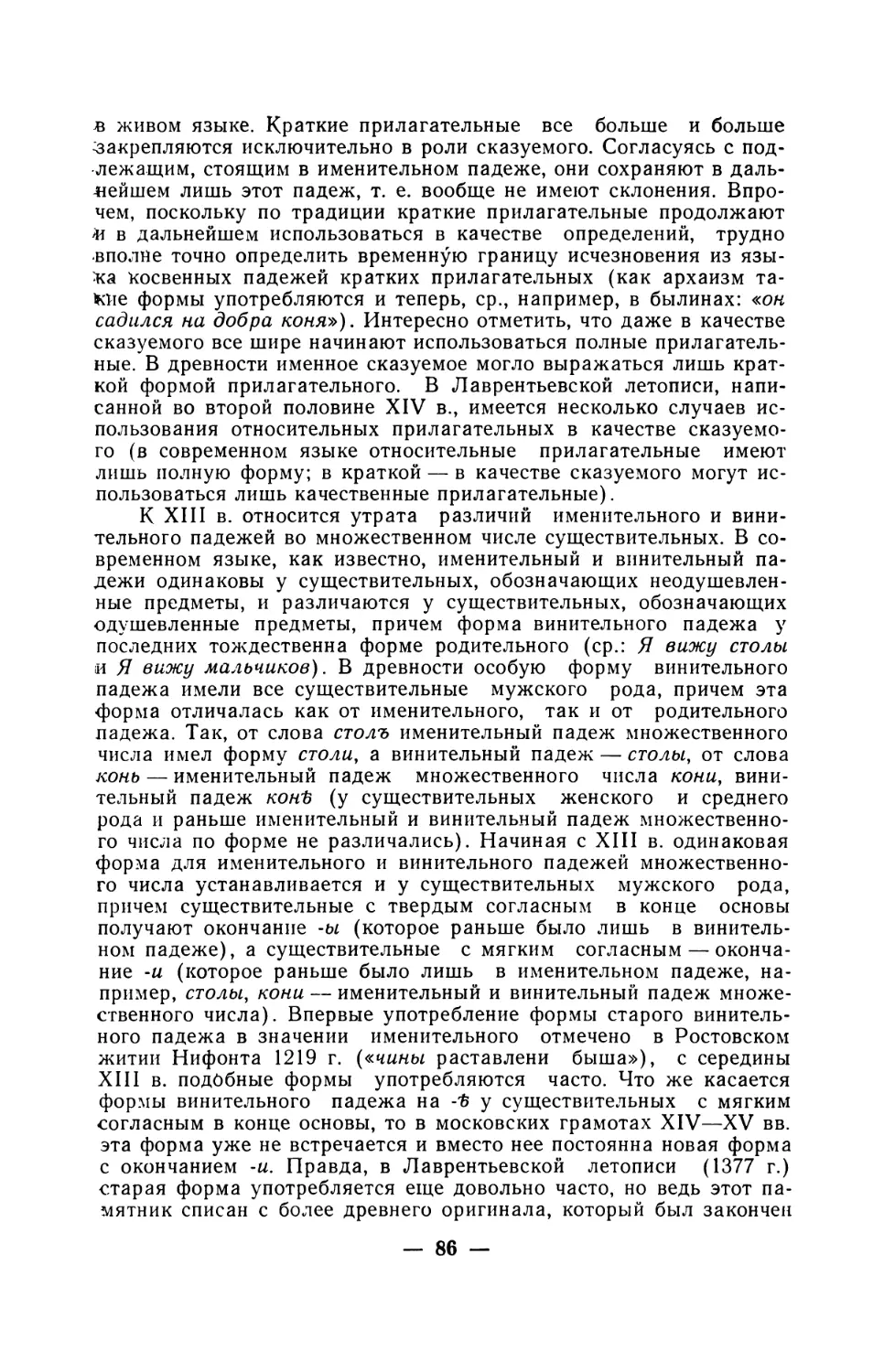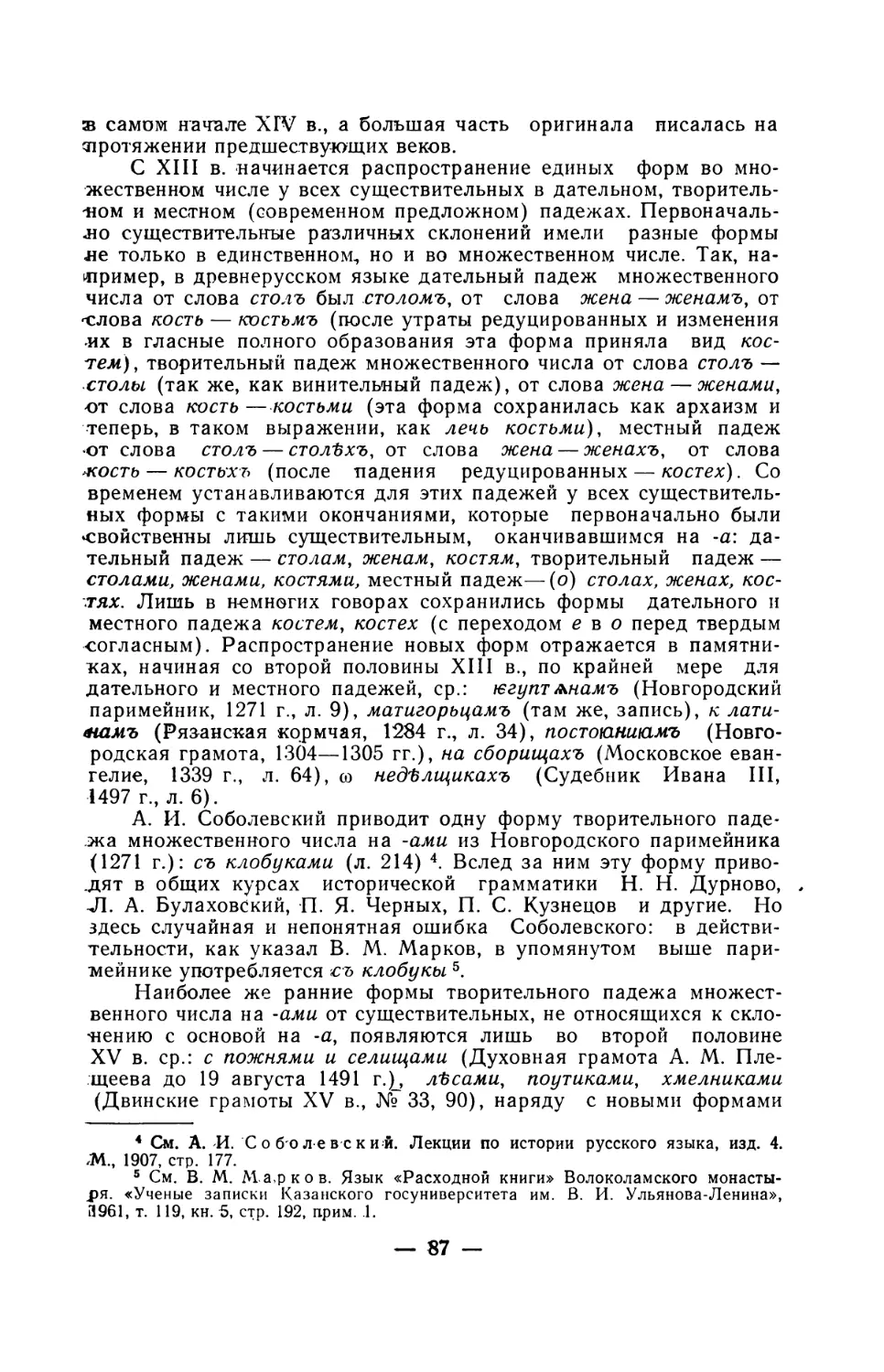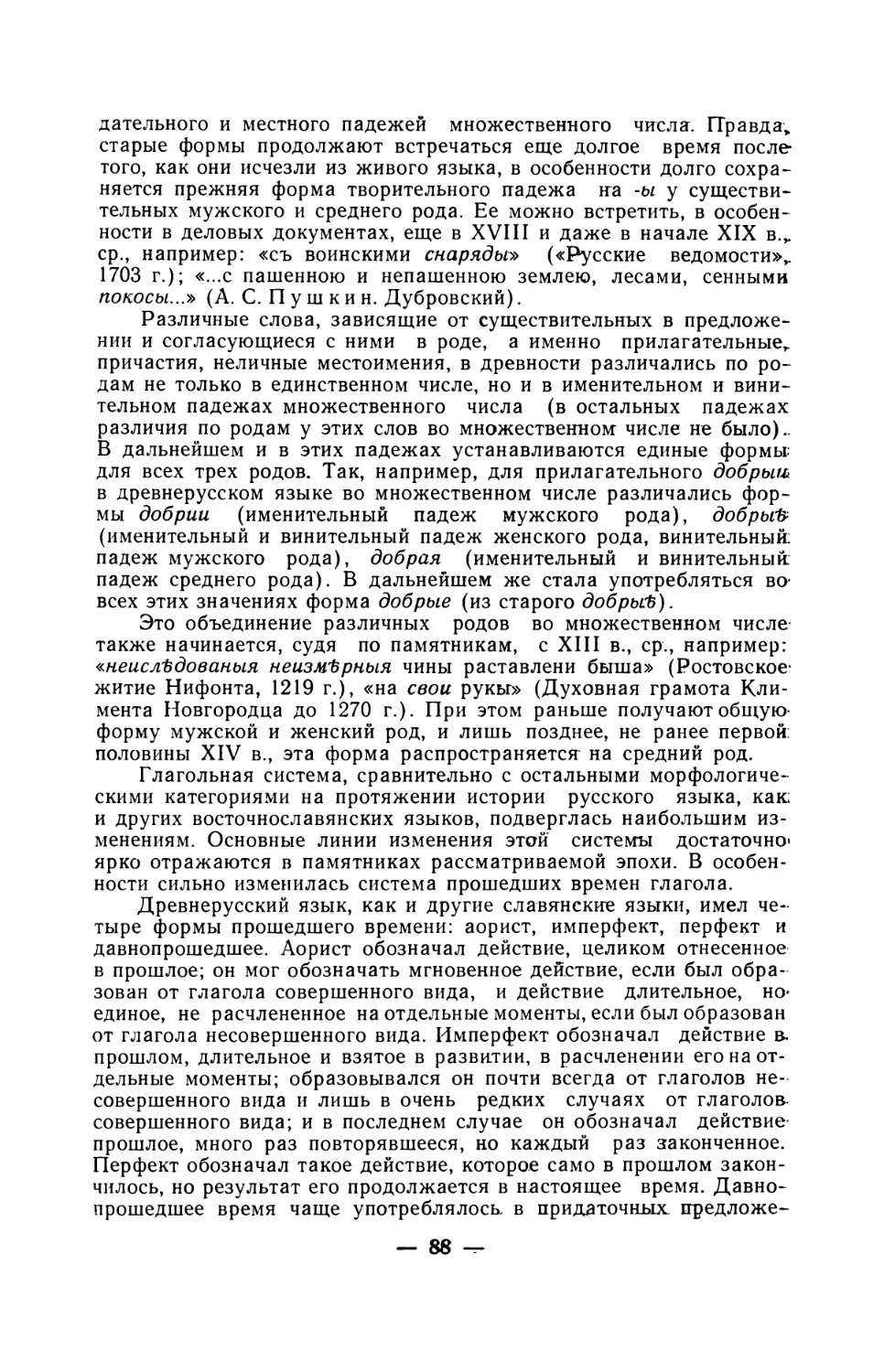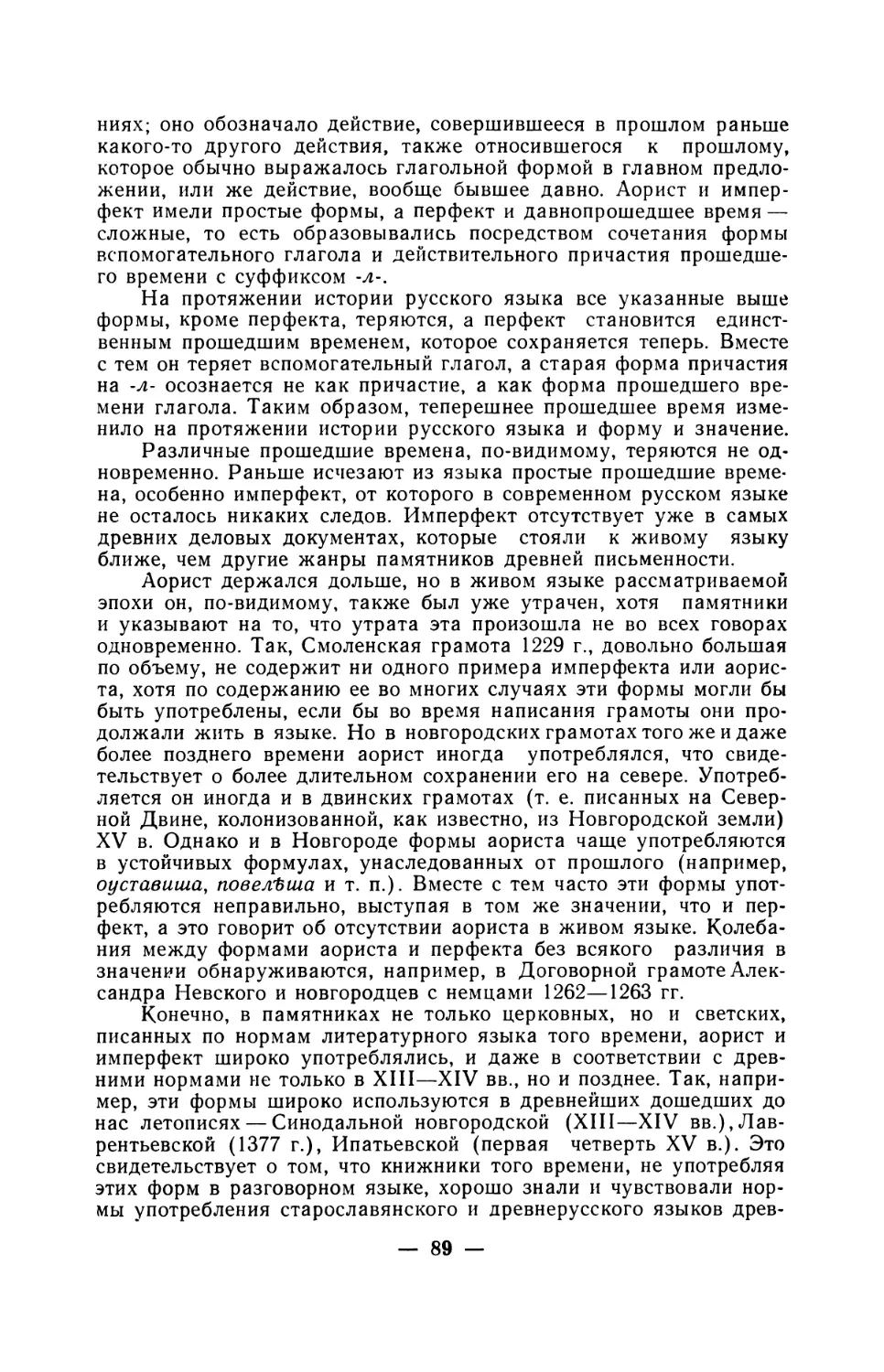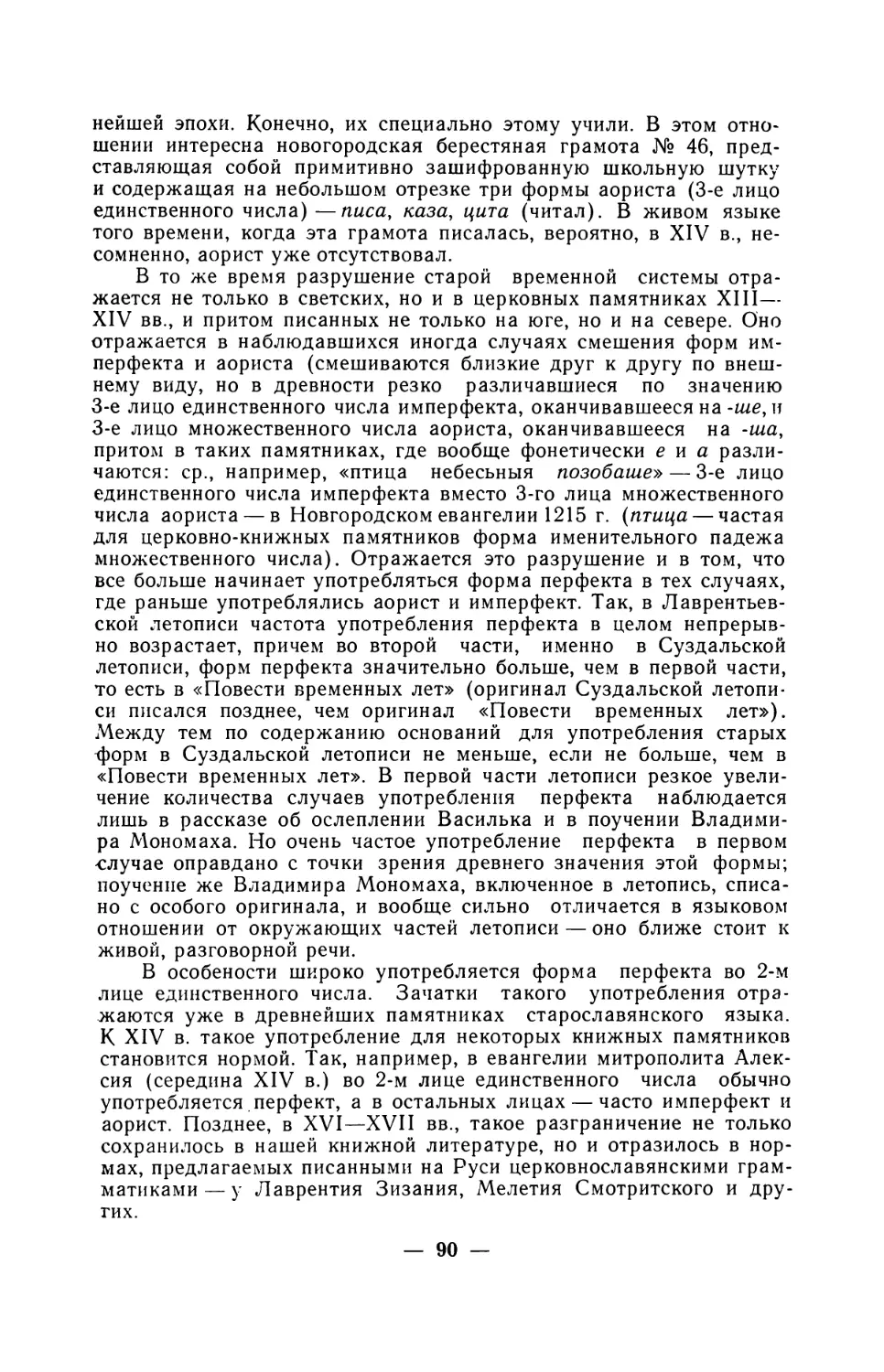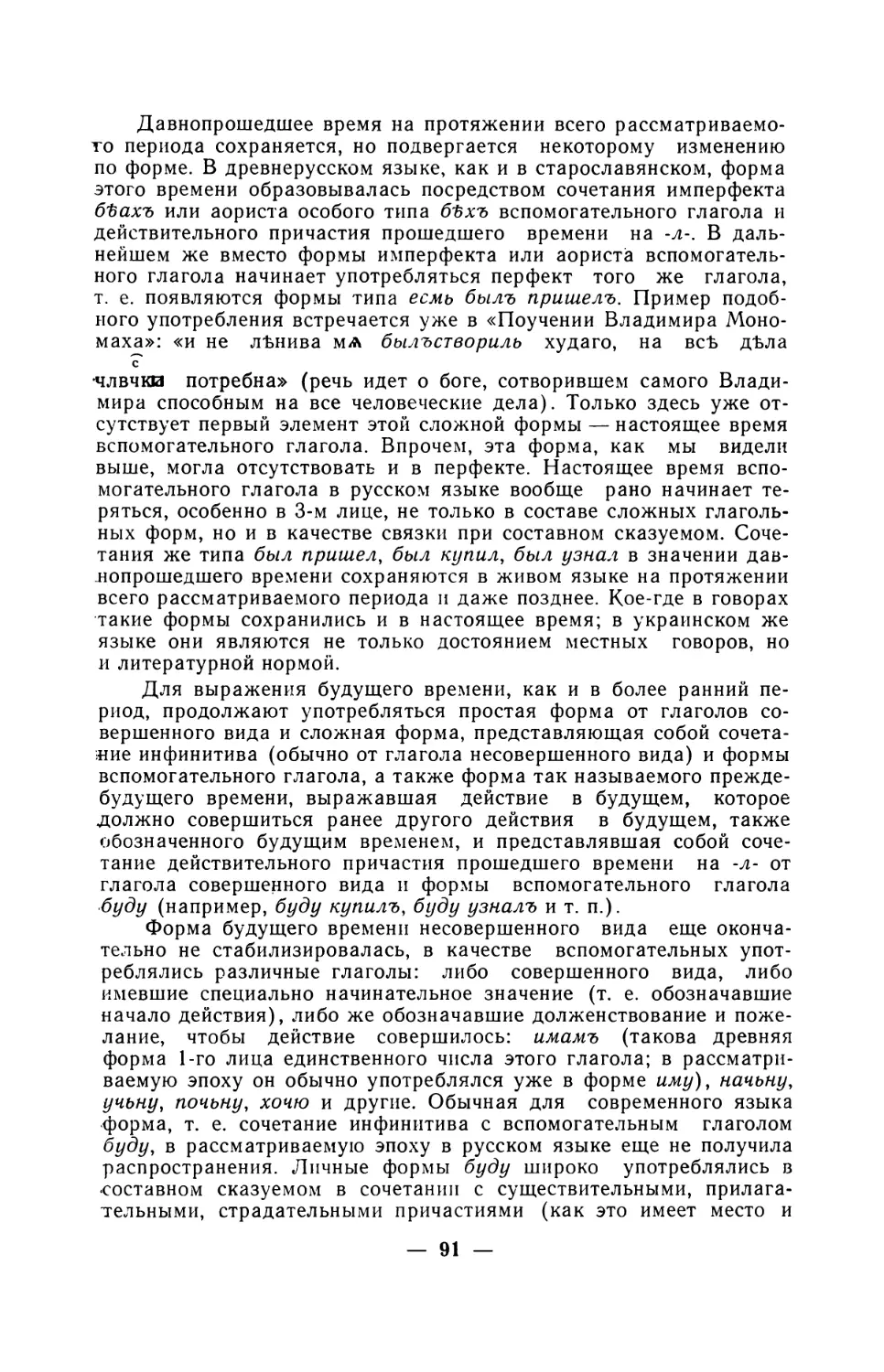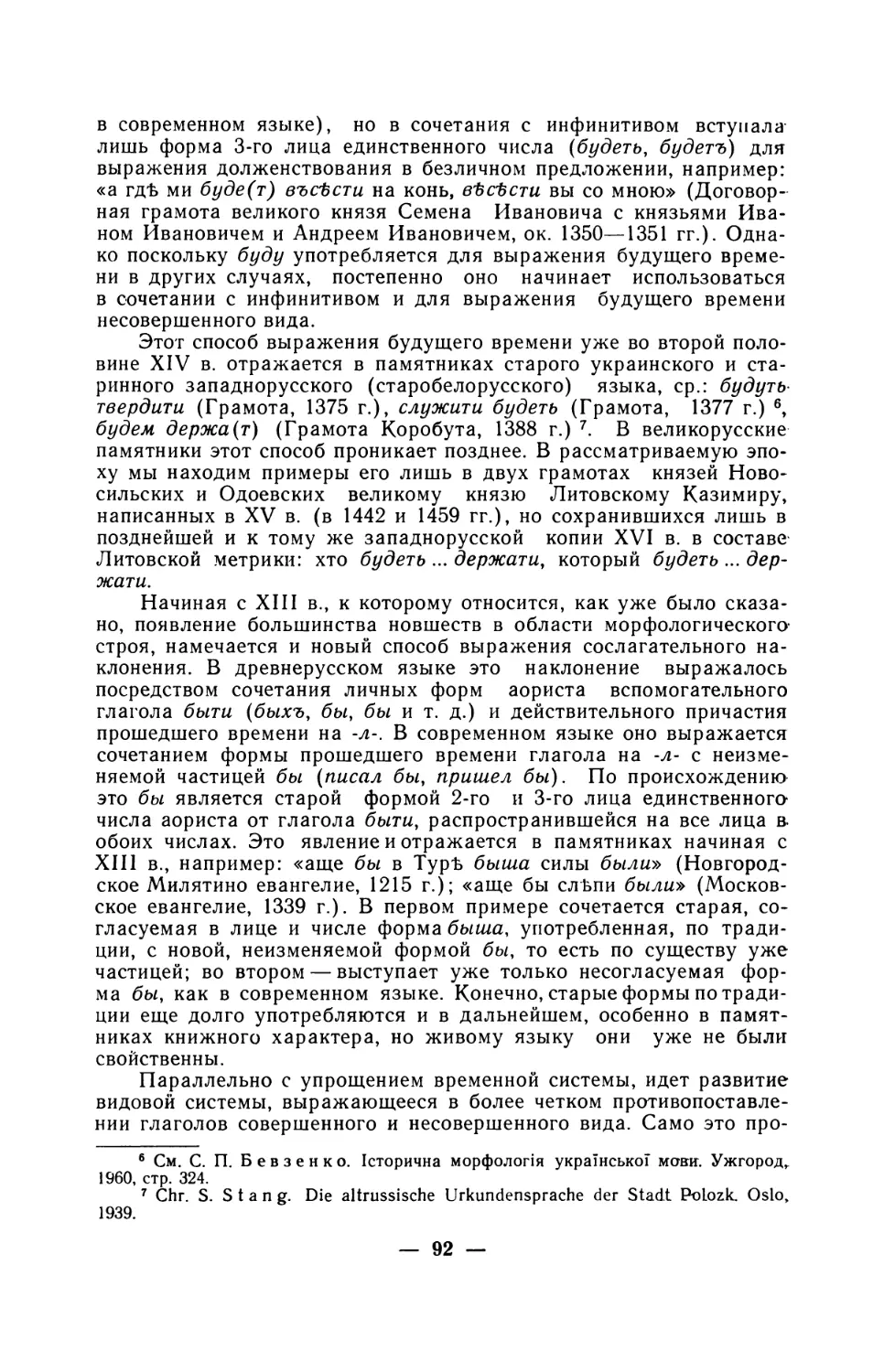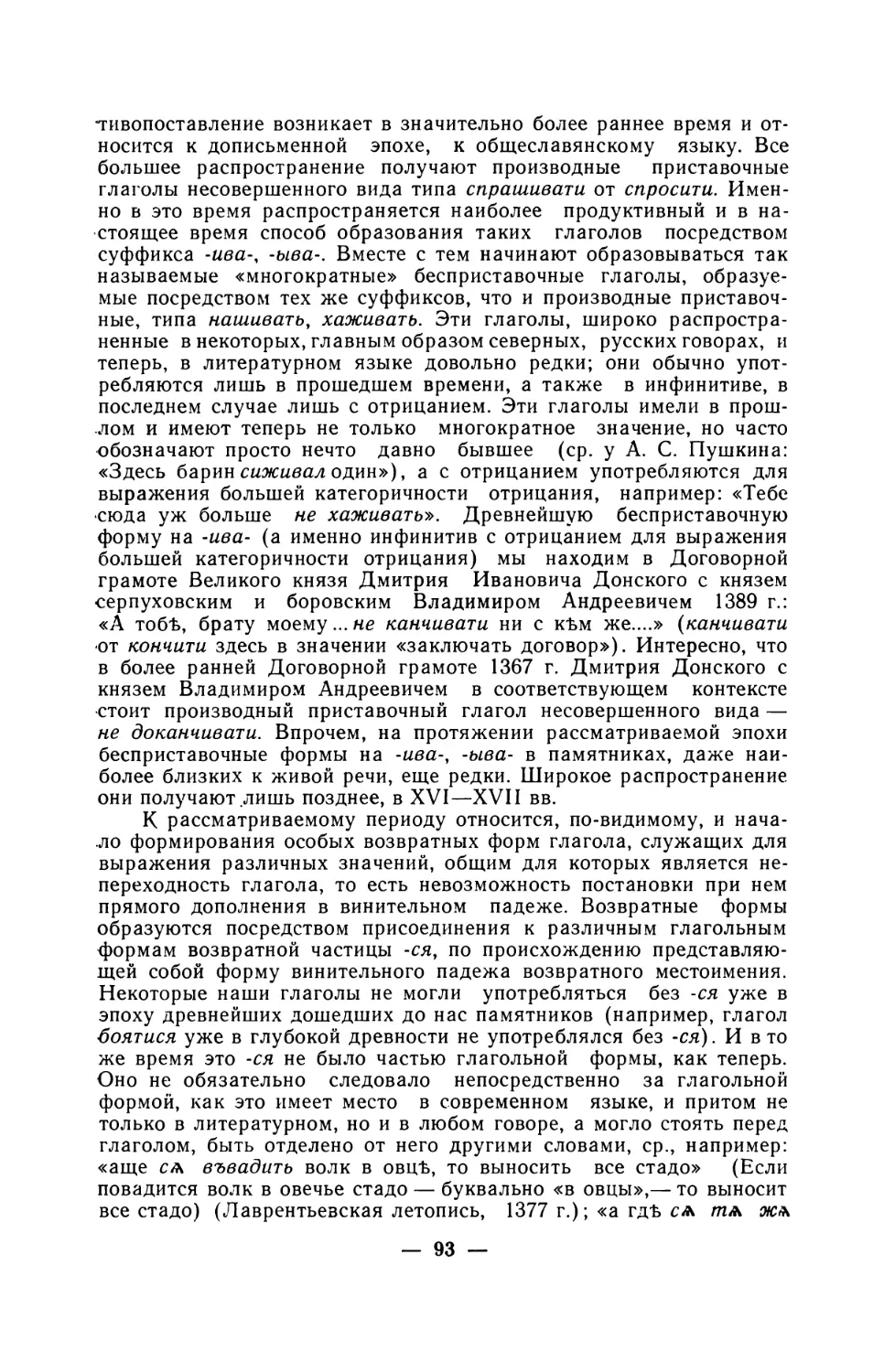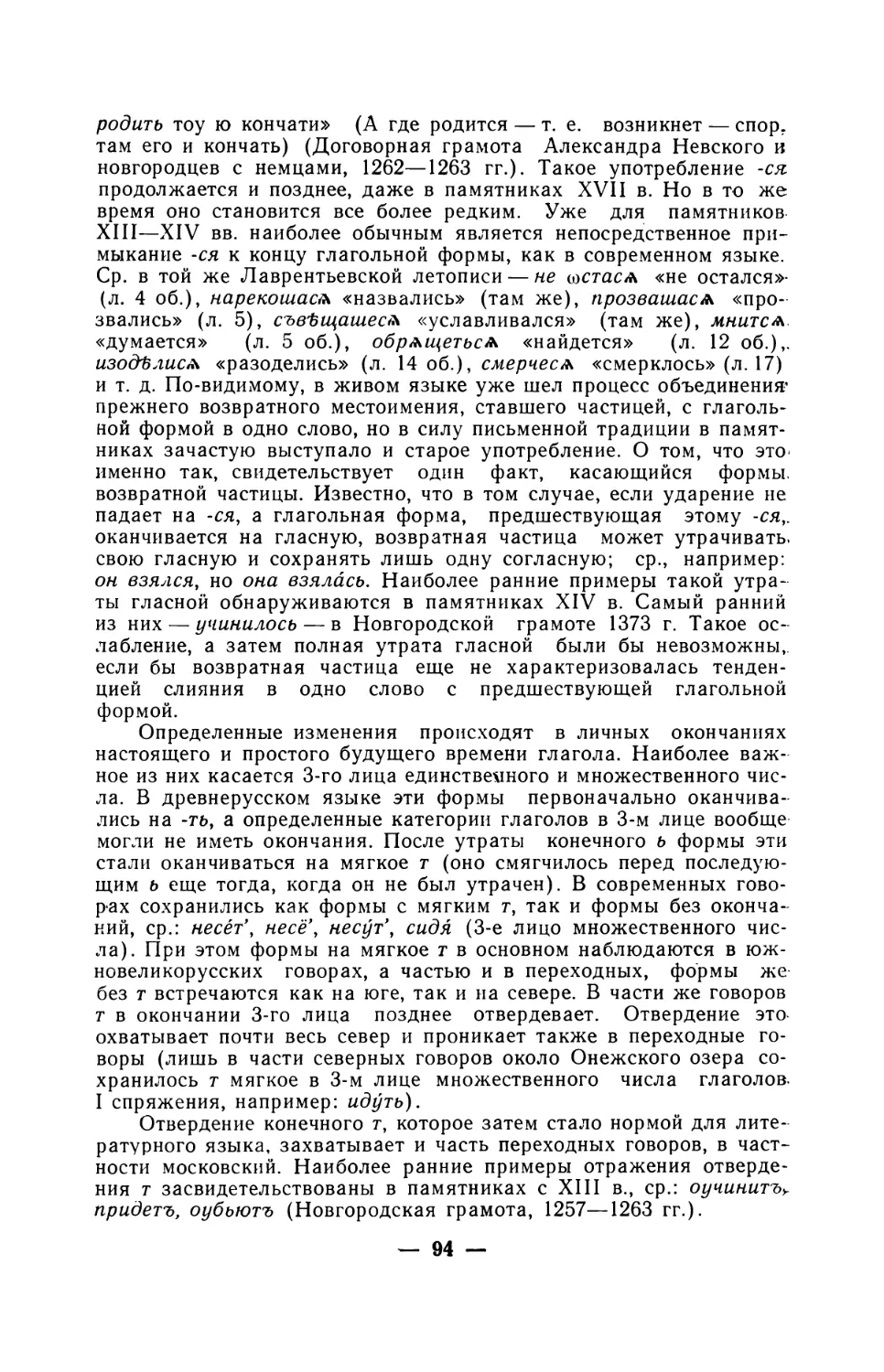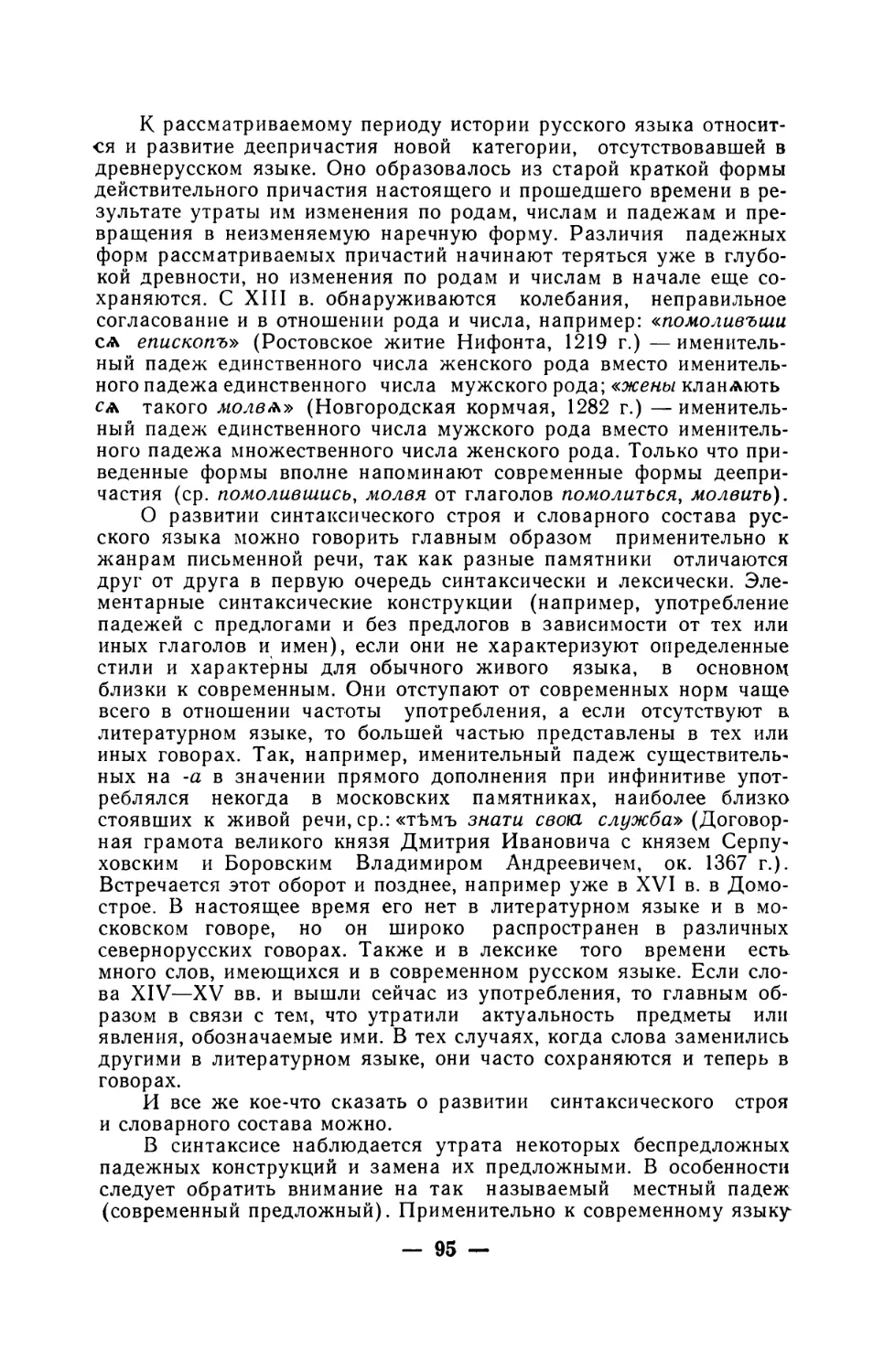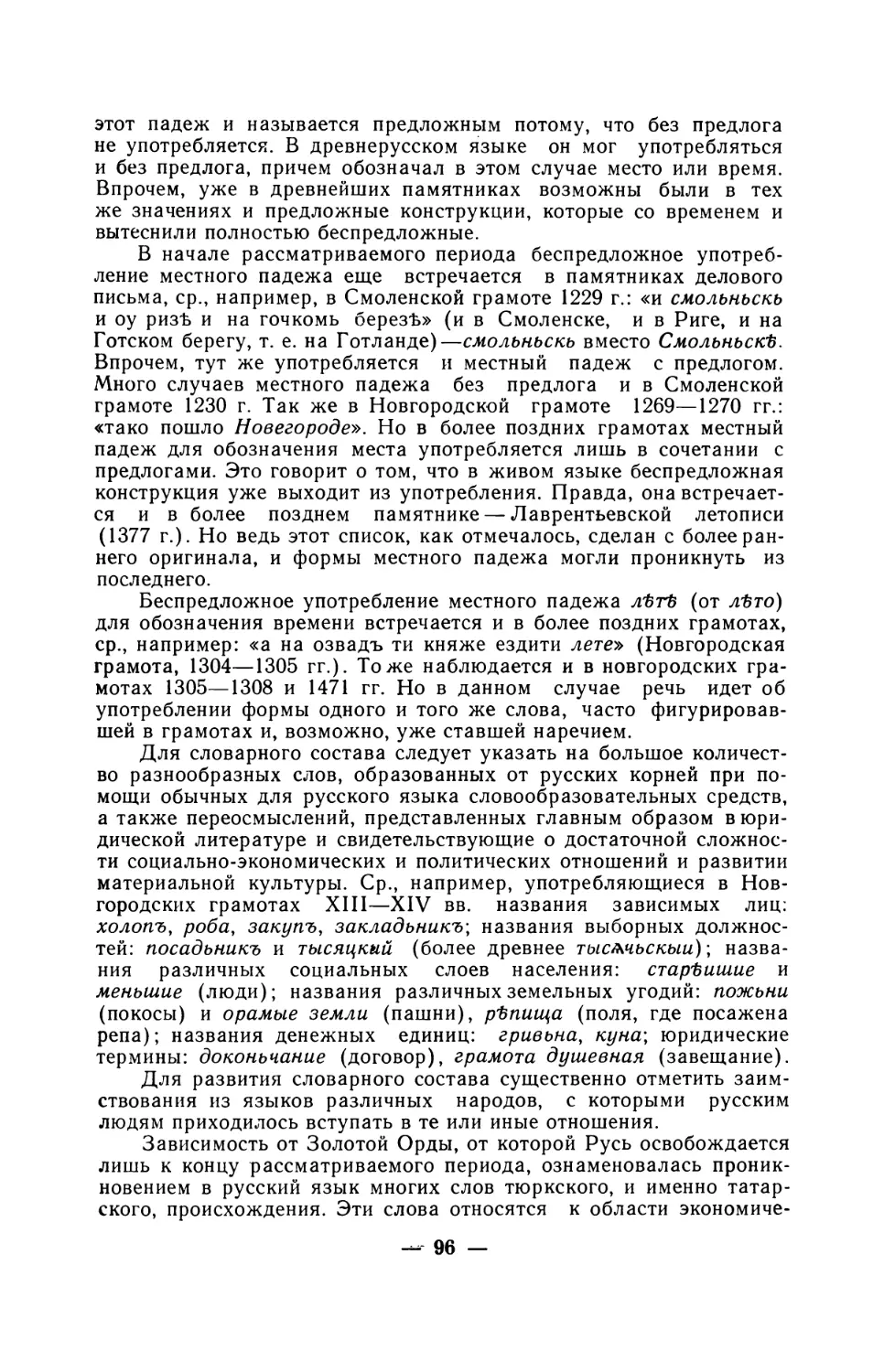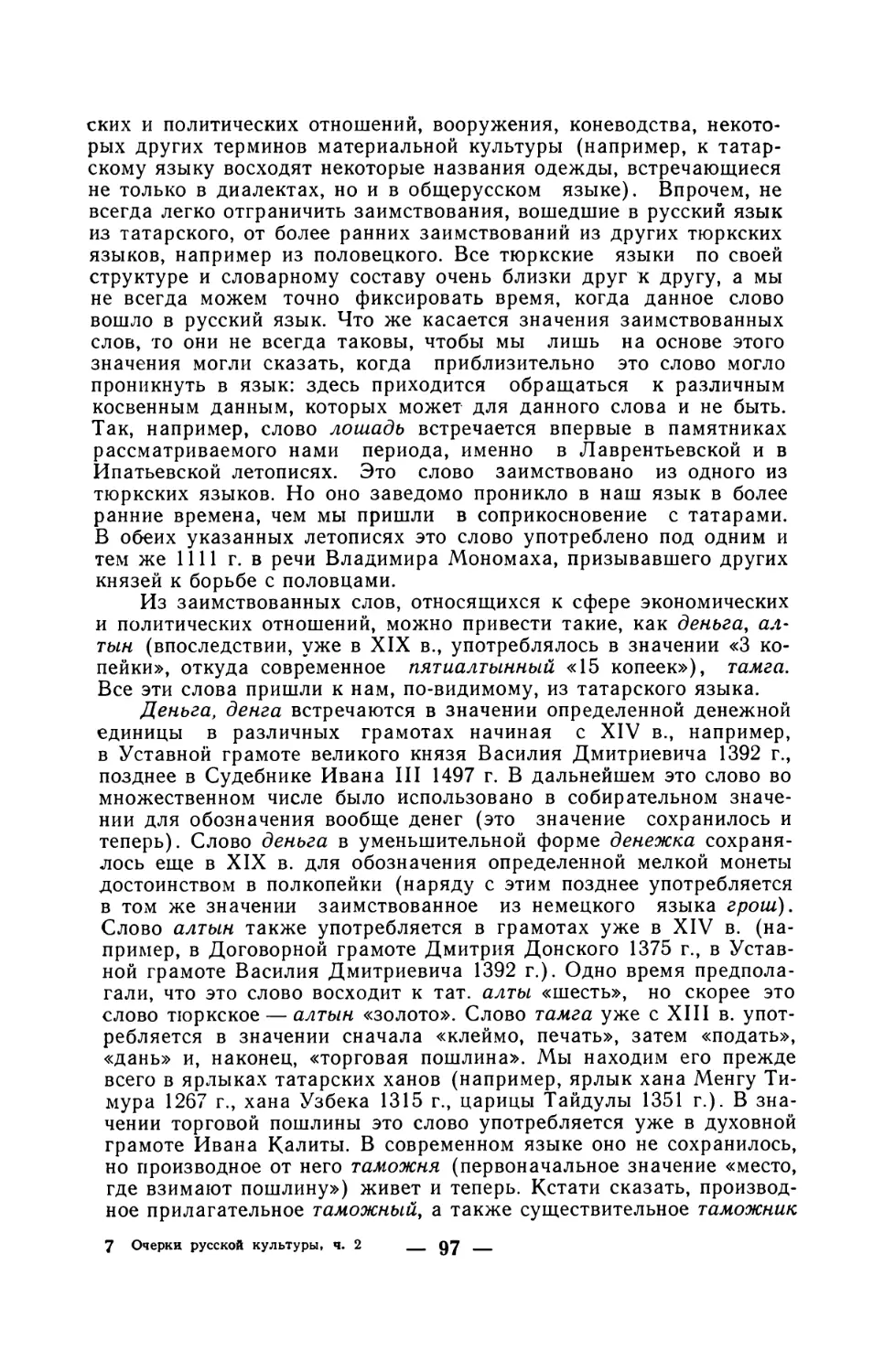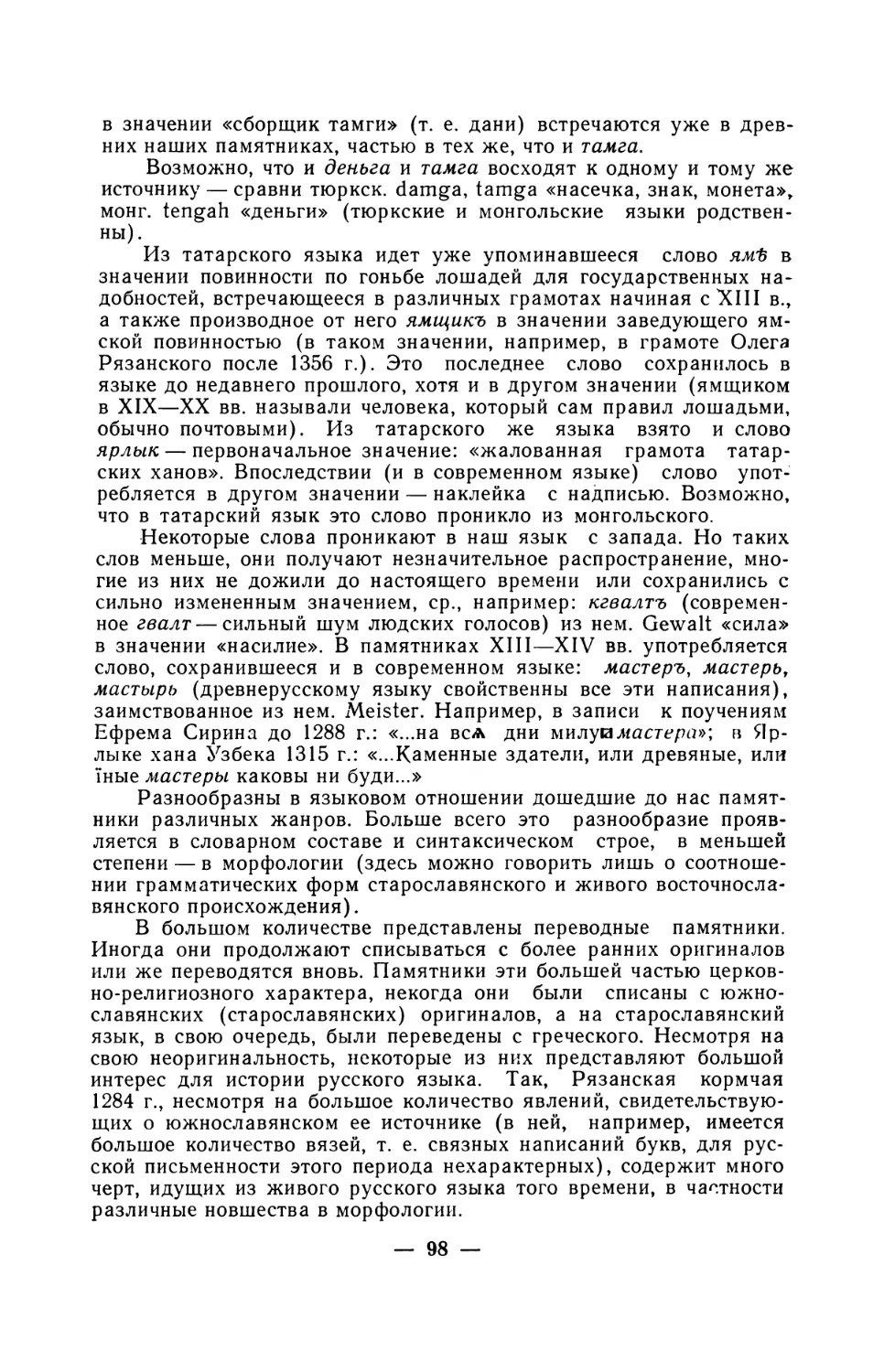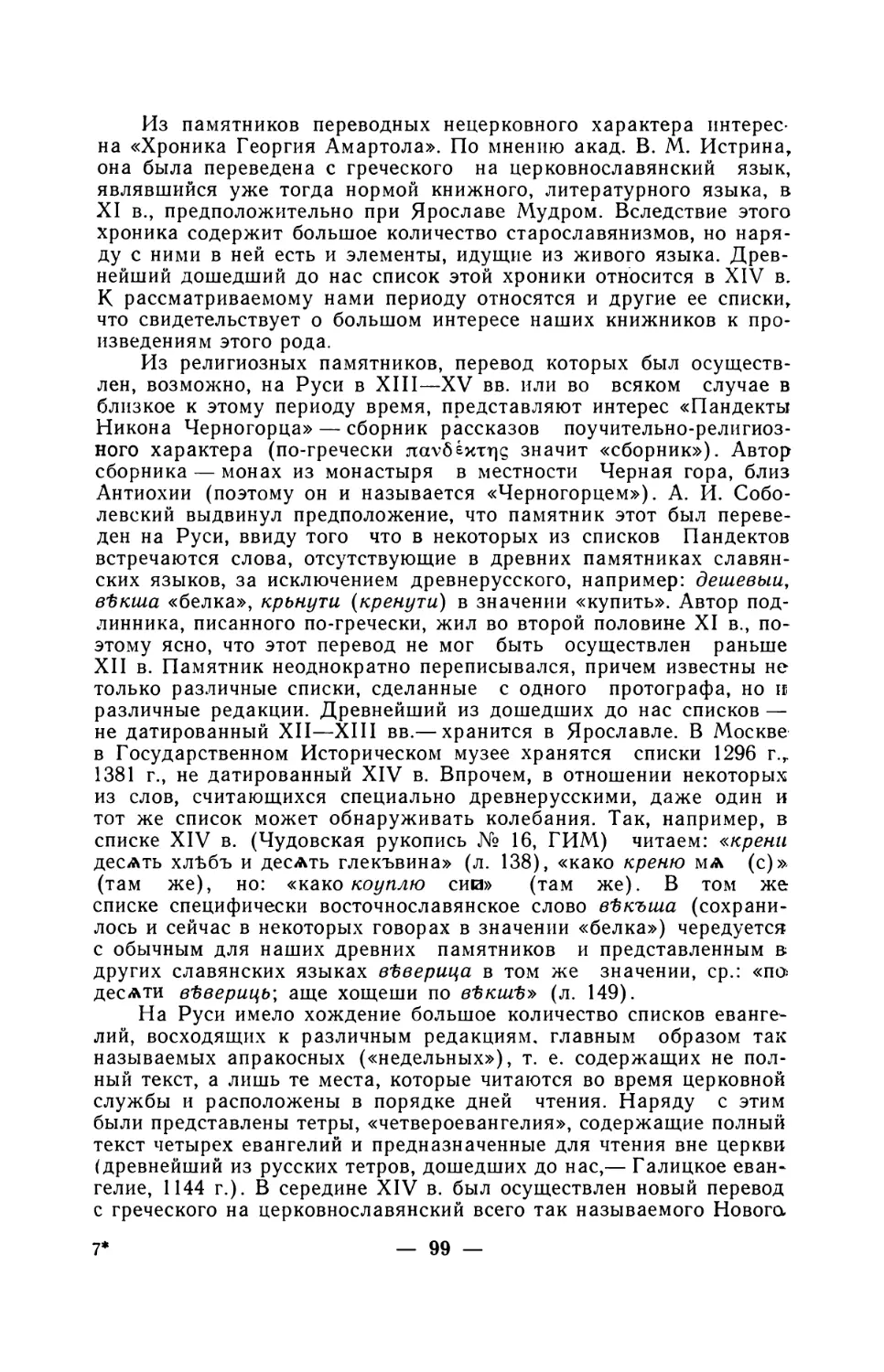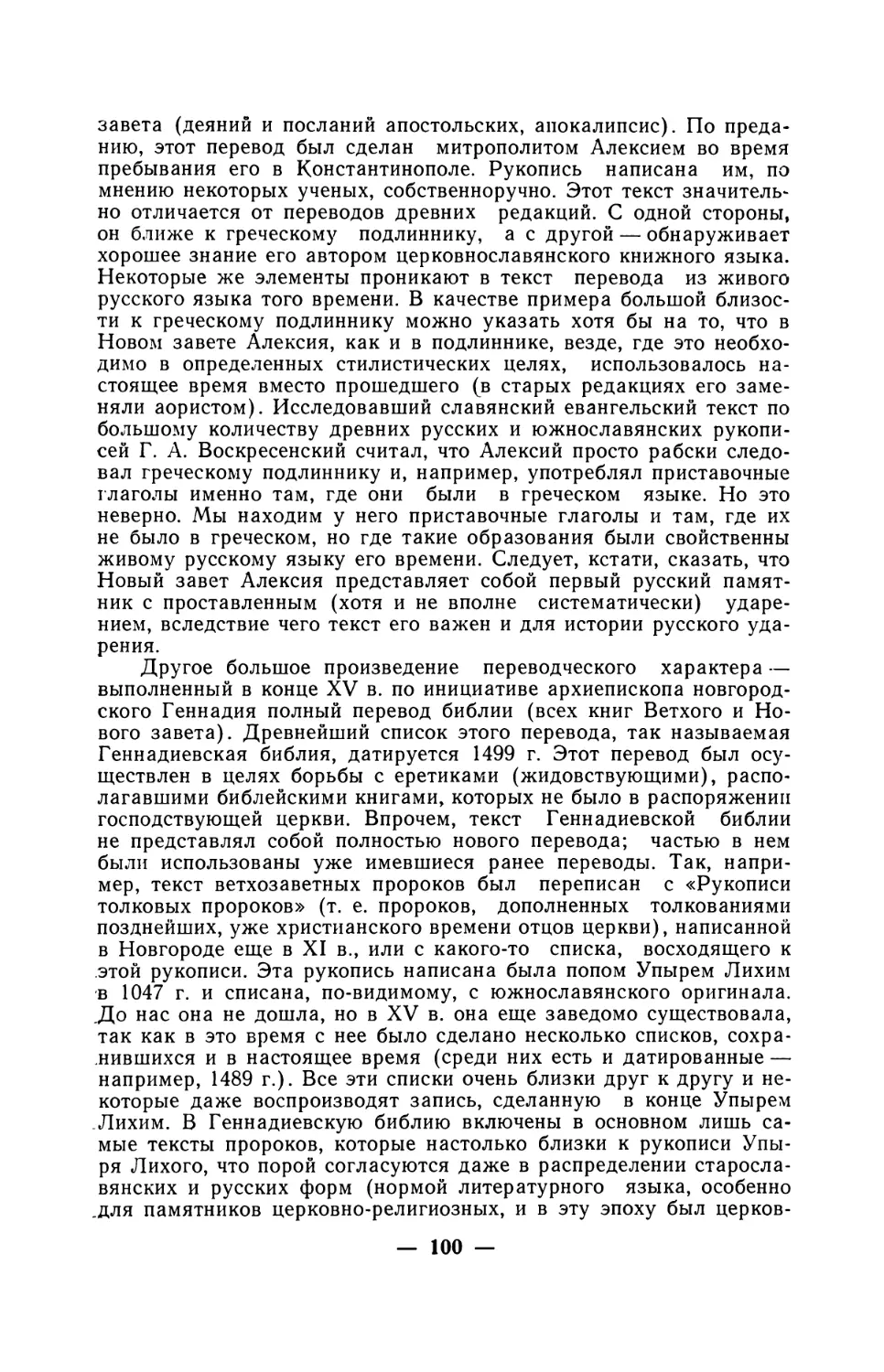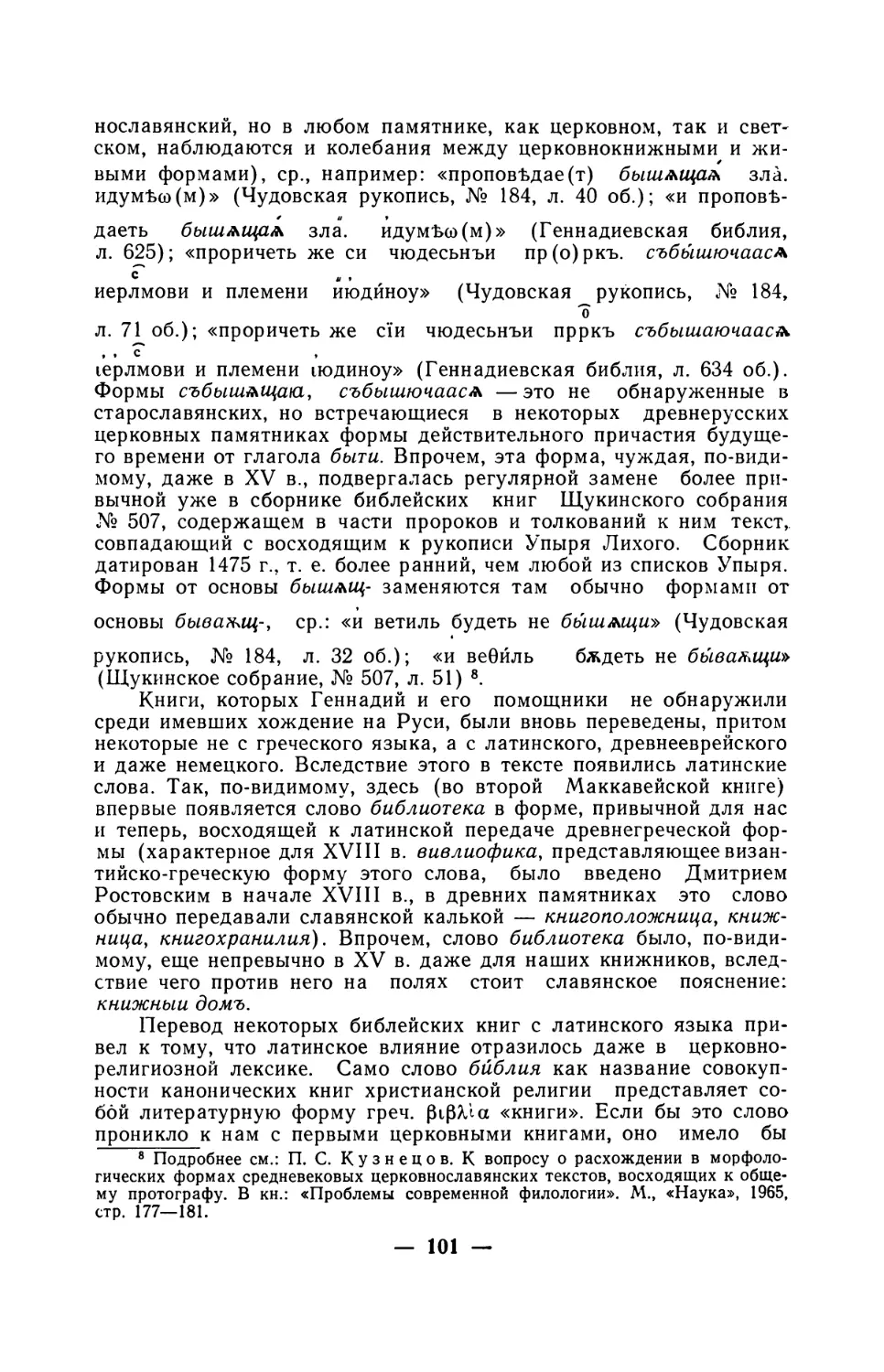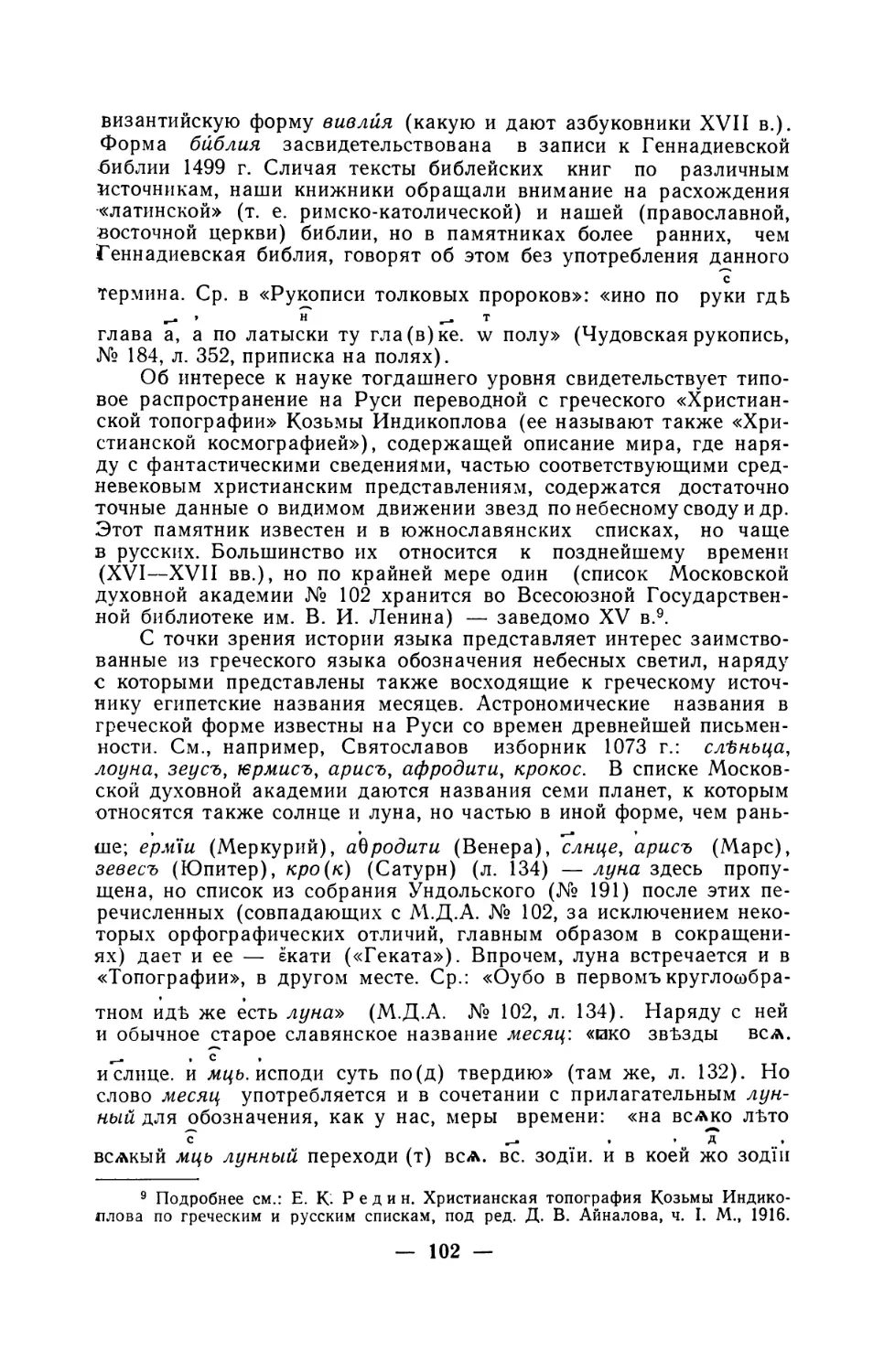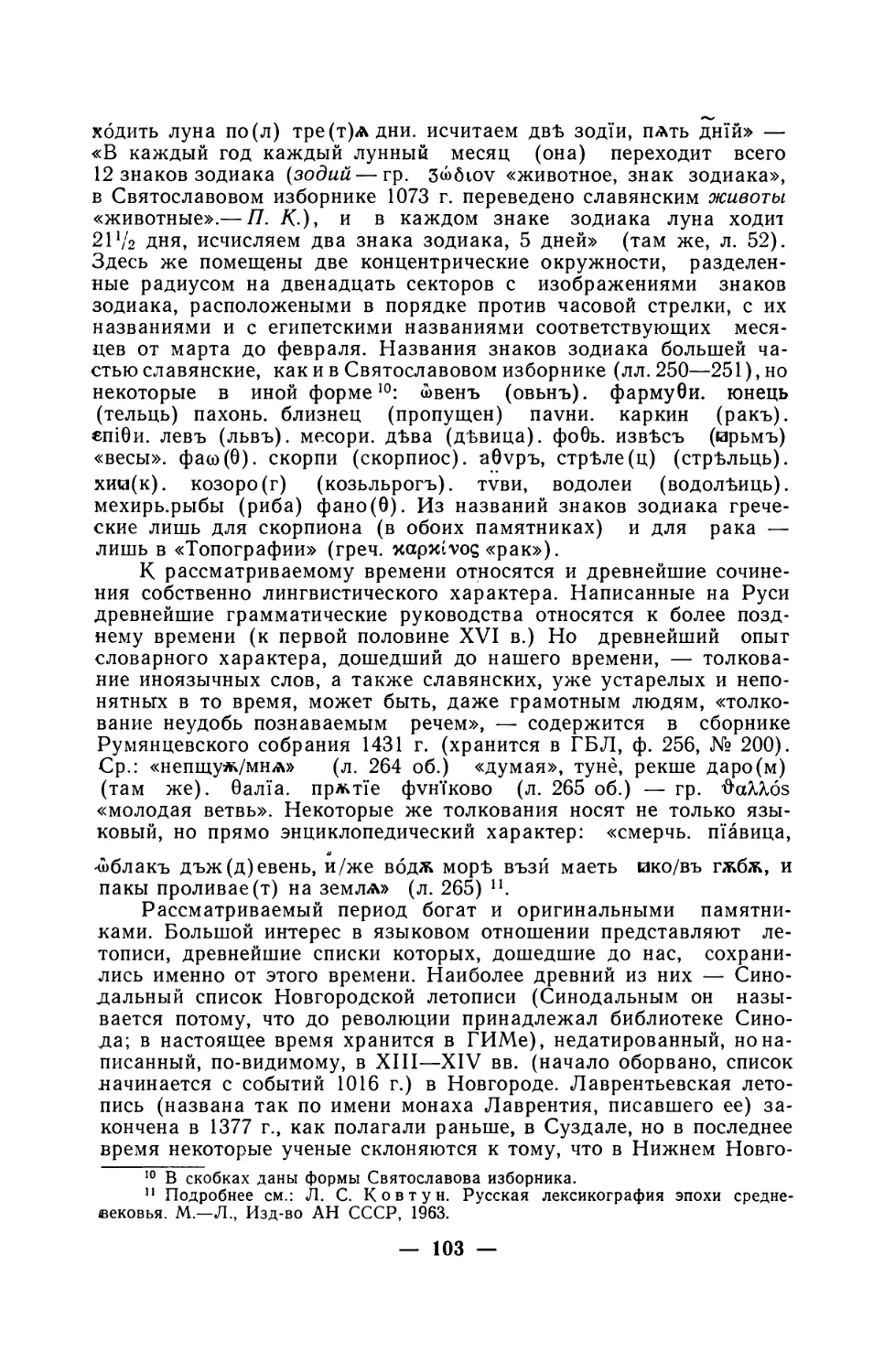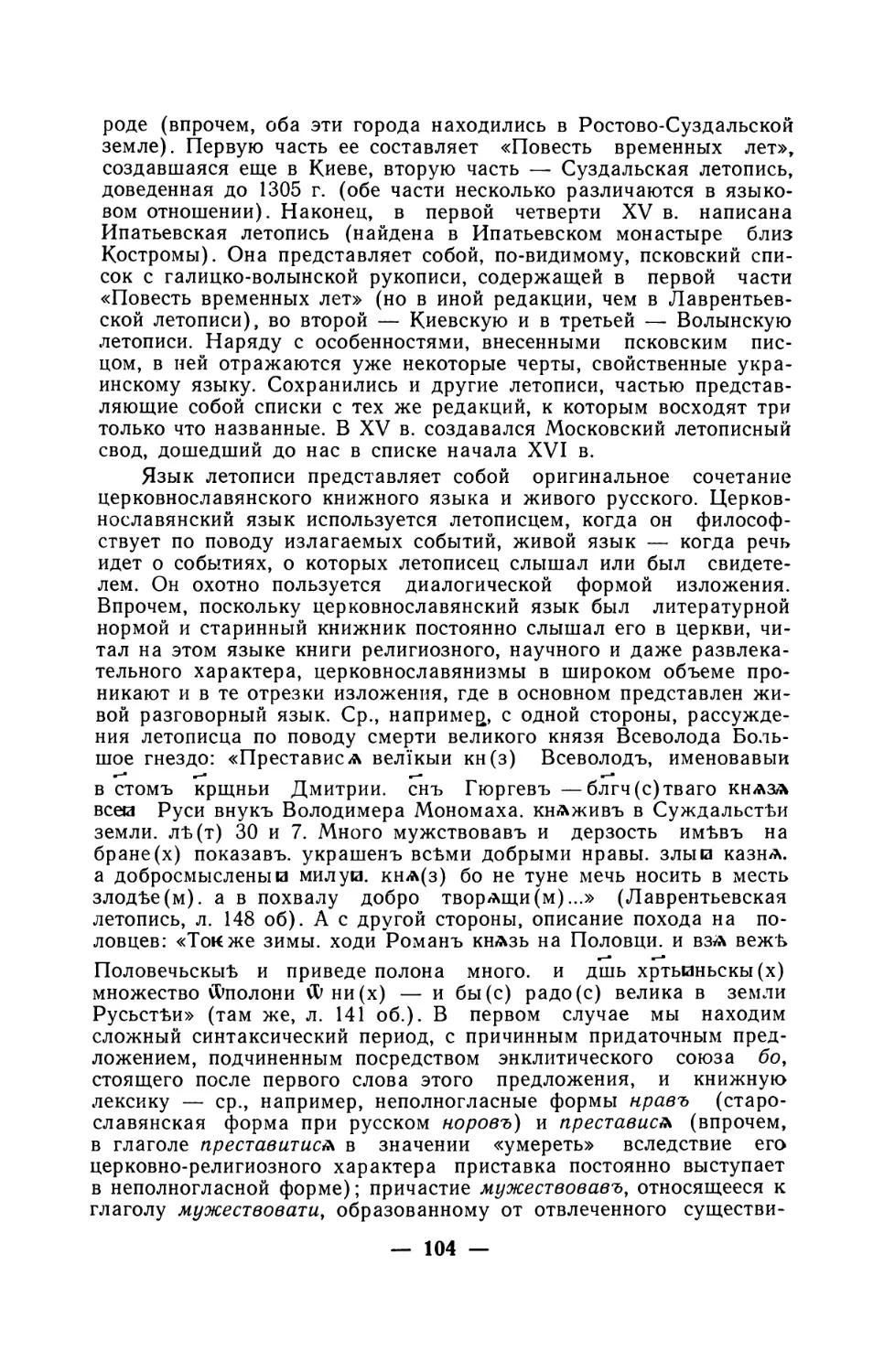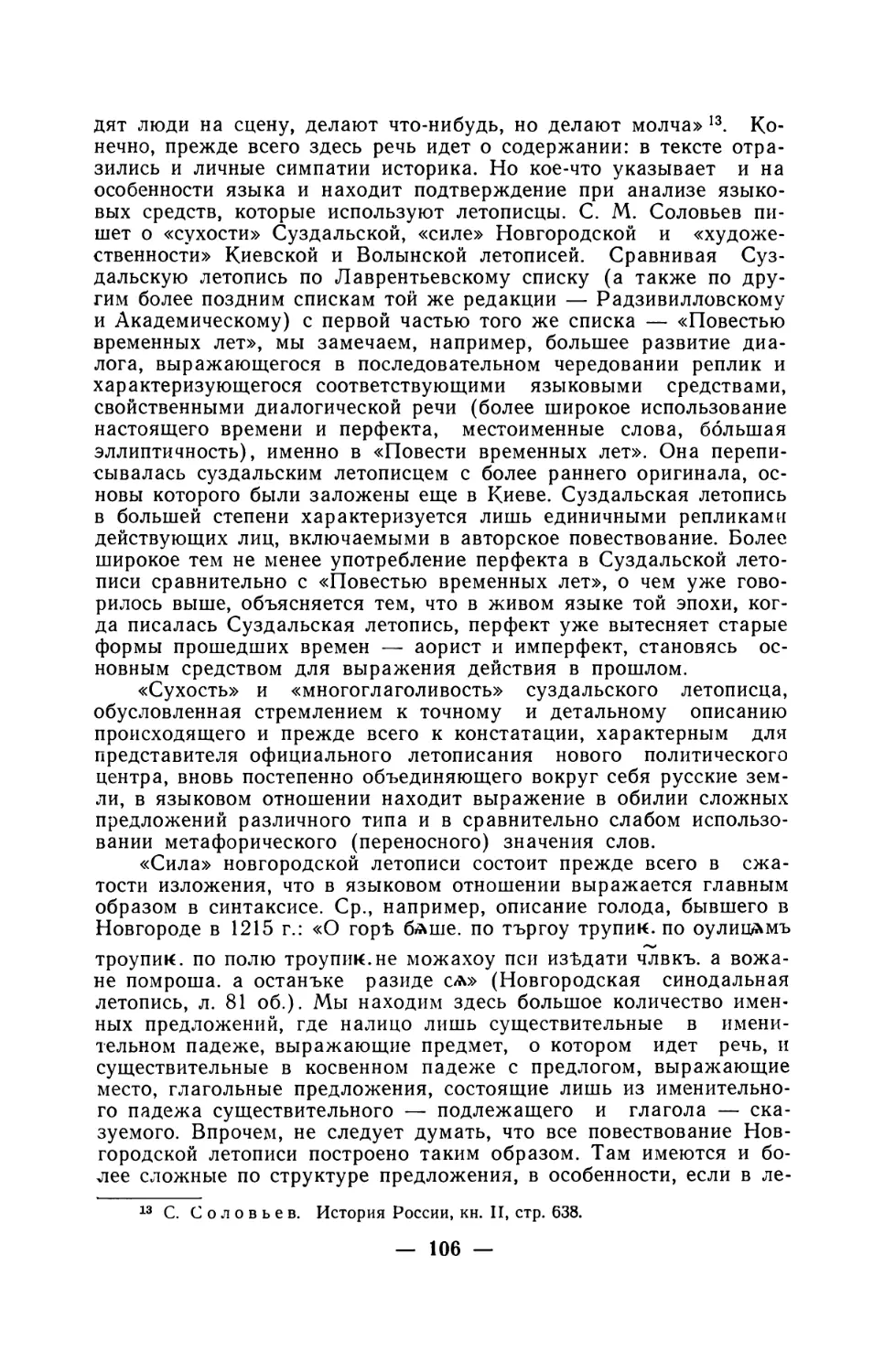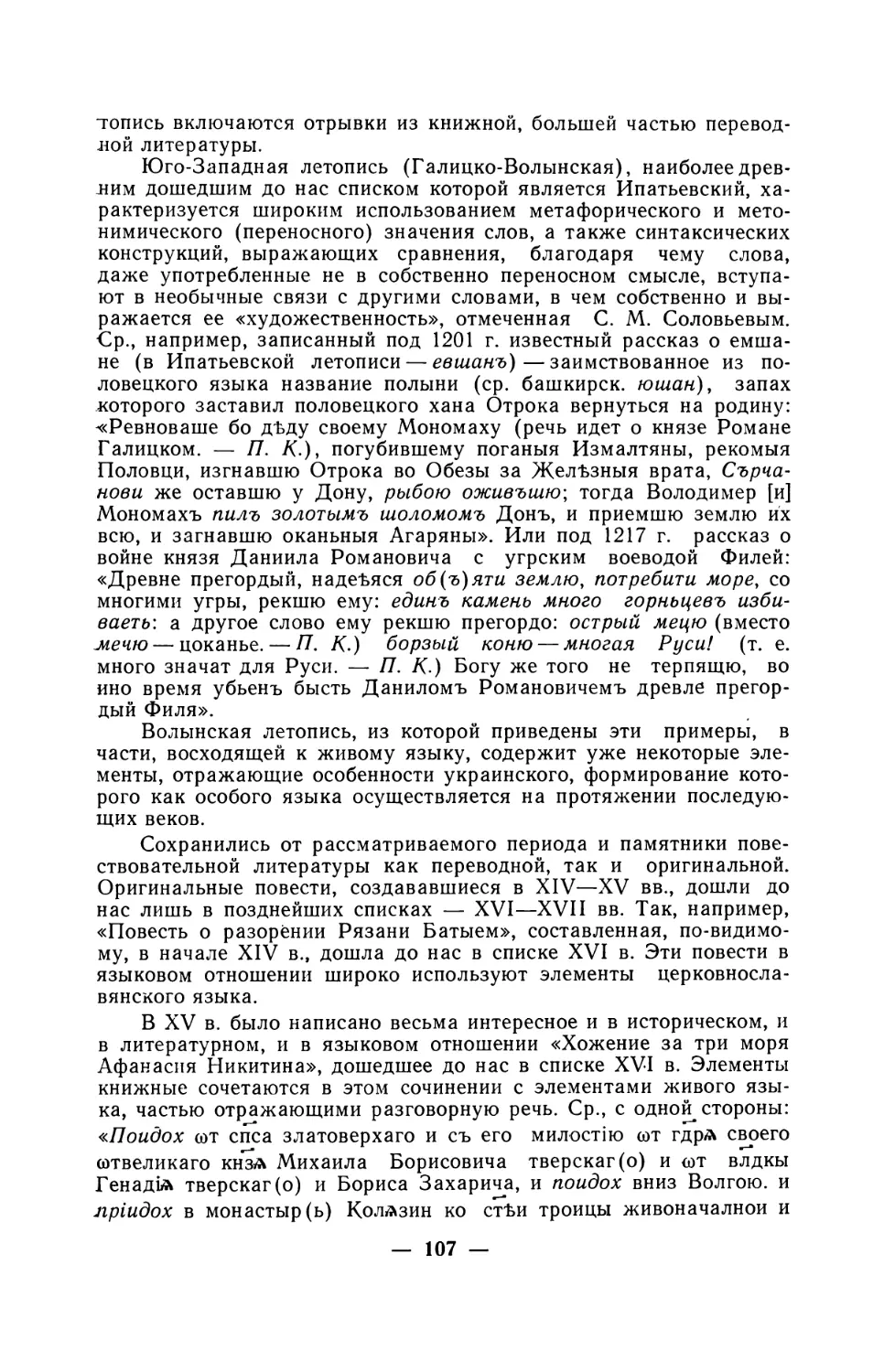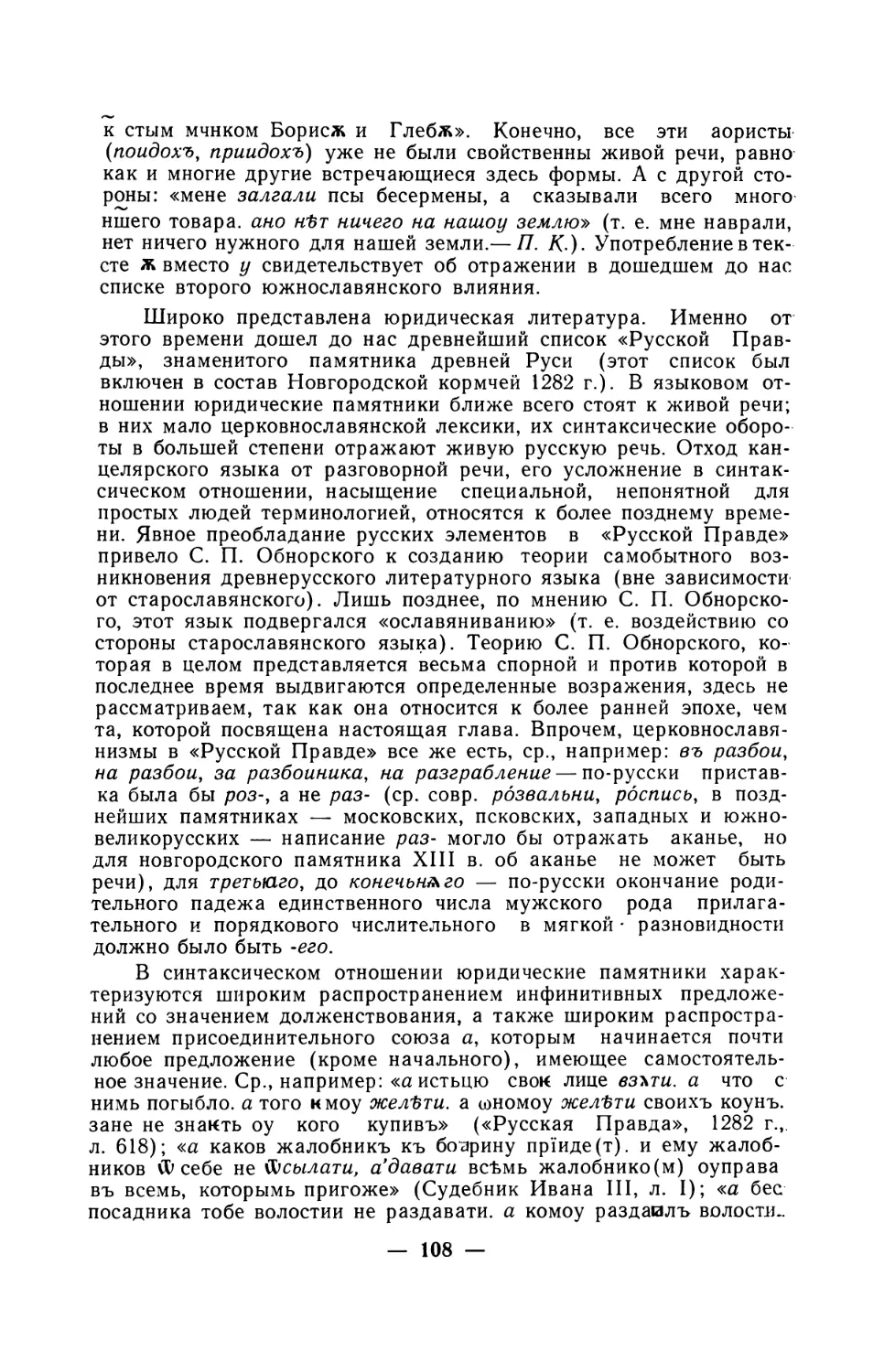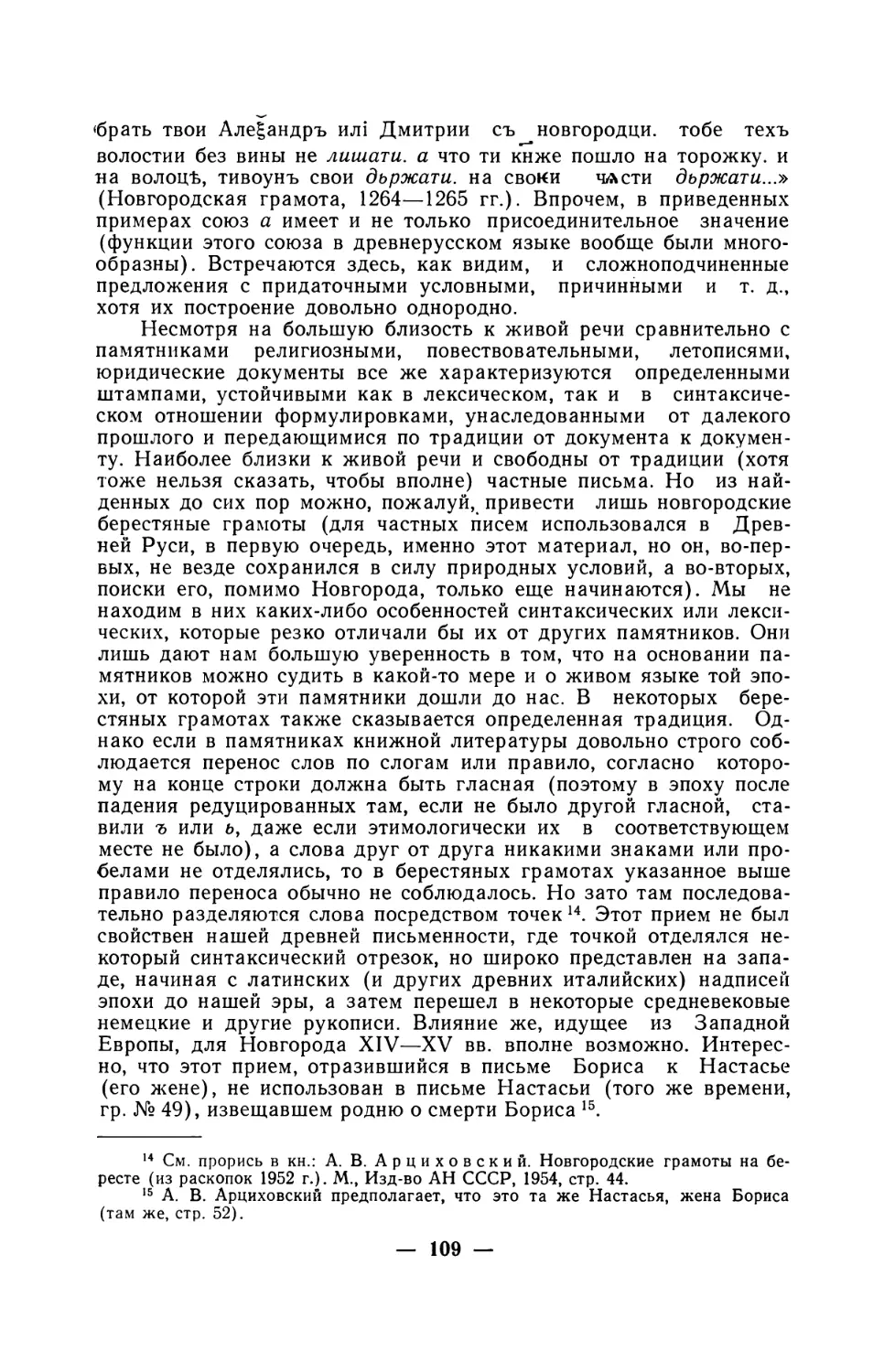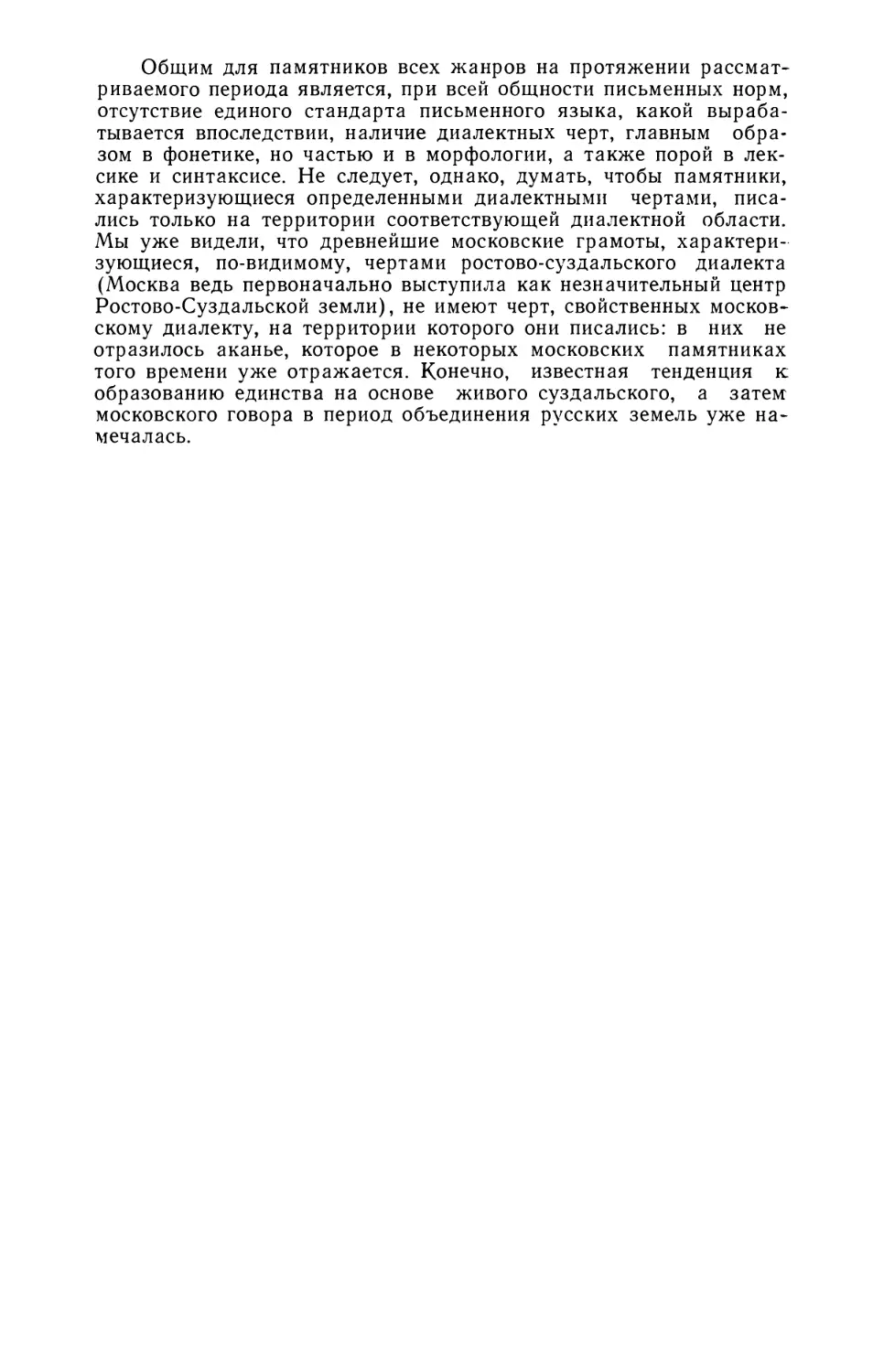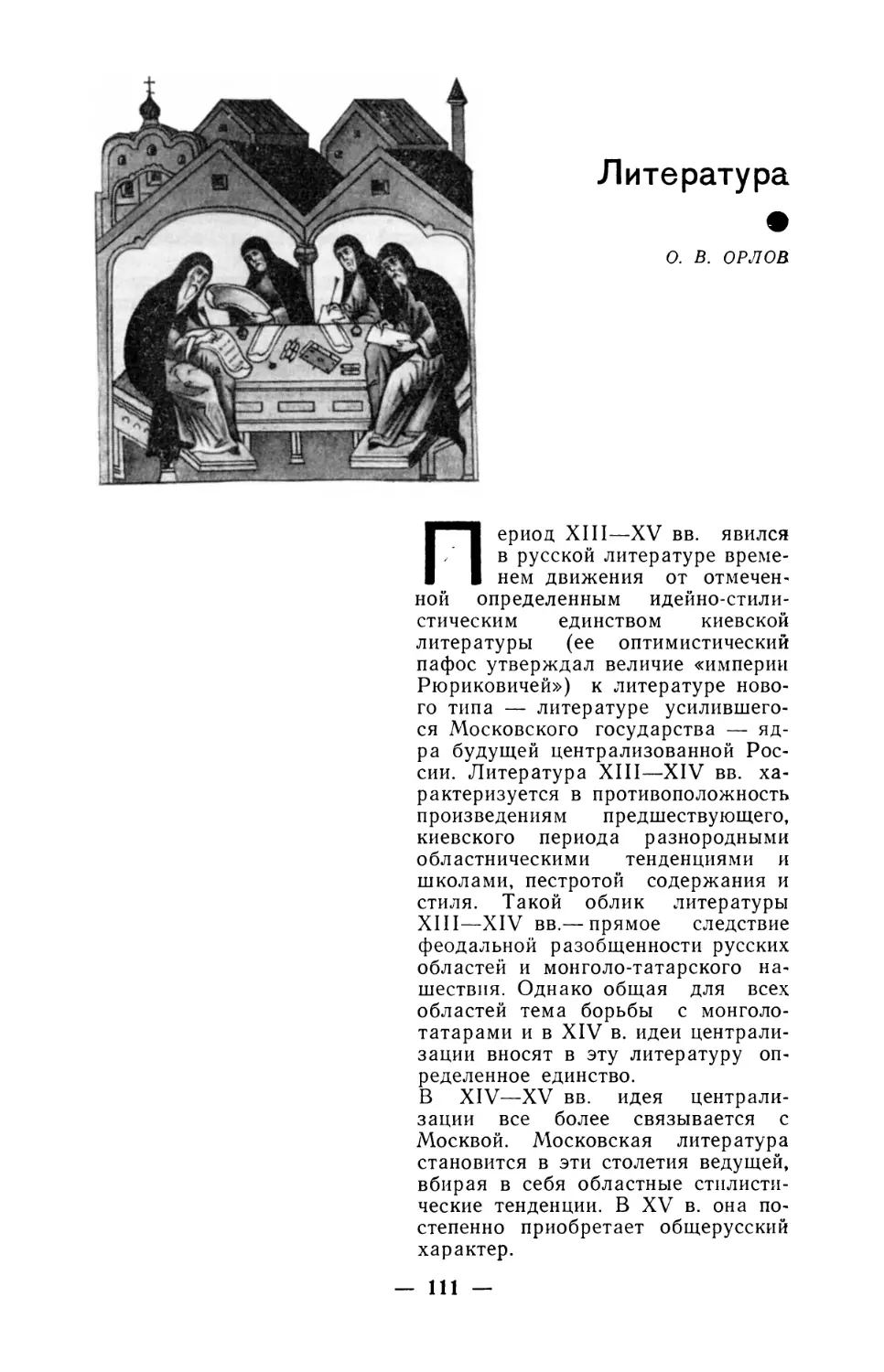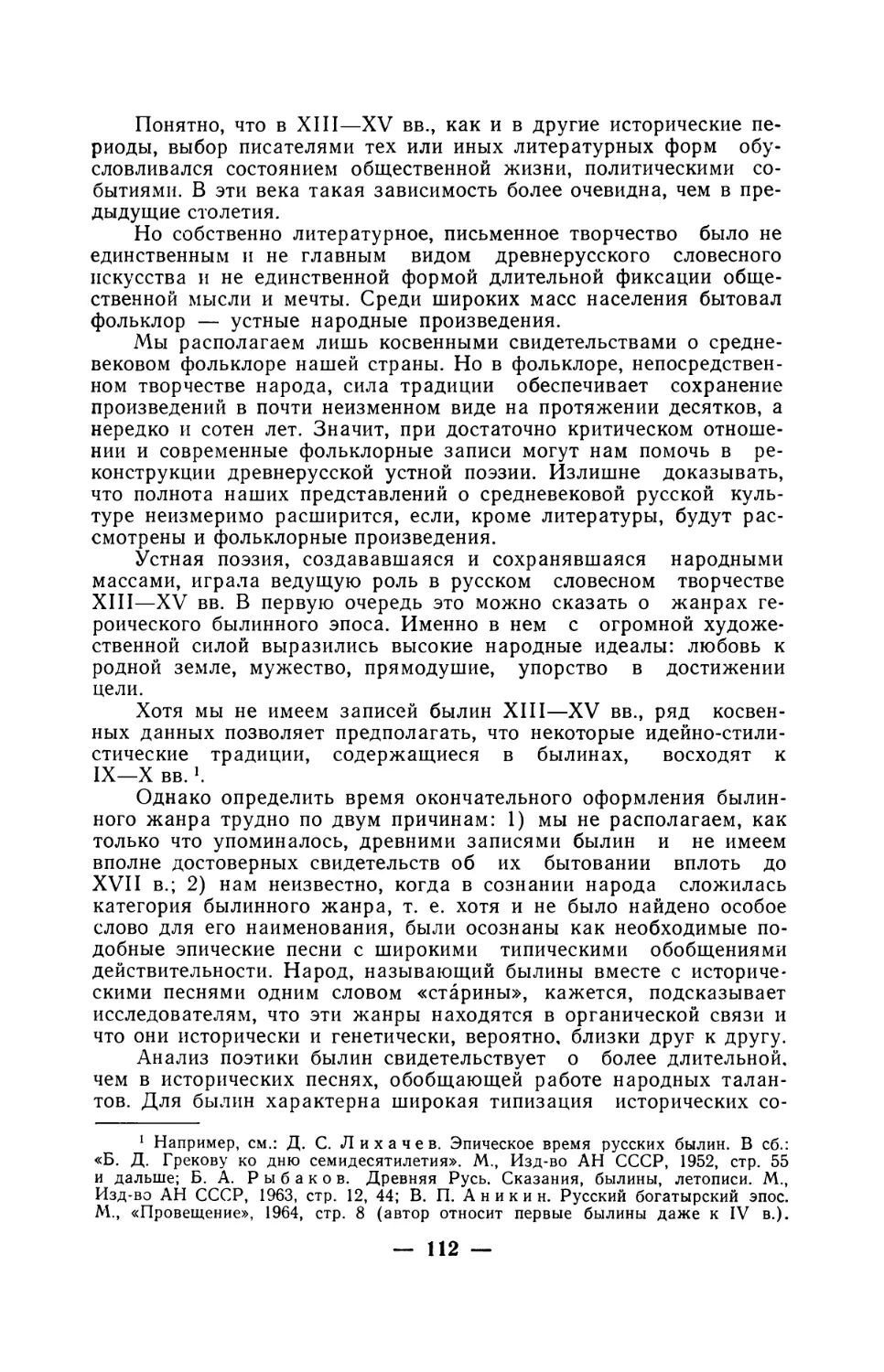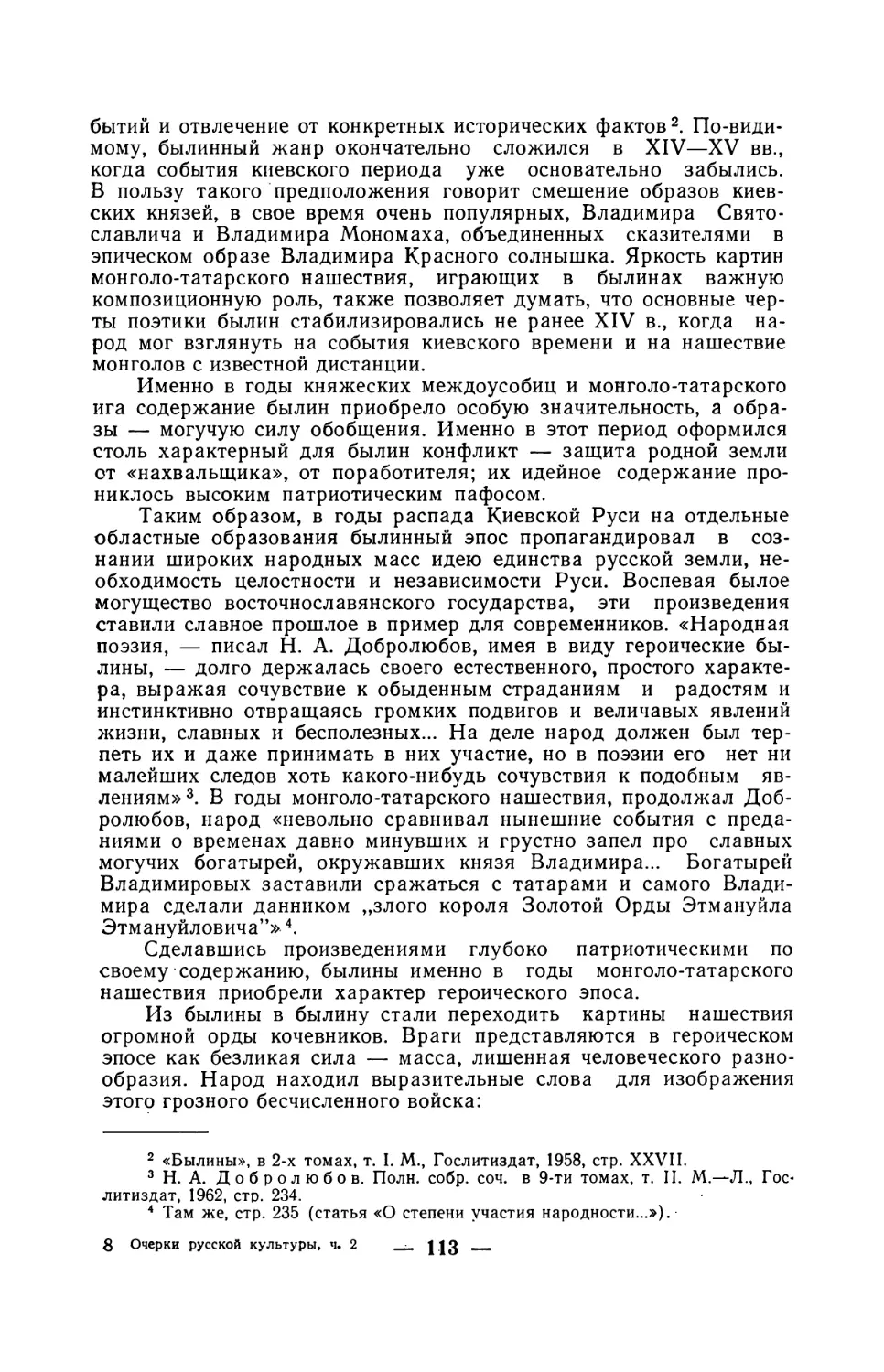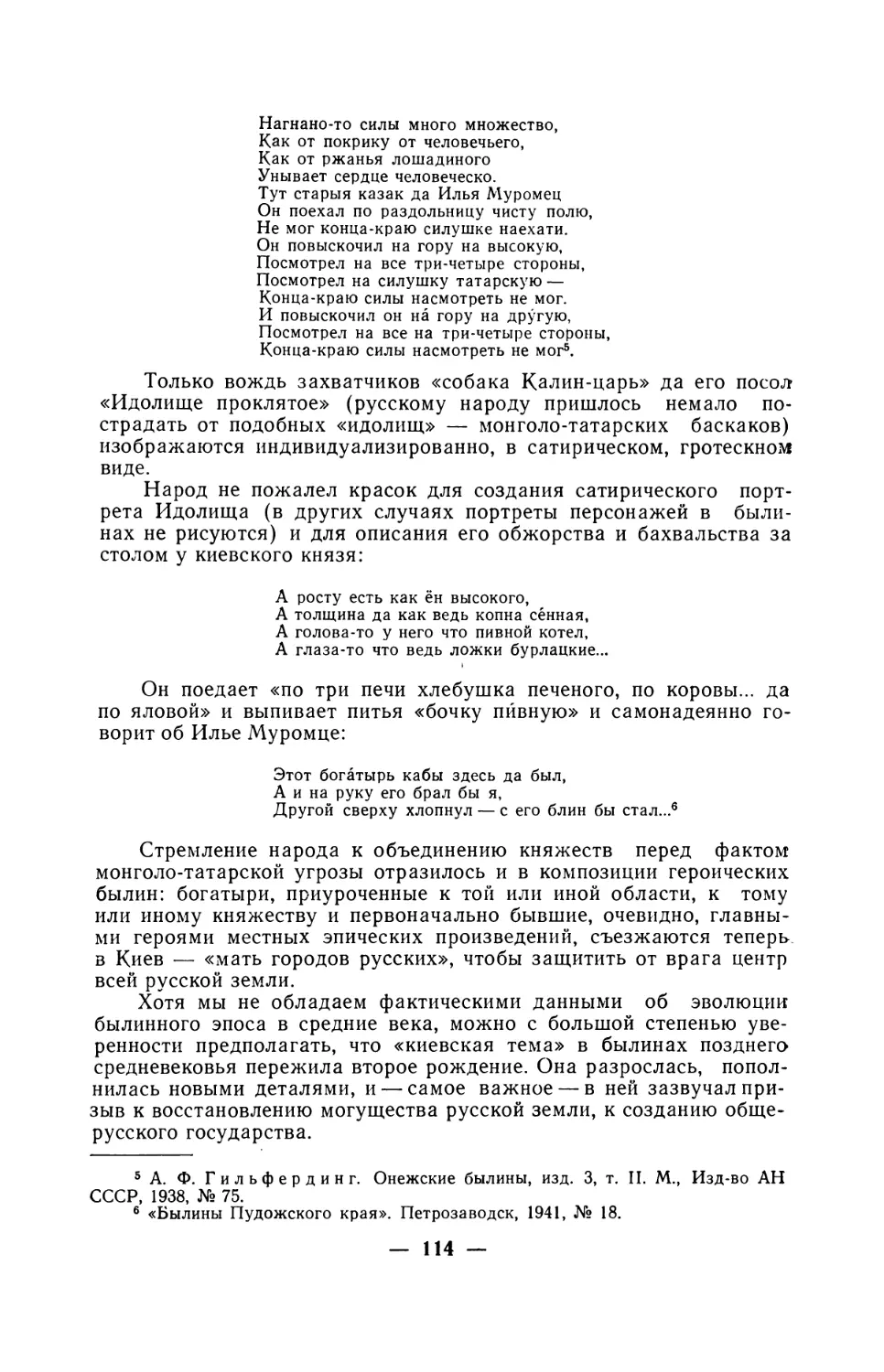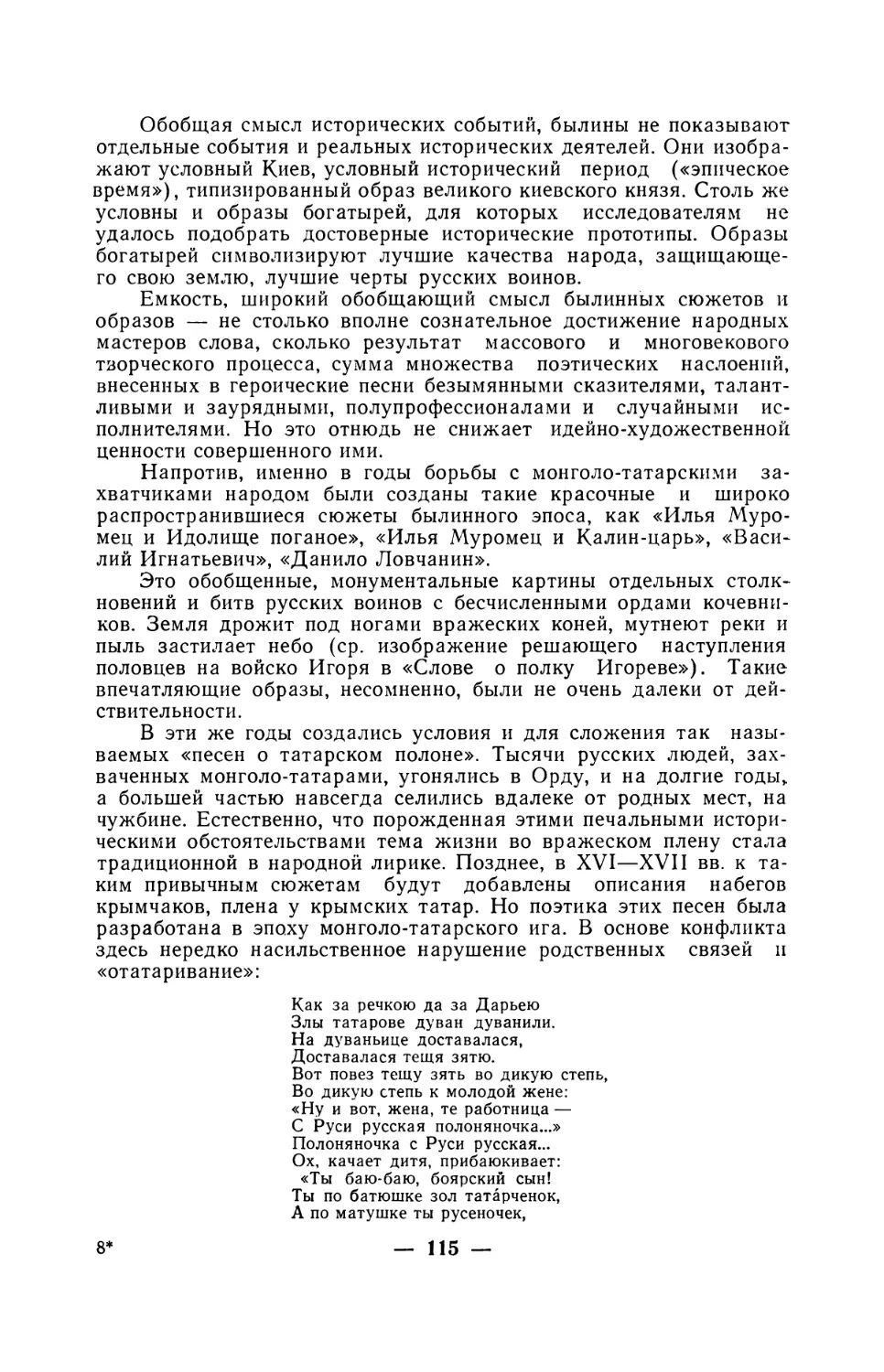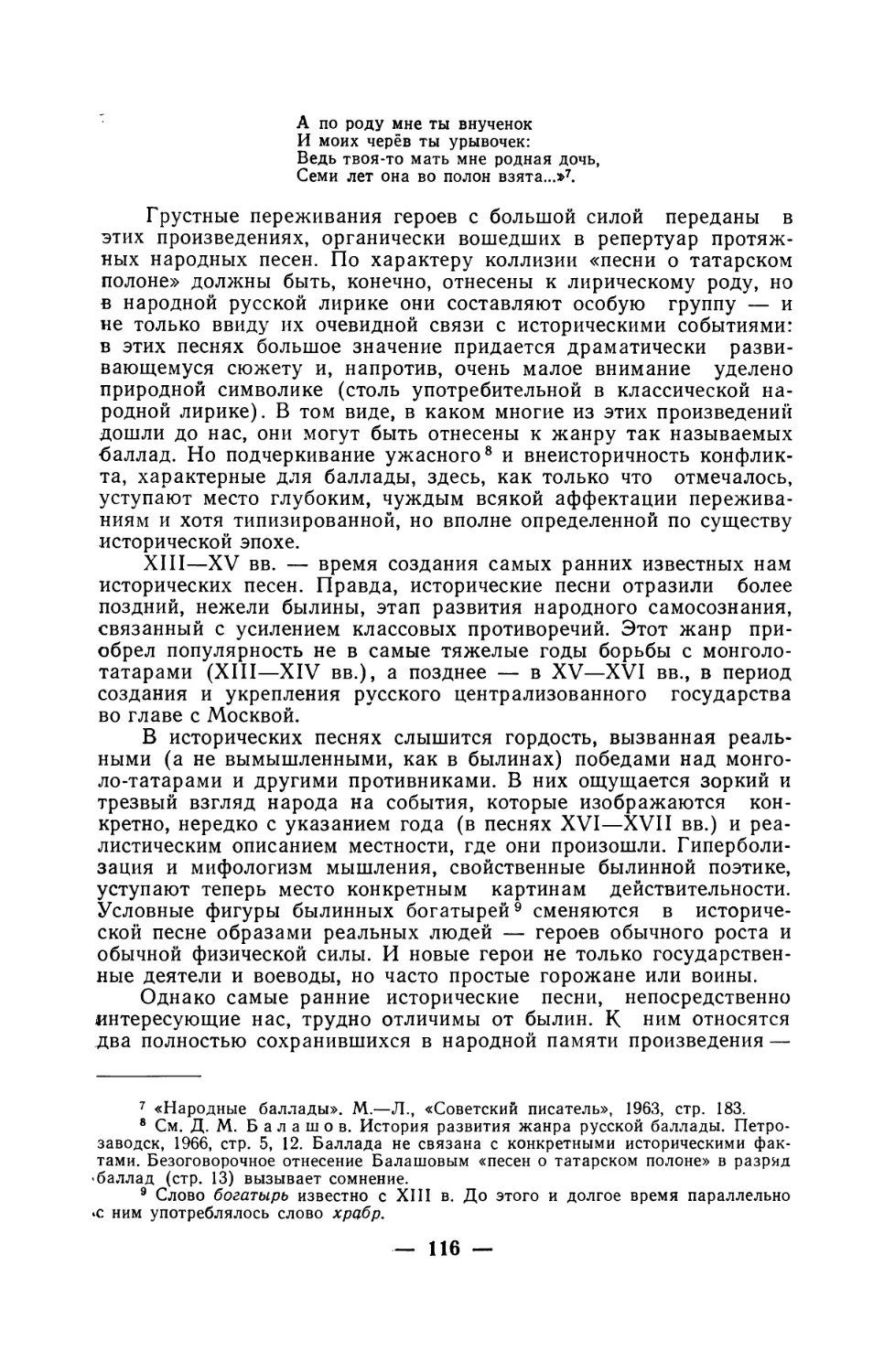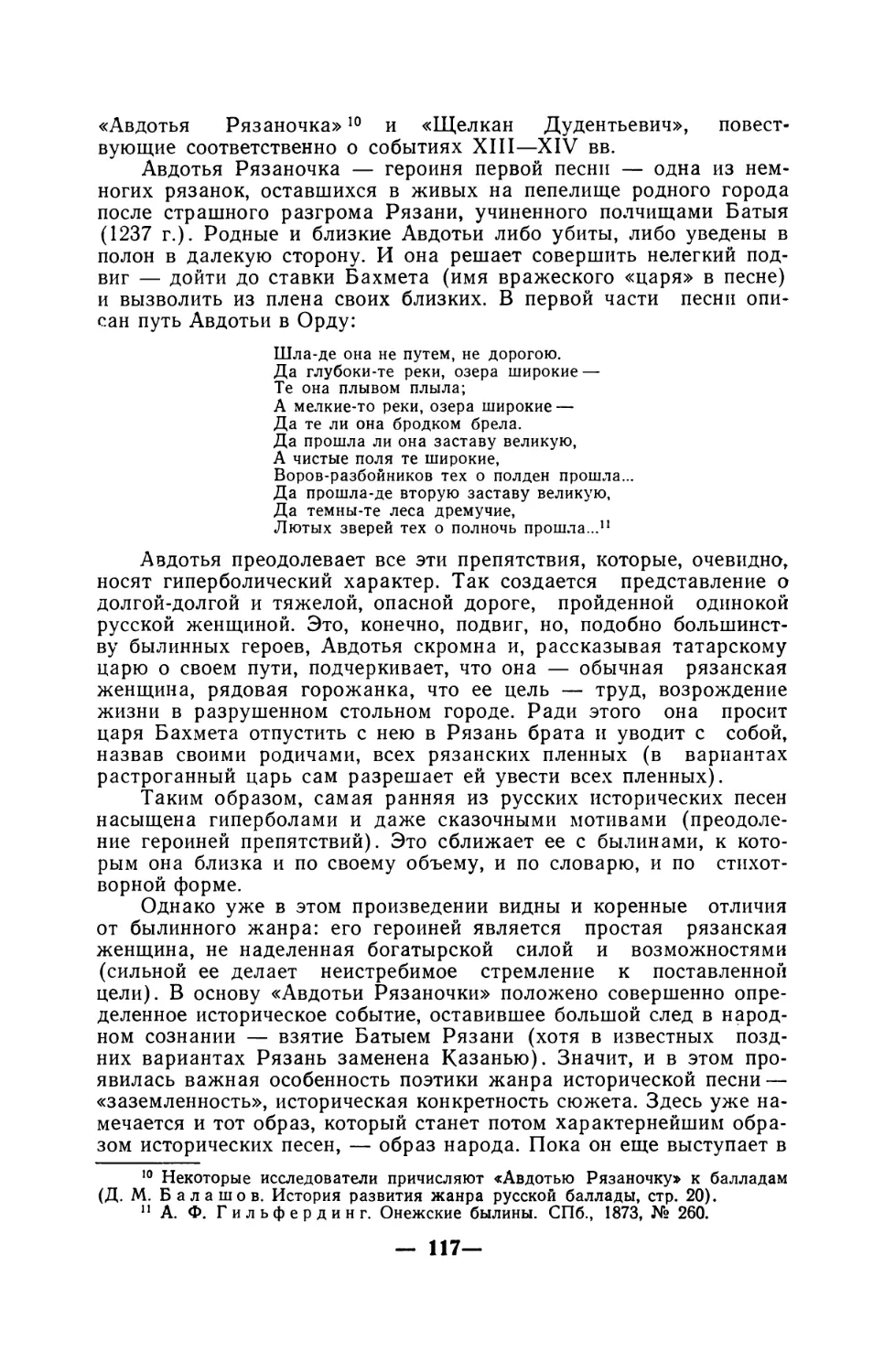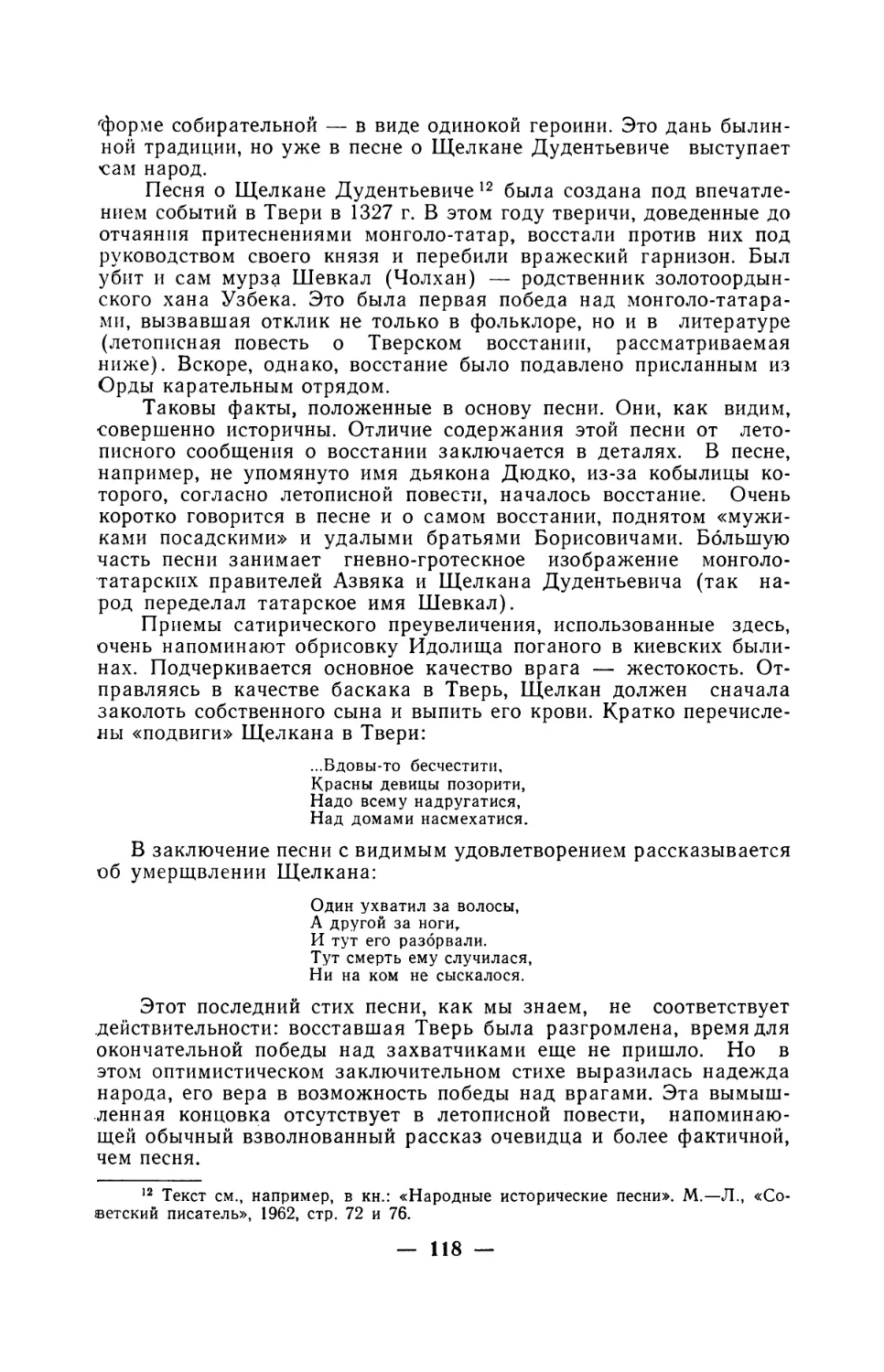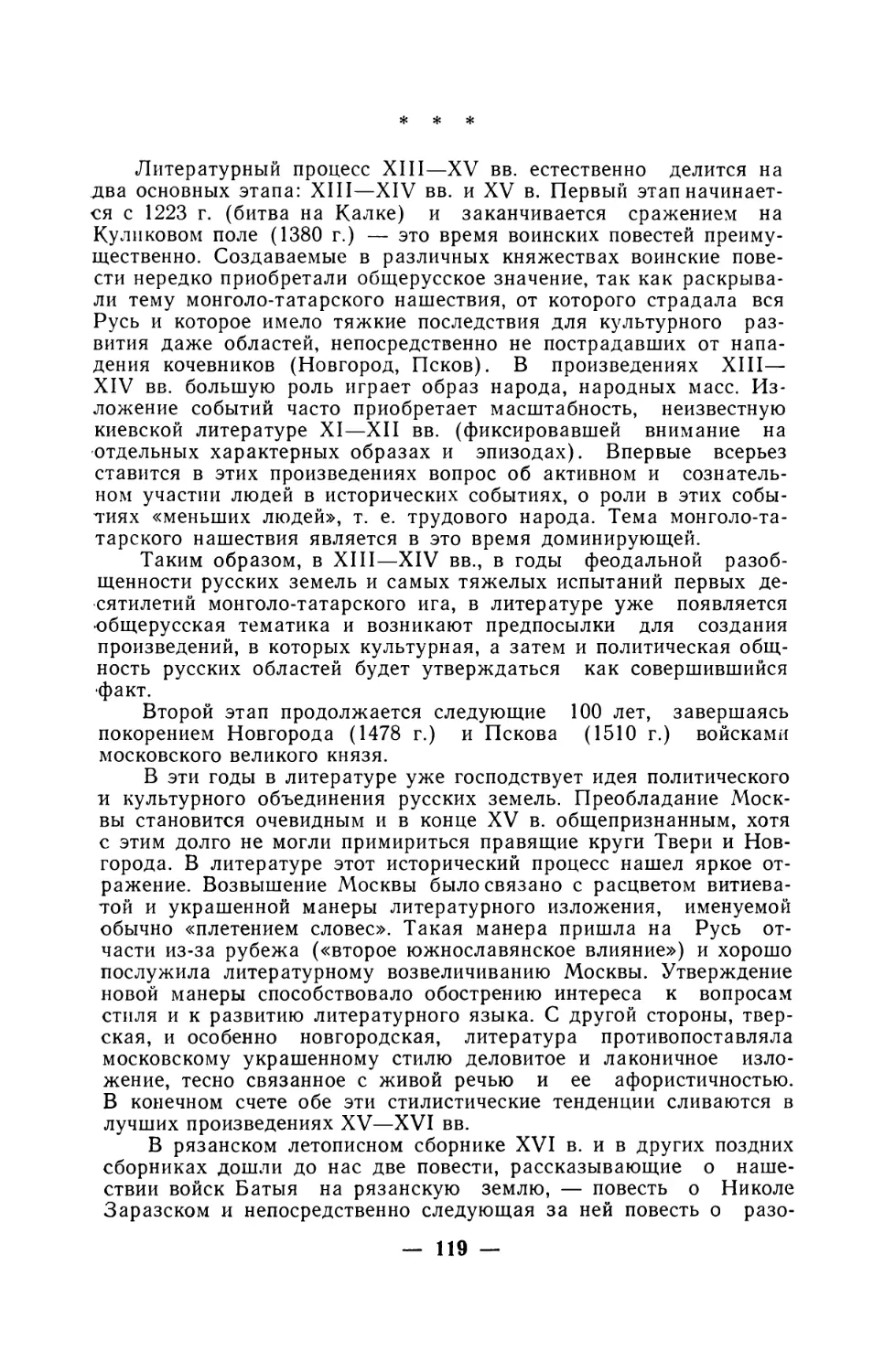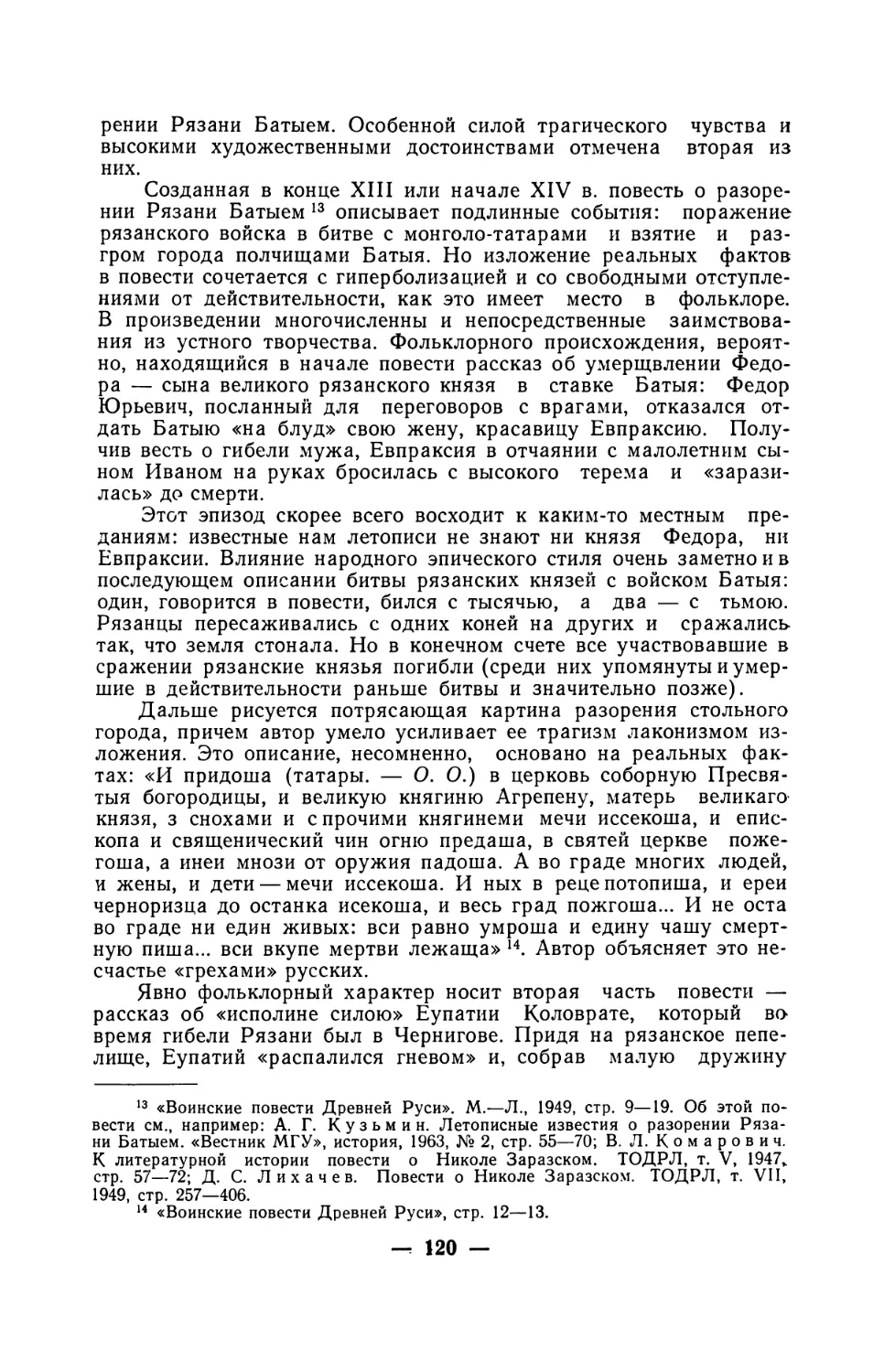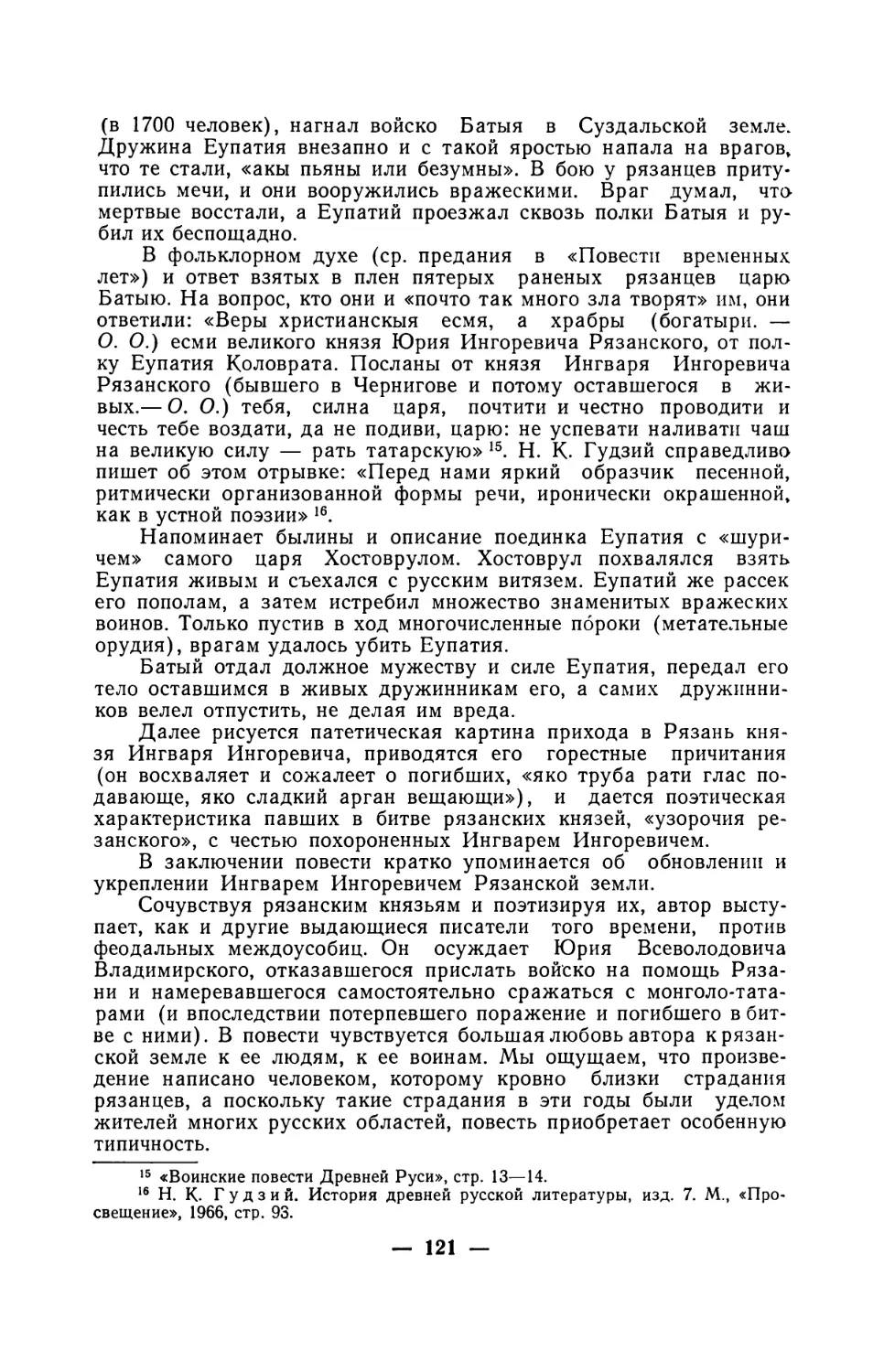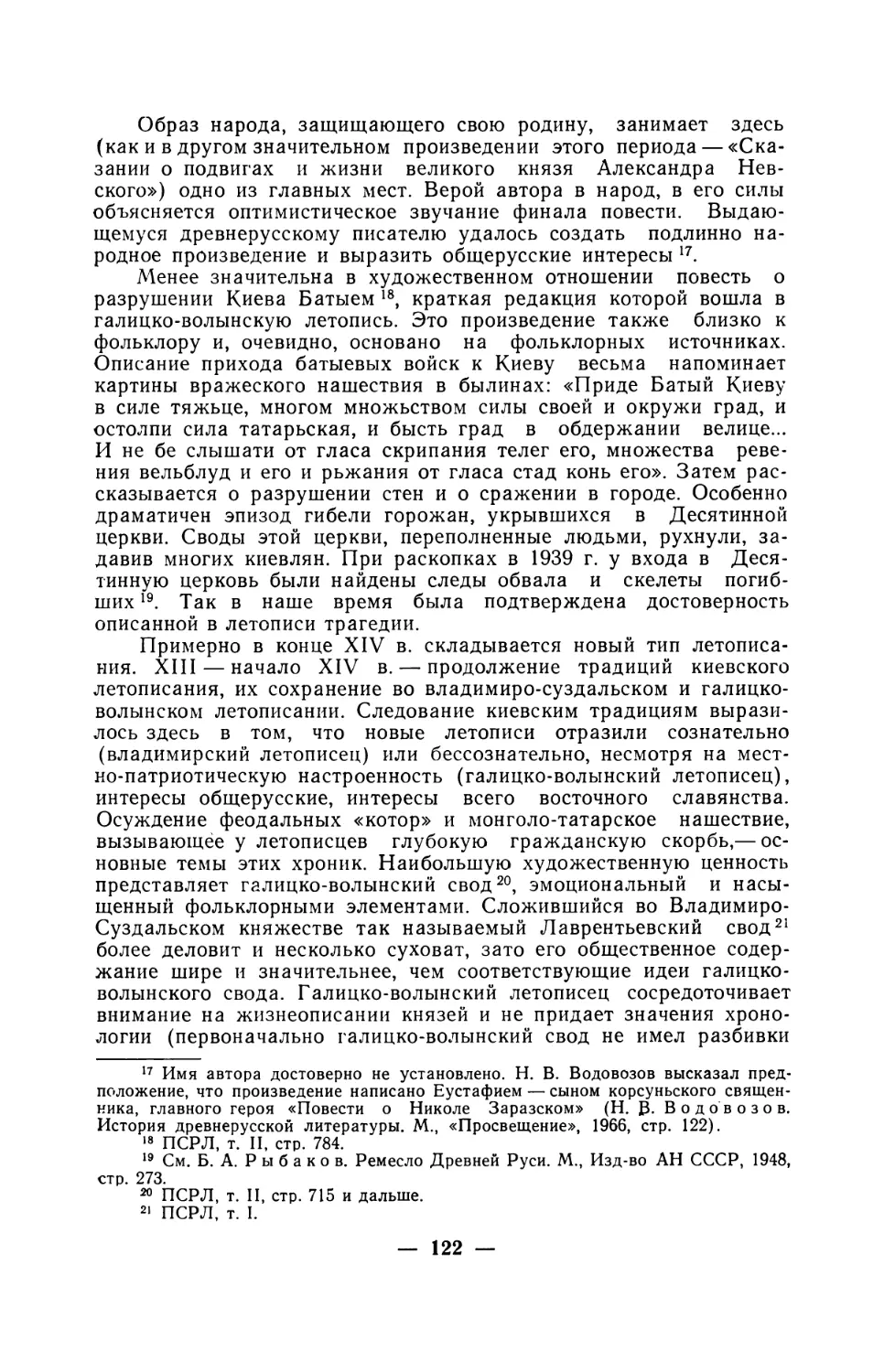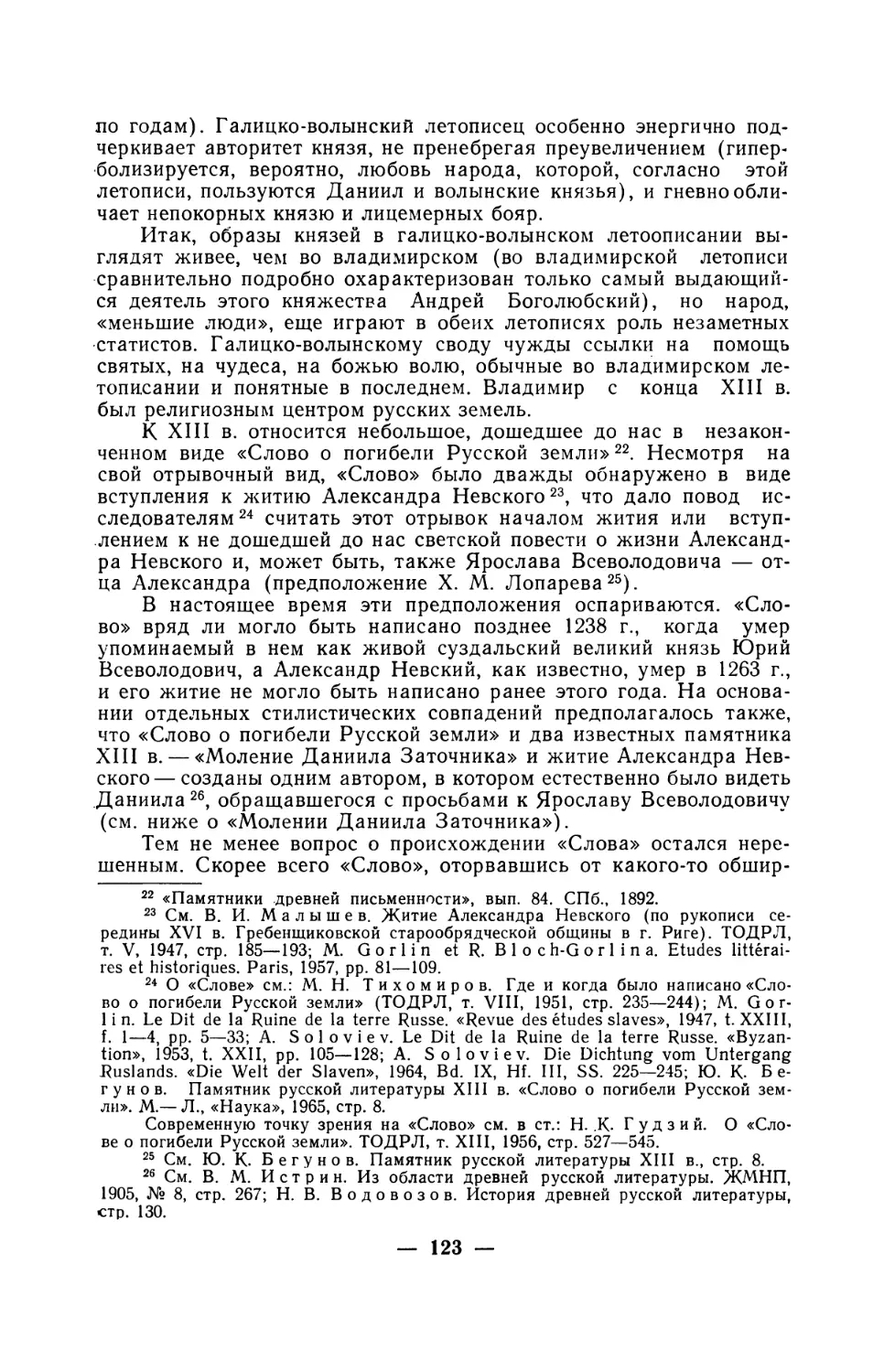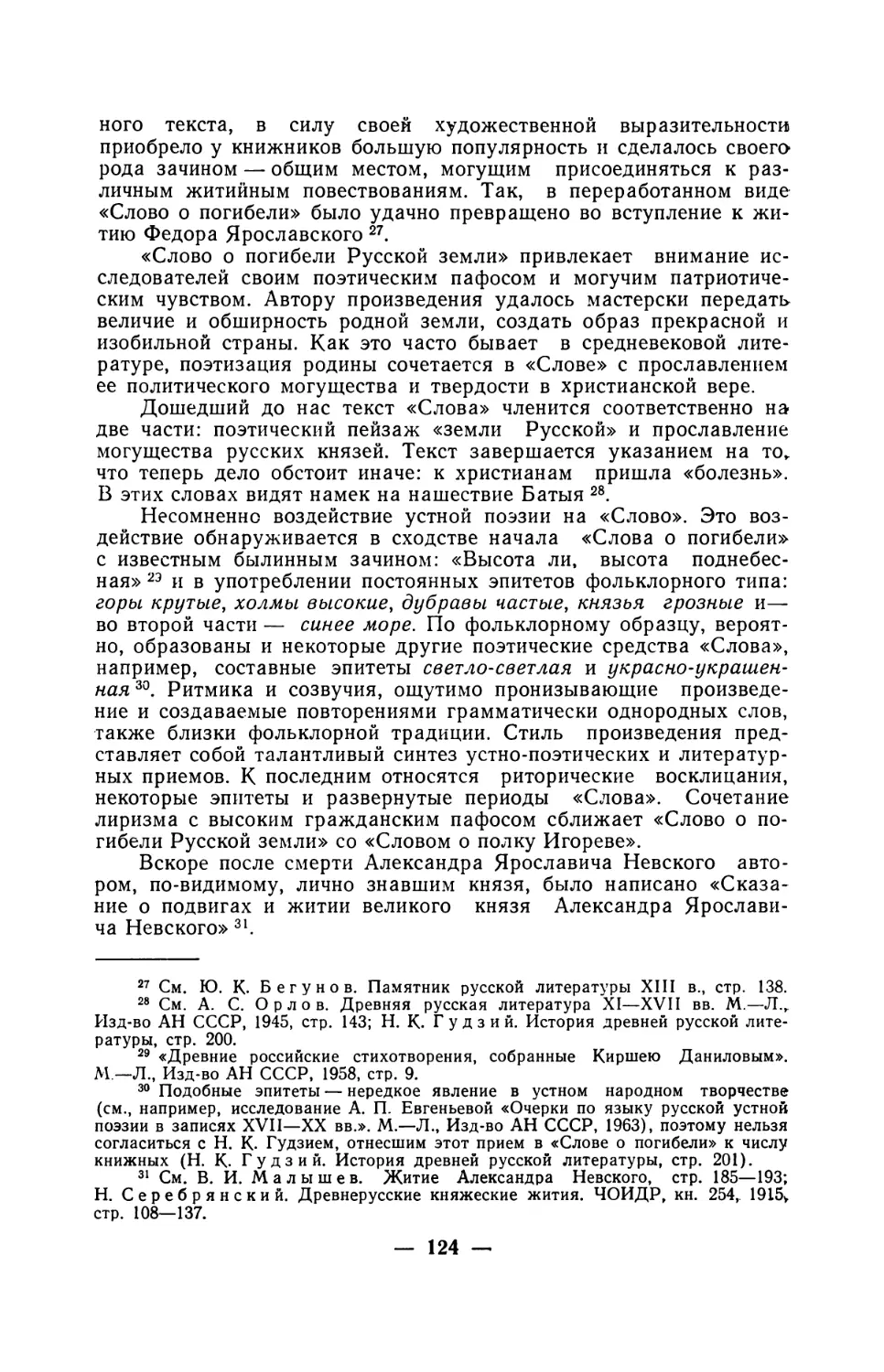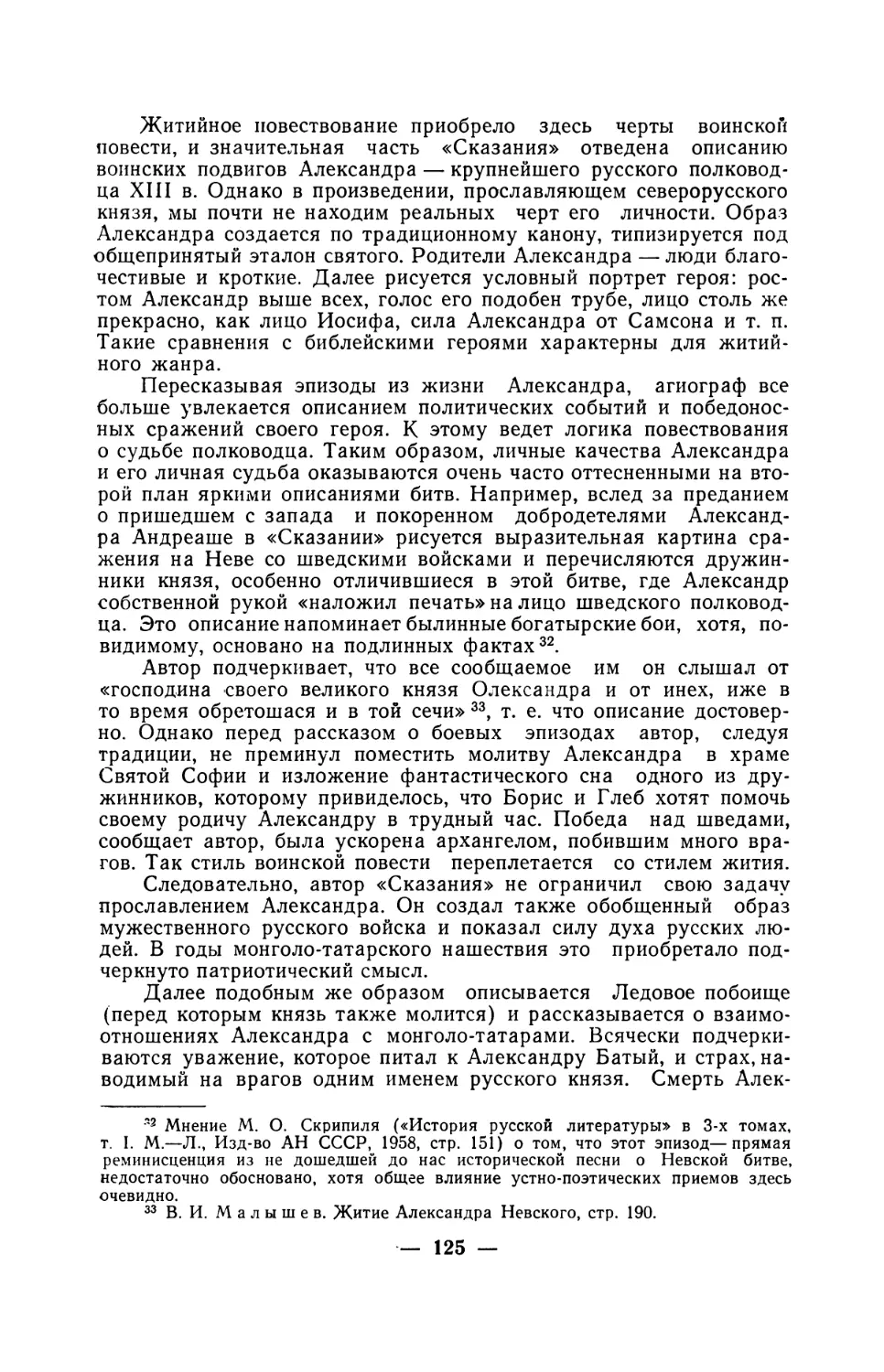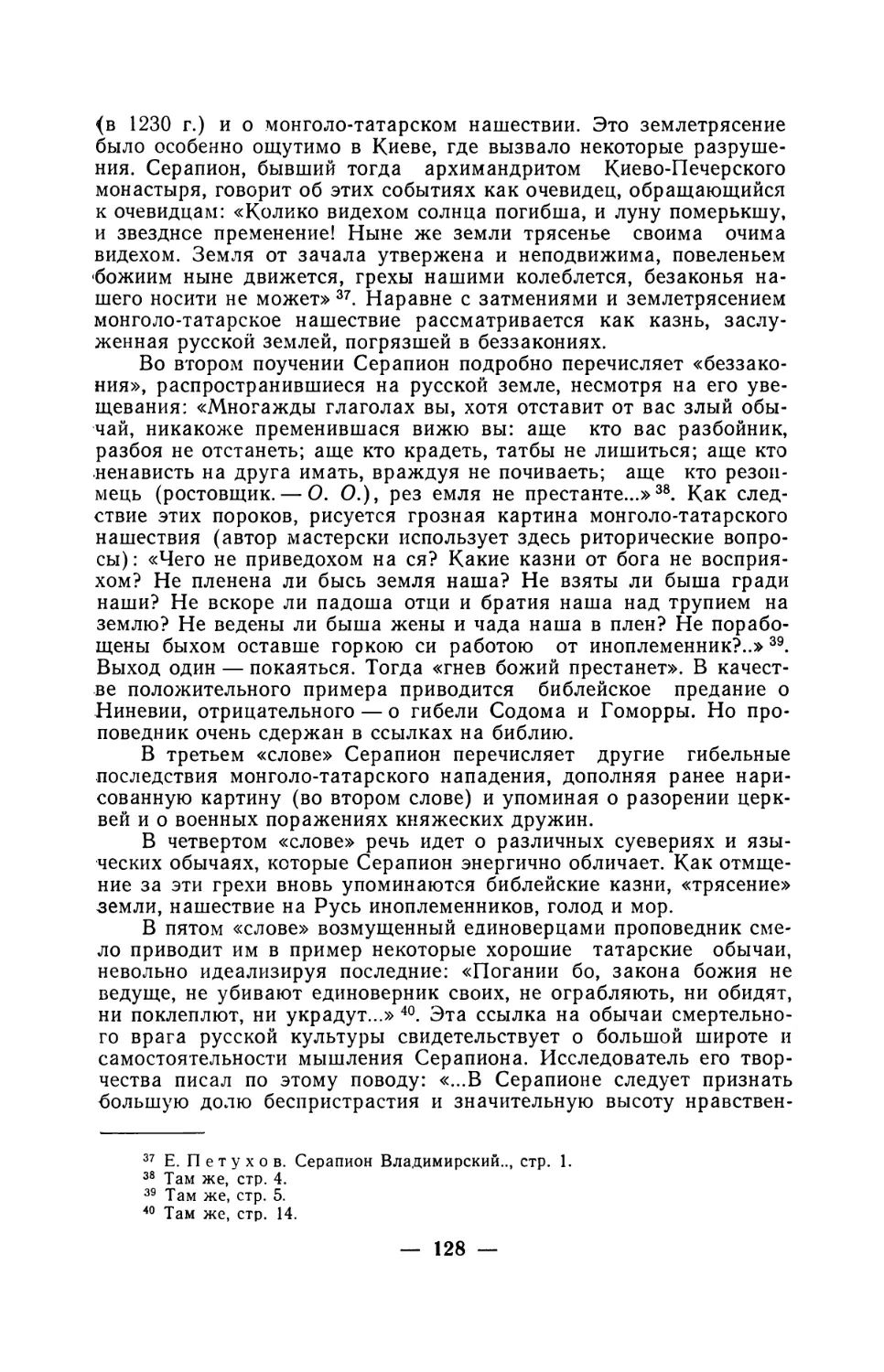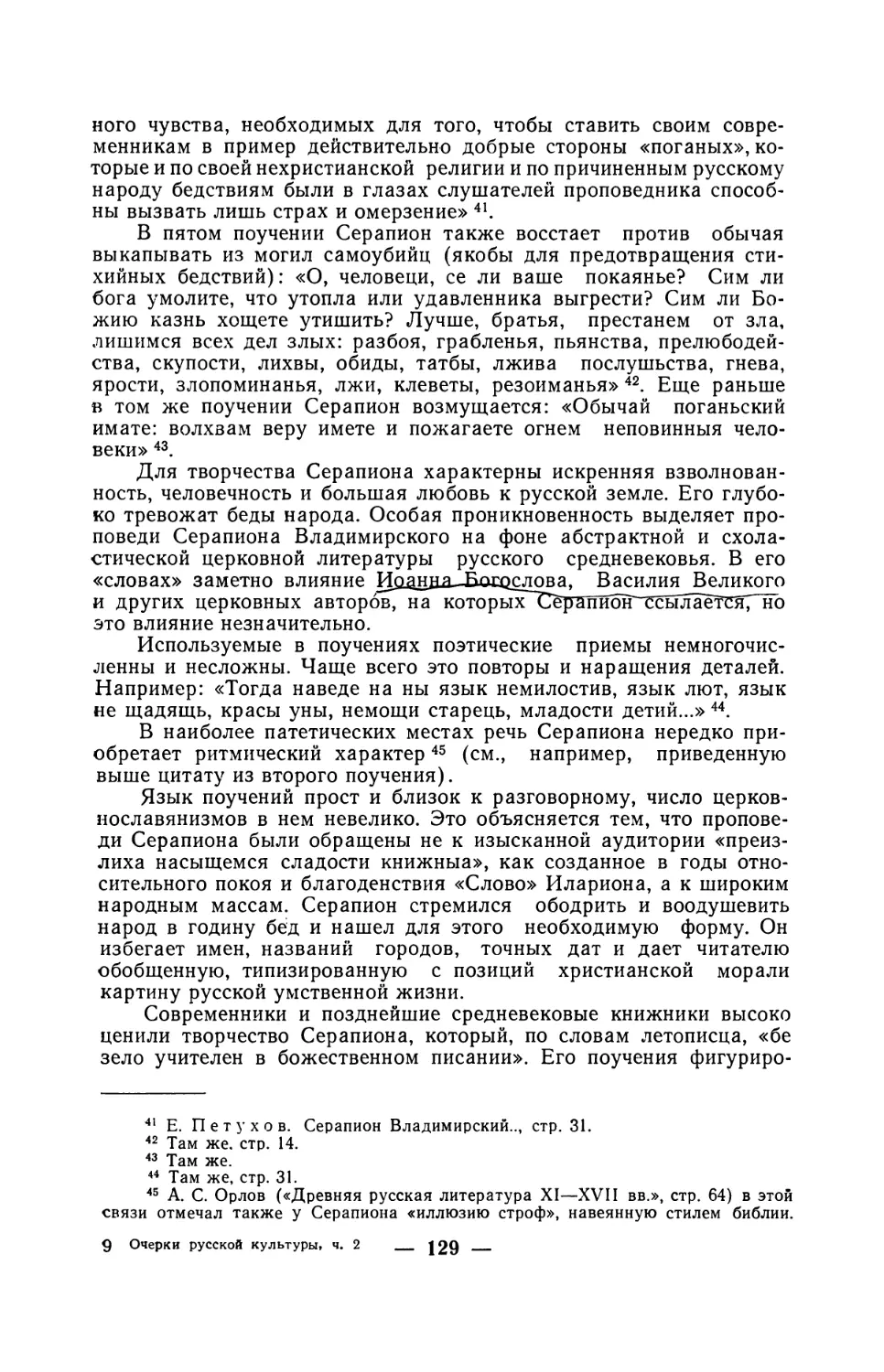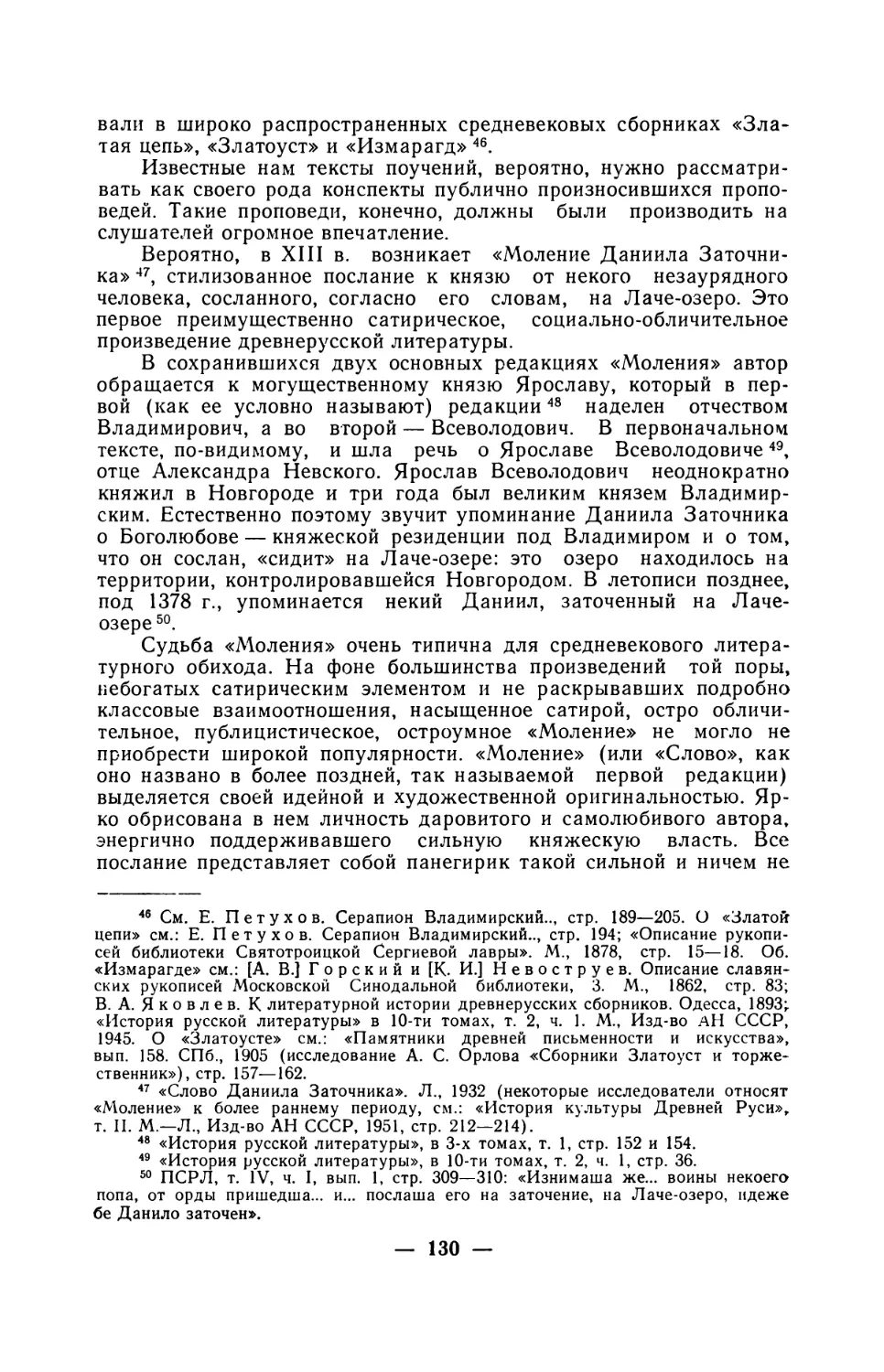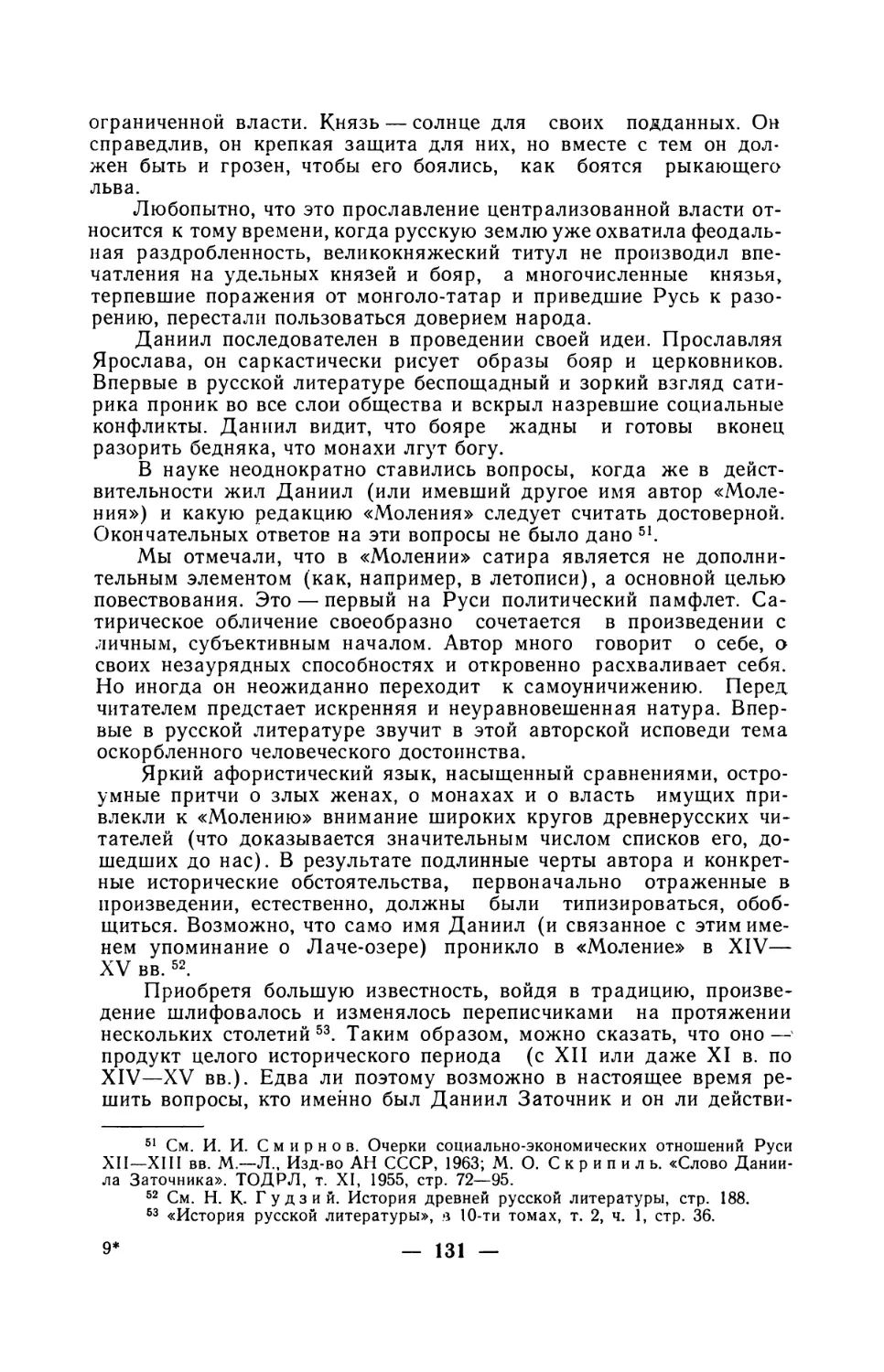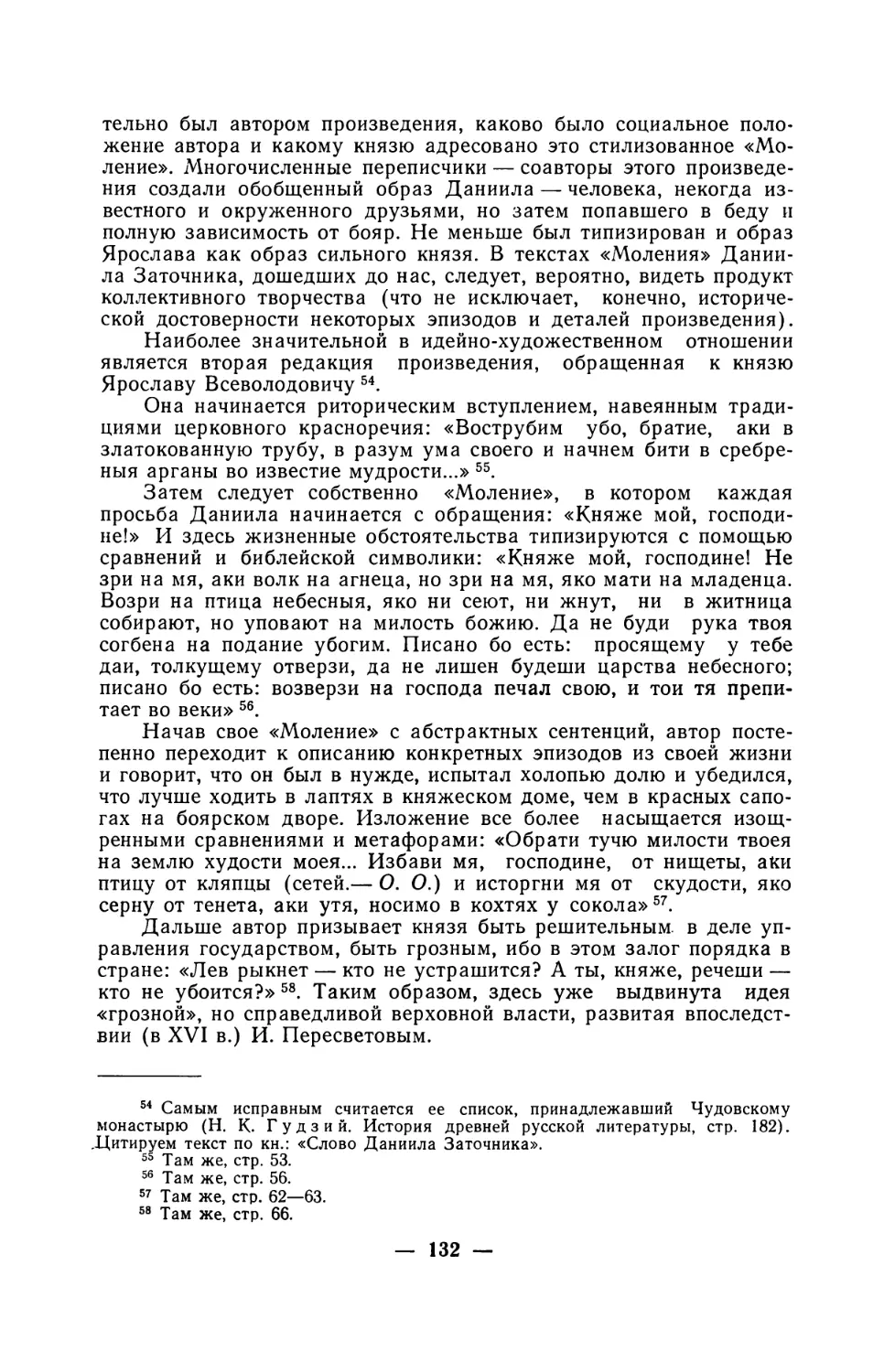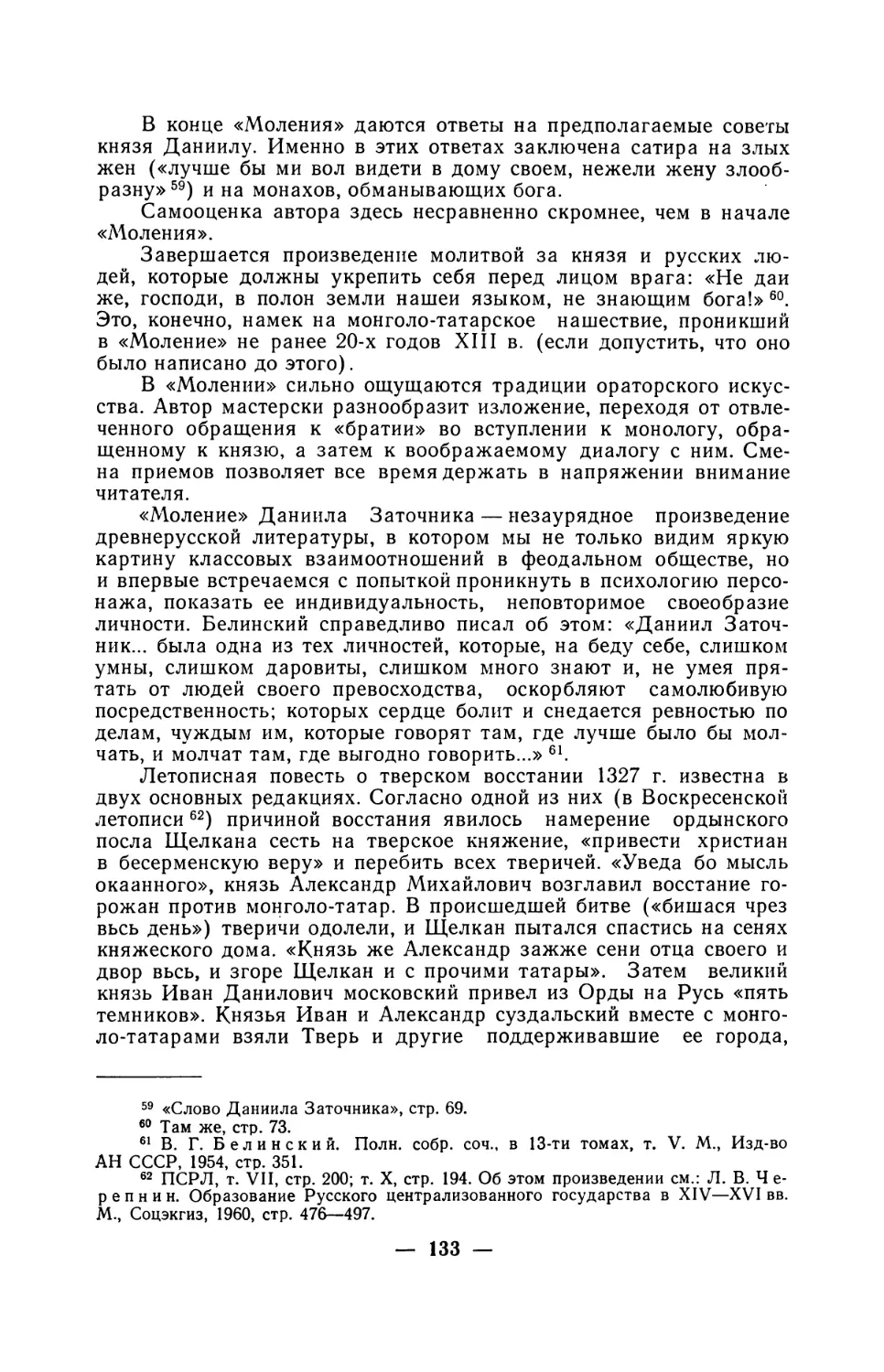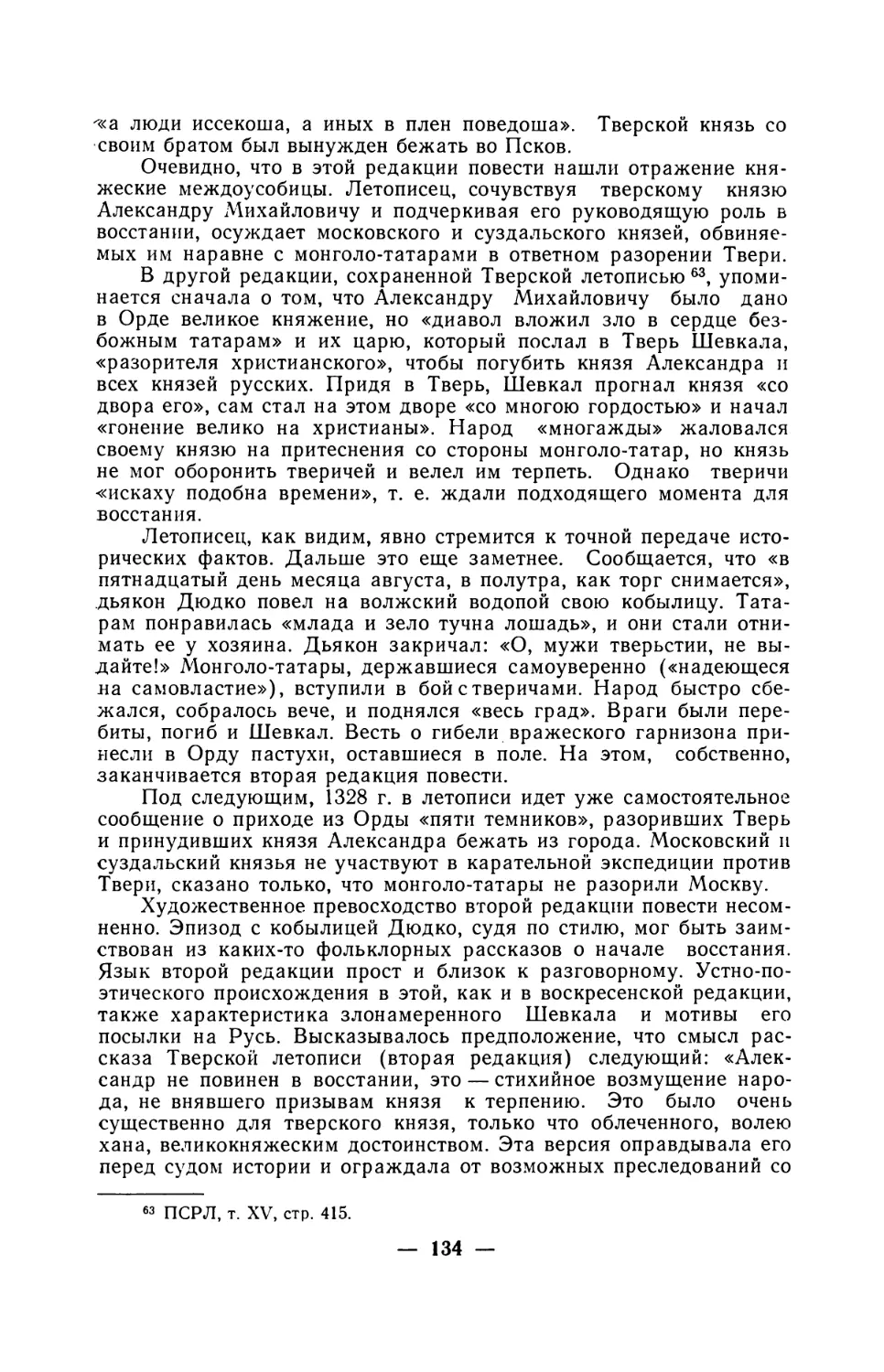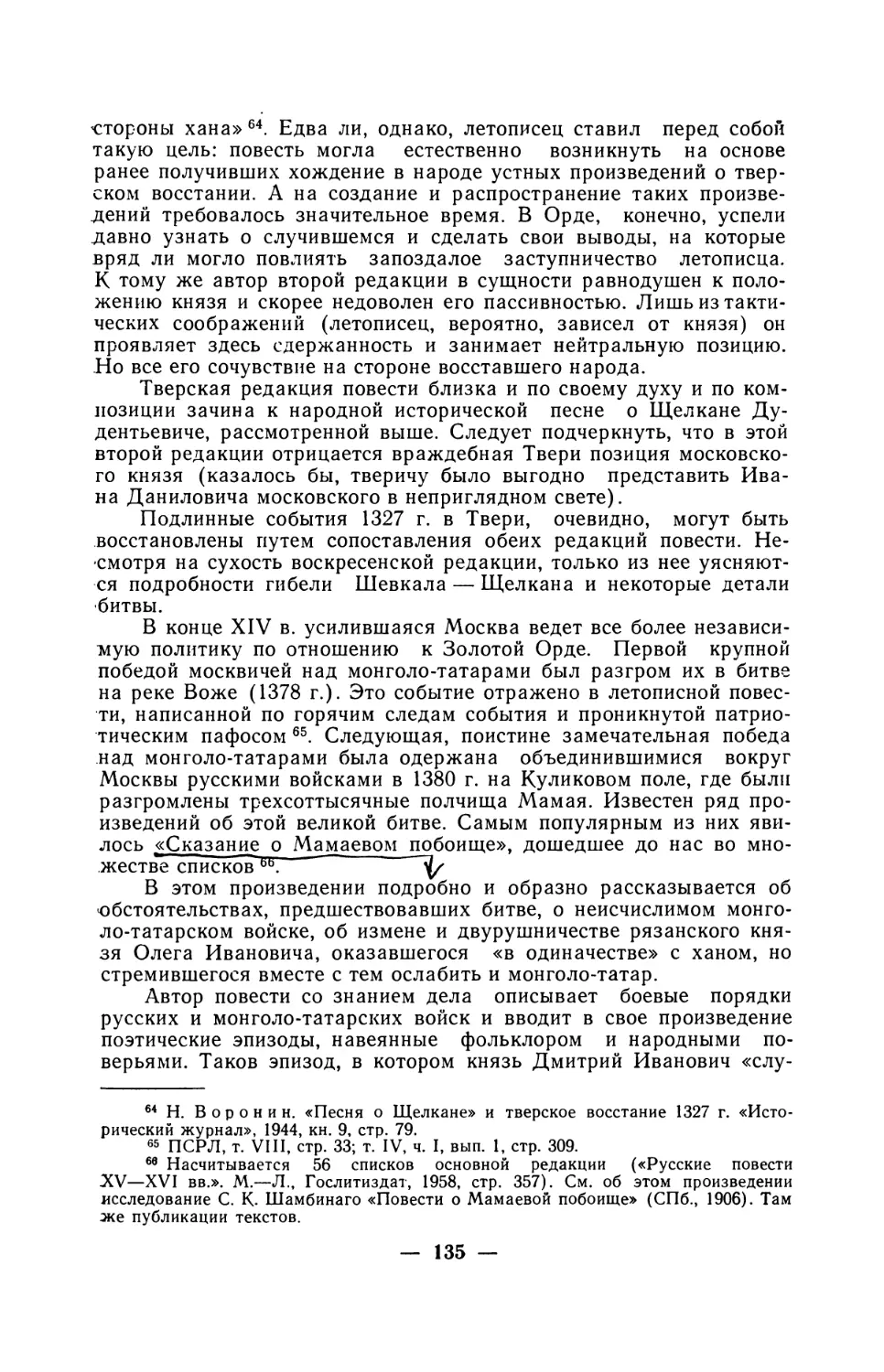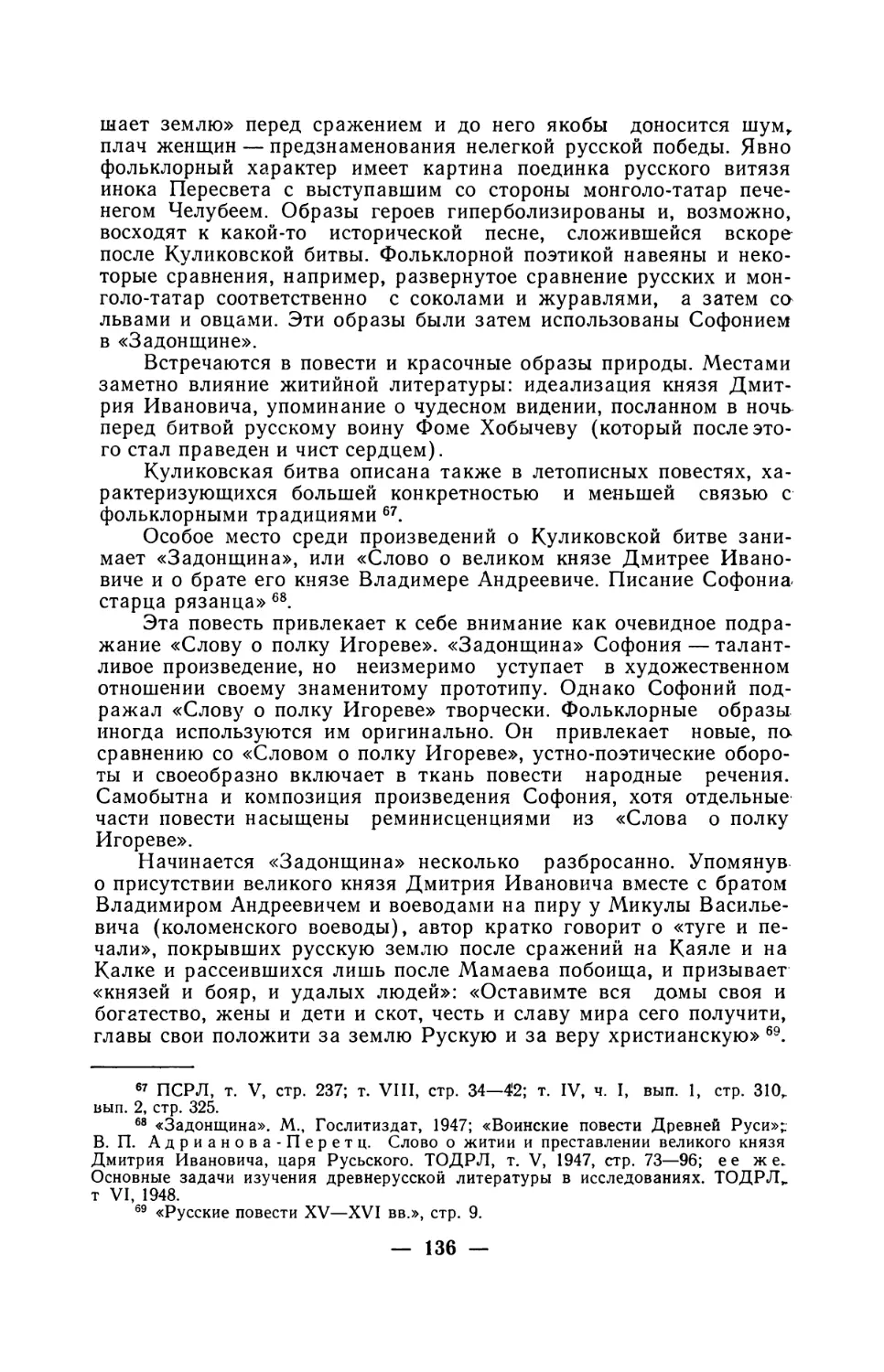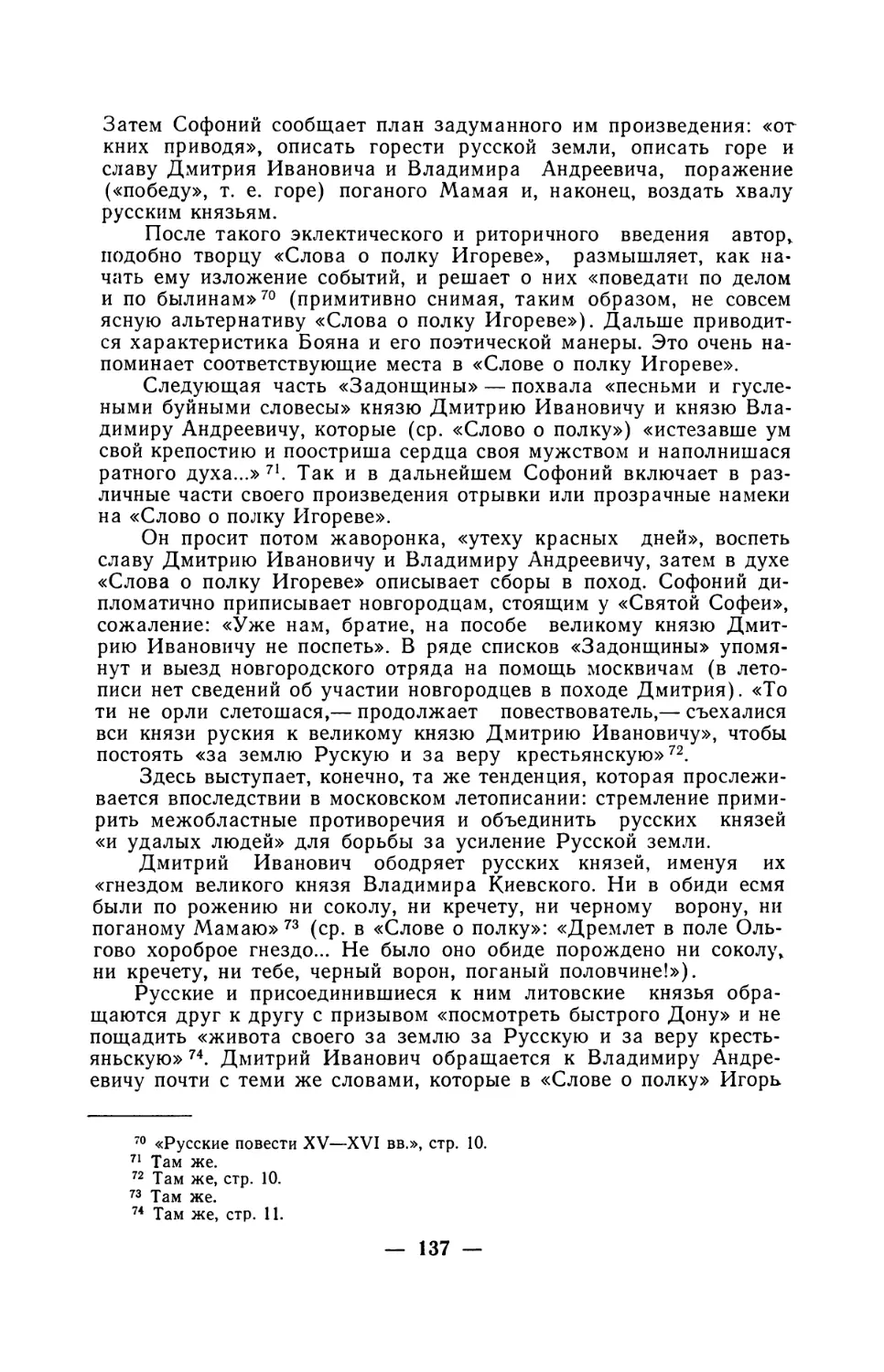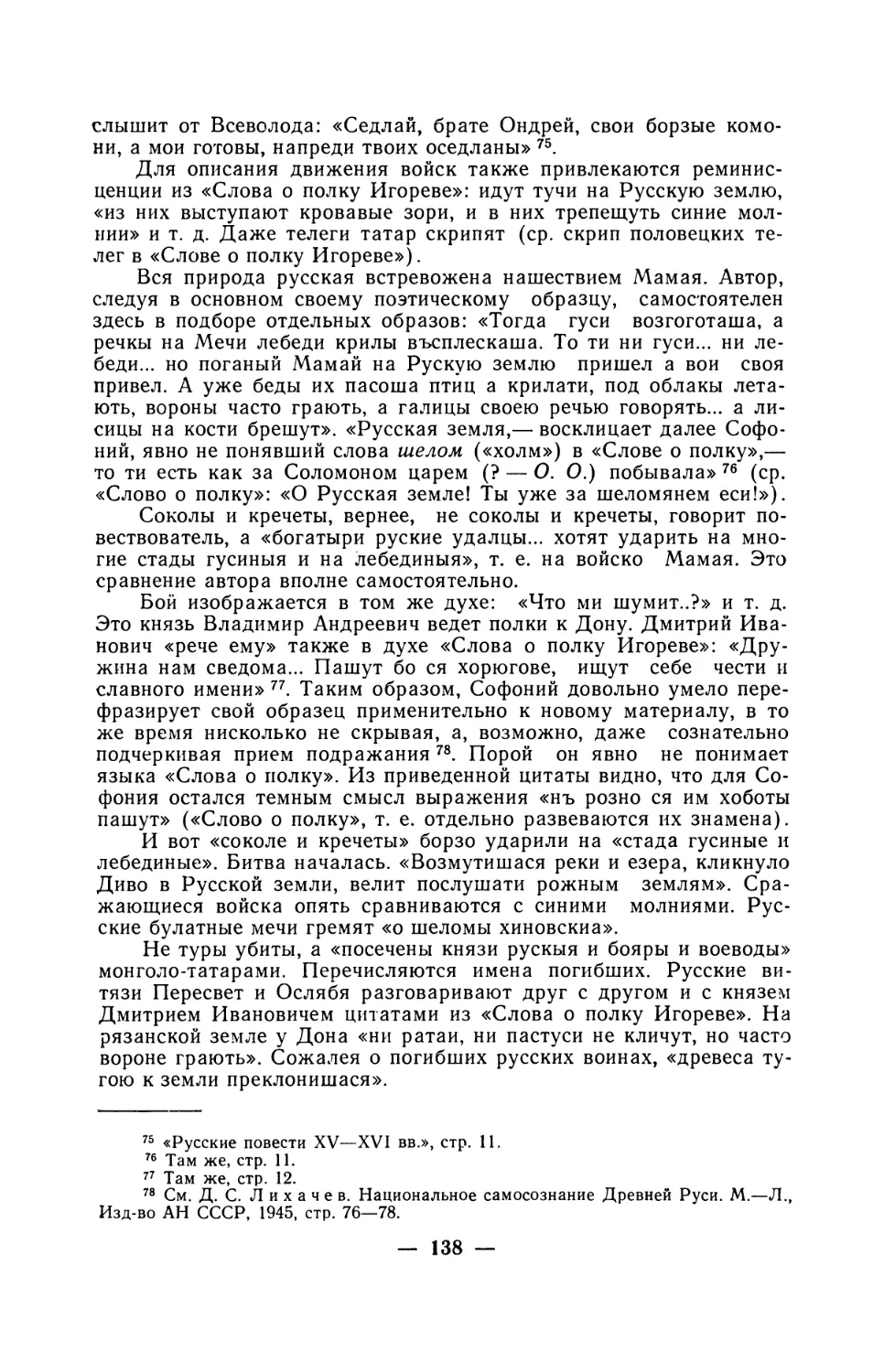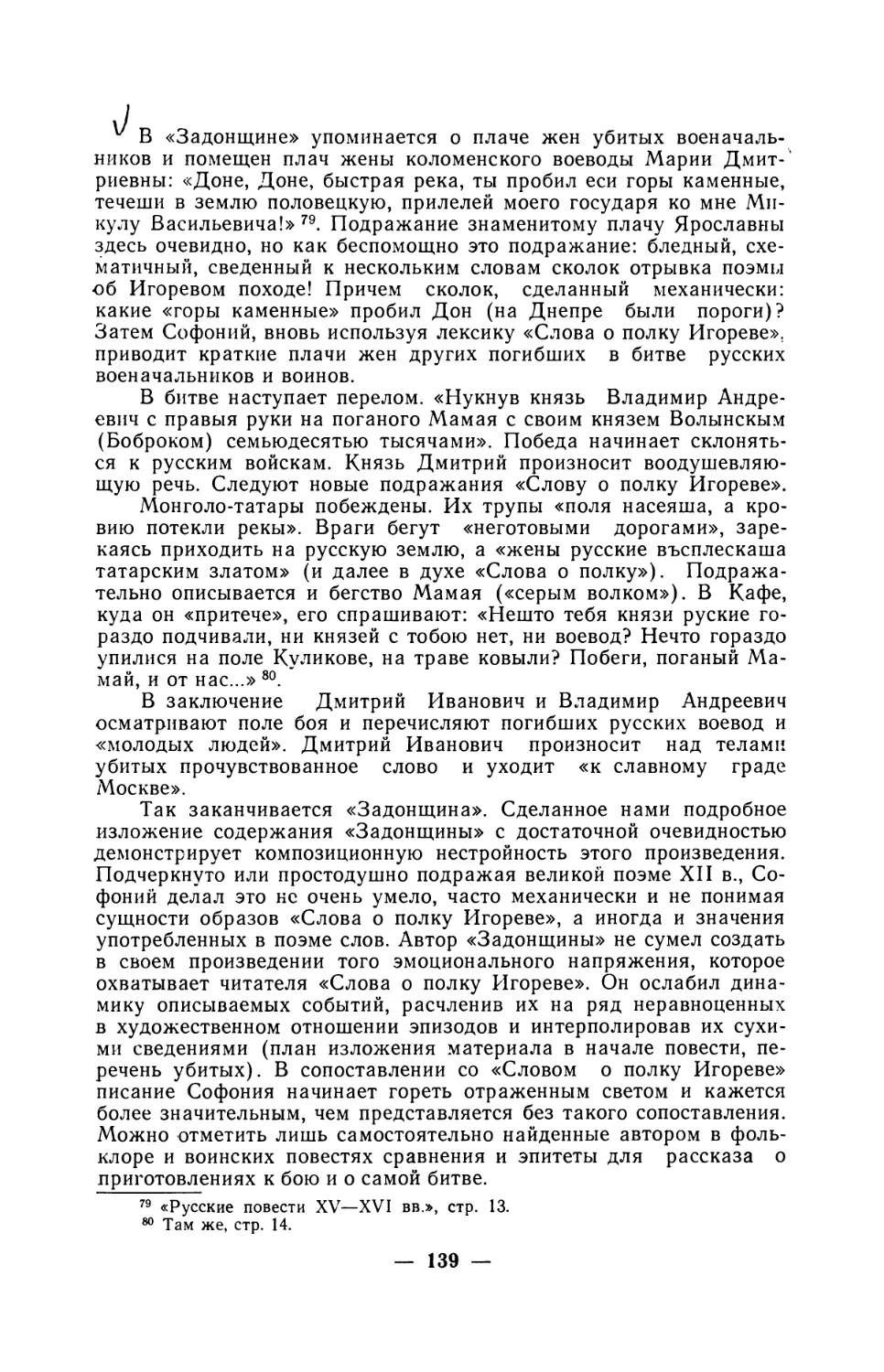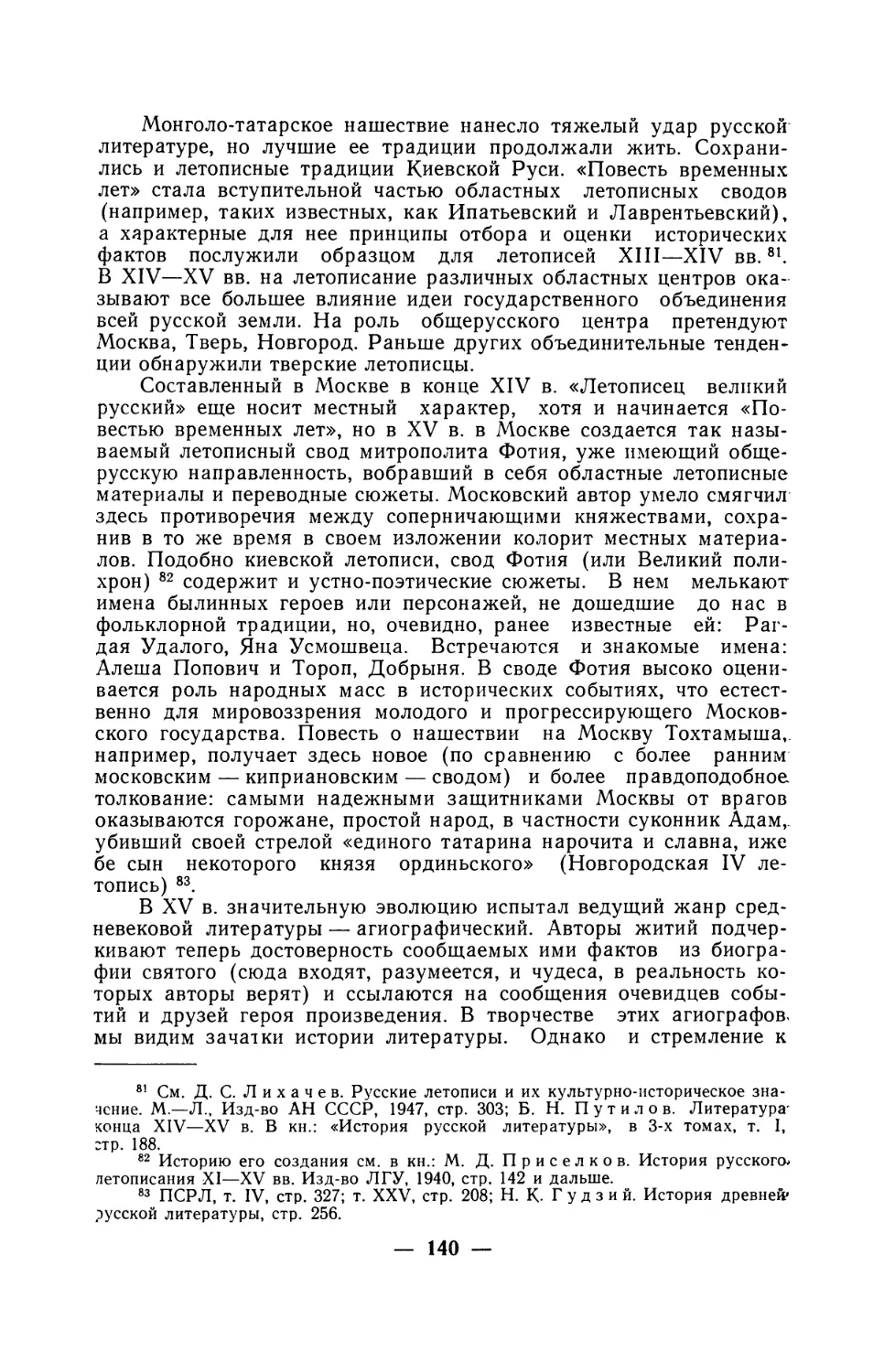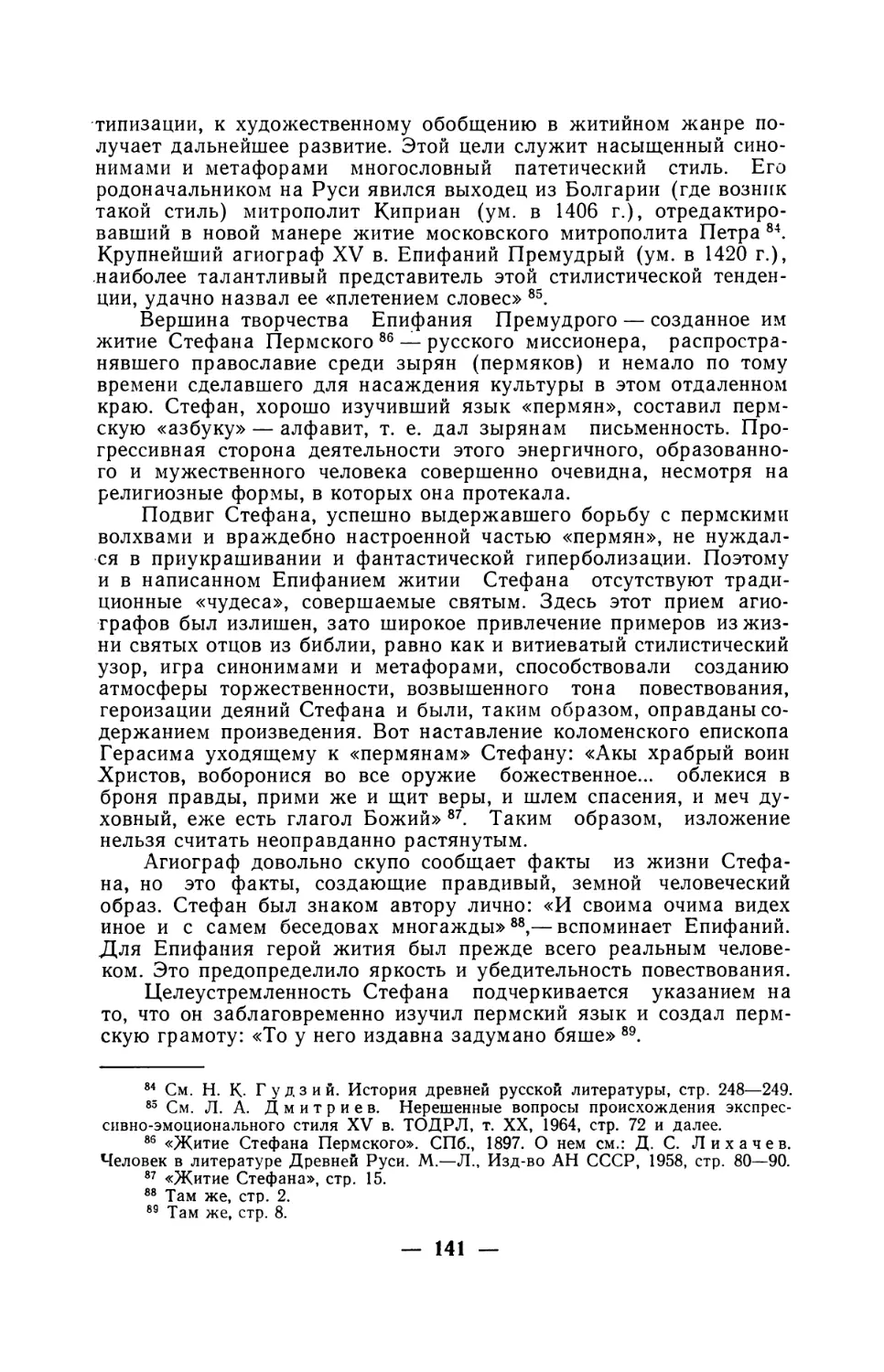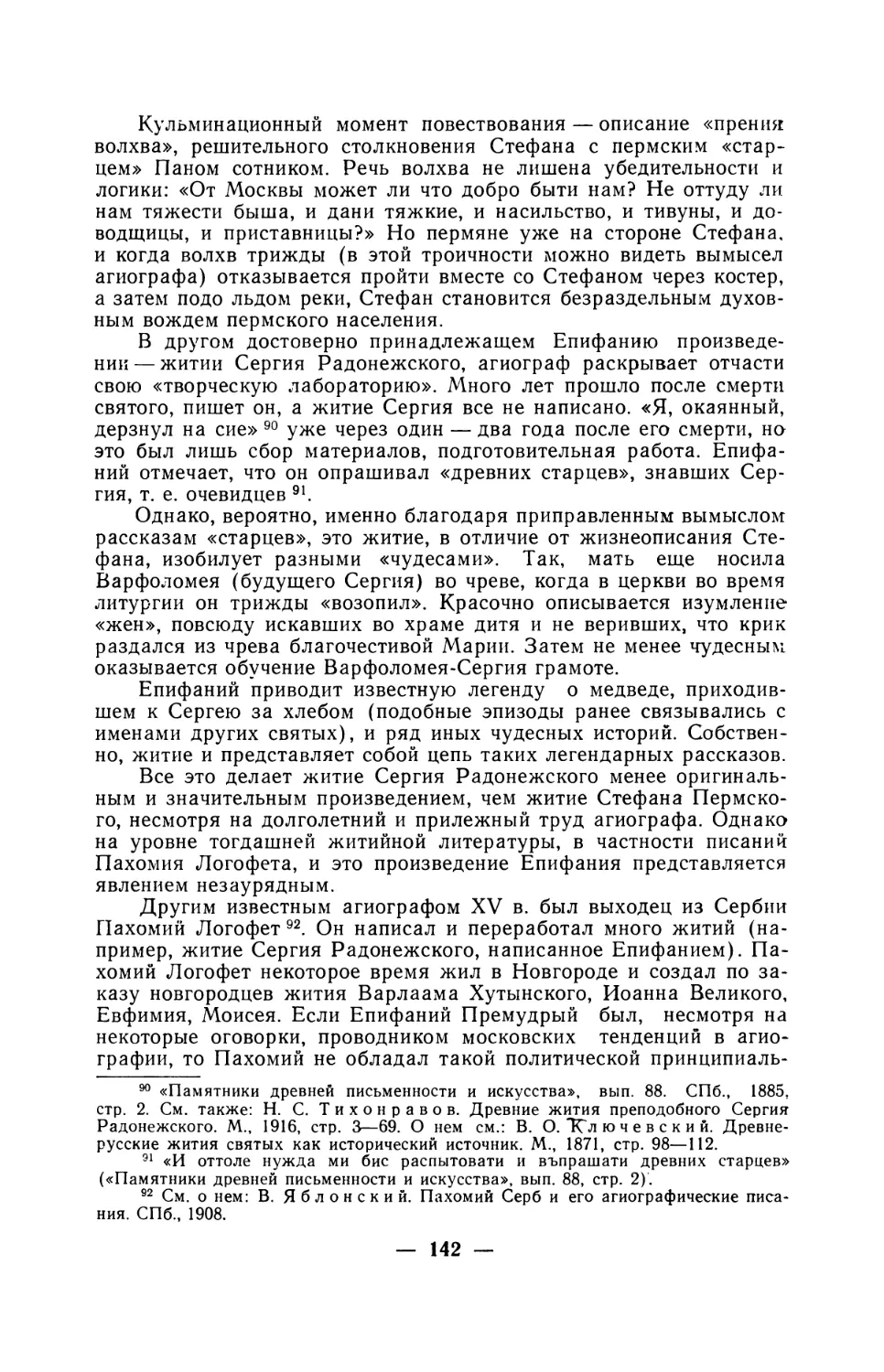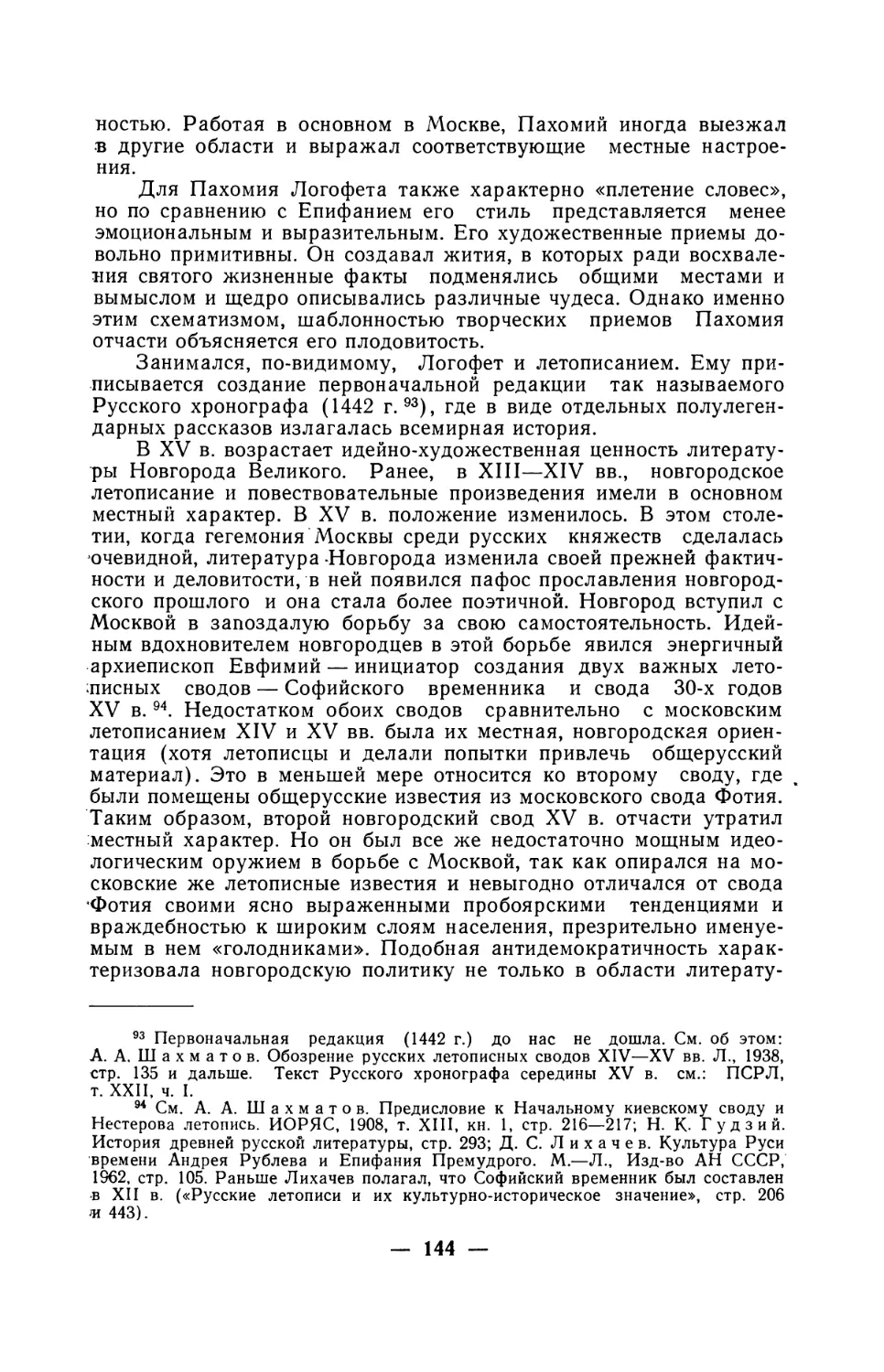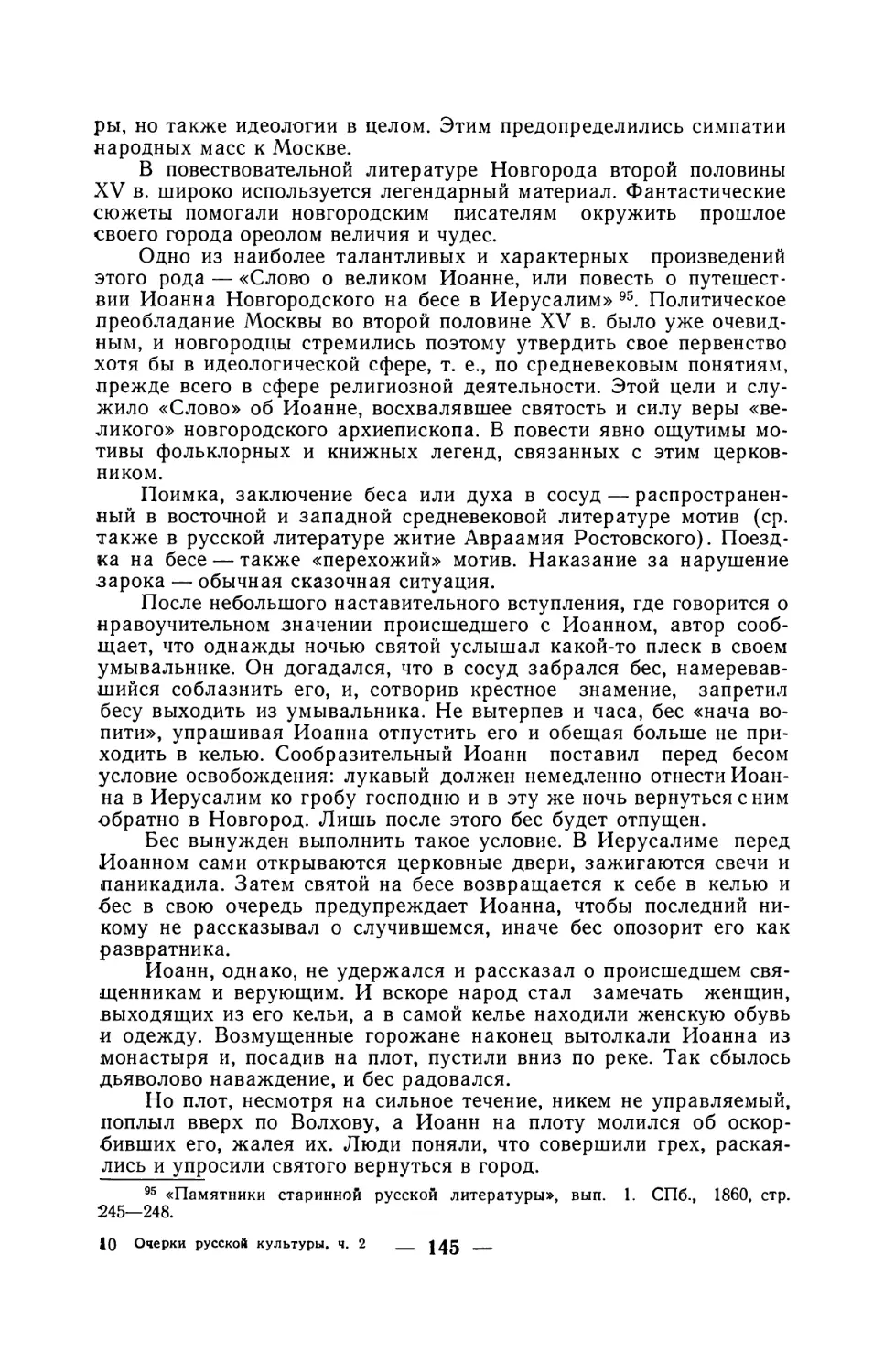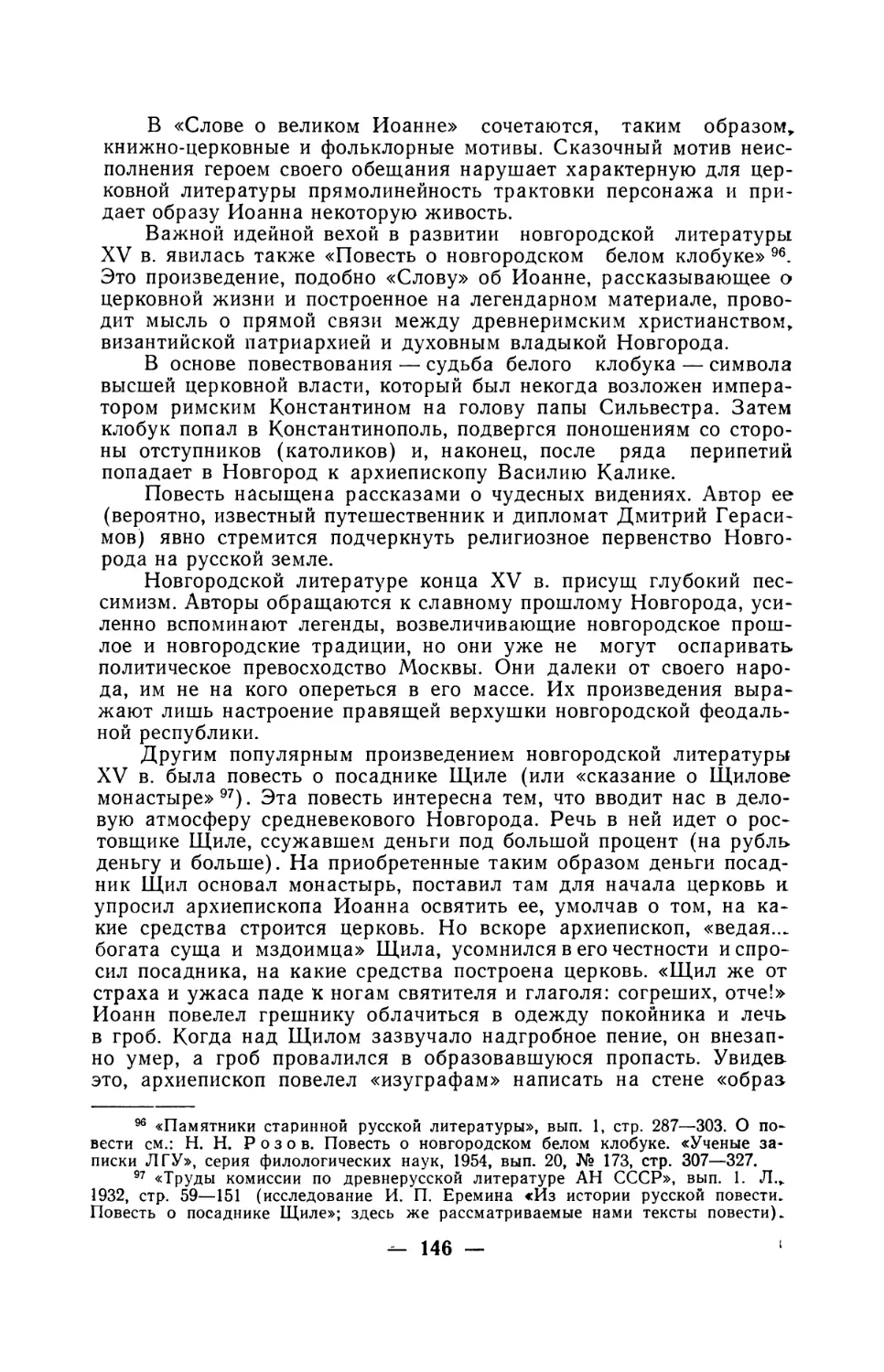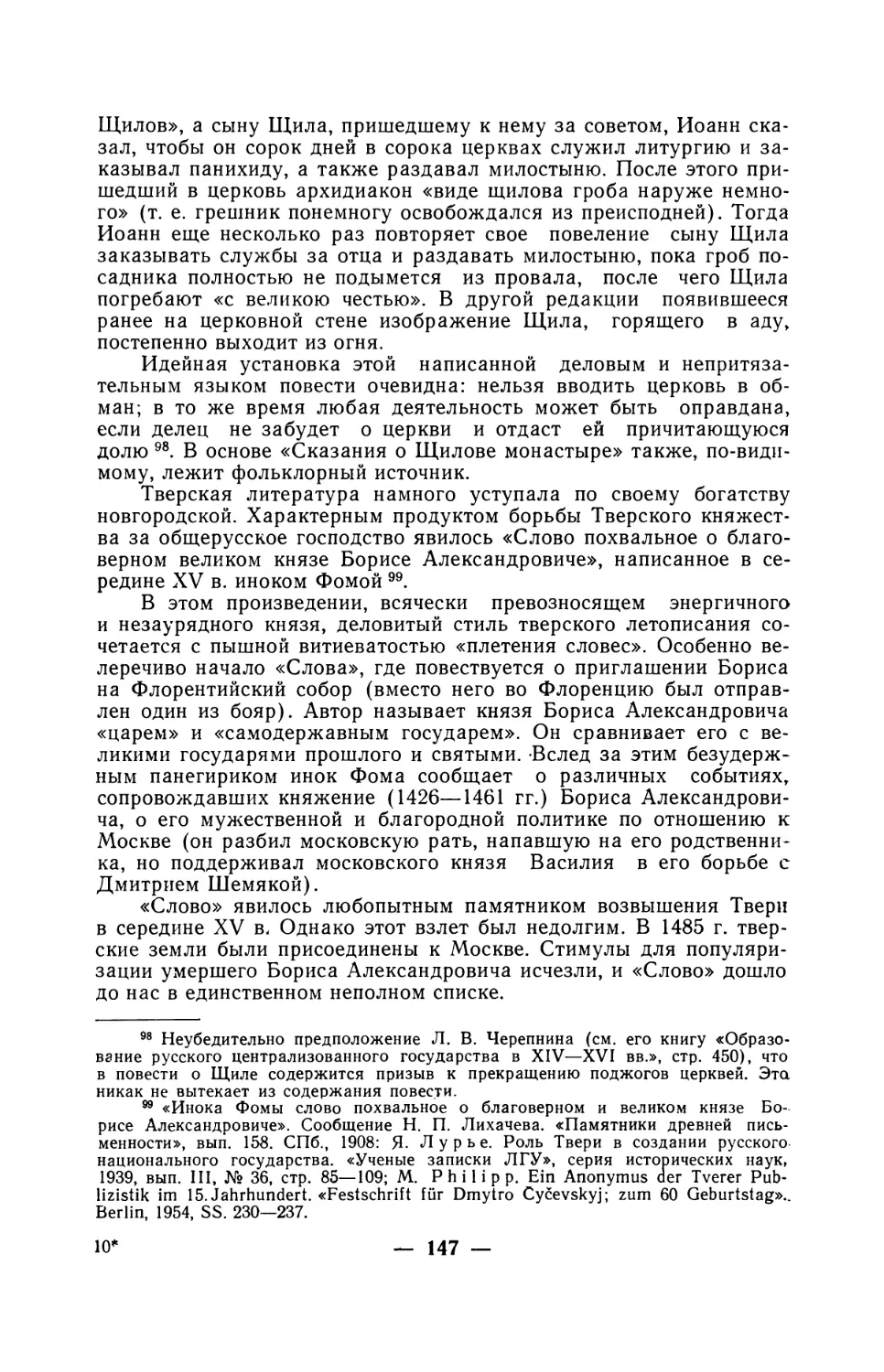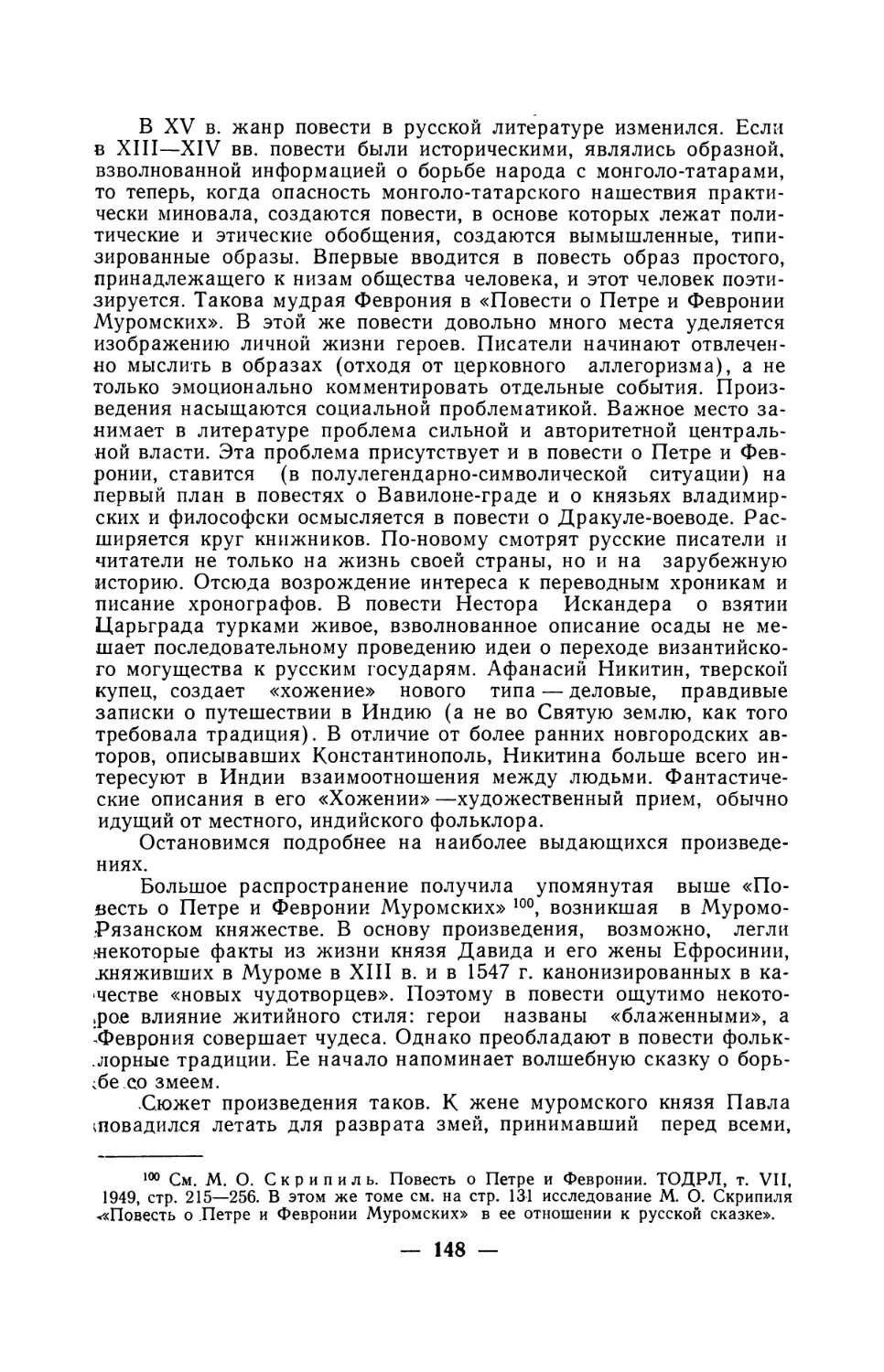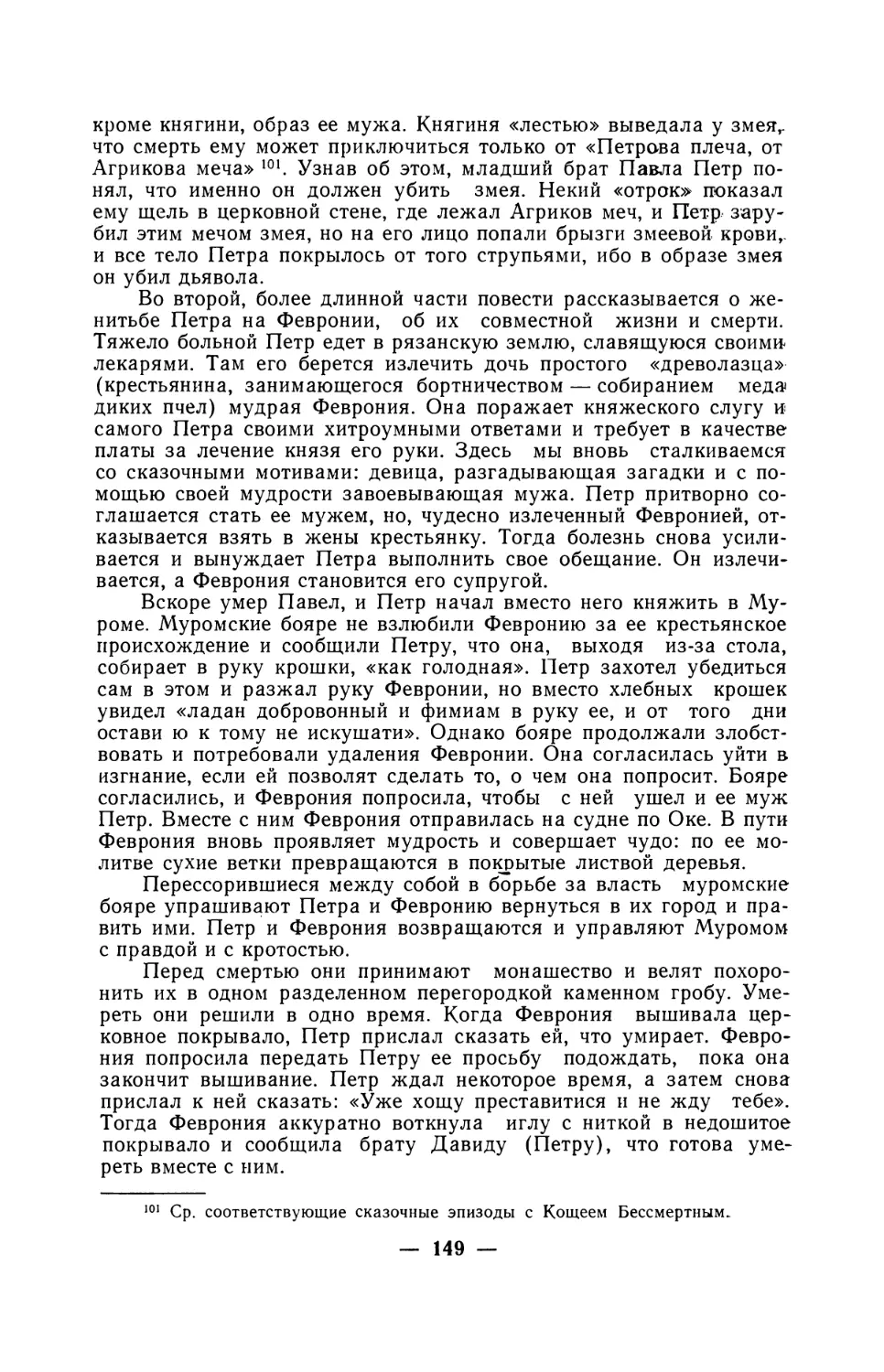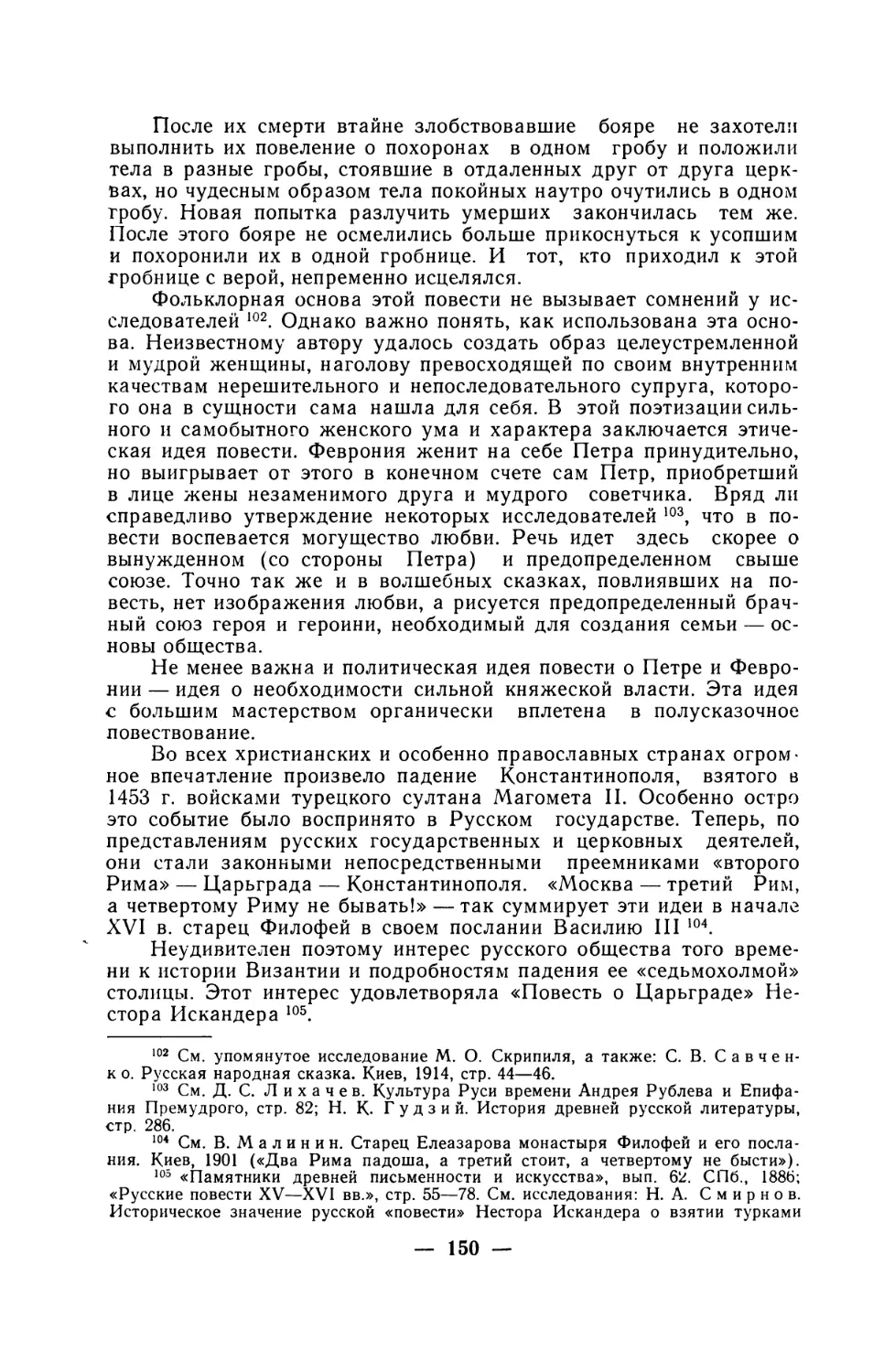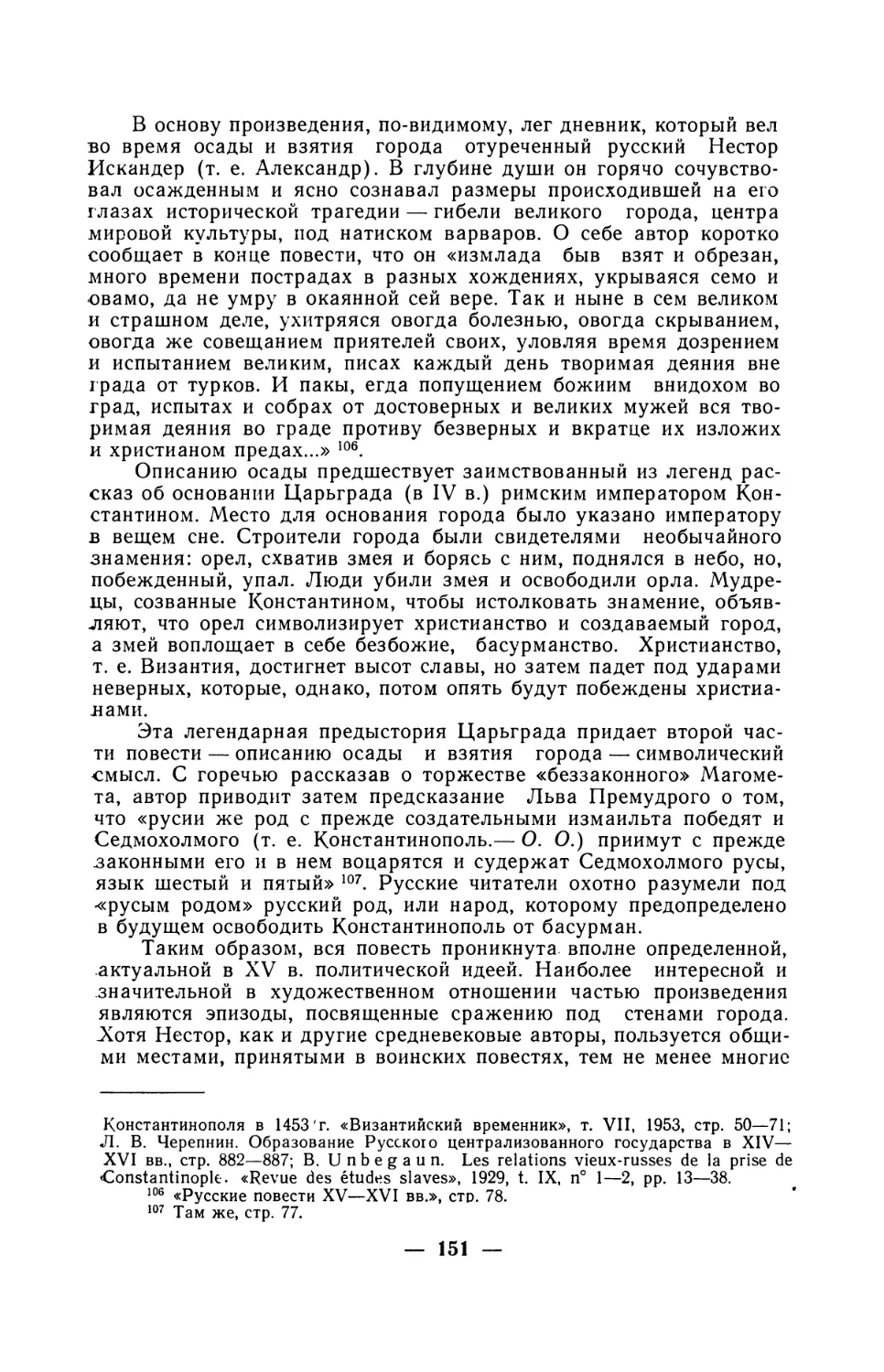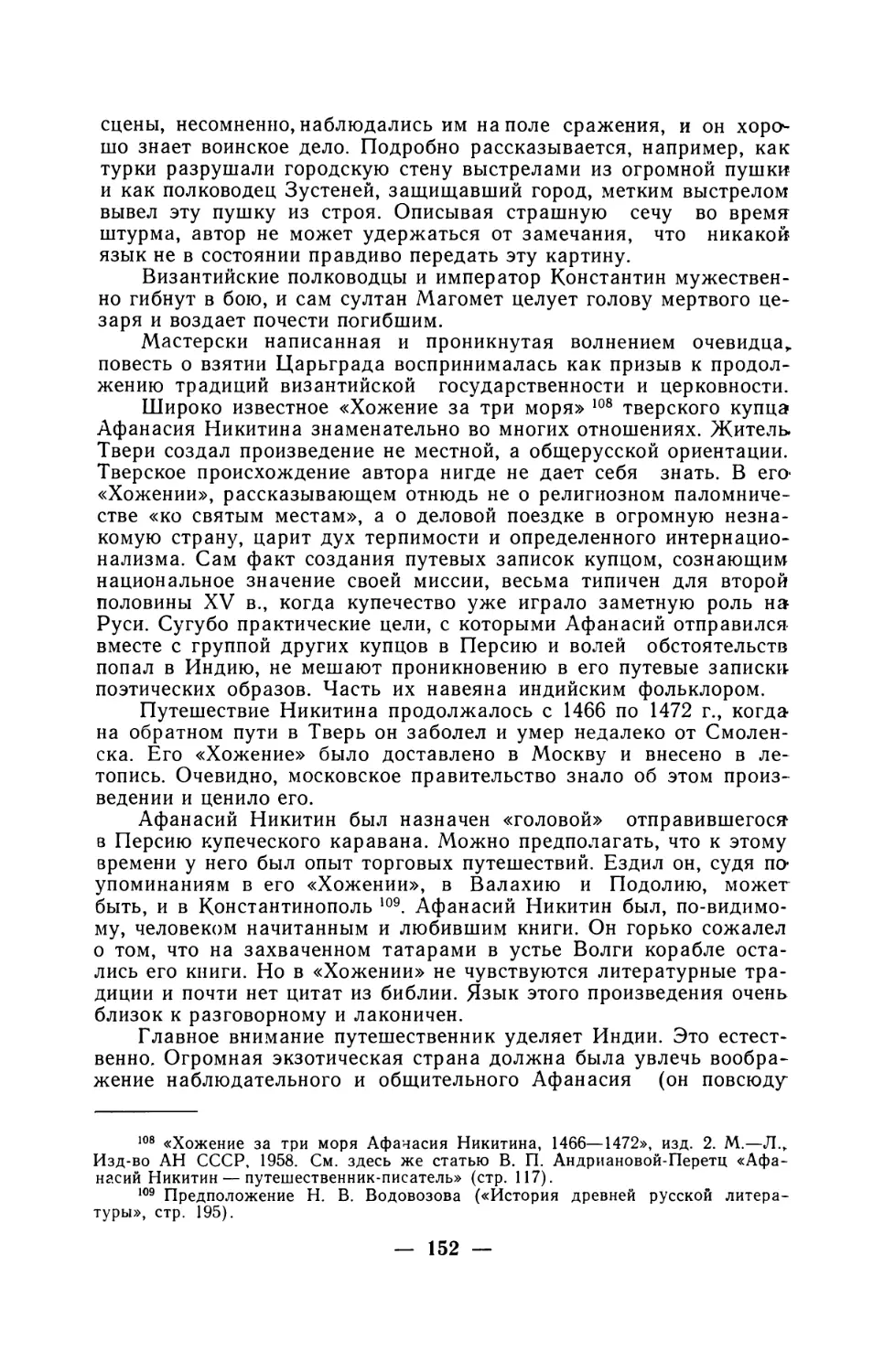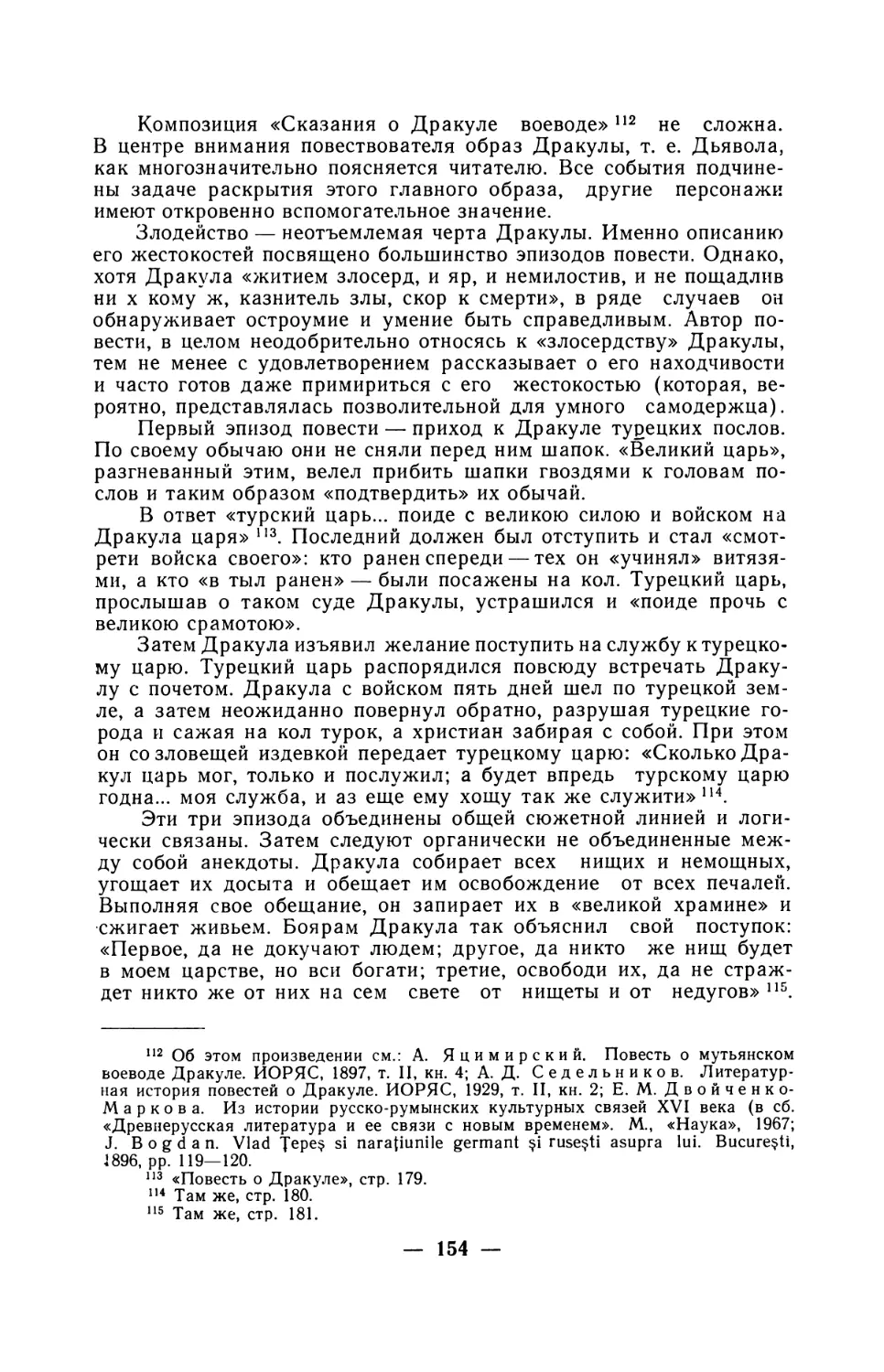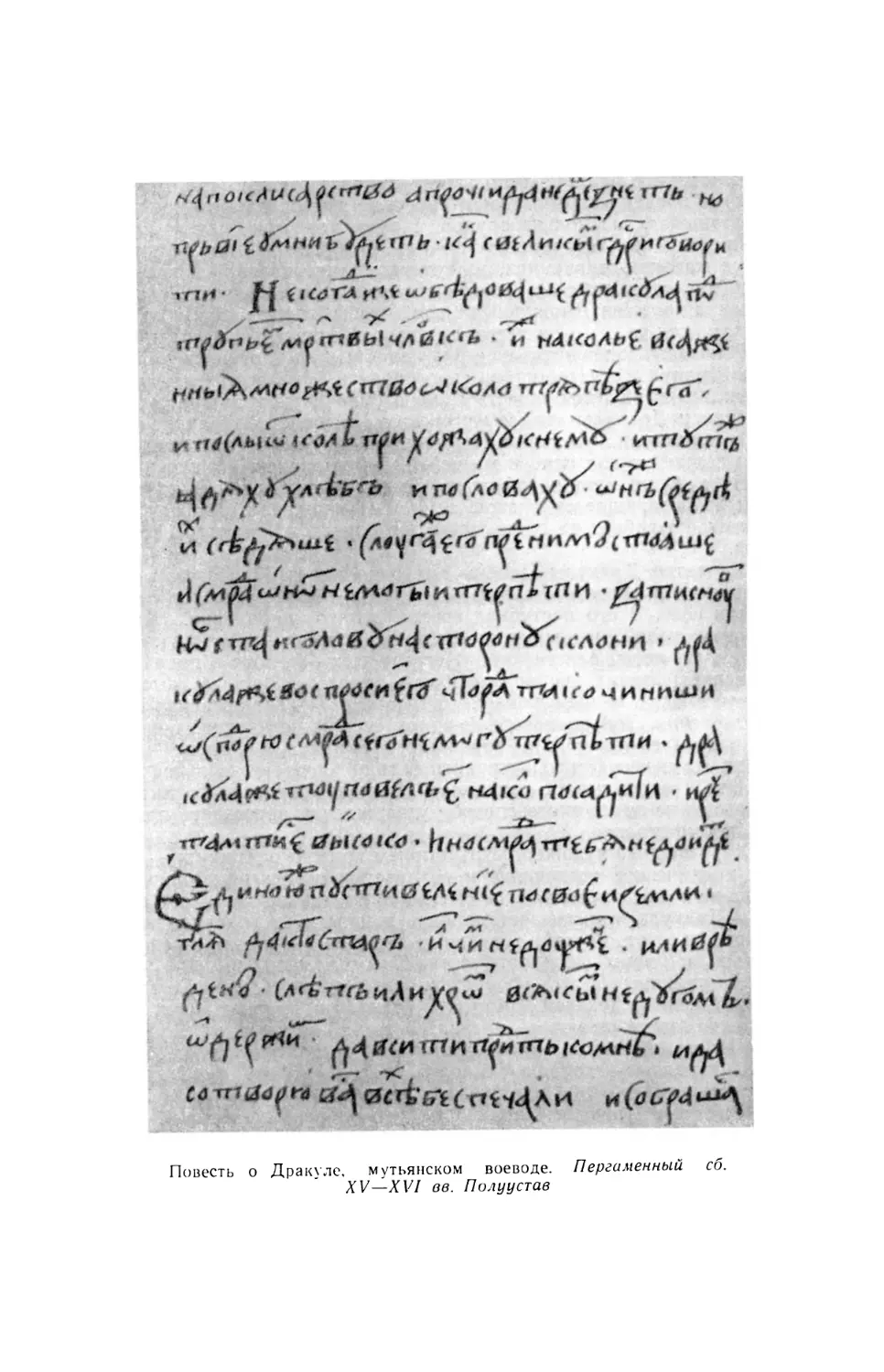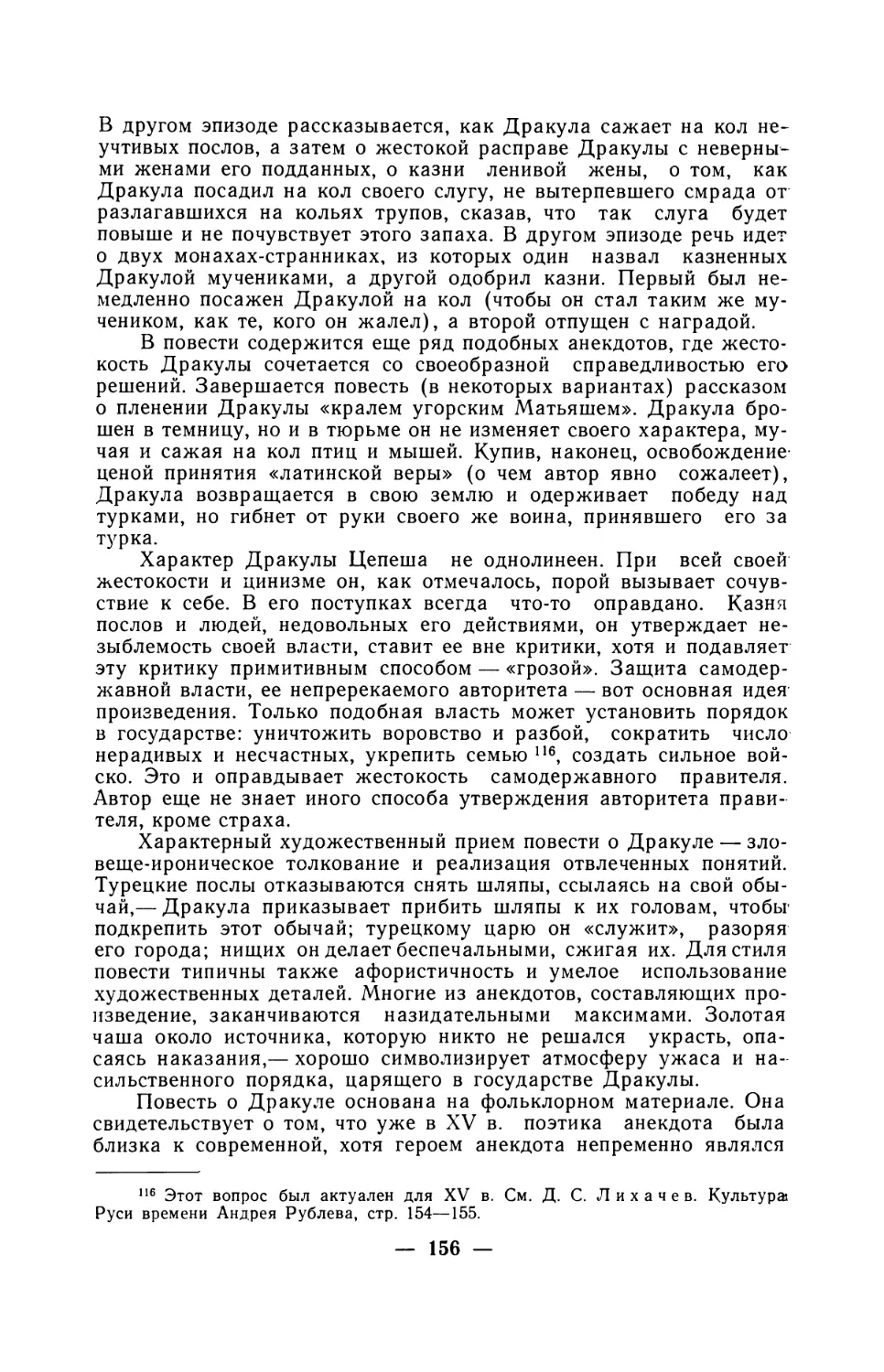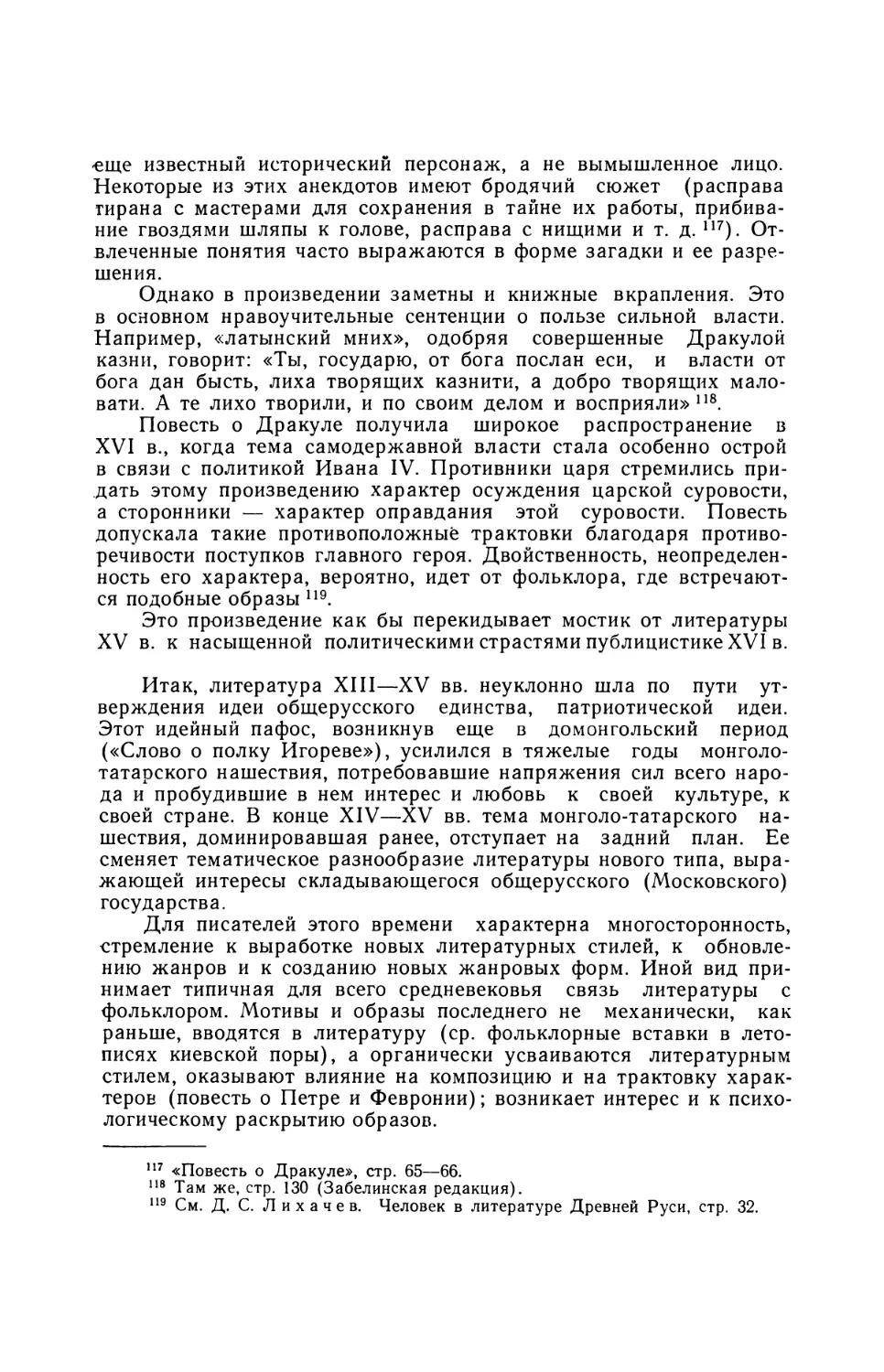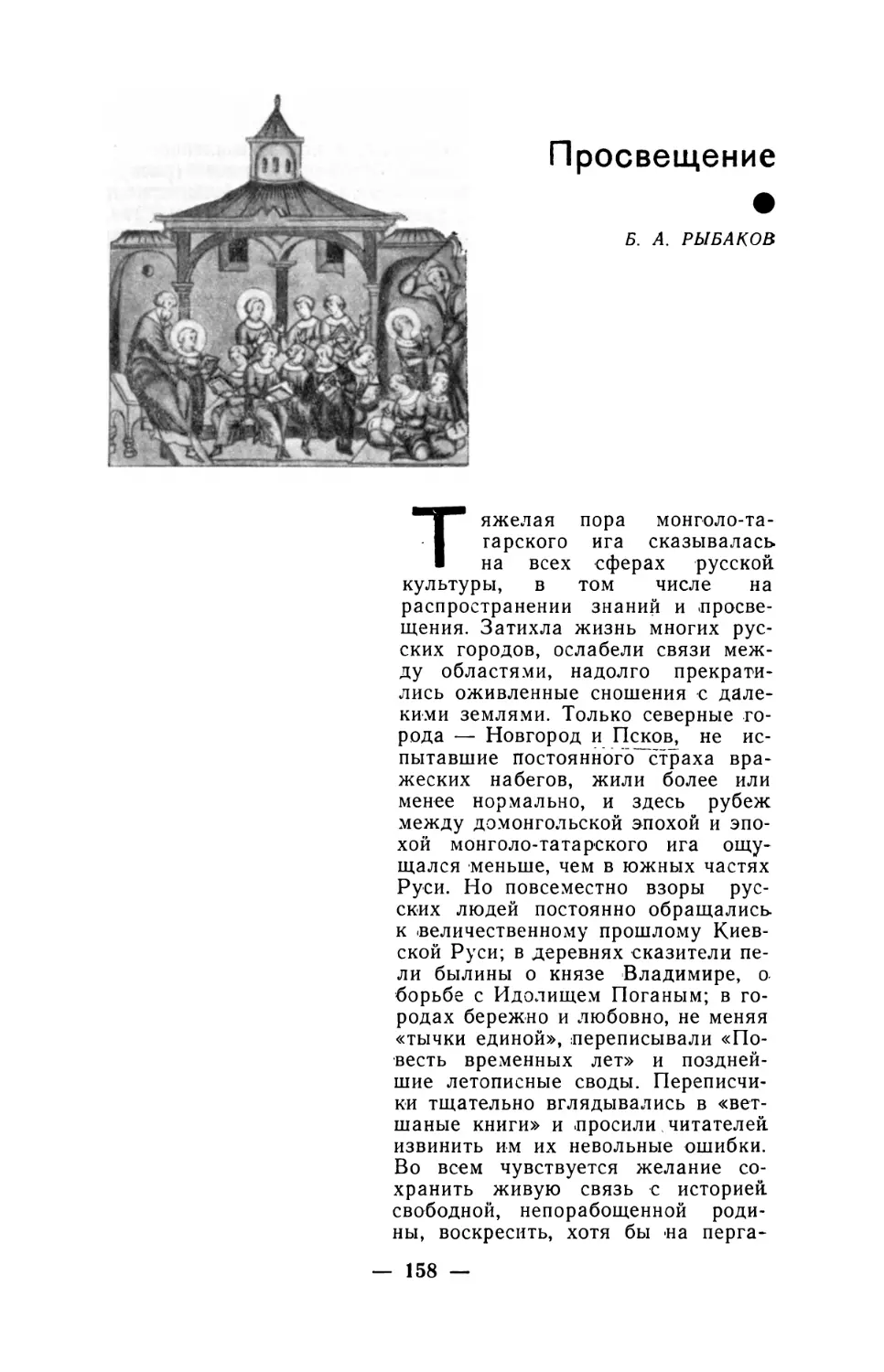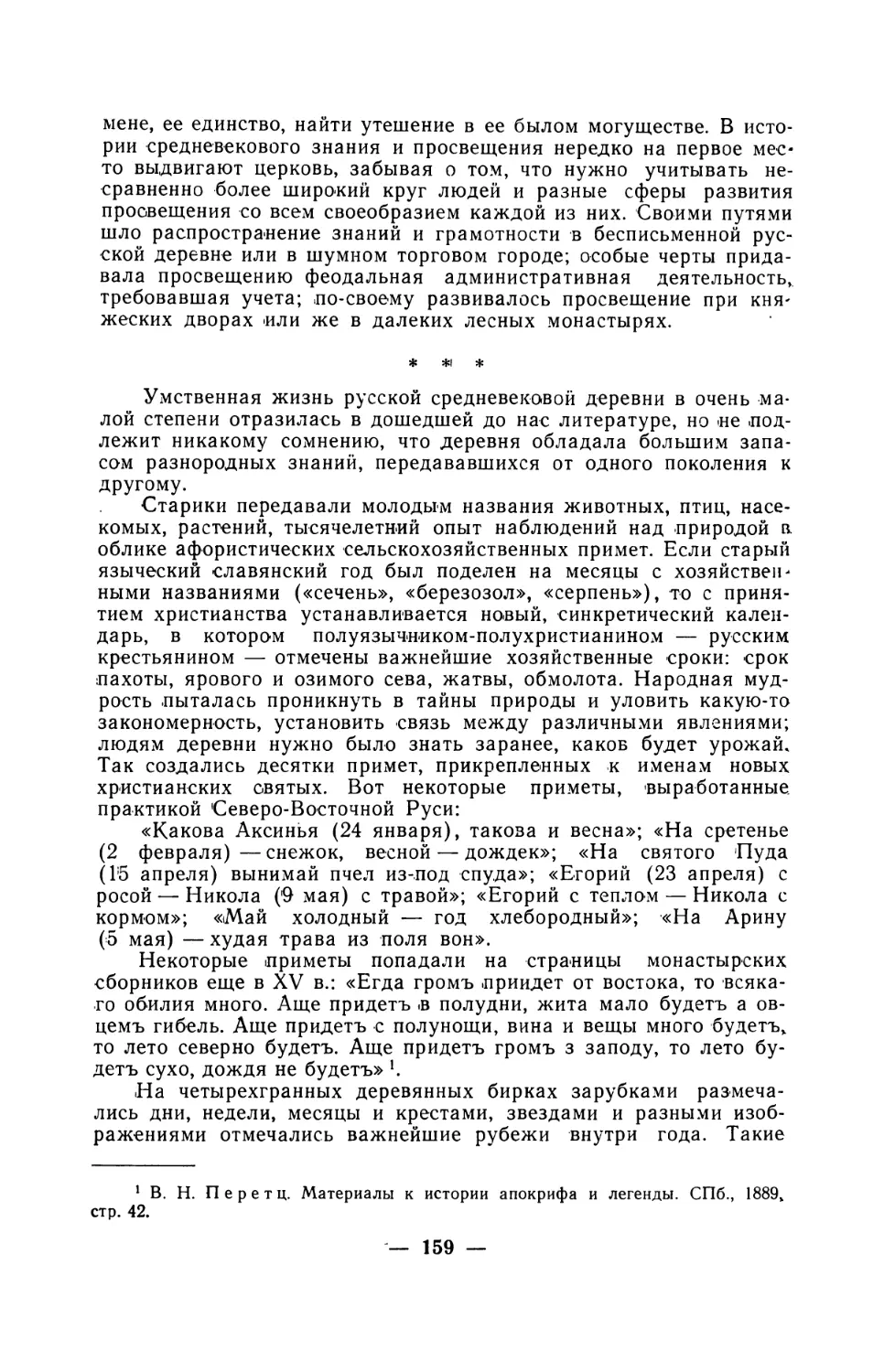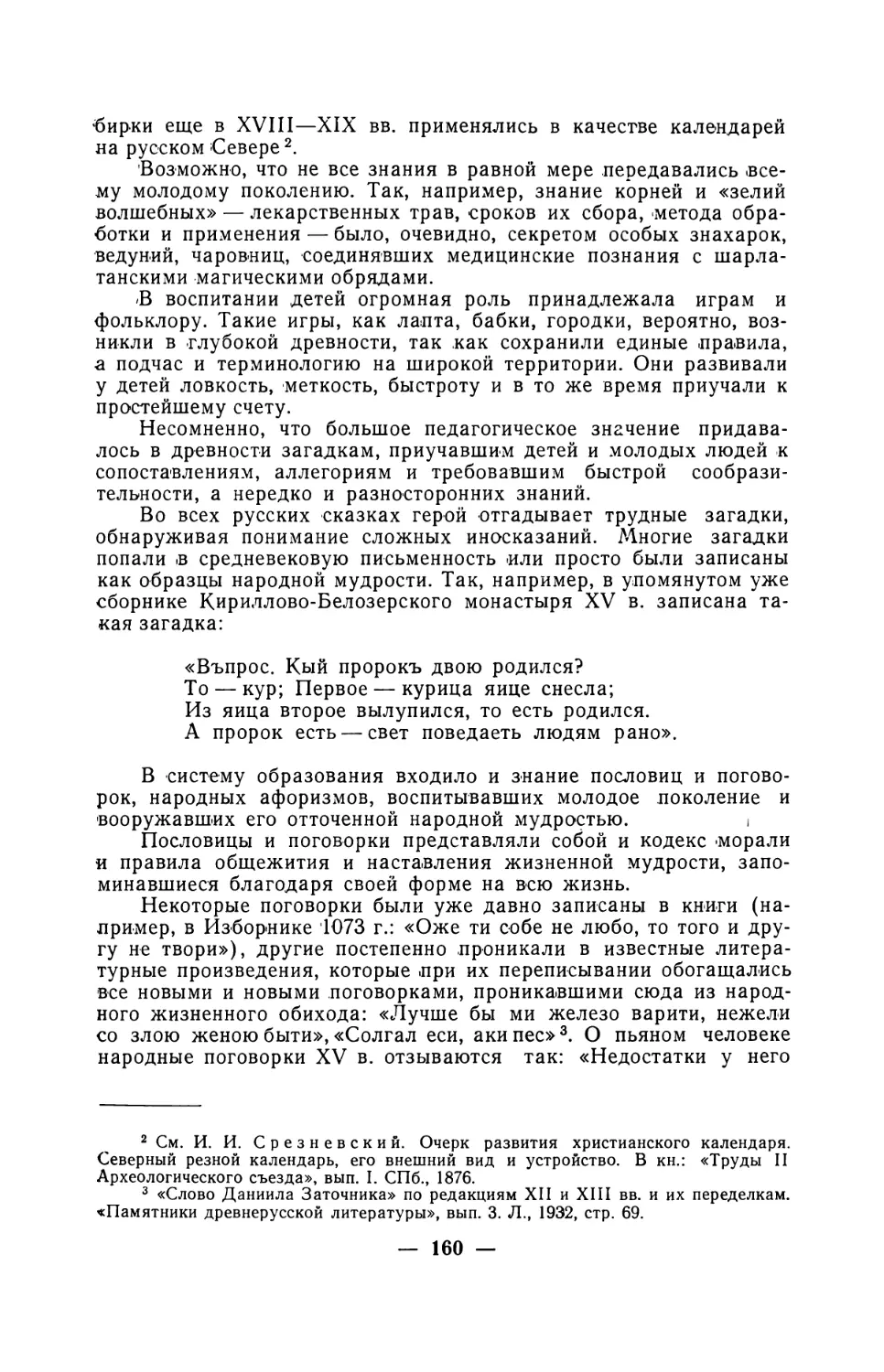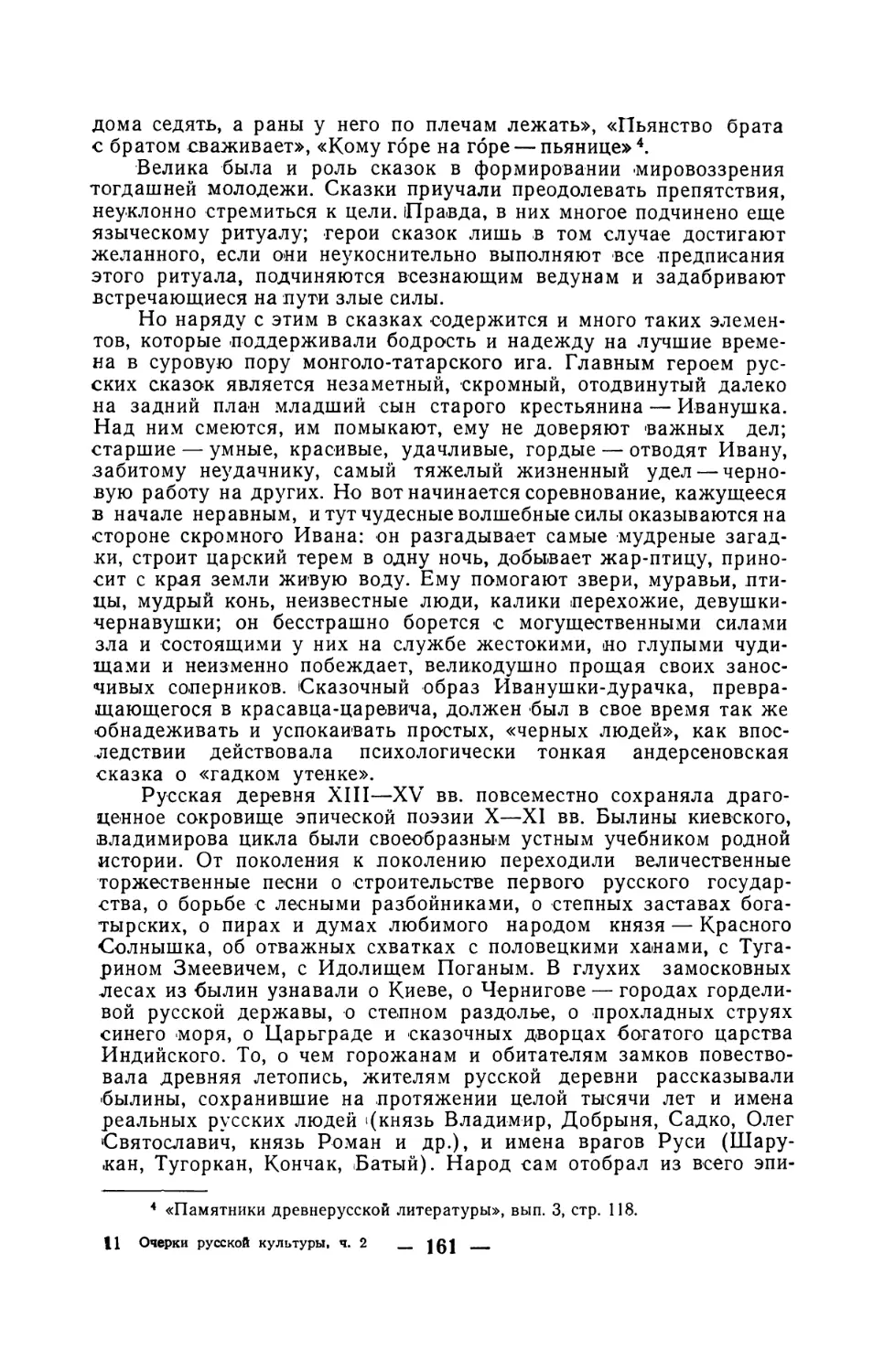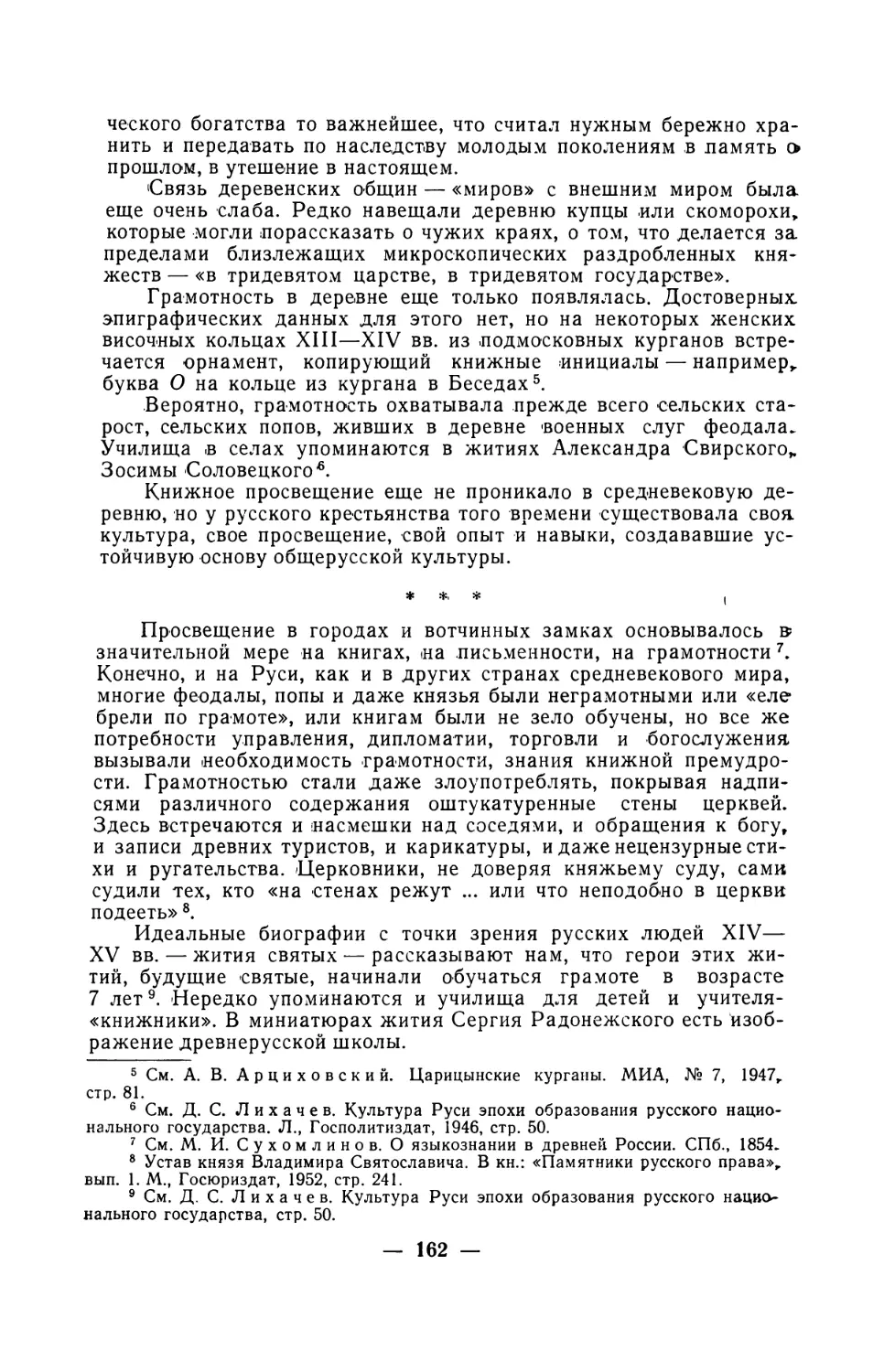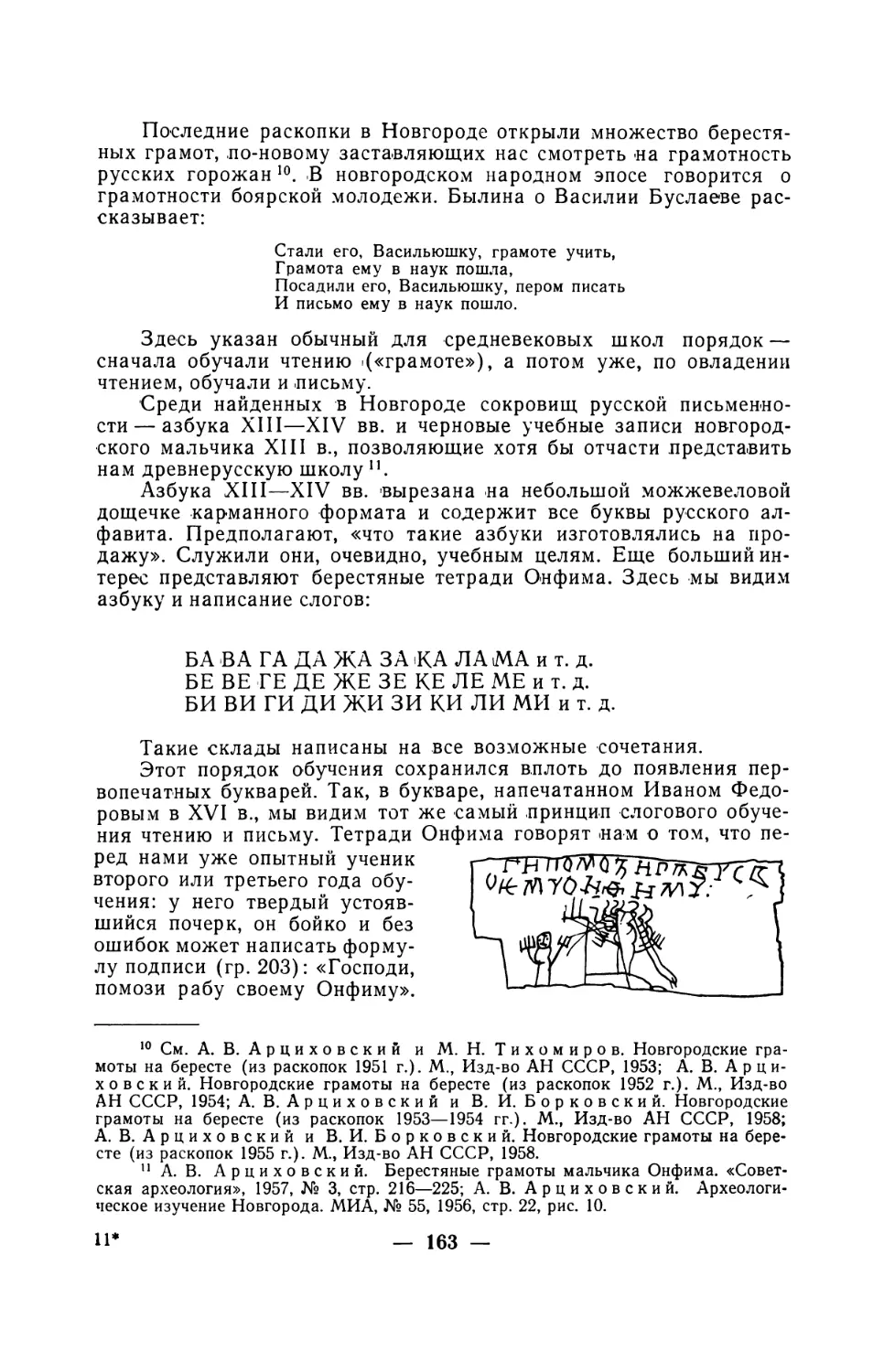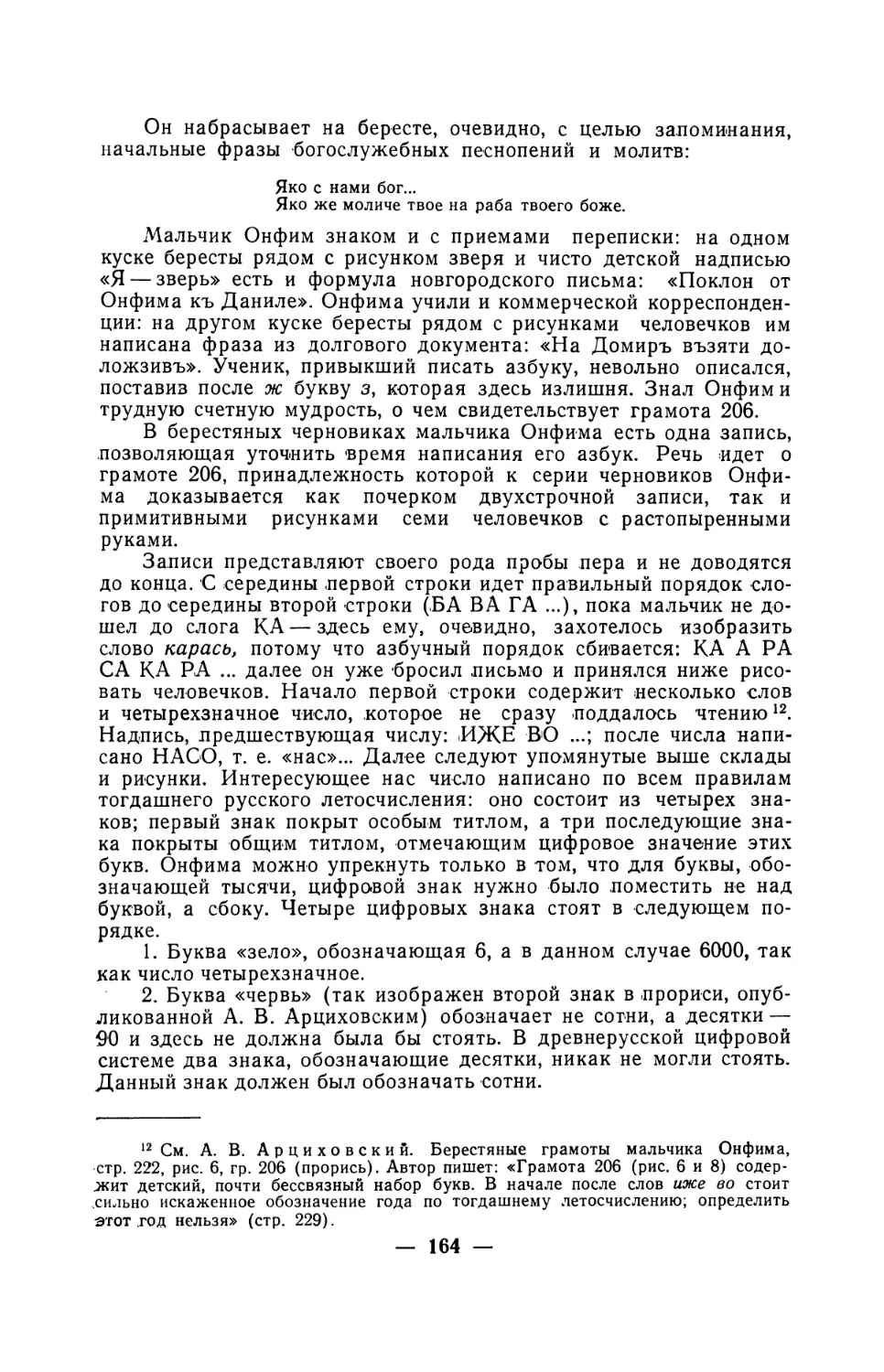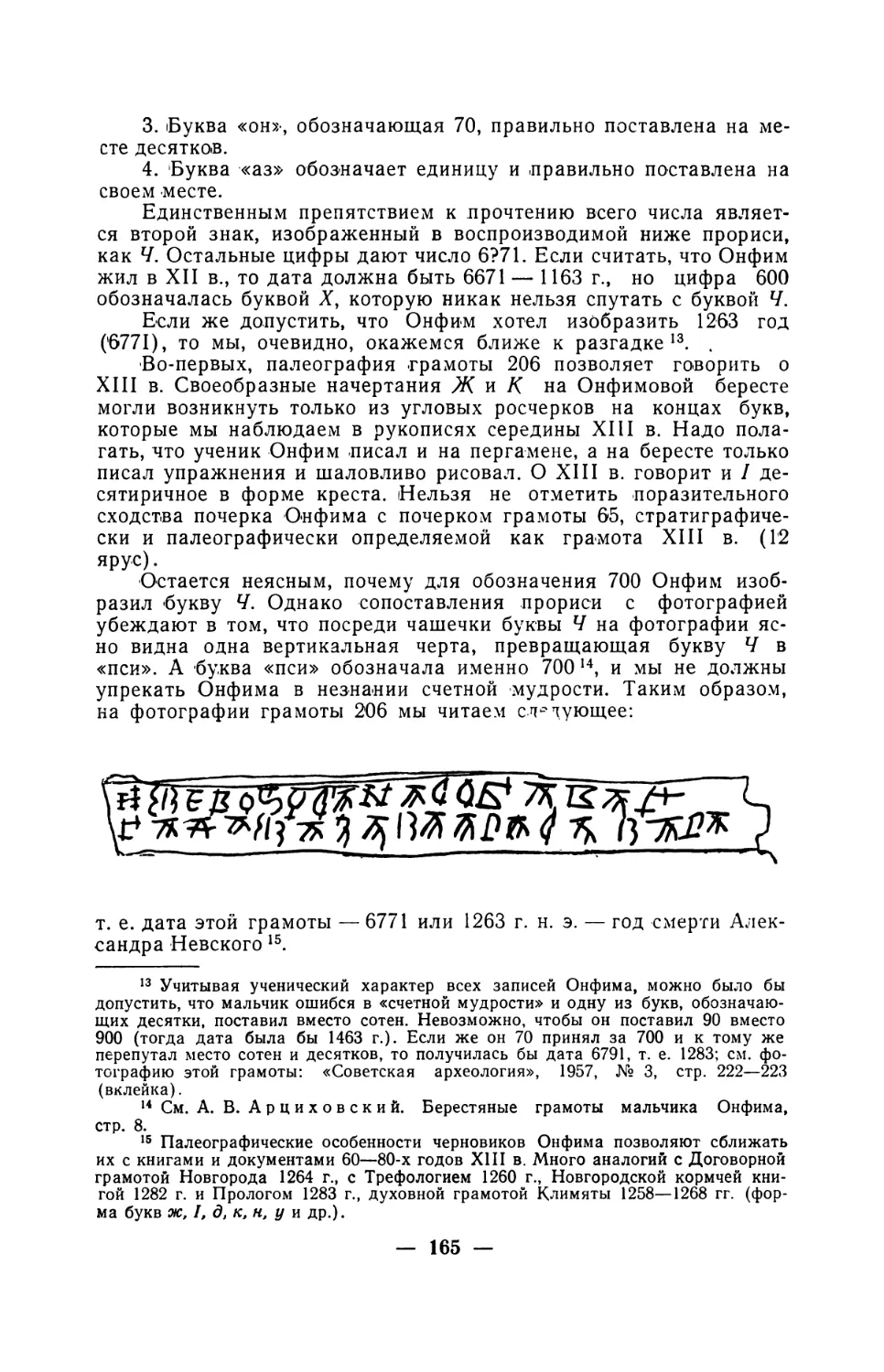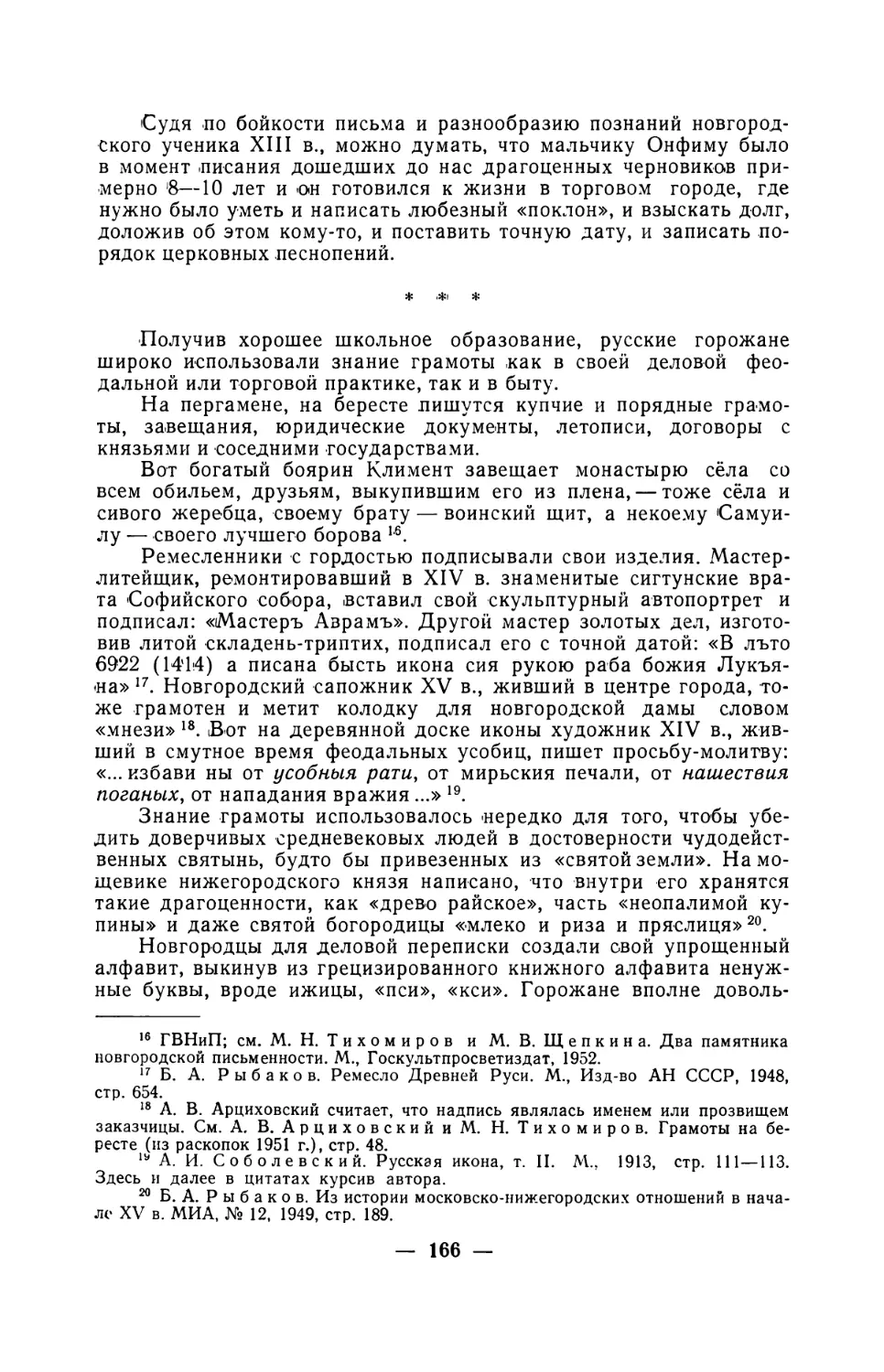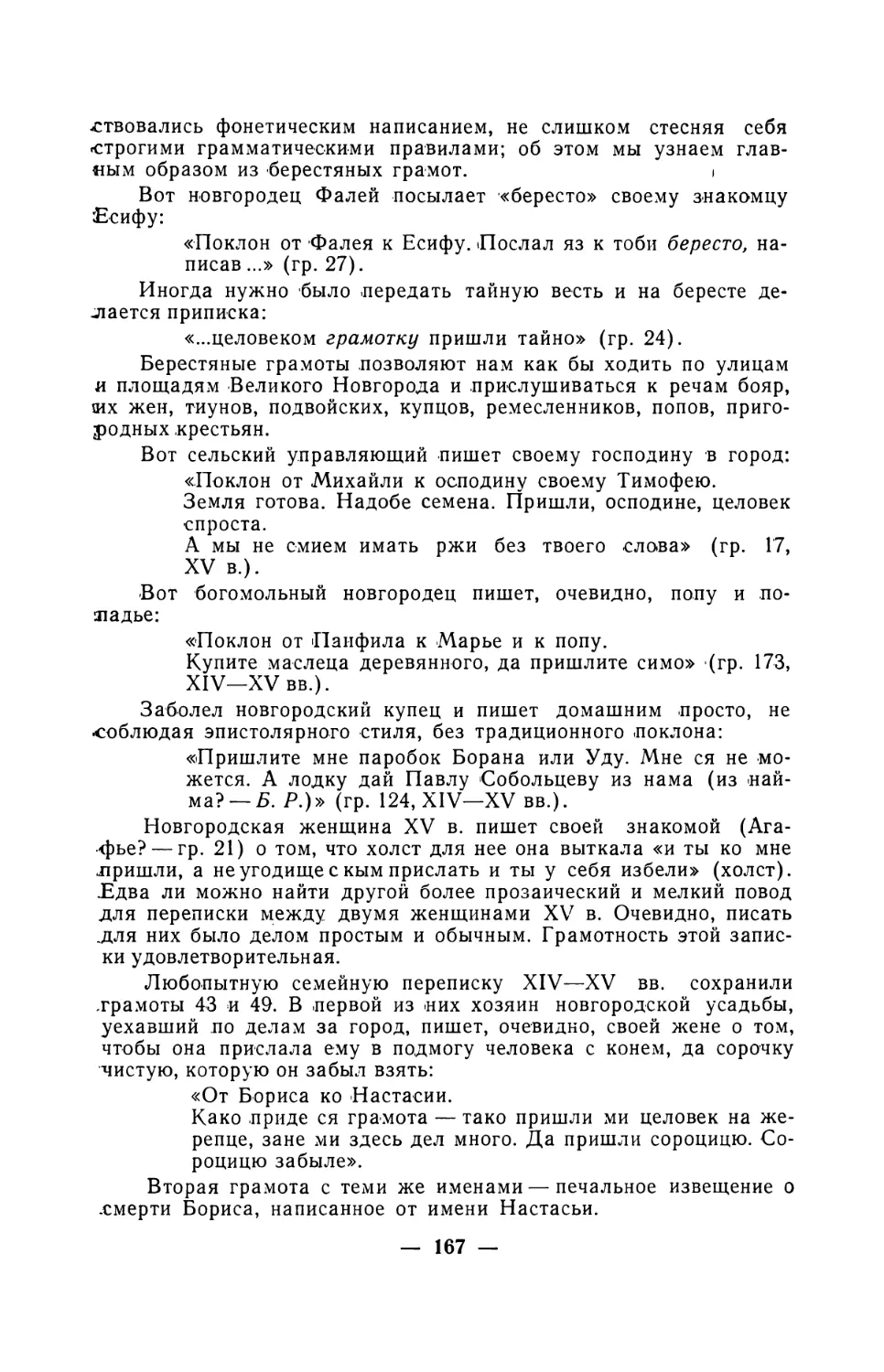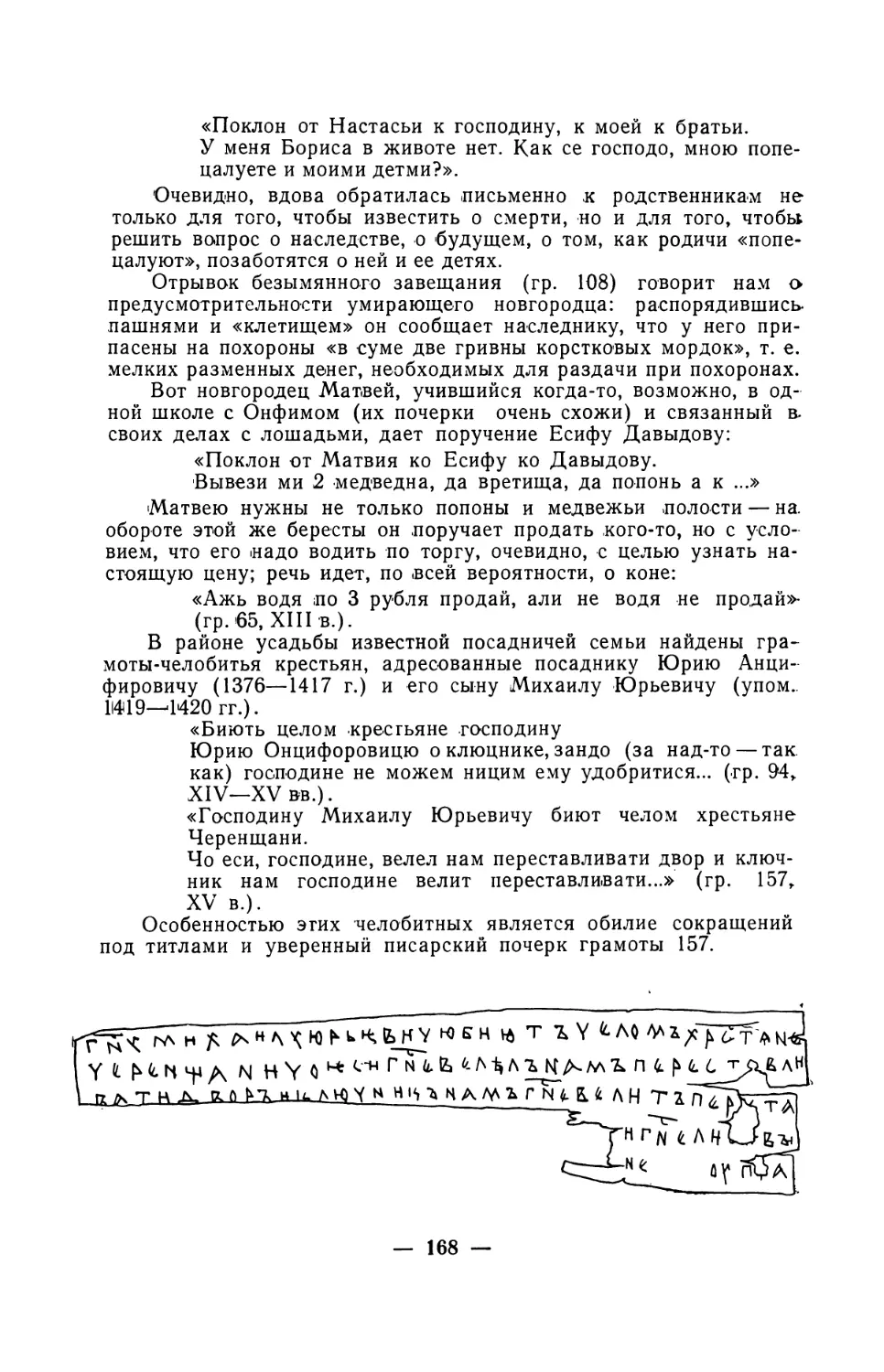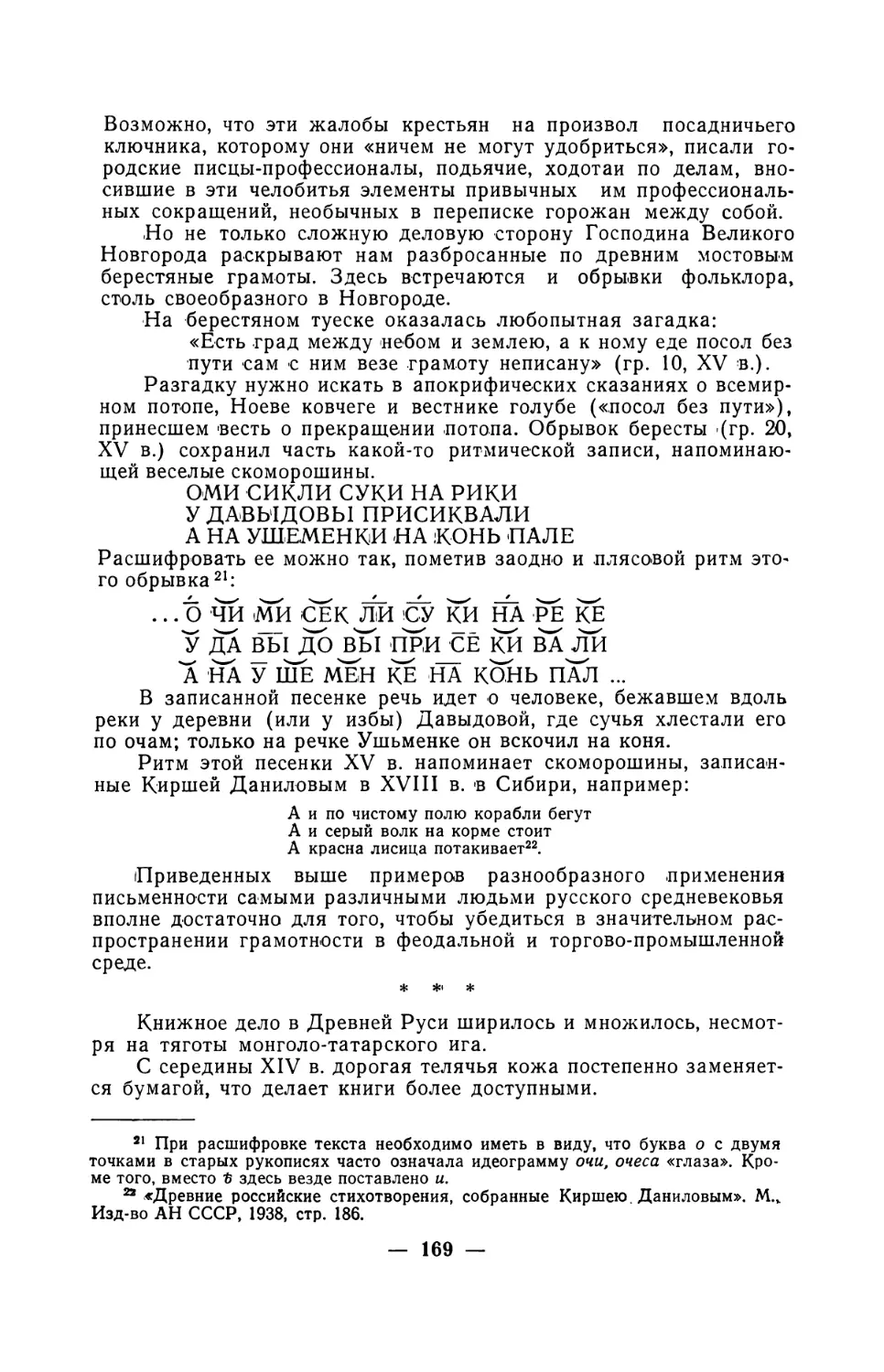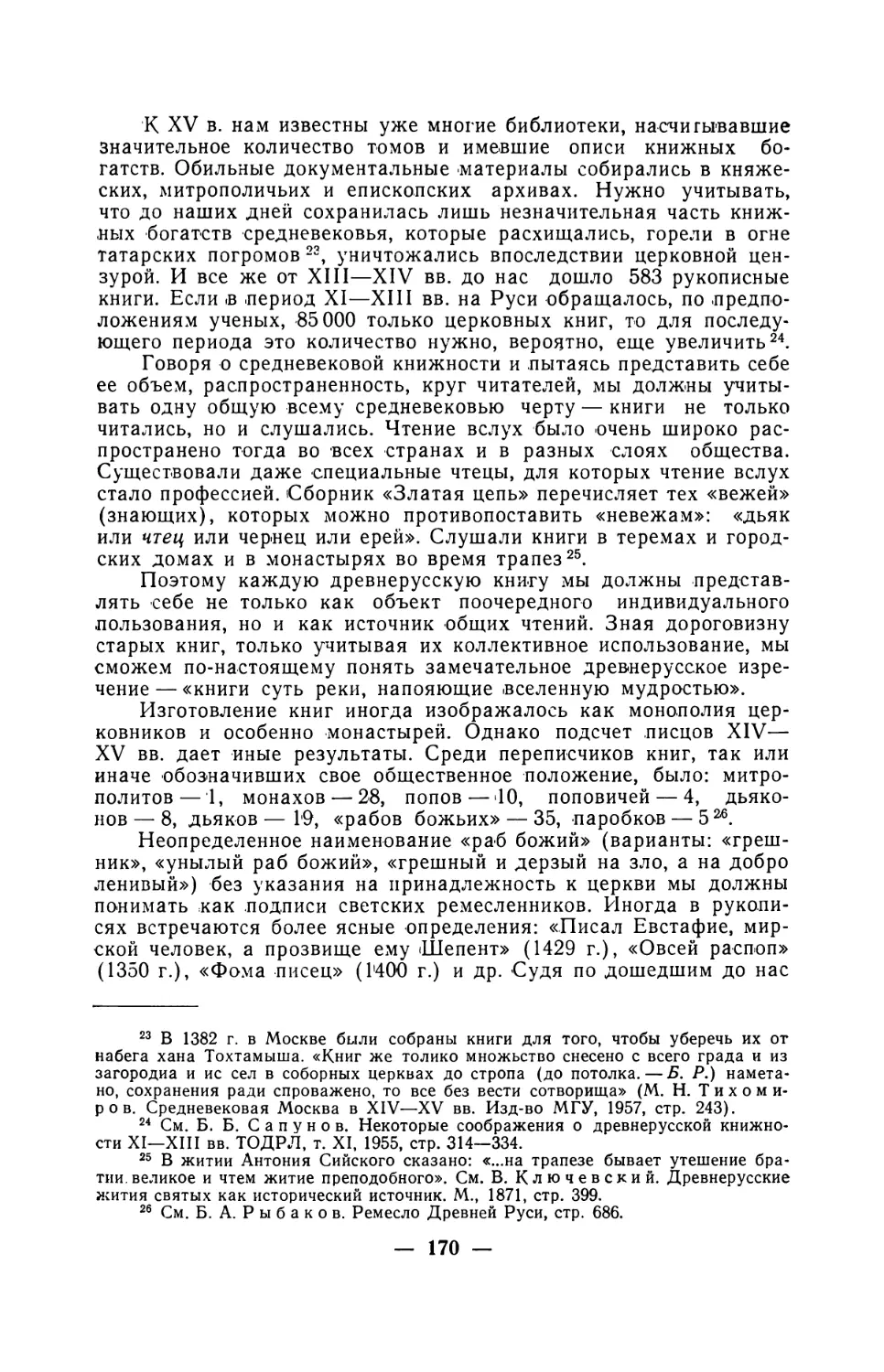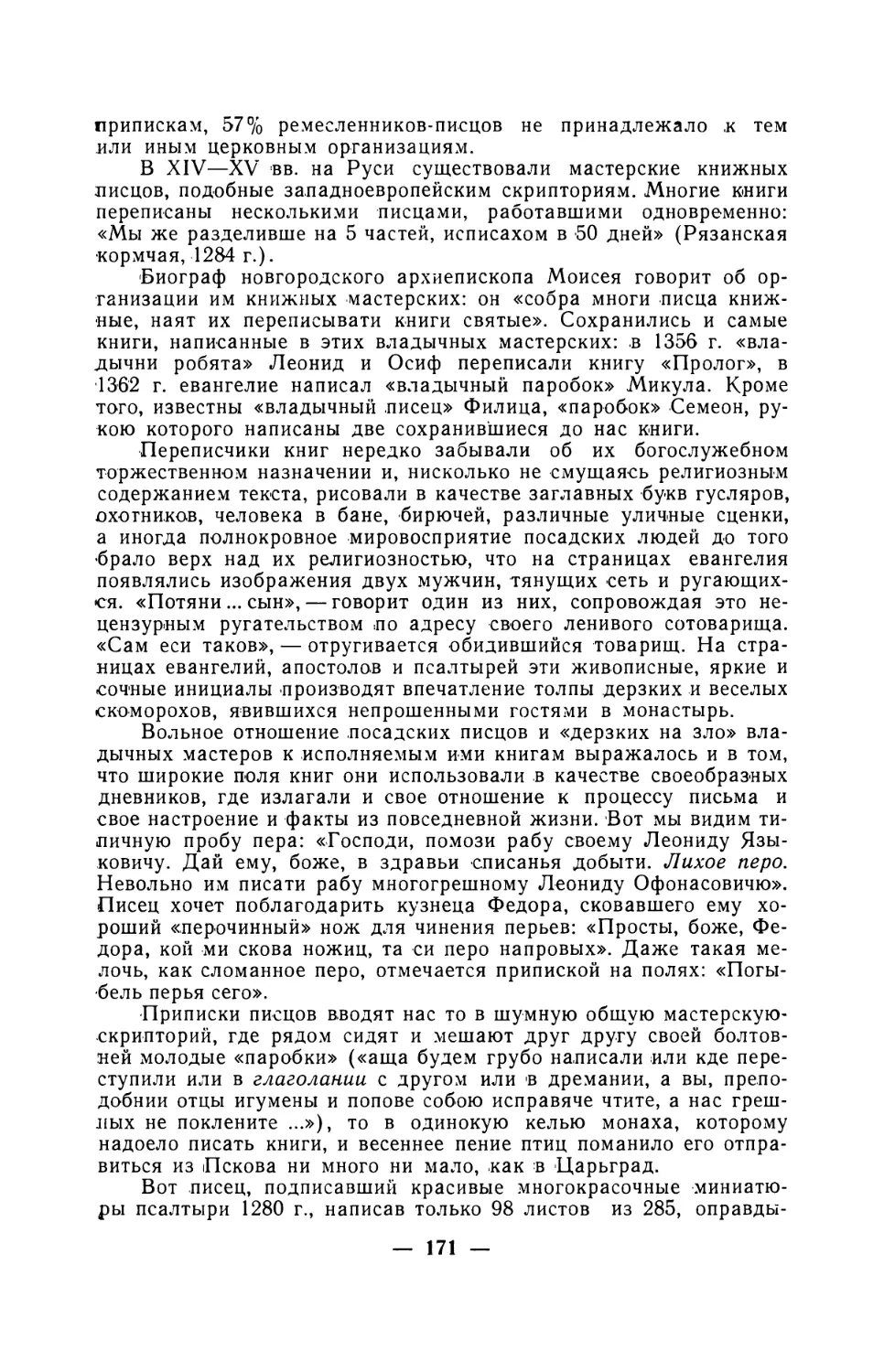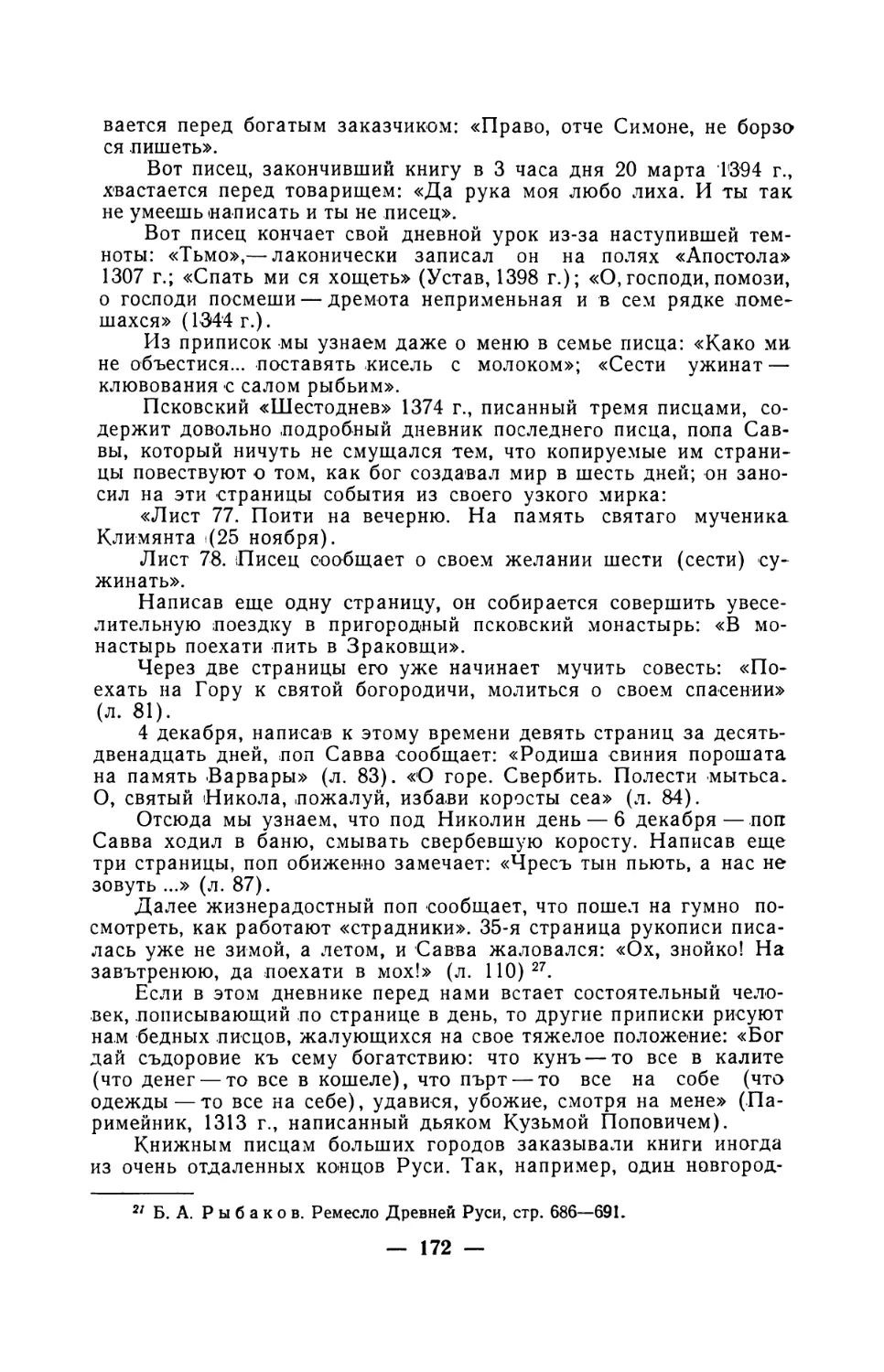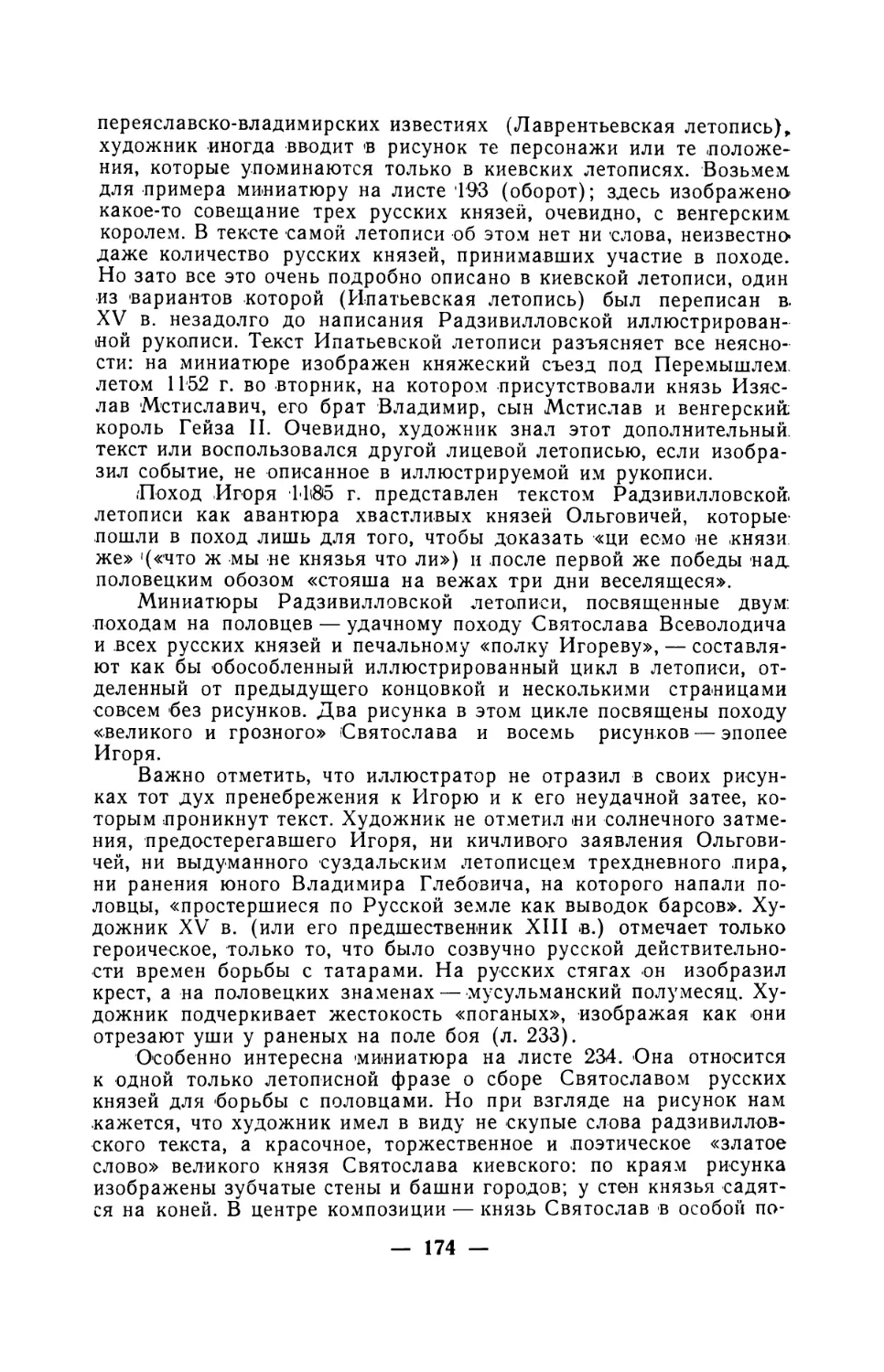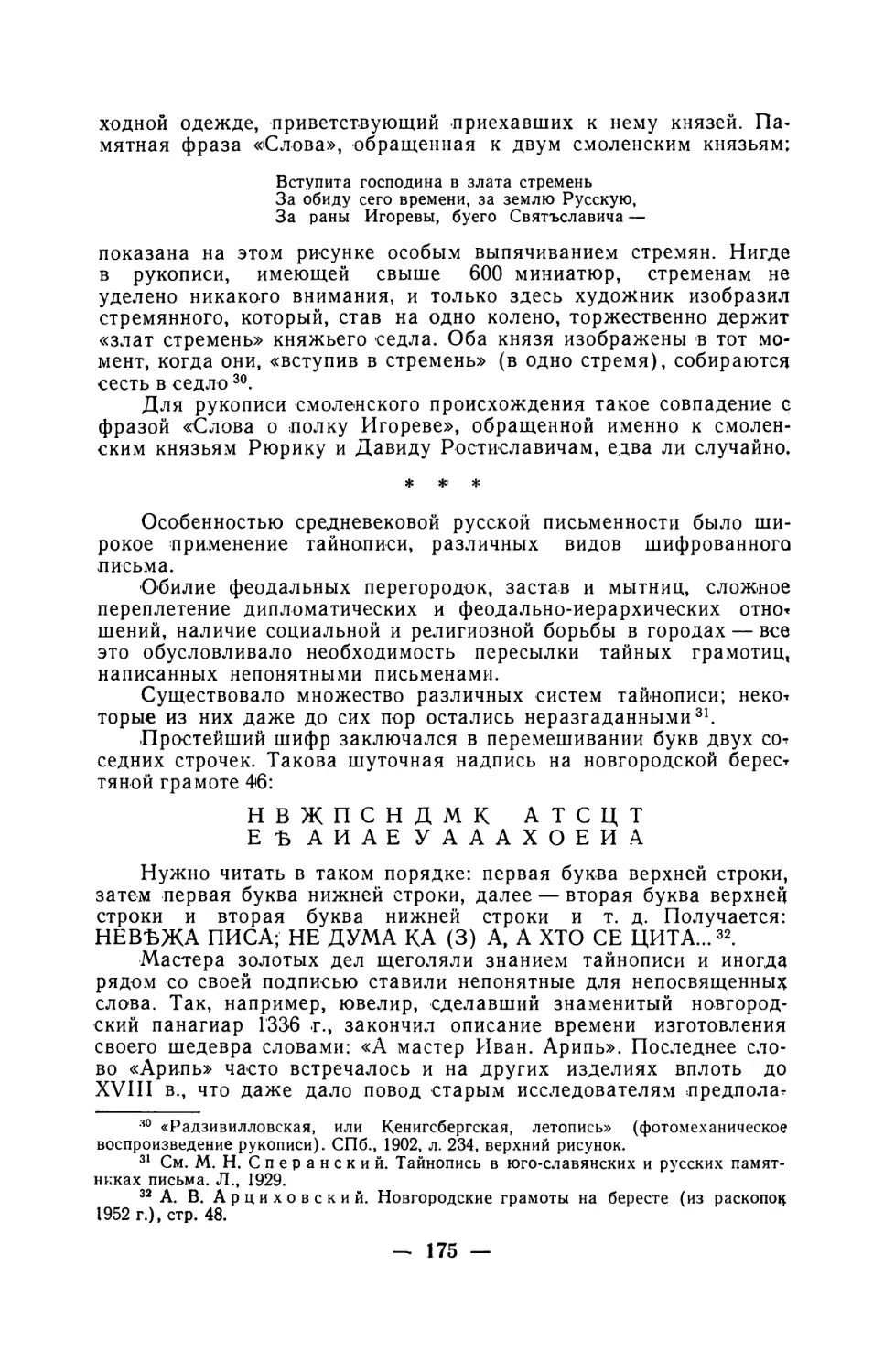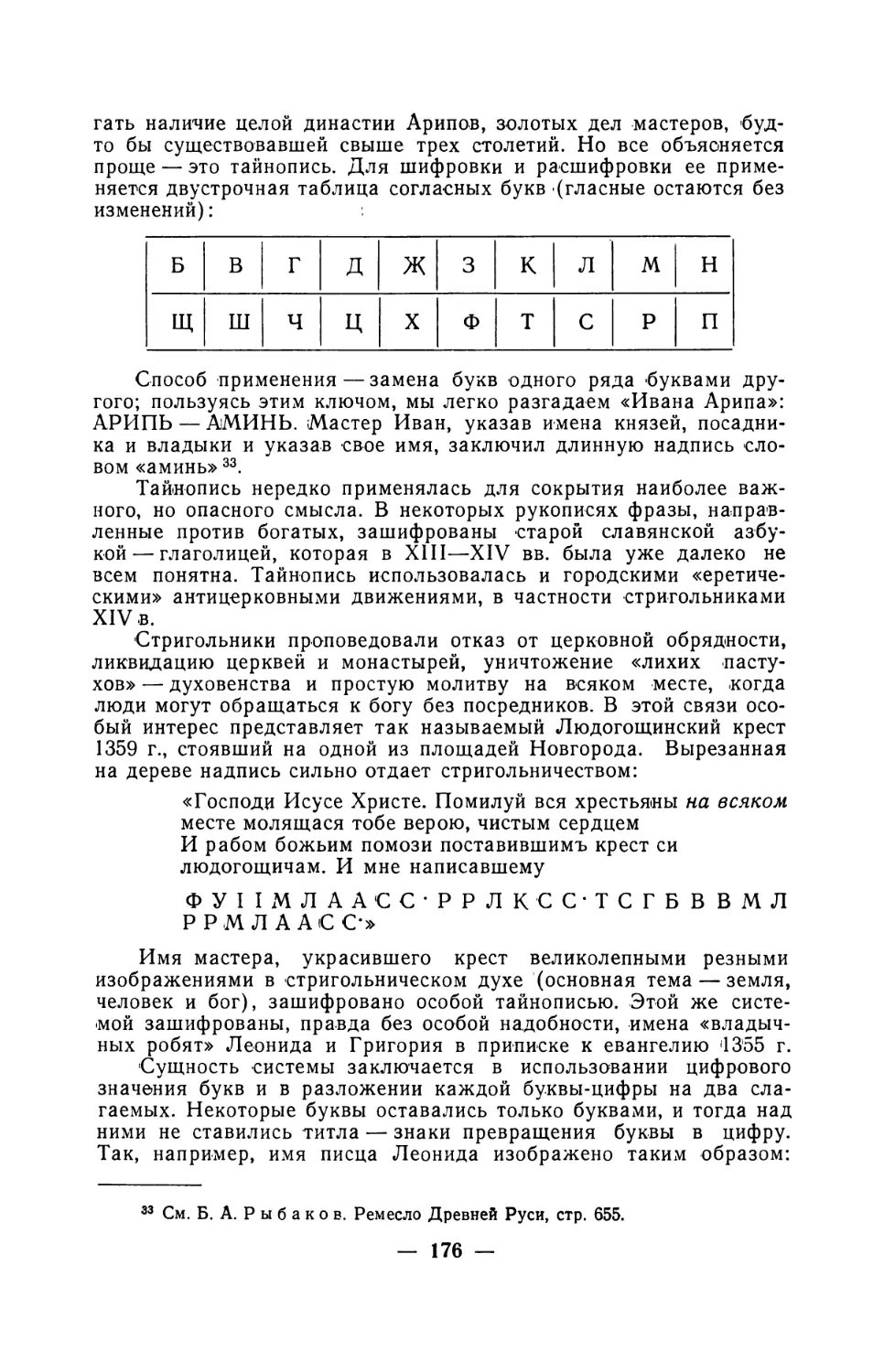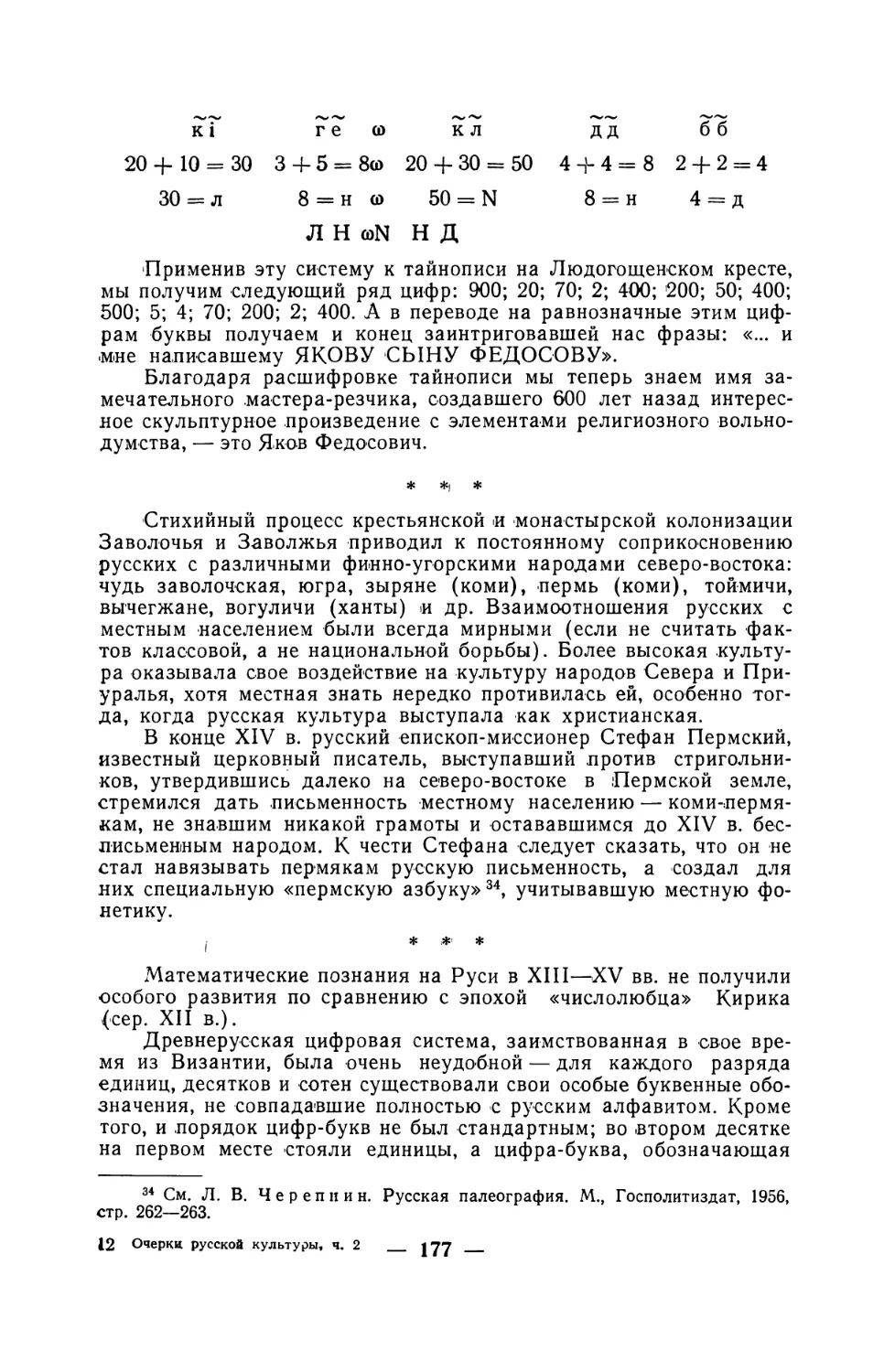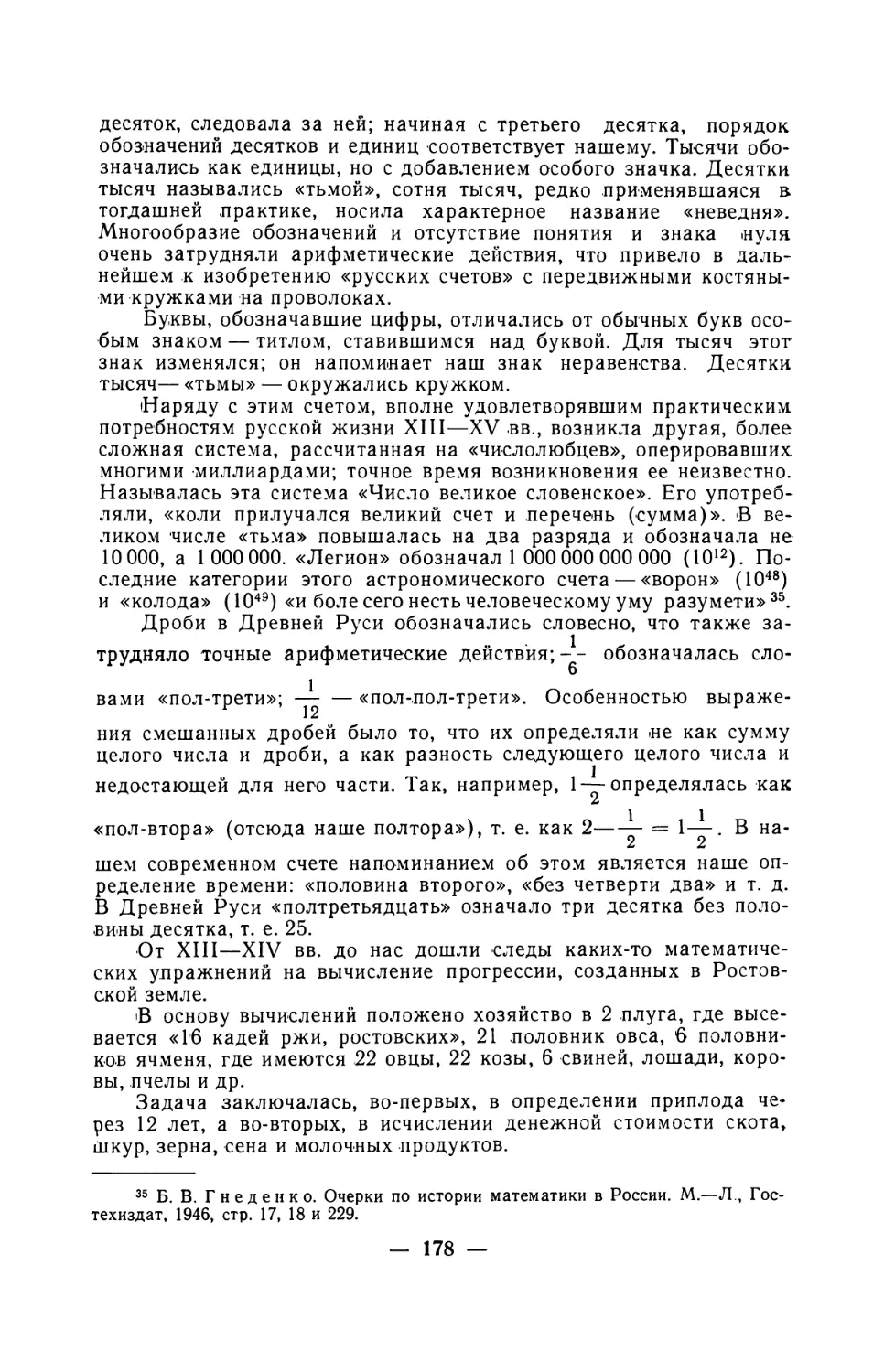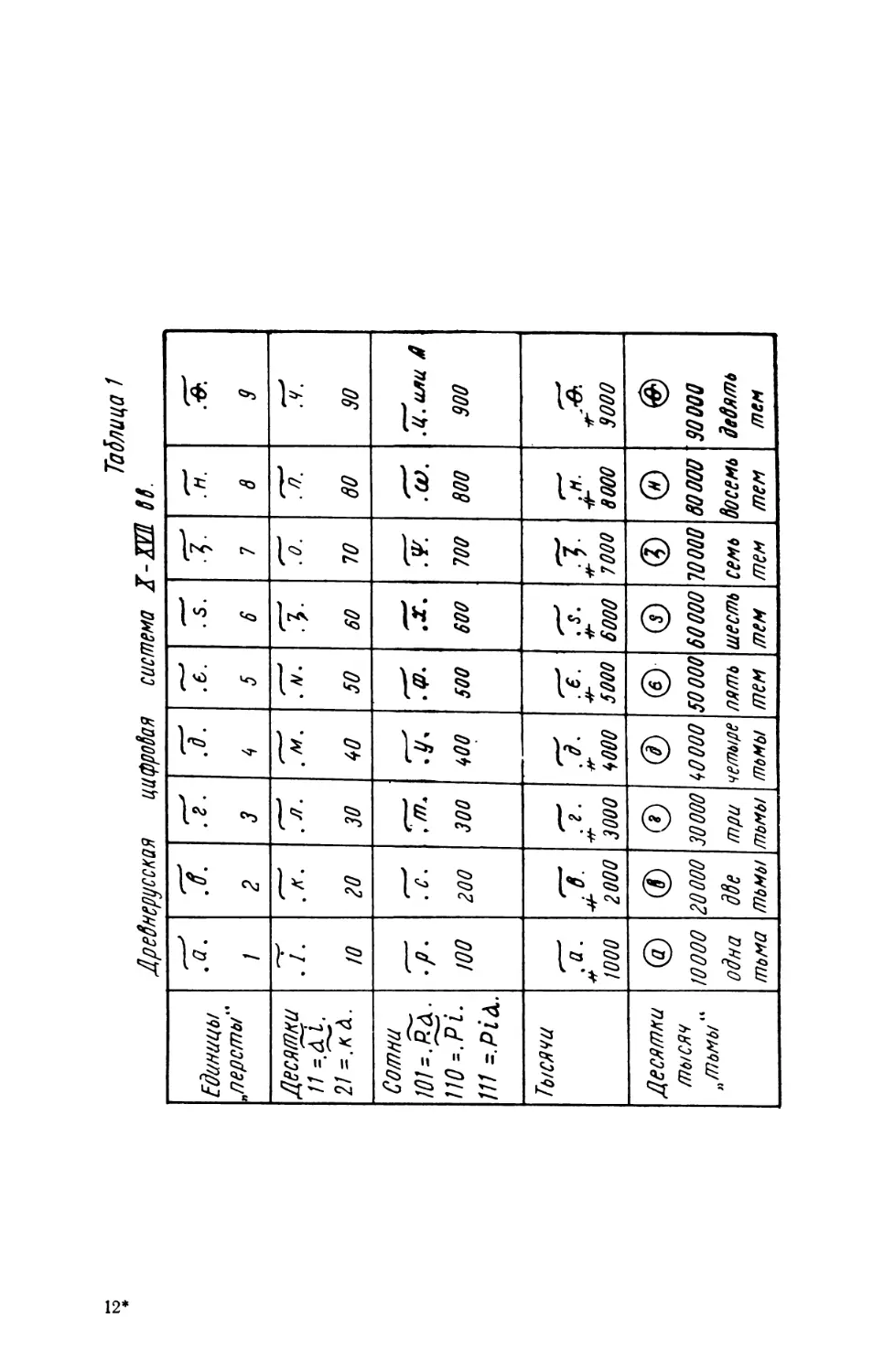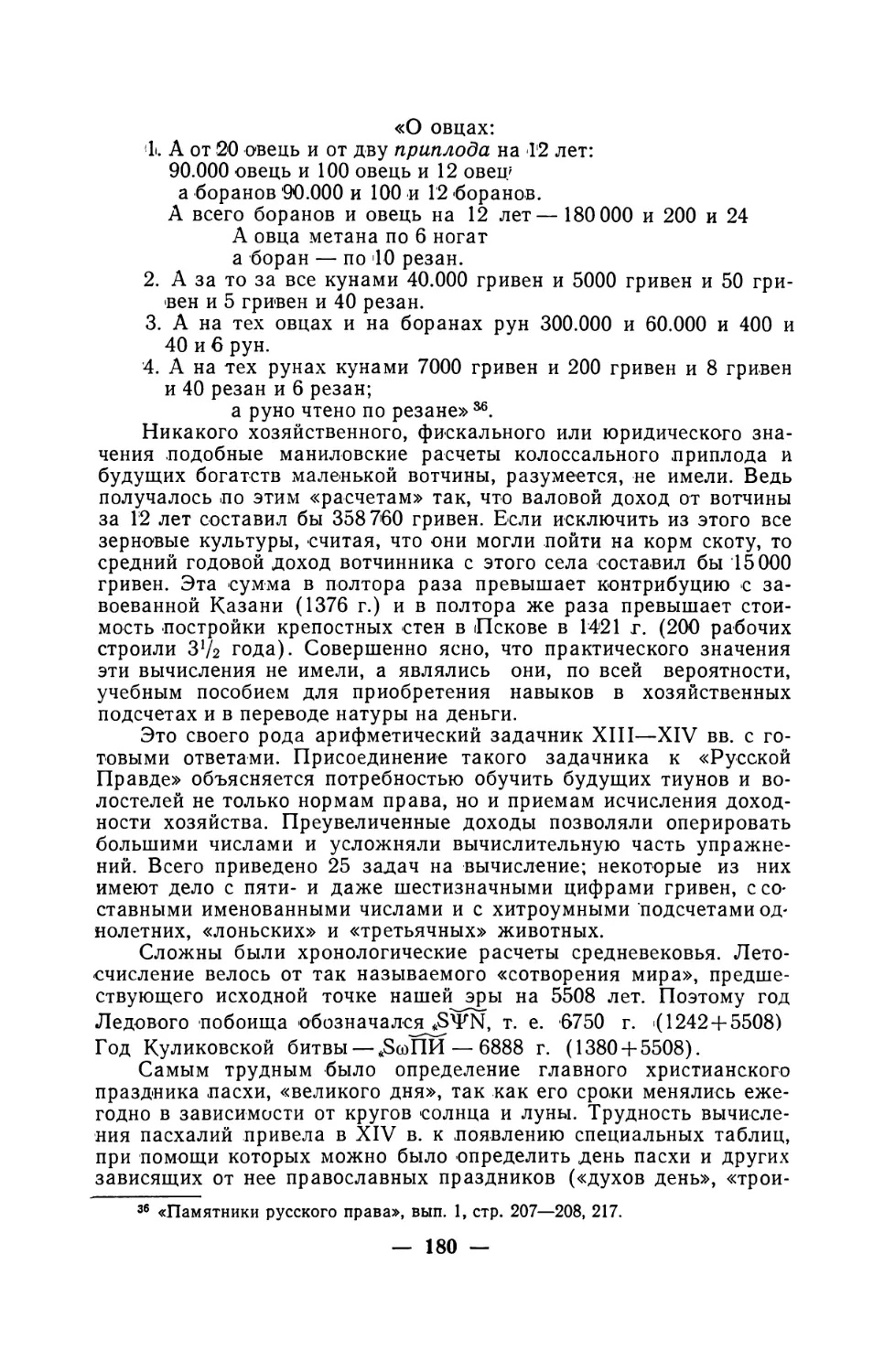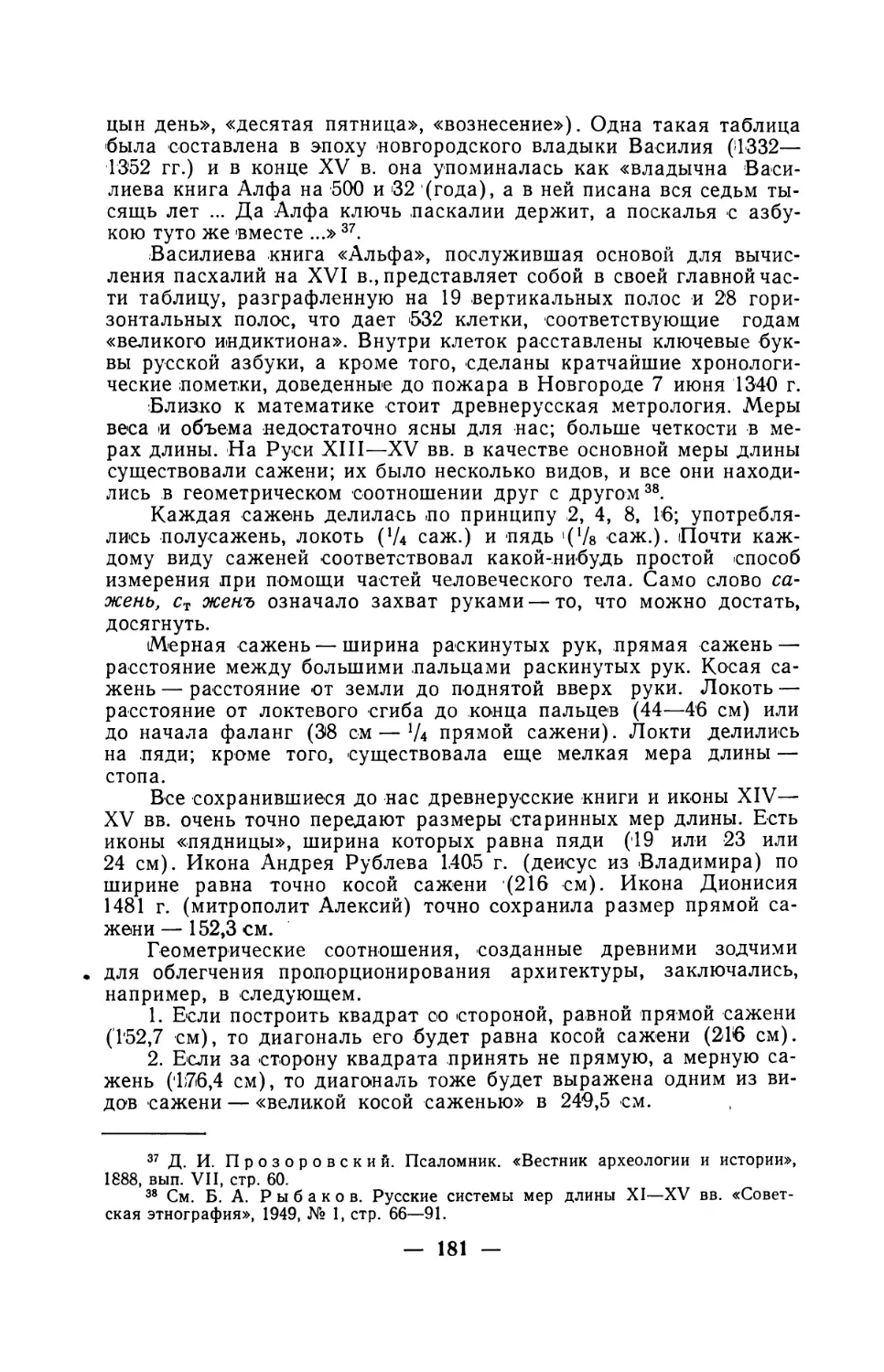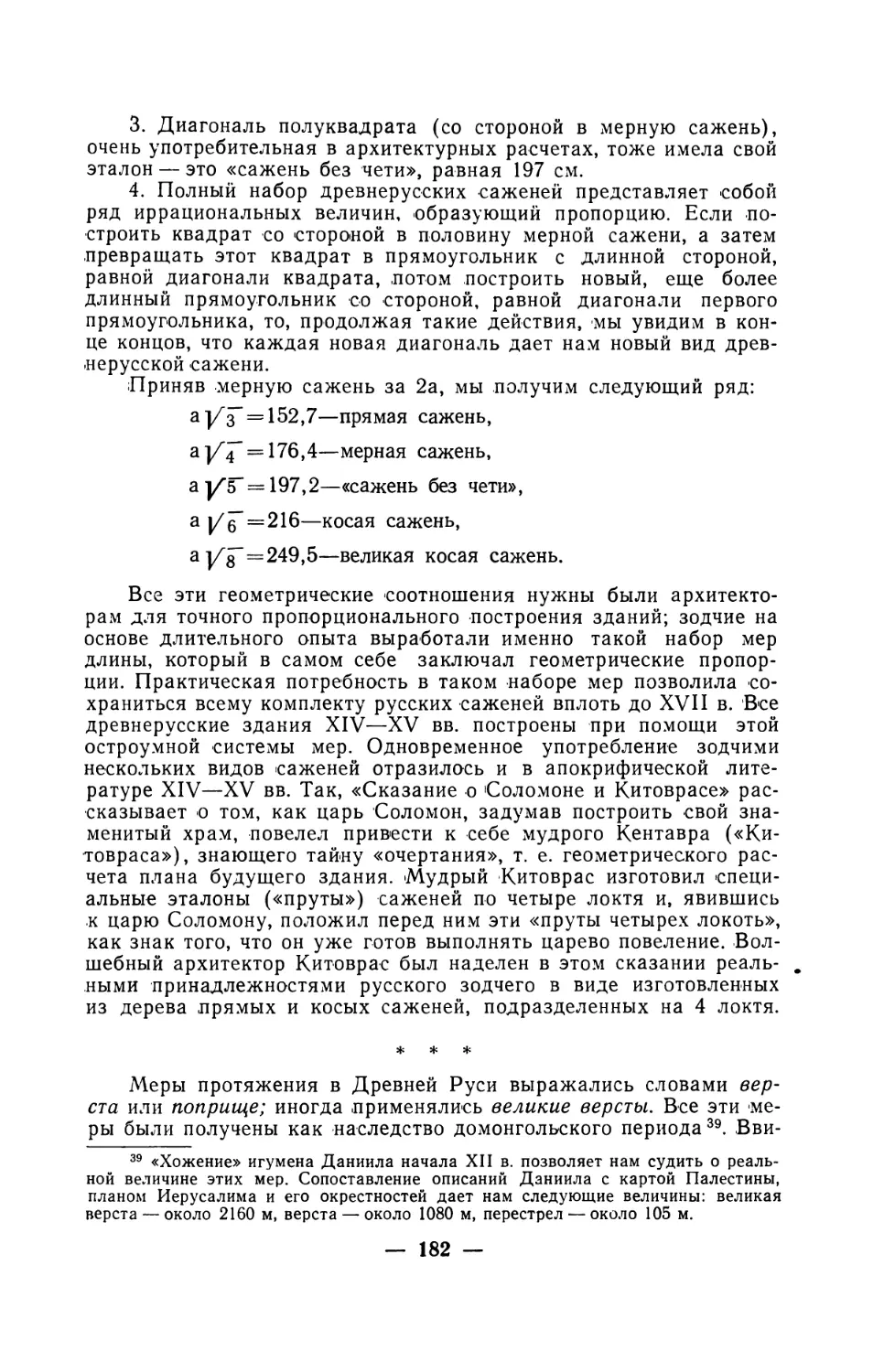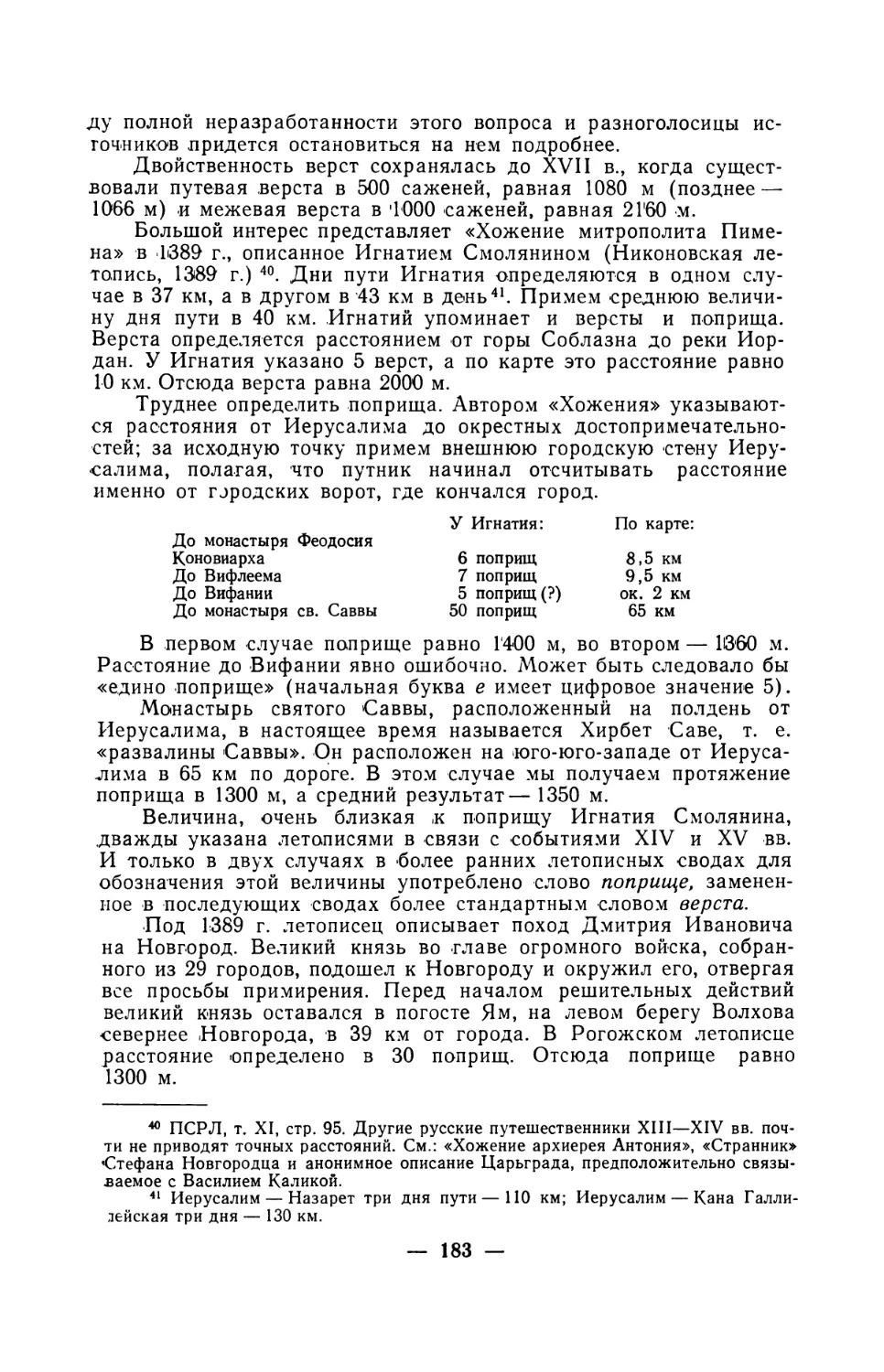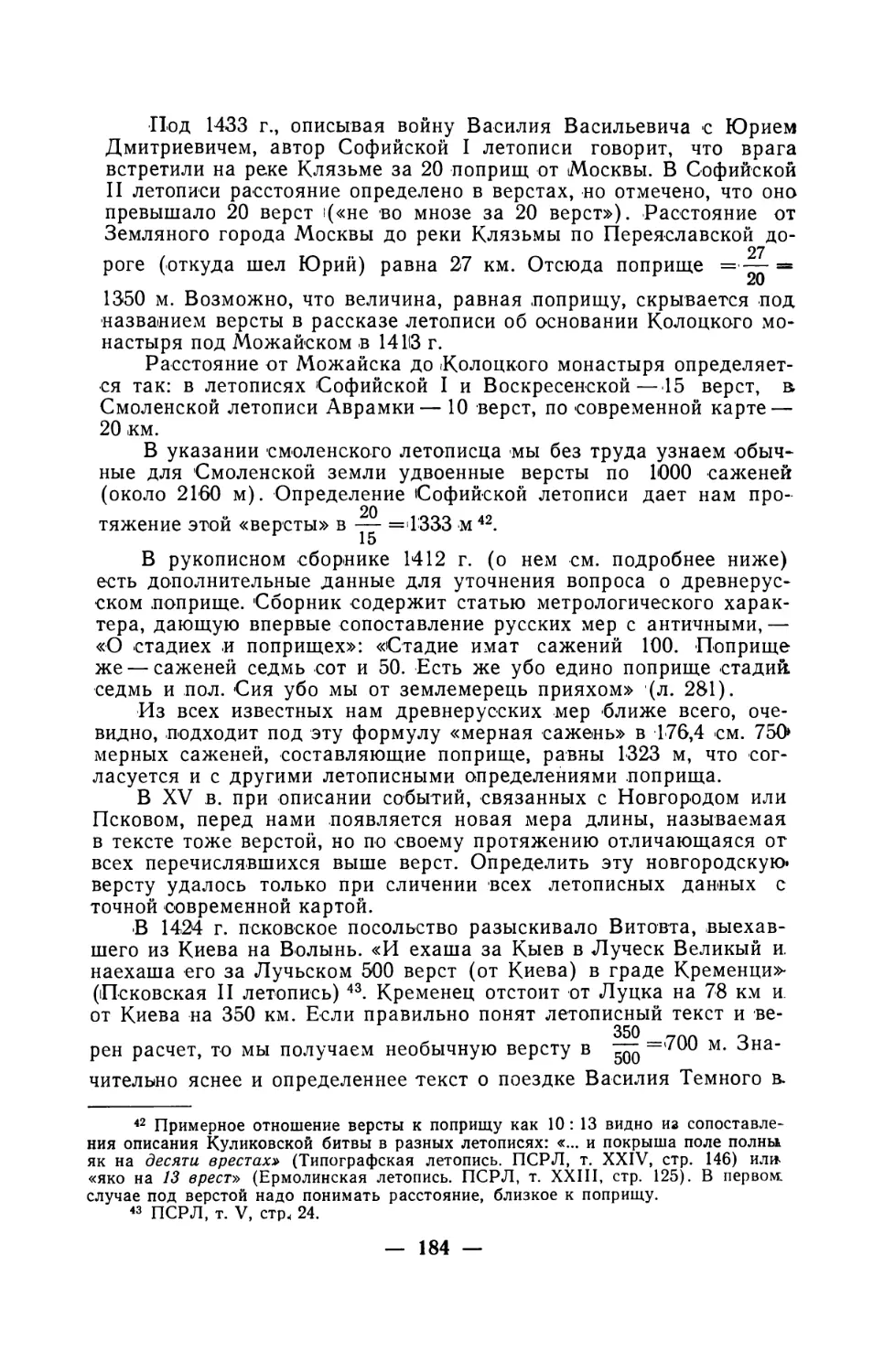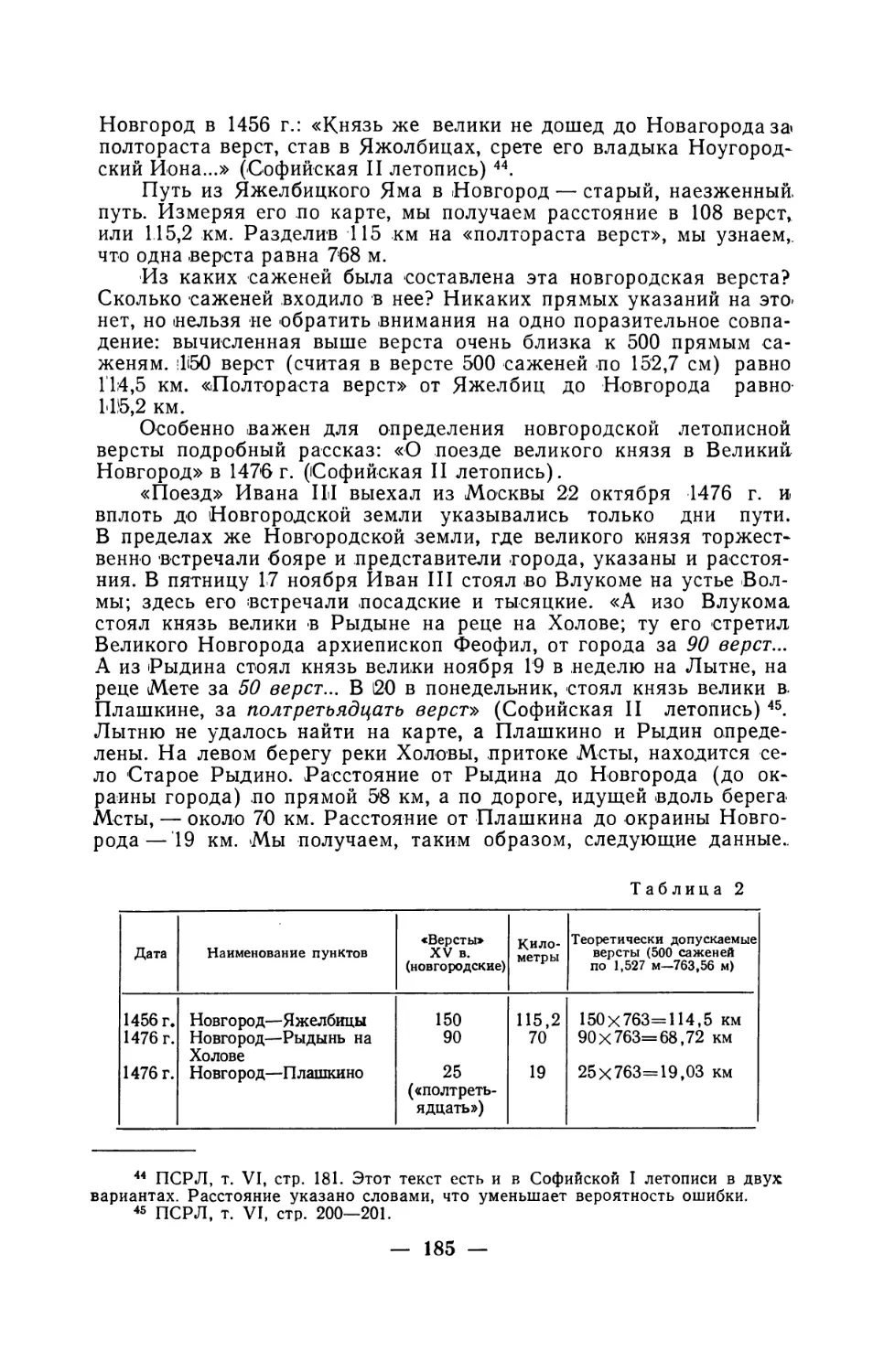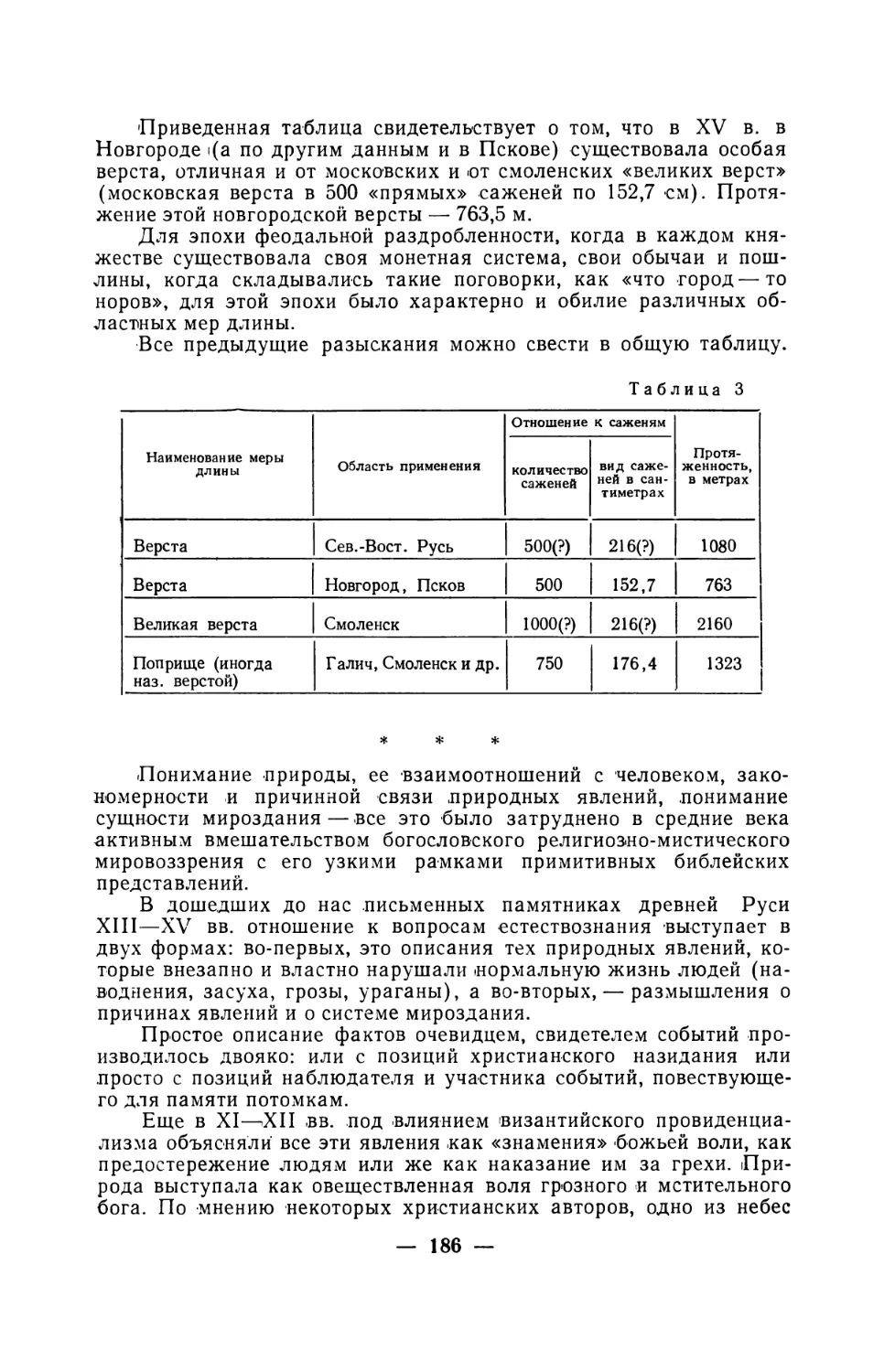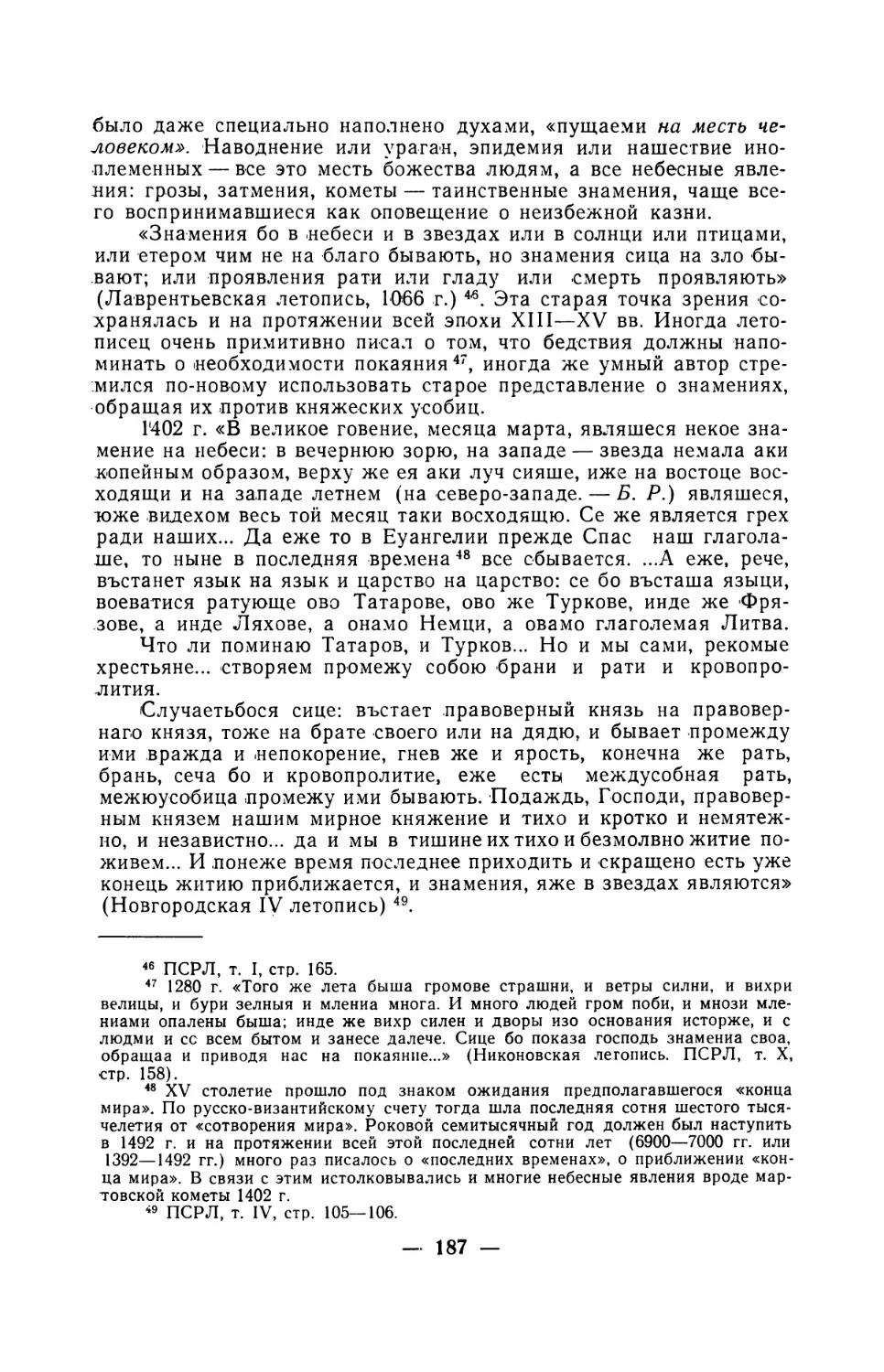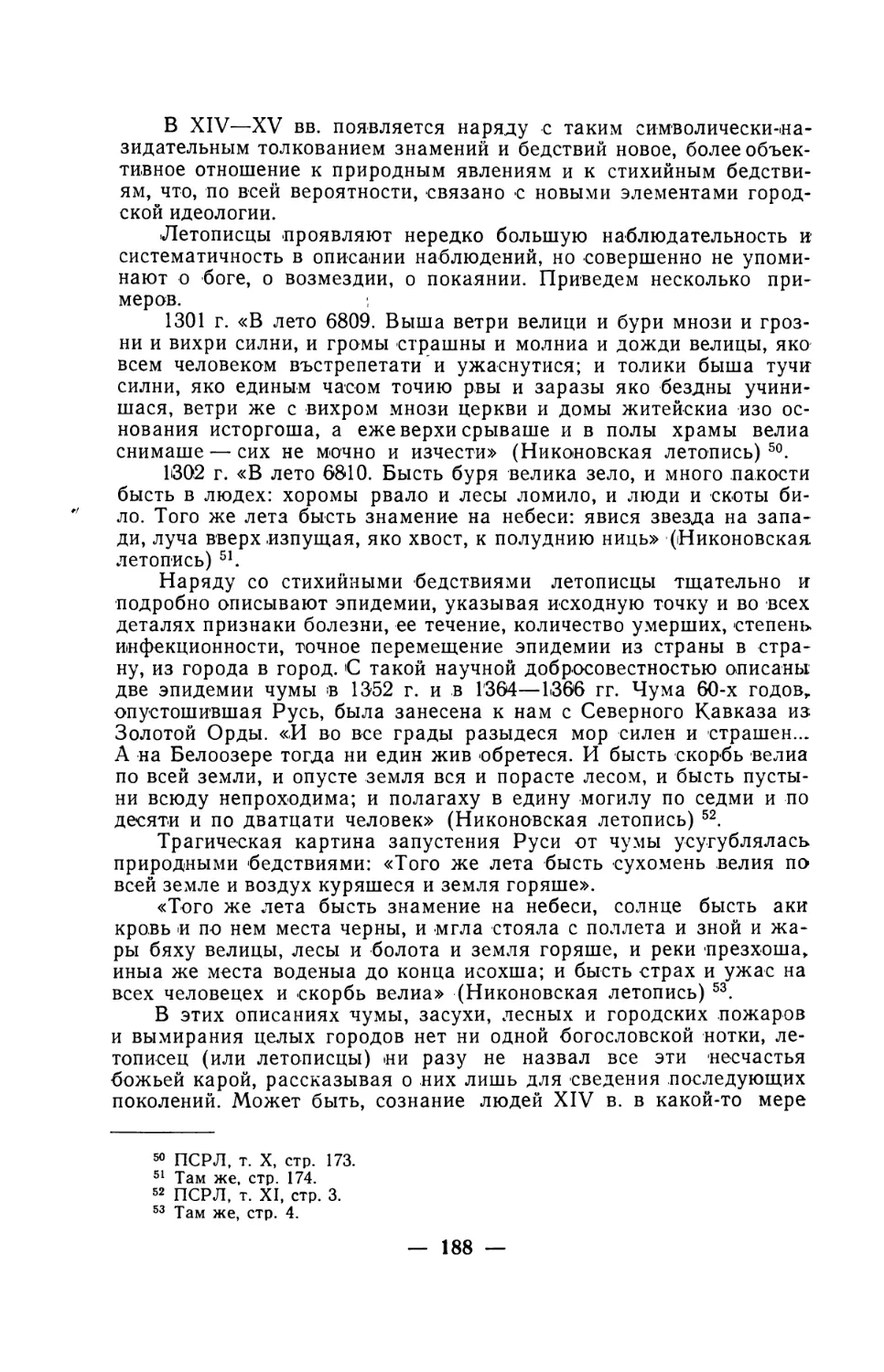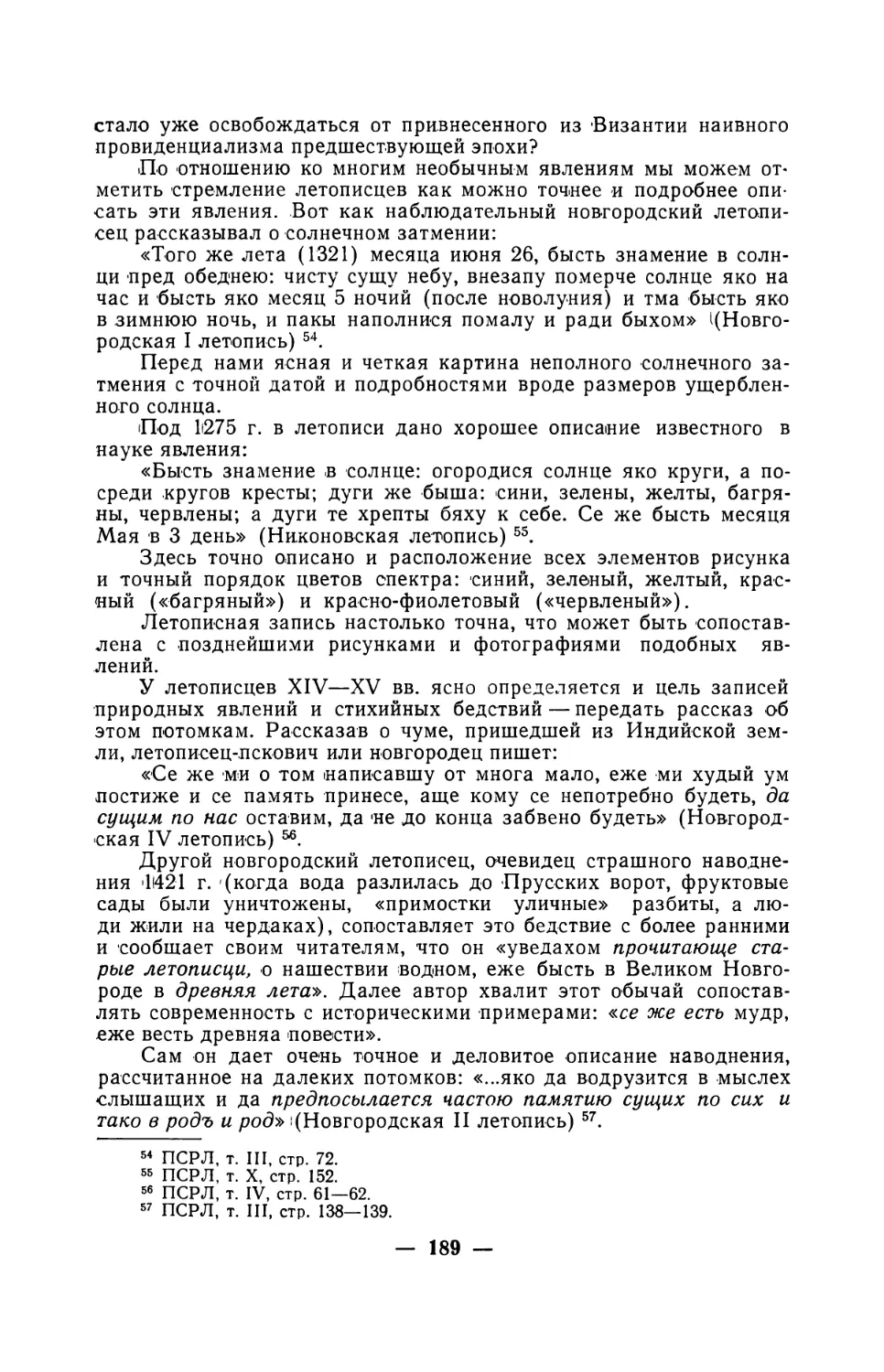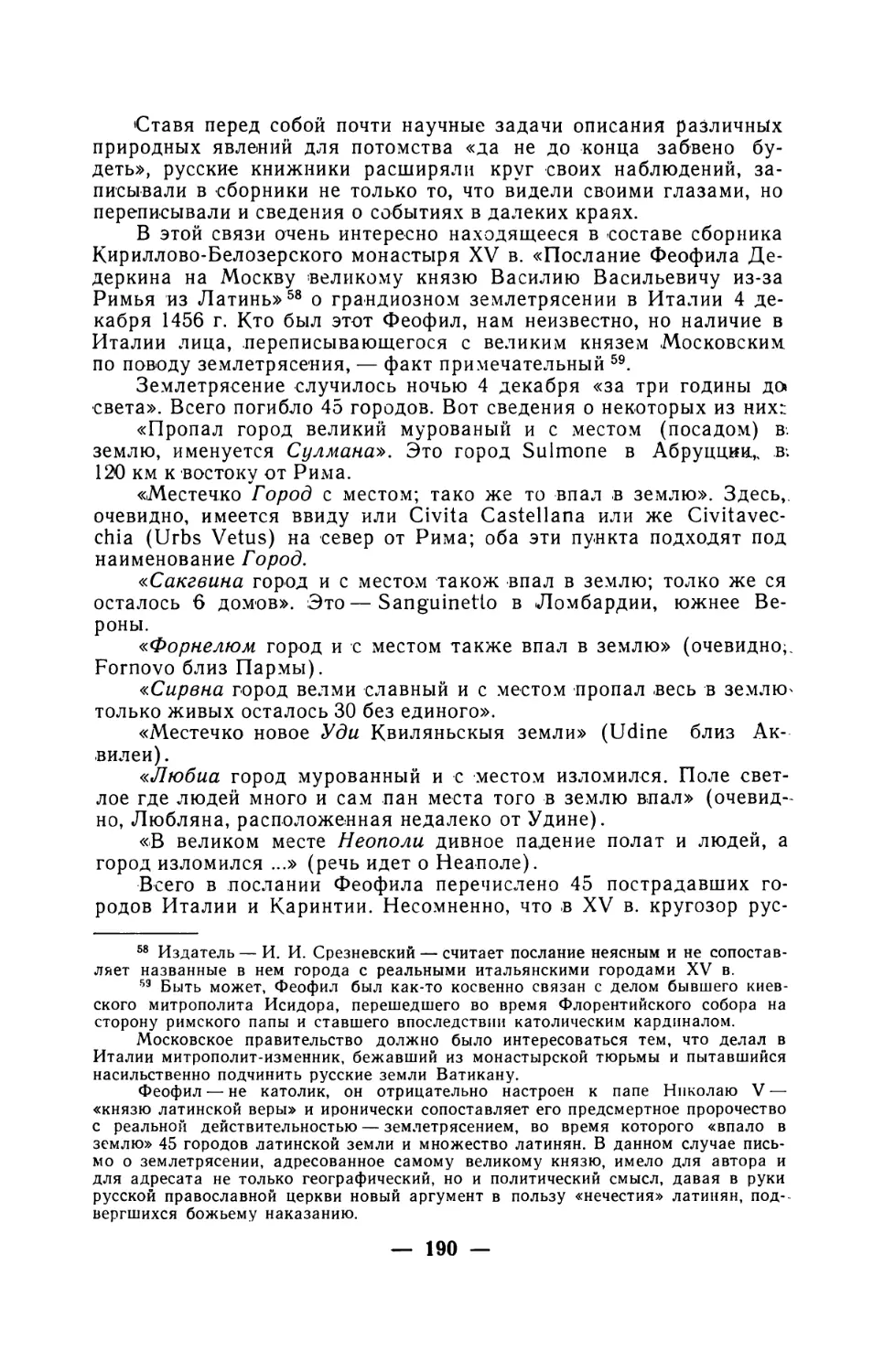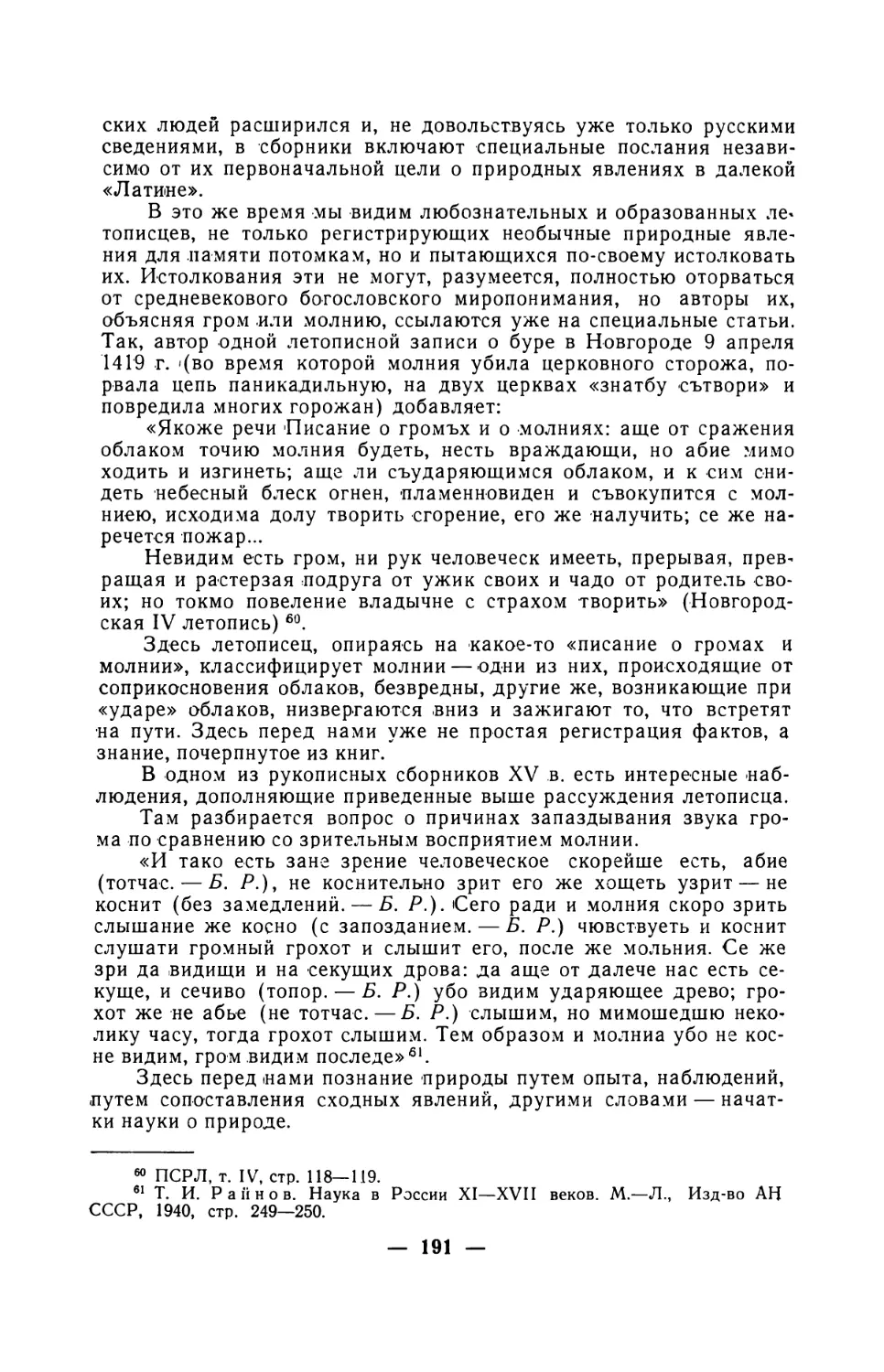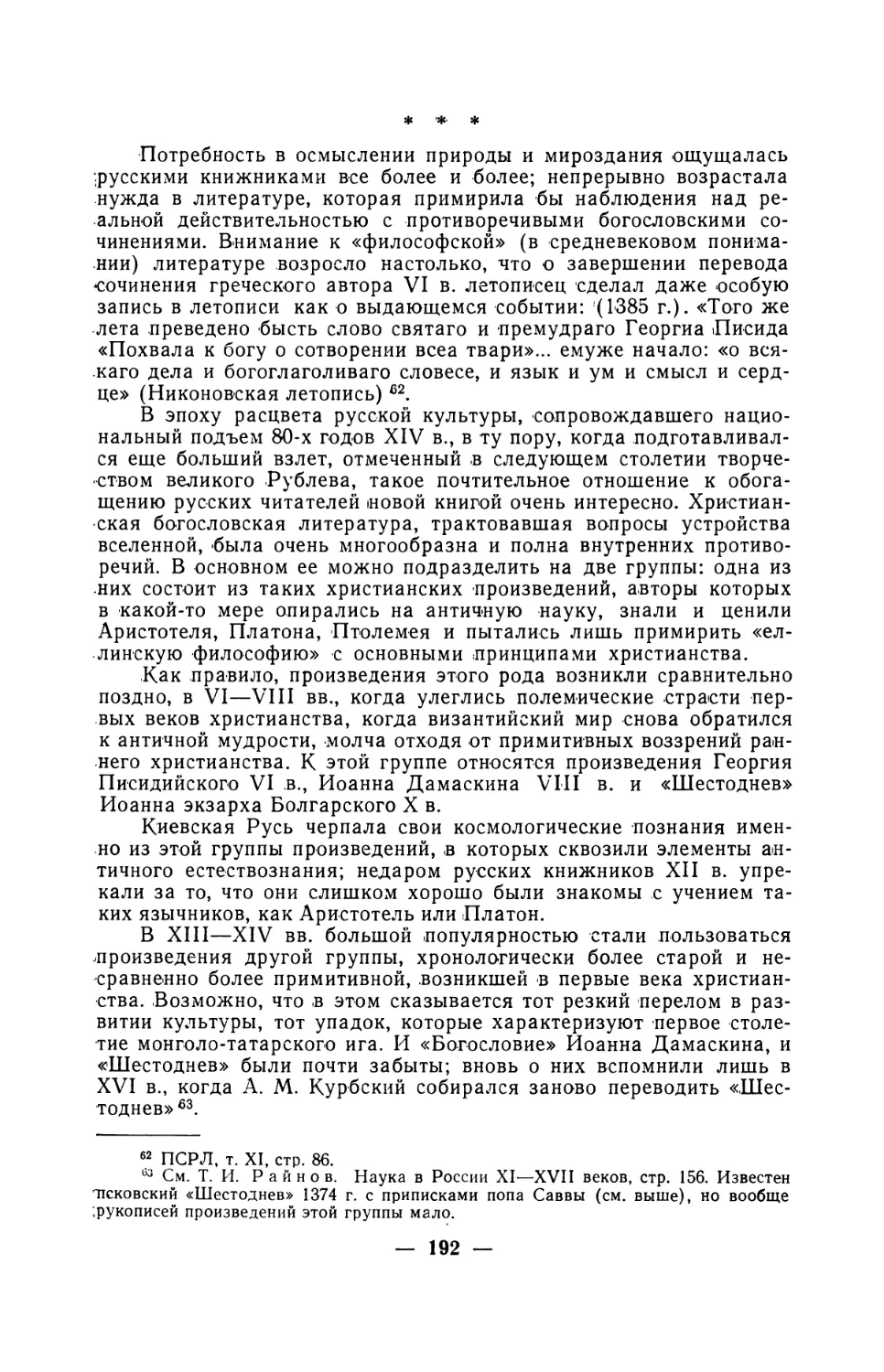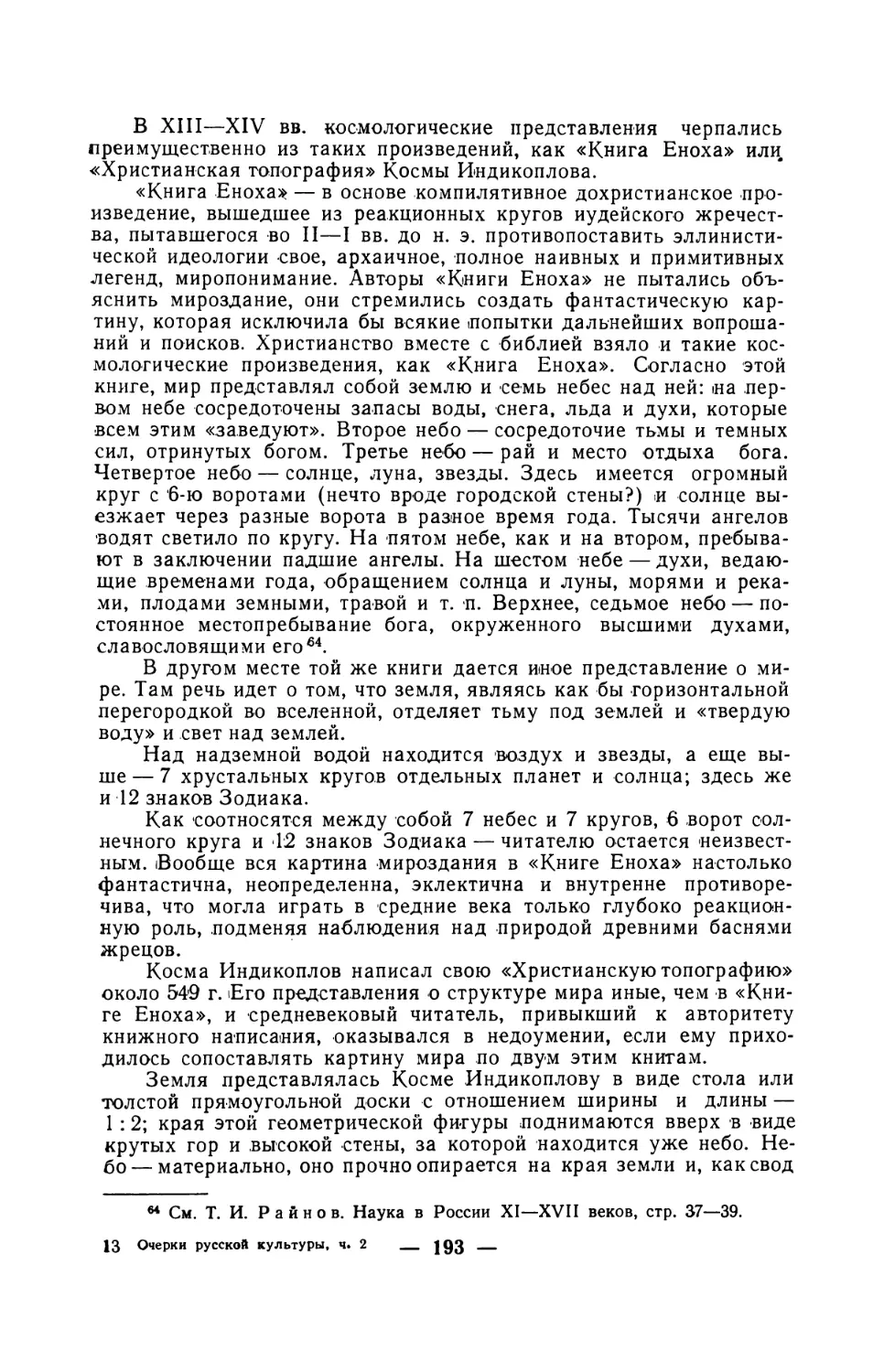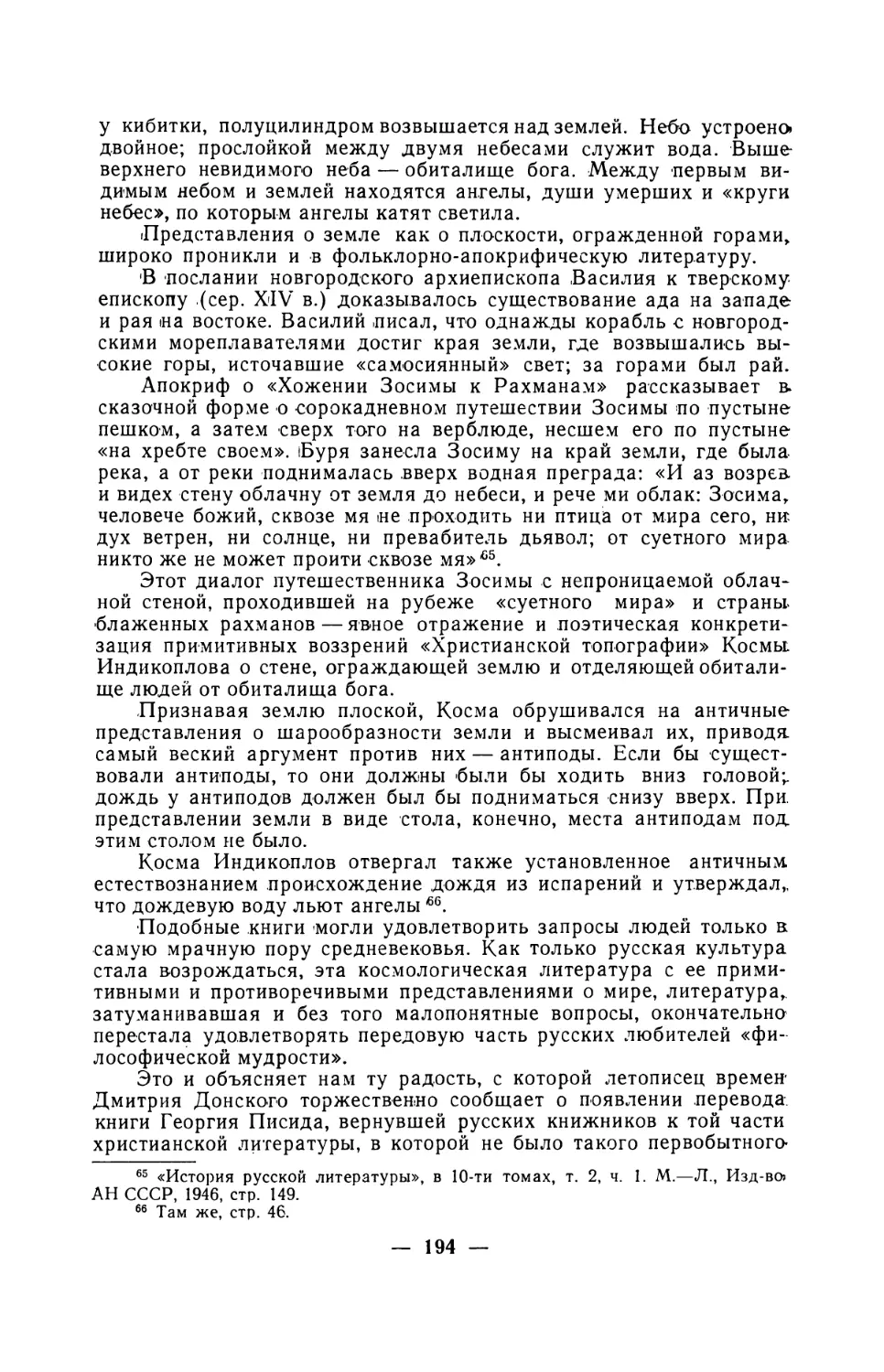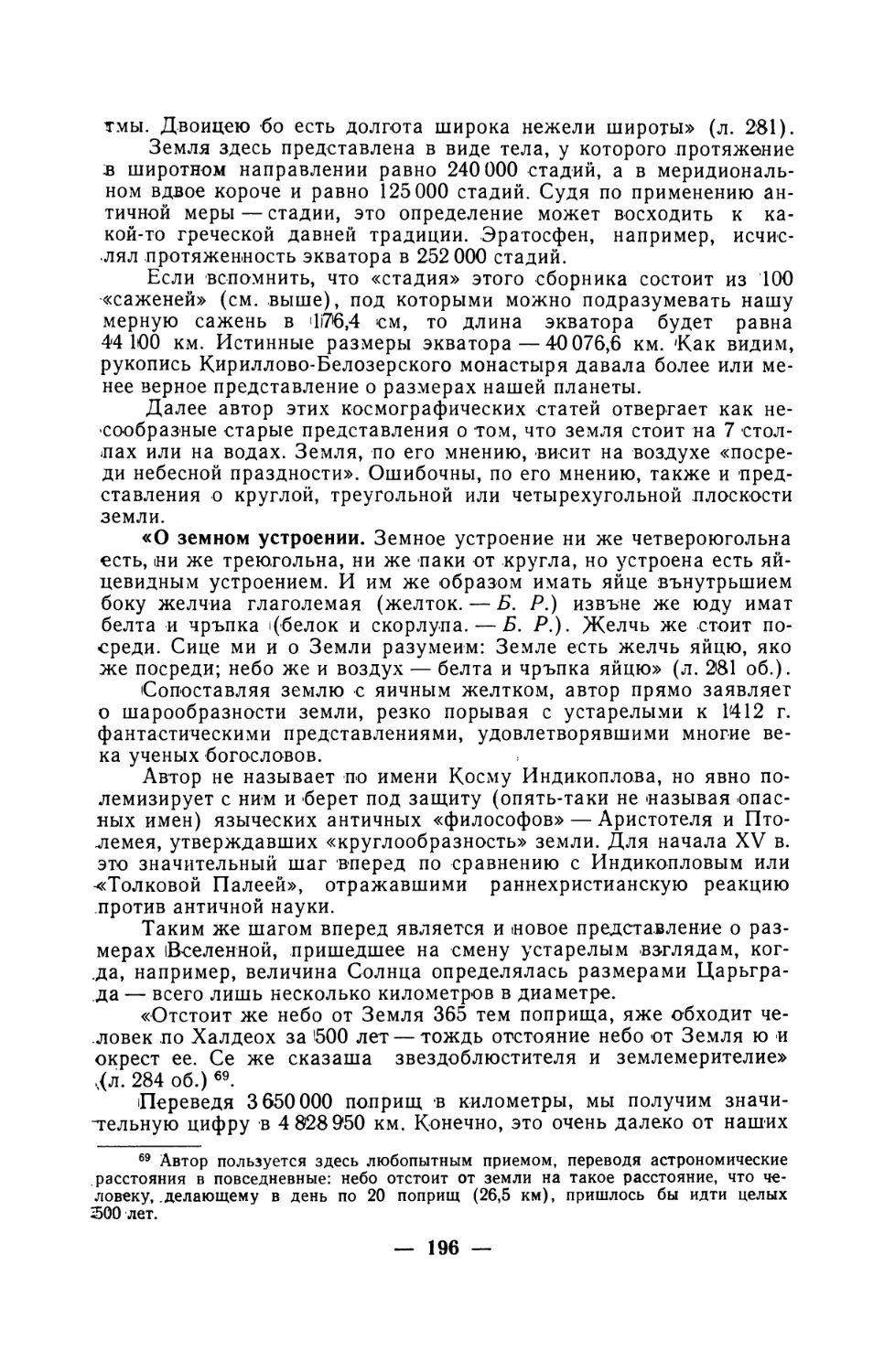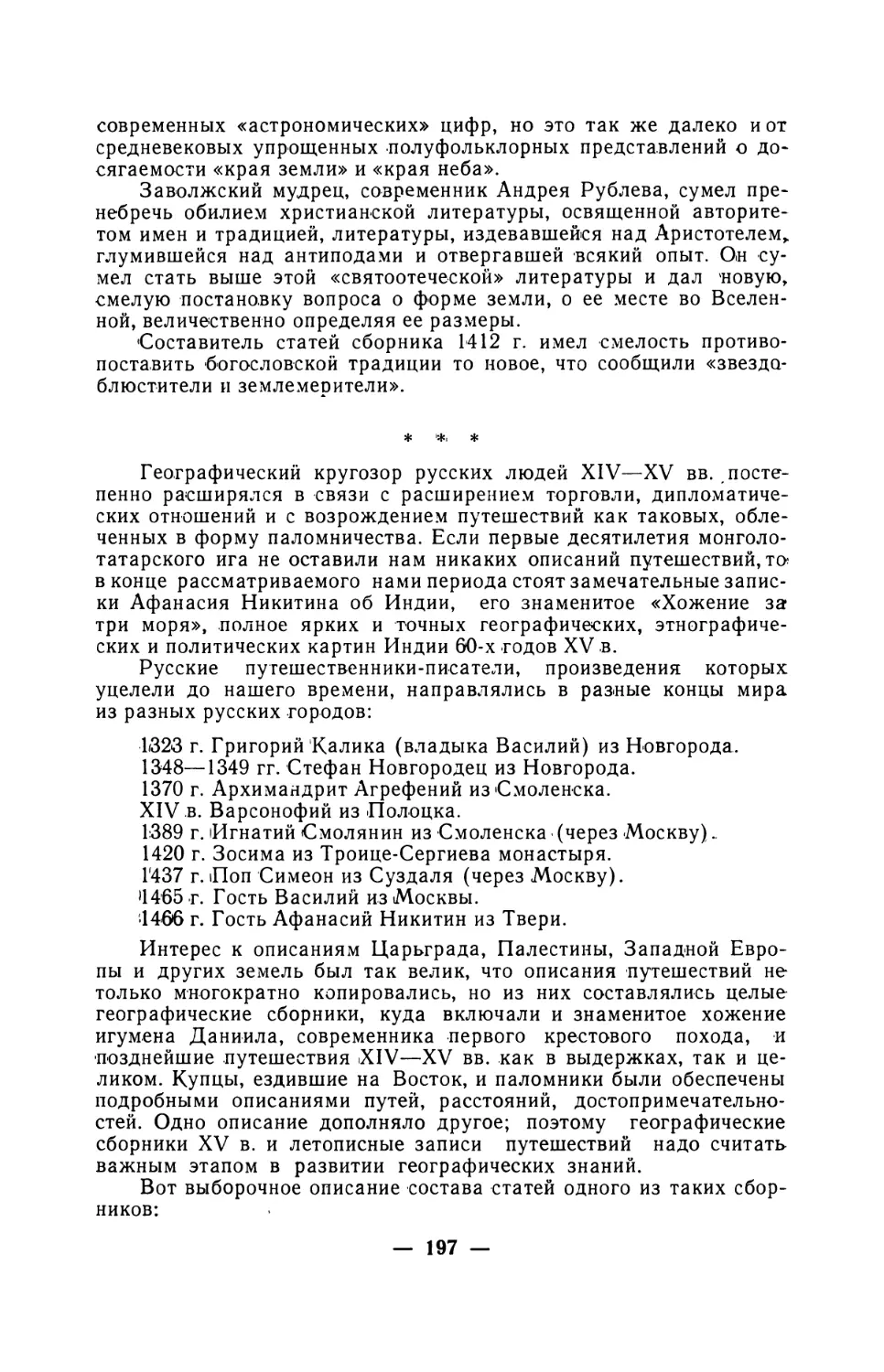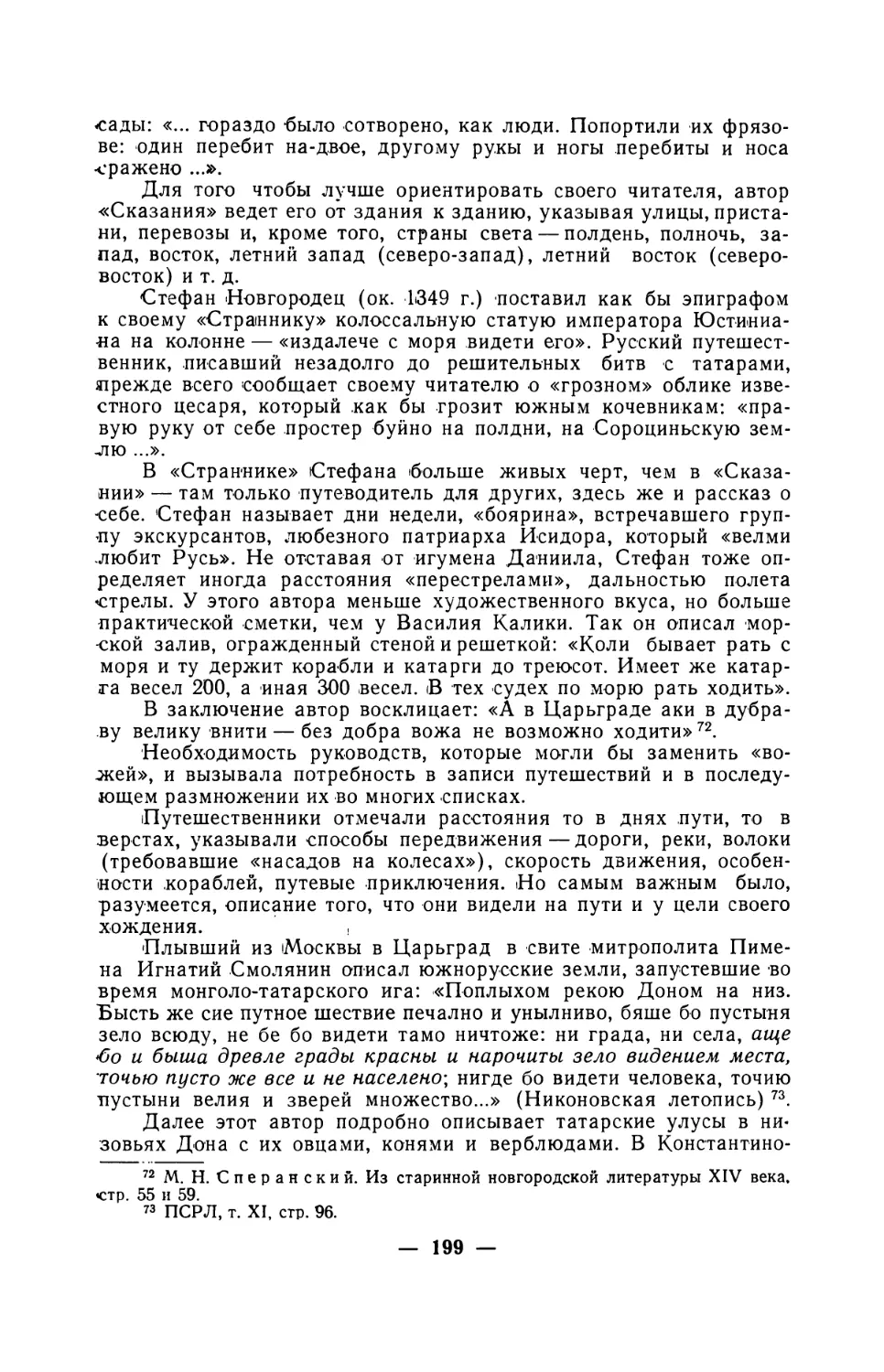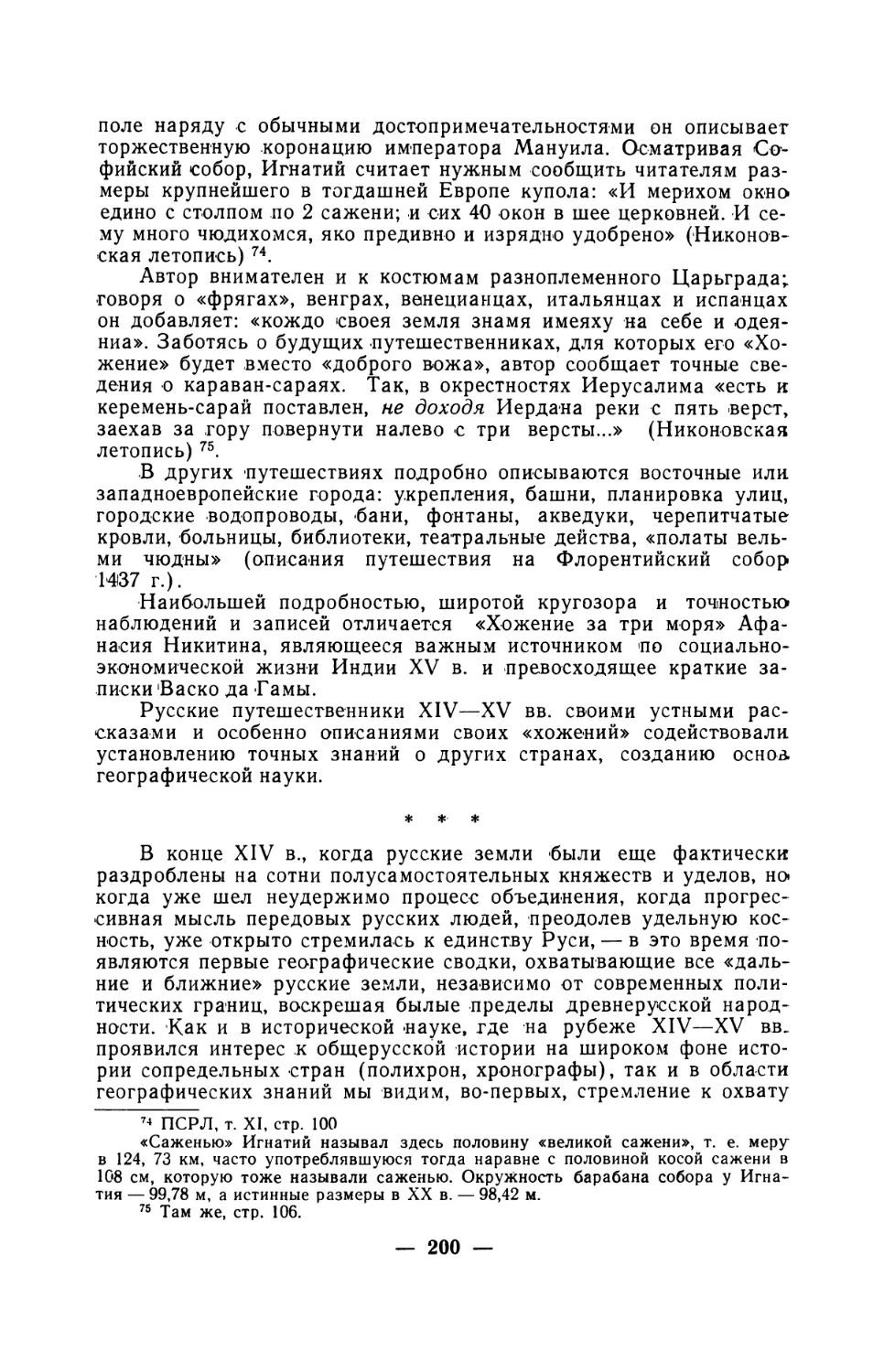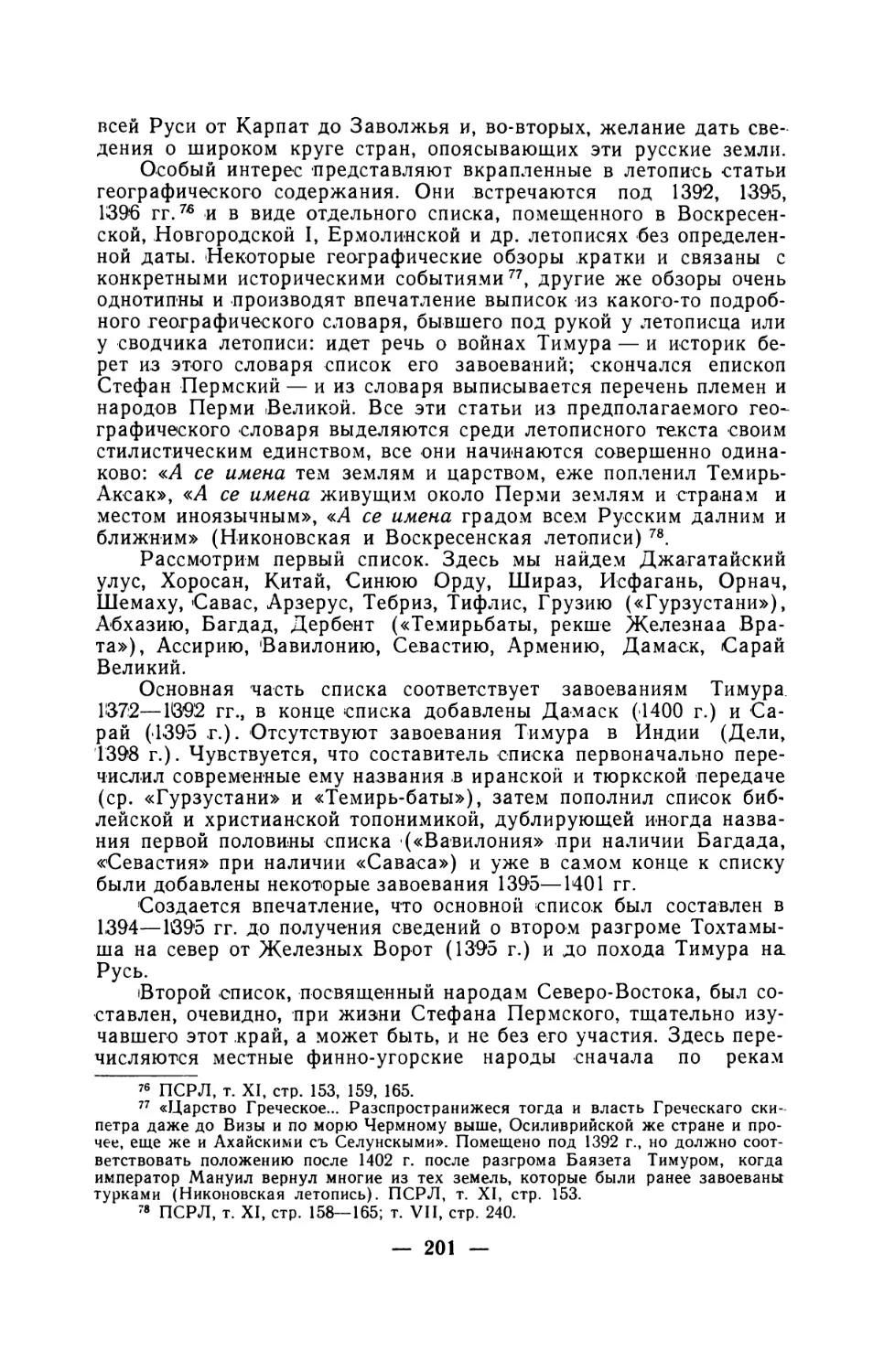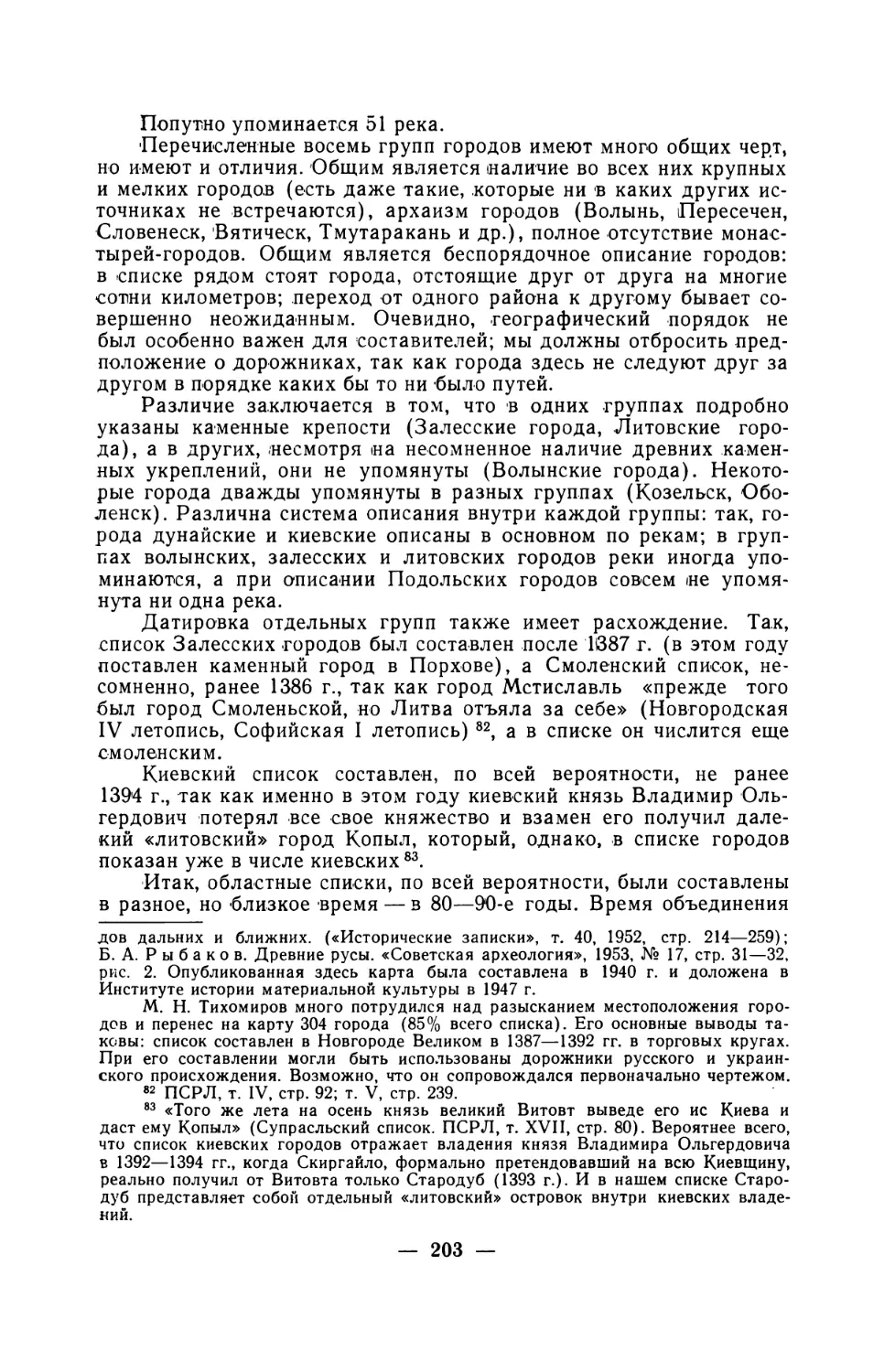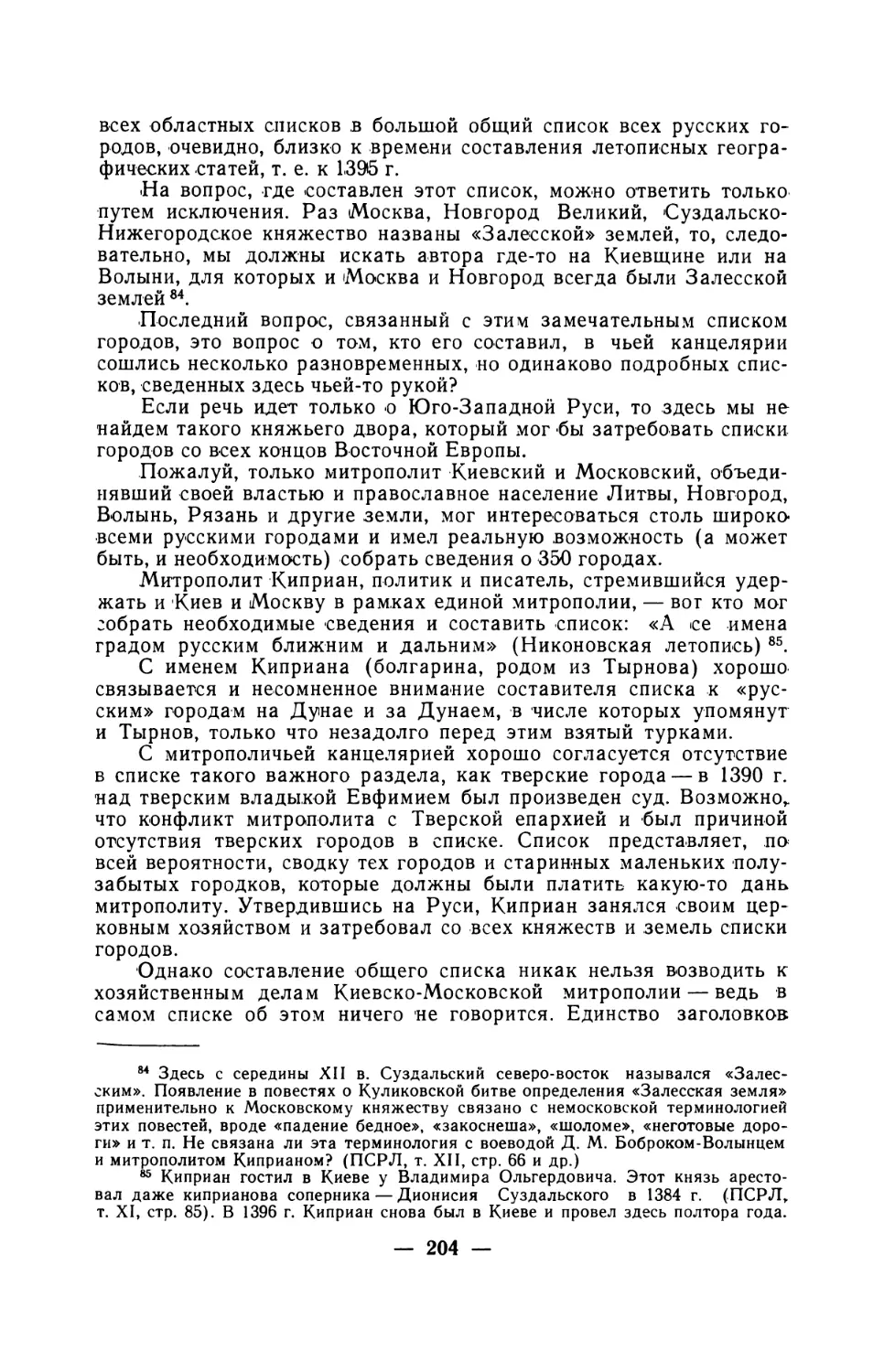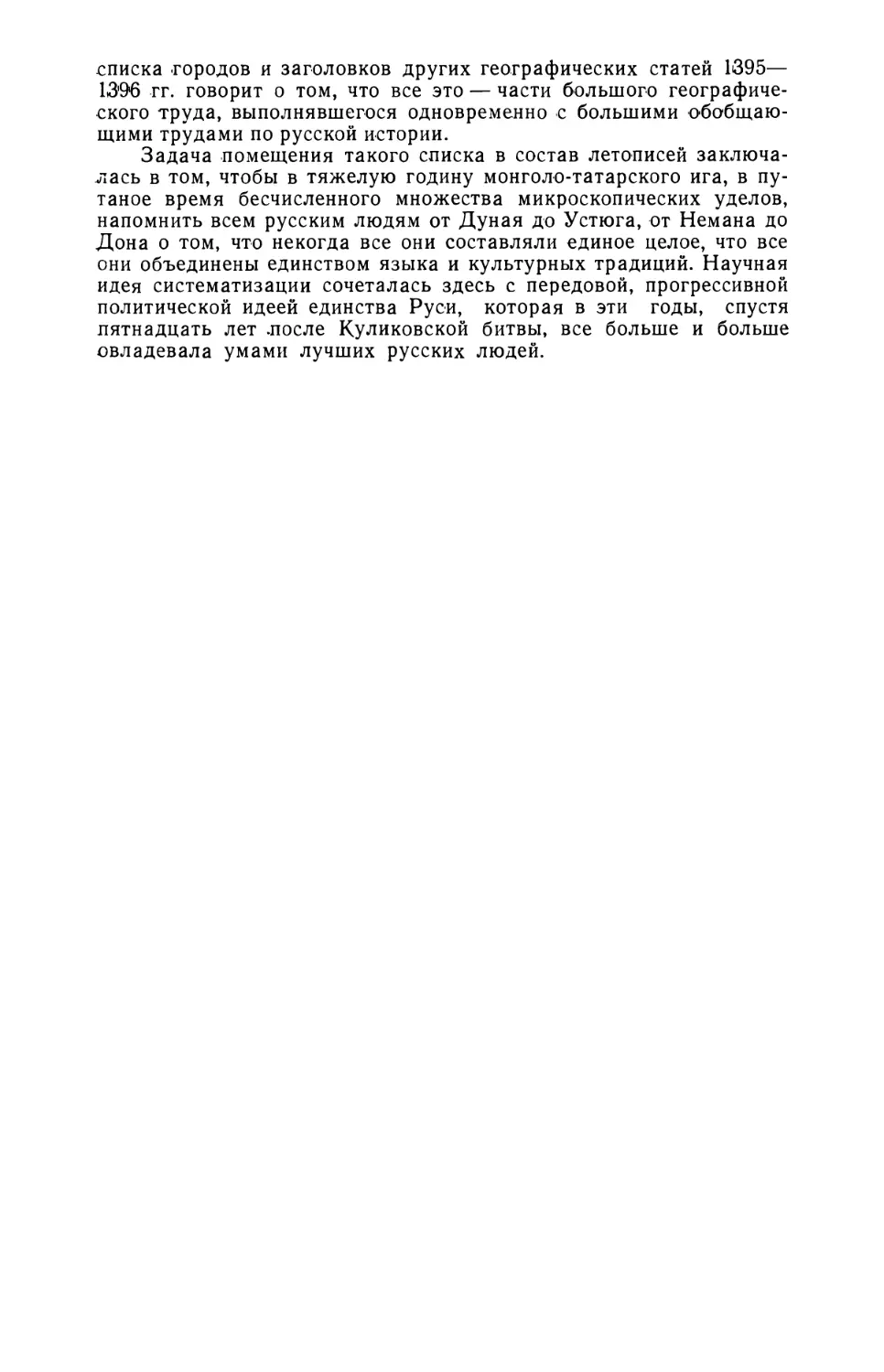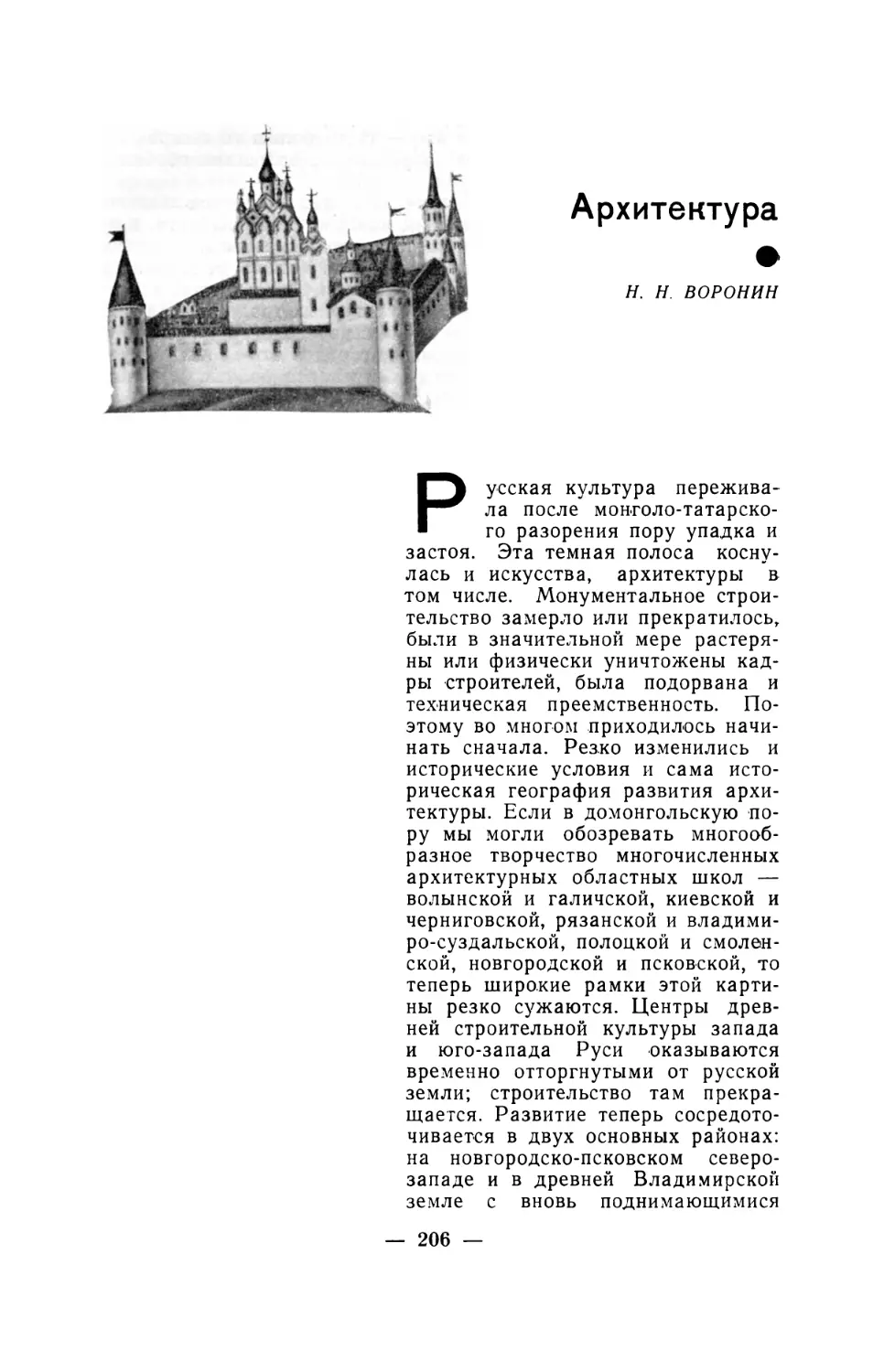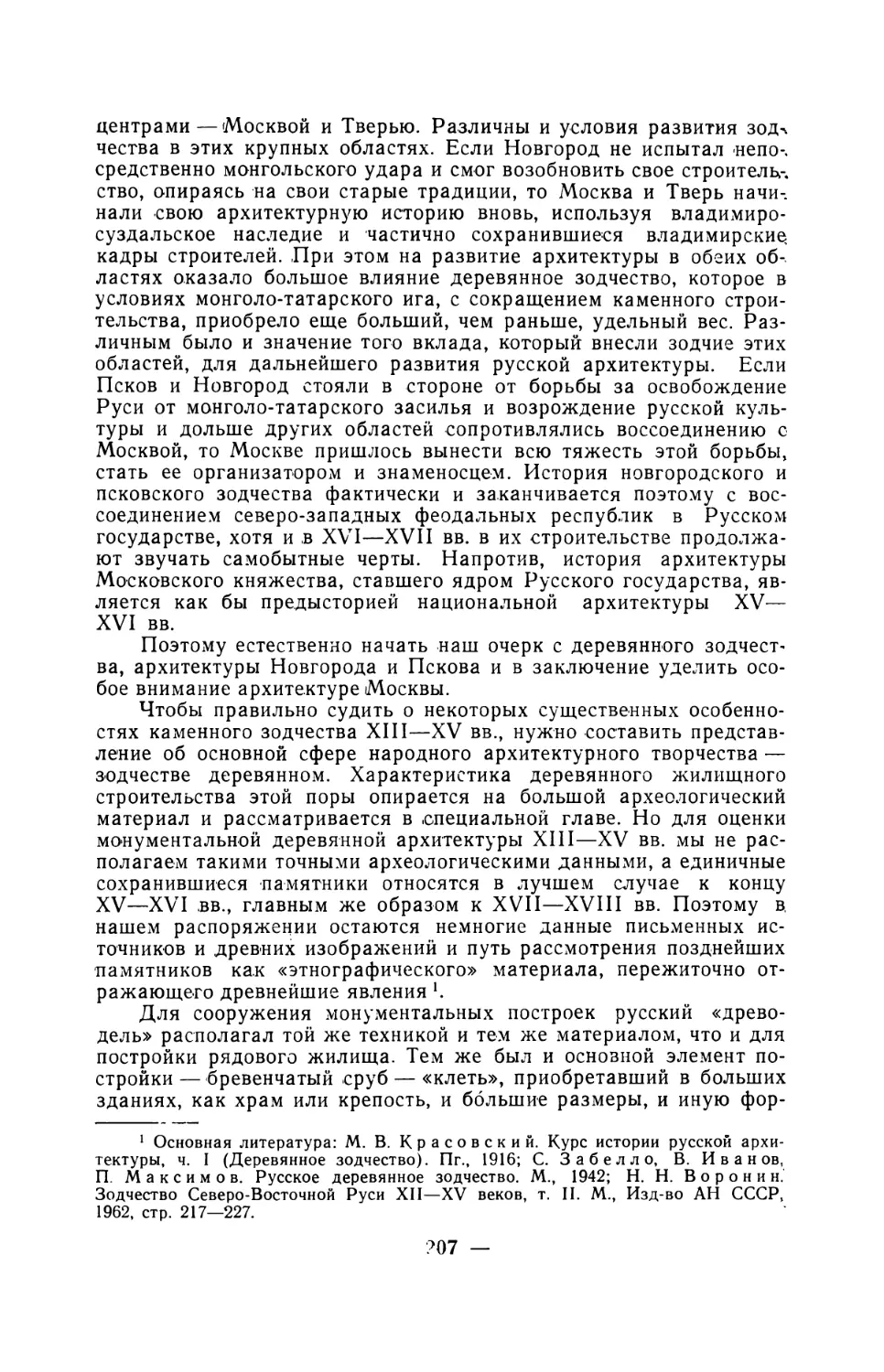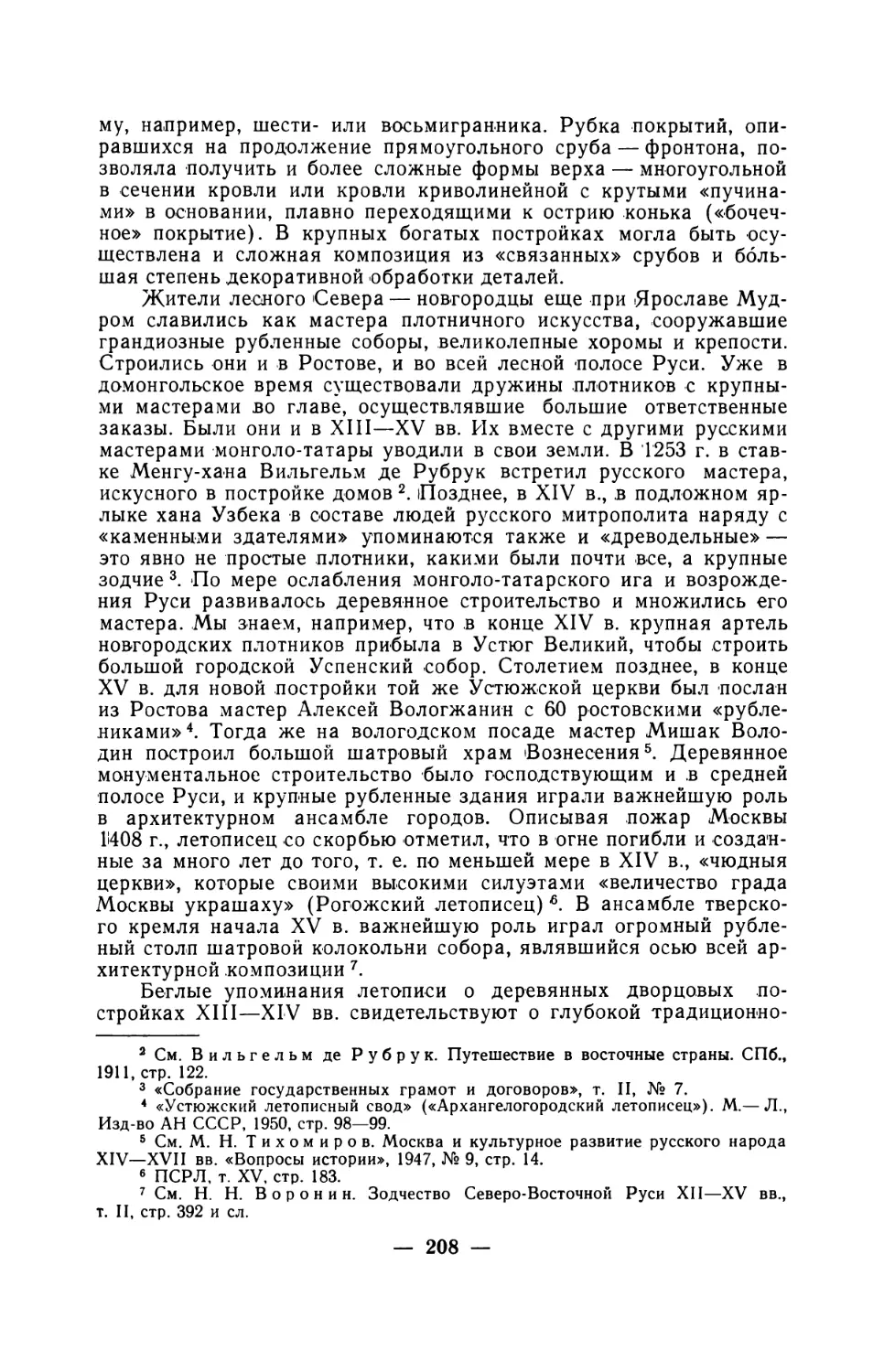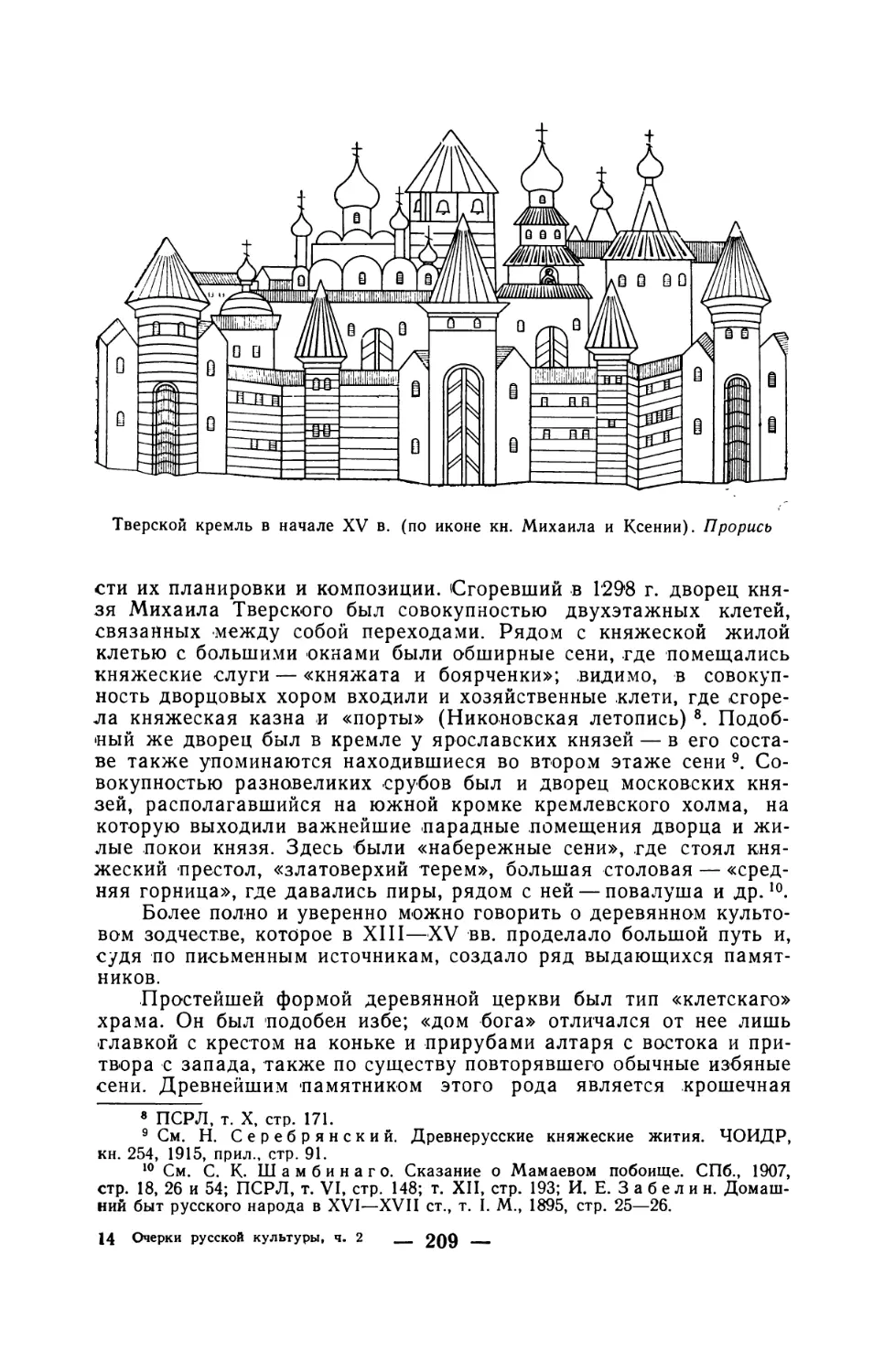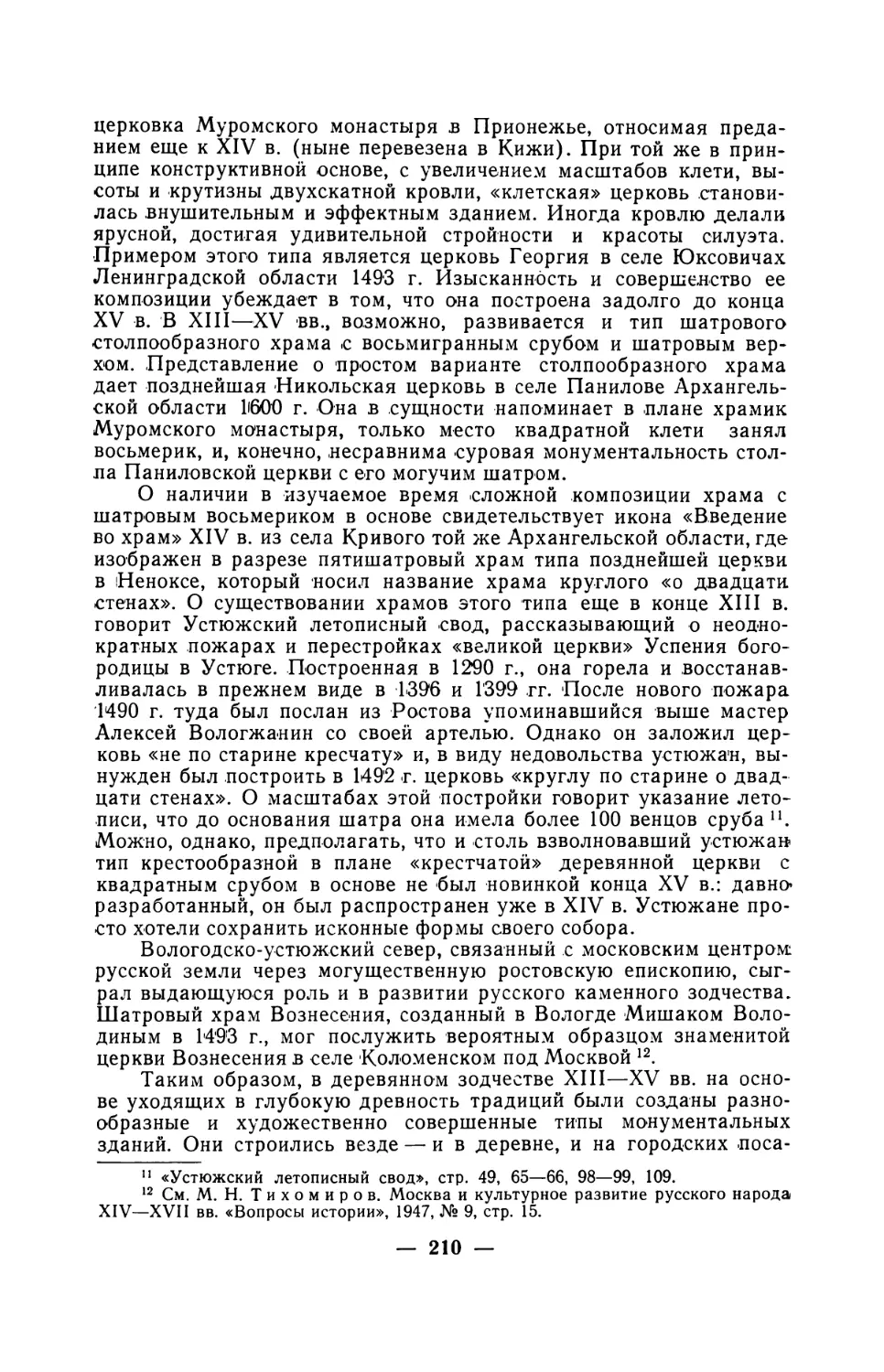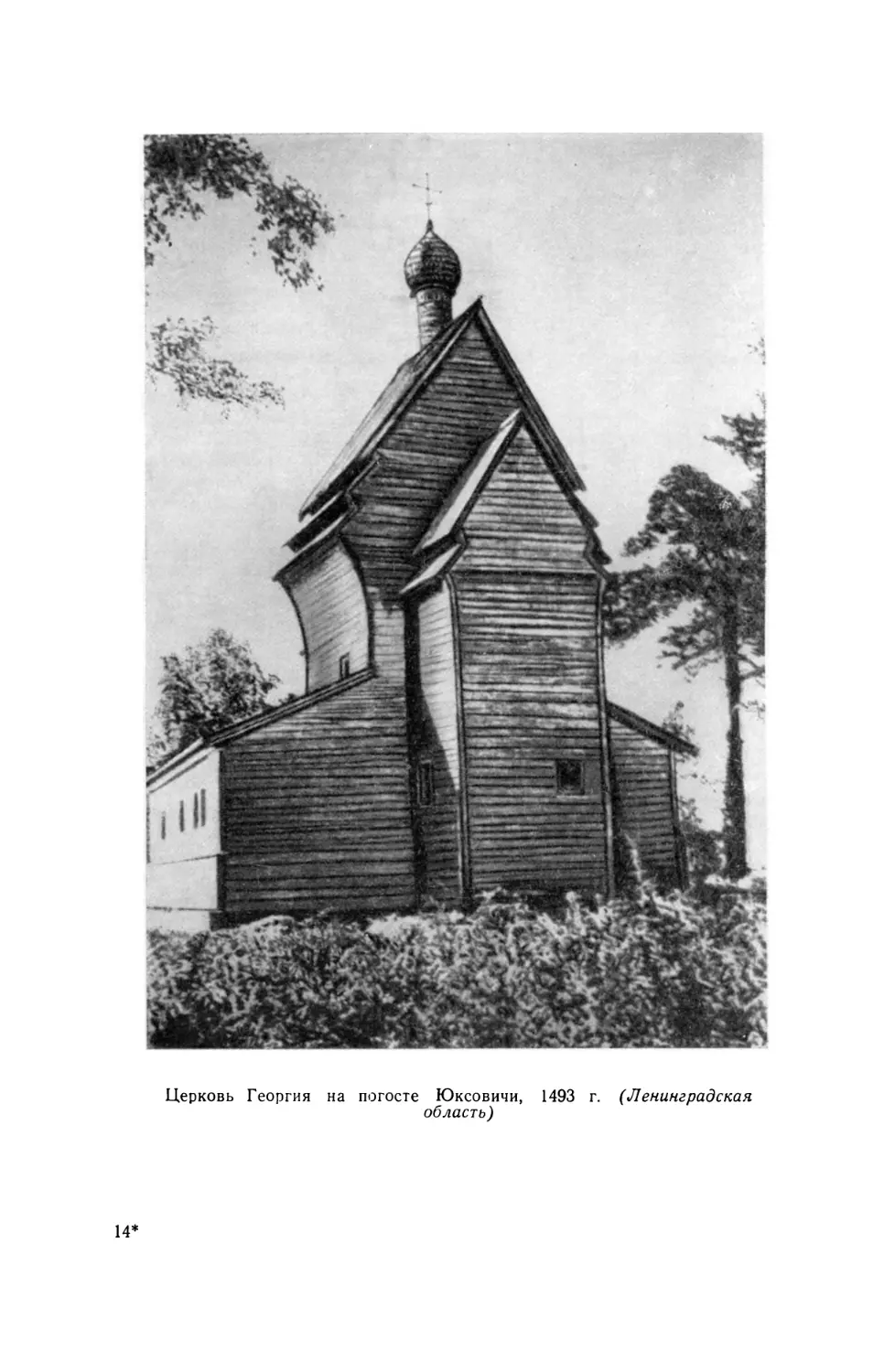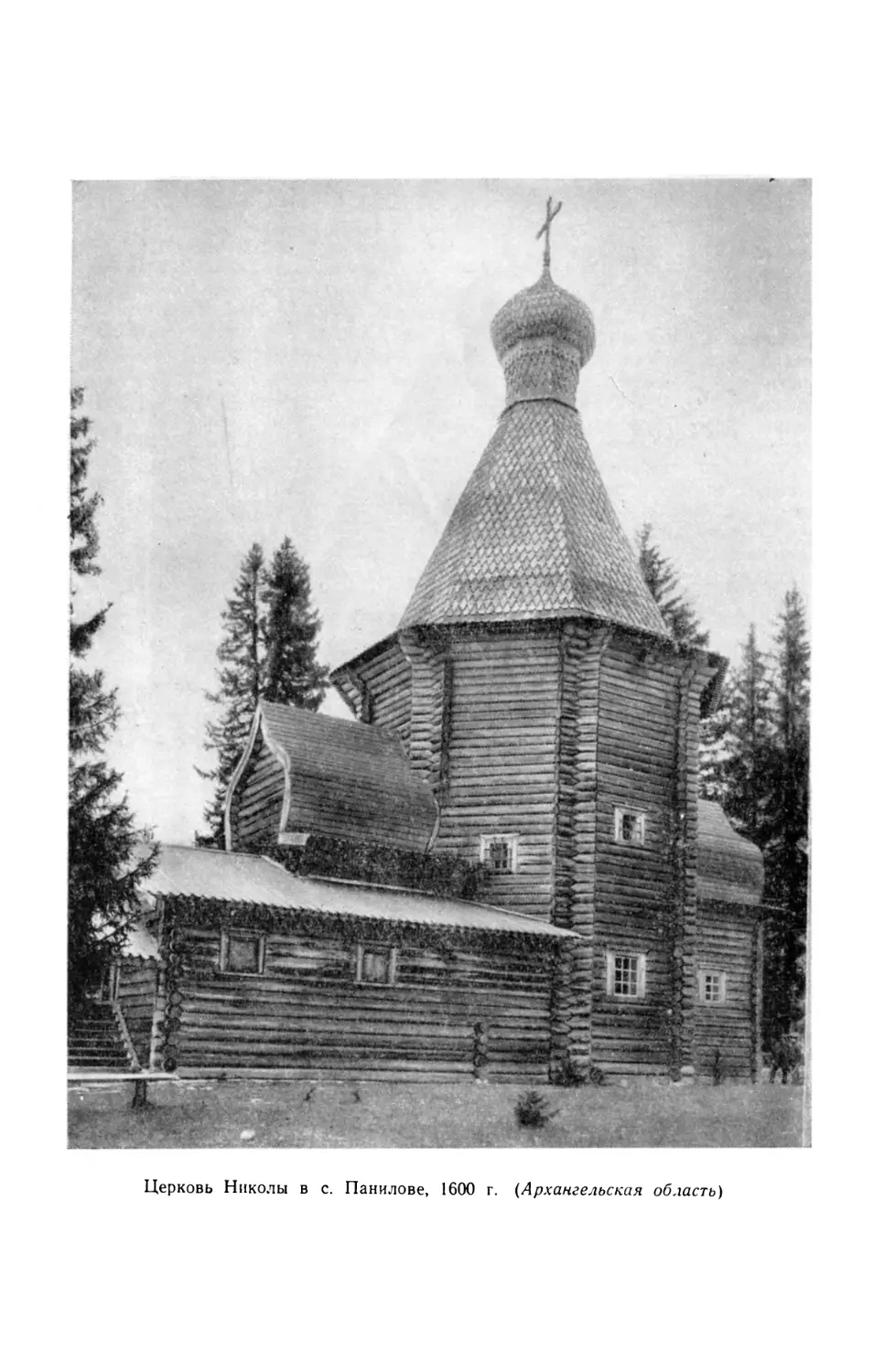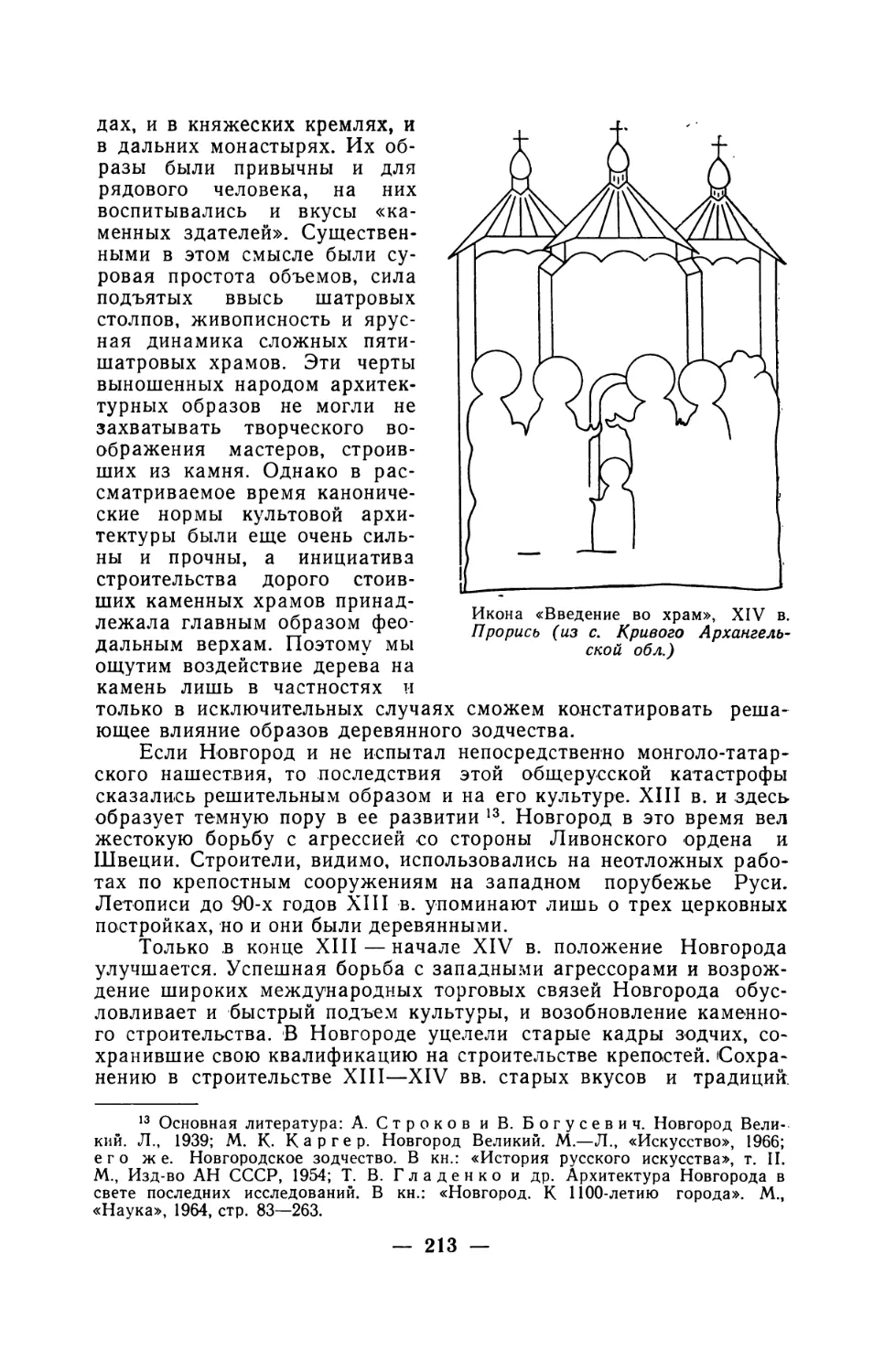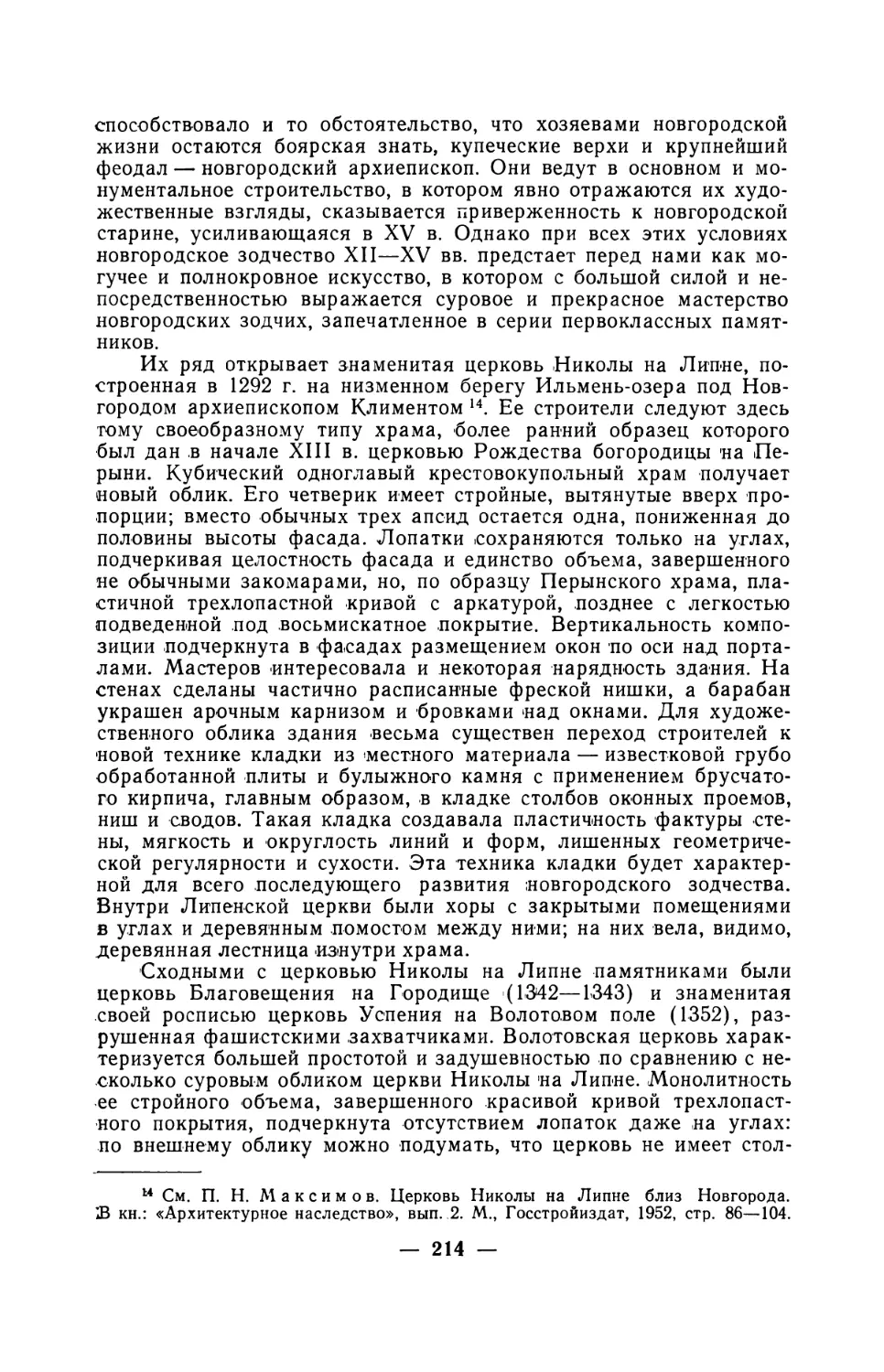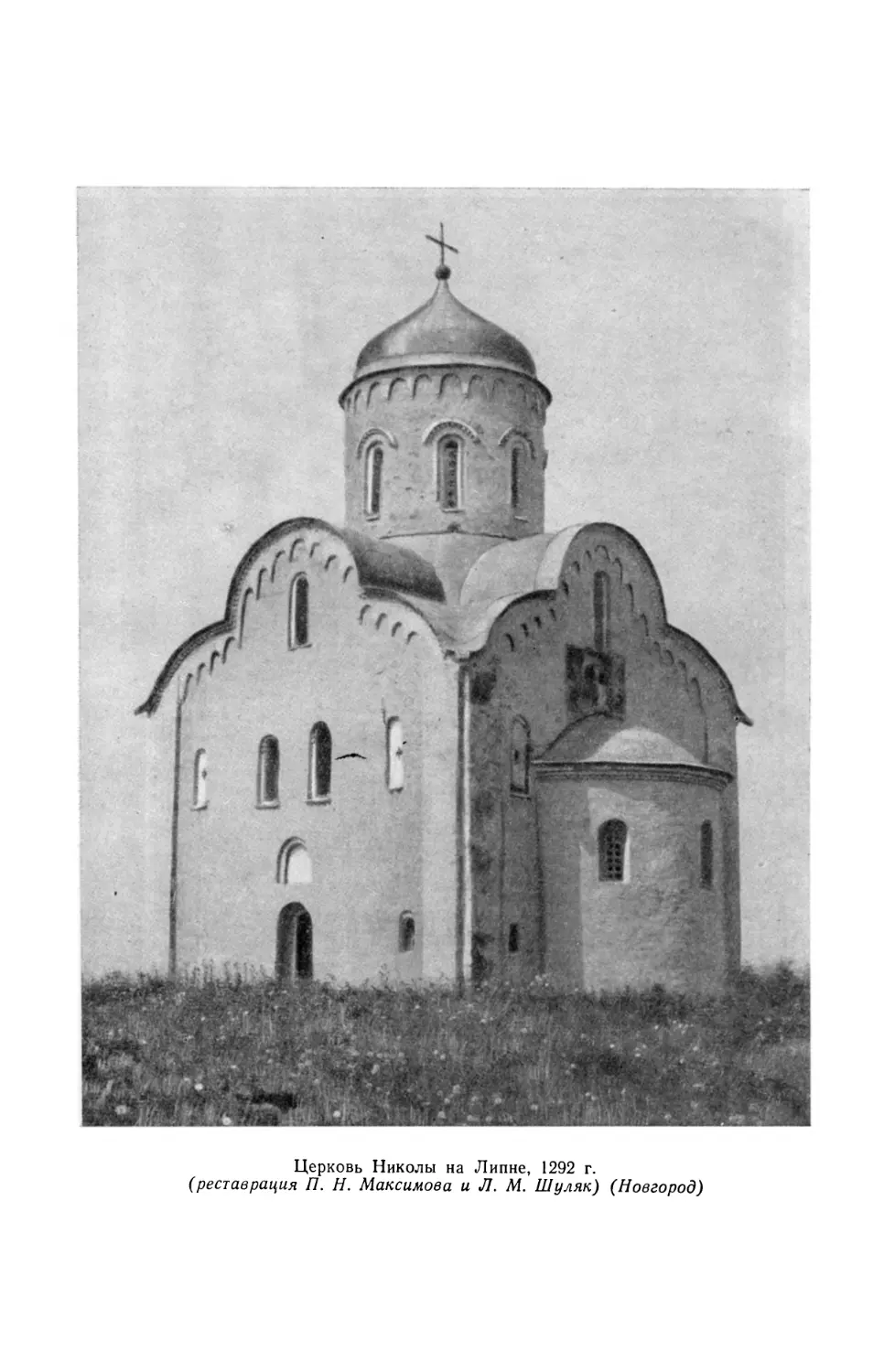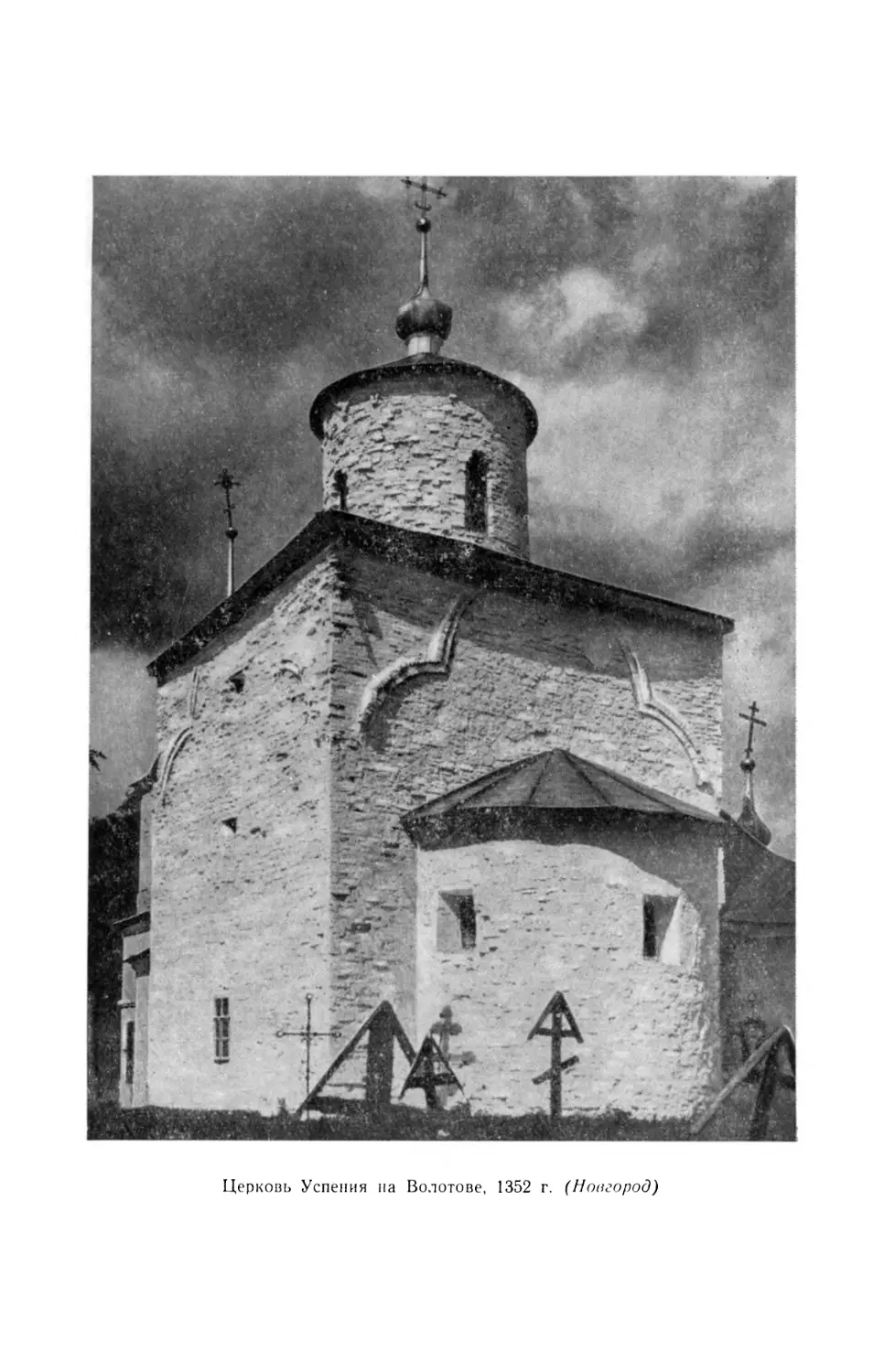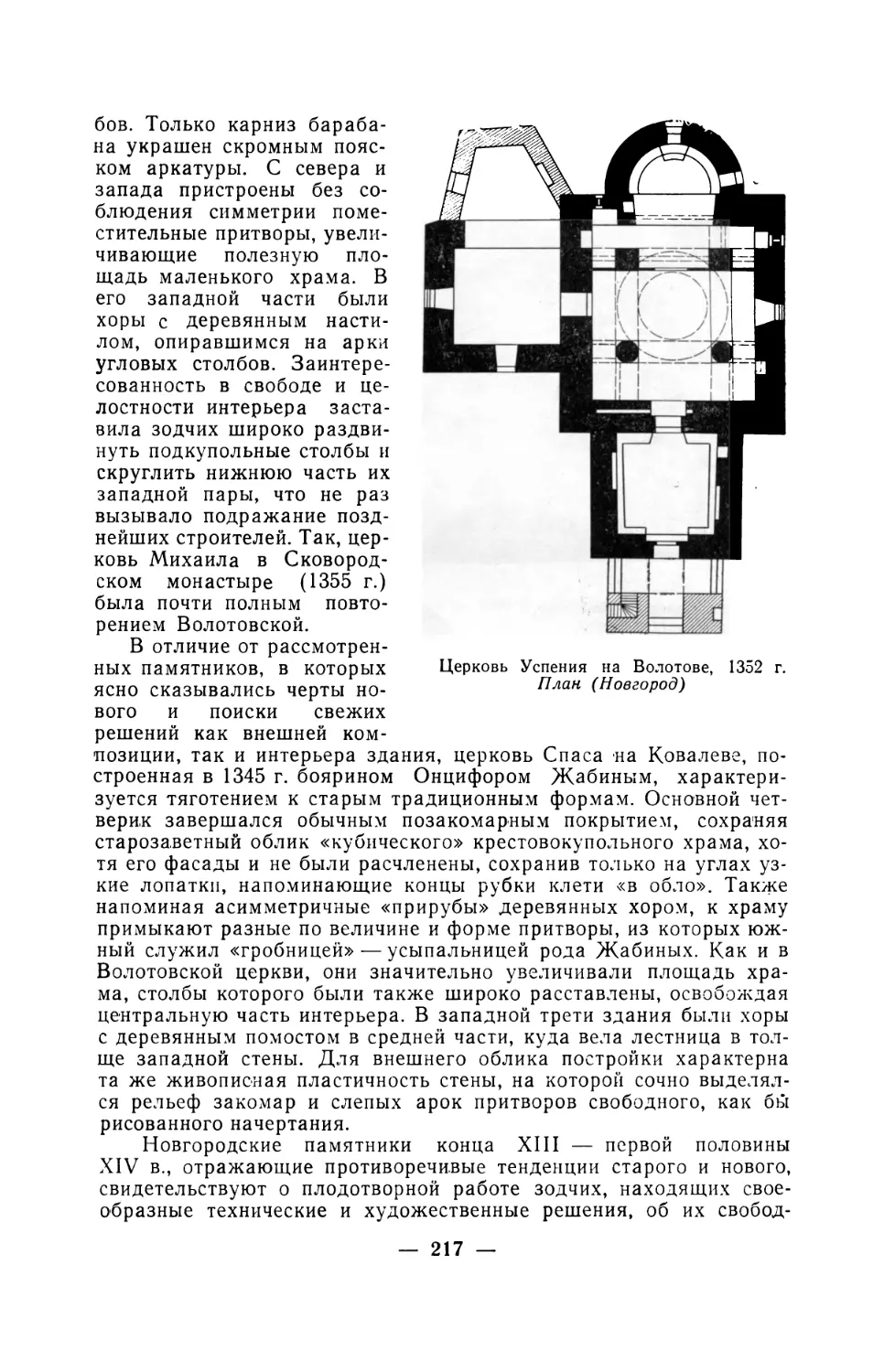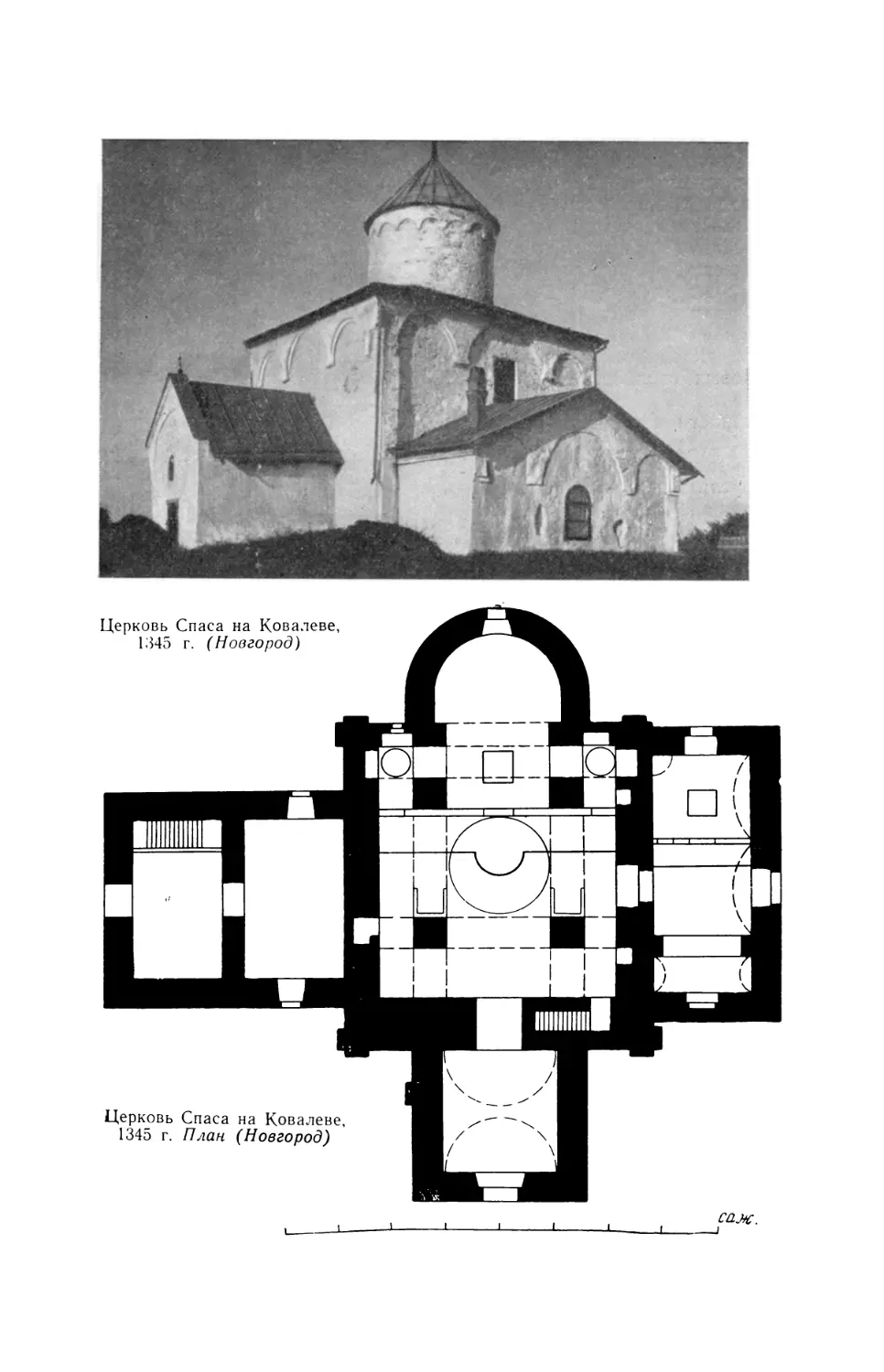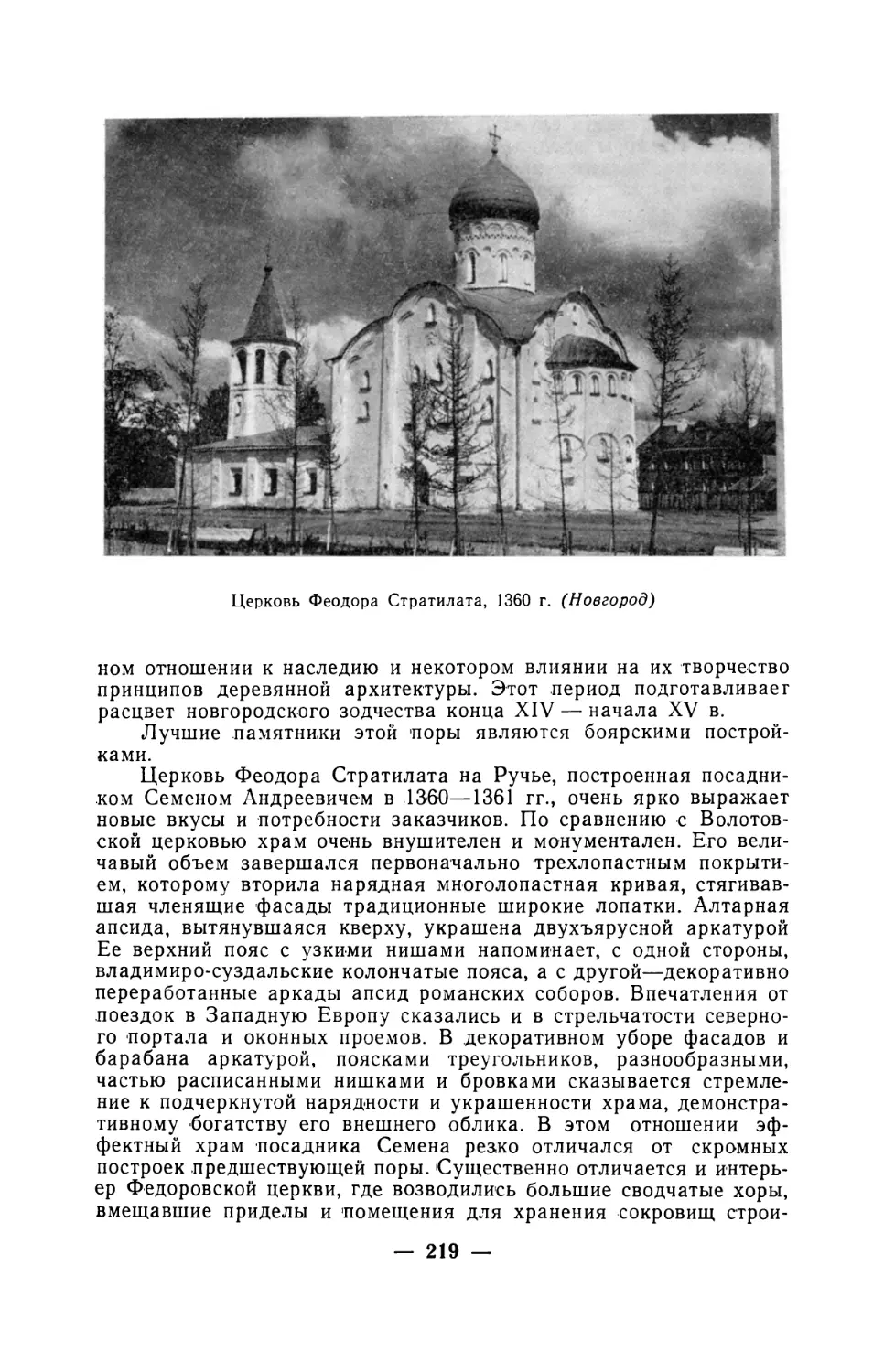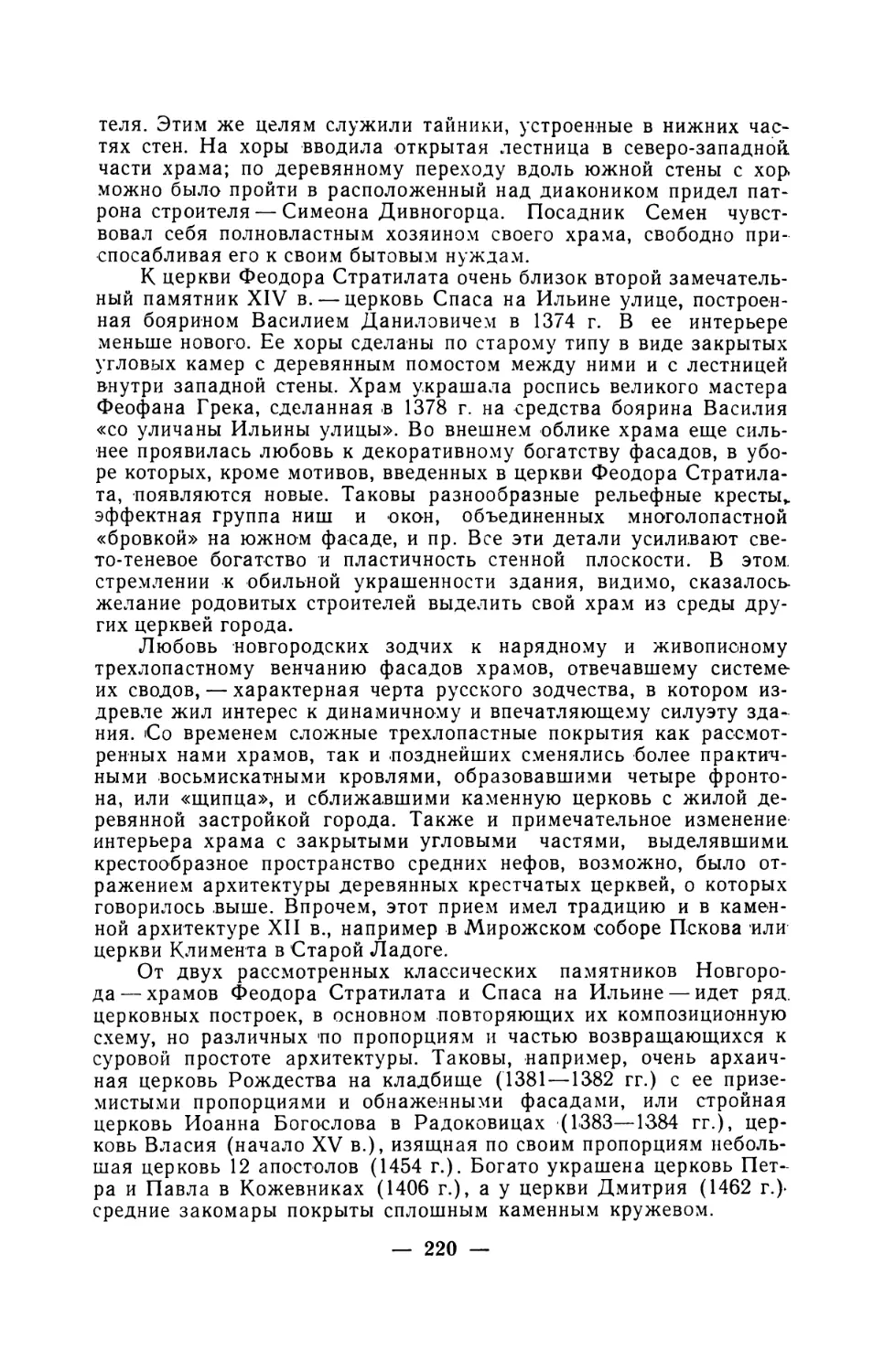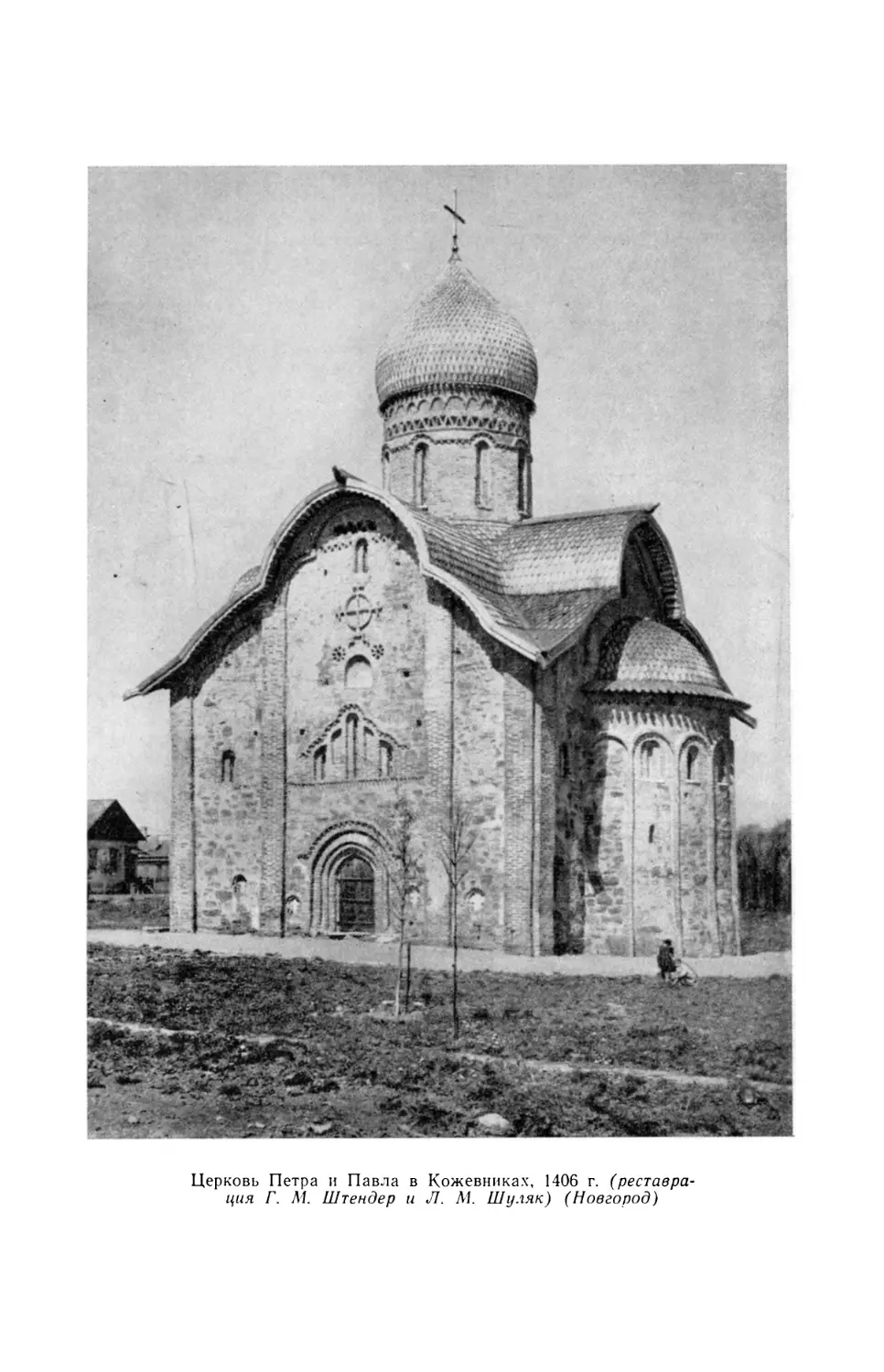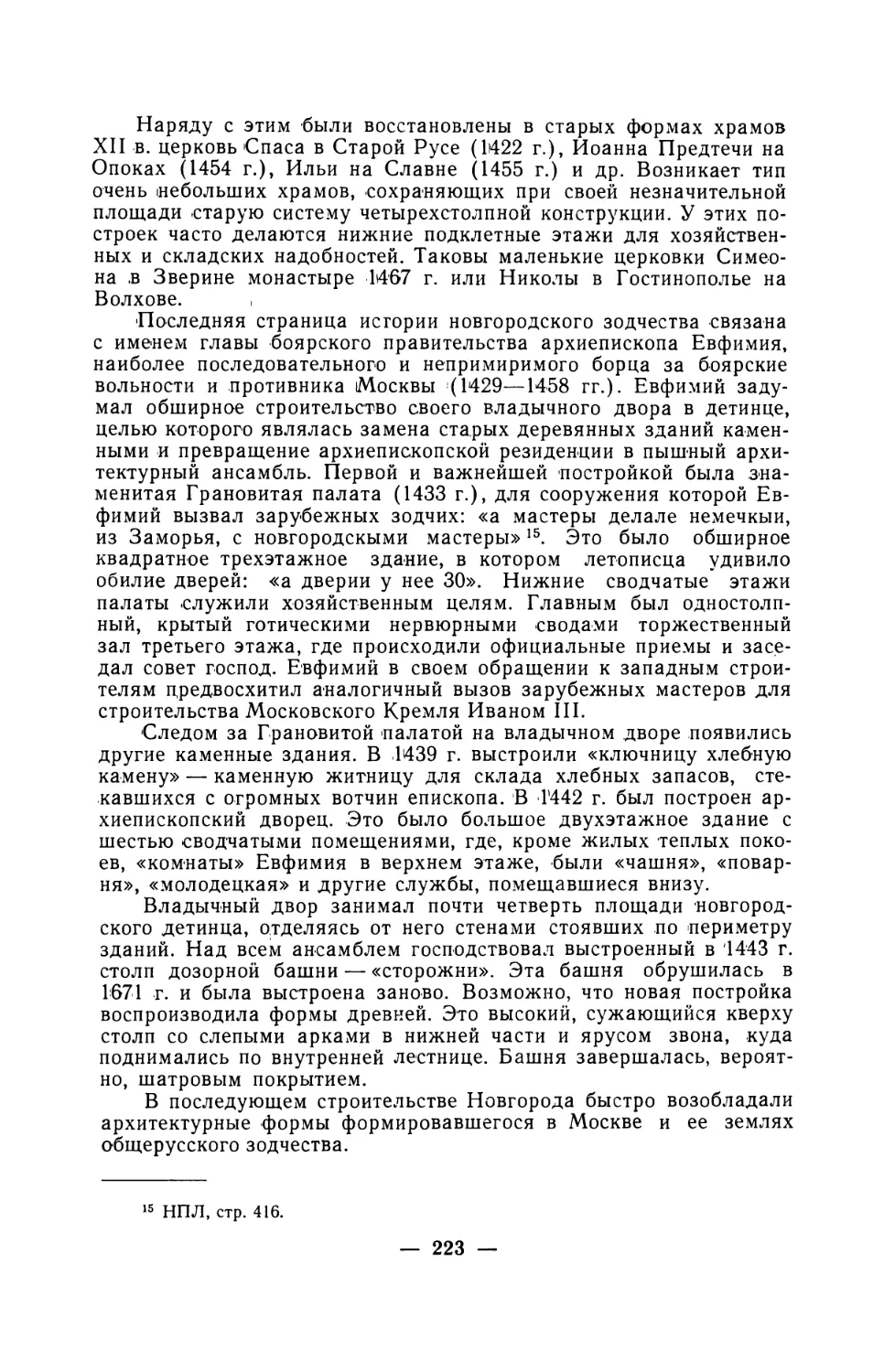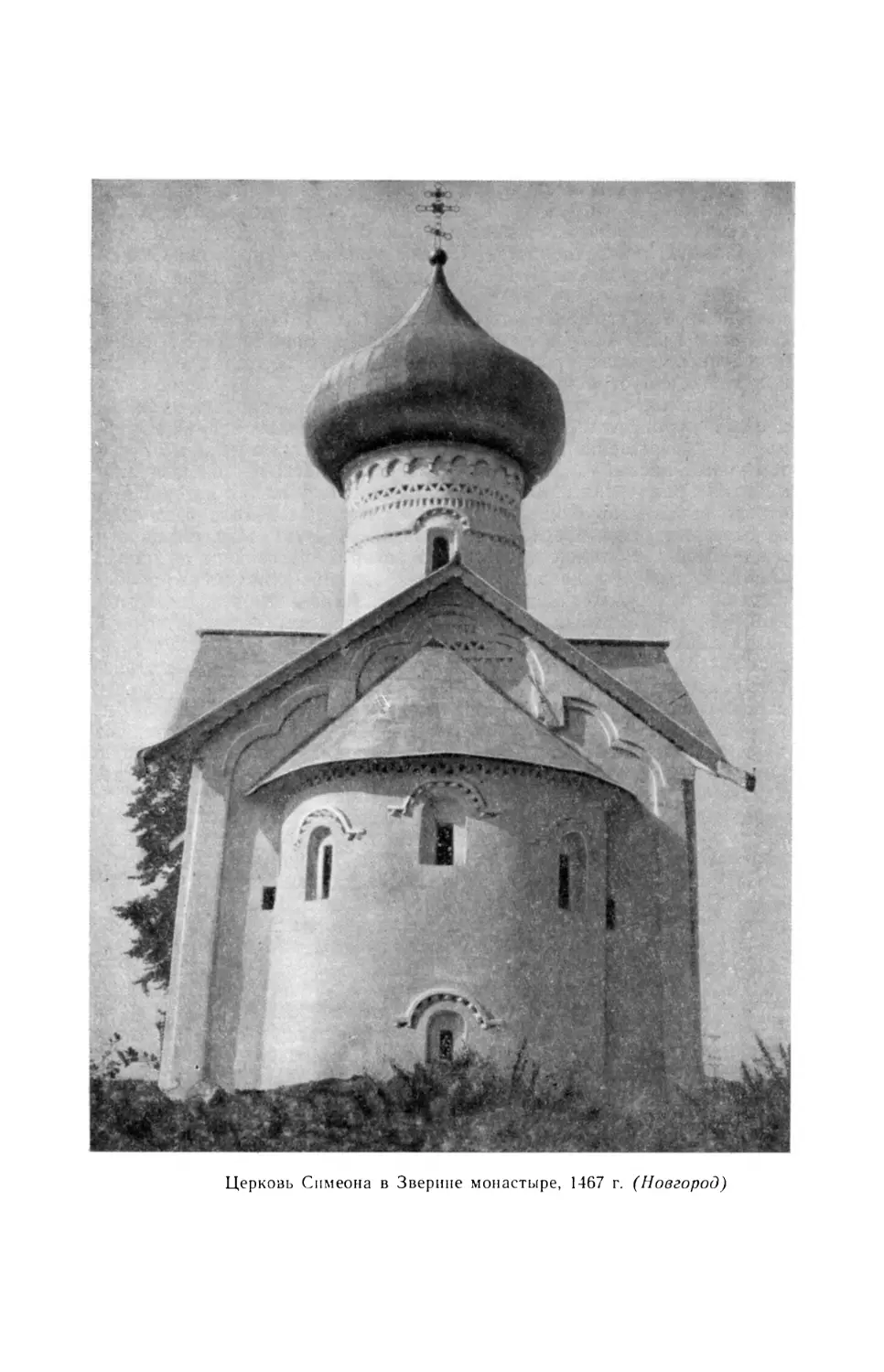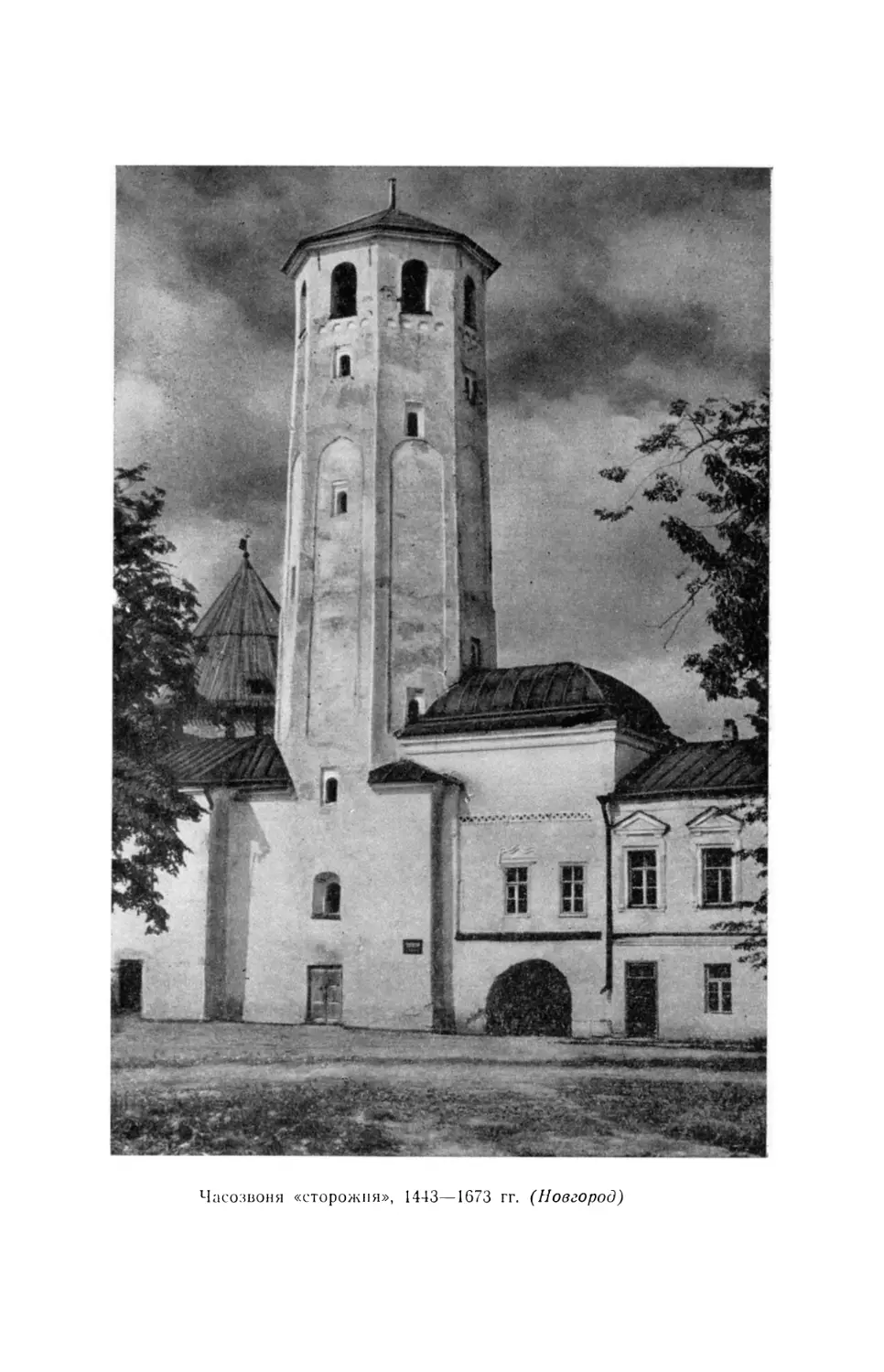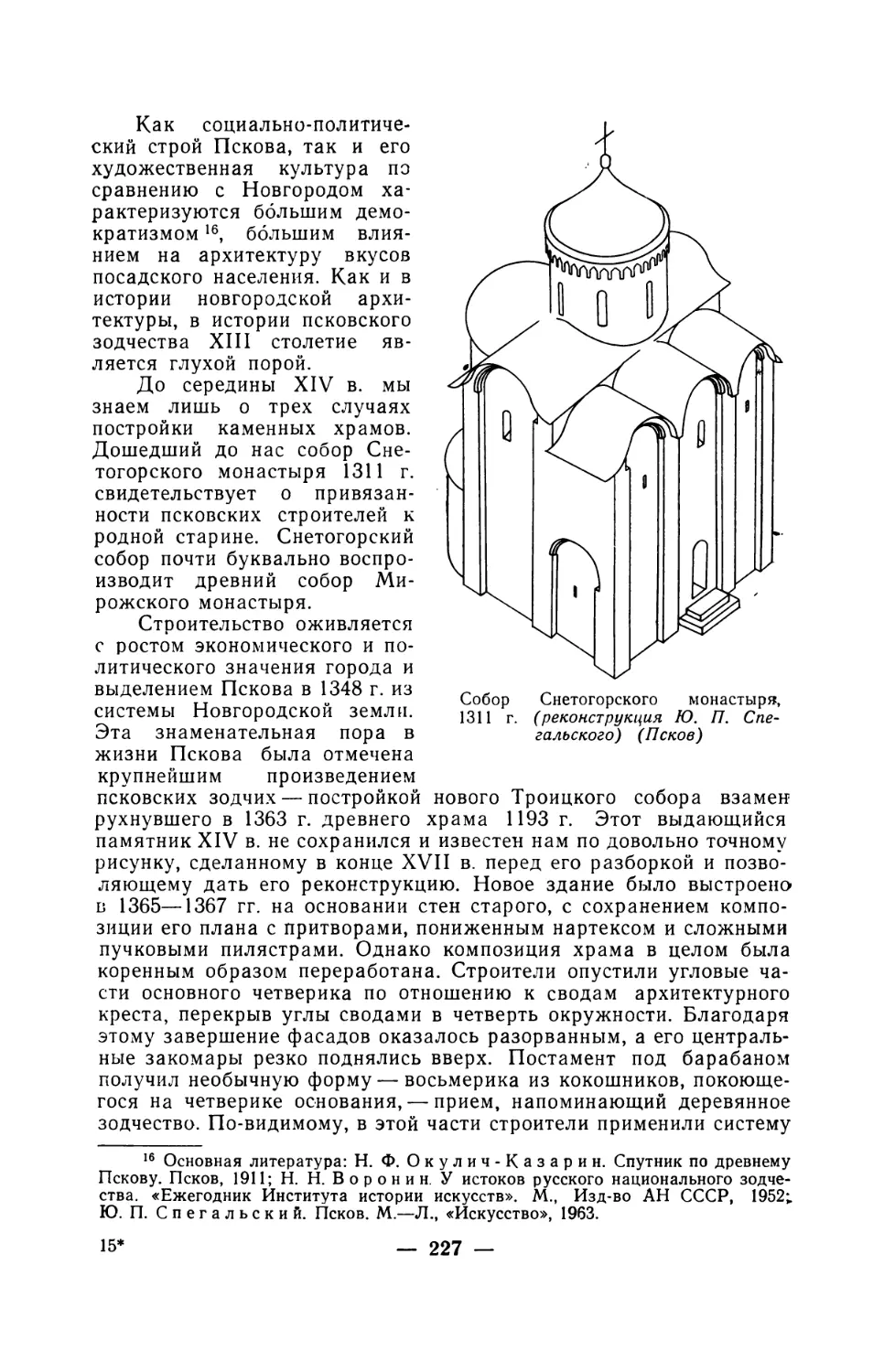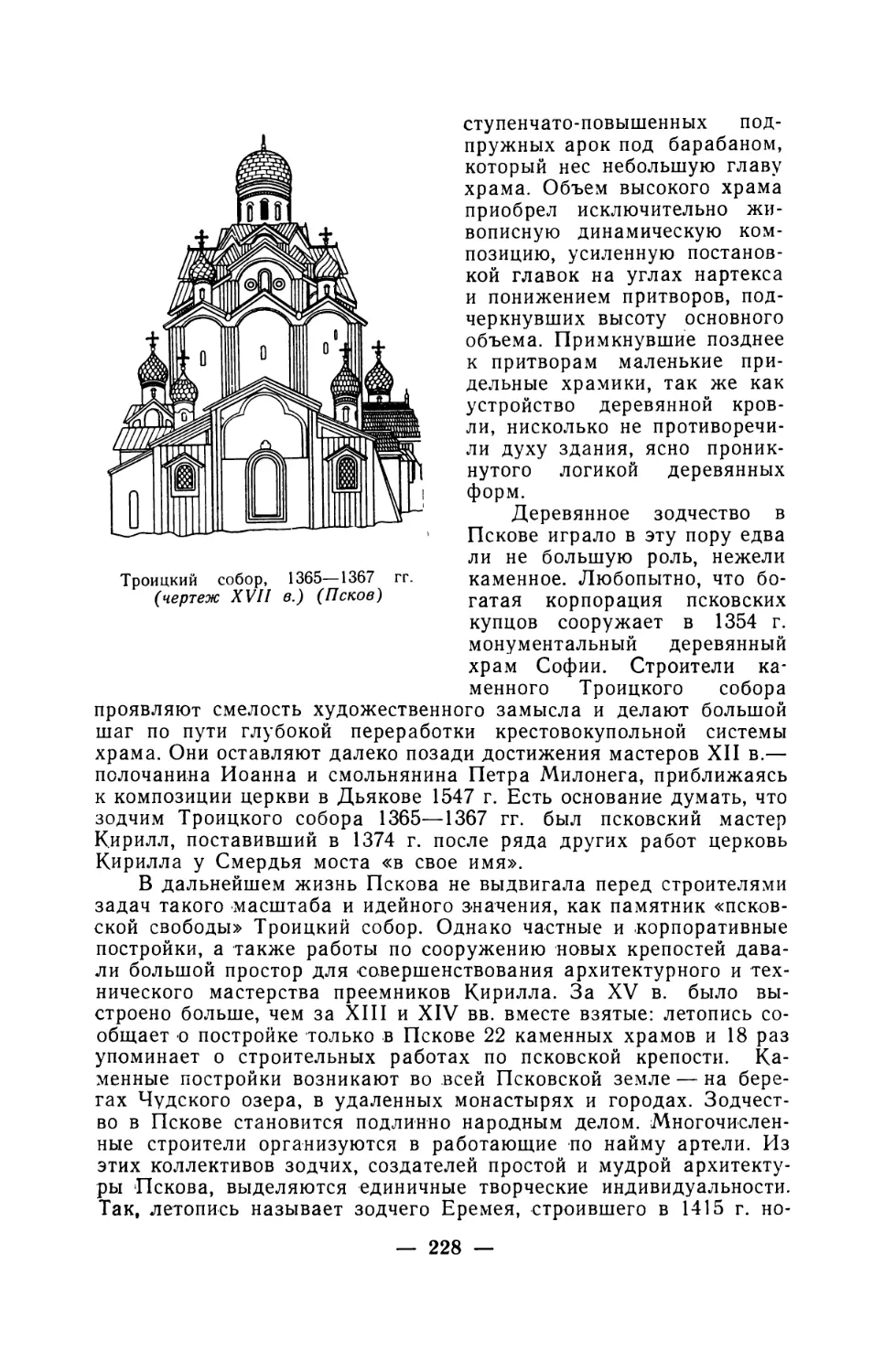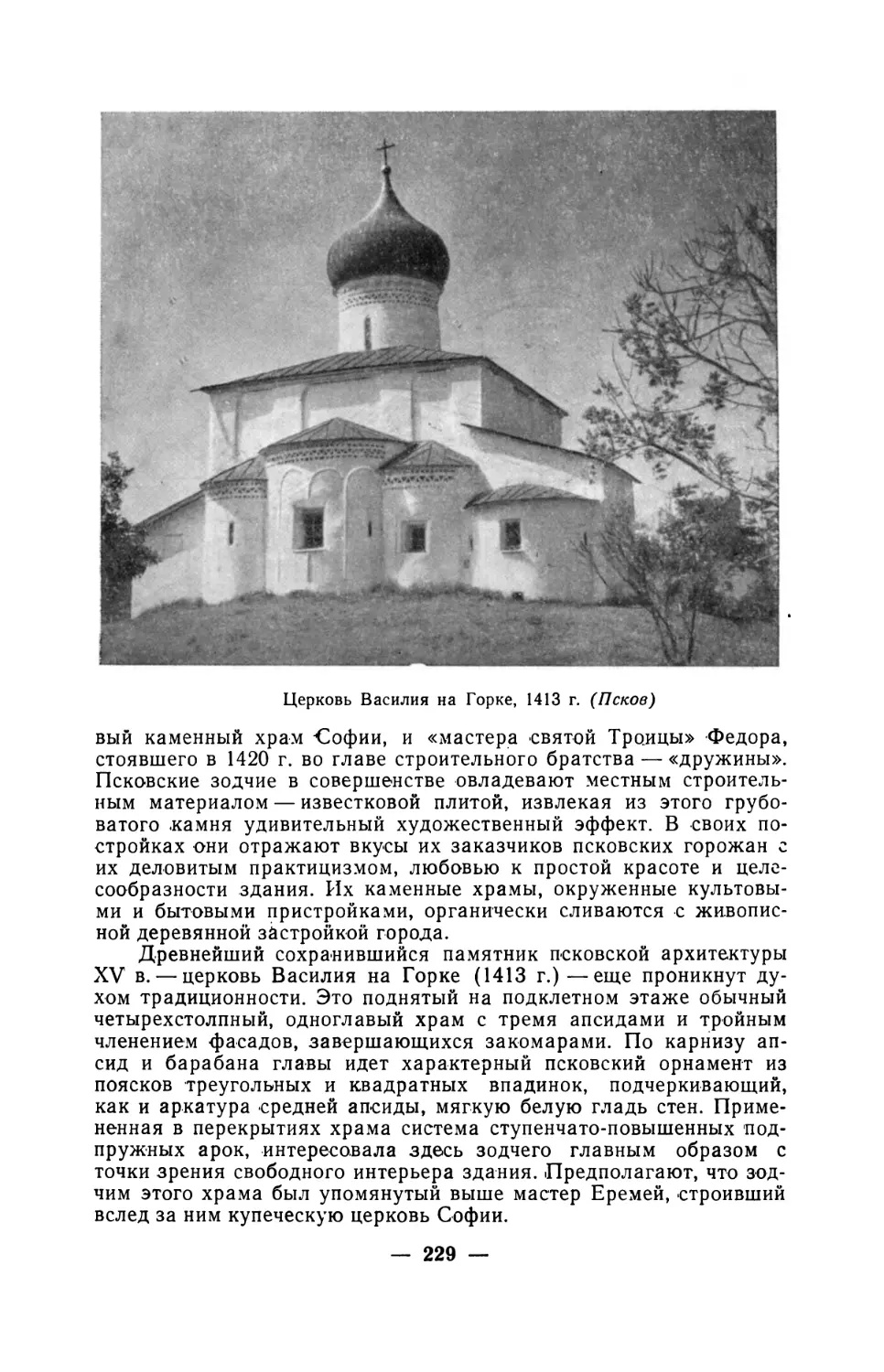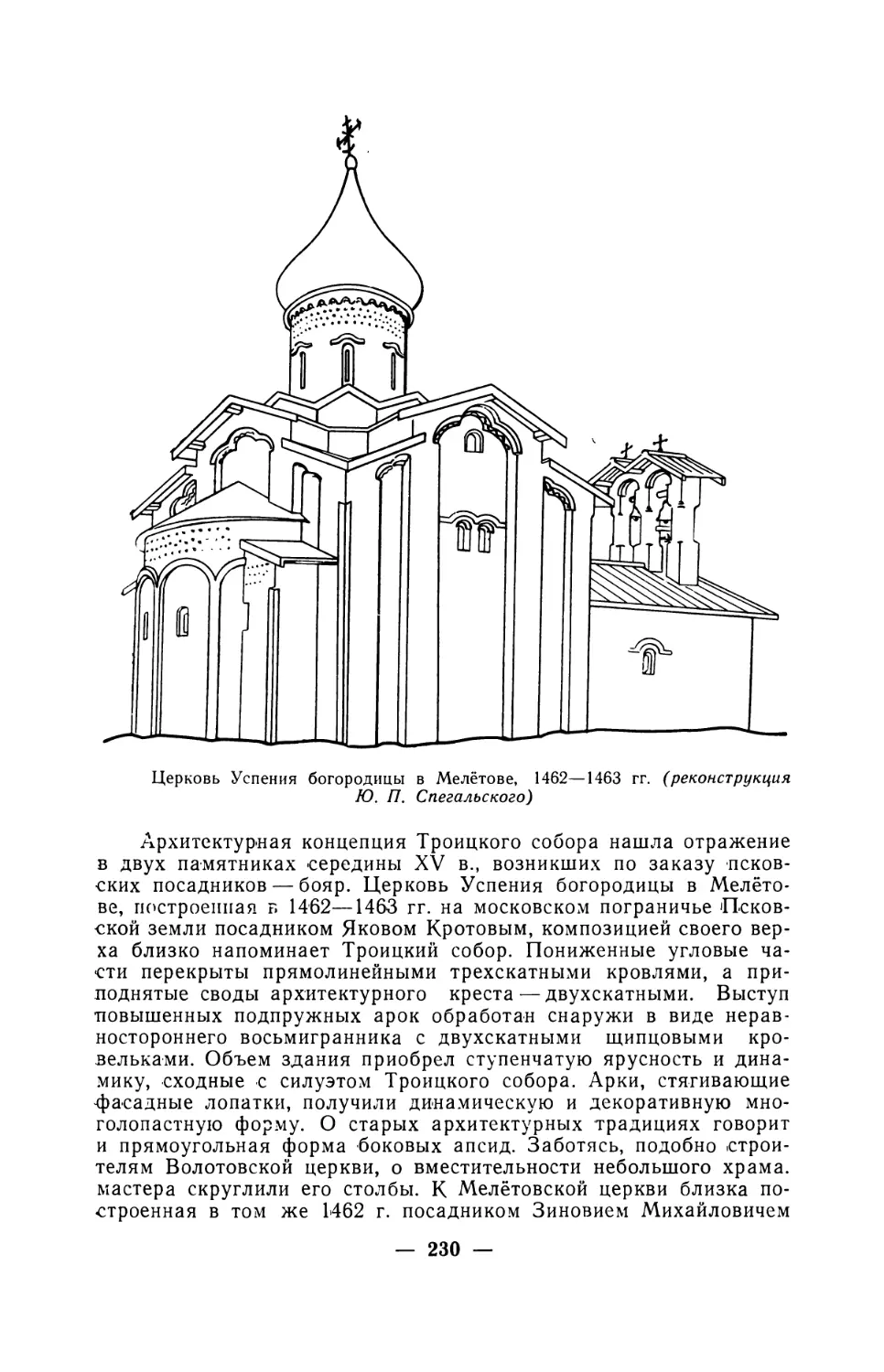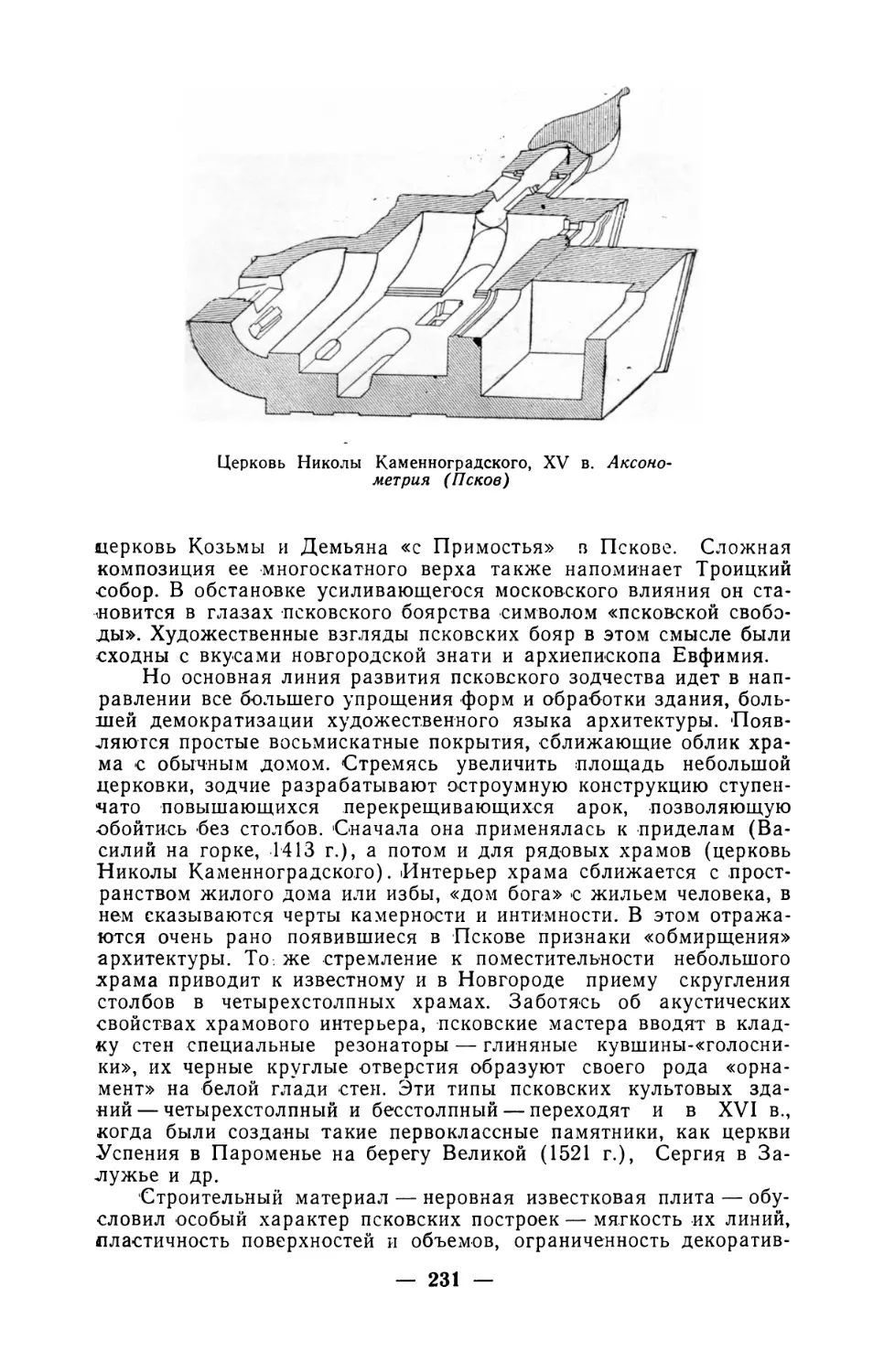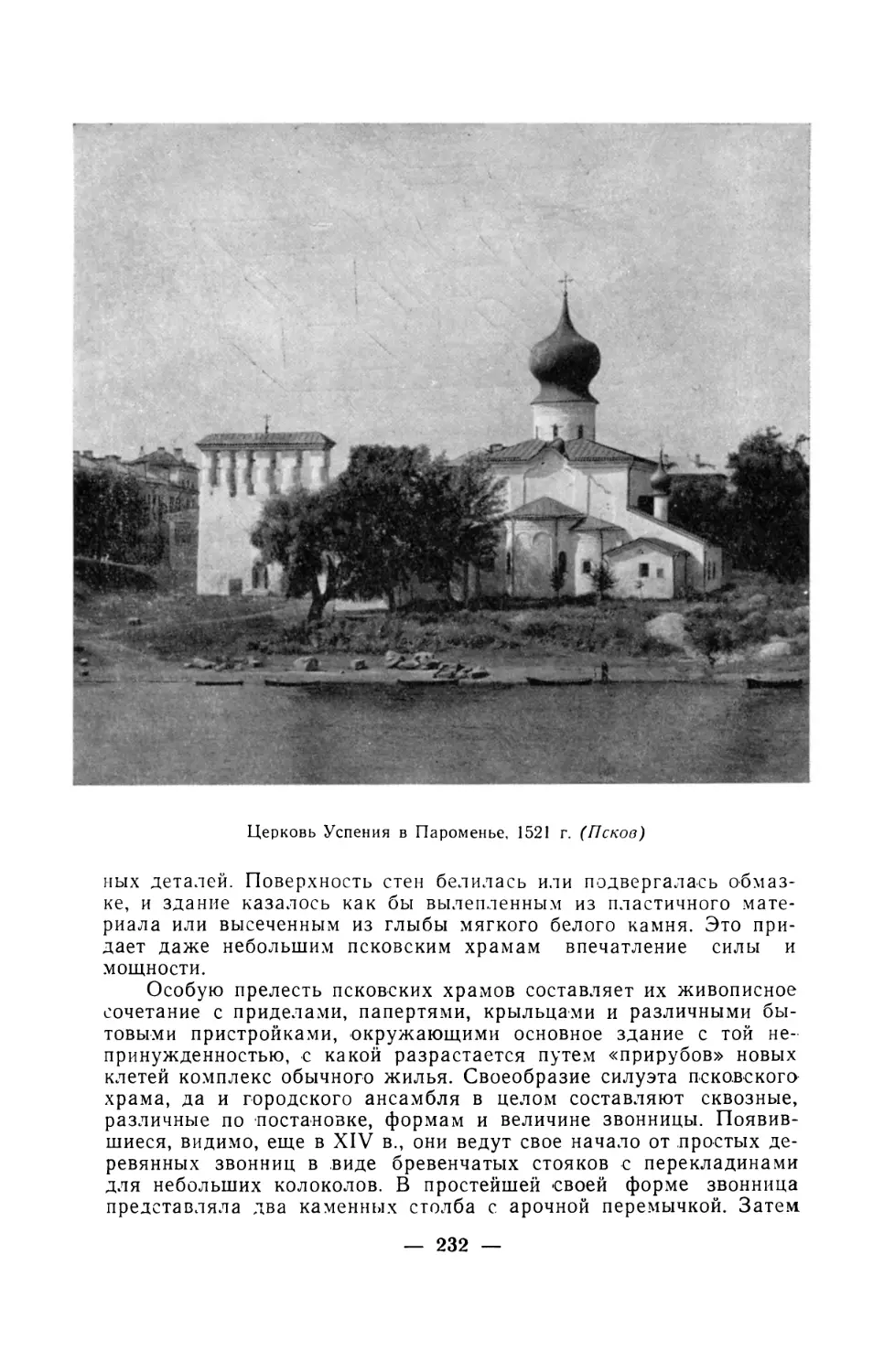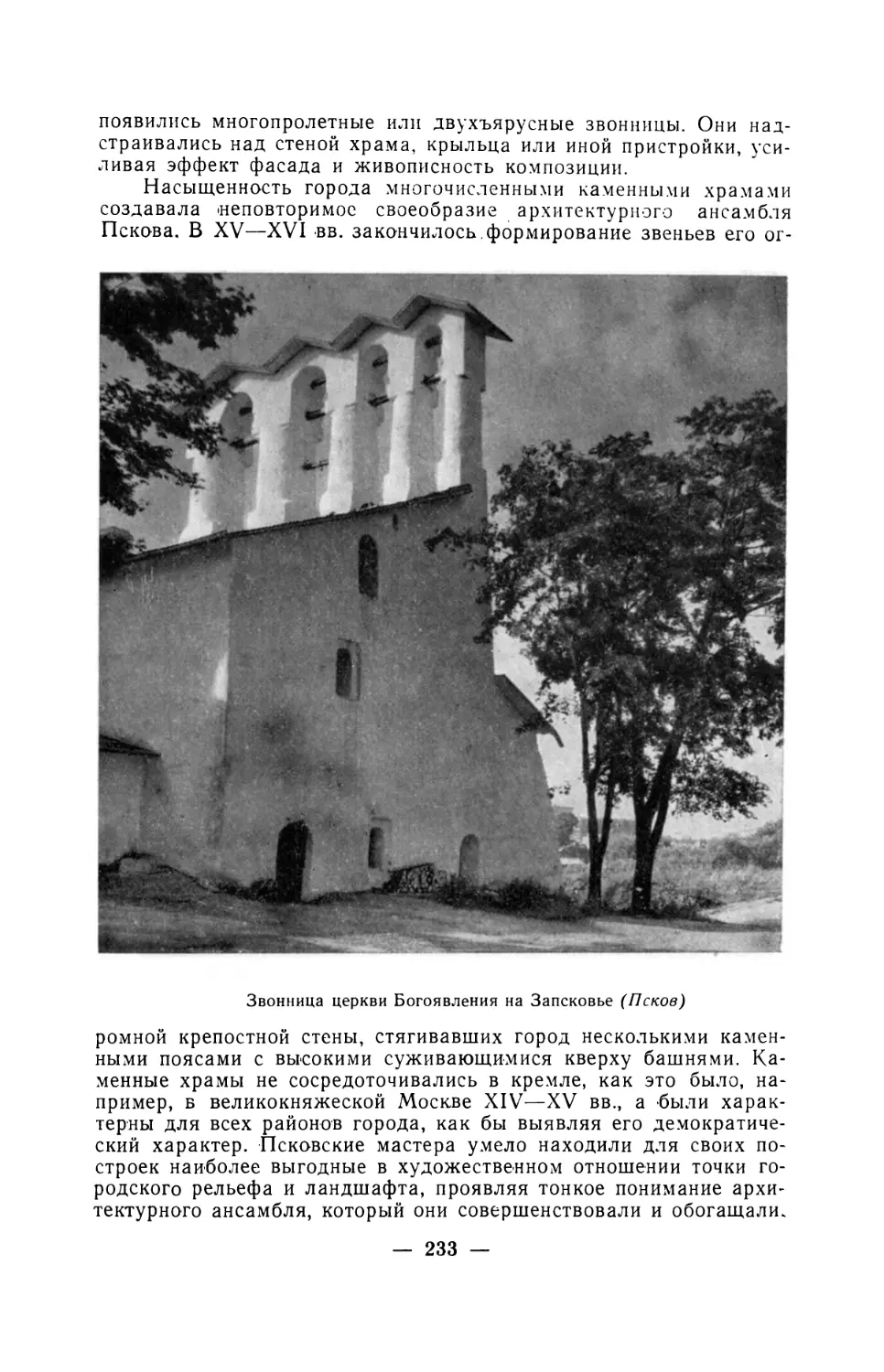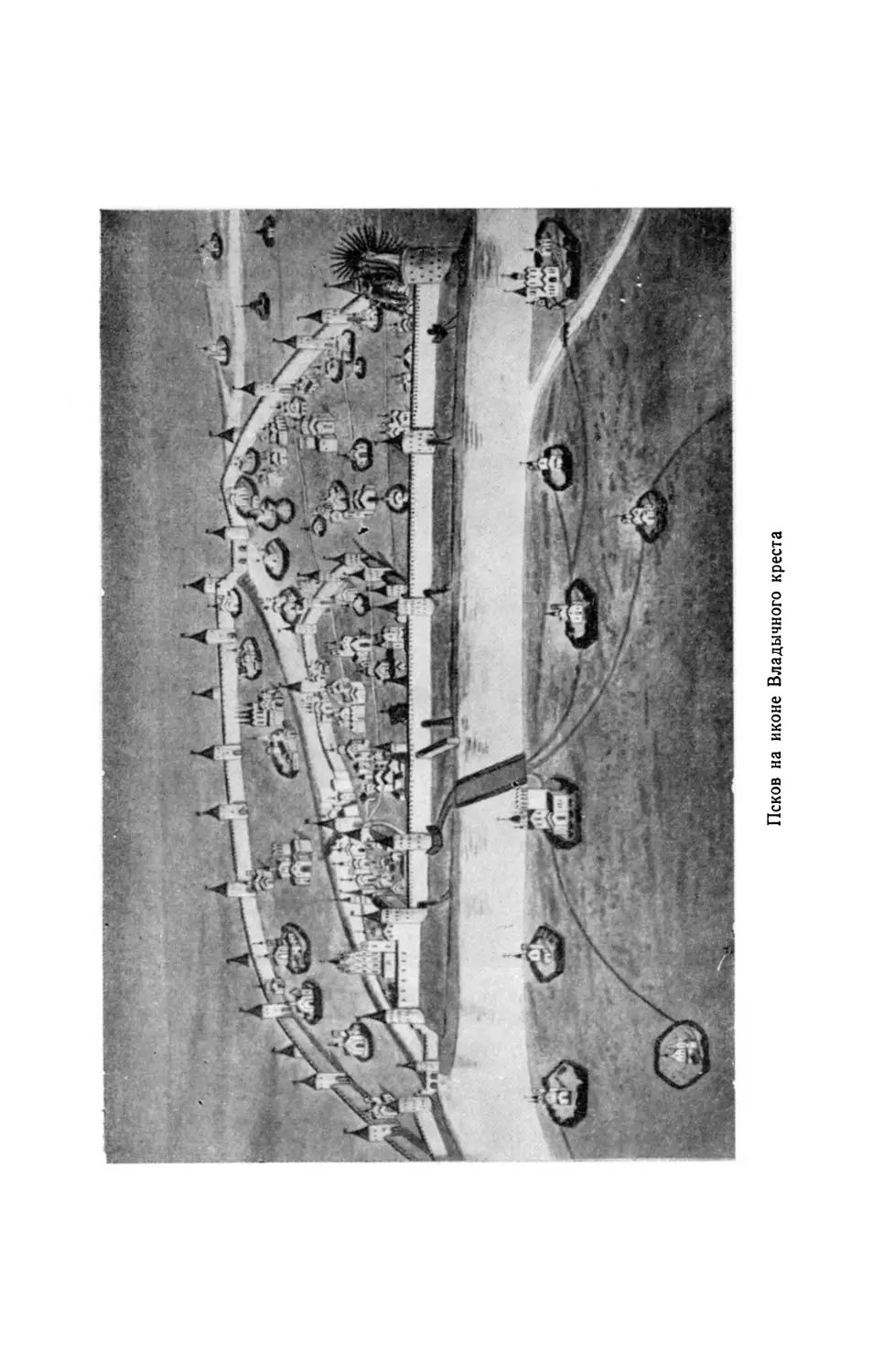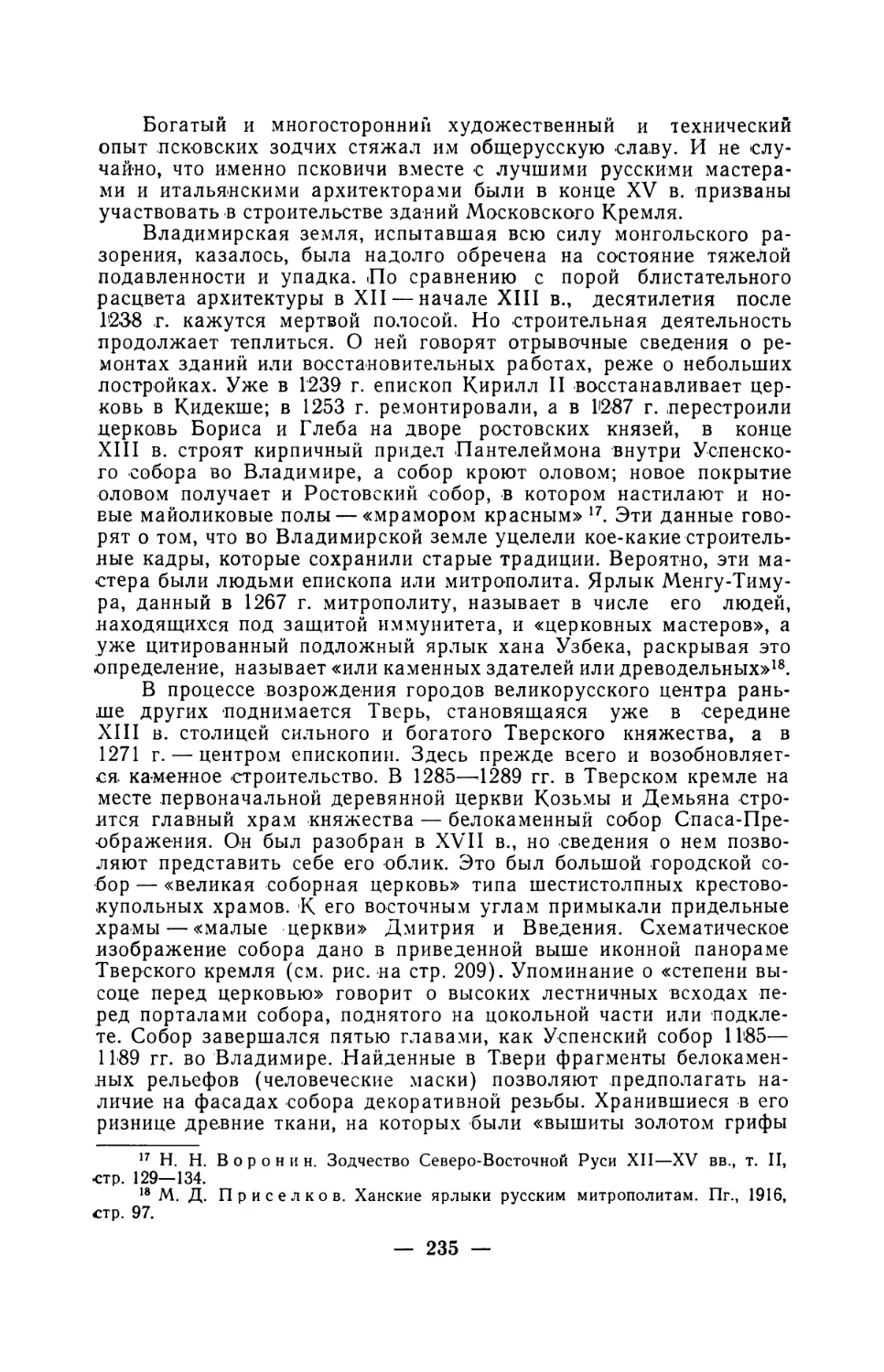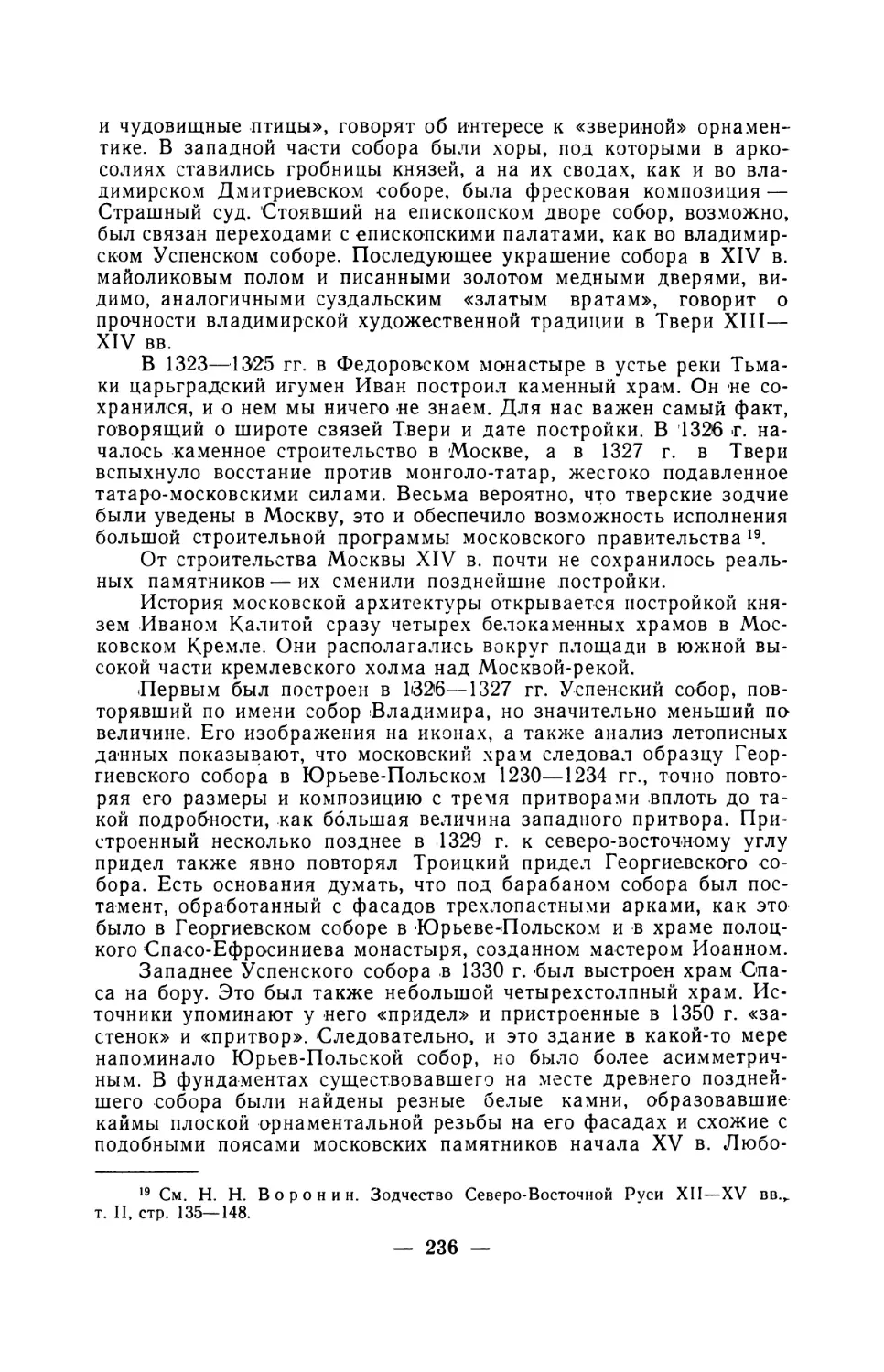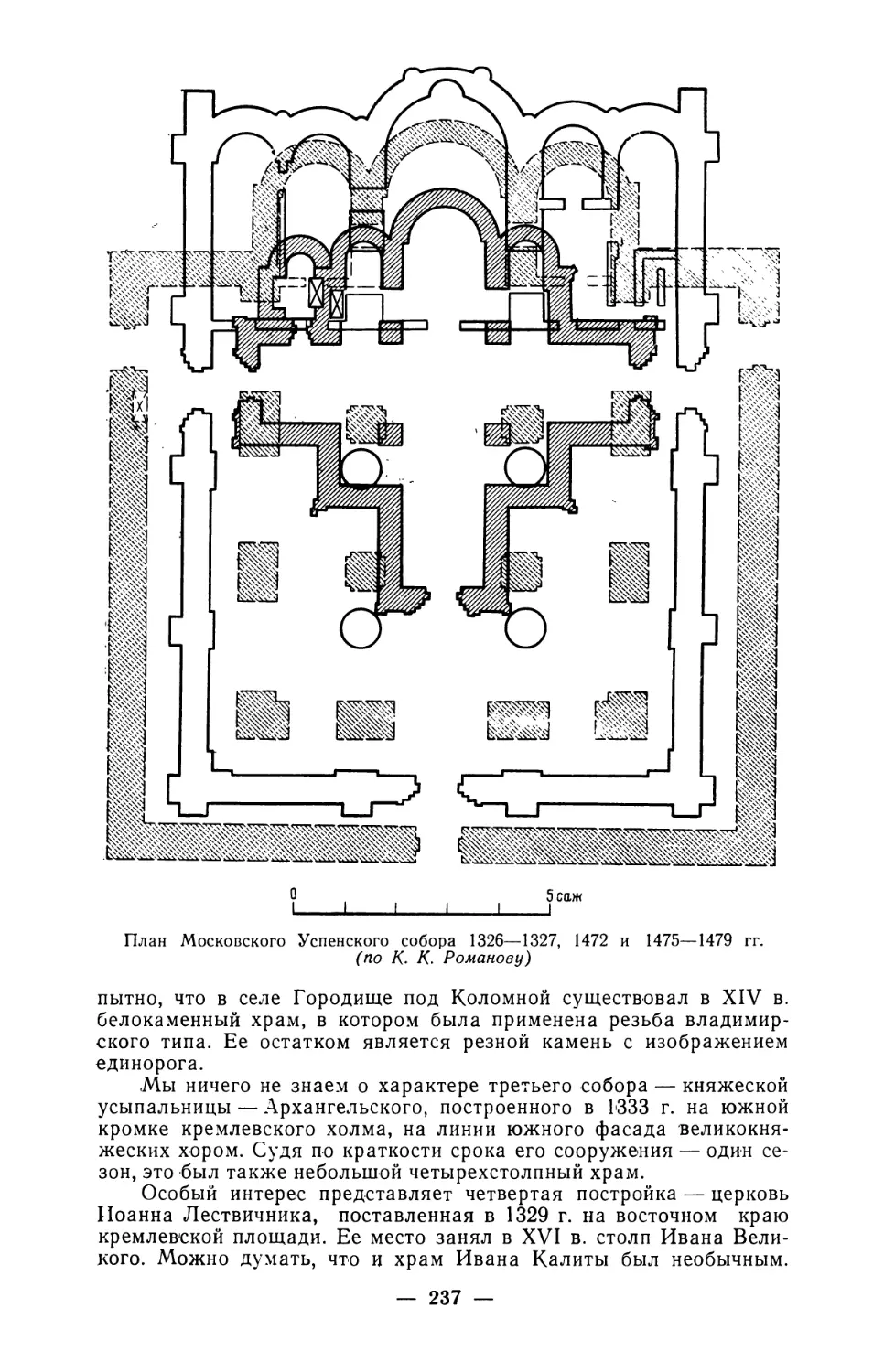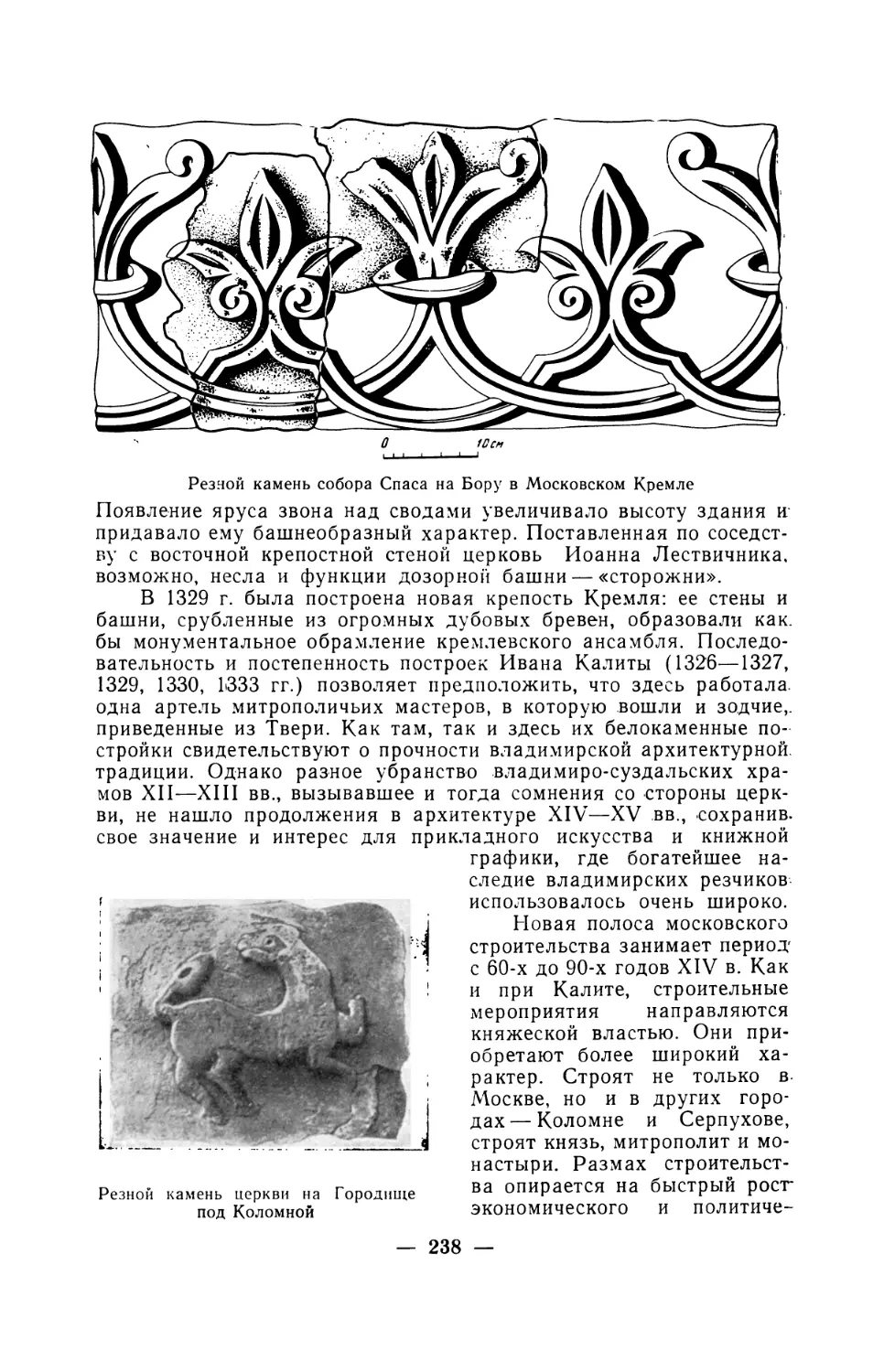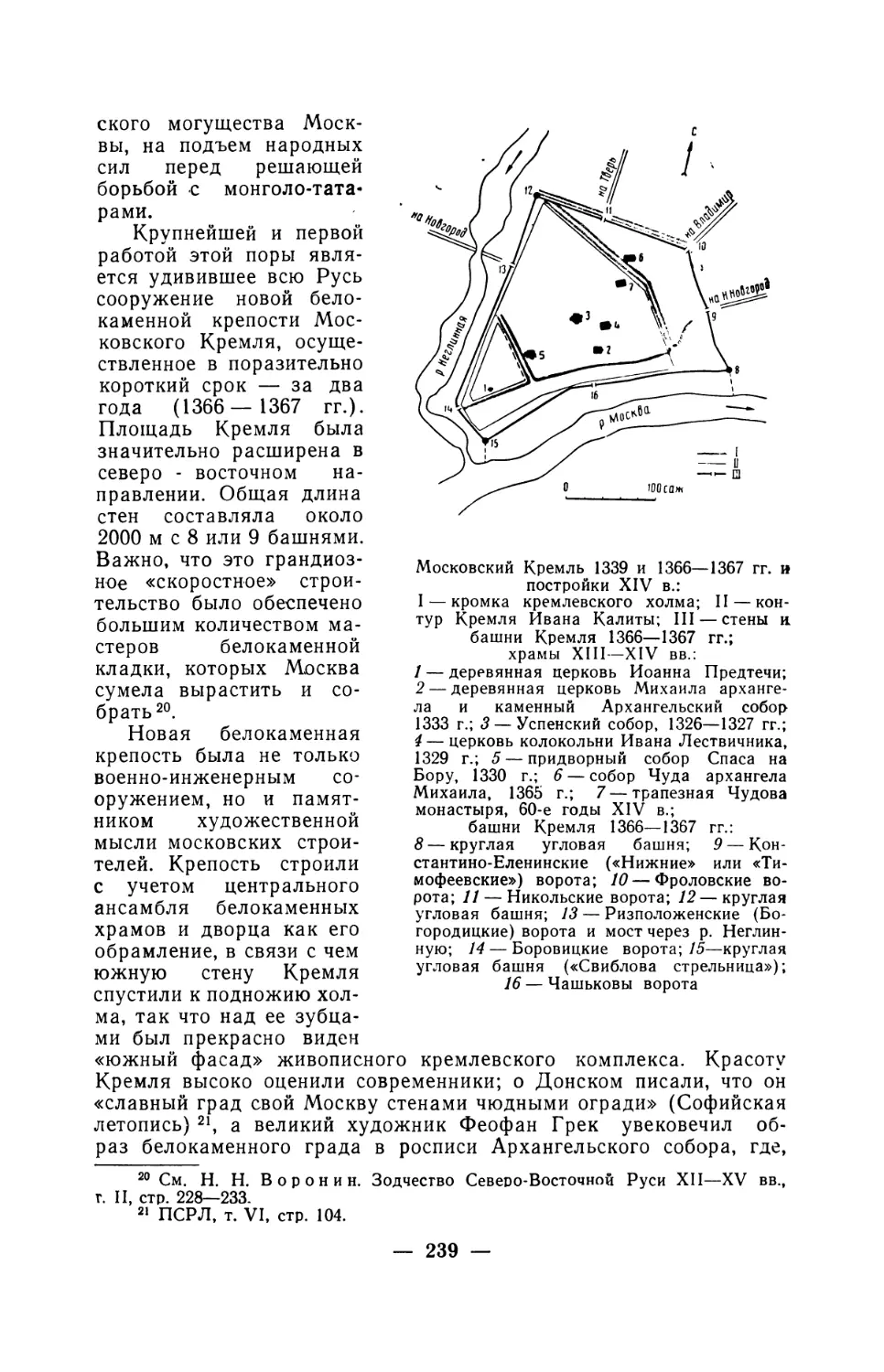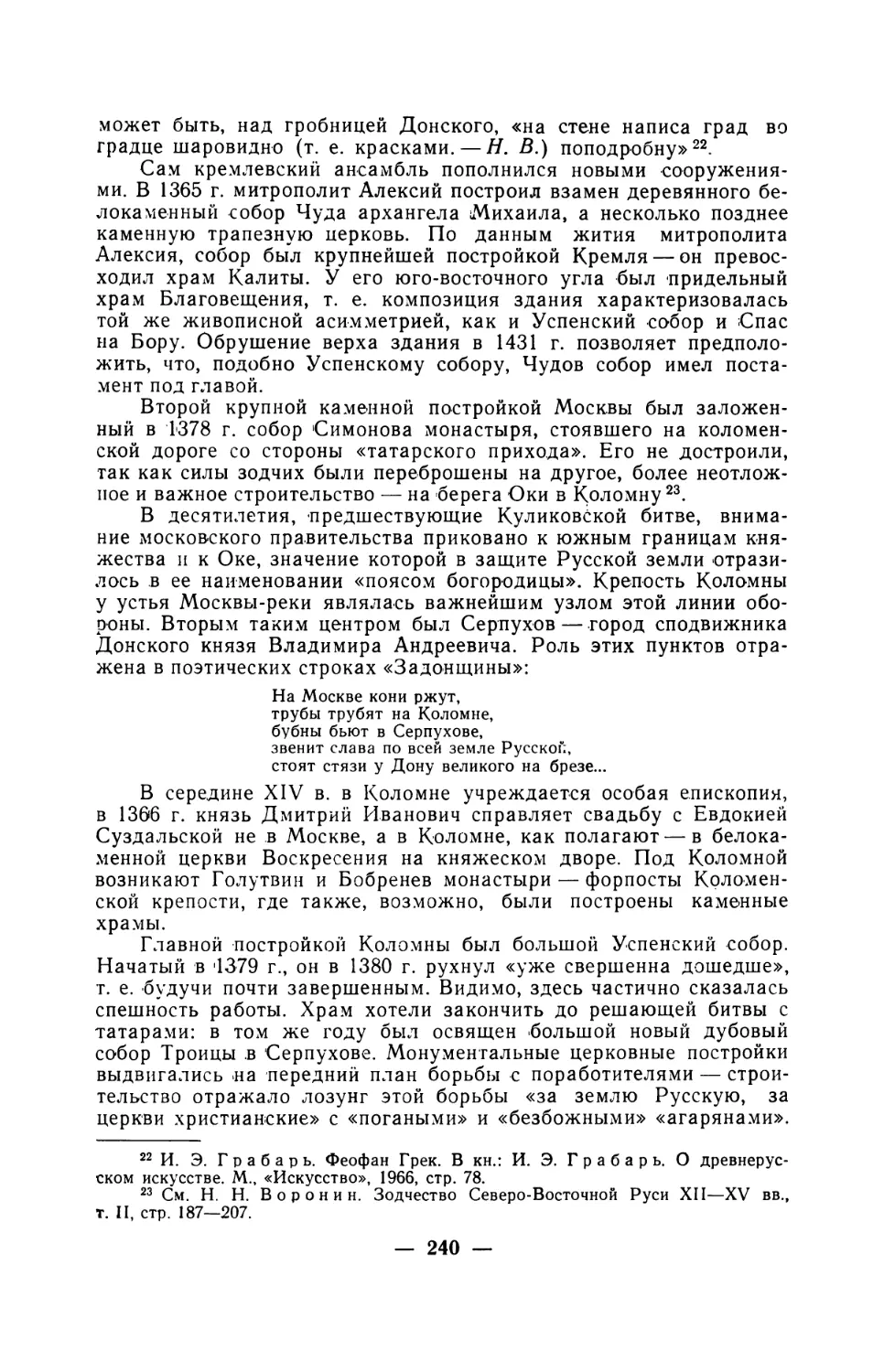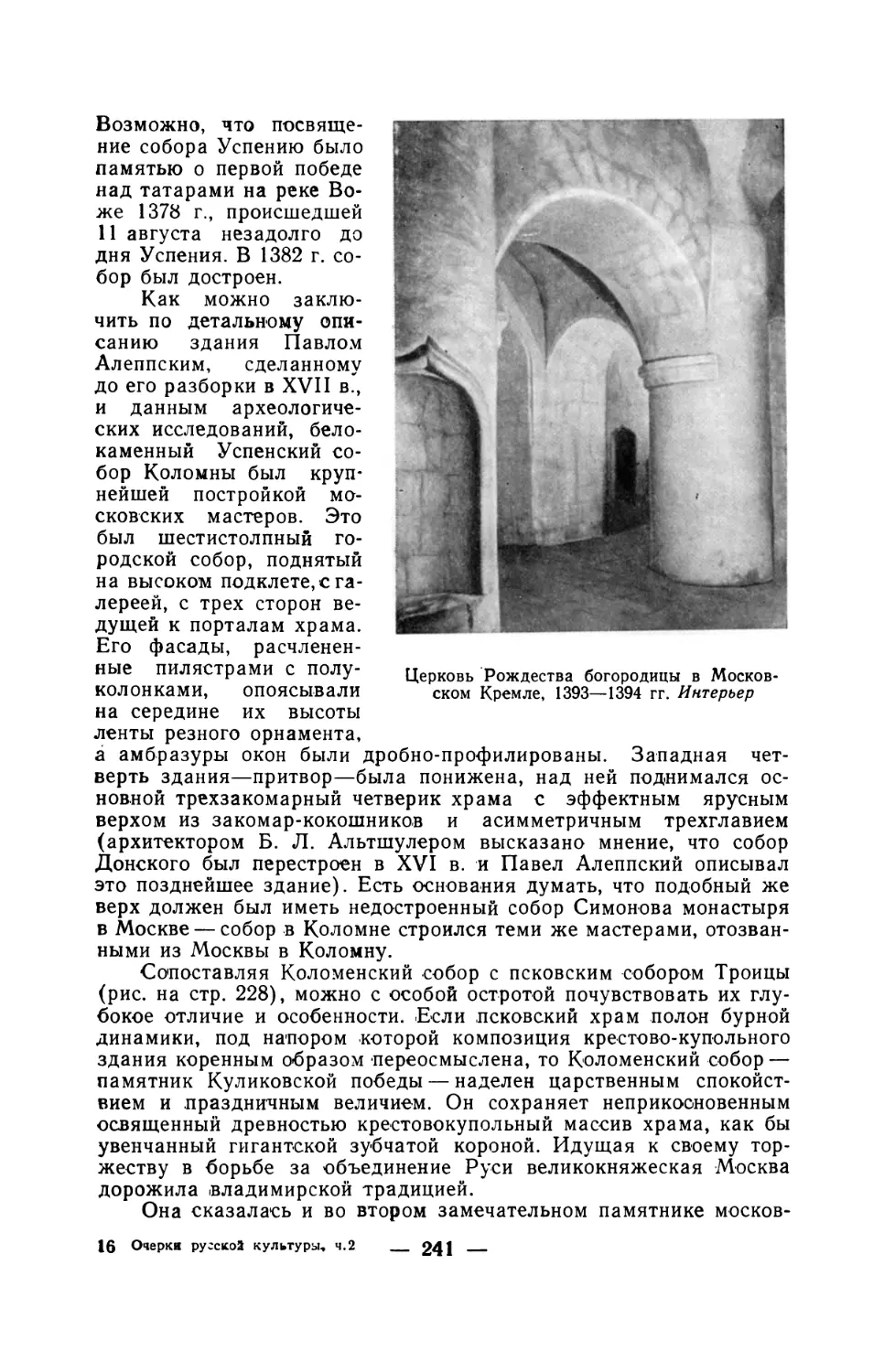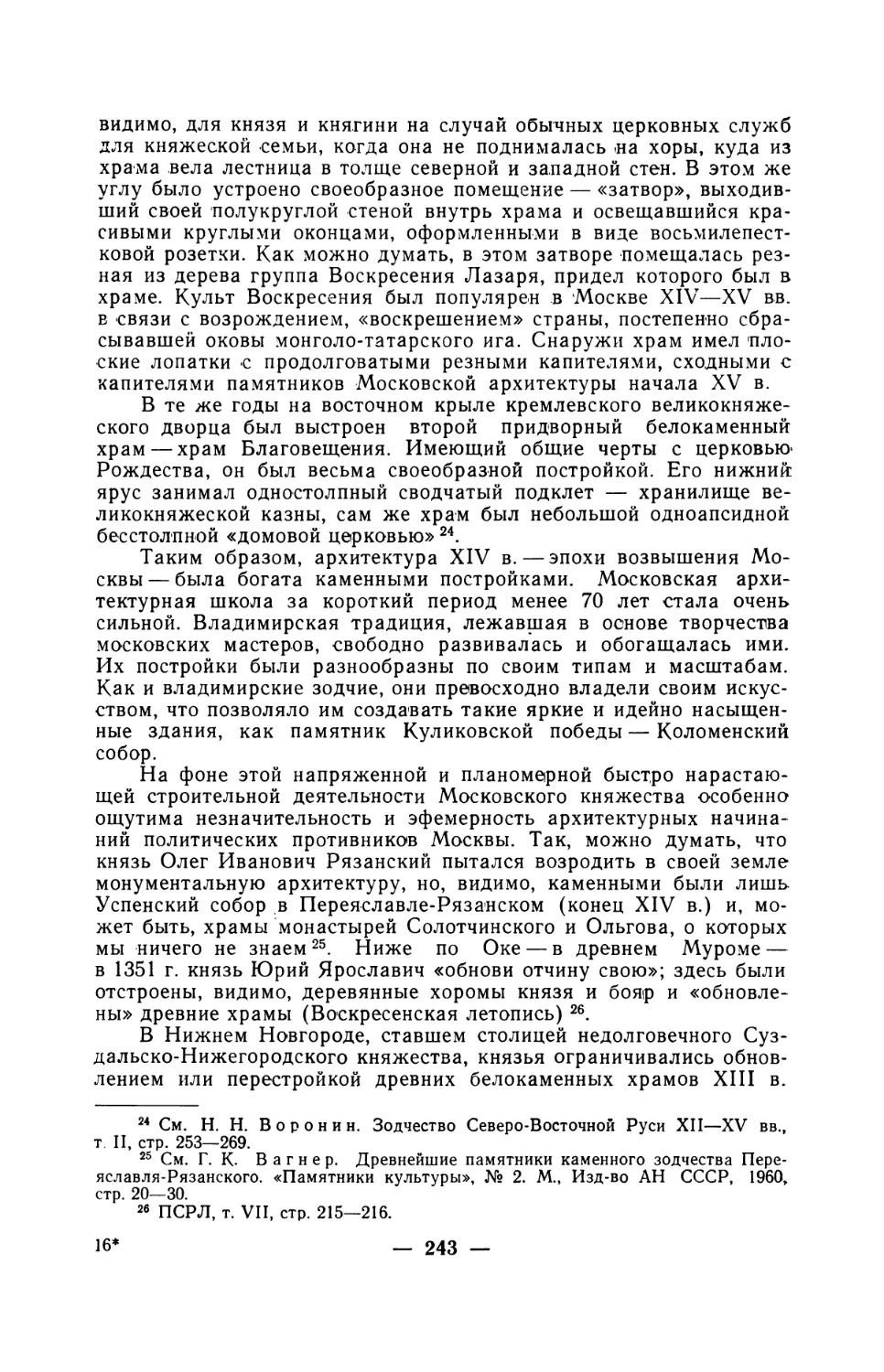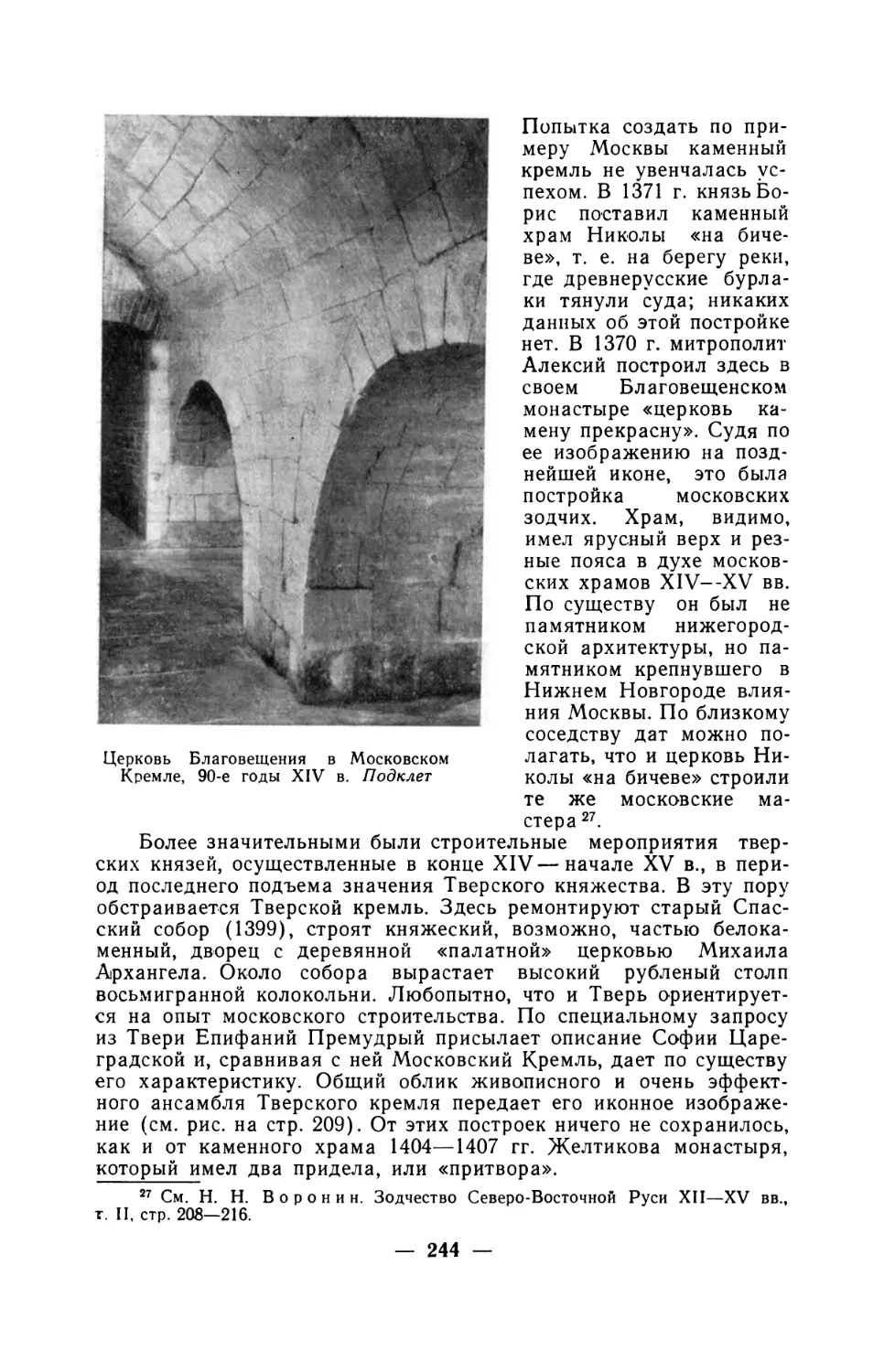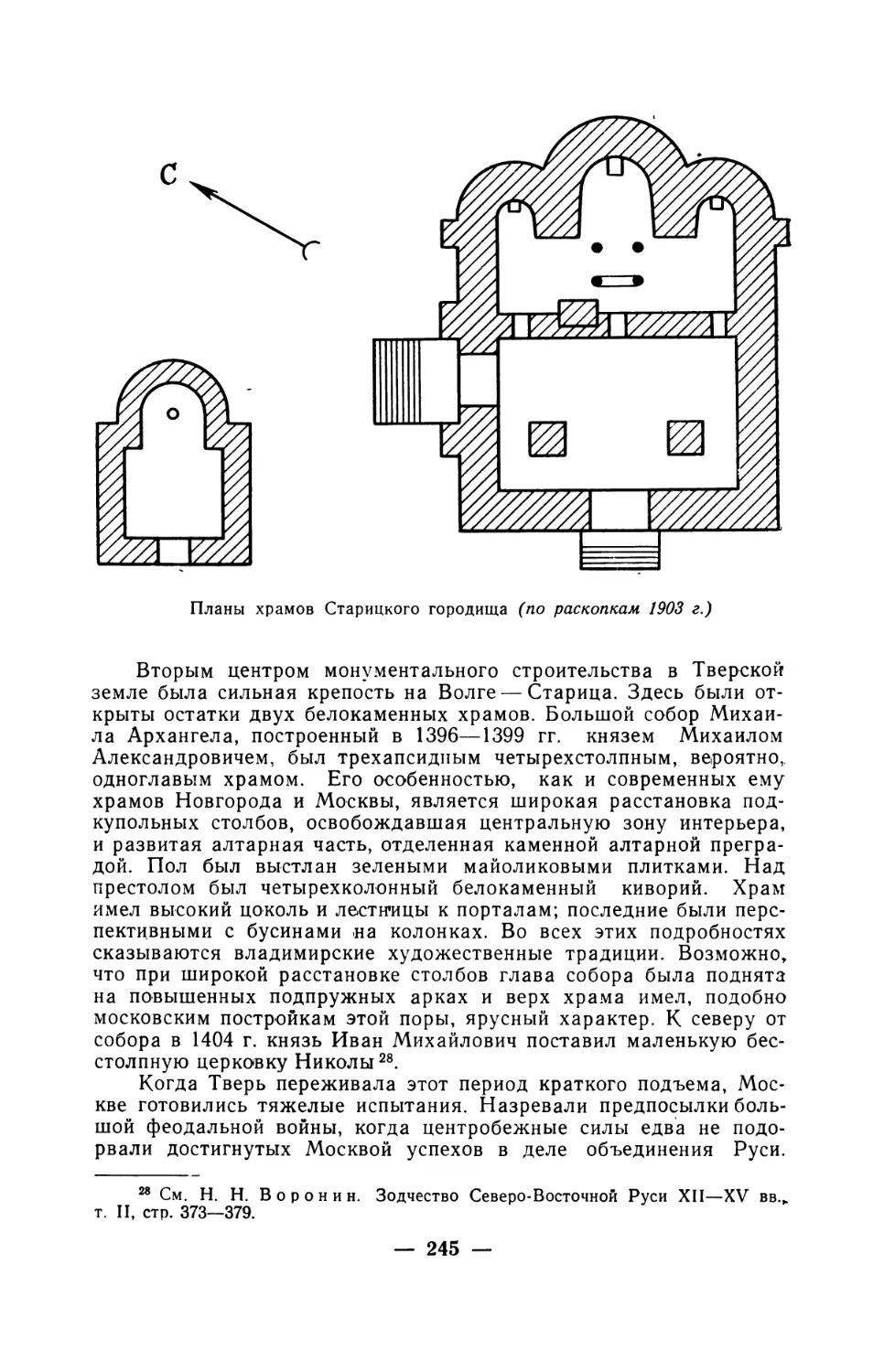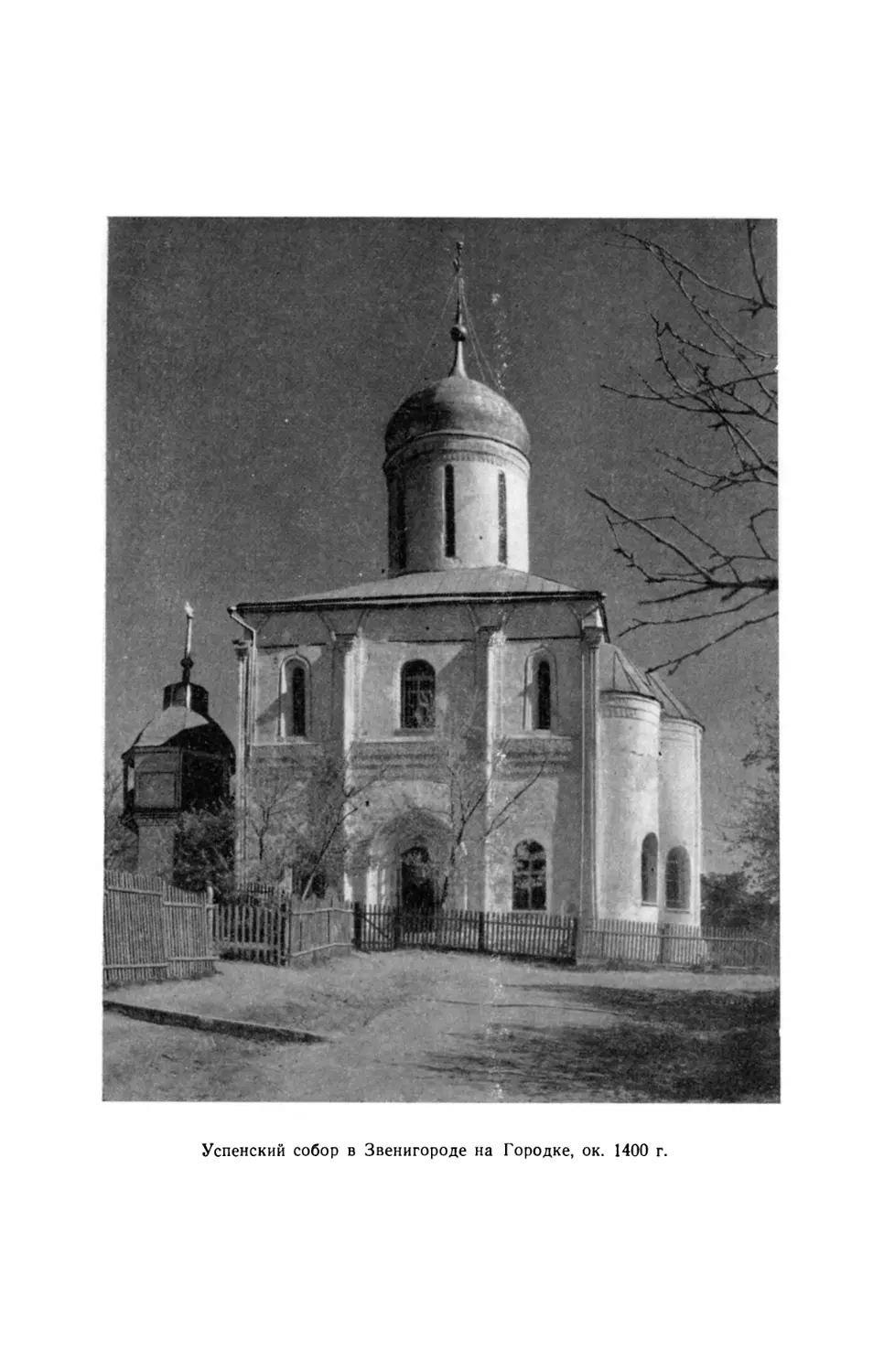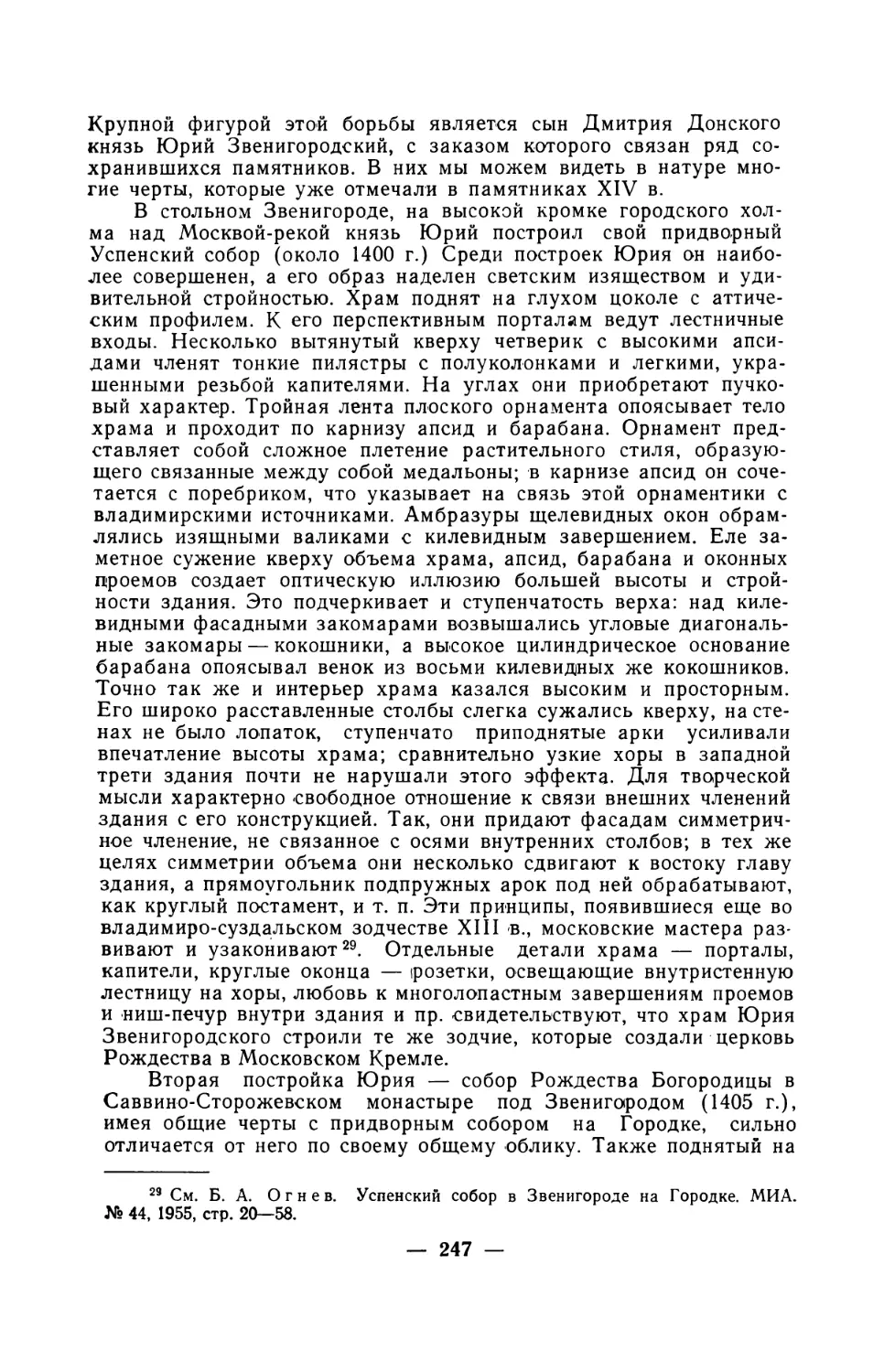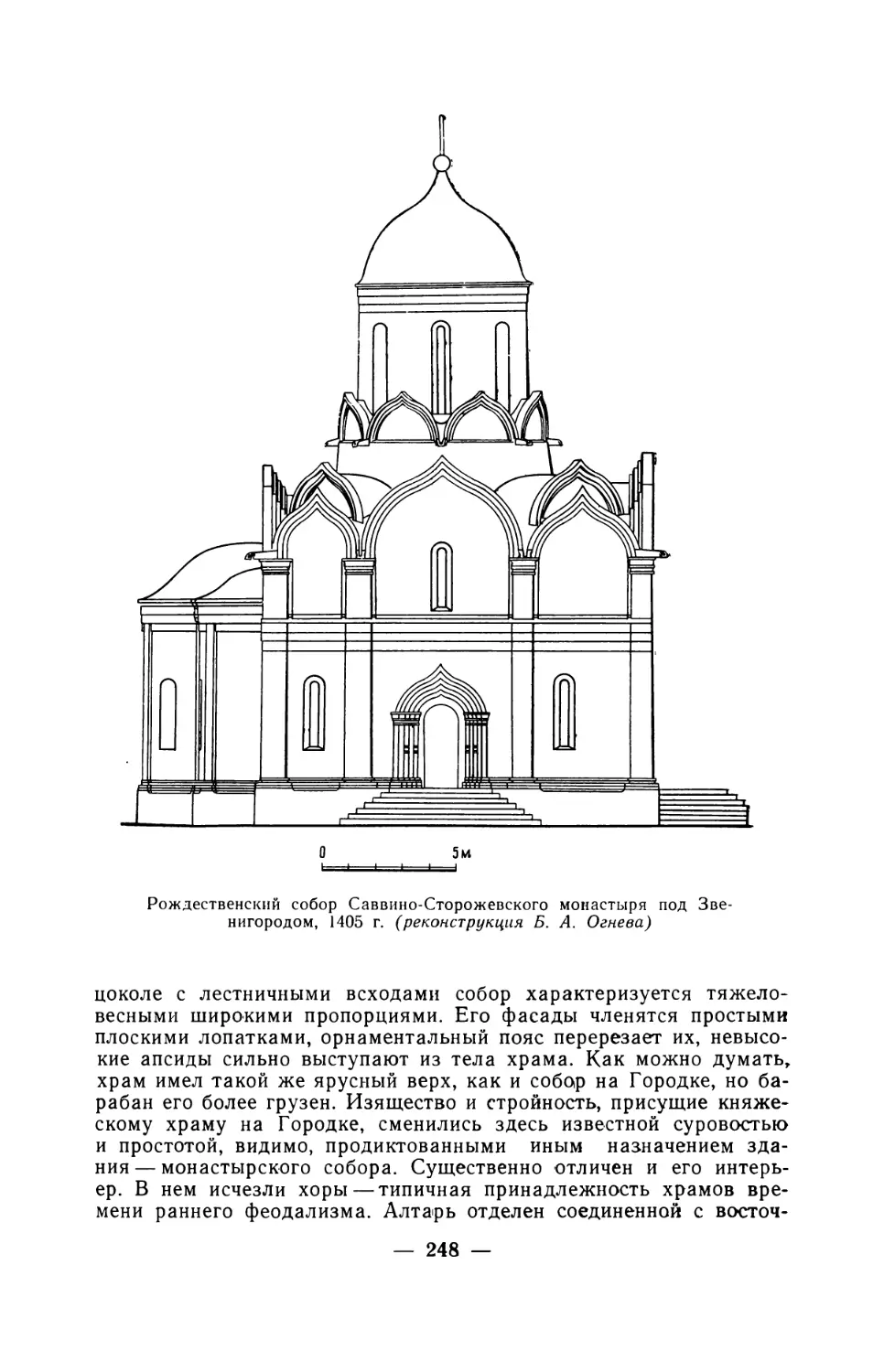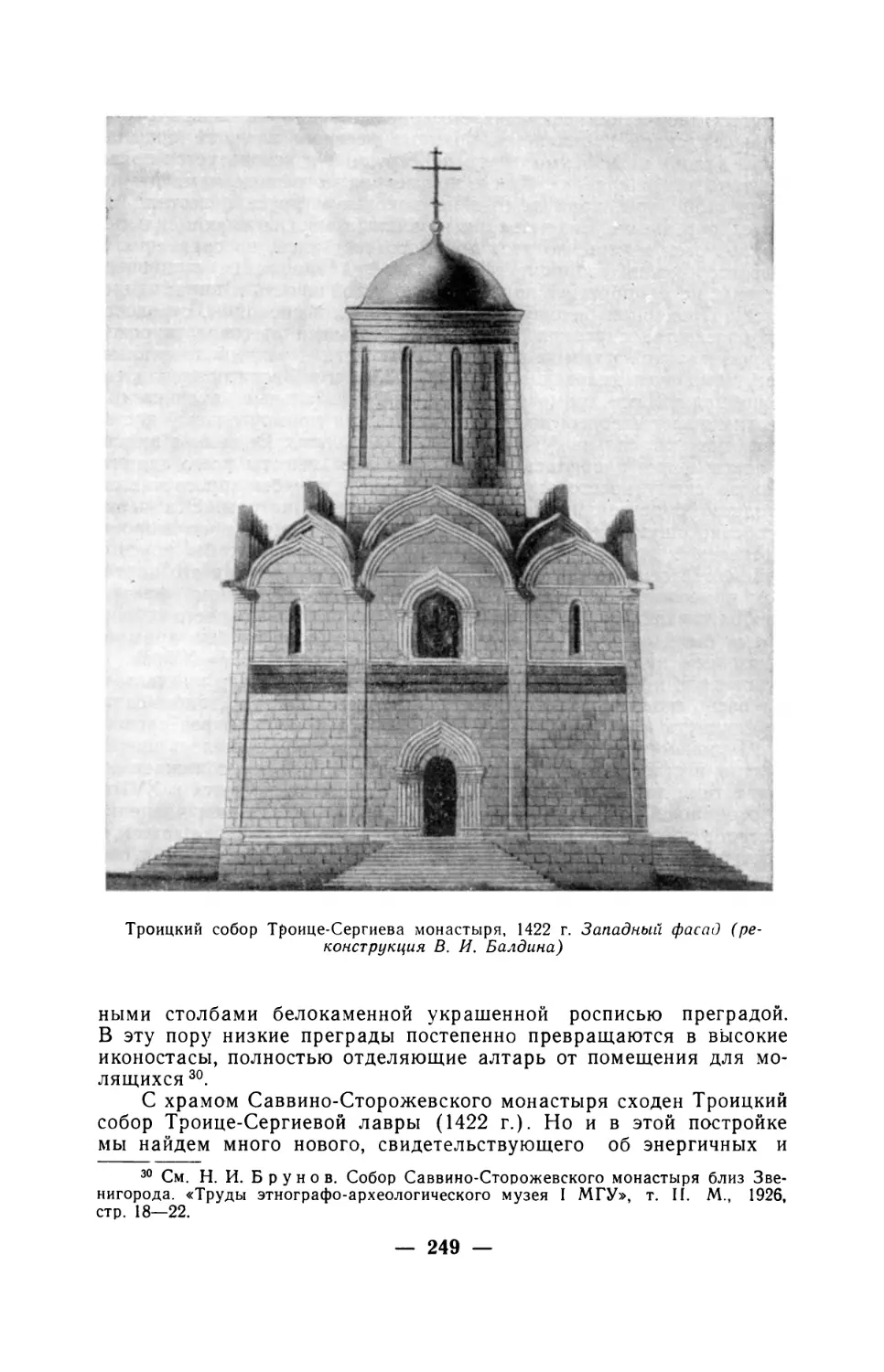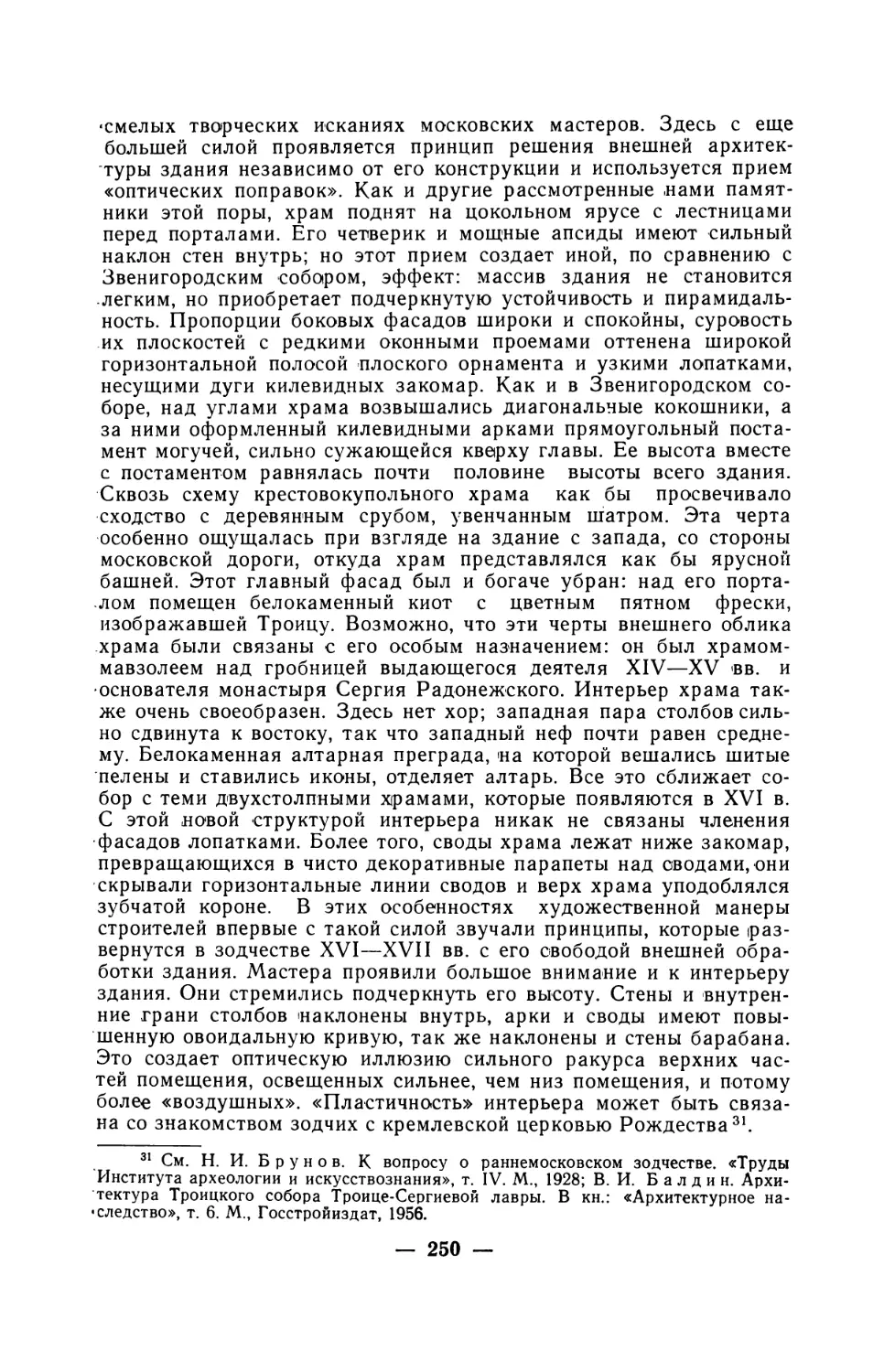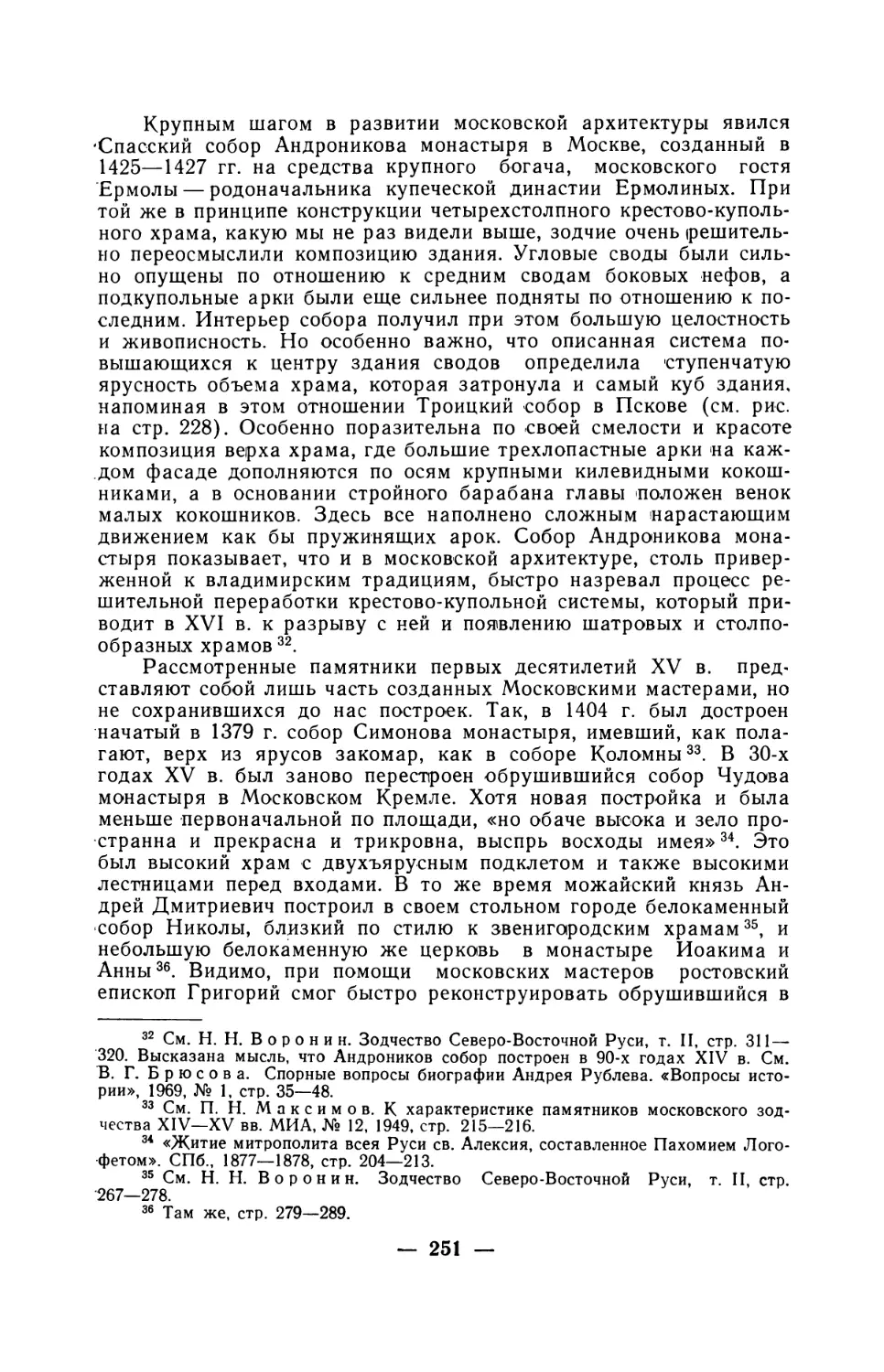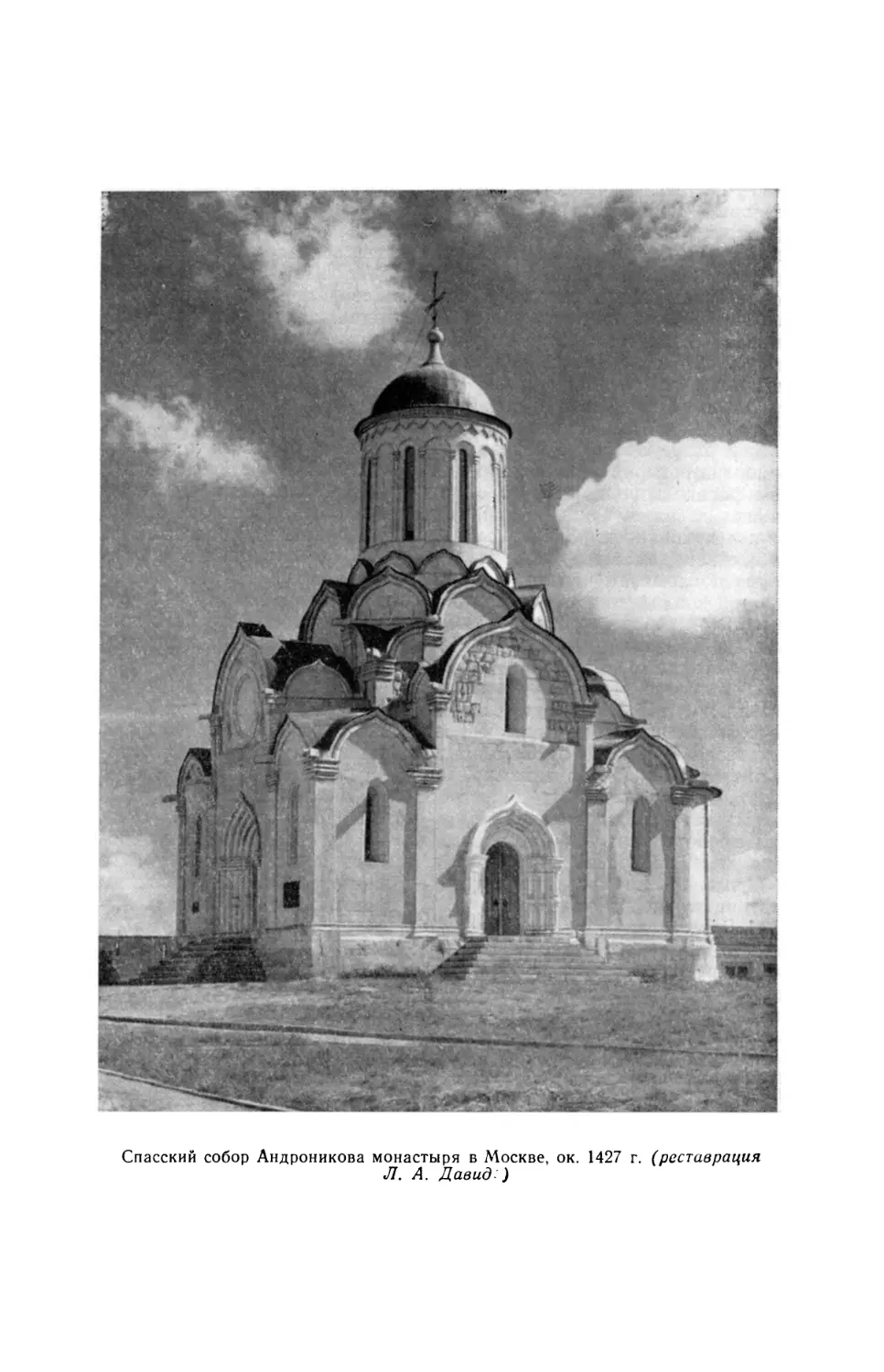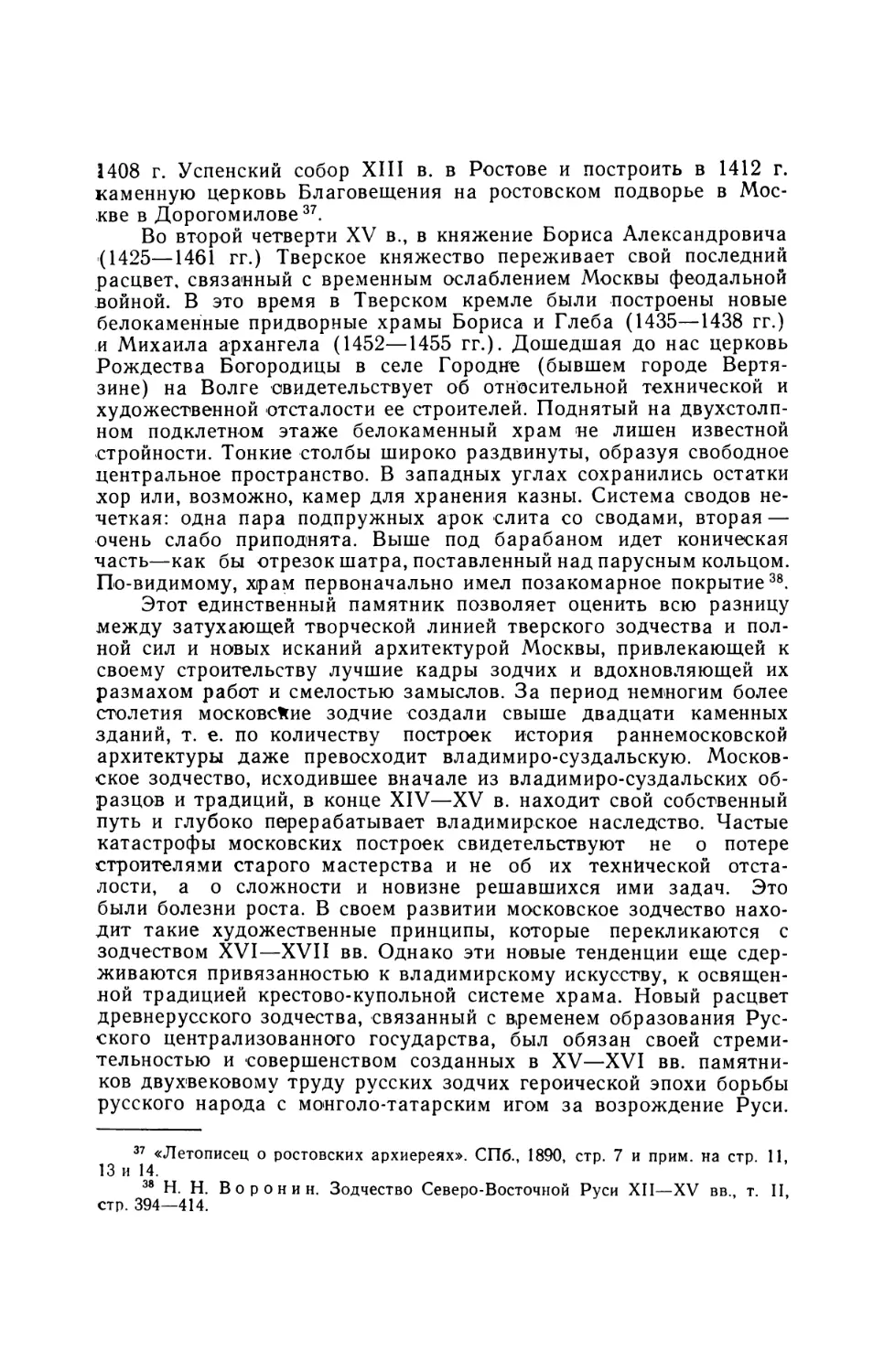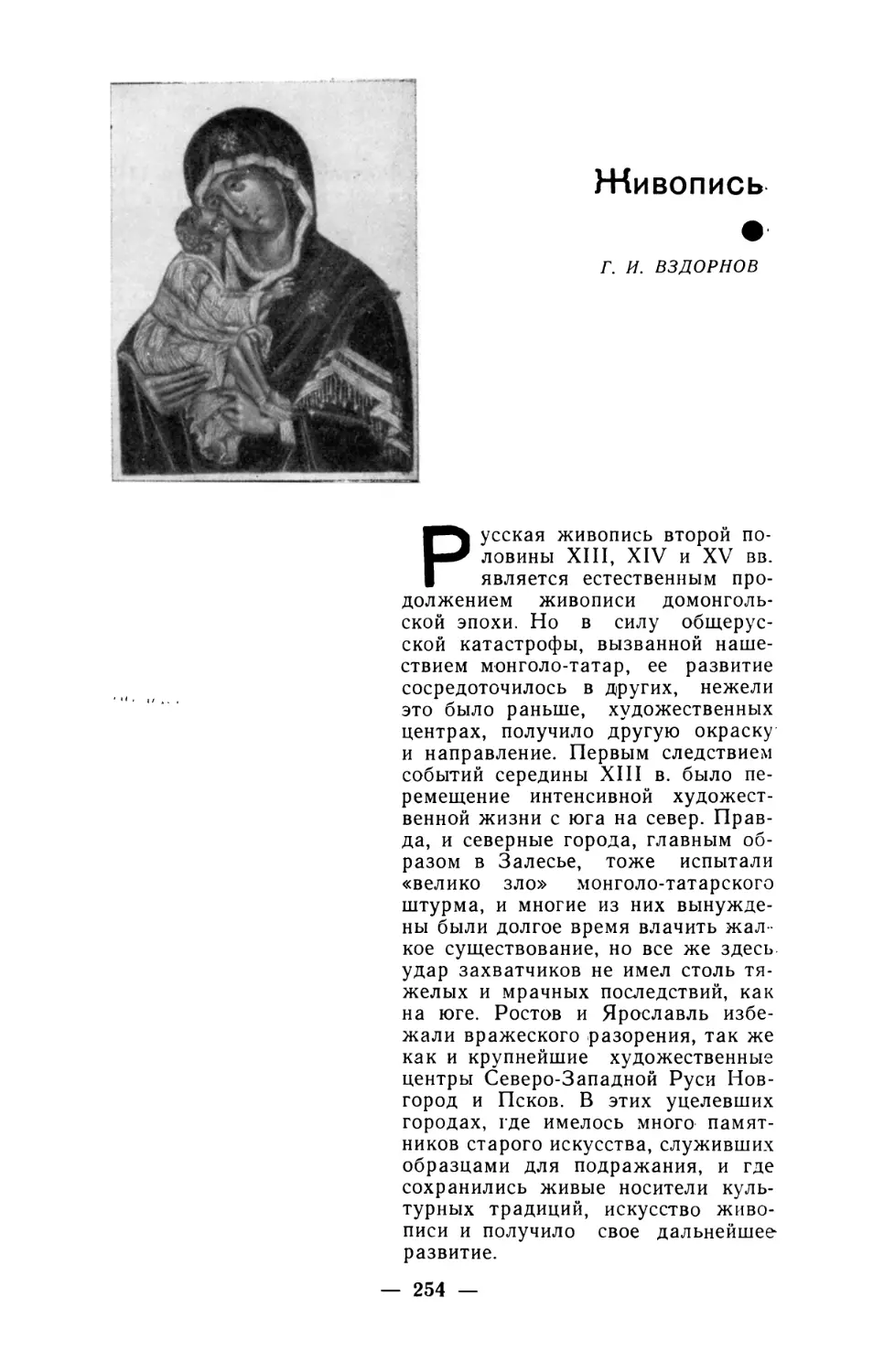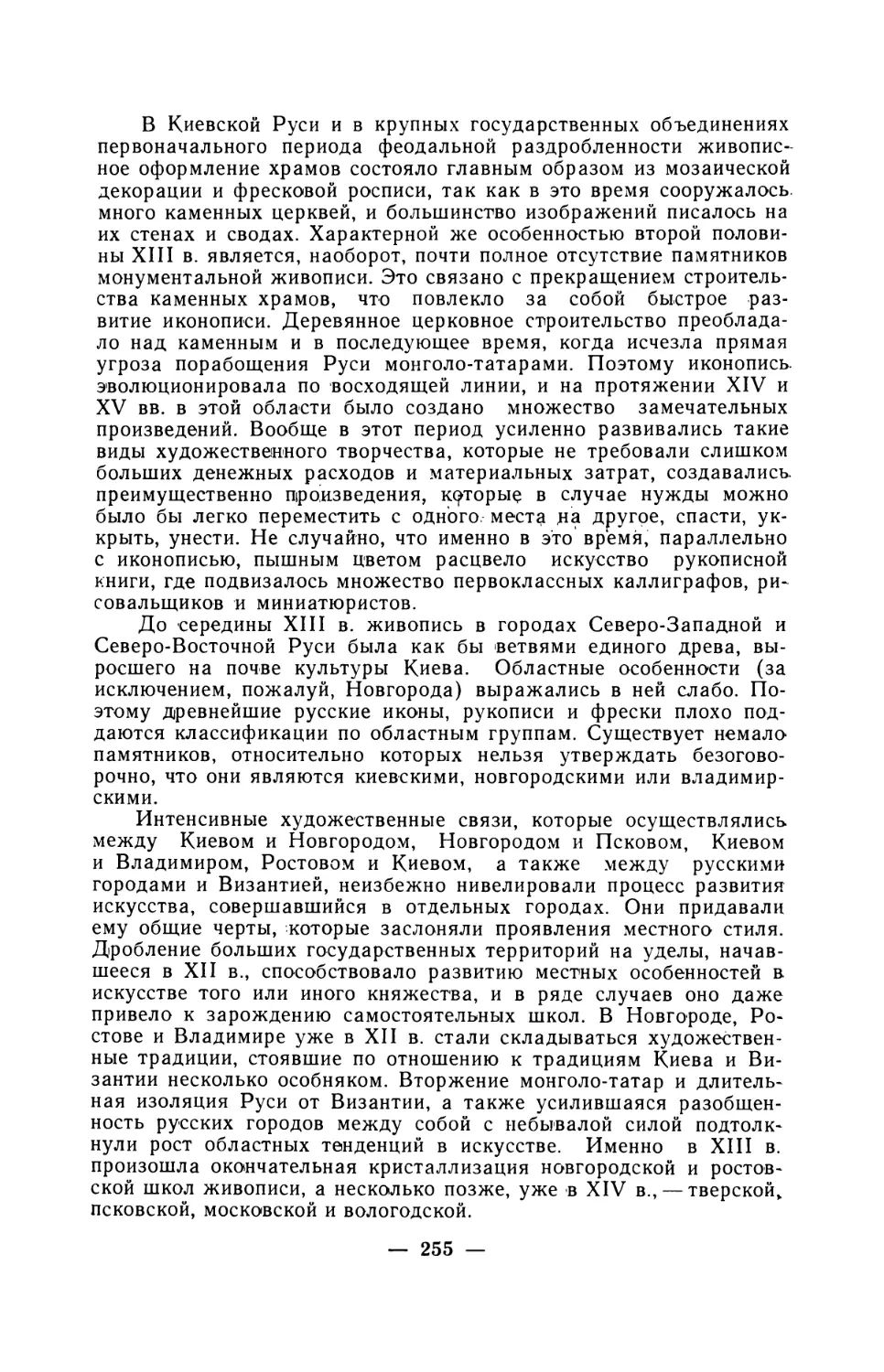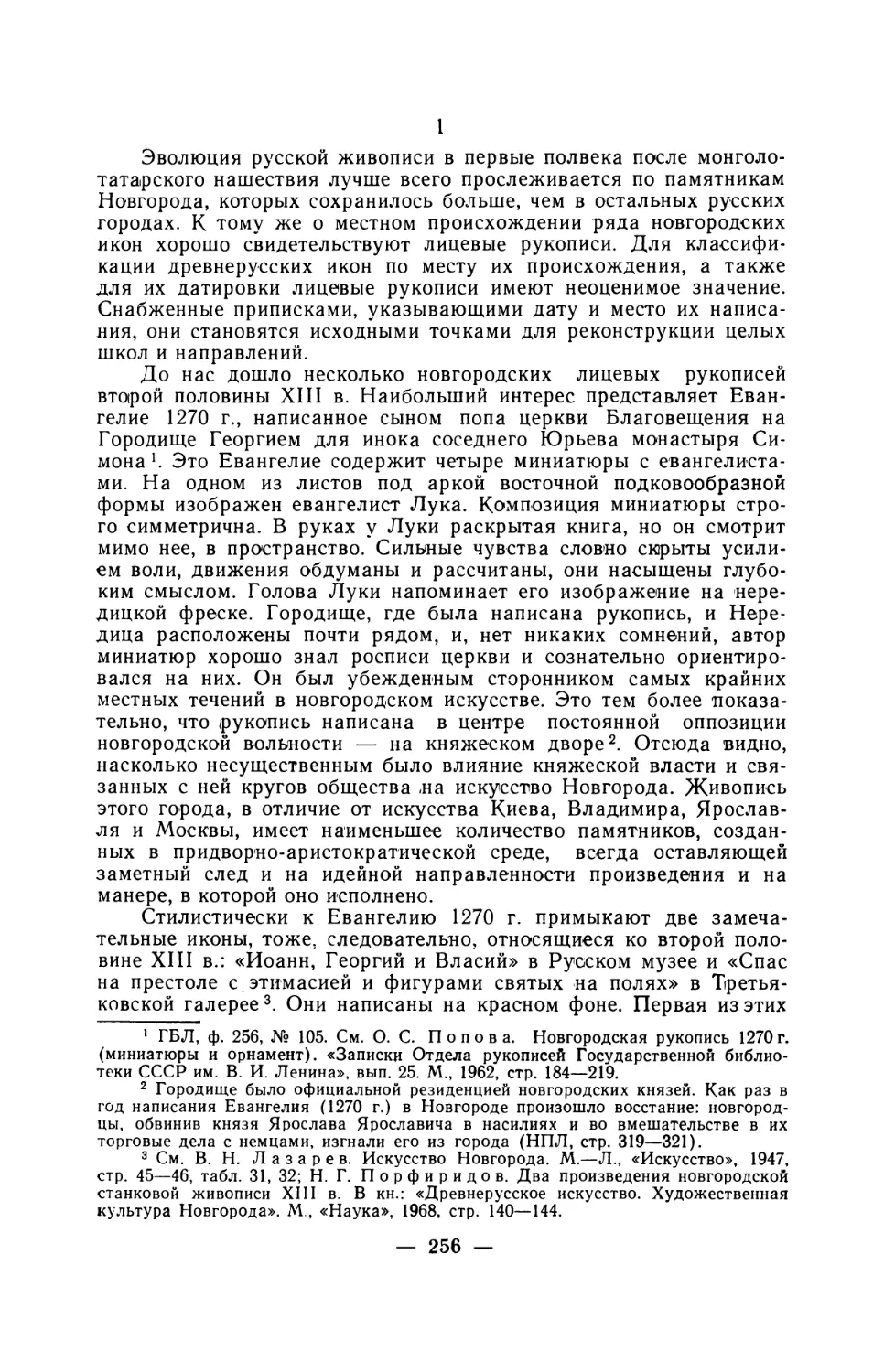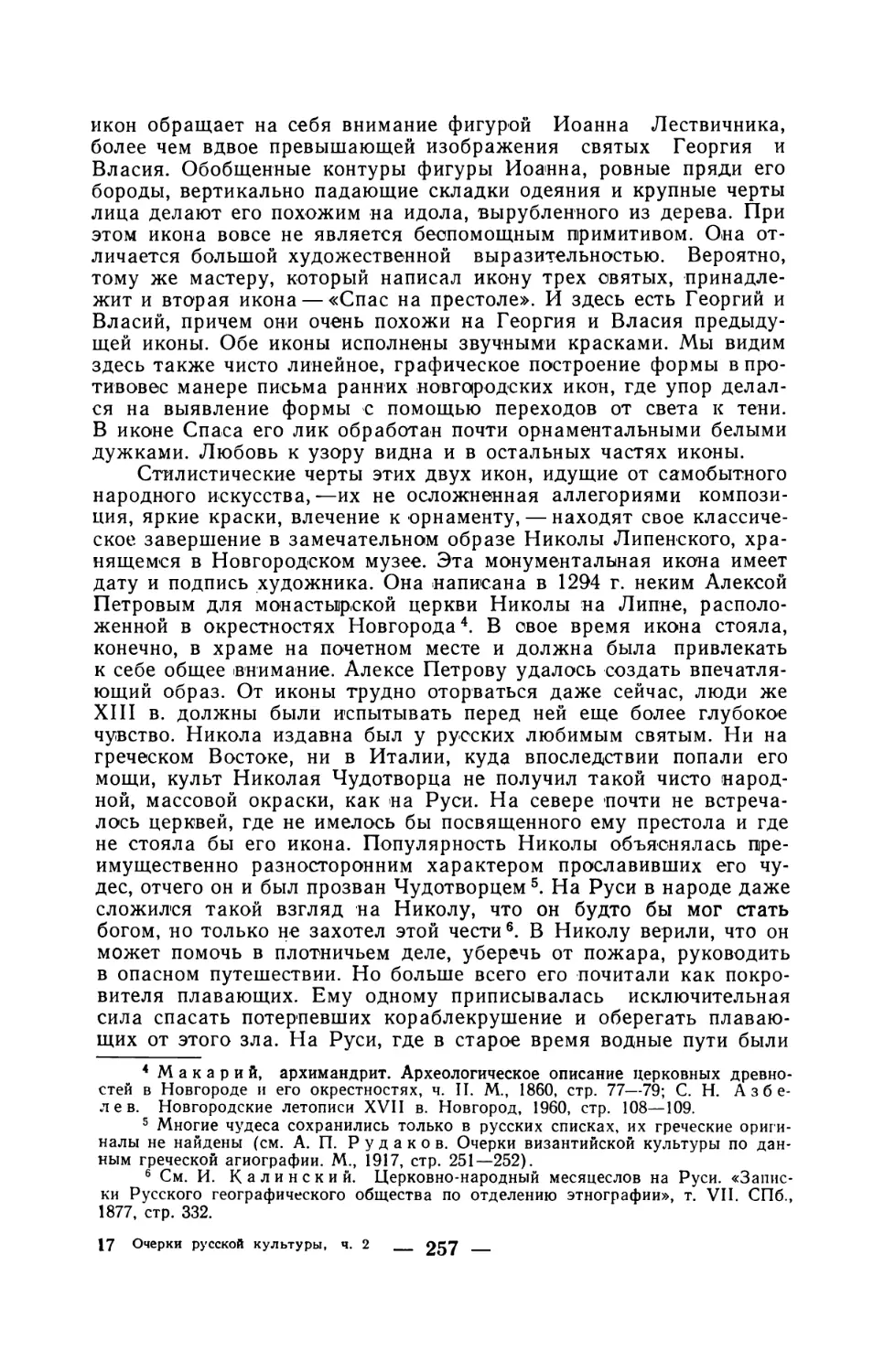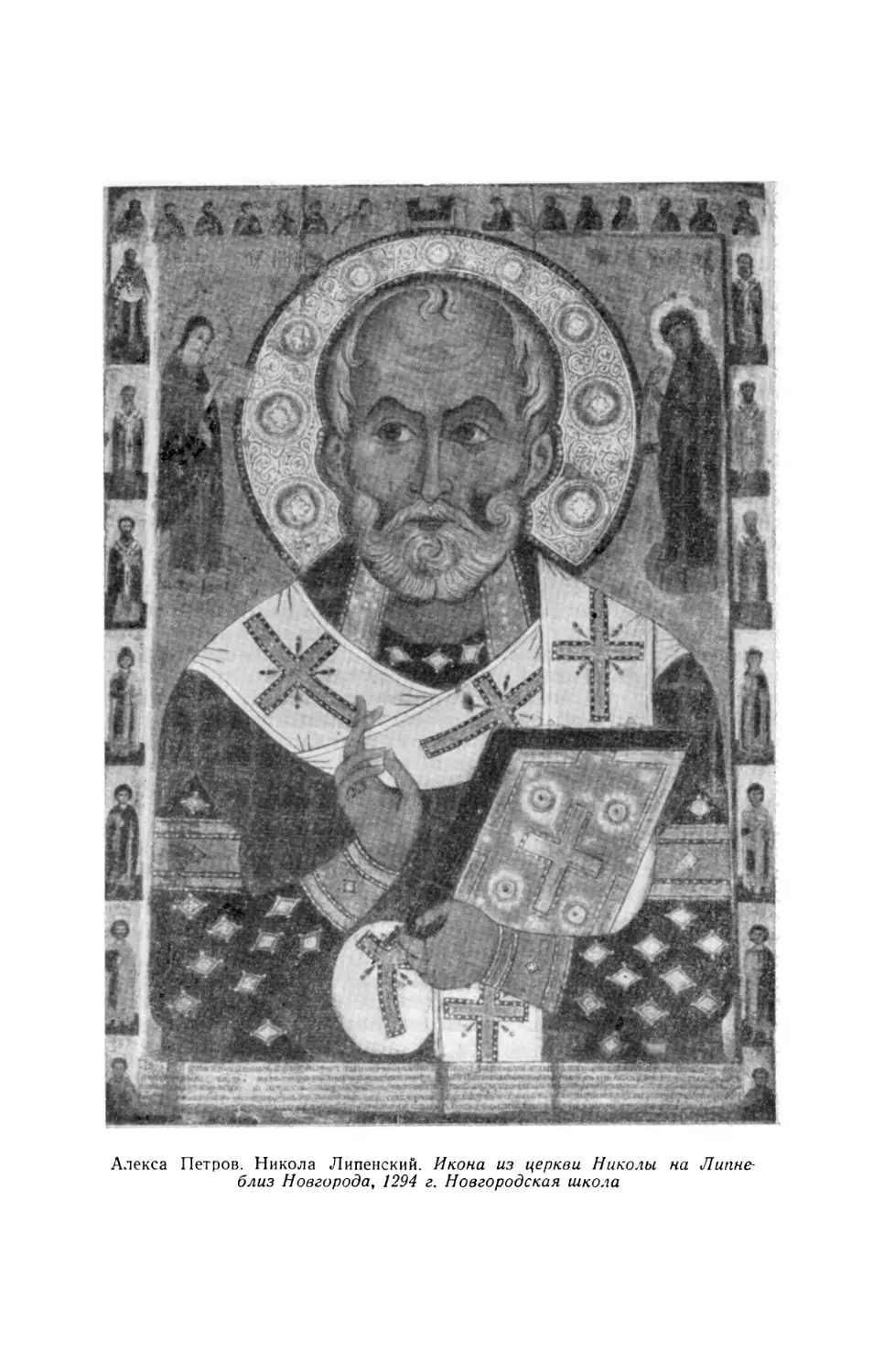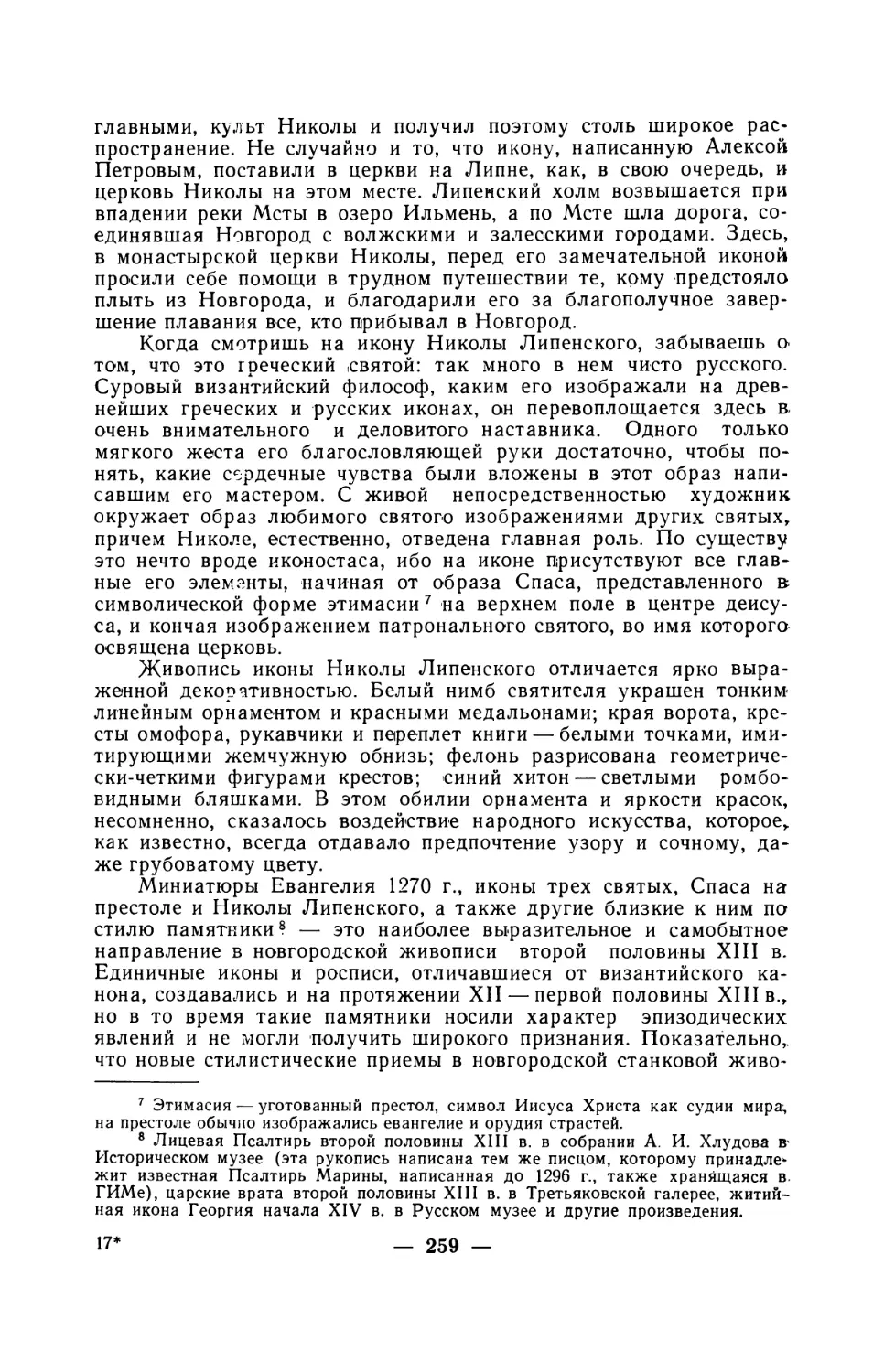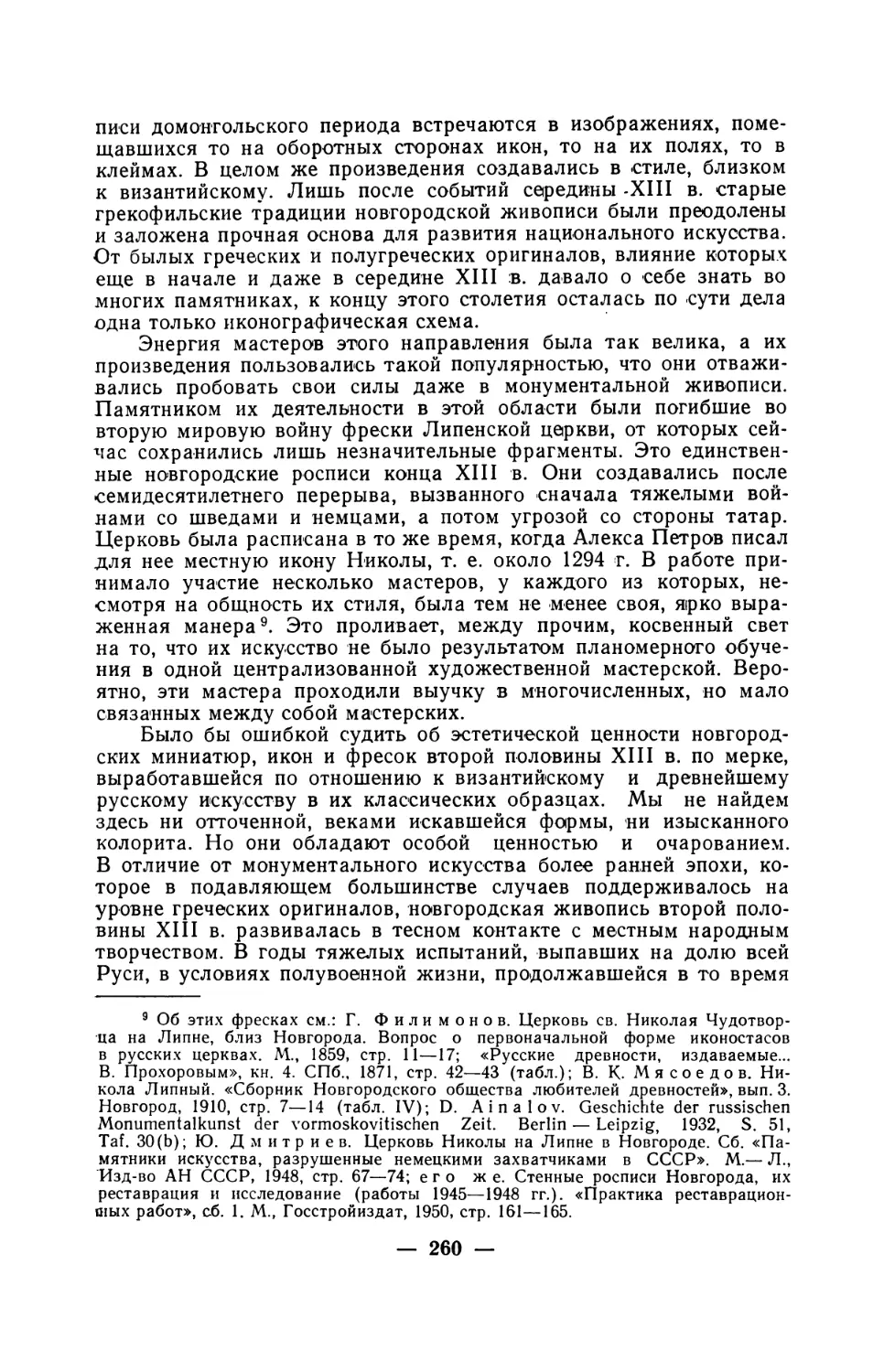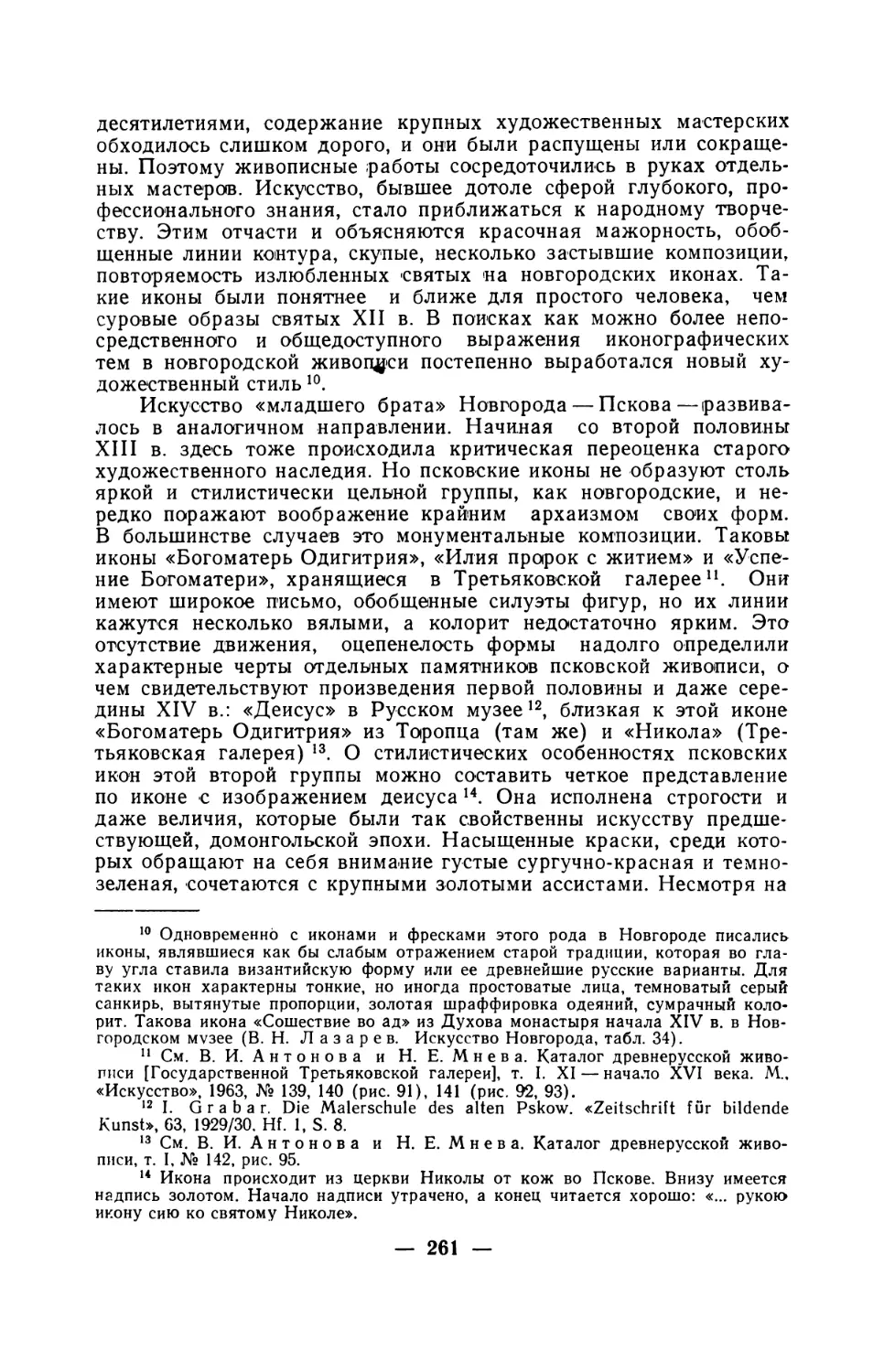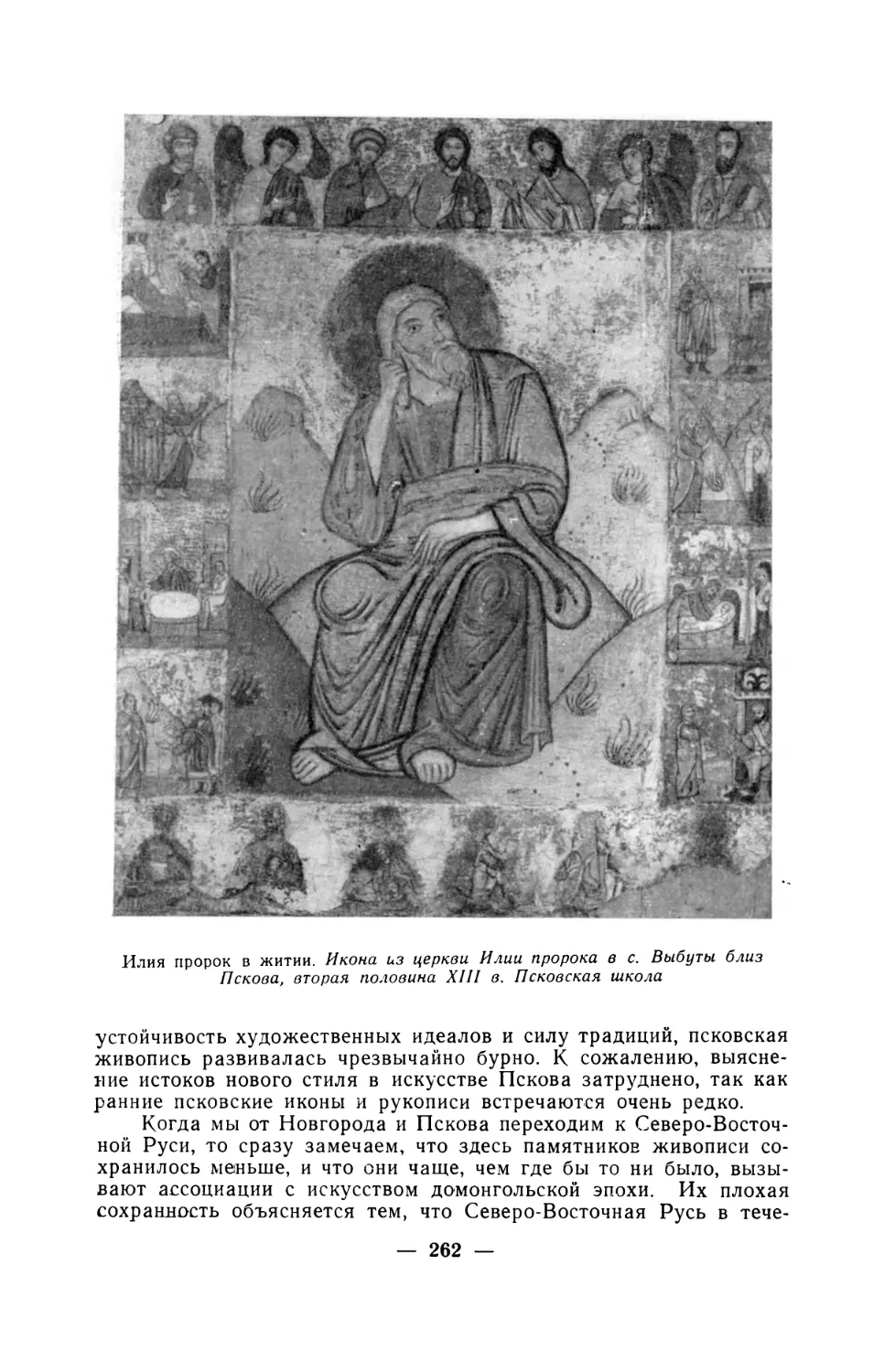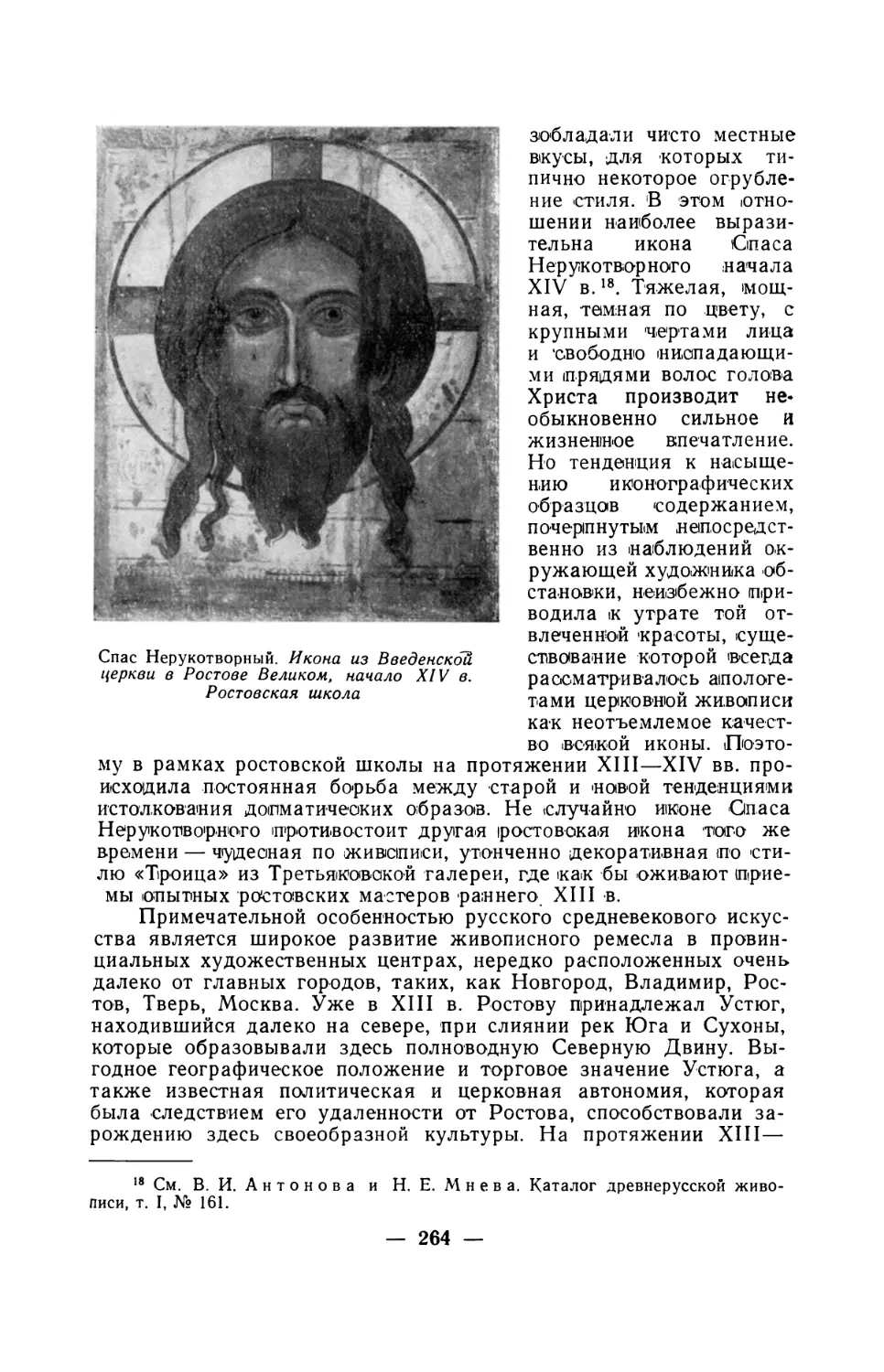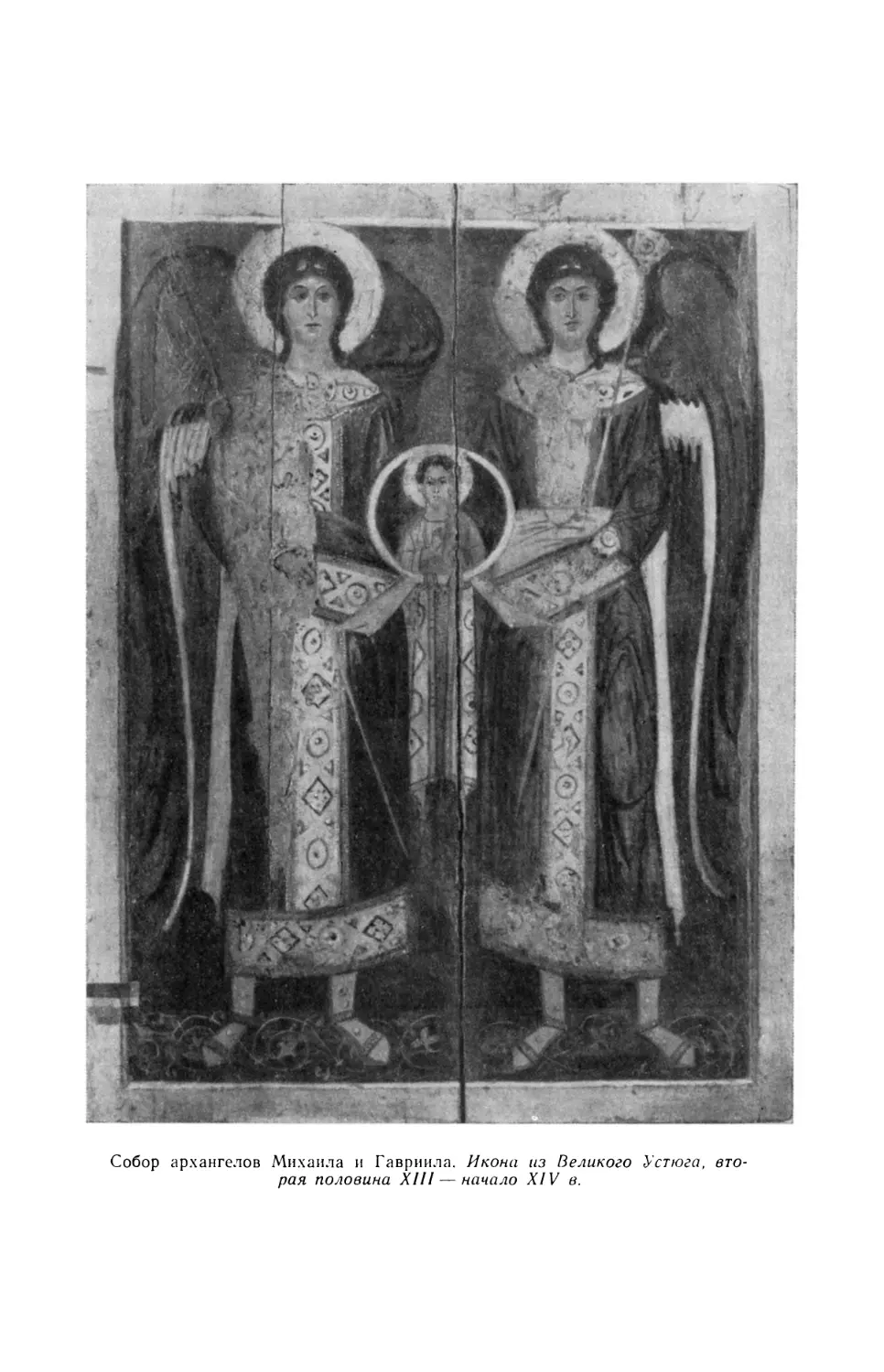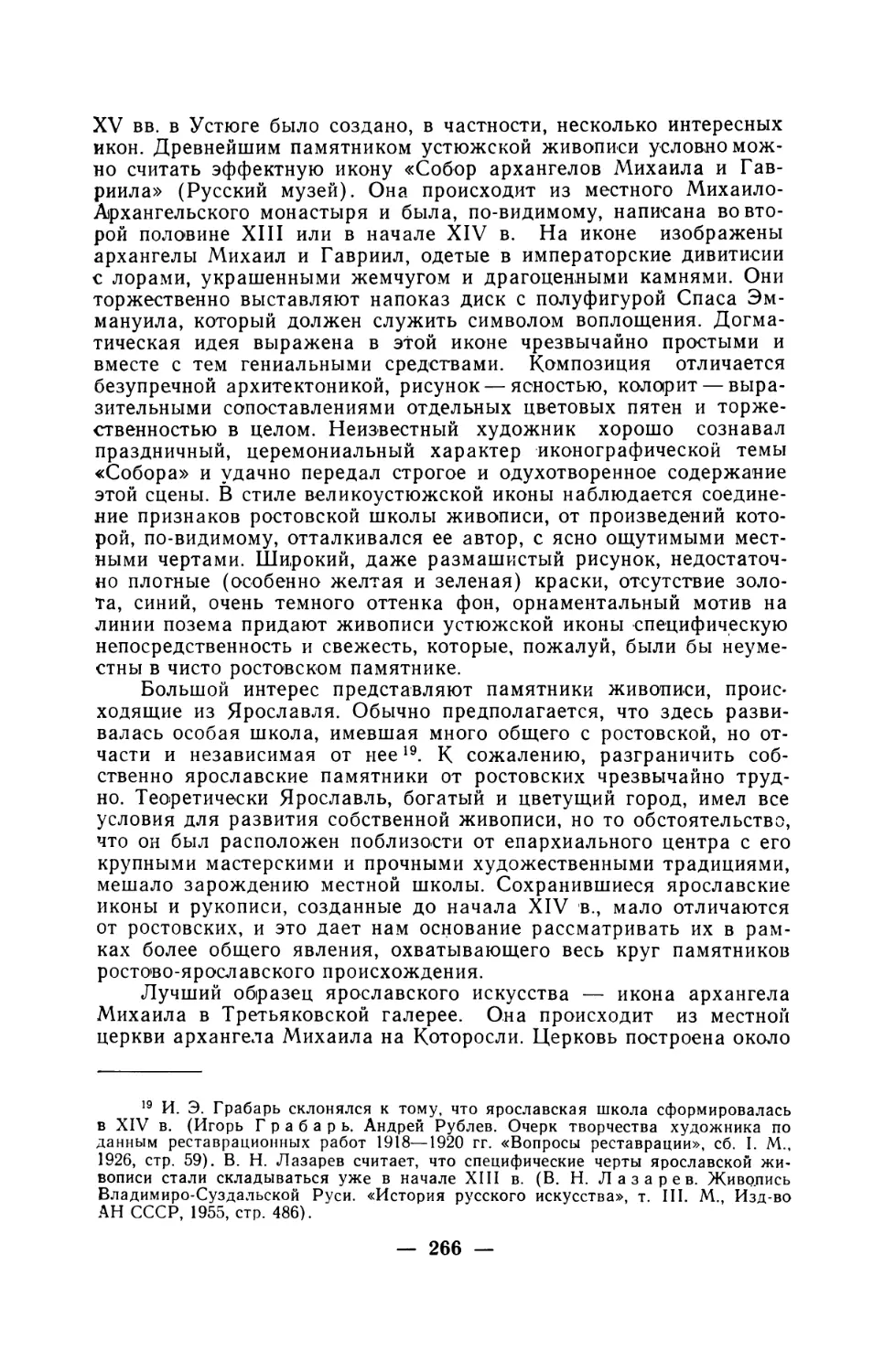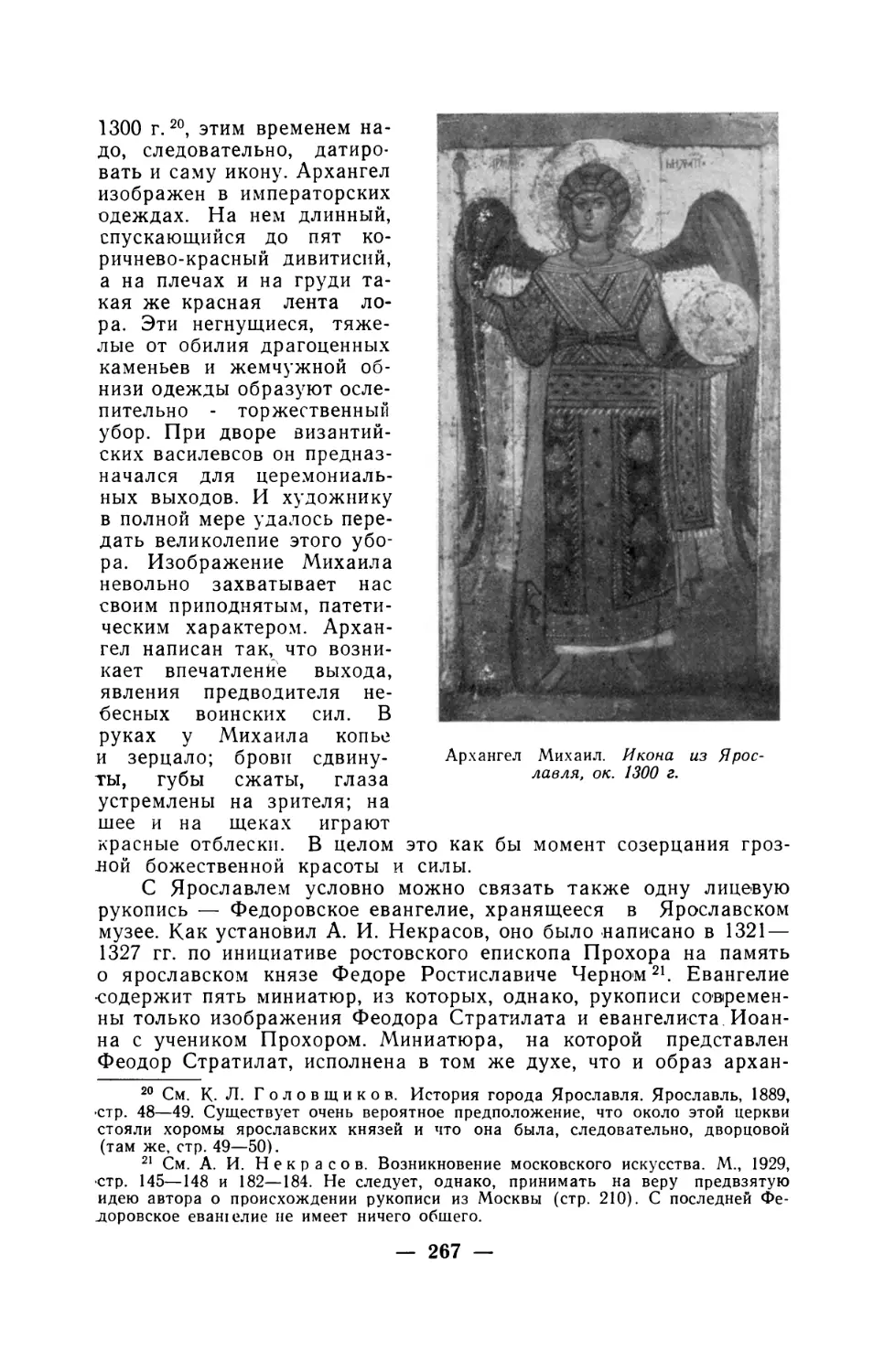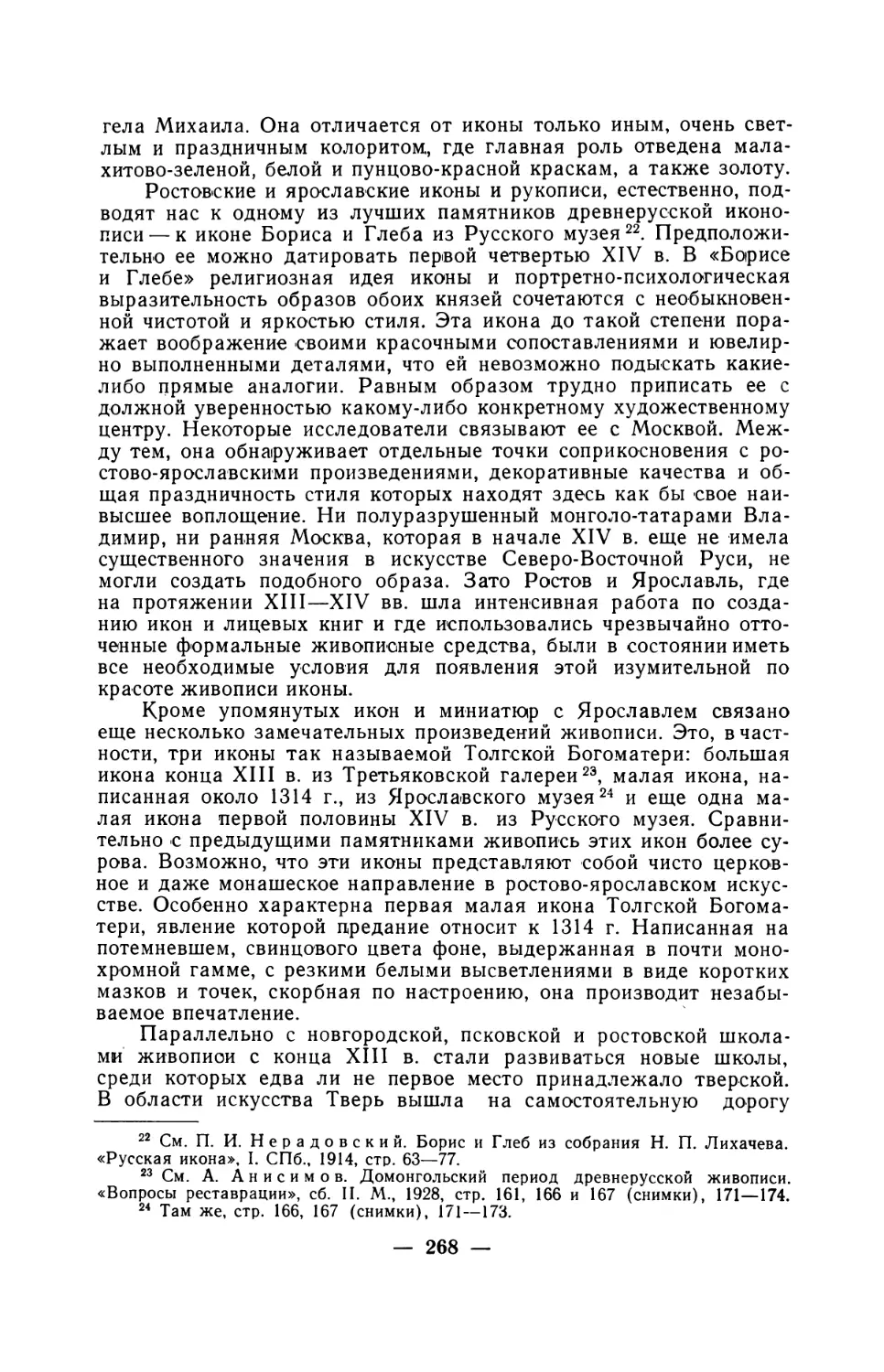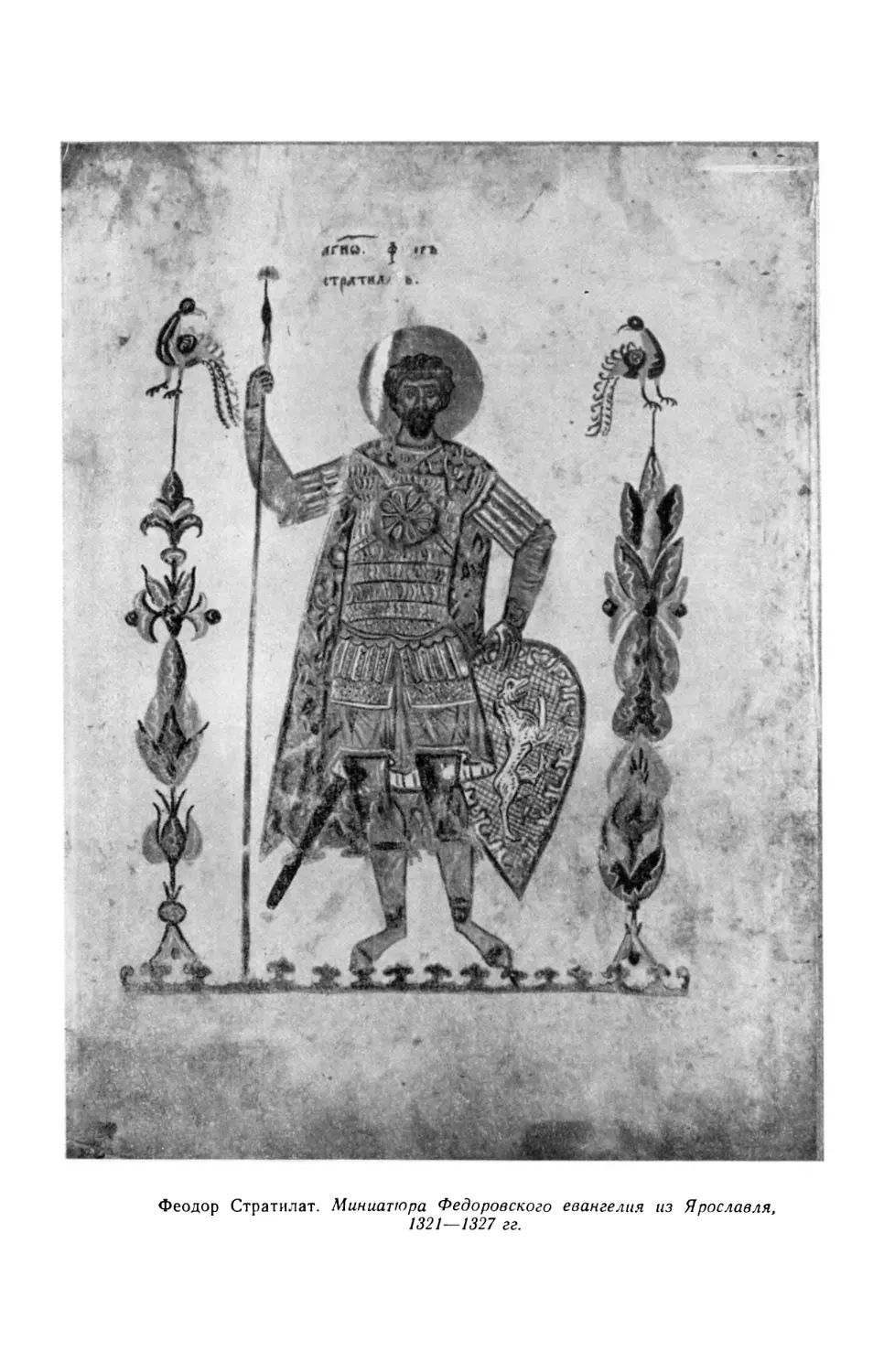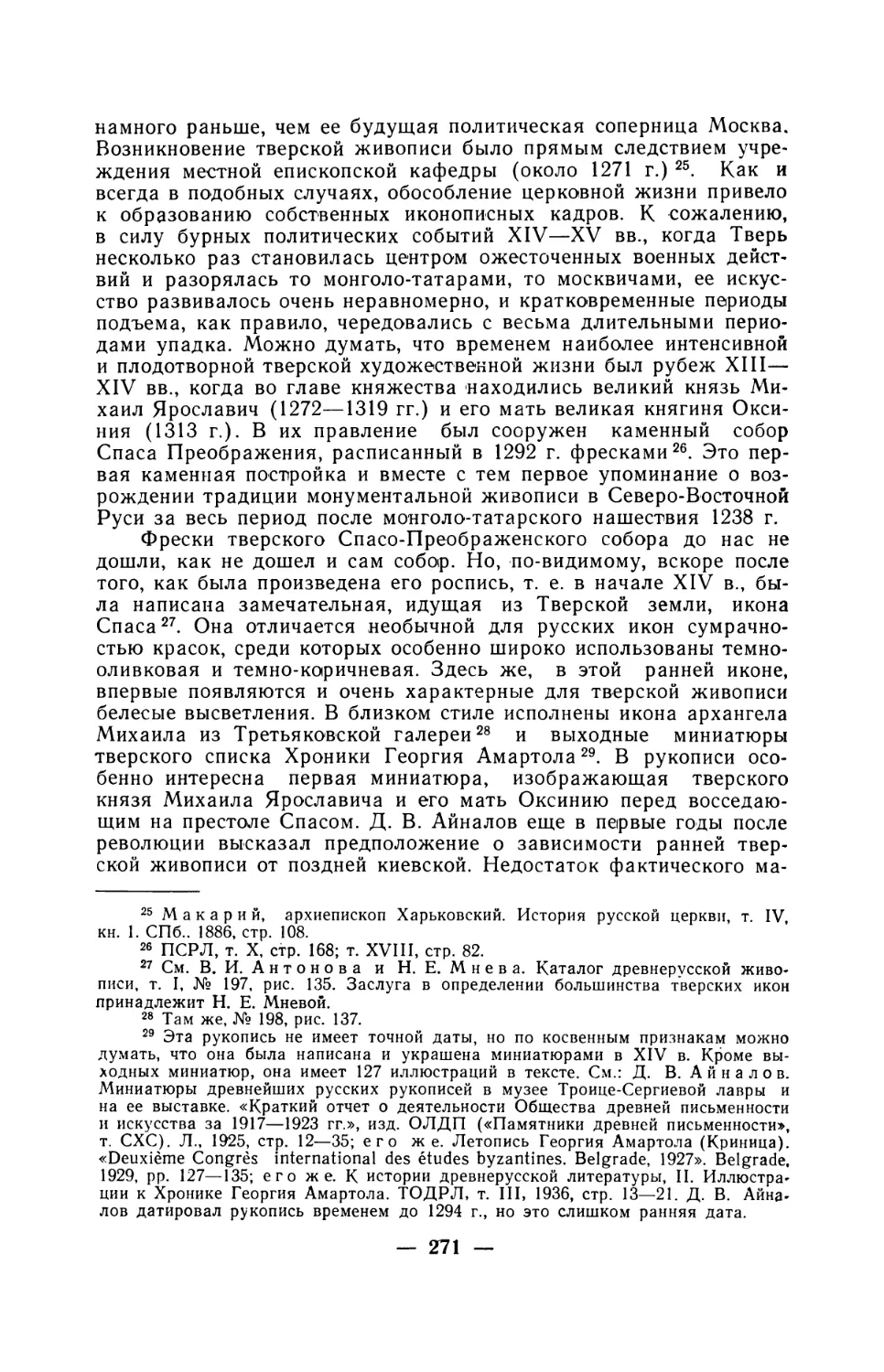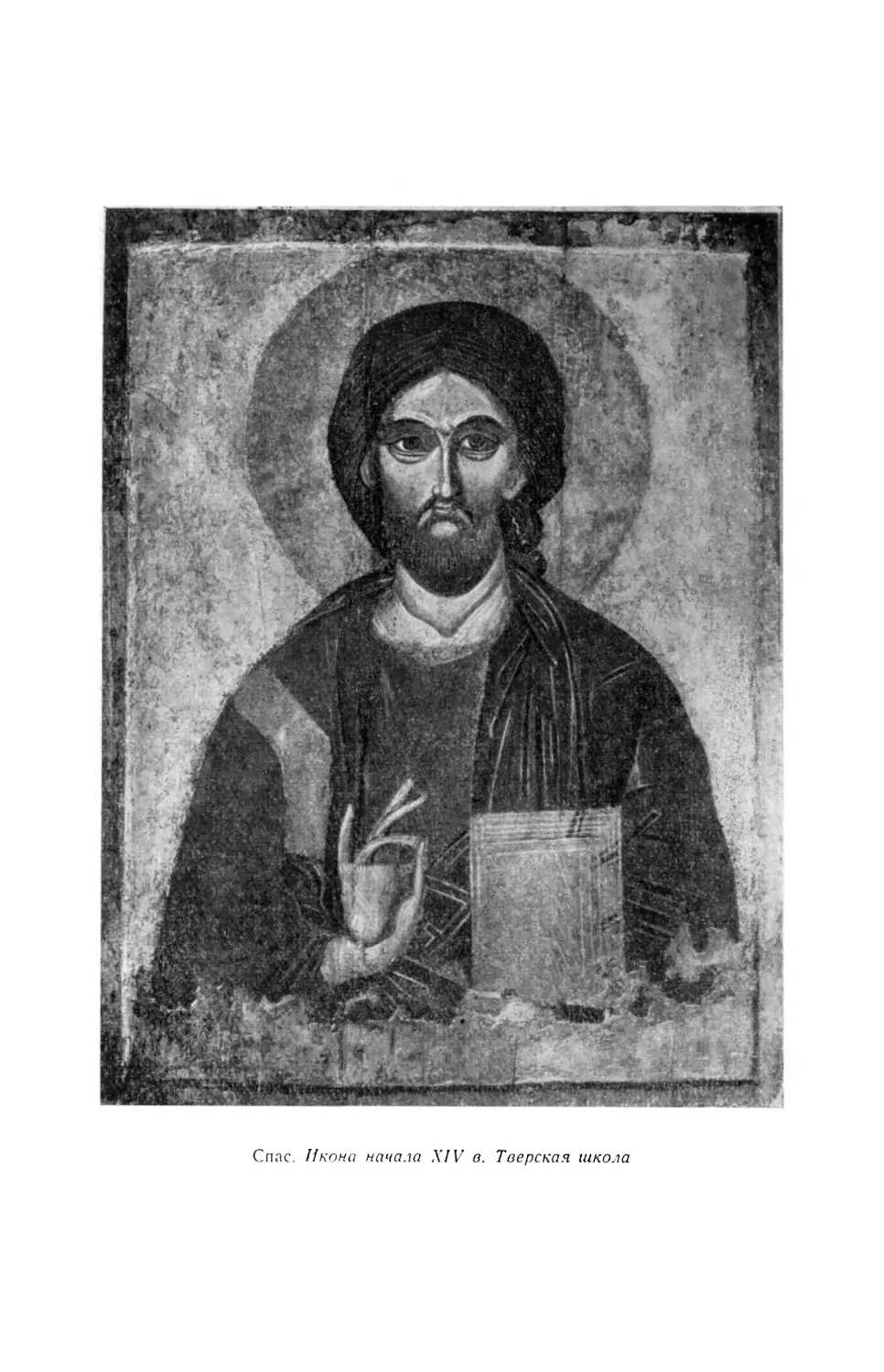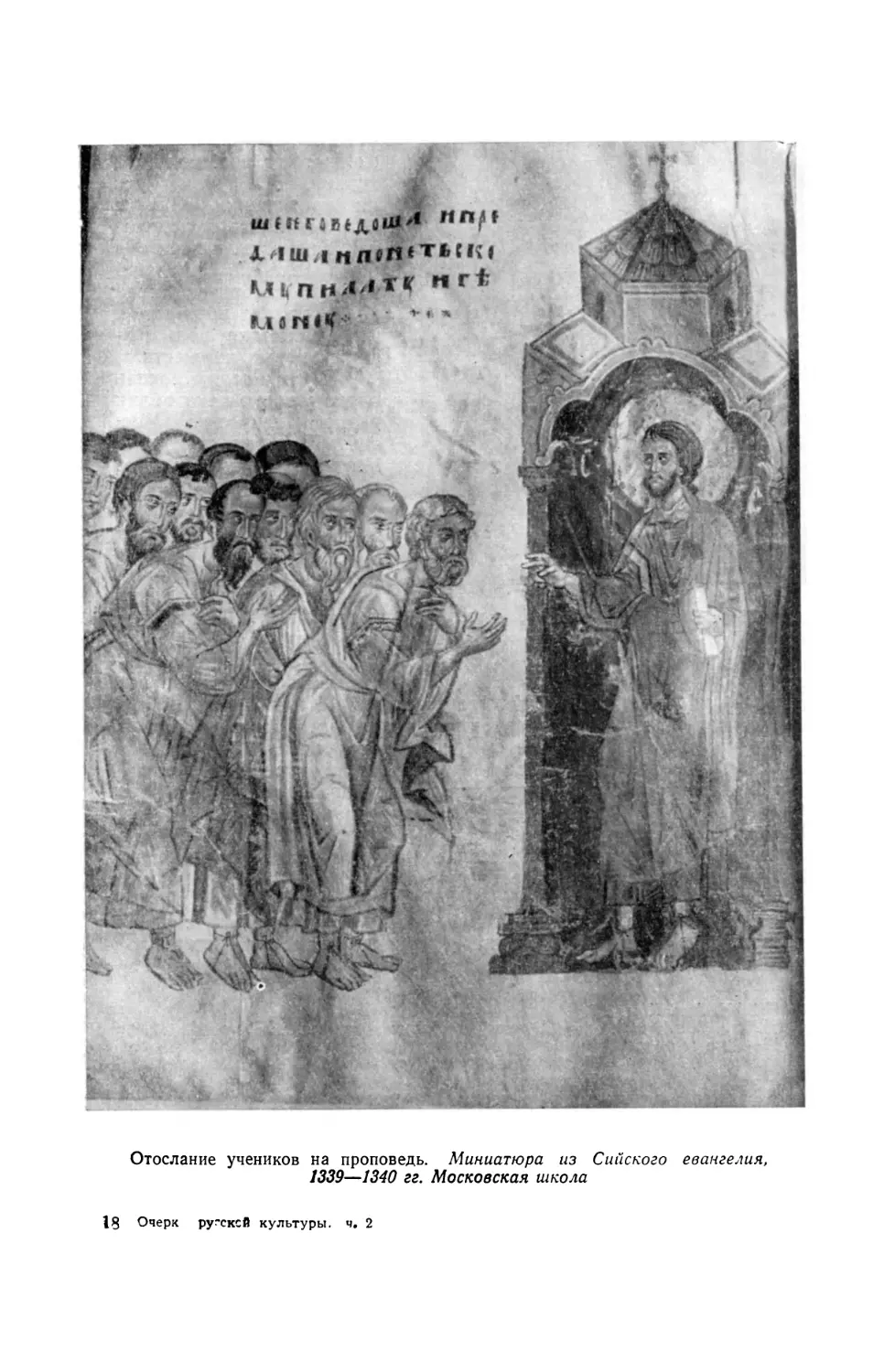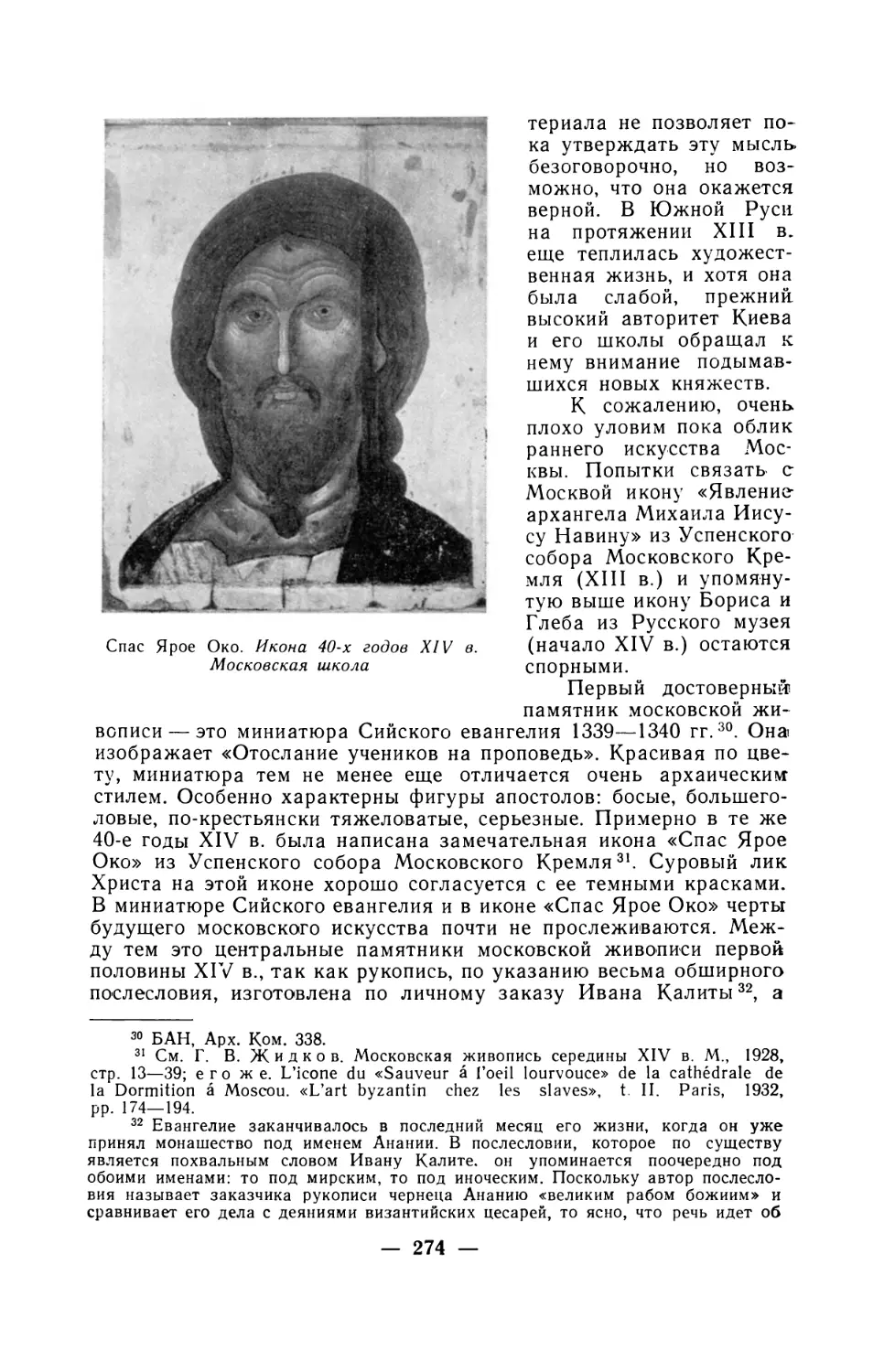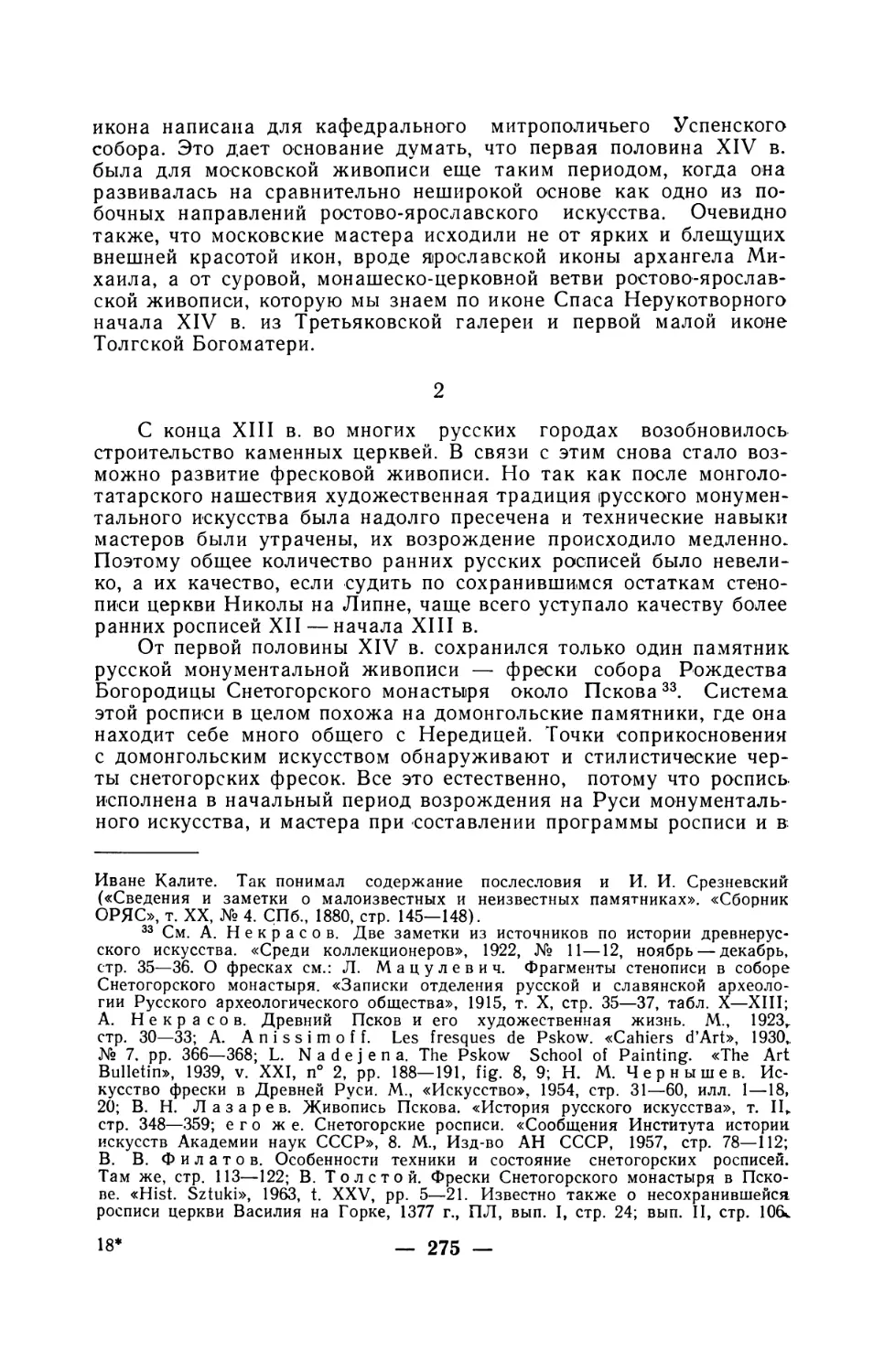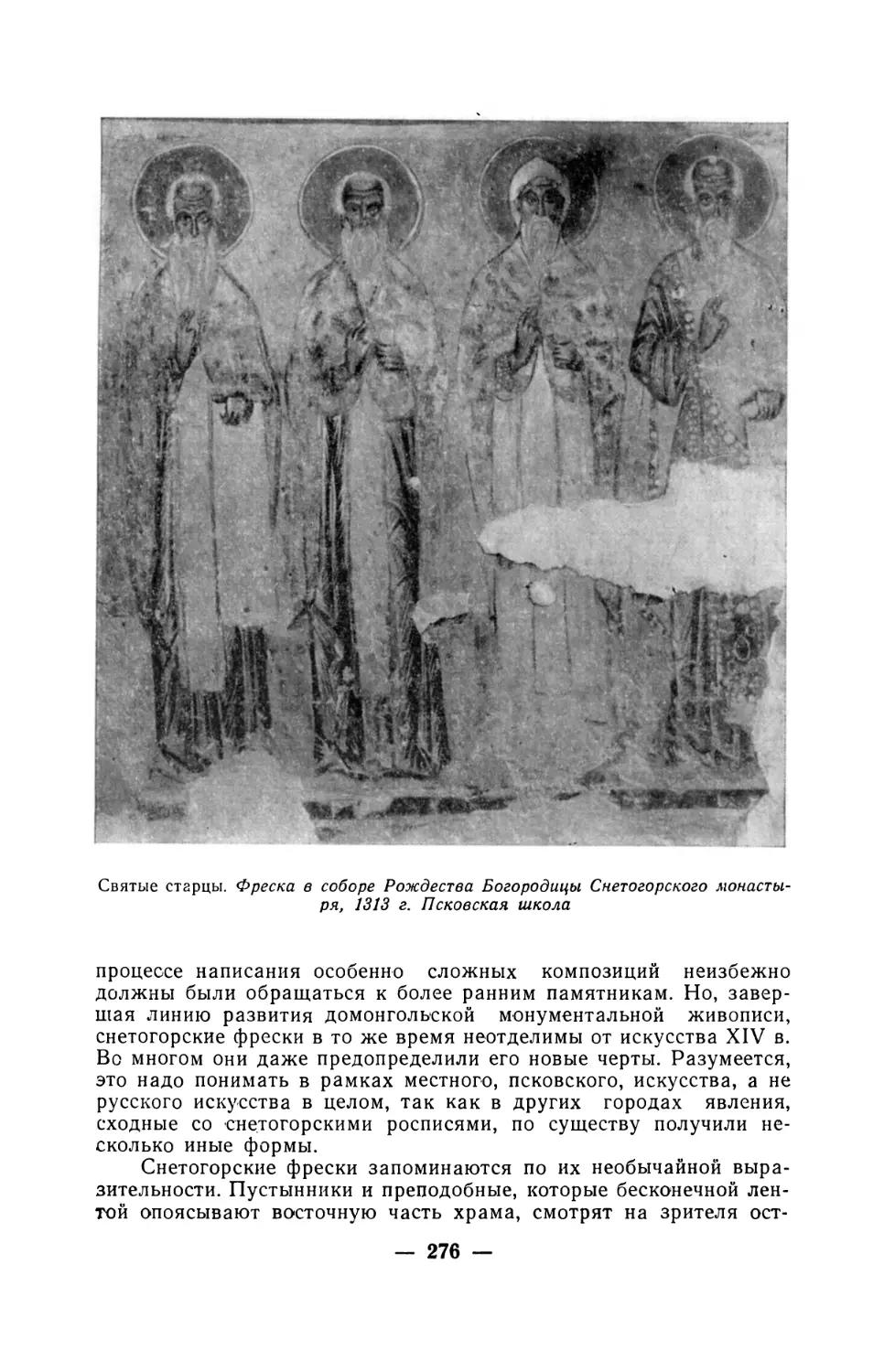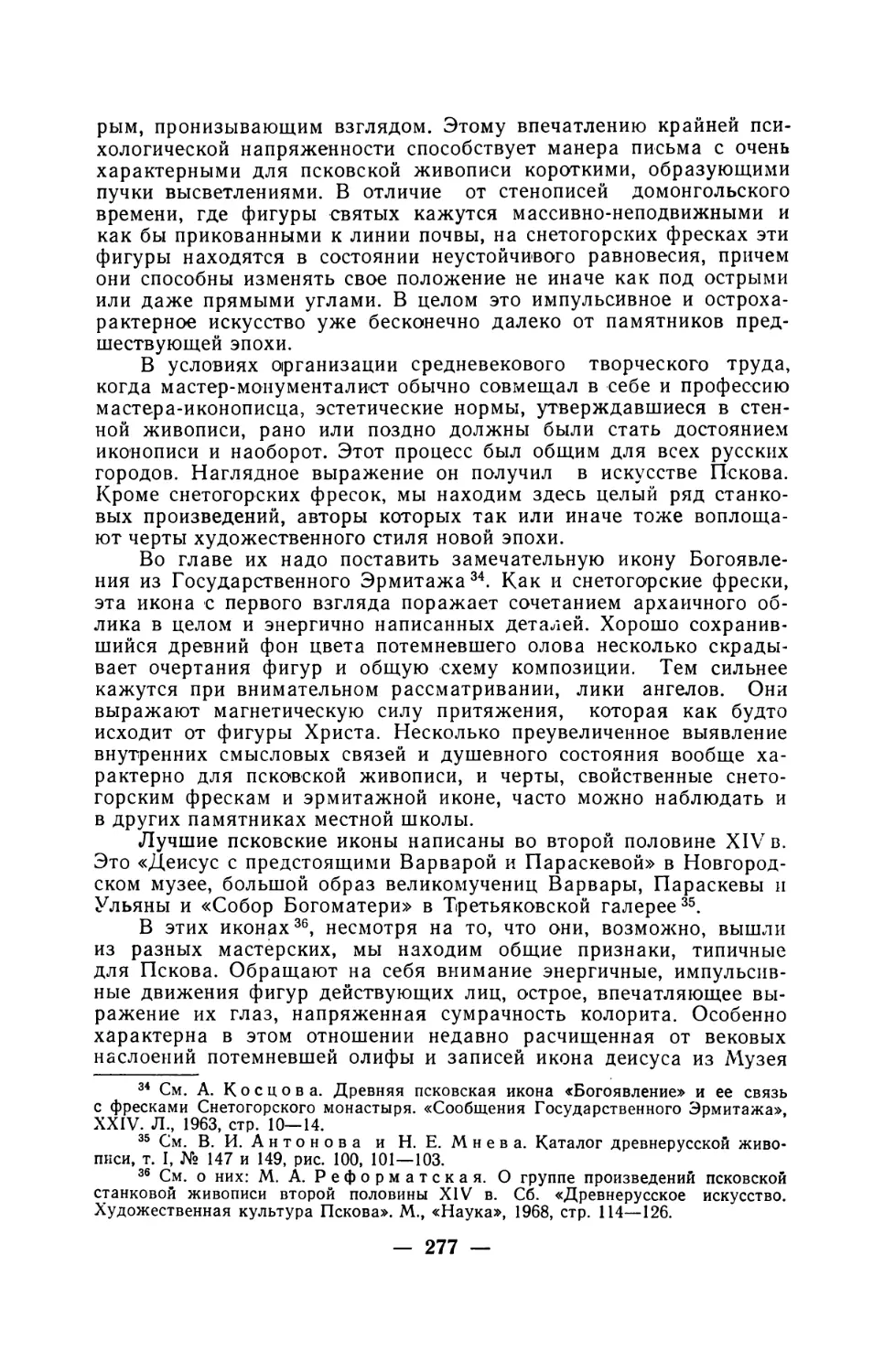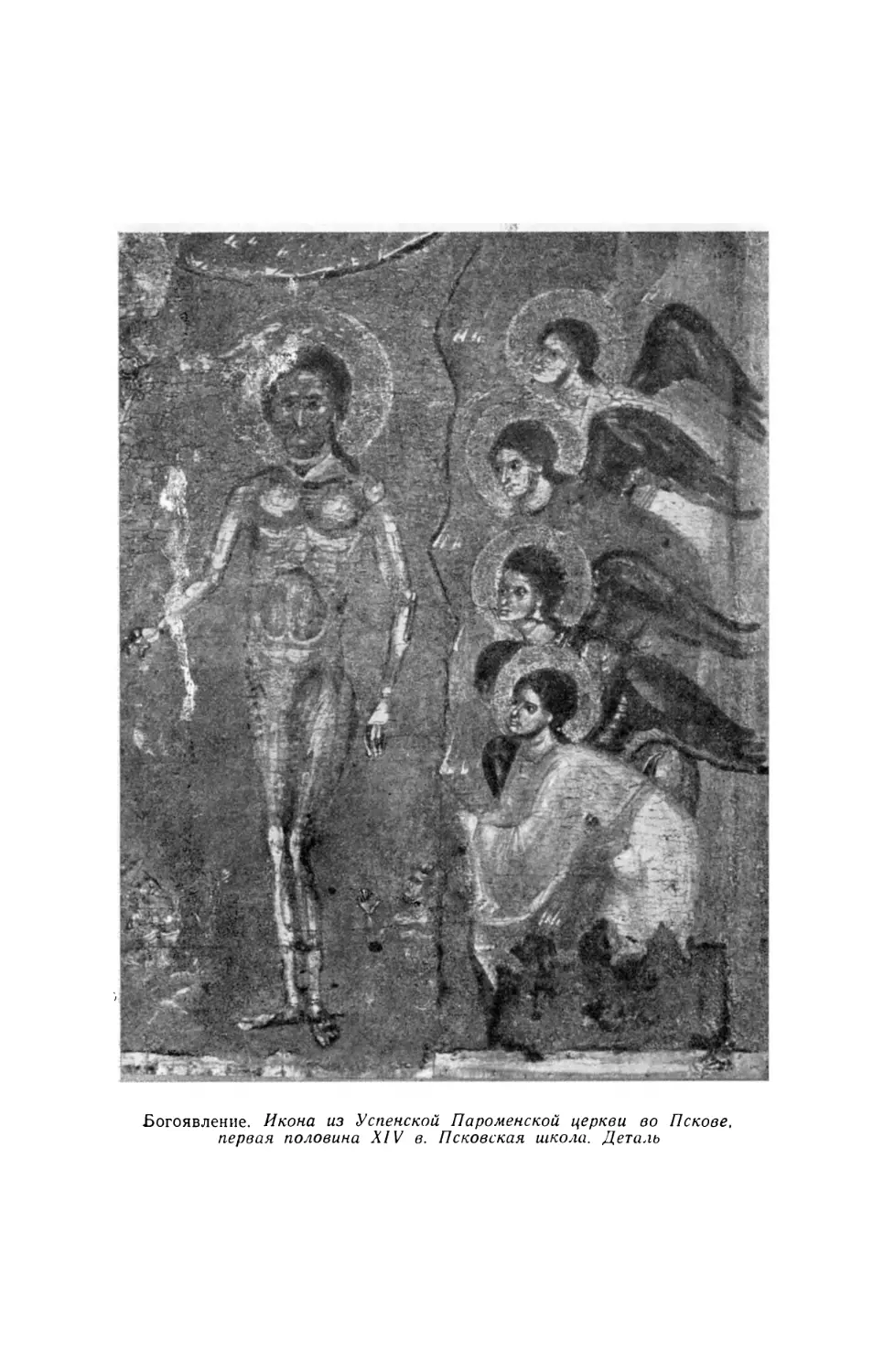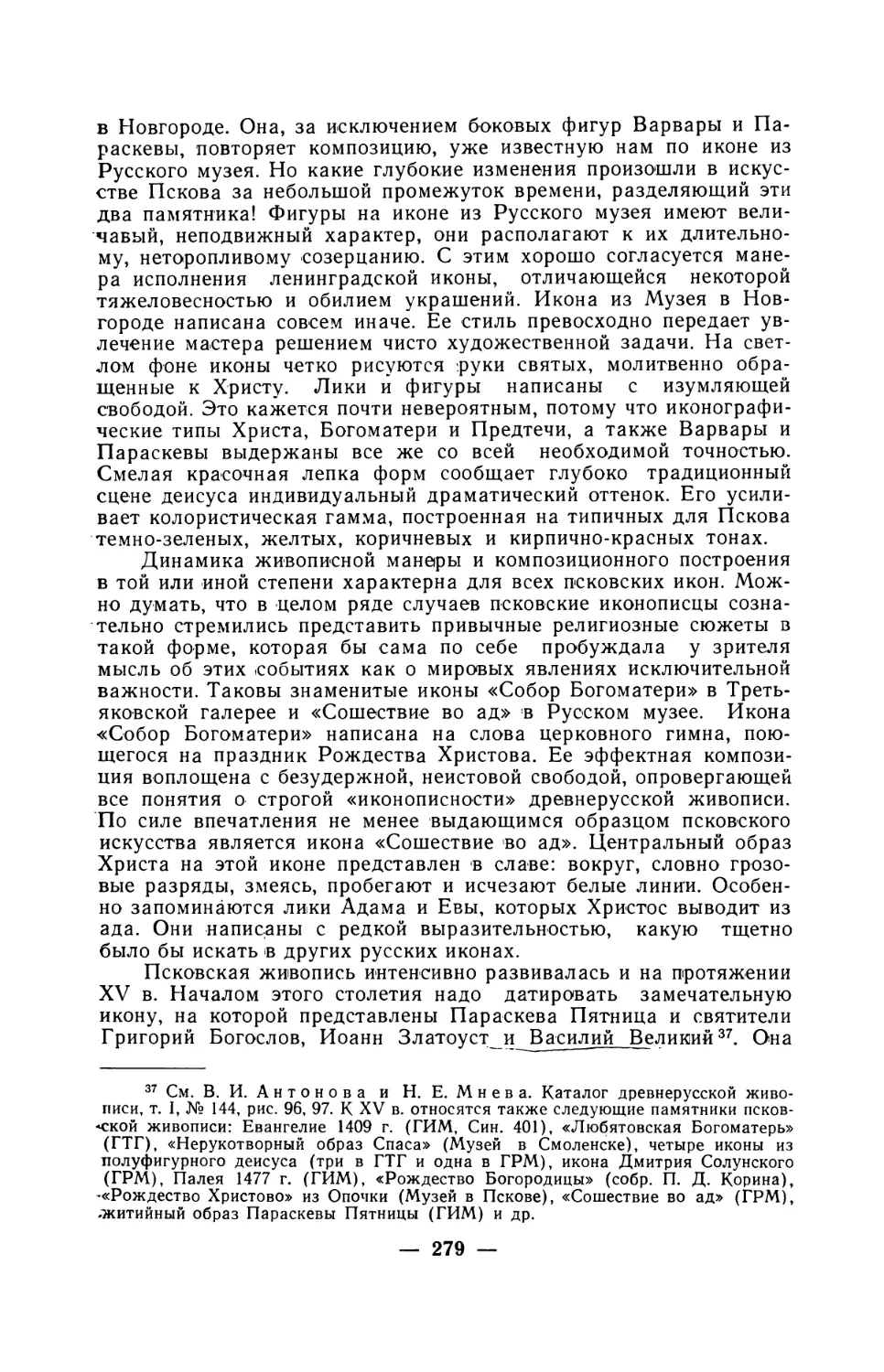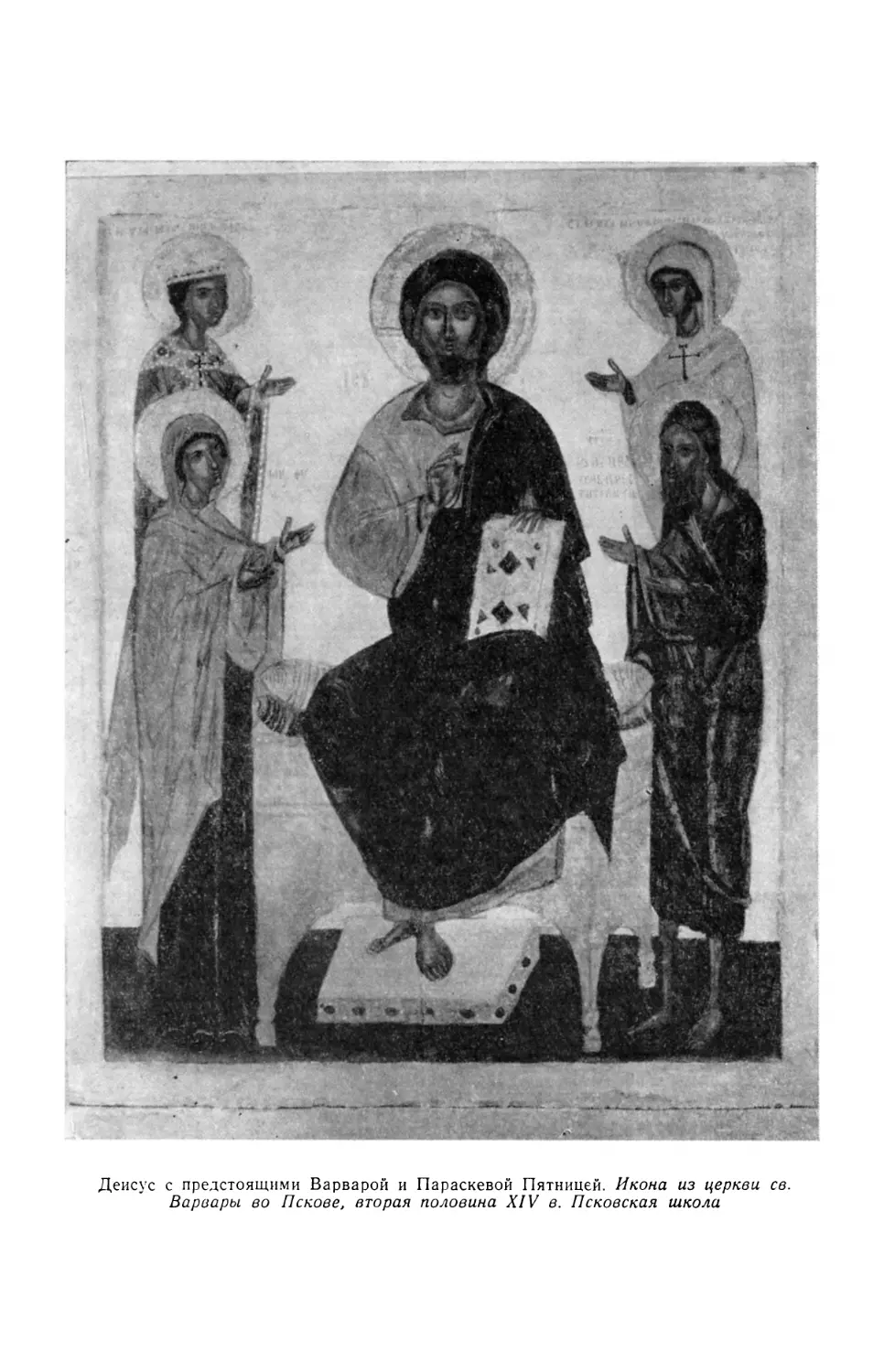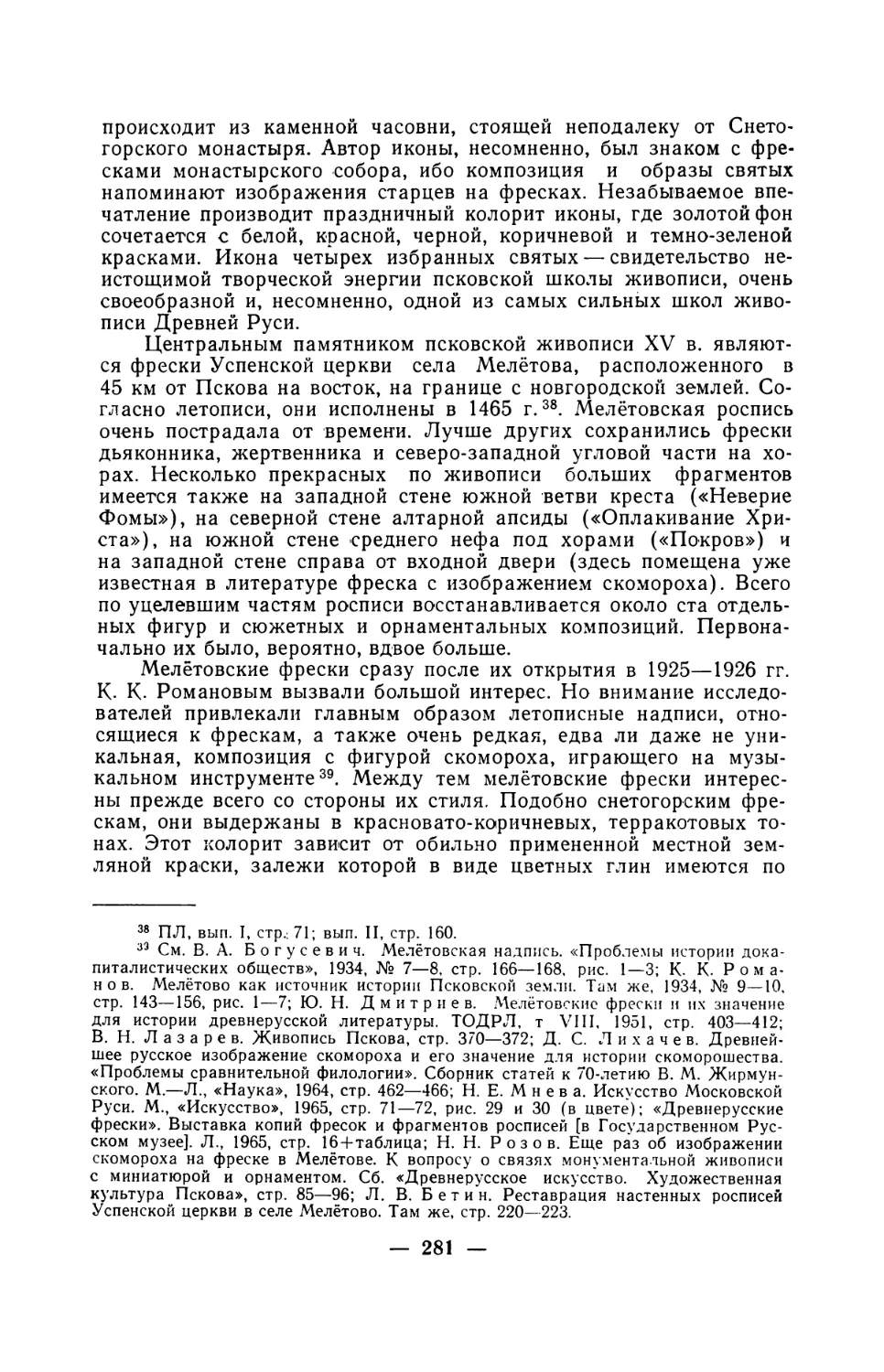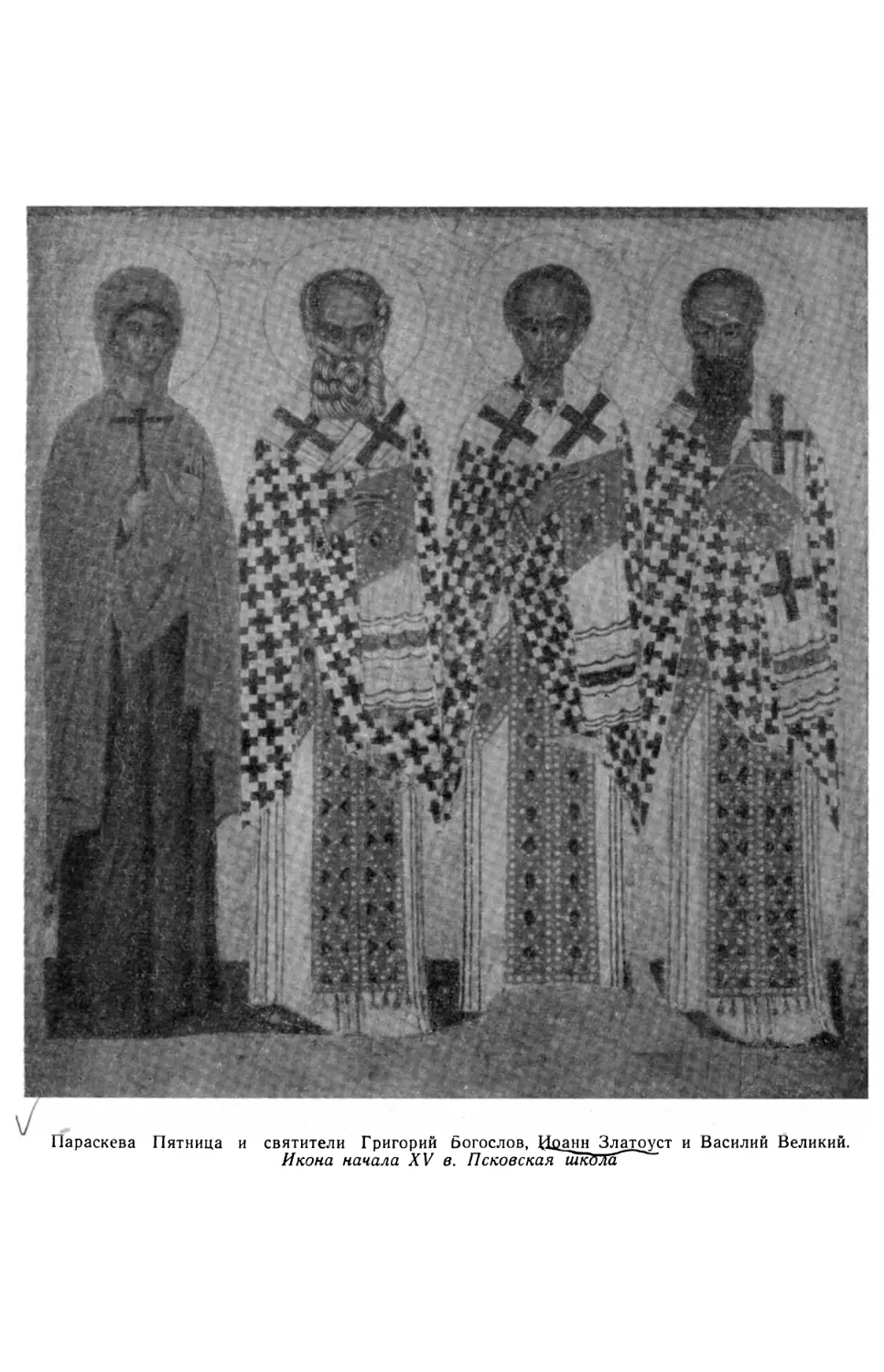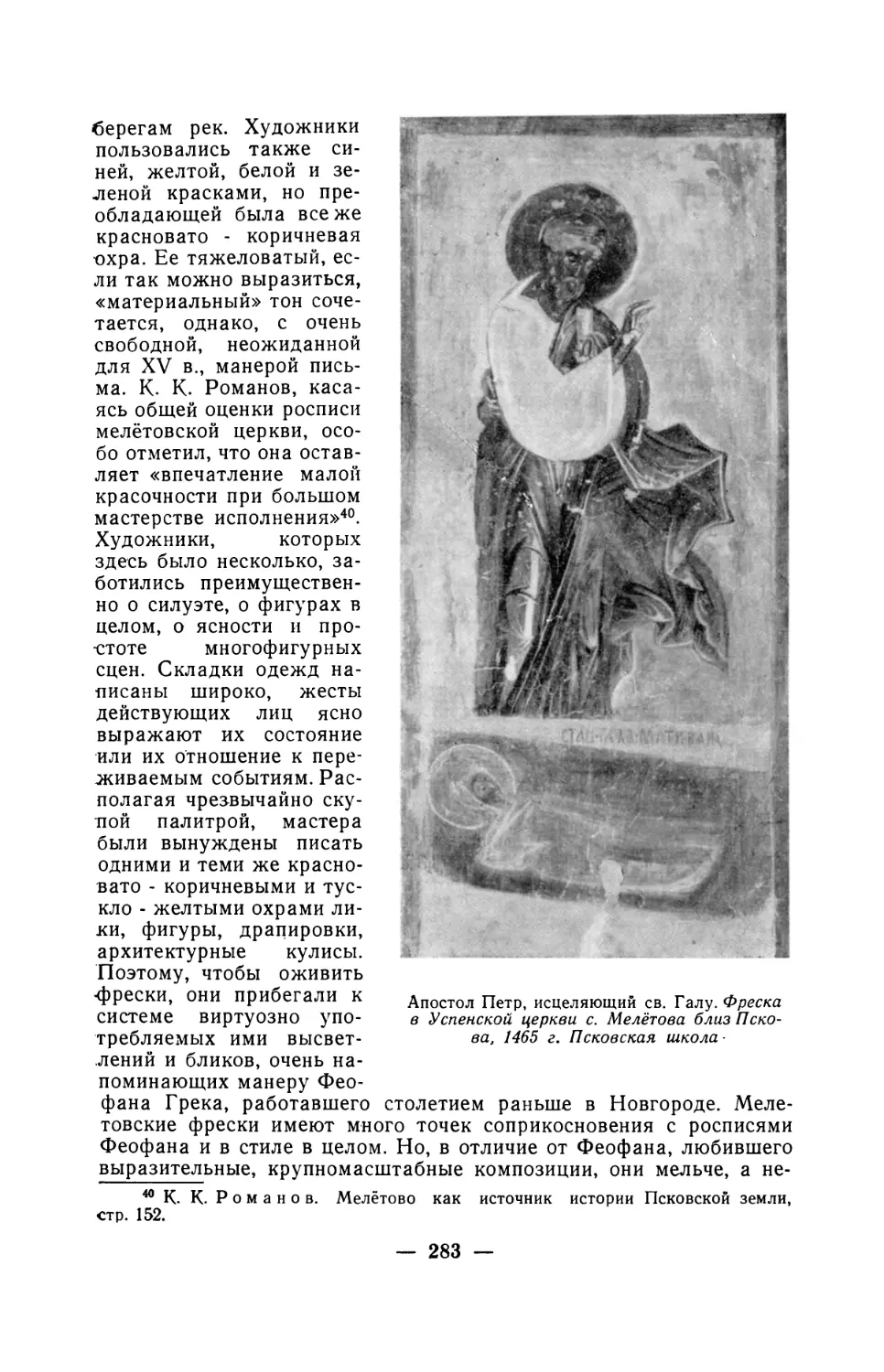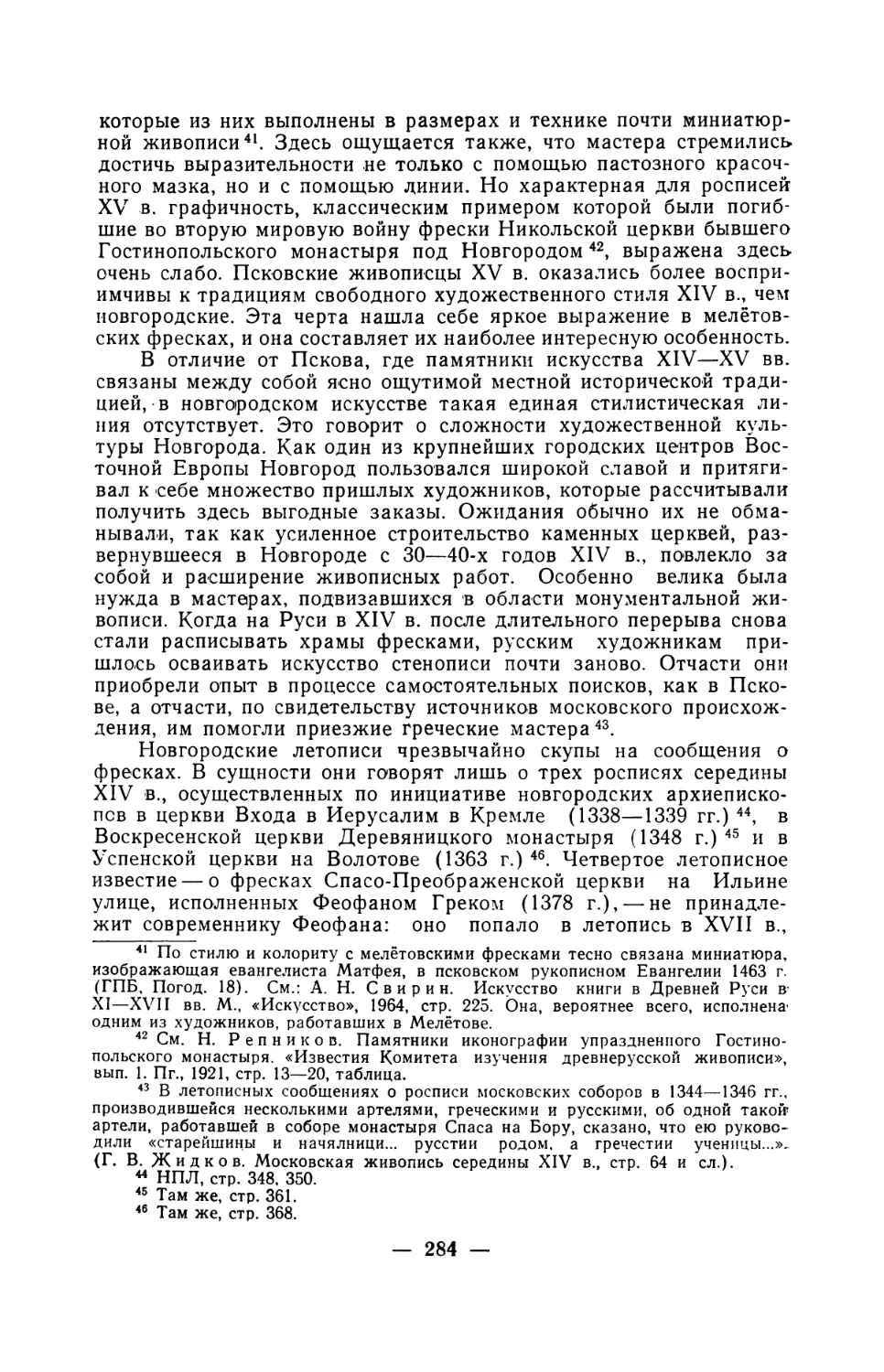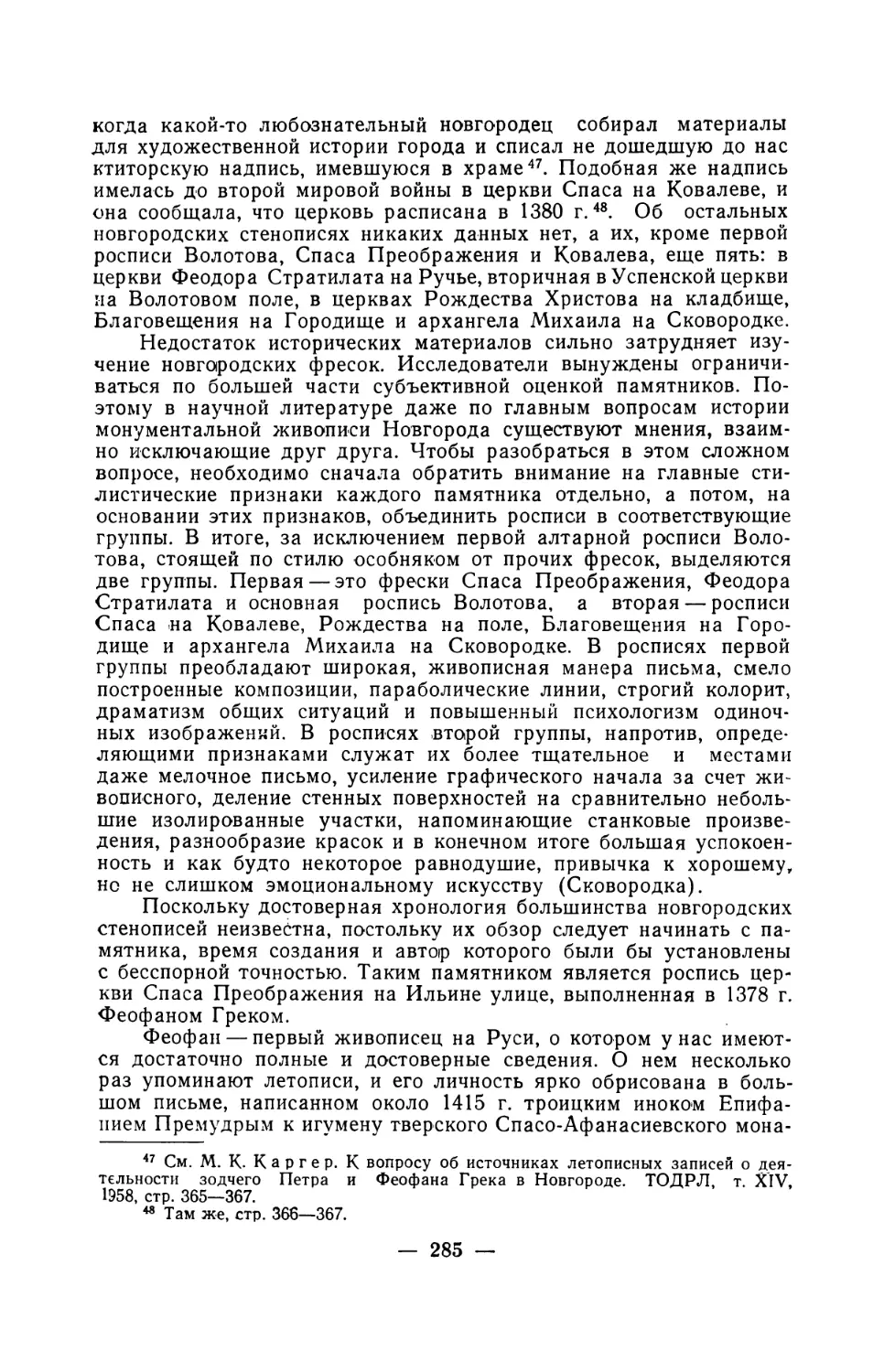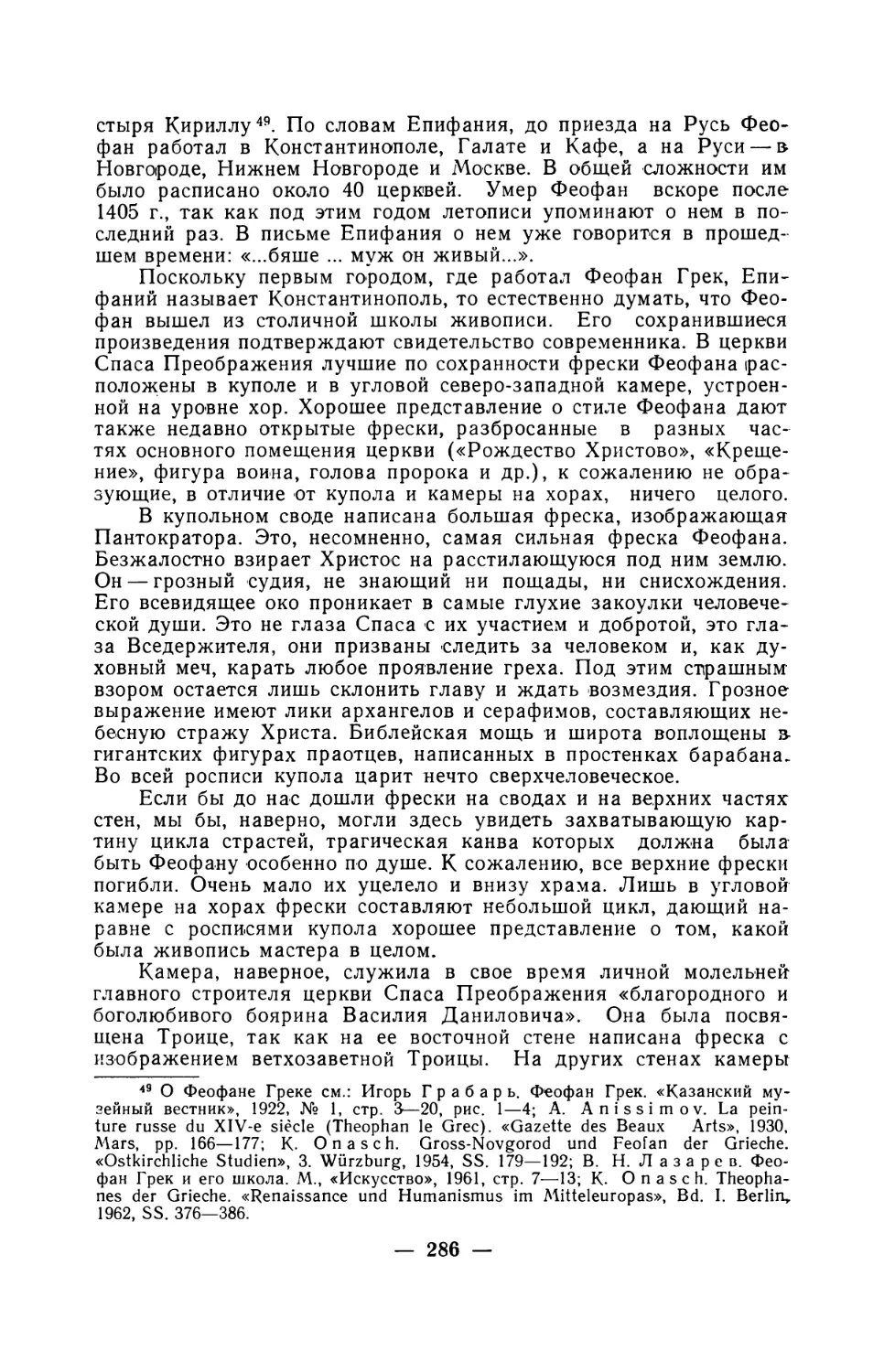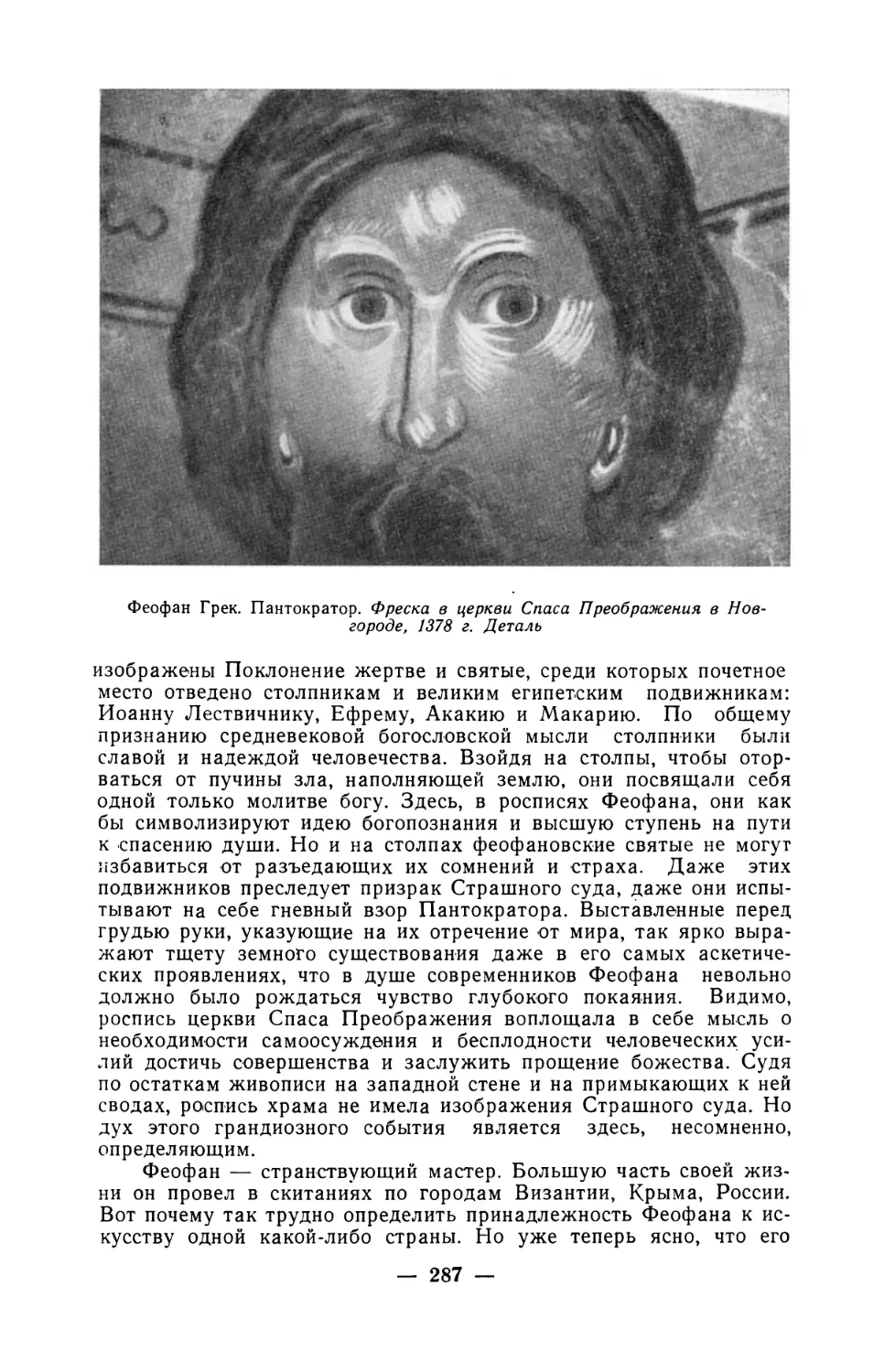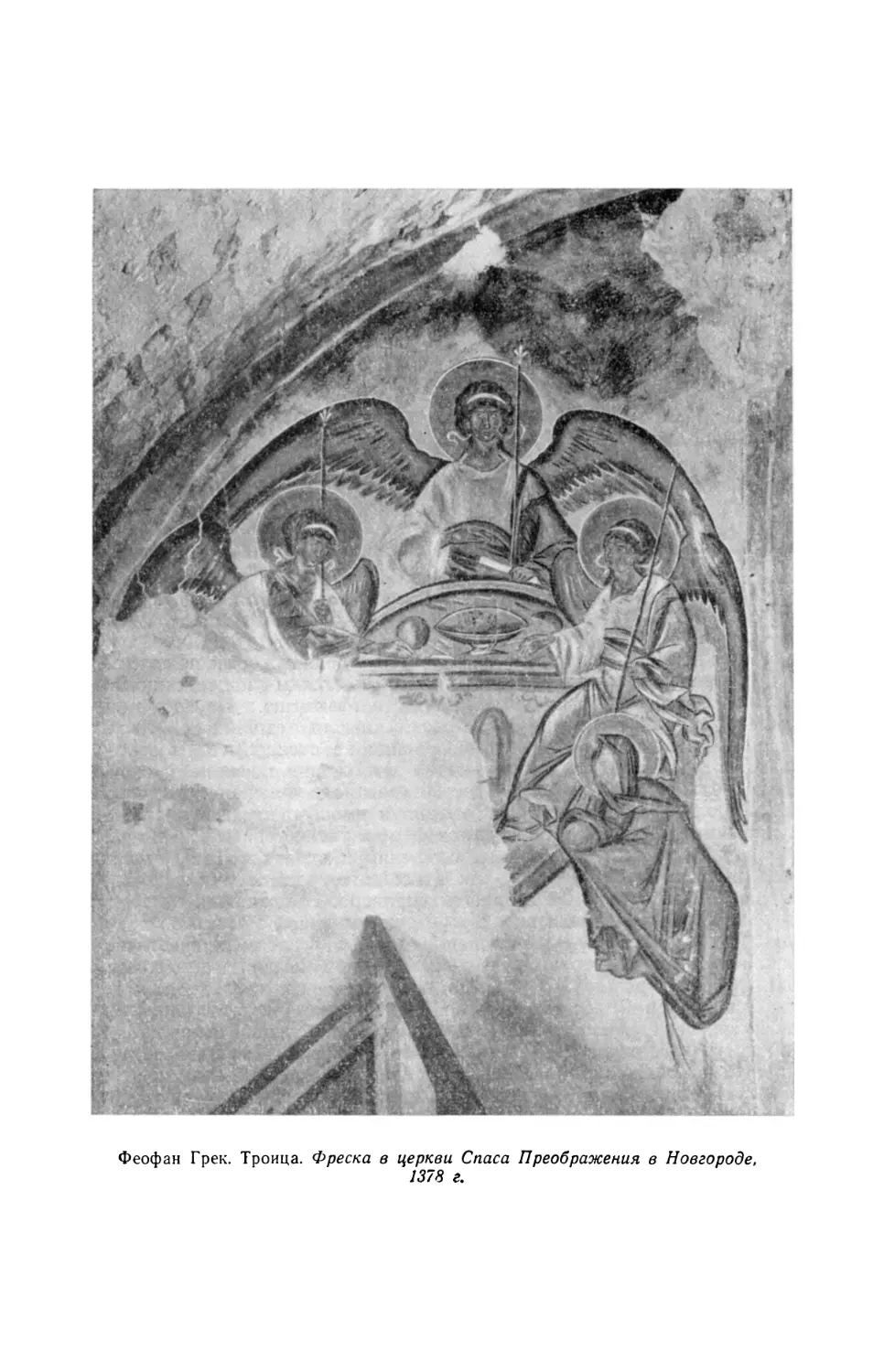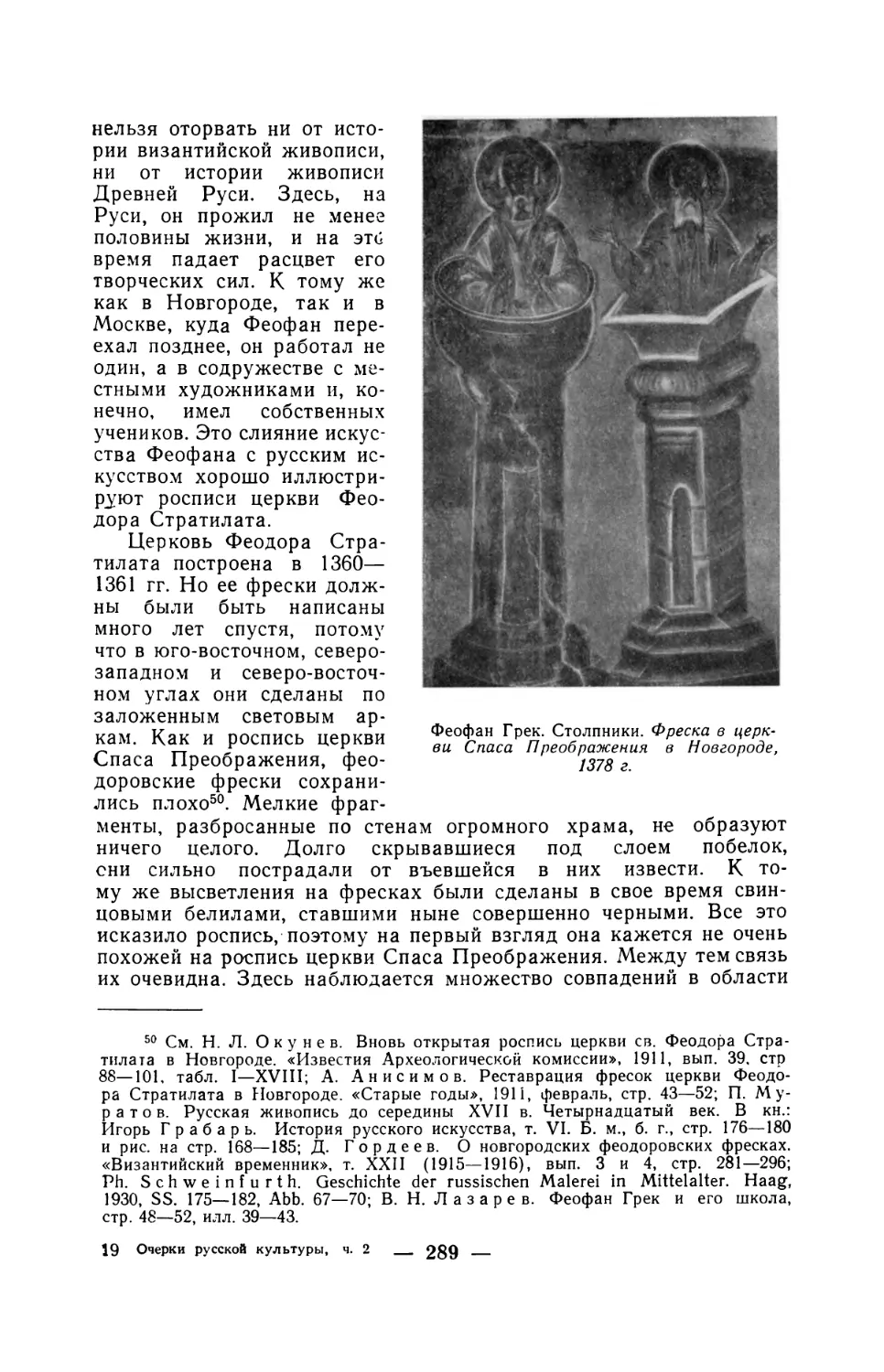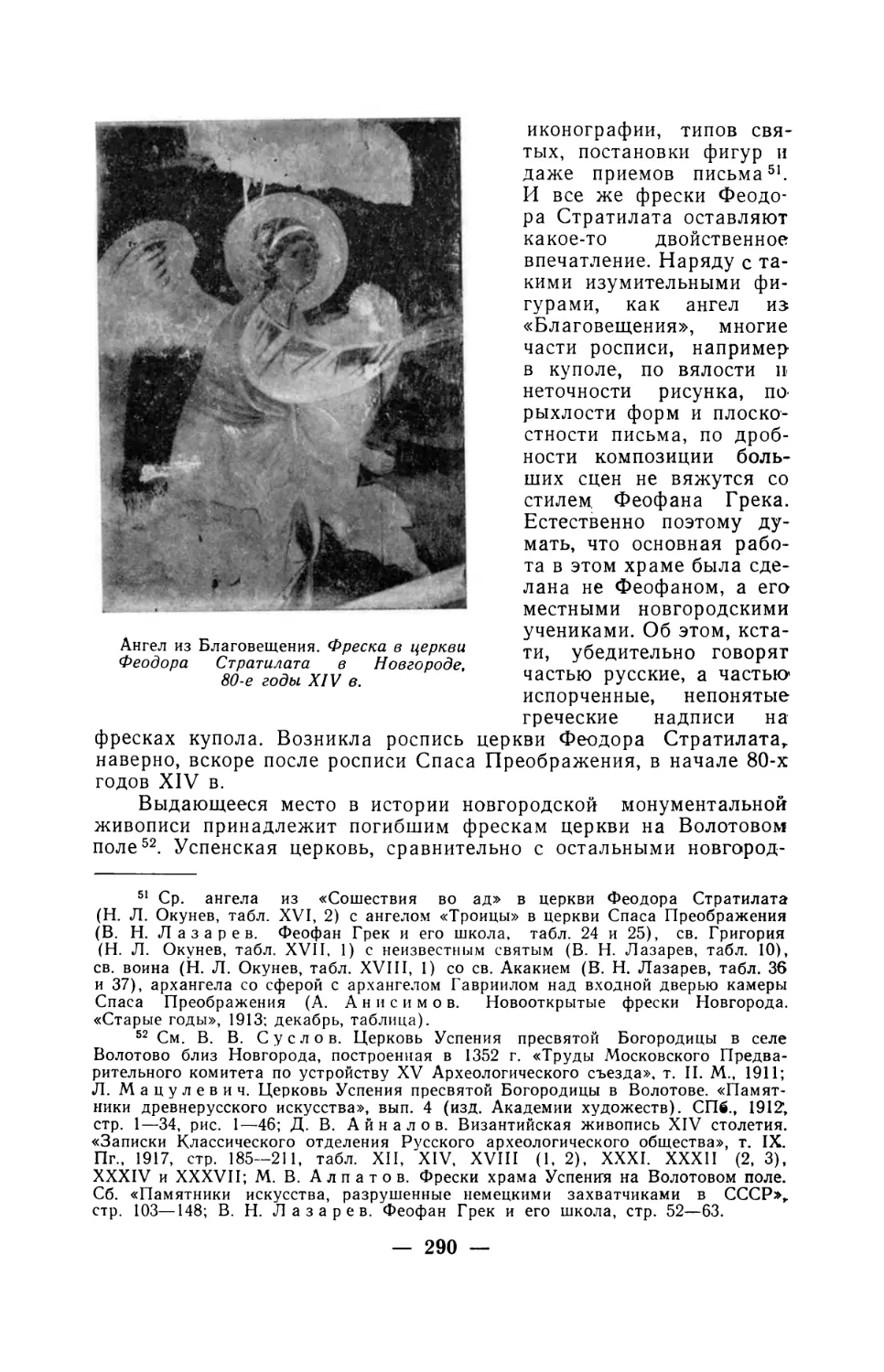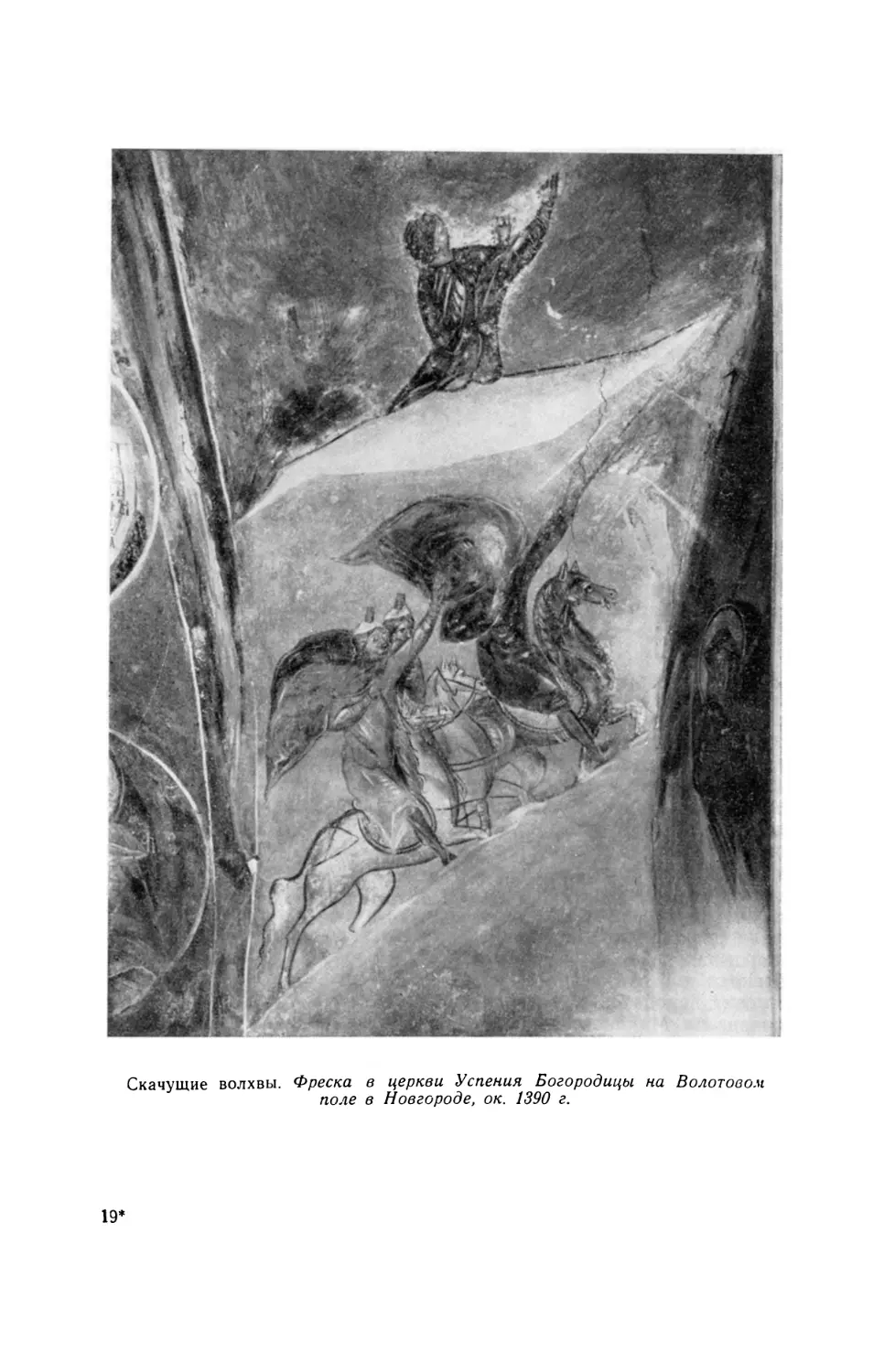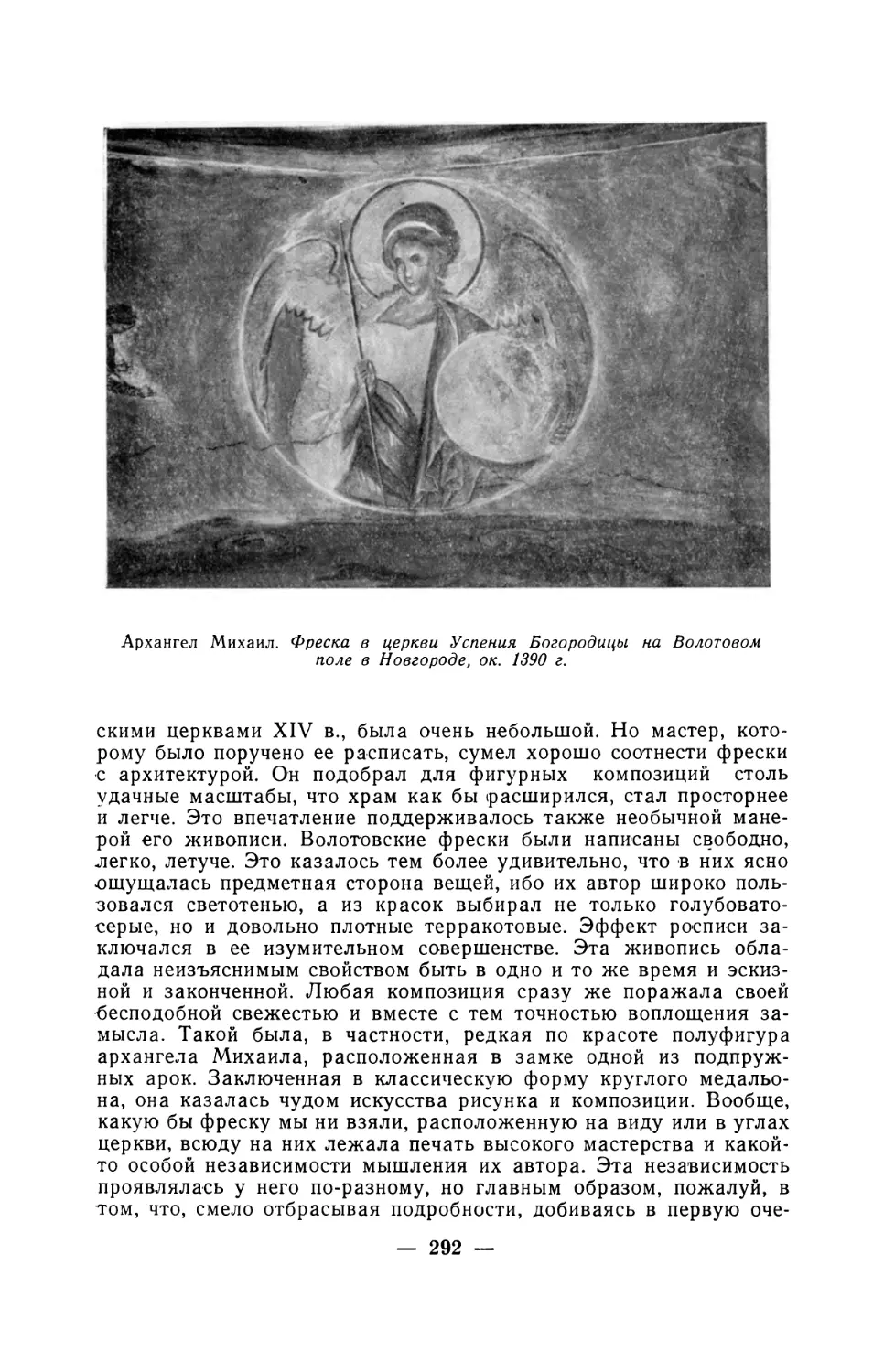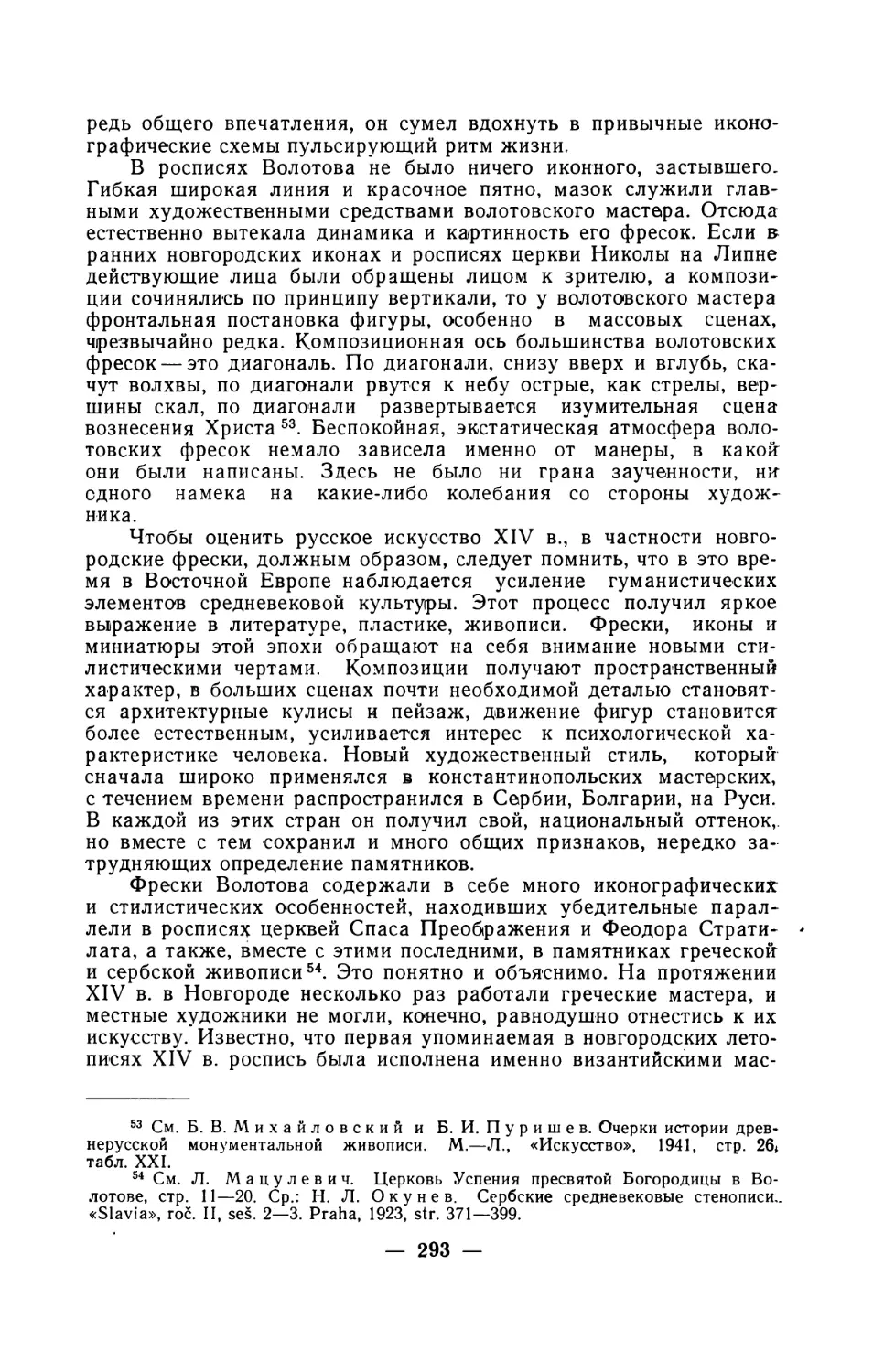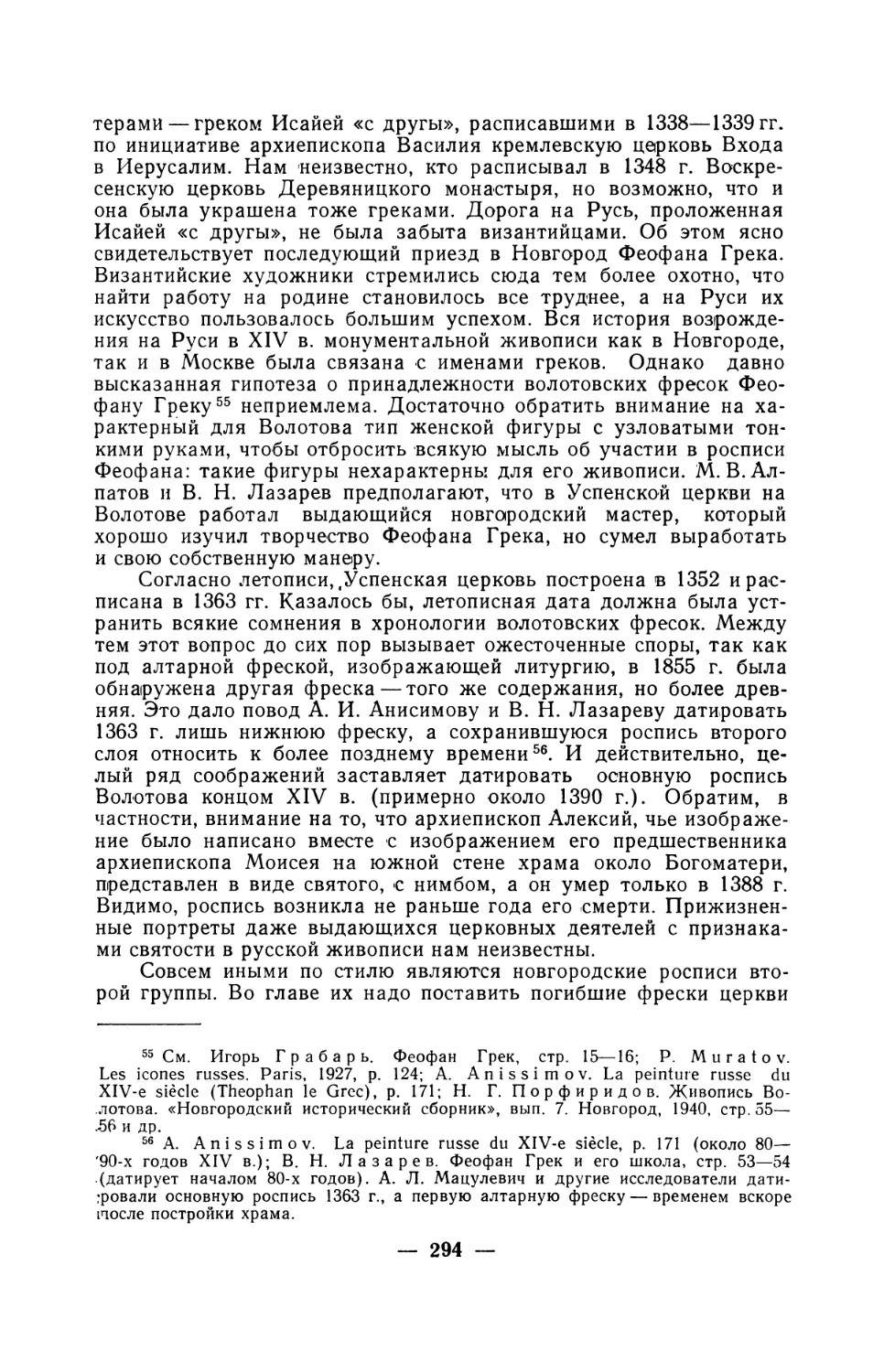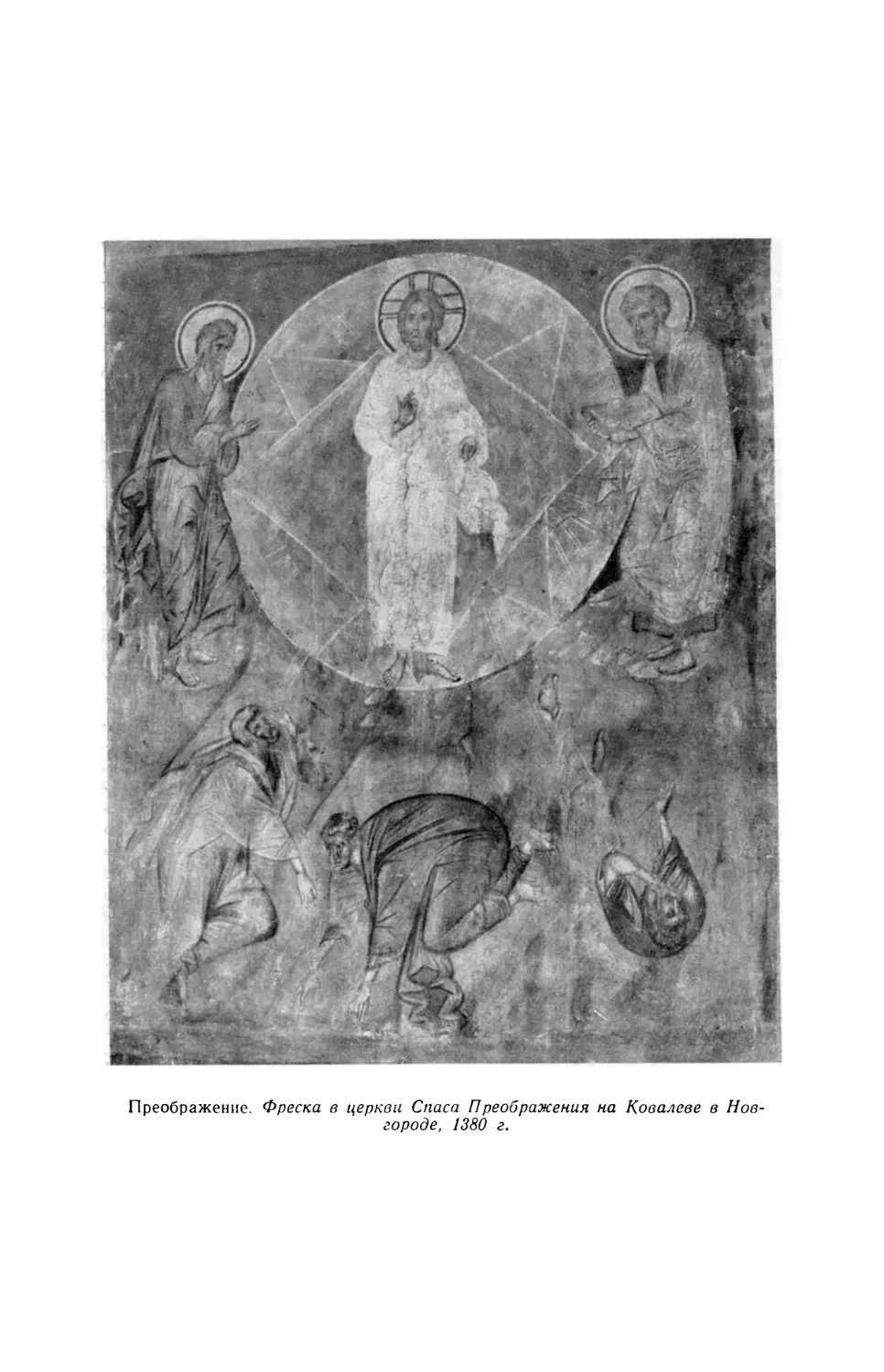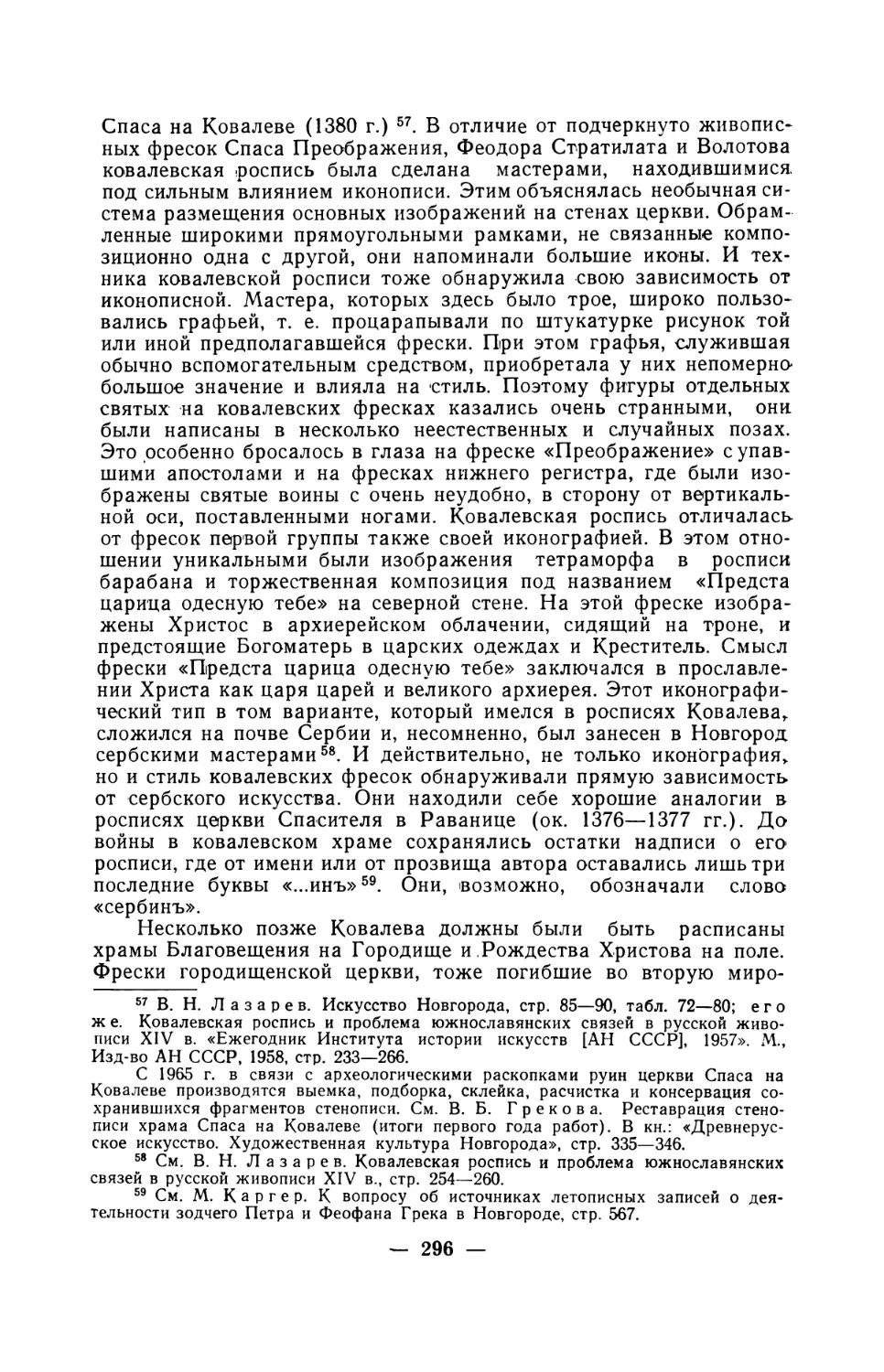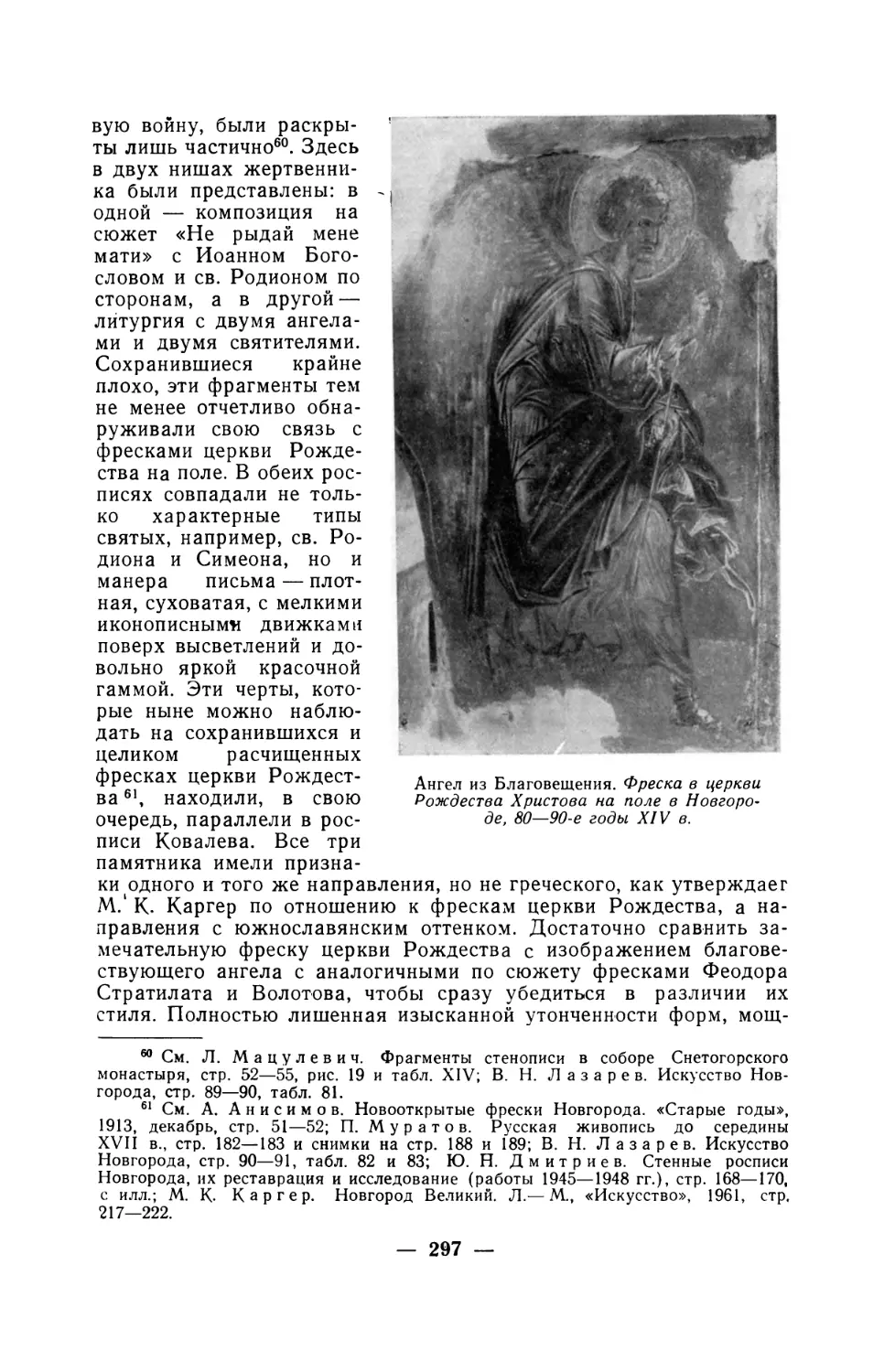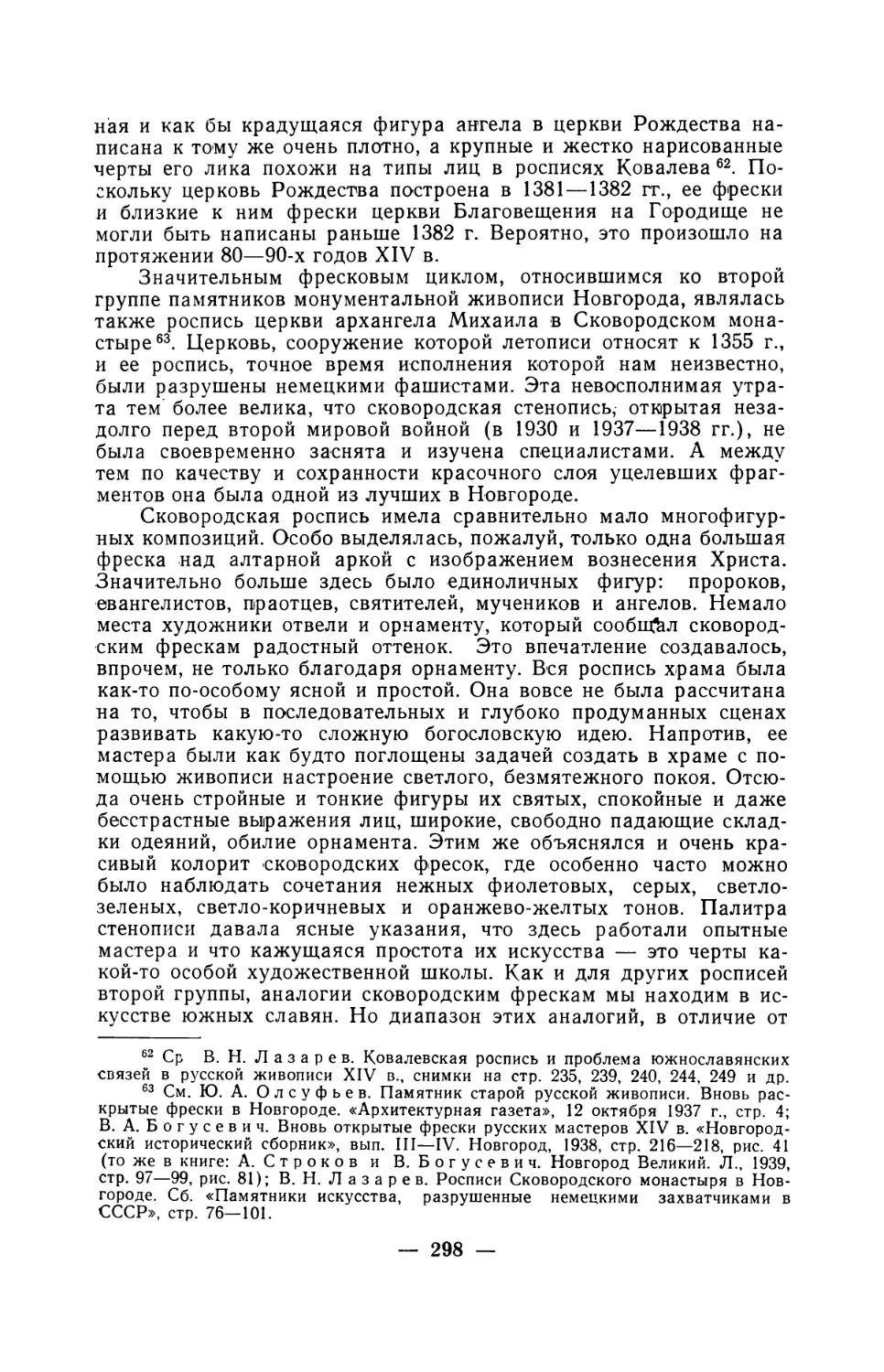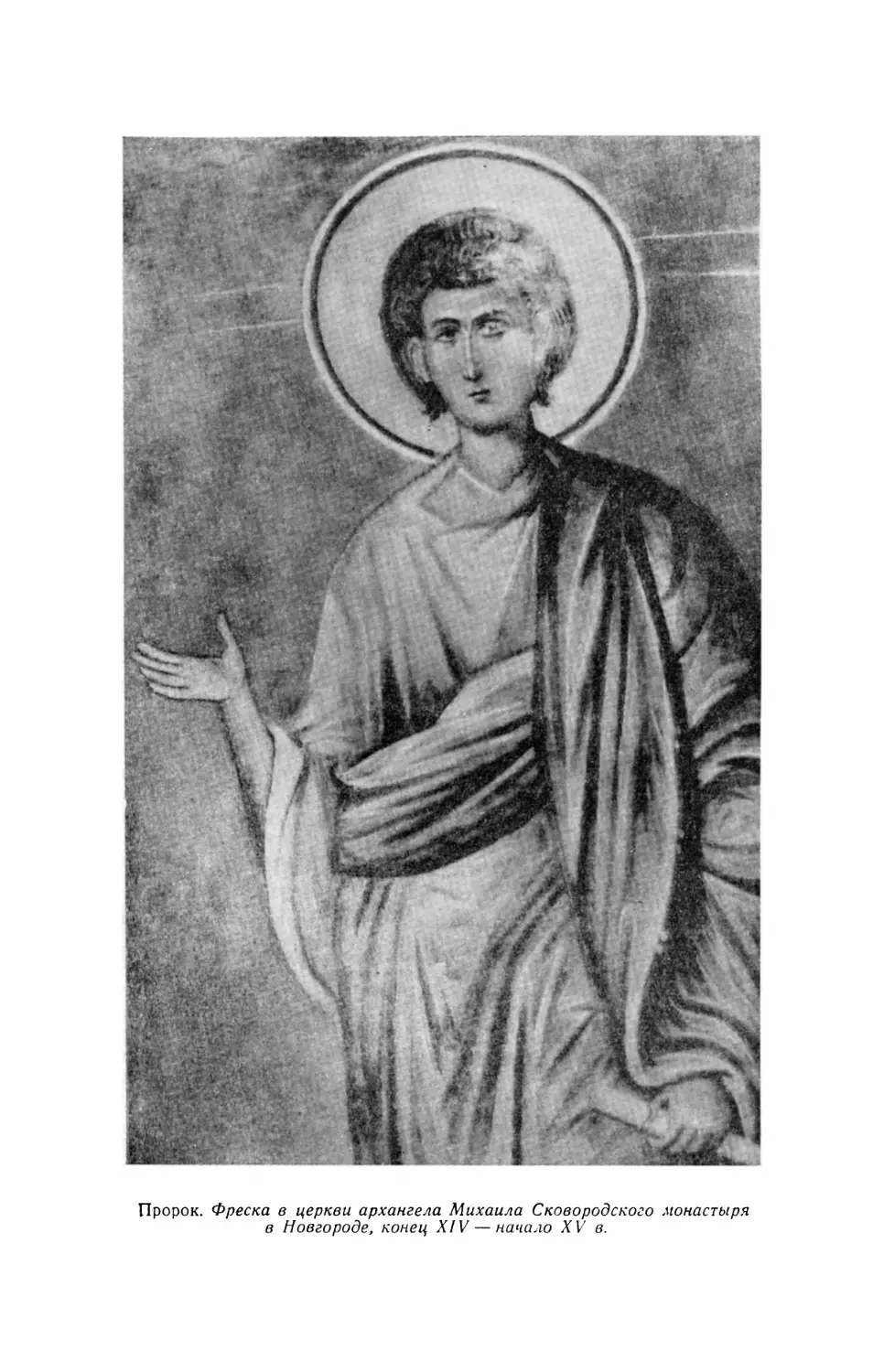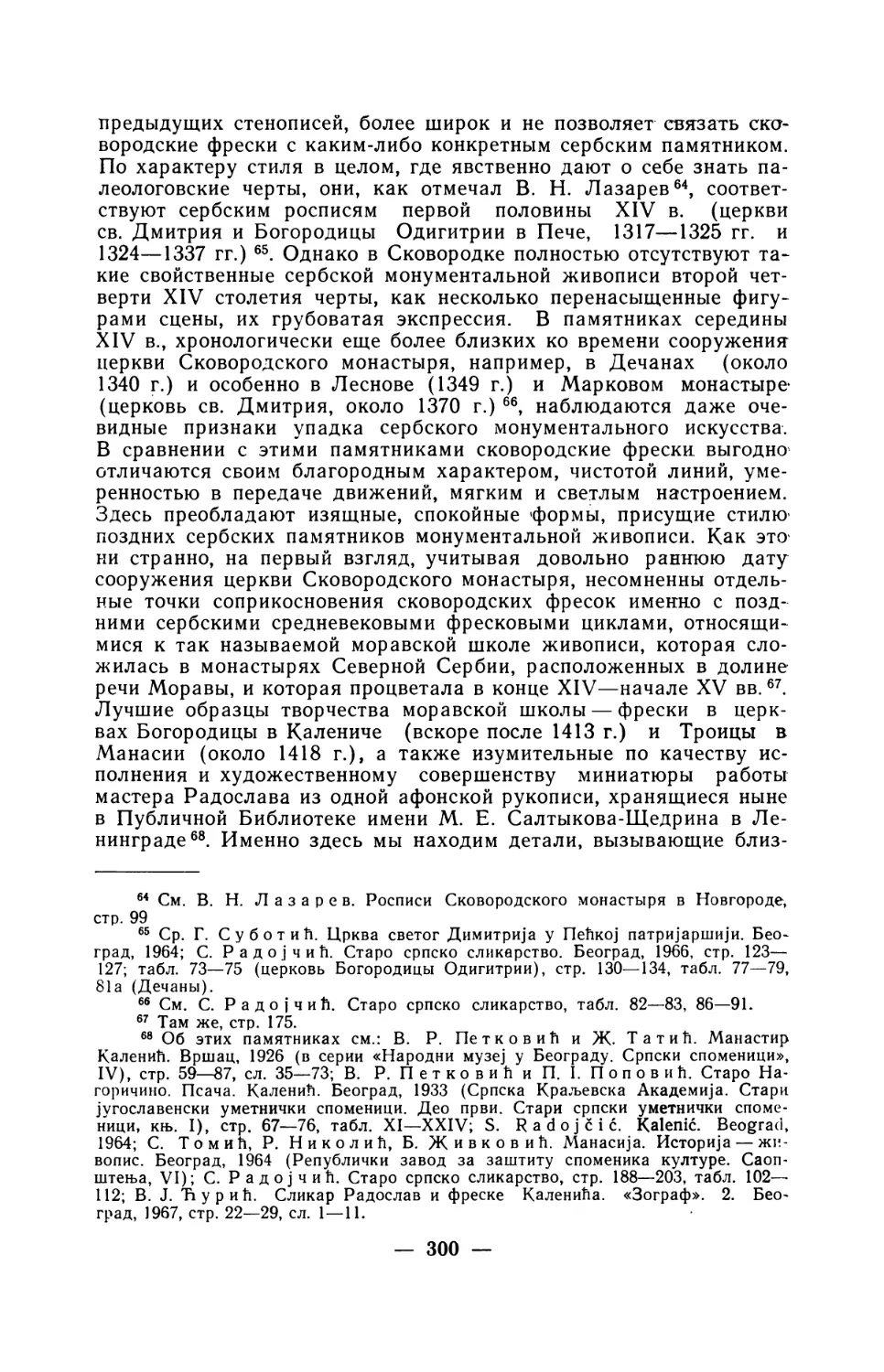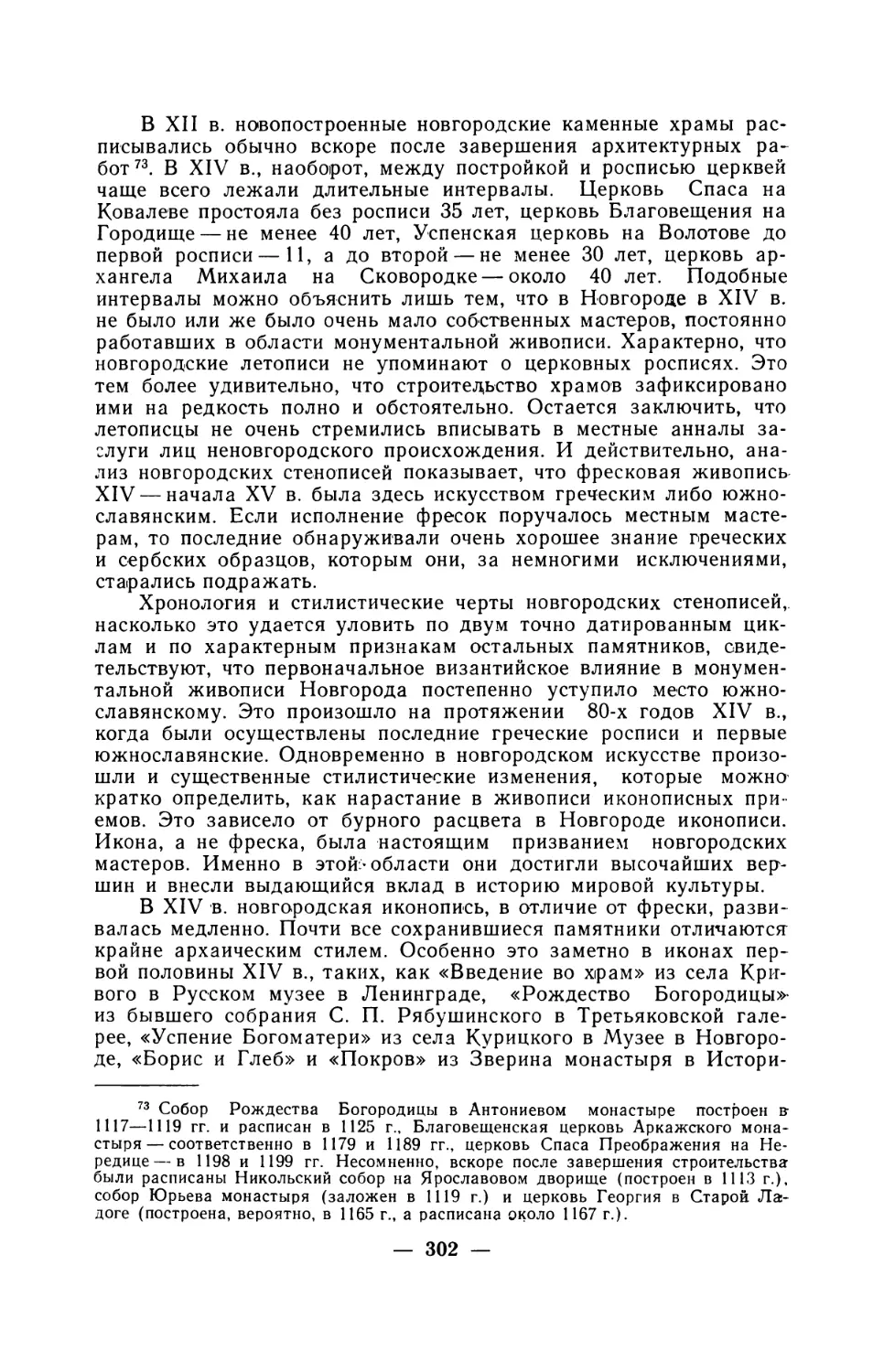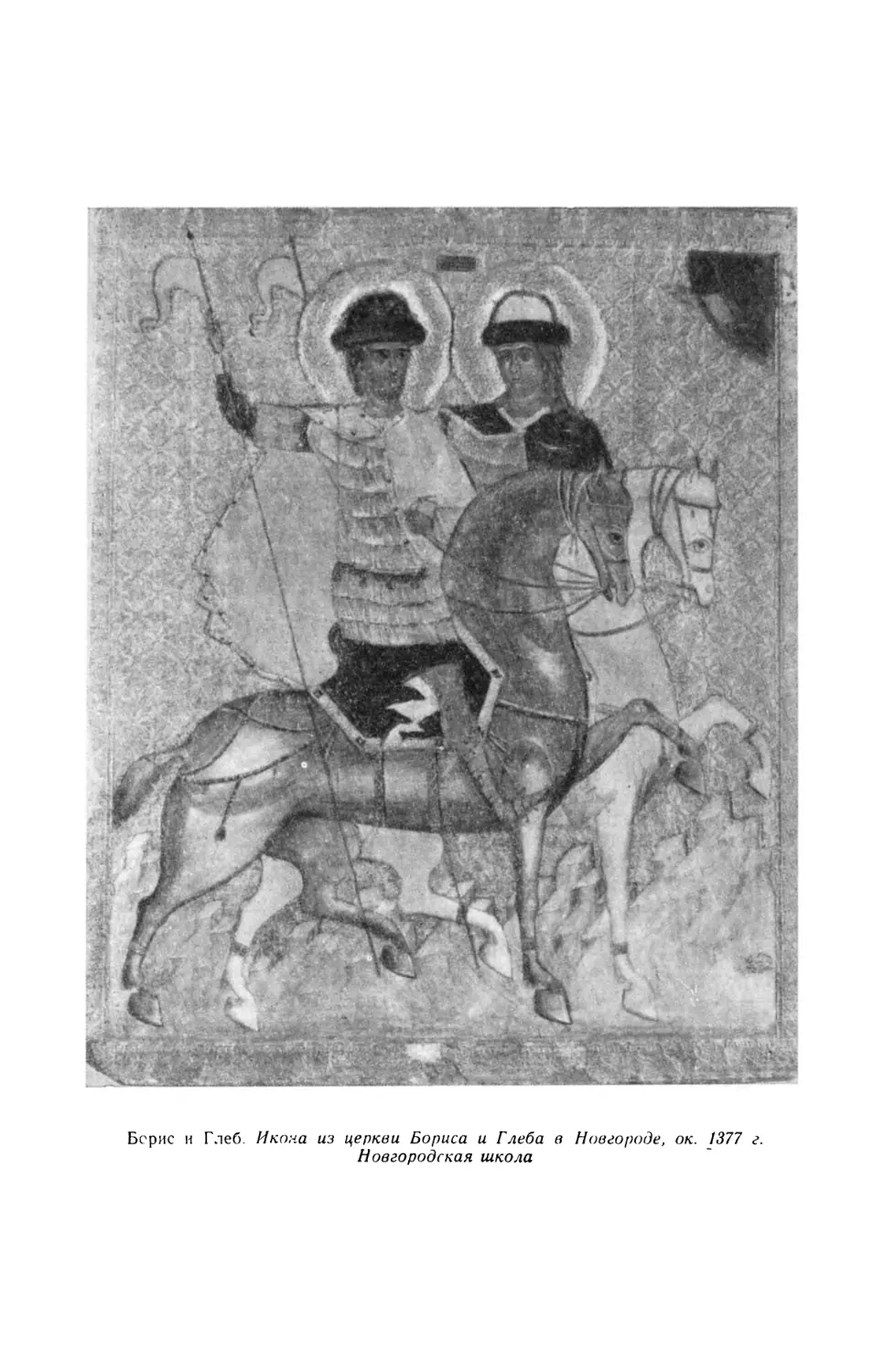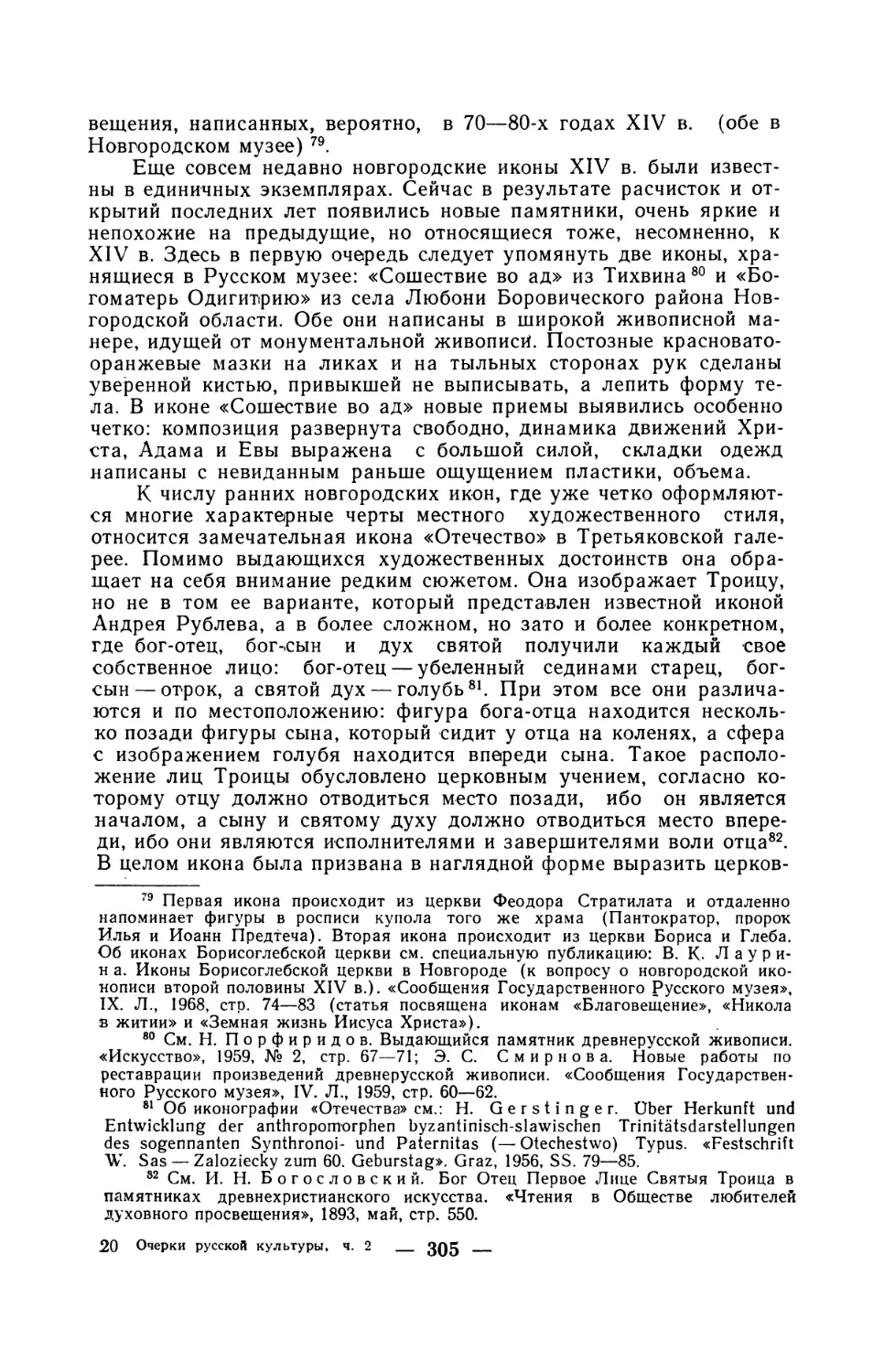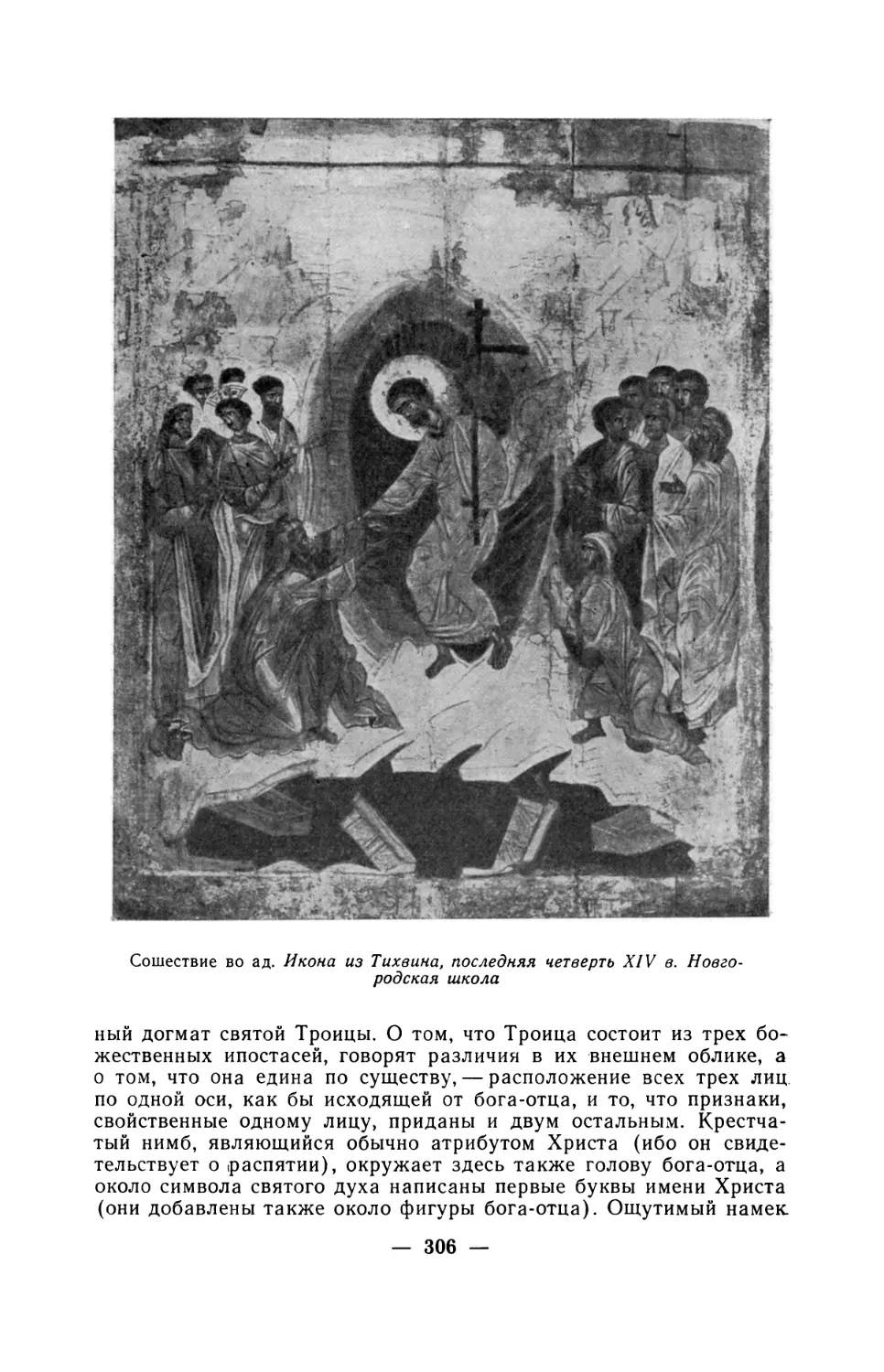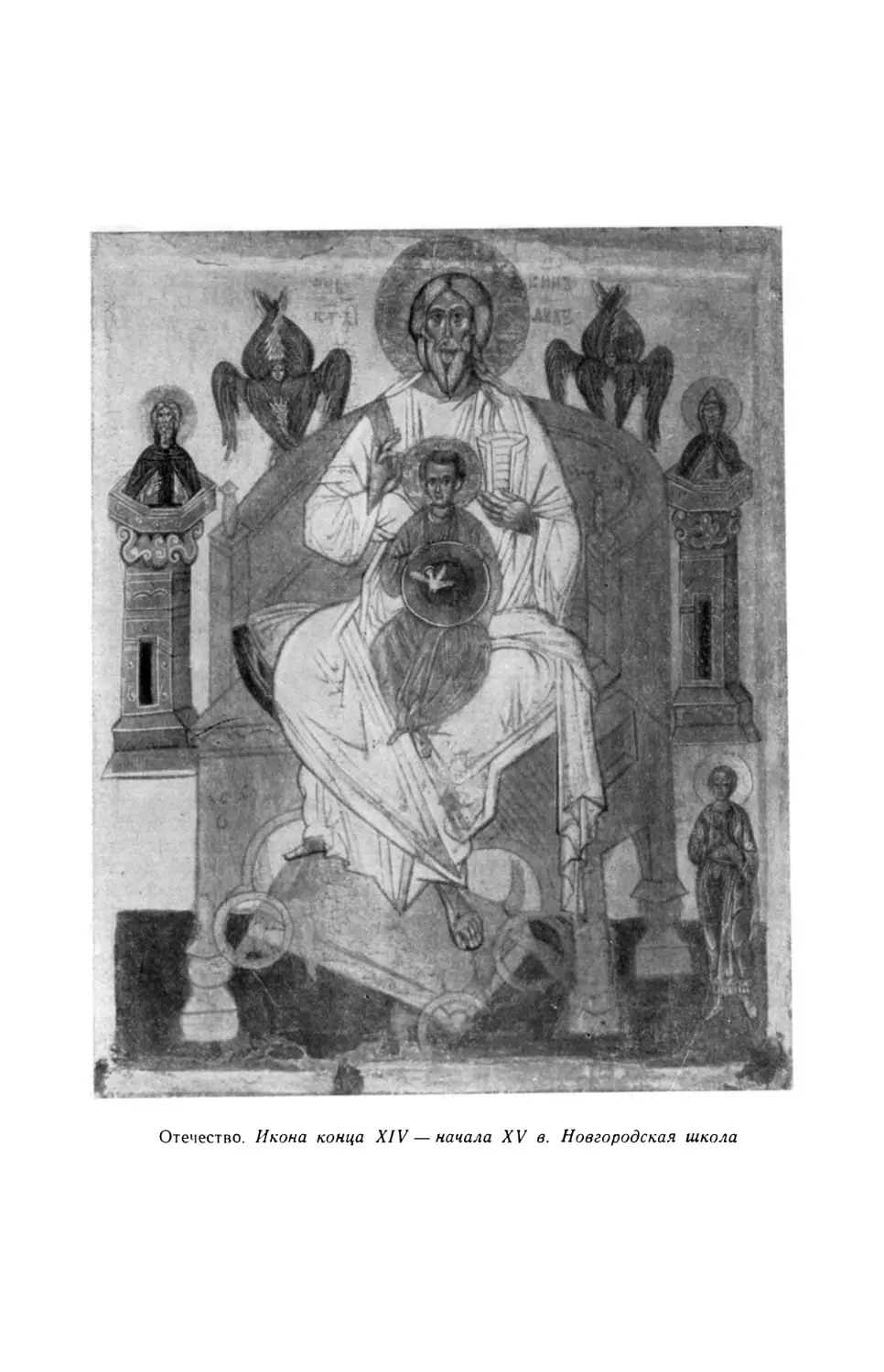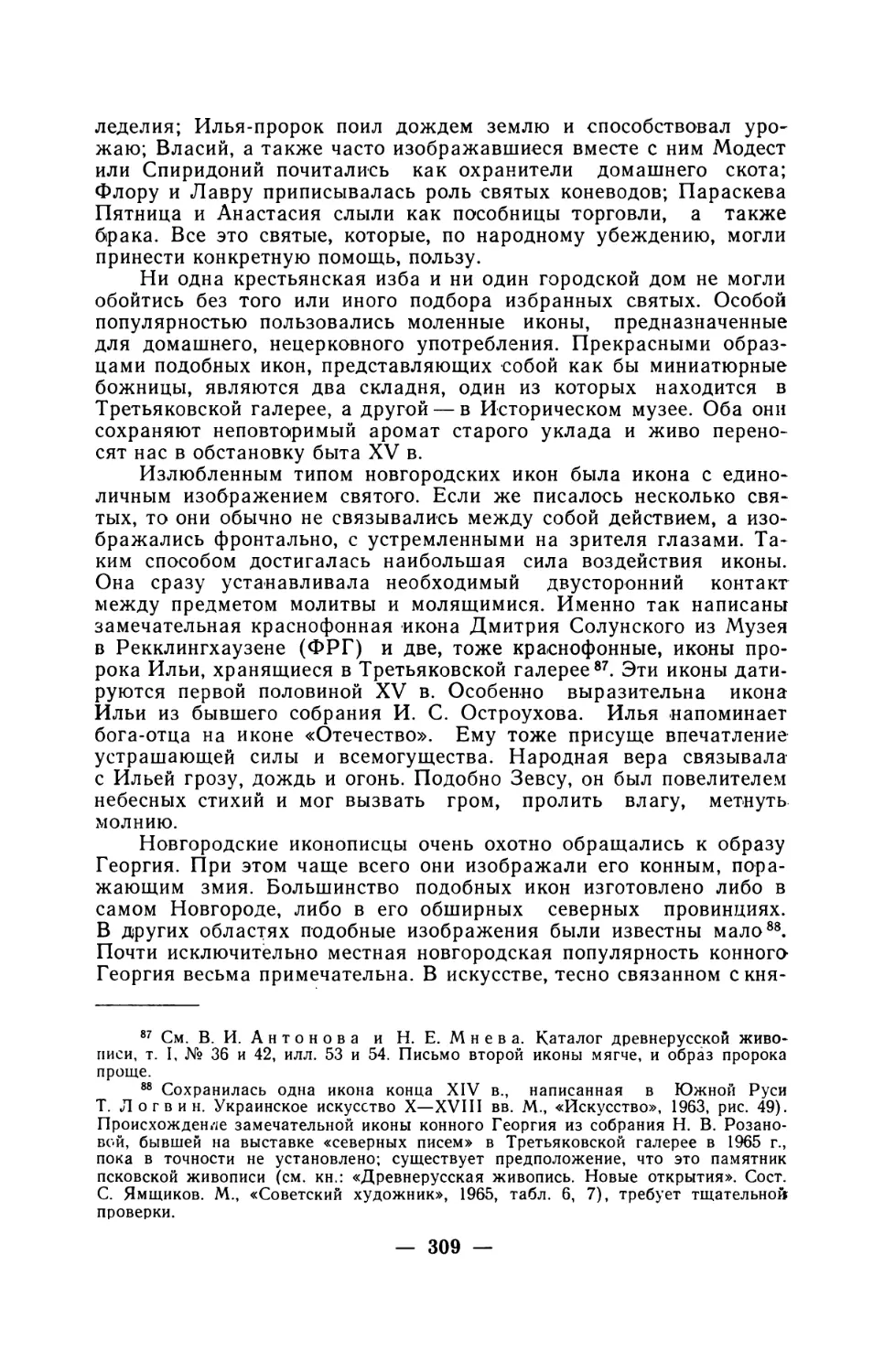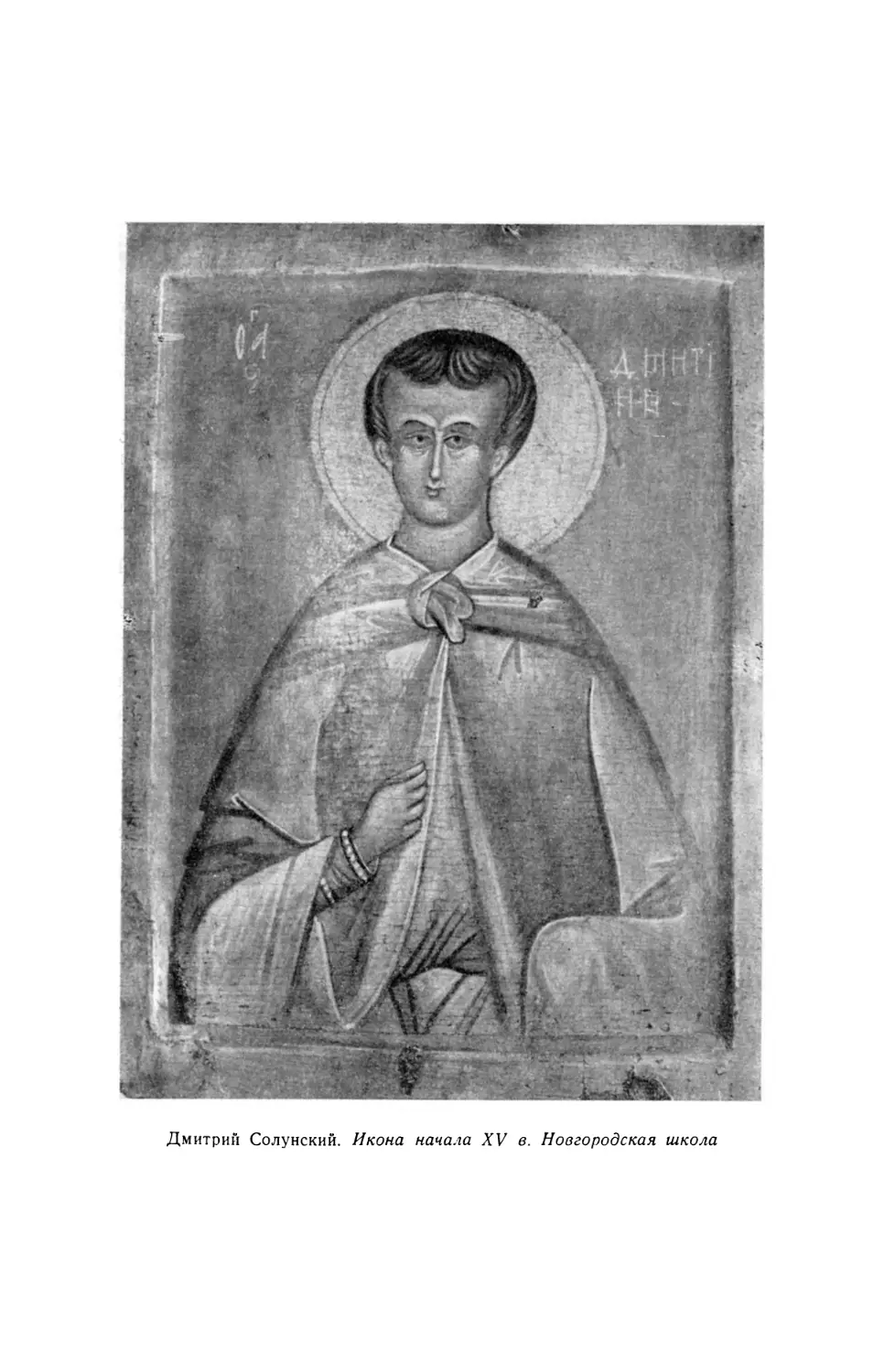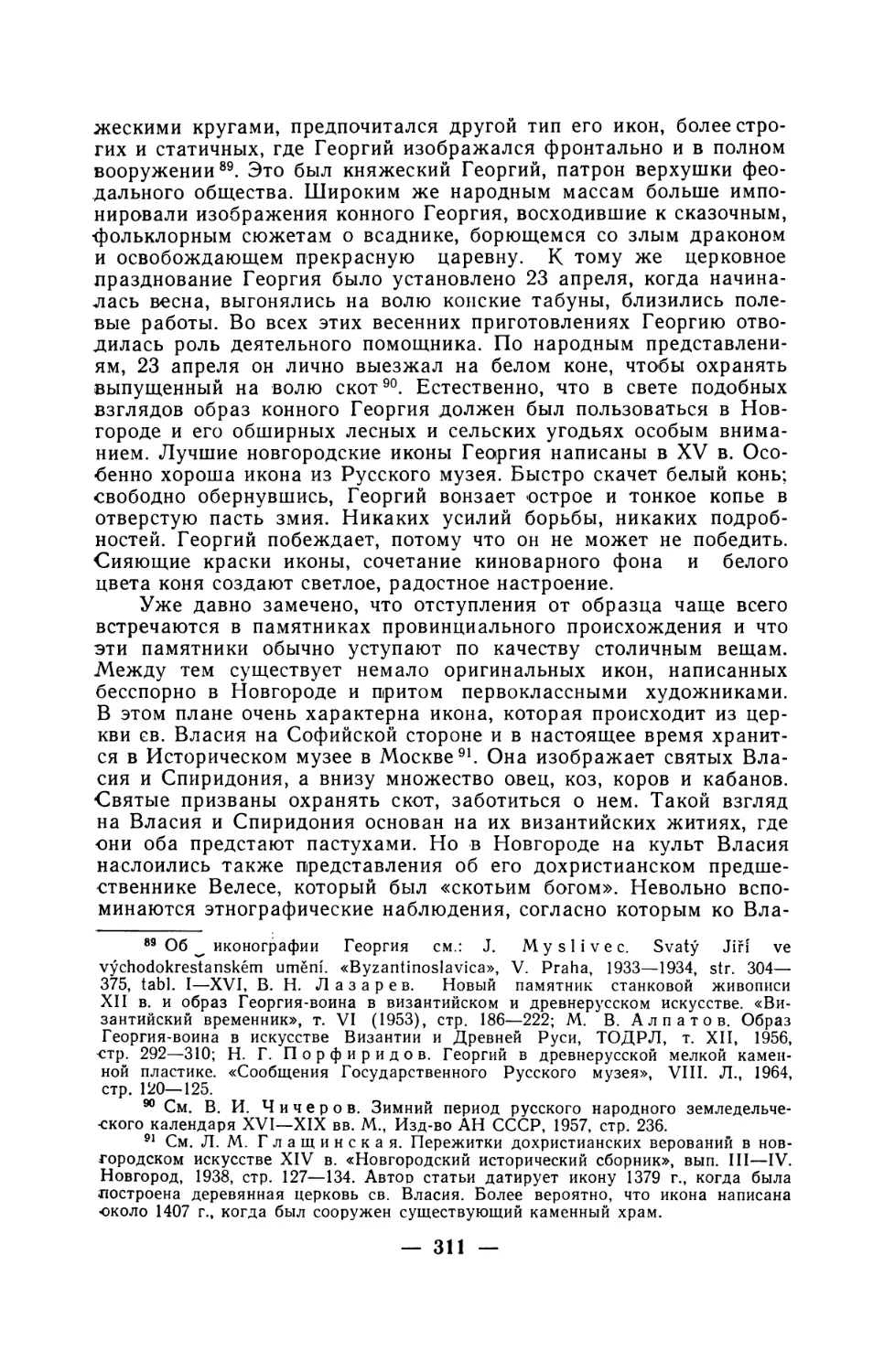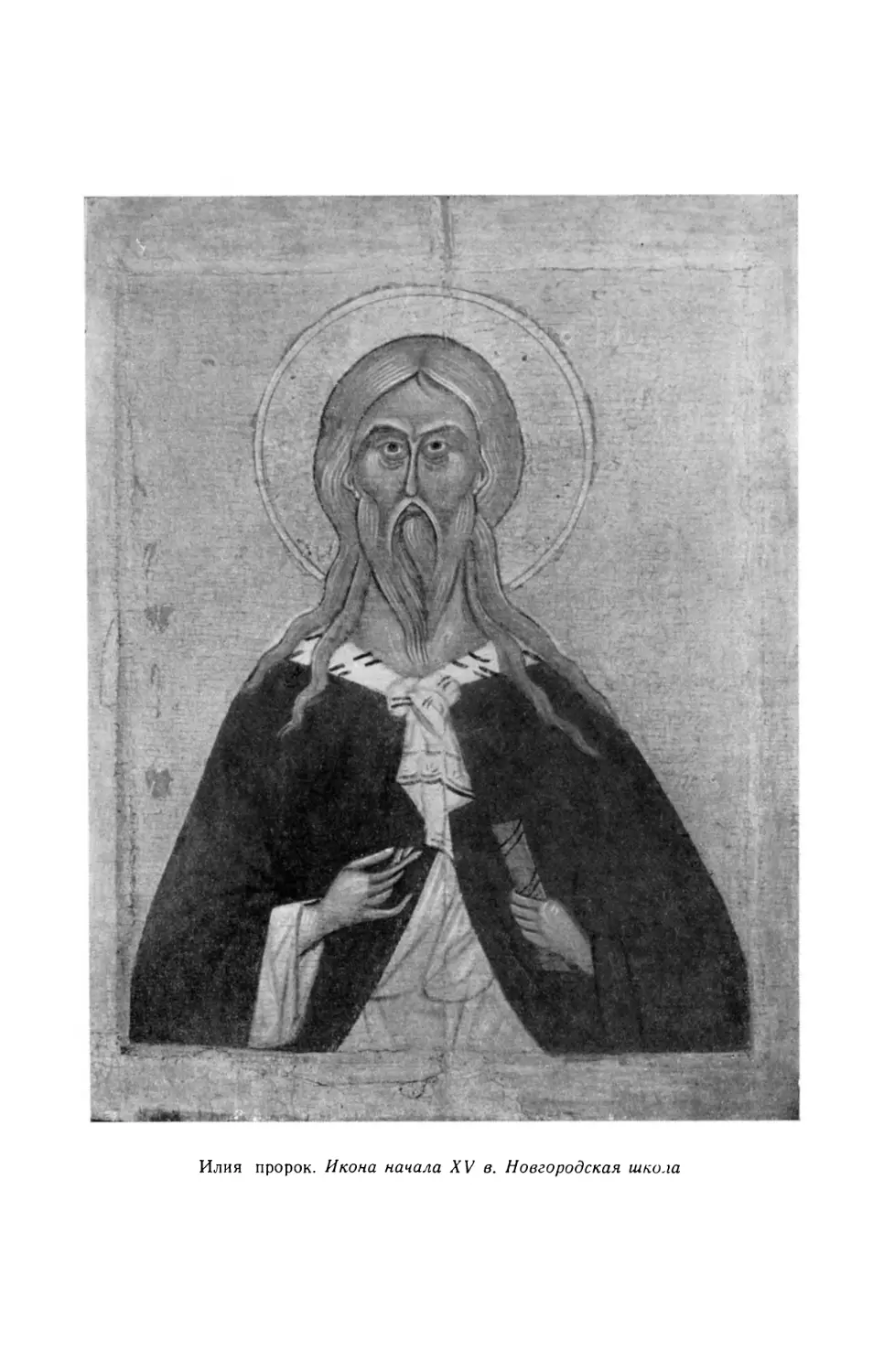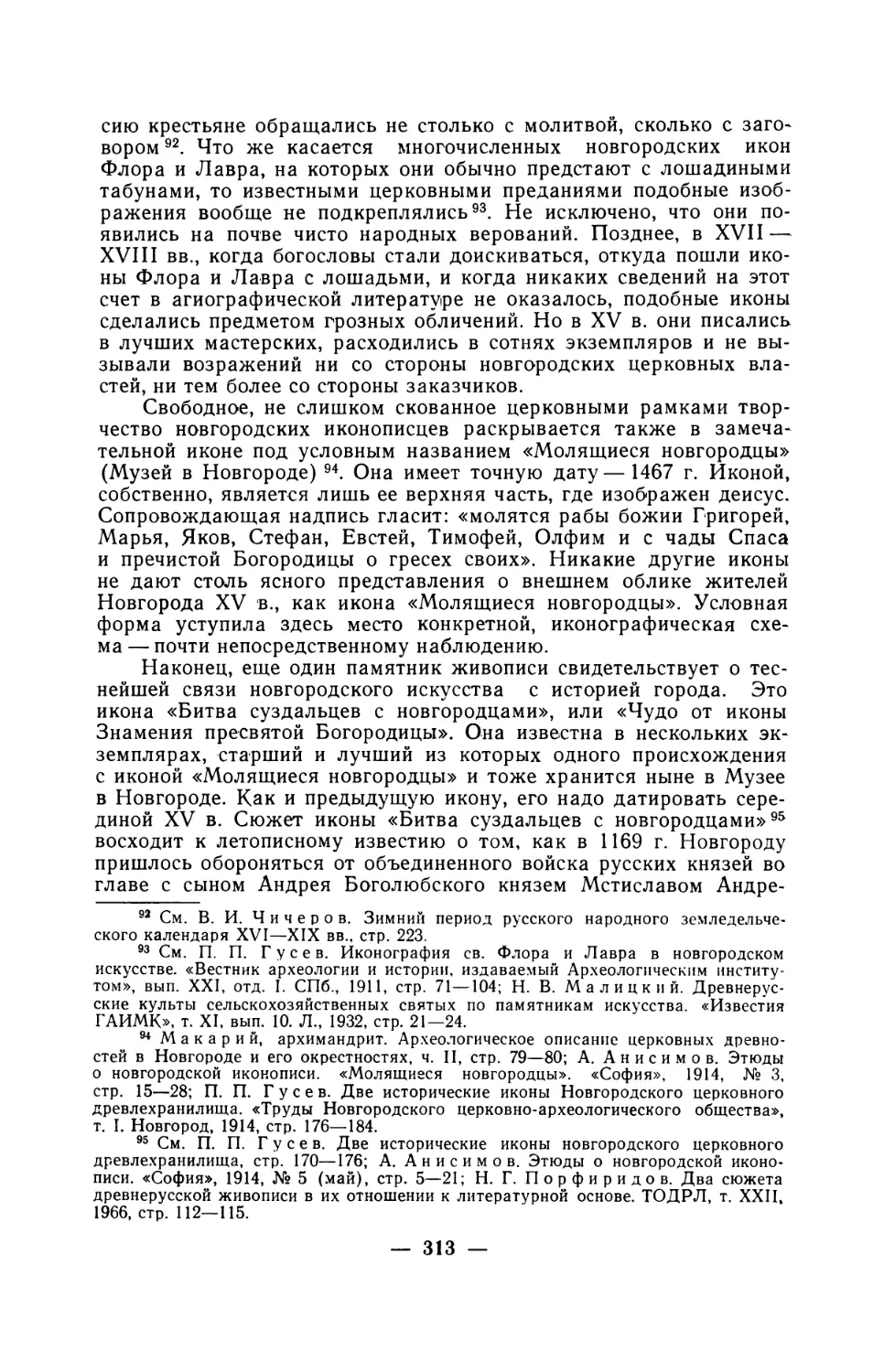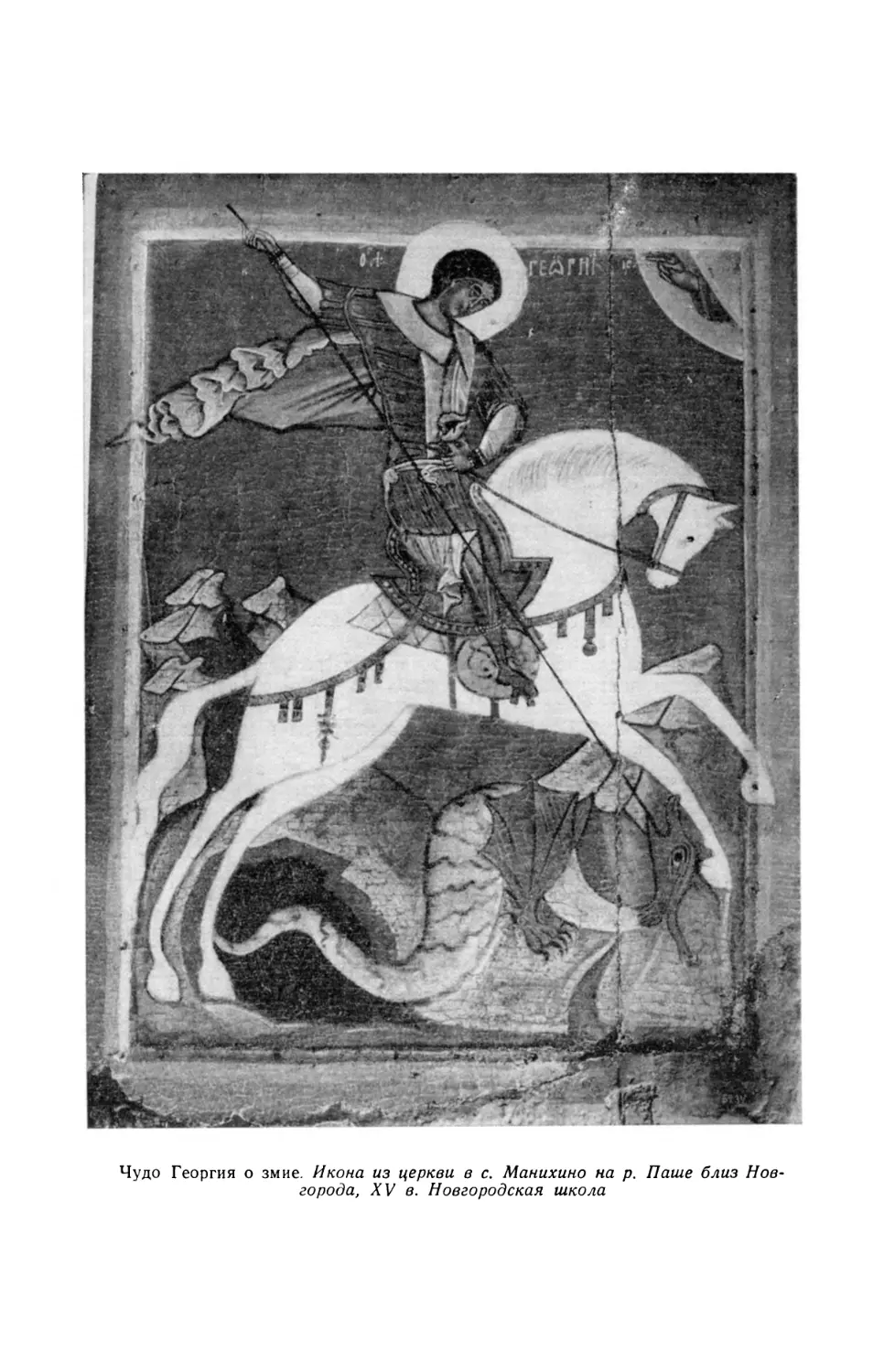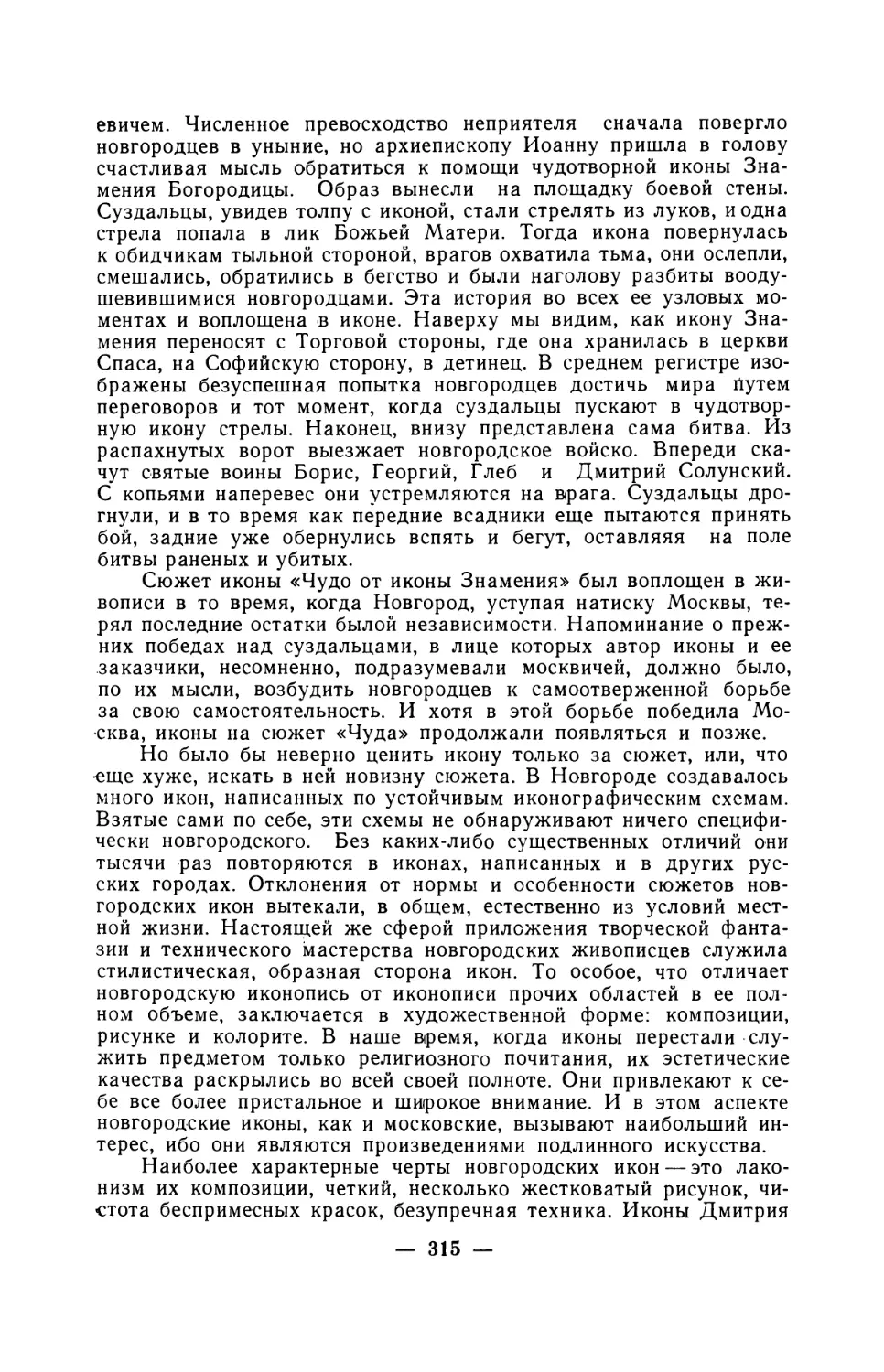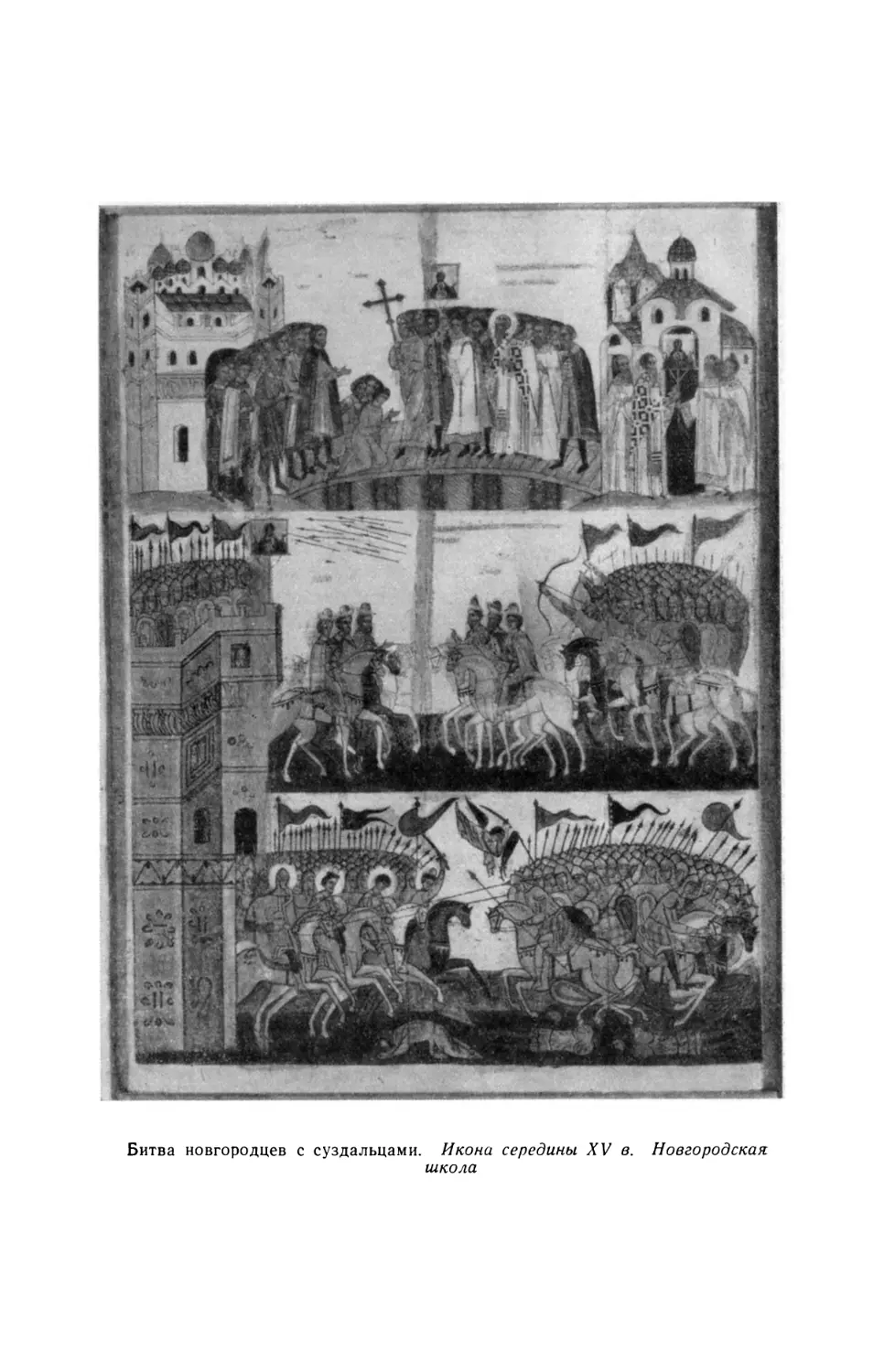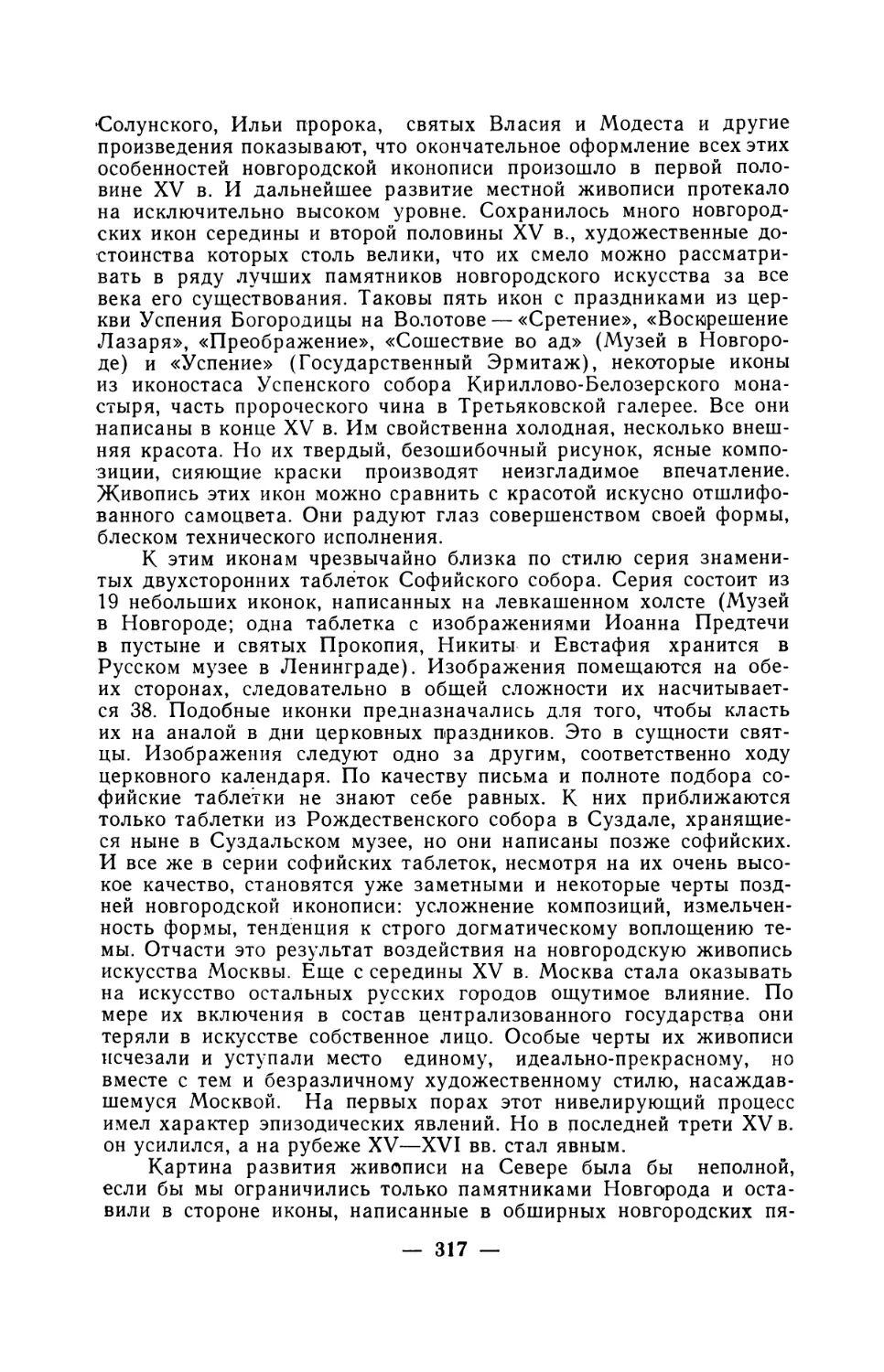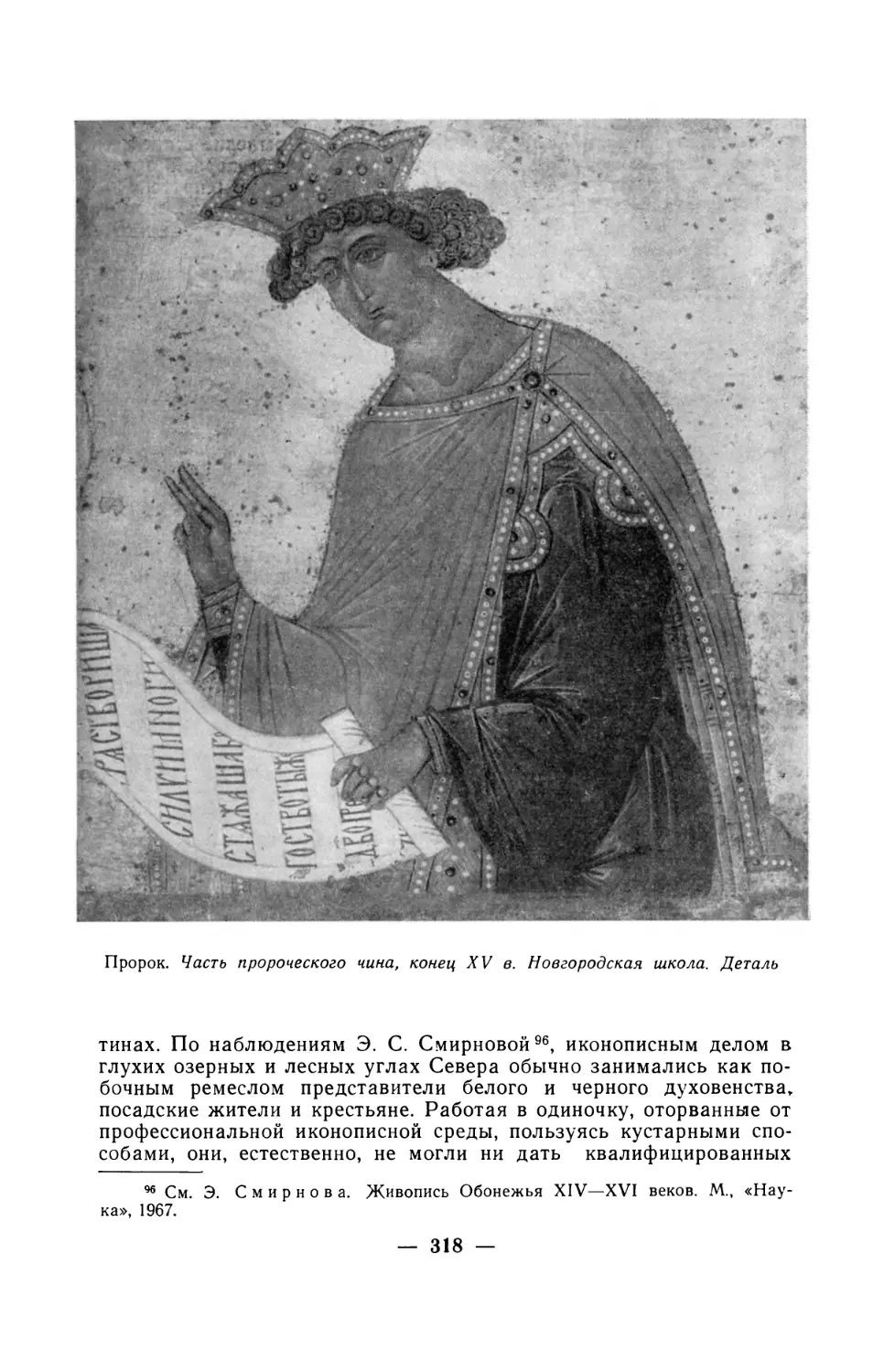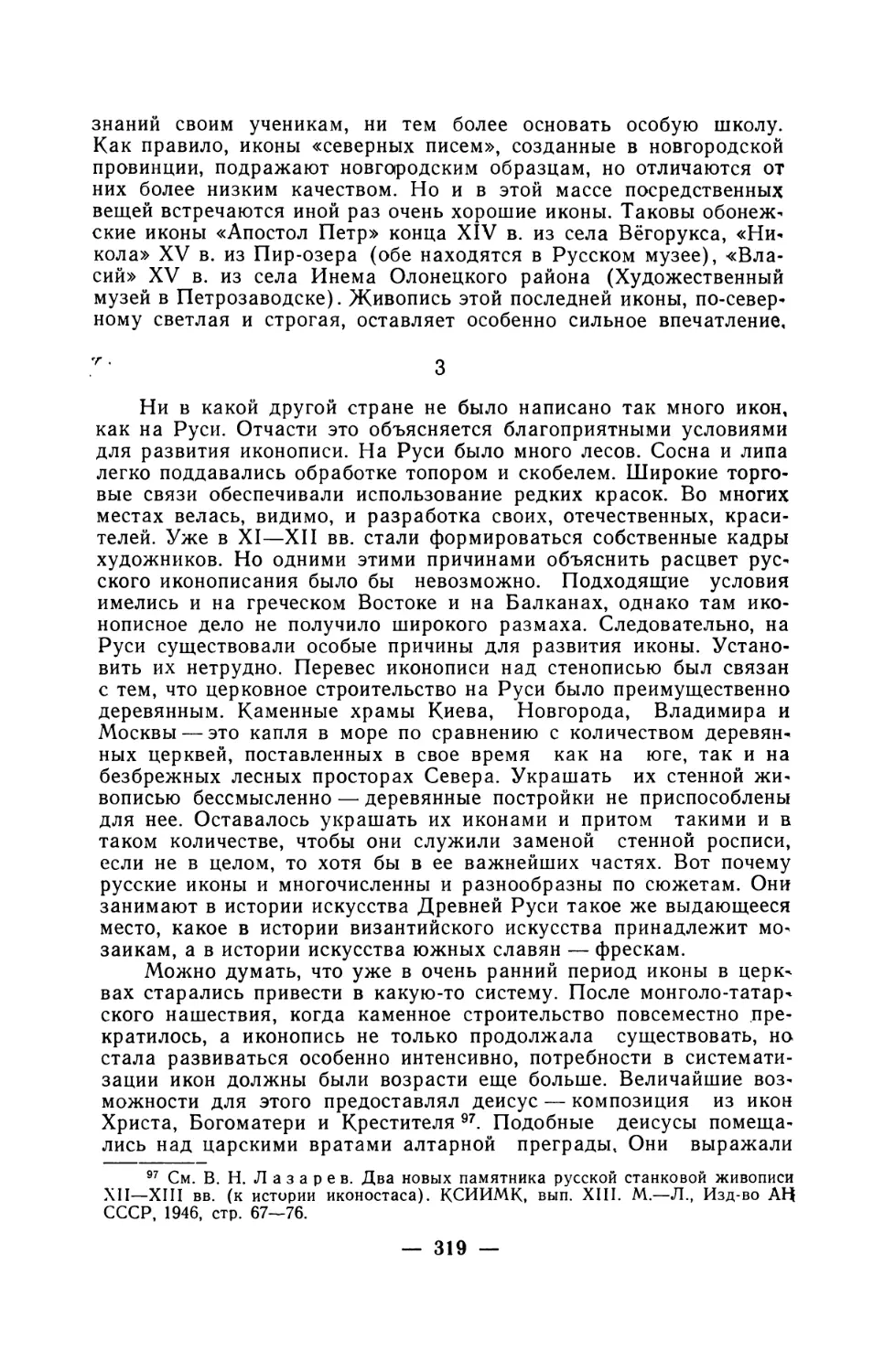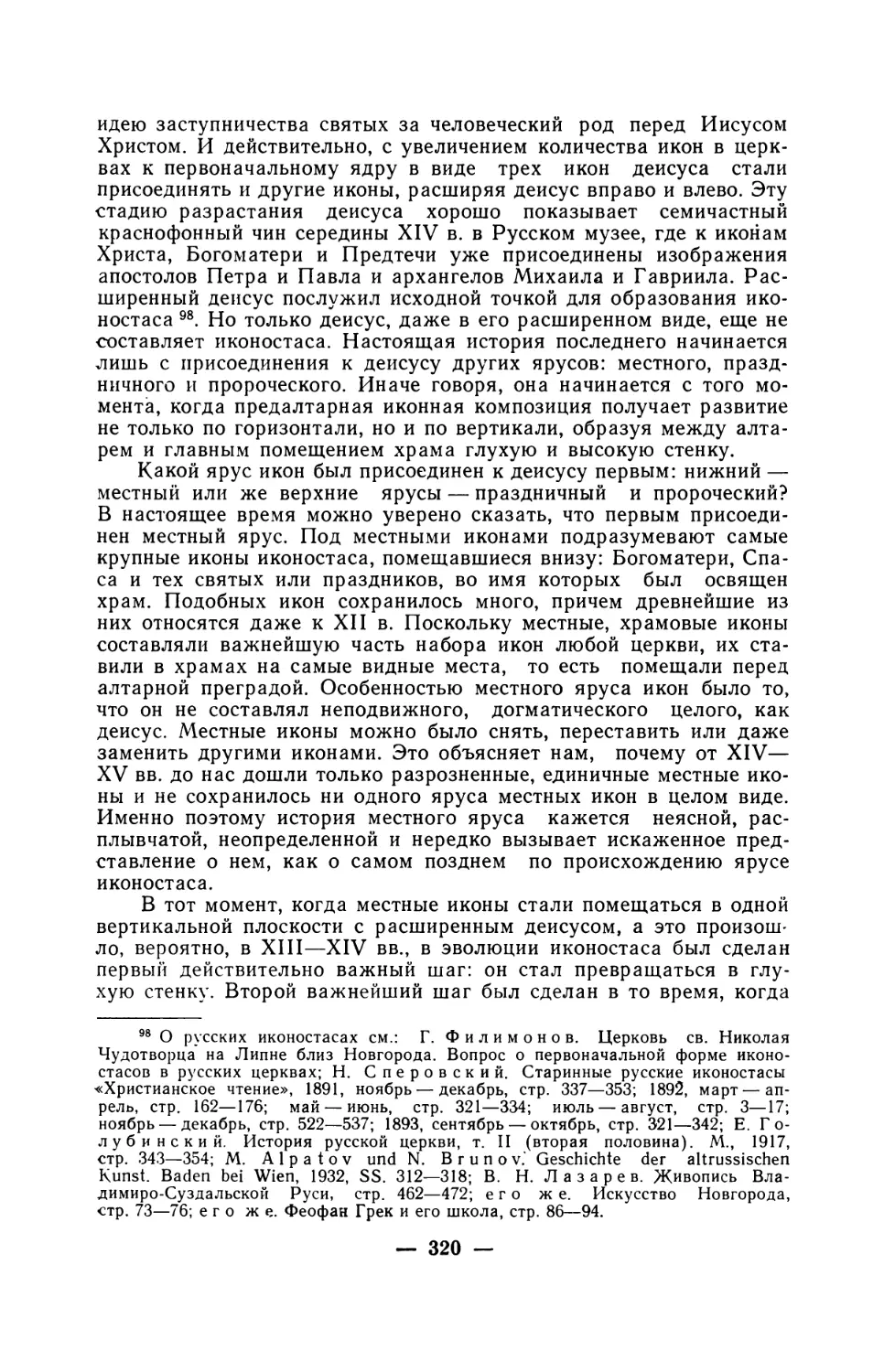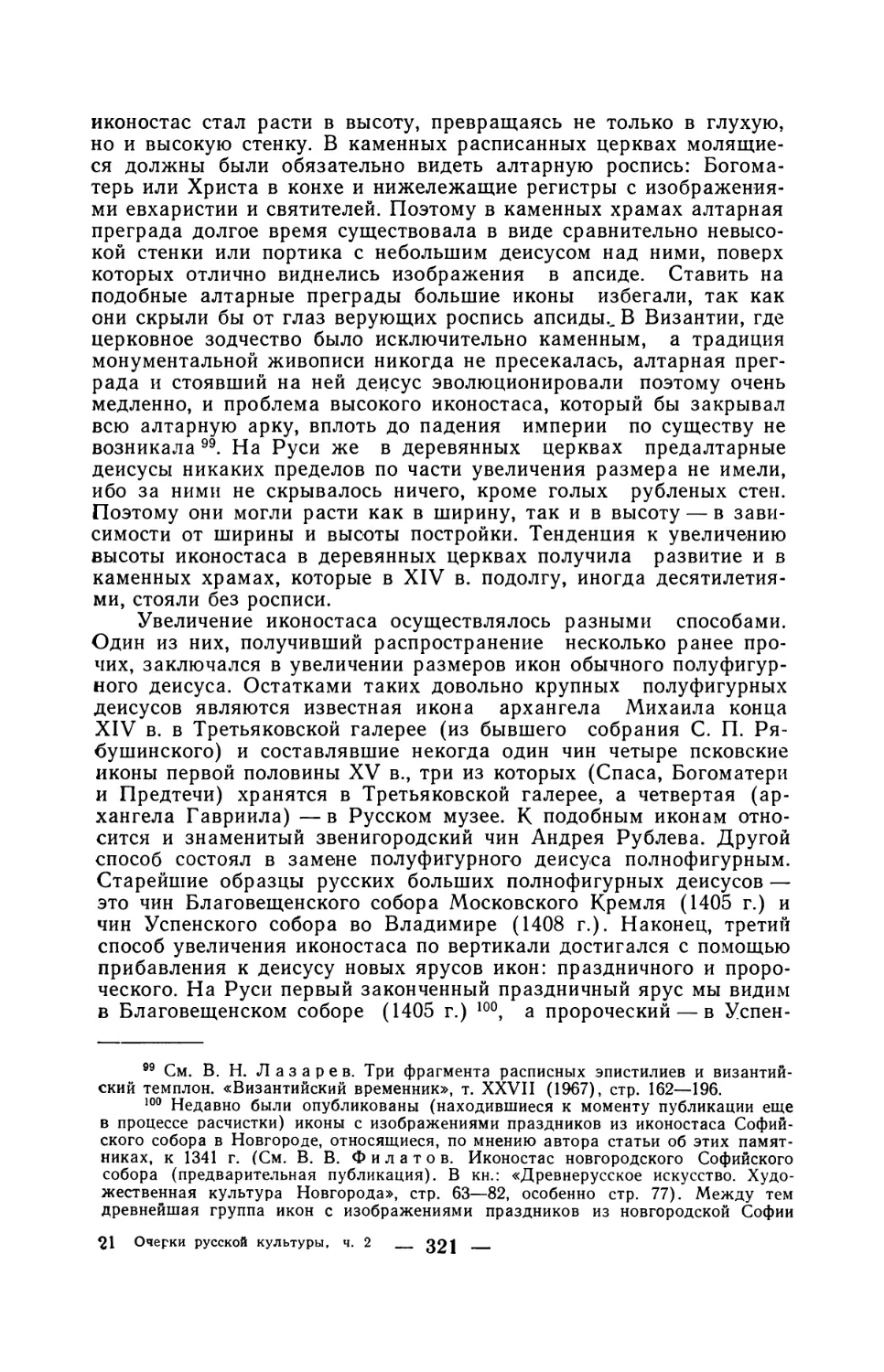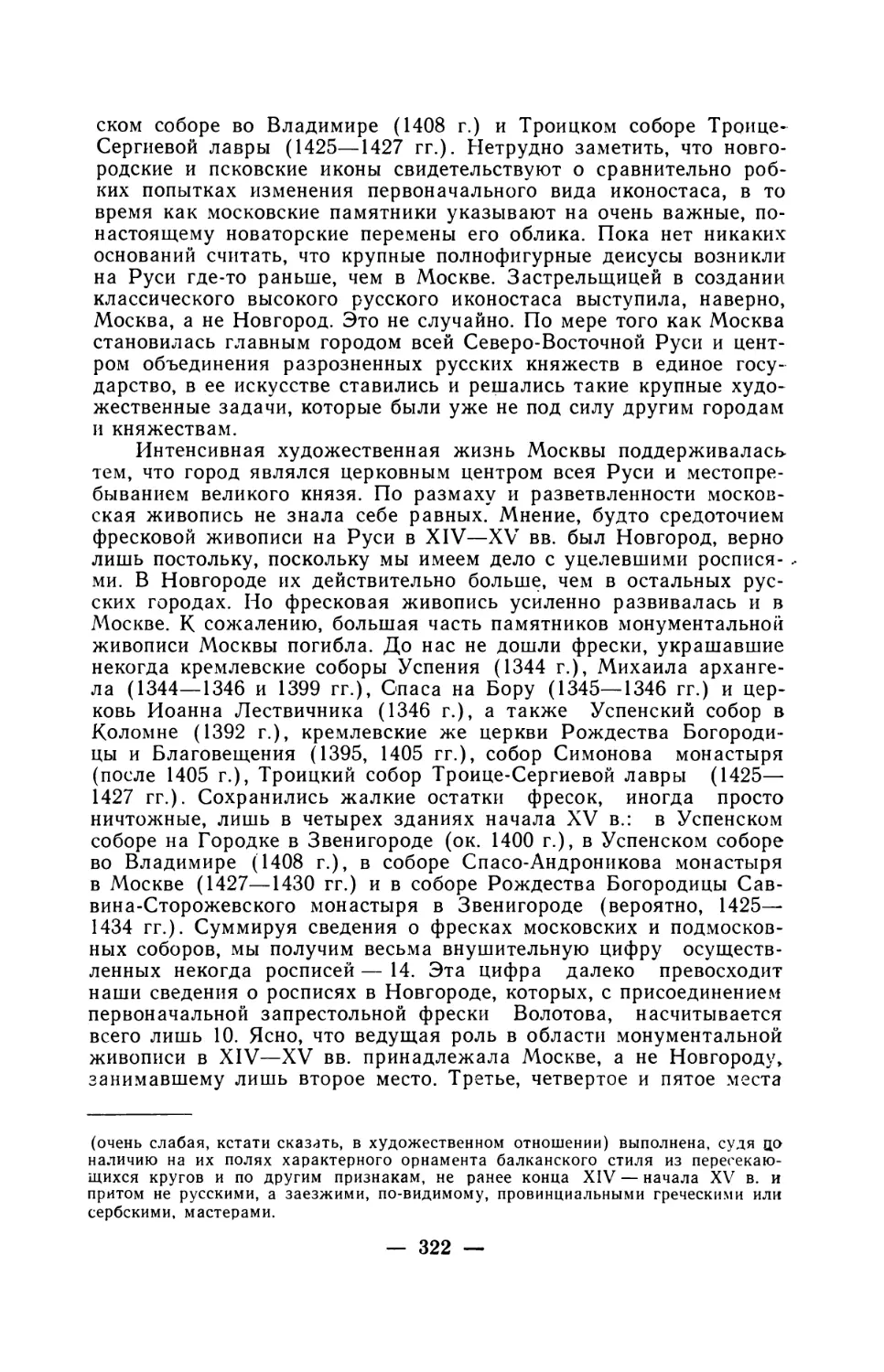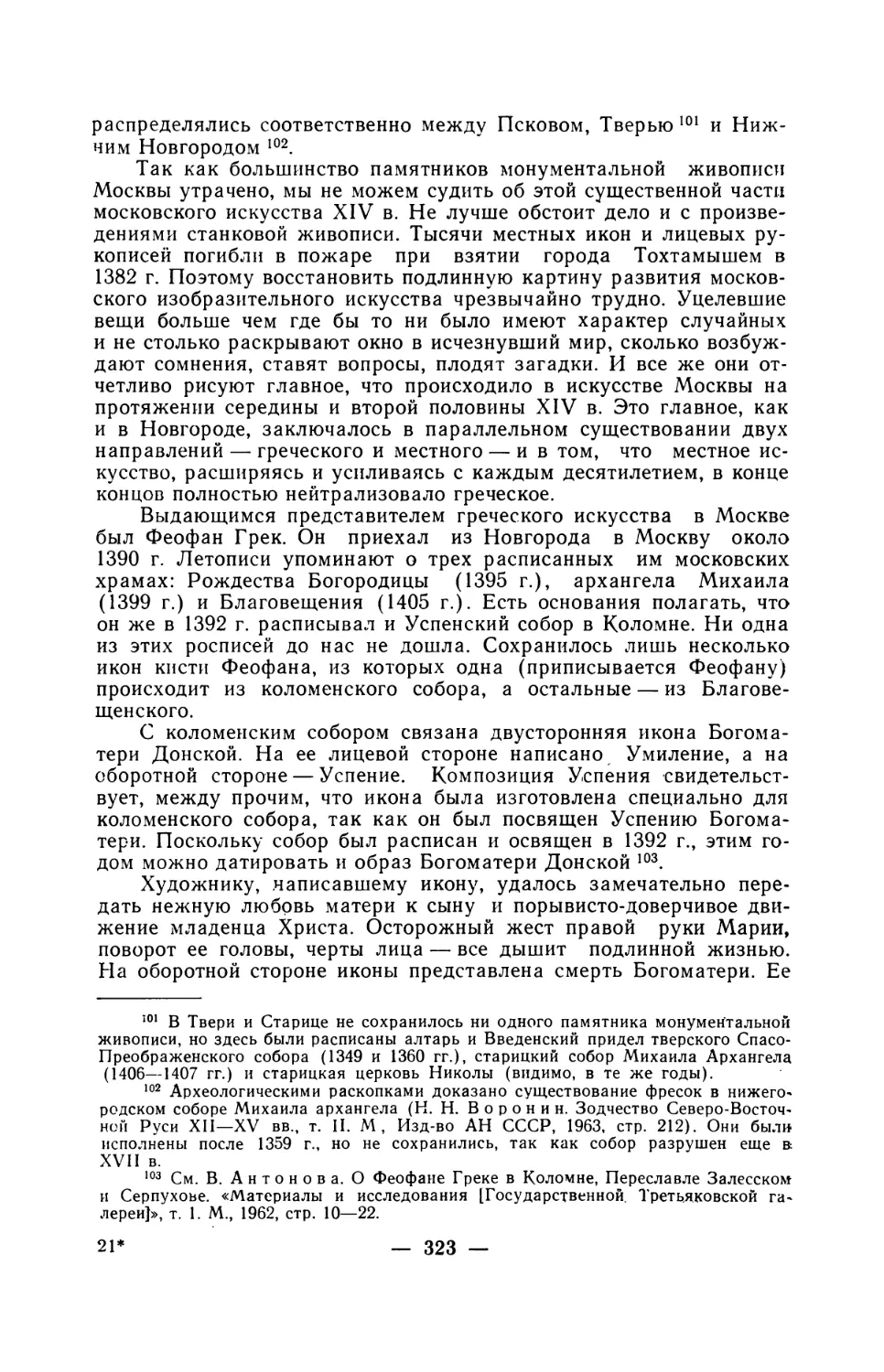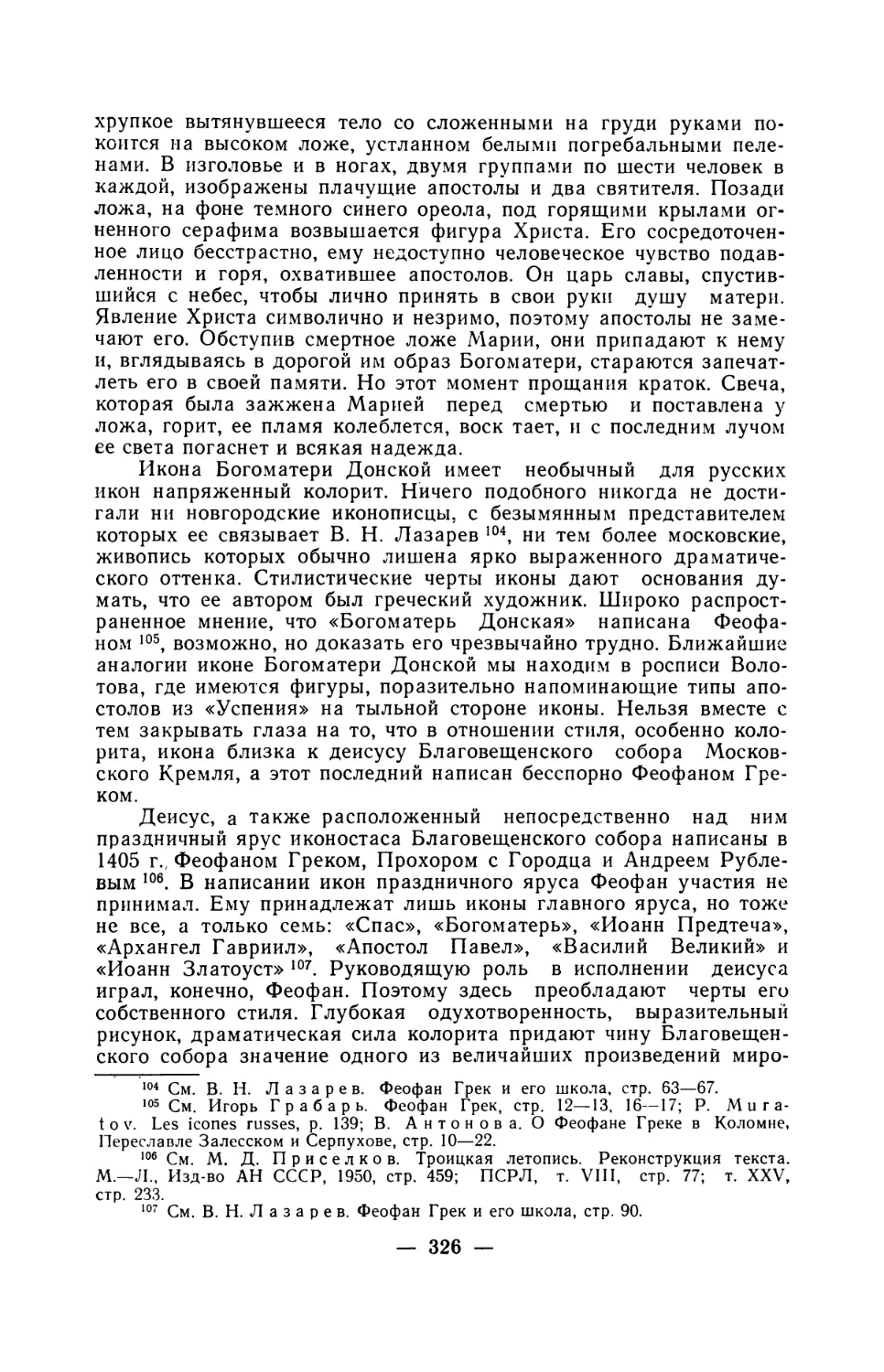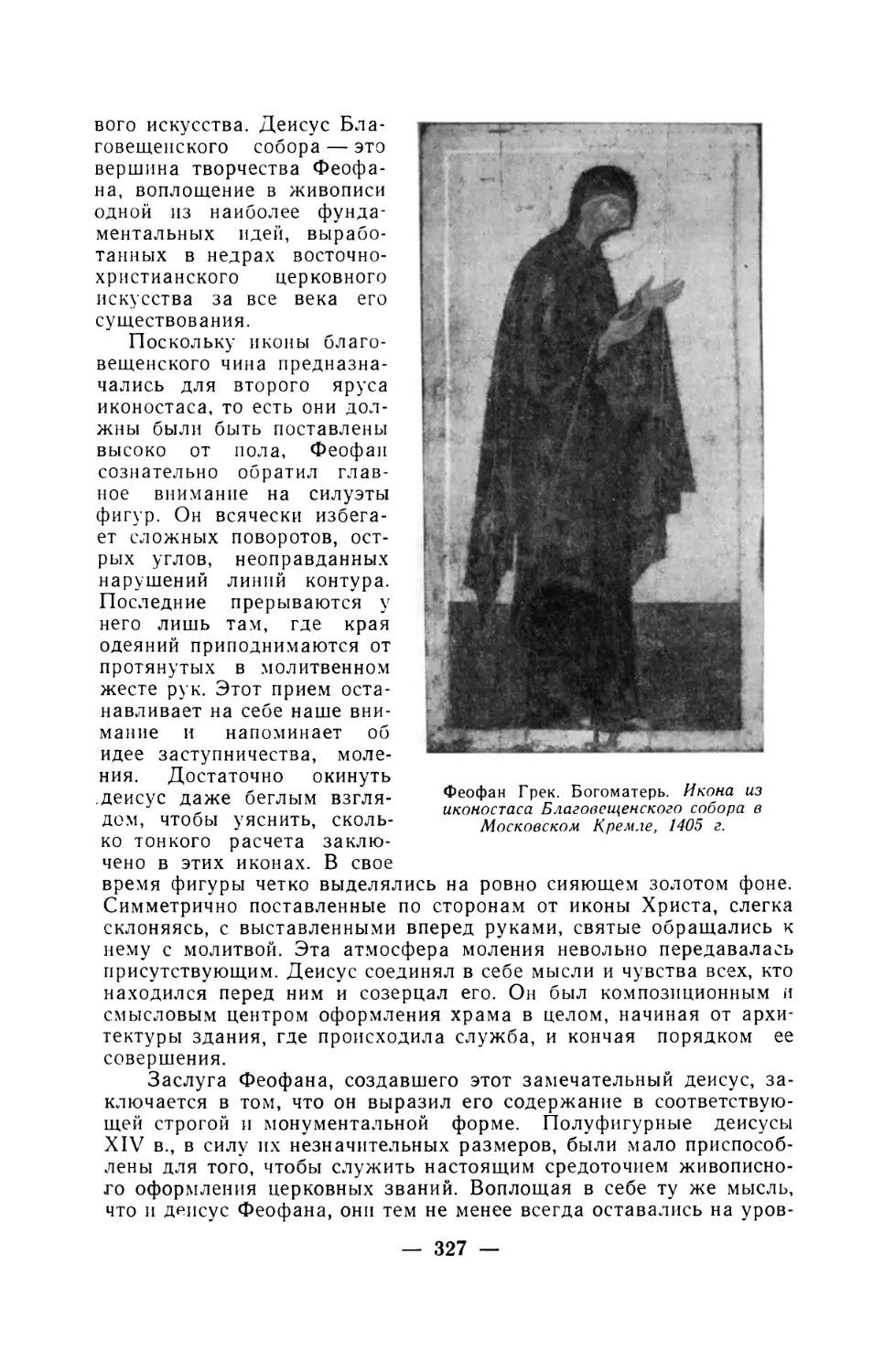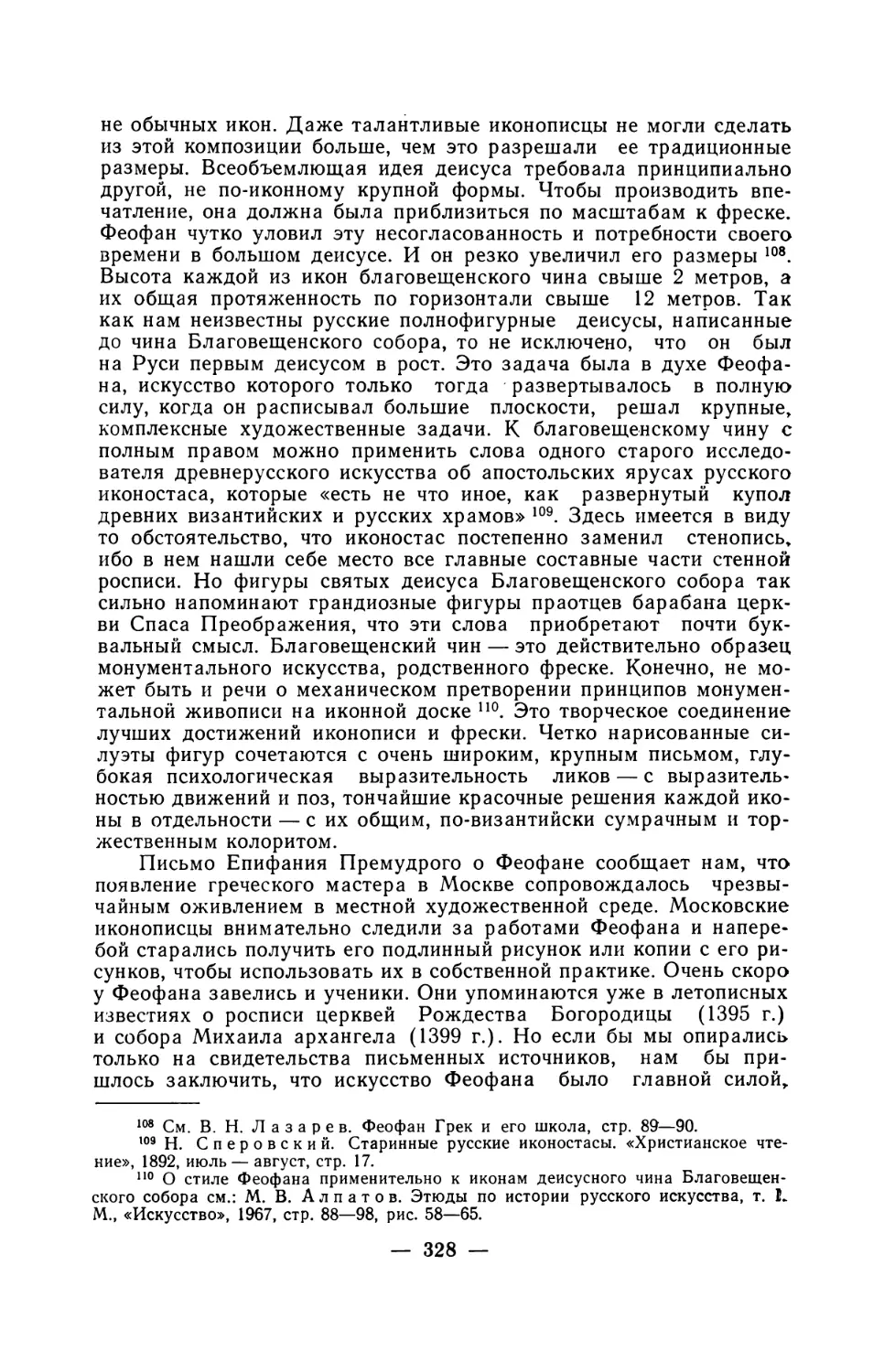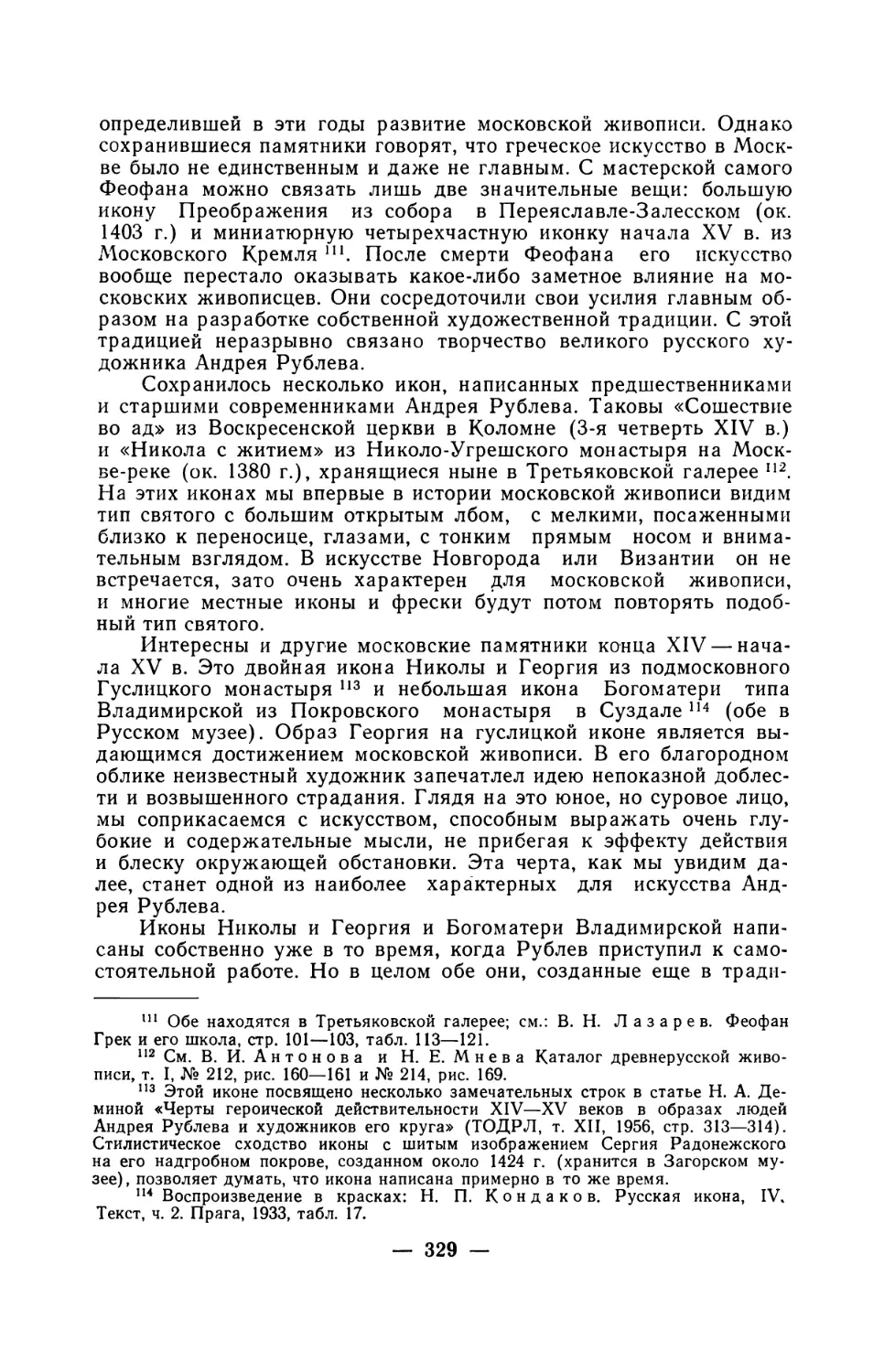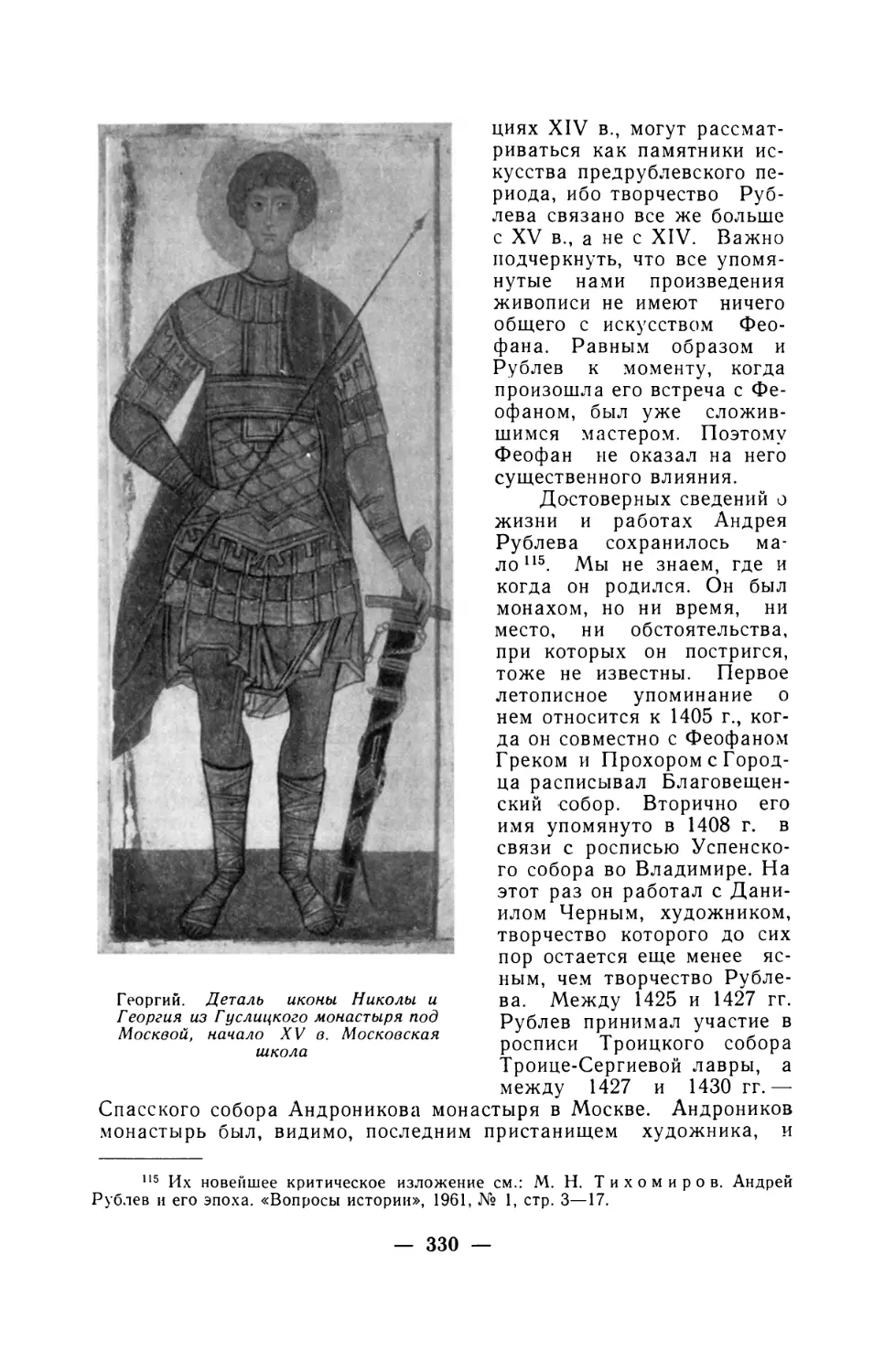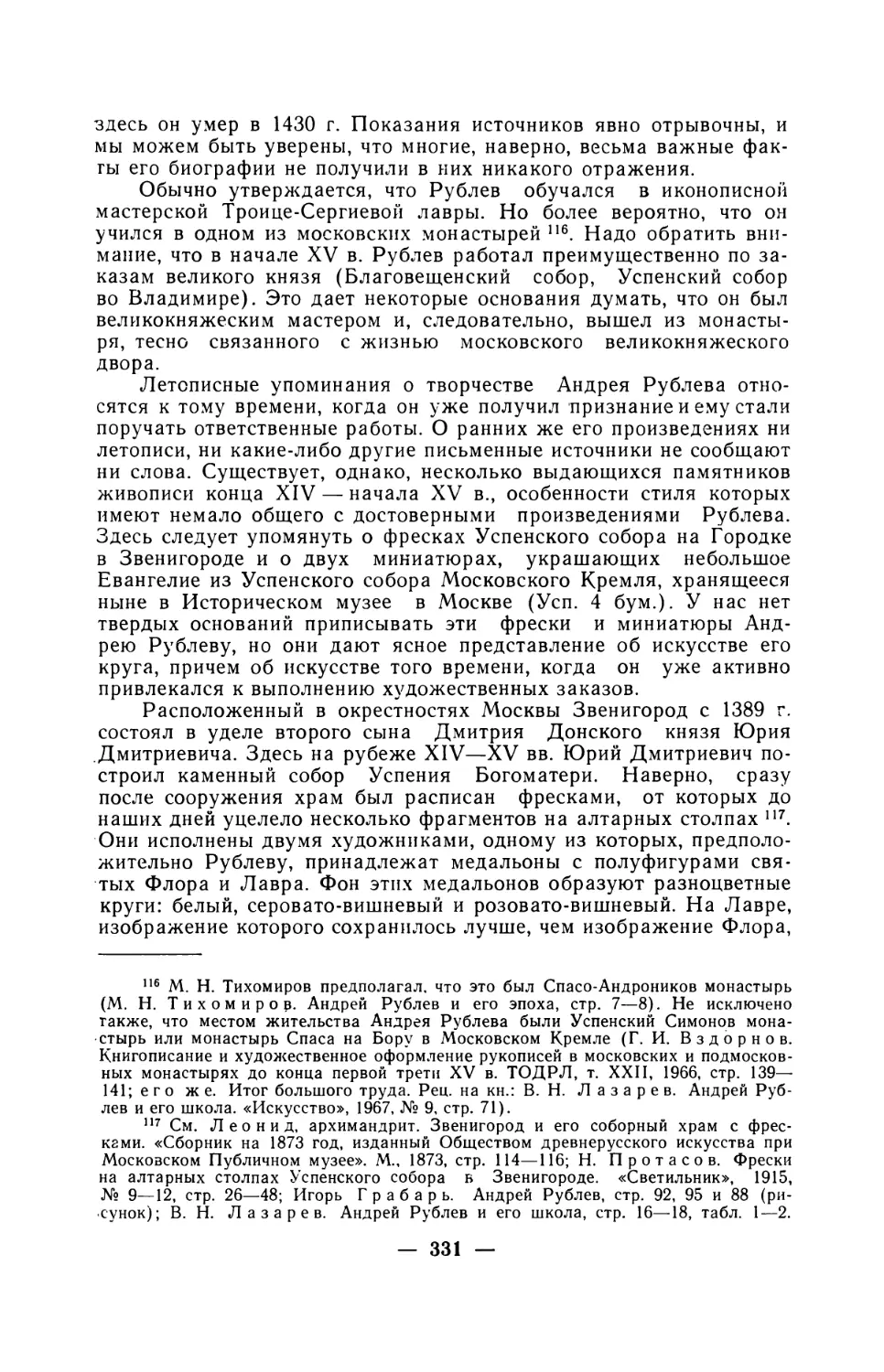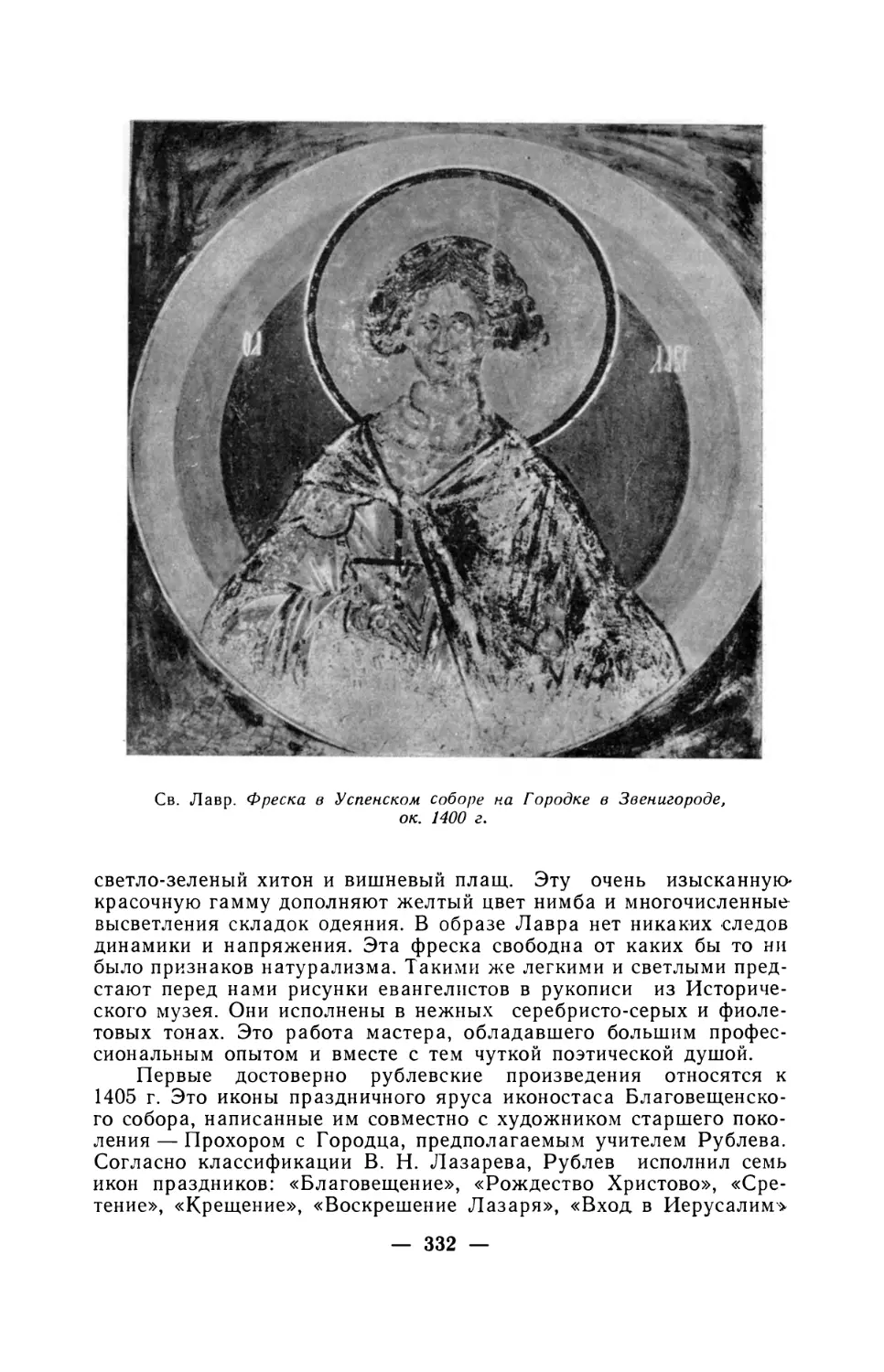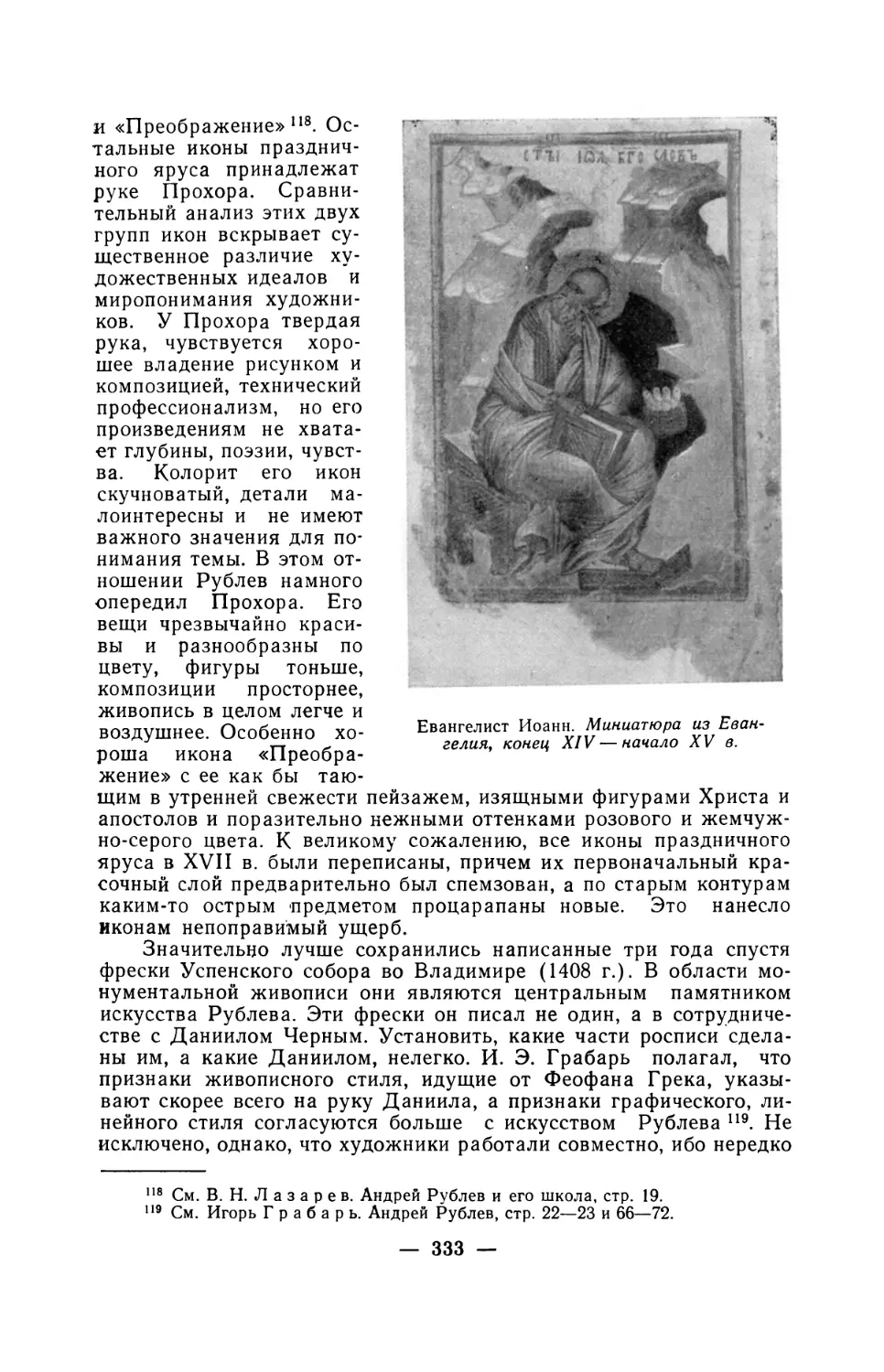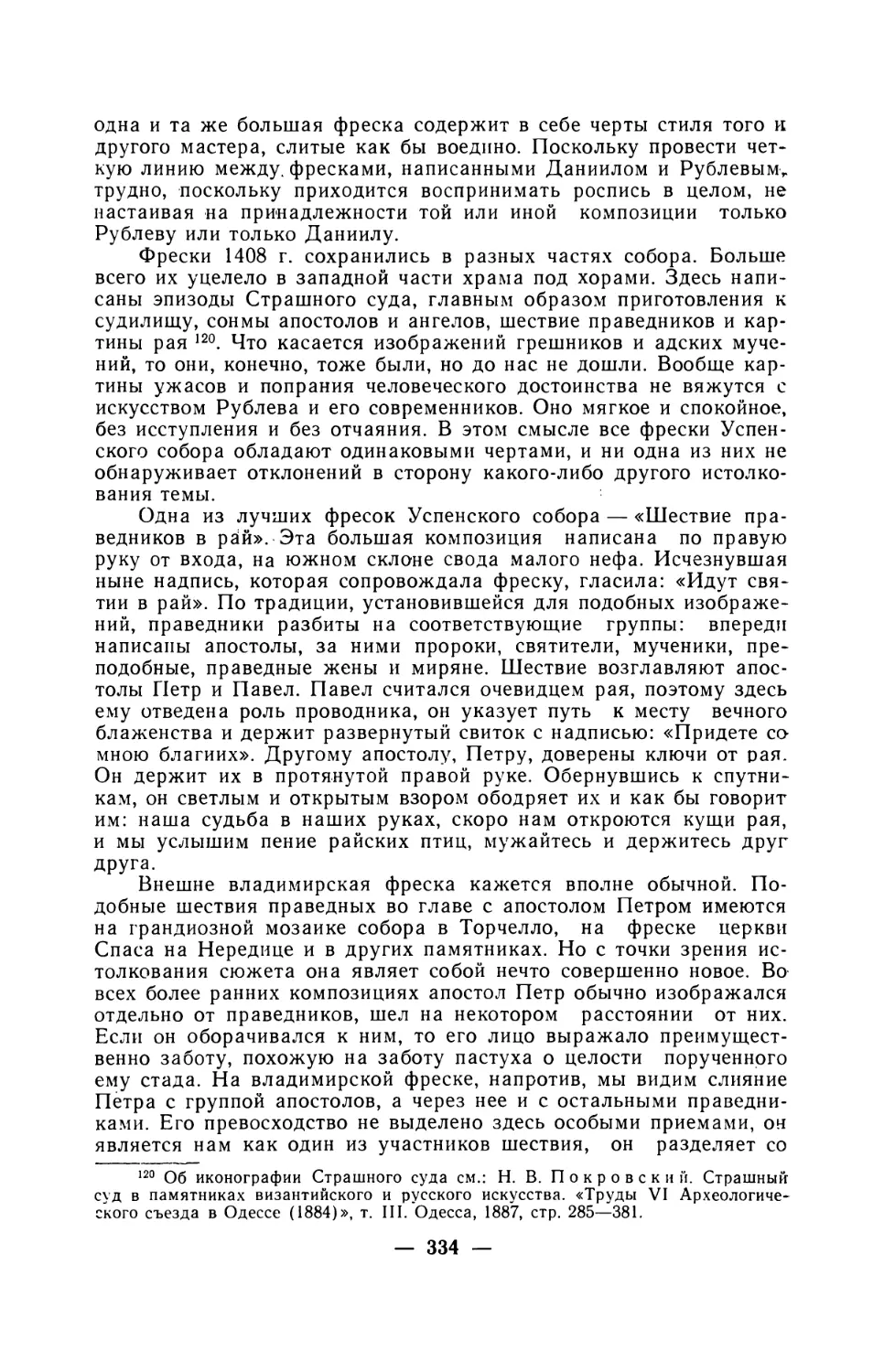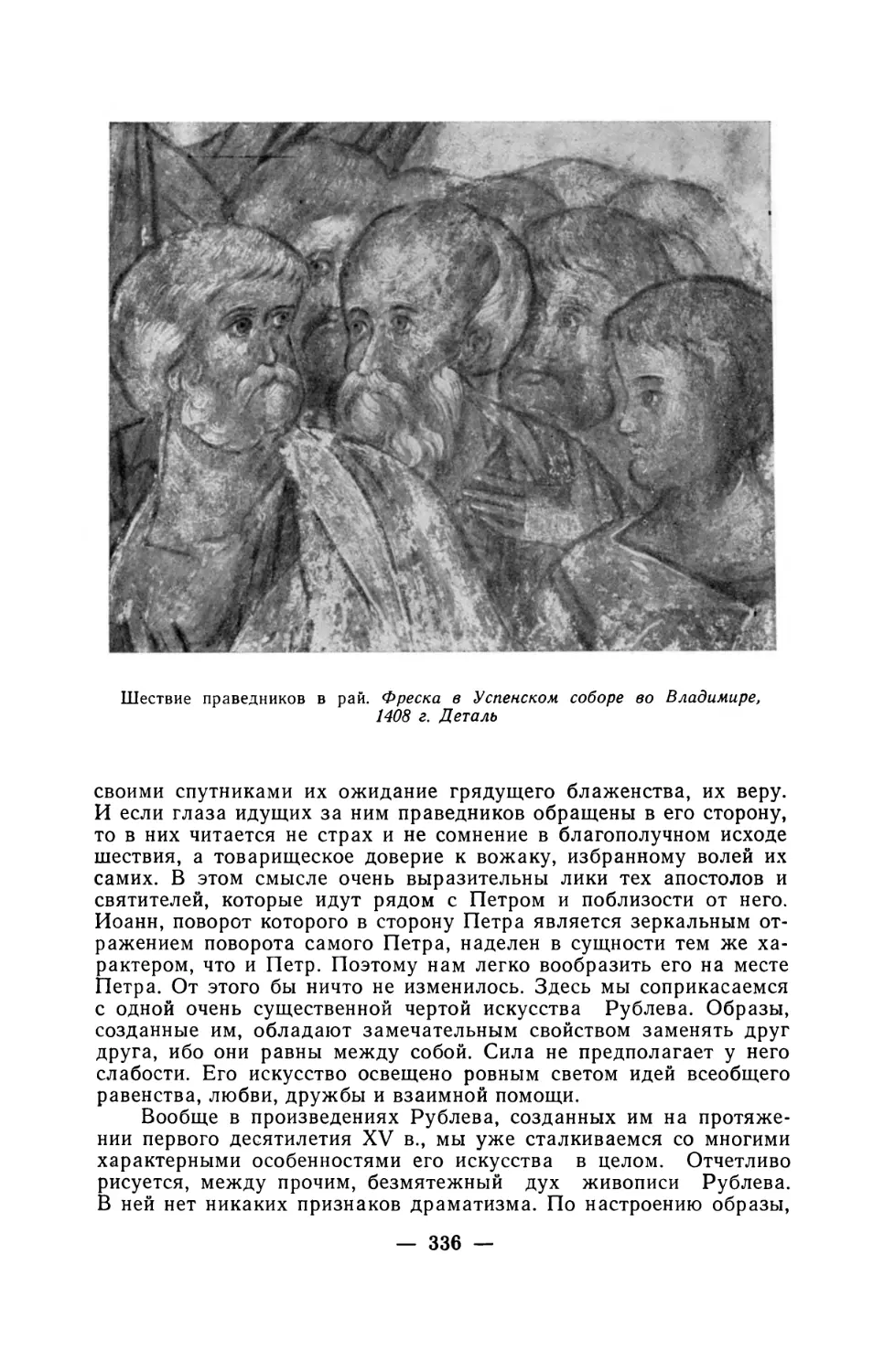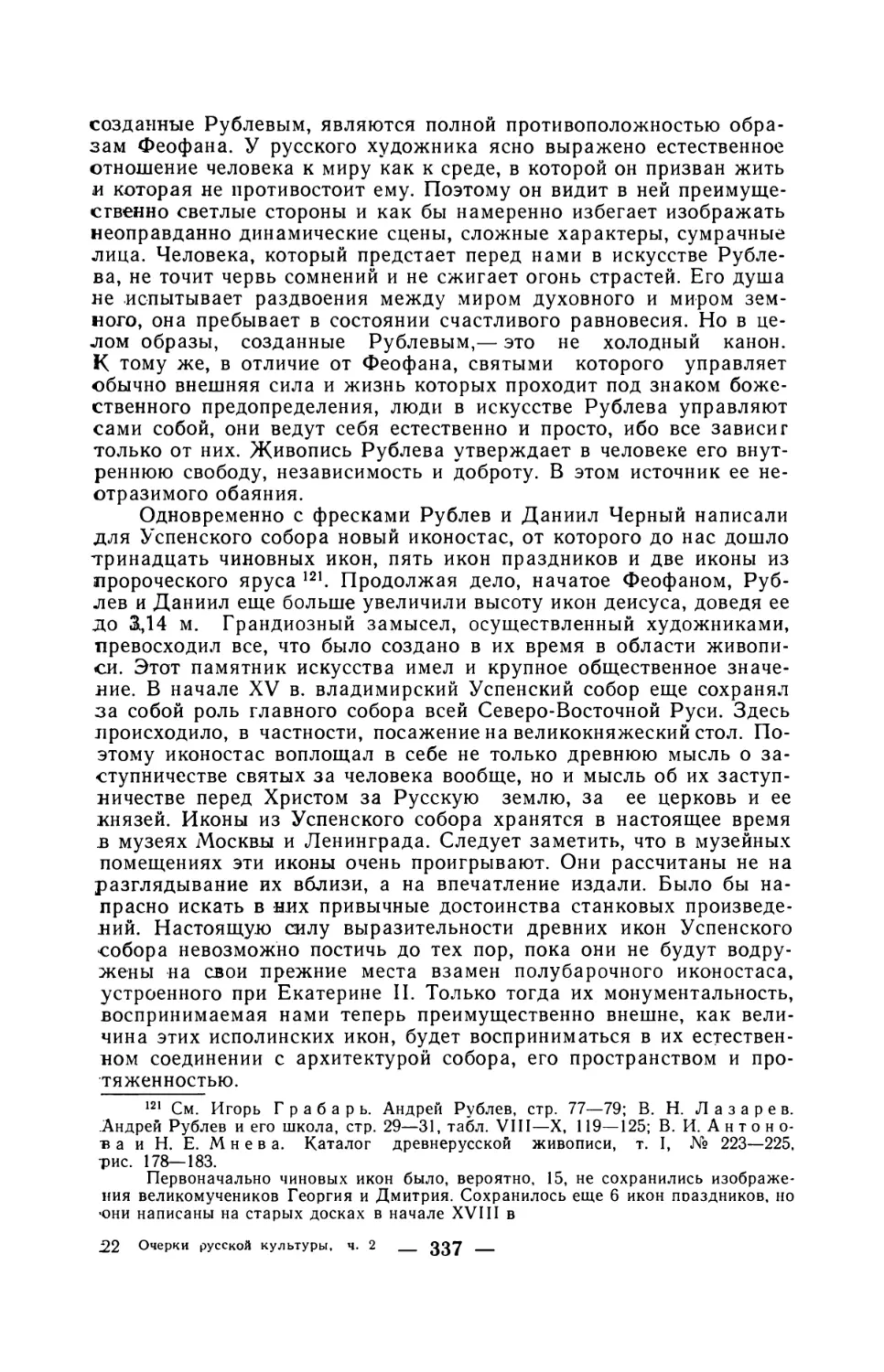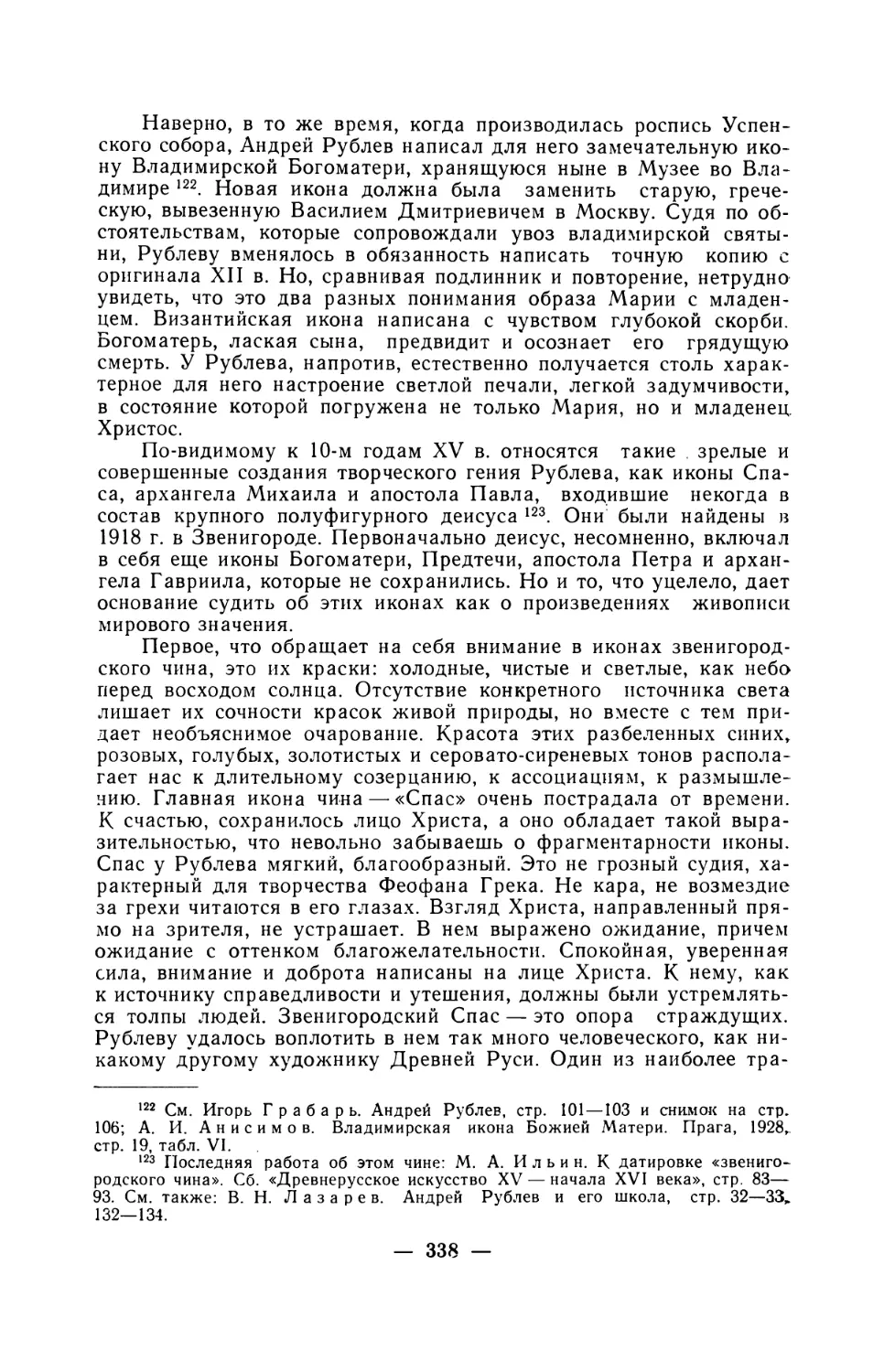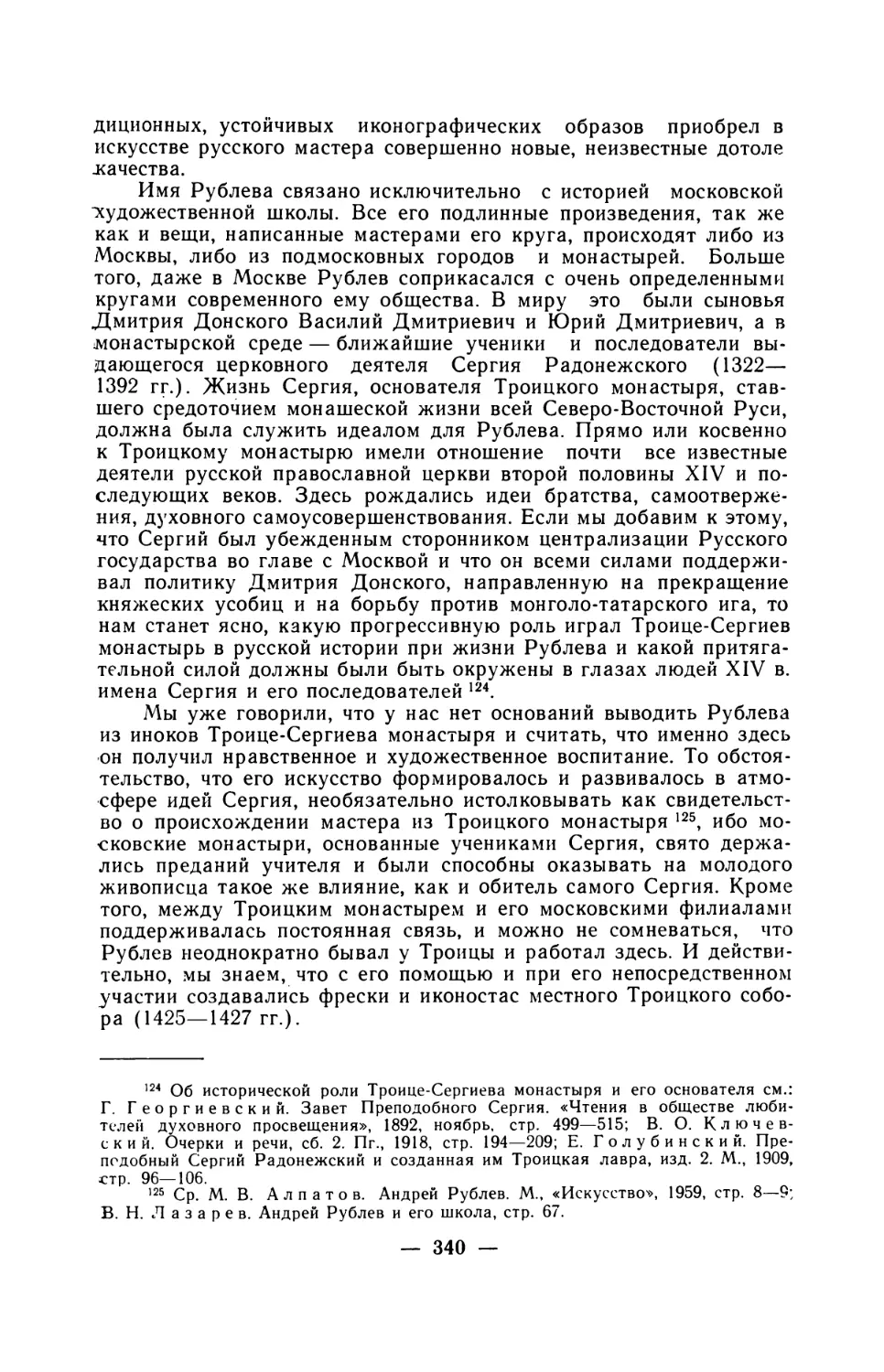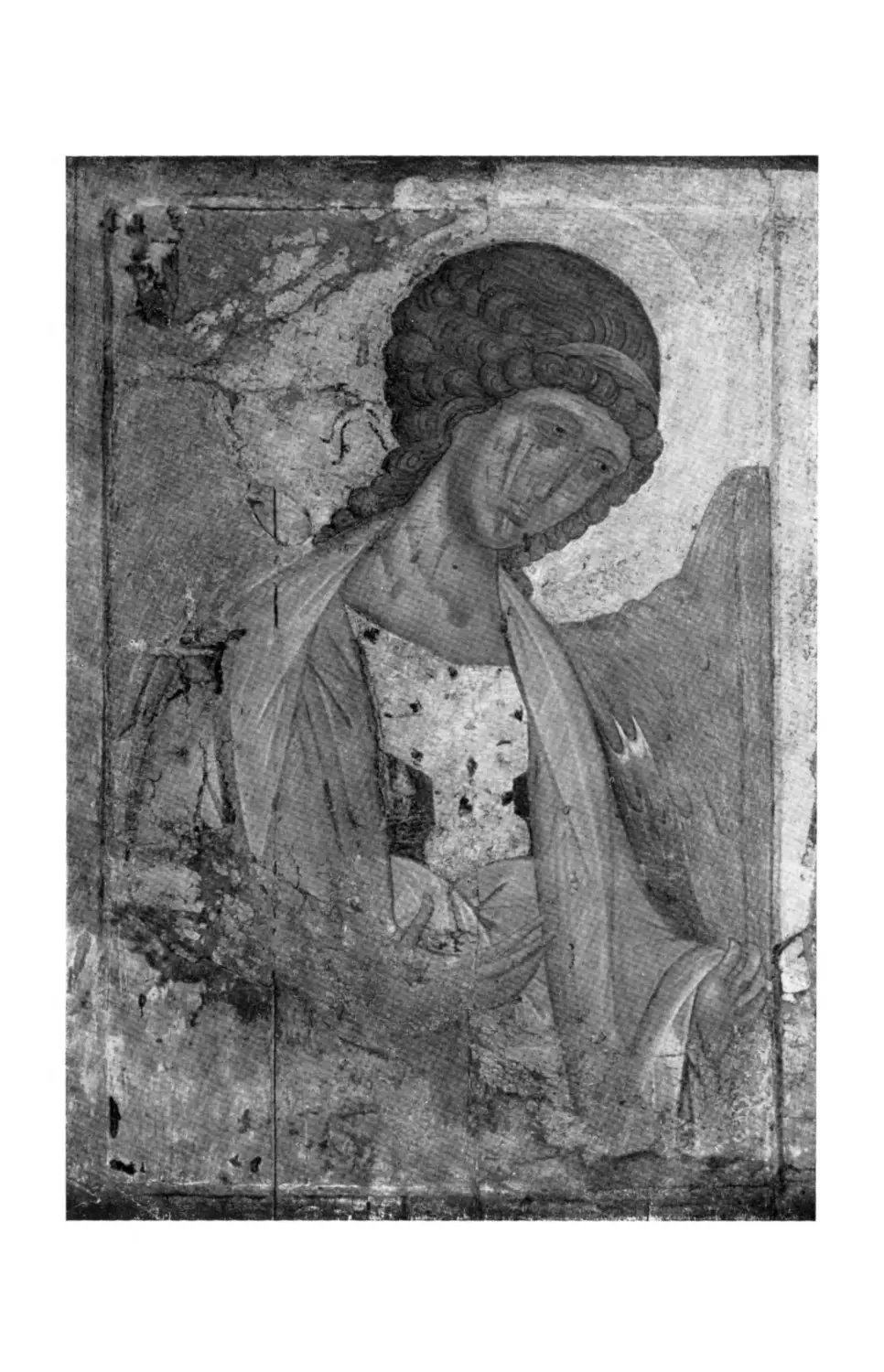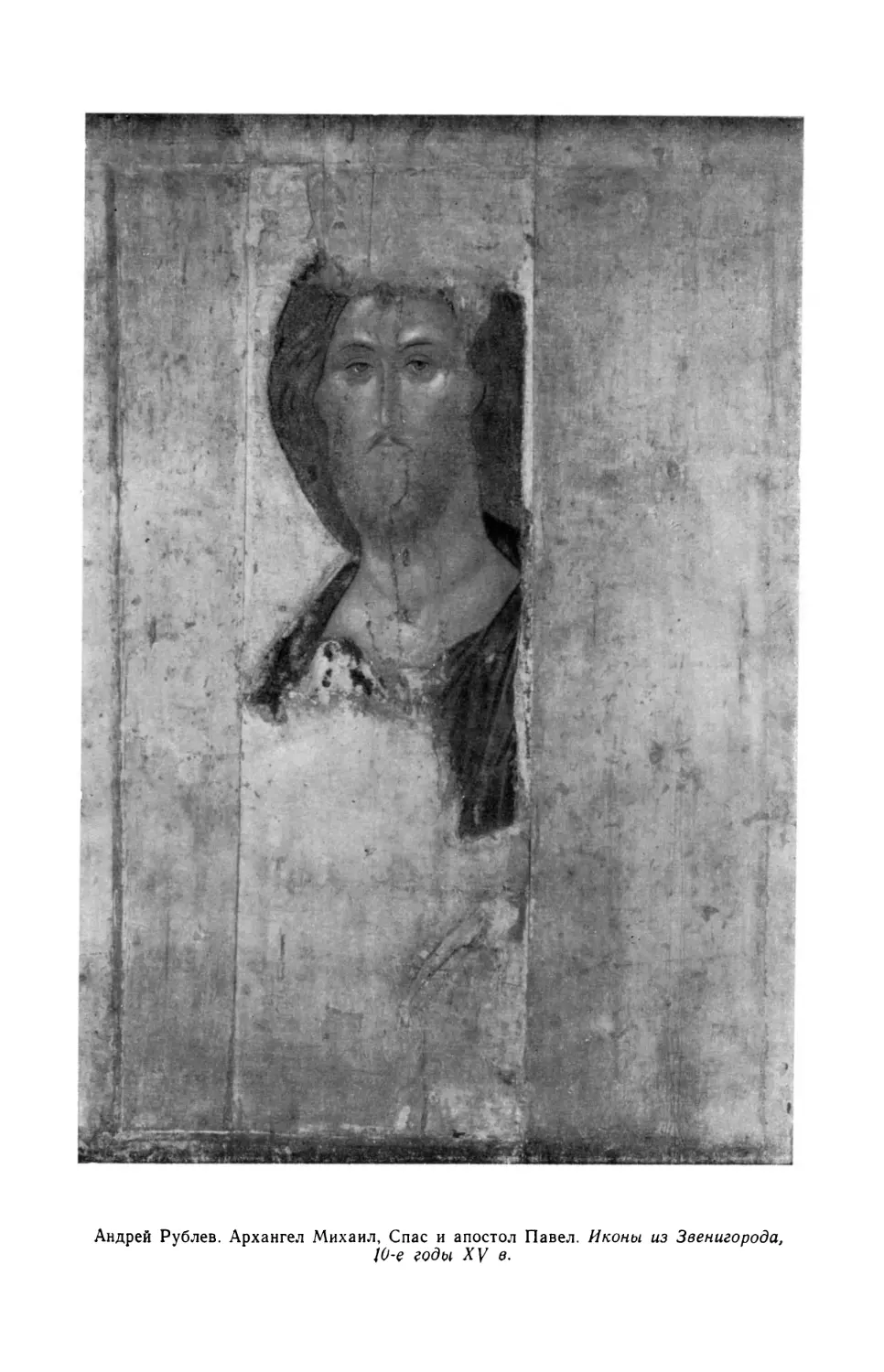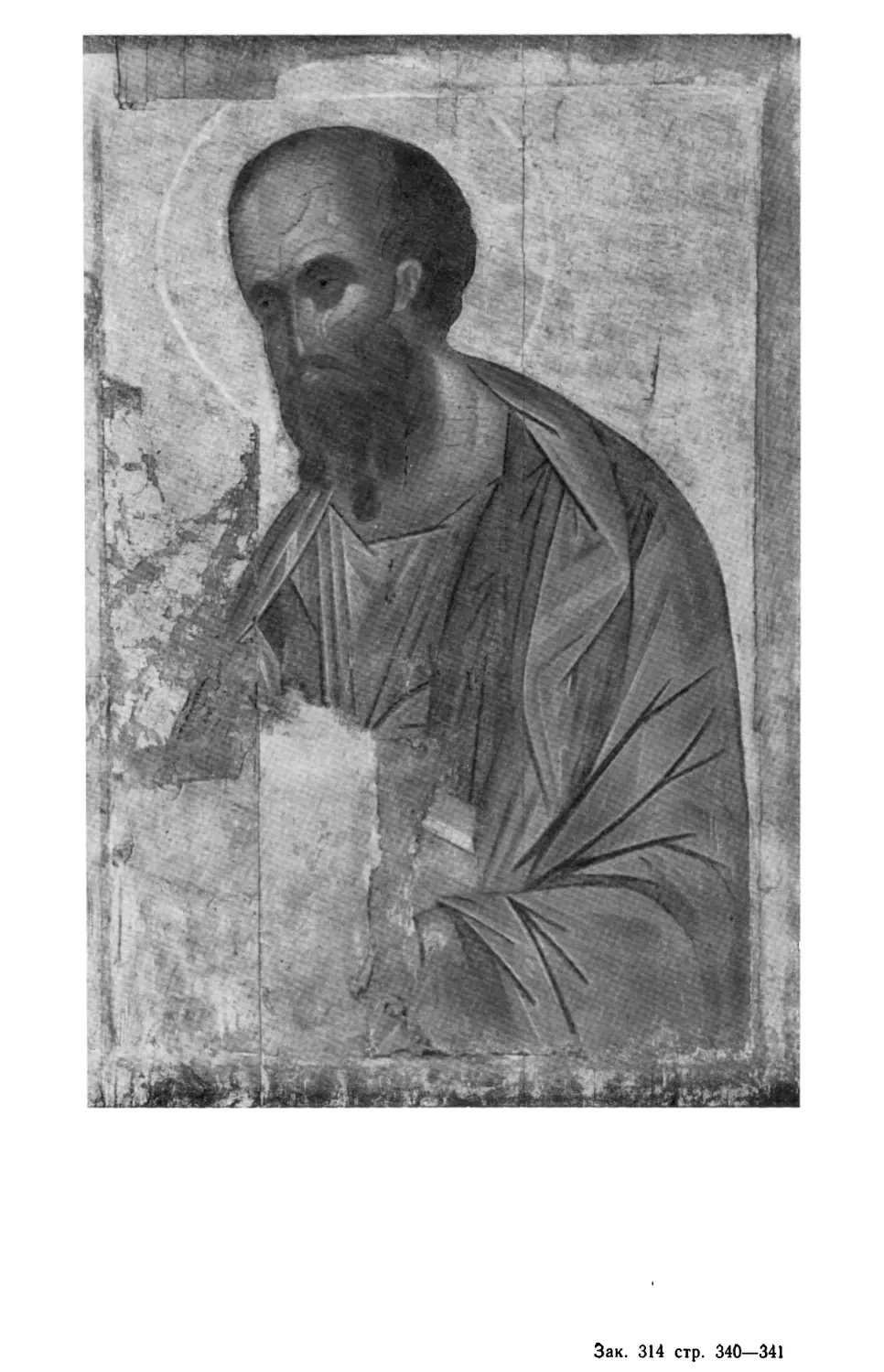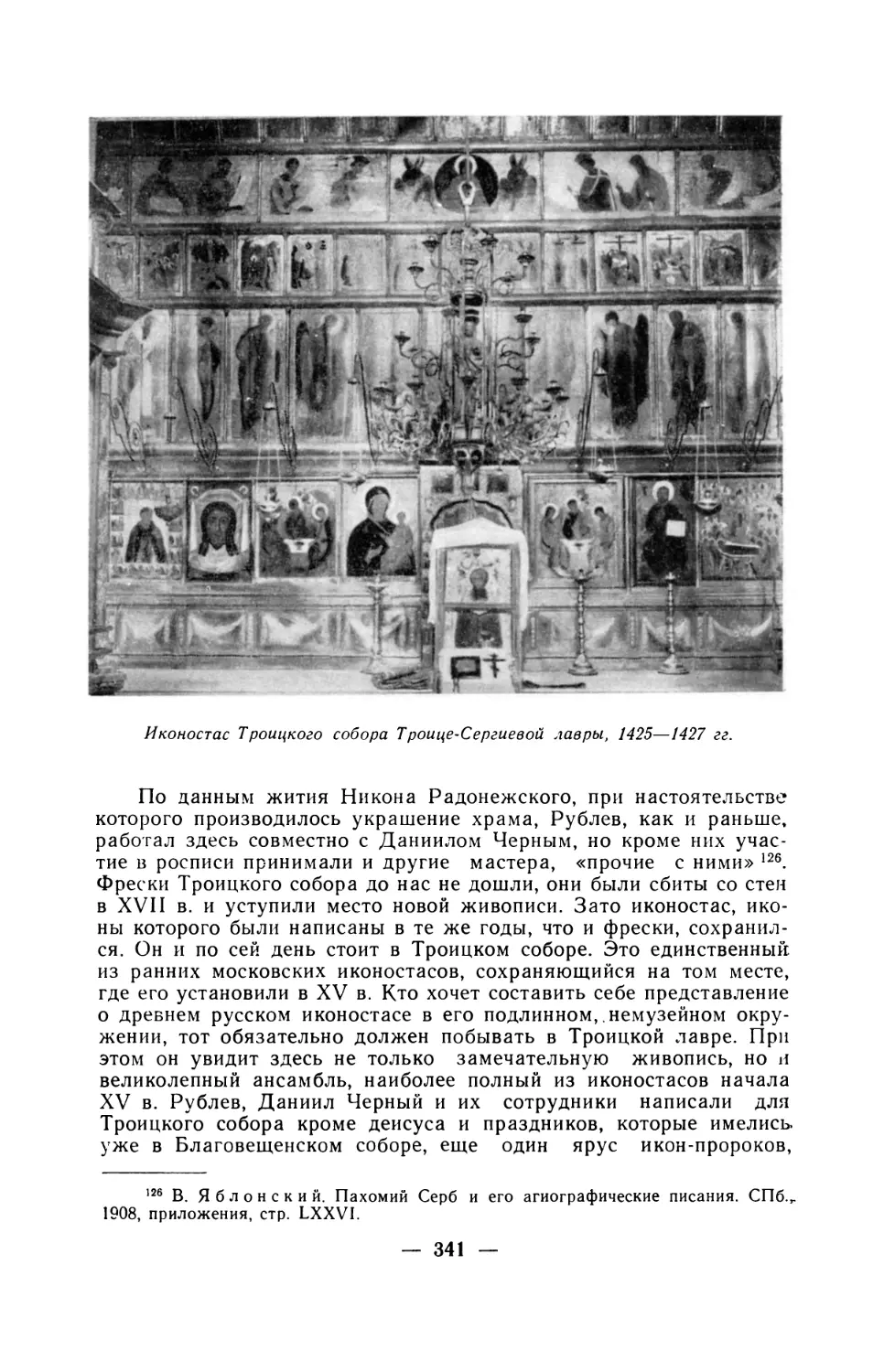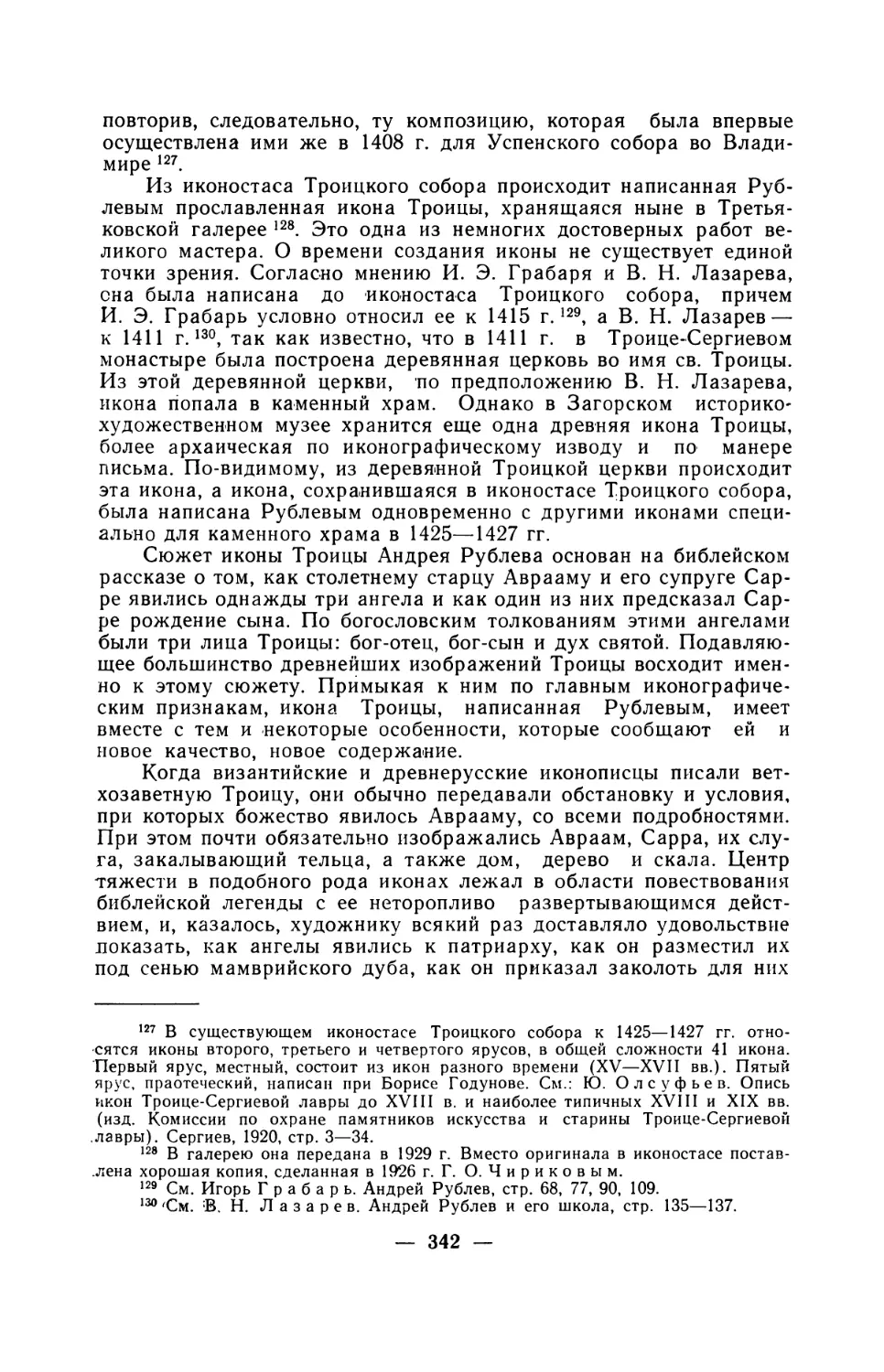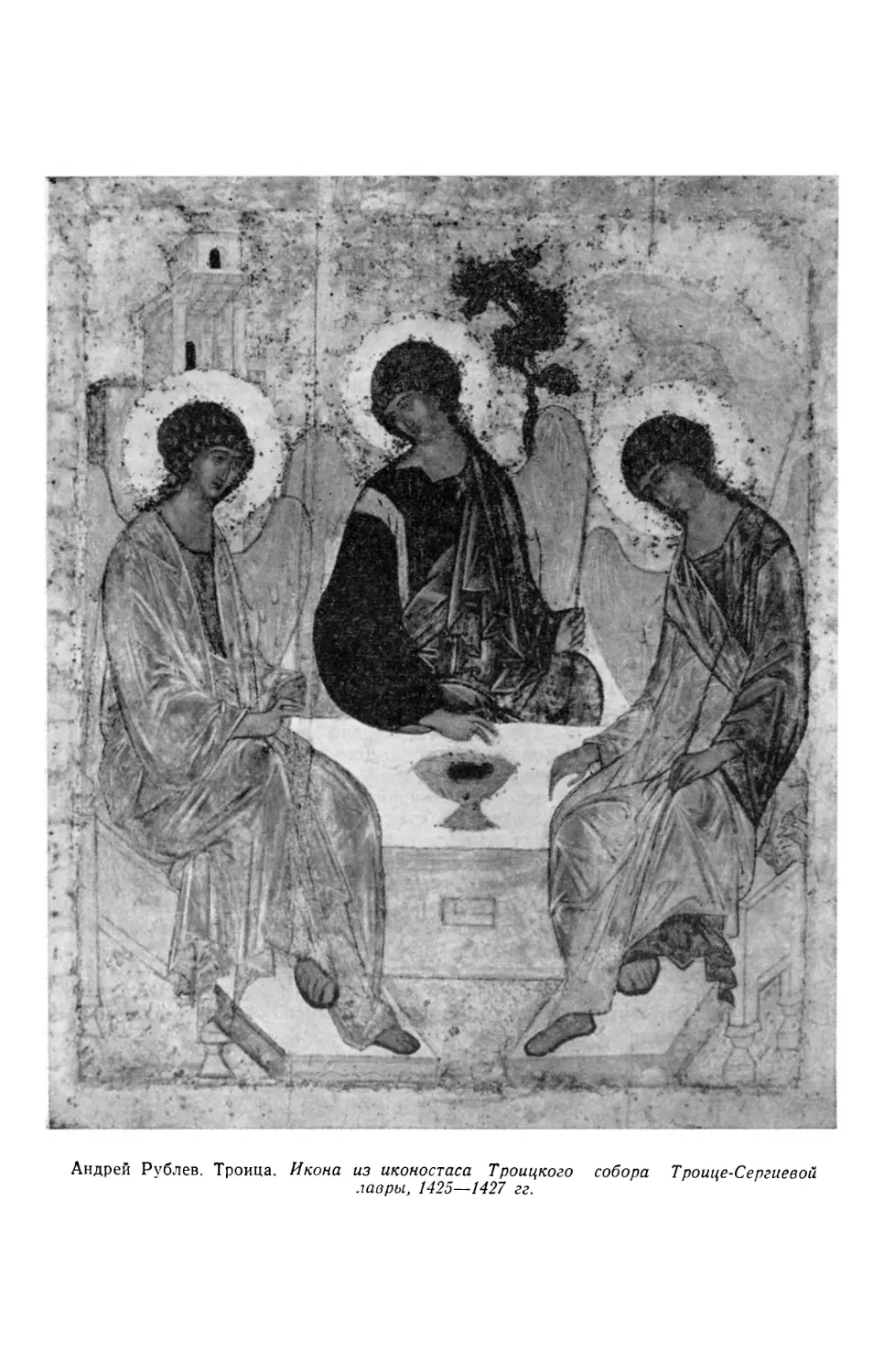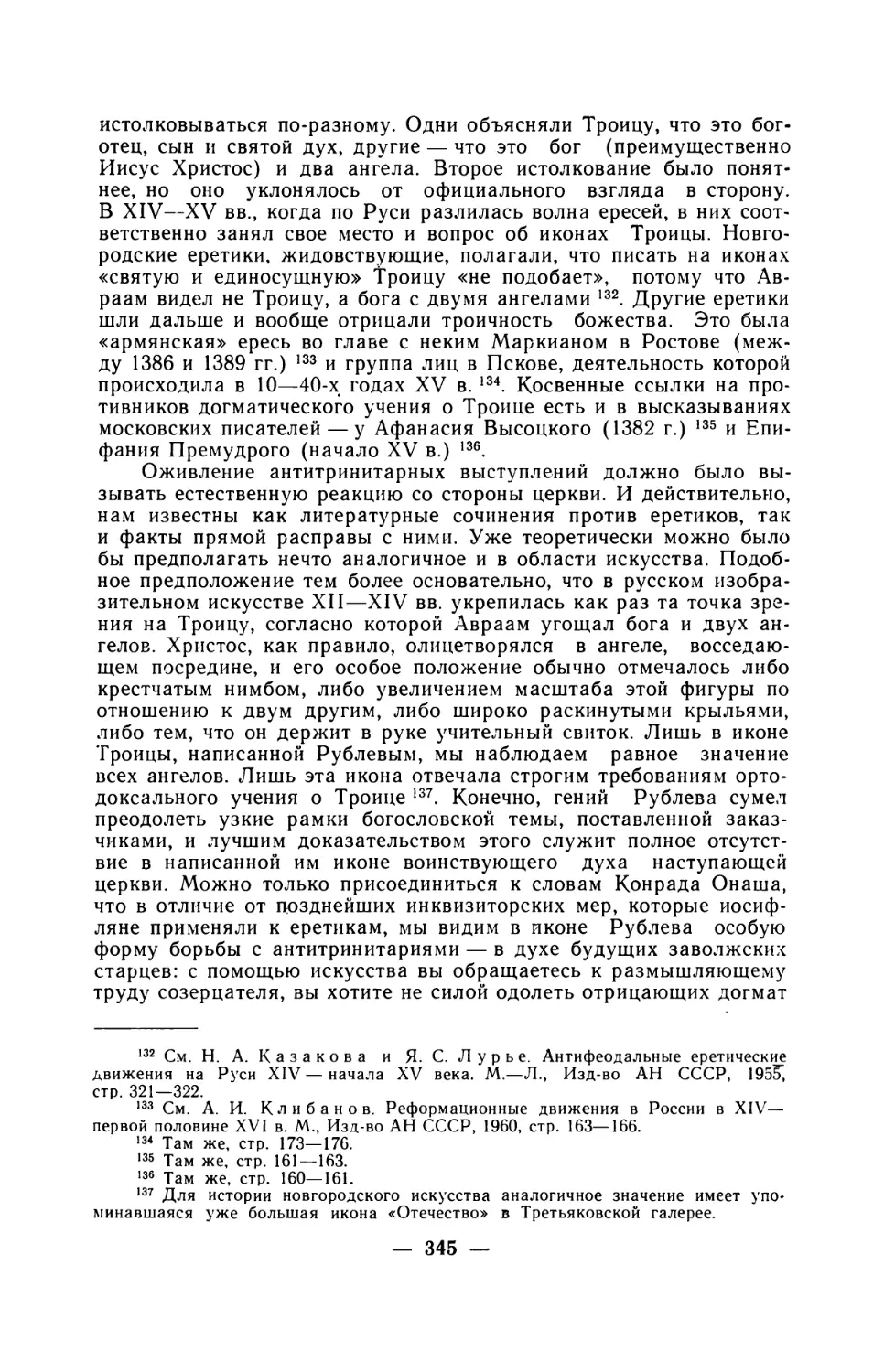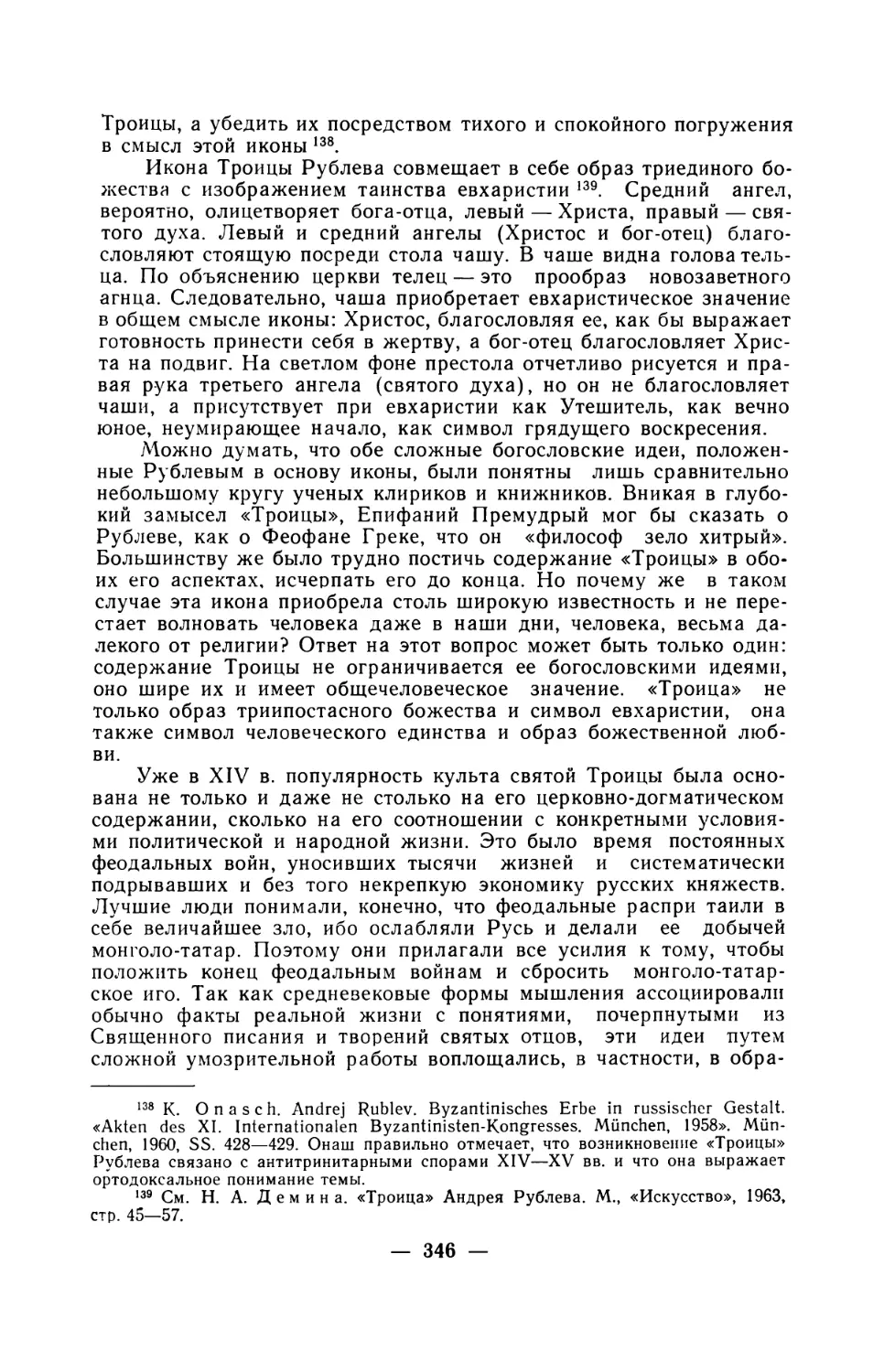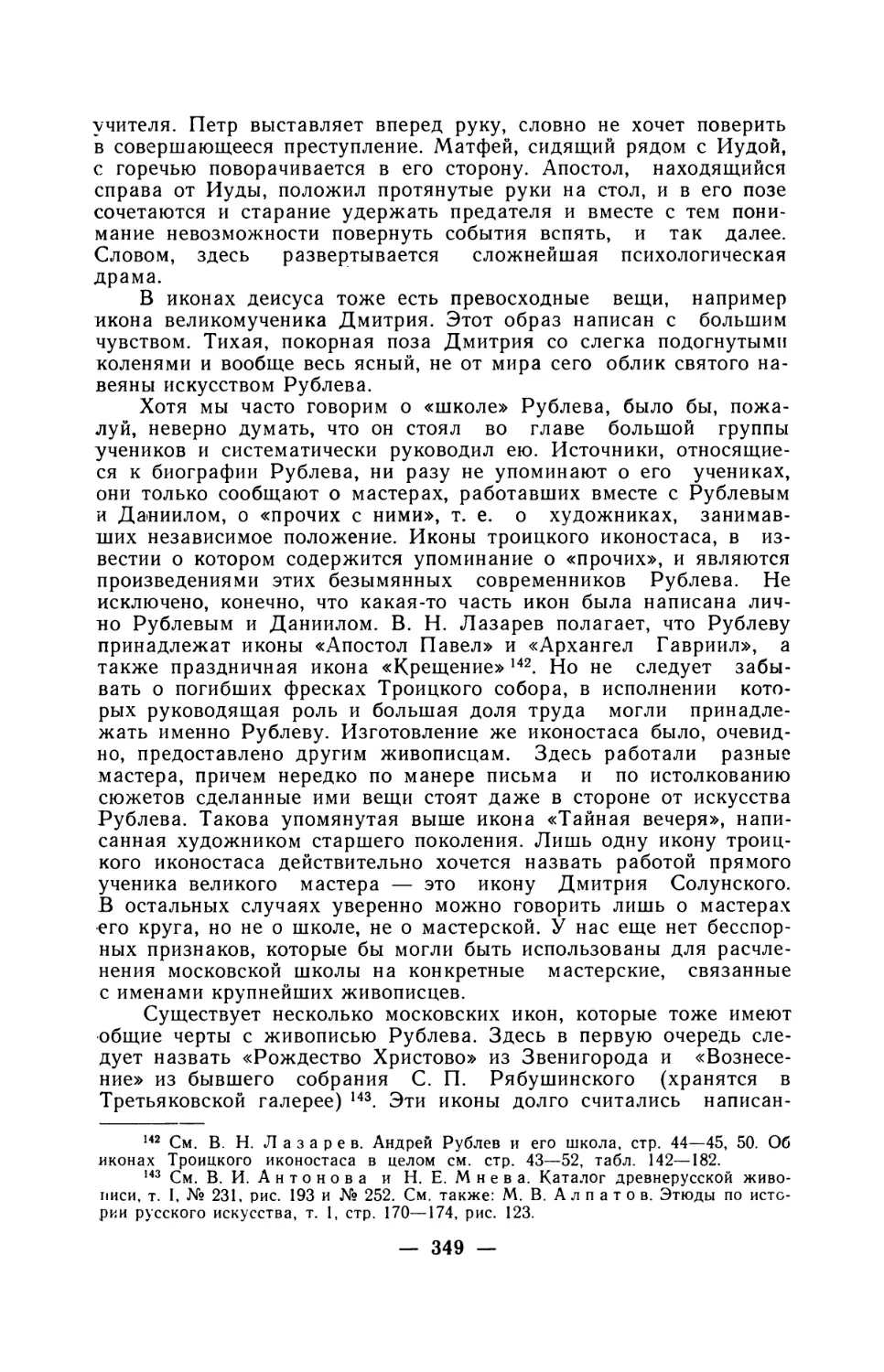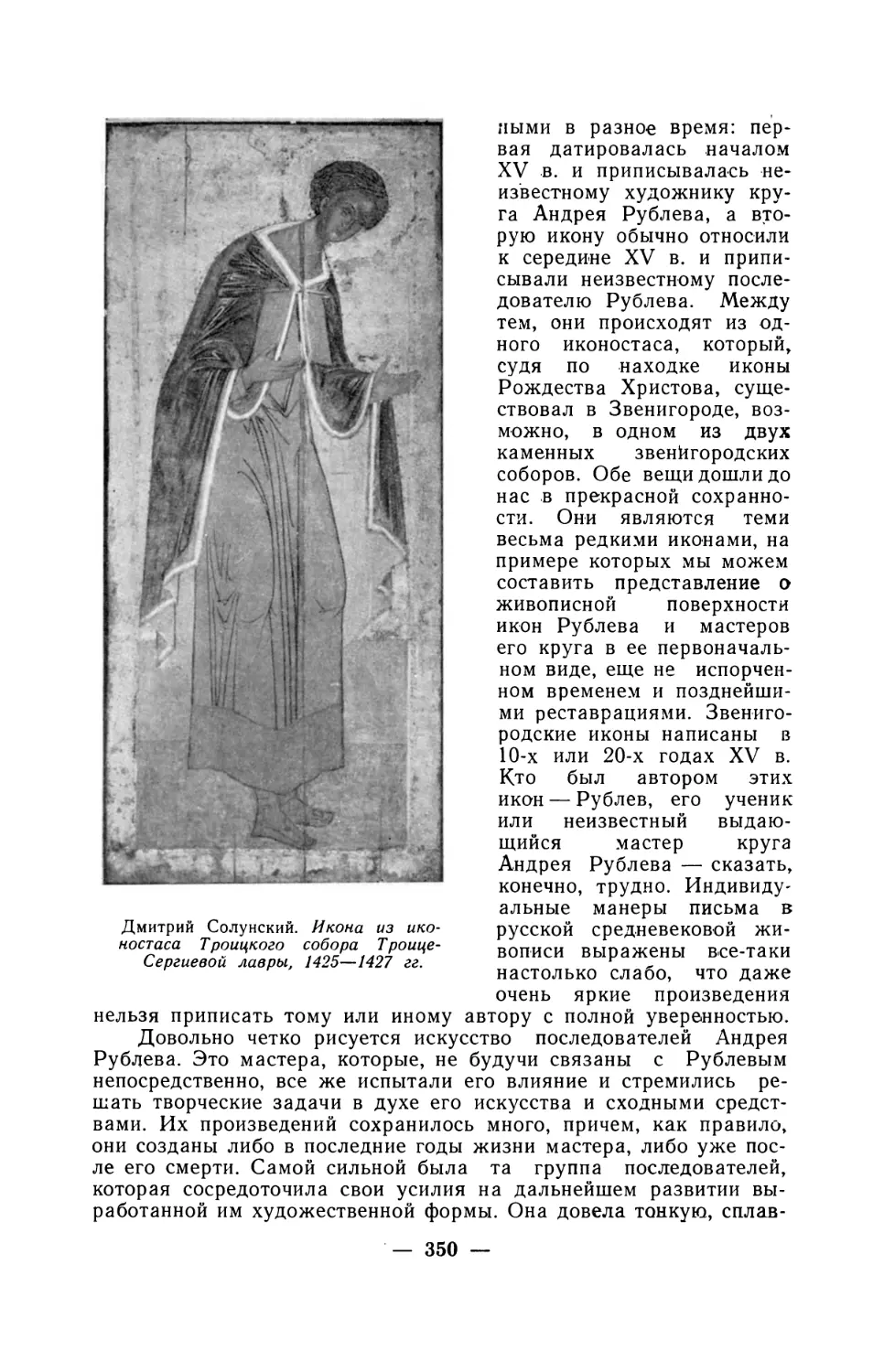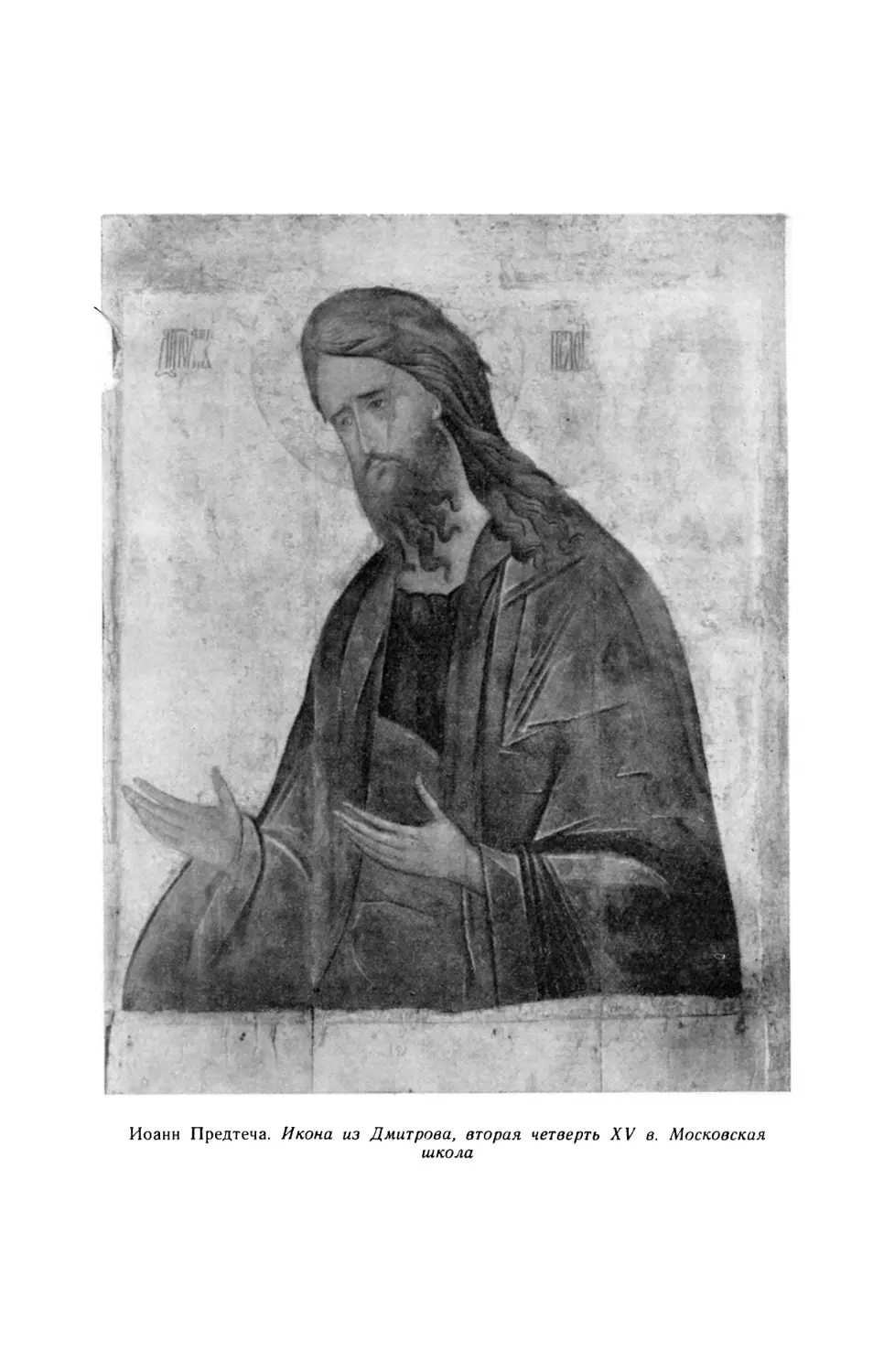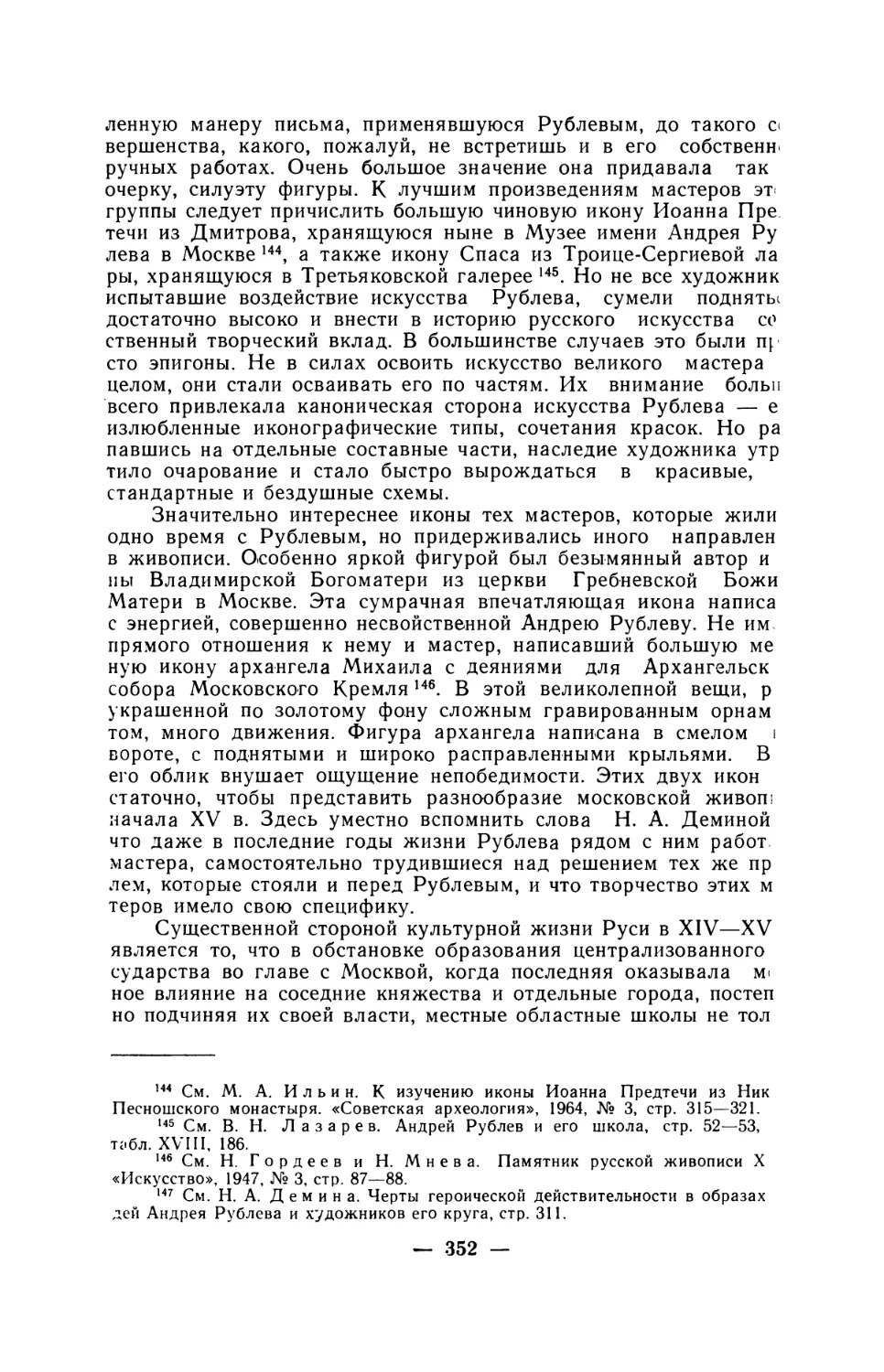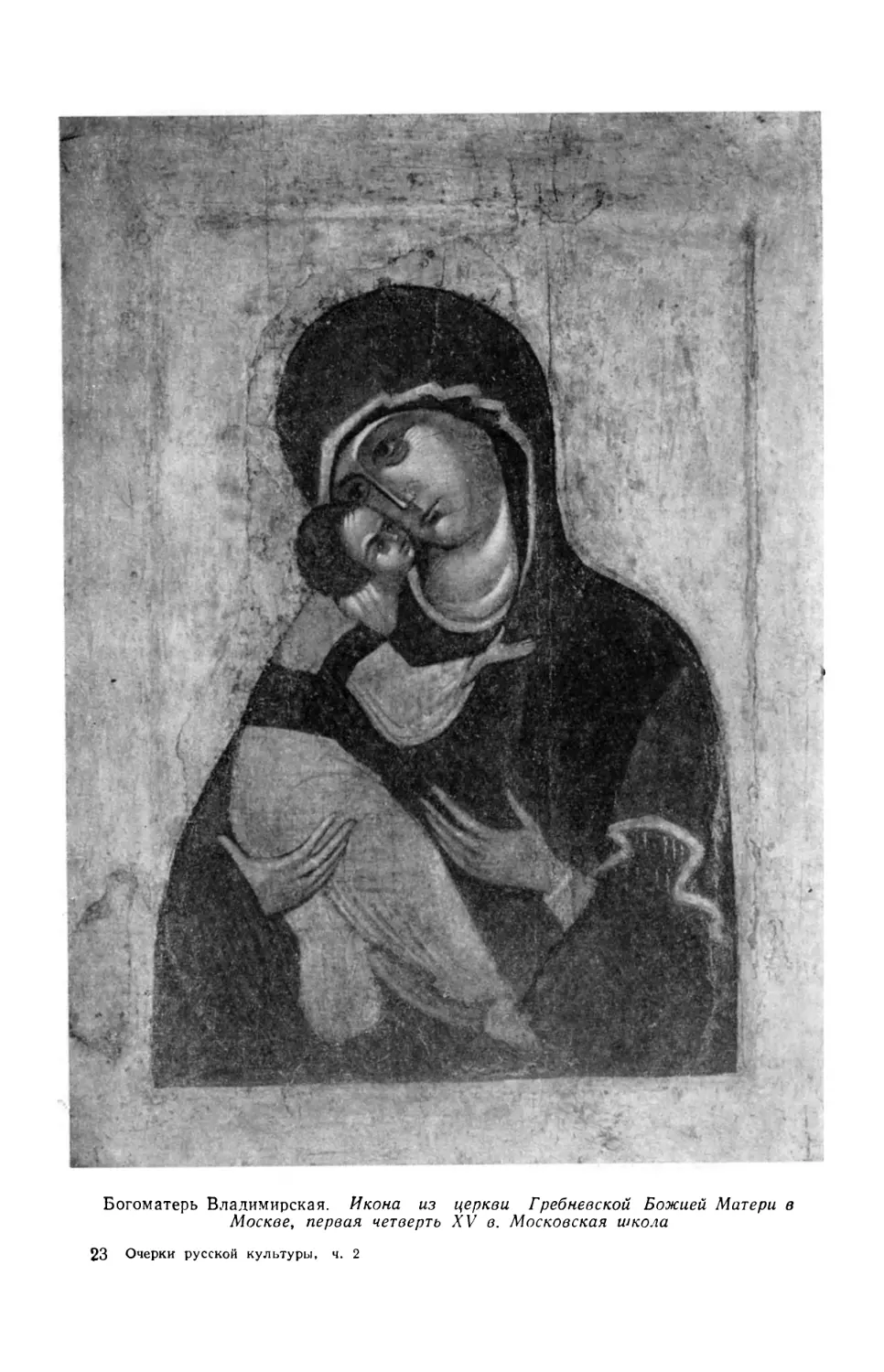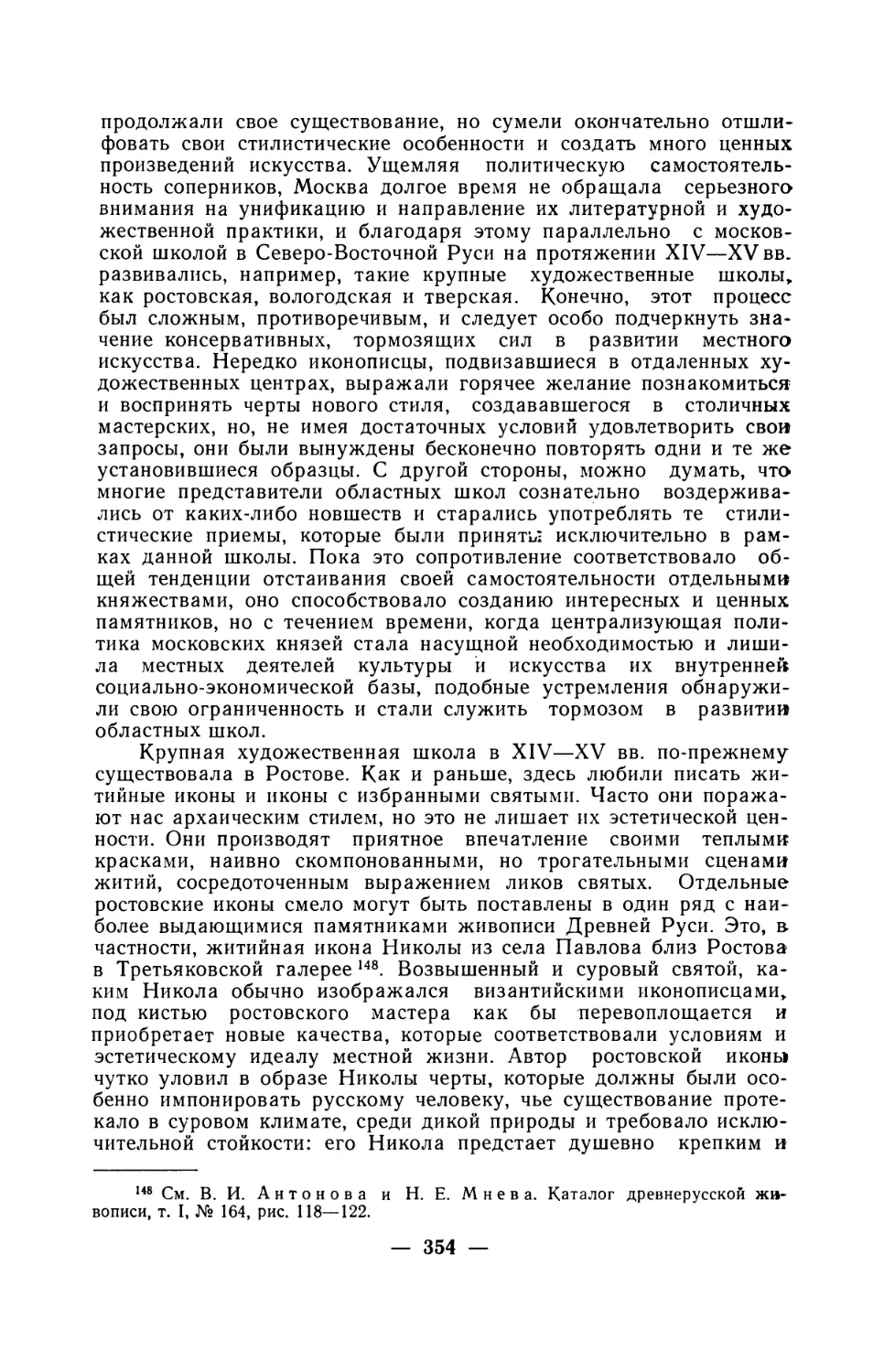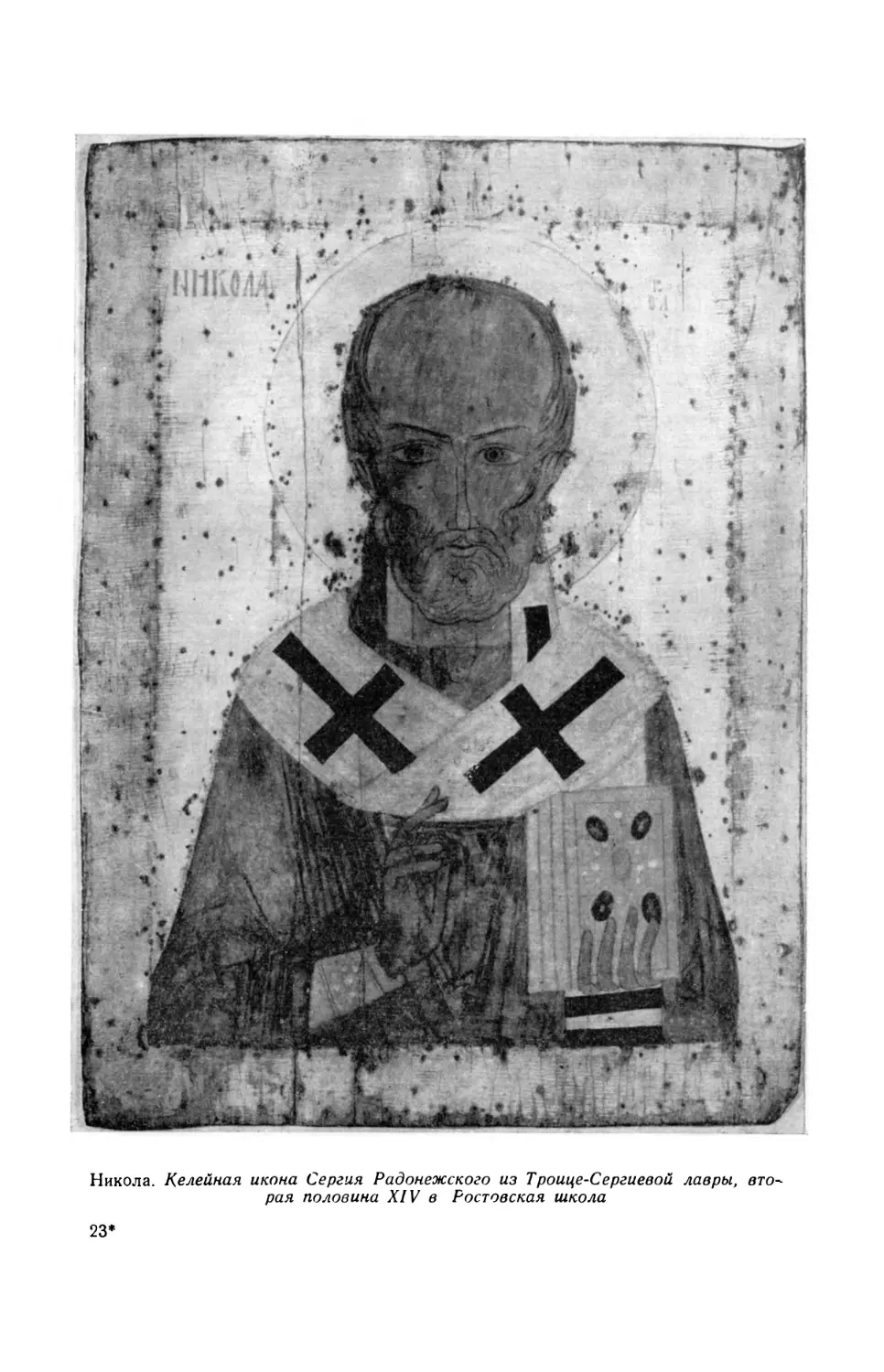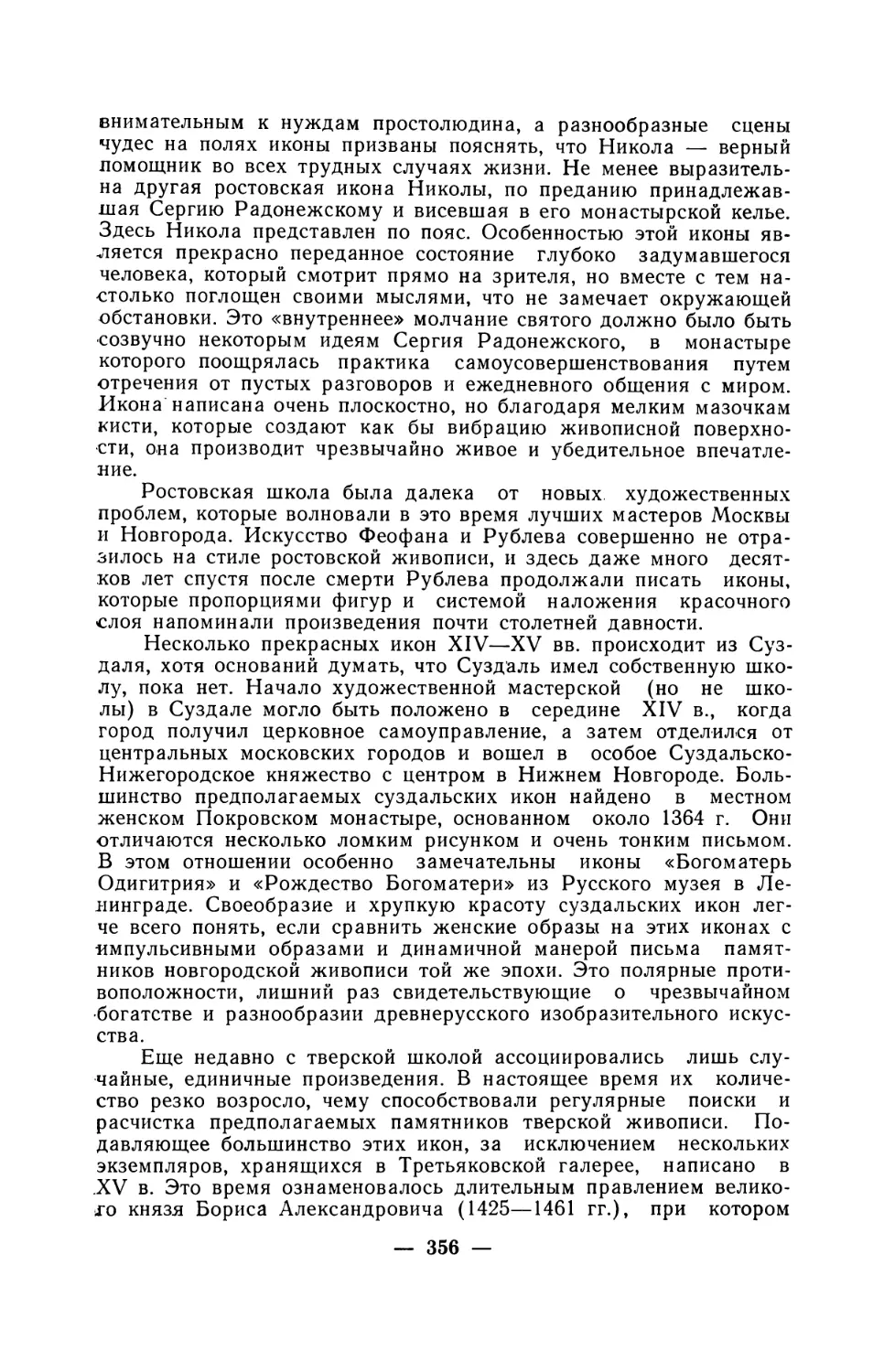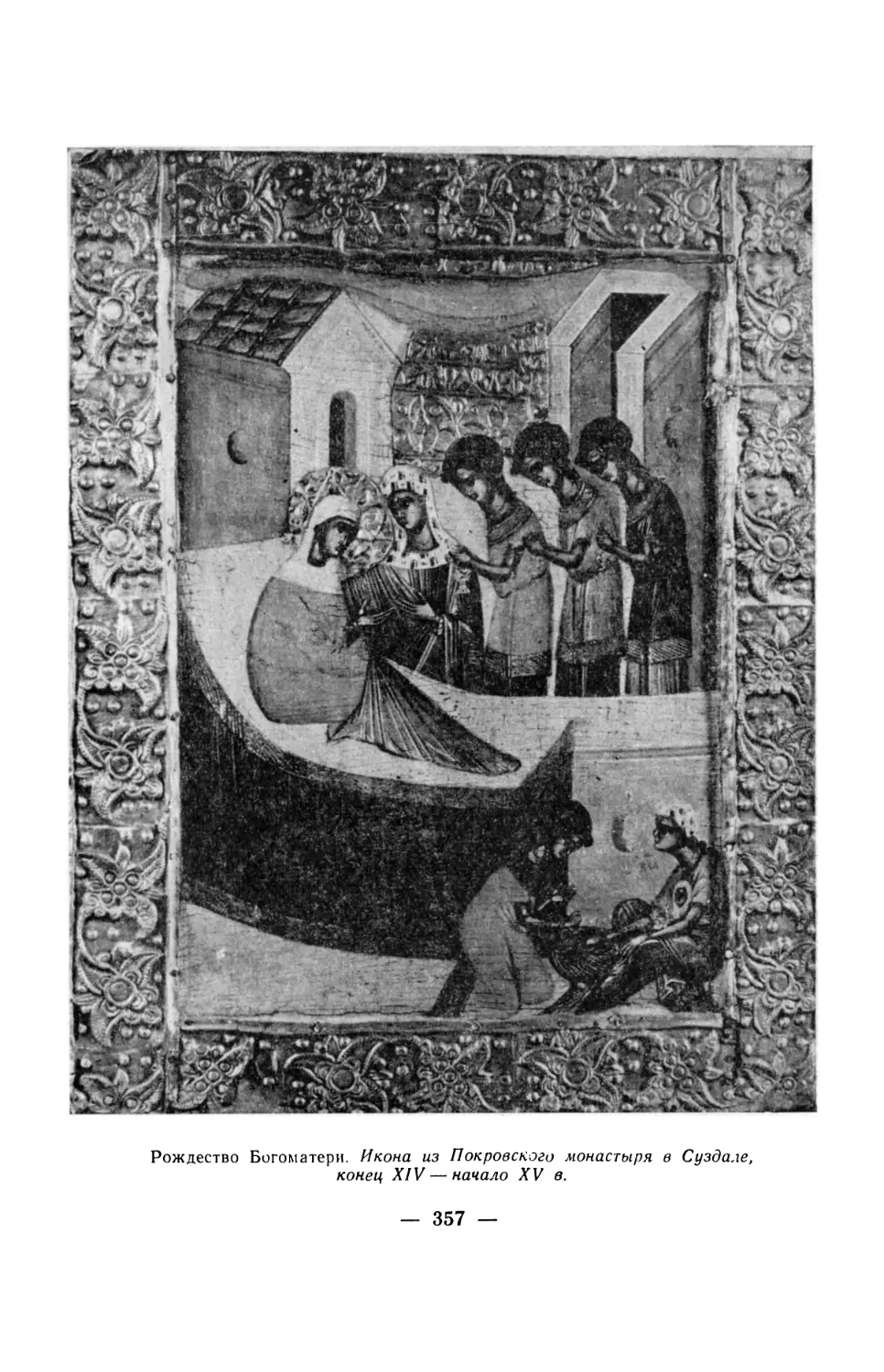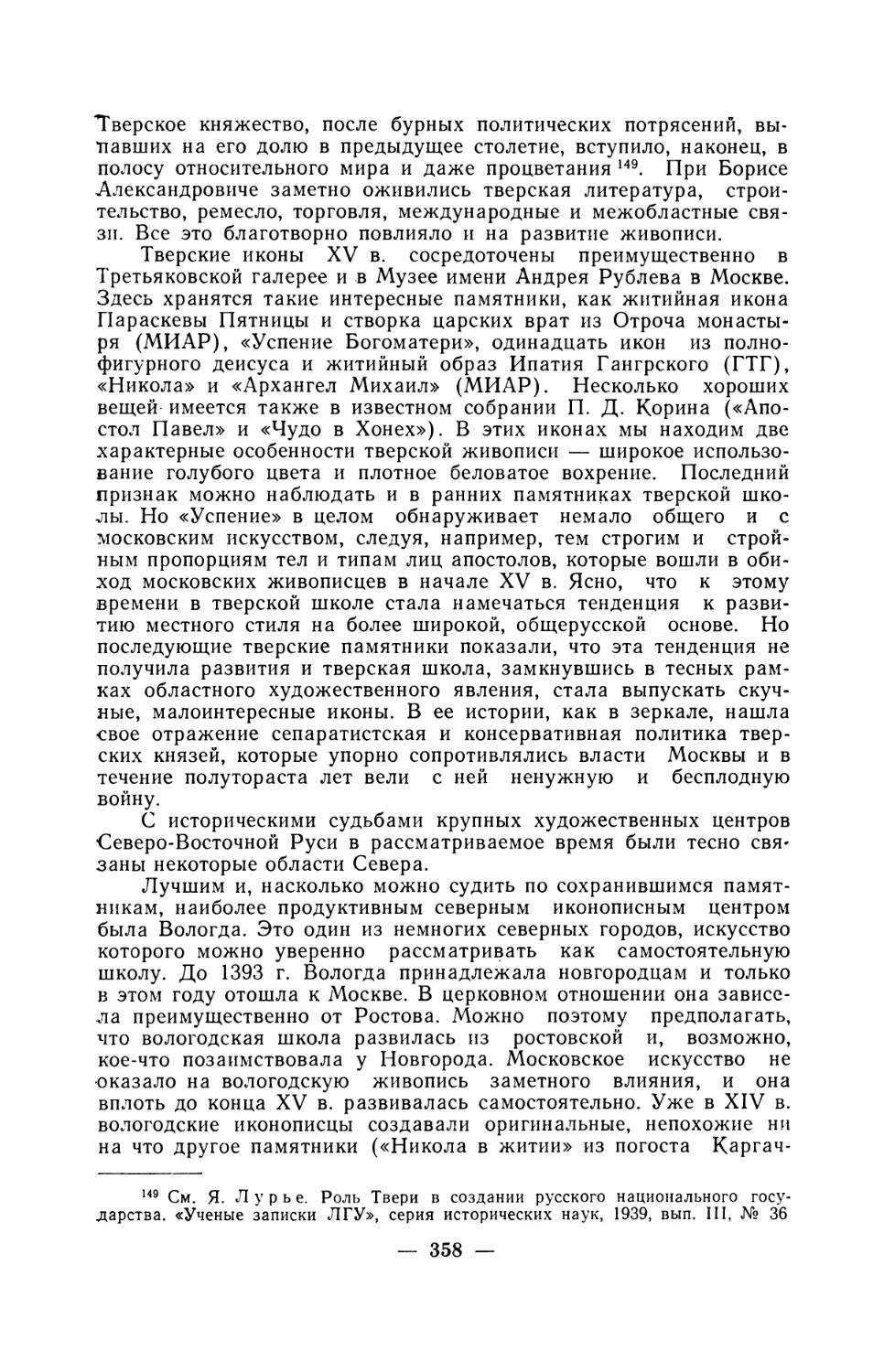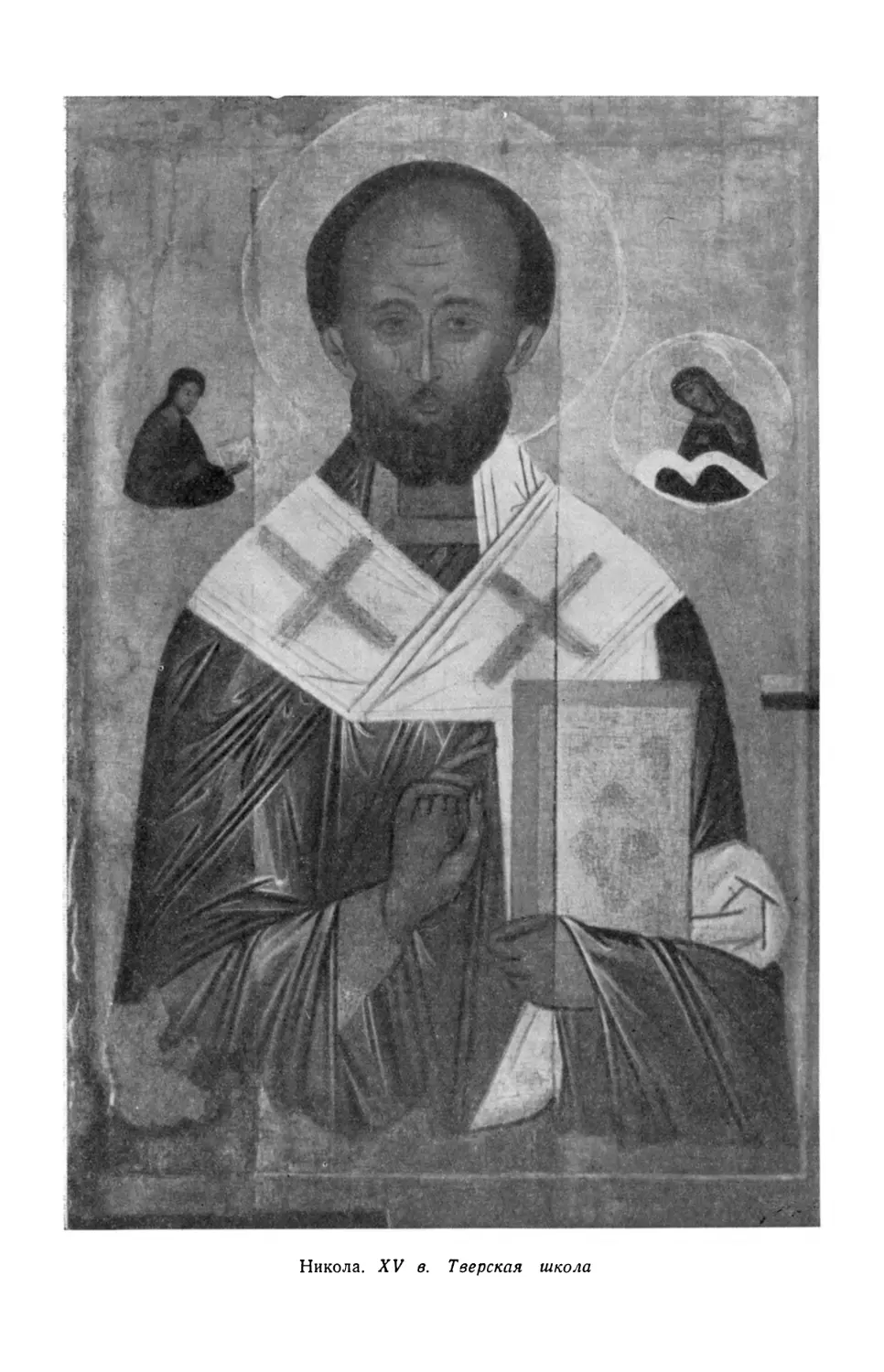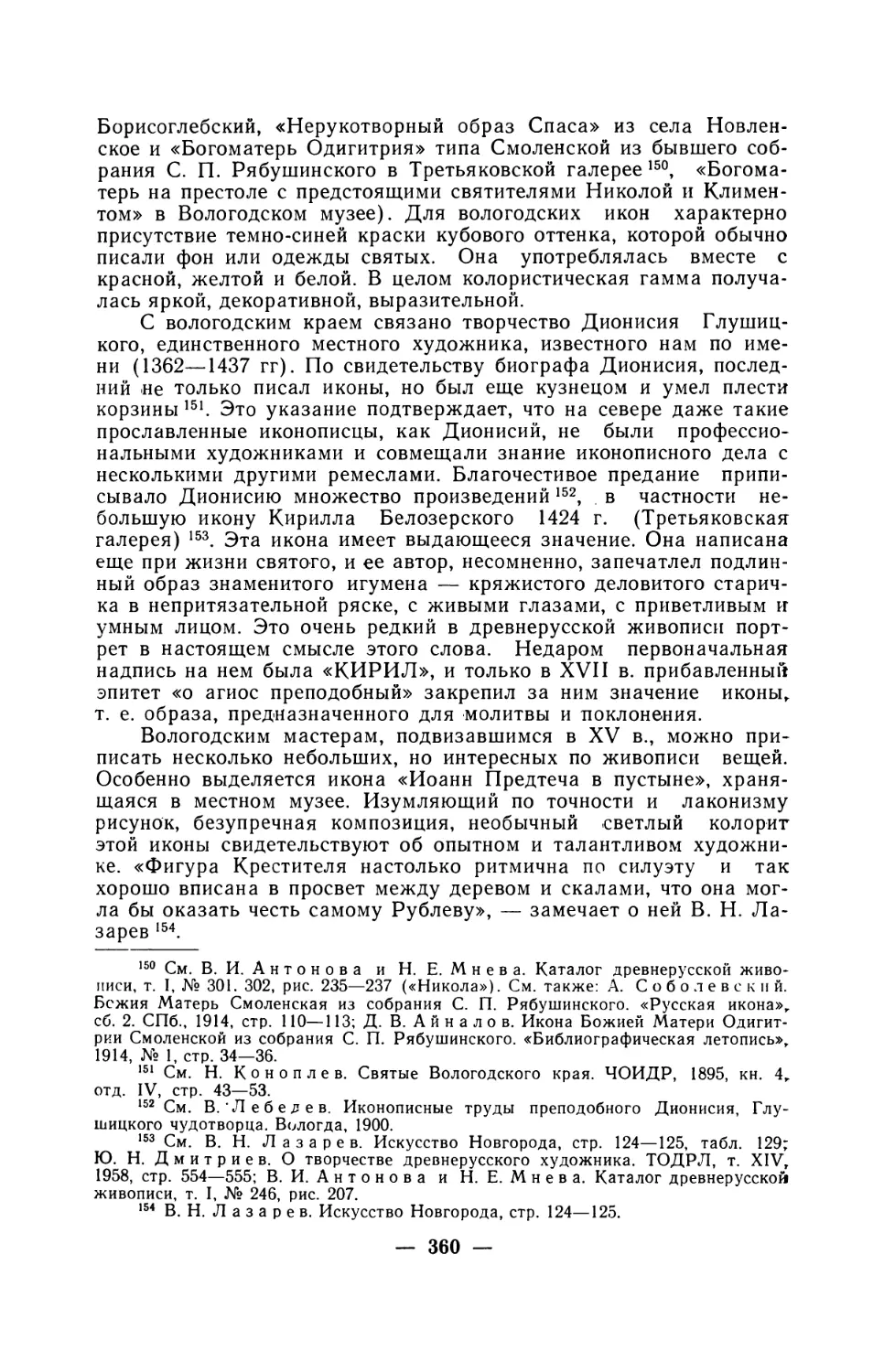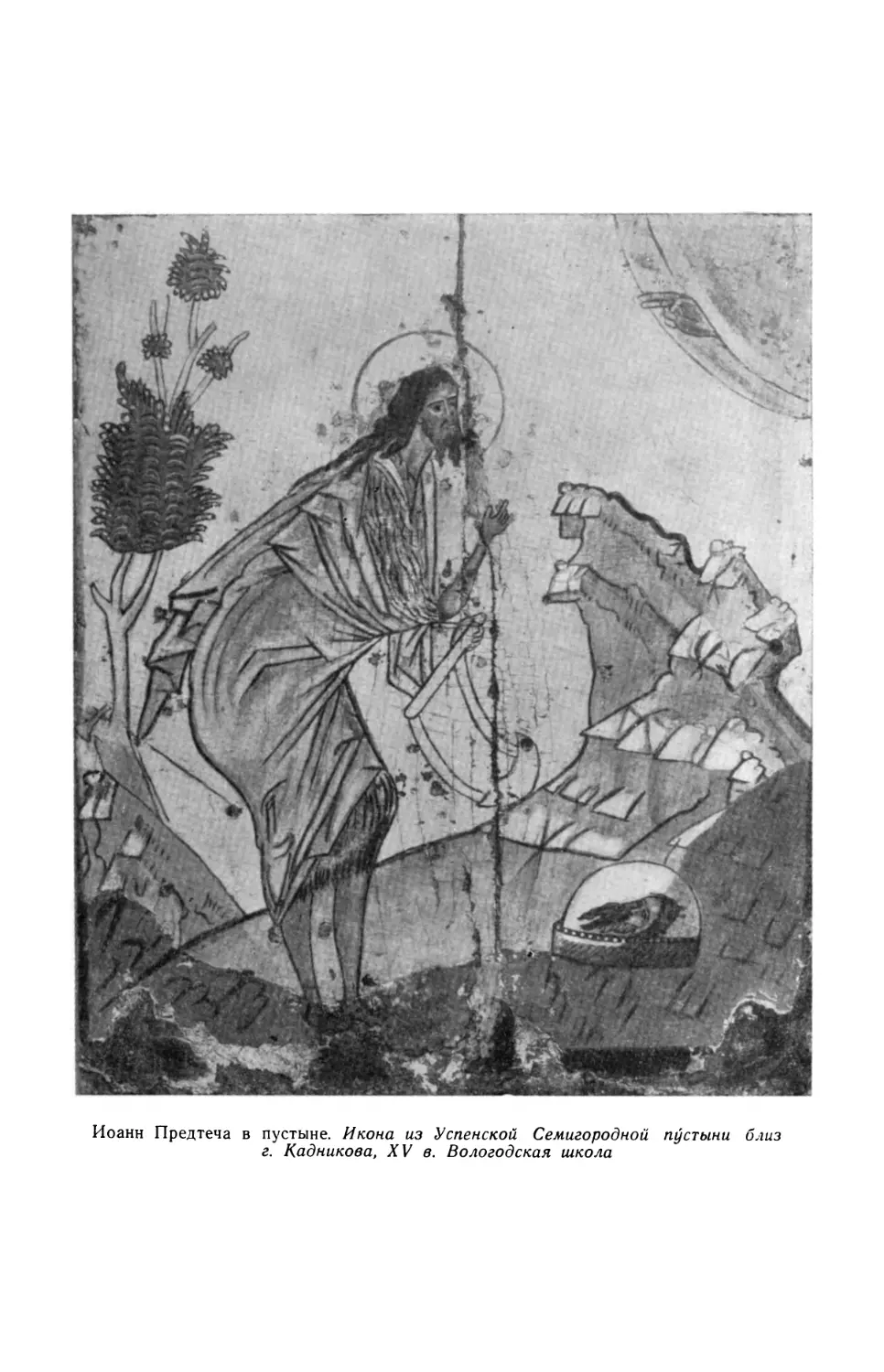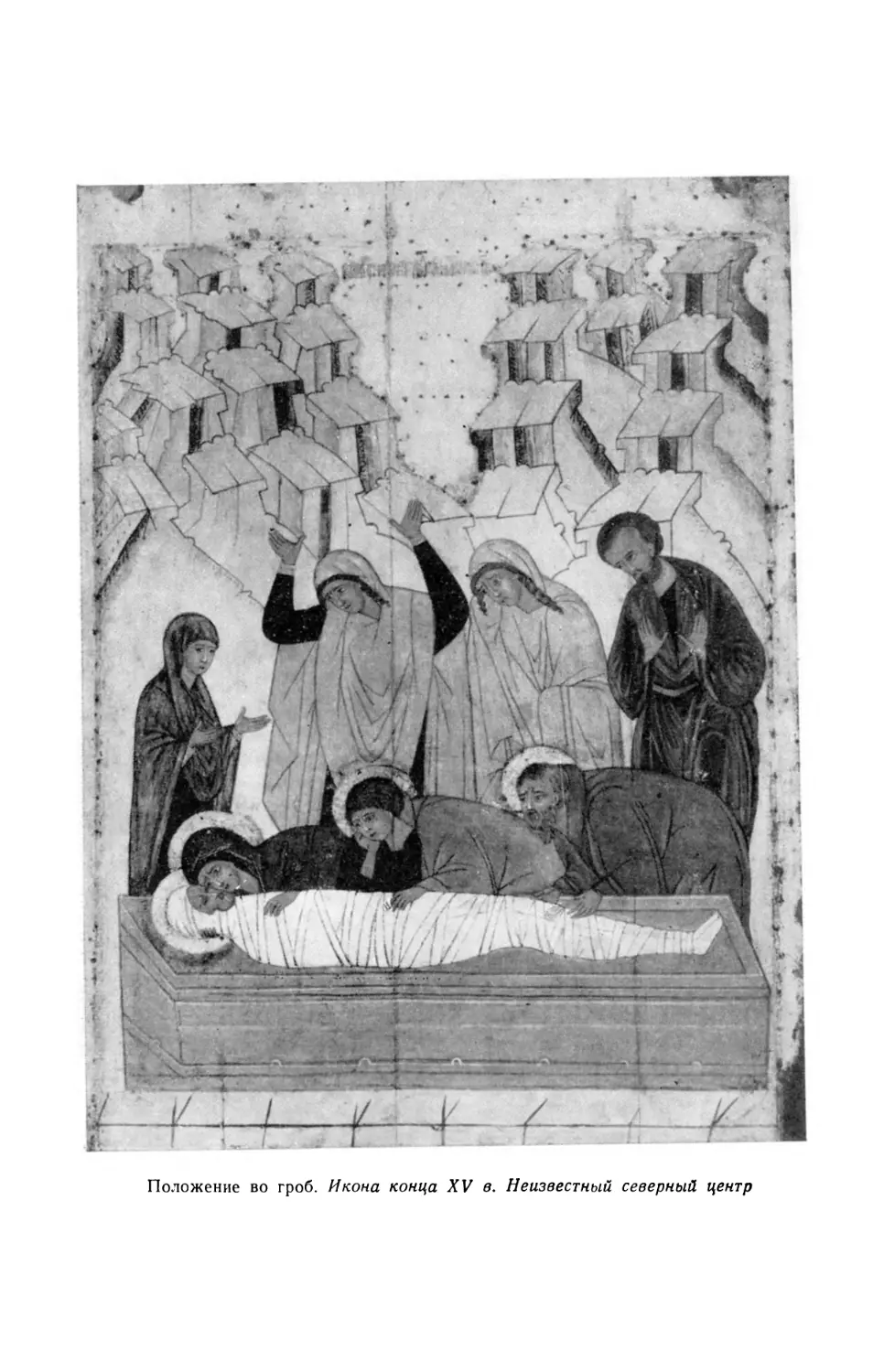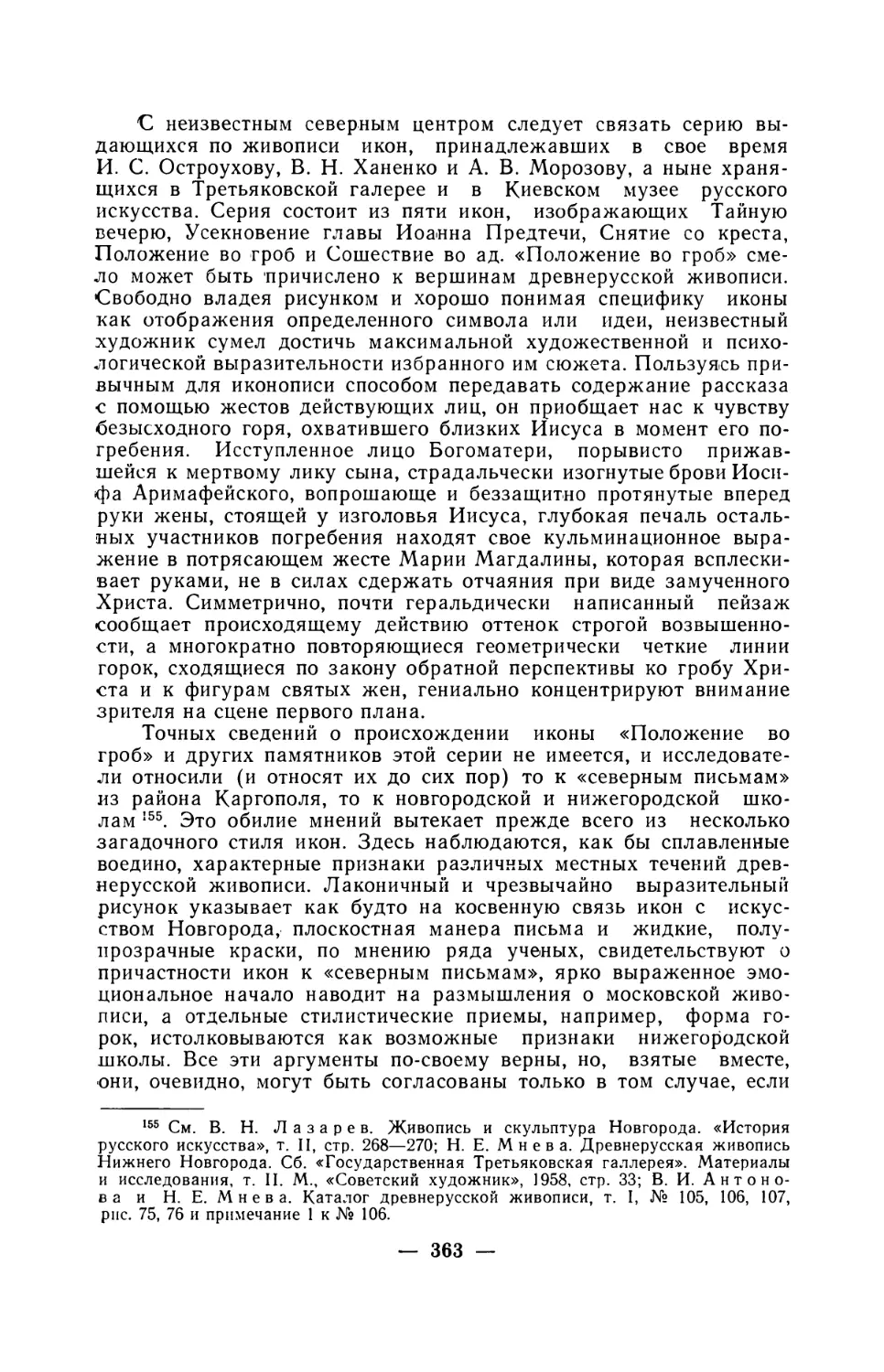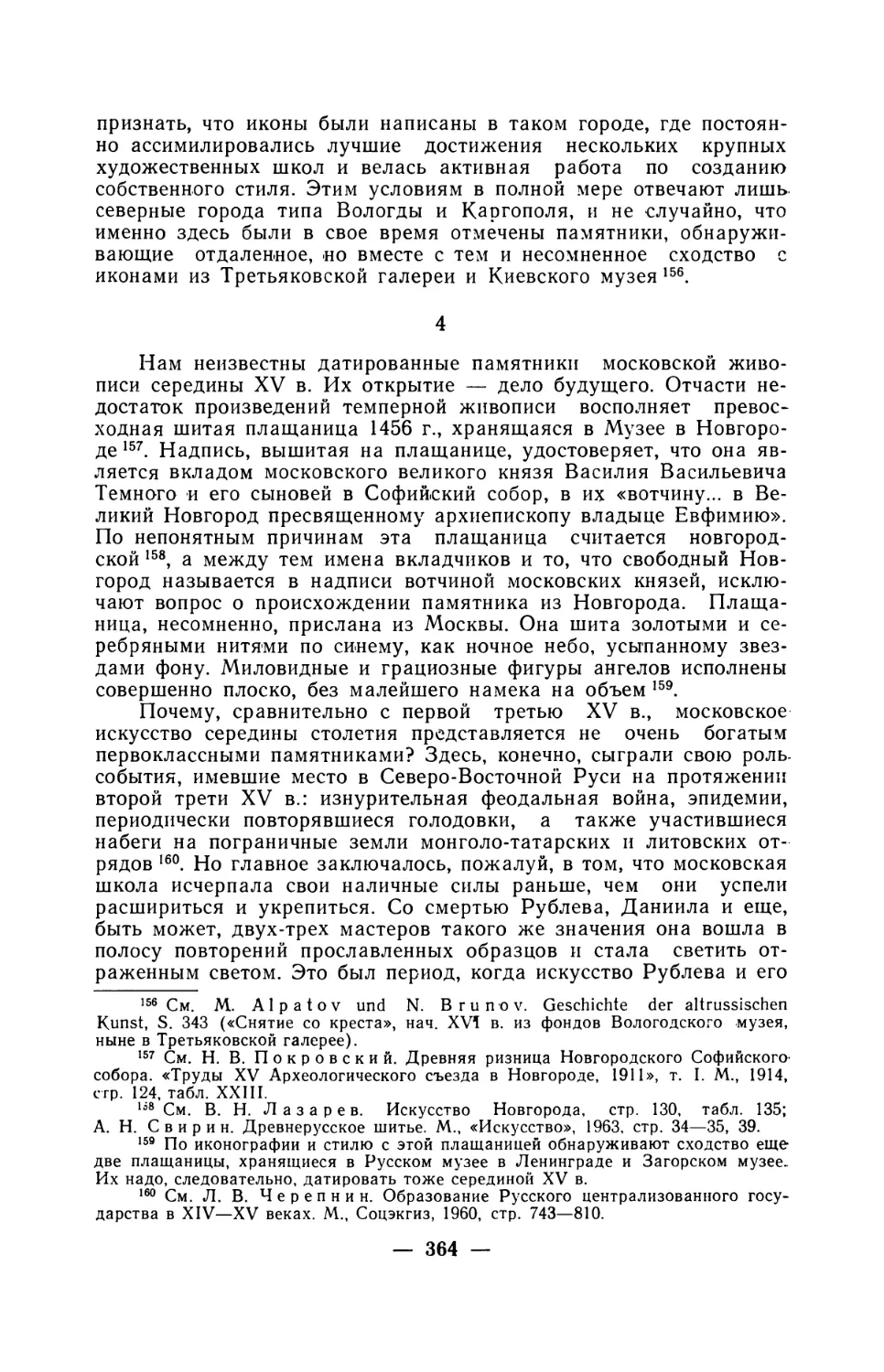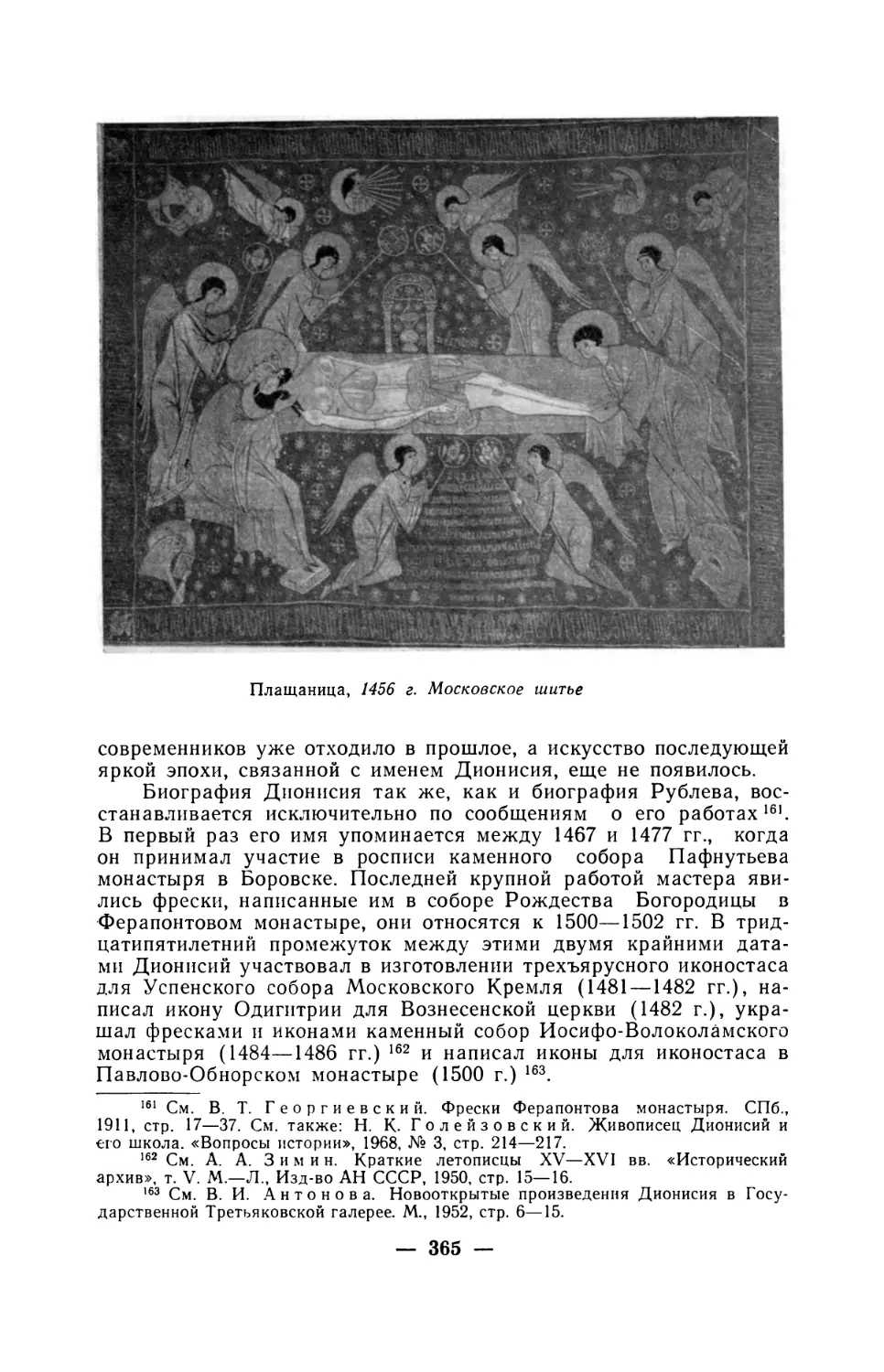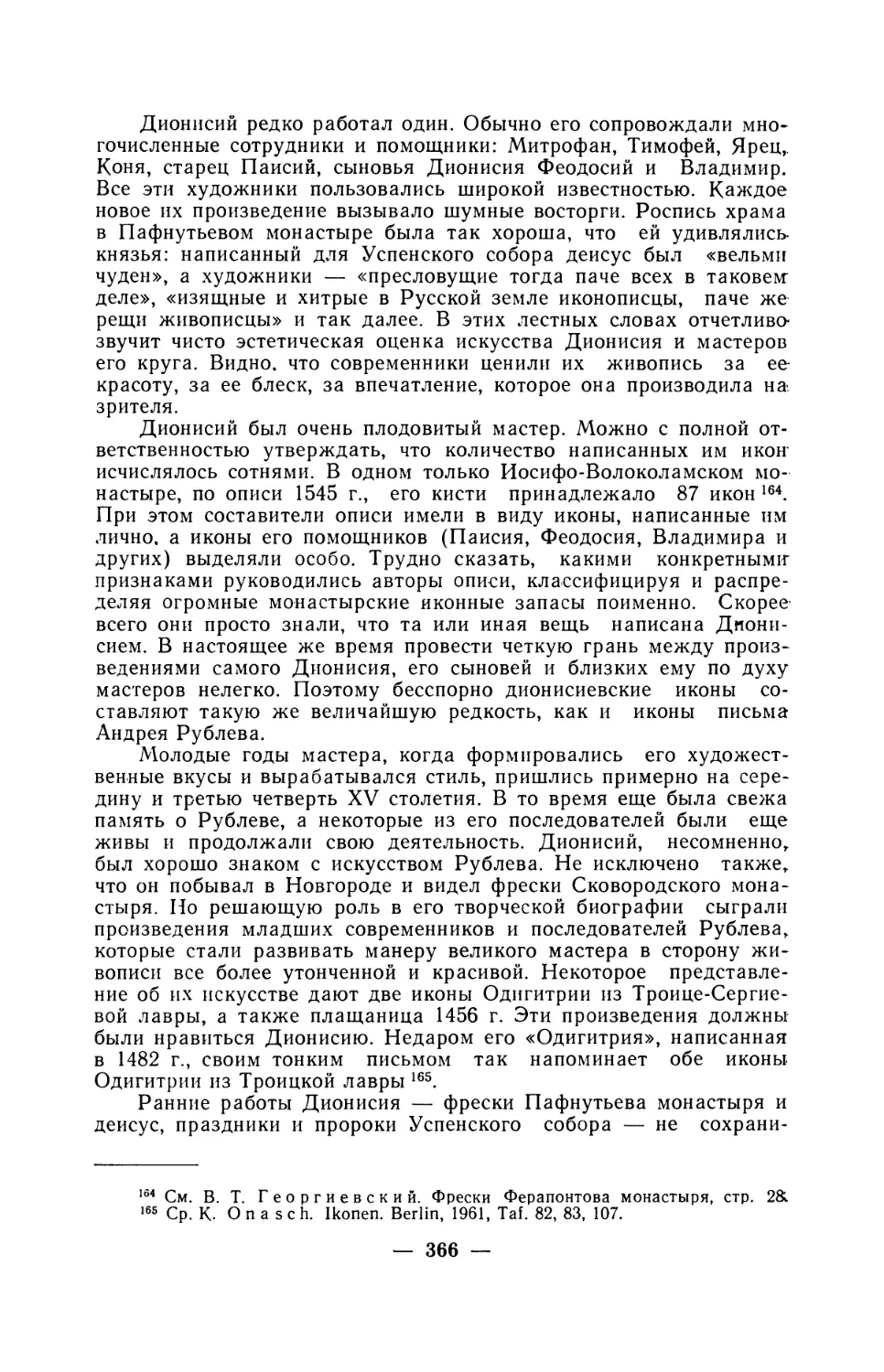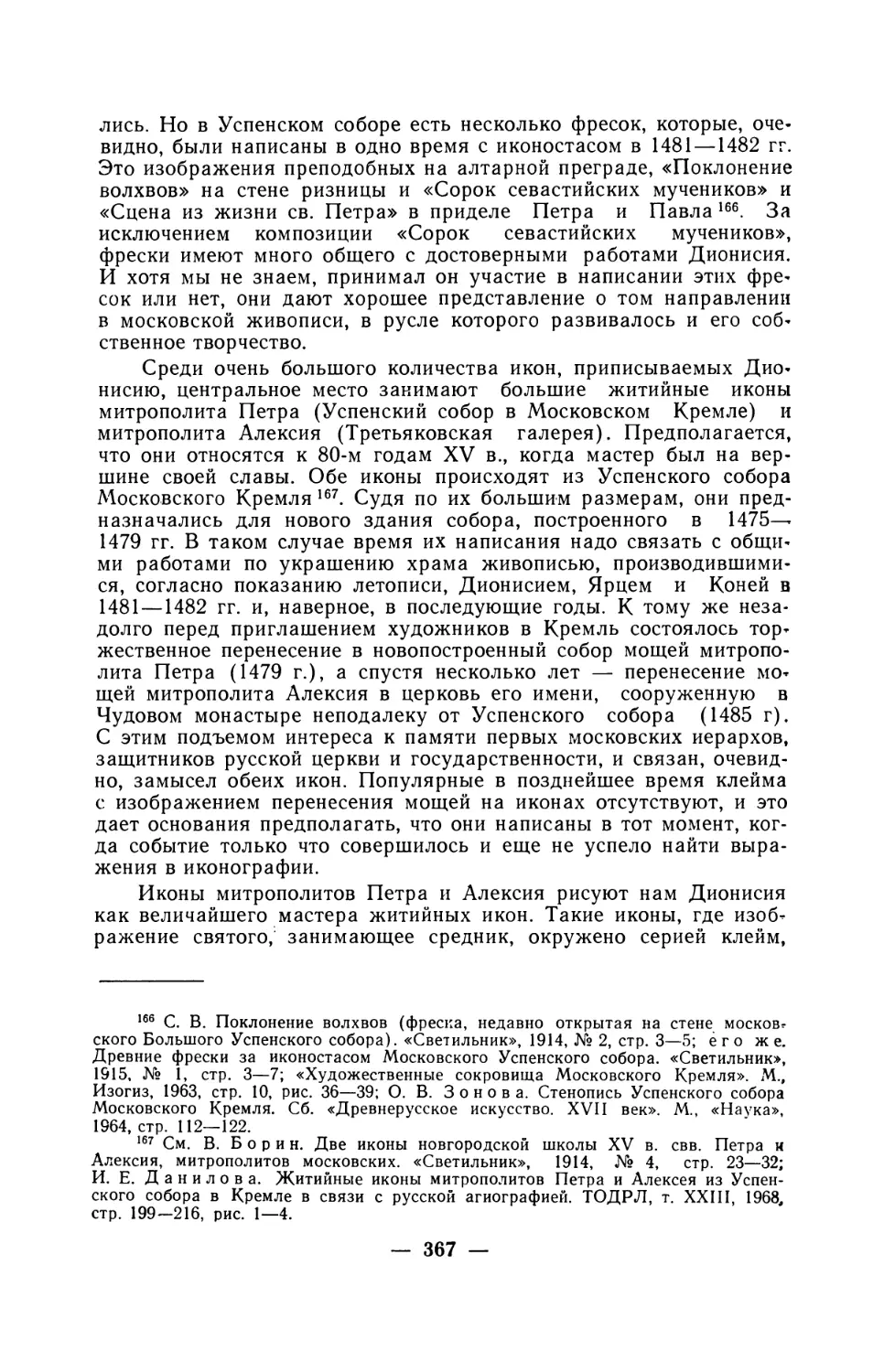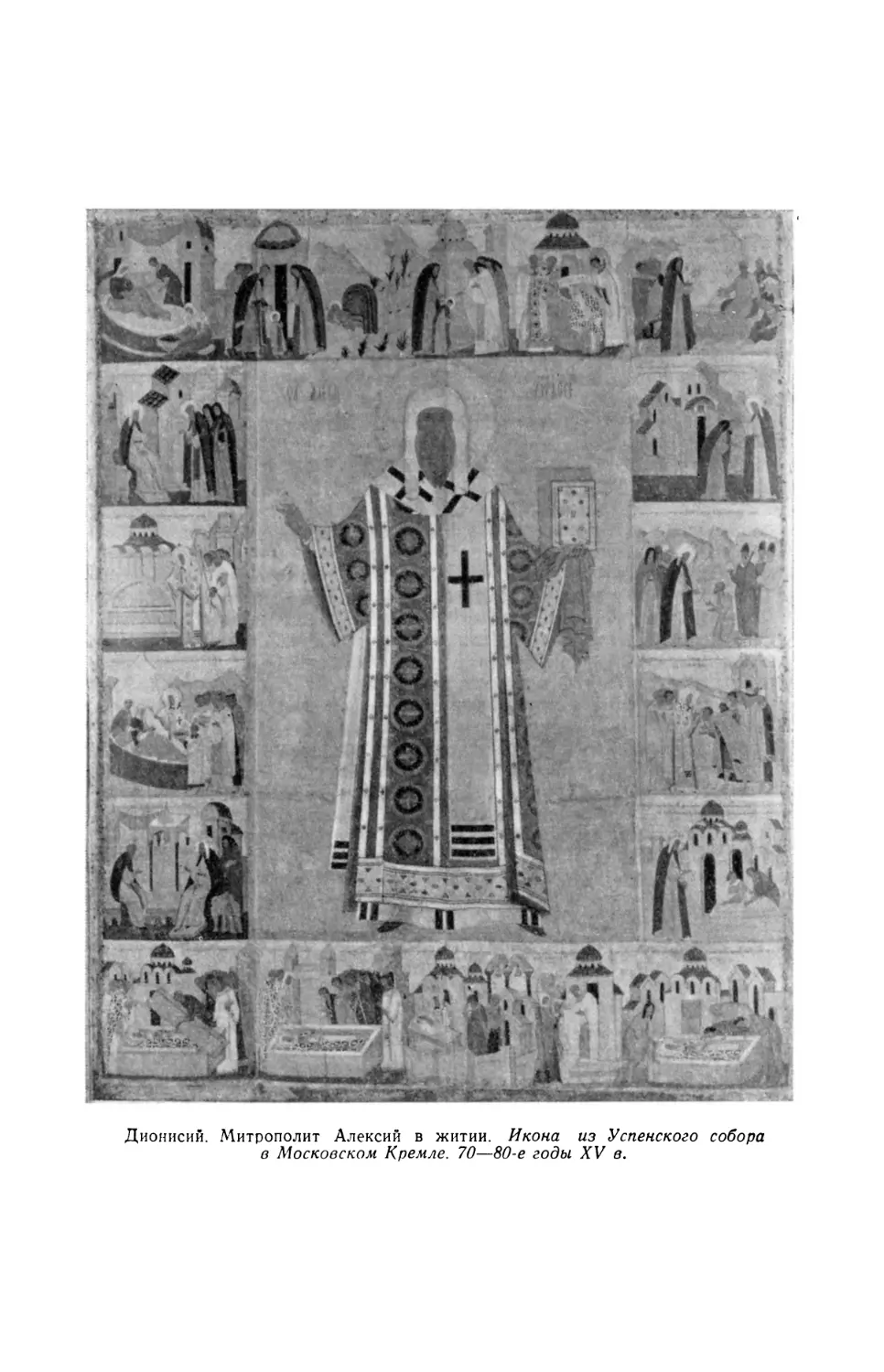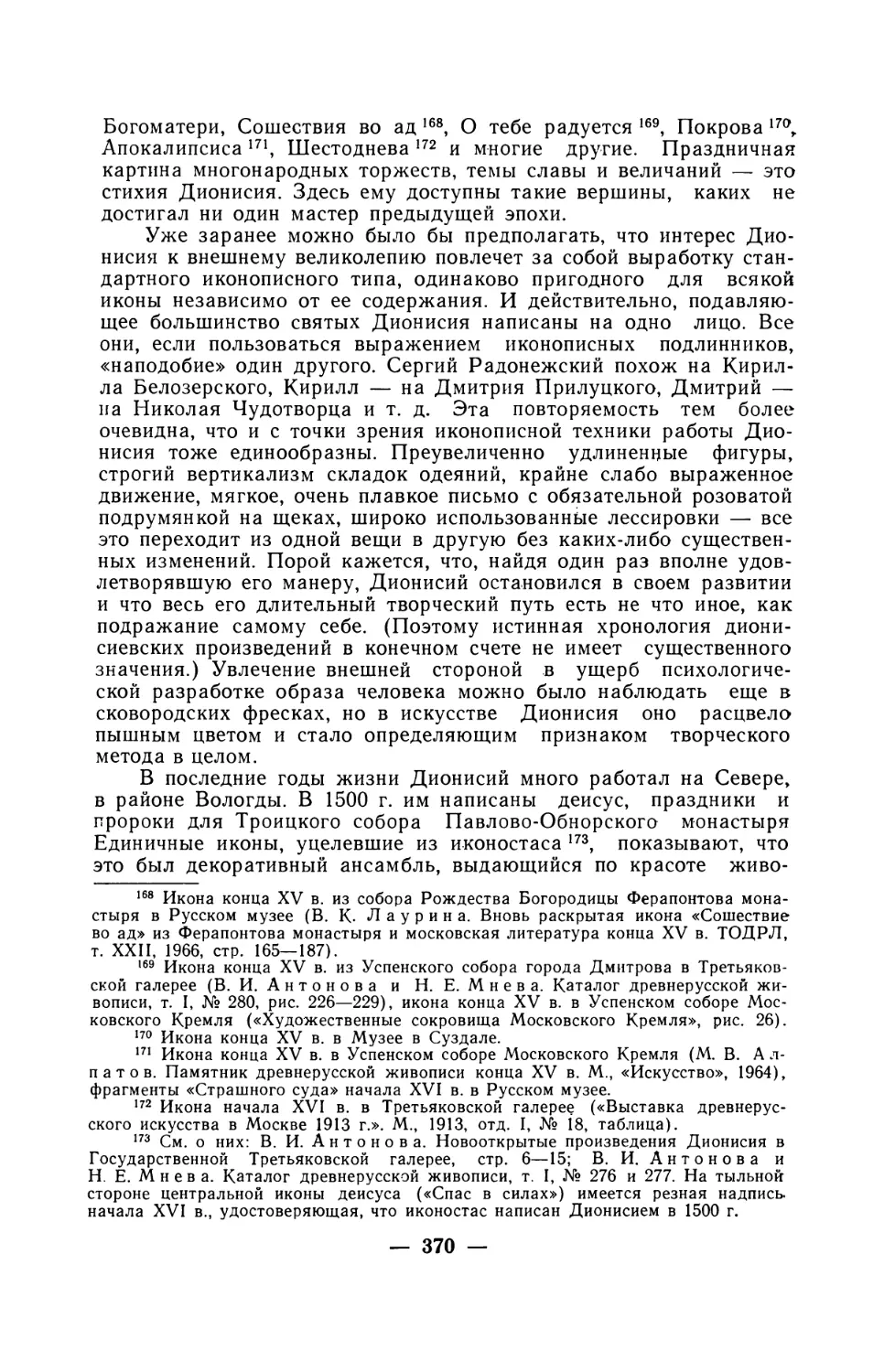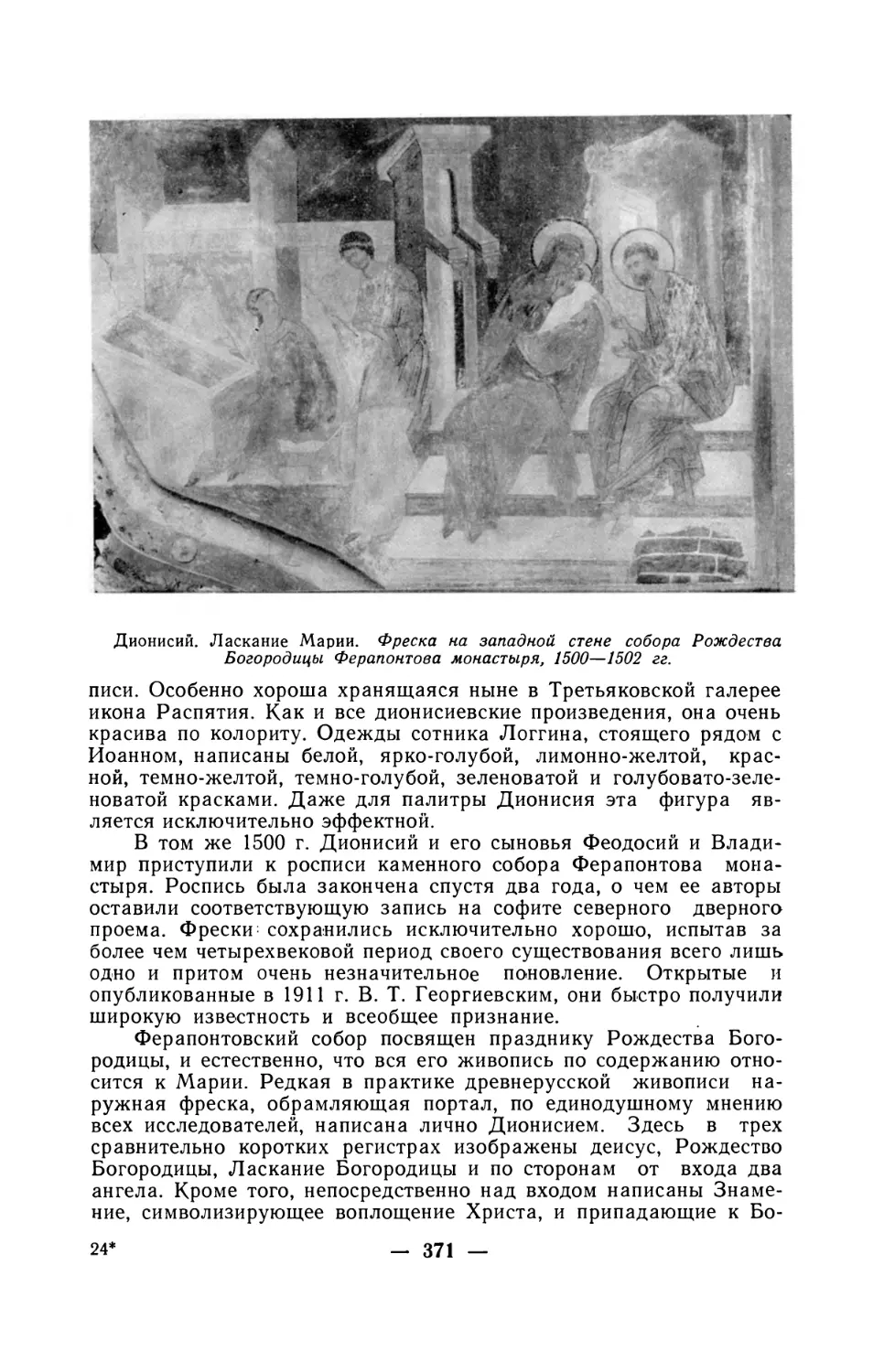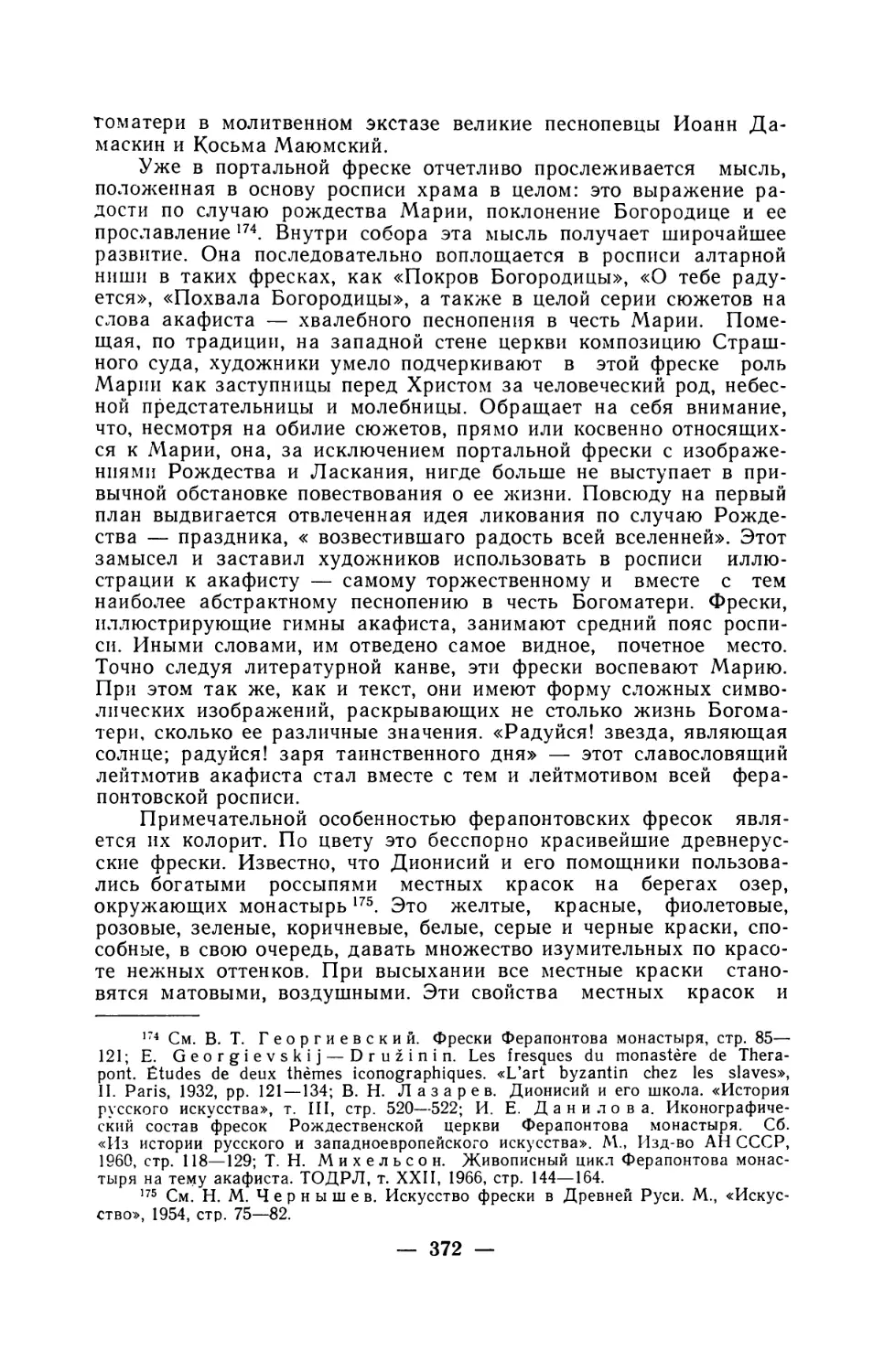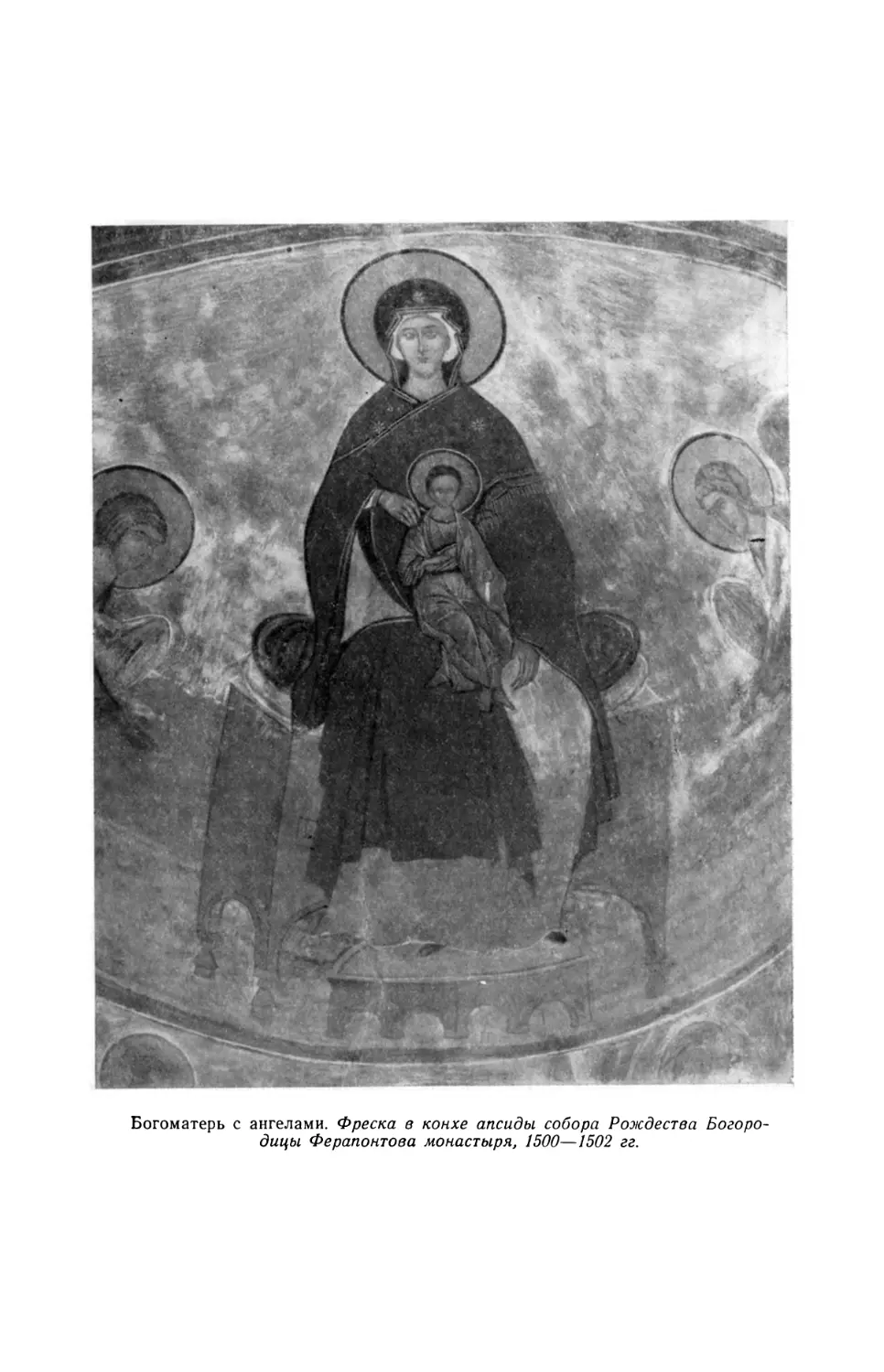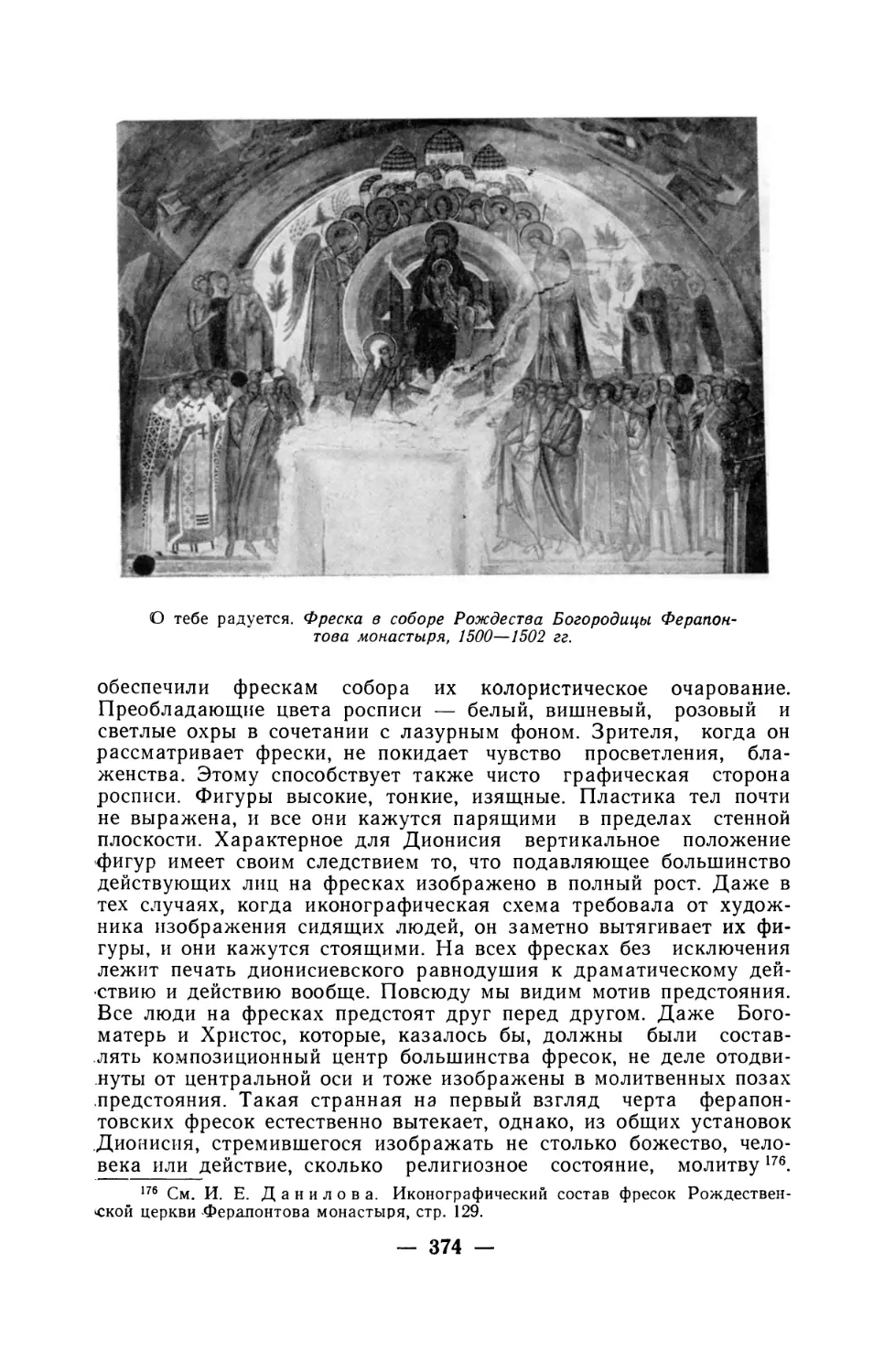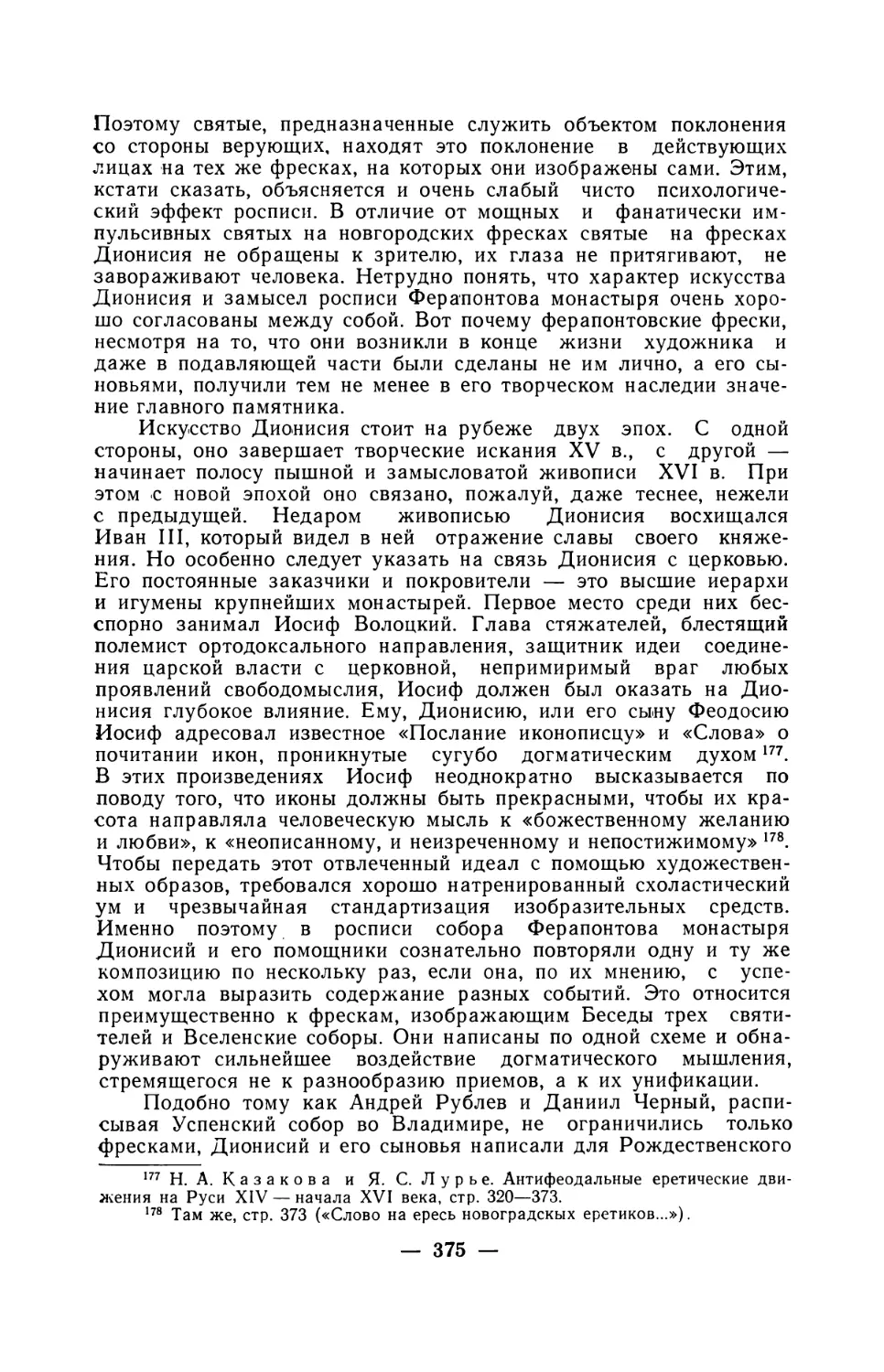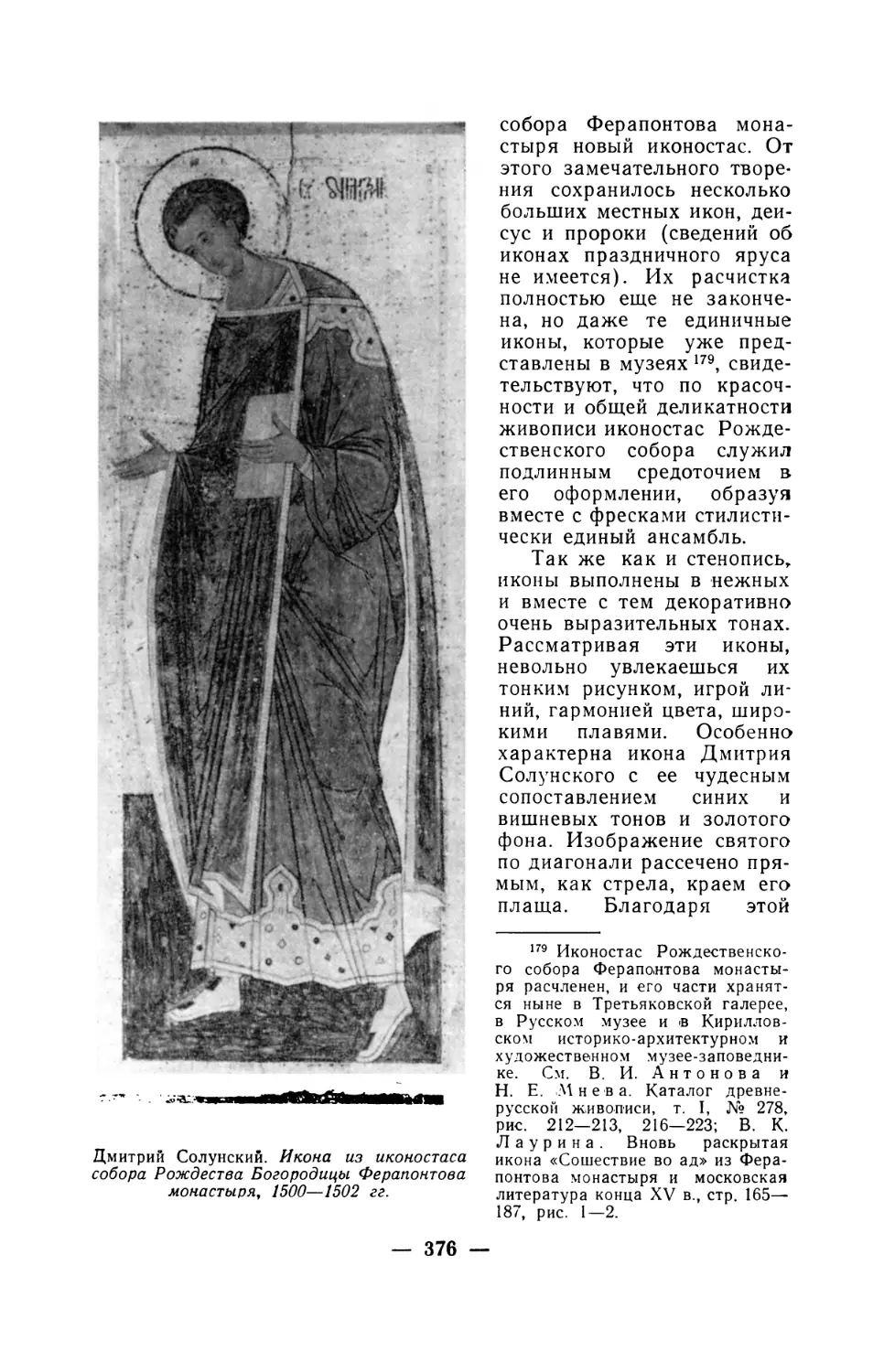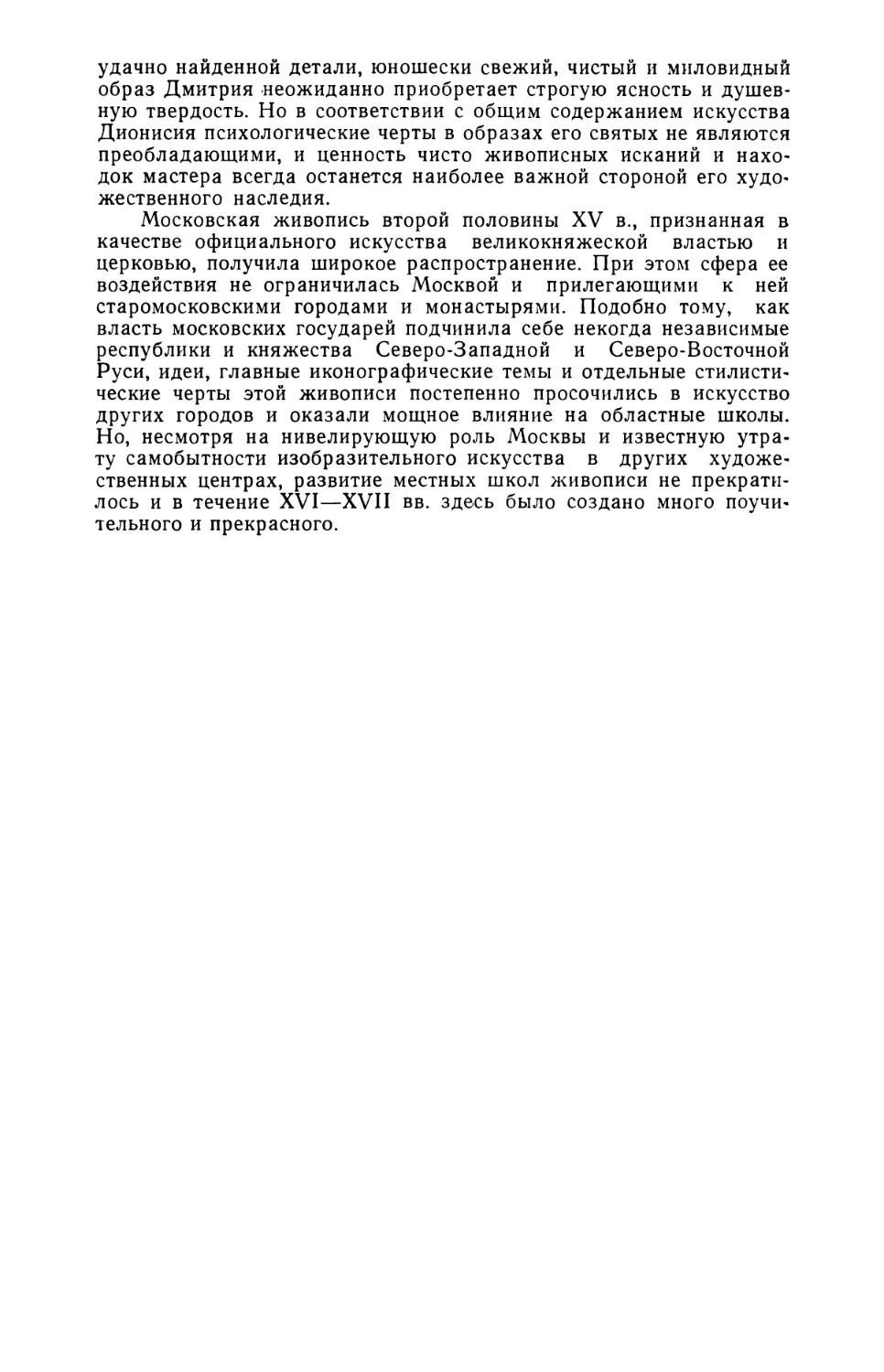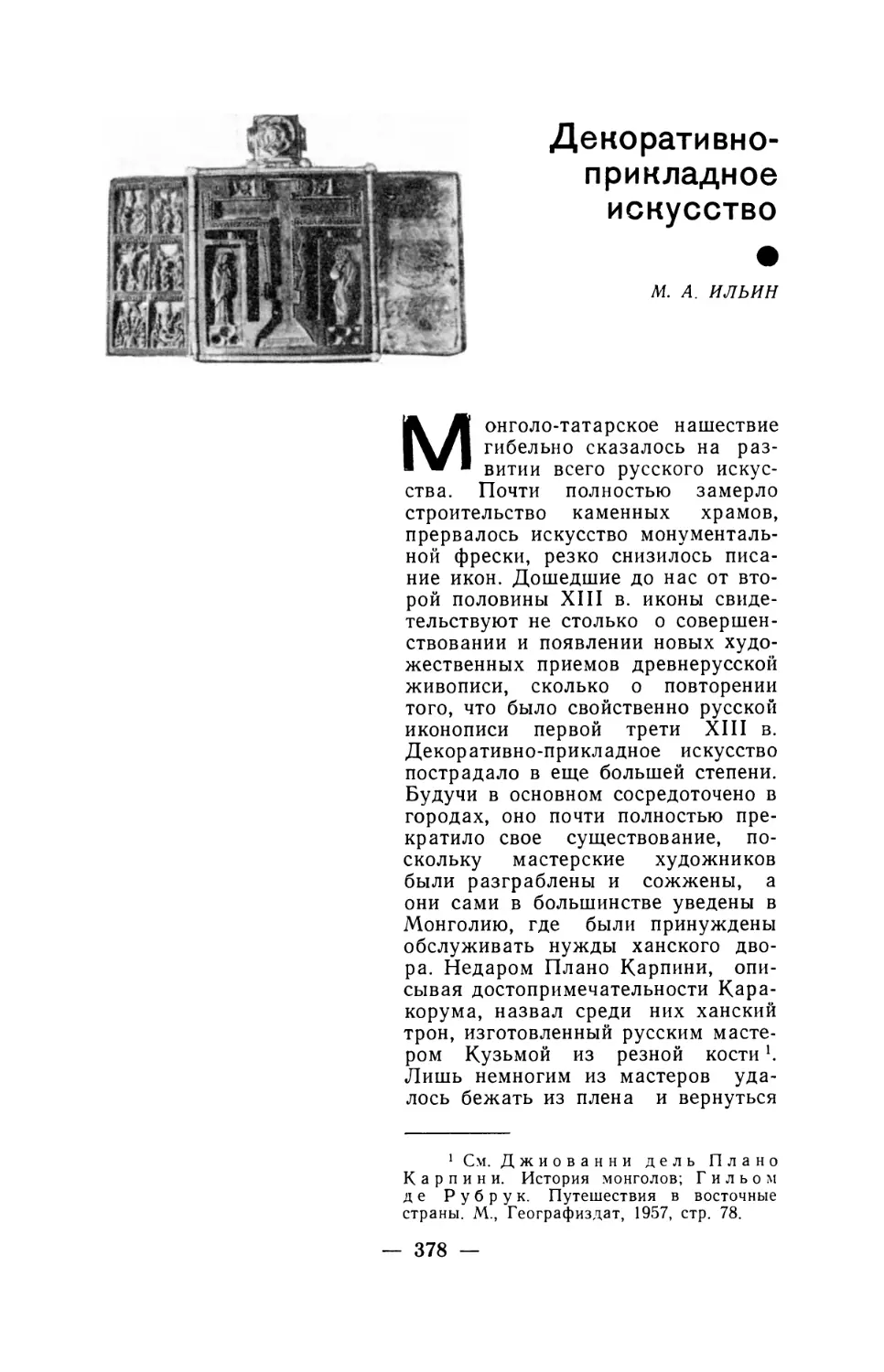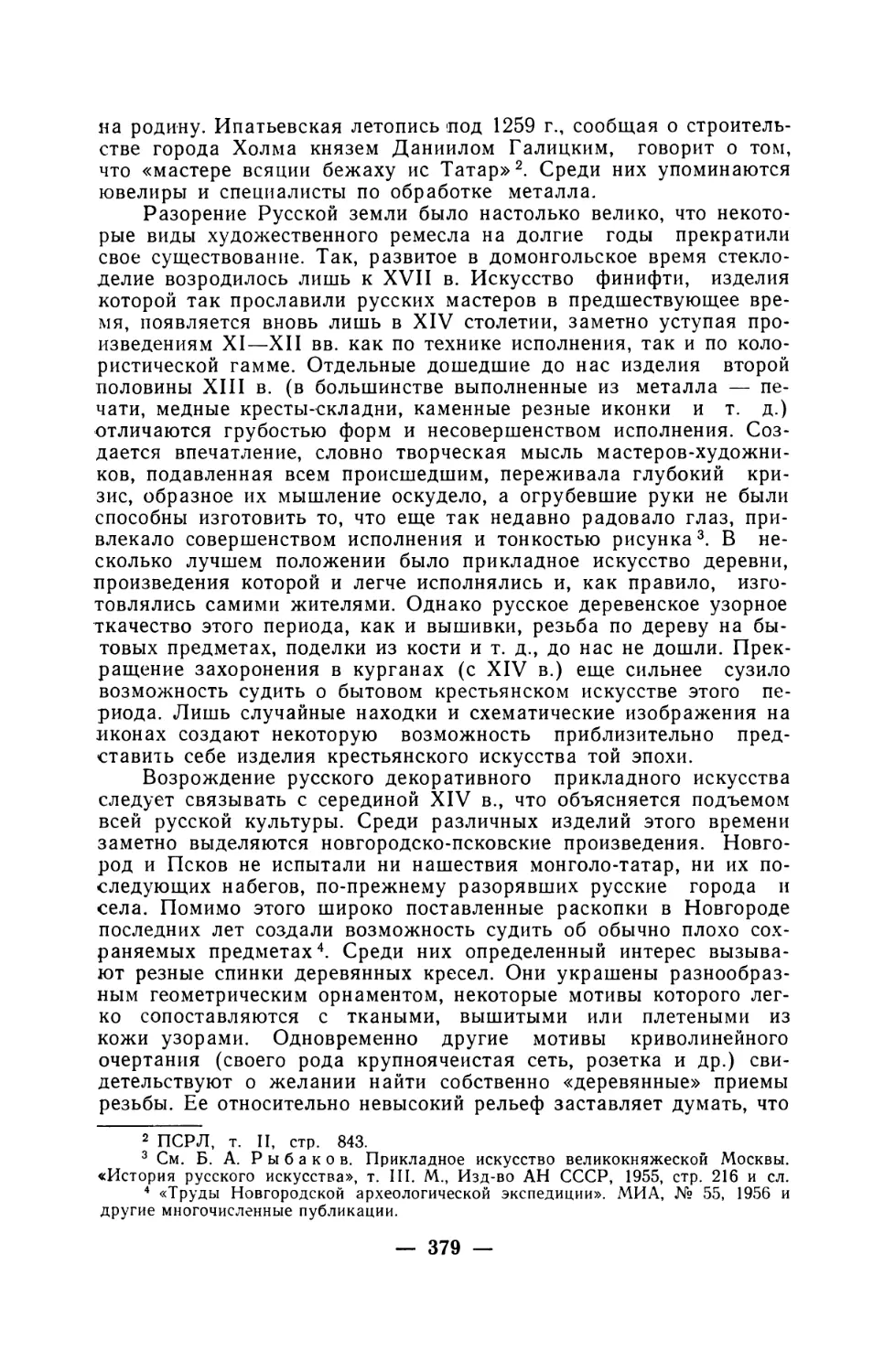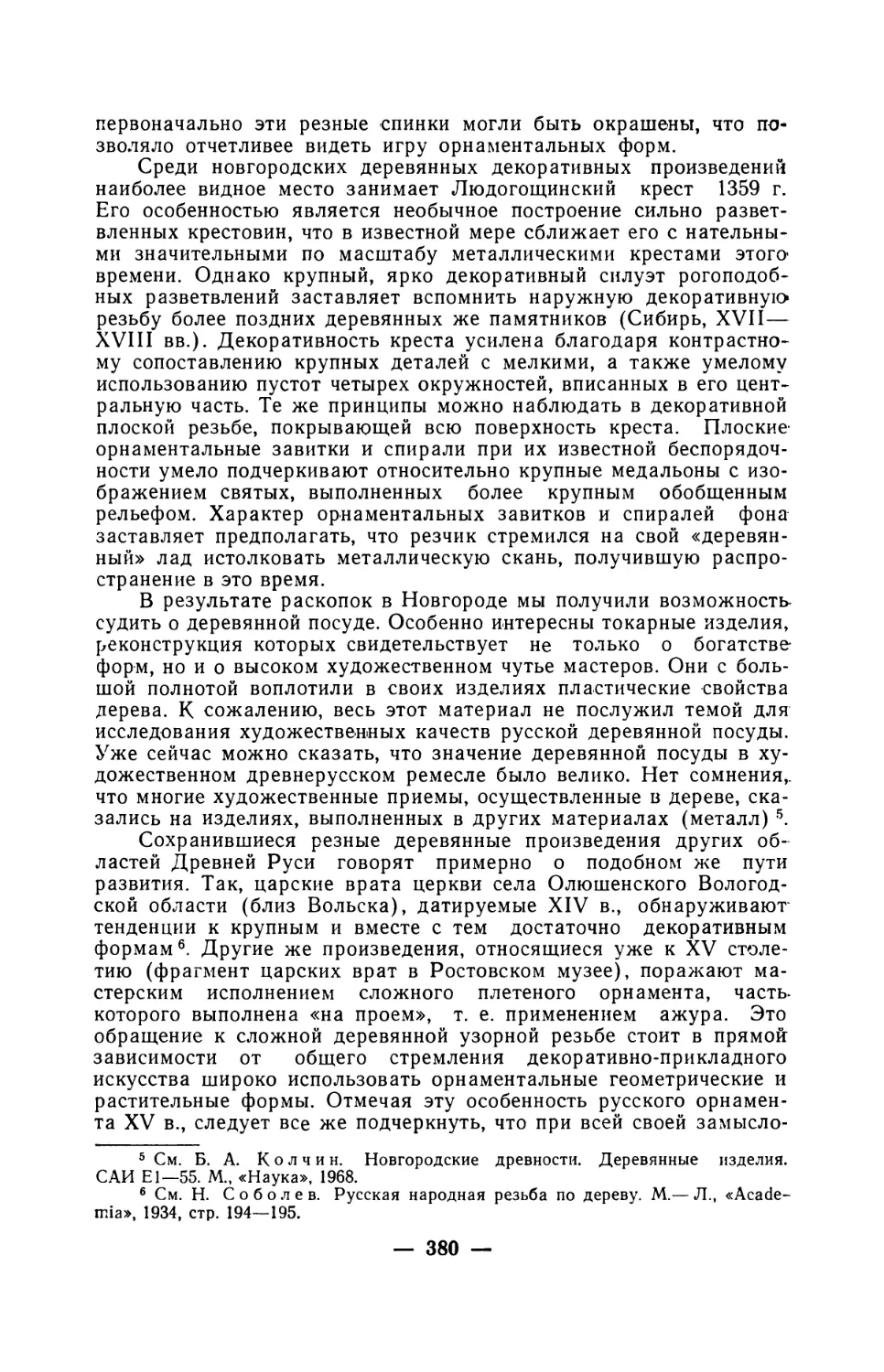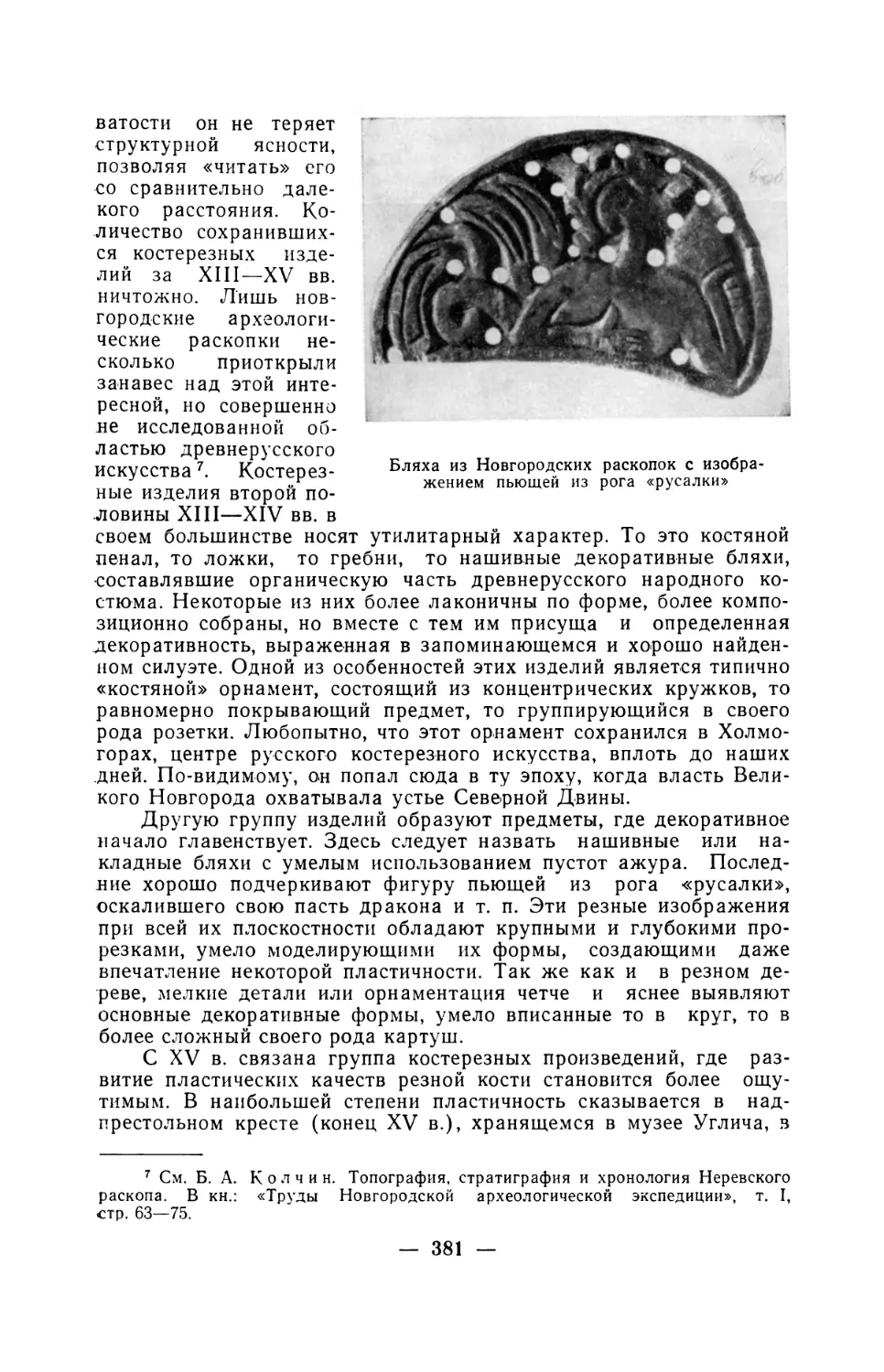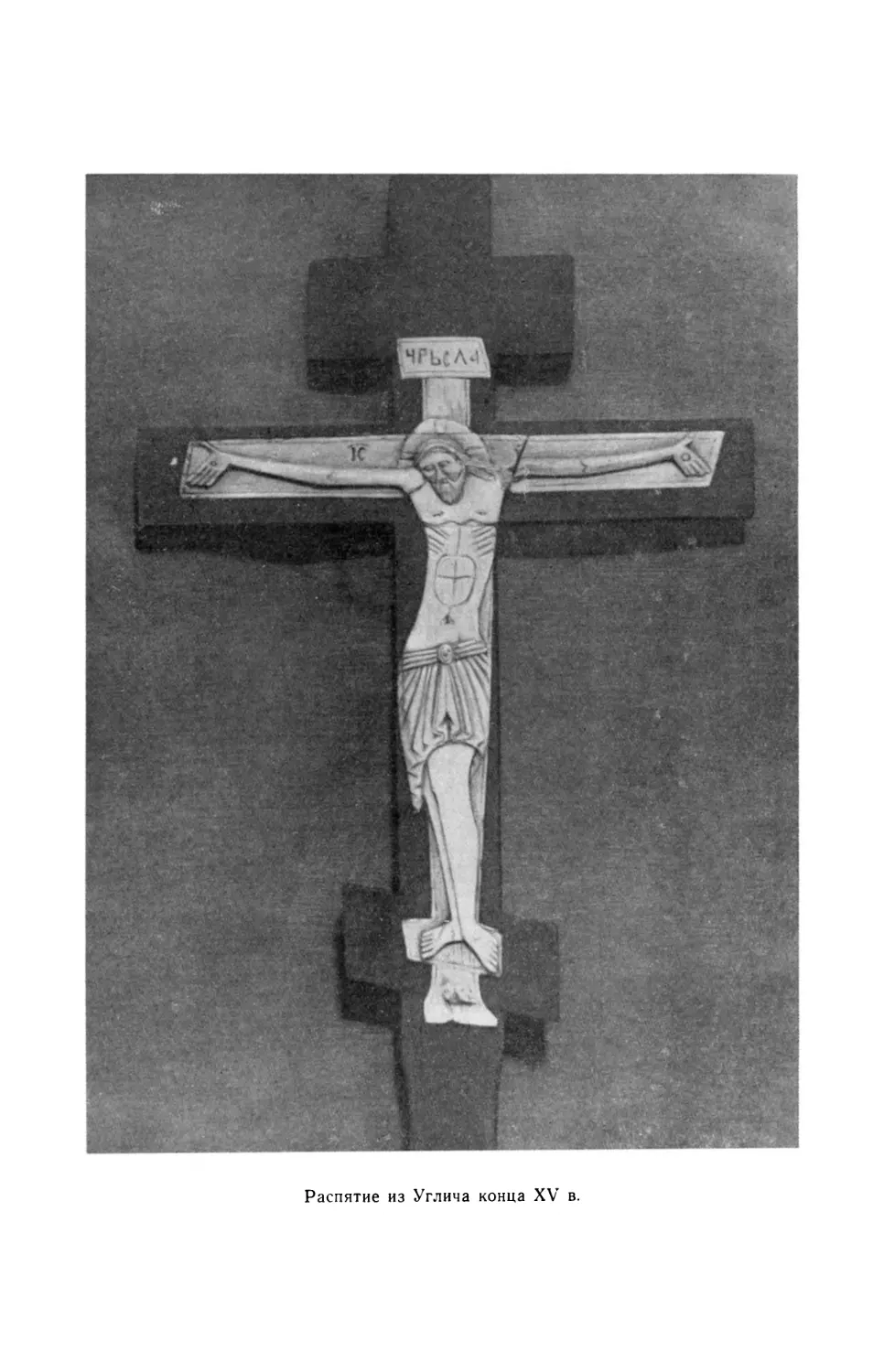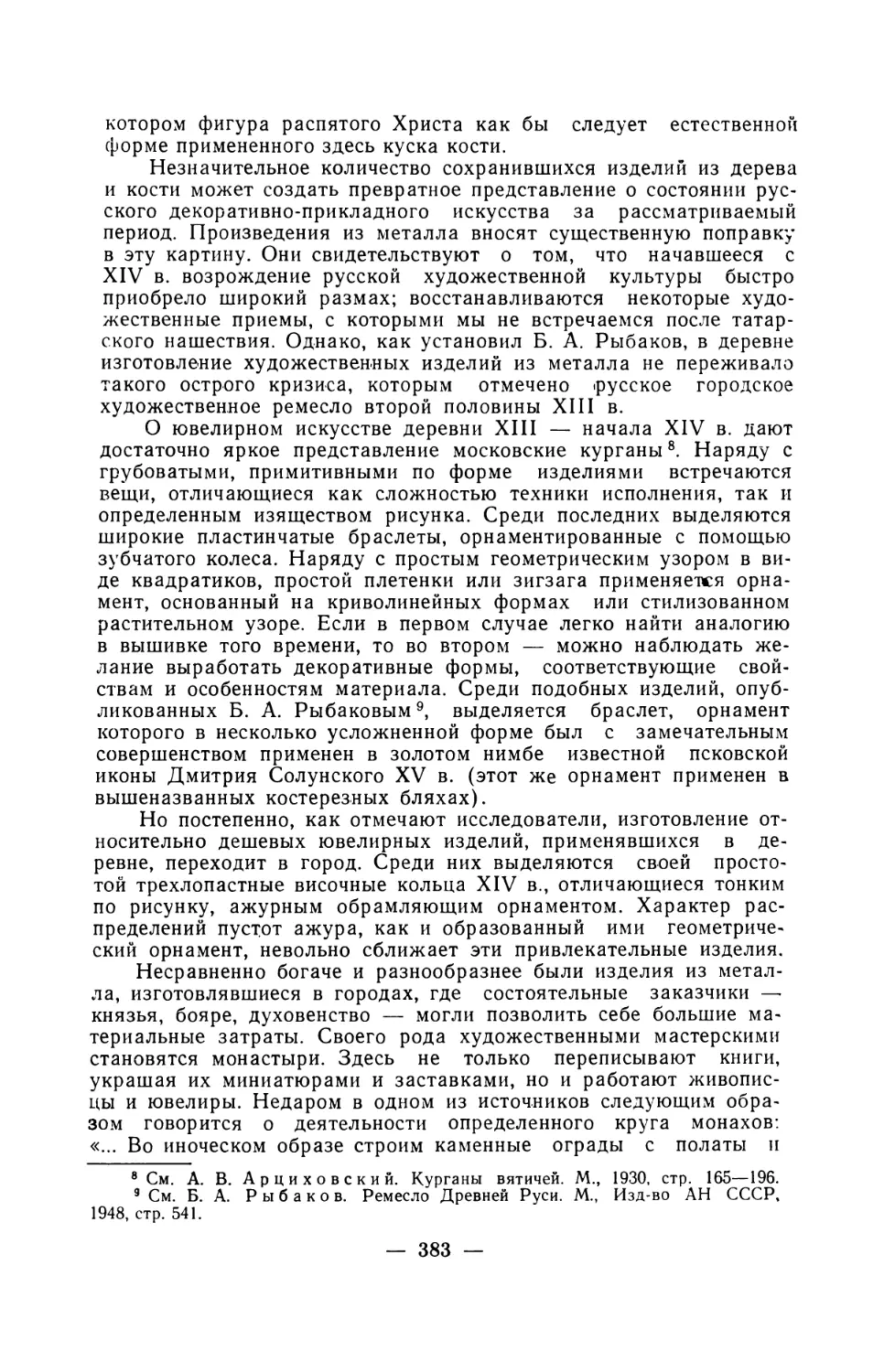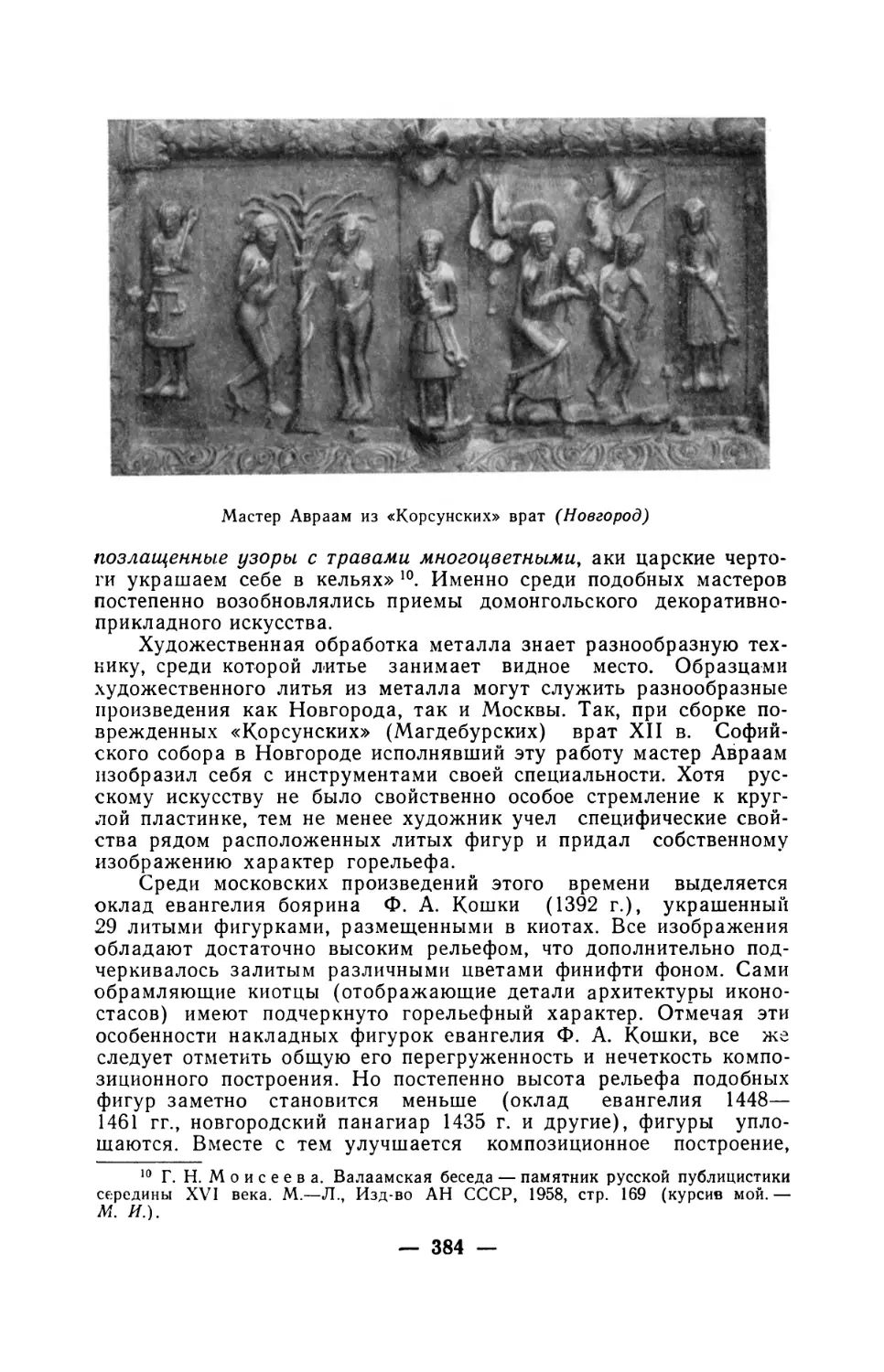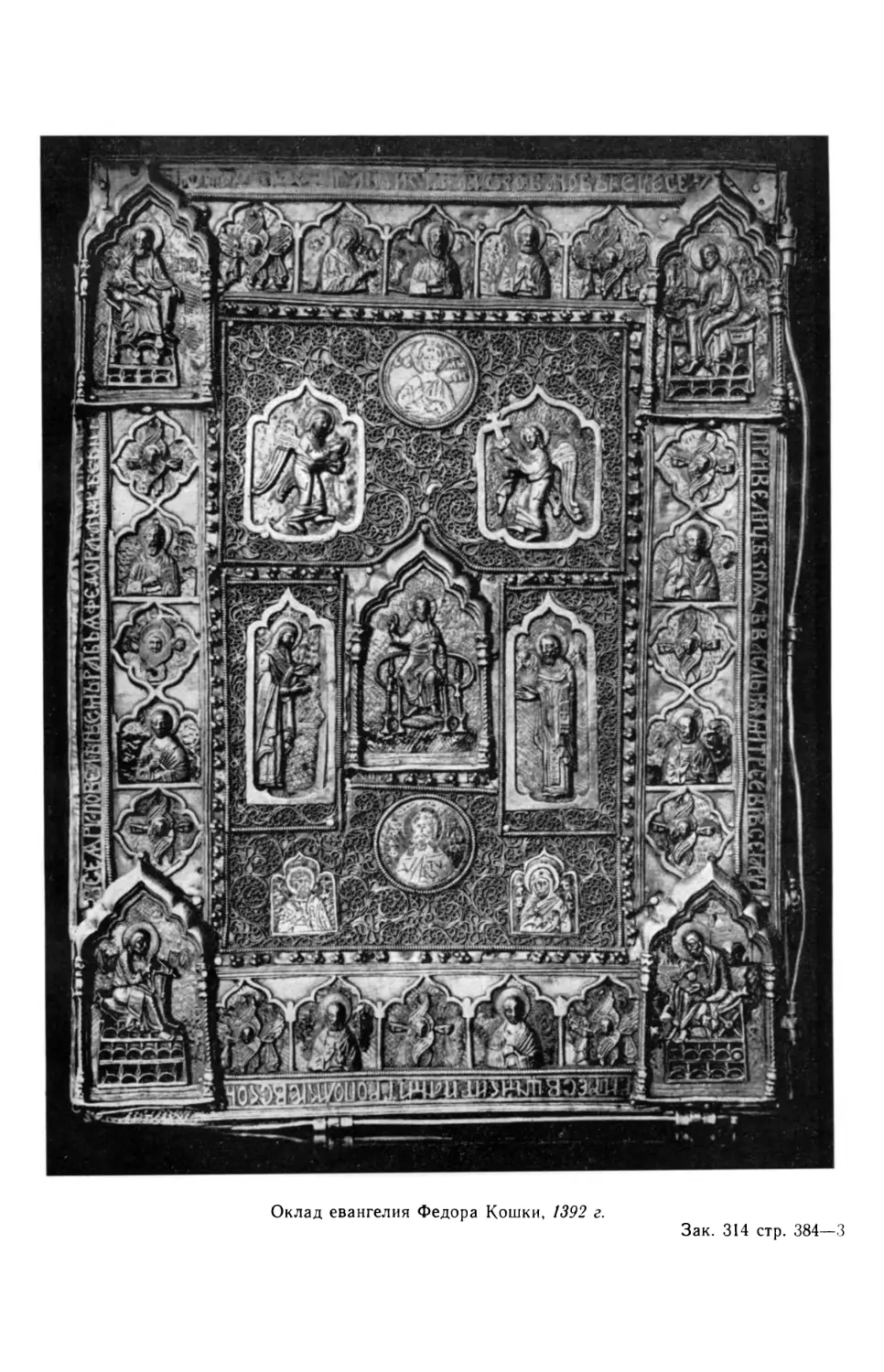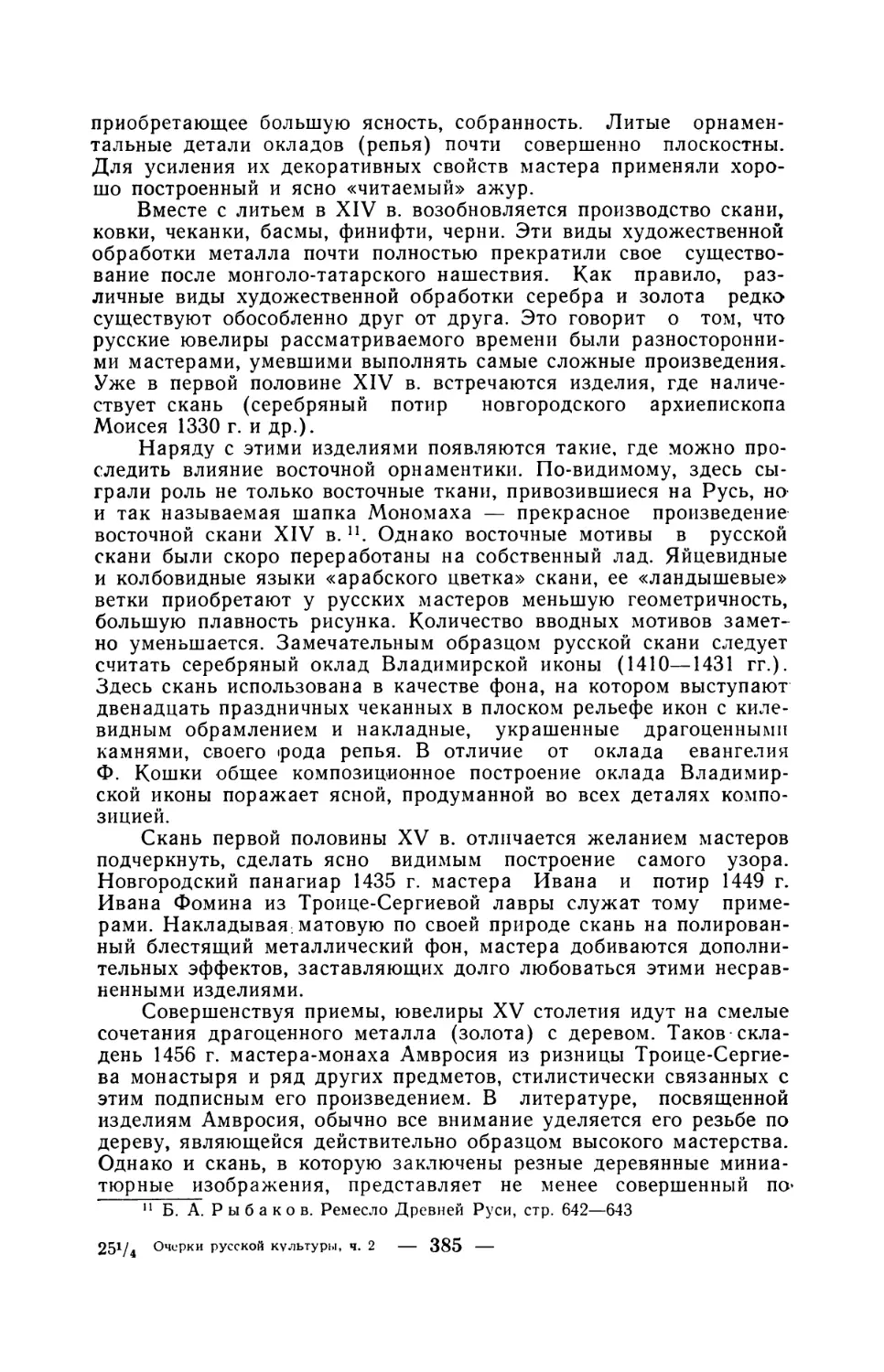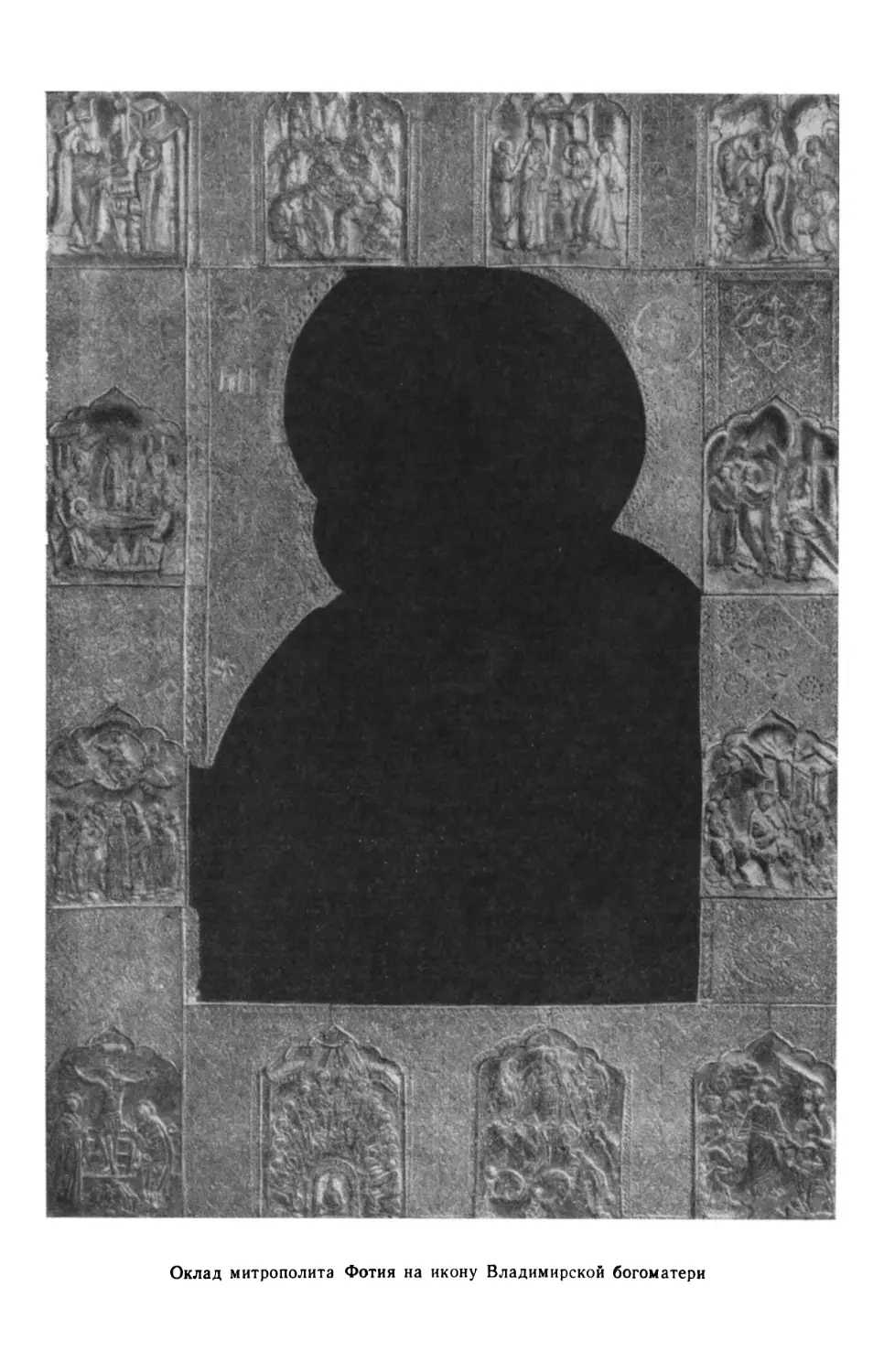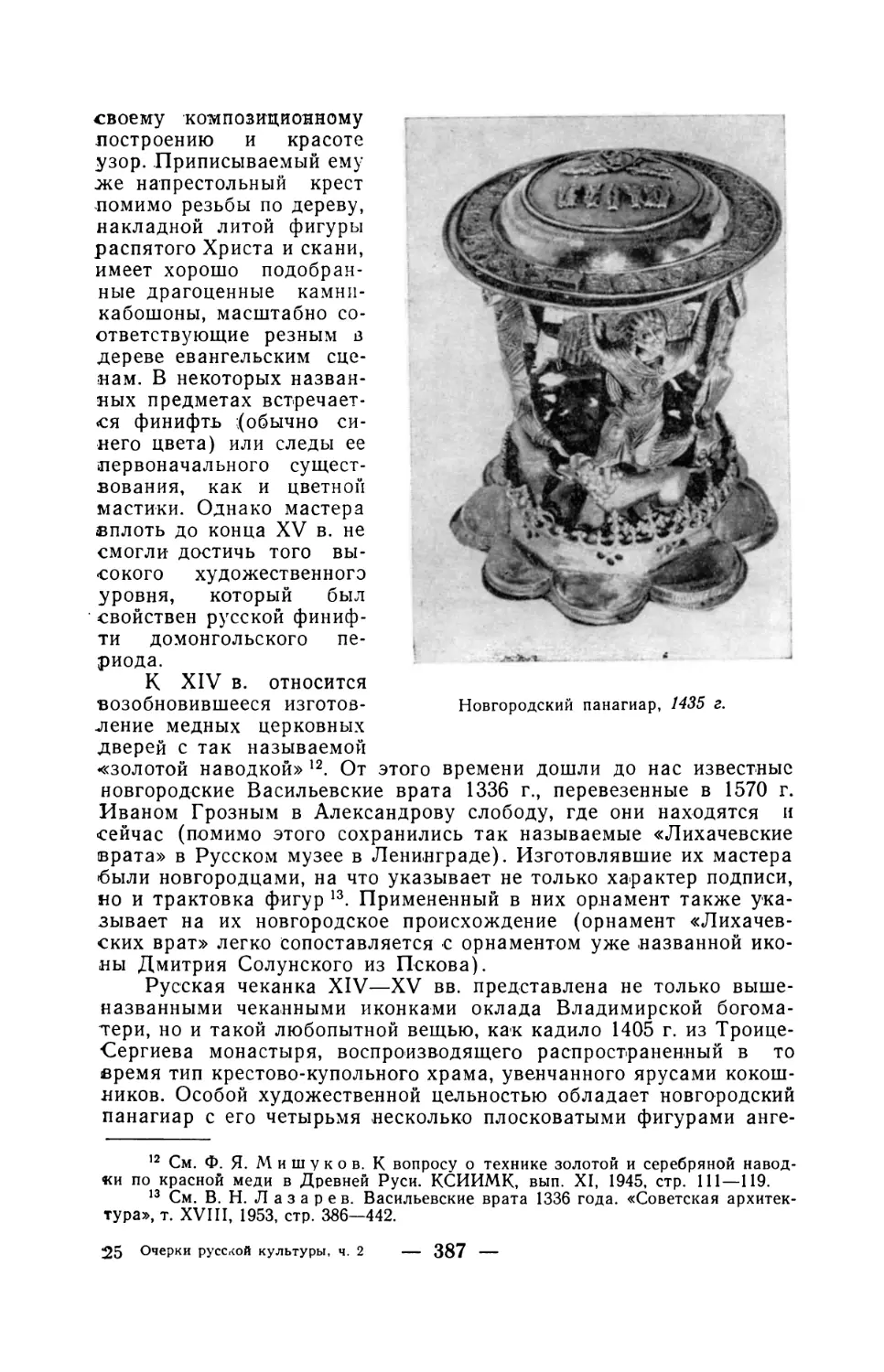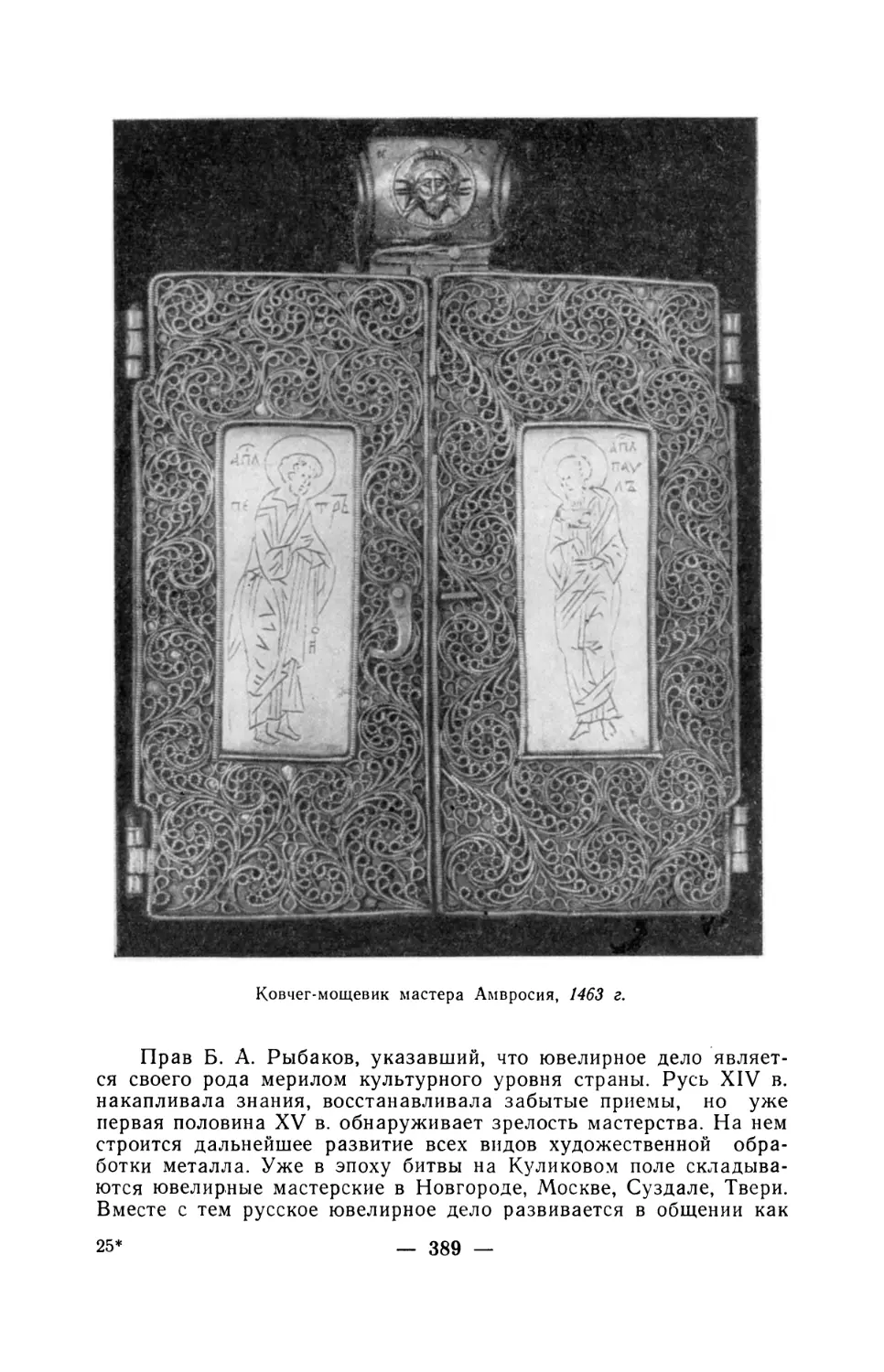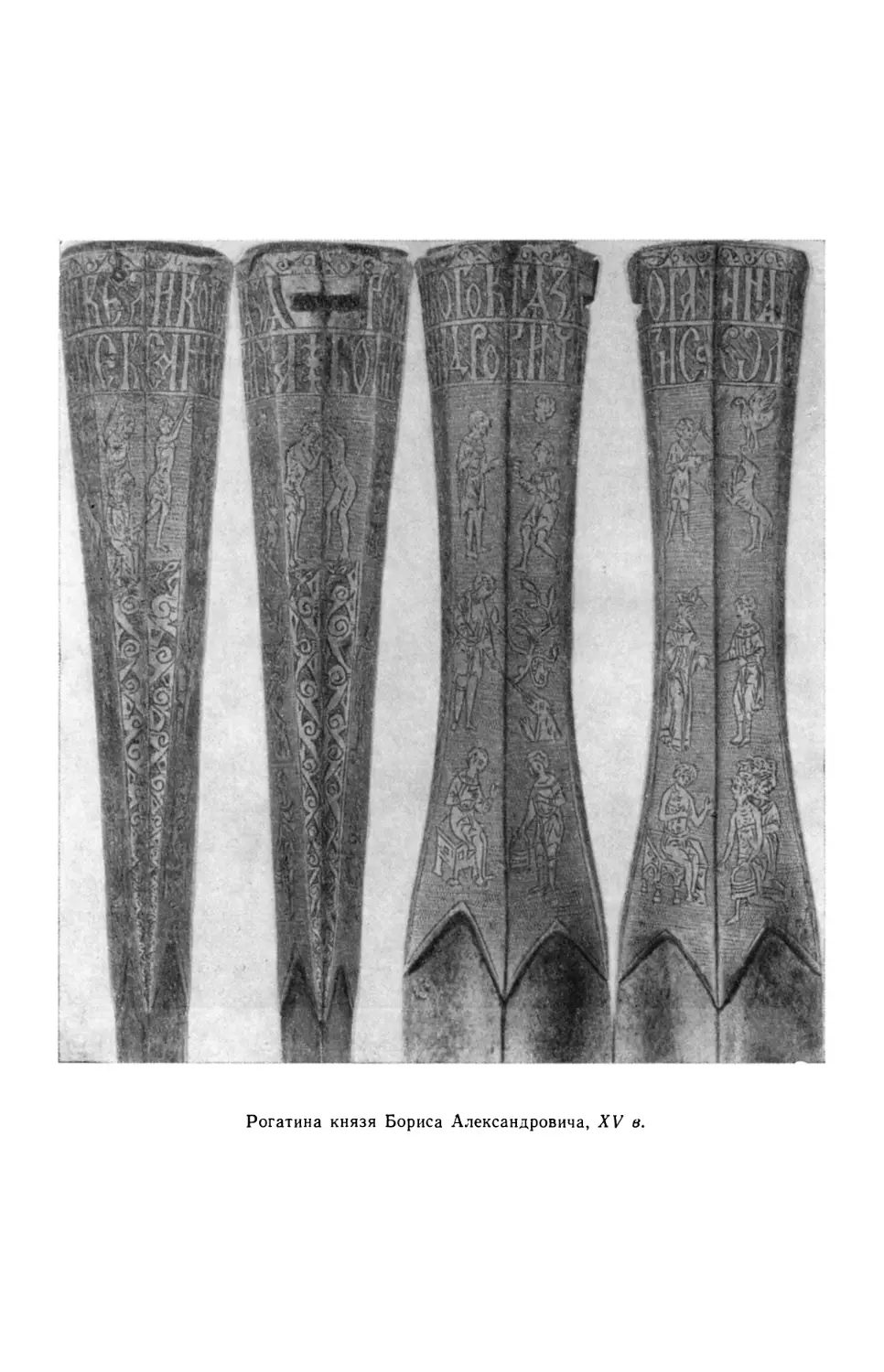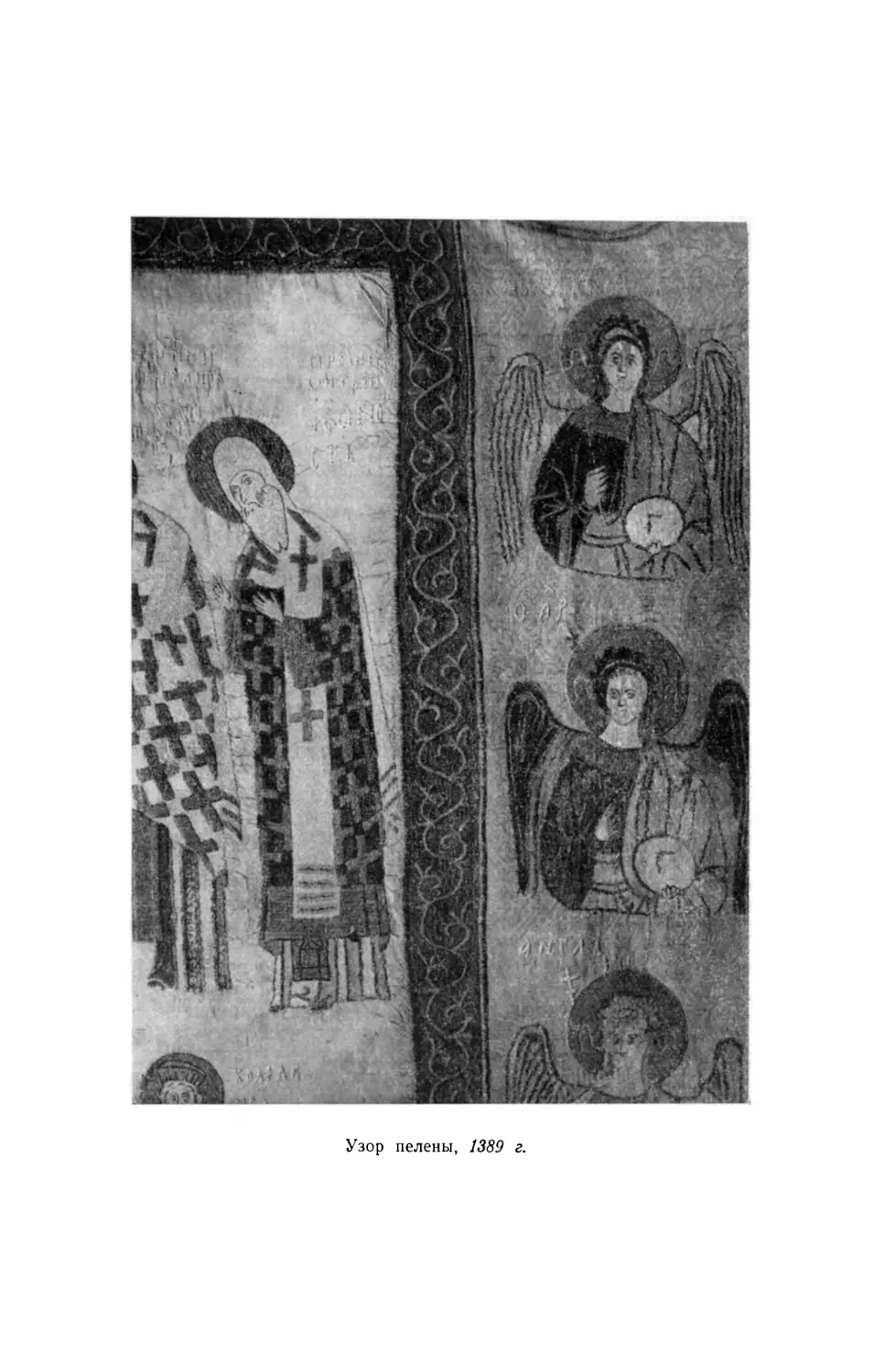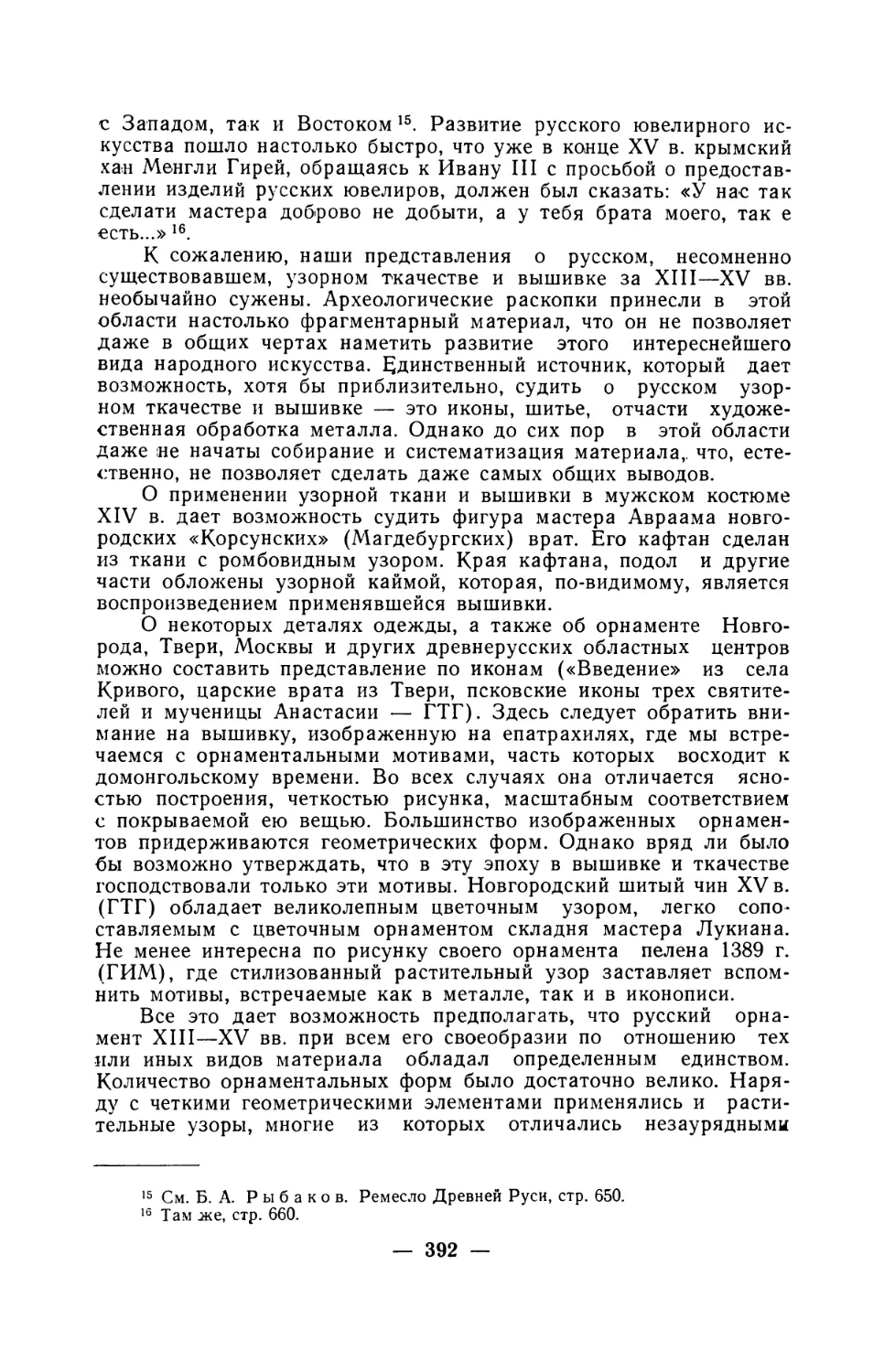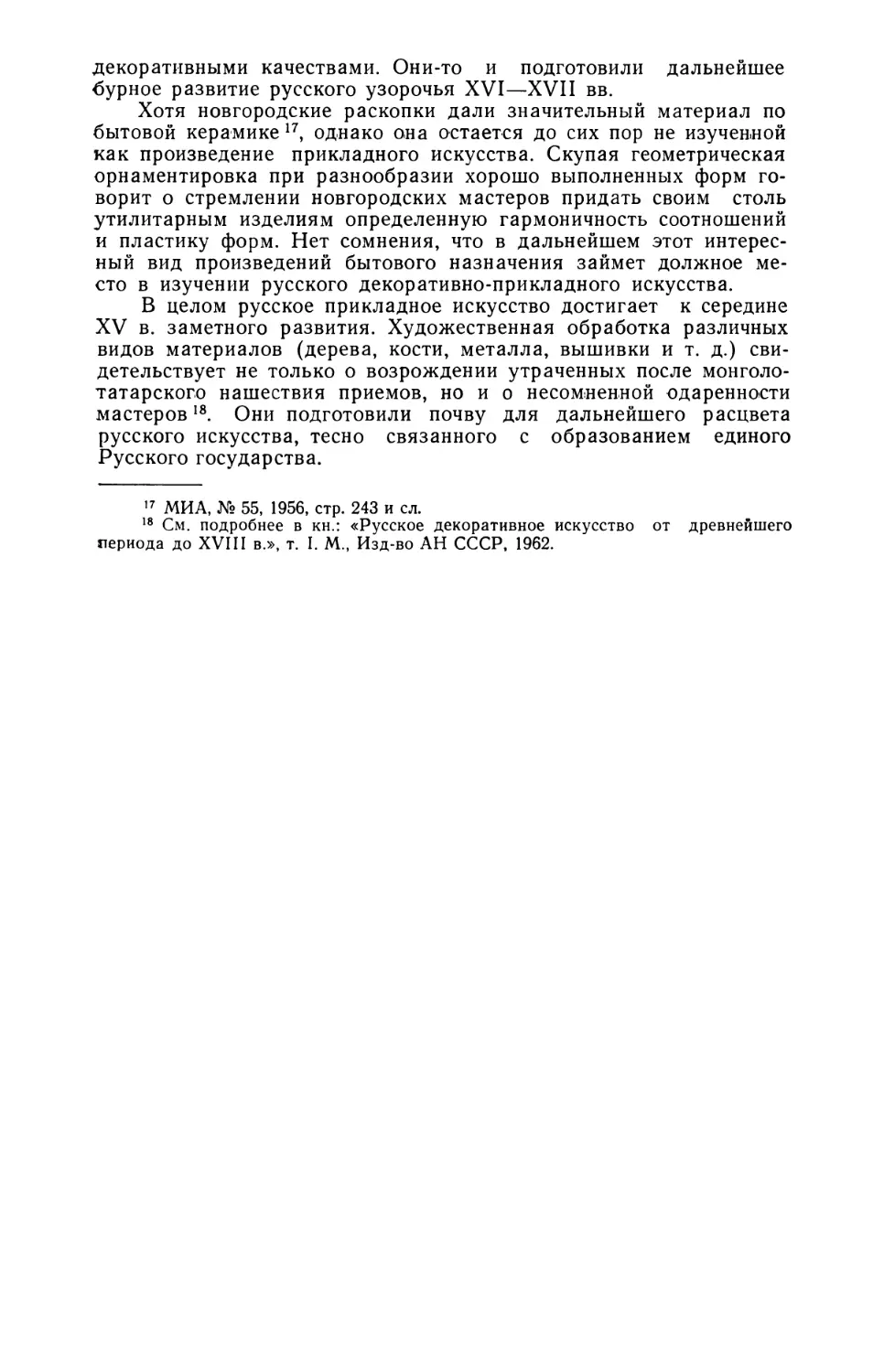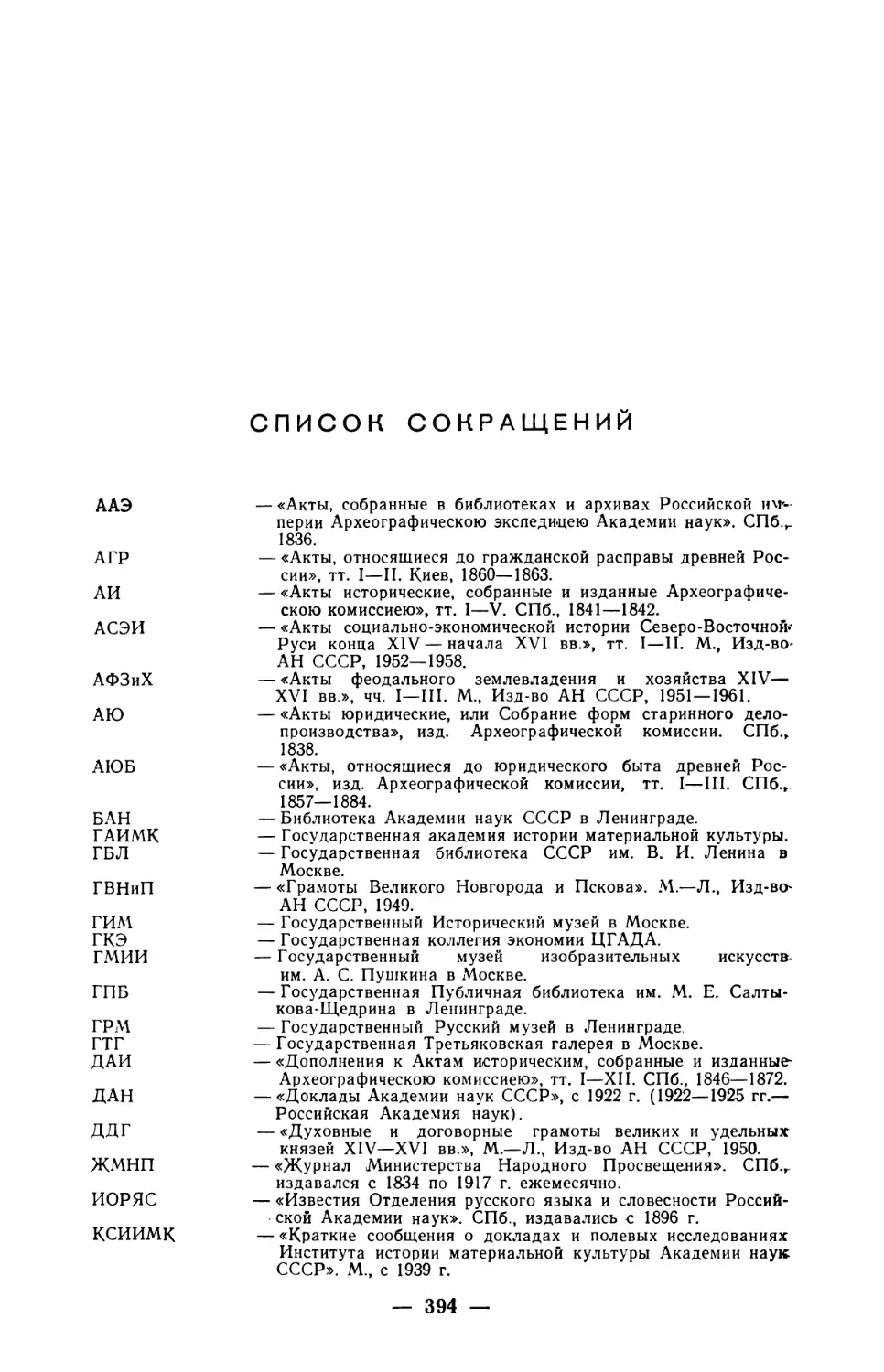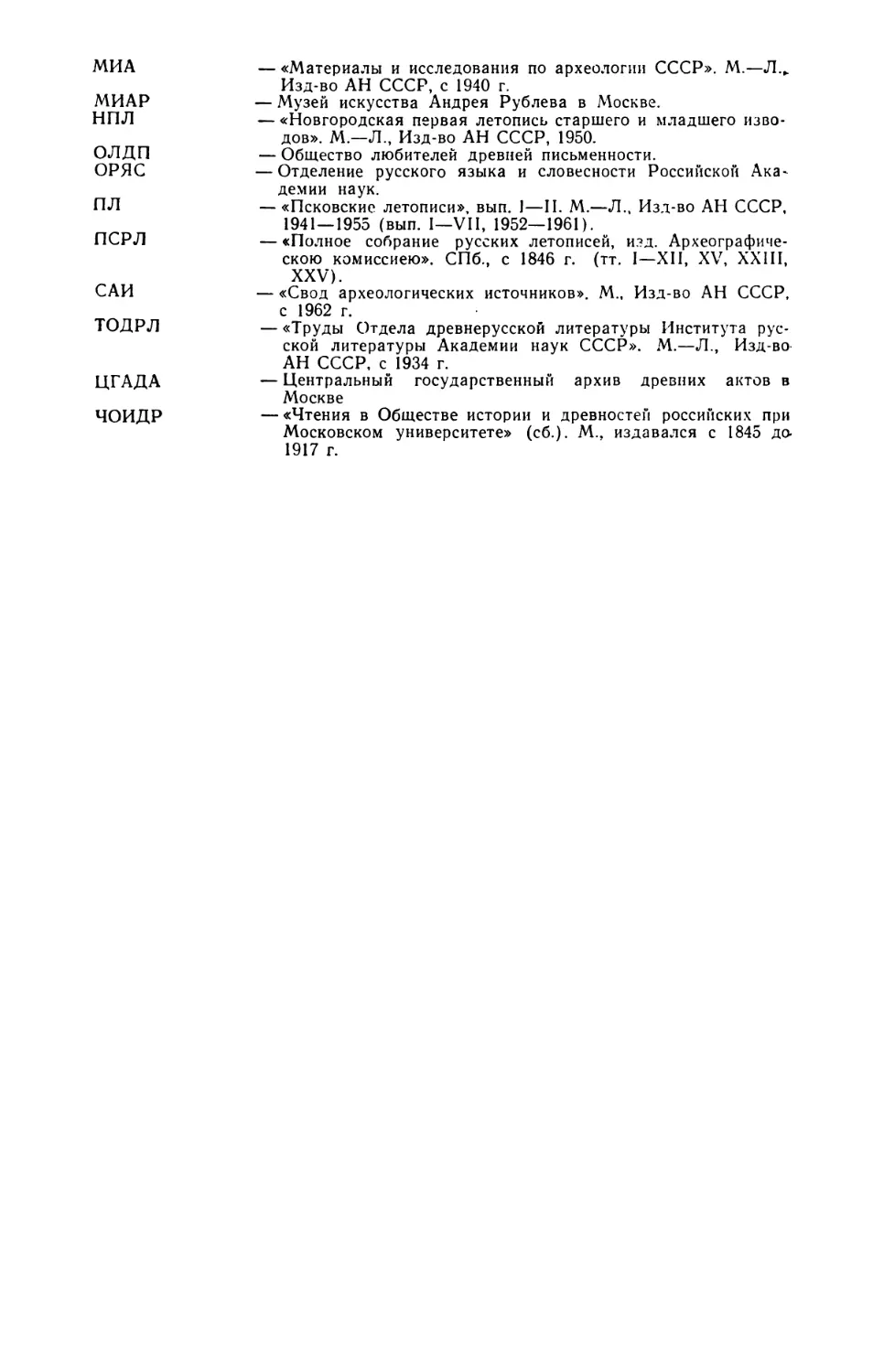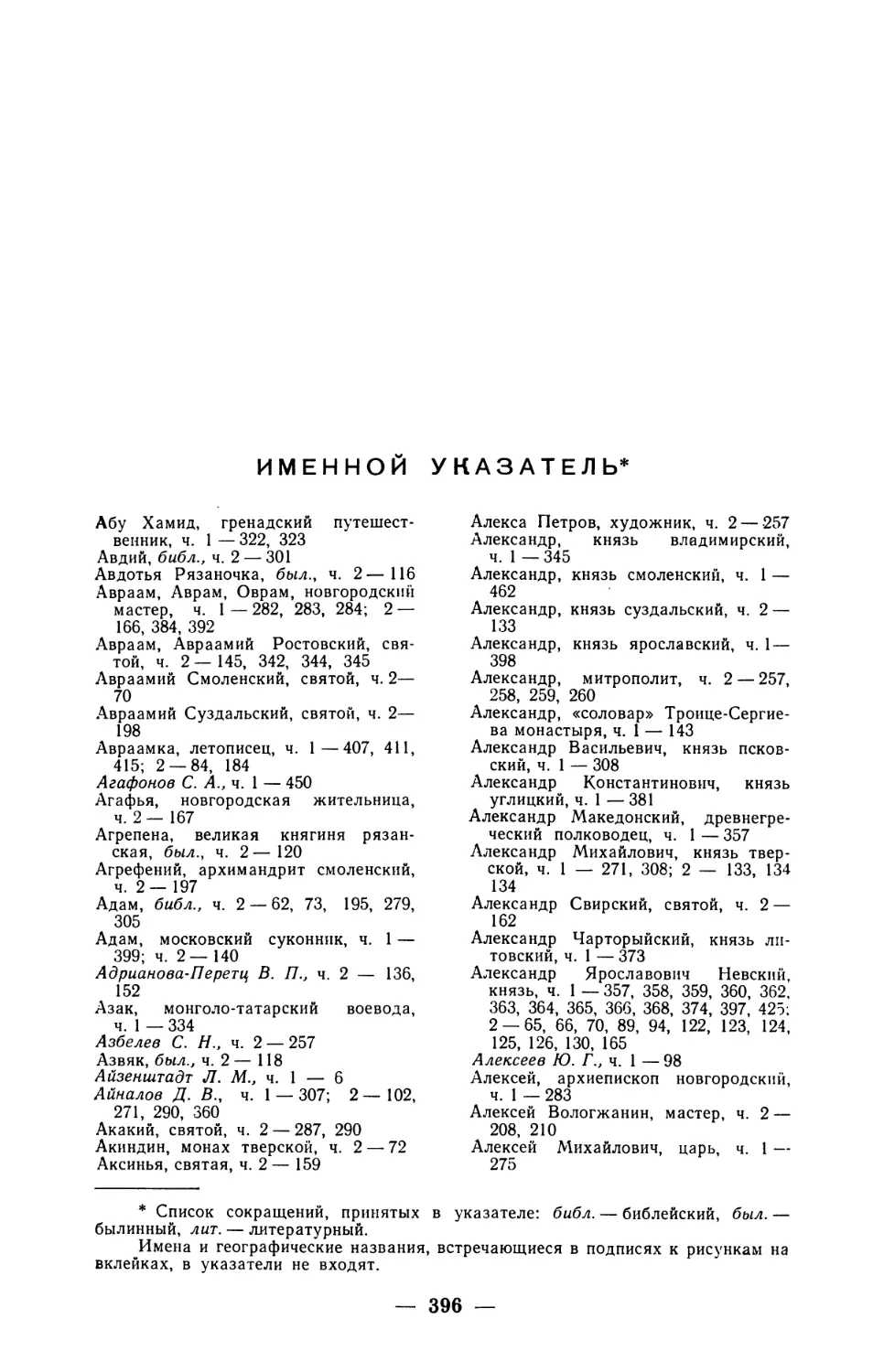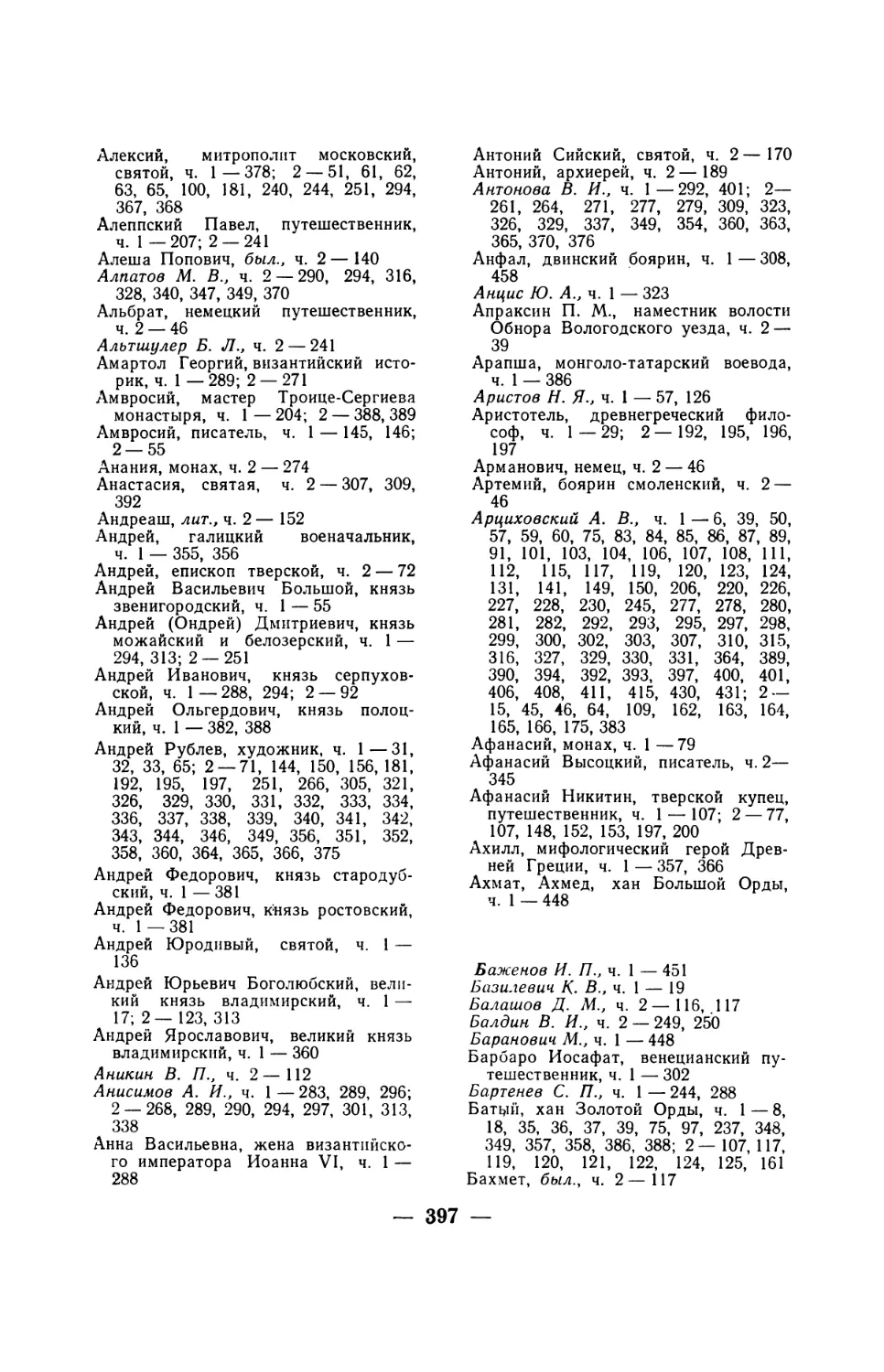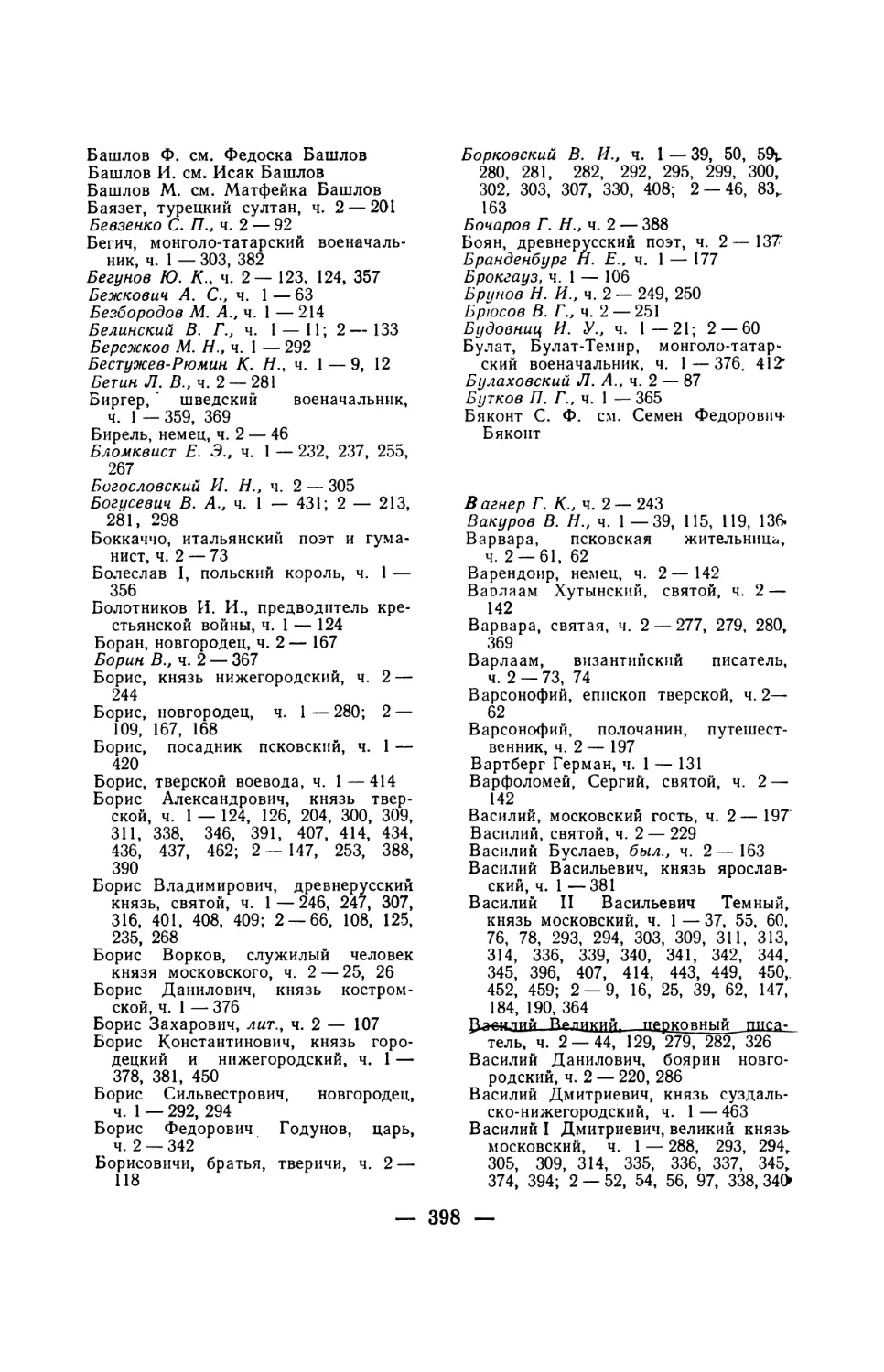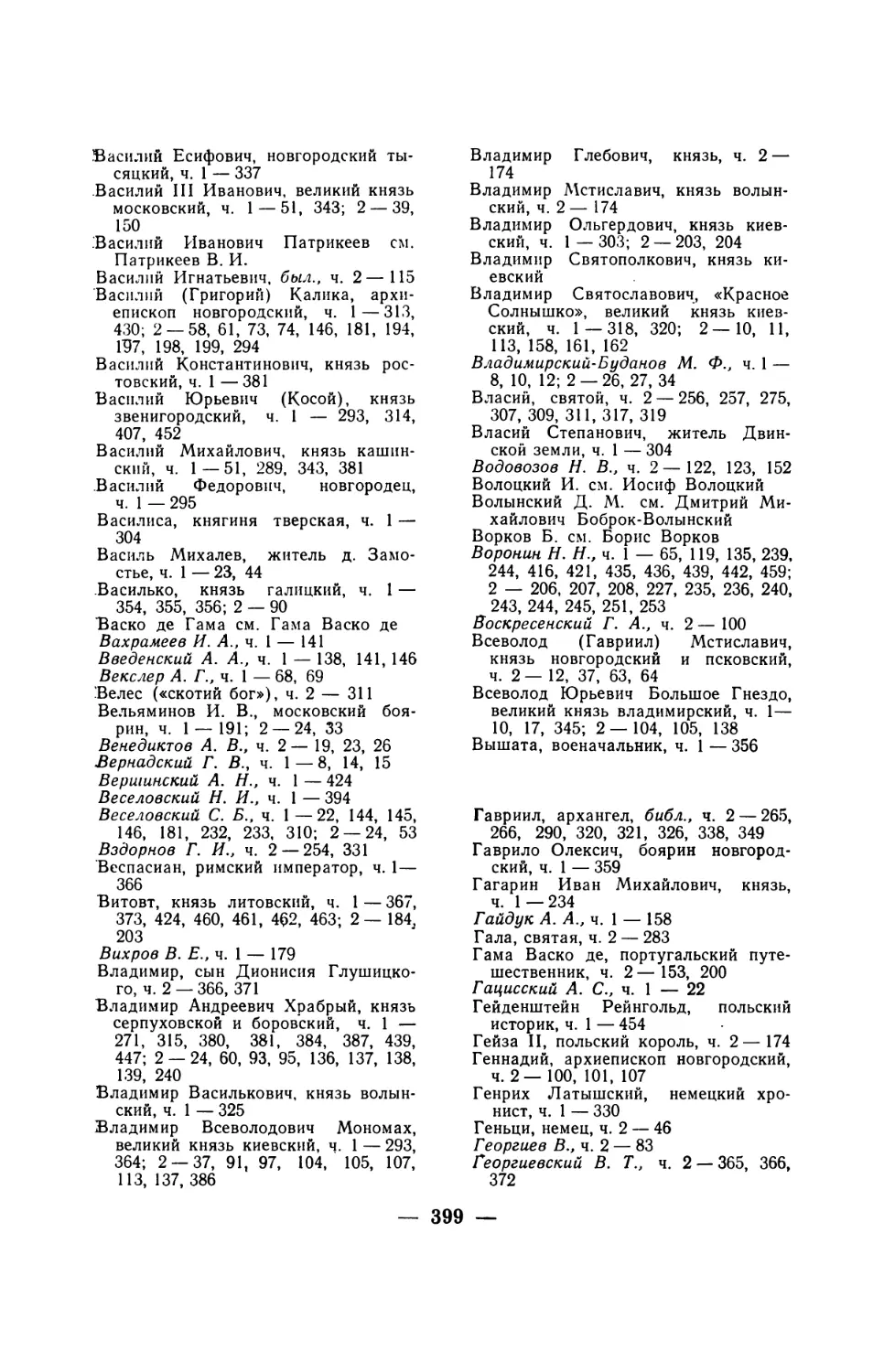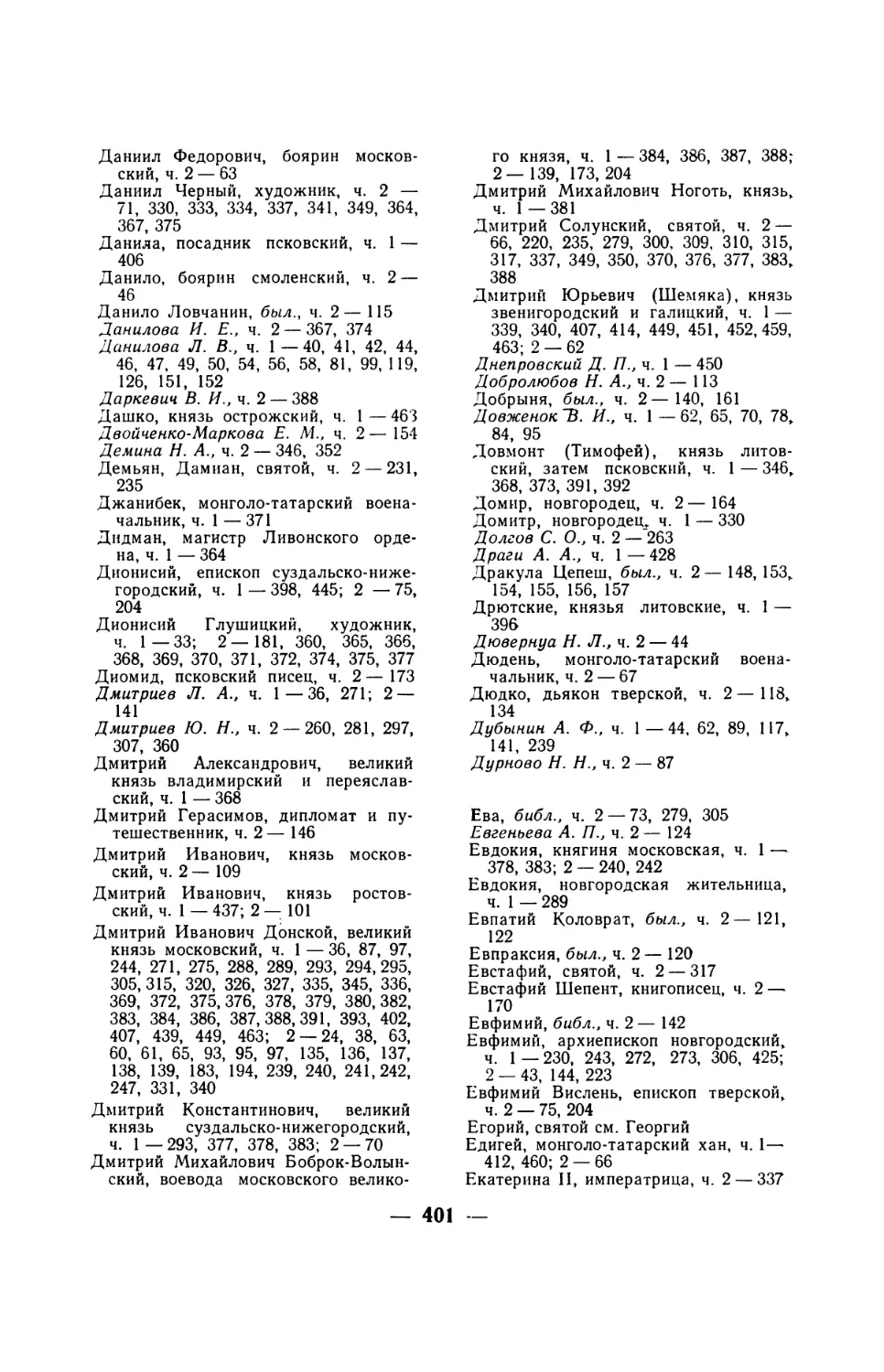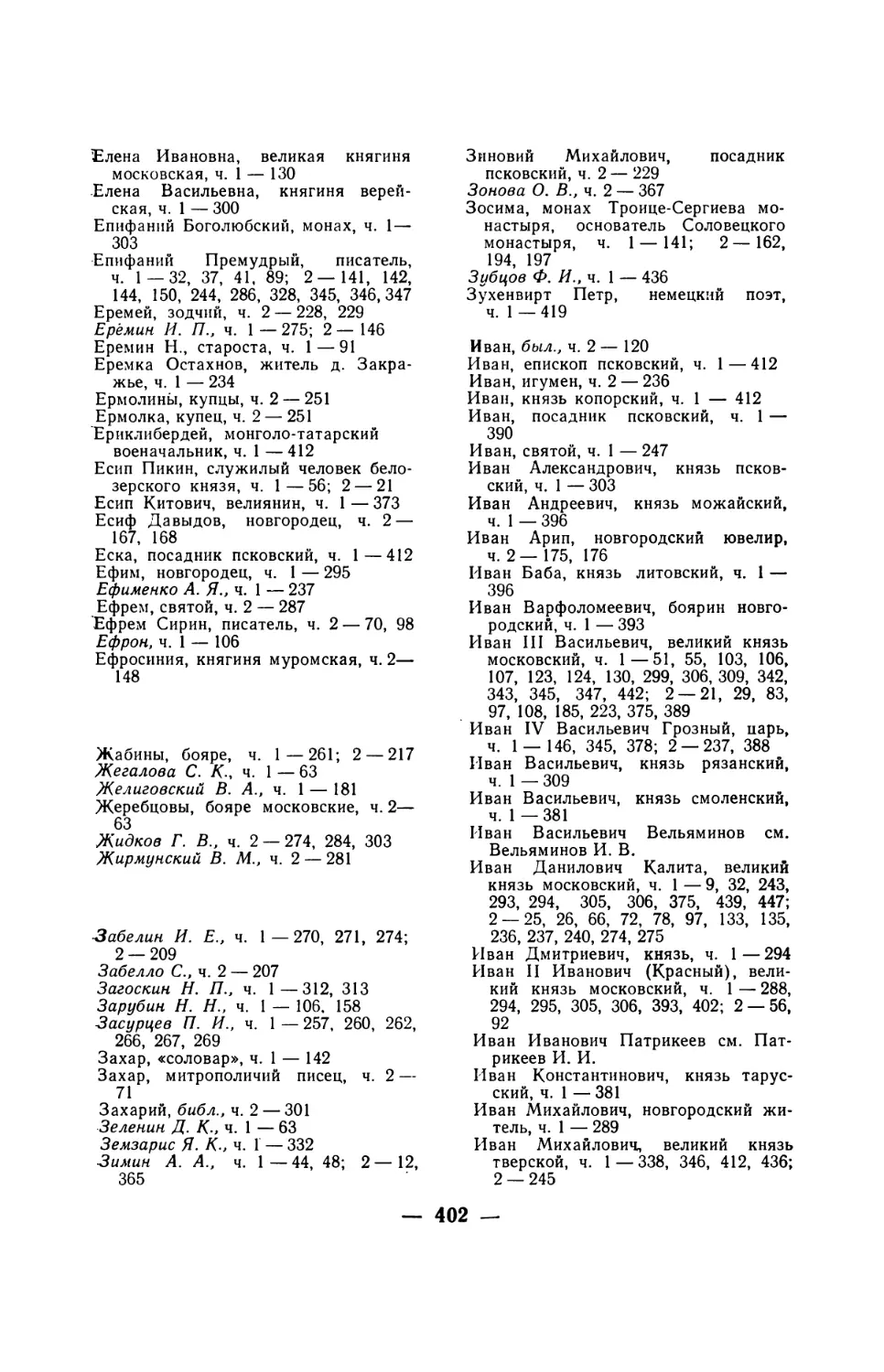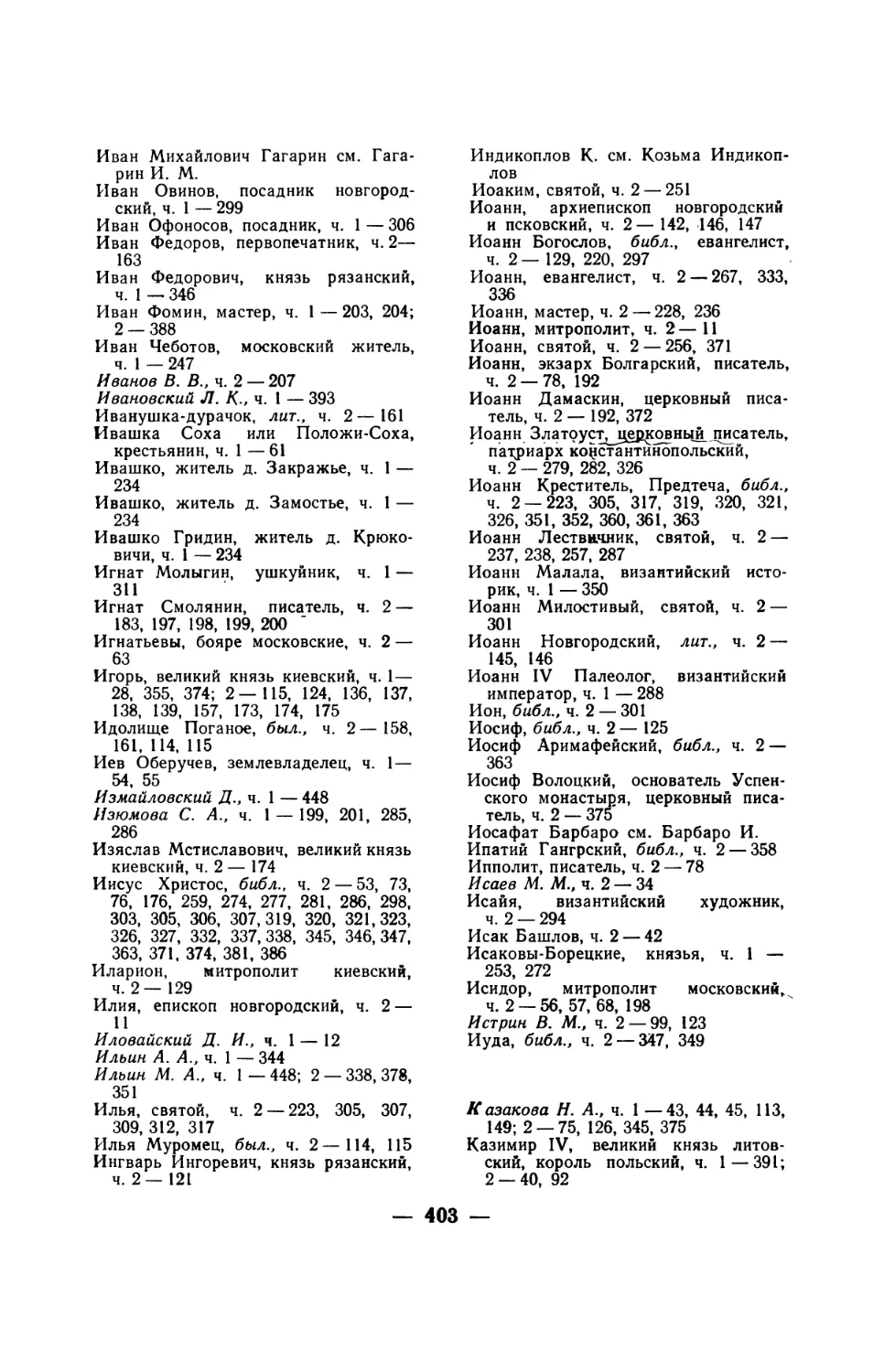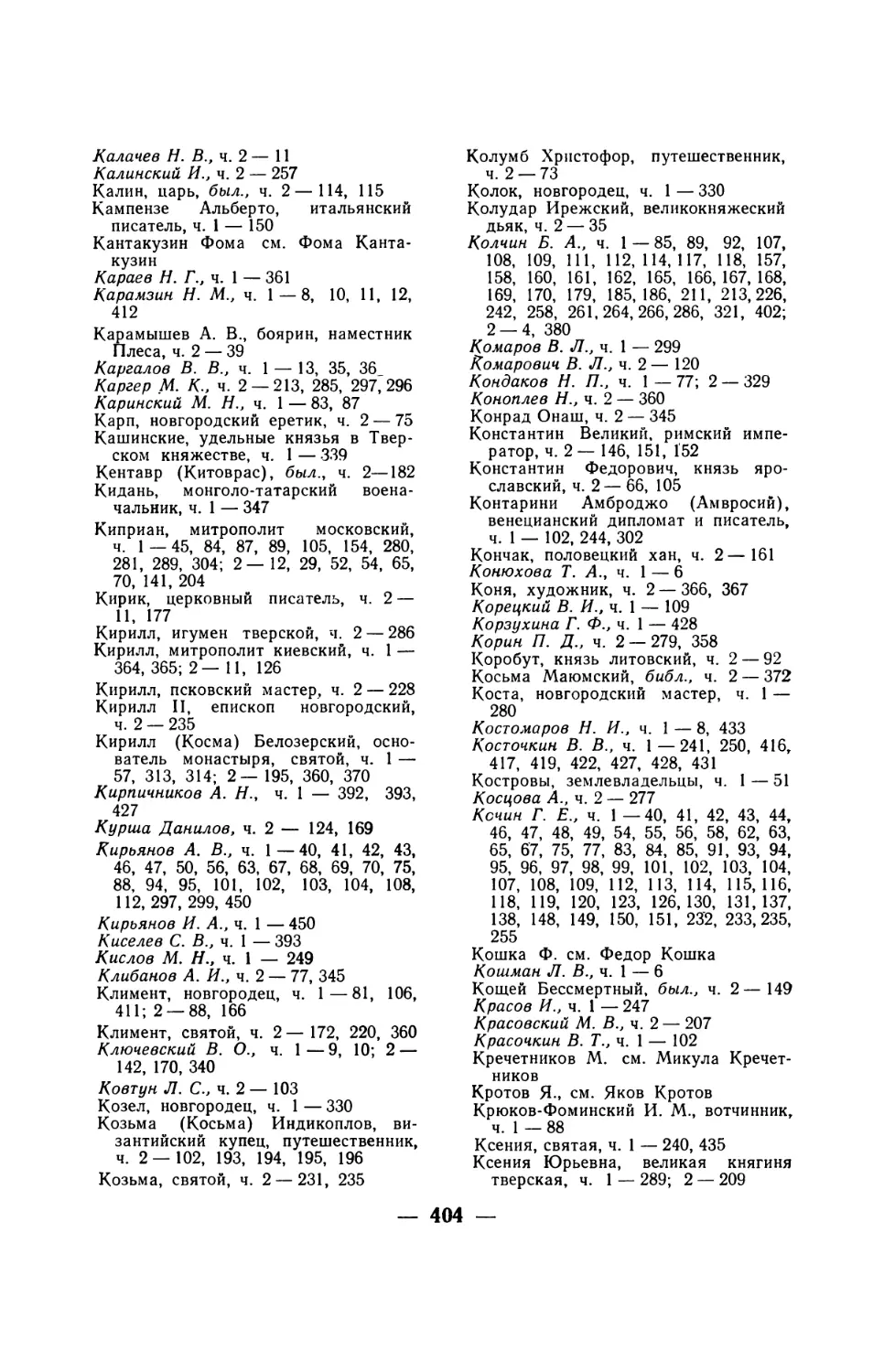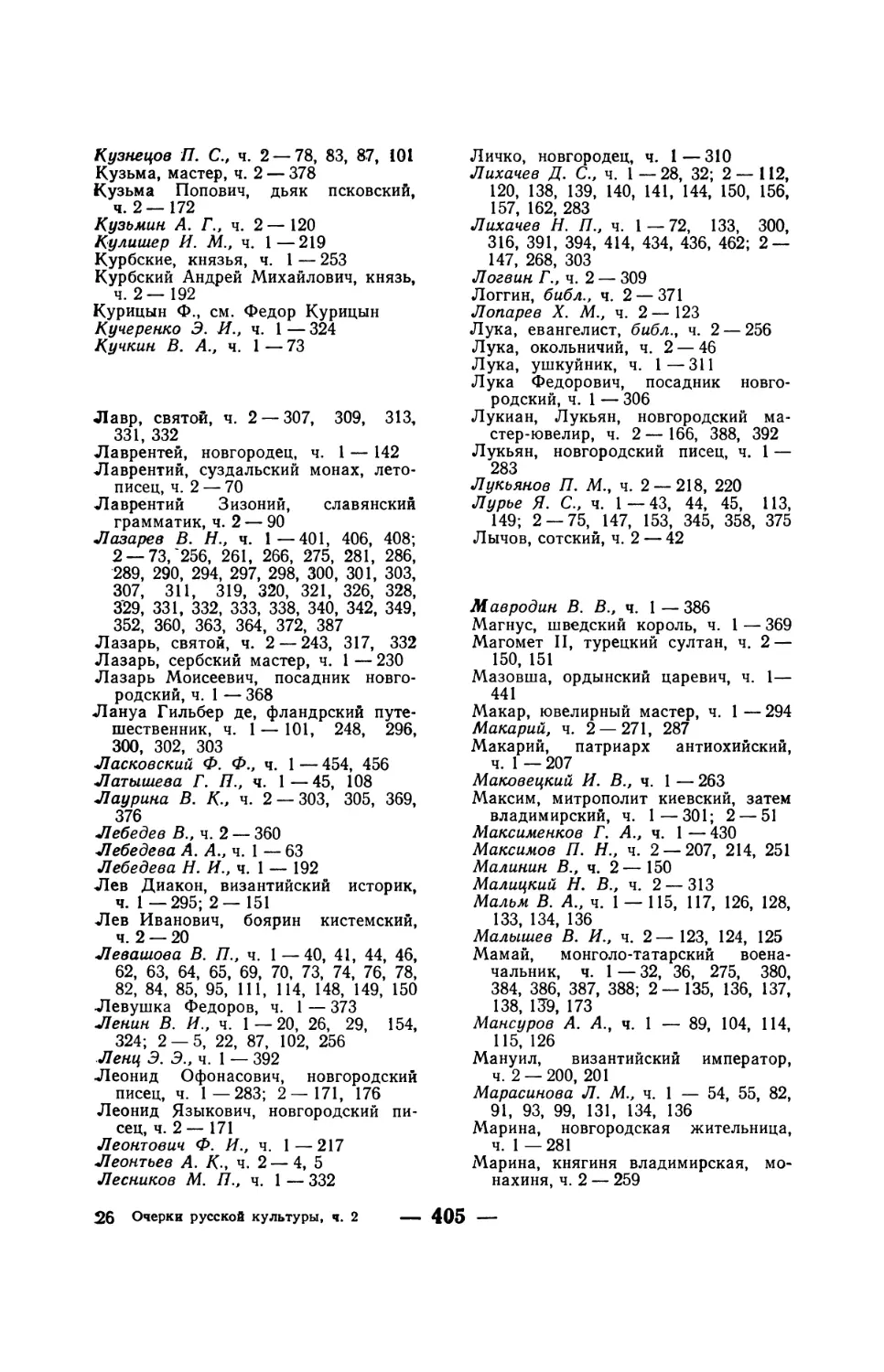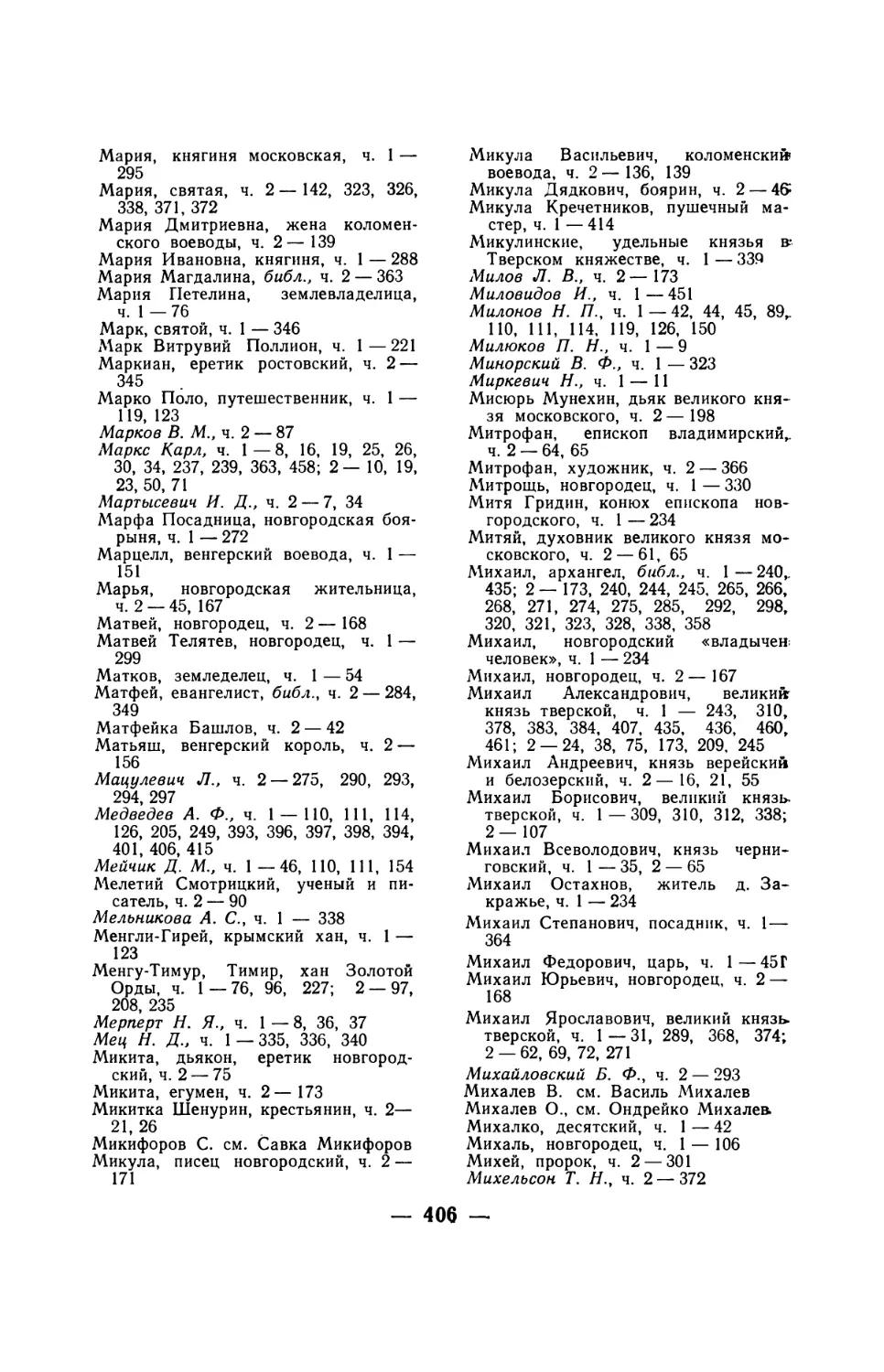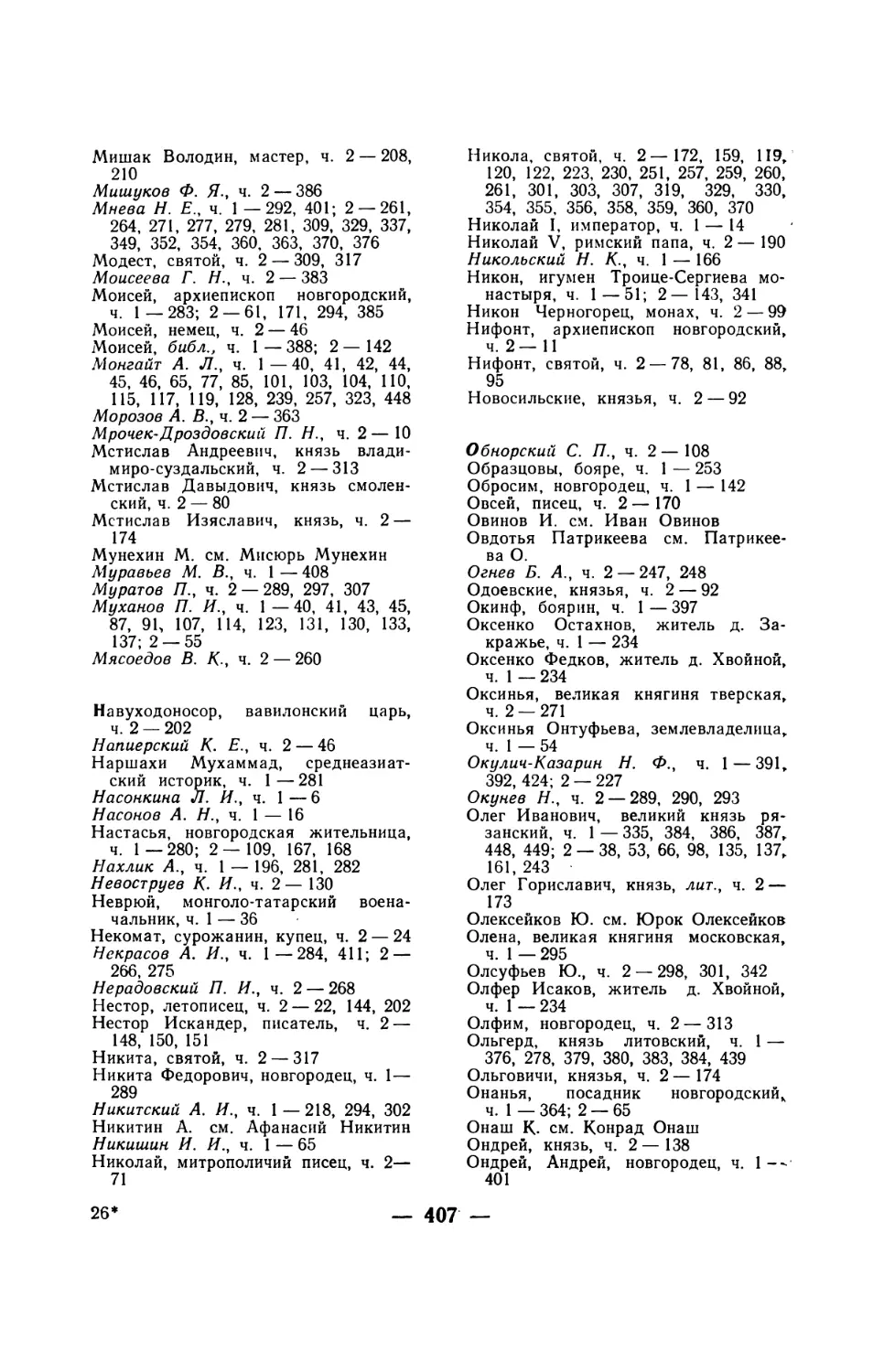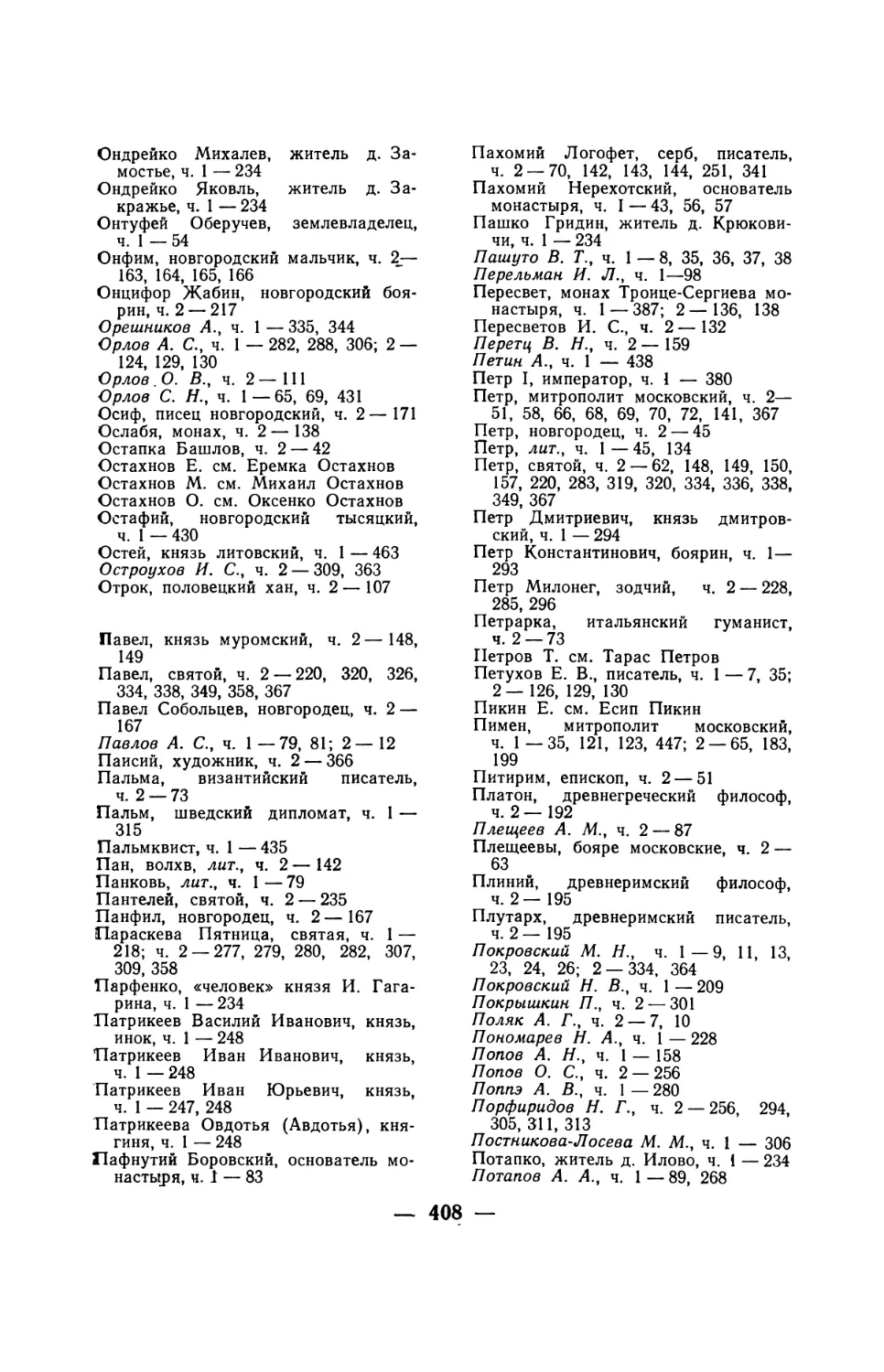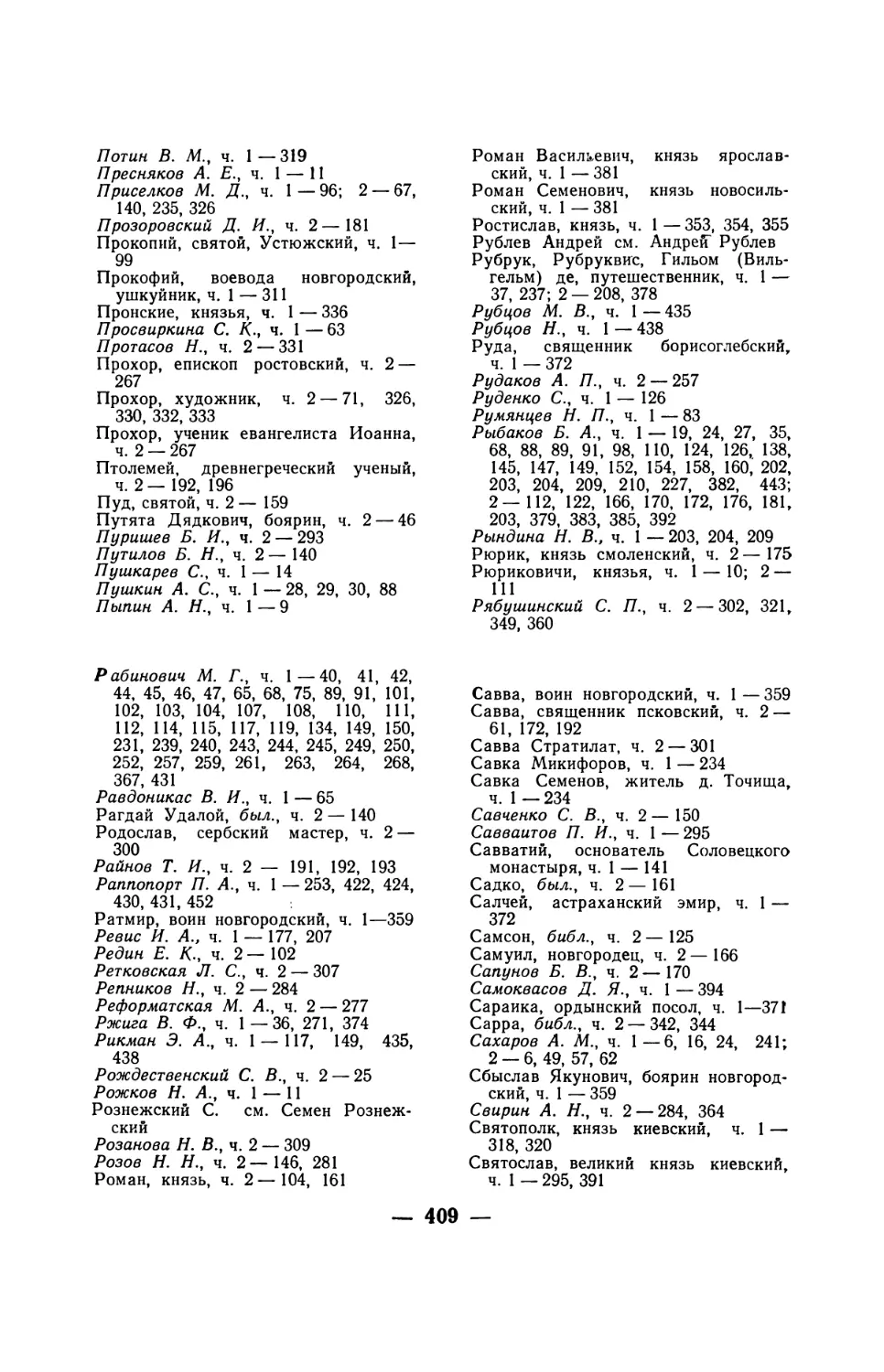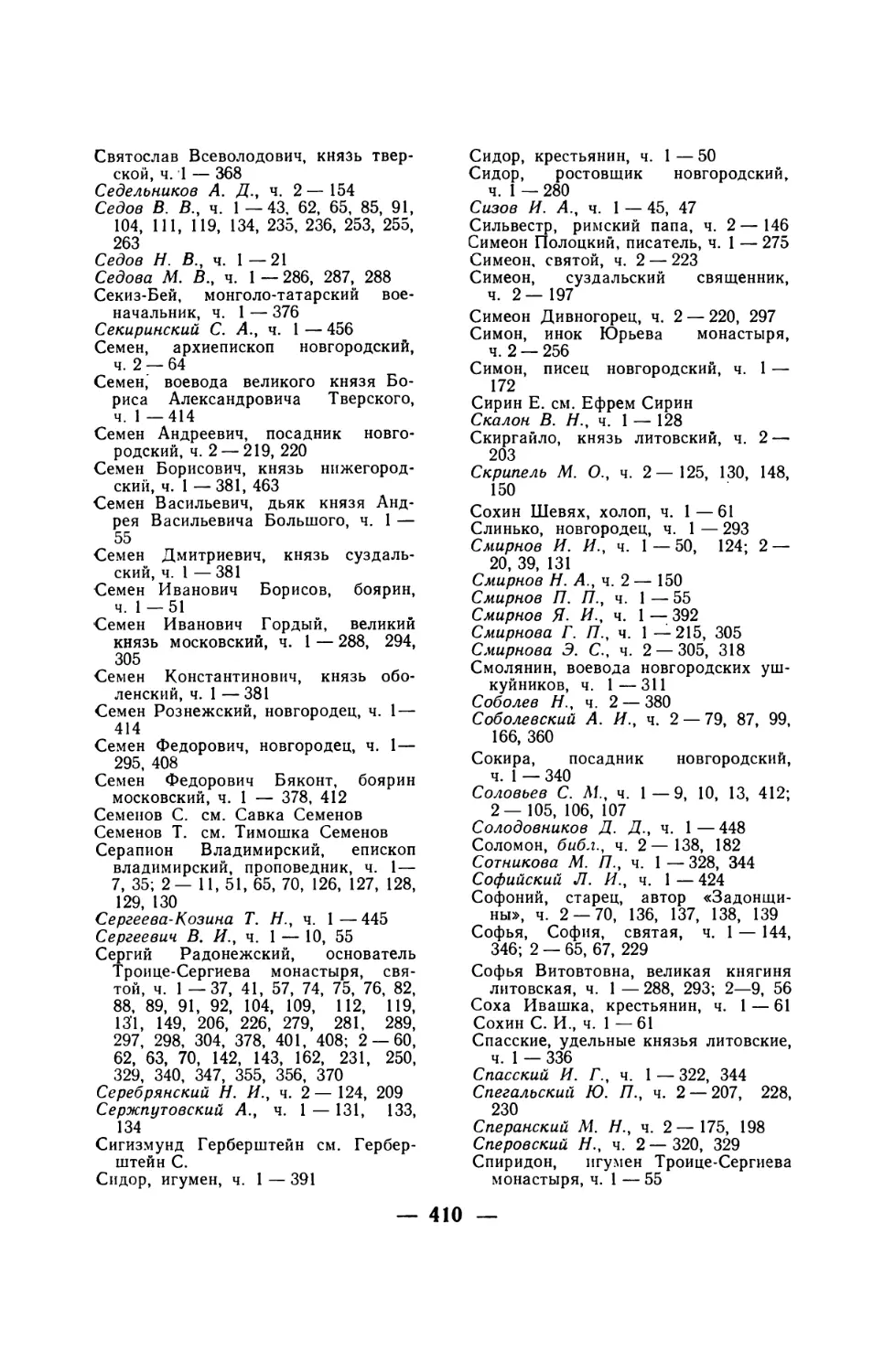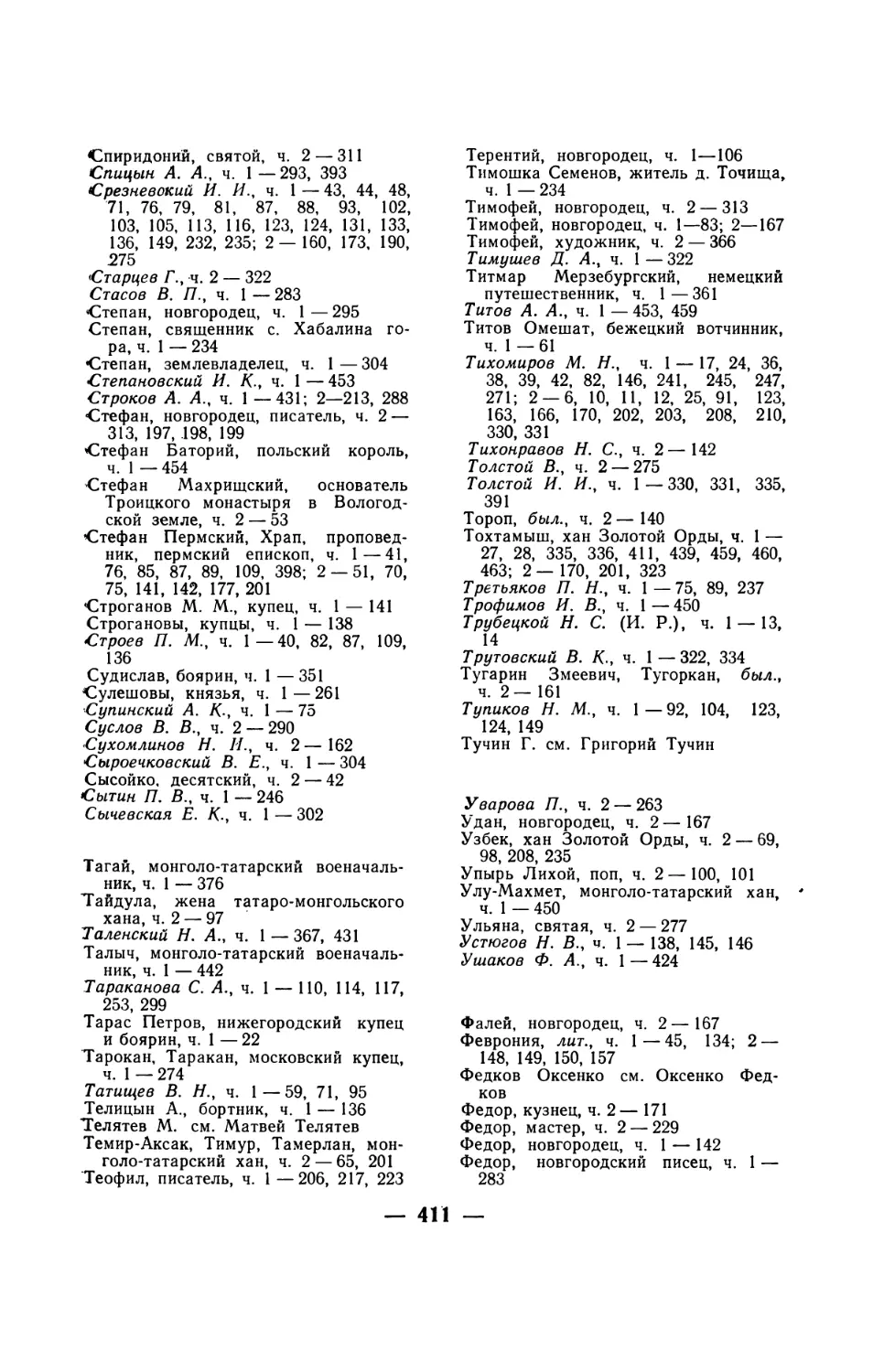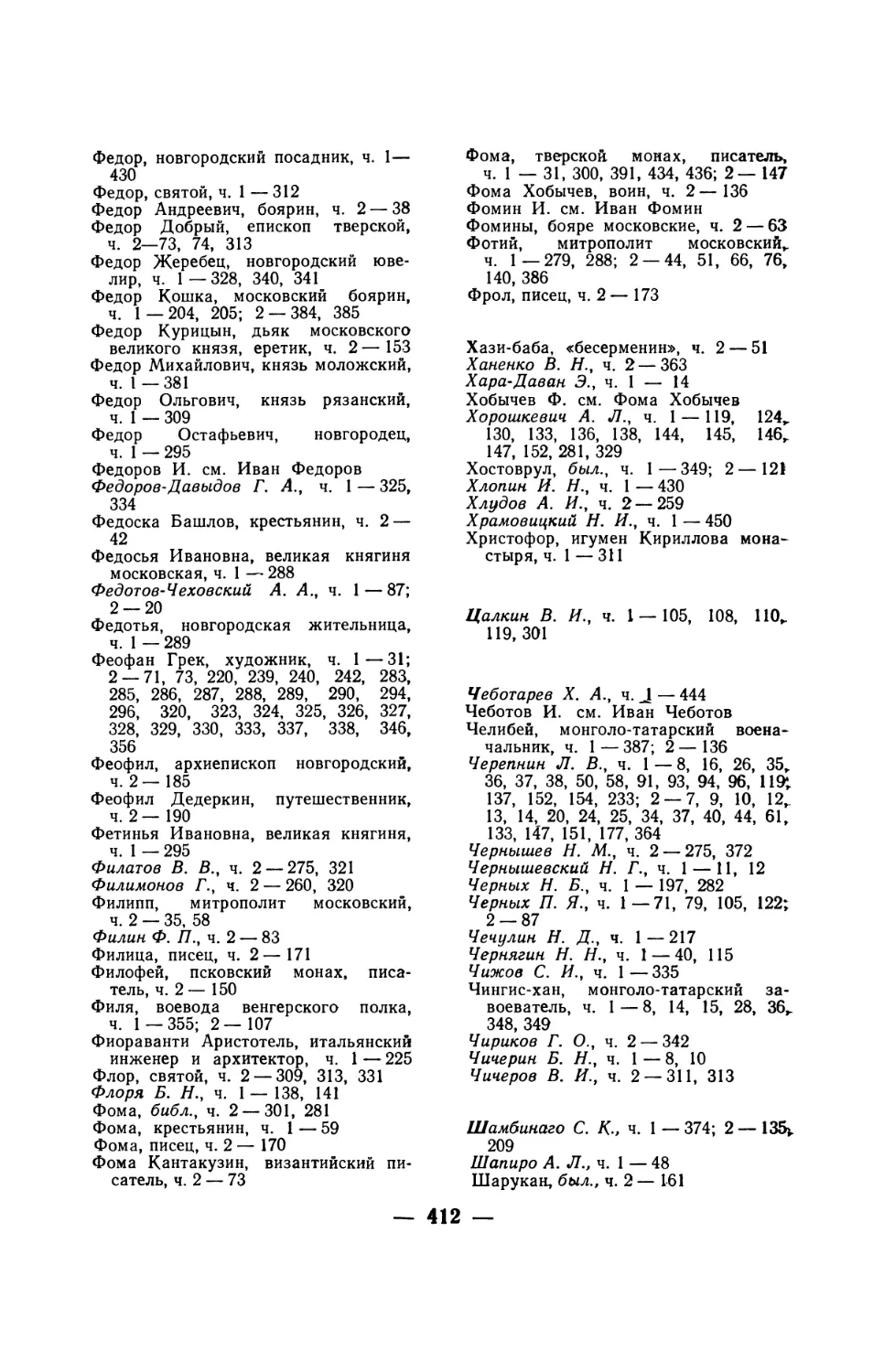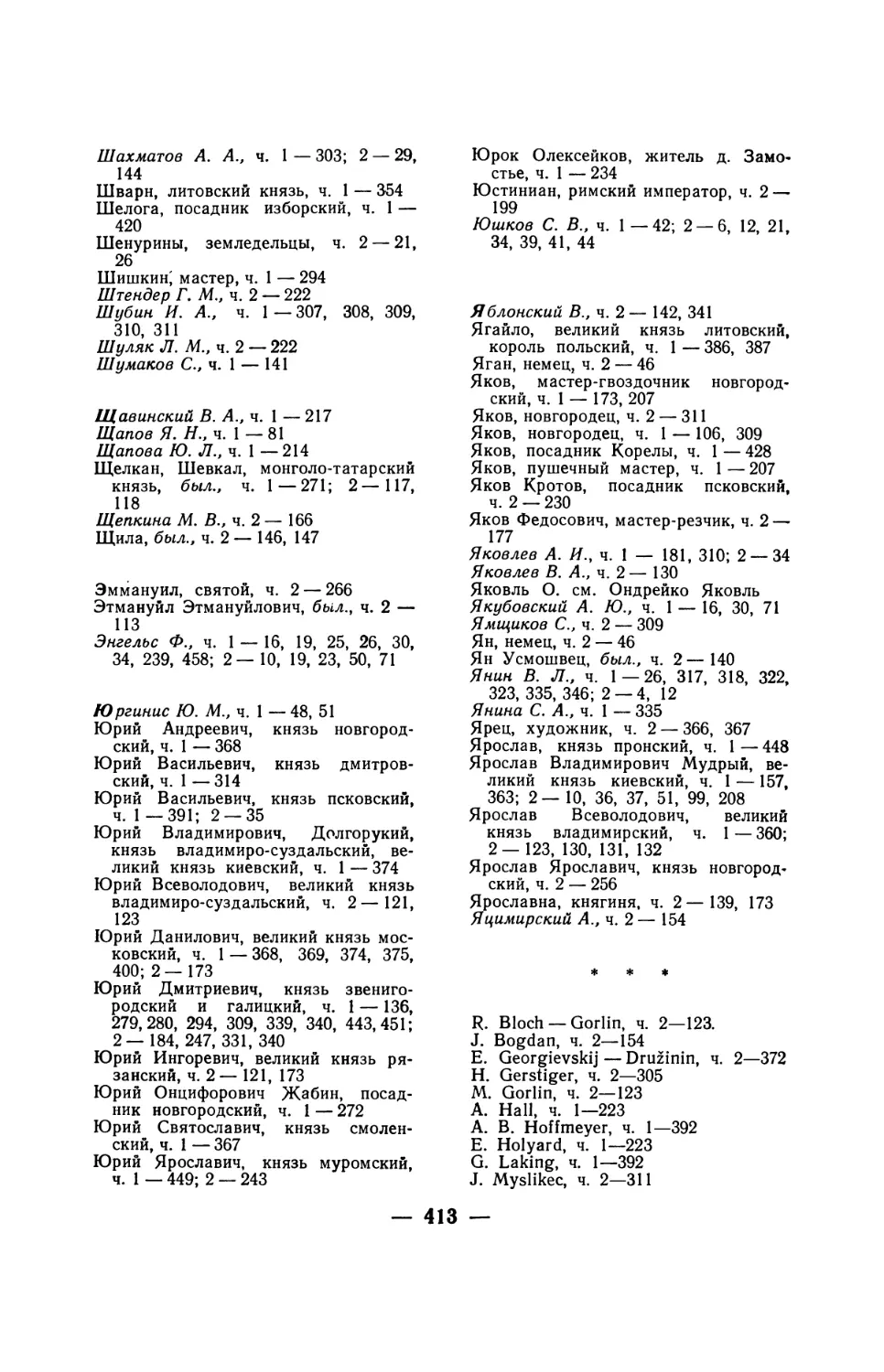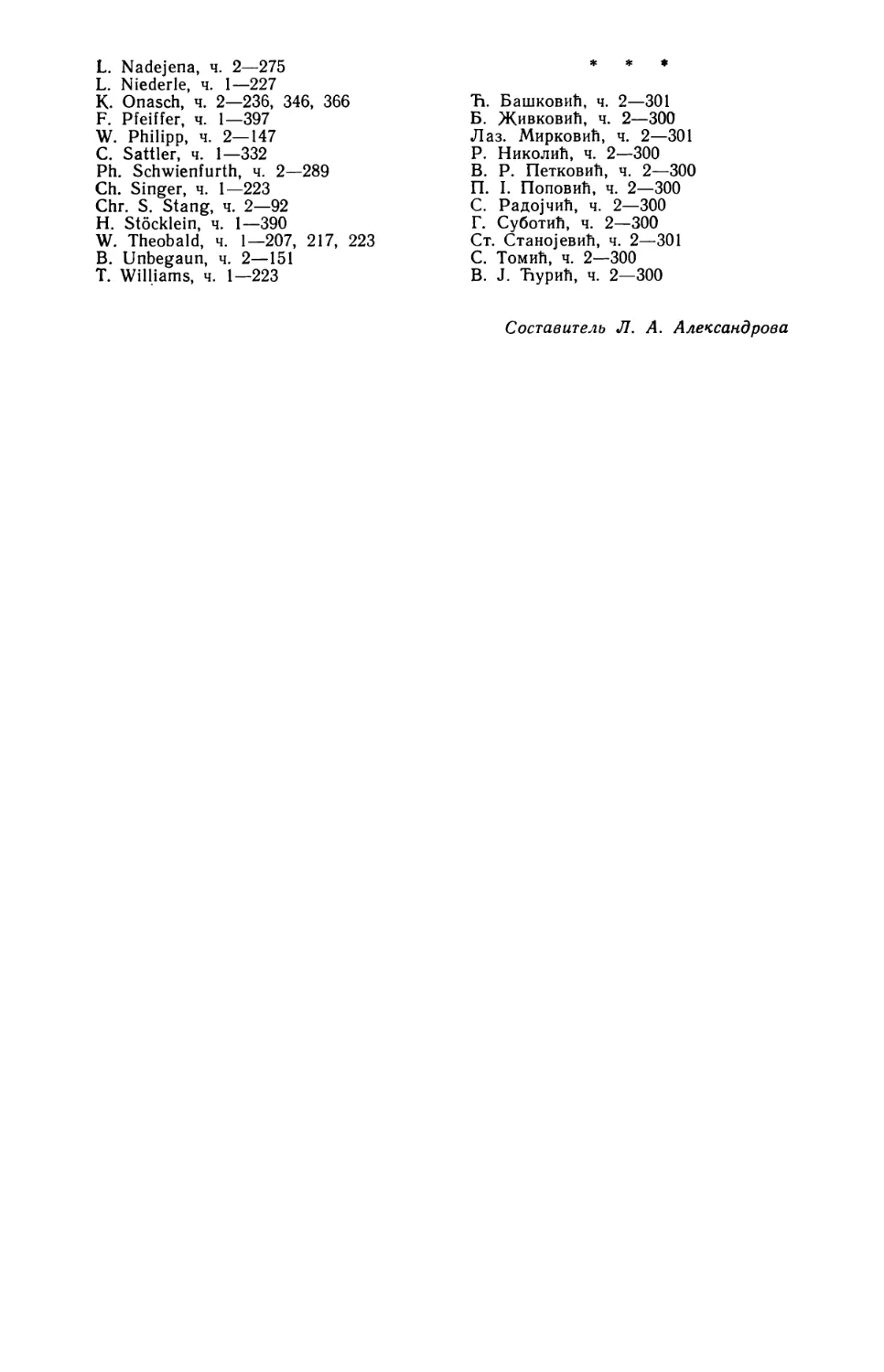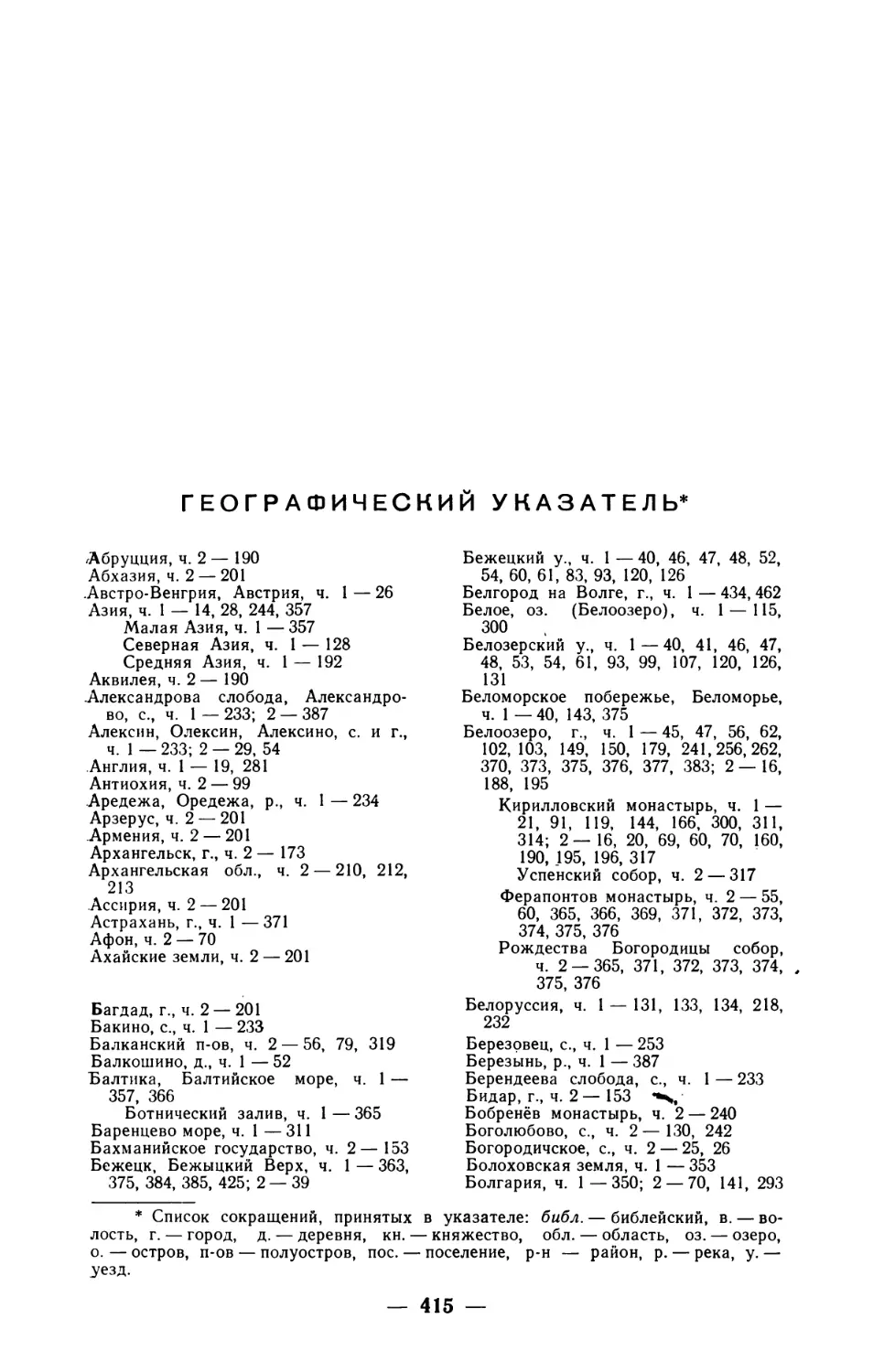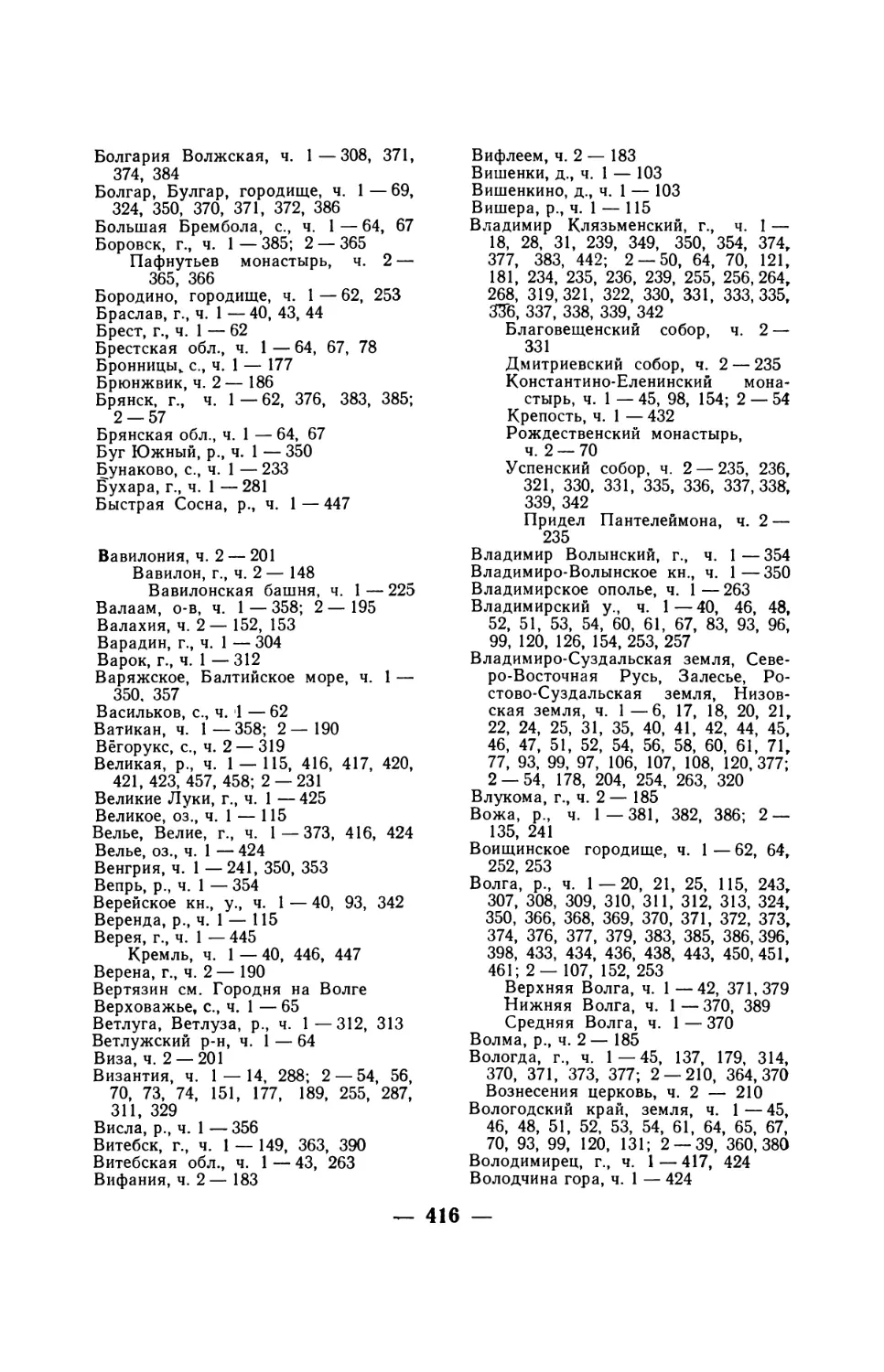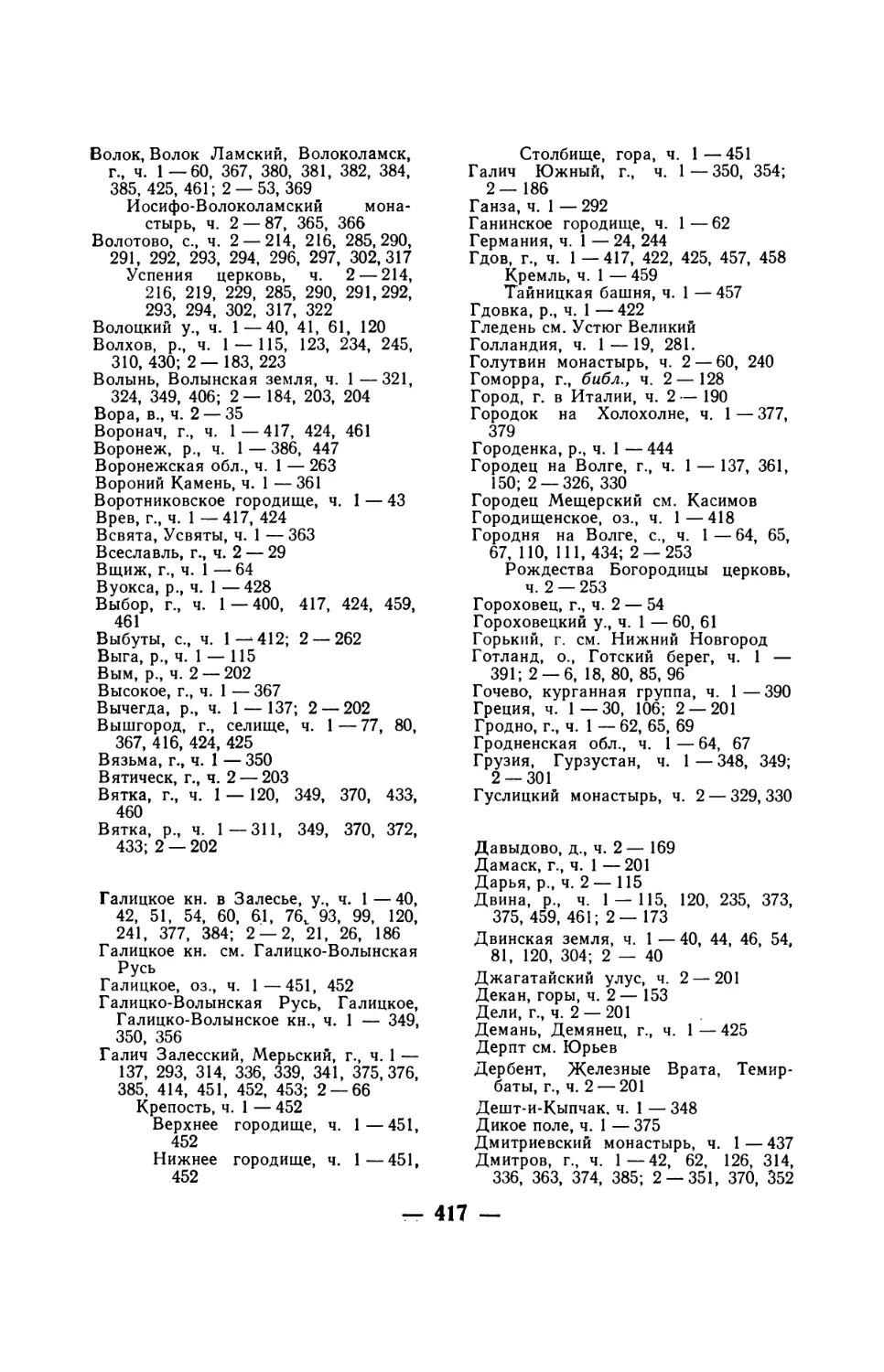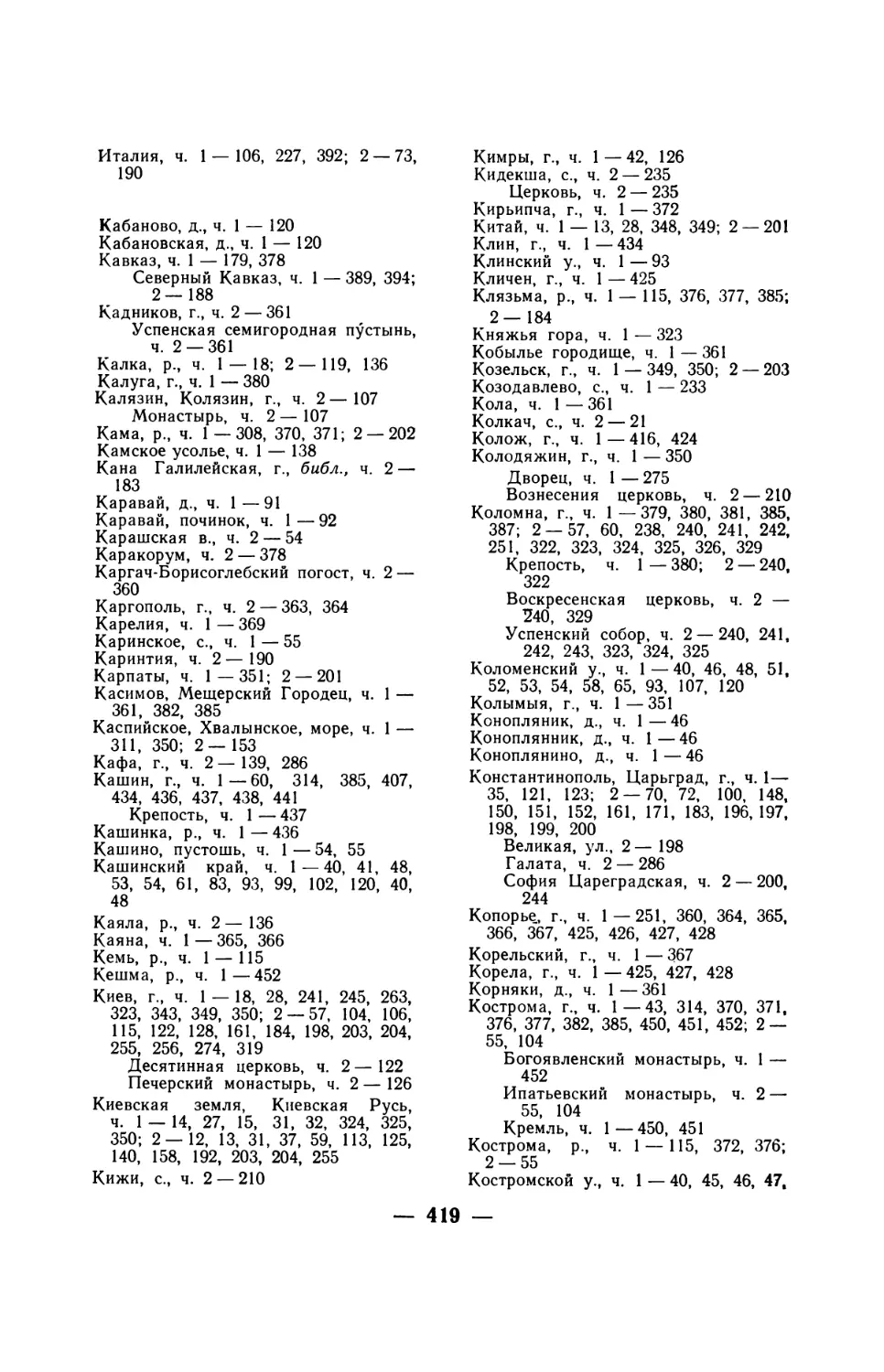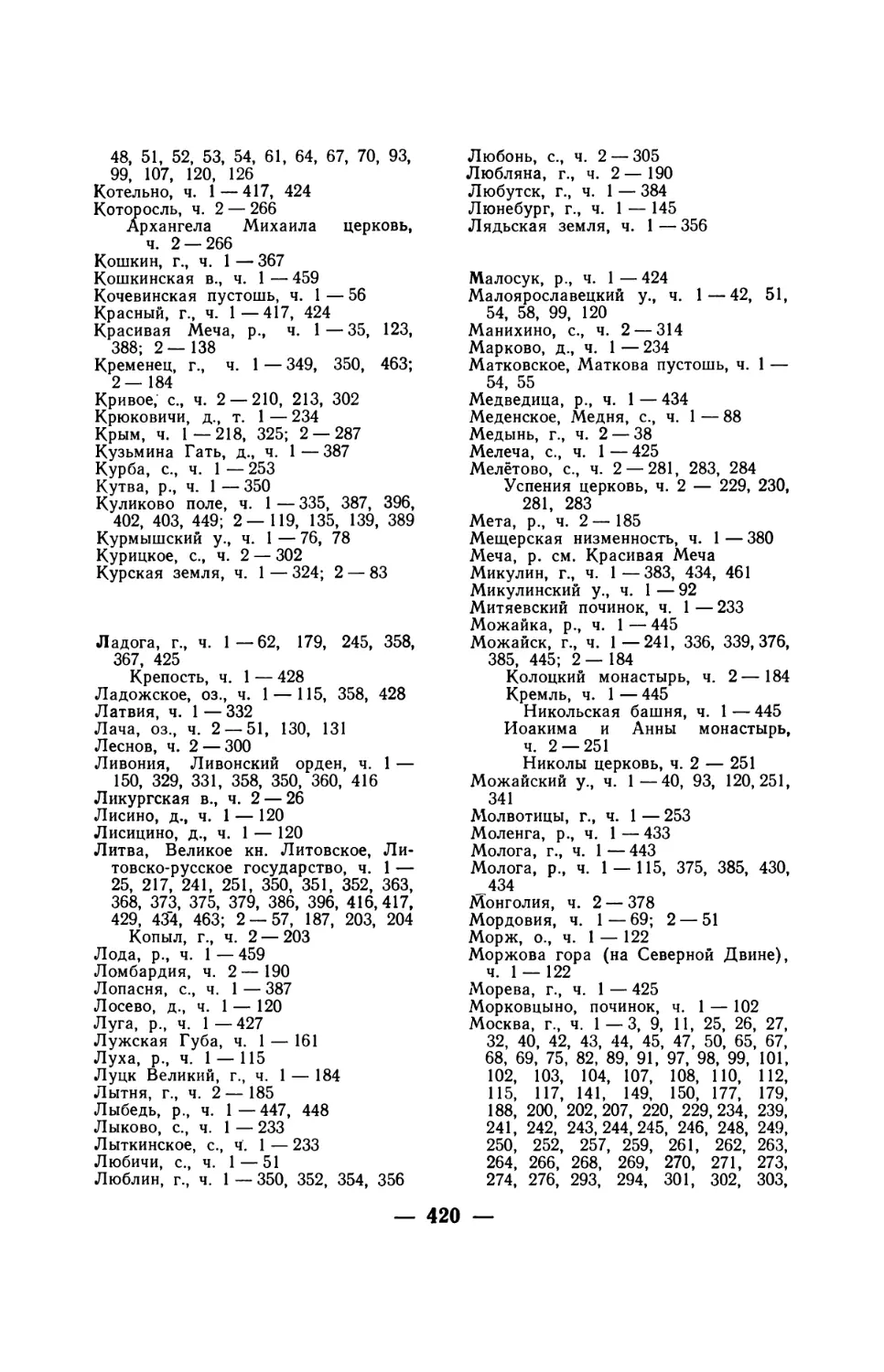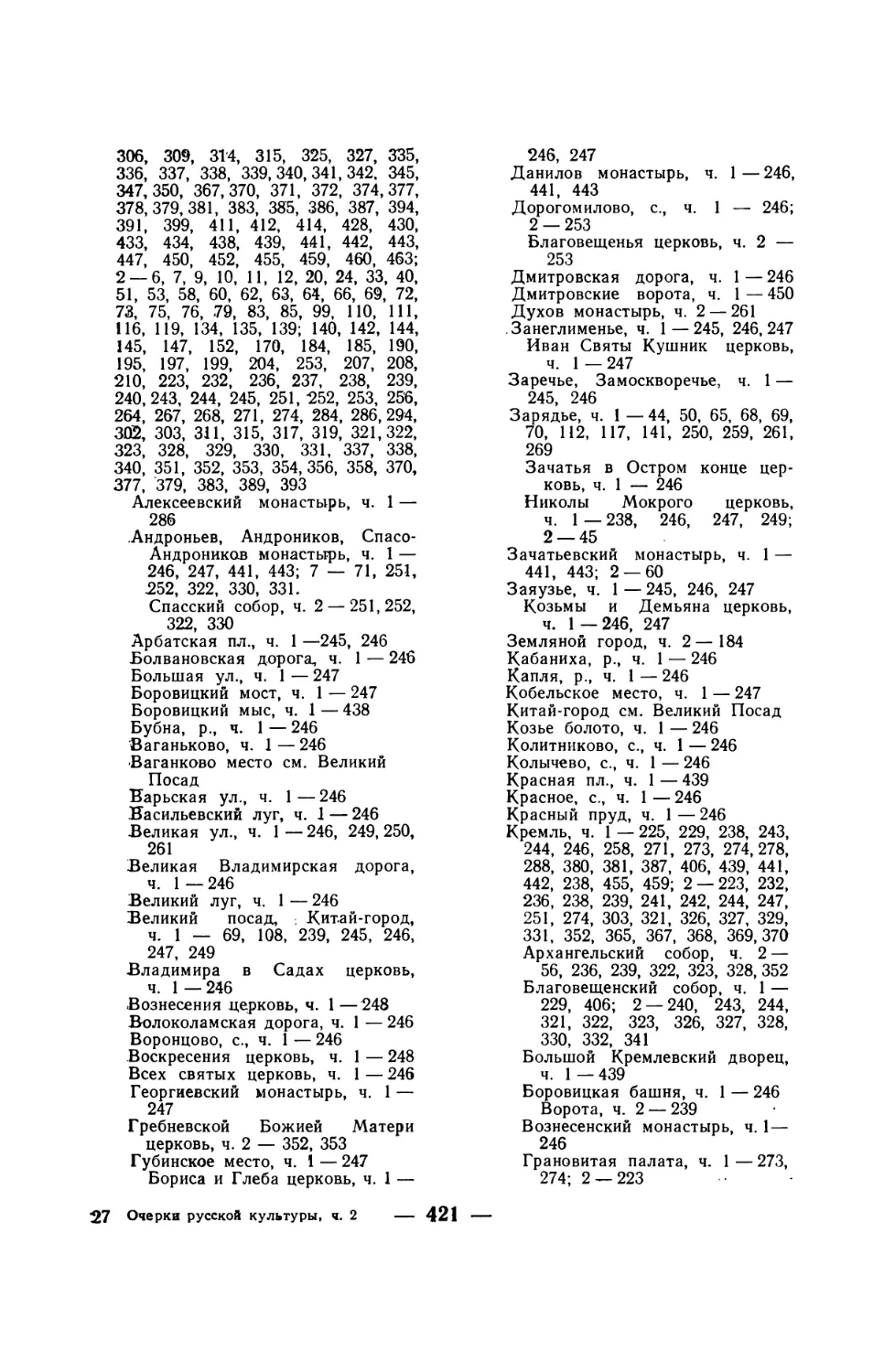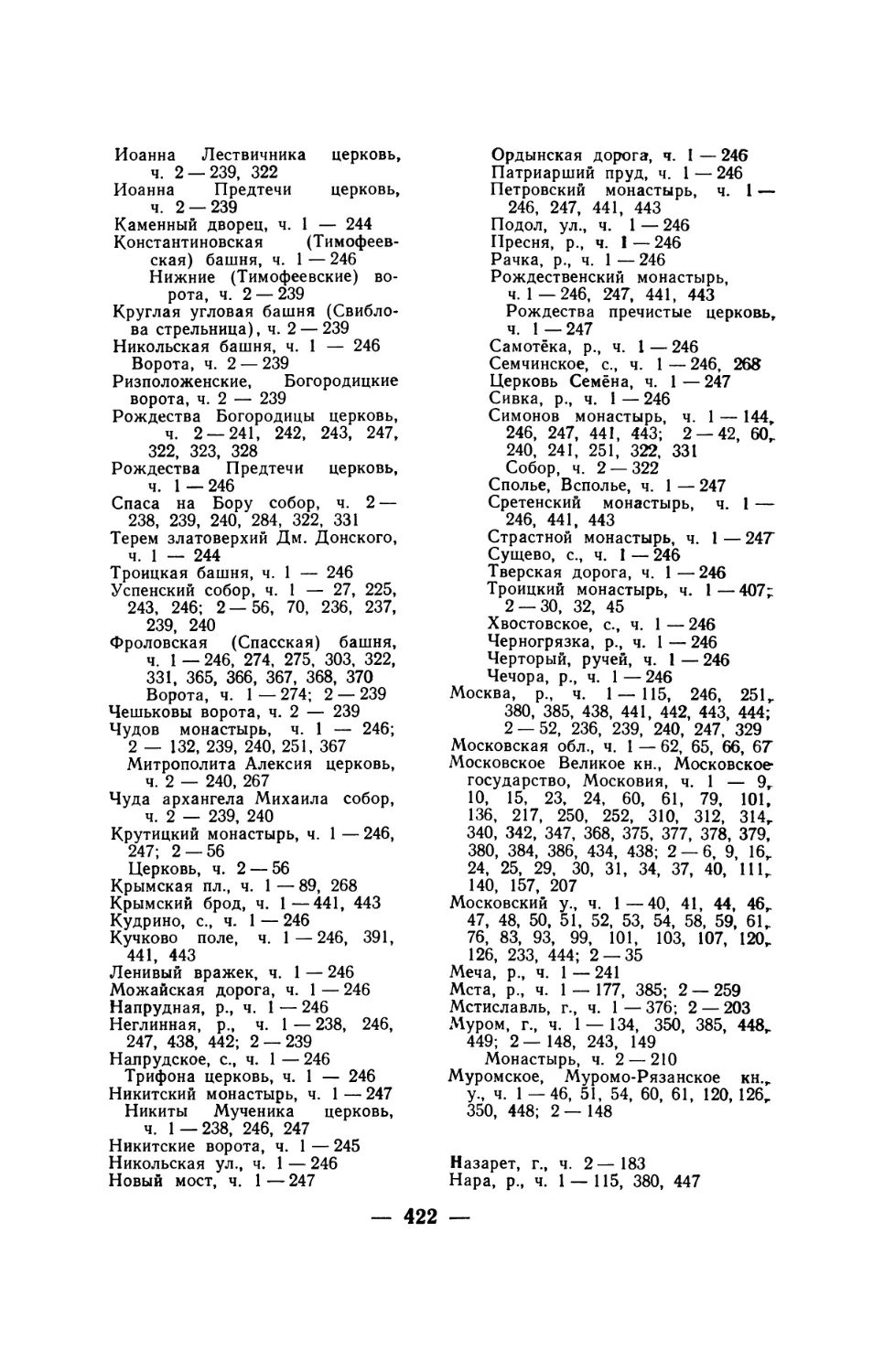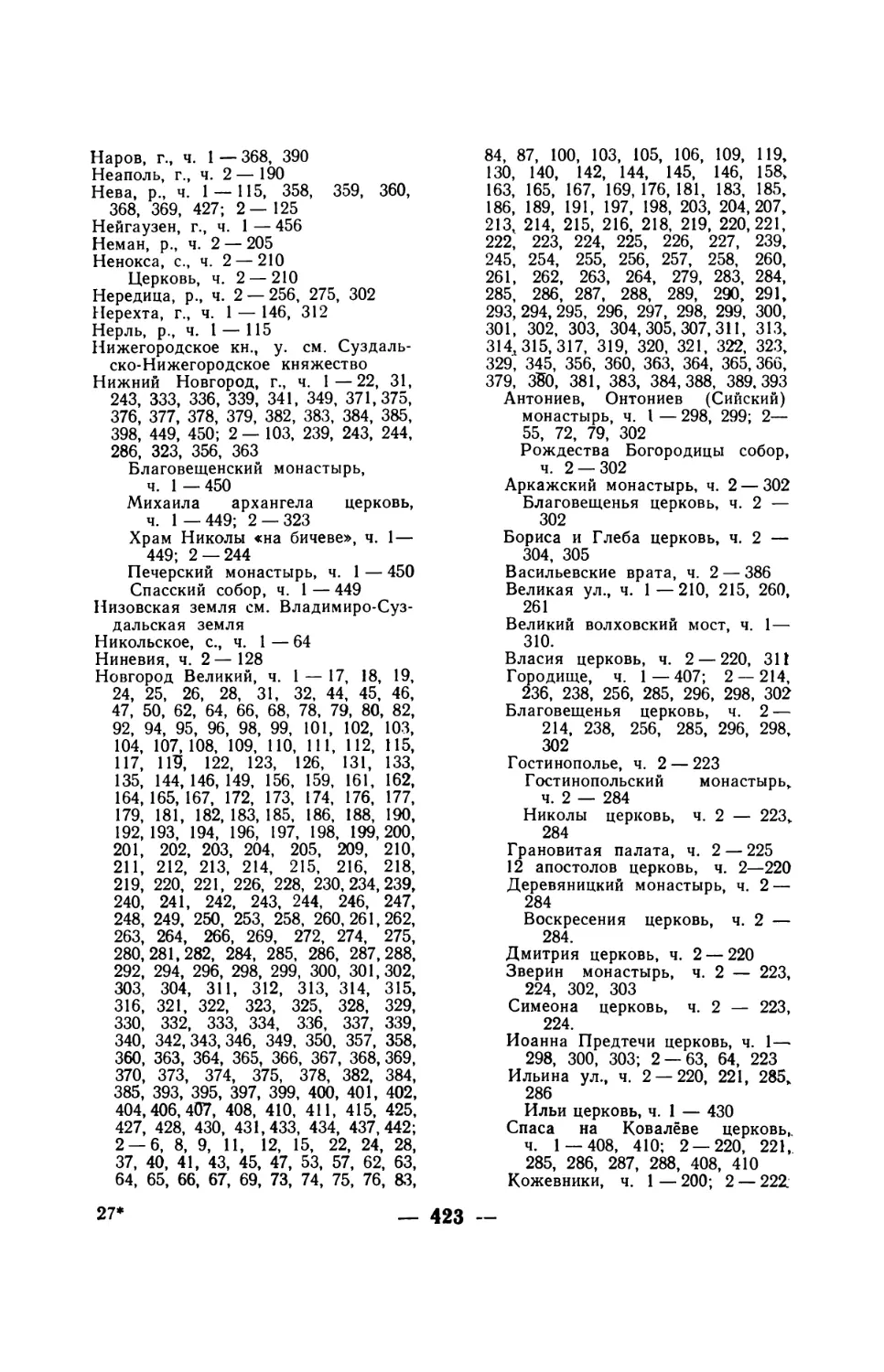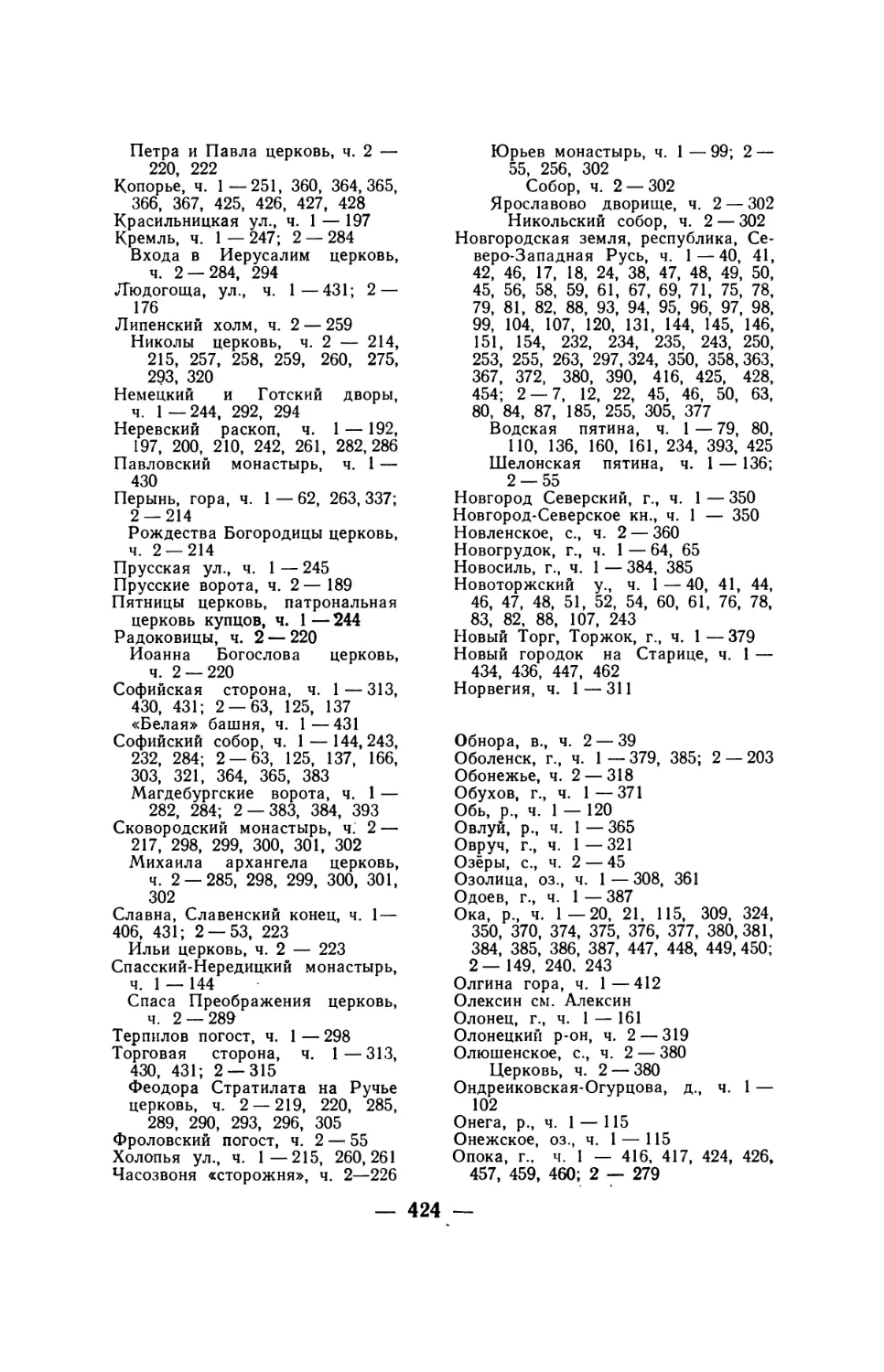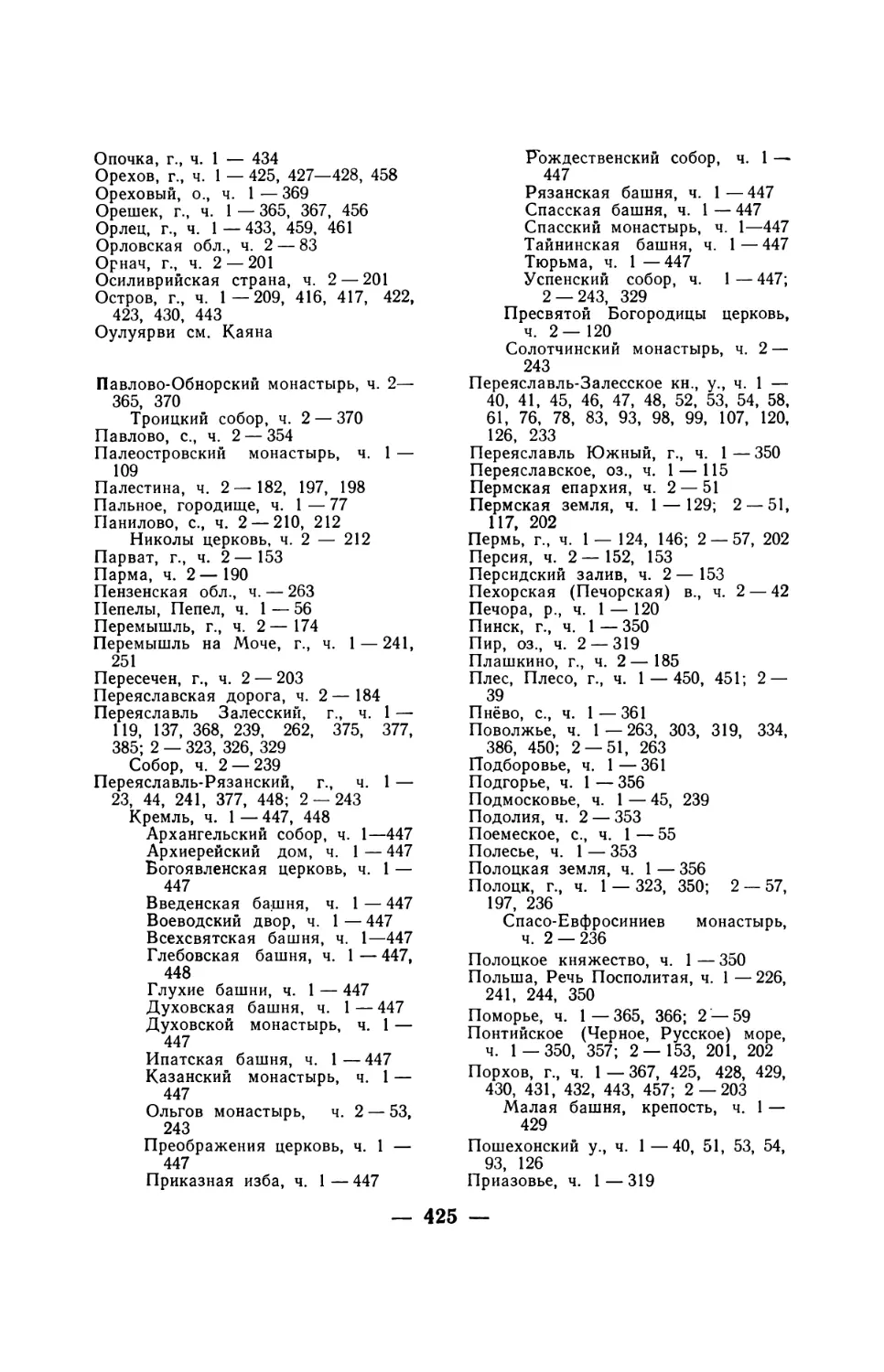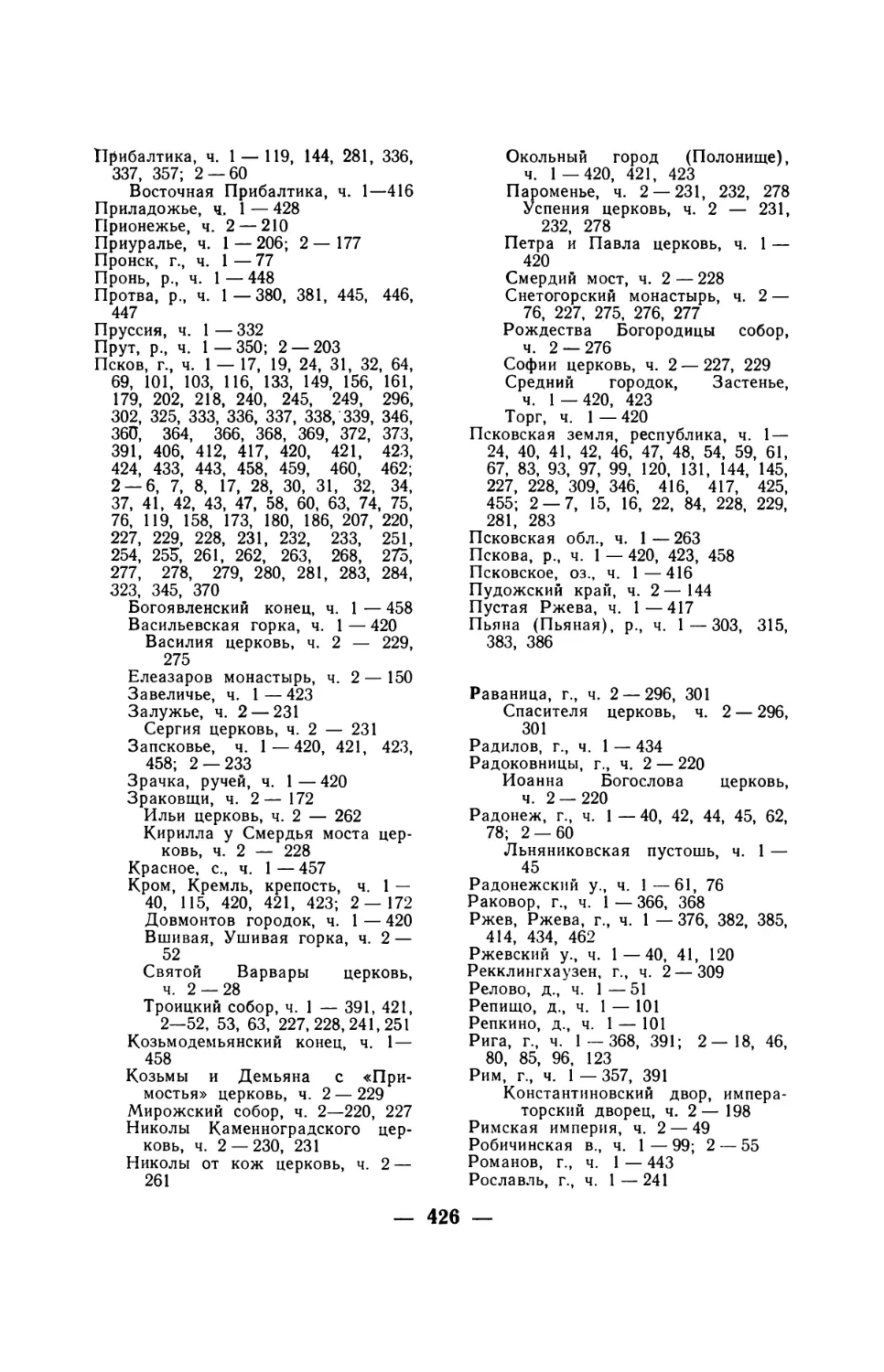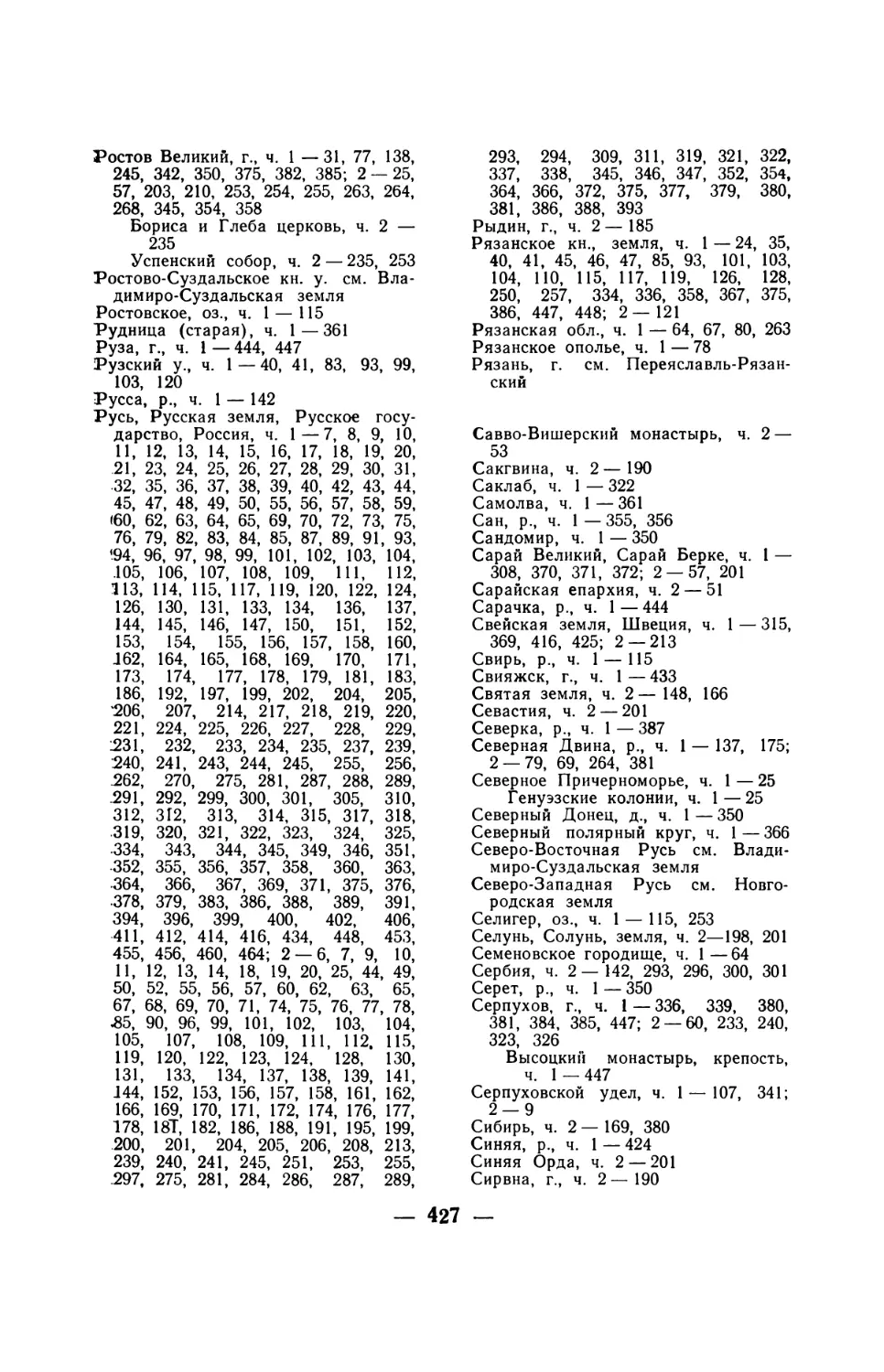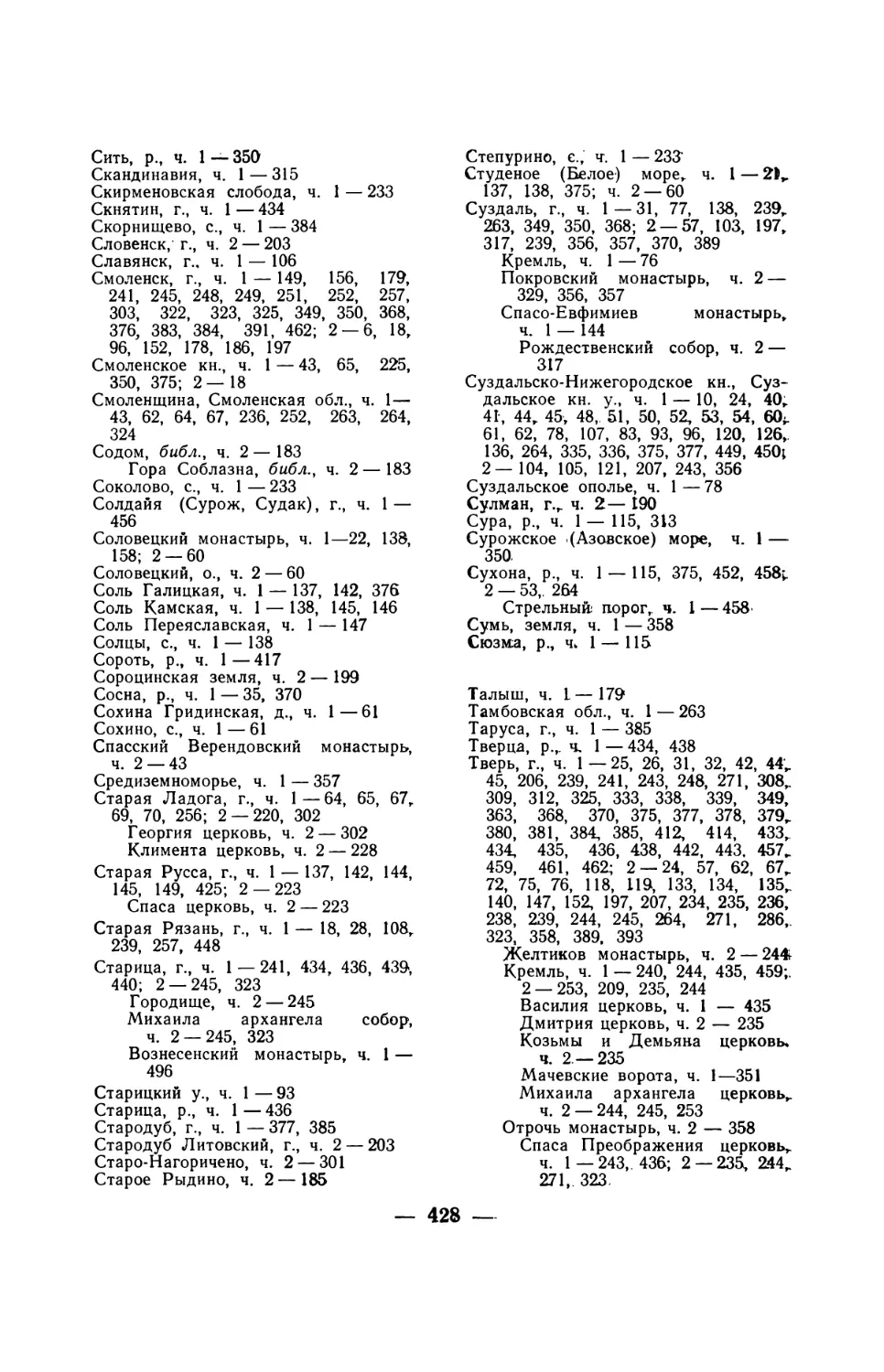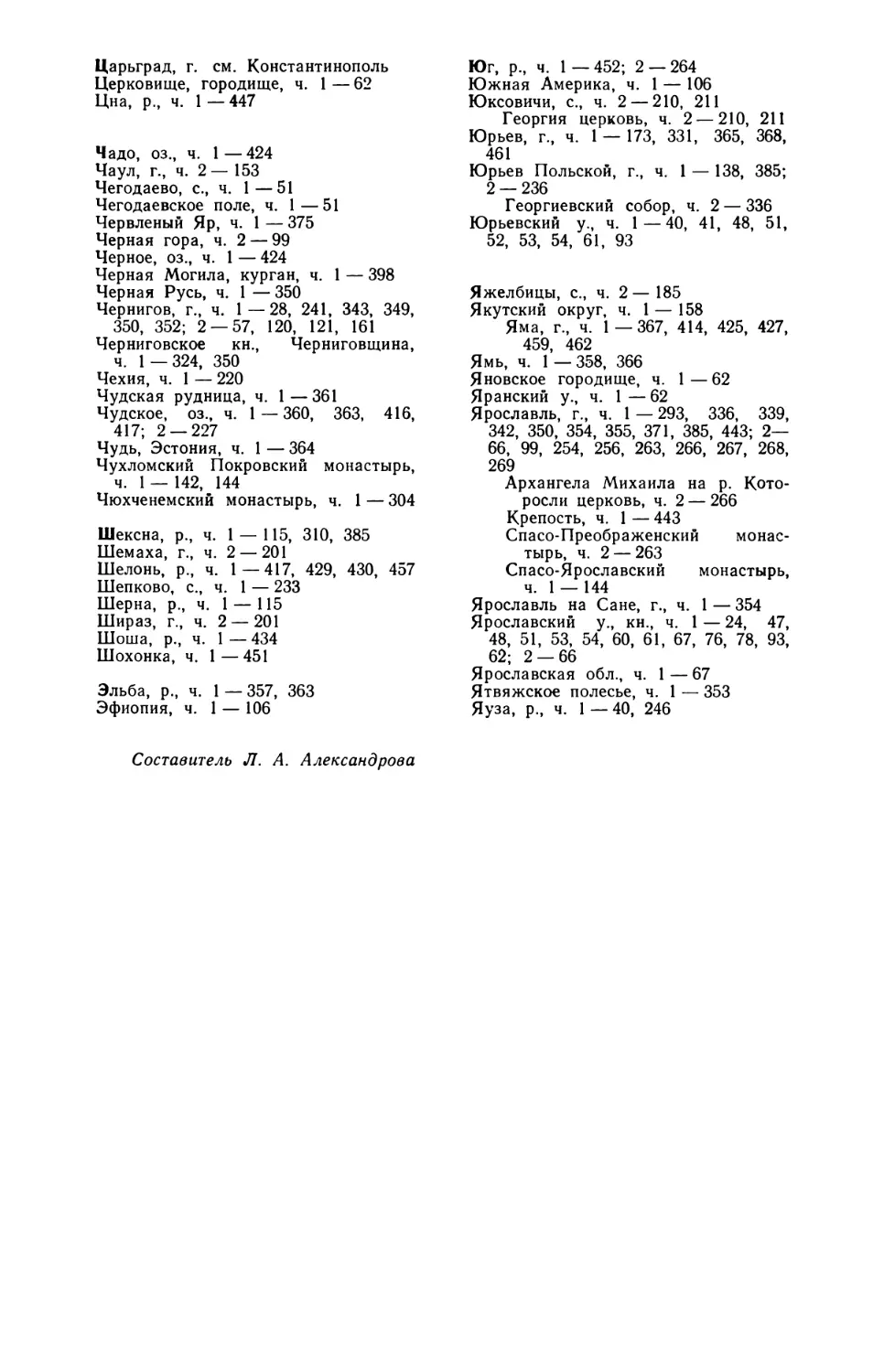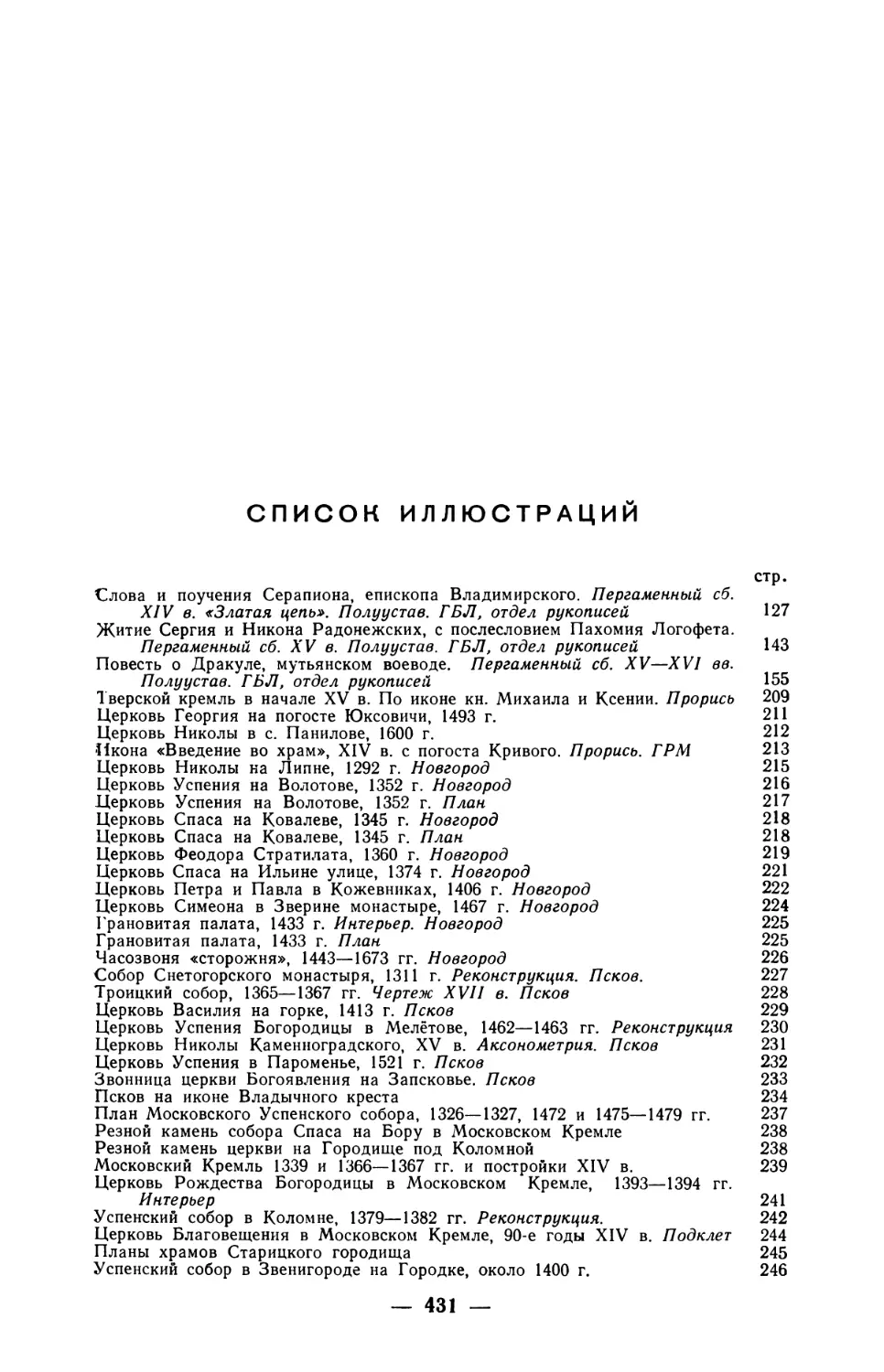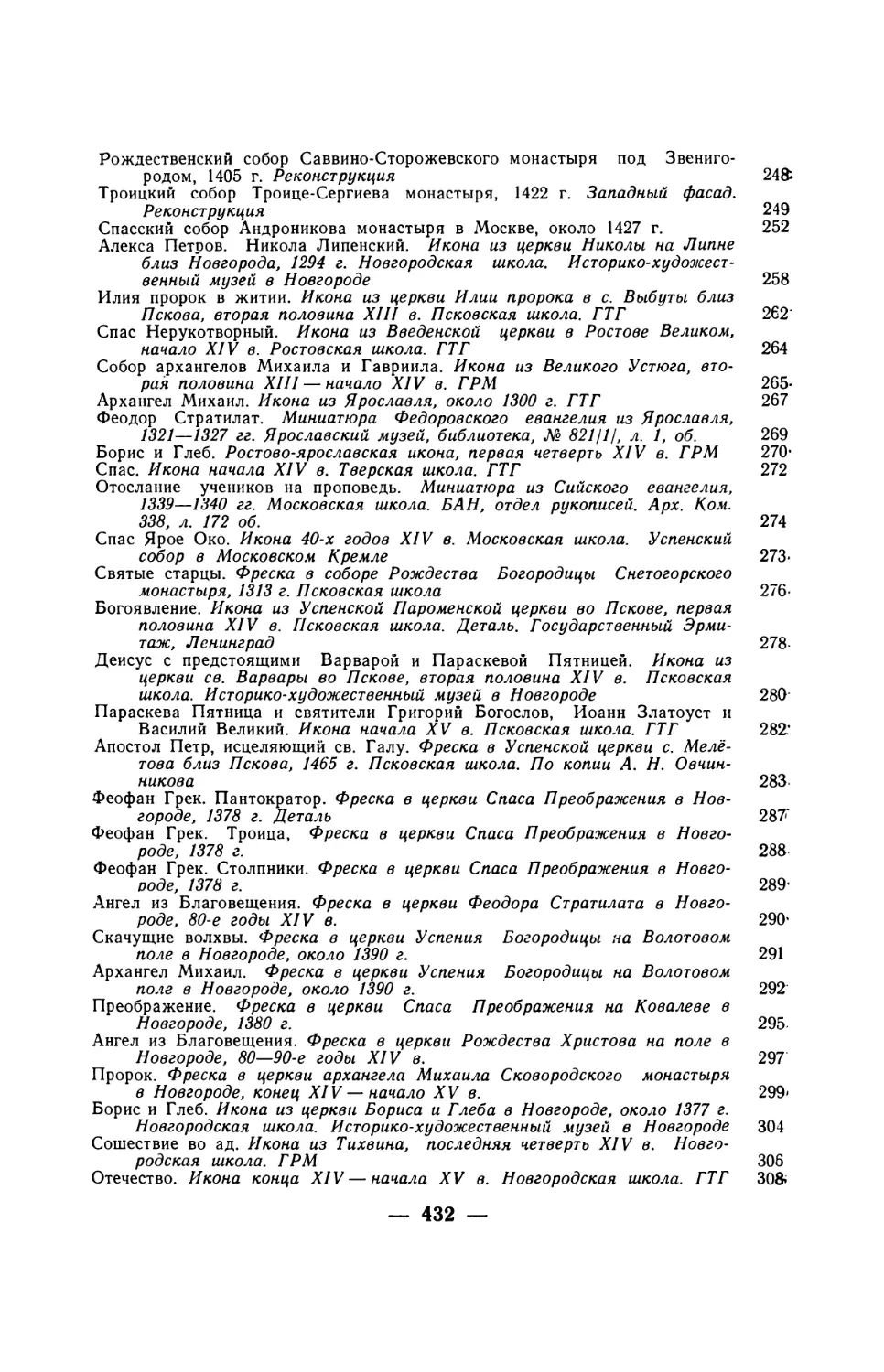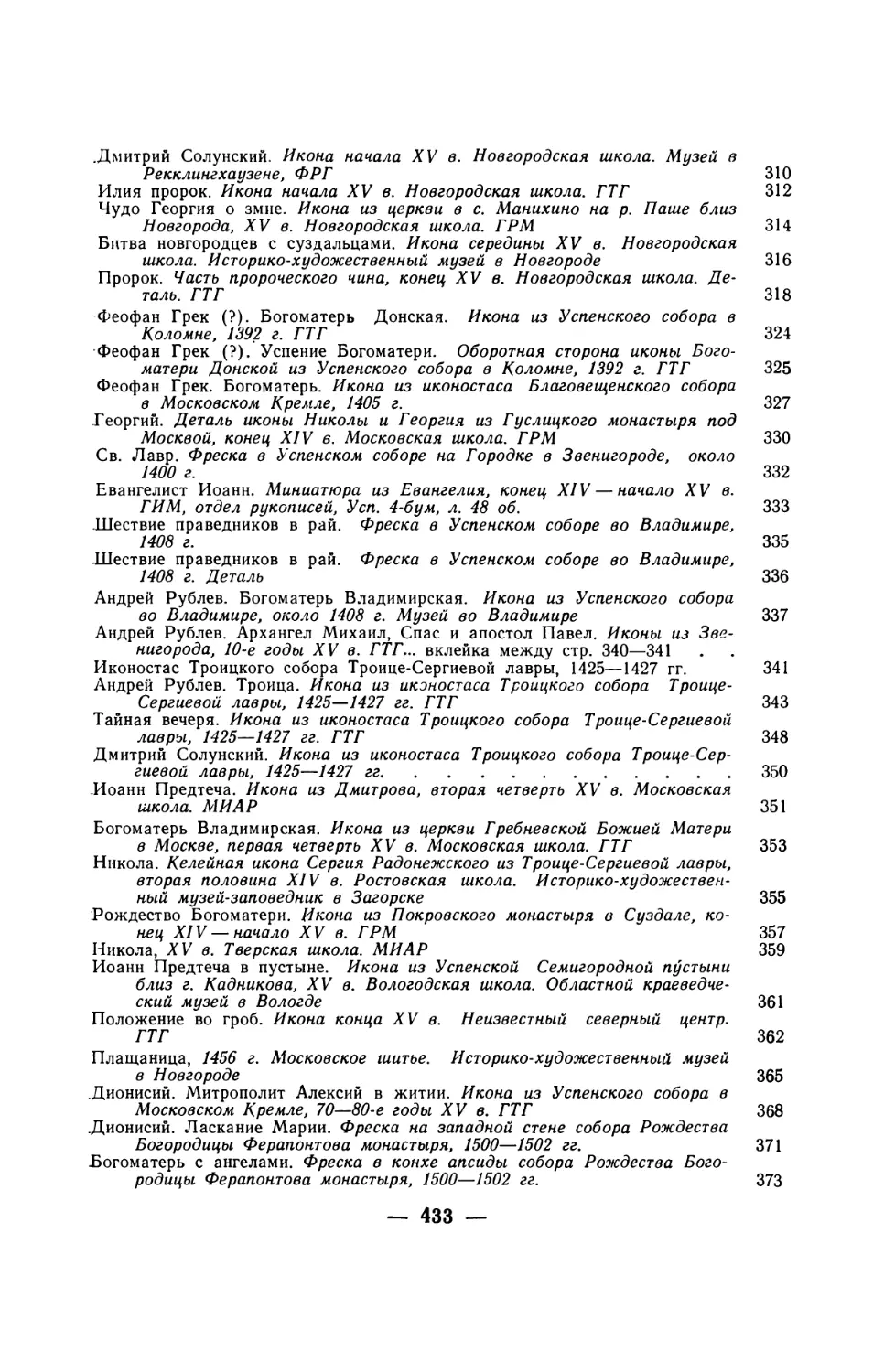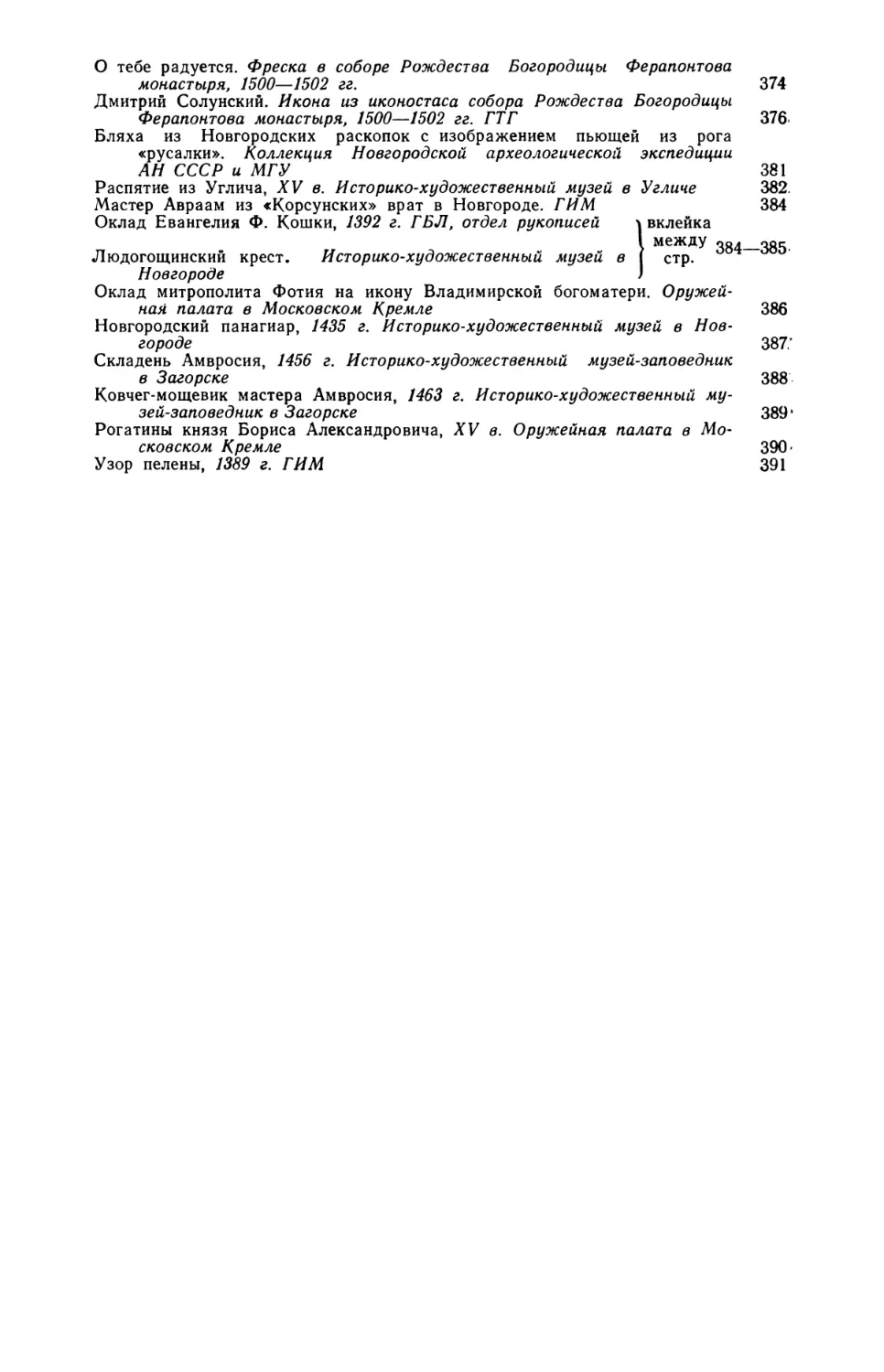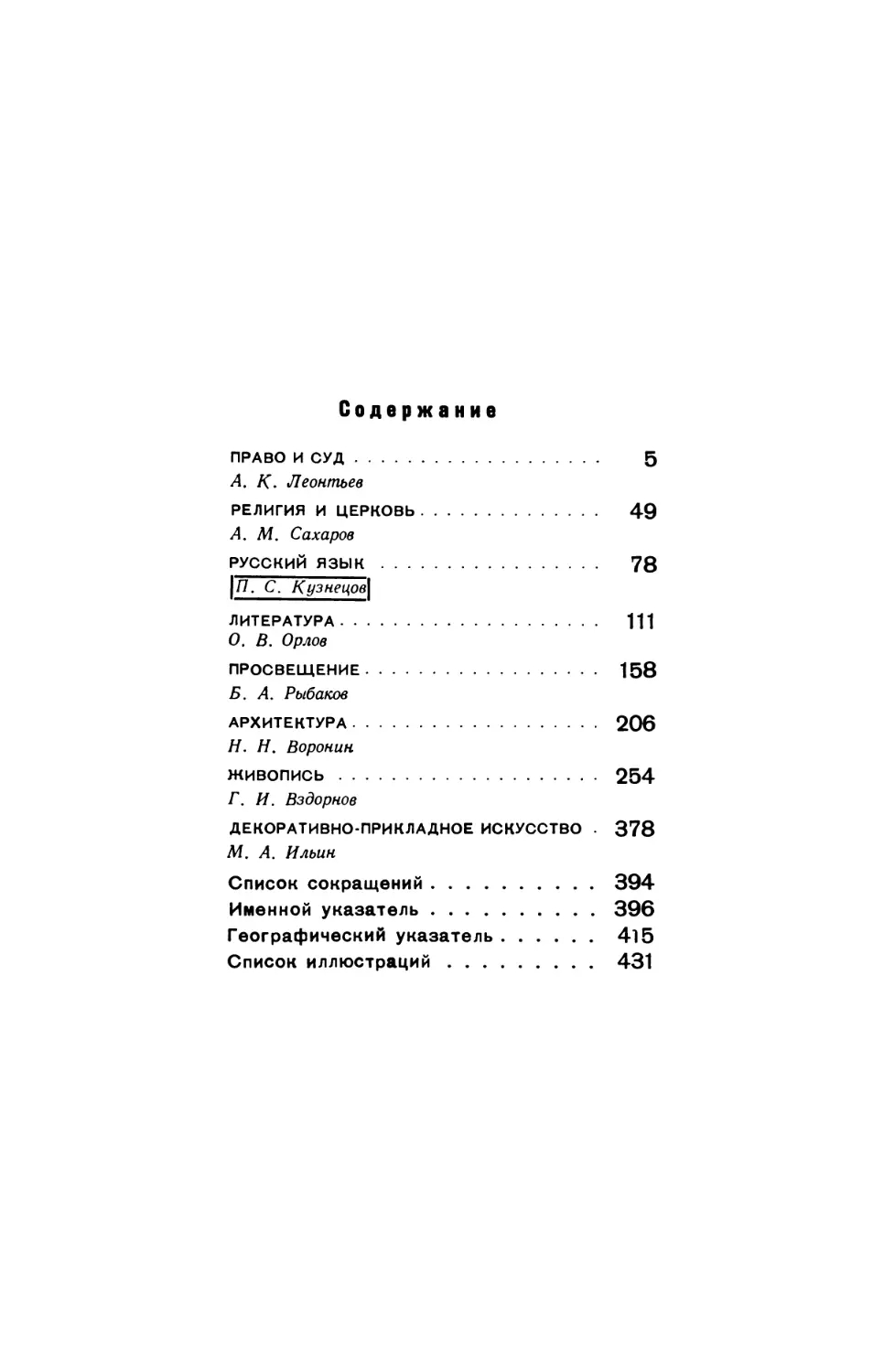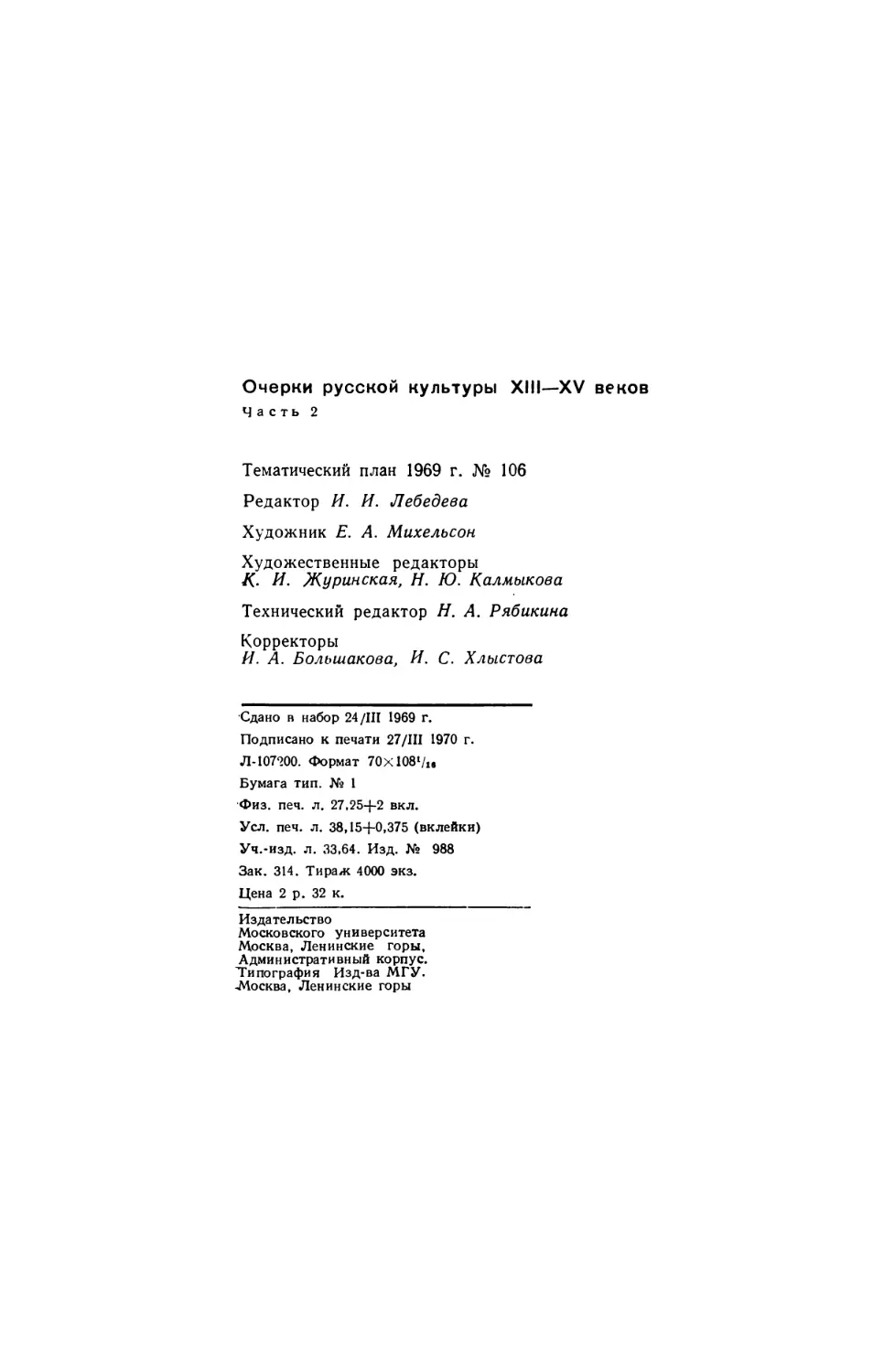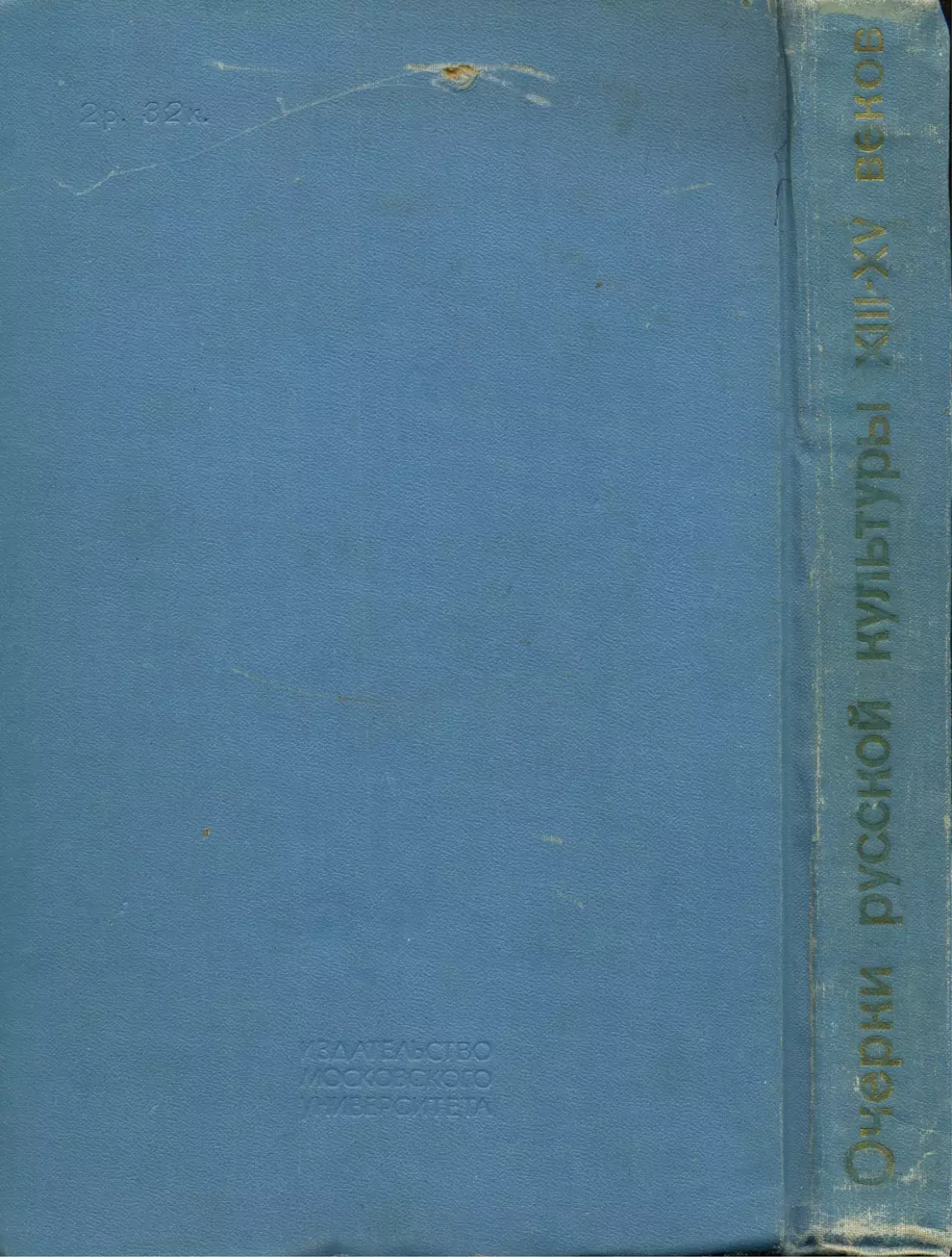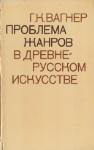Text
Очерки русской культуры
XII1-ХV веков
часть
2 духовная культура
Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Московского университета
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В. Арциховский, доктор исторических ев, доцент А. М. С а- ч лен-корреспондент НИН
член-корреспондент АН СССР профессор А. (главный редактор), доцент А. Д. Горский, ньук Б. А. Колчин, доцент А. К. Леонть ха ров, (заместитель главного редактора), АН СССР профессор В. Л. Я
1-6-4
106-69
Право и суд
А. К. ЛЕОНТЬЕВ
Сложная иерархическая
структура общества в период феодальной раздробленности, основанная на системе сеньориата и вассалитета в среде господствующего класса феодалов и антагонизма между феодальной верхушкой общества и угнетенными массами города и деревни, получила свое отражение в дальнейшем развитии норм феодального права и феодального судопроизводства. Развитие феодального права и судоустройства сводилось «в основном к одному — удержать власть помещика над крепостным крестьянином» 1 в специфических условиях господства системы феодальной раздробленности. В этом направлении развивалось феодальное право и государственный аппарат в много; численных землях и княжествах Руси в XIII—XV в<в., при всех их особенностях и отличиях в социально-экономическом развитии.
Перед государственной надстройкой в этот период стояла сложная задача—сочетать удовлетворение общих интересов господствующего класса с удовлетворением местных эгоистических интересов отдельных феодалов, разделенных перегородками многочисленных земель и княжеств. В основе развития норм феодаль-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 77.
— 5 —
ного права в княжествах Северо-Восточной Руси в XII—XV вв. лежали правовые нормы «Русской Правды».
Включение текста «Русской Правды» в юридические сборники XIII—XV вв. (в состав Кормчих, «Мерила Праведного» и др.) свидетельствовало о том, что многие статьи «Русской Правды» продолжали оставаться нормами действовавшего права в ряде земель и княжеств.
Вместе с тем в составе юридических сборников в Новгороде, Пскове, Рязани, Москве и других феодальных центрах текст «Русской Правды» подвергался некоторым изменениям, в соответствии с дальнейшим социально-экономическим развитием земель и княжеств в этот период.
В краткой редакции Кормчей книги (так называемой Мясниковской), носившей следы новгородского 'происхождения и составленной, видимо, в конце XIV в. по инициативе митрополита Киприана, в статью о свержении виры вводится неизвестное для «Русской Правды» понятие «поля» (судебного поединка). Переделкам подвергся и текст «Русской Правды», включенный в так называемую Чудовскую кормчую книгу, составленную в первой половине XIV в. и имевшую распространение в землях Московского княжества. Составитель Чудовской кормчей стремился в ряде случаев заменить терминологию «Русской Правды» юридической терминологией, утвердившейся во Владимиро-Суздальской земле. Так, вместо виры «Русской Правды» составитель Кормчей употребляет слово урок, вместо правда — исправа, вводит понятие «вины», совпадающее с понятием «вины» в Двинской уставной грамоте2.
Во время кодификационных работ в Новгороде, Пскове, Московском великом княжестве и других княжествах Северо-Восточной Руси в основу создававшихся там юридических памятников легли нормы и принципы «Русской Правды». В качестве одного из источников «Русская Правда» легла в основу Двинской уставной грамоты, Псковской судной грамоты, «Митрополичьего Правосудия», договоров Смоленска, Пскова и Новгорода с ливонскими городами и Готландом. Принципы «Русской Правды» находили свое отражение в княжеских договорных и духовных грамотах3.
Для периода феодальной раздробленности характерным является составление местных правовых сборников, в которых находили свое отражение сдвиги в социально-экономических отношениях в отдельных землях и княжествах Руси. Выдающимися по своему значению являются памятники феодального права XIV—XV вв.
2 См. М. Н. Тихомиров. Исследование о «Русской Правде». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 116—134.
3 По мнению С. В. Юшкова, в первой половине XV в. в Московском княжестве была создана так называемая Сокращенная редакция «Русской Правды» с целью исключения из текста Пространной редакции «Русской Правды» устаревших, потерявших практическое значение норм, не соответствовавших складывавшимся новым юридическим нормам и судебной практике того времени (С. В. Ю ш- к о в. «Русская Правда». М., Госюриздат, 1950, стр. 88—92). Однако, как считает М. Н. Тихомиров, Сокращенная редакция «Русской Правды» в своей основе имеет памятник более раннего происхождения, повлиявший, в свою очередь, и на создание Пространной редакции (М. Н. Тихомиров. Исследование о «Русской Правде», стр. 197; его же. Пособие для изучения «Русской Правды». Изд-во МГУ, 1953, стр. 25—27).
— 6 —
в Новгородской и Псковской землях — Псковская и Новгородская судные грамоты.
Псковская судная грамота является очень сложным по своему составу юридическим памятником, отразившим в себе важнейшие этапы социально-экономического развития Псковской земли в XIV—XV вв. Ее источниками были нормы «Русской Правды», постановления псковского веча и псковской господы, княжеские грамоты и нормы стихийно складывавшегося обычного права4.
Псковская судная грамота в своих нормах отразила почти все важнейшие черты социально-экономических отношений в Пскове в XIV—XV вв. В отличие от «Русской Правды», являвшейся преимущественно памятником уголовно-процессуального права, большинство статей Псковской судной грамоты посвящено нормам гражданско-правовых отношений. Много внимания в ней уделяется вопросам права собственности, положению феодально-зависимых крестьян, обязательному и наследственному праву. Дальнейшее развитие в судной грамоте получили вопросы судоустройства и судопроизводства. Псковская судная грамота является наиболее полным и разработанным памятником права периода феодальной раздробленности, и неслучайно она явилась одним из важнейших источников Судебника 1497 г.
Новгородская судная грамота до нас дошла не полностью, в единственном списке 70-х годов XV в. Подобно Псковской судной грамоте, Новгородская судная грамота представляет сложный памятник, состоящий из ряда частей, древнейшие из которых восходят к XIV в. Последняя редакция Новгородской судной грамоты относится к 1471 г., когда она была подвергнута переработке в Москве в целях «усиления влияния московских великокняжеских наместников в новгородском суде»5. Новгородская судная грамота дошла до нас в постановлениях, относящихся в основном к судоустройству и судопроизводству в Новгородской феодальной республике в XIV—XV вв.
Важнейшее место среди источников права периода феодальной раздробленности занимает Двинская уставная грамота, составленная в 1397—1398 гг. Ее значение состоит в том, что она, с одной стороны, является памятником действовавшего права в Московское княжестве в период феодальной раздробленности, а с другой стороны, творчески переработав нормы этого права в целях применения его на вновь присоединенной к Москве территории, фактически открывала собой историю законодательства складывавшегося Русского централизованного государства6. Неслучайно, что Двинская 4 Обзор литературы, посвященный изучению Псковской судной грамоты, ее составных частей и редакций, приведен в исследованиях: Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 1. М., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 411—417; И. Д. М а р т ы с е в и ч. Псковская судная грамота. Изд-во МГУ, 1951, стр. 7—37.
5 Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 1, стр. 373—396.
6 См. А. Г. Поляк. Кодификация русского права в период образования и укрепления Русского централизованного государства (конец XIV — середина XVI в.). М., 1956 (автореф.); Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 1, стр. 397—407.
— 7 —
уставная грамота в своих постановлениях, опирающихся на прин- ципы «Русской Правды», жалованные грамоты московских великих князей и нормы обычного права, в ряде случаев близка к правовым нормам Пскова и Новгорода.
В период феодальной раздробленности, при отсутствии прочных экономических и политических связей между отдельными землями и княжествами не могло возникнуть единой общерусской системы права. Право в этот период характеризовалось господством местных обычаев и законов, актов местной власти. Поэтому среди источников права особое место занимают договорные грамоты князей, закреплявшие в письменной форме организацию государственного управления и те нормы права, которые выходили за рамки местных правовых норм, приобретали общерусское значение. В междукняжеских договорных грамотах находили свое отражение вопросы, связанные с взаимоотношениями внутри феодального общества согласно его сословно-иерархической структуре, определялись прерогативы власти великих и удельных князей, затрагивались вопросы, связанные с феодальной земельной собственностью ,и феодальным иммунитетом, положением феодально зависимого населения. В то же время в междукняжеских договорных грамотах ставились вопросы, относящиеся к области обязательного и наследственного права. В изменении формуляра договорных, духовных и жалованных иммунитетных княжеских грамот на протяжении XIV—XV вв. нашел свое отражение -не только процесс образования Русского централизованного государства, усиление власти московских великих князей, но и процесс выработки общерусских правовых норм.
Немаловажное значение в выработке норм права в рассматриваемый период играл прецедент: признание нормативного значения за определенными случаями судебной практики, которые рассматривались как образец для решения подобных случаев в будущем. Прецедент, имевший место в далеком прошлом, приобретал значение неписанной нормы обычного права («старины»), нередко ложился в основу ряда постановлений договорных грамот. Так, например, в договорной грамоте новгородцев с тверским князем Ярославом Ярославичем (1266 г.) об условиях княжения последнего в Новгороде было внесено условие, по которому княжеским дворянам запрещалось брать подводы по селам, кроме как в случае «ратной вести». В обоснование этого условия новгородцы записали в договоре: «Тако, княже господине, пошло от дед и от отецъ, и от твоих и от наших, и от твоего отчя Ярослава»7. С укреплением великокняжеской власти роль прецедента в образовании норм права резко падает, уступая место законодательным актам.
В число источников, характеризующих развитие права в- XIII—XV вв., следует включить разнообразный актовый материал— духовные грамоты, жалованные иммунитетные грамоты, указные, купчие, меновые, разъезжие, закладные, кабальные, полные, правые и другие грамоты, в которых находили отражение нормы действующего права, судопроизводства и судоустройства, направления раз7 ГВН и П, № 2, стр. 10—11.
— 8 —
вития феодального права и суда в связи с дальнейшим развитием феодального землевладения, феодально-крепостнических производственных отношений и процесса образования Русского централизованного государства.
Множественность источников права в период феодальной раздробленности обусловливалась партикуляризмом правовой системы, учитывавшей особенности социально-экономического развития многочисленных земель и княжеств Северо-Восточной Руси, не имевших сколько-нибудь прочных экономических и политических связей, и, наконец, обусловливалась также особенностями феодального .права, выступающего как «право-привилегия» не только для отдельных классов, сословий, но даже как «право-привилегия» отдельных лиц.
Новый этап в развитии феодального права наступил с конца
XIV в., когда Москва, ставшая признанным центром объединения русских земель в единое -государство, предпринимает первые шаги в области кодификационных работ, завершившихся в конце XV в. созданием первого общерусского юридического кодекса — Судебника 1497 г., утвердившего классовые основы сложившегося феодального централизованного государства.
Усиление власти московских великих :князей в процессе объединения русских земель вокруг Москвы, постепенное подчинение удельных княжеств, сопровождавшиеся изменениями в системе феодально-иерархических отношений, находили свое отражение в изменении формуляра договорных грамот московских великих князей с Новгородом, с великими и удельными князьями из других княжеств8.
Первая попытка обобщения действовавших в Московском княжестве норм права и приспособления к ним правовых норм, действовавших на территориях, не входивших в состав Московского княжества, была сделана, как отмечалось выше, при составлении Двинской уставной грамоты (1397—1398 гг.).
В начале второй четверти XV в., используя временное ослабление великокняжеской власти (при малолетстве Василия II), московское правительство под давлением реакционной оппозиции удельных -князей и части московских бояр было вынуждено издать так называемый Судебник Софьи Витовтовны, сводивший на нет достигнутые к тому времени успехи в централизации судопроизводства на территории Московского великого княжества. Но уже в середине
XV в., после разгрома удельнокняжеской оппозиции, возглавлявшейся галицкими князьями, московское правительство переработало Судебник Софьи Витовтовны в направлении ограничения судебных прав удельных князей и дальнейшей централизации суда на территории Московского великого княжества. Была создана так называемая «Запись, что тянет душегубством к Москве», в которой было зафиксировано распространение московской судебной власти на территории бывших Галицкого и Серпуховского княжеств, были сделаны дальнейшие шаги для стеснения иммунитетных привилегий светских и духовных феодалов в области суда.
8 См. Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. L
— 9 —
«Запись» отразила стремление московского правительства сосредоточить рассмотрение важнейших уголовных преступлений в руках великокняжеской администрации, причем Москва постепенно распространяет свою юрисдикцию и на жителей Тверского великого княжества. Наконец, «Запись» впервые предусматривала организацию специальных судебных округов по делам о тягчайших уголовных преступлениях, причем эти округа не всегда совпадали, как это было ранее, с существовавшим административно-территориальным делением 9.
Проведение широких кодификационных работ с целью создания общерусского кодекса феодального права стало возможным только с образованием в конце XV в. Русского централизованного государства.
Важное место в системе права и суда в период феодальной раздробленности занимали церковное право и церковный суд. Как писал Ф. Энгельс, в период средневековья «догматы церкви стали одновременно и политическими аксиомами, а библейские тексты получили во всяком суде силу закона» 10 11. Сфера церковного суда в период феодализма была очень велика, церковные суды рассматривали обширный круг дел как церковных, так и гражданских и уголовных. Церковная юрисдикция распространялась не только на людей, принадлежавших к церковному клиру и зависимых от церкви. По многим делам все население подлежало церковному суду. В обоснование своих прав на суд церковь ссылалась на учение «святых апостолов» и постановления «вселенских соборов», подчеркивая, что «тыя вси суды церковный даны суть церкви; князю и боярам и судиам их в тыи суды нелзе вступатися», грозя при этом: «Аще кто изменить святыи сии устав отечьскыи, горе наследует и клятву» н.
Круг лиц и дела, подведомственные специально духовному суду, были определены на основе византийского церковного права еще в уставе киевского князя Владимира Святославича, а затек! более подробно в сборнике церковного права, получившем в литературе название Устава Ярослава Владимировича. Первоначальные редакции этих Уставов, сложившиеся в XII—начале XIII в., в дальнейшем, в XIII—XV вв., были подвергнуты новой обработке в смысле расширения компетенции церковного суда и регулирования взаимоотношений между церковью и государством. Вместе с тем наряду с составлением новых редакций Уставов в XIII—XV вв. продолжалась интенсивная работа по составлению различных сборников церковного права, в состав которых включались различные переводные и русские произведения, имевшие отношение к церковным судам.
9 См. П. М. Мрочек-Дроздовский. Главнейшие памятники русского
права эпохи местных законов. «Юридический вестник», 1884, № 5—6;
М. Н. Тихомиров. Древняя Москва (XII—XV вв.). Изд-во МГУ. 1947, стр. 74—131; Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 2 (1951); А. Г. Поляк. Кодификация русского права в период образования и укрепления Русского централизованного государства (конец XIV — середина XVI в.).
10 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 360.
11 НПЛ, стр. 478—479.
— 10 —
На Владимирском церковном соборе 1274 г., созванном официально в связи с поставлением Серапиона во владимирские 'епископы, на самом деле для обсуждения мер по поднятию авторитета церкви, упавшего в годы монголо-татарского нашествия, было принято решение о начале работы по восстановлению и созданию церковно-юридических сборников, долженствующих определить более полно сферу церковного суда, укрепить положение церкви на Руси, расчлененной на многочисленные земли и княжества. В соответствии с решениями Владимирского собора в ряде феодальных центров страны (в Рязани, Москве, Новгороде и др.) уже в конце XIII в. создаются так называемые Кормчие книги, содержавшие в •себе собрание церковных правил («канонов») и гражданских законов византийского и русского происхождения и служившие руководством при решении судебных дел. Помимо памятников церковного и гражданского права в состав Кормчих книг включались отрывки из евангелических текстов, писаний отцов церкви, отражавшие стремление церковников занять ключевые позиции в сфере общественно-политической жизни страны 12.
Включение в состав церковных юридических сборников памятников светского права свидетельствовало о стремлении господствующего класса подкрепить нормы действовавшего феодального права авторитетом религии. В связи с этим особый интерес представляет малоизученный до настоящего времени юридический сборник, известный под именем «Мерила Праведного». Временем возникновения дошедшей до нас редакции «Мерила», по мнению М. Н. Тихомирова, является конец XIII в., тогда как его отдельные части восходят к началу XII в. «Мерило Праведное» представляло руководство для судов и поэтому включало в себя тексты памятников юридического порядка (и в том числе «Русскую Правду» и церковный устав Владимира Святославича). Но сборнику юридических памятников предпосылается в «Мериле» сборник различных церковных поучений о праведном и неправедном суде (извлечения из Ветхого завета, деяний апостолов, церковных соборов, сочинений отцов церкви и т. д.) 13.
В первой половине XIV в. на Руси проводится большая работа по составлению компилятивных сборников византийского права («Номоканоны», «Книги законные»), которые использовались в 12 Так, в состав Кормчей книги, созданной в конце XIII в. в Новгороде помимо памятников византийского церковного и гражданского права были включены «Русская Правда» в Пространной редакции, послание митрополита Иоанна (конец XI в.), правила новгородского архиепископа Илии (XII в.), вопрошание Кирика к новгородскому архиепископу Нифонту (XII в.), правило митрополита Кирилла (1274 г.), устав погребения студийских монахов, текст «Русского летописца», начинающийся летописцем константинопольского патриарха Никифора, и другие памятники (см. М. Н. Тихомиров. Исследование о «Русской Правде»; его же. Воссоздание русской письменной традиции в первые десятилетия татарского ига. «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 3).
13 См. Н. В. Калачев. «Мерило Праведное». «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России», кн. 1. СПб., 1876, отд. Ill; М. Н. Тихомиров. Воссоздание русской письменной традиции в первые десятилетия татарского ига, стр. 9—10.
11
практике церковно-гражданского суда на Руси в XIV—XV вв.Г4. Среди таких компилятивных сборников необходимо особо указать, на так называемую Пространную редакцию «Закона Судного людем», созданную в конце XIII — первой половине XIV в., и которая, как отмечает М. Н. Тихомиров, «имела целью дать как бы свод различных законов в применении их к русской действительности» путем внесения в комментируемые тексты терминологических и другого рода исправлений и дополнений в духе «Русской Правды» и русских церковных уставов 14 15. Пределы церковного суда в Новгородской земле в XIV—XV вв. определялись так называемым Уставом князя Всеволода Мстиславовича 16. Для церковного Устава Всеволода характерно стремление к расширению юрисдикции новгородского архиепископа в новгородской судебной практике и политической жизни города.
Важным памятником церковного права периода образования Русского централизованного государства является так называемое- «Митрополичье Правосудие». О времени происхождения этого памятника и его значении в развитии феодального права в XIV—XV вв. в исторической литературе высказаны противоречивые- точки зрения: этот памятник еще требует самого пристального изучения. На наш взгляд, наиболее убедительно выглядит выдвинутое Л. В. Черепниным предположение, что «Митрополичье Правосудие» 'было составлено в Москве по указанию митрополита Киприана и преследовало цель усиления влияния митрополита и московского великого князя в Новгороде и в том числе в сфере* новгородского суда 17. Хотя «Митрополичье Правосудие», возможно, подобно Двинской уставной грамоте, не получило практического применения, но оно является памятником тех кодификационных работ, которые предпринимались в Москве в области светского и духовного суда >в конце XIV—XV в. в связи со стремлением создать, общерусский феодальный правовой кодекс.
Таковы кратко основные источники права периода феодальной: раздробленности.
Важнейшей частью феодального права является крепостное право. В развитии правовых норм XIII—XV вв. нашли свое отражение процесс дальнейшего развития феодальных производственных отношений, попытки феодалов через нормы феодального права 14 См. А. Павлов. «Книги законные», содержащие в себе в древнерусском переводе византийские законы земледельческие, брачные, уголовные и судебные. СПб., 1885.
15 «Закон Судный людем пространной и сводной редакции», под ред:. М. Н. Тихомирова. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 21.
16 В литературе имеются большие расхождения в определении времени составления этого памятника. По мнению С. В. Юшкова, известная нам позднейшая редакция Устава была создана в конце XIII в. (С. В. Юшков. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., Госюриздат, 1949,. стр. 221). А. А. Зимин относит его создание к концу XIV в. («Памятники русского права», вып. 2. М., Госюриздат, 1953, стр. 160—161). Подвергший обстоятельному источниковедческому анализу этот памятник В. Л. Янин убедительно датирует создание Устава концом XIII в. (В. Л. Янин. Новгородские посадники. Изд-во МГУ, 1962, стр. 82—93).
17 См. Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 2,. стр. 25—29.
— 12 —
укрепить и распространить систему крепостничества на возможно большую массу крестьянского населения.
В своей массе крестьянство XIII—XV вв., как и ранее, делилось на две большие группы: крестьяне владельческие (находящиеся в той или иной степени личной зависимости от феодала) и свободные от личной зависимости крестьяне-общинники («тяглые», позднее носившие общее название «черносошных» или «волостных» крестьян). В экономическом отношении резкой грани между этими двумя категориями крестьян не было 18.
Крестьяне-общинники уже в эпоху Киевского государства перестали быть собственниками своей земли, которая стала рассматриваться как собственность феодального государства, возглавляемого великим князем и другими удельными князьями 19. Как держатели этой земли «черносошные» крестьяне подвергались феодальной эксплуатации через систему государственного тягла и различных повинностей в пользу государства. Степень и формы феодальной зависимости черносошных крестьян были выражены менее ярко, чем крестьян владельческих, ограничиваясь обычно простым оброчным обязательством и сословной неравноправностью. Однако, обладая значительно большим объемом юридических прав, считаясь формально людьми лично свободными, тяглые крестьяне-общинники не были ограждены от феодального произвола, всегда рискуя неожиданно оказаться на положении крестьян владельческих. Землевладение многих феодалов, особенно церковное землевладение, сложилось именно в результате захвата общинных крестьянских земель. Князья, рассматривая себя как верховных собственников этих земель, щедрой рукой раздавали их вассалам вместе с живущими на этой земле крестьянами-общинниками, причем эти акты грабежа и насилия над крестьянами закреплялись юридически в специальных жалованных грамотах феодалам.
Экономическое и правовое положение тяглых крестьян-общинников было весьма неустойчивым. Имущественная дифференциация внутри общин и наступление феодалов на права и земли тяглой крестьянской общины подрывали и размывали ее, вовлекая тяглых крестьян-общинников в более тяжелые формы феодальной зависимости. Главным объектом наступления феодалов на тяглую крестьянскую общину являлось не столько ущемление личных прав крестьян-общинников, сколько захват их земель.
В актовом материале XIV—XV вв. фигурируют различные категории владельческих крестьян: «старожильцы», «пришлые люди» 18 О положении русских крестьян и развитии крепостнических отношений на Руси в XIV—XV вв. см.: Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века, кн. 1. М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 381—531; Л. В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. М., Соцэкгиз, 1960, стр. 210—294; А. Д. Горский. Очерки экономического положения крестьян Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. Изд-во МГУ, 1960; Г. Е. К о ч и н. Сельское хозяйство на Руси в период образования Русского централизованного государства (конец XIII —начало XVI в.). М.—Л., «Наука», 1965.
19 В XV—XVI вв. этих крестьян называли также «великокняжескими», поскольку они жили на земле, верховным собственником которой считался великий князь.
— 13 —
(«новоприходцы»), «изорники», «половники», «серебренники», «сироты», «страдники», «окупленные люди» и т. д., находившиеся на самых различных ступенях феодальной зависимости — от сословной неравноправности до прямого крепостного состояния. Различие в терминологии, обозначавшей отдельные категории феодальнозависимого крестьянства, не означало какого-либо резкого обособления этих категорий владельческих крестьян друг от друга. Это разнообразие в терминологии объясняется тем, что закрепощение крестьян на Руси растянулось на длительный срок и в процессе закрепощения владельческие крестьяне проходили ряд ступеней от сословной неравноправности в юридическом отношении и легкого оброчного обязательства в хозяйственном до крепостного состояния, приближавшегося по своим формам к рабству.
Уже в конце XIV —первой половине XV в. в среде крестьян выделилась значительная категория крестьян-«старожильцев», которых феодальное право того времени рассматривало как людей, прочно связанных с феодальной вотчиной полученным от феодала земельным наделом и давностью их труда в системе хозяйства феодала 20.
Выделение «старожильства» как особой категории крестьянской зависимости, запрещение феодалам перезывать крестьян- «старожильцев» в пределах одного княжения являлось важным этапом в общем процессе крестьянского закрепощения, дальнейшим шагом к ликвидации остатков личной свободы крестьян через стеснение законом права крестьянского перехода.
Стремясь к увеличению доходности своих хозяйств через распашку новых земельных площадей и к увеличению числа зависимых крестьян, феодалы призывали на свои земли крестьян «из иных княжений», предоставляя для распашки и заведения их хозяйства наделы из пустующих участков своей вотчины21. Формы эксплуатации таких «пришлых» крестьян могли быть различными, определяясь обычно «полюбовным соглашением» феодала с «пришлым» крестьянином: отработка (барщина) в господском хозяйстве, отдача феодалу части своего урожая (работа «исполовьи»), выполнение различных других повинностей.
«Пришлые» крестьяне, получившие в исторической литературе также название «новоприходцев», могли порвать отношения феодальной зависимости, только рассчитавшись с феодалом за взятую ссуду и отказавшись от предоставленного им надела и своего хозяйства. Чтобы крепче привязать к себе крестьян, феодалы стремились поставить ряд преград, которые затруднили бы им возможность воспользоваться своим правом «отказа». Очень показательной в этом отношении является особая категория владельческих крестьян в Псковской земле, получившая название «изорников», 20 См. Л. В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв., стр. 210—226.
21 «Пришлые» крестьяне необязательно происходили «из иных княжений». Они могли быть и из числа разорившихся тяглых крестьян-общинников, отпущенных на волю или выкупившихся холопов, могли быть и из числа владельческих крестьян, еще не потерявших права ухода от своих господ.
— 14 —
чье хозяйственное и правовое положение было строго регламентировано «Псковской судной грамотой».
Путь превращения свободного крестьянина-общинника в феодально-зависимого частновладельческого крестьянина в Псковской земле был во многом аналогичен пути превращения смерда-общинника «Русской Правды» в частновладельческого крестьянина через институт закупничества. Подобно закупу, изорник вступал .в «полюбовное» соглашение с феодалом — получал от последнего земельный надел для ведения своего личного хозяйства, ссуду («покру- ту»), которая могла предоставляться в виде денег («серебра»)г хлеба или хозяйственного инвентаря. Изорники имели свой двор, свое хозяйство, движимое имущество22. Форма эксплуатации изор- ников в основном сводилась к взиманию в пользу господина натурального оброка из части урожая.
Юридическое положение изорников характеризовалось сословной неравноправностью, присущей для феодально-зависимых крестьян, стоявших на грани полного закрепощения. Подобно другим частновладельческим крестьянам, ведущим свое хозяйство на земле феодала-землевладельца, изорник вступал по отношению к своему господину в отношения личной зависимости. Самовольный уход изорника от феодала согласно Псковской судной грамоте расценивался как побег, в результате чего феодал имел право вступить в полное владение имуществом бежавшего изорника. В случае смерти изорника его обязательства по отношению к своему господину переносились на оставшихся членов семьи.
Феодальная зависимость изорников еще не являлась зависимостью крепостной в полном смысле этого слова. Изорник обладал известной гражданской дееспособностью, по закону он имел право предъявлять судебный иск к феодалу на свое имущество («а изорник поимается за живот оу государя»), он же мог выступать на суде в качестве ответчика в случае предъявления к нему иска со стороны господина.
Закон обеспечивал права родственников умершего изорника на получение ими наследства (из движимого имущества изорника), но феодал при этом имел право взыскать с них покруту. Если наследники не предъявляли своих прав, то имущество изорника отходило к его господину .в счет погашения подмоги23. Изорник имел право уйти из имения феодала, порвав отношения феодальной зависимости, но при «отказе» («отречении» — по Псковской судной грамоте) он был обязан возвратить феодалу стоимость «покруты» и рассчитаться по своим оброчным обязательствам.
В полном согласии со стремлением феодалов удержать изорников от ухода из вотчин Псковская судная грамота ограничивает право «отказа» одним сроком в году, а именно — 14 ноября (Филиппов день). Этот срок был установлен также и для того, чтобы феодал имел возможность взыскать с изорника натуральный 22 «Псковская судная грамота». СПб., 1914, ст. ст. 44, 51, 63, 76, 84, 86. Термин покрута как «ссуда» был известен и в Новгороде в XIII—XIV вв., см. А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958—1961 гг.). М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 49—50.
23 «Псковская судная грамота», ст. ст. 84, 85, 86.
15 —
оброк после окончания осенне-летних работ по уборке урожая. Наконец, феодал имел право требовать с уходящего изорника возвращения покруты путем публичной огласки своих претензий к изорнику даже в том случае, если дача и размер покруты небыли засвидетельствованы письменными документами. В этом случае феодалу было достаточно после дачи присяги в законности своих претензий представить суду нескольких свидетелей, которые подтвердили бы факт «сидения» изорника па земле феодала 24. Последнее открывало перед феодалом возможность произвольного увеличения размера выданной покруты, а изорника тем самым лишало возможности ухода из его вотчины.
Развитие института изорничества25 в Псковской земле в XIV—XV вв. свидетельствовало о продолжавшемся процессе вовлечения в систему феодальной зависимости широких масс крестьянства и эволюции этой зависимости от состояния сословной неравноправности, связанной с известными оброчными обязательствами, до потери личной свободы и прикрепления к земле феодала. Нормы Псковской судной грамоты об изорниках показывают нам, как этот процесс крестьянского закрепощения санкционировался и фиксировался в феодальном праве.
Возможно, что и в феодальной практике княжеств Северо-Восточной Руси уже в ;конце XIV — начале XV в. стал устанавливаться для владельческих крестьян, еще не потерявших юридически личной свободы, порядок, по которому они, подобно псковским изорни- кам, могли «отказываться» от феодала только в определенное время года. Вероятно, первоначально, даже в пределах одного княжества, существовало несколько сроков для «отказа». В грамоте верейского князя Михаила Андреевича белозерскому наместнику (около 1450 г.) отмечается, что крестьяне «отказывались» из феодальных вотчин на Белоозере в различные сроки — в Юрьев день (26 ноября), на Рождество (25 декабря) и в Петров день (29 июня)26. Но, очевидно, что наиболее распространенным сроком «отказа» был Юрьев день осенний, который к середине XV в. был принят в большинстве княжеств в качестве узаконенного срока «отказа». Жалованная грамота московского великого князя Василия Васильевича (около 1450 г.) Кириллову монастырю на Белоозере об «отказе» крестьян только в Юрьев день говорит о том, что этот срок отказа, возможно, был принят и на территории Московского княжества 27
В феодальном обществе правовые нормы могли быть выражены не только в актах государственных органов, но и в стихийно складывавшейся феодальной практике, еще не получившей своего правового оформления. Княжеские грамоты середины XV в. о Юрьевом дне, как едином сроке крестьянских выходов, следует
24 «Псковская судная грамота», ст. ст. 44, 51.
25 Кроме изорников, занимавшихся хлебопашеством, Псковская судная грамота в качестве феодально-зависимых крестьян-издольщиков отмечает также огородников и рыболовов.
26 ААЭ, т. I, № 48, II.
27 ААЭ, т. 1,'№ 48, I, II, III. См. также грамоты углицкого князя Андрея Васильевича об «отказе» крестьян из вологодских вотчин Кириллово-Белозерского монастыря только в Юрьев день — ДАИ, т. I, № 198 (около 1462—1471), 16 —
рассматривать как первые попытки правового оформления развивавшихся на практике крепостнических отношений. В землях, где феодальное право получило большее развитие (как это было в Пскове), нормы обычного права, фиксировавшие взаимоотношения между феодалом и зависимым от него крестьянином, были закреплены в официальном юридическом кодексе (Псковская судная грамота) значительно ранее, чем в других землях и княжествах Северо-Восточной Руси. В этих княжествах практика, ограничивавшая выход крестьян из вотчин феодалов, еще долгое время не имела соответствующего отражения в нормах феодального права.
Юридическое оформление складывавшейся феодальной практики ограничения крестьянских переходов одним сроком в году •было ускорено тяжелым положением, в котором оказались феодальные хозяйства в результате междоусобной войны во второй половине XV в. между великокняжеской властью и коалицией удельных князей, возглавлявшейся галицкими князьями. Тяготы войны, ло- .жившиеся своим бременем на плечи феодально-зависимого крестьянства, усугубленные неурожаями, эпидемиями и татарскими набегами, наносили ущерб феодальному хозяйству, вызывали массовое бегство крестьян из ряда феодальных вотчин28. Ослабление в ходе войны государственной власти привело к злоупотреблениям со стороны многих феодалов в переманивании и свозе крестьян в нарушение всяких устанавливавшихся сроков и правил «отказа»29.
С окончанием феодальной войны и укреплением княжеской власти последняя в полном соответствии с требованиями феодалов (и прежде всего тех, у кого в годы войны наблюдалась наибольшая утечка крестьян) предпринимает шаги по юридическому стеснению старинного права крестьянского перехода. 57-я статья Судебника 1497 г., утвердив Юрьев день осенний как единый срок крестьянских переходов в общегосударственном масштабе, завершила длительный процесс борьбы феодалов за стеснение крестьянской свободы. Введение Юрьева дня свидетельствовало о том, что на практике различия между отдельными категориями частновладельческих крестьян все более стирались, что на пути к полному закрепощению этих крестьян оставался один шаг — от стеснения права крестьянского перехода к его полной отмене.
Рост феодального землевладения и нужда феодалов в увеличении численности зависимых крестьян не могли не сказаться на .некоторых изменениях в правовом положении холопов. Уже в статьях «Русской Правды» прослеживается тенденция со стороны феодалов расширить экономическую самостоятельность холопов, приблизить их в юридическом отношении к положению феодальнозависимых крестьян. В XIV—XV вв. эта тенденция получает все большее развитие. С одной стороны, усиливается отпуск холопов на волю, с последующим закабалением их (через ссуду) уже как владельческих крестьян («задушные люди», «пущенники», «окупленные люди»), а с другой стороны, феодалы начинают все в боль28 АФЗиХ, ч. I, № 145; АСЭИ, т. I, № 265, 359.
29 ААЭ, т. I, № 48.
-? Очерки русской культуры, ч. 2
17 —
ших размерах практиковать наделение холопов землей (так называемые «страдники»), вливая их фактически в общую массу частновладельческих крестьян30.
Однако общая тенденция к сокращению применения в феодальном хозяйстве холопского труда не внесла существенного изменения в юридическое положение полных («обельных», «одерноватых») холопов, которое по-прежнему продолжало оставаться в рамках норм «Русской Правды», хотя по юридическим -памятникам отдельных земель и княжеств наблюдается некоторое смягчение этих норм. Так, делаются попытки несколько сократить источники холопства. Видимо, во второй половине XV в. (что затем было закреплено 67-й статьей Судебника 1497 г.) отменяются действовавшие- еще с времен «Русской Правды» правила, по которому человек, поступавший в городе на службу в качестве тиуна без специального договора, становился полным холопом. Уменьшается количество актов самопродажи в холопстве. В феодальной практике все более утверждается возможность для холопов, выкупиться (с разрешения хозяина) на свободу. В Смоленском княжестве уже в XIII в. признавалось право холопа иметь свое имущество,, передавать его по наследству, вступать в самостоятельные кредитные операции наравне с вольными «добрыми людьми»31. В Новгородской судной трамоте (ст. 22) предусматривалось право» холопа возбуждать иски в суде об имуществе, хотя этот иск мог быть предъявлен только к холопу же, но не к свободному человеку. В междукняжеских договорах предусматривалась возможность, когда «холоп и роба почнет ся тягати с осподарем, а пошлеться на правду», хотя здесь имеются в виду лишь дела о насильственном похолоплении свободного человека 32.
Феодальное право в XIII—XV вв. подтверждало право господина над жизнью и смертью своих холопов. В Двинской уставной грамоте по этому поводу было записано: «А кто -осподарь огрешит- ся, ударит своего холопа или робу, а случится смерть, в том намест- ници не судят, ни вины не емлють»33. В «Митрополичьем Правосудии», памятнике «современном Двинской грамоте, на господина, убившего -своего холопа, возлагается исключительно моральная ответственность: «Аще ли убьеть осподарь челядина полного, несть ему душегубьства, но вина есть ему от бога»34.
Таким образом, несмотря на некоторую тенденцию по смягчению холопьего права, правовое положение холопов в XIII—XV вв. не подверглось сколько-нибудь существенным изменениям по сравнению «с нормами «Русской Правды».
Со второй половины XV в. появляется особая категория феодально-зависимого населения — «кабальные люди». Сущность служилой кабалы заключалась в том, что человек, взявший у феодала 30 См. Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси.., кн. 1, стр. 221—222, 525; кн. 2 (1956), стр. 34; Л; В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв., стр. 255—260.
31 «Договор 1229 г. Смоленска с Ригою и Готским берегом», ст. 7.
32 ДДГ, № 9, 15.'
33 «Памятники русского права», вып. 3, стр. 163.
34 Там же, стр. 428.
18
в долг какую-либо сумму денег на определенный срок, обязывался до того времени, пока не вернет взятую сумму, 'работать в счет уплаты процентов «по вся дни во дворе» своего хозяина35. Как отметил еще Б. Д. Греков, «если обращать внимание на сущность явления, а не на его словесное обозначение, то мы уже в XIII веке найдем отношения, очень похожие на кабальные (в смысле служилой кабалы)»36. Но распространение этого специфического вида феодальной зависимости падает именно на вторую .половину XV в., а расцвет кабального холопства — на XVI в. iB XV в. институт кабальной службы еще не получил своего отражения в действовавшем феодальном праве. Правовое оформление кабальной службы падает на XVI в., когда она получает значительное развитие, а кабальные люди заняли видное место в общей массе феодально-зависимого населения.
Наряду с крепостным правом важнейшим элементом феодального права является право собственности на землю.
Характерной чертой феодального права являлось то, что в нем не проводилось резкой грани между отдельными видами собственности, что даже сами термины «собственность», «право собственности» появляются лишь в конце существования феодального общества в связи с зарождением в его недрах новой формы собственности — собственности буржуазной, развитие которой означало отрицание собственности феодальной 37. Но это отнюдь не означало, что феодальное право не содержало в себе норм, регулировавших отношения собственности.
Основой феодального производства являлась феодальная земельная собственность. Правом собственности на землю, как правом-привилегией, пользовался только господствующий класс феодалов. Отношение к земельной собственности в эпоху феодализма со всей неизбежностью выступало как отношения господства и подчинения. Для феодалов монопольное владение землей являлось- основой политической власти над живущим на этой земле крестьянином. Как подчеркивал К. Маркс, «в феодальную эпоху высшая: власть в военном деле и в суде была атрибутом земельной собственности»38. Система экономических и политических прав, которые имел феодал как собственник земли и которые выступали как право-привилегия, носит название феодального иммунитета.
Обладавший иммунитетными правами феодал освобождался от личной подсудности местным властям. В исках на него он (имму- нист) судился самим князем или лицом из ближайшего княжеского окружения — «большим» или «введенным» боярином. В вотчину иммуниста не могли въезжать княжеские финансовые и судебные агенты. Феодал-иммунист лично судил своих зависимых людей и 35 Иногда человек вступал в кабалу даже без всякой ссуды, лишь с одним условием, что хозяин будет его кормить и одевать.
36 Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси.., кн. 2, стр. 119.
37 В России термины «собственность», «право собственности» получили хождение в официальных документах лишь со второй половины XVIII в. (см. А. В. Венедиктов. Государственная социалистическая собственность. М.—Л.,. Изд-во АН СССР, 1948, стр. 102—103).
38 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 344.
2*
— 19 —
собирал всевозможные подати. Феодальный иммунитет, стихийно сложившийся как атрибут феодального землевладения независимо от княжеского пожалования в результате узурпации феодалом политических прав, некогда принадлежавших свободным крестьянским общинам, в развитом феодальном обществе «являлся одним из выражений иерархической -структуры феодального государства, в котором политическая власть была таким путем разделена между членами господствующего класса»39.
Период феодальной раздробленности был временем расцвета феодального иммунитета. В это же время элементы феодального иммунитета получают свое отражение в действовавшем феодальном праве. Выдача князьями жалованных иммунитетных грамот в XII—XIV вв. означала всего лишь признание со стороны княжеской власти иммунцтетных прав, которыми обладал в это время каждый вотчинник в силу сложившегося обычного неписанного феодального права. На это свое неписанное право феодалы ссылались во время земельных тяжб и в более .позднее время. Так, в первой половине XV в. на суде из-за спорной деревни между монахами Кириллово-Белозерского монастыря и кистемским боярином Львом Ивановичем с братьями, последние доказывали свои права на спорную деревню ссылками на старинные иммунитетные права, заявляя, что спорная деревня «из старины тянет судом» к ним40. Следует подчеркнуть, что от XII—XIII вв. нам вообще неизвестны иммунитетные грамоты, которые были бы выданы светским феодалам. Грамоты выдавались исключительно церковным феодалам, землевладение которых в то время складывалось преимущественно из земельных княжеских пожалований, и которое, в отличие от боярского землевладения, складывавшегося независимо от княжеских пожалований, более нуждалось в защите со стороны княжеской власти. Жалуя церковникам земли в собственность, князья в соответствии со сложившейся феодальной практикой передавали им и все иммунитетные права, связанные с феодальным землевладением, оговаривая это в жалованных грамотах.
С усилением в процессе объединения русских земель вокруг Москвы в единое государство великокняжеской власти начинается новый этап в истории феодального иммунитета. Возросшее политическое значение великокняжеской власти вынуждало феодалов стремиться к закреплению своих иммунитетных прав в новых земельных приобретениях через княжескую санкцию, княжескую жалованную грамоту. Великокняжеская власть, рассматривая себя уже в качестве признанного источника феодальных иммунитетных привилегий, использует выдачу жалованных иммунитетных грамот в политических интересах, в одних случаях предоставляя отдельным феодалам наибольший объем иммунитетных прав, а в других случаях стремясь эти права всячески сузить41.
39 И. И. Смирнов. Судебник 1550 г. «Исторические записки», т. 24, 1947, стр. 296.
40 «Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России», собрал и издал А. А. Федотов-Чеховский, т. I. Киев, 1860, № 4 (далее — АГР).
41 См. Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., т. 2, <стр. И 6—210.
— 20 —
Исходя из интересов господствующего класса в целом, великокняжеская власть стремится ограничить судебные (права иммуни- стов, изымая из их юрисдикции прежде всего (частично или полностью) дела о тягчайших уголовных преступлениях, более всего угрожавших жизни и имуществу феодалов (разбой, душегубство, татьба с поличным). В интересах развивающегося феодального хозяйства великокняжеская власть практикует также выдачу в значительных размерах так называемых льготных грамот землевладельцам (освобождение населения феодальной вотчины на тот или иной срок от государственных податей и повинностей), но в то же время в целях обеспечения поступления доходов в государственную казну из податных льгот исключается все большее число различных государственных податей.
На отдельных примерах возникновения новых феодальных вотчин видно, что иммунитетными правами обладали не только крупные феодальные землевладельцы, но и средние и низшие слои феодалов-землевладельцев. Во второй половине XV в. некто Есин Пикин, служилый человек белозерского князя Михаила Андреевича, получил от последнего во владение «землю Колкач». Трудом своих холопов он расчистил лес, выстроил деревню и позвал туда крестьян из окрестных волостей, которые стали у него работать исполу. Эти половники в скором времени попали в полную зависимость от Пикина не только в экономическом, но и в юридическом отношении. Во время отвода земель по судебному процессу (1482 г.) старожильцы-крестьяне из Колкача говорили судье, что еще их деды половничали на Есипа Пикина, как половничают они сами, и что «не суживал нас, господине, никто при Есипе, а судил нас, господине, Есип сам»42.
Рядом иммунитетных прав обладало также и феодальное условное землевладение. Например, в грамоте 1488 г. Ивана III братьям Шенуриным на деревню в Едоском стане Галичского уезда, пожалованной им «доколе служит Микитка да Юрка (Шену- рины. — А. Л.) и Никиткин сын мне и моим детям», Шенуриным было предоставлено право ведать и судить своих людей самим или кому .прикажут43.
Отношение к феодальной земельной собственности определяло отношения господства и подчинения не только между феодалами и крестьянами, но и систему отношений внутри самого господствующего класса. Владение землей для феодала тесно сочеталось с несением военной, гражданской или иной службы у своего сеньора, в результате чего собственность на землю для феодала выступала как собственность «условная», «связанная», проявлявшаяся в самых различных формах, начиная от срочного условного или пожизненного условного владения землей, без права свободного распоряжения ею, до родового наследственного владения с правом свободного распоряжения им, но в пределах, не затрагивавших прав верховного собственника земли —сеньора.
42 АГР, т. I, №41.
43 «Русский исторический сборник», т. V, кн. 2. М., 1842, стр. 15. См. также: ААЭ, т. I, № 141, 160, 162; ДАН, т. I, № 36; «Акты Юшкова», № 20, 82, 83, 91, 96, 97, 109, 111, 119, 132, 136, 143, 144, 145, 150, 159 и др.
— 21
Рассматривая проблемы права земельной собственности в период феодализма, не следует упускать из виду, что юридические формы феодальной собственности не всегда могли отражать действительные общественные отношения. Так, например, может показаться, что в части землевладения крестьяне, получавшие от феодала в пользование земельный надел на условиях выполнения ряда повинностей и уплаты феодальной ренты, могут быть приравнены к тем феодалам, которые получали от своего сеньора землю в условное владение на то время, пока этот феодал служит своему сеньору, что юридически между крестьянами и этими феодалами- землевладельцами не было какой-либо существенной разницы. Именно так поступали буржуазные историки, исследовавшие исключительно юридические формы землевладения в эпоху феодализма в отрыве от действительных производственных отношений, благодаря чему затушевывалась разница между крестьянским землепользованием и феодальным землевладением, а социальные отношения сводились к различию в характере повинностей перед государством со стороны отдельных категорий населения в соответствии с формами землепользования. Между тем В. И. Ленин подчеркивал, что «при крепостном праве средства производства давались производителю помещиком для того, чтобы производитель мог отрабатывать на него барщину; надел 'был как бы натуральной заработной платой, — «исконным» средством присвоения прибавочного продукта»44, тогда как в руках феодального собственника земли, владевшего ею хотя бы и условно, на время службы сеньору, земля являлась монополизированным основным средством сельскохозяйственного производства, позволяющим ему осуществлять эксплуатацию труда .пользовавшегося этой землей крестьянина.
В период феодальной раздробленности наиболее распространенной формой земельной собственности являлась крупная феодальная вотчина. Существовало несколько видов феодальной вотчины: княжеская, монастырская, боярская, родовая, купленная, пожалованная. Верховным собственником всей земли в княжестве считался удельный князь, что было закреплено еще в XI в. постановлением Любечского съезда князей (1097 г.): «Каждо да держить отчину свою» (древний текст летописи Нестора)45, а затем более детально отоваривалось в междукняжеских договорах: «А сел ти не купити в моем уделе, ни в великом княженьи, ни твоим детем, ни твоим бояром... Так же и мне и моим детем и моим боя- ром сел не купити в твоем уделе»46. В таких землях, как Новгородская и Псковская феодальные республики, верховным собственником земли считалось само государство. В договорах Великого Новгорода с князьями всегда оговаривалось, что землю на территории Новгородской республики можно было приобрести только с разрешения новгородского веча 47. В то же время вассалы князя, имевшие вотчины, пользовались правом свободного распоряжения своей земельной собственностью, могли отчуждать ее (продавать, обмени44 В. И. Л ен и н. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 473.
45 ПСРЛ, т. I, стр. 109.
46 ДДГ, № 11 (или же: «тобе знати своя отчина, а мне знати своя отчина»).
47 ААЭ, т. I, № 57, 87; ГВН и П, № 1, 2, 3, 6, 7 и др.
— 22 —
вать, закладывать, дарить, передавать по наследству) 48. Но это право свободного распоряжения вотчинником своей землей сковывалось рядом атрибутов, характерных для феодальной земельной собственности.
Следует отметить, что .в эпоху феодализма значение земельной собственности как товара было невелико. Монополизация господствующим классом феодалов права на земельную собственность и эксплуатацию прикрепленных к ней непосредственных производителей в условиях натурального хозяйства и слабо развитого товарного производства исключали возможность превращения «феодальной собственности на землю в чисто экономическую категорию, свободную от всех «традиционных» придатков, которые связывали землевладение с отношениями господства и рабства, связывали землю как условие производства с землевладением и землевладельцами, а тем самым сужали возможность ее широкой ■мобилизации49.
Одним из «традиционных» придатков феодальной земельной собственности в период феодальной раздробленности (и позднее) -было право родового выкупа и право родового наследования. Сущность права родового выкупа состояла в том, что вотчинник мог отчуждать свое имение, не спрашивая предварительного согласия у своих родственников, но зато последние имели право выкупить проданную родовую землю. Продавший родовую вотчину (или пасть ее), в свою очередь, имел право выкупить ее, если в купчей трамоте не оговаривалось, что он продал ее без права выкупа (т. е. «впрок»)50. Наконец, родственники имели преимущественное право покупки отчуждаемой родовой вотчины (или части ее). Право родового наследования заключалось в том, что родственники умершего вотчинника имели право возбуждать иск о возвращении им родовой вотчины (или части ее), если умиравший феодал завещал <ее лицам, не принадлежавшим к его роду и без согласия своих родичей. f
Наконец, свобода распоряжения феодала своей вотчиной сковывалась тем, что феодальная собственность, как указывалось выше, была как бы собственностью связанной, обремененной51, позволявшей феодалу пользоваться правом свободного распоряжения вотчиной в пределах, не затрагивавших прав и интересов своего сеньора (князя), юридически считавшегося верховным собственником всей земли в княжестве. Владение землей влекло за собой для вассала обязательное несение ряда обязанностей, уклонение от которых могло привести к конфискации вотчины сеньором. В судебном и податном отношении вотчина тянула к тому удельному князю, на территории удела которого была расположена вотчина («по земле и по воде»)52. В принципе признавалось право свободы «отъ48 ААЭ, т. I, № 60.
49 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 166—167.
50 АСЭИ, т. I, № 509, 484.
61 См. А. В. Венедиктов. Государственная социалистическая собствен эдость, стр. 164—177.
52 ДДГ, № 13, 15 и др.
— 23 —
езда» для бояр и вольных слуг от одного князя к другому, с сохранением права собственности на вотчину53, но в действительности это право было фикцией54. Возможность службы феодала в одном уделе, а нахождение его вотчины в другом уделе противоречили стремлению князей к максимальной полноте суверенных прав на все земли их владений. От периода феодальной раздробленности не сохранилось каких-либо данных о том, что «отъезд» бояр происходил при сохранении ими своих прав не только на вотчины^ купленные и пожалованные, но и на родовые вотчины. Конечно, когда приходится говорить о тех или иных правовых нормах <в период феодализма, то следует учитывать, что эти правовые нормы в жизни применялись в каждом конкретном случае в зависимости от общеполитической обстановки, соотношения сил вступающих: между собой в отношения сторон и т. д.
Бояре прибегали к праву «отъезда» лишь в редких случаях55,, когда интересы -боярина почему-либо коренным образом расходились с политикой, проводимой его сюзереном, и когда отъезжавший боярин мог рассчитывать, что у своего нового сюзерена он получит вотчину, равнозначную или большую по размерам. Вопрос о судьбе вотчин «отъезжавших» бояр мог решаться в каждом конкретном- случае соглашением между заинтересованными сторонами. Безусловной конфискации подвергались вотчины бояр, которые «отъезжали», совершив какую-либо «коромолу» по отношению к своему- сюзерену 56. Любопытным примером такого «универсального» подхода со стороны князей к праву -боярского «отъезда» служит соглашение, заключенное в 1375 г. между Дмитрием Донским и серпуховским удельным князем Владимиром Андреевичем, с одной стороны, и тверским князем Михаилом Александровичем—с другой. Подтверждая в соглашении право («отъезда» бояр с сохранением прав на вотчины, князья решили, исходя из политических соображений, исключить из этого правила новгородских бояр и вольных слуг, которые попытались бы «отъехать» из Новгорода в- Московское или Тверское княжества. Кроме того, была достигнута договоренность о том, что вотчины «отъехавших» из Москвы в Тверь московского боярина И. В. Вельяминова и гостя-сурожанина’ Некомата конфисковались на имя московского великого князя57. В XV в. в связи с обострением борьбы за политическую централизацию государства великокняжеская власть (а вслед за ней и удельные князья) предпринимает решительные шаги по ликвидации- права боярского отъезда. В междукняжеских договорах, в духовных грамотах князей все чаще начинают фигурировать формулировки о запрещении отъезжать отдельным категориям феодалов, об обязательной конфискации вотчины отъезжавших феодалов.
53 «А боярам и слугам межи нас волным воля. А домы им свои ведати, а нам ся в них не вступати» (ДДГ, № 15 и др.).
54 См. Л. В. Черепнин. Основные этапы развития феодальной собственности на Руси (до XVII в.). «Вопросы истории», 1953, № 4, стр. 55—56.
55 См. С. Б. Веселовский. Феодальное землевладение Северо-Восточной Руси, т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 303.
56 ДДГ, № 2, 26 и др.
57 ДДГ, № 9.
— 24 —
Условное феодальное землевладение в XIII—XV вв. было наиболее распространенной формой землевладения низшего слоя господствующего класса. Сущность его заключалась в том, что вассалу земля давалась во владение на определенный срок и на определенных условиях. Земля могла даваться временно («пока служит»)^ пожизненно («до живота») и даже в наследственное владение («доколе род изведется»). |Раздача земли в условное владение в качестве «милости», вознаграждения за службу своим холопам и вольным слугам, занятым в системе дворцового хозяйства, практиковалась князьями еще в XII в.58 59. В XIII—XV вв. раздача земель, сеньорами в условное владение своим слугам (как из числа холопов, так и вольных лиц) могла, с одной стороны, служить средством освоения пустошей и заселения их зависимыми крестьянами 5д (что особенно практиковалось феодальными магнатами в XV в.), а с другой стороны, средством материального обеспечения своих слуг, занятых в системе дворцового хозяйства (тиуны, ключники и т. д.). Последние, если они были людьми свободными, могли -согласно нормам феодального права отказаться от службы, переменить сеньора, но в этом случае, безусловно, лишались земельного владения: «А боярам и слугам, кто будет не под дворьским, вольным воля... А кто будет под дворьским слуг... а што тех выйдет из. уделов детей моих и княгини моей, ин земли лишен...»60. Слуги вольные, получавшие землю во владение за службу при дворе князя (военную или какую-либо иную службу, не связанную с дворцовым хозяйством и поэтому не являвшиеся «слугами под дворским») также не были свободными в распоряжении данной им землей. Ободном таком служилом феодале упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты: «А что есмь купил село в Ростове Богородичское, а дал есмь Бориску Боркову, аже иметь сыну моему которому служите, село будет за ним; не иметь ли служите детем моим, село отоимуть»61. Мелкий служилый люд, заполнявший княжеский двор> и владевший вотчинниками, куплями, селами, данными князем в условное держание, в части землевладения зависели от князя в неизмеримо большей степени, чем крупный феодал-вотчинник. Об их положении четко говорится в духовной грамоте Василия Темного: «А которые дети боярские служат моей княгине, и слуги ее, и вси ее люди, холопи ее, и кому буду яз князь велики, тем давал свои села, или моя княгини им давала свои села, или за кем будет их отчина или купля, и в тех в своих людях во всих волна моя княгини и в тех селех...»62.
Пожалованная Боркову земля была ближе к наследственному бенефицию, бывшему переходной ступенью от бенефиция к лену- 58 См. М. Н. Тихомиров. Условное феодальное держание на Руси в XII в. Сб. «Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню 70-летия». М., Изд-во АН СССР, 1958.
59 См. С. В. Рождественский. Служилое землевладение в Московском государстве XVI в. СПб., 1897, стр. 7, 29; Л. В. Черепнин. Основные этапы- развития феодальной собственности на Руси, стр. 56.
60 ДДГ, № 17.
61 ДДГ, № 1 (второй вариант).
62 ДДГ, № 61.
— 25 —
феоду. Условия, на которых Иван Калита дал Бориске Боркову село Богородичское, идентичны условиям, на которых была пожалована в 1488 т. Иваном III деревня в Галичском уезде братьям Шенуриным: «доколе служит Микитка да Юрка и Никиткин сын (Шенурины.—А. Л.) мне и моим детям». Деревня, несомненно, была дана Шенуриным в .вотчину, со всеми вотчинными правами (в том числе и с правом свободного распоряжения ею, как явствует из судного дела, в котором фигурирует указанная жалованная грамота)63.
Владение выслуженной вотчиной накладывало на феодала больший объем служебных повинностей (и прежде всего ратной службы), чем это требовалось от владельца родовой вотчины. Наконец, как это было отмечено всеми историками русского права, возможности феодала в распоряжении выслуженной вотчиной были более ограниченными, чем у владельца родовой вотчины 64.
-Особо следует остановится на юридическом положении так называемых черных (тяглых, государственных) земель, которыми пользовались волостные крестьяне и жители городских посадских общин, платившие за пользование землей феодальную ренту в княжескую казну. Юридически черная земля считалась собственностью великого или удельного князя, однако, как .видно из ряда юридических памятников XIV—XV вв., крестьяне, сидевшие поколениями на этой земле, привыкли 'рассматривать ее как свою наследственную собственность и отстаивали от посягательств на нее со стороны. Заявляя на суде во время земельных тяжб волостных общин с окрестными феодалами, что спорная земля издавна тянет «к земле нашей... к тяглой, к черной из старины», что это «земля .великого князя, а нашего владения», черносошные крестьяне рассматривали ее как свое фактическое владение, на которое они имели все права, вплоть до защиты этого владения в суде. Это право официально признавалось со стороны представителей государственной власти. В случае захвата кем-либо части волостной черной тяглой земли возбуждался иск не представителями .великокняжеской власти (как следовало бы ожидать, поскольку последняя считалась 'верховным собственником земли), а представителями волостных крестьян. Так, крестьяне Ликургской волости на вопрос судьи, почему они свыше 40 лет не возбуждали иск о захвате у них митрополичьими детьми боярскими ряда деревень и починков, отвечали, что захват этот произошел во время «великого поветрия», когда многие крестьяне, спасаясь от эпидемии и голода, разошлись из волости, «и нам, господине, тогда было не до земель, людей было мало, искати некому...»65.
Крестьянская черносошная община имела право отдавать в срочное или бессрочное пользование пришлым людям участки 63 «Русский исторический сборник», 1842, т. V, кн. 2, стр. 15—18.
64 См. М. Ф. Владимирски й-Б у д а н о в. Обзор истории русского права, изд. 5. СПб., 1907, стр. 579—582; А. В. Венедиктов. Государственная социалистическая собственность, стр. 126—177.
65 АЮ, № 8.
— 26 —
общинной земли66, менять отдельные участки своей земли, покупать или «принимать в дар новые земли67, но продажа общинной земли лицам, не входившим в число членов общины, была ограничена. Очевидно, в этом случае требовалось специальное разрешение со стороны княжеской власти 68.
Землепользование внутри крестьянской общины представляло компромисс между общинным и частным землевладением. Община в целом совместно владела и эксплуатировала различные угодья (леса, луга, пастбища, воды), но пахотные наделы находились в индивидуальном пользовании членов общины, которыми они распоряжались по своему усмотрению. Еще Судебник 1589 г., нормы которого .в основном касались организации хозяйства и управления в северных «районах страны, где преобладало черносошное крестьянство, и, несомненно, сохранивший в своих нормах порядки общинного землевладения за более ранний период, подтверждал право черносошных крестьян передавать свой надел по наследству, продавать его с согласия родственников69, но преимущественно в пределах своей общины.
Характерным явлением в развитии феодального права в XIII— XV вв. является развитие норм, касающихся гражданско-правовых отношений. Если «Русская Правда» этим отношениям уделяла незначительное внимание и являлась в сущности сборником норм уголовно-процессуального права раннефеодального государства, то в памятниках права периода феодальной раздробленности значительное место начинают занимать нормы гражданско-правовых отношений, и в том числе нормы, касающиеся права собственности.
Терминам собственность, право собственности в памятниках древнего русского права соответствовали термины имение, владение и т. д. 70. «Русская Правда» говорит о краже «чужого» оружия, одежды, холопов, коней, скота, припасов, о порче межевых знаков на поле, в бортных угодьях, о похищении и присвоении денег и т. д.,но не разделяет четко имущество на движимое и недвижимое. В «Русской Правде» имеются нормы, касающиеся порядка наследования (по завещанию и без завещания), но почти ничего не говорится о других способах приобретения права собственности (если не считать статей, касающихся приобретения вещей на торгу).
В период феодальной раздробленности вопросы, связанные с правом собственности, получают свое дальнейшее развитие. Псковская судная грамота проводит четкое разделение между движимым и недвижимым имуществом. К недвижимому имуществу Псковская судная грамота относит землю (пахотную и различные угодья) и усадебные постройки, к движимому имуществу — одежду, оружие, 66 Например: «...мне тот лес дала волость — старосты с крестьяны, и я избу поставил» (АЮ, № 6).
67 АЮ, № 3.
68 АСЭИ, т. I, № 200.
69 «Судебники XV—XVI вв.». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952, ст. ст. 163, 165, 227. О фактах продажи черными крестьянами своих земельных пахотных участков см. «Сборник Грамот Коллегии экономии», т. I. Пг., 1922, № 48.
70 См. М. Ф. Владимирски й-Б у д а н о в. Обзор истории русского права, стр. 523—525.
— 27 —
хлеб, скот, орудия труда, деньги и т. д.71. Четко разделяют собст- веннность ;на движимую и недвижимую в своих духовных завещаниях феодалы. Делается дальнейший шаг вперед по сравнению с «Русской Правдой» и в определении характера недвижимой собственности. Если «Русская Правда» имела в виду земельную собственность вообще, безотносительно к ее принадлежности (исключение составляет статья о порче княжеской борти), то в Двинской уставной грамоте, например, строго разделяется земля, принадлежавшая крестьянским общинам, и земля, принадлежавшая феодалам (князю), причем штраф за нарушение последней («межу переорет или перекосит») в четыре раза выше штрафа за нарушение земли общинной72.
Как отмечалось выше, отчуждение феодальной земельной собственности было связано рядом ограничений (правом родового выкупа), носивших характер норм стихийно сложившегося непи- санного обычного права. Первые попытки юридического оформления права родового выкупа (как важнейшего элемента наследственного права в эпоху средневековья) мы наблюдаем уже в XIV— XV вв. Псковская судная грамота, например, требует при заключении сделок на куплю-продажу земельной собственности указать в купчей грамоте срок, в течение которого за продавцом и его законными наследниками сохранялось право выкупа проданной вотчины 73.
В памятниках права рассматриваемого периода много внимания уделялось вопросам способа приобретения собственности.. Основными способами приобретения собственности были: купля- продажа, пожалованье, по давности.
Наиболее полно разработаны были вопросы, связанные с приобретением собственности в Псковской судной грамоте, что объясняется значительным развитием товарно-денежных отношений в^ таких городах, как Новгород, Псков. Объектом купли-продажи, по Псковской судной грамоте, мог быть любой вид собственности (движимой и недвижимой). Закон стремился максимально обеспечить интересы собственников. Так, сделка о купле-продаже, совершенная в нетрезвом виде, расторгалась, если какая-либо из сторон, по вытрезвлении, не признавала ее74. Сделка по купле-продаже могла быть также расторгнута, если оказывалось, что объектом продажи была недоброкачественная вещь75. При приобретении вещи на торгу необходимо было заручиться свидетелями, чтобы в. случае, если купленная вещь оказывалась краденой и отыскивался ее законный владелец, к покупателю не было предъявлено обвинение в воровстве76.
Особое внимание обращалось в этом отношении приобретению земельной собственности. Сделки по купле-продаже земли оформлялись специальной купчей грамотой, в которой перечислялись 71 «Псковская судная грамота», ст. ст. 14, 31, 86, 88, 89, 100, 107, НО.
72 «Памятники русского права», вып. 3, стр. 163.
73 «Псковская судная грамота», ст. 13.
74 Там же, ст. 114.
75 Там же, ст. 118.
76 Там же, ст. ст. 47, 56.
— 28 —
также присутствовавшие при сделке свидетели77; в случае земельной тяжбы необходимо было предъявить судьям грамоты, удостоверяющие право владения спорной землей78. В купчих грамотах указывалось, на каких условиях продавалась земля — с правом выкупа или в полную собственность («впрок», «в одерень») 79.
В XV в. формуляр купчих грамот становится еще более развернутым. Продавец земли указывал в купчей грамоте, что проданная им земля свободна от долговых и закладных обязательств и обязывался в случае предъявления к купившему землю каких-либо претензий со стороны взять на себя все расходы по «очищению» проданной им земли. В XV в. с обострением борьбы феодалов за землю и увеличением в связи с этим земельных тяжб получает все большее распространение доклад о совершенной сделке по купле- продаже земли представителям великокняжеской администрации (боярам введенным, княжеским дворецким, казначеям), которые скрепляли купчие грамоты своими печатями.
Одним из способов приобретения земельной собственности было владение по праву давности. В земельных тяжбах того времени мы постоянно встречаемся с ссылками тяжущихся сторон на старину владения, как на основание права собственности на спорный земельный участок. Наиболее четко изложен институт права давности в Псковской судной грамоте. Статьей 9 специально оговаривалось, что лицо, занявшее какой-либо участок земли, поставившее на нем двор и заведшее пашню (или эксплуатировавшее его водные угодья), считалось собственником этого участка, если оно пользовалось им не менее 4—5 лет. Претензии кого-либо со стороны на этот участок (хотя бы и законного владельца, имевшего на этот участок письменные документы) не принимались во внимание, если эти претензии не предъявлялись в течение урочных 4—5 лет со дня заимки участка и если лицо, занявшее участок, выставляло на суде 4—6 соседей-свидетелей, которые подтверждали, что ответчик пользуется участком в течение 4—5 лет. Но в случае спора о земле, непригодной для обработки (земля под лесом), право давности и владения не применялось, спор разрешался на основании представления в суд письменных документов, подтверждавших право владения на спорный участок, и последующим размежеванием , спорного участка земли80.
В других землях и княжествах срок права давности владения, возможно, был иным. Так, о существовании 15-летнего срока для возбуждения исков о земле в первой половине и середине XV в. в Московском княжестве имеется четкое указание в грамоте Ивана III от 1483 г.: «Противу Олексина дал смену дед мой великий князь в дом святей Богородици и своему отцу Киприану митрополиту слободку Всеславлю... опроче боярские купли старыя или чья будет отчина, от сего времени за 15 лет взад, как дед мой учинил князь великий в своей отчине в великом княженьи суд тогды о 77 ГВНиП, № 106, 108, 113, 116, 117, 121, 123, 124, 125, 128 и др.
78 «Псковская судная грамота», ст. ст. 13, 79.
79 См. А. А. Шахматов. Исследование о двинских грамотах XV в., ч. II. СПб., 1903, № 102 и др.
80 «Псковская судная грамота», ст. 10.
— 29 —
землях и водах за 15 лет; так и мне князю великому послати своего боярина, а хто будет отещ 'наш митрополит в нашей отчине, и отцу нашему послати своего боярина; и оне, ехав в слободку, так же учинят исправу за 15 лет землям»81. Во второй половине XV в. решающее значение в доказательстве на суде права собственности на спорную землю стали иметь представляемые письменные акты (данные, духовные, купчие, правые и другие грамоты). Но давность владения как одно из доказательств права собственности продолжает еще фигурировать в Судебнике 1497 г. (ст. 63), установившем трехлетний срок давности для исков по спорным землям между феодалами, крестьянами и 6-летний срок при завладении частным лицом земли великокняжеской.
Давность владения в качестве доказательства права собственности применялась только к недвижимой собственности, но в отношении движимого имущества подача исков о его отчуждении никакими сроками не ограничивалась. Так, например, в отношении беглых или свезенных полных холопов в междукняжеских договорах указывалось, что «холопу, робе суд от века»82. Находка движимой вещи не приводила к утверждению права собственности на нее, как это было и во времена «Русской Правды». Владелец пропавшей вещи, в случае обнаружения ее у другого лица, имел право через суд требовать ее возвращения независимо от срока, прошедшего со времени пропажи, причем лицо, нашедшее вещь, было^ обязано через свидетелей или присягу очиститься от подозрения в воровстве83.
Дальнейшему -развитию подвергались нормы, касающиеся наследственного права. Хотя по-прежнему завещание могло выражаться <в устной форме, преобладающей становится письменная его форма. Поскольку волей умершего его наследниками могли оказаться лица, не принадлежавшие к числу его законных наследников 84, то личная воля завещателя, не посчитавшегося с законным порядком наследования, должна была быть выражена более убедительно, а именно в письменном акте, в который вписывались имена свидетелей, присутствовавших при составлении завещания, и прежде всего духовника завещателя. Но само составление письменного завещания еще не могло гарантировать лицу, не имевшему естественного законного права на наследование, но которому было отказано наследство, возможность того, что это завещание не будет оспорено в суде. Поэтому духовную грамоту необходимо было утвердить, что достигалось в Московском княжестве предъявлением завещания на утверждение митрополиту, епископу или архимандриту, а в Пскове предъявлением копии с завещания в государственный архив, помещавшийся в Троицком соборе. Для введения в наследство законных наследников (по нисходящей, восходящей и боковым линиям) наличие письменного завещания было не обяза81 АФЗиХ, ч. I, № 1, стр. 23.
82 ДДГ, № 9, 15, 19 и др.
83 «Псковская судная грамота», ст. ст. 46, 47.
84 Так, например, по статье 88 Псковской судной грамоты жена могла завещать принадлежавшее ей имущество не своему мужу, а лицу постороннему (например, монастырю).
— 30 —
тельно, но с течением времени форма письменного завещания становится определяющей в порядке наследования и для законных наследников, особенно в том случае, если наследство распределялось между несколькими наследниками 85.
Наиболее подробно регулировала порядок наследования имущества (движимого и недвижимого) Псковская судная грамота86, которая говорит также и об особом случае наследования — о так называемой «кормле» — праве пережившего супруга пользоваться пожизненно имуществом (движимым и недвижимым) умершего супруга при условии, что он не вступит в новый брак и не сделает попыток к отчуждению доставшейся ему «кормли». Нарушение этих условий приводило к отнятию «кормли» и передаче ее родственникам умершего супруга87. Нечто близкое к институту псковской «кормли» наблюдалось и в других землях и княжествах Северо- Восточной Руси. В духовных грамотах были нередки случаи передачи жене в пожизненное владение («до живота») части недвижимого имущества, которое после ее смерти передавалось в монастырь в качестве вклада «по душе» завещателя или же передавалось другим наследникам.
Дальнейшее развитие <в нормах феодального права этого времени получило регулирование гражданско-правовых отношений к области обязательного права (имущественные и иные отношения между субъектами, права, обусловленные взаимными договорными обязательствами, устными или письменными, в части купли-продажи, залога, поклажи, дарения, обмена, займа, личного и имущественного найма и т. д.).
В Киевской Руси договорные обязательства, как правило, заключались в устной форме в присутствии свидетелей («послухов»). Письменного оформления договорного обязательства «Русская Правда» не знала. Устная форма договорных обязательств имела место и в рассматриваемое время, но эта форма постепенно вытеснялась формой письменной. Так, в Пскове например, договор о займе без письменного его оформления можно было заключать только на сумму, не превышающую рубля. Но в Московском княжестве (как и других княжествах Северо-Восточной Руси) еще и в XVI в. допускалось заключение договоров («в каковом деле ни буди») без их письменного оформления, и в случае иска по таким договорам дело на суде решалось показаниями свидетелей и судеб-
85 В XV в. форма и содержание духовных грамот получают наибольшее развитие. В них подробно перечисляется завещаемое имущество (движимое и недвижимое), определяется круг наследников и их права в части наследуемого имущества. Духовная грамота нередко является одновременно и данной грамотой (включая в себя пожалования движимым и недвижимым имуществом лиц, не принадлежавших к кругу указанных в грамоте наследников), и отпускной грамотой (распоряжения об отпуске на волю части холопов), и в то же время содержит ряд распоряжений, относящихся к области обязательного права-распоряжения о произведении после смерти завещателя расчетов по его закладным, кредитным, заемным и другим обязательствам («кому ми что дати и у кого ми что взяти»).
86 «Псковская судная грамота», ст. ст. 14, 15, 53, 55, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 100.
87 Там же, ст. ст. 72, 88, 89.
— 31
ным поединком (Судебник, 1550 г., ст. 15). Поэтому заключение договора (как письменного, так и устного) совершалось обычно в присутствии свидетелей («послухов»), роль которых становилась решающей в случае возбуждения судебной тяжбы по заключенным договорам. Так, неявка послуха на суд или несовпадение его показаний с показаниями лица, от которого он выступал свидетелем, приводили к проигрышу этим лицом судебного дела88.
Псковская судная грамота знает четыре формы оформления заключения договорных обязательств: устный договор, «запись», «рядницу» и «доску». «Запись» представляла собой письменный договор, получавший официальное утверждение через сдачу копии — «записи» —на хранение в архив при главной церкви Пскова в Троицкий собор. «Запись» считалась официальным документом, подлинность которого не могла быть оспариваема в суде. Бесспорным официальным документом считалась также «рядница» (платежная расписка, в которой указывалась сумма уплаченных денег, взятых в долг, или возвращенной торговой ссуды), если копия с нее представлялась в архив Троицкого собора. При отсутствии такой копии, хранящейся в архиве, «рядница» теряла свсю доказательную силу в судебном процессе89. «Доска» являлась неофициальным частным актом, как бы личной памятной записью, поэтому предъявление «доски» на суде в качестве доказательства справедливости иска могло быть оспариваемо, а в ряде исков «доска» вообще не могла предъявляться в качестве доказательства90.
Важным шагом вперед в развитии норм обязательного права являлось появление системы поручительства (поруки) и залога, которых не знала «Русская Правда». Согласно Псковской судной грамоте, порукой могли обеспечиваться обязательства, в денежном выражении не превышающие рубля91. Лицо, поручившееся за одну из сторон, заключивших какой-либо договор со взаимными обязательствами (дача денег в долг, выдача торговой ссуды, принятие вещей на хранение), отвечало за выполнение этих обязательств той стороной, за которую оно поручилось. В случае бегства лица, за которого была дана порука, поручитель имел право требовать выдать его головою «до искупа». В свою очередь, при бегстве поручителя последний выдавался головой тому лицу, которому он поручился. Институт поруки получил распространение в системе обязательного права и в других землях и княжествах Северо-Восточной Руси. В междукняжеских договорах постоянно оговаривается: «А суженого не посужати; а суженое, положеное, поручьное отдати по исправе. Холопа, робу, должника, поручьника, татя, разбойника, душегубца, рубежника выдати по исправе от века»92.
Залог (заклад) —предоставление кредитору во временное пользование в обеспечение взятой ссуды какого-либо движимого или недвижимого имущества. Псковская судная грамота специально оговаривает, что денежные займы на сумму, превышающую 88 «Псковская судная грамота», ст. 22.
89 Там же, ст. ст. 32, 38.
90 Там же, ст. ст. 14, 19, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 61, 62, 75, 92, 103.
91 Там же, ст. 33.
92 ДДГ, № 19, 9, 10, 15 и др.
— 32 —
рубль, должны были выдаваться только под заклад или с составлением официальной «записи», в противном случае договор мог считаться недействительным и в случае возбуждения по нему тяжбы не подлежал рассмотрению в суде. Введение залога в обеспечение кредитно-торговых сделок обеспечивало прежде всего интересы феодальной и торговой верхушки общества. Так, рост монастырского землевладения в XIV—XV вв. происходил не только в результате земельных вкладов феодалов, покупки земель и колонизационной деятельности монастырей, но и в результате приобретения земли через выдачу обедневшим феодалам денежных ссуд под заклад их вотчин. Не случайно, что Псковская судная грамота в своих статьях о залоге ставит в привилегированное положение залогодержателей в ущерб залогодателей93.
Уголовное право в период феодальной раздробленности в основном базировалось на нормах «Русской Правды». Но если в «Русской Правде» говорилось об уголовных преступлениях, имевших в виду нанесение какого-либо материального, физического или морального ущерба отдельному лицу или ряду лиц (разбой, татьба, поджог имущества, порча межи, членовредительство, оскорбление чести и т. д.), то в памятниках права XIII—XV вв. получает развитие понятие преступления, совершенного против государственной власти. Псковская судная грамота знает так называемый «пере- вет» — измену, заговор против Псковской феодальной республики 94. В междукняжеских договорных грамотах упоминаются лита, которые совершали государственную измену, «слаживали» (ссорили) князей («А кто будет служа нам князем, а вшол в каково дело, а того поискав своим князем, а того своим судьям опчим не судити»)95.
С укреплением московской великокняжеской власти последняя в своих договорах с удельными князьями прямо требовала выдачи изменников и перебежчиков, квалифицируемых как «лиходеев» («Тако же нам, кто иный лиходей будет, а побежит из нашиеземли в твою землю, и тебе и того не принимати к собе. А быти ти на него с нами с великими князьями заодин...»)96. Псковская судная грамота устанавливала за перевет (измену) единственное наказание— смертную казнь. Такое же наказание за измену, видимо, практиковалось и в остальных землях и княжествах Северо-Восточной Руси, где четко разделялись «измена» («крамола») от признанного права боярского отъезда. В 1379 г. в Москве был публично казнен боярин Иван Васильевич Вельяминов, изменивший московскому великому князю и бежавший в Тверь «со многого лжею и льстивыми словесы» (Никоновская летопись)97.
Обострение классовых противоречий в связи с дальнейшим развитием феодально-крепостнических отношений в стране в XIII— XV вв. приводило к тому, что в нормах права резко усиливается степень наказаний за совершение преступлений, более всего угро93 «Псковская судная грамота», ст. ст. 28, 29, 30, 31, 62, 104, 107.
94 Там же, ст. 7.
95 ДДГ, № 9.
96 Там же, № 76.
97 ПСРЛ, т. XI, стр. 45.
3 Очерки русской культуры, ч. 2
— 33 —
жавших собственности и жизни членов господствующего класса) феодалов.
Сословно-классовая неравноправность членов феодального общества получила свое яркое отражение в нормах, касающихся установления наказаний за оскорбление словом или действием («бесчестье»). Уже в раннефеодальном юридическом сборнике, в. «Русской Правде» мы встречаемся с неравноправным положением, представителей различных общественных слоев перед лицом закона] (различия в размере виры за убитого в соответствии с социальной принадлежностью и общественным положением последнего, ограничения в гражданской дееспособности отдельных категорий населения и т. д.). В памятнике церковной юрисдикции конца XIV в.— «Митрополичье Правосудие» — штраф за оскорбление, нанесенное' женщине, варьировался в зависимости от сословной принадлежности последней в пределах от 5 гривен золотом до 3 рублей.
В системе наказаний за уголовное преступление феодальное; право XIII—XV вв. продолжало в основном придерживаться норм! «Русской Правды» — имущественного взыскания через систему* штрафов («продажа»), но в то же время получает развитие и система личных наказаний —от телесного наказания до смертной казни. Псковская судная грамота предусматривала смертную казнь за татьбу, совершенную в третий раз, за конокрадство,, за воровство имущества (частного и государственного), хранившегося в церквах на территории Псковского кремля98 99 100, за поджог и перевет". Смертная казнь в Пскове осуществлялась через сожжение или повешение 10°. Из телесных наказаний Псковская судная грамота знает* «дыбу» (ст. 53), которая предназначалась для лиц, нарушавших, процесс судопроизводства. Что из себя представляла «дыба» в^ Пскове в XV в. пока точно не выяснено, но историки не расходятся в мнении, что «дыба» являлась телесным наказанием независимо от того, было ли это заключение в колодки или же особое члено- вредительное наказание.
Летописные известия показывают, что в Московском княжестве' в XV в. наряду со смертной казнью существовали жестокие телесные -наказания. В 1463 г. были подвергнуты казни и телесным наказаниям сторонники опального боровского князя. Великий князь- «повеле всех имати и казнити: бити кнутьем и сечи руки и носьг резати, а иным главы отсекати», «повеле казнити их немилостивно? на лубие волочити по леду, привязав конем к хвосту, на Федоровой неделе; а иных повеле посечи, а иных перевешать...» (Никоновская и Львовская летописи)101. Очевидно, что уже в XV в. в Московском княжестве возникает особый вид телесного наказания—торговая 98 О толковании термина кримский тать см.: М. Ф. Владимирски й-Б у- данов. Обзор истории русского права, изд. 5, стр. 341; С. В. Ю ш к о в. История государства и права СССР, ч. 1. М., Госюриздат, 1947, стр. 162; М. М. Исаев. Уголовное право Новгорода и Пскова XIII—XIV вв. М., Госюриздат, 1948, стр. 137; Л. В. Черепнин и А. И. Яковлев. Псковская судная грамота (новый перевод и комментарии). «Исторические записки», т. 6, 1940, стр. 265; И. Д. М а р т ы с е в и ч. Псковская судная грамота, стр. 97—98.
99 «Псковская судная грамота», ст. ст. 7—8.
100 ПСРЛ, т. IV, стр. 254, 270, 282.
101 ПСРЛ, т. XII, стр. 115—116; т. XX, ч. 1, стр. 276.
— 34 —
казнь — битье кнутом на торгу. Так, в 1442 г. провинившегося великокняжеского дьяка Колудара Ирежского били кнутом «по станом водя» (Ермолинская летопись)102.
Защищая интересы господствующего класса, и прежде всего жизнь и имущество феодалов, феодальное право XIV—XV вв. особое внимание обращало на борьбу с душегубством, разбоем и татьбой. В Двинской уставной грамоте (1398 г.) подтверждалось старое правило, зафиксированное еще в «Русской Правде», по которому заподозренный в воровстве человек должен был очиститься от обвинения через свод, т. е. произвести розыск пропавшей вещи до тех пор, пока не будет обнаружено лицо, виновное в краже. Но Двинская уставная грамота идет дальше «Русской Правды», устанавливая повышение ответственности за повторение преступления и смертную казнь для лиц, трижды изобличенных в актах воровства.
Характерным является стремление законодателей ограничить возможность заключения мировых сделок в татинных делах. Двинская уставная грамота во всех случаях, независимо от готовности сторон в исках о татьбе прийти к полюбовному соглашению, наказывает татя продажей и клеймением. Уличенного в татьбе во второй раз продавали в рабство, невзирая на готовность сторон прийти к полюбовному соглашению («продадут его не жалуя»). Как наказуемый самосуд Двинская уставная грамота рассматривает отпуск за взятку пойманного с поличным татя 103.
Особая социальная опасность для господствующего класса уголовных преступлений, связанных с душегубством, разбоем и татьбой, побуждали князей в договорах между собой специально оговаривать: «...а татя, разбойника, рубежника, беглеца по исправе выдати», «...где учинится разбой или татьба или наезд из твоей вотчины на наших людей, и о том суда вопчего не ждати», «а татя, разбойника, грабежника, душегубца где имут, тут судят...» 104.
Важностью этих преступлений объясняется и то, что дела о них уже с конца XIV в. начинают изыматься из-под юрисдикции феодалов-иммунистов и переходят в непосредственное ведение княжеской власти или ее агентов. Так, в жалованной тарханно-несу- димой грамоте князя Юрия Васильевича митрополиту Филиппу на митрополичьи села в волости Воре Московского уезда говорилось: «А волостели мои ворскиа и их тиуни кормов своих у них не емлют и не судят их ни в чем опричь душегубства. А лучится татьба или разбой с поличным и волостели мои дадут своих приставов, да велят дати обоих исцев на поруку, да поставят с поличным предо мною пред князем Юрием Васильевичем и яз князь Юрий сам тому исправу учиню» 105.
Особо следует остановиться на нормах церковного (или канонического) права, поскольку церковные суды имели широкую под102 ПСРЛ, т. XXIII, стр. 150.
103 Но уже в конце XV в., согласно Белозерской уставной грамоте, «самосуд то, хто поймает татя с поличным да отпустит его прочь, а неместникам и их тиуном не явя, а его в том уличат, ино то самосуд; а оприч того самосуда нет» («Памятники русского права», вып. 3, стр. 177).
104 ДДГ, № 34, 33, 30, 24, 23, 19, 35, 38.
105 АФЗиХ, ч. 1, № 71, стр. 76 (1465 г.).
3*
— 35 —
судность и рассматривали помимо церковных дел также значительный круг гражданских и уголовных дел, имевших (прямо или косвенно) отношение к нарушению церковных канонов.
Развитие церковного права в XIII—XV вв. характеризуется большей конкретизацией и расширением сферы деятельности церковных судов, что объясняется возрастанием роли церкви в экономической и политической жизни страны.
Церковному суду специально подлежали дела, касающиеся отклонения от догматов официальной православной церкви (отправление языческих обрядов, впадение в «ересь», волшебство и колдовство), преступления против святости и ненарушимости храмов и мест погребения (церковная татьба, осквернение храмов, повреждение могил и ограбление мертвых тел и т. д.), брачносемейные дела и дела о нарушении чистоты нравов (расторжение супружеского союза, вступление в брак в запрещенных степенях родства и свойства, незаконное сожительство, дела о прелюбодеянии, о скотоложестве, похищении женщин, о подбросе матерью незаконнорожденных детей, преступления детей против родительской власти, дела о разделе наследства между детьми и братьями умершего). По всем этим делам к церковному -суду привлекались как лица из духовного звания, так и простые миряне. Но лица из черного и белого духовенства, церковного причта, а также находящиеся под патронатом церкви или получавшие от нее содержание (слепцы, хромцы, юродивые, «задушные» люди — холопы, отпущенные на волю по духовному завещанию, странники и т. д.) судились только в церковных судах. Иски, в которых затрагивались интересы лиц, находившихся под церковной юрисдикцией, и лиц из мирян, разрешались на так называемых «смесных» или «вопчих» судах, т. е. на совместном разборе иска княжескими и церковными судьями.
Для рассматриваемого .времени характерно стремление церковников сосредоточить в своих руках всю полноту судебного исследования по делам, касающимся нарушения основ феодальной морали, причем в части репрессивной церковь добивается активной поддержки со стороны светской власти (соединение чисто церковных наказаний—отлучения, покаяния, пострижения и т. д. — со светскими уголовными наказаниями — денежные штрафы, телесные наказания и т. д.).
Церковное уголовное право официально утверждало систему сословной неравноправности, назначая дифференцированные наказания в зависимости от сословного положения потерпевшего. Так, в «Митрополичьем Правосудии» в статье, посвященной общим принципам установления наказания за нанесенное бесчестье, говорилось: «Князю великому за бесчестие главу снять, а меньшему князю, ли сельскому, ли тысячникам, ли околичником, ли боарину, .ли слузе, ли игумену, ли попу, ли дьякону по житью, по службе бесчестье судят» 106.
Церковь вела борьбу и с политическими преступлениями. В церковном уставе князя Ярослава содержалась статья, согласно 106 «Памятники русского права», вып. 3, стр. 426.
— 36 —
которой необходимо было развести мужа с женой, «аще услышить жена от иных людей, что думают на царя или на князя, а того му- жю своему не скажет, а после обличится» 107.
'Объем компетенции церковного суда в отдельных землях и княжествах Северо-Восточной Руси не был одинаков, находясь в зависимости от той роли, которую играла церковь в этих княжествах. Так, например, в Пскове, находившемся в церковном подчинении у новгородского архиепископа, область церковного суда была более .всего ограничена, что объяснялось стремлением Пскова отстоять свою независимость от Новгорода не только в политическом, но и в церковном отношении. Поэтому в Пскове, ранее чем в других княжествах, иски о нанесении бесчестья, тяжбы по разделу имущества между детьми и братьями умершего, отцеубийство и сыноубийство 'были изъяты из ведения церковных судов и переданы судам светским.
В Новгороде, где церковь играла выдающуюся роль в политической жизни города, наоборот, суду новгородского архиепископа подлежал ряд дел, которые обычно велись светскими судами. Согласно Уставу князя Всеволода Мстиславича, определившему объем и компетенцию церковного суда в Новгороде в период феодальной раздробленности, княжеские тиуны и наместники должны были творить свой суд вместе с архиепископским наместником. Этот порядок, -видимо, был изменен только в XV в., в связи с общим стремлением ограничить роль церковников в светском суде.
В Московском княжестве в XIII—XV вв. объем и компетенция церковного суда в целом определялись указанными выше уставами Владимира и Ярослава. Но, говоря о пространстве и сфере действия церковного суда, следует также сказать, что в своих обширных владениях (кафедральных, монастырских) церковники пользовались всеми правами феодального иммунитета, в том числе и правом светского суда. В Московском княжестве, как это было очевидно и в других княжествах 'Северо-Восточной Руси, объем иммунитетных прав митрополичьей кафедры и монастырей определялся в каждом конкретном случае специальными уставными договорными грамотами 108.
В XIII—XV вв., как и в Киевском древнерусском государстве, суд не был отделен от власти административной. В период феодальной раздробленности сословный характер феодального права еще не привел к образованию специальных сословных судебных учреждений, если не считать сословную подсудность духовенства и патронируемых церковью лиц церковному суду и подсудность феодалов-иммунистов и их приказчиков исключительно княжескому суду. Судебная -власть дробилась в полном соответствии с иерархической структурой господствующего класса, предполагающей, в свою очередь, дробление политической власти между членами этого класса. Выше уже говорилось о существовании особого церковного суда, а также вотчинной юстиции, т. е. судебной власти феодала-иммуниста над зависимым от него населением.
107 НПЛ, стр. 483.
108 См. Л. В. Ч е р е п н и н. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 2, стр. 118—123.
— 37 —
Источником судебной власти считался князь, который осуществлял свой суд лично или через своих агентов («бояр введенных», «данных» судей, наместников, волостелей, княжеских тиунов), уполномочиваемых им на выполнение судебных функций. «Бояре введенные» -были лицами из высших слоев господствующего класса, близких к князю, пользующихся его доверием и, как таковые, уполномочиваемые князем на выполнение ответственных поручений. В период феодальной раздробленности «бояре введенные», возможно, посылались для суда и расправы по жалобам и челобитным, адресованным князю, минуя суд наместника или волостеля, рассматривали иски на феодалов-иммунистов, на которых не распространялась юрисдикция местных властей. В жалованных несуди- мых грамотах привилегированным феодалам обычна формула: «а кому будет чего искать на (имя рек)... ино их сужу яз князь великий или мой боярин введенной». Иногда в грамоте к этой формуле добавляется: «...или мой боярин введенной, которому прикажу». Это добавление говорит о временном характере поручений, даваемых князем своим «боярам введенным».
«Бояре введенные» входили также в состав судей так называемого «смесного» или «вопчего» суда в случае исков, затрагивавших интересы «отдельных княжеств. Так, в духовной грамоте Дмитрия Донского (1389 г.) упоминается «введенный боярин» Федор Андреевич, который «вытягал» для московского князя на смесном суде «у смолнян» города «Тов и Медынь» 109. Возможно, что «бояре введенные» посылались улаживать иски, связанные с татьбой, разбоем или наездом, совершенными людьми соседнего княжества: «А где ся учинит раз>бой, и татба и наезд из твоее отчины на наших лю- дею и о том суда вопчево не ждати, отослати нам на то своих судей, да велети нам тому исправа учинити без перевода»110.
Вопрос о том, каков был объем судебной власти наместников и волостелей в период феодальной раздробленности до сих пор еще окончательно не разрешен. Наместники и волостели, получавшие кормления на правах вольной службы, имевшие в своем распоряжении административно-управленческий штат, составленный из числа феодально-зависимых от них людей, несомненно, обладали значительной самостоятельностью и бесконтрольностью в вопросах суда и управления в пределах своей округи. Однако необходимо подчеркнуть, что компетенция того или иного наместника все же определялась княжеской властью, а также его личным социальным положением. Крупнейшие феодалы, назначавшиеся на должность наместника, несомненно, получали от князя все прерогативы судебной власти, вплоть до смертной казни преступника, тогда как мелкие феодалы при назначении на эти должности подчас могли быть лишены многих правительственных функций.
109 ДДГ, № 12. См., например, в договорной грамоте Дмитрия Донского с тверским князем Михаилом Александровичем (1375 г.): «А что ся учинит межи нас, князей, каково дело, ино съедутся бояре наши на рубеж, да межи нас поговорят. А не уговорятся, ини едут на третий, на князя на великого на Ольга» (т. е. в этом случае должны прибегнуть к третейскому суду) (ДДГ, № 9).
110 ДДГ, № 76.
— 38 —
Можно различить две категории наместников: с боярским судом и без боярского суда. В жалованных грамотах XV в. есть указания на то, что «суд боярский» был равен суду княжескому 11L Наместники, обладавшие правом «боярского суда», имели право произнести окончательный приговор по всем судебным делам и выдать истцу «правую грамоту», дававшую право требовать исполнения приговора 111 112. Функции наместников, не обладавших правом «боярского суда», сводились к разбору мелких уголовных и гражданских дел, сбору податей и исполнению распоряжений княжеской •власти.
При назначении на должность наместника, видимо, всегда оговаривалось, с каким «судом» давалась должность кандидату: «...пожаловал есмь Александра Васильевича Карамышева городом Плесом в кормление и судом з боярским»113. Иногда при даче кормления вообще отсутствует фраза о праве суда у кормленщика: кормление давалось только или с «пятном», или с «мытом», или с какими-либо другими пошлинами 114. Были случаи, что у наместни- жа по истечении срока кормления отнималось право суда. Так, в 1517 г. Василий III продлил («перепустил») П. М. Апраксину на шолгода срок управления волостью Обнорой Вологодского уезда, но уже без права суда («без правды»)115. Хотя последний пример ъзят из практики начала XVI в., но можно с полным основанием предположить, что такая практика могла быть уже в конце XIV— XV в., когда с укреплением великокняжеской власти стали предприниматься первые шаги к стеснению наместничьего управления, ■подчинению его контролю со стороны центральной власти.
Характерным для периода феодальной раздробленности являлось наличие особых так называемых «смесных» или «вопчих» судов. Их сущность заключалась в том, что дело между тяжущимися сторонами, юридически подсудными разным судам (например, тяжба между лицом подведомственным церковному суду, и лицом, подсудным суду княжескому), разбирались лицами, представлявшими эти суды. Так, например, <в Псковской судной грамоте специально оговаривалось, что в случае тяжбы мирянина с церковным ’человеком «судить князю и посаднику с владычным наместником ъо1пчи». Судебные пошлины в этом случае делились между судьями.
«Смесные» суды имели большое значение в условиях страны, 'разделенной многочисленными перегородками феодальных кня- .жеств, крупных привилегированных вотчин, в условиях наличия обширных иммунитетных привилегий у феодалов-землевладельцев. 111 В указанной грамоте Василия II бежецким наместникам последним от •имени великого князя указывалось: «А что есмь вас пожаловал на Бежыцком ‘Берсе своим судом боярским, и вы бы тех людей монастырьских присецких, и ..деревеныцыков, и поселского монастырьского тем моим судом не судили, ни .приставов бы есте моих на них не давали» (АСЭИ, т. I, № 262, стр. 191). В Судебнике 1497 г. (ст. 21): «А с великого князя суда имати на виноватом потому лке, как и с боярского суда, с рубля по два алтына, кому князь велики велит».
112 О кормлениях с «боярским судом» см.: И. И. Смирнов. Судебник Я550 г. «Исторические записки», т. 24, 1947, стр. 267—352.
113 ГПБ, Отдел рукописей, ф. собрание грамот и актов, 1/53.
114 «Акты Юшкова», № 61, 72, 73 и др.
115 Там же, № 79.
— 39 —
В княжеских договорных грамотах постоянно встречается условие о «смесном» суде: «А что ся учинит межи нас князей каково дело, ино сведутся бояре наши на рубеж, да межи нас поговорят. А не- уговорятся, ини едут на третий», т. е. в случае разногласий следовало прибегнуть к помощи третейского судьи, «ково себе излюбят»- сами судьи. Решение третейского судьи считалось окончательным 116.
Практика феодального суда в XIII—XIV вв. не знала права- апелляции, специальных апелляционных судебных инстанций. «Боярский суд» кормленщика приравнивался к суду княжескому. Однако можно думать, что с усилением великокняжеской власти в практике суда все более частыми становились случаи, -обжалования наместничьего суда. Эта тенденция впервые получила свое отражение в Двинской уставной грамоте (1397—1398 гг.), которая являлась первой попыткой обобщения действовавших в Московском княжестве норм права и применения их на вновь присоединяемых территориях. Грамота предусматривала возможность обжалования перед великим князем приговоров двинских наместников, в части превышения последними своих прав в наложении судебных штрафов («учинит продажу сильно»), но. очевидно, не имела в виду пересмотра самого приговора по существу. Это всего лишь, робкая попытка в установлении контроля за судебной деятельностью кормленщиков и необходимо при этом учитывать особенности политики московского правительства, стремившегося опереться на? низшие и средние слои феодалов и на черносошное крестьянство против местной знати в только что присоединенной к Москве Двинской земле. В то же время эта статья о возможности жалобы на превышение судебных штрафов в какой-то степени учитывала практику новгородского судоустройства, поскольку Двинская земля до ее присоединения в 1397 г. к Москве входила в состав владения Великого Новгорода.
В Новгороде высшим судебным органом являлась судная коллегия, состоявшая из посадника, княжеского наместника и двух представителей (из числа -бояр и житьих людей) от каждого из новгородских концов. Эта судная коллегия заседала регулярно три раза в неделю на «владычном дворе», разбирая дела, представляемые судьями низшей инстанции 117.
В XV в. практика судебных инстанций прочно утверждается и- в Московской земле. В последней четверти XV в. в Москве была создана специальная центральная боярская судная комиссия, а Судебник 1497 г. зафиксировал наличие трех видов судебной инстанции 118. Следует, однако, отметить, что высшие судебные инстанции в Новгороде и в Москве не являлись специальными апелляционными судами. В этих судах выносился по докладу судей низшей инстанций приговор по делам, которые -судьи низших ин116 АЮБ, т. I, № 103/1; ДДГ, № 9, II, 13. 19 и др.
117 «Новгородская судная грамота», ст. ст. 3, 6, 20, 21, 26, 42. См. также- проект договорной грамоты Новгорода с литовским великим князем Казимиром IV, составленный в 1470—1471 гг.
118 См. Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 2.‘, стр. 320—323.
— 40 —
станций не могли по каким-либо причинам разрешить на месте или не имели на это необходимых полномочий. Апелляция на решение судебных органов возможна была на имя князя, который своей властью мог изменить приговор наместничьего суда, суда «бояр введенных» и т. д. Так, в начале XVI в. удельный рязанский князь отменил решение своих бояр, приговоривших тяжущиеся стороны к судебному поединку (к «полю»). По челобитью истцов князь мог взять спорное дело к себе, не дожидаясь разбора этого дела наместником, или прямо приказав наместнику передать рассмотрение дела в другие руки 119 120.
Следует отметить некоторые особенности в новгородском и псковском судоустройстве. В Новгороде существовали специализированные суды по отдельным видам тяжб. Так, посадники вели преимущественно дела о земельной собственности, а тысяцкие рассматривали иски, вытекающие из договорных обязательств. В Пскове княжескому суду (совместно с посадниками и сотскими) были подведомствены определенные категории дел: дела о убийстве, разбое, грабеже, татьбе, побоях, о -беглых изорниках и землевладении. Все остальные дела (и прежде всего вытекающие из договорных обязательств) рассматривались посадниками и псковскими судьями, избираемыми на вече из среды знатных боярских фамилий. В Пскове существовал также особый суд братчин, рассматривавший случаи побоев, драк и т. д., возникших во время пиров, устроенных вскладчину 12°.
Дальнейшее развитие получает в XIII—XV вв. и процесс судопроизводства. В это время, как и во времена «Русской Правды», не проводилось различия между уголовным и гражданским процессом. Судебный процесс носил состязательный (обвинительный) характер. Обе стороны, выступавшие на суде, одинаково назывались истцами (в Пскове они назывались «сутяжниками»).
Но уже, видимо, в XIV в. в процессе судопроизводства получают развитие некоторые элементы предварительного следственного процесса по возбужденным искам. Двинская уставная грамота, устанавливая различные по степени наказания за повторную и троекратную татьбу, очевидно, предусматривала предварительный сыск о человеке, обвиненном в повторной или троекратной татьбе. Этот сыск мог выражаться не в расследовании преступления, как это было впоследствии, а в установлении через опрос местных жителей степени добропорядочности человека, обвиненного в татьбе во второй и третий раз (так называемый повальный обыск). Но о существовании такого сыска во времена Двинской уставной грамоты можно только предполагать.
Псковская судная грамота предусматривала возможность проведения обыска и выемки поличного у человека, заподозренного в татьбе, что производилось в этом случае судебными приставами в присутствии нескольких понятых. Обвиненный в краже привлекался к судебной ответственности и в том случае, если он не допус119 «Акты Юшкова», № 50, 104.
120 «Псковская судная грамота», ст. 113.
— 41 —
кал пристава и понятых к проведению обыска. В случае же если •обыск был произведен и обнаруживалась украденная вещь, то для вынесения обвинительного приговора не требовалось более иных доказательств. Точно так же прекращалось рассмотрение дела и в том случае, если обыск не давал никаких результатов. Каких-либо других действий для сбора доказательств против этих лиц не производилось.
В памятниках права того периода продолжает фигурировать известный нам по «Русской Правде» «свод»— особый вид отношений сторон суда, сводившийся к тому, что заподозренное в краже лицо обязано было привести на суд человека, у которого была приобретена спорная вещь.
Разбор исков на суде, как правило, производился в присутствии обоих истцов. Новым в этом отношении было появление института судебного представительства, которого не знала «Русская Правда». В Пскове женщины, монахи, малолетние, престарелые и глухие имели право поручить отстаивание своих интересов на суде доверенным лицам («пособникам»)121. Институт представительства сторон на суде развивался и в судебной практике других земель и княжеств Северо-Восточной Руси. На суде по земельным искам интересы феодалов по их уполномочию отстаивали их же приказчики, посельские и т. д. (например: «тягался старец Онтоней в архимаричье место и за всю братию с Федоском, да с Матфейком, да с Останкою с Ысаковыми детьми Башлово...»), интересы черносошных волостных крестьян на суде отстаивали старосты, сотские и другие лица из выборной общинной власти. Так, например, в 60—70-х годах XV в. сотский Лычов, десятские Сысойко и Михал- ко подали в суд жалобу «за всю волость за Пехорскую» на архимандрита Симонова монастыря за произведенные последним земельные захваты 122.
Важным моментом в -развитии процесса судопроизводства в рассматриваемое время является разработка правил привлечения ответчика на суд по возбуждаемым искам и установление сроков явки сторон на суд. Вызов ответчика на суд производился через приставов. В Пскове пристав вызывал ответчика на церковную площадь и объявлял ему во всеуслышание о предъявленном иске и сроке суда. В случае неявки ответчика в указанный срок на суд пристав или истец получали от судей грамоту о доставке ответчика на суд силой, вплоть до применения в случае сопротивления оков. Но такой порядок вызова на суд был установлен только в делах по наиболее важным уголовным преступлениям (душегубство, разбой, грабеж и др.). В случае, если иск шел о мелких уголовных преступлениях или по гражданским делам, насильственный вызов ответчика в суд не производился. В этом случае ответчик без суда признавался проигравшим дело 123.
121 «Псковская судная грамота», ст. ст. 58, 68, 71; см. также «Новгородская судная грамота», ст. ст. 18, 19.
122 АЮБ, т. I, № 52.
123 «Псковская судная грамота», ст. ст. 25, 26.
— 42 —
В Новгороде вызов на суд ответчика достигался посылкой к нему специальной вызывной грамоты (позовницы)124. Если ответчик укрывался, то с вызовом к нему посылали трижды с одновременным объявлением о вызове через бирючей. Неявка на суд в этом •случае приводила к обвинению ответчика без суда. Вызов и доставка ответчиков ,на суд через специальных судебно-административных лиц (пристава, доводчики, позовники, подвойские, дворяне, не- делыцики) практиковался не только в Пскове и Новгороде, но и в других княжествах.
Срок явки сторон на суд устанавливался исходя из возможности для них явиться вовремя на суд. Новгородская судная грамота, например, устанавливала срок явки на суд в зависимости от ^расстояния, разделявшего место судебного разбирательства от места проживания той стороны, которой посылался вызов явки на суд (ст. ст. 24, 36, 41). Так как неявка в срок на суд приводила к проигрышу и поскольку пристава иногда «наметывали» сроки для явки на суд, исходя из интересов одной из тяжущихся сторон или же не считаясь с возможностью для той или иной стороны явиться на суд в указанный срок, поэтому по ходатайству феодалов, крестьянских волостных общин и т. д. князья стали выдавать специальные жалованные «срочные» грамоты, в которых устанавливались единые в течение года сроки явки на суд 125. Иногда в жалованной срочной грамоте сторонам предоставлялось самим выбирать себе срок явки на суд 126.
Основными видами судебных доказательств являлись: собственное признание (или нежелание ответчика оспаривать предъявленный ему иск), свидетельские показания (послушество), поличное, присяга (крестоцелование), судебный поединок («поле») и, наконец, письменные документы. Известный по «Русской Правде» способ доказательства — объявление на торгу о пропавшей вещи или холопе — в Пскове применялся только в тех случаях, когда у истца не было необходимых письменных документов, причем к объявлению о своих претензиях (закликанье) можно было прибегать только в двух случаях — когда наймит взыскивал с хозяина причитавшуюся ему за труд плату и в случае взыскания феодалом покруты с отказывавшегося от него изорника 127.
Важную роль в судебном процессе, особенно в делах по землевладению, играли показания послухов-свидетелей, причем предпочтение на суде отдавалось послухам-старожильцам. На суде нередкими были случаи, когда послухи той или иной стороны заявляли, что они помнят за несколько десятков лет, что спорная земля принадлежит такому-то лицу. Отсутствие послухов у какой-либо стороны могло привести для этой стороны к проигрышу процесса. 124 «Новгородская судная грамота», ст. ст. 39, 40. См., например, жалованную грамоту новгородского архиепископа Евфимия Спасскому Верендовскому монастырю: «не позывати их (старцев монастыря. — А. Л.) в Великий Новгород ни подвойским, ни дворяни, ни бирице, ни известники и их позовницы': а кому ’будет до них каково дело и он их зовет моею позовною и суд им предо мною 2в Новгороде» (ГВиП, № 94, стр. 150).
125 АСЭИ, т. I, № 316 и др.
126 АФЗиХ, ч. 1, № 275.
127 «Псковская судная грамота», ст. ст. 39, 44.
— 43 —
Расхождение на суде между показаниями послуха и тяжущегося влекло к обвинению той стороны, чья ссылка на этого послуха не подтверждалась. Допускалась ссылка тяжущихся сторон на одних и тех же послухов (такая ссылка 'была известна под именем ссылки .на общую правду). В то же время, если одну из сторон не удовлетворяли свидетели противной стороны, можно было требовать их замены другими свидетелями 128. В случае расхождения показания свидетелей сторон последние могли сами требовать от судьи приведения их к присяге (к крестному целованию) или же назначения судебного поединка. В свою очередь одна из тяжущихся сторон могла оспаривать показания послухов противней стороны, требуя от судьи решить дело крестоцелованием или судебным поединком с этими послухами 129. Неявка послуха на суд вела к потере иска для стороны, его выставившей 13°.
Судебные поединки («поле») как вид судебного доказательства уже в XIII в. вытеснили ордалии «Русской Правды» (испытание железом и водой), но к концу рассматриваемого периода «поле» в свою очередь вытесняется другими видами судебных доказательств, прежде всего предъявлением суду письменных документов (хотя в Судебнике 1497 г. «поле» продолжало фигурировать в качестве одного из признанных видов судебных доказательств). Падению значения «поля» способствовало и отрицательное отношение к нему со стороны церкви131. В судебной практике XV в. процесс редко кончался судебным поединком, несмотря даже на согласие тяжущихся сторон решить дело «полем» 132.
К концу рассматриваемого периода все большее значение в качестве судебного доказательства приобретают письменные документы, удостоверяющие тем или иным образом право на движимую и недвижимую собственность (духовные грамоты, купчие, правые, разъезжие, закладные, мировые и т. д.). По наблюдениям Н. Дювернуа, в XIV—XV вв. письменная форма была более всего распространена в сделках, касающихся недвижимого имущества, и в актах завещания 133.
Во времена «Русской Правды» гарантирование заключаемых сделок достигалось присутствием послухов или участием официальных лиц. В XIV—XV в.в. в условиях дальнейшего роста феодальной собственности, развития товарно-денежных отношений эта 128 АЮ, № 2, 6; ААЭ, т. I, № 103.
129 «Акты Юшкова», № 13; «Псковская судная грамота», ст. 20.
130 «Псковская судная грамота», ст. 22.
131 В послании митрополита Фотия к новгородцам (1410 г.) решительно осуждаются судебные поединки: «Еще же и сему наказаю: аще который человек позовется на поле да приидет к которому попу причаститись, ино ему святого причастия нет, ни целования крестного; а который поп даст ему святое причастие, тот поповства лишен. А кто утепнет лезши на поле, погубит душу, по великого Василия слову душегубец именуется, в церковь не входит, доры не приемлет, ни Богородицына хлеба, причащения ж святого не приимет оемнадцать лет; а убитого не хороните, а который поп похоронит, тот поповства лишен» (ААЭ, т. I, стр. 426).
132 См. Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 2, стр. 248—249.
133 См. Н. Дювернуа. Источники права и суд в древней России. М., 1869, стр. 208.
— 44 —
форма гарантии оказывалась недостаточной и практически малоудобной. Письменные акты, удостоверяющие сделки по движимой и недвижимой собственности, оказывались более удобным и надежным способом доказательств права владения. Выше уже говорилось, что Псковская судная грамота отдавала предпочтение письменным документам, признавала неоспоримым доказательством права владения собственностью, выдачи ссуды и т. д., предъявленную суду запись или рядницу, в случае если копии с них хранились в архиве Троицкого собора. Столь же важное значение придавалось письменным актам и в новгородском суде. Во время археологических раскопок 1952 г. в Новгороде была найдена берестяная грамота, содержавшая в себе просьбу некоего Петра к Марье. Петр писал, что жители села Озеры покосили луг, принадлежавший Петру, и забрали сено, что Марья должна поэтому снять копию с хранившейся у нее купчей грамоты на этот луг и прислать Петру 134. Несомненно, что копия с купчей грамоты нужна была Петру для обоснования своих прав на покошенный озерскими крестьянами луг и возмещения ему через суд причиненных убытков. Л. В. Арциховский датировал данную грамоту рубежом XIII—
XIV в., это говорит о том, что при значительном распространении грамотности среди новгородского населения оформление различных сделок в письменной форме и употребление их на суде в качестве доказательства в Новгородской земле восходит к глубокой древности.
Значение письменной документации особенно возрастает в
XV в. в связи с обострением борьбы между феодалами за землю. Получение письменного документа на право владения землей (жалованная данная грамота, купчая и др.) стало необходимым для каждого феодала, если он не хотел рисковать потерей земли в результате притязаний своих соседей. Для получения такого документа феодалы -не брезговали ничем, вплоть до составления подложных жалованных грамот, купчих и т. д. В целях пресечения составления подложных грамот в XV в. предпринимаются шаги к тому, чтобы письменные акты, оформлявшие различные сделки по движимой и недвижимой собственности, заверялись официальными лицами, скреплявшими эти акты своими подписями и печатями.
Судебный процесс по земельной тяжбе являлся тогда одновременно и важнейшим способом укрепления владельческих прав. В связи с этим приобрели огромное значение так называемые правые грамоты, которые становились сами важнейшими документами, предъявлялись в последующих земельных тяжбах как документ, удостоверяющий право владения на спорные земли. Согласно Новгородской судной грамоте (ст. 12) лицо, выигравшее земельную тяжбу и получившее на руки правую грамоту («судную грамоту»), имело право на самоуправный захват присужденной ему земли, не дожидаясь ее -передачи со стороны лица, проигравшего процесс.
В эпоху «Русской Правды» судебные решения выносились в устной форме. Выдача специальных правых грамот начинает практиковаться, очевидно, не ранее второй половины XIII в. До нас
134 См. А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из расколок 1952 г.). М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 56—57.
— 45 —
дошла одна из правых грамот этого времени. Она была выдана в. 1284 г. смоленским князем Федором Ростиславичем. Формуляр^ этой правой грамоты отличается крайней лаконичностью. В ней: говорится только о тяжущихся сторонах, предмете тяжбы, решении судьи и лицах, присутствовавших на суде князя 135. В XIV— XV вв. решения суда оформлялись уже только в письменном виде. По своему формуляру правая грамота, выдаваемая стороне, выигравшей процесс, становится обширным документом, содержащим, помимо решения суда подробное описание всего процесса судопроизводства по данной тяжбе (так называемый судный список).
Разновидностью правой грамоты являлась так называемая бессудная грамота, выдававшаяся судьей одной из тяжущихся сторон без судебного разбора на основании того, что другая сторона не явилась в суд в назначенный срок или вообще уклонилась от суда 136. О бессудной грамоте как судебном приговоре, выносимом без судебного разбирательства, впервые говорится в Двинской уставной грамоте, но «выдача таких грамот на практике стала осуществляться значительно ранее. Древнейшее упоминание о выданной бессудной грамоте содержится в одной из берестяных грамот начала XIV в., найденной во время археологических раскопок в. Новгороде в 1955 г.137. В 1959 г. в Новгороде же была найдена берестяная грамота (третья четверть XIV в.), представляющая собой уникальную запись об исполнении тягавшимися сторонами приговора бессудной правой грамоты 138.
Примирение сторон до суда или во время суда оформлялось, в так называемой мировой грамоте. В случае отказа одной из сторон от своих притязаний на суде составлялась отступная грамота 139.
Как говорилось выше, памятники права XIII—XV вв. ничего не говорят о возможности для одной из сторон обжаловать в законном порядке решение суда. Но в практике возможны были случаи челобитья к князьям об изменении или пересмотре приговора и удовлетворения этих челобитий. Более того, были случаи, когда 135 «Се яз князь смоленьскый Федор соудил есмь Биреля с Армановичем проколокол, при немецьскый. Бирель прав, а Армановичь виноват, выдал есмь Армановича и с двором немьцом за колокол. А тоу были на соуде со мною бояре мои: Григорь наместьник, Данило, Артемии, Микула Дядкович, Лоука околничии, Поутята Дядкович, а от немець были на соуде искали колокола: Ян, Альбрат из Брюньжвика, Геньци, Яган, Варендоир, Моисеи, княж печатник Федоров, печатал. Си же грамота пеана бысть ищьло было от Рожество Господня до сего лета 1000 лет и двесте лет и осмьдесят лет и три лета, а на четвертое лето пеана. А Федорко писец княж псал» («Грамоты, касающиеся до сношений Северо-Западной России с Ригою и Ганзейскими городами в XII, XIII и XIV веках». Найдены в Рижском архиве К. Э. Напиерским и изданы Археографической' комиссией. СПб., 1857, № IV).
136 ЦГАДА, ф. ГКЭ, оп. 26, № 723; АСЭИ, т. I, № 329, 479.
137 См. А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.). М., Изд-во АН СССР, 1958, грамота 137; см. также: А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.). М., Изд-во АН СССР, 1958, грамоты 251, 302.
138 См. А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1959—1961 гг.). М., Изд-во АН СССР, 1963, грамота 366.
139 ГВНиП, 234; АСЭИ, т. I, № 214, 372, 396, 510, 649 и др.
— 46 —
сами князья по челобитью отменяли решения своего суда и удов*, летворяли челобитчика «мимо список и мимо суда» 140.
Исполнение судебного решения возлагалось на судебных исполнителей: приставов, недельщиков, подвойских, княжеских слуг и т. д. Необходимо отметить, что в Новгороде только в случае выигрыша дела по земельной тяжбе и получения правой грамотщ можно было сразу же предъявить свои права на землю. В других случаях удовлетворение потерпевшей стороны на основании решения суда достигалось в результате соглашения между тяжущимися сторонами. Обвиненный по суду имел право в течение месяца договариваться с судьей или с противной стороной об условиях удовлетворения потерпевшего. Но если обвиненный в течение месяца не предпринимал таких шагов, то потерпевший с помощью судебных исполнителей мог забрать его себе «головой». Попытка обвиненного скрыться от судебных исполнителей приводила к тому, что его. «казнили всем Великим Новгородом» 141. В Пскове решительно воспрещалось истцу до решения суда брать самовольно имущества ответчика в обеспечение своего иска 142.
Как отмечалось выше, смертная казнь по решению -суда назначалась только за отдельные наиболее тяжкие уголовные преступления. Наиболее распространенным видом наказания по суду был штраф (продажа), который шел в распоряжение суда. Кроме продажи, виновный по решению суда должен был возместить ущербу причиненный им потерпевшему. Виновного, который не был в состоянии платить вознаграждение, выдавался потерпевшему «головой до искупа», т. е. до отработки долга. Бегство обвиненного вело к конфискации его имущества 143.
Исполнение решения суда по земельным тяжбам часто оформлялось в отводных, разводных, деловых, разъездных грамотах, в которых устанавливались границы спорных земельных участков.
Феодальный суд в XIV—XV вв. по своему виду мало напоминает собой суд эпохи «Русской Правды». Складывается специальный судебный аппарат, включавший в себя помимо судей многочисленный штат судебных исполнителей, писцов или дьяков.
Все эти судебные чины получали с каждого рассматриваемого дела судебные пошлины, уплачиваемые обычно стороной, проигравшей процесс. Хотя при рассмотрении дела судьи руководствовались нормами феодального права, выраженными в отдельных юридических сборниках, но на решение суда немаловажное значение могли оказывать взятки — «посулы», плата судье по договоренности с истцом или ответчиком. Взимание посулов не только не преследовалось законом, но даже регулировалось. Двинская уставная грамота, например, запрещала брать посул только от человека, закованного «в железа». Новгородское право запрещало судье брать посул сразу с двух сторон, а также брать посул судьям высшей инстанции во время доклада им судного списка. Псковская судная грамота запрещала брать тайные посулы. Легализовала взятие 140 ЦГАДА, ф. ГКЭ, оп. 26, Звенигород, № 4678.
141 «Новгородская судная грамота», ст. 34.
142 «Псковская судная грамота», ст. 67.
143 АФЗиХ, ч. I, № 116.
— 47 —
посулов и Московская губная запись. Впервые борьба с посулами получает свое выражение лишь в статьях Судебника 1497 г.
Несомненно, что в рассматриваемый период феодальное право и судопроизводство сделали большой шаг в своем развитии, отвечая интересам класса феодалов в защите основ феодальных производственных отношений, в защите жизни и имущества членов господствующего класса от покушений со стороны угнетенных трудящихся масс. Говоря о феодальном праве, следует всегда помнить, что оно носило характер права-привилегии определенных сословий и классов и даже отдельных лиц, открывало широкий простор произволу феодалов в отношении личности и имущества трудящегося населения города и деревни.
Религия и церковь
А. М. САХАРОВ
К тому времени, когда христи¬
анство распространилось в средневековой Европе, в том числе и в России, оно уже совершенно изменило свой первоначальный социальный характер. Из религии, отражавшей в эпоху своего возникновения недовольство народных масс своим угнетенным положением в Римской империи, христианство превратилось в религию господствующего класса, в духовное оружие удержания народных масс в повиновении. Став мировоззрением господствующего класса, христианство оказало огромное влияние на все стороны духовной культуры средневекового общества. «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем подчиненными господствующему классу. Господствующие мысли суть не что
4 Очерки русской культуры, ч. 2
— 49 —
иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения; следовательно, это — выражение тех отношений, которые и делают один этот класс господствующим, это, следовательно, мысли его господства» !. Развивая это положение применительно к феодальному обществу, Ф. Энгельс отмечал, что «монополия на интеллектуальное образование досталась попам, и само образование приняло тем самым преимущественно богословский характер. В руках попов политика и юриспруденция, как и все остальные науки, оставались простыми отраслями богословия и к ним были применительны те же принципы, которые господствовали в нем. Догматы церкви стали одновременно и политическими аксиомами, а библейские тексты получили во всяком суде силу закона. ...А это верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности было в то же время необходимым следствием того положения, которое занимала церковь в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя»1 2. Господствующий класс феодальных землевладельцев и защищавшая его интересы княжеская власть активно помогали церкви в распространении христианского мировоззрения и борьбе с пережитками языческих верований, долго сохранявшимися среди народных масс.
* * *
Ко времени монголо-татарского нашествия христианство существовало на Руси уже три столетия, но степень его распространения была далеко неодинаковой в разных классах общества и в различных районах страны. Если представители господствующего класса в массе были ревностными приверженцами христианской религии, защищавшей их классовые интересы, то в народных массах христианство распространялось значительно медленнее и долго не могло полностью вытеснить остатки языческих культов и верований 3.
По посланиям церковных иерархов и нормам церковного права можно судить, насколько сильным было сопротивление народных масс христианству и как жестоко боролась церковь против язычества. На соборе 1274 г. во Владимире епископы ополчились против народных празднеств, которые происходили в ущерб церковным -праздникам и самим церквам. Собор указал при этом на кулачные бои, праздник в субботу под христианскую пасху, вождение невест к воде (о последнем обычае было сказано как о распространенном в Новгородской земле). Собор пригрозил проклятием всем тем, кто участвует в языческих праздниках, даже самим священникам; из этого можно заключить, что и само низшее духовенство в. ряде случаев далеко не было строгим преверженцем христианской религии. Обличению языческих верований были посвящены 1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 45—46.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 360—361.
3 О христианском культе и обрядах см. в кн.: «Церковь в истории России (IX в.— 1917 г.). Критические очерки». М., «Наука», 1967, стр. 5—10.
— 50 —
«Слова» знаменитого проповедника и писателя XIII в. Серапиона. Церковь боролась и с такими проявлениями язычества, как колдовство, волхвование и т. п. В 1378 г. был заточен на озере Лаче некий «поп от Орды пришедша», у которого «обретоша злых и лютых зелей мешок» (Московский летописный свод)4.
О том, как относились народные массы к религиозньш обрядам, неоднократно указывается в посланиях митрополитов Петра, Алексия, Фотия, в которых осуждается непочтительное отношение прихожан к церкви: во время служб они невнимательно слушают священников, разговаривают и смеются, не ходят на исповедь и причащение, а многие вообще уклоняются от посещения церквей,, ссылаясь на свои домашние молитвы5. Добиваясь строгого исполнения религиозных обрядов, церковь преследовала не только идеологические, но и материальные интересы, чтобы не уменьшался немаловажный источник доходов в виде платы за совершение религиозных треб.
По этим же причинам церковь особенно настойчиво добивалась, чтобы бракосочетания совершались только по христианскому обряду. Об этом писал митрополит Максим в конце XIII в.; этому же вопросу посвящены многие статьи церковных судебных установлений. Из них, между прочим, видно, что еще в XIII—XV .вв. сохранились какие-то пережитки группового брака в виде многомужества, многоженства, кровосмешения. Многие специальные статьи действовавших тогда церковных уставов князя Ярослава и других князей посвящены преследованию языческих обрядов бракосочетания (статьи о несомненно ритуальной краже «свадебного», «сговорного»)6.
Церковь настойчиво боролась за углубление и расширение своего влияния. Она предпринимала миссионерскую деятельность с целью христианизации русского и нерусского населения на окраинах. Так, известна миссионерская деятельность Стефана Храпа во второй половине XIV в. Он отправился в Пермскую землю,, разрушал и сжигал языческих идолов, крестил местное население и основал Пермскую епархию. Стефану принадлежит изобретение так называемой «пермской азбуки», применявшейся впоследствии преимущественно для тайнописи. Христианизация нерусского населения .встречала нередко упорное сопротивление, выливавшееся даже в убийство миссионеров. В 1455 г. был убит «священноепископ Питирим от безбожных Вогуличь» (Московский летописный свод)7.
Сарайская епархия русской церкви обращала в христианство народы Поволжья. В мордовской земле в начале XV в. уже существовала православная церковь св. Николы, которую поставил некий «бесерменин Хази баба»8. Большое церковно-политическое значение придавалось крещению татарской знати, переходившей 4 ПСРЛ, т. XXV, стр. 200. Вероятно, репрессия могла быть связана с политическими делами, так как этот поп был, по-видимому, духовником сына последнего тысяцкого на Москве, казненного в следующем году.
5 АИ, т. I, № 3.
6 НПЛ, стр. 483.
7 ПСРЛ, т. XXV, стр. 273.
8 Там же.
14*
— 51 —
на службу к русским князьям. В 1393 г. трех знатных татар крестил на Москве-реке сам митрополит Киприан в присутствии великого князя Василия Дмитриевича 9.
Благодаря возросшей материальной силе церкви и поддержке со стороны княжеской власти христианство на протяжении XIII—XV вв. расширило сферу своего влияния, хотя и не могло полностью вытеснить языческие верования и другие религии.
* * *
Материальной основой церковной организации было крупное землевладение. При обосновании своих прав на землевладение церковники ссылались на 29-е правило «святых апостолов», согласно которому «церковное богатство» — это «нищих богатство». Служители церкви доказывали, что их богатство существует ради «сирот, старости и немощи и в недуг впавших», что оно — «нищих кормление, и странной чади (странников. — А. С.) прилежание, сиротам и убогим промышление, и вдовам пособие, девицам потребы, обидимым заступление, в напастех поможение, в пожаре и в потопе, и пленным освобождение и искупление, в глад прекормление, в худобе, умирающим покров на гробы и погребание, а церквам и монастырем пустым подъятие, живым прибежище, а мертвым память» 10 11. В действительности за этими «гуманными» обоснованиями скрывалось стремление церковников к обогащению путем феодальной эксплуатации крестьян, живших на церковных землях. Всякое покушение на богатство церкви рассматривалось как величайшее преступление, за которое она грозила посягавшим «огнем сжеши, домы их святым божиим церквам вдати» и.
Церковники решительно сопротивлялись всяким попыткам посягнуть на их богатство, даже тогда, когда речь шла о передаче имущества <в пользу других храмов. В 1471 г. возмущение псковского летописца вызвало решение посадников и восставшего веча («препростой чади») отобрать часть доходов св. Троицы для восстанавливавшегося после пожара храма на Ушивой горке. Летописец привел по этому поводу ссылки на писания «святых отцов» о наказании посягателей на церковные богатства четырехкратнььм возмещением отобранного, опять-таки сожжением их домов ит. п.12.
Во время монголо-татарского нашествия в середине XIII в. материальное богатство церкви было серьезно подорвано. Летописи часто сообщают о разграблении церквей и монастырей, истреблении и уводе в плен церковных людей и населения, жившего на церковных землях. Поэтому первейшей заботой церковных властителей было восстановление и умножение материального имущества церкви.
Это в значительной степени облегчалось тем, что монголотатарские завоеватели наделили церковь на Руси, как и всюду в .завоеванных ими странах, большими привилегиями. Церковь была 9 ПСРЛ, т. XXV, стр. 221.
10 НПЛ, стр. 478.
11 Там же, стр. 480.
12 ПЛ, вып. II, стр. 180.
— 52 —
освобождена от уплаты дани в Орду. Владения церкви стали неприкосновенными. Завоеватели понимали силу церковного влияния и не без основания рассчитывали получить в ее лице своего союзника. Привилегированное положение церкви было одной из- важнейших причин, по которой церковь в XIV—XV вв., особенно в' Северо-Восточной Руси, стала самым крупным феодальным землевладельцем. Стяжательство церкви всегда обосновывалось «божественными» интересами. В актах, закреплявших земельные владения за церковью, обычно писалось, что земля принадлежит собственно не монастырю, а «пречистой богородице», «святой Троице» и т. п. Жалованная грамота рязанского великого князя Олега Ивановича Ольгову монастырю второй половины XIV в. была богато украшена изображениями Христа, богородицы, апостолов, святых; это выражало священность монастырской собственности на землю. Земли монастырей, митрополичьего дома, епископских кафедр, соборных церквей росли разными путями. Немалую роль в росте церковного землевладения имели княжеские пожалования, однако следует иметь в виду, что во многих случаях княжеские грамоты лишь оформляли владения церковников на уже захваченных или крестьянских землях. Свидетельства прямого наступления церкви на крестьянские земли сохранились даже в так называемых «житиях святых». Так, в 1360 г. по грамоте московского великого князя Дмитрия Ивановича некий Стефан Махрищский основал Троицкий монастырь в Вологодской земле. Окрестные крестьяне «мняху себе, яко имать владети селом их и нивами» и решили убить Стефана, которому пришлось уйти дальше на север и основывать монастырь на р. Сухоне 13. Источниками роста церковного землевладения были также покупки, обмены земли, вклады «по душе», причем и в этих случаях нередко лишь законно оформлялся уже происшедший захват земельного владения церковью. Известны многочисленные подделки церковниками актов на земельные владения.
В Новгороде известно также пожалование монастырям земель со стороны «концов» (например, пожалование Славенского «конца» Савво-Вишерскому монастырю в конце XIV в.).
Крупнейшим феодальным землевладельцем на протяжении XIV—XV вв. стал Московский митрополичий дом. Исследователь истории его землевладения С. Б. Веселовский пришел к выводу, что самые значительные и хозяйственно ценные митрополичьи владения образовались в 30—70-х годах XIV в., т. е. «именно в то время, когда московские князья, в борьбе с тверскими и суздальскими князьями за великокняжескую власть, нуждались в обосновании митрополичьей кафедры в Москве и привлечении митрополитов на свою сторону» 14. Большие земельные владения сосредоточились также у монастырей.
Во владениях церкви оказались плодородные пашенные земли и различные сельскохозяйственные угодья. В городах ей принадле- 13 «Очерки истории СССР» (период феодализма, XIV—XV вв.). М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 122—123.
14 С. Б. Веселовский. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 387.
— 53 —
^кали дворы и целые слободы, а некоторые города, как, например, Гороховец и Алексин (Алексин был впоследствии выменен великим князем Василием Дмитриевичем у митрополита Киприана на Ка- рашскую волость в Ростовском уезде), находились в полной собственности церкви. Особенно большое хозяйственное значение имели .промысловые угодья церкви. Монастырские, митрополичьи и другие церковные хозяйства владели соляными, рыбными и другими промыслами и, пользуясь княжескими льготами, вели широкую торговлю на внутреннем рынке. Они торговали также хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами, получая от всего этого огромные по тем временам доходы. От уплаты различных таможенных сборов церковные хозяйства, как правило, освобождались. Церковь практиковала отдачу денег в рост как крупный ростовщик-эксплуататор. Значительная часть огромных доходов, получаемых церковью, выпадала из общественного производства и тратилась на содержание монахов, клира, приобретение из Византии икон, «мощей», всяких иных религиозных реликвий. Наряду с выплатой громадной дани Орде сосредоточение «лежачей казны» у церковников было тормозом развития экономики XIV—XV вв.
Княжеская власть, заинтересованная в поддержке со стороны сильной церкви, закрепляла за ее владениями довольно широкий податной и судебный иммунитет. Картину самостоятельности церковной вотчины рисует уставная договорная грамота великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана от 28 июня 1404 г. «О людех и о волостех церковных». Эта грамота была в дальнейшем образцом, по которому заключались аналогичные договоры между великими князьями и митрополитами. Согласно этой грамоте митрополит имел полное право суда над населением принадлежавших митрополичьему дому земель. Боярам и слугам великого князя было запрещено покупать митрополичьи земли, а ранее купленные предлагалось возвратить. Устанавливался почти полный .податной иммунитет, за исключением сборов для выплаты дани и с торговли митрополичьих людей «прикупом», т. е. купленными товарами 15. Митрополичий дом имел свое войско. Церковь была, таким образом, крупным феодалом.
Податные и судебные льготы, которыми располагали церковные феодалы, давали им возможность привлекать население на церковные земли. Предоставляя участки земли, орудия производства, различные ссуды, церковные феодалы закабаляли крестьян. Помимо этого значительная часть крестьян попадала в феодальную зависимость от церкви вместе с теми землями, которые переходили в ее владение путем пожалований, вкладов и т. п. Широко известная в исторической литературе уставная грамота митрополита Киприана Константино-Еленинскому монастырю 21 октября 1391 г. перечисляет обязанности монастырских крестьян: строить церкви, монастырские здания и укрепления, пахать, сеять и жать на монастырской пашне, косить сено, ловить рыбу, охотиться на бобров, молотить рожь, печь хлебы, молоть солод, варить пиво, прясть леи, делать сети; кроме того, отдавать на Пасху по телке и 15 «Памятники русского права», вып. 3. М., Госюриздат, 1955, стр. 421—423.
— 54 —
приносить другие .подношения игумену 16. Писцовая книга Шелон- ской пятины, составленная в 1498 г., зафиксировала «старый доход» Новгородского Антониева монастыря с волости в погосте Фролов- ском. В этой волости было 13 деревень, в которых насчитывалось 35 дворов и столько же «тяглых» людей. Монастырь получал с этих дворов ежегодно более 325 коробей хлеба (коробья составляет 112 кг), а также деньги.
По рядной грамоте крестьян Робичинской волости с архимандритом новгородского Юрьева монастыря, датируемой 1458—1471 гг., крестьяне обязались отдавать в монастырскую житницу по 30 коробей ржи и сена, причем они сами должны были привозить рожь и сено в монастырь. В случае приезда архимандрита крестьяне должны были его кормить и «поить и давать еще дары: 5 гривен самому архимандриту, полкоробьи ржи его стольнику, полкоробьи ржи — чашнику, по коробье ржи — попу с чернецом, четверку ржи — дьякону, по коробье ржи — архимандритовым повару и конюху, по коробье ржи — «молодцам», четверку ржи — казначею с его повоз- ником, полкоробьи ржи — приставам новгородским17. Сохранившиеся грамоты позволяют думать, что первые мероприятия по юридическому оформлению крепостного права в России были осуществлены сначала на церковных землях. В грамотах верейского и белозерского князя Михаила Андреевича Ферапонтову монастырю в 50-х годах и в указанной грамоте ярославскому наместнику великого князя относительно крестьян Троице-Сергиева монастыря в €0-х годах XV в. впервые утверждается правило, ограничившее право «выхода» крестьян от своих владельцев Юрьевым днем 18. Таким образом, церкви как феодалу принадлежала большая роль в процессе развития феодальной собственности на землю и крепостнических отношений.
Церковь эксплуатировала также труд холопов, специально покупая их для строительства храмов, ремесленного производства. Многих холопов феодалы передавали церкви по своим духовным завещаниям. Нередко эти холопы становились феодально-зависимыми от церкви крестьянами.
Богатство церкви, ее материальная мощь образовывалась не только в результате эксплуатации земельных владений и промысловых угодий. С давних «времен существовала традиционная «десятина» — отчисление десятой части всех доходов в пользу церкви — «от княжа суда от всякого десятаа векша, и с торгу десятаа неделя, и от всего схода и прибытка, и от лова княжа, и от всякого стада, и от всякого жита десятое в соборную церковь: царь или князь в девяти частех, а церкы соборнаа десятую часть» 19. Помимо этого, церкви и монастыри получали в свою пользу право сбора пошлин. Например, Ипатьевский монастырь в Костроме имел в XV в. право сбора пошлин за переезд через р. Кострому близ монастыря20. 16 АФЗиХ, ч. I, № 201.
17 А м в р о с и й. История российской иерархии, изд. 2, ч. VI. М., 1815, <стр. 776—778.
18 «Памятники русского права», вып. 3, стр. 93—94.
19 НПЛ, стр. 479.
20 «Сборник Муханова», изд. 2. СПб., 1866, № 278.
— 55 —
Великий князь Иван Иванович отдал четвертую часть коломенской тамги московской церкви на Крутицах, а Успенскому и Архангельскому соборам — «костки московские»21. Княгиня Елена (жена серпуховского князя) и великая княгиня Софья (жена великого князя Василия Дмитриевича) отдали Архангельскому собору свои села 22.
Особым видом дохода церкви были сборы с торговли городских купцов.
Церковь получала также доходы от производства различных судов по «преступлениям, входившим в ее юрисдикцию.
В XIV—XV вв. церковь была крупнейшей материальной силой феодального общества. На этой силе основывалась ее значительная самостоятельность и независимость как особого учреждения.
* * *
Церковная организация строилась по иерархическому принципу и имела самостоятельное управление.
Со времени принятия христианства в X в. и до середины XV в. русская церковь находилась в подчинении константинопольской патриархии, которая назначала высших иерархов русской церкви и руководила ею в канонических вопросах. Русская церковь при посредстве константинопольской патриархии имела обширные международные связи с православными странами Востока и Балканского полуострова. В XIV—XV вв. к богатой русской церкви нередко обращались за материальной .поддержкой представители других православных церквей, попадавших в бедственное положение из-за усиления турецкой агрессии. Присылал за «милостыней» на Русь неоднократно и сам патриарх.
Русскую православную церковь возглавлял митрополит, который до середины XV в. «ставился» на кафедру константинопольским патриархом. Митрополиты на Русь назначались как из греческих, так и из русских иерархов. Нередко за митрополичью кафедру разгоралась острая борьба между кандидатами, которых в своих политических интересах выдвигали русские и литовские князья.
К концу первой половины XV в. отношения между Византией и русской церковью сильно осложнились вследствие усиления турецкой угрозы. Ослабевшая Византия искала союзников для борьбы с Турцией и соглашалась на предложения римско-католической церкви о заключении с ней церковной унии. Византийские политики хотели не только получить «поддержку католических стран, но и сохранить в сфере своего влияния богатую русскую митрополию. Для папской курии уния открывала возможности широкого распространения своего влияния на Восточную Европу, поэтому католической церкви тоже было очень важно, чтобы унию подписал московский митрополит. Специально для этой цели на освободившуюся вакансию главы русской церкви был поставлен митрополит грек Исидор, который в 1439 г., вопреки запрещению великого князя, явился на Феррарско-Флорентийский собор и подписал унию.
21 ДДГ, стр. 16.
22 Там же, стр. 72, 177.
— 56 —
Но московский великий князь не признал унии и арестовал Исидора, дав ему, правда, потом возможность бежать из-под ареста. Связи русской церкви с константинопольской патриархией были разорваны, русская церковь стала самостоятельной, автокефальной. Это обстоятельство создавало новую обстановку в отношениях между светской и духовной властью на Руси, когда церковь не могла уже более в своих спорах с князьями опираться на авторитет внешней силы — константинопольского патриарха. Соперничество между княжеской властью и церковью вскоре заметно обострилось 23.
Русские земли не всегда объединялись одной митрополией; в некоторые периоды литовским князьям удавалось добиться отдельной митрополии для западнорусских земель, входивших в состав великого княжества Литовского. Так, в 1414—1420 гг. существовала отдельная митрополия в Литве во главе с Григорием Цамблаком; с 1458 г. вновь и ;на длительное время от московской митрополии отпали русские земли, находившиеся под властью Литвы.
Митрополит имел всю полноту власти в отношении церковных дел и людей, принадлежавших к церковной организации или зависевших от нее. У митрополита, как и у великого князя, был свой «двор», в составе которого были митрополичьи бояре24, стольники25 и другие слуги. Они так же, как и княжеские слуги, владели землями и крестьянами. Митрополичьи «десятинники» собирали причитавшуюся церкви десятину.
Митрополия делилась на несколько епископий, число которых не было постоянным. К середине XV в. епискогши существовали в Новгороде, Ростове, Твери, Рязани, Киеве, Брянске, Чернигове, Полоцке, Перми, Суздале, Коломне и Сарае. Новгородский и ростовский епископы имели высший сан архиепископов. Во владении епископов находились земли и угодья; у них был также свой двор из слуг. Внешним отличием епископов была черная мантия с тремя белыми лентами на груди и черный клобук; новгородский архиепископ носил белую мантию и белый клобук. Епископы ставились митрополитами, как правило, в присутствии нескольких епископов; в редких случаях назначение на епископские кафедры осуществлялось непосредственно патриархом.
В Новгороде архиепископ избирался особым путем. На вече выбирались три кандидата на освободившееся в случае смерти или ухода прежнего архиепископа место. Выбор архиепископа из трех кандидатов осуществлялся путем жребия26. Формально новгородский архиепископ утверждался митрополитом, но в течение длительного времени новгородская архиепископия практически была независима. В конце XIV в. возник острый спор из-за притязаний московского митрополита на церковный суд в Новгороде, в резуль23 Подробнее см.: А. М. Сахаров. Церковь и образование Русского централизованного государства. «Вопросы истории», 1966, № 1, стр. 49—65.
24 НПЛ, стр. 408.
25 Там же, стр. 390.
26 См., например, описание выборов архиепископа Ивана в 1388 г. НПЛ, стр. 381—382.
— 57 —
тате которого новгородская архиепископия была вынуждена подчиниться Москве. Епископы ставились, как правило, из игуменов крупных монастырей.
В Пскове духовенство объединялось по «соборам» — вокруг некоторых церквей. На соборе в 1462 г. «по благословению отец своих попов всех 5 соборов, и священноиноков, и дияконов, и священноиноков и всего божиа священства всем Псковом на вечи» была принята Псковская судная грамота27.
Большую роль в церковной жизни играли соборы, собиравшиеся митрополитом из высших представителей церковной иерархии — епископов, архимандритов, игуменов. Иногда на соборах присутствовали и представители 'белого духовенства — священники. На церковных соборах обычно'утверждался кандидат на митрополию, а после отделения русской церкви от византийской в 40-х годах XV в. стали производиться выборы митрополита. На таких соборах требовалось участие всех высших иерархов. В 1461 г., когда умер митрополит Иона, на собор для выборов нового митрополита не прибыли ни новгородский архиепископ, ни тверской епископ, но зато прислали грамоты с согласием на любого кандидата, который будет избран собором28. То же самое повторилось на соборе 1465 г., когда выбирали митрополита Филиппа. Отсутствовавшие епископы прислали грамоты с согласием на любого кандидата29.
На соборах решались также различные спорные дела высших иерархов. Собор 1311 г. разбирал обвинения, выдвинутые тверским епископом против митрополита Петра. Предметом церковных соборов 'были различные вопросы, касавшиеся обрядовой стороны, борьбы с ересями и отступлениями от церковных догматов и норм поведения, определения позиции церкви в политических событиях.
Митрополиты и епископы регулярно объезжали подвластную им территорию, собирали причитавшиеся пошлины и подарки («подъезд»), осуществляли суд по входившим в их компетенцию делам. Эти поездки происходили в определенные сроки; когда в 1352 г. в связи с эпидемией в. Пскове туда отправился новгородский архиепископ Василий, летопись особо отметила, что он приехал в Псков «не в свои лета, не в свой черед»30.
На места посылались бояре, стольники, приставы, десятинники, выполнявшие различные поручения церковных иерархов. Если возникали сложные церковные и политические вопросы, митрополиты, епископы, а иногда и соборы обращались с посланиями к князьям, духовенству и верующим.
Все духовенство делилось на черное и белое. Черное духовенство давало обет безбрачия и организовывалось в монастырские общежития. Формально монастыри имели суровые уставы, предписывавшие максимальное отречение от земной жизни. На практике среди монахов образовывались различные группы, имевшие разное положение в монастырях. Там выделялась своя верхушка, в руках 27 «Псковская судная грамота». «Памятники русского права», вып. 2, стр. 286.
28 ПСРЛ, т. XXV, стр. 277.
29 Там же, стр. 278.
30 ПЛ, вып. II, стр. 102.
— 58 —
которой была сосредоточена вся власть над массой рядовых монахов. Игумены монастырей ставились князьями и епископами. Вступавшие в управление монастырями игумены давали клятву соблюдать строгие установления монастырского общежития и разделять со всеми монахами все его трудности, а также отчитываться перед ними в хозяйственных и других делах. Однако в действительности игумены и приближенные к ним старцы, управлявшие различными отраслями монастырского хозяйства, нередко использовали суровость монастырской власти для личного обогащения и подавления всякого протеста со стороны недовольных. Среди монахов иногда оказывались вынужденные по каким-либо обстоятельствам удалиться в монастырь представители феодальной знати, которые и в монастырях имели привилегированное положение. Значительная часть монахов трудилась в монастырском хозяйстве, но богатство монастырей создавалось прежде всего трудом феодальнозависимого населения.
Монастыри были мужскими и женскими.
Разновидностью монастырей были «скиты» и «пустыни» — поселения небольших групп монахов в отдаленных глухих местностях. Туда отправлялись обычно фанатично настроенные, религиозно экзальтированные отшельники, желавшие полностью удалиться от «суетного мира». Но нередко в скиты шли и предприимчивые монахи с целью организации новых, самостоятельных монастырей и завладения новыми землями. Как правило, из скитов впоследствии вырастали монастыри. Со второй половины XIV в. монастырская колонизация особенно усилилась: она охватила отдаленные районы Заволжья и Поморья. Это явление можно связать с начавшимся сокращением свободных земель в центральных районах страны.
К этому времени относятся и весьма существенные перемены, происшедшие в монастырской организации. Еще в Киевской Руси монастыри были крупными земельными собственниками, но монголо-татарское вторжение сильно подорвало монастырские хозяйства. Большинство монастырей стало существовать на так называемом «келлиотском» уставе, когда монастырского хозяйства как такового не существовало, а монахи жили на свой счет, в построенных ими кельях, носили свою одежду, питались своей пищей, вели мирские дела. Такие монахи происходили, как правило, из среды богатых людей, желавших провести конец жизни на покое, обеспечить себе «загробную жизнь» и поминовение после смерти.
Положение стало меняться во второй половине XIV в., когда в обстановке хозяйственного подъема стали образовываться монастыри нового типа — так называемые общежитийные, владевшие землями, угодьями, большим земледельческим и промысловым хозяйством. Основателями этих монастырей были уже не выходцы из феодальной и городской знати, а энергичные и предприимчивые организаторы из низшего духовенства, посадских людей и даже крестьян. Правда, далеко не все монастыри перешли сразу на общежитийный устав, еще в первой половине XVI в. было немало «кел- лиотских», или «ктиторских», монастырей. Однако утверждение монастырей как крупных феодальных хозяйств произошло во второй половине XIV в. и было связано с деятельностью церковных — 59 —
властителей того времени — митрополита Алексия и Сергия Радонежского31.
В XIV—XV вв. возникло 99 общежитийных монастырей — преимущественно в районах, где еще не было развитого феодального землевладения и имелись резервы рабочей силы в лице крестьян, которые начинали осваивать новые земли. На протяжении XIV—XV вв. возникло несколько крупных монастырей. Около 1337 г. был основан Троицкий монастырь вблизи г. Радонежа (поэтому его основатель Сергий получил наименование «Радонежского»; сам монастырь впоследствии стал называться Троице- Сергиевым). В конце XIV в. в Белозерском крае возникли Ферапонтов и Кириллово-Белозерский монастыри; в 1429 г. на далеком Соловецком острове в Белом море образовался Соловецкий монастырь. Названные монастыри скоро превратились в крупнейших собственников земельных и промысловых угодий. Наряду с этими наиболее значительными монастырями существовало и возникало вновь много других монастырей, тоже усиленно расширявших свои владения.
Монастыри существовали также в городах и близ городов. Городские и подгородние монастыри были не только материальной опорой князей и центрами религиозного идеологического воздействия на население. Монастырские стены и укрепления имели немалое военно-оборонительное значение, особенно усиливавшееся в тяжелое время постоянных татарских набегов на русские земли. Монастыри представляли собой и непосредственно военную силу, которая могла с успехом выдерживать оборону. Уже в XIV—XV вв. цепью монастырей опоясалась Москва. С юга ее прикрывал Симонов монастырь, которому большое внимание уделял Дмитрий Донской. При основании в 1374 г. Серпухова, имевшего очень важное значение для обороны центральных русских земель на одном из главных путей монголо-татарских вторжений, по просьбе князя Владимира Андреевича был основан под городом Зачатьевский монастырь32; Голутвин монастырь в XIV в. усилил оборонительное значение Коломны.
Белое духовенство состояло из священников и дьяконов. Священники должны были быть обязательно женаты; вдовые священники уходили в монастыри. Вопрос о возможности продолжения службы вдовыми и вторично женившимися священиками был предметом большого церковного спора, возникшего в Пскове в XV в. Священники посвящались в сан епископами, иногда они выбирались прихожанами с последующим поставлением епископами. Церковный причт содержался на взносы прихожан. Иногда церквам, особенно крупным соборам в стольных городах, отдавались в доход различные сборы и назначалось содержание от князей.
К церковным людям, полностью находившимся в ведении духовных властей, относились игумены и игуменьи, монахи и монашки, попы и их семьи, дьяконы, пономари, просвирни, а также врачи
31 Подробнее см.: И. У. Будовниц. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV—XVI вв. М., «Наука», 1966.
32 ПСРЛ, т. XXV, стр. 189.
— 60 —
(«лечцы»), слепые, хромые, больные, находившиеся в монастырях и церквах, странники, полоняники, нищие, «прощенники» и «задуш- ные» люди (по-видимому, холопы, переданные церкви их владельцами для «прощения грехов» и «спасения души»)33.
Положение различных слоев духовенства было далеко неодинаковым. Высшие церковные иерархи принадлежали к феодальной знати, владели громадными богатствами, эксплуатировали труд зависимого населения. Низшее духовенство по имущественному положению часто не отличалось от крестьян и посадских людей. Внутри самой церкви развивались всякие злоупотребления, против которых пытались бороться ее руководители. Известны случаи симонии — продажи церковных должностей за деньги, среди духовенства были распространены пьянство и различные преступления против нравственности.
Религиозные дела церковников отлично уживались с их мирскими интересами. Многие «отцы церкви» предстают честолюбивыми и властными политиками, настойчивыми стяжателями. Такими были коломенский поп Митяй, пытавшийся стать митрополитом, опытный политик митрополит Алексий, энергичный и решительный новгородский владыка Василий Калика и его неугомонный противник Моисей, вышедший продолжать политическую борьбу после почти 20-летнего сидения в монастырской келье.
Низшее духовенство тоже жило вполне реальными, земными интересами. На страницах 'рукописной церковной книги «Шесто- днев», переписанной псковским попом Саввой в 1374 г., сохранились любопытные заметки хозяйственного священника, показывающие, что дела духовные нисколько не заслоняли его домашних забот: «Родиша свиния порошата на память Варвары», «поити в гумно к страдником»34 и т. п.
* * *
Церкви принадлежало весьма значительное место в различных областях общественной жизни. Значение церкви возрастало тем более, что в условиях феодальной раздробленности она оставалась единой феодальной организацией. Княжеская власть была заинтересована в том, чтобы сделать влиятельную церковь союзником в политической борьбе. Если даже учесть, что в летописях, составлявшихся церковниками, как правило, сильно преувеличивалась роль церкви в политических событиях, то все же свидетельства источников убеждают в весьма значительной роли церкви в политических делах. Позиция церкви имела большое значение в ходе борьбы за объединение русских земель и усиление великокняжеской власти. При этом церковь, окрепшая к середине XIV в., обнаружила определенную тенденцию к независимости от великокняжеской власти, которая, в свою очередь, уже в княжение Дмитрия Донского попыталась подчинить себе церковную организацию. 33 НПЛ, стр. 478, 481.
34 Л. В. Ч е р е п н и н. Русская палеография. М., Госполитиздат, 1956, стр. 189—190.
— 61
Отношения между светскими и духовными властями на протяжении XIV—XV вв. были порой весьма сложными. Союз между этими силами не исключал довольно значительных противоречий между ними35.
При решении крупных политических вопросов князья обычно стремились заручиться советами и поддержкой епископов и митрополитов. Своим авторитетом церковь санкционировала важнейшие политические мероприятия, в том числе решение вопросов о войне и мире. Высшие церковные иерархи были гарантами исполнения княжеских завещаний и договорных грамот. К новгородским грамотам обязательно привешивались печати архиепископа. При переговорах о заключении мира, как правило, участвовали епископы. Так было, например, в 1312 г. во время борьбы с Тверью, когда тверской князь Михаил Ярославич перекрыл в Торжке подвоз хлеба в Новгород. Владыка Далмат отправился в Тверь и заключил мир на полутора тысячах гривен серебра36. Он же участвовал в переговорах о мире после битвы при Бортеневе в 1318 г.37. Тверской епископ Варсонофий заключил мир между Москвой и Тверью в 1321 г.38. Подобные действия владык встречаются очень часто в течение XIV—XV <вв.
Заключение договоров сопровождалось обязательным крестным целованием. Правда, князья относились к нему далеко не с тем уважением, какое проповедовала церковь по отношению к своим святыням. Князья нередко с санкции епископов и митрополитов снимали с себя крестное целование. Когда противники великого князя московского во время феодальной войны XV в. схватили Василия Васильевича, то произошло это именно в церковной обители — Троице-Сергиевом монастыре. Василию Васильевичу не помогла ни икона с гроба Сергия Радонежского, которой он пытался загородиться от врагов, ни напоминание о крестном целовании39. Великого князя заставили целовать крест с отказом от власти, но потом митрополит снял с него это целованье. В 1448 г. побежденный Шемяка дал на себя «проклятые грамоты», клянясь сразу святыми Петром, Алексием, Сергием, ростовским «чудотворцем» Леонтием, но весной следующего же года нарушил эту клятву40. Средством церковно-политического воздействия было отлучение от церкви, которое тоже не всегда давало желаемый эффект.
По происхождению многие высшие деятели церкви были очень тесно связаны со светской знатью. Из боярской семьи Федора Бяконта вышел московский митрополит XIV в. Алексий, стоявший фактически во главе Московского княжества в годы малолетства князя Дмитрия Ивановича. Из этой же семьи Бяконта вышли 35 Подробнее см.: А. М. Сахаров. Церковь и образование Русского централизованного государства. «Вопросы истории», 1966, № 1; его же. Церковь в период монголо-татарского ига и объединение русских земель в единое государство. В кн.: «Церковь в истории России (IX в.— 1917 г.)», стр. 61—78.
36 ПСРЛ, т. XXV, стр. 159.
37 Там же, стр. 161.
38 Там же, стр. 166—167.
39 Там же, стр. 265—267.
40 Там же, стр. 269—270.
— 62 —
роды московских бояр Игнатьевых, Жеребцовых, Фоминых, Плещеевых41. Временщик Алексия Даниил Федорович был близким боярином великого князя московского и выполнял его опасные поручения в Орде, по-видимому, разведывательного характера42.
Во время отсутствия князей церковные иерархи выполняли функции высшего управления. Под их покровительством оставлялись княжеские семьи в момент внезапных нападений внешних врагов, как, например, в 1382 и 1451 гг. в Москве. На поруках митрополита были великокняжеские дети в период феодальной войны. Сложные политические поручения московского князя выполнял авторитетный церковный деятель XIV в. Сергий Радонежский. Актом уважения к церкви со стороны высших феодалов было их обычное пострижение в монахи перед смертью.
Особенно большое значение в государственных делах имела церковь в Новгороде и Пскове. Новгородский архиепископ был фактически главой Новгородской республики. Софийский собор в Новгороде и Троицкий в Пскове были не только феодальными символами местной государственности, но и местом хранения государственных казны и архивов.
Значение церкви в общественной жизни определялось не только участием в государственных делах. Церкви принадлежало также важнейшее место в суде43.
Кроме суда, церковь играла большую роль еще в одной сфере общественной жизни — в торговле. Как и «в других странах в средние века, церковь на Руси была своего рода гарантом честности в торговых сделках. Считалось, что «градскыя и торговый и всякая мерила, спуды, извесы, ставила от бога исконе... установленно святителю блюсти бес пакости, не умаляти: за все то ему слово отда- ти в день суда великаго, якоиодушахчеловечьскыих»44. В соответствии с этим -в распоряжении церкви находились торговые «мерила» — эталоны мер веса, длины, объема. Церковь производила разбор конфликтов, возникавших при торговле, и также получала от этого доходы. О роли церкви в организации торговли свидетельствует уставная грамота новгородского князя Всеволода Мстисла- вича церкви Ивана Предтечи на Опоках. Эта церковь была патрональным храмом объединения новгородских купцов-вощаников. Для ее содержания была определена часть пошлин, взымавшихся с продажи воска в Новгороде и Торжке. Притвор церкви был местом официальных взвешиваний товаров, которые осуществляли церковные старосты. При вступлении в торговую корпорацию купцы должны были делать взнос по 25 гривен серебра в пользу церкви45. Во время археологических работ в Новгороде в 1951 г. была найдена мера длины с надписью «святого еванос». Это и был
41 См. Е. Е. Голубинский. История русской церкви, изд. 2, т. 2, ч. 1. М., 1900, стр. 173.
42 ПСРЛ. т. XXV, стр. 220.
43 См. об этом в главе «Право и суд».
44 НПЛ, стр. 479.
45 «Памятники русского права», вып. 2, стр. 175—177.
— 63 —
упоминаемый в уставе великого князя Всеволода «о церковных судах и о людех и о мерилех торговых» «локоть Еваньскыи» —официальный эталон, хранившийся в церкви Ивана на Опоках46.
* * *
Еще большее место и значение церковь имела в идеологической борьбе за укрепление феодального строя.
Церковь резко осуждала всякие выступления народных масс против феодалов, квалифицируя их как отступления от христианства. Описывая крупное восстание в Новгороде в 1418 г., летописец подчеркивает, что восстание произошло «научением дияволим». При этом летописец старался показать силу влияния церкви, отмечая, что восстание было прекращено владыкой Семеном, который вышел с крестом к народу. То, что восстание неугодно богу, подчеркивалось тем, что перед восстанием якобы сочилась кровь из иконы богоматери47. В явно недоброжелательных тонах описал московский летописец восстание 1382 г. в Москве, упрекая восставших за то, что они «ни самого митрополита не постыдешася, ни бояр вели- кых не усрамишася, но на всех огрозяшася»48 (Московский летописный свод). Восставшие брянцы, убившие князя Глеба Святославича в 1340 г., охарактеризованы как «злые коромольницы»49. Но, конечно, церковная проповедь не могла прекратить классовой борьбы. Напоминая о мнимом единстве всех христиан, летописец с горечью отмечал под 1367 г.: «...-вси бо сии един род и племя Адамово, цари и князи, и бояре, и велможи, и гости, и купцы, и реме- ственицы, и работии людие, един род и племя Адамово, и забывше- ся, друг на друга враждуют, и ненавидят, и грызут, и кусают»50.
Обличая и преследуя уклонение народных масс от исполнения, религиозных правил, осуждая их антифеодальные выступления, церковь в своей идеологической деятельности >в то же время стремилась возвеличить духовных и светских феодалов, подчеркивала их верность христианству, изображала их образцами служения религии и церкви. Эта тенденция довольно ясно видна, например, в летописании, находившемся под сильным влиянием церкви, а в большинстве случаев — непосредственно в ее руках, а также в различных житиях и других произведениях церковной литературы.
Исторические факты нередко подвергались весьма тенденциозному истолкованию. Так, во время нашествия татар на Рязань рязанский епископ бежал из города. В летописи дано оправдание этому поступку: оказывается, «епископа ублюде бог» от гибели51. Во Владимире епископ Митрофан погиб в соборе в момент взятия татарами города. В Новгородской летописи говорится о том, что епископ при виде татар, окруживших город, считал, что сопротив46 См. А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 48.
47 НПЛ, стр. 409.
48 ПСРЛ, т. XXV, стр. 207.
49 ПСРЛ, т. VIII. стр. 93.
50 ПСРЛ, т. XI, стр. 8—9.
51 НПЛ, стр. 75.
— 64 —
ление бессмысленно, «яко уже взяту быти граду»52. Лаврентьевская летопись вообще умалчивает о поведении епископа, а в Ипатьевской содержится утверждение о мученической смерти Митрофана и о том, что он воодушевлял оборонявшихся53. Как мученика за христианскую веру изображает летопись князя Михаила Черниговского, погибшего в Орде и позднее причисленного к лику святых54.
Церковь старалась изобразить своими героями популярных в народе князей, мужественно боровшихся за независимость Руси. Летописцы расточали похвалы Александру Невскому, писали, что он «ереом (иереям, попам.—А. С.) любец, нищелюбец и мнихолю- бец, митрополиты и епископы чтяже акы самого творца»55, подчеркивали его заслуги в том, что он отказался от предложений римского лапы. В словах об уважении Александра к епископам выдается, однако, желаемое церковью за действительное. Далеко не всегда Александр Невский чтил епископов, как самого творца: когда в 1255 г. новгородцы послали к князю владыку Далмата с .просьбой отложить гнев на посадника Онанью, то «не послушаша князь молбы владычне»56.
Столь же идеализированно изображен в церковной литературе герой освободительной борьбы против монголо-татар — Дмитрий Донской. Его житие настоятельно подчеркивало глубокую религиозность Дмитрия, который «аще. бо и книгам не научен сыи добре, но духовный книгы в сердци сии имяше», «аще бо царскыи -сан держаше, а посту и молитве прилежаше», «на престоле царском седя, царскую багряницу и венец нося, а во мнишьскии образ по вся дни и часы облещися желая» (Московский летописный свод)57. История бесцеремонного вмешательства Дмитрия в церковные дела, его отношений с Алексием, Митяем, Киприаном, Пименом вовсе не упоминается в житии. Подобные примеры легко умножить.
Не только деятельность популярных князей, но и всякие события общественной жизни церковники постоянно старались использовать для проповеди христианства и усиления своего влияния. Рассказ о монголо-татарском нашествии летописцы сопроводили поучением о том, что нашествие есть наказание божье за грехи, за небрежение к религии и церкви58. Эта же идеологическая тенденция пронизывает «Слова» Серапиона и другие церковно-публицистические произведения, относящиеся к нашествию. Не дошли монголо-татары до Новгорода — его спасло заступничество божье и святой Софии59. Богородица помогла спасти Русь от Тамерлана в конце XIV в.60. Победа над шведами в 1240 г. — результат ^божьей помощи, заступничества Софии и прямого вмешательства святых Бориса и Глеба61. Куликовская победа была одержана 52 НПЛ, стр. 75.
63 ПСРЛ, т. II, стр. 274.
54 ПСРЛ, т. XXV, стр. 139.
55 НПЛ, стр. 305.
56 Там же, стр. 308.
* ПСРЛ, т. XXV, стр. 215.
58 НПЛ, стр. 76—77 и др.
59 Там же, стр. 77.
60 ПСРЛ, т. XXV, стр. 224.
61 НПЛ, стр. 78.
5 Очерки русской культуры, ч. 2
— 65 —
благодаря помощи небесных сил — святых Георгия Победоносца? и Димитрия, Бориса и Глеба, а изменник рязанский князь Олег — это «дьяволи советник», «льстивый сотонщик»62.
Неурожай, голод, эпидемия, наводнение и тому подобные бедствия постоянно использовались церковниками для укрепления- авторитета -религии и церкви. В -связи со стихийными бедствиями., усиленно подчеркивалось значение всяких «знамений», производились молебны и крестные ходы, строились в течение одного дня, «обетные» храмы и всячески проповедовалась мысль о необходимости укрепления веры для избежания несчастий. В изображении, летописца, например, «мор» 1417 г. в Новгороде был наказанием, за грех какого-то боярина, дерзнувшего нарушить евангельскую- заповедь63, а «мор» 1425 г. в Галиче — наказание за ослушание. князем митрополита Фотия64.
Конечно, -религиозные представления были сильны, люди не- умели и не могли сколько-нибудь реально объяснить многие наблюдаемые ими явления и истолкование их .в религиозном духе былоестественным проявлением провиденциалистского мышления того- времени. Но помимо провиденциализма средневековых книжников- была еще и сознательная идеологическая и политическая тенденция, для которой сам -провиденциализм являлся удобным и эффективным средством воплощения.
Летописи и жития пестрят сообщениями о «чудесах», совершившихся у икон и гробов «святых». Присматриваясь к этим сообщениям, легко заметить, что «чудеса» происходили именно там, где это нужно было в -определенных церковно-политических целях, и нередко связывались с актуальными политическими задачами. Московское летописание тщательно записывало многочисленныег «чудеса» у гроба митрополита Петра: это -было начато по приказу Ивана Калиты, поскольку деятельность Петра имела большое значение для возвышения московских князей. Не случайно «чудеса» у гроба Петра начались сразу же после погребения, когда «три человеци прощени быша»65. В дальнейшем «чудеса» происходили часто — то «исцелилась» девица с парализованными руками, тег женщина, которая не могла ходить66, однажды «заговорил» немой67.. Отход Едигея от Москвы в день памяти митрополита (20 декабря) был истолкован как очередное «чудо» Петра68. Зато в Ярославле,, когда была ликвидирована независимость Ярославского княжества в 1463 г., были вдруг «обретены» мощи местных князей Федора Ростиславича и его сыновей Константина и Давыда, и у этих мощей тоже начались «чудеса» исцеления69 — явная попытка «освятить» ярославских князей и с ними самостоятельность Ярославского княжения в противовес политике московского великого» князя. «Чудесами» у гроба Александра Невского церковь хотела
62 НПЛ, стр. 376.
63 Там же, стр. 408.
м ПСРЛ, т. XXV, стр. 246.
65 НПЛ, стр. 341.
66 ПСРЛ, т. XXV, стр. 177—178.
67 Там же, стр. 178.
68 Там же, стр. 239.
69 Там же, стр. 278.
— 66 —
превратить популярного князя в своего героя и подчеркнуть что «прослави бог угодника своего» (Московский летописный свод) 70.
Использование религиозной идеологии в политических целях было свойственно не только господствующему классу, но в известной мере и народным массам. Иначе и не могло быть в эпоху, когда религиозная идеология господствовала в общественном сознании. Новгородские летописцы, даже нередко с демократическими симпатиями, постоянно указывали на исключительное значение для Новгорода Софии — «честнаго креста сила и святой Софьи всегда низлагает неправду имеющих»71. Во время восстания в Новгороде в 1255 г. «целоваша святую Богородицю меншии, како стати всем — либо живот, либо смерть за правды новгородьскую, за свою отчину». С явной симпатией к «меньшим» летописец отметил тогда, что «и бысть в вятших свет зол, како побети меншии, а князя ввести на своей воли»72. Восставая против татарского «числа» в 1259 г., новгородские «меншии люди» заявляли: «умрем честно за святую Софью»73. София стала символом Новгорода, его независимости и могущества. В Твери восставшие в 1293 г. «черные люди» заставили бояр целовать крест в том, что они не изменят в борьбе против нашествия монголо-татарских войск Дюденя74.
Можно отметить и то обстоятельство, что народные массы обращались к религиозной идеологии обычно для обоснования своих интересов, когда происходили столкновения с господствующим классом, чьей идеологией была религия. Но свою хозяйственную жизнь русские крестьяне, насколько можно об этом судить по фольклорным материалам, осмысливали в духе многовековых наблюдений, связанных с языческими культами и верованиями. И даже проникновение христианских «святых» в хозяйственный календарь русских крестьян обычно было лишь простой подстановкой на место давно существовавшего языческого культа.
События внешней политики церковь также старалась осмыслить и изобразить в религиозном духе. Вся внешняя политика князей обычно трактовалась как борьба за «истинное христианство», якобы подчиненная прежде всего идее защиты православной религии и церкви. Это относилось не только к борьбе с монголо-тата- рами, но и с литовцами, которые для летописца тоже «поганые»75. И Раковорская, и Невская битвы, и Мамаево побоище, и все другие сражения с врагами Русской земли под пером летописца принимали окраску религиозных битв. В память побед над врагами и избавления от вторжений .воздвигались храмы. Нельзя отрицать того несомненного факта, что в сознании народных масс в ту эпоху борьба с внешними врагами действительно связывалась с борьбой против «иноверцев», но следует при этом подчеркнуть, что само это сознание активно насаждалось церковью в интересах господствующего 70 ПСРЛ, т. XXV, стр. 145.
71 НПЛ, стр. 83.
72 Там же, стр. 81.
73 Там же, стр. 82.
74 См. М. Д. Приселков. Троицкая летопись. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950, стр. 346.
75 НПЛ, стр. 85.
5*
— 67 —
класса, для которого религия была мощным духовным средством укрепления своего господства.
Другой областью идеологической борьбы церкви было сопротивление проникновению на Русь иных религий. Эта борьба была тесно связана с осуществлением феодальным государством своей внешней функции. Распространение влияния определенной религии в средние века было важным средством феодальной агрессии. Яркий пример такой агрессии — наступление немецких феодалов под прикрытием католической христианизации народов Прибалтики. Отстаивая интересы независимости феодального государства и свое монопольное положение в области идеологического воздействия на народные массы, церковь стремилась воспитать нетерпимое, враждебное отношение к другим религиям и самим «иноверцам», проповедуя тезис об исключительности православия, как единственно «правильной» религии, «непорочной христьянской веры греческой». Православие воспитывало идеи безусловного консерватизма, враждебности ко всему новому даже в самой религии, слепого преклонения перед церковными авторитетами.
Русские церковники вели особенно активную борьбу с католицизмом, квалифицируя его как отступление от «истинного» христианства. Основным идеологическим тезисом в борьбе с католицизмом была нерушимая верность древним установлениям церкви, закрепленным в решениях семи вселенских соборов. Православная церковь не только обличала «испорченность» догматической стороны католицизма, но старалась также возбудить презрение и к внешней обрядовой стороне католической религии. В летописной повести об Исидоре содержится целое рассуждение, полное ненависти к католическим обрядам. Автор повести с негодованием спрашивает, разве так почитают бога, когда в церкви «возвысят гласы свояко безумнии, и мног кличь и плищь и зело велик вопль пениа их», и разве это красота церковная, когда ударяют в бубны, играют на трубах и органах — одна радость бесам от таких игр. Возмущение вызывали и красные перчатки на руках римского папы с нанизанными на них перстнями и даже то, что католики стригли усы и бороды, «ревнующи женьскому зрению», и в таком виде прикладывались к святыням76.
Религиозная нетерпимость проявлялась также и к мусульманской религии, ставшей со времени хана Узбека официальным культом Золотой Орды. Положение церкви в этом вопросе было несколько более сложным, поскольку церкви было выгодно поддерживать дружественные связи с Ордой и получать от нее важные привилегии и льготы. Однако еще более важным было сохранить влияние в народных массах Руси, преисполненных желания освободиться от тяжкого монголо-татарского ига. Поэтому церковь старалась облечь борьбу против монголо-татар в форму религиозной борьбы с «неверными», «погаными», «сыроядцами». Во время правления митрополита Петра состоялся даже целый спор о вере с каким-то мусульманином Сеитом, в ходе которого митрополит «перепрел» Сеита. Возникшее в тверских церковных кругах сказа76 ПСРЛ, т. XXV, стр. 259.
— 68 —
ние об убиении Михаила Ярославина изображало мусульманство как причину жестокости хана Узбека: «седе во Орде ин цесарь именем Озбяк и воиде в богомерзкую веру Срачиньскую, и оттоле нача наипаче не пощадети роду христианьского» (Московский летописный свод)77. «Богомерская вера» Узбека, однако, не помешала митрополиту Петру установить дружеские отношения с ханом.
Борьба с иудаизмом, по-видимому, занимала меньшее место в XIV—XV вв. вследствие того, что эта религия не имела тогда сколько-нибудь значительных возможностей для проникновения на Русь. Но в конце XV в. борьба -с иудаизмом стала принимать более широкие масштабы, и не случайно возникшая в тот период ересь в Новгороде и Москве была квалифицирована официальной церковью как ересь «жидовствующих».
В борьбе с другими религиями церковь прибегала не только к идеологическим средствам, но и к репрессиям, используя право церковного суда. Так, за связь с иноверными женщин заключали в монастырь, а мужчин отлучали от церкви78. Даже за совместную трапезу с иноверцами или некрещеными по церковному закону полагалось наказание79. Купцы и путники, побывавшие в «латинских» странах, должны были по возвращении домой совершать обряды «покаяния».
* * *
Религиозная идеология в средневековом обществе проникла во все области духовной культуры. Развитие литературы и искусства было тесно связано с церковью не только идеологически, но и организационно. Просвещение и образование находились преимущественно в руках духовенства. Однако после находок берестяных грамот необходимо серьезно уточнить представления о степени распространения грамотности среди городского населения; она была, несомненно, выше, чем предполагали раньше. Но церковь сохраняла свое значение в распространении грамотности. По подсчетам Б. А. Рыбакова, из 110 известных в XIV—XV вв. писцов книг было 47 церковников, но в это число не включены 4 «поповича» и 35 неизвестных по своему отношению к церкви «рабов божьих». При митрополичьей и епископской кафедрах, как и при княжеских дворах, существовали мастерские по выделке книг. Монастыри и соборы были крупнейшими центрами книжности. Почти всякий раз, рассказывая о гибели храмов во время войн и пожаров, летописцы отмечают наличие книг в церквах. Крупнейшими книгохранилищами были монастыри. Троице-Сергиев и Кириллово-Белозерский монастыри имели также свои мастерские по выделке книг. В конце XV в. была составлена дошедшая до нас опись книг Кириллово-Белозерского монастыря.
Под значительным церковным влиянием находилась и литература. В церковной среде возникли значительные произведения 77 ПСРЛ, т. XXV, стр. 161.
78 НПЛ, стр. 482, 484.
79 Там же, стр. 484.
древнерусской литературы: «Житие Александра Невского», проповеди Серапиона Владимирского, «Житие Авраамия Смоленского», написанное монахом Ефремом, жития митрополита Петра (Прохор Ростовский), Сергия Радонежского и Стефана Пермского (Епифа- ний Премудрый), жития, написанные Пахомием Логофетом и другие. При посредстве церковников на Русь проникала иностранная литература, в особенности с конца XIV в., когда оживились связи с южнославянскими землями и Византией. С греческого языка делались переводы церковно-учительной литературы, южнославянские церковные книжники приезжали на Русь, русские монахи ездили на Афон и в Константинополь. Культурные связи с южнославянскими землями стали особенно расширяться с приездом на Русь выходца из Болгарии митрополита Киприана.
Было бы, однако, неправильно сводить всю литературу XIV—XV вв. к исключительно церковной по своему характеру. Хотя религиозная идеология занимала господствующее положение в духовной жизни общества, тем не менее во многих произведениях светские мотивы занимали большое место. Ярким примером такой литературы является написанная рязанским старцем Софонием поэтическая «Задонщина» в традициях и художественной манере «Слова о полку Игореве», повествующая о Куликовской битве.
Летописание тоже находилось в основном в руках духовенства. Первый общерусский летописный свод возник при дворе митрополита Петра. Большинство летописных сводов возникло в монастырях. Центрами летописания были Троице-Сергиев, Кириллово-Бе- лозерский, Рождественский во Владимире и многие другие монастыри. Суздальский монах Лаврентий в 1377 г. переписал по заказу князя Дмитрия Константиновича летопись, получившую в исторической литературе название «Лаврентьевской». Новгородские летописи создавались и в среде белого духовенства.
Наиболее сильно светская струя проникала именно в новгородские летописи. Порой новгородские летописцы даже сочувственно относились к народным выступлениям. На протяжении XIV— XV вв. в летописании может быть отмечено усиление интереса к событиям внецерковной жизни, появляются довольно точные наблюдения над природными явлениями, полные описаний признаков течения эпидемических болезней. Хотя религиозное мировоззрение пронизывало все содержание летописей, тем не менее их никак нельзя считать памятниками узкоцерковными. Действительное содержание летописей было значительно шире, и светские элементы занимали в них значительное место.
Развитие изобразительного искусства и архитектуры было также неразрывно связано с церковью. Каменное зодчество развивалось прежде всего в области церковного строительства. Гражданские постройки были немногочисленны. У митрополита и в крупных монастырях существовали церковные «здатели», овладевшие высокими для своего времени художественными и техническими приемами строительного дела.
Существовали также «дружины» иконописцев, расписывавших фресками храмы. О «митрополичьих писцах», работавших в 1344 г. в московском Успенском соборе, упоминает летопись, назы— 70 —
вая их имена, — Захар, Иосиф и Николай80. В крупнейшем куль* турном центре — Троице-Сергиевом монастыре развился талант гениального русского художника конца XIV — начала XV в. Андрея Рублева, ставшего позднее монахом московского Андроньева мона- -стыря, откуда вышел и его сподвижник Даниил Черный. С церковью была связана деятельность Феофана Грека, Прохора и других крупных живописцев. Хотя живописная манера письма Андрея Рублева была позднее установлена церковью в качестве образца иконописания, творчество Андрея Рублева, как и других выдающихся художников XIV—XV вв., выходило далеко за рамки церковного мировоззрения и не имело ничего общего с насаждавшимся церковью аскетизмом. Произведения крупнейших русских художников характеризовались глубокой человечностью, психологизмом и в своеобразной художественной форме отражали реальную человеческую натуру и использовали в колористическом решении богатство красок родной природы. Через церковь на Русь проникало византийское и южнославянское художественное влияние.
Играя определенную положительную роль в развитии просвещения и культуры на Руси в XIV—XV вв., которую не следует недооценивать, церковь вместе с тем серьезно тормозила это развитие. Проповедь слепого преклонения перед церковными авторитетами, преследование рационалистического мышления, насаждение неприязни к проникновению передовой европейской культуры, вступившей в тот период в блестящую эпоху (Возрождения, сковывание мысли и творчества мертвыми, схоластическими, враждебными богатой и пытливой человеческой натуре догматами религии — все это было одной из важнейших причин накопления элементов той культурной отсталости России, которая определилась и стала усиливаться после монголо-татарского нашествия.
Позиция церкви в области развития русской культуры была одним из проявлений той роли, которую она играла в защите и укреплении господствующего феодального строя.
* * *
Поскольку церковь была наиболее общим синтезом и наиболее общей санкцией существующего феодального строя, естественно, что «все выраженные в общей форме нападки на феодализм и прежде всего нападки на церковь... должны были по преимуществу представлять из себя одновременно и богословские ереси. Для того чтобы возможно было нападать на существующие общественные отношения, нужно было сорвать с них ореол святости»81.
Борьба церкви против отклонений от религиозной ортодоксальности объективно не только отстаивала положение церкви в феодальном обществе, но и защищала сам феодальный строй, общественные отношения, эксплуататорские интересы всего господствующего класса.
В период объединения русских земель в единое государство идейная борьба, развивавшаяся в самом религиозном мировоззре80 ПСРЛ, т. XXV, стр. 175.
581 'К. Мар кс, Ф.Энг'елъ с. Соч., т. 7, стр. 361.
— 71
нии, неразрывно переплеталась с политической борьбой. В ходе этой борьбы представители различных сторон подвергали критике идейно-политические позиции своих противников; так как эти позиции были тесно связаны с церковью и подкреплялись авторитетом ее учения, то идейная полемика, вне зависимости от целей, которые преследовали ее участники, неизбежно вела к подтачиванию основ ортодоксального мировоззрения, к развитию критической мысли. Далеко не всякое проявление такой критической мысли было* ересью в собственном смысле слова, т. е. выражением антифеодального протеста в религиозной оболочке. Наоборот, многие критические мысли были высказаны представителями феодальных группировок, которые в борьбе с враждебными их политическим интересам церковными деятелями стремились к укреплению феодального строя и более того — к укреплению церкви и ее идеологии. Но объективное значение этих выступлений было шире — в общем’ потоке развития общественно-философской мысли они подготавливали разрушение всей религиозной ортодоксии.
Так, в 1310—1311 гг. тверскому князю Михаилу Ярославичу и тверскому епископу Андрею удалось организовать церковный собор против сторонника Москвы митрополита Петра. В качестве обвинения было выдвинуто то, что Петр практиковал симонию. Собор при сильном влиянии со стороны Москвы оправдал Петра. Выступление тверского князя и епископа преследовало только цели феодальной междоусобной борьбы, но само обличение церкви в мздоимстве* было не чем иным, как попыткой использовать в узкофеодальных интересах недовольство народных масс продажностью и стяжательством духовенства. В Твери не удовлетворились решением собора, и епископ Андрей отправил монаха Акиндина в Константинополь для изучения церковного законодательства. По возвращении в Тверь Акиндин написал послание великому князю Михаилу Ярославичу, в котором подверг критике существующие на Руси церковные порядки и потребовал вмешательства великокняжеской власти в церковные дела. Политический смысл такой постановки вопроса очевиден: так как светская власть находилась в руках тверского князя, а духовная — у сторонника Москвы, то интересы тверских феодалов, естественно, приводили к требованию подчинения церкви светской власти. Позднее эта идея упорно проповедовалась московскими князьями, когда они сами стали великими князьями. Обличая находящуюся под руководством митрополита Петра русскую церковь, Акиндин вольно или невольно переходит в своей критике к обличению православной церкви вообще, рисуя ее погрязшей в еретичестве и отступившей от основ раннего христианства. Особенно сильно Акиндин нападал на торгашество и хищничество церковников, которое, по его словам, превосходит даже насилие со стороны татар. Впоследствии критические идеи Акиндина были восприняты и развиты еретиками конца XIV в.
В свою очередь московская княжеская власть помогла церкви в борьбе против еретиков, и не случайно в одной рукописи Анто- ниево-Сийского монастыря содержится похвала церковников Ивану Калите, при котором якобы прекратились «безбожные ереси».. Но это утверждение выдавало желаемое за действительное. Выступ— 72 —
ления против церкви и церковной идеологии не прекращались в течение всего XIV в.
Еще в начале XIV в. в Новгороде возникла ересь, которая отрицала монашество, называя его плодом «бесовского учения».
В середине XIV в. возник богословский спор между тверским епископом Федором Добрым и новгородским архиепископом Василием Каликой о том, существует ли где-нибудь на земле реальный рай или нет. Федор Добрый считал, что рая на земле нет, что он погиб вместе с грехопадением Адама и Евы и существует лишь «мыслен». Василий Калика, наоборот, доказывал, что рай есть на е земле, что его даже видели новгородцы, доходившие до «края земли». (Заметим, что и Колумб спустя полтораста лет вполне убежденно писал, что, объехав всю землю, он не видел рая только потому, что рай находится в глубинных, отдаленных от моря областях и что он сам не хотел туда пробираться из религиозных соображений.) В средние века повсюду верили в реальное существование рая. Федор Тверской отрицал это.
На первый взгляд отвлеченный богословский спор был, однако, весьма важным проявлением религиозно-критической мысли и политической борьбы. С одной стороны, этот спор -был связан с политическими отношениями того времени. Новгородский архиепископ Василий Калика был ревностным сторонником политической самостоятельности Новгорода. Наоборот, Федор Добрый был сторонником Москвы и вел тяжелую борьбу против сепаратизма и междоусобиц тверских князей. Вмешательство Василия Калики в тверские дела было, таким образом, попыткой идеологически скомпрометировать представителя противоположной политической линии. С другой стороны, спор о рае был отголоском больших религиозных разногласий, происходивших во второй четверти XIV в. в Византии и также связанных с политической борьбой. Последователи идеолога одного из этих направлений — Паламы — считали, что апостолы видели воочию чудо на Фаворской горе, откуда был виден рай, когда их ослепил чудесный свет от Христа. Противник Паламы— Варлаам — понимал рассказ о происшедшем на Фаворской горе как то, что апостолы были озарены духовным светом истины, в то время как физический свет мог быть воспринят человеческим глазом. После прихода к власти аристократической группировки, возглавлявшейся Кантакузином, воззрения Паламы в 1347 г. стали официальными, а Варлаам был осужден82. Победа паламитов «явилась победой нетерпимой монашеской партии, сделавшей все от нее зависящее для подавления слабых ростков византийского гуманизма». Паламиты (исихасты) «направили движение религиозной мысли вспять, возродив самые пассивные формы восточного аскетизма», «победа Паламы над Варлаамом знаменовала победу догматического образа мышления над рационалистическим критицизмом» 83.
82 Варлаам, вынужденный эмигрировать из Византии, поселился в Италии, где стал учителем великих итальянских гуманистов Петрарки и Боккаччо, оказав, по мнению ряда исследователей, влияние на формирование их мировоззрения.
83 В. Н. Лазарев. Феофан Грек и его школа. М., «Искусство», 1961, стр. 23.
— 73 —
Отголоском этих споров можно считать конфликт между /Василием Каликой и Федором Добрым. Взгляды тверского епископа ■Федора были близки взглядам Варлаама. Интересно, что послание Василия Калики Федору датируется тем же 1347 г., когда в Византии победили паламиты. В противовес ставшему ортодоксальным в центре православия пониманию рая как реально существующего Федор Добрый представлял рай как духовное состояние самого человека. Он указывал на противоречия в священных книгах в описании рая, и это было одним из первых проявлений рационалистической критики религиозных воззрений. Если прибавить к этому, что именно к середине XIV в. относится зарождение стригольниче- 9 ской ереси в Новгороде, то понятна озабоченность главы новгородской церкви, выступившего против мнения Федора Доброго. Примечательно и то, что московские политики поддерживали Федора, так как ослабление церкви мало-помалу начинало становиться реальной задачей великокняжеской власти в борьбе за укрепление своего положения.
Распространение представлений о рае как внутреннем духовном состоянии человека, неверие в чудеса на земле, указание на противоречия в тексте «Священного писания» были важным сим- лтомом проявления рационалистической мысли в Твери, крупнейшем городском центре Руси того времени.
[_ДЭдним из наиболее значительных выступлений против господствующей церкви была ересь так называемых стригольников84, возникшая в Новгороде в середине XIV в. Из Новгорода эта ересь распространилась в Псков. Судя по обличениям стригольников представителями официальной церкви (книг стригольников не сохранилось; они, по-видимому, были уничтожены), стригольники выступили с отрицанием церкви как учреждения. Они решительно осуждали мздоимство церковников, поставление церковнослужителей за плату и вообще отрицали церковную иерархию, не признавая за церковнослужителями права быть посредниками между богом и людьми, так как видели в них обыкновенных людей, зараженных людскими пороками («сии учители пьяницы суть, ядять и льють с пьяницами»). Это отрицание церкви как учреждения было наиболее сильной и общественно значимой стороной идеологии стригольников, объективно содержавшей протест против государственного строя. Не выходя в целом за идеалы религиозного мировоззрения, стригольники выступили с проповедью демократической церкви, лишенной какого-либо стяжательства и особого сана священнослужителей. Стригольники не признавали обряда причащения как бессмысленного с точки зрения разума, отвергали исповедь, а также таинства и обряды, связанные со смертью. В учении стригольников содержалась попытка отвергнуть внешнюю обрядовую сторону религии и церковные учреждения как противоречащие, по их мнению, самой сущности христианства. Стригольники сосредоточивали все свое внимание на внутреннем, духовном состоянии
84 Происхождение названия «стригольники» точно не установлено. По мне- & нию одних исследователей, это название указывает на ремесленную специальность {стрижка овец), по мнению других, оно могло быть связано с возможным обрядом посвящения в секту — пострижением.
— 74 —
■человека. Они считали, что религия во всей ее полноте доступна восприятию каждого человека, а не только особой касте церковников, что религиозное миропонимание должно быть основано на разуме человека, а не на вере в необъяснимые чудеса и таинства. В этом заключался важный сдвиг средневекового мышления в сторону рационализма, освобождения человеческого духа от беспомощного преклонения перед таинственной силой «высшего божества». В конечном счете учение стригольников подрывало основы религии, хотя сами стригольники не порывали полностью с религиозным мировоззрением. Исследователи ереси стригольников так формулируют сущность их выступления: «Феодальной церкви с ее богатствами, с традиционным культом и пышной, но мертвой обрядностью, с духовенством, играющим роль посредника между богом и людь- гми, стригольники противопоставляли свое представление о церкви как о совокупности не обладающих собственностью общин, возглав- .ляемых учителями, с чьим авторитетом считались верующие, располагая в то же время правом и непосредственного обращения к богу во время молитвы, исповеди и других религиозных действий. Идеалом стригольников была, таким образом, простая церковь, лишенная пышной обрядности и духовенства»85.
Понятно, что покушение стригольников на идеологические устои церкви и ее привилегированное положение в обществе вызвало яростную реакцию со стороны церковников. Воззрения стригольников были объявлены ересью. В 1375 г. в Новгороде была 'совершена публичная казнь над еретиками — «побиша стригольников, еретиков, дьякона Микиту и Карпа простьца и третьего человека с ними, свергоша их с мосту» (Московский летописный свод)86. 'Но учение стригольников продолжало жить в Новгороде и Пскове— крупнейших ремесленно-торговых центрах. Социальной основой этой ереси были демократические слои горожан. В дело вмешался сам константинопольский патриарх, прислав в 1382 г. архи- -епископа Дионисия, специально путешествовавшего в Новгород и Псков, чтобы утвердить «истинную христианскую веру» «от злых человек дияволом наущеным»87. В 1386 г. в Новгород отправился крупнейший церковный деятель того времени Стефан Пермский, составивший специальное поучение против еретиков.
Однако выступления против церкви и критика ее догматов *с рационалистических позиций продолжали распространяться. В конце XIV в., несмотря на поддержку Москвы, тверскому князю Михаилу Александровичу удалось согнать с местной епископии Евфимия Висленя, которому было предъявлено обвинение в еретичестве. Судя по дошедшим до нас сведениям, Евфимий и его единомышленники высказывались против существующей церковной организации в том же духе, что и предшествующие представители рационалистической критики церкви. Нет ничего удивительного в том, что на этот раз во главе такой критики оказался сам тверской епископ, возможно, связанный с городскими кругами Твери, вновь 85 Н. А. Казакова, Я. С. Лурье. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начале XVI в. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 35.
86 ПСРЛ, т. XXV, стр. 192.
87 НПЛ, стр. 379.
— 75 —
окрепнувшей во второй половине XIV в. Понятно и то, что Москва? поддерживала еретически настроенного епископа: московские правители стремились использовать всякую рознь в стане своих противников и очень часто поддерживали оппозиционные им группы.
Движение стригольников в Новгороде к концу XIV в., видимо, стало идти на убыль вследствие репрессий, хотя с уверенностью сказать этого мы не можем по состоянию источников. Зато в Пскове еретическое движение в первой половине XV в. получило дальнейшее распространение. Этому способствовало более независимое положение Пскова в системе феодальных «полугосударств», а также больший демократизм псковской церкви, ее связь с посадским населением и относительная слабость высшего духовенства.
Псковские стригольники пошли еще дальше, чем их новгородские предшественники. Они отвергли не только церковь, но и монашество. Среди псковских стригольников выделилась весьма радикально настроенная группа, которая в своем рационализме пришла даже к отрицанию воскресения мертвых и, следовательно, к отрицанию загробной жизни. Псковские стригольники отвергли и другой важнейший догмат христианства — о триедином боге, о Троице, встав на позиции стихийного пантеизма. Будучи монотеистами, псковские стригольники, в отличие от новгородских, отказались признавать Евангелие и, стало быть, божественную природу Христа.
Это смелое выступление псковских стригольников против основ христианского вероучения не получило, однако, широкого распространения. В условиях XV в. оно осталось замкнутым в довольно узком кругу «интеллигенции» — выходцев из духовенства, хорошо начитанных в области богословия, и в частности среди монахов псковского Снетогорского монастыря.
Ересь в Пскове также жестоко преследовалась официальной церковью. Четырежды направлял грамоты против стригольников митрополит Фотий — в 1416, 1422—1425 и 1427 гг. Идеологическая борьба со стригольниками и здесь дополнялась жестокими репрессиями. Митрополит Фотий требовал заточения еретиков. В 1427 г. активные псковские стригольникй были заключены, некоторая часть, их ушла из Пскова.
Заметим, что центрами распространения рационалистического мировоззрения были именно крупнейшие русские города XIV— XV вв.—Тверь, Новгород, Псков; это определенно указывает на социальную основу еретических движений. К тому же, эти города были более связаны со странами Западной Европы, где в то время поднималось реформационно-гуманистическое движение. Поэтому и выступления русских еретиков нельзя не поставить в определенную идейную связь с этим общеевропейским движением. Но сразу же нужно оговориться, что слабость развития русских городов в: условиях, сложившихся после монголо-татарского нашествия, не дала возможности рационалистическому мировоззрению на Руси развиться в сколько-нибудь широкое реформационно-гуманистическое движение — для этого необходимо было вызревание буржуазных элементов в обществе, которого на Руси того времени еще не: могло быть.
— 76 —
И все же свидетельства о развитии рационалистического мышления на Руси в XIV—XV вв. ясно говорят о том, что Русь не была в стороне от прогрессивного развития человеческой мысли в «средневековье, что на русской земле появились смелые и сильные умы, начавшие борьбу за свободу человеческого разума, против оков официальной религии и церкви.
О том, что рационалистические идеи получили на Руси большее, чем можно было предположить, распространение и именно в среде горожан, свидетельствуют интересные наблюдения А. И. Кли- банова над сочинением тверского купца Афанасия Никитина. Афанасий Никитин не был еретиком, но в его «Хожении» высказаны мысли, противоречащие официальной религиозной догме и рационалистические в своей основе. Прежде всего это идея о равноправии языков и вер, и совсем не случайно так часто употреблял Никитин нерусские слова, мешая их из разных языков, и имя бога писал на многих языках. Ведь согласно религиозной идеологии только одна вера — православное христианство — «истинна», исповедующие другие веры — это «поганые», «иноверцы». Интересно и то, что в сочинении Никитина нет упоминания Троицы, ему ближе понятие единого бога (как и стригольникам).
Рационалистические идеи, несогласие с церковью и ее догматами, распространявшиеся в средневековой Руси XIV—XV вв., были ярким проявлением развития прогрессивной общественной и философской мысли.
Русский язык
| п. с. кузнецов |
I
I
i
)
Большое количество письменных памятников, сохранившихся от XIII—XV вв., свидетельствует о высокой культуре Древней Руси и вместе с тем дает возможность представить- на протяжении этого времени развитие как русского языка, так и обособляющихся от него в эту эпоху белорусского и украинского языков. Все эти три языка исторически оформились на основе различных древнерусских говоров. Наличие рукописей из различных мест и отражение в них некоторых черт живого говора писцов позволяют судить и об особенностях местных наречий русского и других восточнославянских языков.
К XIII в. относятся различные памятники: ростово-суздальские (Ростовское житие Нифонта, 1219 г.; Ростовский апостол, 1220 г.), новгородские, смоленско-полоцкие (наиболее ранние из них — Смоленские грамоты 1229 и 1230 гг.), галицко- волынские. В отношении некоторых более ранних памятников (конца XII в.) существует предположение,, что они являются ростово-суздальскими, например, «Слово Ипполита об антихристе», «Богословие Иоанна экзарха Болгарского» (хранятся в Государственном Историческом. — 78 —
музее в Москве). Все они характеризуются некоторыми общими- чертами в правописании, в употреблении форм. Существует предположение, что эти рукописи происходят из одного древнего книгохранилища — Ростовской епископской библиотеки, для которой и писались; вследствие этого они и обнаруживают некоторые общие приемы письма, сложившиеся в одной школе. К XIV в. относятся древнейшие дошедшие до нас памятники, написанные в Москве; самые древние из них — Московское, или Сийское, евангелие 1339 г. (по месту находки в Антониевом Сийском монастыре) и духовная грамота князя Ивана Калиты (в двух вариантах), написанная также около 1339 г. (акад. А. И. Соболевский датировал ее приблизительно 1327 г.). От этого времени сохранились древнейшие псковские памятники. Впрочем, имеются косвенные указания и на более ранние, а также древнейшие рязанские грамоты и грамоты литовских князей, писанные западнорусским (старинным белорусским) языком. От XV в. в большом количестве сохранились грамоты, писанные потомками новгородцев на Северной Двине. Эволюция форм письма, связанная с развитием на базе древнего уставного письма полуустава, а затем и скорописи, свидетельствует о все большем распространении письменности.
Правописание памятников рассматриваемой эпохи показывает, что уже к XIII в. выработались определенные общие графические и орфографические нормы, свойственные как русским, так и вообще восточнославянским памятникам. Эти нормы, характерные и для рукописей религиозного характера, писанных церковнославянским языком, восходящим к старославянскому, сложившемуся на Балканском полуострове на базе южнославянского, македонского наречия, резко отличают наши памятники от южнославянских, хотя те и другие пользуются одним и тем же славянским письмом так называемой кириллицей (другой вид славянского письма — глаголица в рассматриваемую эпоху используется на Руси очень, редко и то лишь как один из видов тайнописи, то есть шифрованного письма).
В конце XIV—начале XV в. наши памятники (главным образом церковно-книжной литературы) подвергаются так называемому второму южнославянскому влиянию, выражающемуся в проникновении в письменность некоторых графических и орфографических, а частью и языковых черт, свойственных болгарским и сербским памятникам того времени. Это объясняется усилением и расширением связей с южнославянскими книжниками. Впрочем, для русских (в современном смысле слова, т. е. великорусских) территорий это влияние не было продолжительным. Дольше и глубже оно отражалось в памятниках юго-запада (украинских).
В истории русского языка XIII в. знаменуется весьма существенными изменениями как в звуковой системе, так и в морфологическом строе. Значительная часть этих явлений охватывает весь русский язык в целом,хотя и неодновременно; некоторые же изменения хотя и получают широкое распространение за пределами первоначального очага их возникновения, но лишь в части говоров. Можно утверждать, что мы почти не знаем таких фонетических и морфологических черт, различающих разные русские гово— 79
ры, которые бы восходили ко времени ранее XIII в., однако некоторые весьма важные особенности основных русских наречий начинаются, по-видимому, именно в этот период. Эти важные особенности начинают отражаться в памятниках именно XIII в., частично о их появлении можно судить на основании некоторых косвенных данных — сопоставления различных фактов, засвидетельствованных памятниками как данной, так и позднейшей эпохи, с фактами, извлекаемыми из современных русских (великорусских) и других восточнославянских говоров. Следует иметь в виду, что памятники в силу традиции и ограниченных графических возможностей для истории некоторых явлений могут дать меньше, чем всесторонне проанализированные факты современных диалектов.
В области развития звуковой стороны древнерусского языка незадолго до начала рассматриваемого периода осуществилось такое важное явление, как падение редуцированных (ослабленных)* гласных ъ и ь, которые, утратившись в одних положениях, в других — изменились в обычные гласные о и е полного образования. Но поскольку это явление, как и большинство фонетических явлений, осуществившихся на протяжении исторического развития нашего языка, начинаясь на юге, лишь постепенно распространялось к северу, можно думать, что на севере, в основном в Новгородской земле, еще в XIII в. (по крайней мере, в начале этого века) в некоторых говорах старые редуцированные гласные сохранялись. Так, например, Смоленская грамота 1229 г. (договор смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригой и Готским берегом), представляющая в огромном количестве случаев беспорядочное смешение ъ с о, ь с е, а также пропуски о и е, свидетельствует о том, что в говоре писца совершенно не различаются о старое и о, развившееся из ъ, е старое и е, развившееся из ь. Между тем в Синодальном списке Новгородской летописи, первая часть которого была также написана в XIII в., хотя и отражается утрата редуцированных в слабом положении, и изменение их в о и в е в сильном положении, но в ряде случаев ъ и ь хорошо сохраняются именно там, где они были в древнерусском языке. Это свидетельствует о том, что редуцированные терялись сравнительно незадолго до того, как была написана летопись. Падение редуцированных повлекло за собой ряд других явлений, осуществлявшихся в определенной последовательности на протяжении весьма длительного времени и приведших к коренной перестройке звуковой системы языка и даже отразившихся кое в чем на его морфологическом строе.
Падение редуцированных и его последствия, иногда различные для территорий, занятых восточнославянскими наречиями, создали предпосылки для обособления современных восточнославянских языков: русского (великорусского), белорусского и украинского.
Из различий в явлениях, связанных с падением редуцированных, следует прежде всего указать на судьбу сочетаний плавных согласных с редуцированными гласными в положении между согласными. В сильном положении, т. е. в ударном слоге или в положении перед слогом со слабым редуцированным, они развивают— 80 —
ся одинаково во всех восточнославянских наречиях (ср. др.-русск лръвь, русск. кровь, бел. кро$, укр. кров), в слабом же положении, т. е. в безударном слоге перед слогом с гласным полного образования или с сильным редуцированным, эти сочетания имеют различную судьбу в русском языке, с одной стороны, в белорусском и украинском — с другой. В русском языке ъ и ь в соответствующих сочетаниях дают о и е, в украинском же и белорусском — ы и и (с последующим возможным в определенных условиях изменением и в ы), ср., например: русск. кровавый, крошить, бел. крывавы, лрышыць, укр. кривавий, кришити. По-видимому, в говорах, составивших затем основу украинского и белорусского языков, гласные ъ и ь, будучи слабыми, терялись, плавные же становились слоговыми, а поскольку слоговые согласные не были характерны для этих говоров, рядом с ними легко развивался слоговой гласный звук (иного качества, чем древние ъ и ь), а плавные становились неслоговыми. На такой путь указывают известные украинским и белорусским говорам формы типа кирвавый наряду с кры- вавый. Памятники начиная с XIII в. уже отражают различия между восточнославянскими языками в судьбе сочетаний плавных с редуцированными, ср., например, юблыко в галицко-волынском Житии Саввы Освященного XIII в. или дрыжаху «дрожали» в Луцком евангелии XIV в.
На юго-западе в говорах, которые затем легли в основу украинского языка, еще в конце XII в., но особенно начиная с XIII в., отражается в памятниках так называемое заменительное удлинение гласных (т. е. удлинение перед слогом с утраченным редуцированным), в результате чего на месте этимологического о пишут два о, а на месте этимологического е — Ъ ('6, по-видимому, было звуком более долгим, чем е, а кроме того, отличалось от е своим качеством — было более закрытым), ср., например, воовьца «овца» (Галицкое евангелие, 1266 г.)—ь в говоре писца уже не произносилось — слоужитЬль (Житие Саввы Освященного, XIII в.).
В памятниках XIII—XIV вв. достаточно ярко отражаются различные последствия падения редуцированных. Рассмотрим лишь некоторые из них. В результате утраты редуцированных в слабом положении оказываются рядом такие согласные, которые раньше были разделены гласными. Одни из них ассимилируются (уподобляются) другим, причем обычно воздействует последующий согласный на предшествующий (хотя наблюдается в некоторых случаях и обратное — воздействие предыдущего согласного на последующий). В особенности имеет значение ассимиляция согласных ло глухости и звонкости, состоящая в том, что глухой согласный перед звонким озвончается, а звонкий перед глухим оглушается. Озвончение начинается раньше, чем оглушение, и охватывает всю восточнославянскую область. В памятниках оно отражается уже в XIII в., ср.: гдЪ (Ростовское житие Нифонта, 1219 г.) из более раннего къде, зде (Смоленская грамота, 1229 г.) из более раннего •съде, здрава, з&Ьла, збудется, збора (Галицко-Волынское Поли- карпово евангелие, 1307 г.) из более ранних съдрава, съд'Ьла, събудется, събора; г Дорогобужю (Лаврентьевская летопись,
4) Очерки русской культуры, ч. 2 g|
1377 г.) из более раннего къ Дорогобужа. Оглушение отражается: в памятниках, лишь начиная с XIV в., например: коропка «коробка» (Духовная грамота великого князя Ивана Ивановича', около 1358 г.), Торъшку (Новгородская грамота, 1372 г.), родительный падеж от названия города Торжок (древнее Тържьнъ), воевотьст- во (Лаврентьевская летопись, 1377 г.) из. более древнего воеводь- ство, ускими (Поликарпово евангелие, 1307 г.) из более древнего' узъкыми. В настоящее время оглушение согласных, перед глухими» отражается в русском языке (в литературном и подавляющем, большинстве говоров), в белорусском и в западноукраинских говорах, тогда как в украинском языке (в литературном и в большинстве говоров) звонкие согласные перед глухими сохраняются.
Звонские согласные, оказавшиеся в результате падения редуцированных гласных на конце слова, подвергаются оглушению. Оно отражается в памятниках начиная с XIII в., например: калантъ наряду с каландъ (Новгородская- кормчая,. L282 г.) иа лат. Calendae, отинуть (Псалтырь, 1296 г.) из более древнего отинудь «со всех сторон» (отсюда современное отнюдь) г порупь* (Лаврентьевская летопись, 1377 г.) из более древнего порубъ «темница, тюрьма» (связано по корню с глаголом рубить); ъ и ь на конце слова употребляются в указанных памятниках по традиции и никаких особых звуков уже не обозначают. В настоящее время, в русском (за исключением очень немногих говоров) и белорусском языках на конце слова на месте звонкого согласного также произносится глухой. В украинском языке звонкость конечногосогласного сохраняется.
Памятники XIII—XIV вв. отражают некоторые явления в фонетике, характерные для различных говоров и большей частьк> сохраняющиеся и в настоящее время (например, различное по говорам произношение звуков на месте древнего Ъ).
Среди диалектных явлений, возникающих в рассматриваемую эпоху, большое значение имеет так называемое аканье. В широком смысле под этим понимают различные изменения, которым подвергаются гласные в безударном положении и которые приводят к тому, что многие звуковые различия, наблюдающиеся под ударением, в безударном положении не выступают. Для всех акающих говоров характерно, что гласные о и а могут различаться только под ударением, в безударном же положении на их месте наблюдается один звук — или а, или редуцированный гласный неопределенного качества, иногда звук типа ы, (а после мягких согласных и), ср., например, вада, вида. Аканье является, нормой для современного русского литературного языка.
В настоящее время аканье, охватывающее обширную территорию, представлено в южновеликорусских и средневеликорусских говорах, а также в белорусском языке. Таким образом, вся восточнославянская языковая область делится на три зоны: среднюю^ акающую, северную (северновеликорусские говоры), где о возможно не только под ударением, но и в безударном положении,, окающую, и южную (украинский язык). Для украинского языка термин «окающий» не принят, но этот язык по существу также является таковым.
— 82 —
Аканье возникло, по-видимому, в XIII в., где-то на территории южновеликорусского наречия, скорее всего, в его южной части (примерно в районе современных Курской и Орловской областей). Именно здесь сосредоточены в настоящее время наиболее архаические типы изменения безударных гласных. Относительно самого возникновения аканья, его причин, первоначального географического очага можно выдвигать лишь более или менее достоверные гипотезы, так как из мест, где можно предполагать аканье уже в указанное время, не сохранилось достаточно древних памятников. В XIV в. оно отражается уже в некоторых московских памятниках (например, в Московском евангелии 1339 г.), между тем это явление заведомо возникло не в Москве. Для того чтобы успеть в какой-то мере проникнуть в Москву в XIV в., оно должно было возникнуть раньше.
Некоторые лингвисты, выдвигавшие гипотезу о раннем (задолго до появления письменности) возникновения аканья, предполагают, что и в письменности оно отразилось раньше XIV в., причем, в частности, считают, что оно представлено и в Смоленской грамоте 1229 г. В настоящее время такую точку зрения отстаивает болгарский ученый В. Георгиев L Он считает, что написание ъ вместо о, более частое в безударном положении, свидетельствует не только о падении редуцированных, но и об аканье (ъ обозначает новый редуцированный гласный, развивающийся в безударном положении — он представлен в определенных условиях и в различных современных акающих говорах, в том числе и московском). Но если бы в этой грамоте действительно отражалось аканье, то,, во-первых, написаний ъ вместо о не могло бы быть в ударяемых слогах (меньшее число ъ вместо о в ударяемых слогах сравнительно с безударными объясняется тем, что в любом тексте ударяемых слогов меньше, чем безударных); во-вторых же, смешивались бы на письме в тождественных случаях не только ъ и о, но также о и а, ъ и а, чего в грамоте нет1 2.
Ф. П. Филин, исследуя новгородские берестяные грамоты, которые, как в большинстве случаев частные письма, имеют менее устойчивую орфографию, нашел в некоторых из них колебания между о и а, отражающие, по его мнению, аканье3. Правда, в Новгороде аканья и теперь нет, но грамоты, найденные там, могли быть доставлены из Псковской земли, где аканье развилось рано. Однако и этот материал ясных указаний не дает, да большей частью прежних предположений и не опровергает. Во-первых, время написания этих грамот предположительно определяется в большинстве случаев XIII—XIV вв. (по стратиграфическим данным, так как все они не датированные), когда аканье на некоторых территориях Русской земли уже было; лишь одна грамота (№227) 1 См. В. Георгиев. Вокалната система в развоя на славянските езици. София, 1964, стр. 70—71; его же. Общеславянское значение проблемы аканья. «Вопросы языкознания», 1964, № 4, стр. 151 —152.
2 Подробнее см.: В. И. Борковский и П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка, изд. 2. М., «Наука», 1965, стр. 147—148.
3 См. Ф. П. Ф и л и н. К хронологии русского аканья. «Lingua viget Com- mentationes slavicae in honorem V. Kipasky». Helsinki, 1964, pp. 52—55.
6* — 83 —
стратиграфически датируется рубежом XII—XIII вв., а по палеографическим данным является более поздней. Во-вторых, не во всех случаях текст достаточно ясен по содержанию и лишь с трудом делится на слова. Написание папа вместо попа (родительный падеж единственного числа от слова попъ) в берестяной грамоте № 87 (стратиграфически XII в.), которое В. Георгиев также считает отражением аканья, похоже на описку.
Аканье постепенно распространяется на север (в более северные части теперешнего южновеликорусского наречия, а также в теперешние переходные средневеликорусские говоры, первоначальная основа которых была северновеликорусская) и на запад, в Белоруссию. Распространение аканья, возможно, в известной мере было связано с отливом населения из южновеликорусских мест, вызванным вторжением сюда в первой половине XIII в. монгольских полчищ. Белорусский язык получил аканье, несомненно, позднее, чем южновеликорусское наречие. Западнобелорусские (старобелорусские) памятники не только XIII, но даже XIV в. по существу еще аканья не знают. Для XIII в. мы вообще не находим достоверных примеров. Примеры же из памятников XIV в. относятся к собственным именам иноязычного происхождения, в которых колебания между она наблюдаются уже в самых ранних восточнославянских памятниках. Бесспорные примеры аканья в западнорусских памятниках появляются не ранее XV в., ср.: з абою сторонъ (Полоцкая грамота, 1478 г.) «с обеих сторон», съ братамъ {Летопись Авраамки, 1495 г.— западнорусский список с севернорусского оригинала) «с братом».
Из явлений в области согласных следует указать на начинающееся с XIV в. и охватывающее в разное время и в различной степени почти всю восточнославянскую область отвердение шипящих согласных и ц. Все эти согласные в древнерусском языке были мягкими; следы их былой мягкости отражаются и в некоторых особенностях современной нашей орфографии. Отвердели почти повсеместно и раньше других tu и ж. Ц сохранило мягкость в большей части так называемых цокающих говоров, т. е. таких, где не различаются ц и ч, причем чаще на месте ч слышится ц или шепелявый звук, средний между ц и ч. Такие говоры широко распространены в северных районах (Новгородская и Псковская земли, •часть Ростово-Суздальской земли), а также в районах, колонизованных Новгородом. В тех же говорах, где ц отвердело, в частности в московском говоре, составившем в дальнейшем основу литературного языка, его отвердение относится не ранее, чем к XV в. Ч сохранило мягкость (за исключением немногих говоров) на .большей части территории, занятой русским языком. В широком объеме отвердели также tu долгое (из древнего шч, кое-где сохранившего такое произношение) и ж долгое. Впрочем, в московском .говоре., по крайней мере в его архаическом слое, tu и ж долгие .сохраняют и до настоящего времени мягкость (ср. щи, .дджжик).
К концу рассматриваемого периода, именно XV в., относится наблюдающееся в некоторых русских говорах смягчение задне- лёбных согласных (главным образом к, реже г, х) в положении — 84 —
после мягких согласных, т. е. произношение типа Ванькя, уголь' кём, бдчкя и т. п. Это явление, характерное лишь для русского языка, начинается, по-видимому, в говорах, расположенных к югу от Москвы, а затем получает широкое распространение в различных южновеликорусских и северновеликорусских диалектах, в результате колонизационных процессов, происходивших на протяжении развития Русского государства.
Много нового обнаруживается в рассматриваемый исторический период и в развитии морфологического строя языка. При этом многие из особенностей, отличающих морфологическую структуру современного русского языка (да и двух других современных восточнославянских языков) от древнерусского, впервые отражаются в памятниках XIII в. В силу письменной традиции лишь отдельные, в небольшом количестве наблюдавшиеся колебания в написании или употреблении тех или иных форм свидетельствуют первоначально о тех изменениях, которые произошли в живом языке. Лишь постепенно новые формы становятся нормой, но любое, хотя бы единичное отклонение, которое не может быть отнесено за счет случайной описки, говорит о том, что в живом языке или уже началась борьба старой формы с новой, или новая форма вообще уже вытеснила старую.
Одним из морфологических отличий древнерусского языка от современного является наличие в нем особой формы двойственного числа, употреблявшейся в тех случаях, когда речь шла о двух предметах. Эта форма была характерна для существительных и личных местоимений, а также для различных слов, согласующихся с ними в предложении: неличных местоимений, прилагательных, различных форм глагола. В памятниках XIII в. отражается замена формы двойственного числа множественным числом, ср., например, в Смоленской грамоте 1229 г.: «та два была послъмь оу Ризе» (двойственное число употреблено правильно: та — именительный падеж мужского рода двойственного числа указательного местоимения, была — именительный падеж мужского рода двойственного числа действительного причастия прошедшего времени, уже выполняющего функцию глагола); далее о тех же двух послах говорится: «из ригы ехали на гочькыи берьго» (из Риги ехали на Готский берег) — ехали форма мужского рода множественного числа. Конечно, формы двойственного числа по традиции употребляются еще долго, особенно в памятниках, целиком или частично написанных по нормам церковно-книжного стиля. Формы эти дольше держатся в сочетании с числительным два (чем, возможно, и объясняется приведенная выше форма двойственного числа указательного местоимения та в сочетании с два).
В древности, как и теперь, различались полные и краткие формы прилагательных и причастий; причем в отличие от современного языка краткие формы могли употребляться не только в качестве сказуемого (как теперь), но и в качестве определения. В этом случае, поскольку они согласовывались в роде, числе и падеже со своим определяемым, они склонялись. Однако уже в XIII в. формы косвенных падежей кратких прилагательных становятся редкими, что свидетельствует о выходе их из употребления — 85 —
в живом языке. Краткие прилагательные все больше и больше закрепляются исключительно в роли сказуемого. Согласуясь с подлежащим, стоящим в именительном падеже, они сохраняют в дальнейшем лишь этот падеж, т. е. вообще не имеют склонения. Впрочем, поскольку по традиции краткие прилагательные продолжают и в дальнейшем использоваться в качестве определений, трудно -вполне точно определить временную границу исчезновения из языка косвенных падежей кратких прилагательных (как архаизм такие формы употребляются и теперь, ср., например, в былинах: «он садился на добра коня»). Интересно отметить, что даже в качестве сказуемого все шире начинают использоваться полные прилагательные. В древности именное сказуемое могло выражаться лишь краткой формой прилагательного. В Лаврентьевской летописи, написанной во второй половине XIV в., имеется несколько случаев использования относительных прилагательных в качестве сказуемого (в современном языке относительные прилагательные имеют лишь полную форму; в краткой — в качестве сказуемого могут использоваться лишь качественные прилагательные).
К XIII в. относится утрата различий именительного и винительного падежей во множественном числе существительных. В современном языке, как известно, именительный и винительный падежи одинаковы у существительных, обозначающих неодушевленные предметы, и различаются у существительных, обозначающих одушевленные предметы, причем форма винительного падежа у последних тождественна форме родительного (ср.: Я вижу столы и Я вижу мальчиков). В древности особую форму винительного падежа имели все существительные мужского рода, причем эта форма отличалась как от именительного, так и от родительного падежа. Так, от слова столъ именительный падеж множественного числа имел форму столи, а винительный падеж — столы, от слова конь — именительный падеж множественного числа кони, винительный падеж конЪ (у существительных женского и среднего рода и раньше именительный и винительный падеж множественного числа по форме не различались). Начиная с XIII в. одинаковая форма для именительного и винительного падежей множественного числа устанавливается и у существительных мужского рода, причем существительные с твердым согласным в конце основы получают окончание -ы (которое раньше было лишь в винительном падеже), а существительные с мягким согласным — окончание -и (которое раньше было лишь в именительном падеже, например, столы, кони — именительный и винительный падеж множественного числа). Впервые употребление формы старого винительного падежа в значении именительного отмечено в Ростовском житии Нифонта 1219 г. («чины раставлени быша»), с середины XIII в. подобные формы употребляются часто. Что же касается формы винительного падежа на -Ъ у существительных с мягким согласным в конце основы, то в московских грамотах XIV—XV вв. эта форма уже не встречается и вместо нее постоянна новая форма с окончанием -и. Правда, в Лаврентьевской летописи (1377 г.) старая форма употребляется еще довольно часто, но ведь этот памятник списан с более древнего оригинала, который был закончен — 86 —
sb самим натале XTV в., а большая часть оригинала писалась на ^протяжении предшествующих веков.
С XIII в. начинается распространение единых форм во множественном числе у всех существительных в дательном, творительном и местном (современном предложном) падежах. Первоначально существительные различных склонений имели разные формы не только в единственном, но и во множественном числе. Так, на- шример, в древнерусском языке дательный падеж множественного числа от слова столъ был столомъ, от слова жена — женамъ, от слова кость — костъмъ (после утраты редуцированных и изменения их в гласные полного образования эта форма приняла вид кос- тем), творительный падеж множественного числа от слова столъ — столы (так же, как винительный падеж), от слова жена — женами, ют слова кость — костьми (эта форма сохранилась как архаизм и теперь, в таком выражении, как лечь костьми), местный падеж ют слова столъ — столЪхъ, от слова жена — женахъ, от слова жость — костьхъ (после падения редуцированных — костех). Со временем устанавливаются для этих падежей у всех существительных формы с такими окончаниями, которые первоначально были свойственны лишь существительным, оканчивавшимся на -а: дательный падеж — столам, женам, костям, творительный падеж — столами, женами, костями, местный падеж—(о) столах, женах, костях. Лишь в немногих говорах сохранились формы дательного и местного падежа костем, костех (с переходом е в о перед твердым согласным). Распространение новых форм отражается в памятниках, начиная со второй половины XIII в., по крайней мере для дательного и местного падежей, ср.: teeytiTлнамъ (Новгородский паримейник, 1271 г., л. 9), матигорьцамъ (там же, запись), к лати- <намъ (Рязанская кормчая, 1284 г., л. 34), постоюяшамъ (Новгородская грамота, 1304—1305 гг.), на сборищахъ (Московское евангелие, 1339 г., л. 64), со недЪлщикахъ (Судебник Ивана III, 1497 г., л. 6).
А. И. Соболевский приводит одну форму творительного падежа множественного числа на -ами из Новгородского паримейника (1271 г.): съ клобуками (л. 214) 4. Вслед за ним эту форму приводят в общих курсах исторической грамматики Н. Н. Дурново, Л. А. Булаховский, П. Я. Черных, П. С. Кузнецов и другие. Но здесь случайная и непонятная ошибка Соболевского: в действительности, как указал В. М. Марков, в упомянутом выше пари- мейнике употребляется съ клобукы 5.
Наиболее же ранние формы творительного падежа множественного числа на -ами от существительных, не относящихся к склонению с основой на -а, появляются лишь во второй половине XV в. ср.: с пожнями и селищами (Духовная грамота А. М. Плещеева до 19 августа 1491 г.)_, л'Ьсами, поутиками, хмелниками (Двинские грамоты XV в., № 33, 90), наряду с новыми формами 4 См. А. И. Соболевский. Лекции по истории русского языка, изд. 4. ЛИ., 1907, стр. 177.
5 См. В. М. Ма,рков. Язык «Расходной книги» Волоколамского монастыря. «Ученые записки Казанского госуниверситета им. В. И. Ульянова-Ленина», 3961, т. 119, кн. 5, стр. 192, прим. .1.
— 87 —
дательного и местного падежей множественного числа. Правда* старые формы продолжают встречаться еще долгое время после- того, как они исчезли из живого языка, в особенности долго сохраняется прежняя форма творительного падежа на -ы у существительных мужского и среднего рода. Ее можно встретить, в особенности в деловых документах, еще в XVIII и даже в начале XIX в.,, ср., например: «съ воинскими снаряды» («Русские ведомости»,. 1703 г.); «...с пашенною и непашенною землею, лесами, сенными покосы...» (А. С. П у ш к и н. Дубровский).
Различные слова, зависящие от существительных в предложении и согласующиеся с ними в роде, а именно прилагательные* причастия, неличные местоимения, в древности различались по родам не только в единственном числе, но и в именительном и винительном падежах множественного числа (в остальных падежах различия по родам у этих слов во множественном числе не было).. В дальнейшем и в этих падежах устанавливаются единые формы, для всех трех родов. Так, например, для прилагательного добрый в древнерусском языке во множественном числе различались формы добрии (именительный падеж мужского рода), добрыЪ (именительный и винительный падеж женского рода, винительный: падеж мужского рода), добрая (именительный и винительный падеж среднего рода). В дальнейшем же стала употребляться во* всех этих значениях форма добрые (из старого добрый).
Это объединение различных родов во множественном числе также начинается, судя по памятникам, с XIII в., ср., например: «неислйдованыя неизмйрныя чины раставлени быша» (Ростовское* житие Нифонта, 1219 г.), «на свои рукьг» (Духовная грамота Климента Новгородца до 1270 г.). При этом раньше получают общую- форму мужской и женский род, и лишь позднее, не ранее первой половины XIV в., эта форма распространяется на средний род.
Глагольная система, сравнительно с остальными морфологическими категориями на протяжении истории русского языка, как и других восточнославянских языков, подверглась наибольшим изменениям. Основные линии изменения этой системы достаточно» ярко отражаются в памятниках рассматриваемой эпохи. В особенности сильно изменилась система прошедших времен глагола.
Древнерусский язык, как и другие славянские языки, имел четыре формы прошедшего времени: аорист, имперфект, перфект и давнопрошедшее. Аорист обозначал действие, целиком отнесенное в прошлое; он мог обозначать мгновенное действие, если был образован от глагола совершенного вида, и действие длительное, но- единое, не расчлененное на отдельные моменты, если был образован от глагола несовершенного вида. Имперфект обозначал действие в. прошлом, длительное и взятое в развитии, в расчленении его на отдельные моменты; образовывался он почти всегда от глаголов несовершенного вида и лишь в очень редких случаях от глаголов совершенного вида; и в последнем случае он обозначал действие прошлое, много раз повторявшееся, но каждый раз законченное. Перфект обозначал такое действие, которое само в прошлом закончилось, но результат его продолжается в настоящее время. Давнопрошедшее время чаще употреблялось в придаточных предложе— 88 —
ниях; оно обозначало действие, совершившееся в прошлом раньше какого-то другого действия, также относившегося к прошлому, которое обычно выражалось глагольной формой в главном предложении, или же действие, вообще бывшее давно. Аорист и имперфект имели простые формы, а перфект и давнопрошедшее время — сложные, то есть образовывались посредством сочетания формы вспомогательного глагола и действительного причастия прошедшего времени с суффиксом -л-.
На протяжении истории русского языка все указанные выше формы, кроме перфекта, теряются, а перфект становится единственным прошедшим временем, которое сохраняется теперь. Вместе с тем он теряет вспомогательный глагол, а старая форма причастия на -л- осознается не как причастие, а как форма прошедшего времени глагола. Таким образом, теперешнее прошедшее время изменило на протяжении истории русского языка и форму и значение.
Различные прошедшие времена, по-видимому, теряются не одновременно. Раньше исчезают из языка простые прошедшие времена, особенно имперфект, от которого в современном русском языке не осталось никаких следов. Имперфект отсутствует уже в самых древних деловых документах, которые стояли к живому языку ближе, чем другие жанры памятников древней письменности.
Аорист держался дольше, но в живом языке рассматриваемой эпохи он, по-видимому, также был уже утрачен, хотя памятники и указывают на то, что утрата эта произошла не во всех говорах одновременно. Так, Смоленская грамота 1229 г., довольно большая по объему, не содержит ни одного примера имперфекта или аориста, хотя по содержанию ее во многих случаях эти формы могли бы быть употреблены, если бы во время написания грамоты они продолжали жить в языке. Но в новгородских грамотах того же и даже более позднего времени аорист иногда употреблялся, что свидетельствует о более длительном сохранении его на севере. Употребляется он иногда и в двинских грамотах (т. е. писанных на Северной Двине, колонизованной, как известно, из Новгородской земли) XV в. Однако и в Новгороде формы аориста чаще употребляются в устойчивых формулах, унаследованных от прошлого (например, оуставиьиа, повелЪша и т. п.). Вместе с тем часто эти формы употребляются неправильно, выступая в том же значении, что и перфект, а это говорит об отсутствии аориста в живом языке. Колебания между формами аориста и перфекта без всякого различия в значении обнаруживаются, например, в Договорной грамоте Александра Невского и новгородцев с немцами 1262—1263 гг.
Конечно, в памятниках не только церковных, но и светских, писанных по нормам литературного языка того времени, аорист и имперфект широко употреблялись, и даже в соответствии с древними нормами не только в XIII—XIV вв., но и позднее. Так, например, эти формы широко используются в древнейших дошедших до нас летописях — Синодальной новгородской (XIII—XIV вв.),Лаврентьевской (1377 г.), Ипатьевской (первая четверть XV в.). Это свидетельствует о том, что книжники того времени, не употребляя этих форм в разговорном языке, хорошо знали и чувствовали нормы употребления старославянского и древнерусского языков древ— 89 —
нейшей эпохи. Конечно, их специально этому учили. В этом отношении интересна новогородская берестяная грамота № 46, представляющая собой примитивно зашифрованную школьную шутку и содержащая на небольшом отрезке три формы аориста (3-е лицо единственного числа)—писа, каза, цита (читал). В живом языке того времени, когда эта грамота писалась, вероятно, в XIV в., несомненно, аорист уже отсутствовал.
В то же время разрушение старой временной системы отражается не только в светских, но и в церковных памятниках XIII— XIV вв., и притом писанных не только на юге, но и на севере. Оно отражается в наблюдавшихся иногда случаях смешения форм имперфекта и аориста (смешиваются близкие друг к другу по внешнему виду, но в древности резко различавшиеся по значению 3-е лицо единственного числа имперфекта, оканчивавшееся на -ше, и 3-е лицо множественного числа аориста, оканчивавшееся на -шау притом в таких памятниках, где вообще фонетически е и а различаются: ср., например, «птица небесьныя позобаше»— 3-е лицо единственного числа имперфекта вместо 3-го лица множественного числа аориста — в Новгородском евангелии 1215 г. (птица — частая для церковно-книжных памятников форма именительного падежа множественного числа). Отражается это разрушение и в том, что все больше начинает употребляться форма перфекта в тех случаях, где раньше употреблялись аорист и имперфект. Так, в Лаврентьевской летописи частота употребления перфекта в целом непрерывно возрастает, причем во второй части, именно в Суздальской летописи, форм перфекта значительно больше, чем в первой части, то есть в «Повести временных лет» (оригинал Суздальской летописи писался позднее, чем оригинал «Повести временных лет»). Между тем по содержанию оснований для употребления старых форм в Суздальской летописи не меньше, если не больше, чем в «Повести временных лет». В первой части летописи резкое увеличение количества случаев употребления перфекта наблюдается лишь в рассказе об ослеплении Василька и в поучении Владимира Мономаха. Но очень частое употребление перфекта в первом -случае оправдано с точки зрения древнего значения этой формы; поучение же Владимира Мономаха, включенное в летопись, списано с особого оригинала, и вообще сильно отличается в языковом отношении от окружающих частей летописи — оно ближе стоит к живой, разговорной речи.
В особености широко употребляется форма перфекта во 2-м лице единственного числа. Зачатки такого употребления отражаются уже в древнейших памятниках старославянского языка. К XIV в. такое употребление для некоторых книжных памятников становится нормой. Так, например, в евангелии митрополита Алексия (середина XIV в.) во 2-м лице единственного числа обычно употребляется перфект, а в остальных лицах — часто имперфект и аорист. Позднее, в XVI—XVII вв., такое разграничение не только сохранилось в нашей книжной литературе, но и отразилось в нормах, предлагаемых писанными на Руси церковнославянскими грамматиками— у Лаврентия Зизания, Мелетия Смотритского и других.
— 90 —
Давнопрошедшее время на протяжении всего рассматриваемого периода сохраняется, но подвергается некоторому изменению по форме. В древнерусском языке, как и в старославянском, форма этого времени образовывалась посредством сочетания имперфекта бЪахъ или аориста особого типа бЪхъ вспомогательного глагола и действительного причастия прошедшего времени на -л-. В дальнейшем же вместо формы имперфекта или аориста вспомогательного глагола начинает употребляться перфект того же глагола, т. е. появляются формы типа есмь былъ пришелъ. Пример подобного употребления встречается уже в «Поучении Владимира Мономаха»: «и не лЪнива ма былъствориль худаго, на всЪ дЪла
с
•члвчки потребна» (речь идет о боге, сотворившем самого Владимира способным на все человеческие дела). Только здесь уже отсутствует первый элемент этой сложной формы — настоящее время вспомогательного глагола. Впрочем, эта форма, как мы видели выше, могла отсутствовать и в перфекте. Настоящее время вспомогательного глагола в русском языке вообще рано начинает теряться, особенно в 3-м лице, не только в составе сложных глагольных форм, но и в качестве связки при составном сказуемом. Сочетания же типа был пришел, был купил, был узнал в значении давнопрошедшего времени сохраняются в живом языке на протяжении всего рассматриваемого периода и даже позднее. Кое-где в говорах такие формы сохранились и в настоящее время; в украинском же языке они являются не только достоянием местных говоров, но и литературной нормой.
Для выражения будущего времени, как и в более ранний период, продолжают употребляться простая форма от глаголов совершенного вида и сложная форма, представляющая собой сочетание инфинитива (обычно от глагола несовершенного вида) и формы вспомогательного глагола, а также форма так называемого прежде- будущего времени, выражавшая действие в будущем, которое должно совершиться ранее другого действия в будущем, также обозначенного будущим временем, и представлявшая собой сочетание действительного причастия прошедшего времени на -л- от глагола совершенного вида и формы вспомогательного глагола буду (например, буду купилъ, буду узналъ и т. п.).
Форма будущего времени несовершенного вида еще окончательно не стабилизировалась, в качестве вспомогательных употреблялись различные глаголы: либо совершенного вида, либо имевшие специально начинательное значение (т. е. обозначавшие начало действия), либо же обозначавшие долженствование и пожелание, чтобы действие совершилось: имамъ (такова древняя форма 1-го лица единственного числа этого глагола; в рассматриваемую эпоху он обычно употреблялся уже в форме иму), начьну, учьну, почъну, хочю и другие. Обычная для современного языка форма, т. е. сочетание инфинитива с вспомогательным глаголом буду, в рассматриваемую эпоху в русском языке еще не получила распространения. Личные формы буду широко употреблялись в •составном сказуемом в сочетании с существительными, прилагательными, страдательными причастиями (как это имеет место и — 91
в современном языке), но в сочетания с инфинитивом вступала лишь форма 3-го лица единственного числа (будеть, будетъ) для выражения долженствования в безличном предложении, например: «а гдЪ ми буде(т) въсЬсти на конь, вЪсЬсти вы со мною» (Договорная грамота великого князя Семена Ивановича с князьями Иваном Ивановичем и Андреем Ивановичем, ок. 1350—1351 гг.). Однако поскольку буду употребляется для выражения будущего времени в других случаях, постепенно оно начинает использоваться в сочетании с инфинитивом и для выражения будущего времени несовершенного вида.
Этот способ выражения будущего времени уже во второй половине XIV в. отражается в памятниках старого украинского и старинного западнорусского (старобелорусского) языка, ср.: бу дуть твердити (Грамота, 1375 г.), служити будеть (Грамота, 1377 г.) 6, будем держа(т) (Грамота Коробута, 1388 г.) 7. В великорусские памятники этот способ проникает позднее. В рассматриваемую эпоху мы находим примеры его лишь в двух грамотах князей Ново- сильских и Одоевских великому князю Литовскому Казимиру, написанных в XV в. (в 1442 и 1459 гг.), но сохранившихся лишь в позднейшей и к тому же западнорусской копии XVI в. в составе Литовской метрики: хто будеть ... держати, который будеть ... дер- жати.
Начиная с XIII в., к которому относится, как уже было сказано, появление большинства новшеств в области морфологического’ строя, намечается и новый способ выражения сослагательного наклонения. В древнерусском языке это наклонение выражалось посредством сочетания личных форм аориста вспомогательного глагола быти (быхъ, бы, бы и т. д.) и действительного причастия прошедшего времени на -л-. В современном языке оно выражается сочетанием формы прошедшего времени глагола на -л- с неизменяемой частицей бы (писал бы, пришел бы). По происхождению это бы является старой формой 2-го и 3-го лица единственного' числа аориста от глагола быти, распространившейся на все лица в обоих числах. Это явление и отражается в памятниках начиная с XIII в., например: «аще бы в ТурЪ быша силы были» (Новгородское Милятино евангелие, 1215 г.); «аще бы слЬпи были» (Московское евангелие, 1339 г.). В первом примере сочетается старая, со- гласуемая в лице и числе форма быша, употребленная, по традиции, с новой, неизменяемой формой бы, то есть по существу уже частицей; во втором — выступает уже только несогласуемая форма бы, как в современном языке. Конечно, старые формы по традиции еще долго употребляются и в дальнейшем, особенно в памятниках книжного характера, но живому языку они уже не были свойственны.
Параллельно с упрощением временной системы, идет развитие видовой системы, выражающееся в более четком противопоставлении глаголов совершенного и несовершенного вида. Само это про6 См. С. П. Б е в з е н к о. 1сторична морфолопя украТнськоГ мови. Ужгород^ 1960, стр. 324.
7 Chr. S. Stang. Die altrussische Urkundensprache der Stadt PoLozk. Oslo, 1939.
— 92 —
тивопоставление возникает в значительно более раннее время и относится к дописьменной эпохе, к общеславянскому языку. Все большее распространение получают производные приставочные глаголы несовершенного вида типа спраишвати от спросити. Именно в это время распространяется наиболее продуктивный и в настоящее время способ образования таких глаголов посредством суффикса -ива-, -ыва-. Вместе с тем начинают образовываться так называемые «многократные» бесприставочные глаголы, образуемые посредством тех же суффиксов, что и производные приставочные, типа нашивать, хаживать. Эти глаголы, широко распространенные в некоторых, главным образом северных, русских говорах, и теперь, в литературном языке довольно редки; они обычно употребляются лишь в прошедшем времени, а также в инфинитиве, в последнем случае лишь с отрицанием. Эти глаголы имели в прошлом и имеют теперь не только многократное значение, но часто обозначают просто нечто давно бывшее (ср. у А. С. Пушкина: «Здесь барин сиживал один»), а с отрицанием употребляются для выражения большей категоричности отрицания, например: «Тебе •сюда уж больше не хаживать». Древнейшую бесприставочную форму на -ива- (а именно инфинитив с отрицанием для выражения большей категоричности отрицания) мы находим в Договорной грамоте Великого князя Дмитрия Ивановича Донского с князем серпуховским и воровским Владимиром Андреевичем 1389 г.: «А тобЪ, брату моему ...не канчивати ни с кЪм же....» (канчивати от кончити здесь в значении «заключать договор»). Интересно, что в более ранней Договорной грамоте 1367 г. Дмитрия Донского с князем Владимиром Андреевичем в соответствующем контексте стоит производный приставочный глагол несовершенного вида — не доканчивати. Впрочем, на протяжении рассматриваемой эпохи бесприставочные формы на -ива-, -ыва- в памятниках, даже наиболее близких к живой речи, еще редки. Широкое распространение они получают .лишь позднее, в XVI—XVII вв.
К рассматриваемому периоду относится, по-видимому, и начало формирования особых возвратных форм глагола, служащих для выражения различных значений, общим для которых является непереходность глагола, то есть невозможность постановки при нем прямого дополнения в винительном падеже. Возвратные формы образуются посредством присоединения к различным глагольным формам возвратной частицы -ся, по происхождению представляющей собой форму винительного падежа возвратного местоимения. Некоторые наши глаголы не могли употребляться без -ся уже в эпоху древнейших дошедших до нас памятников (например, глагол боятися уже в глубокой древности не употреблялся без -ся). И в то же время это -ся не было частью глагольной формы, как теперь. Оно не обязательно следовало непосредственно за глагольной формой, как это имеет место в современном языке, и притом не только в литературном, но и в любом говоре, а могло стоять перед глаголом, быть отделено от него другими словами, ср., например: «аще са въвадить волк в овцЪ, то выносить все стадо» (Если повадится волк в овечье стадо — буквально «в овцы»,— то выносит все стадо) (Лаврентьевская летопись, 1377 г.); «а гдЪ са /па жь — 93 —
родить тоу ю кончати» (А где родится — т. е. возникнет — спор, там его и кончать) (Договорная грамота Александра Невского и новгородцев с немцами, 1262—1263 гг.). Такое употребление -ся продолжается и позднее, даже в памятниках XVII в. Но в то же время оно становится все более редким. Уже для памятников XIII—XIV вв. наиболее обычным является непосредственное примыкание -ся к концу глагольной формы, как в современном языке. Ср. в той же Лаврентьевской летописи — не мстас* «не остался»- (л. 4 об.), нарекоьиас* «назвались» (там же), прозвашас* «прозвались» (л. 5), съвЪщашес* «уславливался» (там же), мните* «думается» (л. 5 об.), обр*щетьс* «найдется» (л. 12 об.),. изодЪлис* «разоделись» (л. 14 об.), смерчес* «смерилось» (л. 17) и т. д. По-видимому, в живом языке уже шел процесс объединение прежнего возвратного местоимения, ставшего частицей, с глагольной формой в одно слово, но в силу письменной традиции в памятниках зачастую выступало и старое употребление. О том, что это- именно так, свидетельствует один факт, касающийся формы, возвратной частицы. Известно, что в том случае, если ударение не падает на -ся, а глагольная форма, предшествующая этому -ся,. оканчивается на гласную, возвратная частица может утрачивать, свою гласную и сохранять лишь одну согласную; ср., например: он взялся, но она взялась. Наиболее ранние примеры такой утраты гласной обнаруживаются в памятниках XIV в. Самый ранний из них — учинилось — в Новгородской грамоте 1373 г. Такое ослабление, а затем полная утрата гласной были бы невозможны,, если бы возвратная частица еще не характеризовалась тенденцией слияния в одно слово с предшествующей глагольной формой.
Определенные изменения происходят в личных окончаниях настоящего и простого будущего времени глагола. Наиболее важное из них касается 3-го лица единственного и множественного числа. В древнерусском языке эти формы первоначально оканчивались на -ть, а определенные категории глаголов в 3-м лице вообще могли не иметь окончания. После утраты конечного ь формы эти стали оканчиваться на мягкое т (оно смягчилось перед последующим ь еще тогда, когда он не был утрачен). В современных говорах сохранились как формы с мягким т, так и формы без окончаний, ср.: несёт", несё’, несут", сидя (3-е лицо множественного числа). При этом формы на мягкое т в основном наблюдаются в южновеликорусских говорах, а частью и в переходных, формы же без т встречаются как на юге, так и на севере. В части же говоров т в окончании 3-го лица позднее отвердевает. Отвердение это. охватывает почти весь север и проникает также в переходные говоры (лишь в части северных говоров около Онежского озера сохранилось т мягкое в 3-м лице множественного числа глаголов. I спряжения, например: идуть).
Отвердение конечного т, которое затем стало нормой для литературного языка, захватывает и часть переходных говоров, в частности московский. Наиболее ранние примеры отражения отвердения т засвидетельствованы в памятниках с XIII в., ср.: оучинитъу придетъ, оубьютъ (Новгородская грамота, 1257—1263 гг.).
— 94 —
К рассматриваемому периоду истории русского языка относит- <я и развитие деепричастия новой категории, отсутствовавшей в древнерусском языке. Оно образовалось из старой краткой формы действительного причастия настоящего и прошедшего времени в результате утраты им изменения по родам, числам и падежам и превращения в неизменяемую наречную форму. Различия падежных форм рассматриваемых причастий начинают теряться уже в глубокой древности, но изменения по родам и числам в начале еще сохраняются. С XIII в. обнаруживаются колебания, неправильное согласование и в отношении рода и числа, например: «помоливъши са епископъ» (Ростовское житие Нифонта, 1219 г.) —именительный падеж единственного числа женского рода вместо именительного падежа единственного числа мужского рода; «женыкланлють са такого молвя» (Новгородская кормчая, 1282 г.) —именительный падеж единственного числа мужского рода вместо именительного падежа множественного числа женского рода. Только что приведенные формы вполне напоминают современные формы деепричастия (ср. помолившись, молвя от глаголов помолиться, молвить).
О развитии синтаксического строя и словарного состава русского языка можно говорить главным образом применительно к жанрам письменной речи, так как разные памятники отличаются друг от друга в первую очередь синтаксически и лексически. Элементарные синтаксические конструкции (например, употребление падежей с предлогами и без предлогов в зависимости от тех или иных глаголов и имен), если они не характеризуют определенные стили и характерны для обычного живого языка, в основном близки к современным. Они отступают от современных норм чаще всего в отношении частоты употребления, а если отсутствуют в литературном языке, то большей частью представлены в тех или иных говорах. Так, например, именительный падеж существительных на -а в значении прямого дополнения при инфинитиве употреблялся некогда в московских памятниках, наиболее близко стоявших к живой речи, ср.: «тЪмъ знати ceota служба» (Договорная грамота великого князя Дмитрия Ивановича с князем Серпуховским и Боровским Владимиром Андреевичем, ок. 1367 г.). Встречается этот оборот и позднее, например уже в XVI в. в Домострое. В настоящее время его нет в литературном языке и в московском говоре, но он широко распространен в различных севернорусских говорах. Также и в лексике того времени есть много слов, имеющихся и в современном русском языке. Если слова XIV—XV вв. и вышли сейчас из употребления, то главным образом в связи с тем, что утратили актуальность предметы или явления, обозначаемые ими. В тех случаях, когда слова заменились другими в литературном языке, они часто сохраняются и теперь в говорах.
И все же кое-что сказать о развитии синтаксического строя и словарного состава можно.
В синтаксисе наблюдается утрата некоторых беспредложных падежных конструкций и замена их предложными. В особенности следует обратить внимание на так называемый местный падеж (современный предложный). Применительно к современному языку
— 95 —
этот падеж и называется предложным потому, что без предлога не употребляется. В древнерусском языке он мог употребляться и без предлога, причем обозначал в этом случае место или время. Впрочем, уже в древнейших памятниках возможны были в тех же значениях и предложные конструкции, которые со временем и вытеснили полностью беспредложные.
В начале рассматриваемого периода беспредложное употребление местного падежа еще встречается в памятниках делового письма, ср., например, в Смоленской грамоте 1229 г.: «и смольньскь и оу ризЪ и на гочкомь березЪ» (и в Смоленске, и в Риге, и на Готском берегу, т. е. на Готланде)—смольньскь вместо Смольньскь, Впрочем, тут же употребляется и местный падеж с предлогом. Много случаев местного падежа без предлога и в Смоленской грамоте 1230 г. Так же в Новгородской грамоте 1269—1270 гг.: «тако пошло Новегороде». Но в более поздних грамотах местный падеж для обозначения места употребляется лишь в сочетании с предлогами. Это говорит о том, что в живом языке беспредложная конструкция уже выходит из употребления. Правда, она встречается и в более позднем памятнике — Лаврентьевской летописи (1377 г.). Но ведь этот список, как отмечалось, сделан с более раннего оригинала, и формы местного падежа могли проникнуть из последнего.
Беспредложное употребление местного падежа лЪтЬ (от лЪто) для обозначения времени встречается и в более поздних грамотах, ср., например: «а на озвадъ ти княже ездити лете» (Новгородская грамота, 1304—1305 гг.). Тоже наблюдается и в новгородских грамотах 1305—1308 и 1471 гг. Но в данном случае речь идет об употреблении формы одного и того же слова, часто фигурировавшей в грамотах и, возможно, уже ставшей наречием.
Для словарного состава следует указать на большое количество разнообразных слов, образованных от русских корней при помощи обычных для русского языка словообразовательных средств, а также переосмыслений, представленных главным образом в юридической литературе и свидетельствующие о достаточной сложности социально-экономических и политических отношений и развитии материальной культуры. Ср., например, употребляющиеся в Новгородских грамотах XIII—XIV вв. названия зависимых лиц: холопъ, роба, закупъ, закладьникъ; названия выборных должностей: посадьникъ и тысяцкий (более древнее тыс&чьскыи); названия различных социальных слоев населения: старейшие и меныиие (люди); названия различных земельных угодий: пожьни (покосы) и орамые земли (пашни), рЪпища (поля, где посажена репа); названия денежных единиц: гривьна, куна\ юридические термины: доконьчание (договор), грамота душевная (завещание).
Для развития словарного состава существенно отметить заимствования из языков различных народов, с которыми русским людям приходилось вступать в те или иные отношения.
Зависимость от Золотой Орды, от которой Русь освобождается лишь к концу рассматриваемого периода, ознаменовалась проникновением в русский язык многих слов тюркского, и именно татарского, происхождения. Эти слова относятся к области экономиче—- 96 —
ских и политических отношении, вооружения, коневодства, некоторых других терминов материальной культуры (например, к татарскому языку восходят некоторые названия одежды, встречающиеся не только в диалектах, но и в общерусском языке). Впрочем, не всегда легко отграничить заимствования, вошедшие в русский язык из татарского, от более ранних заимствований из других тюркских языков, например из половецкого. Все тюркские языки по своей структуре и словарному составу очень близки друг к другу, а мы не всегда можем точно фиксировать время, когда данное слово вошло в русский язык. Что же касается значения заимствованных слов, то они не всегда таковы, чтобы мы лишь на основе этого значения могли сказать, когда приблизительно это слово могло проникнуть в язык: здесь приходится обращаться к различным косвенным данным, которых может для данного слова и не быть. Так, например, слово лошадь встречается впервые в памятниках рассматриваемого нами периода, именно в Лаврентьевской и в Ипатьевской летописях. Это слово заимствовано из одного из тюркских языков. Но оно заведомо проникло в наш язык в более ранние времена, чем мы пришли в соприкосновение с татарами. В обеих указанных летописях это слово употреблено под одним и тем же 1111 г. в речи Владимира Мономаха, призывавшего других князей к борьбе с половцами.
Из заимствованных слов, относящихся к сфере экономических и политических отношений, можно привести такие, как деньга, алтын (впоследствии, уже в XIX в., употреблялось в значении «3 копейки», откуда современное пятиалтынный «15 копеек»), тамга. Все эти слова пришли к нам, по-видимому, из татарского языка.
Деньга, денга встречаются в значении определенной денежной единицы в различных грамотах начиная с XIV в., например, в Уставной грамоте великого князя Василия Дмитриевича 1392 г., позднее в Судебнике Ивана III 1497 г. В дальнейшем это слово во множественном числе было использовано в собирательном значении для обозначения вообще денег (это значение сохранилось и теперь). Слово деньга в уменьшительной форме денежка сохранялось еще в XIX в. для обозначения определенной мелкой монеты достоинством в полкопейки (наряду с этим позднее употребляется в том же значении заимствованное из немецкого языка грош). Слово алтын также употребляется в грамотах уже в XIV в. (например, в Договорной грамоте Дмитрия Донского 1375 г., в Уставной грамоте Василия Дмитриевича 1392 г.). Одно время предполагали, что это слово восходит к тат. алты «шесть», но скорее это слово тюркское — алтын «золото». Слово тамга уже с XIII в. употребляется в значении сначала «клеймо, печать», затем «подать», «дань» и, наконец, «торговая пошлина». Мы находим его прежде всего в ярлыках татарских ханов (например, ярлык хана Менгу Тимура 1267 г., хана Узбека 1315 г., царицы Тайдулы 1351 г.). В значении торговой пошлины это слово употребляется уже в духовной грамоте Ивана Калиты. В современном языке оно не сохранилось, но производное от него таможня (первоначальное значение «место, где взимают пошлину») живет и теперь. Кстати сказать, производное прилагательное таможный, а также существительное таможник 7 Очерки русской культуры, ч. 2
— 97 —
в значении «сборщик тамги» (т. е. дани) встречаются уже в древних наших памятниках, частью в тех же, что и тамга.
Возможно, что и деньга и тамга восходят к одному и тому же источнику — сравни тюркск. damga, tamga «насечка, знак, монета», монг. tengah «деньги» (тюркские и монгольские языки родственны).
Из татарского языка идет уже упоминавшееся слово ямЪ в значении повинности по гоньбе лошадей для государственных надобностей, встречающееся в различных грамотах начиная с XIII в., а также производное от него ямщикъ в значении заведующего ямской повинностью (в таком значении, например, в грамоте Олега Рязанского после 1356 г.). Это последнее слово сохранилось в языке до недавнего прошлого, хотя и в другом значении (ямщиком в XIX—XX вв. называли человека, который сам правил лошадьми, обычно почтовыми). Из татарского же языка взято и слово ярлык — первоначальное значение: «жалованная грамота татарских ханов». Впоследствии (и в современном языке) слово употребляется в другом значении — наклейка с надписью. Возможно, что в татарский язык это слово проникло из монгольского.
Некоторые слова проникают в наш язык с запада. Но таких слов меньше, они получают незначительное распространение, многие из них не дожили до настоящего времени или сохранились с сильно измененным значением, ср., например: кгвалтъ (современное гвалт — сильный шум людских голосов) из нем. Gewalt «сила» в значении «насилие». В памятниках XIII—XIV вв. употребляется слово, сохранившееся и в современном языке: мастеръ, мастере, мастырь (древнерусскому языку свойственны все эти написания), заимствованное из нем. Meister. Например, в записи к поучениям Ефрема Сирина до 1288 г.: «...на вса дни милуилшсте/ш»; в Ярлыке хана Узбека 1315 г.: «...Каменные здатели, или древяные, или Тные мастеры каковы ни буди...»
Разнообразны в языковом отношении дошедшие до нас памятники различных жанров. Больше всего это разнообразие проявляется в словарном составе и синтаксическом строе, в меньшей степени — в морфологии (здесь можно говорить лишь о соотношении грамматических форм старославянского и живого восточнославянского происхождения).
В большом количестве представлены переводные памятники. Иногда они продолжают списываться с более ранних оригиналов или же переводятся вновь. Памятники эти большей частью церковно-религиозного характера, некогда они были списаны с южнославянских (старославянских) оригиналов, а на старославянский язык, в свою очередь, были переведены с греческого. Несмотря на свою неоригинальность, некоторые из них представляют большой интерес для истории русского языка. Так, Рязанская кормчая 1284 г., несмотря на большое количество явлений, свидетельствующих о южнославянском ее источнике (в ней, например, имеется большое количество вязей, т. е. связных написаний букв, для русской письменности этого периода нехарактерных), содержит много черт, идущих из живого русского языка того времени, в частности различные новшества в морфологии.
— 98 —
Из памятников переводных нецерковного характера интерес’ на «Хроника Георгия Амартола». По мнению акад. В. М. Истрина, она была переведена с греческого на церковнославянский язык, являвшийся уже тогда нормой книжного, литературного языка, в
XI в., предположительно при Ярославе Мудром. Вследствие этого хроника содержит большое количество старославянизмов, но наряду с ними в ней есть и элементы, идущие из живого языка. Древнейший дошедший до нас список этой хроники относится в XIV в. К рассматриваемому нами периоду относятся и другие ее списки, что свидетельствует о большом интересе наших книжников к произведениям этого рода.
Из религиозных памятников, перевод которых был осуществлен, возможно, на Руси в XIII—XV вв. или во всяком случае в близкое к этому периоду время, представляют интерес «Пандекты Никона Черногорца» — сборник рассказов поучительно-религиозного характера (по-гречески лаубехтт]? значит «сборник»). Автор сборника — монах из монастыря в местности Черная гора, близ Антиохии (поэтому он и называется «Черногорцем»). А. И. Соболевский выдвинул предположение, что памятник этот был переведен на Руси, ввиду того что в некоторых из списков Пандектов встречаются слова, отсутствующие в древних памятниках славянских языков, за исключением древнерусского, например: дешевый, вЪкша «белка», крънути (кренути) в значении «купить». Автор подлинника, писанного по-гречески, жил во второй половине XI в., поэтому ясно, что этот перевод не мог быть осуществлен раньше
XII в. Памятник неоднократно переписывался, причем известны не только различные списки, сделанные с одного протографа, но и различные редакции. Древнейший из дошедших до нас списков — не датированный XII—XIII вв.— хранится в Ярославле. В Москве в Государственном Историческом музее хранятся списки 1296 г.г 1381 г., не датированный XIV в. Впрочем, в отношении некоторых из слов, считающихся специально древнерусскими, даже один и тот же список может обнаруживать колебания. Так, например, в списке XIV в. (Чудовская рукопись № 16, ГИМ) читаем: «крени десАть хлЪбъ и десАть глекъвина» (л. 138), «како креню ма (с)» (там же), но: «како коуплю сии» (там же). В том же списке специфически восточнославянское слово вЪкъша (сохранилось и сейчас в некоторых говорах в значении «белка») чередуется с обычным для наших древних памятников и представленным в других славянских языках вЪверица в том же значении, ср.: «па десАТИ вЪвериць\ аще хощеши по в'бкш'б» (л. 149).
На Руси имело хождение большое количество списков евангелий, восходящих к различным редакциям, главным образом так называемых апракосных («недельных»), т. е. содержащих не полный текст, а лишь те места, которые читаются во время церковной службы и расположены в порядке дней чтения. Наряду с этим были представлены тетры, «четвероевангелия», содержащие полный текст четырех евангелий и предназначенные для чтения вне церкви (древнейший из русских тетров, дошедших до нас,— Галицкое евангелие, 1144 г.). В середине XIV в. был осуществлен новый перевод с греческого на церковнославянский всего так называемого Нового, 7*
— 99 —
завета (деяний и посланий апостольских, апокалипсис). По преданию, этот перевод был сделан митрополитом Алексием во время пребывания его в Константинополе. Рукопись написана им, по мнению некоторых ученых, собственноручно. Этот текст значительно отличается от переводов древних редакций. С одной стороны, он ближе к греческому подлиннику, а с другой — обнаруживает хорошее знание его автором церковнославянского книжного языка. Некоторые же элементы проникают в текст перевода из живого русского языка того времени. В качестве примера большой близости к греческому подлиннику можно указать хотя бы на то, что в Новом завете Алексия, как и в подлиннике, везде, где это необходимо в определенных стилистических целях, использовалось настоящее время вместо прошедшего (в старых редакциях его заменяли аористом). Исследовавший славянский евангельский текст по большому количеству древних русских и южнославянских рукописей Г. А. Воскресенский считал, что Алексий просто рабски следовал греческому подлиннику и, например, употреблял приставочные глаголы именно там, где они были в греческом языке. Но это неверно. Мы находим у него приставочные глаголы и там, где их не было в греческом, но где такие образования были свойственны живому русскому языку его времени. Следует, кстати, сказать, что Новый завет Алексия представляет собой первый русский памятник с проставленным (хотя и не вполне систематически) ударением, вследствие чего текст его важен и для истории русского ударения.
Другое большое произведение переводческого характера — выполненный в конце XV в. по инициативе архиепископа новгородского Геннадия полный перевод библии (всех книг Ветхого и Нового завета). Древнейший список этого перевода, так называемая Геннадиевская библия, датируется 1499 г. Этот перевод был осуществлен в целях борьбы с еретиками (жидовствующими), располагавшими библейскими книгами, которых не было в распоряжении господствующей церкви. Впрочем, текст Геннадиевской библии не представлял собой полностью нового перевода; частью в нем были использованы уже имевшиеся ранее переводы. Так, например, текст ветхозаветных пророков был переписан с «Рукописи толковых пророков» (т. е. пророков, дополненных толкованиями позднейших, уже христианского времени отцов церкви), написанной в Новгороде еще в XI в., или с какого-то списка, восходящего к этой рукописи. Эта рукопись написана была попом Упырем Лихим :в 1047 г. и списана, по-видимому, с южнославянского оригинала. До нас она не дошла, но в XV в. она еще заведомо существовала, так как в это время с нее было сделано несколько списков, сохранившихся и в настоящее время (среди них есть и датированные — например, 1489 г.). Все эти списки очень близки друг к другу и некоторые даже воспроизводят запись, сделанную в конце Упырем Лихим. В Геннадиевскую библию включены в основном лишь самые тексты пророков, которые настолько близки к рукописи Упыря Лихого, что порой согласуются даже в распределении старославянских и русских форм (нормой литературного языка, особенно для памятников церковно-религиозных, и в эту эпоху был церков-
— 100 —
нославянский, но в любом памятнике, как церковном, так и светском, наблюдаются и колебания между церковнокнижными и живыми формами), ср., например: «проповЪдае(т) былилацаь зла. идумЪ(о(м)» (Чудовская рукопись, № 184, л. 40 об.); «и проповЪ- даеть были лица & зла. идумЪоДм)» (Геннадиевская библия,
л. 625); «проричеть же си чюдесьнъи пр(о)ркъ. събылиючаасл o'
иерлмови и племени июдйноу» (Чудовская рукопись, № 184, л. 71 об.); «проричеть же с!’и чюдесьнъи прркъ събылиаючаас^ , , Г ,
ьерлмови и племени иодиноу» (Геннадиевская библия, л. 634 об.). Формы събышАаца1а, събылиючаась —это не обнаруженные в старославянских, но встречающиеся в некоторых древнерусских церковных памятниках формы действительного причастия будущего времени от глагола быти. Впрочем, эта форма, чуждая, по-видимому, даже в XV в., подвергалась регулярной замене более привычной уже в сборнике библейских книг Щукинского собрания № 507, содержащем в части пророков и толкований к ним текст, совпадающий с восходящим к рукописи Упыря Лихого. Сборник датирован 1475 г., т. е. более ранний, чем любой из списков Упыря. Формы от основы бышлац- заменяются там обычно формами от основы бывахщ-, ср.: «и ветиль будеть не бышлщи» (Чудовская рукопись, № 184, л. 32 об.); «и вебйль блдеть не бывахщи» (Щукинское собрание, № 507, л. 51) 8.
Книги, которых Геннадий и его помощники не обнаружили среди имевших хождение на Руси, были вновь переведены, притом некоторые не с греческого языка, а с латинского, древнееврейского и даже немецкого. Вследствие этого в тексте появились латинские слова. Так, по-видимому, здесь (во второй Маккавейской книге) впервые появляется слово библиотека в форме, привычной для нас и теперь, восходящей к латинской передаче древнегреческой формы (характерное для XVIII в. вивлиофика, представляющее византийско-греческую форму этого слова, было введено Дмитрием Ростовским в начале XVIII в., в древних памятниках это слово обычно передавали славянской калькой — книгоположница, книж- ница, книгохранилия). Впрочем, слово библиотека было, по-видимому, еще непревычно в XV в. даже для наших книжников, вследствие чего против него на полях стоит славянское пояснение: книжный домъ.
Перевод некоторых библейских книг с латинского языка привел к тому, что латинское влияние отразилось даже в церковнорелигиозной лексике. Само слово бйблия как название совокупности канонических книг христианской религии представляет собой литературную форму греч. (ЗфАда «книги». Если бы это слово проникло к нам с первыми церковными книгами, оно имело бы
8 Подробнее см.: П. С. Кузнецов. К вопросу о расхождении в морфологических формах средневековых церковнославянских текстов, восходящих к общему протографу. В кн.: «Проблемы современной филологии». М., «Наука», 1965, стр. 177—181.
— 101 —
византийскую форму вивлйя (какую и дают азбуковники XVII в.). Форма библия засвидетельствована в записи к Геннадиевской библии 1499 г. Сличая тексты библейских книг по различным источникам, наши книжники обращали внимание на расхождения «латинской» (т. е. римско-католической) и нашей (православной, восточной церкви) библии, но в памятниках более ранних, чем Геннадиевская библия, говорят об этом без употребления данного с термина. Ср. в «Рукописи толковых пророков»: «ино по руки гдё>
» н т
глава а, а по латыски ту гла(в)ке. w полу» (Чудовская рукопись, № 184, л. 352, приписка на полях).
Об интересе к науке тогдашнего уровня свидетельствует типовое распространение на Руси переводной с греческого «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова (ее называют также «Христианской космографией»), содержащей описание мира, где наряду с фантастическими сведениями, частью соответствующими средневековым христианским представлениям, содержатся достаточно точные данные о видимом движении звезд по небесному своду и др. Этот памятник известен и в южнославянских списках, но чаще в русских. Большинство их относится к позднейшему времени (XVI—XVII вв.), но по крайней мере один (список Московской духовной академии № 102 хранится во Всесоюзной Государственной библиотеке им. В. И. Ленина) — заведомо XV в.9.
С точки зрения истории языка представляет интерес заимствованные из греческого языка обозначения небесных светил, наряду с которыми представлены также восходящие к греческому источнику египетские названия месяцев. Астрономические названия в греческой форме известны на Руси со времен древнейшей письменности. См., например, Святославов изборник 1073 г.: слЪньца, лоуна, зеусъ, юрмисъ, арисъ, афродити, крокос. В списке Московской духовной академии даются названия семи планет, к которым относятся также солнце и луна, но частью в иной форме, чем раньше; ерм\и (Меркурий), с&родити (Венера), слнце, арисъ (Марс), зевесъ (Юпитер), про(к) (Сатурн) (л. 134) — луна здесь пропущена, но список из собрания Ундольского (№ 191) после этих перечисленных (совпадающих с М.Д.А. № 102, за исключением некоторых орфографических отличий, главным образом в сокращениях) дает и ее — екати («Геката»). Впрочем, луна встречается и в «Топографии», в другом месте. Ср.: «Оубо в первомъ круглособра- тном идЪ же есть луна» (М.Д.А. № 102, л. 134). Наряду с ней и обычное старое славянское название месяц', «йко звЪзды вса.
, с ,
ислнце. и мць. исподи суть по(д) твердию» (там же, л. 132). Но слово месяц употребляется и в сочетании с прилагательным лунный для обозначения, как у нас, меры времени: «на всако лЪто » д' всакый мць лунный переходи (т) вса. вс. зодТи. и в коей жо зодш 9 Подробнее см.: Е. К. Редин. Христианская топография Козьмы Индикоплова по греческим и русским спискам, под ред. Д. В. Айналова, ч. I. М., 1916.
102 —
ходить луна по (л) тре(т)лдни. исчитаем двЪ зодТи, пать днТй» — «В каждый год каждый лунный месяц (она) переходит всего 12 знаков зодиака (зодий — гр. З^бюу «животное, знак зодиака», в Святославовом изборнике 1073 г. переведено славянским животы «животные».— П. К.), и в каждом знаке зодиака луна ходит 21V2 дня, исчисляем два знака зодиака, 5 дней» (там же, л. 52). Здесь же помещены две концентрические окружности, разделенные радиусом на двенадцать секторов с изображениями знаков зодиака, расположеными в порядке против часовой стрелки, с их названиями и с египетскими названиями соответствующих месяцев от марта до февраля. Названия знаков зодиака большей частью славянские, как и в Святославовом изборнике (лл. 250—251), но некоторые в иной форме10: «Ьвенъ (овьнъ). фармуби. юнець (тельць) пахонь. близнец (пропущен) пауни. каркин (ракъ). €пЮи. левъ (львъ). месори. дЪва (дЪвица). фобь. извЪсъ (ирьмъ) «весы», фасо(б). скорпи (скорпиос). абуръ, стрЪле(ц) (стрЪльць). хии(к). козоро(г) (козьльрогъ). туви, водолеи (водолЪиць). мехирь.рыбы (риба) фано(б). Из названий знаков зодиака греческие лишь для скорпиона (в обоих памятниках) и для рака — лишь в «Топографии» (греч. xapxtvog «рак»).
К рассматриваемому времени относятся и древнейшие сочинения собственно лингвистического характера. Написанные на Руси древнейшие грамматические руководства относятся к более позднему времени (к первой половине XVI в.) Но древнейший опыт словарного характера, дошедший до нашего времени, — толкование иноязычных слов, а также славянских, уже устарелых и непонятных в то время, может быть, даже грамотным людям, «толкование неудобь познаваемым речем», — содержится в сборнике Румянцевского собрания 1431 г. (хранится в ГБЛ, ф. 256, № 200). Ср.: «непщуж/мнА» (л. 264 об.) «думая», туне, рекше даро(м) (там же). ОалТа. пржт’Ге фунТково (л. 265 об.) — гр. 'OaZZos «молодая ветвь». Некоторые же толкования носят не только языковый, но прямо энциклопедический характер: «смерчь. шавица,
«иблакъ дъж(д)евень, и/же вбдж морЪ възй маеть ико/въ гжбж, и пакы проливае(т) на землл» (л. 265) и.
Рассматриваемый период богат и оригинальными памятниками. Большой интерес в языковом отношении представляют летописи, древнейшие списки которых, дошедшие до нас, сохранились именно от этого времени. Наиболее древний из них — Синодальный список Новгородской летописи (Синодальным он называется потому, что до революции принадлежал библиотеке Синода; в настоящее время хранится в ГИМе), недатированный, но написанный, по-видимому, в XIII—XIV вв. (начало оборвано, список начинается с событий 1016 г.) в Новгороде. Лаврентьевская летопись (названа так по имени монаха Лаврентия, писавшего ее) закончена в 1377 г., как полагали раньше, в Суздале, но в последнее время некоторые ученые склоняются к тому, что в Нижнем Новго-
10 В скобках даны формы Святославова изборника.
11 Подробнее см.: Л. С. Ковтун. Русская лексикография эпохи средневековья. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963.
— 103 —
роде (впрочем, оба эти города находились в Ростово-Суздальской земле). Первую часть ее составляет «Повесть временных лет», создавшаяся еще в Киеве, вторую часть — Суздальская летопись, доведенная до 1305 г. (обе части несколько различаются в языковом отношении). Наконец, в первой четверти XV в. написана Ипатьевская летопись (найдена в Ипатьевском монастыре близ Костромы). Она представляет собой, по-видимому, псковский список с галицко-волынской рукописи, содержащей в первой части «Повесть временных лет» (но в иной редакции, чем в Лаврентьевской летописи), во второй — Киевскую и в третьей — Волынскую летописи. Наряду с особенностями, внесенными псковским писцом, в ней отражаются уже некоторые черты, свойственные украинскому языку. Сохранились и другие летописи, частью представляющие собой списки с тех же редакций, к которым восходят три только что названные. В XV в. создавался Московский летописный свод, дошедший до нас в списке начала XVI в.
Язык летописи представляет собой оригинальное сочетание церковнославянского книжного языка и живого русского. Церковнославянский язык используется летописцем, когда он философствует по поводу излагаемых событий, живой язык — когда речь идет о событиях, о которых летописец слышал или был свидетелем. Он охотно пользуется диалогической формой изложения. Впрочем, поскольку церковнославянский язык был литературной нормой и старинный книжник постоянно слышал его в церкви, читал на этом языке книги религиозного, научного и даже развлекательного характера, церковнославянизмы в широком объеме проникают и в те отрезки изложения, где в основном представлен живой разговорный язык. Ср., например, с одной стороны, рассуждения летописца по поводу смерти великого князя Всеволода Большое гнездо: «ПрестависА велТкыи кн(з) Всеволодъ, именовавыи в стомъ крщньи Дмитрии, снъ Гюргевъ —блгч(с)тваго кназа всей Руси внукъ Володимера Мономаха, кнаживъ в СуждальстЪи земли. лЪ(т) 30 и 7. Много мужствовавъ и дерзость имЪвъ на бране(х) показавъ. украшенъ всЪми добрыми нравы, злы га казнА. а добросмысленыи милуи. кна(з) бо не туне мечь носить в месть злодЪе(м). а в похвалу добро творАщи(м)...» (Лаврентьевская летопись, л. 148 об). А с другой стороны, описание похода на половцев: «Токже зимы, ходи Романъ кназь на Половци. и вза вежЪ Половечьскы'Ь и приведе полона много, и дшь хртьиньскы(х) множество мполони (V ни(х) — и бы (с) радо (с) велика в земли РусьстЪи» (там же, л. 141 об.). В первом случае мы находим сложный синтаксический период, с причинным придаточным предложением, подчиненным посредством энклитического союза бо, стоящего после первого слова этого предложения, и книжную лексику — ср., например, неполногласные формы нравъ (старославянская форма при русском норовъ) и преставись (впрочем, в глаголе преставитис^ в значении «умереть» вследствие его церковно-религиозного характера приставка постоянно выступает в неполногласной форме); причастие мужествовавъ, относящееся к глаголу мужествовати. образованному от отвлеченного существи— 104 —
тельного мужество с суффиксом -ство, больше употребительного в книжном языке; такое сложное прилагательное, как добро- смысленыи (сложные слова отвлеченного значения, калькированные некогда с греческих сложных слов и прошедших через старославянский книжный язык, широко использовались у нас в старину именно в книжном языке). Не говорим уже о различных морфологических формах с окончаниями, восходящими к старославянскому языку.
Во втором случае — более короткие и простые предложения, полногласные, т. е. исконные восточнославянские формы: полонъ в значении «плен», отполони в значении «освободил из плена», исконные восточнославянские падежные окончания — rote зимы (родительный падеж единственного числа женского рода указательного местоимения вместо более древнего тоЪ\ в старославянском языке на месте древнерусского Ъ было е носовое, в наших же памятниках на его месте могло быть а или ю; сочетание rote зимы — обычный для древнерусского языка оборот — употребление родительного падежа без предлога для обозначения времени), вежЬ — старая русская форма именительного и винительного падежей множественного числа от вЪжа «палатка».
Часто передается живая речь лиц, которые действуют в летописи, ср., например: «Того(ж) лЪ(т) слышавъ великы и кна(з) Всеволодь Гюргеви(ч) внукъ Володимерь Мономаха, соже солговичи воюю(т) с пога[ны]ми. землю Рускую и сжалиси со том и ре(ч) то цитЪмъФчина содн'Ь(м) Русская землА, а на(м) не йчина ли» («Разве им одним Русская земля — отечество, а нам разве не отечество?») (л. 145 об.).
Передачу речи действующих лиц мы находим и в других летописях, например, в Синодальной новгородской: «Того же лЪта приела великыи князь Всеволодъвъ Новгородъ, река тако: въ земли вашей рать ходить, а князь вашь, сын мои Святославъ, малъ; а даю вы сынъ свои старейшин Костянтинъ» (л. 72).
На стилистические различия русских летописей обратил внимание выдающийся историк прошлого века С. М. Соловьев, так характеризовавший, например, стиль суздальской летописи: «Что же касается до рассказа суздальского летописца, то он сух, не имея силы новгородской речи, и вместе многоглаголив без художественности речи южной, можно сказать, что южная летопись — Киевская и Волынская — относится к северной Суздальской, как Слово о полку Игореве относится к сказанию о Мамаевом побоище» 12. И далее, сравнивая северные летописи XIII—XIV вв., в первую очередь те, которые были писаны в Суздальской земле, с более древними южными, С. М. Соловьев отмечал: «Нет более живой, драматической формы рассказа, к какой историк привык в южной летописи; в северной летописи действующие лица действуют молча; воюют, мирятся: но ни сами не скажут, ни летописец от себя не прибавит, за что они воюют, вследствие чего мирятся; в городе на дворе княжеском ничего не слышно, все тихо: все сидят запершись и думают думу про себя; отворяются двери, выхо12 См. С. Соловьев. История России, кн. II. М., Соцэкгиз, 1960, стр. 123.
— 105 —
дят люди на сцену, делают что-нибудь, но делают молча» 13. Конечно, прежде всего здесь речь идет о содержании: в тексте отразились и личные симпатии историка. Но кое-что указывает и на особенности языка и находит подтверждение при анализе языковых средств, которые используют летописцы. С. М. Соловьев пишет о «сухости» Суздальской, «силе» Новгородской и «художественности» Киевской и Волынской летописей. Сравнивая Суздальскую летопись по Лаврентьевскому списку (а также по другим более поздним спискам той же редакции — Радзивилловскому и Академическому) с первой частью того же списка — «Повестью временных лет», мы замечаем, например, большее развитие диалога, выражающегося в последовательном чередовании реплик и характеризующегося соответствующими языковыми средствами, свойственными диалогической речи (более широкое использование настоящего времени и перфекта, местоименные слова, большая эллиптичность), именно в «Повести временных лет». Она переписывалась суздальским летописцем с более раннего оригинала, основы которого были заложены еще в Киеве. Суздальская летопись в большей степени характеризуется лишь единичными репликами действующих лиц, включаемыми в авторское повествование. Более широкое тем не менее употребление перфекта в Суздальской летописи сравнительно с «Повестью временных лет», о чем уже говорилось выше, объясняется тем, что в живом языке той эпохи, когда писалась Суздальская летопись, перфект уже вытесняет старые формы прошедших времен — аорист и имперфект, становясь основным средством для выражения действия в прошлом.
«Сухость» и «многоглаголивость» суздальского летописца, обусловленная стремлением к точному и детальному описанию происходящего и прежде всего к констатации, характерным для представителя официального летописания нового политического центра, вновь постепенно объединяющего вокруг себя русские земли, в языковом отношении находит выражение в обилии сложных предложений различного типа и в сравнительно слабом использовании метафорического (переносного) значения слов.
«Сила» новгородской летописи состоит прежде всего в сжатости изложения, что в языковом отношении выражается главным образом в синтаксисе. Ср., например, описание голода, бывшего в Новгороде в 1215 г.: «О ropt> бдше. по търгоу трупик, по оулицамъ троупик. по полю троупик.не можахоу пси изЪдати члвкъ. а вожаке помроша. а останъке разиде са» (Новгородская синодальная летопись, л. 81 об.). Мы находим здесь большое количество именных предложений, где налицо лишь существительные в именительном падеже, выражающие предмет, о котором идет речь, и существительные в косвенном падеже с предлогом, выражающие место, глагольные предложения, состоящие лишь из именительного падежа существительного — подлежащего и глагола — сказуемого. Впрочем, не следует думать, что все повествование Новгородской летописи построено таким образом. Там имеются и более сложные по структуре предложения, в особенности, если в ле13 С. Соловьев. История России, кн. II, стр. 638.
— 106 —
топись включаются отрывки из книжной, большей частью переводной литературы.
Юго-Западная летопись (Галицко-Волынская), наиболее древним дошедшим до нас списком которой является Ипатьевский, характеризуется широким использованием метафорического и метонимического (переносного) значения слов, а также синтаксических конструкций, выражающих сравнения, благодаря чему слова, даже употребленные не в собственно переносном смысле, вступают в необычные связи с другими словами, в чем собственно и выражается ее «художественность», отмеченная С. М. Соловьевым. Ср., например, записанный под 1201 г. известный рассказ о емшане (в Ипатьевской летописи — евшанъ)—заимствованное из половецкого языка название полыни (ср. башкирск. юшан), запах которого заставил половецкого хана Отрока вернуться на родину: «Ревноваше бо дЪду своему Мономаху (речь идет о князе Романе Галицком. — П. К.), погубившему поганыя Измалтяны, рекомыя Половци, изгнавшю Отрока во Обезы за ЖелЪзныя врата, Сърча- нови же оставшю у Дону, рыбою оживъшю; тогда Володимер [и] Мономахъ пилъ золотымъ шоломомъ Донъ, и приемшю землю их всю, и загнавшю оканьныя Агаряны». Или под 1217 г. рассказ о войне князя Даниила Романовича с угрским воеводой Филей: «Древне прегордый, надеЪяся об(ъ)яти землю, потребити море, со многими угры, рекшю ему: единъ камень много горньцевъ избиваете. а другое слово ему рекшю прегордо: острый мецю (вместо меню — цоканье. — П. К.) борзый коню — многая Руси! (т. е. много значат для Руси. — П. Л.) Богу же того не терпящю, во ино время убьенъ бысть Даниломъ Романовичемъ древлё прегордый Филя».
Волынская летопись, из которой приведены эти примеры, в части, восходящей к живому языку, содержит уже некоторые элементы, отражающие особенности украинского, формирование которого как особого языка осуществляется на протяжении последующих веков.
Сохранились от рассматриваемого периода и памятники повествовательной литературы как переводной, так и оригинальной. Оригинальные повести, создававшиеся в XIV—XV вв., дошли до нас лишь в позднейших списках — XVI—XVII вв. Так, например, «Повесть о разорении Рязани Батыем», составленная, по-видимому, в начале XIV в., дошла до нас в списке XVI в. Эти повести в языковом отношении широко используют элементы церковнославянского языка.
В XV в. было написано весьма интересное и в историческом, и в литературном, и в языковом отношении «Хожение за три моря Афанасия Никитина», дошедшее до нас в списке XVI в. Элементы книжные сочетаются в этом сочинении с элементами живого языка, частью отражающими разговорную речь. Ср., с одно стороны: «Поидох сот спса златоверхаго и съ его милоспю сот гдрд своего сотвеликаго кнза Михаила Борисовича тверскаг(о) и сот влдкы Генад1А тверскаг(о) и Бориса Захарича, и поидох вниз Волгою, и npiudox в монастыр(ь) Коллзин ко стЪи троицы живоначалнои и — 107 —
к стым мчнком Борисж и Глебж». Конечно, все эти аористы (поидохъ, приидохъ) уже не были свойственны живой речи, равно как и многие другие встречающиеся здесь формы. А с другой стороны: «мене залгали псы бесермены, а сказывали всего много ншего товара, ано нЪт ничего на нашоу землю» (т. е. мне наврали, нет ничего нужного для нашей земли.— 77. К.). Употребление в тексте ж вместо у свидетельствует об отражении в дошедшем до нас списке второго южнославянского влияния.
Широко представлена юридическая литература. Именно от этого времени дошел до нас древнейший список «Русской Правды», знаменитого памятника древней Руси (этот список был включен в состав Новгородской кормчей 1282 г.). В языковом отношении юридические памятники ближе всего стоят к живой речи; в них мало церковнославянской лексики, их синтаксические обороты в большей степени отражают живую русскую речь. Отход канцелярского языка от разговорной речи, его усложнение в синтаксическом отношении, насыщение специальной, непонятной для простых людей терминологией, относятся к более позднему времени. Явное преобладание русских элементов в «Русской Правде» привело С. П. Обнорского к созданию теории самобытного возникновения древнерусского литературного языка (вне зависимости от старославянского). Лишь позднее, по мнению С. П. Обнорского, этот язык подвергался «ославяниванию» (т. е. воздействию со стороны старославянского языка). Теорию С. П. Обнорского, которая в целом представляется весьма спорной и против которой в последнее время выдвигаются определенные возражения, здесь не рассматриваем, так как она относится к более ранней эпохе, чем та, которой посвящена настоящая глава. Впрочем, церковнославянизмы в «Русской Правде» все же есть, ср., например: въ разбои, на разбои, за разбойника, на разграбление — по-русски приставка была бы роз-, а не раз- (ср. совр. розвальни, роспись, в позднейших памятниках — московских, псковских, западных и южновеликорусских — написание раз- могло бы отражать аканье, но для новгородского памятника XIII в. об аканье не может быть речи), для третьего, до конечен^ го — по-русски окончание родительного падежа единственного числа мужского рода прилагательного и порядкового числительного в мягкой • разновидности должно было быть -его.
В синтаксическом отношении юридические памятники характеризуются широким распространением инфинитивных предложений со значением долженствования, а также широким распространением присоединительного союза а, которым начинается почти любое предложение (кроме начального), имеющее самостоятельное значение. Ср., например: «аистьцю свои лице взъти. а что с нимь погибло, а того кмоу жел'Ьти. а сономоу жел'Ьти своихъ коунъ. зане не знакть оу кого купивъ» («Русская Правда», 1282 г., л. 618); «а каков жалобникъ къ бодрину пр!иде(т). и ему жалоб- ников Л себе не у&сылати, адавати всЪмь жалобнико(м) оуправа въ всемь, которыми пригоже» (Судебник Ивана III, л. I); «а бес посадника тобе волостии не раздавати. а комоу раздаилъ волости.. — 108 —
<брать твои Але£андръ ил1 Дмитрии съ новгородци. тобе техъ волостии без вины не лишати. а что ти кнже пошло на торожку. и на волоцЪ, тивоунъ свои дьржати. на своки части дьржати...» (Новгородская грамота, 1264—1265 гг.). Впрочем, в приведенных примерах союз а имеет и не только присоединительное значение (функции этого союза в древнерусском языке вообще были многообразны). Встречаются здесь, как видим, и сложноподчиненные предложения с придаточными условными, причинными и т. д., хотя их построение довольно однородно.
Несмотря на большую близость к живой речи сравнительно с памятниками религиозными, повествовательными, летописями, юридические документы все же характеризуются определенными штампами, устойчивыми как в лексическом, так и в синтаксическом отношении формулировками, унаследованными от далекого прошлого и передающимися по традиции от документа к документу. Наиболее близки к живой речи и свободны от традиции (хотя тоже нельзя сказать, чтобы вполне) частные письма. Но из найденных до сих пор можно, пожалуй, привести лишь новгородские берестяные грамоты (для частных писем использовался в Древней Руси, в первую очередь, именно этот материал, но он, во-первых, не везде сохранился в силу природных условий, а во-вторых, поиски его, помимо Новгорода, только еще начинаются). Мы не находим в них каких-либо особенностей синтаксических или лексических, которые резко отличали бы их от других памятников. Они лишь дают нам большую уверенность в том, что на основании памятников можно судить в какой-то мере и о живом языке той эпохи, от которой эти памятники дошли до нас. В некоторых берестяных грамотах также сказывается определенная традиция. Однако если в памятниках книжной литературы довольно строго соблюдается перенос слов по слогам или правило, согласно которому на конце строки должна быть гласная (поэтому в эпоху после падения редуцированных там, если не было другой гласной, ставили ъ или ь, даже если этимологически их в соответствующем месте не было), а слова друг от друга никакими знаками или пробелами не отделялись, то в берестяных грамотах указанное выше правило переноса обычно не соблюдалось. Но зато там последовательно разделяются слова посредством точек 14. Этот прием не был свойствен нашей древней письменности, где точкой отделялся некоторый синтаксический отрезок, но широко представлен на западе, начиная с латинских (и других древних италийских) надписей эпохи до нашей эры, а затем перешел в некоторые средневековые немецкие и другие рукописи. Влияние же, идущее из Западной Европы, для Новгорода XIV—XV вв. вполне возможно. Интересно, что этот прием, отразившийся в письме Бориса к Настасье (его жене), не использован в письме Настасьи (того же времени, гр. № 49), извещавшем родню о смерти Бориса 15.
14 См. прорись в кн.: А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.). М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 44.
15 А. В. Арциховский предполагает, что это та же Настасья, жена Бориса (там же, стр. 52).
109 —
Общим для памятников всех жанров на протяжении рассматриваемого периода является, при всей общности письменных норм, отсутствие единого стандарта письменного языка, какой вырабатывается впоследствии, наличие диалектных черт, главным образом в фонетике, но частью и в морфологии, а также порой в лексике и синтаксисе. Не следует, однако, думать, чтобы памятники, характеризующиеся определенными диалектными чертами, писались только на территории соответствующей диалектной области. Мы уже видели, что древнейшие московские грамоты, характеризующиеся, по-видимому, чертами ростово-суздальского диалекта (Москва ведь первоначально выступила как незначительный центр Ростово-Суздальской земли), не имеют черт, свойственных московскому диалекту, на территории которого они писались: в них не отразилось аканье, которое в некоторых московских памятниках того времени уже отражается. Конечно, известная тенденция к: образованию единства на основе живого суздальского, а затем московского говора в период объединения русских земель уже намечалась.
Литература
О. В. ОРЛОВ
Период XIII—XV вв. явился в русской литературе временем движения от отмеченной определенным идейно-стилистическим единством киевской литературы (ее оптимистический пафос утверждал величие «империи Рюриковичей») к литературе нового типа — литературе усилившегося Московского государства — ядра будущей централизованной России. Литература XIII—XIV вв. характеризуется в противоположность произведениям предшествующего, киевского периода разнородными областническими тенденциями и школами, пестротой содержания и стиля. Такой облик литературы XIII—XIV вв.— прямое следствие феодальной разобщенности русских областей и монголо-татарского нашествия. Однако общая для всех областей тема борьбы с монголо- татарами и в XIV в. идеи централизации вносят в эту литературу определенное единство.
В XIV—XV вв. идея централизации все более связывается с Москвой. Московская литература становится в эти столетия ведущей, вбирая в себя областные стилистические тенденции. В XV в. она постепенно приобретает общерусский характер.
Понятно, что в XIII—XV вв., как и в другие исторические периоды, выбор писателями тех или иных литературных форм обусловливался состоянием общественной жизни, политическими событиями. В эти века такая зависимость более очевидна, чем в предыдущие столетия.
Но собственно литературное, письменное творчество было не единственным и не главным видом древнерусского словесного искусства и не единственной формой длительной фиксации общественной мысли и мечты. Среди широких масс населения бытовал фольклор — устные народные произведения.
Мы располагаем лишь косвенными свидетельствами о средневековом фольклоре нашей страны. Но в фольклоре, непосредственном творчестве народа, сила традиции обеспечивает сохранение произведений в почти неизменном виде на протяжении десятков, а нередко и сотен лет. Значит, при достаточно критическом отношении и современные фольклорные записи могут нам помочь в реконструкции древнерусской устной поэзии. Излишне доказывать, что полнота наших представлений о средневековой русской культуре неизмеримо расширится, если, кроме литературы, будут рассмотрены и фольклорные произведения.
Устная поэзия, создававшаяся и сохранявшаяся народными массами, играла ведущую роль в русском словесном творчестве XIII—XV вв. В первую очередь это можно сказать о жанрах героического былинного эпоса. Именно в нем с огромной художественной силой выразились высокие народные идеалы: любовь к родной земле, мужество, прямодушие, упорство в достижении цели.
Хотя мы не имеем записей былин XIII—XV вв., ряд косвенных данных позволяет предполагать, что некоторые идейно-стилистические традиции, содержащиеся в былинах, восходят к IX—X вв. \
Однако определить время окончательного оформления былинного жанра трудно по двум причинам: 1) мы не располагаем, как только что упоминалось, древними записями былин и не имеем вполне достоверных свидетельств об их бытовании вплоть до XVII в.; 2) нам неизвестно, когда в сознании народа сложилась категория былинного жанра, т. е. хотя и не было найдено особое слово для его наименования, были осознаны как необходимые подобные эпические песни с широкими типическими обобщениями действительности. Народ, называющий былины вместе с историческими песнями одним словом «старины», кажется, подсказывает исследователям, что эти жанры находятся в органической связи и что они исторически и генетически, вероятно, близки друг к другу.
Анализ поэтики былин свидетельствует о более длительной, чем в исторических песнях, обобщающей работе народных талантов. Для былин характерна широкая типизация исторических со-
1 Например, см.: Д. С. Лихачев. Эпическое время русских былин. В сб.: «Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия». М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 55 и дальше; Б. А. Рыбаков. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 12, 44; В. П. А н и к и н. Русский богатырский эпос. М., «Провещение», 1964, стр. 8 (автор относит первые былины даже к IV в.).
— 112
бытий и отвлечение от конкретных исторических фактов2. По-видимому, былинный жанр окончательно сложился в XIV—XV вв., когда события киевского периода уже основательно забылись. В пользу такого предположения говорит смешение образов киевских князей, в свое время очень популярных, Владимира Свято- славлича и Владимира Мономаха, объединенных сказителями в эпическом образе Владимира Красного солнышка. Яркость картин монголо-татарского нашествия, играющих в былинах важную композиционную роль, также позволяет думать, что основные черты поэтики былин стабилизировались не ранее XIV в., когда народ мог взглянуть на события киевского времени и на нашествие монголов с известной дистанции.
Именно в годы княжеских междоусобиц и монголо-татарского ига содержание былин приобрело особую значительность, а образы — могучую силу обобщения. Именно в этот период оформился столь характерный для былин конфликт — защита родной земли от «нахвальщика», от поработителя; их идейное содержание прониклось высоким патриотическим пафосом.
Таким образом, в годы распада Киевской Руси на отдельные областные образования былинный эпос пропагандировал в сознании широких народных масс идею единства русской земли, необходимость целостности и независимости Руси. Воспевая былое могущество восточнославянского государства, эти произведения ставили славное прошлое в пример для современников. «Народная поэзия, — писал Н. А. Добролюбов, имея в виду героические былины, — долго держалась своего естественного, простого характера, выражая сочувствие к обыденным страданиям и радостям и инстинктивно отвращаясь громких подвигов и величавых явлений жизни, славных и бесполезных... На деле народ должен был терпеть их и даже принимать в них участие, но в поэзии его нет ни малейших следов хоть какого-нибудь сочувствия к подобным явлениям»3. В годы монголо-татарского нашествия, продолжал Добролюбов, народ «невольно сравнивал нынешние события с преданиями о временах давно минувших и грустно запел про славных могучих богатырей, окружавших князя Владимира... Богатырей Владимировых заставили сражаться с татарами и самого Владимира сделали данником „злого короля Золотой Орды Этмануйла Этмануйловича”»4.
Сделавшись произведениями глубоко патриотическими по своему содержанию, былины именно в годы монголо-татарского нашествия приобрели характер героического эпоса.
Из былины в былину стали переходить картины нашествия огромной орды кочевников. Враги представляются в героическом эпосе как безликая сила — масса, лишенная человеческого разнообразия. Народ находил выразительные слова для изображения этого грозного бесчисленного войска:
2 «Былины», в 2-х томах, т. I. М., Гослитиздат, 1958, стр. XXVII.
3 Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч. в 9-ти томах, т. II. М.—Л., Гослитиздат, 1962, стр. 234.
4 Там же, стр. 235 (статья «О степени участия народности...»).
3 Очерки русской культуры, ч. 2 113 _
Нагнано-то силы много множество,
Как от покрику от человечьего,
Как от ржанья лошадиного Унывает сердце человеческо.
Тут старый казак да Илья Муромец Он поехал по раздольницу чисту полю, Не мог конца-краю силушке наехати. Он повыскочил на гору на высокую, Посмотрел на все три-четыре стороны, Посмотрел на силушку татарскую — Конца-краю силы насмотреть не мог. И повыскочил он на гору на другую, Посмотрел на все на три-четыре стороны, Конца-краю силы насмотреть не мог5.
Только вождь захватчиков «собака Калин-царь» да его посол «Идолище проклятое» (русскому народу пришлось немало пострадать от подобных «идолищ» — монголо-татарских баскаков) изображаются индивидуализирование, в сатирическом, гротескном виде.
Народ не пожалел красок для создания сатирического портрета Идолища (в других случаях портреты персонажей в былинах не рисуются) и для описания его обжорства и бахвальства за столом у киевского князя:
А росту есть как ён высокого,
А толщина да как ведь копна сенная,
А голова-то у него что пивной котел,
А глаза-то что ведь ложки бурлацкие...
Он поедает «по три печи хлебушка печеного, по коровы... да по яловой» и выпивает питья «бочку пивную» и самонадеянно говорит об Илье Муромце:
Этот богатырь кабы здесь да был,
А и на руку его брал бы я, Другой сверху хлопнул — с его блин бы стал...6
Стремление народа к объединению княжеств перед фактом монголо-татарской угрозы отразилось и в композиции героических былин: богатыри, приуроченные к той или иной области, к тому или иному княжеству и первоначально бывшие, очевидно, главными героями местных эпических произведений, съезжаются теперь в Киев — «мать городов русских», чтобы защитить от врага центр всей русской земли.
Хотя мы не обладаем фактическими данными об эволюции былинного эпоса в средние века, можно с большой степенью уверенности предполагать, что «киевская тема» в былинах позднего средневековья пережила второе рождение. Она разрослась, пополнилась новыми деталями, и — самое важное — в ней зазвучал призыв к восстановлению могущества русской земли, к созданию общерусского государства.
5 А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины, изд. 3, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1938, № 75.
6 «Былины Пудожского края». Петрозаводск, 1941, № 18.
— 114 —
Обобщая смысл исторических событий, былины не показывают отдельные события и реальных исторических деятелей. Они изображают условный Киев, условный исторический период («эпическое время»), типизированный образ великого киевского князя. Столь же условны и образы богатырей, для которых исследователям не удалось подобрать достоверные исторические прототипы. Образы богатырей символизируют лучшие качества народа, защищающего свою землю, лучшие черты русских воинов.
Емкость, широкий обобщающий смысл былинных сюжетов и образов — не столько вполне сознательное достижение народных мастеров слова, сколько результат массового и многовекового творческого процесса, сумма множества поэтических наслоений, внесенных в героические песни безымянными сказителями, талантливыми и заурядными, полупрофессионалами и случайными исполнителями. Но это отнюдь не снижает идейно-художественной ценности совершенного ими.
Напротив, именно в годы борьбы с монголо-татарскими захватчиками народом были созданы такие красочные и широко распространившиеся сюжеты былинного эпоса, как «Илья Муромец и Идолище поганое», «Илья Муромец и Калин-царь», «Василий Игнатьевич», «Данило Ловчанин».
Это обобщенные, монументальные картины отдельных столкновений и битв русских воинов с бесчисленными ордами кочевников. Земля дрожит под ногами вражеских коней, мутнеют реки и пыль застилает небо (ср. изображение решающего наступления половцев на войско Игоря в «Слове о полку Игореве»). Такие впечатляющие образы, несомненно, были не очень далеки от действительности.
В эти же годы создались условия и для сложения так называемых «песен о татарском полоне». Тысячи русских людей, захваченных монголо-татарами, угонялись в Орду, и на долгие годы,, а большей частью навсегда селились вдалеке от родных мест, на чужбине. Естественно, что порожденная этими печальными историческими обстоятельствами тема жизни во вражеском плену стала традиционной в народной лирике. Позднее, в XVI—XVII вв. к таким привычным сюжетам будут добавлены описания набегов крымчаков, плена у крымских татар. Но поэтика этих песен была разработана в эпоху монголо-татарского ига. В основе конфликта здесь нередко насильственное нарушение родственных связей и «отатаривание»:
Как за речкою да за Дарьею Злы татарове дуван дуванили. На дуваньице доставалася, Доставалася тещя зятю.
Вот повез тещу зять во дикую степь, Во дикую степь к молодой жене: «Ну и вот, жена, те работница — С Руси русская полоняночка...» Полоняночка с Руси русская... Ох, качает дитя, прибаюкивает:
«Ты баю-баю, боярский сын! Ты по батюшке зол татарченок, А по матушке ты русеночек,
8*
— 115 —
А по роду мне ты внученок И моих черёв ты урывочен: Ведь твоя-то мать мне родная дочь, Семи лет она во полон взята...»7.
Грустные переживания героев с большой силой переданы в этих произведениях, органически вошедших в репертуар протяжных народных песен. По характеру коллизии «песни о татарском полоне» должны быть, конечно, отнесены к лирическому роду, но в народной русской лирике они составляют особую группу — и не только ввиду их очевидной связи с историческими событиями: в этих песнях большое значение придается драматически развивающемуся сюжету и, напротив, очень малое внимание уделено природной символике (столь употребительной в классической народной лирике). В том виде, в каком многие из этих произведений дошли до нас, они могут быть отнесены к жанру так называемых баллад. Но подчеркивание ужасного8 и внеисторичность конфликта, характерные для баллады, здесь, как только что отмечалось, уступают место глубоким, чуждым всякой аффектации переживаниям и хотя типизированной, но вполне определенной по существу исторической эпохе.
XIII—XV вв. — время создания самых ранних известных нам исторических песен. Правда, исторические песни отразили более поздний, нежели былины, этап развития народного самосознания, связанный с усилением классовых противоречий. Этот жанр приобрел популярность не в самые тяжелые годы борьбы с монголо- татарами (XIII—XIV вв.), а позднее — в XV—XVI вв., в период создания и укрепления русского централизованного государства во главе с Москвой.
В исторических песнях слышится гордость, вызванная реальными (а не вымышленными, как в былинах) победами над монго- ло-татарами и другими противниками. В них ощущается зоркий и трезвый взгляд народа на события, которые изображаются конкретно, нередко с указанием года (в песнях XVI—XVII вв.) и реалистическим описанием местности, где они произошли. Гиперболизация и мифологизм мышления, свойственные былинной поэтике, уступают теперь место конкретным картинам действительности. Условные фигуры былинных богатырей9 сменяются в исторической песне образами реальных людей — героев обычного роста и обычной физической силы. И новые герои не только государственные деятели и воеводы, но часто простые горожане или воины.
Однако самые ранние исторические песни, непосредственно интересующие нас, трудно отличимы от былин. К ним относятся два полностью сохранившихся в народной памяти произведения — 7 «Народные баллады». М.—Л., «Советский писатель», 1963, стр. 183.
8 См. Д. М. Балашов. История развития жанра русской баллады. Петрозаводск, 1966, стр. 5, 12. Баллада не связана с конкретными историческими фактами. Безоговорочное отнесение Балашовым «песен о татарском полоне» в разряд • баллад (стр. 13) вызывает сомнение.
9 Слово богатырь известно с XIII в. До этого и долгое время параллельно ‘С ним употреблялось слово храбр.
— 116
«Авдотья Рязаночка»10 и «Щелкан Дудентьевич», повествующие соответственно о событиях XIII—XIV вв.
Авдотья Рязаночка — героиня первой песни — одна из немногих рязанок, оставшихся в живых на пепелище родного города после страшного разгрома Рязани, учиненного полчищами Батыя (1237 г.). Родные и близкие Авдотьи либо убиты, либо уведены в полон в далекую сторону. И она решает совершить нелегкий подвиг — дойти до ставки Бахмета (имя вражеского «царя» в песне) и вызволить из плена своих близких. В первой части песни описан путь Авдотьи в Орду:
Шла-де она не путем, не дорогою. Да глубоки-те реки, озера широкие — Те она плывом плыла;
А мелкие-то реки, озера широкие — Да те ли она бродком брела. Да прошла ли она заставу великую, А чистые поля те широкие, Воров-разбойников тех о полден прошла... Да прошла-де вторую заставу великую, Да темны-те леса дремучие, Лютых зверей тех о полночь прошла...11
Авдотья преодолевает все эти препятствия, которые, очевидно, носят гиперболический характер. Так создается представление о долгой-долгой и тяжелой, опасной дороге, пройденной одинокой русской женщиной. Это, конечно, подвиг, но, подобно большинству былинных героев, Авдотья скромна и, рассказывая татарскому царю о своем пути, подчеркивает, что она — обычная рязанская женщина, рядовая горожанка, что ее цель — труд, возрождение жизни в разрушенном стольном городе. Ради этого она просит царя Бахмета отпустить с нею в Рязань брата и уводит с собой, назвав своими родичами, всех рязанских пленных (в вариантах растроганный царь сам разрешает ей увести всех пленных).
Таким образом, самая ранняя из русских исторических песен насыщена гиперболами и даже сказочными мотивами (преодоление героиней препятствий). Это сближает ее с былинами, к которым она близка и по своему объему, и по словарю, и по стихотворной форме.
Однако уже в этом произведении видны и коренные отличия от былинного жанра: его героиней является простая рязанская женщина, не наделенная богатырской силой и возможностями (сильной ее делает неистребимое стремление к поставленной цели). В основу «Авдотьи Рязаночки» положено совершенно определенное историческое событие, оставившее большой след в народном сознании — взятие Батыем Рязани (хотя в известных поздних вариантах Рязань заменена Казанью). Значит, и в этом проявилась важная особенность поэтики жанра исторической песни — «заземленность», историческая конкретность сюжета. Здесь уже намечается и тот образ, который станет потом характернейшим образом исторических песен, — образ народа. Пока он еще выступает в
10 Некоторые исследователи причисляют «Авдотью Рязаночку» к балладам (Д. М. Балашов. История развития жанра русской баллады, стр. 20).
11 А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины. СПб., 1873, № 260. — 117—
форме собирательной — в виде одинокой героини. Это дань былинной традиции, но уже в песне о Щелкане Дудентьевиче выступает сам народ.
Песня о Щелкане Дудентьевиче 12 была создана под впечатлением событий в Твери в 1327 г. В этом году тверичи, доведенные до отчаяния притеснениями монголо-татар, восстали против них под руководством своего князя и перебили вражеский гарнизон. Был убит и сам мурза Шевкал (Чолхан) — родственник золотоордынского хана Узбека. Это была первая победа над монголо-татара- ми, вызвавшая отклик не только в фольклоре, но и в литературе (летописная повесть о Тверском восстании, рассматриваемая ниже). Вскоре, однако, восстание было подавлено присланным из Орды карательным отрядом.
Таковы факты, положенные в основу песни. Они, как видим, -совершенно историчны. Отличие содержания этой песни от летописного сообщения о восстании заключается в деталях. В песне, например, не упомянуто имя дьякона Дюдко, из-за кобылицы которого, согласно летописной повести, началось восстание. Очень коротко говорится в песне и о самом восстании, поднятом «мужиками посадскими» и удалыми братьями Борисовичами. Большую часть песни занимает гневно-гротескное изображение монголотатарских правителей Азвяка и Щелкана Дудентьевича (так народ переделал татарское имя Шевкал).
Приемы сатирического преувеличения, использованные здесь, очень напоминают обрисовку Идолища поганого в киевских былинах. Подчеркивается основное качество врага — жестокость. Отправляясь в качестве баскака в Тверь, Щелкан должен сначала заколоть собственного сына и выпить его крови. Кратко перечислены «подвиги» Щелкана в Твери:
...Вдовы-то бесчестити, Красны девицы позорити, Надо всему надругатися, Над домами насмехатися.
В заключение песни с видимым удовлетворением рассказывается об умерщвлении Щелкана:
Один ухватил за волосы,
А другой за ногиг И тут его разорвали. Тут смерть ему случилася, Ни на ком не сыскалося.
Этот последний стих песни, как мы знаем, не соответствует действительности: восставшая Тверь была разгромлена, время для окончательной победы над захватчиками еще не пришло. Но в этом оптимистическом заключительном стихе выразилась надежда народа, его вера в возможность победы над врагами. Эта вымышленная концовка отсутствует в летописной повести, напоминающей обычный взволнованный рассказ очевидца и более фактичной, чем песня.
12 Текст см., например, в кн.: «Народные исторические песни». М.—Л., «Советский писатель», 1962, стр. 72 и 76.
— 118 —
* * *
Литературный процесс XIII—XV вв. естественно делится на два основных этапа: XIII—XIV вв. и XV в. Первый этап начинается с 1223 г. (битва на Калке) и заканчивается сражением на Куликовом поле (1380 г.) — это время воинских повестей преимущественно. Создаваемые в различных княжествах воинские повести нередко приобретали общерусское значение, так как раскрывали тему монголо-татарского нашествия, от которого страдала вся Русь и которое имело тяжкие последствия для культурного развития даже областей, непосредственно не пострадавших от нападения кочевников (Новгород, Псков). В произведениях XIII— XIV вв. большую роль играет образ народа, народных масс. Изложение событий часто приобретает масштабность, неизвестную киевской литературе XI—XII вв. (фиксировавшей внимание на отдельных характерных образах и эпизодах). Впервые всерьез ставится в этих произведениях вопрос об активном и сознательном участии людей в исторических событиях, о роли в этих событиях «меньших людей», т. е. трудового народа. Тема монголо-татарского нашествия является в это время доминирующей.
Таким образом, в XIII—XIV вв., в годы феодальной разобщенности русских земель и самых тяжелых испытаний первых десятилетий монголо-татарского ига, в литературе уже появляется общерусская тематика и возникают предпосылки для создания произведений, в которых культурная, а затем и политическая общность русских областей будет утверждаться как совершившийся факт.
Второй этап продолжается следующие 100 лет, завершаясь покорением Новгорода (1478 г.) и Пскова (1510 г.) войсками московского великого князя.
В эти годы в литературе уже господствует идея политического и культурного объединения русских земель. Преобладание Москвы становится очевидным и в конце XV в. общепризнанным, хотя с этим долго не могли примириться правящие круги Твери и Новгорода. В литературе этот исторический процесс нашел яркое отражение. Возвышение Москвы было связано с расцветом витиеватой и украшенной манеры литературного изложения, именуемой обычно «плетением словес». Такая манера пришла на Русь отчасти из-за рубежа («второе южнославянское влияние») и хорошо послужила литературному возвеличиванию Москвы. Утверждение новой манеры способствовало обострению интереса к вопросам стиля и к развитию литературного языка. С другой стороны, тверская, и особенно новгородская, литература противопоставляла московскому украшенному стилю деловитое и лаконичное изложение, тесно связанное с живой речью и ее афористичностью. В конечном счете обе эти стилистические тенденции сливаются в лучших произведениях XV—XVI вв.
В рязанском летописном сборнике XVI в. и в других поздних сборниках дошли до нас две повести, рассказывающие о нашествии войск Батыя на рязанскую землю, — повесть о Николе Заразском и непосредственно следующая за ней повесть о разо— 119 —
рении Рязани Батыем. Особенной силой трагического чувства и высокими художественными достоинствами отмечена вторая из них.
Созданная в конце XIII или начале XIV в. повесть о разорении Рязани Батыем 13 описывает подлинные события: поражение рязанского войска в битве с монголо-татарами и взятие и разгром города полчищами Батыя. Но изложение реальных фактов в повести сочетается с гиперболизацией и со свободными отступлениями от действительности, как это имеет место в фольклоре. В произведении многочисленны и непосредственные заимствования из устного творчества. Фольклорного происхождения, вероятно, находящийся в начале повести рассказ об умерщвлении Федора — сына великого рязанского князя в ставке Батыя: Федор Юрьевич, посланный для переговоров с врагами, отказался отдать Батыю «на блуд» свою жену, красавицу Евпраксию. Получив весть о гибели мужа, Евпраксия в отчаянии с малолетним сыном Иваном на руках бросилась с высокого терема и «заразилась» до смерти.
Этот эпизод скорее всего восходит к каким-то местным преданиям: известные нам летописи не знают ни князя Федора, ни Евпраксии. Влияние народного эпического стиля очень заметно и в последующем описании битвы рязанских князей с войском Батыя: один, говорится в повести, бился с тысячью, а два — с тьмою. Рязанцы пересаживались с одних коней на других и сражались так, что земля стонала. Но в конечном счете все участвовавшие в сражении рязанские князья погибли (среди них упомянуты и умершие в действительности раньше битвы и значительно позже).
Дальше рисуется потрясающая картина разорения стольного города, причем автор умело усиливает ее трагизм лаконизмом изложения. Это описание, несомненно, основано на реальных фактах: «И придоша (татары. — О. О.) в церковь соборную Пресвя- тыя богородицы, и великую княгиню Агрепену, матерь великаго- князя, з снохами и с прочими княгинеми мечи иссекоша, и епископа и священический чин огню предаша, в святей церкве поже- гоша, а инеи мнози от оружия падоша. А во граде многих людей, и жены, и дети — мечи иссекоша. И ных в реце потопиша, и ерей черноризца до останка исекоша, и весь град пожгоша... И не оста во граде ни един живых: вси равно умроша и едину чашу смертную пиша... вси вкупе мертви лежаща» 14. Автор объясняет это несчастье «грехами» русских.
Явно фольклорный характер носит вторая часть повести — рассказ об «исполине силою» Еупатии Коловрате, который во> время гибели Рязани был в Чернигове. Придя на рязанское пепелище, Еупатий «распалился гневом» и, собрав малую дружину 13 «Воинские повести Древней Руси». М.—Л., 1949, стр. 9—19. Об этой повести см., например: А. Г. Кузьмин. Летописные известия о разорении Рязани Батыем. «Вестник МГУ», история, 1963, № 2, стр. 55—70; В. Л. Ком арович. К литературной истории повести о Николе Заразском. ТОДРЛ, т. V, 1947„ стр. 57—72; Д. С. Лихачев. Повести о Николе Заразском. ТОДРЛ, т. VII, 1949, стр. 257—406.
14 «Воинские повести Древней Руси», стр. 12—13.
— 120 —
(в 1700 человек), нагнал войско Батыя в Суздальской земле. Дружина Еупатия внезапно и с такой яростью напала на врагов, что те стали, «акы пьяны или безумны». В бою у рязанцев притупились мечи, и они вооружились вражескими. Враг думал, что мертвые восстали, а Еупатий проезжал сквозь полки Батыя и рубил их беспощадно.
В фольклорном духе (ср. предания в «Повести временных лет») и ответ взятых в плен пятерых раненых рязанцев царю Батыю. На вопрос, кто они и «почто так много зла творят» им, они ответили: «Веры христианскыя есмя, а храбры (богатыри. — О. О.) есми великого князя Юрия Ингоревича Рязанского, от полку Еупатия Коловрата. Посланы от князя Ингваря Ингоревича Рязанского (бывшего в Чернигове и потому оставшегося в живых.— О. О.) тебя, силна царя, почтити и честно проводити и честь тебе воздати, да не подиви, царю: не успевати наливати чаш на великую силу — рать татарскую»15. Н. К. Гудзий справедливо пишет об этом отрывке: «Перед нами яркий образчик песенной, ритмически организованной формы речи, иронически окрашенной, как в устной поэзии» 16.
Напоминает былины и описание поединка Еупатия с «шури- чем» самого царя Хостоврулом. Хостоврул похвалялся взять Еупатия живым и съехался с русским витязем. Еупатий же рассек его пополам, а затем истребил множество знаменитых вражеских воинов. Только пустив в ход многочисленные пороки (метательные орудия), врагам удалось убить Еупатия.
Батый отдал должное мужеству и силе Еупатия, передал его тело оставшимся в живых дружинникам его, а самих дружинников велел отпустить, не делая им вреда.
Далее рисуется патетическая картина прихода в Рязань князя Ингваря Ингоревича, приводятся его горестные причитания (он восхваляет и сожалеет о погибших, «яко труба рати глас по- давающе, яко сладкий арган вещающи»), и дается поэтическая характеристика павших в битве рязанских князей, «узорочия ре- занского», с честью похороненных Ингварем Ингоревичем.
В заключении повести кратко упоминается об обновлении и укреплении Ингварем Ингоревичем Рязанской земли.
Сочувствуя рязанским князьям и поэтизируя их, автор выступает, как и другие выдающиеся писатели того времени, против феодальных междоусобиц. Он осуждает Юрия Всеволодовича Владимирского, отказавшегося прислать войско на помощь Рязани и намеревавшегося самостоятельно сражаться с монголо-тата- рами (и впоследствии потерпевшего поражение и погибшего в битве с ними). В повести чувствуется большая любовь автора к рязанской земле к ее людям, к ее воинам. Мы ощущаем, что произведение написано человеком, которому кровно близки страдания рязанцев, а поскольку такие страдания в эти годы были уделом жителей многих русских областей, повесть приобретает особенную типичность.
15 «Воинские повести Древней Руси», стр. 13—14.
16 Н. К. Гудзий. История древней русской литературы, изд. 7. М., «Просвещение», 1966, стр. 93.
— 121 —
Образ народа, защищающего свою родину, занимает здесь (как и в другом значительном произведении этого периода — «Сказании о подвигах и жизни великого князя Александра Невского») одно из главных мест. Верой автора в народ, в его силы объясняется оптимистическое звучание финала повести. Выдающемуся древнерусскому писателю удалось создать подлинно народное произведение и выразить общерусские интересы 17.
Менее значительна в художественном отношении повесть о разрушении Киева Батыем 18, краткая редакция которой вошла в галицко-волынскую летопись. Это произведение также близко к фольклору и, очевидно, основано на фольклорных источниках. Описание прихода батыевых войск к Киеву весьма напоминает картины вражеского нашествия в былинах: «Приде Батый Киеву в силе тяжьце, многом множьством силы своей и окружи град, и остолпи сила татарьская, и бысть град в обдержании велице... И не бе слышати от гласа скрипания телег его, множества реве- ния вельблуд и его и рьжания от гласа стад конь его». Затем рассказывается о разрушении стен и о сражении в городе. Особенно драматичен эпизод гибели горожан, укрывшихся в Десятинной церкви. Своды этой церкви, переполненные людьми, рухнули, задавив многих киевлян. При раскопках в 1939 г. у входа в Десятинную церковь были найдены следы обвала и скелеты погибших 19. Так в наше время была подтверждена достоверность описанной в летописи трагедии.
Примерно в конце XIV в. складывается новый тип летописания. XIII — начало XIV в. — продолжение традиций киевского летописания, их сохранение во владимиро-суздальском и галицко- волынском летописании. Следование киевским традициям выразилось здесь в том, что новые летописи отразили сознательно (владимирский летописец) или бессознательно, несмотря на местно-патриотическую настроенность (галицко-волынский летописец), интересы общерусские, интересы всего восточного славянства. Осуждение феодальных «котор» и монголо-татарское нашествие, вызывающёе у летописцев глубокую гражданскую скорбь,— основные темы этих хроник. Наибольшую художественную ценность представляет галицко-волынский свод20, эмоциональный и насыщенный фольклорными элементами. Сложившийся во Владимиро- Суздальском княжестве так называемый Лаврентьевский свод21 более деловит и несколько суховат, зато его общественное содержание шире и значительнее, чем соответствующие идеи галицко- волынского свода. Галицко-волынский летописец сосредоточивает внимание на жизнеописании князей и не придает значения хронологии (первоначально галицко-волынский свод не имел разбивки 17 Имя автора достоверно не установлено. Н. В. Водовозов высказал предположение, что произведение написано Еустафием — сыном корсуньского священника, главного героя «Повести о Николе Заразском» (Н. В. Водовозов. История древнерусской литературы. М., «Просвещение», 1966, стр. 122).
18 ПСРЛ, т. II, стр. 784.
19 См. Б. А. Рыбаков. Ремесло Древней Руси. М., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 273.
20 ПСРЛ, т. II, стр. 715 и дальше.
21 ПСРЛ, т. I.
122 —
по годам). Галицко-волынский летописец особенно энергично подчеркивает авторитет князя, не пренебрегая преувеличением (гиперболизируется, вероятно, любовь народа, которой, согласно этой летописи, пользуются Даниил и волынские князья), и гневно обличает непокорных князю и лицемерных бояр.
Итак, образы князей в галицко-волынском летоописании выглядят живее, чем во владимирском (во владимирской летописи сравнительно подробно охарактеризован только самый выдающийся деятель этого княжества Андрей Боголюбский), но народ, «меньшие люди», еще играют в обеих летописях роль незаметных статистов. Галицко-волынскому своду чужды ссылки на помощь святых, на чудеса, на божью волю, обычные во владимирском летописании и понятные в последнем. Владимир с конца XIII в. был религиозным центром русских земель.
К XIII в. относится небольшое, дошедшее до нас в незаконченном виде «Слово о погибели Русской земли»22. Несмотря на свой отрывочный вид, «Слово» было дважды обнаружено в виде вступления к житию Александра Невского23, что дало повод исследователям 24 считать этот отрывок началом жития или вступлением к не дошедшей до нас светской повести о жизни Александра Невского и, может быть, также Ярослава Всеволодовича — отца Александра (предположение X. М. Лопарева25).
В настоящее время эти предположения оспариваются. «Слово» вряд ли могло быть написано позднее 1238 г., когда умер упоминаемый в нем как живой суздальский великий князь Юрий Всеволодович, а Александр Невский, как известно, умер в 1263 г., и его житие не могло быть написано ранее этого года. На основании отдельных стилистических совпадений предполагалось также, что «Слово о погибели Русской земли» и два известных памятника XIII в. — «Моление Даниила Заточника» и житие Александра Невского— созданы одним автором, в котором естественно было видеть Даниила26, обращавшегося с просьбами к Ярославу Всеволодовичу (см. ниже о «Молении Даниила Заточника»).
Тем не менее вопрос о происхождении «Слова» остался нерешенным. Скорее всего «Слово», оторвавшись от какого-то обшир-
22 «Памятники древней письменности», вып. 84. СПб., 1892.
23 См. В. И. Малышев. Житие Александра Невского (по рукописи середины XVI в. Гребенщиковской старообрядческой общины в г. Риге). ТОДРЛ, т. V, 1947, стр. 185—193; М. Gorlin et R. Bloch-Gorlina. Etudes litterai- res et historiques. Paris, 1957, pp. 81—109.
24 О «Слове» см.: M. H. Тихомиров. Где и когда было написано «Слово о погибели Русской земли» (ТОДРЛ, т. VIII, 1951, стр. 235—244); М. Gorlin. Le Dit de la Ruine de la terre Russe. «Revue des etudes slaves», 1947, t. XXIII, f. 1—4, pp. 5—33; A. Soloviev. Le Dit de la Ruine de la terre Russe. «Byzan- tion», 1953, t. XXII, pp. 105—128; A. Soloviev. Die Dichtung vom Untergang Ruslands. «Die Welt der Slaven», 1964, Bd. IX, Hf. Ill, SS. 225—245; Ю. К. Бегунов. Памятник русской литературы XIII в. «Слово о погибели Русской земли». М.— Л., «Наука», 1965, стр. 8.
Современную точку зрения на «Слово» см. в ст.: Н. .К- Гудзий. О «Слове о погибели Русской земли». ТОДРЛ, т. XIII, 1956, стр. 527—545.
25 См. Ю. К. Бегунов. Памятник русской литературы XIII в., стр. 8.
26 См. В. М. И с т р и н. Из области древней русской литературы. ЖМНП, 1905, № 8, стр. 267; Н. В. Водовозов. История древней русской литературы, стр. 130.
— 123 —
ного текста, в силу своей художественной выразительности приобрело у книжников большую популярность и сделалось своего* рода зачином — общим местом, могущим присоединяться к различным житийным повествованиям. Так, в переработанном виде «Слово о погибели» было удачно превращено во вступление к житию Федора Ярославского 27
«Слово о погибели Русской земли» привлекает внимание исследователей своим поэтическим пафосом и могучим патриотическим чувством. Автору произведения удалось мастерски передать величие и обширность родной земли, создать образ прекрасной и изобильной страны. Как это часто бывает в средневековой литературе, поэтизация родины сочетается в «Слове» с прославлением ее политического могущества и твердости в христианской вере.
Дошедший до нас текст «Слова» членится соответственно на две части: поэтический пейзаж «земли Русской» и прославление могущества русских князей. Текст завершается указанием на то, что теперь дело обстоит иначе: к христианам пришла «болезнь». В этих словах видят намек на нашествие Батыя 28 29.
Несомненно воздействие устной поэзии на «Слово». Это воздействие обнаруживается в сходстве начала «Слова о погибели» с известным былинным зачином: «Высота ли, высота поднебесная»23 и в употреблении постоянных эпитетов фольклорного типа: горы, крутые, холмы высокие, дубравы частые, князья грозные и— во второй части — синее море. По фольклорному образцу, вероятно, образованы и некоторые другие поэтические средства «Слова», например, составные эпитеты светло-светлая и украсно-украилен- ная 30. Ритмика и созвучия, ощутимо пронизывающие произведение и создаваемые повторениями грамматически однородных слов, также близки фольклорной традиции. Стиль произведения представляет собой талантливый синтез устно-поэтических и литературных приемов. К последним относятся риторические восклицания, некоторые эпитеты и развернутые периоды «Слова». Сочетание лиризма с высоким гражданским пафосом сближает «Слово о погибели Русской земли» со «Словом о полку Игореве».
Вскоре после смерти Александра Ярославича Невского автором, по-видимому, лично знавшим князя, было написано «Сказание о подвигах и житии великого князя Александра Ярославича Невского» 31.
27 См. Ю. К. Бегунов. Памятник русской литературы XIII в., стр. 138.
28 См. А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVII вв. М.—Л.„ Изд-во АН СССР, 1945, стр. 143; Н. К. Гудзий. История древней русской литературы, стр. 200.
29 «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». М—Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 9.
30 Подобные эпитеты — нередкое явление в устном народном творчестве (см., например, исследование А. П. Евгеньевой «Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII—XX вв.». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963), поэтому нельзя согласиться с Н. К. Гудзием, отнесшим этот прием в «Слове о погибели» к числу книжных (Н. К. Гудзий. История древней русской литературы, стр. 201).
31 См. В. И. Малышев. Житие Александра Невского, стр. 185—193; Н. Серебрянский. Древнерусские княжеские жития. ЧОИДР, кн. 254, 1915> стр. 108—137.
— 124
Житийное повествование приобрело здесь черты воинской повести, и значительная часть «Сказания» отведена описанию воинских подвигов Александра — крупнейшего русского полководца XIII в. Однако в произведении, прославляющем северорусского князя, мы почти не находим реальных черт его личности. Образ Александра создается по традиционному канону, типизируется под общепринятый эталон святого. Родители Александра — люди благочестивые и кроткие. Далее рисуется условный портрет героя: ростом Александр выше всех, голос его подобен трубе, лицо столь же прекрасно, как лицо Иосифа, сила Александра от Самсона и т. п. Такие сравнения с библейскими героями характерны для житийного жанра.
Пересказывая эпизоды из жизни Александра, агиограф все больше увлекается описанием политических событий и победоносных сражений своего героя. К этому ведет логика повествования о судьбе полководца. Таким образом, личные качества Александра и его личная судьба оказываются очень часто оттесненными на второй план яркими описаниями битв. Например, вслед за преданием о пришедшем с запада и покоренном добродетелями Александра Андреаше в «Сказании» рисуется выразительная картина сражения на Неве со шведскими войсками и перечисляются дружинники князя, особенно отличившиеся в этой битве, где Александр собственной рукой «наложил печать» на лицо шведского полководца. Это описание напоминает былинные богатырские бои, хотя, по- видимому, основано на подлинных фактах32.
Автор подчеркивает, что все сообщаемое им он слышал от «господина своего великого князя Олександра и от инех, иже в то время обретошася и в той сечи» 33, т. е. что описание достоверно. Однако перед рассказом о боевых эпизодах автор, следуя традиции, не преминул поместить молитву Александра в храме Святой Софии и изложение фантастического сна одного из дружинников, которому привиделось, что Борис и Глеб хотят помочь своему родичу Александру в трудный час. Победа над шведами, сообщает автор, была ускорена архангелом, побившим много врагов. Так стиль воинской повести переплетается со стилем жития.
Следовательно, автор «Сказания» не ограничил свою задачу прославлением Александра. Он создал также обобщенный образ мужественного русского войска и показал силу духа русских людей. В годы монголо-татарского нашествия это приобретало подчеркнуто патриотический смысл.
Далее подобным же образом описывается Ледовое побоище (перед которым князь также молится) и рассказывается о взаимоотношениях Александра с монголо-татарами. Всячески подчеркиваются уважение, которое питал к Александру Батый, и страх, наводимый на врагов одним именем русского князя. Смерть Алек-
'2 Мнение М. О. Скрипиля («История русской литературы» в 3-х томах, т. I. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 151) о том, что этот эпизод—прямая реминисценция из не дошедшей до нас исторической песни о Невской битве, недостаточно обосновано, хотя общее влияние устно-поэтических приемов здесь очевидно.
33 В. И. Малышев. Житие Александра Невского, стр. 190.
— 125 —
сандра не обходится без чуда: умерший сам берет из рук митрополита духовную грамоту.
Помимо уже упомянутой близости образов русских воинов к образам былинных богатырей, фольклорные традиции, вероятно,, отразились во включении в «Сказание» плачей народа и митрополита у гроба Александра. Митрополит Кирилл восклицает: «Чада моя, разумейте вси, яко уже заиде земли нашей солнце!»34.
В целом тон автора исполнен достоинства и сознания важности избранной темы. Писатель чувствует свою ответственность в качестве биографа выдающегося деятеля великой страны. Произведению чужд пессимизм. Оно продолжает жизнеутверждающую традицию литературы периода расцвета Киевского государства и традицию, характерную для устного народного творчества.
Своеобразие «Сказания» заключается и в наличии субъективного элемента. Автор, хотя и кратко, но рассказывает о себе и о своей близости к Александру Ярославичу. Искреннее горе слышится в конце произведения, где автор восклицает: «О горе тебе, бедный человече! Како можеши написати кончину государя своего? То како ти не изпадут зеницы с слезами вкупе, како ти ся не разседе сердце от горькия туги! Отца бо человек не может забыта, а ласкового государя не мощи забыта, но аще бы жив, в гроб по нем влезл» 35.
Присутствие в «Сказании» образа автора придает изложению правдивость и непосредственность и делает рассказ более эмоциональным.
В литературе второй половины XIII в. видное место занимает творчество Серапиона — Владимирского епископа, известного своими «словами», или «поучениями». До нас дошли пять достоверно принадлежащих Серапиону «слов» 36. Первое из них, по-видимому, написано Серапионом в 1230 г. в бытность его архимандритом Киево-Печерского монастыря, а остальные — в 70-е годы во Владимире. Несомненно, Серапионом было произнесено гораздо большее количество проповедей, но они не сохранились.
Главная тема поучений Серапиона Владимирского — монголотатарское нашествие, его причины и его влияние на русскую жизнь. Будучи церковным деятелем, Серапион усматривал причину нашествия в грехах и неверии, еще распространенных на русской земле. Монголо-татарское нападение — божья кара за эти грехи. Поэтому Серапион немало внимания уделяет обличению прегрешений. Проповедник гневно обрушивается на языческие суеверия, еще борющиеся в сознании народных масс с христианскими представлениями.
Каждое из поучений Серапиона повествует о наказаниях за грехи, но примеры грехов и наказаний варьируются. Так, в первом «слове» речь идет о затмениях Солнца и Луны, о «трясении земли»
34 Н. А. К а з а к о в а. «Пророчества еллинских мудрецов» и их изображения в русской литературе XVI—XVII вв. ТОДРЛ, т. XVII, 1961, стр. 357.
35 Там же.
36 См. Е. Петухов. Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века. СПб., 1888, стр. 7.
— 126 —
Слова и поучения Серапиона, епископа Владимирского. Пергаменный сб. XIV в. «Златая цепь». Полуустав
(в 1230 г.) и о монголо-татарском нашествии. Это землетрясение было особенно ощутимо в Киеве, где вызвало некоторые разрушения. Серапион, бывший тогда архимандритом Киево-Печерского монастыря, говорит об этих событиях как очевидец, обращающийся к очевидцам: «Колико видехом солнца погибша, и луну померькшу, и звездное пременение! Ныне же земли трясенье своима очима видехом. Земля от зачала утвержена и неподвижима, повеленьем божиим ныне движется, грехы нашими колеблется, безаконья нашего носити не может» 37. Наравне с затмениями и землетрясением монголо-татарское нашествие рассматривается как казнь, заслуженная русской землей, погрязшей в беззакониях.
Во втором поучении Серапион подробно перечисляет «беззакония», распространившиеся на русской земле, несмотря на его увещевания: «Многажды глаголах вы, хотя отставит от вас злый обычай, никакоже пременившася вижю вы: аще кто вас разбойник, разбоя не отстанеть; аще кто крадеть, татбы не лишиться; аще кто •ненависть на друга имать, враждуя не почиваеть; аще кто резои- мець (ростовщик. — О. О.), рез емля не престанте...»38. Как следствие этих пороков, рисуется грозная картина монголо-татарского нашествия (автор мастерски использует здесь риторические вопросы) : «Чего не приведохом на ся? Какие казни от бога не восприя- хом? Не пленена ли бысь земля наша? Не взяты ли быша гради наши? Не вскоре ли падоша отци и братия наша над трупием на землю? Не ведены ли быша жены и чада наша в плен? Не порабощены быхом оставше горкою си работою от иноплеменник?..» 39. Выход один — покаяться. Тогда «гнев божий престанет». В качестве положительного примера приводится библейское предание о Ниневии, отрицательного — о гибели Содома и Гоморры. Но проповедник очень сдержан в ссылках на библию.
В третьем «слове» Серапион перечисляет другие гибельные последствия монголо-татарского нападения, дополняя ранее нарисованную картину (во втором слове) и упоминая о разорении церквей и о военных поражениях княжеских дружин.
В четвертом «слове» речь идет о различных суевериях и языческих обычаях, которые Серапион энергично обличает. Как отмщение за эти грехи вновь упоминаются библейские казни, «трясение» земли, нашествие на Русь иноплеменников, голод и мор.
В пятом «слове» возмущенный единоверцами проповедник смело приводит им в пример некоторые хорошие татарские обычаи, невольно идеализируя последние: «Погании бо, закона божия не ведуще, не убивают единоверник своих, не ограбляють, ни обидят, ни поклеплют, ни украдут...» 40. Эта ссылка на обычаи смертельного врага русской культуры свидетельствует о большой широте и самостоятельности мышления Серапиона. Исследователь его творчества писал по этому поводу: «...В Серапионе следует признать большую долю беспристрастия и значительную высоту нравствен37 Е. П е т у х о в. Серапион Владимирский.., стр. 1.
38 Там же, стр. 4.
39 Там же, стр. 5.
40 Там же, стр. 14.
128 —
ного чувства, необходимых для того, чтобы ставить своим современникам в пример действительно добрые стороны «поганых», которые и по своей нехристианской религии и по причиненным русскому народу бедствиям были в глазах слушателей проповедника способны вызвать лишь страх и омерзение» 41.
В пятом поучении Серапион также восстает против обычая выкапывать из могил самоубийц (якобы для предотвращения стихийных бедствий): «О, человеци, се ли ваше покаянье? Сим ли бога умолите, что утопла или удавленника выгрести? Сим ли Божию казнь хощете утишить? Лучше, братья, престанем от зла, лишимся всех дел злых: разбоя, грабленья, пьянства, прелюбодейства, скупости, лихвы, обиды, татбы, лжива послушьства, гнева, ярости, злопоминанья, лжи, клеветы, резоиманья»42. Еще раньше в том же поучении Серапион возмущается: «Обычай поганьский имате: волхвам веру имете и пожагаете огнем неповинныя человеки» 43.
Для творчества Серапиона характерны искренняя взволнованность, человечность и большая любовь к русской земле. Его глубоко тревожат беды народа. Особая проникновенность выделяет проповеди Серапиона Владимирского на фоне абстрактной и схоластической церковной литературы русского средневековья. В его «словах» заметно влияние Иоання _Кагосллня| Василия Великого и других церковных авторов, на которы^ГТ^ртпион^сылаети^С-^ это влияние незначительно.
Используемые в поучениях поэтические приемы немногочисленны и несложны. Чаще всего это повторы и наращения деталей. Например: «Тогда наведе на ны язык немилостив, язык лют, язык не щадящь, красы уны, немощи старець, младости детий...» 44.
В наиболее патетических местах речь Серапиона нередко приобретает ритмический характер45 (см., например, приведенную выше цитату из второго поучения).
Язык поучений прост и близок к разговорному, число церковнославянизмов в нем невелико. Это объясняется тем, что проповеди Серапиона были обращены не к изысканной аудитории «преиз- лиха насыщемся сладости книжныа», как созданное в годы относительного покоя и благоденствия «Слово» Илариона, а к широким народным массам. Серапион стремился ободрить и воодушевить народ в годину бед и нашел для этого необходимую форму. Он избегает имен, названий городов, точных дат и дает читателю обобщенную, типизированную с позиций христианской морали картину русской умственной жизни.
Современники и позднейшие средневековые книжники высоко ценили творчество Серапиона, который, по словам летописца, «бе зело учителей в божественном писании». Его поучения фигуриро41 Е. Петухов. Серапион Владимирский.., стр. 31.
42 Там же. стр. 14.
43 Там же.
44 Там же, стр. 31.
45 А. С. Орлов («Древняя русская литература XI—XVII вв.», стр. 64) в этой связи отмечал также у Серапиона «иллюзию строф», навеянную стилем библии.
9 Очерки русской культуры, ч. 2 — 129 —
вали в широко распространенных средневековых сборниках «Златая цепь», «Златоуст» и «Измарагд» 46.
Известные нам тексты поучений, вероятно, нужно рассматривать как своего рода конспекты публично произносившихся проповедей. Такие проповеди, конечно, должны были производить на слушателей огромное впечатление.
Вероятно, в XIII в. возникает «Моление Даниила Заточника» 47, стилизованное послание к князю от некого незаурядного человека, сосланного, согласно его словам, на Лаче-озеро. Это первое преимущественно сатирическое, социально-обличительное произведение древнерусской литературы.
В сохранившихся двух основных редакциях «Моления» автор обращается к могущественному князю Ярославу, который в первой (как ее условно называют) редакции48 наделен отчеством Владимирович, а во второй — Всеволодович. В первоначальном тексте, по-видимому, и шла речь о Ярославе Всеволодовиче49, отце Александра Невского. Ярослав Всеволодович неоднократно княжил в Новгороде и три года был великим князем Владимирским. Естественно поэтому звучит упоминание Даниила Заточника о Боголюбове — княжеской резиденции под Владимиром и о том, что он сослан, «сидит» на Лаче-озере: это озеро находилось на территории, контролировавшейся Новгородом. В летописи позднее, под 1378 г., упоминается некий Даниил, заточенный на Лаче- озере 50.
Судьба «Моления» очень типична для средневекового литературного обихода. На фоне большинства произведений той поры, небогатых сатирическим элементом и не раскрывавших подробно классовые взаимоотношения, насыщенное сатирой, остро обличительное, публицистическое, остроумное «Моление» не могло не приобрести широкой популярности. «Моление» (или «Слово», как оно названо в более поздней, так называемой первой редакции) выделяется своей идейной и художественной оригинальностью. Ярко обрисована в нем личность даровитого и самолюбивого автора, энергично поддерживавшего сильную княжескую власть. Все послание представляет собой панегирик такой сильной и ничем не 46 См. Е. Петухов. Серапион Владимирский.., стр. 189—205. О «Златой
цепи» см.: Е. Петухов. Серапион Владимирский.., стр. 194; «Описание рукописей библиотеки Святотроицкой Сергиевой лавры». М., 1878, стр. 15—18. Об. «Измарагде» см.: [A. B.J Горский и [К. И.] Невоструев. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки, 3. М., 1862, стр. 83;
В. А. Я к о в л е в. К литературной истории древнерусских сборников. Одесса, 1893; «История русской литературы» в 10-ти томах, т. 2, ч. 1. М., Изд-во АН СССР, 1945. О «Златоусте» см.: «Памятники древней письменности и искусства», вып. 158. СПб., 1905 (исследование А. С. Орлова «Сборники Златоуст и торжественник»), стр. 157—162.
47 «Слово Даниила Заточника». Л., 1932 (некоторые исследователи относят «Моление» к более раннему периоду, см.: «История культуры Древней Руси», т. II. М—Л., Изд-во АН СССР, 1951, стр. 212—214).
48 «История русской литературы», в 3-х томах, т. 1, стр. 152 и 154.
49 «История русской литературы», в 10-ти томах, т. 2, ч. 1, стр. 36.
50 ПСРЛ, т. IV, ч. I, вып. 1, стр. 309—310: «Изнимаша же... воины некоего попа, от орды пришедша... и... послаша его на заточение, на Лаче-озеро, идеже бе Данило заточен».
— 130 —
ограниченной власти. Князь — солнце для своих подданных. Он справедлив, он крепкая защита для них, но вместе с тем он должен быть и грозен, чтобы его боялись, как боятся рыкающего льва.
Любопытно, что это прославление централизованной власти относится к тому времени, когда русскую землю уже охватила феодальная раздробленность, великокняжеский титул не производил впечатления на удельных князей и бояр, а многочисленные князья, терпевшие поражения от монголо-татар и приведшие Русь к разорению, перестали пользоваться доверием народа.
Даниил последователен в проведении своей идеи. Прославляя Ярослава, он саркастически рисует образы бояр и церковников. Впервые в русской литературе беспощадный и зоркий взгляд сатирика проник во все слои общества и вскрыл назревшие социальные конфликты. Даниил видит, что бояре жадны и готовы вконец разорить бедняка, что монахи лгут богу.
В науке неоднократно ставились вопросы, когда же в действительности жил Даниил (или имевший другое имя автор «Моления») и какую редакцию «Моления» следует считать достоверной. Окончательных ответов на эти вопросы не было дано 51.
Мы отмечали, что в «Молении» сатира является не дополнительным элементом (как, например, в летописи), а основной целью повествования. Это — первый на Руси политический памфлет. Сатирическое обличение своеобразно сочетается в произведении с личным, субъективным началом. Автор много говорит о себе, о своих незаурядных способностях и откровенно расхваливает себя. Но иногда он неожиданно переходит к самоуничижению. Перед читателем предстает искренняя и неуравновешенная натура. Впервые в русской литературе звучит в этой авторской исповеди тема оскорбленного человеческого достоинства.
Яркий афористический язык, насыщенный сравнениями, остроумные притчи о злых женах, о монахах и о власть имущих привлекли к «Молению» внимание широких кругов древнерусских читателей (что доказывается значительным числом списков его, дошедших до нас). В результате подлинные черты автора и конкретные исторические обстоятельства, первоначально отраженные в произведении, естественно, должны были типизироваться, обобщиться. Возможно, что само имя Даниил (и связанное с этим именем упоминание о Лаче-озере) проникло в «Моление» в XIV— XV вв.52.
Приобретя большую известность, войдя в традицию, произведение шлифовалось и изменялось переписчиками на протяжении нескольких столетий53. Таким образом, можно сказать, что оно—' продукт целого исторического периода (с XII или даже XI в. по XIV—XV вв.). Едва ли поэтому возможно в настоящее время решить вопросы, кто именно был Даниил Заточник и он ли действи51 См. И. И. Смирнов. Очерки социально-экономических отношений Руси XII—XIII вв. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963; М. О. С к р и п и л ь. «Слово Даниила Заточника». ТОДРЛ, т. XI, 1955, стр. 72—95.
52 См. Н. К. Гудзий. История древней русской литературы, стр. 188.
53 «История русской литературы», в 10-ти томах, т. 2, ч. 1, стр. 36.
9*
131
тельно был автором произведения, каково было социальное положение автора и какому князю адресовано это стилизованное «Моление». Многочисленные переписчики — соавторы этого произведения создали обобщенный образ Даниила — человека, некогда известного и окруженного друзьями, но затем попавшего в беду и полную зависимость от бояр. Не меньше был типизирован и образ Ярослава как образ сильного князя. В текстах «Моления» Даниила Заточника, дошедших до нас, следует, вероятно, видеть продукт коллективного творчества (что не исключает, конечно, исторической достоверности некоторых эпизодов и деталей произведения).
Наиболее значительной в идейно-художественном отношении является вторая редакция произведения, обращенная к князю Ярославу Всеволодовичу 54.
Она начинается риторическим вступлением, навеянным традициями церковного красноречия: «Вострубим убо, братие, аки в златокованную трубу, в разум ума своего и начнем бита в сребре- ныя арганы во известие мудрости...» 55.
Затем следует собственно «Моление», в котором каждая просьба Даниила начинается с обращения: «Княже мой, господине!» И здесь жизненные обстоятельства типизируются с помощью сравнений и библейской символики: «Княже мой, господине! Не зри на мя, аки волк на агнеца, но зри на мя, яко мати на младенца. Возри на птица небесныя, яко ни сеют, ни жнут, ни в житница собирают, но уповают на милость божию. Да не буди рука твоя согбена на подание убогим. Писано бо есть: просящему у тебе дай, толкущему отверзи, да не лишен будеши царства небесного; писано бо есть: возверзи на господа печал свою, и той тя препи- тает во веки» 56.
Начав свое «Моление» с абстрактных сентенций, автор постепенно переходит к описанию конкретных эпизодов из своей жизни и говорит, что он был в нужде, испытал холопью долю и убедился, что лучше ходить в лаптях в княжеском доме, чем в красных сапогах на боярском дворе. Изложение все более насыщается изощренными сравнениями и метафорами: «Обрати тучю милости твоея на землю худости моея... Избави мя, господине, от нищеты, аки птицу от кляпцы (сетей.— О. О.) и исторгни мя от скудости, яко серну от тенета, аки утя, носимо в кохтях у сокола»57.
Дальше автор призывает князя быть решительным, в деле управления государством, быть грозным, ибо в этом залог порядка в стране: «Лев рыкнет — кто не устрашится? А ты, княже, речеши — кто не убоится?»58. Таким образом, здесь уже выдвинута идея «грозной», но справедливой верховной власти, развитая впоследствии (в XVI в.) И. Пересветовым.
54 Самым исправным считается ее список, принадлежавший Чудовскому монастырю (Н. К. Гудзий. История древней русской литературы, стр. 182). .Цитируем текст по кн.: «Слово Даниила Заточника».
55 Там же, стр. 53.
56 Там же, стр. 56.
57 Там же, стр. 62—63.
58 Там же, стр. 66.
— 132 —
В конце «Моления» даются ответы на предполагаемые советы князя Даниилу. Именно в этих ответах заключена сатира на злых жен («лучше бы ми вол видети в дому своем, нежели жену злооб- разну»59) и на монахов, обманывающих бога.
Самооценка автора здесь несравненно скромнее, чем в начале «Моления».
Завершается произведение молитвой за князя и русских людей, которые должны укрепить себя перед лицом врага: «Не дай же, господи, в полон земли нашей языком, не знающим бога!» 60. Это, конечно, намек на монголо-татарское нашествие, проникший в «Моление» не ранее 20-х годов XIII в. (если допустить, что оно было написано до этого).
В «Молении» сильно ощущаются традиции ораторского искусства. Автор мастерски разнообразит изложение, переходя от отвлеченного обращения к «братии» во вступлении к монологу, обращенному к князю, а затем к воображаемому диалогу с ним. Смена приемов позволяет все время держать в напряжении внимание читателя.
«Моление» Даниила Заточника — незаурядное произведение древнерусской литературы, в котором мы не только видим яркую картину классовых взаимоотношений в феодальном обществе, но и впервые встречаемся с попыткой проникнуть в психологию персонажа, показать ее индивидуальность, неповторимое своеобразие личности. Белинский справедливо писал об этом: «Даниил Заточник... была одна из тех личностей, которые, на беду себе, слишком умны, слишком даровиты, слишком много знают и, не умея прятать от людей своего превосходства, оскорбляют самолюбивую посредственность; которых сердце болит и снедается ревностью по делам, чуждым им, которые говорят там, где лучше было бы молчать, и молчат там, где выгодно говорить...» 61.
Летописная повесть о тверском восстании 1327 г. известна в двух основных редакциях. Согласно одной из них (в Воскресенской летописи 62) причиной восстания явилось намерение ордынского посла Щелкана сесть на тверское княжение, «привести христиан в бесерменскую веру» и перебить всех тверичей. «Уведа бо мысль окаанного», князь Александр Михайлович возглавил восстание горожан против монголо-татар. В происшедшей битве («бишася чрез вьсь день») тверичи одолели, и Щелкан пытался спастись на сенях княжеского дома. «Князь же Александр зажже сени отца своего и двор вьсь, и згоре Щелкан и с прочими татары». Затем великий князь Иван Данилович московский привел из Орды на Русь «пять темников». Князья Иван и Александр суздальский вместе с монго- ло-татарами взяли Тверь и другие поддерживавшие ее города, 59 «Слово Даниила Заточника», стр. 69.
60 Там же, стр. 73.
61 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., в 13-ти томах, т. V. М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 351.
62 ПСРЛ, т. VII, стр. 200; т. X, стр. 194. Об этом произведении см.: Л. В. Ч е- репнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XVI вв. М., Соцэкгиз, 1960, стр. 476—497.
133 —
"«а люди иссекоша, а иных в плен поведоша». Тверской князь со своим братом был вынужден бежать во Псков.
Очевидно, что в этой редакции повести нашли отражение княжеские междоусобицы. Летописец, сочувствуя тверскому князю Александру Михайловичу и подчеркивая его руководящую роль в восстании, осуждает московского и суздальского князей, обвиняемых им наравне с монголо-татарами в ответном разорении Твери.
В другой редакции, сохраненной Тверской летописью вз, упоминается сначала о том, что Александру Михайловичу было дано в Орде великое княжение, но «диавол вложил зло в сердце безбожным татарам» и их царю, который послал в Тверь Шевкала, «разорителя христианского», чтобы погубить князя Александра и всех князей русских. Придя в Тверь, Шевкал прогнал князя «со двора его», сам стал на этом дворе «со многою гордостью» и начал «гонение велико на христианы». Народ «многажды» жаловался своему князю на притеснения со стороны монголо-татар, но князь не мог оборонить тверичей и велел им терпеть. Однако тверичи «искаху подобна времени», т. е. ждали подходящего момента для восстания.
Летописец, как видим, явно стремится к точной передаче исторических фактов. Дальше это еще заметнее. Сообщается, что «в пятнадцатый день месяца августа, в полутра, как торг снимается», дьякон Дюдко повел на волжский водопой свою кобылицу. Татарам понравилась «млада и зело тучна лошадь», и они стали отнимать ее у хозяина. Дьякон закричал: «О, мужи тверьстии, не выдайте!» Монголо-татары, державшиеся самоуверенно («надеющеся на самовластие»), вступили в бой с тверичами. Народ быстро сбежался, собралось вече, и поднялся «весь град». Враги были перебиты, погиб и Шевкал. Весть о гибели вражеского гарнизона принесли в Орду пастухи, оставшиеся в поле. На этом, собственно, заканчивается вторая редакция повести.
Под следующим, 1328 г. в летописи идет уже самостоятельное сообщение о приходе из Орды «пяти темников», разоривших Тверь и принудивших князя Александра бежать из города. Московский и суздальский князья не участвуют в карательной экспедиции против Твери, сказано только, что монголо-татары не разорили Москву.
Художественное превосходство второй редакции повести несомненно. Эпизод с кобылицей Дюдко, судя по стилю, мог быть заимствован из каких-то фольклорных рассказов о начале восстания. Язык второй редакции прост и близок к разговорному. Устно-поэтического происхождения в этой, как и в воскресенской редакции, также характеристика злонамеренного Шевкала и мотивы его посылки на Русь. Высказывалось предположение, что смысл рассказа Тверской летописи (вторая редакция) следующий: «Александр не повинен в восстании, это — стихийное возмущение народа, не внявшего призывам князя к терпению. Это было очень существенно для тверского князя, только что облеченного, волею хана, великокняжеским достоинством. Эта версия оправдывала его перед судом истории и ограждала от возможных преследований со
63 ПСРЛ, т. XV, стр. 415. — 134 —
стороны хана»64. Едва ли, однако, летописец ставил перед собой такую цель: повесть могла естественно возникнуть на основе ранее получивших хождение в народе устных произведений о тверском восстании. А на создание и распространение таких произведений требовалось значительное время. В Орде, конечно, успели давно узнать о случившемся и сделать свои выводы, на которые вряд ли могло повлиять запоздалое заступничество летописца. К тому же автор второй редакции в сущности равнодушен к положению князя и скорее недоволен его пассивностью. Лишь из тактических соображений (летописец, вероятно, зависел от князя) он проявляет здесь сдержанность и занимает нейтральную позицию. Но все его сочувствие на стороне восставшего народа.
Тверская редакция повести близка и по своему духу и по композиции зачина к народной исторической песне о Щелкане Дудентьевиче, рассмотренной выше. Следует подчеркнуть, что в этой второй редакции отрицается враждебная Твери позиция московского князя (казалось бы, тверичу было выгодно представить Ивана Даниловича московского в неприглядном свете).
Подлинные события 1327 г. в Твери, очевидно, могут быть восстановлены путем сопоставления обеих редакций повести. Несмотря на сухость воскресенской редакции, только из нее уясняются подробности гибели Шевкала — Щелкана и некоторые детали ■битвы.
В конце XIV в. усилившаяся Москва ведет все более независимую политику по отношению к Золотой Орде. Первой крупной победой москвичей над монголо-татарами был разгром их в битве на реке Воже (1378 г.). Это событие отражено в летописной повести, написанной по горячим следам события и проникнутой патриотическим пафосом 65 *. Следующая, поистине замечательная победа над монголо-татарами была одержана объединившимися вокруг Москвы русскими войсками в 1380 г. на Куликовом поле, где были разгромлены трехсоттысячные полчища Мамая. Известен ряд произведений об этой великой битве. Самым популярным из них явилось <<Сказание о Мамаевом побоище», дошедшее до нас во множестве списков 6Ь.
В этом произведении подробно и образно рассказывается об обстоятельствах, предшествовавших битве, о неисчислимом монголо-татарском войске, об измене и двурушничестве рязанского князя Олега Ивановича, оказавшегося «в одиначестве» с ханом, но стремившегося вместе с тем ослабить и монголо-татар.
Автор повести со знанием дела описывает боевые порядки русских и монголо-татарских войск и вводит в свое произведение поэтические эпизоды, навеянные фольклором и народными поверьями. Таков эпизод, в котором князь Дмитрий Иванович «слу64 Н. Воронин. «Песня о Щелкане» и тверское восстание 1327 г. «Исторический журнал», 1944, кн. 9, стр. 79.
65 ПСРЛ, т. VIII, стр. 33; т. IV, ч. I, вып. 1, стр. 309.
60 Насчитывается 56 списков основной редакции («Русские повести XV—XVI вв.». М.—Л., Гослитиздат, 1958, стр. 357). См. об этом произведении исследование С. К. Шамбинаго «Повести о Мамаевой побоище» (СПб., 1906). Там же публикации текстов.
135 —
шает землю» перед сражением и до него якобы доносится шум, плач женщин — предзнаменования нелегкой русской победы. Явно фольклорный характер имеет картина поединка русского витязя инока Пересвета с выступавшим со стороны монголо-татар печенегом Челубеем. Образы героев гиперболизированы и, возможно, восходят к какой-то исторической песне, сложившейся вскоре после Куликовской битвы. Фольклорной поэтикой навеяны и некоторые сравнения, например, развернутое сравнение русских и монголо-татар соответственно с соколами и журавлями, а затем са львами и овцами. Эти образы были затем использованы Софонием в «Задонщине».
Встречаются в повести и красочные образы природы. Местами заметно влияние житийной литературы: идеализация князя Дмитрия Ивановича, упоминание о чудесном видении, посланном в ночь перед битвой русскому воину Фоме Хобычеву (который после этого стал праведен и чист сердцем).
Куликовская битва описана также в летописных повестях, характеризующихся большей конкретностью и меньшей связью с фольклорными традициями 67.
Особое место среди произведений о Куликовской битве занимает «Задонщина», или «Слово о великом князе Дмитрее Ивановиче и о брате его князе Владимере Андреевиче. Писание Софония старца рязанца» 68.
Эта повесть привлекает к себе внимание как очевидное подражание «Слову о полку Игореве». «Задонщина» Софония — талантливое произведение, но неизмеримо уступает в художественном отношении своему знаменитому прототипу. Однако Софоний подражал «Слову о полку Игореве» творчески. Фольклорные образы иногда используются им оригинально. Он привлекает новые, па сравнению со «Словом о полку Игореве», устно-поэтические обороты и своеобразно включает в ткань повести народные речения. Самобытна и композиция произведения Софония, хотя отдельные части повести насыщены реминисценциями из «Слова о полку Игореве».
Начинается «Задонщина» несколько разбросанно. Упомянув о присутствии великого князя Дмитрия Ивановича вместе с братом Владимиром Андреевичем и воеводами на пиру у Микулы Васильевича (коломенского воеводы), автор кратко говорит о «туге и печали», покрывших русскую землю после сражений на Каяле и на Калке и рассеившихся лишь после Мамаева побоища, и призывает «князей и бояр, и удалых людей»: «Оставимте вся домы своя и богатество, жены и дети и скот, честь и славу мира сего получити, главы свои положити за землю Рускую и за веру христианскую» 69.
67 ПСРЛ, т. V, стр. 237; т. VIII, стр. 34—42; т. IV, ч. I, вып. 1, стр. 310г вып. 2, стр. 325.
68 «Задонщина». М., Гослитиздат, 1947; «Воинские повести Древней Руси»; В. П. Адрианова-Перетц. Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьского. ТОДРЛ, т. V, 1947, стр. 73—96; ее же. Основные задачи изучения древнерусской литературы в исследованиях. ТОДРЛ„ т VI, 1948.
69 «Русские повести XV—XVI вв.», стр. 9.
— 136 —
Затем Софоний сообщает план задуманного им произведения: «от кних приводя», описать горести русской земли, описать горе и славу Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича, поражение («победу», т. е. горе) поганого Мамая и, наконец, воздать хвалу русским князьям.
После такого эклектического и риторичного введения автор,, подобно творцу «Слова о полку Игореве», размышляет, как начать ему изложение событий, и решает о них «поведати по делом и по былинам»70 (примитивно снимая, таким образом, не совсем ясную альтернативу «Слова о полку Игореве»). Дальше приводится характеристика Бояна и его поэтической манеры. Это очень напоминает соответствующие места в «Слове о полку Игореве».
Следующая часть «Задонщины» — похвала «песньми и гусле- ными буйными словесы» князю Дмитрию Ивановичу и князю Владимиру Андреевичу, которые (ср. «Слово о полку») «истезавше ум свой крепостию и поостриша сердца своя мужством и наполнишася ратного духа...»71. Так и в дальнейшем Софоний включает в различные части своего произведения отрывки или прозрачные намеки на «Слово о полку Игореве».
Он просит потом жаворонка, «утеху красных дней», воспеть славу Дмитрию Ивановичу и Владимиру Андреевичу, затем в духе «Слова о полку Игореве» описывает сборы в поход. Софоний дипломатично приписывает новгородцам, стоящим у «Святой Софеи», сожаление: «Уже нам, братие, на пособе великому князю Дмитрию Ивановичу не поспеть». В ряде списков «Задонщины» упомянут и выезд новгородского отряда на помощь москвичам (в летописи нет сведений об участии новгородцев в походе Дмитрия). «То ти не орли слетошася,— продолжает повествователь,— съехалися вси князи руския к великому князю Дмитрию Ивановичу», чтобы постоять «за землю Рускую и за веру крестьянскую»72.
Здесь выступает, конечно, та же тенденция, которая прослеживается впоследствии в московском летописании: стремление примирить межобластные противоречия и объединить русских князей «и удалых людей» для борьбы за усиление Русской земли.
Дмитрий Иванович ободряет русских князей, именуя их «гнездом великого князя Владимира Киевского. Ни в обиди есмя были по рожению ни соколу, ни кречету, ни черному ворону, ни поганому Мамаю» 73 (ср. в «Слове о полку»: «Дремлет в поле Оль- гово хороброе гнездо... Не было оно обиде порождено ни соколу^ ни кречету, ни тебе, черный ворон, поганый половчине!»).
Русские и присоединившиеся к ним литовские князья обращаются друг к другу с призывом «посмотреть быстрого Дону» и не пощадить «живота своего за землю за Русскую и за веру кресть- яньскую» 74. Дмитрий Иванович обращается к Владимиру Андреевичу почти с теми же словами, которые в «Слове о полку» Игорь 70 «Русские повести XV—XVI вв.», стр. 10.
71 Там же.
72 Там же, стр. 10.
73 Там же.
74 Там же, стр. 11.
— 137 —
слышит от Всеволода: «Седлай, брате Ондрей, свои борзые комо- ни, а мои готовы, напреди твоих оседланы» 75.
Для описания движения войск также привлекаются реминисценции из «Слова о полку Игореве»: идут тучи на Русскую землю, «из них выступают кровавые зори, и в них трепещуть синие молнии» и т. д. Даже телеги татар скрипят (ср. скрип половецких телег в «Слове о полку Игореве»).
Вся природа русская встревожена нашествием Мамая. Автор, следуя в основном своему поэтическому образцу, самостоятелен здесь в подборе отдельных образов: «Тогда гуси возгоготаша, а речкы на Мечи лебеди крилы въсплескаша. То ти ни гуси... ни лебеди... но поганый Мамай на Рускую землю пришел а вой своя привел. А уже беды их пасоша птиц а крилати, под облакы лета- ють, вороны часто грають, а галицы своею речью говорить... а лисицы на кости брешут». «Русская земля,— восклицает далее Софоний, явно не понявший слова шелом («холм») в «Слове о полку»,— то ти есть как за Соломоном царем (? — О. О.) побывала» 76 77 (ср. «Слово о полку»: «О Русская земле! Ты уже за шеломянем еси!»).
Соколы и кречеты, вернее, не соколы и кречеты, говорит повествователь, а «богатыри руские удалцы... хотят ударить на многие стады гусиныя и на лебединыя», т. е. на войско Мамая. Это сравнение автора вполне самостоятельно.
Бой изображается в том же духе: «Что ми шумит..?» и т. д. Это князь Владимир Андреевич ведет полки к Дону. Дмитрий Иванович «рече ему» также в духе «Слова о полку Игореве»: «Дружина нам сведома... Пашут бо ся хорюгове, ищут себе чести и славного имени» 11. Таким образом, Софоний довольно умело перефразирует свой образец применительно к новому материалу, в то же время нисколько не скрывая, а, возможно, даже сознательно подчеркивая прием подражания78. Порой он явно не понимает языка «Слова о полку». Из приведенной цитаты видно, что для Софония остался темным смысл выражения «нъ розно ся им хоботы пашут» («Слово о полку», т. е. отдельно развеваются их знамена).
И вот «соколе и кречеты» борзо ударили на «стада гусиные и лебединые». Битва началась. «Возмутишася реки и езера, кликнуло Диво в Русской земли, велит послушати рожным землям». Сражающиеся войска опять сравниваются с синими молниями. Русские булатные мечи гремят «о шеломы хиновскиа».
Не туры убиты, а «посечены князи рускыя и бояры и воеводы» монголо-татарами. Перечисляются имена погибших. Русские витязи Пересвет и Ослябя разговаривают друг с другом и с князем Дмитрием Ивановичем цитатами из «Слова о полку Игореве». На рязанской земле у Дона «ни ратаи, ни пастуси не кличут, но часто вороне грають». Сожалея о погибших русских воинах, «древеса тугою к земли преклонишася».
75 «Русские повести XV—XVI вв.», стр. И.
76 Там же, стр. 11.
77 Там же, стр. 12.
78 См. Д. С. Лихачев. Национальное самосознание Древней Руси. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1945, стр. 76—78.
— 138 —
v В «Задонщине» упоминается о плаче жен убитых военачальников и помещен плач жены коломенского воеводы Марии Дмит-’ риевны: «Доне, Доне, быстрая река, ты пробил еси горы каменные, течеши в землю половецкую, прилелей моего государя ко мне Ми- кулу Васильевича!»79. Подражание знаменитому плачу Ярославны здесь очевидно, но как беспомощно это подражание: бледный, схематичный, сведенный к нескольким словам сколок отрывка поэмы об Игоревом походе! Причем сколок, сделанный механически: какие «горы каменные» пробил Дон (на Днепре были пороги)? Затем Софоний, вновь используя лексику «Слова о полку Игореве». приводит краткие плачи жен других погибших в битве русских военачальников и воинов.
В битве наступает перелом. «Нукнув князь Владимир Андреевич с правыя руки на поганого Мамая с своим князем Волынскым (Боброком) семьюдесятью тысячами». Победа начинает склоняться к русским войскам. Князь Дмитрий произносит воодушевляющую речь. Следуют новые подражания «Слову о полку Игореве».
Монголо-татары побеждены. Их трупы «поля насеяша, а кро- вию потекли рекы». Враги бегут «неготовыми дорогами», зарекаясь приходить на русскую землю, а «жены русские въсплескаша татарским златом» (и далее в духе «Слова о полку»). Подражательно описывается и бегство Мамая («серым волком»). В Кафе, куда он «притече», его спрашивают: «Нешто тебя князи руские гораздо подчивали, ни князей с тобою нет, ни воевод? Нечто гораздо упилися на поле Куликове, на траве ковыли? Побеги, поганый Мамай, и от нас...» 80.
В заключение Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич осматривают поле боя и перечисляют погибших русских воевод и «молодых людей». Дмитрий Иванович произносит над телами убитых прочувствованное слово и уходит «к славному граде Москве».
Так заканчивается «Задонщина». Сделанное нами подробное изложение содержания «Задонщины» с достаточной очевидностью демонстрирует композиционную нестройность этого произведения. Подчеркнуто или простодушно подражая великой поэме XII в., Софоний делал это нс очень умело, часто механически и не понимая сущности образов «Слова о полку Игореве», а иногда и значения употребленных в поэме слов. Автор «Задонщины» не сумел создать в своем произведении того эмоционального напряжения, которое охватывает читателя «Слова о полку Игореве». Он ослабил динамику описываемых событий, расчленив их на ряд неравноценных в художественном отношении эпизодов и интерполировав их сухими сведениями (план изложения материала в начале повести, перечень убитых). В сопоставлении со «Словом о полку Игореве» писание Софония начинает гореть отраженным светом и кажется более значительным, чем представляется без такого сопоставления. Можно отметить лишь самостоятельно найденные автором в фольклоре и воинских повестях сравнения и эпитеты для рассказа о приготовлениях к бою и о самой битве.
79 «Русские повести XV—XVI вв.», стр. 13.
80 Там же, стр. 14.
— 139 —
Монголо-татарское нашествие нанесло тяжелый удар русской литературе, но лучшие ее традиции продолжали жить. Сохранились и летописные традиции Киевской Руси. «Повесть временных лет» стала вступительной частью областных летописных сводов (например, таких известных, как Ипатьевский и Лаврентьевский), а характерные для нее принципы отбора и оценки исторических фактов послужили образцом для летописей XIII—XIV вв.81. В XIV—XV вв. на летописание различных областных центров оказывают все большее влияние идеи государственного объединения всей русской земли. На роль общерусского центра претендуют Москва, Тверь, Новгород. Раньше других объединительные тенденции обнаружили тверские летописцы.
Составленный в Москве в конце XIV в. «Летописец великий русский» еще носит местный характер, хотя и начинается «Повестью временных лет», но в XV в. в Москве создается так называемый летописный свод митрополита Фотия, уже имеющий общерусскую направленность, вобравший в себя областные летописные материалы и переводные сюжеты. Московский автор умело смягчил здесь противоречия между соперничающими княжествами, сохранив в то же время в своем изложении колорит местных материалов. Подобно киевской летописи, свод Фотия (или Великий поли- хрон) 82 содержит и устно-поэтические сюжеты. В нем мелькают имена былинных героев или персонажей, не дошедшие до нас в фольклорной традиции, но, очевидно, ранее известные ей: Раг- дая Удалого, Яна Усмошвеца. Встречаются и знакомые имена: Алеша Попович и Тороп, Добрыня. В своде Фотия высоко оценивается роль народных масс в исторических событиях, что естественно для мировоззрения молодого и прогрессирующего Московского государства. Повесть о нашествии на Москву Тохтамыша,. например, получает здесь новое (по сравнению с более ранним московским — киприановским — сводом) и более правдоподобное толкование: самыми надежными защитниками Москвы от врагов оказываются горожане, простой народ, в частности суконник Адам, убивший своей стрелой «единого татарина нарочита и славна, иже бе сын некоторого князя ординьского» (Новгородская IV летопись) 83.
В XV в. значительную эволюцию испытал ведущий жанр средневековой литературы — агиографический. Авторы житий подчеркивают теперь достоверность сообщаемых ими фактов из биографии святого (сюда входят, разумеется, и чудеса, в реальность которых авторы верят) и ссылаются на сообщения очевидцев событий и друзей героя произведения. В творчестве этих агиографов, мы видим зачатки истории литературы. Однако и стремление к 81 См. Д. С. Лихачев. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 303; Б. Н. Путилов. Литература' конца XIV—XV в. В кн.: «История русской литературы», в 3-х томах, т. I, :тр. 188.
82 Историю его создания см. в кн.: М. Д. Приселков. История русского* летописания XI—XV вв. Изд-во ЛГУ, 1940, стр. 142 и дальше.
83 ПСРЛ, т. IV, стр. 327; т. XXV, стр. 208; Н. К. Гудзий. История древней» русской литературы, стр. 256.
140 —
типизации, к художественному обобщению в житийном жанре получает дальнейшее развитие. Этой цели служит насыщенный синонимами и метафорами многословный патетический стиль. Его родоначальником на Руси явился выходец из Болгарии (где возник такой стиль) митрополит Киприан (ум. в 1406 г.), отредактировавший в новой манере житие московского митрополита Петра 84. Крупнейший агиограф XV в. Епифаний Премудрый (ум. в 1420 г.), наиболее талантливый представитель этой стилистической тенденции, удачно назвал ее «плетением словес» 85.
Вершина творчества Епифания Премудрого — созданное им житие Стефана Пермского 86 — русского миссионера, распространявшего православие среди зырян (пермяков) и немало по тому времени сделавшего для насаждения культуры в этом отдаленном краю. Стефан, хорошо изучивший язык «пермян», составил пермскую «азбуку» — алфавит, т. е. дал зырянам письменность. Прогрессивная сторона деятельности этого энергичного, образованного и мужественного человека совершенно очевидна, несмотря на религиозные формы, в которых она протекала.
Подвиг Стефана, успешно выдержавшего борьбу с пермскими волхвами и враждебно настроенной частью «пермян», не нуждался в приукрашивании и фантастической гиперболизации. Поэтому и в написанном Епифанием житии Стефана отсутствуют традиционные «чудеса», совершаемые святым. Здесь этот прием агио- графов был излишен, зато широкое привлечение примеров из жизни святых отцов из библии, равно как и витиеватый стилистический узор, игра синонимами и метафорами, способствовали созданию атмосферы торжественности, возвышенного тона повествования, героизации деяний Стефана и были, таким образом, оправданы содержанием произведения. Вот наставление коломенского епископа Герасима уходящему к «пермянам» Стефану: «Акы храбрый воин Христов, воборонися во все оружие божественное... облекися в броня правды, прими же и щит веры, и шлем спасения, и меч духовный, еже есть глагол Божий»87. Таким образом, изложение нельзя считать неоправданно растянутым.
Агиограф довольно скупо сообщает факты из жизни Стефана, но это факты, создающие правдивый, земной человеческий образ. Стефан был знаком автору лично: «И своима очима видех иное и с самем беседовах многажды»88,— вспоминает Епифаний. Для Епифания герой жития был прежде всего реальным человеком. Это предопределило яркость и убедительность повествования.
Целеустремленность Стефана подчеркивается указанием на то, что он заблаговременно изучил пермский язык и создал пермскую грамоту: «То у него издавна задумано бяше» 89.
84 См. Н. К. Гудзий. История древней русской литературы, стр. 248—249.
85 См. Л. А. Дмитриев. Нерешенные вопросы происхождения экспрессивно-эмоционального стиля XV в. ТОДРЛ, т. XX, 1964, стр. 72 и далее.
86 «Житие Стефана Пермского». СПб., 1897. О нем см.: Д. С. Лихачев. Человек в литературе Древней Руси. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 80—90.
87 «Житие Стефана», стр. 15.
88 Там же, стр. 2.
89 Там же, стр. 8.
— 141 —
Кульминационный момент повествования — описание «прения волхва», решительного столкновения Стефана с пермским «старцем» Паном сотником. Речь волхва не лишена убедительности и логики: «От Москвы может ли что добро быти нам? Не оттуду ли нам тяжести быша, и дани тяжкие, и насильство, и тивуны, и до- водщицы, и приставницы?» Но пермяне уже на стороне Стефана, и когда волхв трижды (в этой троичности можно видеть вымысел агиографа) отказывается пройти вместе со Стефаном через костер, а затем подо льдом реки, Стефан становится безраздельным духовным вождем пермского населения.
В другом достоверно принадлежащем Епифанию произведении— житии Сергия Радонежского, агиограф раскрывает отчасти свою «творческую лабораторию». Много лет прошло после смерти святого, пишет он, а житие Сергия все не написано. «Я, окаянный, дерзнул на сие» 90 уже через один —два года после его смерти, но это был лишь сбор материалов, подготовительная работа. Епифа- ний отмечает, что он опрашивал «древних старцев», знавших Сергия, т. е. очевидцев 91.
Однако, вероятно, именно благодаря приправленным вымыслом рассказам «старцев», это житие, в отличие от жизнеописания Стефана, изобилует разными «чудесами». Так, мать еще носила Варфоломея (будущего Сергия) во чреве, когда в церкви во время литургии он трижды «возопил». Красочно описывается изумление «жен», повсюду искавших во храме дитя и не веривших, что крик раздался из чрева благочестивой Марии. Затем не менее чудесным оказывается обучение Варфоломея-Сергия грамоте.
Епифаний приводит известную легенду о медведе, приходившем к Сергею за хлебом (подобные эпизоды ранее связывались с именами других святых), и ряд иных чудесных историй. Собственно, житие и представляет собой цепь таких легендарных рассказов.
Все это делает житие Сергия Радонежского менее оригинальным и значительным произведением, чем житие Стефана Пермского, несмотря на долголетний и прилежный труд агиографа. Однако на уровне тогдашней житийной литературы, в частности писаний Пахомия Логофета, и это произведение Епифания представляется явлением незаурядным.
Другим известным агиографом XV в. был выходец из Сербии Пахомий Логофет92. Он написал и переработал много житий (например, житие Сергия Радонежского, написанное Епифанием). Пахомий Логофет некоторое время жил в Новгороде и создал по заказу новгородцев жития Варлаама Хутынского, Иоанна Великого, Евфимия, Моисея. Если Епифаний Премудрый был, несмотря на некоторые оговорки, проводником московских тенденций в агиографии, то Пахомий не обладал такой политической принципиаль-
90 «Памятники древней письменности и искусства», вып. 88. СПб., 1885. стр. 2. См. также: Н. С. Тихонравов. Древние жития преподобного Сергия Радонежского. М., 1916, стр. 3—69. О нем см.: В. О. *Юл ючевский. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871, стр. 98—112.
91 «И оттоле нужда ми бис распытовати и въпрашати древних старцев» («Памятники древней письменности и искусства», вып. 88, стр. 2).
92 См. о нем: В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908.
— 142 —
Житие Сергия и Никона Радонежских, с послесловием Пахомия
Логофета. Пергаменный сб. XV в. Полуустав
ностью. Работая в основном в Москве, Пахомий иногда выезжал •в другие области и выражал соответствующие местные настроения.
Для Пахомия Логофета также характерно «плетение словес», но по сравнению с Епифанием его стиль представляется менее эмоциональным и выразительным. Его художественные приемы довольно примитивны. Он создавал жития, в которых ради восхваления святого жизненные факты подменялись общими местами и вымыслом и щедро описывались различные чудеса. Однако именно этим схематизмом, шаблонностью творческих приемов Пахомия отчасти объясняется его плодовитость.
Занимался, по-видимому, Логофет и летописанием. Ему приписывается создание первоначальной редакции так называемого Русского хронографа (1442 г.93), где в виде отдельных полулегендарных рассказов излагалась всемирная история.
В XV в. возрастает идейно-художественная ценность литературы Новгорода Великого. Ранее, в XIII—XIV вв., новгородское летописание и повествовательные произведения имели в основном местный характер. В XV в. положение изменилось. В этом столетии, когда гегемония Москвы среди русских княжеств сделалась очевидной, литература -Новгорода изменила своей прежней фактичности и деловитости, в ней появился пафос прославления новгородского прошлого и она стала более поэтичной. Новгород вступил с Москвой в запоздалую борьбу за свою самостоятельность. Идейным вдохновителем новгородцев в этой борьбе явился энергичный архиепископ Евфимий — инициатор создания двух важных летописных сводов — Софийского временника и свода 30-х годов XV в.94. Недостатком обоих сводов сравнительно с московским летописанием XIV и XV вв. была их местная, новгородская ориентация (хотя летописцы и делали попытки привлечь общерусский материал). Это в меньшей мере относится ко второму своду, где были помещены общерусские известия из московского свода Фотия. Таким образом, второй новгородский свод XV в. отчасти утратил местный характер. Но он был все же недостаточно мощным идеологическим оружием в борьбе с Москвой, так как опирался на московские же летописные известия и невыгодно отличался от свода ‘Фотия своими ясно выраженными пробоярскими тенденциями и враждебностью к широким слоям населения, презрительно именуемым в нем «голодниками». Подобная антидемократичность характеризовала новгородскую политику не только в области литерату-
93 Первоначальная редакция (1442 г.) до нас не дошла. См. об этом: А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV—XV вв. Л., 1938, стр. 135 и дальше. Текст Русского хронографа середины XV в. см.: ПСРЛ, т. XXII, ч. I.
94 См. А. А. Шахматов. Предисловие к Начальному киевскому своду и Нестерова летопись. ИОРЯС, 1908, т. XIII, кн. 1, стр. 216—217; Н. К- Гудзий. История древней русской литературы, стр. 293; Д. С. Лихачев. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 105. Раньше Лихачев полагал, что Софийский временник был составлен в XII в. («Русские летописи и их культурно-историческое значение», стр. 206 41 443).
— 144 —
ры, но также идеологии в целом. Этим предопределились симпатии народных масс к Москве.
В повествовательной литературе Новгорода второй половины XV в. широко используется легендарный материал. Фантастические сюжеты помогали новгородским писателям окружить прошлое своего города ореолом величия и чудес.
Одно из наиболее талантливых и характерных произведений этого рода — «Слово о великом Иоанне, или повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим» 95. Политическое преобладание Москвы во второй половине XV в. было уже очевидным, и новгородцы стремились поэтому утвердить свое первенство хотя бы в идеологической сфере, т. е., по средневековым понятиям, прежде всего в сфере религиозной деятельности. Этой цели и служило «Слово» об Иоанне, восхвалявшее святость и силу веры «великого» новгородского архиепископа. В повести явно ощутимы мотивы фольклорных и книжных легенд, связанных с этим церковником.
Поимка, заключение беса или духа в сосуд — распространенный в восточной и западной средневековой литературе мотив (ср. также в русской литературе житие Авраамия Ростовского). Поездка на бесе — также «перехожий» мотив. Наказание за нарушение зарока — обычная сказочная ситуация.
После небольшого наставительного вступления, где говорится о нравоучительном значении происшедшего с Иоанном, автор сообщает, что однажды ночью святой услышал какой-то плеск в своем умывальнике. Он догадался, что в сосуд забрался бес, намеревавшийся соблазнить его, и, сотворив крестное знамение, запретил бесу выходить из умывальника. Не вытерпев и часа, бес «нача во- пити», упрашивая Иоанна отпустить его и обещая больше не приходить в келью. Сообразительный Иоанн поставил перед бесом условие освобождения: лукавый должен немедленно отнести Иоанна в Иерусалим ко гробу господню и в эту же ночь вернуться с ним обратно в Новгород. Лишь после этого бес будет отпущен.
Бес вынужден выполнить такое условие. В Иерусалиме перед Иоанном сами открываются церковные двери, зажигаются свечи и паникадила. Затем святой на бесе возвращается к себе в келью и бес в свою очередь предупреждает Иоанна, чтобы последний никому не рассказывал о случившемся, иначе бес опозорит его как развратника.
Иоанн, однако, не удержался и рассказал о происшедшем священникам и верующим. И вскоре народ стал замечать женщин, выходящих из его кельи, а в самой келье находили женскую обувь и одежду. Возмущенные горожане наконец вытолкали Иоанна из монастыря и, посадив на плот, пустили вниз по реке. Так сбылось дьяволово наваждение, и бес радовался.
Но плот, несмотря на сильное течение, никем не управляемый, поплыл вверх по Волхову, а Иоанн на плоту молился об оскорбивших его, жалея их. Люди поняли, что совершили грех, раская- лись и упросили святого вернуться в город.
95 «Памятники старинной русской литературы», вып. 1. СПб., 1860, стр. 245—248.
Ю Очерки русской культуры, ч. 2 145
В «Слове о великом Иоанне» сочетаются, таким образом,, книжно-церковные и фольклорные мотивы. Сказочный мотив неисполнения героем своего обещания нарушает характерную для церковной литературы прямолинейность трактовки персонажа и придает образу Иоанна некоторую живость.
Важной идейной вехой в развитии новгородской литературы XV в. явилась также «Повесть о новгородском белом клобуке» 96. Это произведение, подобно «Слову» об Иоанне, рассказывающее о церковной жизни и построенное на легендарном материале, проводит мысль о прямой связи между древнеримским христианством, византийской патриархией и духовным владыкой Новгорода.
В основе повествования — судьба белого клобука — символа высшей церковной власти, который был некогда возложен императором римским Константином на голову папы Сильвестра. Затем клобук попал в Константинополь, подвергся поношениям со стороны отступников (католиков) и, наконец, после ряда перипетий попадает в Новгород к архиепископу Василию Калике.
Повесть насыщена рассказами о чудесных видениях. Автор ее (вероятно, известный путешественник и дипломат Дмитрий Герасимов) явно стремится подчеркнуть религиозное первенство Новгорода на русской земле.
Новгородской литературе конца XV в. присущ глубокий пессимизм. Авторы обращаются к славному прошлому Новгорода, усиленно вспоминают легенды, возвеличивающие новгородское прошлое и новгородские традиции, но они уже не могут оспаривать политическое превосходство Москвы. Они далеки от своего народа, им не на кого опереться в его массе. Их произведения выражают лишь настроение правящей верхушки новгородской феодальной республики.
Другим популярным произведением новгородской литературы XV в. была повесть о посаднике Щиле (или «сказание о Щилове монастыре»97). Эта повесть интересна тем, что вводит нас в деловую атмосферу средневекового Новгорода. Речь в ней идет о ростовщике Щиле, ссужавшем деньги под большой процент (на рубль деньгу и больше). На приобретенные таким образом деньги посадник Щил основал монастырь, поставил там для начала церковь и упросил архиепископа Иоанна освятить ее, умолчав о том, на какие средства строится церковь. Но вскоре архиепископ, «ведая... богата суща и мздоимца» Щила, усомнился в его честности испросил посадника, на какие средства построена церковь. «Щил же от страха и ужаса паде к ногам святителя и глаголя: согреших, отче!» Иоанн повелел грешнику облачиться в одежду покойника и лечь в гроб. Когда над Щилом зазвучало надгробное пение, он внезапно умер, а гроб провалился в образовавшуюся пропасть. Увидев- это, архиепископ повелел «изуграфам» написать на стене «образ 96 «Памятники старинной русской литературы», вып. 1, стр. 287—303. О повести см.: Н. Н. Р о з о в. Повесть о новгородском белом клобуке. «Ученые записки ЛГУ», серия филологических наук, 1954, вып. 20, № 173, стр. 307—327.
97 «Труды комиссии по древнерусской литературе АН СССР», вып. 1. Л., 1932, стр. 59—151 (исследование И. П. Еремина «Из истории русской повести. Повесть о посаднике Щиле»; здесь же рассматриваемые нами тексты повести).
146 —
Щилов», а сыну Щила, пришедшему к нему за советом, Иоанн сказал, чтобы он сорок дней в сорока церквах служил литургию и заказывал панихиду, а также раздавал милостыню. После этого пришедший в церковь архидиакон «виде щилова гроба наруже немного» (т. е. грешник понемногу освобождался из преисподней). Тогда Иоанн еще несколько раз повторяет свое повеление сыну Щила заказывать службы за отца и раздавать милостыню, пока гроб посадника полностью не подымется из провала, после чего Щила погребают «с великою честью». В другой редакции появившееся ранее на церковной стене изображение Щила, горящего в аду, постепенно выходит из огня.
Идейная установка этой написанной деловым и непритязательным языком повести очевидна: нельзя вводить церковь в обман; в то же время любая деятельность может быть оправдана, если делец не забудет о церкви и отдаст ей причитающуюся долю 98 99. В основе «Сказания о Щилове монастыре» также, по-видимому, лежит фольклорный источник.
Тверская литература намного уступала по своему богатству новгородской. Характерным продуктом борьбы Тверского княжества за общерусское господство явилось «Слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче», написанное в середине XV в. иноком Фомой ".
В этом произведении, всячески превозносящем энергичного и незаурядного князя, деловитый стиль тверского летописания сочетается с пышной витиеватостью «плетения словес». Особенно велеречиво начало «Слова», где повествуется о приглашении Бориса на Флорентийский собор (вместо него во Флоренцию был отправлен один из бояр). Автор называет князя Бориса Александровича «царем» и «самодержавным государем». Он сравнивает его с великими государями прошлого и святыми. Вслед за этим безудержным панегириком инок Фома сообщает о различных событиях, сопровождавших княжение (1426—1461 гг.) Бориса Александровича, о его мужественной и благородной политике по отношению к Москве (он разбил московскую рать, напавшую на его родственника, но поддерживал московского князя Василия в его борьбе с Дмитрием Шемякой).
«Слово» явилось любопытным памятником возвышения Твери в середине XV в< Однако этот взлет был недолгим. В 1485 г. тверские земли были присоединены к Москве. Стимулы для популяризации умершего Бориса Александровича исчезли, и «Слово» дошло до нас в единственном неполном списке.
98 Неубедительно предположение Л. В. Черепнина (см. его книгу «Образование русского централизованного государства в XIV—XVI вв.», стр. 450), что в повести о Щиле содержится призыв к прекращению поджогов церквей. Эта никак не вытекает из содержания повести.
99 «Инока Фомы слово похвальное о благоверном и великом князе Борисе Александровиче». Сообщение Н. П. Лихачева. «Памятники древней письменности», вып. 158. СПб., 1908: Я. Лурье. Роль Твери в создании русского национального государства. «Ученые записки ЛГУ», серия исторических наук, 1939, вып. III, № 36, стр. 85—109; М. Philipp. Ein Anonymus аег Tverer Pub- lizistik im 15. Jahrhundert. «Festschrift fiir Dmytro Cycevskyj; zum 60 Geburtstag»., Berlin, 1954, SS. 230—237.
10*
— 147 —
В XV в. жанр повести в русской литературе изменился. Если в XIII—XIV вв. повести были историческими, являлись образной, взволнованной информацией о борьбе народа с монголо-татарами, то теперь, когда опасность монголо-татарского нашествия практически миновала, создаются повести, в основе которых лежат политические и этические обобщения, создаются вымышленные, типизированные образы. Впервые вводится в повесть образ простого, принадлежащего к низам общества человека, и этот человек поэтизируется. Такова мудрая Феврония в «Повести о Петре и Февронии Муромских». В этой же повести довольно много места уделяется изображению личной жизни героев. Писатели начинают отвлеченно мыслить в образах (отходя от церковного аллегоризма), а не только эмоционально комментировать отдельные события. Произведения насыщаются социальной проблематикой. Важное место занимает в литературе проблема сильной и авторитетной центральной власти. Эта проблема присутствует и в повести о Петре и Февронии, ставится (в полулегендарно-символической ситуации) на первый план в повестях о Вавилоне-граде и о князьях владимирских и философски осмысляется в повести о Дракуле-воеводе. Расширяется круг книжников. По-новому смотрят русские писатели и читатели не только на жизнь своей страны, но и на зарубежную историю. Отсюда возрождение интереса к переводным хроникам и писание хронографов. В повести Нестора Искандера о взятии Царьграда турками живое, взволнованное описание осады не мешает последовательному проведению идеи о переходе византийского могущества к русским государям. Афанасий Никитин, тверской купец, создает «хожение» нового типа — деловые, правдивые записки о путешествии в Индию (а не во Святую землю, как того требовала традиция). В отличие от более ранних новгородских авторов, описывавших Константинополь, Никитина больше всего интересуют в Индии взаимоотношения между людьми. Фантастические описания в его «Хожении»—художественный прием, обычно идущий от местного, индийского фольклора.
Остановимся подробнее на наиболее выдающихся произведениях.
Большое распространение получила упомянутая выше «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 10°, возникшая в Муромо- Рязанском княжестве. В основу произведения, возможно, легли ^некоторые факты из жизни князя Давида и его жены Ефросинии, жняживших в Муроме в XIII в. и в 1547 г. канонизированных в качестве «новых чудотворцев». Поэтому в повести ощутимо некоторое влияние житийного стиля: герои названы «блаженными», а Феврония совершает чудеса. Однако преобладают в повести фольклорные традиции. Ее начало напоминает волшебную сказку о борь- ;бе со змеем.
Сюжет произведения таков. К жене муромского князя Павла ^повадился летать для разврата змей, принимавший перед всеми,
100 См. М. О. Скрипиль. Повесть о Петре и Февронии. ТОДРЛ, т. VII, 1949, стр. 215—256. В этом же томе см. на стр. 131 исследование М. О. Скрипиля <<<Повесть о .Петре и Февронии Муромских» в ее отношении к русской сказке». — 148 —
кроме княгини, образ ее мужа. Княгиня «лестью» выведала у змея,, что смерть ему может приключиться только от «Петрова плеча, от Агрикова меча» 101. Узнав об этом, младший брат Павла Петр понял, что именно он должен убить змея. Некий «отрок» показал ему щель в церковной стене, где лежал Агриков меч, и Петр зарубил этим мечом змея, но на его лицо попали брызги змеевой кровиг и все тело Петра покрылось от того струпьями, ибо в образе змея он убил дьявола.
Во второй, более длинной части повести рассказывается о женитьбе Петра на Февронии, об их совместной жизни и смерти. Тяжело больной Петр едет в рязанскую землю, славящуюся своими лекарями. Там его берется излечить дочь простого «древолазца» (крестьянина, занимающегося бортничеством — собиранием меда» диких пчел) мудрая Феврония. Она поражает княжеского слугу и самого Петра своими хитроумными ответами и требует в качестве платы за лечение князя его руки. Здесь мы вновь сталкиваемся со сказочными мотивами: девица, разгадывающая загадки и с помощью своей мудрости завоевывающая мужа. Петр притворно соглашается стать ее мужем, но, чудесно излеченный Февронией, отказывается взять в жены крестьянку. Тогда болезнь снова усиливается и вынуждает Петра выполнить свое обещание. Он излечивается, а Феврония становится его супругой.
Вскоре умер Павел, и Петр начал вместо него княжить в Муроме. Муромские бояре не взлюбили Февронию за ее крестьянское происхождение и сообщили Петру, что она, выходя из-за стола, собирает в руку крошки, «как голодная». Петр захотел убедиться сам в этом и разжал руку Февронии, но вместо хлебных крошек увидел «ладан добровонный и фимиам в руку ее, и от того дни остави ю к тому не искушати». Однако бояре продолжали злобствовать и потребовали удаления Февронии. Она согласилась уйти в изгнание, если ей позволят сделать то, о чем она попросит. Бояре согласились, и Феврония попросила, чтобы с ней ушел и ее муж Петр. Вместе с ним Феврония отправилась на судне по Оке. В пути Феврония вновь проявляет мудрость и совершает чудо: по ее молитве сухие ветки превращаются в покрытые листвой деревья.
Перессорившиеся между собой в борьбе за власть муромские бояре упрашивают Петра и Февронию вернуться в их город и править ими. Петр и Феврония возвращаются и управляют Муромом с правдой и с кротостью.
Перед смертью они принимают монашество и велят похоронить их в одном разделенном перегородкой каменном гробу. Умереть они решили в одно время. Когда Феврония вышивала церковное покрывало, Петр прислал сказать ей, что умирает. Феврония попросила передать Петру ее просьбу подождать, пока она закончит вышивание. Петр ждал некоторое время, а затем снова прислал к ней сказать: «Уже хощу преставитися и не жду тебе». Тогда Феврония аккуратно воткнула иглу с ниткой в недошитое покрывало и сообщила брату Давиду (Петру), что готова умереть вместе с ним.
101 Ср. соответствующие сказочные эпизоды с Кощеем Бессмертным.
— 149 —
После их смерти втайне злобствовавшие бояре не захотели выполнить их повеление о похоронах в одном гробу и положили тела в разные гробы, стоявшие в отдаленных друг от друга церквах, но чудесным образом тела покойных наутро очутились в одном гробу. Новая попытка разлучить умерших закончилась тем же. После этого бояре не осмелились больше прикоснуться к усопшим и похоронили их в одной гробнице. И тот, кто приходил к этой гробнице с верой, непременно исцелялся.
Фольклорная основа этой повести не вызывает сомнений у исследователей 102. Однако важно понять, как использована эта основа. Неизвестному автору удалось создать образ целеустремленной и мудрой женщины, наголову превосходящей по своим внутренним качествам нерешительного и непоследовательного супруга, которого она в сущности сама нашла для себя. В этой поэтизации сильного и самобытного женского ума и характера заключается этическая идея повести. Феврония женит на себе Петра принудительно, но выигрывает от этого в конечном счете сам Петр, приобретший в лице жены незаменимого друга и мудрого советчика. Вряд ли справедливо утверждение некоторых исследователей 103, что в повести воспевается могущество любви. Речь идет здесь скорее о вынужденном (со стороны Петра) и предопределенном свыше союзе. Точно так же и в волшебных сказках, повлиявших на повесть, нет изображения любви, а рисуется предопределенный брачный союз героя и героини, необходимый для создания семьи — основы общества.
Не менее важна и политическая идея повести о Петре и Февро- нии — идея о необходимости сильной княжеской власти. Эта идея с большим мастерством органически вплетена в полусказочное повествование.
Во всех христианских и особенно православных странах огром* ное впечатление произвело падение Константинополя, взятого в 1453 г. войсками турецкого султана Магомета II. Особенно остро это событие было воспринято в Русском государстве. Теперь, по представлениям русских государственных и церковных деятелей, они стали законными непосредственными преемниками «второго Рима» — Царьграда — Константинополя. «Москва — третий Рим, а четвертому Риму не бывать!» — так суммирует эти идеи в начале XVI в. старец Филофей в своем послании Василию III 104.
Неудивителен поэтому интерес русского общества того времени к истории Византии и подробностям падения ее «седьмохолмой» столицы. Этот интерес удовлетворяла «Повесть о Царьграде» Нестора Искандера 105.
102 См. упомянутое исследование М. О. Скрипиля, а также: С. В. С а в чен- к о. Русская народная сказка. Киев, 1914, стр. 44—46.
103 См. Д. С. Лихачев. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого, стр. 82; Н. К. Гудзи й. История древней русской литературы, стр. 286.
104 См. В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901 («Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бысти»).
105 «Памятники древней письменности и искусства», вып. 62. СПб., 1886; «Русские повести XV—XVI вв.», стр. 55—78. См. исследования: Н. А. Смирнов. Историческое значение русской «повести» Нестора Искандера о взятии турками
— 150 —
В основу произведения, по-видимому, лег дневник, который вел во время осады и взятия города отуреченный русский Нестор Искандер (т. е. Александр). В глубине души он горячо сочувствовал осажденным и ясно сознавал размеры происходившей на его глазах исторической трагедии — гибели великого города, центра мировой культуры, под натиском варваров. О себе автор коротко сообщает в конце повести, что он «измлада быв взят и обрезан, много времени пострадах в разных хождениях, укрываяся семо и ■овамо, да не умру в окаянной сей вере. Так и ныне в сем великом и страшном деле, ухитрялся овогда болезнью, овогда скрыванием, овогда же совещанием приятелей своих, уловляя время дозрением и испытанием великим, писах каждый день творимая деяния вне града от турков. И пакы, егда попущением божиим внидохом во град, испытах и собрах от достоверных и великих мужей вся творимая деяния во граде противу безверных и вкратце их изложих и христианом предах...» 106.
Описанию осады предшествует заимствованный из легенд рассказ об основании Царьграда (в IV в.) римским императором Константином. Место для основания города было указано императору в вещем сне. Строители города были свидетелями необычайного знамения: орел, схватив змея и борясь с ним, поднялся в небо, но, побежденный, упал. Люди убили змея и освободили орла. Мудрецы, созванные Константином, чтобы истолковать знамение, объявляют, что орел символизирует христианство и создаваемый город, а змей воплощает в себе безбожие, басурманство. Христианство, т. е. Византия, достигнет высот славы, но затем падет под ударами неверных, которые, однако, потом опять будут побеждены христианами.
Эта легендарная предыстория Царьграда придает второй части повести — описанию осады и взятия города — символический смысл. С горечью рассказав о торжестве «беззаконного» Магомета, автор приводит затем предсказание Льва Премудрого о том, что «русии же род с прежде создательными измаильта победят и Седмохолмого (т. е. Константинополь.— О. О.) приимут с прежде законными его и в нем воцарятся и судержат Седмохолмого русы, язык шестый и пятый» 107. Русские читатели охотно разумели под «русым родом» русский род, или народ, которому предопределено в будущем освободить Константинополь от басурман.
Таким образом, вся повесть проникнута, вполне определенной, актуальной в XV в. политической идеей. Наиболее интересной и значительной в художественном отношении частью произведения являются эпизоды, посвященные сражению под стенами города. Хотя Нестор, как и другие средневековые авторы, пользуется общими местами, принятыми в воинских повестях, тем не менее многие
Константинополя в 1453'г. «Византийский временник», т. VII, 1953, стр. 50—71; Л. В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV— XVI вв., стр. 882—887; В. Unbegaun. Les relations vieux-russes de la prise de Constantinople. «Revue des etudes slaves», 1929, t. IX, n° 1—2, pp. 13—38.
106 «Русские повести XV—XVI вв.», стр. 78.
107 Там же, стр. 77.
— 151
сцены, несомненно, наблюдались им на поле сражения, и он хоро^- шо знает воинское дело. Подробно рассказывается, например, как турки разрушали городскую стену выстрелами из огромной пушки и как полководец Зустеней, защищавший город, метким выстрелом вывел эту пушку из строя. Описывая страшную сечу во время штурма, автор не может удержаться от замечания, что никакой язык не в состоянии правдиво передать эту картину.
Византийские полководцы и император Константин мужественно гибнут в бою, и сам султан Магомет целует голову мертвого цезаря и воздает почести погибшим.
Мастерски написанная и проникнутая волнением очевидца,, повесть о взятии Царьграда воспринималась как призыв к продолжению традиций византийской государственности и церковности.
Широко известное «Хожениё за три моря» 108 тверского купца Афанасия Никитина знаменательно во многих отношениях. Житель Твери создал произведение не местной, а общерусской ориентации. Тверское происхождение автора нигде не дает себя знать. В его* «Хожении», рассказывающем отнюдь не о религиозном паломничестве «ко святым местам», а о деловой поездке в огромную незнакомую страну, царит дух терпимости и определенного интернационализма. Сам факт создания путевых записок купцом, сознающим национальное значение своей миссии, весьма типичен для второй половины XV в., когда купечество уже играло заметную роль на Руси. Сугубо практические цели, с которыми Афанасий отправился вместе с группой других купцов в Персию и волей обстоятельств попал в Индию, не мешают проникновению в его путевые записки- поэтических образов. Часть их навеяна индийским фольклором.
Путешествие Никитина продолжалось с 1466 по 1472 г., когда на обратном пути в Тверь он заболел и умер недалеко от Смоленска. Его «Хожение» было доставлено в Москву и внесено в летопись. Очевидно, московское правительство знало об этом произведении и ценило его.
Афанасий Никитин был назначен «головой» отправившегося в Персию купеческого каравана. Можно предполагать, что к этому времени у него был опыт торговых путешествий. Ездил он, судя по- упоминаниям в его «Хожении», в Валахию и Подолию, может быть, и в Константинополь 109. Афанасий Никитин был, по-видимому, человеком начитанным и любившим книги. Он горько сожалел о том, что на захваченном татарами в устье Волги корабле остались его книги. Но в «Хожении» не чувствуются литературные традиции и почти нет цитат из библии. Язык этого произведения очень близок к разговорному и лаконичен.
Главное внимание путешественник уделяет Индии. Это естественно, Огромная экзотическая страна должна была увлечь воображение наблюдательного и общительного Афанасия (он повсюду 108 «Хожение за три моря Афанасия Никитина, 1466—1472», изд. 2. М.—Л.к Изд-во АН СССР, 1958. См. здесь же статью В. П. Андриановой-Перетц «Афанасий Никитин — путешественник-писатель» (стр. 117).
109 Предположение Н. В. Водовозова («История древней русской литературы», стр. 195).
152 —
заводил знакомых и успел основательно изучить ряд языков, чта видно из разбросанных в «Хожении» арабских, персидских и тюрк- ских фраз).
Переехав через Персидский залив, Никитин начал свое странствие с юго-западного побережья Индии. Высадившись в городе Чауле, он отправился затем в глубь страны, на восток через «Индейские горы» (Декан) в большой город Жуннар, где прожил два месяца, а затем остановился в столице Бахманийского государства Бидаре, совершая поездки в окрестные города. Никитин подробна описывает индийский климат, непривычную для русского человека зиму, когда «всюду вода да грязь», сообщает полуфантастические сведения об индийских животных и птицах, но больше всего присматривается к общественной жизни, удивляется резкому контрасту между бедностью и богатством вельмож. Необычайная пышность бахманийского двора поразила Афанасия, и для рассказа о праздничном выезде султана он находит простодушно фольклорные гиперболы, придающие, однако, изложению большую красочность.
Никитин не достиг успеха в торговых делах и порой подвергался смертельной опасности, но успел познакомиться с кастовыми различиями и религиями Индии и побывать в священном городе Парвате. Афанасий Никитин стойко держался православной веры, ставшей для него на чужбине символом родины, но, рассуждая о религиях вообще, он обнаруживает крайнюю широту взглядов: «А правую веру бог ведает».
Обратный путь через Персию и Турцию, воевавших в ту пору между собой, был нелегок. Афанасий снова потерял все имущества и, таким образом, не вывез на Русь никаких материальных ценностей. Тем не менее, забыв о коммерческих неудачах, он бережна сохранил свое «Хожение», справедливо считая его самым важным результатом «путешествия за три моря» (Каспийское, Персидский залив и Черное).
«Хожение за три моря» — яркое, разностороннее и достаточна точное описание Индии XV в. Афанасий Никитин — первый европеец, посетивший Индию за несколько лет до Васко да Гамы, принесшего этой стране кровь и ужас.
Проблема сильной центральной власти, назревшая в XV в., способствовала переводу и распространению на Руси среднеевропейского повествовательного сюжета о Дракуле-воеводе. Это произведение, представляющее собой цепь анекдотов из жизни беспощадного, «грозного» государя, прообразом которого явился валашский воевода середины XV в. Влад Цепеш ио. Автор произведения не установлен. Большинство исследователей склоняется к мысли, что им был дьяк Федор Курицын 11 *, посетивший Валахию. 110 111
110 Цепеш — по-румынски «сажатель на кол», отсюда постоянные упоминания в повести об этой казни.
111 «Повесть о Дракуле». Исследование и подготовка текстов Я. С. Лурье. М.—Л., «Наука», 1964, стр. 53 (далее цитаты из повести приводятся по этой книге).
153 —
Композиция «Сказания о Дракуле воеводе» 112 не сложна. В центре внимания повествователя образ Дракулы, т. е. Дьявола, как многозначительно поясняется читателю. Все события подчинены задаче раскрытия этого главного образа, другие персонажи имеют откровенно вспомогательное значение.
Злодейство — неотъемлемая черта Дракулы. Именно описанию его жестокостей посвящено большинство эпизодов повести. Однако, хотя Дракула «житием злосерд, и яр, и немилостив, и не пощадлив ни х кому ж, казнитель злы, скор к смерти», в ряде случаев он обнаруживает остроумие и умение быть справедливым. Автор повести, в целом неодобрительно относясь к «злосердству» Дракулы, тем не менее с удовлетворением рассказывает о его находчивости и часто готов даже примириться с его жестокостью (которая, вероятно, представлялась позволительной для умного самодержца).
Первый эпизод повести — приход к Дракуле турецких послов. По своему обычаю они не сняли перед ним шапок. «Великий царь», разгневанный этим, велел прибить шапки гвоздями к головам послов и таким образом «подтвердить» их обычай.
В ответ «турский царь... поиде с великою силою и войском на Дракула царя» 113. Последний должен был отступить и стал «смот- рети войска своего»: кто ранен спереди — тех он «учинял» витязями, а кто «в тыл ранен» — были посажены на кол. Турецкий царь, прослышав о таком суде Дракулы, устрашился и «поиде прочь с великою срамотою».
Затем Дракула изъявил желание поступить на службу к турецкому царю. Турецкий царь распорядился повсюду встречать Дракулу с почетом. Дракула с войском пять дней шел по турецкой земле, а затем неожиданно повернул обратно, разрушая турецкие города и сажая на кол турок, а христиан забирая с собой. При этом он со зловещей издевкой передает турецкому царю: «Сколько Дракул царь мог, только и послужил; а будет впредь турскому царю годна... моя служба, и аз еще ему хощу так же служите»114.
Эти три эпизода объединены общей сюжетной линией и логически связаны. Затем следуют органически не объединенные между собой анекдоты. Дракула собирает всех нищих и немощных, угощает их досыта и обещает им освобождение от всех печалей. Выполняя свое обещание, он запирает их в «великой храмине» и сжигает живьем. Боярам Дракула так объяснил свой поступок: «Первое, да не докучают людем; другое, да никто же нищ будет в моем царстве, но вси богати; третие, освободи их, да не страждет никто же от них на сем свете от нищеты и от недугов» 115.
112 Об этом произведении см.: А. Яцимирский. Повесть о мутьянском воеводе Дракуле. ИОРЯС, 1897, т. II, кн. 4; А. Д. Седельников. Литературная история повестей о Дракуле. ИОРЯС, 1929, т. II, кн. 2; Е. М. Двойченко- Маркова. Из истории русско-румынских культурных связей XVI века (в сб. «Древнерусская, литература и ее связи с новым временем». М., «Наука», 1967; J. Bogdan. Vlad Jepe$ si пагарипПе germant $i ruse^ti asupra lui. Bucure^ti, 1896, pp. 119—120.
113 «Повесть о Дракуле», стр. 179.
114 Там же, стр. 180.
115 Там же, стр. 181.
— 154 —
Повесть о Дракуле, мутьянском воеводе. Пергаменный XV—XVI вв. Полуустав
со.
В другом эпизоде рассказывается, как Дракула сажает на кол неучтивых послов, а затем о жестокой расправе Дракулы с неверными женами его подданных, о казни ленивой жены, о том, как Дракула посадил на кол своего слугу, не вытерпевшего смрада от разлагавшихся на кольях трупов, сказав, что так слуга будет повыше и не почувствует этого запаха. В другом эпизоде речь идет о двух монахах-странниках, из которых один назвал казненных Дракулой мучениками, а другой одобрил казни. Первый был немедленно посажен Дракулой на кол (чтобы он стал таким же мучеником, как те, кого он жалел), а второй отпущен с наградой.
В повести содержится еще ряд подобных анекдотов, где жестокость Дракулы сочетается со своеобразной справедливостью его решений. Завершается повесть (в некоторых вариантах) рассказом о пленении Дракулы «кралем угорским Матьяшем». Дракула брошен в темницу, но и в тюрьме он не изменяет своего характера, мучая и сажая на кол птиц и мышей. Купив, наконец, освобождение- ценой принятия «латинской веры» (о чем автор явно сожалеет), Дракула возвращается в свою землю и одерживает победу над турками, но гибнет от руки своего же воина, принявшего его за турка.
Характер Дракулы Цепеша не однолинеен. При всей своей жестокости и цинизме он, как отмечалось, порой вызывает сочувствие к себе. В его поступках всегда что-то оправдано. Казня послов и людей, недовольных его действиями, он утверждает незыблемость своей власти, ставит ее вне критики, хотя и подавляет эту критику примитивным способом — «грозой». Защита самодержавной власти, ее непререкаемого авторитета — вот основная идея произведения. Только подобная власть может установить порядок в государстве: уничтожить воровство и разбой, сократить число нерадивых и несчастных, укрепить семью 116, создать сильное войско. Это и оправдывает жестокость самодержавного правителя. Автор еще не знает иного способа утверждения авторитета правителя, кроме страха.
Характерный художественный прием повести о Дракуле — зло- веще-ироническое толкование и реализация отвлеченных понятий. Турецкие послы отказываются снять шляпы, ссылаясь на свой обычай,— Дракула приказывает прибить шляпы к их головам, чтобы подкрепить этот обычай; турецкому царю он «служит», разоряя его города; нищих он делает беспечальными, сжигая их. Для стиля повести типичны также афористичность и умелое использование художественных деталей. Многие из анекдотов, составляющих произведение, заканчиваются назидательными максимами. Золотая чаша около источника, которую никто не решался украсть, опасаясь наказания,— хорошо символизирует атмосферу ужаса и насильственного порядка, царящего в государстве Дракулы.
Повесть о Дракуле основана на фольклорном материале. Она свидетельствует о том, что уже в XV в. поэтика анекдота была близка к современной, хотя героем анекдота непременно являлся 116 Этот вопрос был актуален для XV в. См. Д. С. Лихачев. Культ у раз Руси времени Андрея Рублева, стр. 154—155.
156 —
^ще известный исторический персонаж, а не вымышленное лицо. Некоторые из этих анекдотов имеют бродячий сюжет (расправа тирана с мастерами для сохранения в тайне их работы, прибивание гвоздями шляпы к голове, расправа с нищими и т. д. 117). Отвлеченные понятия часто выражаются в форме загадки и ее разрешения.
Однако в произведении заметны и книжные вкрапления. Это в основном нравоучительные сентенции о пользе сильной власти. Например, «латынский мних», одобряя совершенные Дракулой казни, говорит: «Ты, государю, от бога послан еси, и власти от бога дан бысть, лиха творящих казнити, а добро творящих мало- вати. А те лихо творили, и по своим делом и восприяли» 118.
Повесть о Дракуле получила широкое распространение в XVI в., когда тема самодержавной власти стала особенно острой в связи с политикой Ивана IV. Противники царя стремились придать этому произведению характер осуждения царской суровости, а сторонники — характер оправдания этой суровости. Повесть допускала такие противоположные трактовки благодаря противоречивости поступков главного героя. Двойственность, неопределенность его характера, вероятно, идет от фольклора, где встречаются подобные образы 119.
Это произведение как бы перекидывает мостик от литературы XV в. к насыщенной политическими страстями публицистике XVI в.
Итак, литература XIII—XV вв. неуклонно шла по пути утверждения идеи общерусского единства, патриотической идеи. Этот идейный пафос, возникнув еще в домонгольский период («Слово о полку Игореве»), усилился в тяжелые годы монголотатарского нашествия, потребовавшие напряжения сил всего народа и пробудившие в нем интерес и любовь к своей культуре, к своей стране. В конце XIV—XV вв. тема монголо-татарского нашествия, доминировавшая ранее, отступает на задний план. Ее сменяет тематическое разнообразие литературы нового типа, выражающей интересы складывающегося общерусского (Московского) государства.
Для писателей этого времени характерна многосторонность, стремление к выработке новых литературных стилей, к обновлению жанров и к созданию новых жанровых форм. Иной вид принимает типичная для всего средневековья связь литературы с фольклором. Мотивы и образы последнего не механически, как раньше, вводятся в литературу (ср. фольклорные вставки в летописях киевской поры), а органически усваиваются литературным стилем, оказывают влияние на композицию и на трактовку характеров (повесть о Петре и Февронии); возникает интерес и к психологическому раскрытию образов.
117 «Повесть о Дракуле», стр. 65—66.
118 Там же, стр. 130 (Забелинская редакция).
119 См. Д. С. Лихачев. Человек в литературе Древней Руси, стр. 32.
Просвещение
Б. А. РЫБАКОВ
Тяжелая пора монголо-та- гарского ига сказывалась на всех сферах русской культуры, в том числе на распространении знаний и .просвещения. Затихла жизнь многих русских городов, ослабели связи между областями, надолго прекратились оживленные сношения с далекими землями. Только северные города — Новгород и Псков, не испытавшие постоянного~страха вражеских набегов, жили более или менее нормально, и здесь рубеж между домонгольской эпохой и эпохой монголо-татарского ига ощущался меньше, чем в южных частях Руси. Но повсеместно взоры русских людей постоянно обращались к .величественному прошлому Киевской Руси; в деревнях сказители пели былины о князе Владимире, о борьбе с Идолищем Поганым; в городах бережно и любовно, не меняя «тычки единой», переписывали «Повесть временных лет» и позднейшие летописные своды. Переписчики тщательно вглядывались в «вет- шаные книги» и .просили читателей извинить им их невольные ошибки. Во всем чувствуется желание сохранить живую связь с историей свободной, непорабощенной родины, воскресить, хотя бы на перга* — 158 —
мене, ее единство, найти утешение в ее былом могуществе. В истории средневекового знания и просвещения нередко на первое место выдвигают церковь, забывая о том, что нужно учитывать несравненно более широкий круг людей и разные сферы развития просвещения со всем своеобразием каждой из них. Своими путями шло распространение знаний и грамотности в бесписьменной русской деревне или в шумном торговом городе; особые черты придавала просвещению феодальная административная деятельность,, требовавшая учета; по-своему развивалось просвещение при кня^ жеских дворах или же в далеких лесных монастырях.
* *i *
Умственная жизнь русской средневековой деревни в очень малой степени отразилась в дошедшей до нас литературе, но не подлежит никакому сомнению, что деревня обладала большим запасом разнородных знаний, передававшихся от одного поколения к другому.
Старики передавали молодым названия животных, птиц, насекомых, растений, тысячелетний опыт наблюдений над природой а облике афористических сельскохозяйственных примет. Если старый языческий славянский год был поделен на месяцы с хозяйствен^ ными названиями («сечень», «березозол», «серпень»), то с принятием христианства устанавливается новый, синкретический календарь, в котором полуязычником-полухристианином — русским крестьянином — отмечены важнейшие хозяйственные сроки: срок пахоты, ярового и озимого сева, жатвы, обмолота. Народная мудрость пыталась проникнуть в тайны природы и уловить какую-то закономерность, установить связь между различными явлениями; людям деревни нужно было знать заранее, каков будет урожай. Так создались десятки примет, прикрепленных к именам новых христианских святых. Вот некоторые приметы, выработанные, практикой 'Северо-Восточной Руси:
«Какова Аксинья (24 января), такова и весна»; «На сретенье (2 февраля)—снежок, весной—дождек»; «На святого Пуда (1'5 апреля) вынимай пчел из-под спуда»; «Егорий (23 апреля) с росой — Никола ('9 мая) с травой»; «Егорий с теплом — Никола с кормом»; «<Май холодный — год хлебородный»; «На Арину (5 мая) — худая трава из поля вон».
Некоторые приметы попадали на страницы монастырских сборников еще в XV в.: «Егда громъ приидет от востока, то всяка- го обилия много. Аще придетъ <в полудни, жита мало будетъ а ов- цемъ гибель. Аще придетъ с полунощи, вина и вещы много будетъ, то лето северно будетъ. Аще придетъ громъ з заподу, то лето будетъ сухо, дождя не будетъ» L
На четырехгранных деревянных бирках зарубками размечались дни, недели, месяцы и крестами, звездами и разными изображениями отмечались важнейшие рубежи внутри года. Такие
1 В. Н. Перетц. Материалы к истории апокрифа и легенды. СПб., 1889, стр. 42.
— 159 —
'бирки еще в XVIII—XIX вв. применялись в качестве календарей на русском Севере2.
Возможно, что не все знания в равной мере передавались всему молодому поколению. Так, например, знание корней и «зелий волшебных» — лекарственных трав, -сроков их сбора, -метода обработки и применения — было, очевидно, секретом особых знахарок, ведуний, чаровниц, соединявших медицинские познания с шарлатанскими магическими обрядами.
В воспитании детей огромная роль принадлежала играм и фольклору. Такие игры, как лапта, бабки, городки, вероятно, возникли в -глубокой древности, так .как сохранили единые правила, а подчас и терминологию на широкой территории. Они развивали у детей ловкость, меткость, быстроту и в то же время приучали к простейшему счету.
Несомненно, что большое педагогическое значение придавалось в древности загадкам, приучавшим детей и молодых людей к сопоставлениям, аллегориям и требовавшим быстрой сообразительности, а нередко и разносторонних знаний.
Во всех русских сказках герой отгадывает трудные загадки, обнаруживая понимание сложных иносказаний. Многие загадки попали в средневековую письменность или просто были записаны как образцы народной мудрости. Так, например, в упомянутом уже сборнике Кириллово-Белозерского монастыря XV в. записана такая загадка:
«Въпрос. Кый пророкъ двою родился? То — кур; Первое — курица яйце снесла; Из яйца второе вылупился, то есть родился. А пророк есть — свет поведаеть людям рано».
В систему образования входило и знание пословиц и поговорок, народных афоризмов, воспитывавших молодое поколение и вооружавших его отточенной народной мудростью. i
Пословицы и поговорки представляли собой и кодекс -морали и правила общежития и наставления жизненной мудрости, запоминавшиеся благодаря своей форме на всю жизнь.
Некоторые поговорки были уже давно записаны в книги (например, в Изборнике 1073 г.: «Оже ти собе не любо, то того и другу не твори»), другие постепенно .проникали в известные литературные произведения, которые при их переписывании обогащались все новыми и новыми поговорками, проникавшими сюда из народного жизненного обихода: «Лучше бы ми железо варити, нежели со злою женою быти», «Солгал еси, аки пес»3. О пьяном человеке народные поговорки XV в. отзываются так: «Недостатки у него 2 См. И. И. Срезневский. Очерк развития христианского календаря. Северный резной календарь, его внешний вид и устройство. В кн.: «Труды II Археологического съезда», вып. I. СПб., 1876.
3 «Слово Даниила Заточника» по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. «Памятники древнерусской литературы», вып. 3. Л., 1932, стр. 69.
— 160 —
дома седять, а раны у него по плечам лежать», «Пьянство брата с братом сваживает», «Кому горе на горе — пьянице»4.
Велика была и роль сказок в формировании -мировоззрения тогдашней молодежи. Сказки приучали преодолевать препятствия, неуклонно стремиться к цели. Правда, в них многое подчинено еще языческому ритуалу; герои сказок лишь в том случае достигают желанного, если они неукоснительно выполняют все предписания этого ритуала, подчиняются всезнающим ведунам и задабривают встречающиеся на пути злые силы.
Но наряду с этим в сказках содержится и много таких элементов, которые поддерживали бодрость и надежду на лучшие времена в суровую пору монголо-татарского ига. Главным героем русских сказок является незаметный, скромный, отодвинутый далеко на задний план младший сын старого крестьянина — Иванушка. Над ним смеются, им помыкают, ему не доверяют -важных дел; старшие — умные, красивые, удачливые, гордые — отводят Ивану, забитому неудачнику, самый тяжелый жизненный удел — черновую работу на других. Но вот начинается соревнование, кажущееся в начале неравным, и тут чудесные волшебные силы оказываются на стороне скромного Ивана: он разгадывает самые мудреные загадки, строит царский терем в одну ночь, добывает жар-птицу, приносит с края земли живую воду. Ему помогают звери, муравьи, птицы, мудрый конь, неизвестные люди, калики перехожие, девушки- чернавушки; он бесстрашно борется с могущественными силами зла и состоящими у них на службе жестокими, по глупыми чудищами и неизменно побеждает, великодушно прощая своих заносчивых соперников. Сказочный образ Иванушки-дурачка, превращающегося в красавца-царевича, должен был в свое время так же •обнадеживать и успокаивать простых, «черных людей», как впоследствии действовала психологически тонкая андерсеновская сказка о «гадком утенке».
Русская деревня XIII—XV вв. повсеместно сохраняла драгоценное сокровище эпической поэзии X—XI вв. Былины киевского, Владимирова цикла были своеобразным устным учебником родной истории. От поколения к поколению переходили величественные торжественные песни о строительстве первого русского государства, о борьбе с лесными разбойниками, о степных заставах богатырских, о пирах и думах любимого народом князя — Красного Солнышка, об отважных схватках с половецкими ханами, с Тугарином Змеевичем, с Идолищем Поганым. В глухих замосковных лесах из былин узнавали о Киеве, о Чернигове — городах горделивой русской державы, о степном раздолье, о прохладных струях синего -моря, о Царьграде и сказочных дворцах богатого царства Индийского. То, о чем горожанам и обитателям замков повествовала древняя летопись, жителям русской деревни рассказывали былины, сохранившие на протяжении целой тысячи лет и имена реальных русских людей '(князь Владимир, Добрыня, Садко, Олег Святославич, князь Роман и др.), и имена врагов Руси (Шару- кан, Тугоркан, Кончак, Батый). Народ сам отобрал из всего эпи4 «Памятники древнерусской литературы», вып. 3, стр. 118.
11 Очерки русской культуры, ч. 2 - 161 —
ческого богатства то важнейшее, что считал нужным бережно хранить и передавать по наследству молодым поколениям в память о прошлом, в утешение в настоящем.
'Связь деревенских общин — «миров» с внешним миром была еще очень слаба. Редко навещали деревню купцы или скоморохи» которые могли порассказать о чужих краях, о том, что делается за пределами близлежащих микроскопических раздробленных княжеств — «в тридевятом царстве, в тридевятом государстве».
Грамотность в деревне еще только появлялась. Достоверных эпиграфических данных для этого нет, но на некоторых женских височных кольцах XIII—XIV вв. из подмосковных курганов встречается орнамент, копирующий книжные инициалы — например» буква О на кольце из кургана в Беседах5.
Вероятно, грамотность охватывала прежде всего сельских старост, сельских попов, живших в деревне военных слуг феодала. Училища <в селах упоминаются в житиях Александра Свирепого» Зосимы Соловецкого6.
Книжное просвещение еще не проникало в средневековую деревню, но у русского крестьянства того времени существовала своя культура, свое просвещение, свой опыт и навыки, создававшие устойчивую основу общерусской культуры.
* *, * |
Просвещение в городах и вотчинных замках основывалось в? значительной мере на книгах, па письменности, на грамотности 7. Конечно, и на Руси, как и в других странах средневекового мира, многие феодалы, попы и даже князья были неграмотными или «еле брели по грамоте», или книгам были не зело обучены, но все же потребности управления, дипломатии, торговли и богослужения вызывали необходимость грамотности, знания книжной премудрости. Грамотностью стали даже злоупотреблять, покрывая надписями различного содержания оштукатуренные стены церквей. Здесь встречаются и насмешки над соседями, и обращения к богу» и записи древних туристов, и карикатуры, и даже нецензурные стихи и ругательства. Церковники, не доверяя княжьему суду, сами судили тех, кто «на стенах режут ... или что неподобно в церкви подееть»8.
Идеальные биографии с точки зрения русских людей XIV— XV вв. — жития святых — рассказывают нам, что герои этих житий, будущие 'святые, начинали обучаться грамоте в возрасте 7 лет9. Нередко упоминаются и училища для детей и учителя- «книжники». В миниатюрах жития Сергия Радонежского есть изображение древнерусской школы.
5 См. А. В. Арциховский. Царицынские курганы. МИА, № 7, 1947» стр. 81.
6 См. Д. С. Лихачев. Культура Руси эпохи образования русского национального государства. Л., Госполитиздат, 1946, стр. 50.
7 См. М. И. С у х о м л и н о в. О языкознании в древней России. СПб., 1854.
8 Устав князя Владимира Святославича. В кн.: «Памятники русского права»» вып. 1. М., Госюриздат, 1952, стр. 241.
9 См. Д. С. Лихачев. Культура Руси эпохи образования русского национального государства, стр. 50.
— 162 —
Последние раскопки в Новгороде открыли множество берестяных грамот, по-новому заставляющих нас смотреть -на грамотность русских горожан 10 11. В новгородском народном эпосе говорится о грамотности боярской молодежи. Былина о Василии Буслаеве рассказывает:
Стали его, Васильюшку, грамоте учить,
Грамота ему в наук пошла, Посадили его, Васильюшку, пером писать И письмо ему в наук пошло.
Здесь указан обычный для средневековых школ порядок — сначала обучали чтению '(«грамоте»), а потом уже, по овладении чтением, обучали и -письму.
Среди найденных в Новгороде сокровищ русской письменности— азбука XIII—XIV вв. и черновые учебные записи новгородского мальчика XIII в., позволяющие хотя бы отчасти представить нам древнерусскую школу н.
Азбука XIII—XIV вв. вырезана на небольшой можжевеловой дощечке карманного формата и содержит все буквы русского алфавита. Предполагают, «что такие азбуки изготовлялись на продажу». Служили они, очевидно, учебным целям. Еще больший интерес представляют берестяные тетради О-нфима. Здесь мы видим азбуку и написание слогов:
БА В А ГА ДА ЖА ЗА КА ЛА МА и т. д. БЕ BE ГЕ ДЕ ЖЕ ЗЕ КЕ ЛЕ ME и т. д.
БИ ВИ ГИ ДИ ЖИ ЗИ КИ ЛИ МИ и т. д.
Такие склады написаны на все возможные сочетания.
Этот порядок обучения сохранился вплоть до появления первопечатных букварей. Так, в букваре, напечатанном Иваном Федоровым в XVI в., мы видим тот же самый принцип слогового обучения чтению и письму. Тетради Онфима говорят «нам о том, что перед нами уже опытный ученик второго или третьего года обучения: у него твердый устоявшийся почерк, он бойко и без ошибок может написать формулу подписи (гр. 203): «Господи, помози рабу своему Онфиму».
10 См. А. В. Арциховский и М. Н. Тихомиров. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). М., Изд-во АН СССР, 1953; А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.). М., Изд-во АН СССР, 1954; А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.). М., Изд-во АН СССР, 1958; А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.). М., Изд-во АН СССР, 1958.
11 А. В. Арциховский. Берестяные грамоты мальчика Онфима. «Советская археология», 1957, № 3, стр. 216—225; А. В. Арциховский. Археологическое изучение Новгорода. МИА, № 55, 1956, стр. 22, рис. 10.
11*
163 —
Он набрасывает на бересте, очевидно, с целью запоминания, начальные фразы богослужебных песнопений и молитв:
Яко с нами бог...
Яко же моличе твое на раба твоего боже.
Мальчик Онфим знаком и с приемами переписки: на одном куске бересты рядом с рисунком зверя и чисто детской надписью «Я — зверь» есть и формула новгородского письма: «Поклон от Онфима къ Даниле». Онфима учили и коммерческой корреспонденции: на другом куске бересты рядом с рисунками человечков им написана фраза из долгового документа: «На Домиръ възяти до- ложзивъ». Ученик, привыкший писать азбуку, невольно описался, поставив после ж букву з, которая здесь излишня. Знал Онфим и трудную счетную мудрость, о чем свидетельствует грамота 206.
В берестяных черновиках мальчика Онфима есть одна запись, позволяющая уточнить время написания его азбук. Речь идет о грамоте 206, принадлежность которой к серии черновиков Онфима доказывается как почерком двухстрочной записи, так и примитивными рисунками семи человечков с растопыренными руками.
Записи представляют своего рода пробы пера и не доводятся до конца. С середины первой строки идет правильный порядок слогов до середины второй строки (БА В А ГА ...), пока мальчик не дошел до слога КА — здесь ему, очевидно, захотелось изобразить слово карась, потому что азбучный порядок сбивается: КА А РА СА КА РА ... далее он уже бросил письмо и принялся ниже рисовать человечков. Начало первой строки содержит несколько -слов и четырехзначное число, которое не сразу поддалось чтению12. Надпись, предшествующая числу: ИЖЕ ВО ...; после числа написано НАСО, т. е. «нас»... Далее следуют упомянутые выше склады и рисунки. Интересующее нас число написано по всем правилам тогдашнего русского летосчисления: оно состоит из четырех знаков; первый знак покрыт особым титлом, а три последующие знака покрыты общим титлом, отмечающим цифровое значение этих букв. Онфима можно упрекнуть только в том, что для буквы, обозначающей тысячи, цифровой знак нужно было поместить не над буквой, а сбоку. Четыре цифровых знака стоят в следующем порядке.
1. Буква «зело», обозначающая 6, а в данном случае 6000, так как число четырехзначное.
2. Буква «червь» (так изображен второй знак в прориси, опубликованной А. В. Арциховским) обозначает не сотни, а десятки — 90 и здесь не должна была бы стоять. В древнерусской цифровой системе два знака, обозначающие десятки, никак не могли стоять. Данный знак должен был обозначать сотни.
12 См. А. В. Арциховский. Берестяные грамоты мальчика Онфима, стр. 222, рис. 6, гр. 206 (прорись). Автор пишет: «Грамота 206 (рис. 6 и 8) содержит детский, почти бессвязный набор букв. В начале после слов иже во стоит .сильно искаженное обозначение года по тогдашнему летосчислению; определить этот год нельзя» (стр. 229).
— 164 —
3. Буква «он», обозначающая 70, правильно поставлена на месте десятков.
4. Буква «аз» обозначает единицу и правильно поставлена на своем месте.
ЕдинственнЫхМ препятствием к прочтению всего числа является второй знак, изображенный в воспроизводимой ниже прориси, как Ч. Остальные цифры дают число 6?71. Если считать, что Онфим жил в XII в., то дата должна быть 6671 — 1163 г., но цифра 600 обозначалась буквой X, которую никак нельзя спутать с буквой Ч.
Если же допустить, что Онфим хотел изобразить 1263 год ('6771), то мы, очевидно, окажемся ближе к разгадке13. .
Во-первых, палеография грамоты 206 позволяет говорить о XIII в. Своеобразные начертания Ж и К на Онфимовой бересте могли возникнуть только из угловых росчерков на концах букв, которые мы наблюдаем в рукописях середины XIII в. Надо полагать, что ученик Онфим писал и на пергамене, а на бересте только писал упражнения и шаловливо рисовал. О XIII в. говорит и / десятиричное в форме креста. Нельзя не отметить поразительного сходства почерка Онфима с почерком грамоты 65, стратиграфически и палеографически определяемой как грамота XIII в. (Г2 ярус).
Остается неясным, почему для обозначения 700 Онфим изобразил -букву Ч. Однако сопоставления прориси с фотографией убеждают в том, что посреди чашечки буквы Ч на фотографии ясно видна одна вертикальная черта, превращающая букву Ч в «пси». А буква «пси» обозначала именно 700 14, и мы не должны упрекать Онфима в незнании счетной мудрости. Таким образом, на фотографии грамоты 206 мы читаем следующее:
т. е. дата этой грамоты — 6771 или 1263 г. н. э. — год смерти Александра Невского 15.
13 Учитывая ученический характер всех записей Онфима, можно было бы
допустить, что мальчик ошибся в «счетной мудрости» и одну из букв, обозначающих десятки, поставил вместо сотен. Невозможно, чтобы он поставил 90 вместо 900 (тогда дата была бы 1463 г.). Если же он 70 принял за 700 и к тому же перепутал место сотен и десятков, то получилась бы дата 6791, т. е. 1283; см. фотографию этой грамоты: «Советская археология», 1957, № 3, стр. 222—223
(вклейка).
14 См. А. В. Арциховский. Берестяные грамоты мальчика Онфима, стр. 8.
15 Палеографические особенности черновиков Онфима позволяют сближать их с книгами и документами 60—80-х годов XIII в. Много аналогий с Договорной грамотой Новгорода 1264 г., с Трефологием 1260 г., Новгородской кормчей книгой 1282 г. и Прологом 1283 г., духовной грамотой Климяты 1258—1268 гг. (форма букв ж, I, д, к, н, у и др.).
165 —
Судя по бойкости письма и разнообразию познаний новгородского ученика XIII в., можно думать, что мальчику Онфиму было в момент писания дошедших до нас драгоценных черновиков примерно 8—10 лет и он готовился к жизни в торговом городе, где нужно было уметь и написать любезный «поклон», и взыскать долг, доложив об этом кому-то, и поставить точную дату, и записать порядок церковных песнопений.
* *
■Получив хорошее школьное образование, русские горожане широко использовали знание грамоты как в своей деловой феодальной или торговой практике, так и в быту.
На пергамене, на бересте пишутся купчие и порядные грамоты, завещания, юридические документы, летописи, договоры с князьями и соседними государствами.
Вот богатый боярин Климент завещает монастырю сёла со всем обильем, друзьям, выкупившим его из плена, — тоже сёла и сивого жеребца, своему брату — воинский щит, а некоему 'Самуилу — своего лучшего борова Г6.
Ремесленники с гордостью подписывали свои изделия. Мастер- литейщик, ремонтировавший в XIV в. знаменитые сигтунские врата Софийского собора, вставил свой скульптурный автопортрет и подписал: «Мастеръ Аврамъ». Другой мастер золотых дел, изготовив литой складень-триптих, подписал его с точной датой: «В лъто 6922 (1414) а писана бысть икона сия рукою раба божия Лукъя- на» 16 17. Новгородский сапожник XV в., живший в центре города, тоже грамотен и метит колодку для новгородской дамы словом «мнези» 18. Вот на деревянной доске иконы художник XIV в., живший в смутное время феодальных усобиц, пишет просьбу-молитву: «... избави ны от усобныя рати, от мирьския печали, от нашествия поганых, от нападания вражия ...» 19.
Знание грамоты использовалось -нередко для того, чтобы убедить доверчивых средневековых людей в достоверности чудодейственных святынь, будто бы привезенных из «святой земли». На мо- щевике нижегородского князя написано, что внутри его хранятся такие драгоценности, как «древо райское», часть «неопалимой купины» и даже святой богородицы «млеко и риза и пряслиця»20.
Новгородцы для деловой переписки создали свой упрощенный алфавит, выкинув из грецизированного книжного алфавита ненужные буквы, вроде ижицы, «пси», «кси». Горожане вполне доволь-
16 ГВНиП; см. М. Н. Тихомиров и М. В. Щепкина. Два памятника новгородской письменности. М., Госкультпросветиздат, 1952.
17 Б. А. Рыбаков. Ремесло Древней Руси. М., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 654.
18 А. В. Арциховский считает, что надпись являлась именем или прозвищем заказчицы. См. А. В. Арциховский и М. Н. Тихомиров. Грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.), стр. 48.
19 А. И. Соболевский. Русская икона, т. II. М., 1913, стр. 111—113.
Здесь и далее в цитатах курсив автора.
20 Б. А. Р ы б а к о в. Из истории московско-нижегородских отношений в начале XV в. МИА, № 12, 1949, стр. 189.
— 166 —
-ствовались фонетическим написанием, не слишком стесняя себя «строгими грамматическими правилами; об этом мы узнаем главным образом из берестяных грамот. i
Вот новгородец Фалей посылает «бересто» своему знакомцу Есифу:
«Поклон от Фалея к Есифу. Послал яз к тоби бересто, написав ...» (гр. 27).
Иногда нужно было -передать тайную весть и на бересте делается приписка:
«...человеком грамотку пришли тайно» (гр. 24).
Берестяные грамоты позволяют нам как бы ходить по улицам и площадям Великого Новгорода и прислушиваться к речам бояр, 5их жен, тиунов, подвойских, купцов, ремесленников, попов, пригородных крестьян.
Вот сельский управляющий пишет своему господину в город: «Поклон от Михайл и к осподину своему Тимофею.
Земля готова. Надобе семена. Пришли, осподине, человек спроста.
А мы не смием имать ржи без твоего слова» (гр. 17, XV в.).
Вот богомольный новгородец пишет, очевидно, попу и попадье:
«Поклон от Панфила к Марье и к попу.
Купите маслеца деревянного, да пришлите симо» (гр. 173, XIV—XV вв.).
Заболел новгородский купец и пишет домашним просто, не соблюдая эпистолярного стиля, без традиционного .поклона:
«Пришлите мне паробок Борана или Уду. Мне ся не мо- жется. А лодку дай Павлу Собольцеву из нама (из -найма?— Б. Р.)» (гр. 124, XIV—XV вв.).
Новгородская женщина XV в. пишет своей знакомой (Агафье?— гр. 21) о том, что холст для нее она выткала «и ты ко мне .пришли, а неугодищес кым прислать и ты у себя избели» (холст). Едва ли можно найти другой более прозаический и мелкий повод для переписки между двумя женщинами XV в. Очевидно, писать для них было делом простым и обычным. Грамотность этой записки удовлетворительная.
Любопытную семейную переписку XIV—XV вв. сохранили .грамоты 43 и 49. В -первой из -них хозяин новгородской усадьбы, уехавший по делам за город, пишет, очевидно, своей жене о том, чтобы она прислала ему в подмогу человека с конем, да сорочку чистую, которую он забыл взять:
«От Бориса ко -Настасий.
Како пр и де ся грамота — тако пришли ми человек на же- репце, зане ми здесь дел много. Да пришли сороцицю. Со- роцицю забыле».
Вторая грамота с теми же именами — печальное извещение о .смерти Бориса, написанное от имени Настасьи.
167 —
«Поклон от Настасьи к господину, к моей к братьи.
У меня Бориса в животе нет. Как се господо, мною попе- цалуете и моими детми?».
'Очевидно, вдова обратилась письменно к родственникам не только для того, чтобы известить о смерти, но и для того, чтобы решить вопрос о наследстве, о будущем, о том, как родичи «попе- цалуют», позаботятся о ней и ее детях.
Отрывок безымянного завещания (гр. 108) говорит нам о предусмотрительности умирающего новгородца: распорядившись- пашнями и «клетищем» он сообщает наследнику, что у него припасены на похороны «в суме две гривны корстковых мордок», т. е. мелких разменных денег, необходимых для раздачи при похоронах.
Вот новгородец Матвей, учившийся когда-то, возможно, в одной школе с Онфимом (их почерки очень схожи) и связанный в. своих делах с лошадьми, дает поручение Есифу Давыдову:
«Поклон от Матвия ко Есифу ко Давыдову.
Вывези ми 2 медведна, да вретища, да попонь а к ...»
Матвею нужны не только попоны и медвежьи полости — на. обороте этой же бересты он поручает продать кого-то, но с условием, что его надо водить по торгу, очевидно, с целью узнать настоящую цену; речь идет, по всей вероятности, о коне:
«Ажь водя по 3 рубля продай, али не водя не продай»- (гр. 65, XIII в.).
В районе усадьбы известной посадничей семьи найдены гра- моты-челобитья крестьян, адресованные посаднику Юрию Анци- фировичу (1376—1417 г.) и его сыну Михаилу Юрьевичу (упом.. 11419—4420 гг.).
«Биють целом крестьяне господину
Юрию Онцифоровицю о клюцнике, зандо (за над-то — так как) господине не можем ницим ему удобритися... (гр. 94> XIV—XV вв.).
«Господину Михаилу Юрьевичу биют челом хрестьяне Черенщани.
Чо еси, господине, велел нам переставливати двор и ключник нам господине велит переставливати...» (гр. 157г XV в.).
Особенностью этих челобитных является обилие сокращений под титлами и уверенный писарский почерк грамоты 157.
— 168 —
Возможно, что эти жалобы крестьян на произвол посадничьего ключника, которому они «ничем не могут удобриться», писали городские писцы-профессионалы, подьячие, ходотаи по делам, вносившие в эти челобитья элементы привычных им профессиональных сокращений, необычных в переписке горожан между собой.
Но не только сложную деловую сторону Господина Великого Новгорода раскрывают нам разбросанные по древним мостовым берестяные грамоты. Здесь встречаются и обрывки фольклора, столь своеобразного в Новгороде.
На берестяном туеске оказалась любопытная загадка:
«Есть град между небом и землею, а к ному еде посол без пути сам с ним везе грамоту неписану» (гр. 10, XV в.).
Разгадку нужно искать в апокрифических сказаниях о всемирном потопе, Поеве ковчеге и вестнике голубе («посол без пути»), принесшем -весть о прекращении потопа. Обрывок бересты (гр. 20, XV в.) сохранил часть какой-то ритмической записи, напоминающей веселые скоморошины.
ОМИ СИКЛИ СУКИ НА РИКИ
У ДАВЫДОВЫ ПРИСИКВАЛИ
А НА УШЕМЕНКИ НА КОНЬ -ПАЛЕ
Расшифровать ее можно так, пометив заодно и плясовой ритм этого обрывка21:
... О ЧИ МИ СЕК JTH КИ ЙА РЕ КЕ
У ДА ВЫ ДО ВЫ ПРИ СЁ КИ ВА ЛИ
А НА У ШЕ МЕН КЕ НА КОНЬ ПАЛ ...
В записанной песенке речь идет о человеке, бежавшем вдоль реки у деревни (или у избы) Давыдовой, где сучья хлестали его по очам; только на речке Ушьменке он вскочил на коня.
Ритм этой песенки XV в. напоминает скоморошины, записанные Киршей Даниловым в XVIII в. -в Сибири, например:
А и по чистому полю корабли бегут
А и серый волк на корме стоит А красна лисица потакивает22.
Приведенных выше примеров разнообразного .применения письменности самыми различными людьми русского средневековья вполне достаточно для того, чтобы убедиться в значительном распространении грамотности в феодальной и торгово-промышленной среде.
* *< *
Книжное дело в Древней Руси ширилось и множилось, несмотря на тяготы монголо-татарского ига.
С середины XIV в. дорогая телячья кожа постепенно заменяется бумагой, что делает книги более доступными.
21 При расшифровке текста необходимо иметь в виду, что буква о с двумя точками в старых рукописях часто означала идеограмму очи, очеса «глаза». Кроме того, вместо Ъ здесь везде поставлено и.
22 «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». М., Изд-во АН СССР, 1938, стр. 186.
— 169 —
К XV в. нам известны уже многие библиотеки, насчитывавшие значительное количество томов и имевшие описи книжных богатств. Обильные документальные материалы собирались в княжеских, митрополичьих и епископских архивах. Нужно учитывать, что до наших дней сохранилась лишь незначительная часть книжных богатств средневековья, которые расхищались, горели в огне татарских погромов 23, уничтожались впоследствии церковной цензурой. И все же от XIII—XIV вв. до нас дошло 583 рукописные книги. Если в .период XI—XIII вв. на Руси обращалось, по -предположениям ученых, 85 000 только церковных книг, то для последующего периода это количество нужно, вероятно, еще увеличить24.
Говоря о средневековой книжности и пытаясь представить себе ее объем, распространенность, круг читателей, мы должны учитывать одну общую всему средневековью черту — книги не только читались, но и слушались. Чтение вслух было очень широко распространено тогда во всех странах и в разных слоях общества. Существовали даже специальные чтецы, для которых чтение вслух стало профессией. Сборник «Златая цепь» перечисляет тех «вежей» (знающих), которых можно противопоставить «невежам»: «дьяк или чтец или чернец или ерей». Слушали книги в теремах и городских домах и в монастырях во время трапез25 26.
Поэтому каждую древнерусскую книгу мы должны представлять себе не только как объект поочередного индивидуального пользования, но и как источник общих чтений. Зная дороговизну старых книг, только учитывая их коллективное использование, мы сможем по-настоящему понять замечательное древнерусское изречение— «книги суть реки, напояющие вселенную мудростью».
Изготовление книг иногда изображалось как монополия церковников и особенно монастырей. Однако подсчет писцов XIV— XV вв. дает иные результаты. Среди переписчиков книг, так или иначе обозначивших свое общественное положение, было: митрополитов— 1, монахов — 28, попов—40, поповичей — 4, дьяконов— 8, дьяков—19, «рабов божьих» — 35, паробков — 5216.
Неопределенное наименование «раб божий» (варианты: «грешник», «унылый раб божий», «грешный и дерзый на зло, а на добро ленивый») без указания на принадлежность к церкви мы должны понимать как подписи светских ремесленников. Иногда в рукописях встречаются более ясные определения: «Писал Евстафие, мирской человек, а прозвище ему Шепент» (1429 г.), «Овсей распоп» (1350 г.), «Фома писец» (Г400 г.) и др. Судя по дошедшим до нас 23 В 1382 г. в Москве были собраны книги для того, чтобы уберечь их от набега хана Тохтамыша. «Книг же толико множьство снесено с всего града и из загородиа и ис сел в соборных церквах до стропа (до потолка. — Б. Р.) наметано, сохранения ради спроважено, то все без вести сотворища» (М. Н. Тихомиров. Средневековая Москва в XIV—XV вв. Изд-во МГУ, 1957, стр. 243).
24 См. Б. Б. Сапунов. Некоторые соображения о древнерусской книжности XI—XIII вв. ТОДРЛ, т. XI, 1955, стр. 314—334.
25 В житии Антония Сийского сказано: «...на трапезе бывает утешение братии. великое и чтем житие преподобного». См. В. Ключевский. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871, стр. 399.
26 См. Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло Древней Руси, стр. 686.
170 —
припискам, 57% ремесленников-писцов не принадлежало ,к тем или иным церковным организациям.
В XIV—XV вв. на Руси существовали мастерские книжных писцов, подобные западноевропейским скрипториям. Многие книги переписаны несколькими писцами, работавшими одновременно: «Мы же разделивше на 5 частей, исписахом в 50 дней» (Рязанская •кормчая, 1284 г.).
Биограф новгородского архиепископа Моисея говорит об организации им книжных мастерских: он «собра многи писца книжные, наят их переписывати книги святые». Сохранились и самые книги, написанные в этих владычных мастерских: в 1356 г. «вла- дычни робята» Леонид и Осиф переписали книгу «Пролог», в 1362 г. евангелие написал «владычный паробок» Микула. Кроме того, известны «владычный писец» Филица, «паробок» Семеон, рукою которого написаны две сохранившиеся до нас книги.
Переписчики книг нередко забывали об их богослужебном торжественном назначении и, нисколько не смущаясь религиозным содержанием текста, рисовали в качестве заглавных букв гусляров, охотников, человека в бане, бирючей, различные уличные сценки, а иногда полнокровное мировосприятие посадских людей до того •брало верх над их религиозностью, что на страницах евангелия появлялись изображения двух мужчин, тянущих сеть и ругающихся. «Потяни... сын», — говорит один из них, сопровождая это нецензурным ругательством по адресу своего ленивого сотоварища. «Сам еси таков», — отругивается обидившийся товарищ. На страницах евангелий, апостолов и псалтырей эти живописные, яркие и сочные инициалы производят впечатление толпы дерзких и веселых скоморохов, явившихся непрошенными гостями в монастырь.
Вольное отношение посадских писцов и «дерзких на зло» владычных мастеров к исполняемым ими книгам выражалось и в том, что широкие поля книг они использовали в качестве своеобразных дневников, где излагали и свое отношение к процессу письма и свое настроение и факты из повседневной жизни. Вот мы видим типичную пробу пера: «Господи, помози рабу своему Леониду Язы- ковичу. Дай ему, боже, в здравьи списанья добыти. Лихое перо. Невольно им писати рабу многогрешному Леониду Офонасовичю». Писец хочет поблагодарить кузнеца Федора, сковавшего ему хороший «перочинный» нож для чинения перьев: «Просты, боже, Федора, кой ми скова ножиц, та си перо напровых». Даже такая мелочь, как сломанное перо, отмечается припиской на полях: «Погы- бель перья сего».
Приписки писцов вводят нас то в шумную общую мастерскую- скрипторий, где рядом сидят и мешают друг другу своей болтовней молодые «паробки» («аща будем грубо написали или кде переступили или в глаголании с другом или -в дремании, а вы, препо- добнии отцы игумены и Попове собою исправяче чтите, а нас грешных не поклените ...»), то в одинокую келью монаха, которому надоело писать книги, и весеннее пение птиц поманило его отправиться из Пскова ни много ни мало, как в Царьград.
Вот писец, подписавший красивые многокрасочные миниатюры псалтыри 1280 г., написав только 98 листов из 285, оправдьь — 171 —
вается перед богатым заказчиком: «Право, отче Симоне, не борзо ся пишеть».
Вот писец, закончивший книгу в 3 часа дня 20 марта 1394 г., хвастается перед товарищем: «Да рука моя любо лиха. И ты так не умеешь (написать и ты не писец».
Вот писец кончает свой дневной урок из-за наступившей темноты: «Тьмо»,— лаконически записал он на полях «Апостола» 1307 г.; «Спать ми ся хощеть» (Устав, 1398 г.); «О, господи, помози, о господи посмеши — дремота неприменьная и в сем рядке поме- шахся» (1344 г.).
Из приписок мы узнаем даже о меню в семье писца: «Како ми не объестися... поставить кисель с молоком»; «Сести ужинат — клювования с салом рыбьим».
Псковский «Шестоднев» 1374 г., писанный тремя писцами, содержит довольно .подробный дневник последнего писца, попа Саввы, который ничуть не смущался тем, что копируемые им страницы повествуют о том, как бог создавал мир в шесть дней; он заносил на эти страницы события из своего узкого мирка:
«Лист 77. Поити на вечерню. На память святаго мученика Климянта (25 ноября).
Лист 78. Писец сообщает о своем желании шести (сести) су- жинать».
Написав еще одну страницу, он собирается совершить увеселительную поездку в пригородный псковский монастырь: «В монастырь поехати пить в Зраковщи».
Через две страницы его уже начинает мучить совесть: «Поехать на Гору к святой богородичи, молиться о своем спасении» (л. 81).
4 декабря, написав к этому времени девять страниц за десять- двенадцать дней, поп Савва сообщает: «Родиша свиния порошата на память Варвары» (л. 83). «'О горе. Свербить. Полести мытьса. О, святый Никола, пожалуй, избави коросты сеа» (л. 84).
Отсюда мы узнаем, что под Николин день — 6 декабря — поп Савва ходил в баню, смывать свербевшую коросту. Написав еще три страницы, поп обиженно замечает: «Чресъ тын пьють, а нас не зовуть ...» (л. 87).
Далее жизнерадостный поп сообщает, что пошел на гумно посмотреть, как работают «страдники». 35-я страница рукописи писалась уже не зимой, а летом, и Савва жаловался: «Ох, знойко! На завътренюю, да поехати в мох!» (л. НО)27.
Если в этом дневнике перед нами встает состоятельный человек, пописывающий по странице в день, то другие приписки рисуют нам бедных писцов, жалующихся на свое тяжелое положение: «Бог дай съдоровие къ сему богатствию: что кунъ — то все в калите (что денег — то все в кошеле), что пърт — то все на собе (что одежды—то все на себе), удавися, убожие, смотря на мене» (Па- римейник, 1313 г., написанный дьяком Кузьмой Поповичем).
Книжным писцам больших городов заказывали книги иногда из очень отдаленных концов Руси. Так, например, один новгород21 Б. А. Рыбаков. Ремесло Древней Руси, стр. 686—691.
— 172 —
ский писец Фрол обратился с просьбой к игумену какого-то монастыря переслать выполненный им заказ за тысячу километров: «Поклон от Фрола господину игумену Миките. Господине игумен, доправи ми, господине, бога деля, книги си на Двину к святому Михаилу», т. е. в тот монастырь, где потом возник Архангельск28.
* *
Среди книжных писцов и художников-миниатюристов мы встречаемся нередко с высокообразованными людьми, хорошо знавшими русскую литературу, летописи и умевшими в приписках на полях или в сюжетах своих рисунков дополнить основной текст умной цитатой, изображением важного события.
Неувядаемая красота «Слова о полку Игореве» всегда привлекала русских людей; его читали, цитировали, под него стилизовали новые поэмы. В Пскове в 1’307 г. писец Диомид, которого иногда считают родоначальником рукописного тератологического («чудовищного») орнамента, написал книгу «Апостол». Писал он ее дорогим павлиньим .пером («псал есмь павьим пером»). В .приписке по поводу княжеских распрей Юрия Даниловича Московского с Михаилом Александровичем Тверским писец Диомид вспомнил известное место из «Слова о полку Игореве»: «Тогда при Олзе Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь даждьбожа внука; в княжих крамолах веци человекомь скратишась».
Диомид напомнил эту фразу (может быть цитируя .по памяти) по поводу действий дерзкого и жестокого Юрия Даниловича, убившего незадолго до этого содержавшегося у него в заточении рязанского князя Юрия, -поднявшего руку на своих братьев и затеявшего кровавую вражду с тверскими князьями: «При сих князех сеявется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша; в князех — которы и веци скоротишася человеком»29.
Следы знакомства со «Словом о полку Игореве» есть и в летописном рассказе современника о Куликовской битве, написанном до появления «Задонщины» (Никоновская летопись, 1380 г.): татары вышли на «шоломе» — холм; Мамай «побеже неготовыми дорогами» и др. Эта терминология в сочетании с некоторыми волын- ско-галицкими диалектизмами («оружники», «закоснъша», «падение бъдное») и восхвалением в этом рассказе Д. М. Боброка- Волынца может указывать на то, что «Слово» было известно и на Волыни, на родине жены Игоря — поэтичной Ярославны. Может быть пришедшие в «залесскую» московскую землю волынцы принесли с собой благородную рыцарскую поэму XII в.
Образованным человеком был и художник, руководивший иллюстрированием знаменитой Радзивилловской летописи, созданной в Смоленске в XV в. Так, иллюстрируя текст, основанный на 28 И. И. Срезневский. Древние русские книги. СПб., 1864, стр. 12—13.
29 О книгописных мастерах и их обучении см.: Л. В. Милов. Из истории древнерусской книжной письменности XIV в. (палеографические наблюдения). «Вестник МГУ», история, 1963, № 3, стр. 23—33.
— 173 —
переяславско-владимирских известиях (Лаврентьевская летопись)* художник иногда вводит *в рисунок те персонажи или те положения, которые упоминаются только в киевских летописях. Возьмем для примера миниатюру на листе 193 (оборот); здесь изображено какое-то совещание трех русских князей, очевидно, с венгерским королем. В тексте самой летописи об этом нет ни ’слова, неизвестно- даже количество русских князей, принимавших участие в походе. Но зато все это очень подробно описано в киевской летописи, один из вариантов которой (Ипатьевская летопись) был переписан в. XV в. незадолго до написания Радзивилловской иллюстрированной рукописи. Текст Ипатьевской летописи разъясняет все неясности: на миниатюре изображен княжеский съезд под Перемышлем. летом 11'52 г. во вторник, на котором присутствовали князь Изяс- лав Мстиславич, его брат Владимир, сын Мстислав и венгерский; король Гейза II. Очевидно, художник знал этот дополнительный, текст или воспользовался другой лицевой летописью, если изобразил событие, не описанное в иллюстрируемой им рукописи.
.Поход Игоря LL85 г. представлен текстом Радзивилловской летописи как авантюра хвастливых князей Ольговичей, которые- пошли в поход лишь для того, чтобы доказать «ци есмо не князи же» '(«что ж мы не князья что ли») и после первой же победы над. половецким обозом «стояша на вежах три дни веселящеся».
Миниатюры Радзивилловской летописи, посвященные двум: походам на половцев — удачному походу Святослава Всеволодича и всех русских князей и печальному «полку Игореву», — составляют как бы обособленный иллюстрированный цикл в летописи, отделенный от предыдущего концовкой и несколькими страницами совсем без рисунков. Два рисунка в этом цикле посвящены походу «великого и грозного» Святослава и восемь рисунков — эпопее Игоря.
Важно отметить, что иллюстратор не отразил в своих рисунках тот дух пренебрежения к Игорю и к его неудачной затее, которым .проникнут текст. Художник не отметил ни солнечного затмения, предостерегавшего Игоря, ни кичливого заявления Ольговичей, ни выдуманного суздальским летописцем трехдневного .пира* ни ранения юного Владимира Глебовича, на которого напали половцы, «простершиеся по Русской земле как выводок барсов». Художник XV в. (или его предшественник XIII в.) отмечает только героическое, только то, что было созвучно русской действительности времен борьбы с татарами. На русских стягах он изобразил крест, а на половецких знаменах — мусульманский полумесяц. Художник подчеркивает жестокость «поганых», изображая как они отрезают уши у раненых на поле боя (л. 233).
Особенно интересна миниатюра на листе 234. Она относится к одной только летописной фразе о сборе Святославом русских князей для борьбы с половцами. Но при взгляде на рисунок нам кажется, что художник имел в виду не скупые слова радзивиллов- ского текста, а красочное, торжественное и поэтическое «златое слово» великого князя Святослава киевского: по краям рисунка изображены зубчатые стены и башни городов; у стен князья садятся на коней. В центре композиции — князь Святослав в особой по174 —
ходной одежде, приветствующий приехавших к нему князей. Па- мятная фраза «Слова», обращенная к двум смоленским князьям;
Вступита господина в злата стремень
За обиду сего времени, за землю Русскую, За раны Игоревы, буего Святъславича —
показана на этом рисунке особым выпячиванием стремян. Нигде в рукописи, имеющей свыше 600 миниатюр, стременам не уделено никакого внимания, и только здесь художник изобразил стремянного, который, став на одно колено, торжественно держит «злат стремень» княжьего седла. Оба князя изображены в тот момент, когда они, «вступив в стремень» (в одно стремя), собираются сесть в седло30.
Для рукописи смоленского происхождения такое совпадение с фразой «Слова о полку Игореве», обращенной именно к смоленским князьям Рюрику и Давиду Ростиславичам, едва ли случайно,
* *' *
Особенностью средневековой русской письменности было широкое применение тайнописи, различных видов шифрованного письма.
Обилие феодальных перегородок, застав и мытниц, сложное переплетение дипломатических и феодально-иерархических отно* шений, наличие социальной и религиозной борьбы в городах — все это обусловливало необходимость пересылки тайных грамотиц, написанных непонятными письменами.
Существовало множество различных систем тайнописи; неко-г торые из них даже до сих пор остались неразгаданными31.
Простейший шифр заключался в перемешивании букв двух со-^ седних строчек. Такова шуточная надпись на новгородской берест тяной грамоте 46:
НВЖПСНДМК АТС ЦТ Е Ъ АИАЕУАААХОЕИА
Нужно читать в таком порядке: первая буква верхней строки, затем первая буква нижней строки, далее — вторая буква верхней строки и вторая буква нижней строки и т. д. Получается: НЕВЪЖА ПИСА; НЕ ДУМА КА (3) А, А ХТО СЕ ЦИТА...32.
Мастера золотых дел щеголяли знанием тайнописи и иногда рядом со своей подписью ставили непонятные для непосвященных слова. Так, например, ювелир, сделавший знаменитый новгородский панагиар 1336 г., закончил описание времени изготовления своего шедевра словами: «А мастер Иван. Арипь». Последнее слово «Арипь» часто встречалось и на других изделиях вплоть до XVIII в., что даже дало повод старым исследователям предпола^ 30 «Радзивилловская, или Кенигсбергская, летопись» (фотомеханическое воспроизведение рукописи). СПб., 1902, л. 234, верхний рисунок.
31 См. М. Н. Сперанский. Тайнопись в юго-славянских и русских памяти никах письма. Л., 1929.
32 А. В. А р ц и х о в с к и й. Новгородские грамоты на бересте (из раскопов 1952 г.), стр. 48.
175 —
гать наличие целой династии Арипов, золотых дел мастеров, будто бы существовавшей свыше трех столетий. Но все объясняется проще — это тайнопись. Для шифровки и расшифровки ее применяется двустрочная таблица согласных букв (гласные остаются без изменений):
Б
В
Г
д
ж
3
к
л
м
н
щ
Ш
Ч
ц
X
ф
т
с
р
п
Способ применения — замена букв одного ряда буквами другого; пользуясь этим ключом, мы легко разгадаем «Ивана Арипа»: АРИПЬ — АМИНЬ. Мастер Иван, указав имена князей, посадника и владыки и указав свое имя, заключил длинную надпись словом «аминь»33.
Тайнопись нередко применялась для сокрытия наиболее важного, но опасного смысла. В некоторых рукописях фразы, направленные против богатых, зашифрованы старой славянской азбукой— глаголицей, которая в XIII—XIV вв. была уже далеко не всем понятна. Тайнопись использовалась и городскими «еретическими» антицерковными движениями, в частности стригольниками XIV в.
Стригольники проповедовали отказ от церковной обрядности, ликвидацию церквей и монастырей, уничтожение «лихих пастухов» — духовенства и простую молитву на всяком месте, когда люди могут обращаться к богу без посредников. В этой связи особый интерес представляет так называемый Людогощинский крест 1359 г., стоявший на одной из площадей Новгорода. Вырезанная на дереве надпись сильно отдает стригольничеством:
«Господи Исусе Христе. Помилуй вся хрестьяны на всяком месте молящася тобе верою, чистым сердцем И рабом божьим помози поставившимъ крест си людогощичам. И мне написавшему
ФУ11МЛААСС-РРЛКСС-ТСГБВВМЛ РРМЛААСС»
Имя мастера, украсившего крест великолепными резными изображениями в стригольническом духе (основная тема — земля, человек и бог), зашифровано особой тайнописью. Этой же системой зашифрованы, правда без особой надобности, имена «владычных робят» Леонида и Григория в приписке к евангелию '1355 г.
'Сущность системы заключается в использовании цифрового значения букв и в разложении каждой буквы-цифры на два слагаемых. Некоторые буквы оставались только буквами, и тогда над ними не ставились титла — знаки превращения буквы в цифру. Так, например, имя писца Леонида изображено таким образом:
33 См. Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло Древней Руси, стр. 655.
— 176 —
к i
re <o
дд б б
к л
20 4- 10 = 30 3 + 5 = 8© 20 + 30 = 50
4 + 4 = 8
2 + 2 = 4
30 = л
8 = н со 50 = N
Л Н ©N Н Д
8=н 4=д
Применив эту систему к тайнописи на Людогощенском кресте, мы получим следующий ряд цифр: 900; 20; 70; 2; 400; 200; 50; 400; 500; 5; 4; 70; 200; 2; 400. А в переводе на равнозначные этим цифрам буквы получаем и конец заинтриговавшей нас фразы: «... и ■мне написавшему ЯКОВУ СЫНУ ФЕДОСОВУ».
Благодаря расшифровке тайнописи мы теперь знаем имя замечательного мастера-резчика, создавшего 600 лет назад интересное скульптурное произведение с элементами религиозного вольнодумства, — это Яков Федосович.
* *1 *
Стихийный процесс крестьянской и монастырской колонизации Заволочья и Заволжья приводил к постоянному соприкосновению русских с различными финно-угорскими народами северо-востока: чудь заволочская, югра, зыряне (коми), пермь (коми), тоймичи, вычегжане, вогуличи (ханты) и др. Взаимоотношения русских с местным населением были всегда мирными (если не считать фактов классовой, а не национальной борьбы). Более высокая культура оказывала свое воздействие на культуру народов Севера и Приуралья, хотя местная знать нередко противилась ей, особенно тогда, когда русская культура выступала как христианская.
В конце XIV в. русский епископ-миссионер Стефан Пермский, известный церковный писатель, выступавший .против стригольников, утвердившись далеко на северо-востоке в Пермской земле, стремился дать письменность местному населению — коми-пермякам, не знавшим никакой грамоты и остававшимся до XIV в. бесписьменным народом. К чести Стефана следует сказать, что он не стал навязывать пермякам русскую письменность, а создал для них специальную «пермскую азбуку»34, учитывавшую местную фонетику.
• * .*! *
Математические познания на Руси в XIII—XV вв. не получили особого развития по сравнению с эпохой «числолюбца» Кирика (сер. XII в.).
Древнерусская цифровая система, заимствованная в свое время из Византии, была очень неудобной — для каждого разряда единиц, десятков и сотен существовали свои особые буквенные обозначения, не совпадавшие полностью с русским алфавитом. Кроме того, и порядок цифр-букв не был стандартным; во втором десятке на первом месте стояли единицы, а цифра-буква, обозначающая
34 См. Л. В. Черепнин. Русская палеография. М., Госполитиздат, 1956, стр. 262—263.
12 Очерки русской культуры, ч. 2 177
десяток, следовала за ней; начиная с третьего десятка, порядок обозначений десятков и единиц соответствует нашему. Тысячи обозначались как единицы, но с добавлением особого значка. Десятки тысяч назывались «тьмой», сотня тысяч, редко применявшаяся в тогдашней практике, носила характерное название «неведня». Многообразие обозначений и отсутствие понятия и знака нуля очень затрудняли арифметические действия, что привело в дальнейшем к изобретению «русских счетов» с передвижными костяными кружками на проволоках.
Буквы, обозначавшие цифры, отличались от обычных букв особым знаком — титлом, ставившимся над буквой. Для тысяч этот знак изменялся; он напоминает наш знак неравенства. Десятки тысяч— «тьмы» — окружались кружком.
Наряду с этим счетом, вполне удовлетворявшим практическим потребностям русской жизни XIII—XV вв., возникла другая, более сложная система, рассчитанная на «числолюбцев», оперировавших многими миллиардами; точное время возникновения ее неизвестно. Называлась эта система «Число великое словенское». Его употребляли, «коли прилучался великий счет и перечень (сумма)». В великом числе «тьма» повышалась на два разряда и обозначала не 10 000, а 1 000 000. «Легион» обозначал 1 000 000 000 000 (1012). Последние категории этого астрономического счета — «ворон» (1048) и «колода» (104Э) «и боле сего несть человеческому уму разумети»35.
Дроби в Древней Руси обозначались словесно, что также затрудняло точные арифметические действия; -1- обозначалась сло- 6
вами «пол-трети»; — — «пол-пол-трети». Особенностью выражения смешанных дробей было то, что их определяли не как сумму целого числа и дроби, а как разность следующего целого числа и недостающей для него части. Так, например, 1 — определялась
/л
«пол-втора» (отсюда наше полтора»), т. е. как 2 — 1-^-. В
шем современном счете напоминанием об этом является наше ределение времени: «половина второго», «без четверти два» и т. д. В Древней Руси «полтретьядцать» означало три десятка без половины десятка, т. е. 25.
От XIII—XIV вв. до нас дошли следы каких-то математических упражнений на вычисление прогрессии, созданных в Ростовской земле.
В основу вычислений положено хозяйство в 2 плуга, где высевается «16 кадей ржи, ростовских», 21 половник овса, 6 половников ячменя, где имеются 22 овцы, 22 козы, 6 свиней, лошади, коровы, пчелы и др.
Задача заключалась, во-первых, в определении приплода через 12 лет, а во-вторых, в исчислении денежной стоимости скота, шкур, зерна, сена и молочных продуктов.
как
на-
оп-
35 Б. В. Гнеденко. Очерки по истории математики в России. М.—Л., Гос- техиздат, 1946, стр. 17, 18 и 229.
178 —
Дребнерусская цифровая система X-XS& 88.
1$ *»
к §
ч
1 ч ц
© § i j
С^э <Ь
(с чэ
h
1э §
м
®ili
с\
Ь;
1* §
v-J
© 1 £ S
Г< <О
I1? 41
Н
Vi 1
ы
© § 1 *
1* S
1* 1
ы
© В 1S
Ь'
< . ST
1* 5
И 1
ьЛ
о»
О § £
в § ХЬ >
I*3. о,
н Si
W §
ь § ч
©hl
ь» «.
К S
1 §
V . C\J
1*=> §
4 C4J
®hl
К -
h SS
1< §
ь § ’й
@ ill
It сП < ч
Со и’ И 5?
<^4
s
и’ " If
<<J
£
i й с> >
2V \ О Ч> 'О О
«
12
«О овцах:
(к А от 20 овець и от дву приплода на 12 лет: 90.000 овець и 100 овець и 12 овен/
а боранов 90.000 и 100 и 12 боранов.
А всего боранов и овець на 12 лет— 180 000 и 200 и 24
А овца метана по 6 ногат а боран — по 10 резан.
2. А за то за все кунами 40.000 гривен и 5000 гривен и 50 гривен и 5 гривен и 40 резан.
3. А на тех овцах и на боранах рун 300.000 и 60.000 и 400 и 40 и 6 рун.
4. А на тех рунах кунами 7000 гривен и 200 гривен и 8 гривен и 40 резан и 6 резан;
а руно чтено по резане» S6.
Никакого хозяйственного, фискального или юридического значения подобные маниловские расчеты колоссального приплода и будущих богатств маленькой вотчины, разумеется, не имели. Ведь получалось по этим «расчетам» так, что валовой доход от вотчины за 12 лет составил бы 358 760 гривен. Если исключить из этого все зерновые культуры, считая, что они могли пойти на корм скоту, то средний годовой доход вотчинника с этого села составил бы 15000 гривен. Эта сумма в полтора раза превышает контрибуцию с завоеванной Казани (1376 г.) и в полтора же раза превышает стоимость постройки крепостных стен в Пскове в 1421 г. (200 рабочих строили 3V2 года). Совершенно ясно, что практического значения эти вычисления не имели, а являлись они, по всей вероятности, учебным пособием для приобретения навыков в хозяйственных подсчетах и в переводе натуры на деньги.
Это своего рода арифметический задачник XIII—XIV вв. с готовыми ответами. Присоединение такого задачника к «Русской Правде» объясняется потребностью обучить будущих тиунов и волостелей не только нормам права, но и приемам исчисления доходности хозяйства. Преувеличенные доходы позволяли оперировать большими числами и усложняли вычислительную часть упражнений. Всего приведено 25 задач на вычисление; некоторые из них имеют дело с пяти- и даже шестизначными цифрами гривен, с составными именованными числами и с хитроумными подсчетами однолетних, «лоньских» и «третьячных» животных.
Сложны были хронологические расчеты средневековья. Летосчисление велось от так называемого «сотворения мира», предшествующего исходной точке нашей эры на 5508 лет. Поэтому год Ледового побоища -обозначался «S^FN, т. е. 6750 г. (1242 + 5508) Год Куликовской битвы — .(ЗсоПИ — 6888 г. (1380 + 5508).
Самым трудным было определение главного христианского праздника пасхи, «великого дня», так как его сроки менялись ежегодно в зависимости от кругов солнца и луны. Трудность вычисления пасхалий привела в XIV в. к появлению специальных таблиц, при помощи которых можно было определить день пасхи и других зависящих от нее православных праздников («духов день», «трои- 36
36 «Памятники русского права», вып. 1, стр. 207—208, 217.
— 180 —
цын день», «десятая пятница», «вознесение»). Одна такая таблица была составлена в эпоху новгородского владыки Василия (1332— 1352 гг.) и в конце XV в. она упоминалась как «владычна Васи- лиева книга Алфа на 500 и 32 (года), а в ней писана вся седьм ты- сящь лет ... Да Алфа ключь паскалии держит, а поскалья с азбукою туто же -вместе ...»37.
Василиева книга «Альфа», послужившая основой для вычисления пасхалий на XVI в., представляет собой в своей главной части таблицу, разграфленную на 19 вертикальных полос и 28 горизонтальных полос, что дает 632 клетки, соответствующие годам «великого индиктиона». Внутри клеток расставлены ключевые буквы русской азбуки, а кроме того, сделаны кратчайшие хронологические пометки, доведенные до пожара в Новгороде 7 июня 1340 г.
Близко к математике стоит древнерусская метрология. Меры веса и объема недостаточно ясны для нас; больше четкости в мерах длины. На Руси XIII—XV вв. в качестве основной меры длины существовали сажени; их было несколько видов, и все они находились в геометрическом соотношении друг с другом38.
Каждая сажень делилась по принципу 2, 4, 8, 16; употреблялись полусажень, локоть (V4 саж.) и пядь ‘(Vs саж.). Почти каждому виду саженей соответствовал какой-нибудь простой способ измерения при помощи частей человеческого тела. Само слово сажень, ст женъ означало захват руками — то, что можно достать, досягнуть.
Мерная сажень — ширина раскинутых рук, прямая сажень — расстояние между большими пальцами раскинутых рук. Косая сажень — расстояние от земли до поднятой вверх руки. Локоть — расстояние от локтевого сгиба до конца пальцев (44—46 см) или до начала фаланг (38 см — V4 прямой сажени). Локти делились на пяди; кроме того, существовала еще мелкая мера длины — стопа.
Все сохранившиеся до нас древнерусские книги и иконы XIV— XV вв. очень точно передают размеры старинных мер длины. Есть иконы «пядницы», ширина которых равна пяди (19 или 23 или 24 см). Икона Андрея Рублева 1405 г. (деисус из Владимира) по ширине равна точно косой сажени (216 см). Икона Дионисия 1481 г. (митрополит Алексий) точно сохранила размер прямой сажени — 152,3 см.
Геометрические соотношения, созданные древними зодчими для облегчения пролорционирования архитектуры, заключались, например, в следующем.
1. Если построить квадрат со стороной, равной прямой сажени (152,7 см), то диагональ его будет равна косой сажени (216 см).
2. Если за сторону квадрата принять не прямую, а мерную сажень (1)76,4 см), то диагональ тоже будет выражена одним из видов сажени — «великой косой саженью» в 249,5 см.
37 Д. И. Прозоровский. Псаломник. «Вестник археологии и истории», 1888, вып. VII, стр. 60.
38 См. Б. А. Рыбаков. Русские системы мер длины XI—XV вв. «Советская этнография», 1949, № 1, стр. 66—91.
— 181 —
3. Диагональ полуквадрата (со стороной в мерную сажень), очень употребительная в архитектурных расчетах, тоже имела свой эталон — это «сажень без чети», равная 197 см.
4. Полный набор древнерусских саженей представляет -собой ряд иррациональных величин, образующий пропорцию. Если построить квадрат со -стороной в половину мерной сажени, а затем превращать этот квадрат в прямоугольник с длинной стороной, равной диагонали квадрата, .потом построить новый, еще более длинный прямоугольник со стороной, равной диагонали первого прямоугольника, то, продолжая такие действия, мы увидим в конце концов, что каждая новая диагональ дает нам новый вид древнерусской сажени.
Приняв мерную сажень за 2а, мы получим следующий ряд:
а]/з” = 152,7—прямая сажень,
а]/^” = 176,4—мерная сажень, а =197,2—«сажень без чети»,
а |/б“ = 216—косая сажень, aj/g"=249,5—великая косая сажень.
Все эти геометрические соотношения нужны были архитекторам для точного пропорционального построения зданий; зодчие на основе длительного опыта выработали именно такой набор мер длины, который в самом себе заключал геометрические пропорции. Практическая потребность в таком наборе мер позволила сохраниться всему комплекту русских саженей вплоть до XVII в. Все древнерусские здания XIV—XV вв. построены при помощи этой остроумной системы мер. Одновременное употребление зодчими нескольких видов саженей отразилось и в апокрифической литературе XIV—XV вв. Так, «Сказание о Соломоне и Китоврасе» рассказывает о том, как царь Соломон, задумав построить свой знаменитый храм, повелел привести к себе мудрого Кентавра («Ки- товраса»), знающего тайну «очертания», т. е. геометрического расчета плана будущего здания. Мудрый Китоврас изготовил специальные эталоны («пруты») саженей по четыре локтя и, явившись к царю Соломону, положил перед ним эти «пруты четырех локоть», как знак того, что он уже готов выполнять царево повеление. Волшебный архитектор Китоврас был наделен в этом сказании реальными принадлежностями русского зодчего в виде изготовленных из дерева прямых и косых саженей, подразделенных на 4 локтя.
* * *
Меры протяжения в Древней Руси выражались словами верста или поприще; иногда применялись великие версты. Все эти меры были получены как наследство домонгольского периода39. Вви39 «Хожение» игумена Даниила начала XII в. позволяет нам судить о реальной величине этих мер. Сопоставление описаний Даниила с картой Палестины, планом Иерусалима и его окрестностей дает нам следующие величины: великая верста — около 2160 м, верста — около 1080 м, перестрел — около 105 м.
— 182 —
ду полной неразработанности этого вопроса и разноголосицы источников придется остановиться на нем подробнее.
Двойственность верст сохранялась до XVII в., когда существовали путевая верста в 500 саженей, равная 1080 м (позднее — 1066 м) и межевая верста в '1000 саженей, равная 21’60 м.
Большой интерес представляет «Хожение митрополита Пимена» в 1389 г., описанное Игнатием Смолянином (Никоновская летопись, 1389 г.) 40. Дни пути Игнатия определяются в одном случае в 37 км, а в другом в 43 км в день41. Примем среднюю величину дня пути в 40 км. Игнатий упоминает и версты и поприща. Верста определяется расстоянием от горы Соблазна до реки Иордан. У Игнатия указано 5 верст, а по карте это расстояние равно 10 км. Отсюда верста равна 2000 м.
Труднее определить поприща. Автором «Хожения» указываются расстояния от Иерусалима до окрестных достопримечательностей; за исходную точку примем внешнюю городскую стену Иерусалима, полагая, что путник начинал отсчитывать расстояние
именно от городских ворот, где
кончался город.
У Игнатия:
По карте:
До монастыря Феодосия
Коновиарха
6 поприщ
8,5 км
До Вифлеема
7 поприщ
9,5 км
До Вифании
5 поприщ (?)
ок. 2 км
До монастыря св. Саввы
50 поприщ
65 км
В первом случае поприще равно 1400 м, во втором — I860 м. Расстояние до Вифании явно ошибочно. Может быть следовало бы «едино поприще» (начальная буква е имеет цифровое значение 5).
Монастырь святого Саввы, расположенный на полдень от Иерусалима, в настоящее время называется Хирбет Саве, т. е. «развалины Саввы». Он расположен на юго-юго-западе от Иерусалима в 65 км по дороге. В этом случае мы получаем протяжение поприща в 1300 м, а средний результат— 1350 м.
Величина, очень близкая <к поприщу Игнатия Смолянина, дважды указана летописями в связи с событиями XIV и XV вв. И только в двух случаях в более ранних летописных сводах для обозначения этой величины употреблено слово поприще, замененное в последующих сводах более стандартным словом верста.
Под 1389 г. летописец описывает поход Дмитрия Ивановича на Новгород. Великий князь во главе огромного войска, собранного из 29 городов, подошел к Новгороду и окружил его, отвергая все просьбы примирения. Перед началом решительных действий великий князь оставался в погосте Ям, на левом берегу Волхова севернее Новгорода, в 39 км от города. В Рогожском летописце расстояние определено в 30 поприщ. Отсюда поприще равно 1300 м.
40 ПСРЛ, т. XI, стр. 95. Другие русские путешественники XIII—XIV вв. почти не приводят точных расстояний. См.: «Хожение архиерея Антония», «Странник» «Стефана Новгородца и анонимное описание Царьграда, предположительно связываемое с Василием Каликой.
41 Иерусалим — Назарет три дня пути—110 км; Иерусалим — Кана Галли- лейская три дня — 130 км.
— 183 —
Под 1433 г., описывая войну Василия Васильевича с Юрием Дмитриевичем, автор Софийской I летописи говорит, что врага встретили на реке Клязьме за 20 поприщ от Москвы. В Софийской II летописи расстояние определено в верстах, но отмечено, что оно превышало 20 верст |(«не во мнозе за 20 верст»). Расстояние от Земляного города Москвы до реки Клязьмы по Переяславской до- 27 роге (откуда шел Юрий) равна 27 км. Отсюда поприще = — =
1350 м. Возможно, что величина, равная .поприщу, скрывается под названием версты в рассказе летописи об основании Колоцкого монастыря под Можайском в 14113 г.
Расстояние от Можайска до Колоцкого монастыря определяется так: в летописях Софийской I и Воскресенской — 15 верст, в Смоленской летописи Аврамки— ГО верст, по -современной карте — 20 км.
В указании смоленского летописца мы без труда узнаем обычные для Смоленской земли удвоенные версты по 1000 саженей (около 2160 м). Определение Софийской летописи дает нам протяжение этой «версты» в — =4333 м 42.
15
В рукописном сборнике 1412 г. (о нем см. подробнее ниже) есть дополнительные данные для уточнения вопроса о древнерусском поприще. Сборник содержит статью метрологического характера, дающую впервые сопоставление русских мер с античными, — «О стадиех и поприщех»: «Стадие имат сажений 100. Поприще же — саженей седмь сот и 50. Есть же убо едино поприще стадий, седмь и пол. Сия убо мы от землемерець прияхом» (л. 281).
Из всех известных нам древнерусских мер ближе всего, очевидно, подходит под эту формулу «мерная сажень» в 176,4 см. 750» мерных саженей, составляющие поприще, равны 1323 м, что согласуется и с другими летописными определениями поприща.
В XV в. при описании событий, связанных с Новгородом или Псковом, перед нами появляется новая мера длины, называемая в тексте тоже верстой, но по своему протяжению отличающаяся от всех перечислявшихся выше верст. Определить эту новгородскую» версту удалось только при сличении всех летописных данных с точной современной картой.
В 1424 г. псковское посольство разыскивало Витовта, выехавшего из Киева на Волынь. «И ехаша за Кыев в Луческ Великый и. наехаша его за Лучьском 500 верст (от Киева) в граде Кременци»* (Псковская II летопись) 43. Кременец отстоит от Луцка на 78 км и. от Киева на 350 км. Если правильно понят летописный текст и верен расчет, то мы получаем необычную версту в =700 м. Значительно яснее и определеннее текст о поездке Василия Темного в.
42 Примерное отношение версты к поприщу как 10: 13 видно из сопоставления описания Куликовской битвы в разных летописях: «... и покрыта поле полны як на десяти врестах» (Типографская летопись. ПСРЛ, т. XXIV, стр. 146) или «яко на 13 врест» (Ермолинская летопись. ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125). В первом: случае под верстой надо понимать расстояние, близкое к поприщу.
43 ПСРЛ, т. V, стр. 24.
184 —
Новгород в 1456 г.: «Князь же велики не дошед до Новагородаза полтораста верст, став в Яжолбицах, срете его владыка Ноугород- ский Иона...» (Софийская II летопись) 44.
Путь из Яжелбицкого Яма в Новгород — старый, наезженный, путь. Измеряя его по карте, мы получаем расстояние в 108 верст> или 1.15,2 км. Разделив 115 км на «полтораста верст», мы узнаем,, что одна верста равна 768 м.
Из каких саженей была составлена эта новгородская верста? Сколько саженей входило в нее? Никаких прямых указаний на это» нет, но (нельзя не обратить внимания на одно поразительное совпадение: вычисленная выше верста очень близка к 500 прямым саженям. :li50 верст (считая в версте 500 саженей по 152,7 см) равно 114,5 км. «Полтораста верст» от Яжелбиц до Новгорода равно Ы!5,2 км.
Особенно важен для определения новгородской летописной версты подробный рассказ: «О поезде великого князя в Великий Новгород» в 1476 г. (Софийская II летопись).
«Поезд» Ивана III выехал из Москвы 22 октября 1476 г. и- вплоть до Новгородской земли указывались только дни пути. В пределах же Новгородской земли, где великого князя торжественно встречали бояре и представители города, указаны и расстояния. В пятницу 17 ноября Иван III стоял во Влукоме на устье Вол- мы; здесь его встречали посадские и тысяцкие. «А изо Влукома стоял князь велики в Рыдыне на реце на Холове; ту его -стретил Великого Новгорода архиепископ Феофил, от города за 90 верст... А из Рыдина стоял князь велики ноября 19 в неделю на Лытне, на реце Мете за 50 верст... В 20 в понедельник, стоял князь велики в. Плашкине, за полтретъядцатъ верст» (Софийская II летопись)45. Лытню не удалось найти на карте, а Плашкино и Рыдин определены. На левом берегу реки Холовы, притоке Меты, находится село Старое Рыдино. Расстояние от Рыдина до Новгорода (до окраины города) по прямой 58 км, а по дороге, идущей вдоль берега Меты, — около 70 км. Расстояние от Плашкина до окраины Новгорода— 19 км. Мы получаем, таким образом, следующие данные..
Таблица 2
Дата
Наименование пунктов
«Версты* XV в. (новгородские)
Километры
Теоретически допускаемые версты (500 саженей по 1,527 м—763,56 м)
1456 г. 1476 г.
Новгород—Яжелбицы Новгород—Рыдынь на Холове
Новгород—Плашкино
150
90
115,2
70
150x763=114,5 км
90 x 763= 68,72 км
1476 г.
25 («полтреть- ядцать»)
19
25x763=19,03 км
44 ПСРЛ, т. VI, стр. 181. Этот текст есть и в Софийской I летописи в двух вариантах. Расстояние указано словами, что уменьшает вероятность ошибки.
45 ПСРЛ, т. VI, стр. 200—201.
— 185 —
'Приведенная таблица свидетельствует о том, что в XV в. в Новгороде i(a по другим данным и в Пскове) существовала особая верста, отличная и от московских и от смоленских «великих верст» (московская верста в 500 «прямых» саженей по 152,7 см). Протяжение этой новгородской версты — 763,5 м.
Для эпохи феодальной раздробленности, когда в каждом княжестве существовала своя монетная система, свои обычаи и пошлины, когда складывались такие поговорки, как «что город—то норов», для этой эпохи было характерно и обилие различных областных мер длины.
Все предыдущие разыскания можно свести в общую таблицу.
Таблица 3
Наименование меры длины
Область применения
Отношение к саженям
Протяженность, в метрах
количество саженей
вид саженей в сантиметрах
Верста
Сев.-Вост. Русь
500(?)
216(?)
1080
Верста
Новгород, Псков
500
152,7
763
Великая верста
Смоленск
1000(?)
216(?)
2160
Поприще (иногда наз. верстой)
Г а лич, Смоленск и др.
750
176,4
1323
* * *
Понимание природы, ее взаимоотношений с человеком, закономерности и причинной связи .природных явлений, .понимание сущности мироздания — все это было затруднено в средние века активным вмешательством богословского религиозно-мистического мировоззрения с его узкими рамками примитивных библейских представлений.
В дошедших до нас письменных памятниках древней Руси XIII—XV вв. отношение к вопросам естествознания выступает в двух формах: во-первых, это описания тех природных явлений, которые внезапно и властно нарушали «нормальную жизнь людей (наводнения, засуха, грозы, ураганы), а во-вторых, — размышления о причинах явлений и о системе мироздания.
Простое описание фактов очевидцем, свидетелем событий производилось двояко: или с позиций христианского назидания или .просто с позиций наблюдателя и участника событий, повествующего для памяти потомкам.
Еще в XI—XII вв. под влиянием византийского провиденциализма объясняли все эти явления .как «знамения» божьей воли, как предостережение людям или же как наказание им за грехи. Природа выступала как овеществленная воля грозного и мстительного бога. По мнению некоторых христианских авторов, одно из небес — 186 —
было даже специально наполнено духами, «пущаеми на месть человеком». Наводнение или ураган, эпидемия или нашествие иноплеменных— все это месть божества людям, а все небесные явления: грозы, затмения, кометы — таинственные знамения, чаще всего воспринимавшиеся как оповещение о неизбежной казни.
«Знамения бо в -небеси и в звездах или в солнци или птицами, или етером чим не на благо бывають, но знамения сица на зло бывают; или проявления рати или гладу или -смерть проявляють» (Лаврентьевская летопись, 1066 г.) 4<6. Эта старая точка зрения сохранялась и на протяжении всей эпохи XIII—XV вв. Иногда летописец очень примитивно писал о том, что бедствия должны напоминать о необходимости покаяния46 47, иногда же умный автор стремился по-новому использовать старое представление о знамениях, обращая их против княжеских усобиц.
Г402 г. «В великое говение, месяца марта, являшеся некое знамение на небеси: в вечернюю зорю, на западе — звезда немала аки копейным образом, верху же ея аки луч сияше, иже на востоце восходящи и на западе летнем (на -северо-западе. — Б. Р.) являшеся, тоже видехом весь той месяц таки восходящю. Се же является грех ради наших... Да еже то в Еуангелии прежде Спас наш глагола- ше, то ныне в последняя времена48 все сбывается. ...А еже, рече, въстанет язык на язык и царство на царство: се бо въсташа языци, воеватися ратующе ово Татарове, ово же Туркове, инде же Фря- зове, а инде Ляхове, а онамо Немци, а овамо глаголемая Литва.
Что ли поминаю Татаров, и Турков... Но и мы сами, рекомые хрестьяне... створяем промежу собою брани и рати и кровопролития.
Случаетьбося сице: въсгает правоверный князь на правовер- наг-о князя, тоже на брате своего или на дядю, и бывает промежду ими вражда и непокорение, гнев же и ярость, конечна же рать, брань, сеча бо и кровопролитие, еже есть междусобная рать, межюусобица промежу ими бывають. Подаждь, Господи, правоверным князем нашим мирное княжение и тихо и кротко и немятежно, и независтно... да и мы в тишине их тихо и безмолвно житие поживем... И .понеже время последнее приходить и скращено есть уже конець житию приближается, и знамения, яже в звездах являются» (Новгородская IV летопись) 49.
46 ПСРЛ, т. I, стр. 165.
47 1280 г. «Того же лета быша Громове страшни, и ветры силни, и вихри велицы, и бури зелныя и млениа многа. И много людей гром поби, и мнози мле- ниами опалены быша; инде же вихр силен и дворы изо основания исторже, и с людми и сс всем бытом и занесе далече. Сице бо показа господь знамениа своа, обращаа и приводя нас на покаяние...» (Никоновская летопись. ПСРЛ, т. X, стр. 158).
48 XV столетие прошло под знаком ожидания предполагавшегося «конца мира». По русско-византийскому счету тогда шла последняя сотня шестого тысячелетия от «сотворения мира». Роковой семитысячный год должен был наступить в 1492 г. и на протяжении всей этой последней сотни лет (6900—7000 гг. или 1392—1492 гг.) много раз писалось о «последних временах», о приближении «конца мира». В связи с этим истолковывались и многие небесные явления вроде мартовской кометы 1402 г.
49 ПСРЛ, т. IV, стр. 105—106.
— 187 —
В XIV—XV вв. появляется наряду с таким символически-на- зидательным толкованием знамений и бедствий новое, более объективное отношение к природным явлениям и к стихийным бедствиям, что, по всей вероятности, связано с новыми элементами городской идеологии.
Летописцы проявляют нередко большую наблюдательность и систематичность в описании наблюдений, но совершенно не упоминают о боге, о возмездии, о покаянии. Приведем несколько примеров.
1301 г. «В лето 6809. Выша ветри велици и бури мнози и гроз- ни и вихри силни, и громы страшны и молниа и дожди велицы, яко всем человеком въстрепетати и ужаснутися; и толики быша тучи силни, яко единым часом точию рвы и заразы яко бездны учини- шася, ветри же с вихром мнози церкви и домы житейскиа изо основания исторгоша, а еже верхи срываше и в полы храмы велиа снимаше — сих не мочно и изчести» (Никоновская летопись)50.
1302 г. «В лето 6810. Бысть буря велика зело, и много пакости бысть в людех: хоромы рвало и лесы ломило, и люди и скоты било. Того же лета бысть знамение на небеси: явися звезда на запади, луча вверх изпущая, яко хвост, к полуднию ниць» (Никоновская летопись) 51.
Наряду со стихийными бедствиями летописцы тщательно и подробно описывают эпидемии, указывая исходную точку и во всех деталях признаки болезни, ее течение, количество умерших, степень инфекционности, точное перемещение эпидемии из страны в страну, из города в город. С такой научной добросовестностью описаны две эпидемии чумы в 1352 г. и в 1364—1366 гг. Чума 60-х годов,, опустошившая Русь, была занесена к нам с Северного Кавказа из. Золотой Орды. «И во все грады разыдеся мор силен и страшен... А на Белоозере тогда ни един жив обретеся. И бысть скорбь велиа по всей земли, и опусте земля вся и порасте лесом, и бысть пустыни всюду непроходима; и полагаху в едину могилу по седми и по десяти и по дватцати человек» (Никоновская летопись) 52.
Трагическая картина запустения Руси от чумы усугублялась природными 'бедствиями: «Того же лета бысть сухомень велия по всей земле и воздух куряшеся и земля горяше».
«Того же лета бысть знамение на небеси, солнце бысть аки кровь и по нем места черны, и мгла стояла с поллета и зной и жары бяху велицы, лесы и болота и земля горяше, и реки презхоша, иныа же места воденыа до конца исохша; и бысть страх и ужас на всех человецех и скорбь велиа» (Никоновская летопись) 53.
В этих описаниях чумы, засухи, лесных и городских пожаров и вымирания целых городов нет ни одной богословской нотки, летописец (или летописцы) ни разу не назвал все эти несчастья божьей карой, рассказывая о них лишь для сведения последующих поколений. Может быть, сознание людей XIV в. в какой-то мере 50 ПСРЛ, т. X, стр. 173.
51 Там же, стр. 174.
52 ПСРЛ, т. XI, стр. 3.
53 Там же, стр. 4.
188 —
стало уже освобождаться от привнесенного из Византии наивного провиденциализма предшествующей эпохи?
По отношению ко многим необычным явлениям мы можем отметить стремление летописцев как можно точнее и подробнее описать эти явления. Вот как наблюдательный новгородский летописец рассказывал о солнечном затмении:
«Того же лета (1321) месяца июня 26, бысть знамение в солн- ци пред обеднею: чисту сущу небу, внезапу померче солнце яко на час и бысть яко месяц 5 ночий (после новолуния) и тма бысть яко в зимнюю ночь, и пакы наполнися помалу и ради быхом» ^(Новгородская I летопись) 54.
Перед нами ясная и четкая картина неполного солнечного затмения с точной датой и подробностями вроде размеров ущербленного солнца.
Под 1(275 г. в летописи дано хорошее описание известного в науке явления:
«Бысть знамение в солнце: огородися солнце яко круги, а посреди кругов кресты; дуги же быша: сини, зелены, желты, багряны, червлены; а дуги те хрепты бяху к себе. Се же бысть месяця Мая в 3 день» (Никоновская летопись) 55.
Здесь точно описано и расположение всех элементов рисунка и точный порядок цветов спектра: синий, зеленый, желтый, красный («багряный») и красно-фиолетовый («червленый»).
Летописная запись настолько точна, что может быть сопоставлена с позднейшими рисунками и фотографиями подобных явлений.
У летописцев XIV—XV вв. ясно определяется и цель записей природных явлений и стихийных бедствий — передать рассказ об этом потомкам. Рассказав о чуме, пришедшей из Индийской земли, летописец-пскович или новгородец пишет:
«Се же ми о том написавшу от многа мало, еже ми худый ум постиже и се память принесе, аще кому се непотребно будеть, да сущим по нас оставим, да не до конца забвено будеть» (Новгородская IV летопись) 56.
Другой новгородский летописец, очевидец страшного наводнения '11421 г. (когда вода разлилась до Прусских ворот, фруктовые сады были уничтожены, «примостки уличные» разбиты, а люди жили на чердаках), сопоставляет это бедствие с более ранними и сообщает своим читателям, что он «уведахом прочитающе старые летописци, о нашествии водном, еже бысть в Великом Новгороде в древняя лета». Далее автор хвалит этот обычай сопоставлять современность с историческими примерами: «се же есть мудр, еже весть древняа повести».
Сам он дает очень точное и деловитое описание наводнения, рассчитанное на далеких потомков: «...яко да водрузится в мыслех слышащих и да предпосылается частою памятию сущих по сих и тако в родъ и род» ((Новгородская II летопись) 57.
54 ПСРЛ, т. III, стр. 72.
55 ПСРЛ, т. X, стр. 152.
56 ПСРЛ, т. IV, стр. 61—62.
57 ПСРЛ, т. III, стр. 138—139.
— 189 —
'Ставя перед собой почти научные задачи описания различных природных явлений для потомства «да не до конца забвено будеть», русские книжники расширяли круг своих наблюдений, записывали в сборники не только то, что видели своими глазами, но переписывали и сведения о событиях в далеких краях.
В этой связи очень интересно находящееся в составе сборника Кириллово-Белозерского монастыря XV в. «Послание Феофила Де- деркина на Москву великому князю Василию Васильевичу из-за Римья из Латинь»58 о грандиозном землетрясении в Италии 4 декабря 1456 г. Кто был этот Феофил, нам неизвестно, но наличие в Италии лица, переписывающегося с великим князем Московским по поводу землетрясения, — факт примечательный 59.
Землетрясение случилось ночью 4 декабря «за три годины до» света». Всего погибло 45 городов. Вот сведения о некоторых из них:
«Пропал город великий мурованый и с местом (посадом) в. землю, именуется Сулмана». Это город Sulmone в Абруццищ, в; 120 км к востоку от Рима.
«Местечко Город с местом; тако же то впал в землю». Здесь*, очевидно, имеется ввиду или Civita Casteliana или же Civitavecchia (Urbs Vetus) на север от Рима; оба эти пункта подходят под наименование Город.
«Сангвина город и с местом також впал в землю; толко же ся осталось 6 домов». Это — Sanguinetto в Ломбардии, южнее Вероны.
«Форнелюм город и с местом также впал в землю» (очевидно;, Fornovo близ Пармы).
«Сирена город .вел ми славный и с местом пропал весь в землю> только живых осталось 30 без единого».
«/Местечко новое Уди Квиляньскыя земли» (Udine близ Ак- вилеи).
«Любиа город мурованный и с местом изломился. Поле светлое где людей много и сам пан места того в землю впал» (очевидно, Любляна, расположенная недалеко от Удине).
«В великом месте Неополи дивное падение полат и людей, а город изломился ...» (речь идет о Неаполе).
Всего в послании Феофила перечислено 45 пострадавших городов Италии и Каринтии. Несомненно, что в XV в. кругозор рус58 Издатель — И. И. Срезневский — считает послание неясным и не сопоставляет названные в нем города с реальными итальянскими городами XV в.
59 Быть может, Феофил был как-то косвенно связан с делом бывшего киевского митрополита Исидора, перешедшего во время Флорентийского собора на сторону римского папы и ставшего впоследствии католическим кардиналом.
Московское правительство должно было интересоваться тем, что делал в Италии митрополит-изменник, бежавший из монастырской тюрьмы и пытавшийся насильственно подчинить русские земли Ватикану.
Феофил — не католик, он отрицательно настроен к папе Николаю V — «князю латинской веры» и иронически сопоставляет его предсмертное пророчество с реальной действительностью — землетрясением, во время которого «впало в землю» 45 городов латинской земли и множество латинян. В данном случае письмо о землетрясении, адресованное самому великому князю, имело для автора и для адресата не только географический, но и политический смысл, давая в руки русской православной церкви новый аргумент в пользу «нечестия» латинян, подвергшихся божьему наказанию.
— 190 —
ских людей расширился и, не довольствуясь уже только русскими сведениями, в сборники включают специальные послания независимо от их первоначальной цели о природных явлениях в далекой «Латине».
В это же время мы видим любознательных и образованных ле* тописцев, не только регистрирующих необычные природные явления для памяти потомкам, но и пытающихся по-своему истолковать их. Истолкования эти не могут, разумеется, полностью оторваться от средневекового богословского миропонимания, но авторы их, объясняя гром или молнию, ссылаются уже на специальные статьи. Так, автор одной летописной записи о буре в Новгороде 9 апреля 1419 г. '(во время которой молния убила церковного сторожа, порвала цепь паникадильную, на двух церквах «знатбу сътвори» и повредила многих горожан) добавляет:
«Якоже речи Писание о громъх и о молниях: аще от сражения облаком точию молния будеть, несть враждающи, но абие мимо ходить и изгинеть; аще ли съударяющимся облаком, и к сим сни- деть небесный блеск огнен, пламенновиден и съвокупится с мол- ниею, исходима долу творить сгорение, его же налучить; се же наречется пожар...
Невидим есть гром, ни рук человеческ имееть, прерывая, превращая и растерзан подруга от ужик своих и чадо от родитель своих; но токмо повеление владычне с страхом творить» (Новгородская IV летопись) 60.
Здесь летописец, опираясь на какое-то «писание о громах и молнии», классифицирует молнии—одни из них, происходящие от соприкосновения облаков, безвредны, другие же, возникающие при «ударе» облаков, низвергаются вниз и зажигают то, что встретят ■на пути. Здесь перед нами уже не простая регистрация фактов, а знание, почерпнутое из книг.
В одном из рукописных сборников XV в. есть интересные наблюдения, дополняющие приведенные выше рассуждения летописца.
Там разбирается вопрос о причинах запаздывания звука грома по сравнению со зрительным восприятием молнии.
«И тако есть зане зрение человеческое скорейше есть, абие (тотчас. — Б. Р.), не коснительно зрит его же хощеть узрит — не коснит (без замедлений. — Б. Р.). Сего ради и молния скоро зрить слышание же косно (с запозданием. — Б. Р.) чювствуеть и коснит слушати громный грохот и слышит его, после же мольния. Се же зри да видищи и на секущих дрова: да аще от далече нас есть се- куще, и сечиво (топор. — Б. Р.) убо видим ударяющее древо; грохот же не абье (не тотчас. — Б. Р.) слышим, но мимошедшю неко- лику часу, тогда грохот слышим. Тем образом и молниа убо не кос- не видим, гром видим последе»61.
Здесь перед нами познание природы путем опыта, наблюдений, путем сопоставления сходных явлений, другими словами — начатки науки о природе.
60 ПСРЛ, т. IV, стр. 118—119.
61 Т. И. Райнов. Наука в России XI—XVII веков. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 249—250.
— 191
* !*; *
Потребность в осмыслении природы и мироздания ощущалась прусскими книжниками все более и более; непрерывно возрастала нужда в литературе, которая примирила бы наблюдения над реальной действительностью с противоречивыми богословскими сочинениями. Внимание к «философской» (в средневековом понимании) литературе возросло настолько, что с завершении перевода сочинения греческого автора VI в. летописец сделал даже особую запись в летописи как о выдающемся событии: (1385 г.). «Того же лета преведено бысть слово святаго и премудраго Георгиа Писида «Похвала к богу о сотворении всеа твари»... емуже начало: «о вся- каго дела и богоглаголиваго словесе, и язык и ум и смысл и сердце» (Никоновская летопись) 62.
В эпоху расцвета русской культуры, сопровождавшего национальный подъем 80-х годов XIV в., в ту пору, когда подготавливался еще больший взлет, отмеченный в следующем столетии творчеством великого -Рублева, такое почтительное отношение к обогащению русских читателей новой книгой очень интересно. Христианская богословская литература, трактовавшая вопросы устройства вселенной, была очень многообразна и полна внутренних противоречий. В основном ее можно подразделить на две группы: одна из -них состоит из таких христианских произведений, авторы которых в какой-то мере опирались на античную науку, знали и ценили Аристотеля, Платона, Птолемея и пытались лишь примирить «ел- линскую философию» с основными принципами христианства.
Как правило, произведения этого рода возникли сравнительно поздно, в VI—VIII вв., когда улеглись полемические страсти первых веков христианства, когда византийский мир снова обратился к античной мудрости, молча отходя -от примитивных воззрений раннего христианства. К этой группе относятся произведения Георгия Писидийского VI в., Иоанна Дамаскина VIII в. и «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского X в.
Киевская Русь черпала свои космологические познания именно из этой группы произведений, в которых сквозили элементы античного естествознания; недаром русских книжников XII в. упрекали за то, что они слишкОхМ хорошо были знакомы с учением таких язычников, как Аристотель или Платон.
В XIII—XIV вв. большой популярностью стали пользоваться произведения другой группы, хронологически более старой и несравненно более примитивной, возникшей в первые века христианства. Возможно, что в этом сказывается тот резкий перелом в развитии культуры, тот упадок, которые характеризуют первое столетие монголо-татарского ига. И «Богословие» Иоанна Дамаскина, и «Шестоднев» были почти забыты; вновь о них вспомнили лишь в XVI в., когда А. М. Курбский собирался заново переводить «-Шестоднев» 63.
62 ПСРЛ, т. XI, стр. 86.
63 См. Т. И. Райнов. Наука в России XI—XVII веков, стр. 156. Известен псковский «Шестоднев» 1374 г. с приписками попа Саввы (см. выше), но вообще «рукописей произведений этой группы мало.
— 192 —
В XIII—XIV вв. космологические представления черпались преимущественно из таких произведений, как «Книга Еноха» или «Христианская топография» Космы Индикоплова.
«Книга Еноха* — в основе компилятивное дохристианское произведение, вышедшее из реакционных кругов иудейского жречества, пытавшегося во II—I вв. до н. э. противопоставить эллинистической идеологии свое, архаичное, полное наивных и примитивных легенд, миропонимание. Авторы «Книги Еноха» не пытались объяснить мироздание, они стремились создать фантастическую картину, которая исключила бы всякие попытки дальнейших вопрошаний и поисков. Христианство вместе с библией взяло и такие космологические произведения, как «Книга Еноха». Согласно этой книге, мир представлял собой землю и семь небес над ней: па .первом небе сосредоточены запасы воды, снега, льда и духи, которые всем этим «заведуют». Второе небо — сосредоточие тьмы и темных сил, отринутых богом. Третье небо — рай и место отдыха бога. Четвертое небо — солнце, луна, звезды. Здесь имеется огромный круг с '6-ю воротами (нечто вроде городской стены?) «и солнце выезжает через разные ворота в разное время года. Тысячи ангелов водят светило по кругу. На пятом небе, как и на втором, пребывают в заключении падшие ангелы. На шестом небе — духи, ведающие временами года, обращением солнца и луны, морями и реками, плодами земными, травой и т. п. Верхнее, седьмое небо — постоянное местопребывание бога, окруженного высшими духами, славословящими его64.
В другом месте той же книги дается иное представление о мире. Там речь идет о том, что земля, являясь как бы горизонтальной перегородкой во вселенной, отделяет тьму под землей и «твердую воду» и свет над землей.
Над надземной водой находится воздух и звезды, а еще выше — 7 хрустальных кругов отдельных планет и солнца; здесь же и 12 знаков Зодиака.
Как соотносятся между собой 7 небес и 7 кругов, 6 ворот солнечного круга и -12 знаков Зодиака — читателю остается неизвестным. Вообще вся картина мироздания в «Книге Еноха» настолько фантастична, неопределенна, эклектична и внутренне противоречива, что могла играть в средние века только глубоко реакционную роль, подменяя наблюдения над природой древними баснями жрецов.
Косма Индикоплов написал свою «Христианскую топографию» около 54'9 г. Его представления о структуре мира иные, чем в «Книге Еноха», и средневековый читатель, привыкший к авторитету книжного написания, оказывался в недоумении, если ему приходилось сопоставлять картину мира по двум этим книгам.
Земля представлялась Косме Индикоплову в виде стола или толстой прямоугольной доски с отношением ширины и длины — 1 :2; края этой геометрической фигуры поднимаются вверх в виде крутых гор и высокой стены, за которой находится уже небо. Небо— материально, оно прочно опирается на края земли и, как свод 64 См. Т. И. Райнов. Наука в России XI—XVII веков, стр. 37—39.
13 Очерки русской культуры, ч. 2 193
у кибитки, полуцилиндром возвышается над землей. Небо устроено» двойное; прослойкой между двумя небесами служит вода. Выше- верхнего невидимого неба — обиталище бога. Между первым видимым небом и землей находятся ангелы, души умерших и «круги небес», по которым ангелы катят светила.
Представления о земле как о плоскости, огражденной горами, широко проникли и в фольклорно-апокрифическую литературу.
В послании новгородского архиепископа Василия к тверскому епископу (сер. XIV в.) доказывалось существование ада на западе и рая на востоке. Василий писал, что однажды корабль с новгородскими мореплавателями достиг края земли, где возвышались высокие горы, источавшие «самосиянный» свет; за горами был рай.
Апокриф о «Хожении Зосимы к Рахманам» рассказывает в сказочной форме о сорокадневном путешествии Зосимы по пустыне пешком, а затем сверх того на верблюде, несшем его по пустыне «на хребте своем». Вуря занесла Зосиму на край земли, где была река, а от реки поднималась вверх водная преграда: «И аз возрев и видех стену облачну от земля до небеси, и рече ми облак: Зосима, человече божий, сквозе мя не проходить ни птица от мира сего, ни дух ветрен, ни солнце, ни превабитель дьявол; от суетного мира никто же не может проити сквозе мя»65.
Этот диалог путешественника Зосимы с непроницаемой облачной стеной, проходившей на рубеже «суетного мира» и страны блаженных рахманов—явное отражение и поэтическая конкретизация примитивных воззрений «Христианской топографии» Космы Индикоплова о стене, ограждающей землю и отделяющей обиталище людей от обиталища бога.
Признавая землю плоской, Косма обрушивался на античные представления о шарообразности земли и высмеивал их, приводя, самый веский аргумент против них — антиподы. Если бы существовали антиподы, то они должны были бы ходить вниз головой; дождь у антиподов должен был бы подниматься снизу вверх. При представлении земли в виде стола, конечно, места антиподам под этим столом не было.
Косма Индикоплов отвергал также установленное античным, естествознанием происхождение дождя из испарений и утверждал,, что дождевую воду льют ангелы 66.
Подобные книги могли удовлетворить запросы людей только в самую мрачную пору средневековья. Как только русская культура стала возрождаться, эта космологическая литература с ее примитивными и противоречивыми представлениями о мире, литература,, затуманивавшая и без того малопонятные вопросы, окончательна перестала удовлетворять передовую часть русских любителей «философической мудрости».
Это и объясняет нам ту радость, с которой летописец времен- Дмитрия Донского торжественно сообщает о появлении перевода, книги Георгия Писида, вернувшей русских книжников к той части христианской литературы, в которой не было такого первобытного- 65 «История русской литературы», в 10-ти томах, т. 2, ч. 1. М.—JT., Изд-во? АН СССР, 1946, стр. 149.
66 Там же, стр. 46.
194 —
хаоса примитивных богословских фантазий и .где отраженным светом светили некоторые идеи Аристотеля, Плиния, Плутарха. Георгий Писидийский — византийский автор VI в., примыкающий к первой группе богословских писателей, опиравшихся частично на античное естествознание. Правда, в определении положения земли во вселенной Георгий, как и Косма Индикоплов, был далек от античных идей: он думал, что «земля бо корабль есть на воде в истину стоящи и носящи все вселенную ...».
Большим шагом вперед является возрождение на Руси в начале XV в. античных идей, обеспечивших правильное понимание формы земли, ее положения в мировом пространстве и представление о колоссальных размерах вселенной. Все это мы находим в замечательном рукописном сборнике Кириллово-Белозерского монастыря, писанном, по преданию, самим основателем монастыря Кириллом и вводящем нас в самые глубины русского просвещения эпохи Андрея Рублева67.
На далеком Заволжском севере, вокруг древнего Белоозера,. вдали от городов, в безопасности от монголо-татарских набегов возник целый ряд монастырей и скитов «заволжских старцев». Помимо хозяйственных дел и борьбы с местными крестьянами (которые пытались даже поджечь Кириллов монастырь), монахи занимались здесь и книжной премудростью. Хорошая сохранность белозерских монастырских библиотек обусловила наше знакомство с характером этой премудрости, восставшей против традиционных устарелых богословских взглядов.
Сборник, называющийся «Странник со иными вещьми», содержит ряд географических статей, предсказания о конце мира и статьи космографического характера. Некоторые статьи имеют южнославянский характер. Время первоначального составления интересующей нас части сборника определяется как точной датой 6920 г. (11412 г.), так и сложным расчетом лет от сотворения мира: и до «конца мира»68.
Исключительно важны три статьи о земле, ее протяжении,, форме и положении во вселенной (лл. 281—284).
«О широте и о долготе. Земли расстояние есть от Востока даже до Запада стадие 25 тем. От Севера же до Полудниа 12 и пол 67 См. Валаам. Обозрение рукописей собственной библиотеки преподобного Кирилла Белозерского (ЧОНДР, 1860, кн. 2, стр. 30—31). Для данной главы использована рукопись ГИМа в Москве (сб. № 951 быв. Патриаршей библиотеки). Текст, аналогичный приводимому ниже, есть и в другой рукописи (сб. № 58 быв. Румянцевского музея).
68 «От Адама лет 6920, а поновлений изошло 173, а до конца миру отселева1 два поновления» (л. 299). Разделив 6920 на 173, мы определим, что автор называл «поновлением» сорокалетний цикл. Если автор сборника писал за два «поновления» до конца мира (1492 г.), следовательно, он писал его в 1412 г.
Цикл в 40 лет не совпадает ни с индиктом в 15 лет, ни с лунным циклом в 19 лет, ни с солнечным в 28 лет, ни с «Великим индитионом» в 532 года. Возможно, Кирилл Белозерский имел здесь в виду то, что за 40 лет обновлялся состав человечества — у людей, родившихся в начале цикла, к концу «поновления» уже рождались внуки, и старшее поколение клонилось к закату. По античным представлениям, которые могли быть известны Кириллу, человек достигал своего апогея именно в 40 лет. Этот срок и был принят за основу своеобразного счета.
13*
195 —
тмы. Двоицею бо есть долгота широка нежели широты» (л. 281). Земля здесь представлена в виде тела, у которого протяжение ь широтном направлении равно 240 000 стадий, а в меридиональном вдвое короче и равно 125 000 стадий. Судя по применению античной меры — стадии, это определение может восходить к какой-то греческой давней традиции. Эратосфен, например, исчислял протяженность экватора в 252 000 стадий.
Если вспомнить, что «стадия» этого сборника состоит из 100 «саженей» (см. выше), под которыми можно подразумевать нашу мерную сажень в 'li76,4 >см, то длина экватора будет равна 44 100 км. Истинные размеры экватора—40 076,6 км. 'Как видим, рукопись Кириллово-Белозерского монастыря давала более или менее верное представление о размерах нашей планеты.
Далее автор этих космографических статей отвергает как несообразные старые представления о том, что земля стоит на 7 столпах или на водах. Земля, по его мнению, -висит на воздухе «посреди небесной праздности». Ошибочны, по его мнению, также и представления о круглой, треугольной или четырехугольной плоскости земли.
«О земном устроении. Земное устроение ни же четвероюгольна есть, ни же треюгольна, ни же паки от кругла, но устроена есть яйцевидным устроением. И им же образом имать яйце вънутрьшием боку желчна глаголемая (желток. — Б. Р.) извъне же юду имат белта и чръпка |(белок и скорлупа. — Б. Р,). Желчь же стоит посреди. Сице ми и о Земли разумеим: Земле есть желчь яйцю, яко же посреди; небо же и воздух — белта и чръпка яйцю» (л. 2'81 об.).
Сопоставляя землю -с яичным желтком, автор прямо заявляет о шарообразности земли, резко порывая с устарелыми к 1412 г. фантастическими представлениями, удовлетворявшими многие века ученых богословов.
Автор не называет по имени Косму Индикоплова, но явно полемизирует с ним и берет под защиту (опять-таки не называя опасных имен) языческих античных «философов» — Аристотеля и Птолемея, утверждавших «круглообразность» земли. Для начала XV в. это значительный шаг вперед по сравнению с Индикопловым или «Толковой Палеей», отражавшими раннехристианскую реакцию против античной науки.
Таким же шагом вперед является и новое представление о размерах |Вселенной, пришедшее на смену устарелым взглядам, когда, например, величина Солнца определялась размерами Царьграда — всего лишь несколько километров в диаметре.
«Отстоит же небо от Земля 365 тем поприща, яже обходит человек по Халдеох за 1500 лет — тождь отстояние небо от Земля ю и окрест ее. Се же сказаша звездоблюстителя и землемерителие» >(л. 284 об.) 69.
Переведя 3 650 000 поприщ в километры, мы получим значительную цифру в 4 828 950 км. Конечно, это очень далеко от наших 69 Автор пользуется здесь любопытным приемом, переводя астрономические расстояния в повседневные: небо отстоит от земли на такое расстояние, что человеку,, делающему в день по 20 поприщ (26,5 км), пришлось бы идти целых 300 лет.
— 196 —
современных «астрономических» цифр, но это так же далеко и от средневековых упрощенных полуфольклорных представлений о досягаемости «края земли» и «края неба».
Заволжский мудрец, современник Андрея Рублева, сумел пренебречь обилием христианской литературы, освященной авторитетом имен и традицией, литературы, издевавшейся над Аристотелем^ глумившейся над антиподами и отвергавшей всякий опыт. Он сумел стать выше этой «святоотеческой» литературы и дал новую, смелую постановку вопроса о форме земли, о ее месте во Вселенной, величественно определяя ее размеры.
•Составитель статей сборника 1412 г. имел смелость противопоставить богословской традиции то новое, что сообщили «звездо- блюстители и землемерители».
* !*i *
Географический кругозор русских людей XIV—XV вв. постепенно расширялся в связи с расширением торговли, дипломатических отношений и с возрождением путешествий как таковых, облеченных в форму паломничества. Если первые десятилетия монголотатарского ига не оставили нам никаких описаний путешествий, то1 в конце рассматриваемого нами периода стоят замечательные записки Афанасия Никитина об Индии, его знаменитое «Хожение за* три моря», полное ярких и точных географических, этнографических и политических картин Индии 60-х годов XV в.
Русские путешественники-писатели, произведения которых уцелели до нашего времени, направлялись в разные концы мира из разных русских городов:
1323 г. Григорий Калика (владыка Василий) из Новгорода.
1348—1349 гг. Стефан Новгородец из Новгорода.
1370 г. Архимандрит Агрефений из Смоленска.
XIV в. Варсонофий из Полоцка.
1389 г. Игнатий Смолянин из Смоленска > (через Москву)..
1420 г. Зосима из Троице-Сергиева монастыря.
1437 г. Поп Симеон из Суздаля (через Москву).
4465 г. Гость Василий из Москвы.
'•1466 г. Гость Афанасий Никитин из Твери.
Интерес к описаниям Царьграда, Палестины, Западной Европы и других земель был так велик, что описания путешествий не только многократно копировались, но из них составлялись целые географические сборники, куда включали и знаменитое хожение игумена Даниила, современника первого крестового похода, и •позднейшие путешествия XIV—XV вв. как в выдержках, так и целиком. Купцы, ездившие на Восток, и паломники были обеспечены подробными описаниями путей, расстояний, достопримечательностей. Одно описание дополняло другое; поэтому географические сборники XV в. и летописные записи путешествий надо считать важным этапом в развитии географических знаний.
Вот выборочное описание состава статей одного из таких сборников:
— 197 —
1. Исидоров собор и хожение его (о путешествии русского духовенства на Ферраро-Флорентийский собор в 1437г.).
2. Игнатей 'Смолянин бысть в Селуни ... (отрывок из описания путешествия митрополита Пимена в 1389 г.).
3. Хожение Авраамия Суздальского (тоже о митрополите Исидоре).
4. Странник Стефана Новгородца. Сказание о пути от Царь- града к Иерусалиму.
5. Хожение Даниила игумена (путешествие в Палестину, в начале XII в.).
6. О Египте, граде велицем (путешествие Ми-сюря Мунехина ок. 1493 г.).
7. Описание Великого Новгорода («А се Велики Новгород весь описан, колко в нем церквей, оприч монастырей загордоских». О новгородских концах).
8. Послание о земном рае и другие статьи70.
Наличие больших рукописных книг с преобладанием подлинных и подробных описаний, составленных очевидцами, свидетельствует как о составительской работе любителей географии, так и о широком интересе русских читателей к далеким заморским «тридевятым царствам, тридесятым государствам». Произведения, написанные в XIV—XV вв., продолжали переписывать вплоть до XVII в.
Старейшее из послемонгольских описаний Царьграда («Сказание о святых местах о Костянтинеграде», приписываемое Василию Калике) датируется 1-323 г. Автор ведет своего читателя по Константинополю, рассказывает ему различные легенды, показывает не только святые места, но и прекрасные здания, античную скульптуру, художественную утварь. Но часто, бродя по городу-музею, русский путешественник с горечью отмечал те варварские разрушения, то надругательство над царственным городом, которое произвели в 1204 г. «фряги» — крестоносцы, взявшие штурмом второй Рим. Вот в каменном теремце икона, пославшая, как говорит легенда, в 1073 г. мастеров-зодчих в Киев; «тая же икона плакала, коли фрязове хотели выняти ...».
Вот путешественник перед дворцом императоров: «Есть царев двор Констянтинов над морем над великым. Есть на Цареве дворе узорочье — над морем высоко вельми поставлен столп камен, а на том столпе четыре столпци каменых а на тых столпцах положен камен, а в том камени вырезаны псы крылаты и орлы крылаты ка- ■менны и бораны каменный.
Бораном рога збиты, да и столпы обиты. То ж били фрязове (рыцари-крестоносцы.—Б. Р.) коли владели Царимградом. И иных узорочей много потеряли»71.
На Великой улице Царьграда автор «Сказания» любовался «Правосудием» — античной скульптурной группой из розового мрамора, но и здесь к его восхищению примешивается горечь до70 См. М. Н. Сперанский. Из старинной новгородской литературы XIV века. Л., 1934, стр. 13—17.
71 Там же, сгр. 130 и 133.
— 198 —
сады: «... гораздо было сотворено, как люди. Попортили их фрязо- ве: один перебит на-двое, другому ру.кы и ноты перебиты и носа сражено ...».
Для того чтобы лучше ориентировать своего читателя, автор «Сказания» ведет его от здания к зданию, указывая улицы, пристани, перевозы и, кроме того, страны света — полдень, полночь, запад, восток, летний запад (северо-запад), летний восток (северо- восток) и т. д.
Стефан Новгородец (ок. L349 г.) поставил как бы эпиграфом к своему «Страннику» колоссальную статую императора Юстиниана на колонне — «издалече с моря видети его». Русский путешественник, писавший незадолго до решительных битв с татарами, прежде всего сообщает своему читателю о «грозном» облике известного цесаря, который как бы грозит южным кочевникам: «правую руку от себе простер буйно на полдни, на Сороциньскую землю ...».
В «Страннике» Стефана больше живых черт, чем в «Сказании» — там только путеводитель для других, здесь же и рассказ о -себе. Стефан называет дни недели, «боярина», встречавшего группу экскурсантов, любезного патриарха Исидора, который «велми .любит Русь». Не отставая от игумена Даниила, Стефан тоже определяет иногда расстояния «перестрелами», дальностью полета стрелы. У этого автора меньше художественного вкуса, но больше практической сметки, чем у Василия Калики. Так он описал морской залив, огражденный стеной и решеткой: «Коли бывает рать с моря и ту держит корабли и катарги до треюсот. Имеет же катар- га весел 200, а иная 300 весел. В тех судех по морю рать ходить».
В заключение автор восклицает: «А в Царьграде аки в дубраву велику внити — без добра вожа не возможно ходити»72.
Необходимость руководств, которые могли бы заменить «во- жей», и вызывала потребность в записи путешествий и в последующем размножении их во многих списках.
Путешественники отмечали расстояния то в днях пути, то в верстах, указывали способы передвижения—дороги, реки, волоки (требовавшие «насадов на колесах»), скорость движения, особенности .кораблей, путевые приключения. Но самым важным было, разумеется, описание того, что они видели на пути и у цели своего хождения. I
•Плывший из Москвы в Царьград в свите митрополита Пимена Игнатий Смолянин описал южнорусские земли, запустевшие во время монголо-татарского ига: «Поплыхом рекою Доном на низ. Бысть же сие путное шествие печално и унылниво, бяше бо пустыня зело всюду, не бе бо видети тамо ничтоже: ни града, ни села, аще <бо и быша древле грады красны и нарочиты зело видением места, точью пусто же все и не населено; нигде бо видети человека, точию пустыни велия и зверей множество...» (Никоновская летопись) 73.
Далее этот автор подробно описывает татарские улусы в низовьях Дона с их овцами, конями и верблюдами. В Константино-
72 М. Н. С п е р а н с к и й. Из старинной новгородской литературы XIV века, «стр. 55 и 59.
73 ПСРЛ, т. XI, стр. 96.
— 199 —
поле наряду с обычными достопримечательностями он описывает торжественную коронацию императора Мануила. Осматривая Софийский собор, Игнатий считает нужным сообщить читателям размеры крупнейшего в тогдашней Европе купола: «И мерихом окно едино с столпом по 2 сажени; и сих 40 окон в шее церковней. И сему много чюдихомся, яко предивно и изрядно удобрено» (Никоновская летопись) 74.
Автор внимателен и к костюмам разноплеменного Царьграда; •говоря о «фрягах», венграх, венецианцах, итальянцах и испанцах он добавляет: «кождо своея земля знамя имеяху на себе и одея- ниа». Заботясь о будущих •путешественниках, для которых его «Хожение» будет вместо «доброго вожа», автор сообщает точные сведения о караван-сараях. Так, в окрестностях Иерусалима «есть и керемень-сарай поставлен, не доходя Иердана реки с пять верст, заехав за гору повернути налево с три версты...» (Никоновская летопись) 75.
В других путешествиях подробно описываются восточные или западноевропейские города: укрепления, башни, планировка улиц, городские водопроводы, бани, фонтаны, акведуки, черепитчатые кровли, больницы, библиотеки, театральные действа, «полаты вель- ми чюдны» (описания путешествия на Флорентийский собор 1437 г.).
Наибольшей подробностью, широтой кругозора и точностью наблюдений и записей отличается «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, являющееся важным источником по социально- экономической жизни Индии XV в. и превосходящее краткие записки Васко да Гамы.
Русские путешественники XIV—XV вв. своими устными рассказами и особенно описаниями своих «хожений» содействовали установлению точных знаний о других странах, созданию основ, географической науки.
* * *
В конце XIV в., когда русские земли были еще фактически раздроблены на сотни полусамостоятельных княжеств и уделов, но» когда уже шел неудержимо процесс объединения, когда прогрессивная мысль передовых русских людей, преодолев удельную косность, уже открыто стремилась к единству Руси, — в это время появляются первые географические сводки, охватывающие все «дальние и ближние» русские земли, независимо от современных политических границ, воскрешая былые пределы древнерусской народности. Как и в исторической науке, где на рубеже XIV—XV вв. проявился интерес к общерусской истории на широком фоне истории сопредельных стран (полихрон, хронографы), так и в области географических знаний мы видим, во-первых, стремление к охвату 74 ПСРЛ, т. XI, стр. юо
«Саженью» Игнатий называл здесь половину «великой сажени», т. е. меру в 124, 73 км, часто употреблявшуюся тогда наравне с половиной косой сажени в 108 см, которую тоже называли саженью. Окружность барабана собора у Игнатия — 99,78 м, а истинные размеры в XX в. — 98,42 м.
75 Там же, стр. 106.
— 200 —
всей Руси от Карпат до Заволжья и, во-вторых, желание дать сведения о широком круге стран, опоясывающих эти русские земли.
Особый интерес представляют вкрапленные в летопись статьи географического содержания. Они встречаются под 1392, 1395, 1396 гг.76 и в виде отдельного списка, помещенного в Воскресенской, Новгородской I, Ермолинской и др. летописях без определенной даты. Некоторые географические обзоры кратки и связаны с конкретными историческими событиями 77, другие же обзоры очень однотипны и производят впечатление выписок из какого-то подробного географического словаря, бывшего под рукой у летописца или у сводчика летописи: идет речь о войнах Тимура — и историк берет из этого словаря список его завоеваний; скончался епископ Стефан Пермский — и из словаря выписывается перечень племен и народов Перми Великой. Все эти статьи из предполагаемого географического словаря выделяются среди летописного текста своим стилистическим единством, все они начинаются совершенно одинаково: «А се имена тем землям и царством, еже попленил Темирь- Аксак», «А се имена живущим около Перми землям и странам и местом иноязычным», «А се имена градом всем Русским далним и ближним» (Никоновская и Воскресенская летописи) 78.
Рассмотрим первый список. Здесь мы найдем Джагатайский улус, Хоросан, Китай, Синюю Орду, Шираз, Исфагань, Орнач, Шемаху, Савас, Арзерус, Тебриз, Тифлис, Грузию («Гурзустани»), Абхазию, Багдад, Дербент («Темирьбаты, рекше Железнаа Врата»), Ассирию, Вавилонию, Севастию, Армению, Дамаск, Сарай Великий.
Основная часть списка соответствует завоеваниям Тимура. 1372—1392 гг., в конце списка добавлены Дамаск (1400 г.) и Сарай (1395 г.). Отсутствуют завоевания Тимура в Индии (Дели, 1398 г.). Чувствуется, что составитель списка первоначально перечислил современные ему названия в иранской и тюркской передаче (ср. «Гурзустани» и «Темирь-баты»), затем пополнил список библейской и христианской топонимикой, дублирующей иногда названия первой половины списка («Вавилония» при наличии Багдада, «Севастия» при наличии «Саваса») и уже в самом конце к списку были добавлены некоторые завоевания 1395—1401 гг.
Создается впечатление, что основной список был составлен в 1394—1395 гг. до получения сведений о втором разгроме Тохтамы- ша на север от Железных Ворот (1395 г.) и до похода Тимура на Русь.
Второй список, посвященный народам Северо-Востока, был составлен, очевидно, при жизни Стефана Пермского, тщательно изучавшего этот край, а может быть, и не без его участия. Здесь перечисляются местные финно-угорские народы сначала по рекам 76 ПСРЛ, т. XI, стр. 153, 159, 165.
77 «Царство Греческое... Разспространижеся тогда и власть Греческаго скипетра даже до Визы и по морю Чермному выше, Осиливрийской же стране и прочее, еще же и Ахайскими съ Селунскыми». Помещено под 1392 г., но должно соответствовать положению после 1402 г. после разгрома Баязета Тимуром, когда император Мануил вернул многие из тех земель, которые были ранее завоеваны турками (Никоновская летопись). ПСРЛ, т. XI, стр. 153.
78 ПСРЛ, т. XI, стр. 158—165; т. VII, стр. 240.
— 201
(«Двиняне, Устюжане, Виляжане, Вычежане, Пенежане, Южане, Серьяне, Гайяне, Вятчане»), а затем под теми названиями, под которыми почти все они были записаны еще в XII в. в «Повести временных лет» («Лопь, Корела, Югра, Печера, Вогуличи, Самоять, Пертасы, Пермь, Великая, глаголемая Чюсовая») 79.
Далее идет обзор гидрографии Пермской земли: «Река же пре- ваа, именем Вым, впаде в Вычегду; другаа река Вычегда, обходя- щи всю землю Пермьскую, потече в северную страну и впаде в Двину ниже Устьюга 40 верст; река же третьа Вятка потече з другую страну Перми и вниде в Каму реку. Сиа же река Кама обхо- дящи всю землю Пермьскую; по сей реце мнози языци седят, и по- тече на юг в землю Татарскую и впаде в Волгу реку ниже Казани <50 верст»'(Никоновская летопись) 80.
Наличие двух списков народов Пермской земли может свидетельствовать о том, что и здесь, как и в списке завоеваний Тимура, к реальным названиям XIV в. рука начитанного книжника приписала сведения, почерпнутые в библиотеке. Там книжник вспомнил о Вавилоне, о царе Навуходоносоре, о 40 мучениках Севастийских, а здесь книжник выписал из Нестора часть перечня «иных языков, иже дань дают Руси». Список пермских народов по рекам очень логичен и действительно дает нам только население Пермской земли в тех пределах, как они очерчены, с перечнем самих рек (Вым, Вычегда, Вятка). Список же, почерпнутый у Нестора, значительно шире понятия Пермской земли—сюда попали и Лопь (лопари) и Корела и зауральские Вогуличи и Самоядь и загадочные «Пертасы» (их у Нестора нет), в которых, вероятно, следует видеть Бур- тасов.
Очевидно, при составлении предполагаемого географического справочника за основу принимались факты, современные составителю (конец XIV в.), но к ним добавлялись и литературные сведения, взятые из самых различных источников. В этом видно стремление связать географию с историей, объединяющее перечень владений Тимура с перечнем Пермских земель.
Исключительную ценность представляет список русских городов:
«А се имена градом всем Русскым далним и ближним».
1. В начале поименованы города крайнего юго-запада (на Дунае, на Днестре, на Пруте, на Черном море).
2. «А се Польские (Подольские) грады: ...»
3. «А се грады Киевские ...»
4. «А се грады Волынские ...»
5. «А се грады Литовские ...»
6. «А се грады Резаньские ...»
7. «А се грады Смоленьские ...»
8. «А се грады Залесскые ...» 81.
79 ПСРЛ, т. XI, стр. 158, 159, 165.
80 Там же, стр. 165.
81 Всего поименовано 350 русских городов. В поздних списках добавлено
8 тверских городов. Почти одновременно появились в печати две карты этих городов, причем авторы исследований, действуя независимо друг от друга, при- дили к различным результатам. См. М. Н. Тихомиров. Список русских горо— 202 —
Попутно упоминается 51 река.
•Перечисленные восемь групп городов имеют много общих черт, но имеют и отличия. Общим является наличие во всех них крупных и мелких городов (есть даже такие, .которые ни в каких других источниках не встречаются), архаизм городов (Волынь, Пересечен, Словенеск, Вятическ, Тмутаракань и др.), полное отсутствие монастырей-городов. Общим является беспорядочное описание городов: в -списке рядом стоят города, отстоящие друг от друга на многие сотни километров; переход от одного района к другому бывает совершенно неожиданным. Очевидно, географический порядок не был особенно важен для составителей; мы должны отбросить предположение о дорожниках, так как города здесь не следуют друг за другом в порядке каких бы то ни было путей.
Различие заключается в том, что в одних группах подробно указаны каменные крепости (Залесские города, Литовские города), а в других, несмотря на несомненное наличие древних каменных укреплений, они не упомянуты (Волынские города). Некоторые города дважды упомянуты в разных группах (Козельск, Обо- ленск). Различна система описания внутри каждой группы: так, города дунайские и киевские описаны в основном по рекам; в группах волынских, залесских и литовских городов реки иногда упоминаются, а при описании Подольских городов совсем не упомянута ни одна река.
Датировка отдельных групп также имеет расхождение. Так, список Залесских городов был составлен после 1887 г. (в этом году поставлен каменный город в Порхове), а Смоленский список, несомненно, ранее 1386 г., так как город Мстиславль «прежде того был город Смоленьской, но Литва отъяла за себе» (Новгородская IV летопись, Софийская I летопись) 82, а в списке он числится еще смоленским.
Киевский список составлен, по всей вероятности, не ранее 139'4 г., так как именно в этом году киевский князь Владимир Оль- гердович потерял все свое княжество и взамен его получил далекий «литовский» город Копыл, который, однако, в списке городов показан уже в числе киевских 83.
Итак, областные списки, по всей вероятности, были составлены в разное, но близкое время — в 80—90-е годы. Время объединения дов дальних и ближних. («Исторические записки», т. 40, 1952, стр. 214—259); Б. А. Рыбаков. Древние русы. «Советская археология», 1953, № 17, стр. 31—32, рис. 2. Опубликованная здесь карта была составлена в 1940 г. и доложена в Институте истории материальной культуры в 1947 г.
М. Н. Тихомиров много потрудился над разысканием местоположения городов и перенес на карту 304 города (85% всего списка). Его основные выводы таковы: список составлен в Новгороде Великом в 1387—1392 гг. в торговых кругах. При его составлении могли быть использованы дорожники русского и украинского происхождения. Возможно, что он сопровождался первоначально чертежом.
82 ПСРЛ, т. IV, стр. 92; т. V, стр. 239.
83 «Того же лета на осень князь великий Витовт выведе его ис Киева и даст ему Копыл» (Супрасльский список. ПСРЛ, т. XVII, стр. 80). Вероятнее всего, что список киевских городов отражает владения князя Владимира Ольгердовича в 1392—1394 гг., когда Скиргайло, формально претендовавший на всю Киевщину, реально получил от Витовта только Стародуб (1393 г.). И в нашем списке Старо- дуб представляет собой отдельный «литовский» островок внутри киевских владений.
— 203 —
всех областных списков в большой общий список всех русских городов, очевидно, близко к времени составления летописных географических статей, т. е. к 1396 г.
На вопрос, где составлен этот список, можно ответить только путем исключения. Раз Москва, Новгород Великий, 'Суздальско- Нижегородское княжество названы «Залесской» землей, то, следовательно, мы должны искать автора где-то на Киевщине или на Волыни, для которых и Москва и Новгород всегда были Залесской землей 84.
Последний вопрос, связанный с этим замечательным списком городов, это вопрос о том, кто его составил, в чьей канцелярии сошлись несколько разновременных, но одинаково подробных списков, сведенных здесь чьей-то рукой?
Если речь идет только о Юго-Западной Руси, то здесь мы не найдем такого княжьего двора, который мог бы затребовать списки городов со всех концов Восточной Европы.
Пожалуй, только митрополит Киевский и Московский, объединявший своей властью и православное население Литвы, Новгород, Волынь, Рязань и другие земли, мог интересоваться столь широко* всеми русскими городами и имел реальную возможность (а может быть, и необходимость) собрать сведения о 350 городах.
Митрополит Киприан, политик и писатель, стремившийся удержать и Киев и Москву в рамках единой митрополии, — вот кто мог собрать необходимые сведения и составить список: «А се имена градом русским ближним и дальним» (Никоновская летопись) 85.
С именем Киприана (болгарина, родом из Тырнова) хорошо связывается и несомненное внимание составителя списка к «русским» городам на Дунае и за Дунаем, в числе которых упомянут и Тырнов, только что незадолго перед этим взятый турками.
С митрополичьей канцелярией хорошо согласуется отсутствие в списке такого важного раздела, как тверские города — в 1390 г. над тверским владыкой Евфимием был произведен суд. Возможно,, что конфликт митрополита с Тверской епархией и был причиной отсутствия тверских городов в списке. Список представляет, по всей вероятности, сводку тех городов и старинных маленьких полузабытых городков, которые должны были платить какую-то дань митрополиту. Утвердившись на Руси, Киприан занялся своим церковным хозяйством и затребовал со всех княжеств и земель списки городов.
Однако составление общего списка никак нельзя возводить к хозяйственным делам Киевско-Московской митрополии — ведь в самом списке об этом ничего не говорится. Единство заголовков 84 Здесь с середины XII в. Суздальский северо-восток назывался «Залесским». Появление в повестях о Куликовской битве определения «Залесская земля» применительно к Московскому княжеству связано с немосковской терминологией этих повестей, вроде «падение бедное», «закоснеша», «шоломе», «неготовые дороги» и т. п. Не связана ли эта терминология с воеводой Д. М. Боброком-Волынцем и митрополитом Киприаном? (ПСРЛ, т. XII, стр. 66 и др.)
85 Киприан гостил в Киеве у Владимира Ольгердовича. Этот князь арестовал даже киприанова соперника — Дионисия Суздальского в 1384 г. (ПСРЛ, т. XI, стр. 85). В 1396 г. Киприан снова был в Киеве и провел здесь полтора года.
— 204 —
списка городов и заголовков других географических статей 1395— 13'96 гг. говорит о том, что все это — части большого географического труда, выполнявшегося одновременно с большими обобщающими трудами по русской истории.
Задача помещения такого списка в состав летописей заключалась в том, чтобы в тяжелую годину монголо-татарского ига, в путаное время бесчисленного множества микроскопических уделов, напомнить всем русским людям от Дуная до Устюга, от Немана до Дона о том, что некогда все они составляли единое целое, что все они объединены единством языка и культурных традиций. Научная идея систематизации сочеталась здесь с передовой, прогрессивной политической идеей единства Руси, которая в эти годы, спустя пятнадцать лет .после Куликовской битвы, все больше и больше овладевала умами лучших русских людей.
Архитектура
Н. Н. ВОРОНИН
Русская культура переживала после монголо-татарского разорения пору упадка и застоя. Эта темная полоса коснулась и искусства, архитектуры в том числе. Монументальное строительство замерло или прекратилось, были в значительной мере растеряны или физически уничтожены кадры строителей, была подорвана и техническая преемственность. Поэтому во многом приходилось начинать сначала. Резко изменились и исторические условия и сама историческая география развития архитектуры. Если в домонгольскую пору мы могли обозревать многообразное творчество многочисленных архитектурных областных школ — волынской и галичской, киевской и черниговской, рязанской и владимиро-суздальской, полоцкой и смоленской, новгородской и псковской, то теперь широкие рамки этой картины резко сужаются. Центры древней строительной культуры запада и юго-запада Руси оказываются временно отторгнутыми от русской земли; строительство там прекращается. Развитие теперь сосредоточивается в двух основных районах: на новгородско-псковском северо- западе и в древней Владимирской земле с вновь поднимающимися — 206 —
центрами—Москвой и Тверью. Различны и условия развития зодчества в этих крупных областях. Если Новгород не испытал непо-. средственно монгольского удара и смог возобновить свое строитель-, ство, опираясь на свои старые традиции, то Москва и Тверь начи-. нали свою архитектурную историю вновь, используя владимиросуздальское наследие и частично сохранившиеся владимирские кадры строителей. При этом на развитие архитектуры в обеих об-> ластях оказало большое влияние деревянное зодчество, которое в условиях монголо-татарского ига, с сокращением каменного строительства, приобрело еще больший, чем раньше, удельный вес. Различным было и значение того вклада, который внесли зодчие этих областей, для дальнейшего развития русской архитектуры. Если Псков и Новгород стояли в стороне от борьбы за освобождение Руси от монголо-татарского засилья и возрождение русской культуры и дольше других областей сопротивлялись воссоединению с Москвой, то Москве пришлось вынести всю тяжесть этой борьбы, стать ее организатором и знаменосцем. История новгородского и псковского зодчества фактически и заканчивается поэтому с воссоединением северо-западных феодальных республик в Русском государстве, хотя и .в XVI—XVII вв. в их строительстве продолжают звучать самобытные черты. Напротив, история архитектуры Московского княжества, ставшего ядром Русского государства, является как бы предысторией национальной архитектуры XV— XVI вв.
Поэтому естественно начать наш очерк с деревянного зодчества, архитектуры Новгорода и Пскова и в заключение уделить особое внимание архитектуре Москвы.
Чтобы правильно судить о некоторых существенных особенностях каменного зодчества XIII—XV вв., нужно составить представление об основной сфере народного архитектурного творчества — зодчестве деревянном. Характеристика деревянного жилищного строительства этой поры опирается на большой археологический материал и рассматривается в специальной главе. Но для оценки монументальной деревянной архитектуры XIII—XV вв. мы не располагаем такими точными археологическими данными, а единичные сохранившиеся памятники относятся в лучшем случае к концу XV—XVI .вв., главным же образом к XVII—XVIII вв. Поэтому в, нашем распоряжении остаются немногие данные письменных источников и древних изображений и путь рассмотрения позднейших памятников как «этнографического» материала, пережиточно отражающего древнейшие явления L
Для сооружения монументальных построек русский «древо- дель» располагал той же техникой и тем же материалом, что и для постройки рядового жилища. Тем же был и основной элемент постройки —бревенчатый сруб — «клеть», приобретавший в больших зданиях, как храм или крепость, и большие размеры, и иную фор-
1 Основная литература: М. В. Красовский. Курс истории русской архитектуры, ч. I (Деревянное зодчество). Пг., 1916; С. За бе л л о, В. Иванов, П. Максимов. Русское деревянное зодчество. М., 1942; Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV веков, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 217—227. 207 —
му, например, шести- или восьмигранника. Рубка покрытий, опиравшихся на продолжение прямоугольного сруба — фронтона, позволяла получить и более сложные формы верха — многоугольной в сечении кровли или кровли криволинейной с крутыми «пучинами» в основании, плавно переходящими к острию конька («бочечное» покрытие). В крупных богатых постройках могла быть осуществлена и сложная композиция из «связанных» срубов и большая степень декоративной обработки деталей.
Жители лесного Севера — новгородцы еще при Ярославе Мудром славились как мастера плотничного искусства, сооружавшие грандиозные рубленные соборы, великолепные хоромы и крепости. Строились они и в Ростове, и во всей лесной полосе Руси. Уже в домонгольское время существовали дружины плотников с крупными мастерами во главе, осуществлявшие большие ответственные заказы. Были они и в XIII—XV вв. Их вместе с другими русскими мастерами монголо-татары уводили в свои земли. В 1253 г. в ставке Менгу-хана Вильгельм де Рубрук встретил русского мастера, искусного в постройке домов 2. Позднее, в XIV в., в подложном ярлыке хана Узбека в составе людей русского митрополита наряду с «каменными здателями» упоминаются также и «древодельные» — это явно не простые плотники, какими были почти все, а крупные зодчие 3. По мере ослабления монголо-татарского ига и возрождения Руси развивалось деревянное строительство и множились его мастера. Мы знаем, например, что в конце XIV в. крупная артель новгородских плотников прибыла в Устюг Великий, чтобы строить большой городской Успенский собор. Столетием позднее, в конце XV в. для новой постройки той же Устюжской церкви был послан из Ростова мастер Алексей Вологжанин с 60 ростовскими «рублевиками»4. Тогда же на вологодском посаде мастер Мишак Володин построил большой шатровый храм Вознесения5. Деревянное монументальное строительство было господствующим и в средней полосе Руси, и крупные рубленные здания играли важнейшую роль в архитектурном ансамбле городов. Описывая пожар Москвы 1408 г., летописец со скорбью отметил, что в огне погибли и созданные за много лет до того, т. е. по меньшей мере в XIV в., «чюдныя церкви», которые своими высокими силуэтами «величество града Москвы украшаху» (Рогожский летописец) 6 7. В ансамбле тверского кремля начала XV в. важнейшую роль играл огромный рубленый столп шатровой колокольни собора, являвшийся осью всей архитектурной композиции 1.
Беглые упоминания летописи о деревянных дворцовых постройках XIII—XIV вв. свидетельствуют о глубокой традиционно-
2 См. Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны. СПб., 1911, стр. 122.
3 «Собрание государственных грамот и договоров», т. II, № 7.
4 «Устюжский летописный свод» («Архангелогородский летописец»). М.— Л., Изд-во АН СССР, 1950, стр. 98—99.
5 См. М. Н. Тихомиров. Москва и культурное развитие русского народа XIV—XVII вв. «Вопросы истории», 1947, № 9, стр. 14.
6 ПСРЛ, т. XV, стр. 183.
7 См. Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV вв., т. II, стр. 392 и сл.
— 208 —
Тверской кремль в начале XV в. (по иконе кн. Михаила и Ксении). Прорись
сти их планировки и композиции. Сгоревший в 129*8 г. дворец князя Михаила Тверского был совокупностью двухэтажных клетей, связанных между собой переходами. Рядом с княжеской жилой клетью с большими окнами были обширные сени, -где помещались княжеские слуги — «княжата и боярченки»; видимо, в совокупность дворцовых хором входили и хозяйственные клети, где сгорела княжеская казна и «порты» (Никоновская летопись) 8. Подобный же дворец был в кремле у ярославских князей — в его составе также упоминаются находившиеся во втором этаже сени 9. Совокупностью разновеликих срубов был и дворец московских князей, располагавшийся на южной кромке кремлевского холма, на которую выходили важнейшие парадные помещения дворца и жилые покои князя. Здесь были «набережные сени», где стоял княжеский престол, «златоверхий терем», большая столовая — «средняя горница», где давались пиры, рядом с ней — повалуша и др.10.
Более полно и уверенно можно говорить о деревянном культовом зодчестве, которое в XIII—XV вв. проделало большой путь и, судя по письменным источникам, создало ряд выдающихся памятников.
Простейшей формой деревянной церкви был тип «клетскаго» храма. Он был подобен избе; «дом бога» отличался от нее лишь главкой с крестом на коньке и прирубами алтаря с востока и притвора с запада, также по существу повторявшего обычные избяные сени. Древнейшим памятником этого рода является крошечная 8 ПСРЛ, т. X, стр. 171.
9 См. Н. Серебрянский. Древнерусские княжеские жития. ЧОИДР, кн. 254, 1915, прил., стр. 91.
10 См. С. К. Ш а м б и н а г о. Сказание о Мамаевом побоище. СПб., 1907, стр. 18, 26 и 54; ПСРЛ, т. VI, стр. 148; т. XII, стр. 193; И. Е. Забелин. Домашний быт русского народа в XVI—XVII ст., т. I. М., 1895, стр. 25—26.
14 Очерки русской культуры, ч. 2 — 209 —
церковка Муромского монастыря в Прионежье, относимая преданием еще к XIV в. (ныне перевезена в Кижи). При той же в принципе конструктивной основе, с увеличением масштабов клети, высоты и крутизны двухскатной кровли, «клетская» церковь становилась внушительным и эффектным зданием. Иногда кровлю делали ярусной, достигая удивительной стройности и красоты силуэта. Примером этого типа является церковь Георгия в селе Юксовичах Ленинградской области 1493 г. Изысканность и совершенство ее композиции убеждает в том, что она построена задолго до конца XV в. В XIII—XV вв., возможно, развивается и тип шатрового столпообразного храма с восьмигранным срубом и шатровым верхом. Представление о простом варианте столпообразного храма дает позднейшая Никольская церковь в селе Панилове Архангельской области 1)600 г. Она в сущности напоминает в плане храмик Муромского монастыря, только место квадратной клети занял восьмерик, и, конечно, несравнима суровая монументальность столпа Паниловской церкви с его могучим шатром.
О наличии в изучаемое время сложной композиции храма с шатровым восьмериком в основе свидетельствует икона «Введение во храм» XIV в. из села Кривого той же Архангельской области, где изображен в разрезе пятишатровый храм типа позднейшей церкви в Неноксе, который носил название храма круглого «о двадцати стенах». О существовании храмов этого типа еще в конце XIII в. говорит Устюжский летописный свод, рассказывающий о неоднократных пожарах и перестройках «великой церкви» Успения богородицы в Устюге. Построенная в 1290 г., она горела и восстанавливалась в прежнем виде в 1396 и 1399 гг. После нового пожара 1490 г. туда был послан из Ростова упоминавшийся выше мастер Алексей Вологжанин со своей артелью. Однако он заложил церковь «не по старине кресчату» и, в виду недовольства устюжан, вынужден был построить в 1492 г. церковь «круглу по старине о двадцати стенах». О масштабах этой постройки говорит указание летописи, что до основания шатра она имела более 100 венцов сруба п. Можно, однако, предполагать, что и столь взволновавший устюжан тип крестообразной в плане «крестчатой» деревянной церкви с квадратным срубом в основе не был новинкой конца XV в.: давно* разработанный, он был распространен уже в XIV в. Устюжане просто хотели сохранить исконные формы своего собора.
Вологодско-устюжский север, связанный с московским центром: русской земли через могущественную ростовскую епископию, сыграл выдающуюся роль и в развитии русского каменного зодчества. Шатровый храм Вознесения, созданный в Вологде Мишаком Володиным в 1493 г., мог послужить вероятным образцом знаменитой церкви Вознесения в селе Коломенском под Москвой 11 12.
Таким образом, в деревянном зодчестве XIII—XV вв. на основе уходящих в глубокую древность традиций были созданы разнообразные и художественно совершенные типы монументальных зданий. Они строились везде — и в деревне, и на городских поса-
11 «Устюжский летописный свод», стр. 49, 65—66, 98—99, 109.
12 См. М. Н. Тихомиров. Москва и культурное развитие русского народа XIV—XVII вв. «Вопросы истории», 1947, № 9, стр. 15.
— 210 —
Церковь Георгия на погосте Юксовичи, 1493 г. область)
(Ленинградская
14*
Церковь Николы в с. Панилове, 1600 г. (Архангельская область}
дах, и в княжеских кремлях, и в дальних монастырях. Их образы были привычны и для рядового человека, на них воспитывались и вкусы «каменных здателей». Существенными в этом смысле были суровая простота объемов, сила подъятых ввысь шатровых столпов, живописность и ярусная динамика сложных пятишатровых храмов. Эти черты выношенных народом архитектурных образов не могли не захватывать творческого воображения мастеров, строивших из камня. Однако в рассматриваемое время канонические нормы культовой архитектуры были еще очень сильны и прочны, а инициатива строительства дорого стоивших каменных храмов принадлежала главным образом феодальным верхам. Поэтому мы ощутим воздействие дерева на камень лишь в частностях и
только в исключительных случаях сможем констатировать решающее влияние образов деревянного зодчества.
Если Новгород и не испытал непосредственно монголо-татарского нашествия, то последствия этой общерусской катастрофы сказались решительным образом и на его культуре. XIII в. и здесь образует темную пору в ее развитии 13. Новгород в это время вел жестокую борьбу с агрессией со стороны Ливонского ордена и Швеции. Строители, видимо, использовались на неотложных работах по крепостным сооружениям на западном порубежье Руси. Летописи до 90-х годов XIII в. упоминают лишь о трех церковных постройках, но и юни были деревянными.
Только в конце XIII — начале XIV в. положение Новгорода улучшается. Успешная борьба с западными агрессорами и возрождение широких международных торговых связей Новгорода обусловливает и быстрый подъем культуры, и возобновление каменного строительства. В Новгороде уцелели старые кадры зодчих, сохранившие свою квалификацию на строительстве крепостей. Сохранению в строительстве XIII—XIV вв. старых вкусов и традиций. 13 Основная литература: А. Строков и В. Богусевич. Новгород Великий. Л., 1939; М. К. Каргер. Новгород Великий. М.—Л., «Искусство», 1966;. его же. Новгородское зодчество. В кн.: «История русского искусства», т. II. М., Изд-во АН СССР, 1954; Т. В. Гладенко и др. Архитектура Новгорода в свете последних исследований. В кн.: «Новгород. К 1100-летию города». М., «Наука», 1964, стр. 83—263.
— 213 —
способствовало и то обстоятельство, что хозяевами новгородской жизни остаются боярская знать, купеческие верхи и крупнейший феодал — новгородский архиепископ. Они ведут в основном и монументальное строительство, в котором явно отражаются их художественные взгляды, сказывается приверженность к новгородской старине, усиливающаяся в XV в. Однако при всех этих условиях новгородское зодчество XII—XV вв. предстает перед нами как могучее и полнокровное искусство, в котором с большой силой и непосредственностью выражается суровое и прекрасное мастерство новгородских зодчих, запечатленное в серии первоклассных памятников.
Их ряд открывает знаменитая церковь Николы на Липне, построенная в 1292 г. на низменном берегу Ильмень-озера под Новгородом архиепископом Климентом 14. Ее строители следуют здесь тому своеобразному типу храма, более ранний образец которого был дан в начале XIII в. церковью Рождества богородицы на Пе- рыни. Кубический одноглавый крестовокупольный храм получает новый облик. Его четверик имеет стройные, вытянутые вверх пропорции; вместо обычных трех апсид остается одна, пониженная до половины высоты фасада. Лопатки сохраняются только на углах, подчеркивая целостность фасада и единство объема, завершенного не обычными закомарами, но, по образцу Перынского храма, пластичной трехлопастной кривой с аркатурой, позднее с легкостью подведенной под .восьмискатное покрытие. Вертикальность композиции подчеркнута в фасадах размещением окон по оси над порталами. Мастеров интересовала и некоторая нарядность здания. На стенах сделаны частично расписанные фреской нишки, а барабан украшен арочным карнизом и бровками над окнами. Для художественного облика здания весьма существен переход строителей к новой технике кладки из местного материала — известковой грубо обработанной плиты и булыжного камня с применением брусчатого кирпича, главным образом, в кладке столбов оконных проемов, ниш и сводов. Такая кладка создавала пластичность фактуры стены, мягкость и округлость линий и форм, лишенных геометрической регулярности и сухости. Эта техника кладки будет характерной для всего последующего развития новгородского зодчества. Внутри Липенской церкви были хоры с закрытыми помещениями в углах и деревянным помостом между ними; на них вела, видимо, деревянная лестница изнутри храма.
Сходными с церковью Николы на Липне памятниками были церковь Благовещения на Городище (1342—1343) и знаменитая своей росписью церковь Успения на Волотовом поле (1352), разрушенная фашистскими захватчиками. Болотовская церковь характеризуется большей простотой и задушевностью по сравнению с несколько суровым обликом церкви Николы на Липне. Монолитность ее стройного объема, завершенного красивой кривой трехлопастного покрытия, подчеркнута отсутствием лопаток даже на углах: по внешнему облику можно подумать, что церковь не имеет стол-
:Ы См. П. Н. Максимов. Церковь Николы на Липне близ Новгорода. 1В кн.: «Архитектурное наследство», вып. 2. М., Госстройиздат, 1952, стр. 86—104.
— 214 —
Церковь Николы на Липне, 1292 г.
(реставрация П. И. Максимова и Л. М. Шуляк) (Новгород)
Церковь Успения на Болотове, 1352 г. (Новгород)
бов. Только карниз барабана украшен скромным пояском аркатуры. С севера и запада пристроены без соблюдения симметрии поместительные притворы, увеличивающие полезную площадь маленького храма. В его западной части были хоры с деревянным настилом, опиравшимся на арки угловых столбов. Заинтересованность в свободе и целостности интерьера заставила зодчих широко раздвинуть подкупольные столбы и скруглить нижнюю часть их западной пары, что не раз вызывало подражание позднейших строителей. Так, церковь Михаила в Сковород- ском монастыре (1355 г.) была почти полным повторением Болотовской.
В отличие от рассмотренных памятников, в которых ясно сказывались черты нового и поиски свежих Церковь Успения на Болотове, 1352 г. План (Новгород)
решений как внешней ком¬
позиции, так и интерьера здания, церковь Спаса на Ковалеве, построенная в 1345 г. боярином Онцифором Жабиным, характеризуется тяготением к старым традиционным формам. Основной четверик завершался обычным позакомарным покрытием, сохраняя старозаветный облик «кубического» крестовокупольного храма, хотя его фасады и не были расчленены, сохранив только на углах узкие лопатки, напоминающие концы рубки клети «в обло». Также напоминая асимметричные «прирубы» деревянных хором, к храму примыкают разные по величине и форме притворы, из которых южный служил «гробницей» — усыпальницей рода Жабиных. Как и в Болотовской церкви, они значительно увеличивали площадь храма, столбы которого были также широко расставлены, освобождая центральную часть интерьера. В западной трети здания были хоры с деревянным помостом в средней части, куда вела лестница в толще западной стены. Для внешнего облика постройки характерна та же живописная пластичность стены, на которой сочно выделялся рельеф закомар и слепых арок притворов свободного, как бы
рисованного начертания.
Новгородские памятники конца XIII — первой половины XIV в., отражающие противоречивые тенденции старого и нового, свидетельствуют о плодотворной работе зодчих, находящих своеобразные технические и художественные решения, об их свобод-
— 217 —
±
±
1
1
сам.
j
Церковь Феодора Стратилата, 1360 г. (Новгород)
ном отношении к наследию и некотором влиянии на их творчество принципов деревянной архитектуры. Этот период подготавливает расцвет новгородского зодчества конца XIV — начала XV в.
Лучшие памятники этой поры являются боярскими постройками.
Церковь Феодора Стратилата на Ручье, построенная посадником Семеном Андреевичем в 1360—1361 гг., очень ярко выражает новые вкусы и потребности заказчиков. По сравнению с Болотовской церковью храм очень внушителен и монументален. Его величавый объем завершался первоначально трехлопастным покрытием, которому вторила нарядная многолопастная кривая, стягивавшая членящие фасады традиционные широкие лопатки. Алтарная апсида, вытянувшаяся кверху, украшена двухъярусной аркатурой Ее верхний пояс с узкими нишами напоминает, с одной стороны, владимиро-суздальские колончатые пояса, а с другой—декоративно переработанные аркады апсид романских соборов. Впечатления от поездок в Западную Европу сказались и в стрельчатости северного портала и оконных проемов. В декоративном уборе фасадов и барабана аркатурой, поясками треугольников, разнообразными, частью расписанными нишками и бровками сказывается стремление к подчеркнутой нарядности и украшенности храма, демонстративному богатству его внешнего облика. В этом отношении эффектный храм посадника Семена резко отличался от скромных построек предшествующей поры. Существенно отличается и интерьер Федоровской церкви, где возводились большие сводчатые хоры, вмещавшие приделы и помещения для хранения сокровищ строи-
— 219 —
теля. Этим же целям служили тайники, устроенные в нижних частях стен. На хоры вводила открытая лестница в северо-западной части храма; по деревянному переходу вдоль южной стены с хор» можно было пройти в расположенный над диакоником придел патрона строителя — Симеона Дивногорца. Посадник Семен чувствовал себя полновластным хозяином своего храма, свободно приспосабливая его к своим бытовым нуждам.
К церкви Феодора Стратилата очень близок второй замечательный памятник XIV в. — церковь Спаса на Ильине улице, построенная боярином Василием Даниловичем в 1374 г. В ее интерьере меньше нового. Ее хоры сделаны по старому типу в виде закрытых угловых камер с деревянным помостом между ними и с лестницей внутри западной стены. Храм украшала роспись великого мастера Феофана Грека, сделанная в 1378 г. на средства боярина Василия «со уличаны Ильины улицы». Во внешнем облике храма еще сильнее проявилась любовь к декоративному богатству фасадов, в уборе которых, кроме мотивов, введенных в церкви Феодора Стратилата, появляются новые. Таковы разнообразные рельефные кресты,, эффектная группа ниш и окон, объединенных многолопастной «бровкой» на южном фасаде, и пр. Все эти детали усиливают свето-теневое богатство и пластичность стенной плоскости. В этом, стремлении к обильной украшенности здания, видимо, сказалось- желание родовитых строителей выделить свой храм из среды других церквей города.
Любовь новгородских зодчих к нарядному и живописному трехлопастному венчанию фасадов храмов, отвечавшему системе- их сводов, — характерная черта русского зодчества, в котором издревле жил интерес к динамичному и впечатляющему силуэту здания. Со временем сложные трехлопастные покрытия как рассмотренных нами храмов, так и позднейших сменялись более практичными восьмискатными кровлями, образовавшими четыре фронтона, или «щипца», и сближавшими каменную церковь с жилой деревянной застройкой города. Также и примечательное изменение интерьера храма с закрытыми угловыми частями, выделявшими, крестообразное пространство средних нефов, возможно, было отражением архитектуры деревянных крестчатых церквей, о которых говорилось выше. Впрочем, этот прием имел традицию и в каменной архитектуре XII в., например в Мирожском соборе Пскова или церкви Климента в Старой Ладоге.
От двух рассмотренных классических памятников Новгорода— храмов Феодора Стратилата и Спаса на Ильине — идет ряд. церковных построек, в основном повторяющих их композиционную схему, но различных по пропорциям и частью возвращающихся к суровой простоте архитектуры. Таковы, например, очень архаичная церковь Рождества на кладбище (1381 —1382 гг.) с ее приземистыми пропорциями и обнаженными фасадами, или стройная церковь Иоанна Богослова в Радоковицах (1383—1384 гг.), церковь Власия (начало XV в.), изящная по своим пропорциям небольшая церковь 12 апостолов (1454 г.). Богато украшена церковь Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.), а у церкви Дмитрия (1462 г.)- средние закомары покрыты сплошным каменным кружевом.
— 220 —
Церковь Спаса на Ильине улице, 1374 г (Новгород)
Церковь Петра и Павла в Кожевниках, 1406 г. (реставрация Г. М. Штендер и Л. М. Шуляк) (Новгород)
Наряду с этим были восстановлены в старых формах храмов XII в. церковь Спаса в Старой Русе (1422 г.), Иоанна Предтечи на Опоках (1454 г.), Ильи на Славне (1455 г.) и др. Возникает тип очень небольших храмов, «сохраняющих при своей незначительной площади -старую систему четырехстолпной конструкции. У этих построек часто делаются нижние подклетные этажи для хозяйственных и складских надобностей. Таковы маленькие церковки Симеона в Зверине монастыре 1467 г. или Николы в Гостинополье на Волхове.
Последняя страница истории новгородского зодчества связана с именем главы боярского правительства архиепископа Евфимия, наиболее последовательного и непримиримого борца за боярские вольности и противника Москвы (1429—1458 гг.). Евфимий задумал обширное строительство своего владычного двора в детинце, целью которого являлась замена старых деревянных зданий каменными и превращение архиепископской резиденции в пышный архитектурный ансамбль. Первой и важнейшей постройкой была знаменитая Грановитая палата (1433 г.), для сооружения которой Евфимий вызвал зарубежных зодчих: «а мастеры делале немечкыи, из Заморья, с новгородскыми мастеры»15. Это было обширное квадратное трехэтажное здание, в котором летописца удивило обилие дверей: «а дверии у нее 30». Нижние сводчатые этажи палаты служили хозяйственным целям. Главным был одностолп- ный, крытый готическими нервюрными сводами торжественный зал третьего этажа, где происходили официальные приемы и заседал совет господ. Евфимий в своем обращении к западным строителям предвосхитил аналогичный вызов зарубежных мастеров для строительства Московского Кремля Иваном III.
Следом за Грановитой палатой на владычном дворе появились другие каменные здания. В 1439 г. выстроили «ключницу хлебную камену» — каменную житницу для склада хлебных запасов, стекавшихся с огромных вотчин епископа. В 1442 г. был построен архиепископский дворец. Это было большое двухэтажное здание с шестью сводчатыми помещениями, где, кроме жилых теплых покоев, «комнаты» Евфимия в верхнем этаже, «были «чашня», «поварня», «молодецкая» и другие службы, помещавшиеся внизу.
Владычный двор занимал почти четверть площади новгородского детинца, отделяясь от него стенами стоявших по периметру зданий. Над всем ансамблем господствовал выстроенный в 1443 г. столп дозорной башни — «сторожни». Эта башня обрушилась в 1671 г. и была выстроена заново. Возможно, что новая постройка воспроизводила формы древней. Это высокий, сужающийся кверху столп со слепыми арками в нижней части и ярусом звона, куда поднимались по внутренней лестнице. Башня завершалась, вероятно, шатровым покрытием.
В последующем строительстве Новгорода быстро возобладали архитектурные формы формировавшегося в Москве и ее землях общерусского зодчества.
15 НПЛ, стр. 416.
— 223 —
Церковь Симеона в Зверине монастыре, 1467 г.
(Новгород)
Грановитая палата, 1433 г. Интерьер (Новгород)
Грановитая палата, 1433 г. План (Новгород)
15 Очерки русской культуры, ч. 2
Часозвоня «сторожил», 1443—1673 гг.
(Новгород )
Как социально-политический строй Пскова, так и его художественная культура по сравнению с Новгородом характеризуются большим демократизмом 16, большим влиянием на архитектуру вкусов посадского населения. Как и в истории новгородской архитектуры, в истории псковского зодчества XIII столетие является глухой порой.
До середины XIV в. мы знаем лишь о трех случаях постройки каменных храмов. Дошедший до нас собор Сне- тогорского монастыря 1311 г. свидетельствует о привязанности псковских строителей к родной старине. Снетогорский собор почти буквально воспроизводит древний собор Ми- рожского монастыря.
Строительство оживляется с ростом экономического и политического значения города и выделением Пскова в 1348 г. из системы Новгородской земли. Эта знаменательная пора в жизни Пскова была отмечена Собор Снетогорского монастыря,
1311 г. (реконструкция Ю. П. Спе- гальского) (Псков)
крупнейшим произведением
псковских зодчих — постройкой нового Троицкого собора взамен рухнувшего в 1363 г. древнего храма 1193 г. Этот выдающийся памятник XIV в. не сохранился и известен нам по довольно точному рисунку, сделанному в конце XVII в. перед его разборкой и позволяющему дать его реконструкцию. Новое здание было выстроено» в 1365—1367 гг. на основании стен старого, с сохранением композиции его плана с притворами, пониженным нартексом и сложными пучковыми пилястрами. Однако композиция храма в целом была коренным образом переработана. Строители опустили угловые ча¬
сти основного четверика по отношению к сводам архитектурного креста, перекрыв углы сводами в четверть окружности. Благодаря этому завершение фасадов оказалось разорванным, а его центральные закомары резко поднялись вверх. Постамент под барабаном получил необычную форму — восьмерика из кокошников, покоюще- гося на четверике основания, — прием, напоминающий деревянное зодчество. По-видимому, в этой части строители применили систему
16 Основная литература: Н. Ф. Окулич-Казарин. Спутник по древнему Пскову. Псков, 1911; Н. Н. Воронин. У истоков русского национального зодчества. «Ежегодник Института истории искусств». М., Изд-во АН СССР, 1952; Ю. П. Спегальский. Псков. М.—Л., «Искусство», 1963.
15*
— 227
ступенчато-повышенных подпружных арок под барабаном, который нес небольшую главу храма. Объем высокого храма приобрел исключительно живописную динамическую композицию, усиленную постановкой главок на углах нартекса и понижением притворов, подчеркнувших высоту основного объема. Примкнувшие позднее к притворам маленькие придельные храмики, так же как устройство деревянной кровли, нисколько не противоречили духу здания, ясно проникнутого логикой деревянных форм.
Деревянное зодчество в Пскове играло в эту пору едва ли не большую роль, нежели каменное. Любопытно, что богатая корпорация псковских купцов сооружает в 1354 г. монументальный деревянный храм Софии. Строители каменного Троицкого собора проявляют смелость художественного замысла и делают большой шаг по пути глубокой переработки крестовокупольной системы храма. Они оставляют далеко позади достижения мастеров XII в.— полочанина Иоанна и смольнянина Петра Милонега, приближаясь к композиции церкви в Дьякове 1547 г. Есть основание думать, что зодчим Троицкого собора 1365—1367 гг. был псковский мастер Кирилл, поставивший в 1374 г. после ряда других работ церковь Кирилла у Смердья моста «в свое имя».
В дальнейшем жизнь Пскова не выдвигала перед строителями задач такого масштаба и идейного значения, как памятник «псковской свободы» Троицкий собор. Однако частные и корпоративные постройки, а также работы по сооружению новых крепостей давали большой простор для совершенствования архитектурного и технического мастерства преемников Кирилла. За XV в. было выстроено больше, чем за XIII и XIV вв. вместе взятые: летопись сообщает о постройке только в Пскове 22 каменных храмов и 18 раз упоминает о строительных работах по псковской крепости. Каменные постройки возникают во всей Псковской земле — на берегах Чудского озера, в удаленных монастырях и городах. Зодчество в Пскове становится подлинно народным делом. Многочисленные строители организуются в работающие по найму артели. Из этих коллективов зодчих, создателей простой и мудрой архитектуры Пскова, выделяются единичные творческие индивидуальности. Так, летопись называет зодчего Еремея, строившего в 1415 г. но-
— 228 —
Церковь Василия на Горке, 1413 г. (Псков) вый каменный храм Софии, и «мастера святой Троицы» Федора, стоявшего в 1420 г. во главе строительного братства — «дружины». Псковские зодчие в совершенстве овладевают местным строительным материалом — известковой плитой, извлекая из этого грубоватого .камня удивительный художественный эффект. В своих постройках они отражают вкусы их заказчиков псковских горожан с их деловитым практицизмом, любовью к простой красоте и целесообразности здания. Их каменные храмы, окруженные культовыми и бытовыми пристройками, органически сливаются с живописной деревянной застройкой города.
Древнейший сохранившийся памятник псковской архитектуры XV в. — церковь Василия на Горке (1413 г.) —еще проникнут духом традиционности. Это поднятый на подклетном этаже обычный четырехстолпный, одноглавый храм с тремя апсидами и тройным членением фасадов, завершающихся закомарами. По карнизу апсид и барабана главы идет характерный псковский орнамент из поясков треугольных и квадратных впадинок, подчеркивающий, как и аркатура средней апсиды, мягкую белую гладь стен. Примененная в перекрытиях храма система ступенчато-повышенных подпружных арок, интересовала здесь зодчего главным образом с точки зрения свободного интерьера здания. Предполагают, что зодчим этого храма был упомянутый выше мастер Еремей, строивший вслед за ним купеческую церковь Софии.
— 229 —
Церковь Успения богородицы в Мелётове, 1462—1463 гг. (реконструкция
Ю. П. Спегальского)
Архитектурная концепция Троицкого собора нашла отражение в двух памятниках -середины XV в., возникших по заказу псковских посадников — бояр. Церковь Успения богородицы в Мелётове, построенная г. 1462—1463 гг. на московском пограничье Псковской земли посадником Яковом Кротовым, композицией своего верха близко напоминает Троицкий собор. Пониженные угловые части перекрыты прямолинейными трехскатными кровлями, а приподнятые своды архитектурного креста — двухскатными. Выступ повышенных подпружных арок обработан снаружи в виде неравностороннего восьмигранника с двухскатными щипцовыми кровельками. Объем здания приобрел ступенчатую ярусность и динамику, сходные с силуэтом Троицкого собора. Арки, стягивающие фасадные лопатки, получили динамическую и декоративную многолопастную форму. О старых архитектурных традициях говорит и прямоугольная форма боковых апсид. Заботясь, подобно строителям Болотовской церкви, о вместительности небольшого храма, мастера скруглили его столбы. К Мелётовской церкви близка построенная в том же 1462 г. посадником Зиновием Михайловичем
— 230 —
Церковь Николы Каменноградского, XV в. Аксонометрия (Псков)
церковь Козьмы и Демьяна «с Пр имостья» в Пскове. Сложная композиция ее многоскатного верха также напоминает Троицкий «собор. В обстановке усиливающегося московского влияния он становится в глазах псковского боярства символом «псковской свободы». Художественные взгляды псковских бояр в этом смысле были сходны с вкусами новгородской знати и архиепископа Евфимия.
Но основная линия развития псковского зодчества идет в направлении все большего упрощения форм и обработки здания, боль- глей демократизации художественного языка архитектуры. Появляются простые восьмискатные покрытия, сближающие облик храма с обычным домом. Стремясь увеличить площадь небольшой церковки, зодчие разрабатывают остроумную конструкцию ступенчато повышающихся перекрещивающихся арок, позволяющую обойтись без столбов. Сначала она применялась к приделам (Василий на горке, 1413 г.), а потом и для рядовых храмов (церковь Николы Каменноградского). Интерьер храма сближается с пространством жилого дома или избы, «дом бога» с жильем человека, в нем сказываются черты камерности и интимности. В этом отражаются очень рано появившиеся в Пскове признаки «обмирщения» архитектуры. То. же стремление к поместительности небольшого храма приводит к известному и в Новгороде приему скругления столбов в четырехстолпных храмах. Заботясь об акустических свойствах храмового интерьера, псковские мастера вводят в кладку стен специальные резонаторы — глиняные кувшины-«голосни- ки», их черные круглые отверстия образуют своего рода «орнамент» на белой глади стен. Эти типы псковских культовых зданий— четырехстолпный и бесстолпный — переходят и в XVI в., когда были созданы такие первоклассные памятники, как церкви Успения в Пароменье на берегу Великой (1521 г.), Сергия в За- дужье и др.
Строительный материал — неровная известковая плита — обусловил особый характер псковских построек—мягкость их линий, пластичность поверхностей и объемов, ограниченность декоратив-
— 231 —
Церковь Успения в Пароменье, 1521 г. (Псков) ных деталей. Поверхность стен белилась или подвергалась обмазке, и здание казалось как бы вылепленным из пластичного материала или высеченным из глыбы мягкого белого камня. Это придает даже небольшим псковским храмам впечатление силы и мощности.
Особую прелесть псковских храмов составляет их живописное сочетание с приделами, папертями, крыльцами и различными бытовыми пристройками, окружающими основное здание с той непринужденностью, с какой разрастается путем «прирубов» новых клетей комплекс обычного жилья. Своеобразие силуэта псковского храма, да и городского ансамбля в целом составляют сквозные, различные по постановке, формам и величине звонницы. Появившиеся, видимо, еще в XIV в., они ведут свое начало от простых деревянных звонниц в виде бревенчатых стояков с перекладинами для небольших колоколов. В простейшей -своей форме звонница представляла два каменных столба с арочной перемычкой. Затем — 232 —
появились многопролетные или двухъярусные звонницы. Они надстраивались над стеной храма, крыльца или иной пристройки, усиливая эффект фасада и живописность композиции.
Насыщенность города многочисленными каменными храмами создавала 'Неповторимое своеобразие архитектурного ансамбля Пскова. В XV—XVI вв. закончилось.формирование звеньев его ог-
Звонница церкви Богоявления на Запсковье (Псков)
ромной крепостной стены, стягивавших город несколькими каменными поясами с высокими суживающимися кверху башнями. Каменные храмы не сосредоточивались в кремле, как это было, например, в великокняжеской Москве XIV—XV вв., а были характерны для всех районов города, как бы выявляя его демократический характер. Псковские мастера умело находили для своих построек наиболее выгодные в художественном отношении точки городского рельефа и ландшафта, проявляя тонкое понимание архитектурного ансамбля, который они совершенствовали и обогащали.
— 233 —
Псков на иконе Владычного креста
Богатый и многосторонний художественный и технический опыт псковских зодчих стяжал им общерусскую славу. И не случайно, что именно псковичи вместе с лучшими русскими мастерами и итальянскими архитекторами были в конце XV в. призваны участвовать в строительстве зданий Московского Кремля.
Владимирская земля, испытавшая всю силу монгольского разорения, казалось, была надолго обречена на состояние тяжелой подавленности и упадка. «По сравнению с порой блистательного расцвета архитектуры в XII — начале XIII в., десятилетия после 1'238 г. кажутся мертвой полосой. Но строительная деятельность продолжает теплиться. О ней говорят отрывочные сведения о ремонтах зданий или восстановительных работах, реже о небольших постройках. Уже в 1239 г. епископ Кирилл II восстанавливает церковь в Кидекше; в 1253 г. ремонтировали, а в 11287 г. перестроили церковь Бориса и Глеба на дворе ростовских князей, в конце XIII в. строят кирпичный придел Пантелеймона внутри Успенского собора во Владимире, а собор кроют оловом; новое покрытие оловом получает и Ростовский собор, в котором настилают и но- Еые майоликовые полы — «мрамором красным» 17. Эти данные говорят о том, что во Владимирской земле уцелели кое-какие строительные кадры, которые сохранили старые традиции. Вероятно, эти мастера были людьми епископа или митрополита. Ярлык Менгу-Тиму- ра, данный в 1267 г. митрополиту, называет в числе его людей, находящихся под защитой иммунитета, и «церковных мастеров», а уже цитированный подложный ярлык хана Узбека, раскрывая это •определение, называет «или каменных здателей или древодельных»18.
В процессе возрождения городов великорусского центра раньше других поднимается Тверь, становящаяся уже в середине XIII в. столицей сильного и богатого Тверского княжества, а в 1271 г. — центром епископии. Здесь прежде всего и возобновляется, каменное строительство. В 1285—4289 гг. в Тверском кремле на месте первоначальной деревянной церкви Козьмы и Демьяна строится главный храм княжества — белокаменный собор Спаса-Преображения. Он был разобран в XVII в., но сведения о нем позволяют представить себе его облик. Это был большой городской собор — «великая соборная церковь» типа шестистолпных крестовокупольных храмов. К его восточным углам примыкали придельные храмы — «малые церкви» Дмитрия и Введения. Схематическое изображение собора дано в приведенной выше иконной панораме Тверского кремля (см. рис. на стр. 209). Упоминание о «степени вы- соце перед церковью» говорит о высоких лестничных всходах перед порталами собора, поднятого на цокольной части или подкле- те. Собор завершался пятью главами, как Успенский собор 1135— 1189 гг. во Владимире. Найденные в Твери фрагменты белокаменных рельефов (человеческие маски) позволяют предполагать наличие на фасадах собора декоративной резьбы. Хранившиеся в его ризнице древние ткани, на которых были «вышиты золотом грифы 17 Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV вв., т. II, •стр. 129—134.
18 М. Д. Приселков. Ханские ярлыки русским митрополитам. Пг., 1916, стр. 97.
— 235 —
и чудовищные птицы», говорят об интересе к «звериной» орнаментике. В западной части собора были хоры, под которыми в арко- солиях ставились гробницы князей, а на их сводах, как и во владимирском Дмитриевском -соборе, была фресковая композиция — Страшный суд. Стоявший на епископском дворе собор, возможно, был связан переходами с епископскими палатами, как во владимирском Успенском соборе. Последующее украшение собора в XIV в. майоликовым полом и писанными золотом медными дверями, видимо, аналогичными суздальским «златым вратам», говорит о прочности владимирской художественной традиции в Твери XIII— XIV вв.
В 1323—1325 гг. в Федоровском монастыре в устье реки Тьма- ки царьградский игумен Иван построил каменный храм. Он не сохранился, и о нем мы ничего не знаем. Для нас важен самый факт, говорящий о широте связей Твери и дате постройки. В 1326 -г. началось каменное строительство в Москве, а в 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание против монголо-татар, жестоко подавленное татаро-московскими силами. Весьма вероятно, что тверские зодчие были уведены в Москву, это и обеспечило возможность исполнения большой строительной программы московского правительства 19.
От строительства Москвы XIV в. почти не сохранилось реальных памятников — их сменили позднейшие постройки.
История московской архитектуры открывается постройкой князем Иваном Калитой сразу четырех белокаменных храмов в Московском Кремле. Они располагались вокруг площади в южной высокой части кремлевского холма над Москвой-рекой.
Первым был построен в 1326—1327 гг. Успенский собор, повторявший по имени собор Владимира, но значительно меньший по величине. Его изображения на иконах, а также анализ летописных данных показывают, что московский храм следовал образцу Георгиевского собора в Юрьеве-Польском 1230—1234 гг., точно повторяя его размеры и композицию с тремя притворами вплоть до такой подробности, как большая величина западного притвора. Пристроенный несколько позднее в 1329 г. к северо-восточному углу придел также явно повторял Троицкий придел Георгиевского собора. Есть основания думать, что под барабаном собора был постамент, обработанный с фасадов трехлопастными арками, как это было в Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском и в храме полоцкого Спасо-Ефросиниева монастыря, созданном мастером Иоанном.
Западнее Успенского собора в 1330 г. был выстроен храм Спаса на бору. Это был также небольшой четырехстолпный храм. Источники упоминают у него «придел» и пристроенные в 1350 г. «застенок» и «притвор». Следовательно, и это здание в какой-то мере напоминало Юрьев-Польской собор, но было более асимметричным. В фундаментах существовавшего на месте древнего позднейшего собора были найдены резные белые камни, образовавшие каймы плоской орнаментальной резьбы на его фасадах и схожие с подобными поясами московских памятников начала XV в. Любо-
19 См. Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV вв.„ т. II, стр. 135—148.
— 236 —
о 5саж
I I L— I I I
План Московского Успенского собора 1326—1327, 1472 и 1475—1479 гг. (по К. К. Романову)
пытно, что в селе Городище под Коломной существовал в XIV в. белокаменный храм, в котором была применена резьба владимирского типа. Ее остатком является резной камень с изображением единорога.
<Мы ничего не знаем о характере третьего собора — княжеской усыпальницы — Архангельского, построенного в 1333 г. на южной кромке кремлевского холма, на линии южного фасада великокняжеских хором. Судя по краткости срока его сооружения — один сезон, это был также небольшой четырехстолпный храм.
Особый интерес представляет четвертая постройка — церковь Иоанна Лествичника, поставленная в 1329 г. на восточном краю кремлевской площади. Ее место занял в XVI в. столп Ивана Великого. Можно думать, что и храм Ивана Калиты был необычным.
— 237 —
Резной камень собора Спаса на Бору в Московском Кремле Появление яруса звона над сводами увеличивало высоту здания и придавало ему башнеобразный характер. Поставленная по соседству с восточной крепостной стеной церковь Иоанна Лествичника, возможно, несла и функции дозорной башни — «сторожни».
В 1329 г. была построена новая крепость Кремля: ее стены и башни, срубленные из огромных дубовых бревен, образовали как. бы монументальное обрамление кремлевского ансамбля. Последовательность и постепенность построек Ивана Калиты (1326—1327, 1329, 1330, 1333 гг.) позволяет предположить, что здесь работала, одна артель митрополичьих мастеров, в которую вошли и зодчие,, приведенные из Твери. Как там, так и здесь их белокаменные постройки свидетельствуют о прочности владимирской архитектурной, традиции. Однако разное убранство владимиро-суздальских храмов XII—XIII вв., вызывавшее и тогда сомнения со стороны церкви, не нашло продолжения в архитектуре XIV—XV вв., сохранив, свое значение и интерес для прикладного искусства и книжной графики, где богатейшее наследие владимирских резчиков использовалось очень широко.
Новая полоса московского строительства занимает период с 60-х до 90-х годов XIV в. Как и при Калите, строительные мероприятия направляются княжеской властью. Они приобретают более широкий характер. Строят не только в Москве, но и в других городах— Коломне и Серпухове, строят князь, митрополит и монастыри. Размах строительства опирается на быстрый рост- экономического и политиче-
f
i
i
I
J
Резной камень церкви на Городище под Коломной
— 238
Московский
I — кромка тур Кремля
ского могущества Москвы, на подъем народных сил перед решающей борьбой с монголо-татарами.
Крупнейшей и первой работой этой поры является удивившее всю Русь сооружение новой белокаменной крепости Московского Кремля, осуществленное в поразительно короткий срок — за два года (1366— 1367 гг.). Площадь Кремля была значительно расширена в северо - восточном направлении. Общая длина стен составляла около 2000 м с 8 или 9 башнями. Важно, что это грандиозное «скоростное» строительство было обеспечено большим количеством мастеров белокаменной кладки, которых Москва сумела вырастить и собрать 20.
Новая белокаменная крепость была не только военно-инженерным сооружением, но и памятником художественной мысли московских строителей. Крепость строили с учетом центрального ансамбля белокаменных храмов и дворца как его обрамление, в связи с чем южную стену Кремля спустили к подножию холма, так что над ее зубцами был прекрасно виден «южный фасад» живописного кремлевского комплекса. Красоту Кремля высоко оценили современники; о Донском писали, что он «славный град свой Москву стенами чюдными огради» (Софийская летопись) 21, а великий художник Феофан Грек увековечил раз белокаменного града
20 См. Н. Н. Воронин, г. II, стр. 228—233.
21 ПСРЛ, т. VI, стр. 104.
Кремль 1339 и 1366—1367 гг. и постройки XIV в.: кремлевского холма; II — кон- Ивана Калиты; III — стены и башни Кремля 1366—1367 гг.;
храмы XIII—XIV вв.:
1 — деревянная церковь Иоанна Предтечи; 2— деревянная церковь Михаила архангела и каменный Архангельский собор 1333 г.; 3 — Успенский собор, 1326—1327 гг.; 4 — церковь колокольни Ивана Лествичника, 1329 г.; 5 — придворный собор Спаса на Бору, 1330 г.; 6 — собор Чуда архангела Михаила, 1365 г.; 7 — трапезная Чудова
монастыря, 60-е годы XIV в.;
башни Кремля 1366—1367 гг.:
8 — круглая угловая башня; 9 — Кон- стантино-Еленинские («Нижние» или «Ти- мофеевские») ворота; 10 — Фроловские ворота; 11 — Никольские ворота; 12 — круглая угловая башня; 13 — Ризположенские (Богородицкие) ворота и мост через р. Неглинную; 14 — Боровицкие ворота; 15—круглая угловая башня («Свиблова стрельница»);
16 — Чашьковы ворота
об- в росписи Архангельского собора, где, Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV вв.,
— 239 —
может быть, над гробницей Донского, «на стене написа град во градце шаровидно (т. е. красками. — Н. В.) поподробну»22.
Сам кремлевский ансамбль пополнился новыми сооружениями. В 1365 г. митрополит Алексий построил взамен деревянного белокаменный собор Чуда архангела Михаила, а несколько позднее каменную трапезную церковь. По данным жития митрополита Алексия, собор был крупнейшей постройкой Кремля — он превосходил храм Калиты. У его юго-восточного угла был придельный храм Благовещения, т. е. композиция здания характеризовалась той же живописной асимметрией, как и Успенский собор и Спас на Бору. Обрушение верха здания в 1431 г. позволяет предположить, что, подобно Успенскому собору, Чудов собор имел постамент под главой.
Второй крупной каменной постройкой Москвы был заложенный в 1378 г. собор Симонова монастыря, стоявшего на коломенской дороге со стороны «татарского прихода». Его не достроили, так как силы зодчих были переброшены на другое, более неотложное и важное строительство — на берега Оки в Коломну23.
В десятилетия, предшествующие Куликовской битве, внимание московского правительства приковано к южным границам княжества и к Оке, значение которой в защите Русской земли отразилось в ее наименовании «поясом богородицы». Крепость Коломны у устья Москвы-реки являлась важнейшим узлом этой линии обороны. Вторым таким центром был Серпухов — город сподвижника Донского князя Владимира Андреевича. Роль этих пунктов отражена в поэтических строках «Задонщины»:
На Москве кони ржут, трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, звенит слава по всей земле Русской, стоят стязи у Дону великого на брезе...
В середине XIV в. в Коломне учреждается особая епископия, в 1366 г. князь Дмитрий Иванович справляет свадьбу с Евдокией Суздальской не в Москве, а в Коломне, как полагают — в белокаменной церкви Воскресения на княжескохм дворе. Под Коломной возникают Голутвин и Бобренев монастыри — форпосты Коломенской крепости, где также, возможно, были построены каменные храмы.
Главной постройкой Коломны был большой Успенский собор. Начатый в '1379 г., он в 1380 г. рухнул «уже свершенна дошедше», г. е. будучи почти завершенным. Видимо, здесь частично сказалась спешность работы. Храм хотели закончить до решающей битвы с татарами: в том же году был освящен большой новый дубовый собор Троицы в Серпухове. Монументальные церковные постройки выдвигались на передний план борьбы с поработителями — строительство отражало лозунг этой борьбы «за землю Русскую, за церкви христианские» с «погаными» и «безбожными» «агарянами».
22 И. Э. Грабарь. Феофан Грек. В кн.: И. Э. Грабарь. О древнерусском искусстве. М., «Искусство», 1966, стр. 78.
23 См. Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV вв., т. II, стр. 187—207.
— 240 —
Возможно, что посвящение собора Успению было памятью о первой победе над татарами на реке Боже 1378 г., происшедшей 11 августа незадолго до дня Успения. В 1382 г. собор был достроен.
Как можно заключить по детальному описанию здания Павлом Алеппским, сделанному до его разборки в XVII в., и данным археологических исследований, белокаменный Успенский собор Коломны был крупнейшей постройкой московских мастеров. Это был шестистолпный городской собор, поднятый на высоком подклете, с галереей, с трех сторон ведущей к порталам храма. Его фасады, расчлененные пилястрами С полу- Церковь Рождества богородицы в Москов- колонками, опоясывали ском Кремле, 1393—1394 гг. Интерьер
на середине их высоты ленты резного орнамента, а амбразуры окон были дробно-профилированы. Западная четверть здания—притвор—была понижена, над ней поднимался основной трехзакомарный четверик храма с эффектным ярусным верхом из закомар-кокошников и асимметричным трехглавием (архитектором Б. Л. Альтшулером высказано мнение, что собор Донского был перестроен в XVI в. и Павел Алеппский описывал это позднейшее здание). Есть основания думать, что подобный же верх должен был иметь недостроенный собор Симонова монастыря в Москве — собор в Коломне строился теми же мастерами, отозванными из Москвы в Коломну.
Сопоставляя Коломенский собор с псковским собором Троицы (рис. на стр. 228), можно с особой остротой почувствовать их глубокое отличие и особенности. Если псковский храм полон бурной динамики, под напором которой композиция крестово-купольного здания коренным образом переосмыслена, то Коломенский собор — памятник Куликовской победы — наделен царственным спокойствием и праздничным величием. Он сохраняет неприкосновенным освященный древностью крестовокупольный массив храма, как бы увенчанный гигантской зубчатой короной. Идущая к своему торжеству в борьбе за объединение Руси великокняжеская Москва дорожила владимирской традицией.
Она сказалась и во втором замечательном памятнике москов-
16 Очерки ругскоЗ культуры, ч.2
— 241 —
Успенский собор в Коломне, 1379—1382 гг. (реконструкция)
ской архитектуры — дворцовой церкви Рождества Богородицы а Московском Кремле, построенной вдовой Донского княгиней Евдокией в 139*3—1394 гг. в память Куликовской битвы и князя Дмитрия. От этого здания уцелел лишь белокаменный нижний ярус. Массивные круглые столбы, несущие своды хор, близко напоминают подобный же редчайший прием дворцового собора XII в. в Бо- голюбовском замке. О той же владимирской традиции свидетельствуют аттический профиль цоколя и монументальный перспективный портал с килевидным архивольтом и бусинами-дыньками на колонках. Однако московские строители ввели в этой постройке и много своего, нового. Примечательной чертой интерьера является подчеркнутая пластичность архитектурных форм. Вторя круглым столбам, круглятся плоскости арок, их углы срезаны полукруглой фаской, многочисленные ниши имеют живописные многолопастные завершения, 'подчеркнутые красной окантовкой и т. д. Церковь была украшена росписью Феофана Грека. В одном из круглых столбов и в западной стене за ним -сделаны высокие ниши — седалища,. — 242 —
видимо, для князя и княгини на случай обычных церковных служб для княжеской семьи, когда она не поднималась -на хоры, куда из храма вела лестница в толще северной и западной стен. В этом же углу было устроено своеобразное помещение — «затвор», выходивший своей полукруглой стеной внутрь храма и освещавшийся красивыми круглыми оконцами, оформленными в виде восьмилепестковой розетки. Как можно думать, в этом затворе помещалась резная из дерева группа Воскресения Лазаря, придел которого был в храме. Культ Воскресения был популярен в Москве XIV—XV вв. в связи с возрождением, «воскрешением» страны, постепенно сбрасывавшей оковы монголо-татарского ига. Снаружи храм имел 'плоские лопатки с продолговатыми резными капителями, сходными с капителями памятников Московской архитектуры начала XV в.
В те же годы на восточном крыле кремлевского великокняжеского дворца был выстроен второй придворный белокаменный храм — храм Благовещения. Имеющий общие черты с церковью* Рождества, он был весьма своеобразной постройкой. Его нижний ярус занимал одностолпный сводчатый подклет — хранилище великокняжеской казны, сам же храм был небольшой одноапсидной бесстолпной «домовой церковью»24.
Таким образом, архитектура XIV в. — эпохи возвышения Москвы— была богата каменными постройками. Московская архитектурная школа за короткий период менее 70 лет стала очень сильной. Владимирская традиция, лежавшая в основе творчества московских мастеров, свободно развивалась и обогащалась ими. Их постройки были разнообразны по своим типам и масштабам. Как и владимирские зодчие, они превосходно владели своим искусством, что позволяло им создавать такие яркие и идейно насыщенные здания, как памятник Куликовской победы — Коломенский собор.
На фоне этой напряженной и планомерной быстро нарастающей строительной деятельности Московского княжества особенно ощутима незначительность и эфемерность архитектурных начинаний политических противников Москвы. Так, можно думать, что князь Олег Иванович Рязанский пытался возродить в своей земле монументальную архитектуру, но, видимо, каменными были лишь Успенский собор в Переяславле-Рязанском (конец XIV в.) и, может быть, храмы монастырей Солотчинского и Ольгова, о которых мы ничего не знаем25. Ниже по Оке — в древнем Муроме — в 1351 г. князь Юрий Ярославич «обнови отчину свою»; здесь были отстроены, видимо, деревянные хоромы князя и бояр и «обновлены» древние храмы (Воскресенская летопись) 26.
В Нижнем Новгороде, ставшем столицей недолговечного Суздальско-Нижегородского княжества, князья ограничивались обновлением или перестройкой древних белокаменных храмов XIII в.
24 См. Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV вв., т. II, стр. 253—269.
25 См. Г. К. Вагнер. Древнейшие памятники каменного зодчества Пере- яславля-Рязанского. «Памятники культуры», № 2. М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 20—30.
26 ПСРЛ, т. VII, стр. 215—216.
16*
— 243 —
Попытка создать по примеру Москвы каменный кремль не увенчалась успехом. В 1371 г. князь Борис поставил каменный храм Николы «на биче- ве», т. е. на берегу реки, где древнерусские бурлаки тянули суда; никаких данных об этой постройке нет. В 1370 г. митрополит Алексий построил здесь в своем Благовещенском монастыре «церковь ка- мену прекрасну». Судя по ее изображению на позднейшей иконе, это была постройка московских зодчих. Храм, видимо, имел ярусный верх и резные пояса в духе московских храмов XIV--XV вв. По существу он был не памятником нижегородской архитектуры, но памятником крепнувшего в Нижнем Новгороде влияния Москвы. По близкому соседству дат можно по- Церковь Благовещения в Московском лагать, ЧТО И церковь Ни-
Кремле, 90-е годы XIV в. Подклет КОЛЫ «на бичеве» строили
те же московские мастера 27.
Более значительными были строительные мероприятия тверских князей, осуществленные в конце XIV — начале XV в., в период последнего подъема значения Тверского княжества. В эту пору обстраивается Тверской кремль. Здесь ремонтируют старый Спасский собор (1399), строят княжеский, возможно, частью белокаменный, дворец с деревянной «палатной» церковью Михаила Архангела. Около собора вырастает высокий рубленый столп восьмигранной колокольни. Любопытно, что и Тверь ориентируется на опыт московского строительства. По специальному запросу из Твери Епифаний Премудрый присылает описание Софии Цареградской и, сравнивая с ней Московский Кремль, дает по существу его характеристику. Общий облик живописного и очень эффектного ансамбля Тверского кремля передает его иконное изображение (см. рис. на стр. 209). От этих построек ничего не сохранилось, как и от каменного храма 1404—1407 гг. Желтикова монастыря, который имел два придела, или «притвора».
27 См. Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV вв., т. II, стр. 208—216.
— 244 —
Планы храмов Старицкого городища (по раскопкам 1903 г.)
Вторым центром монументального строительства в Тверской земле была сильная крепость на Волге — Старица. Здесь были открыты остатки двух белокаменных храмов. Большой собор Михаила Архангела, построенный в 1396—1399 гг. князем Михаилом Александровичем, был трехапсидным четырехстолпным, вероятно,, одноглавым храмом. Его особенностью, как и современных ему храмов Новгорода и Москвы, является широкая расстановка подкупольных столбов, освобождавшая центральную зону интерьера, и развитая алтарная часть, отделенная каменной алтарной преградой. Пол был выстлан зелеными майоликовыми плитками. Над престолом был четырехколонный белокаменный киворий. Храм имел высокий цоколь и лестницы к порталам; последние были перспективными с бусинами на колонках. Во всех этих подробностях сказываются владимирские художественные традиции. Возможно, что при широкой расстановке столбов глава собора была поднята на повышенных подпружных арках и верх храма имел, подобно московским постройкам этой поры, ярусный характер. К северу от собора в 1404 г. князь Иван Михайлович поставил маленькую бес- столпную церковку Николы28.
Когда Тверь переживала этот период краткого подъема, Москве готовились тяжелые испытания. Назревали предпосылки большой феодальной войны, когда центробежные силы едва не подорвали достигнутых Москвой успехов в деле объединения Руси.
28 См. Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV вв.„ т. II, стр. 373—379.
— 245 —
Успенский собор в Звенигороде на Городке, ок. 1400 г.
Крупной фигурой этой борьбы является сын Дмитрия Донского князь Юрий Звенигородский, с заказом которого связан ряд сохранившихся памятников. В них мы можем видеть в натуре многие черты, которые уже отмечали в памятниках XIV в.
В стольном Звенигороде, на высокой кромке городского холма над Москвой-рекой князь Юрий построил свой придворный Успенский собор (около 1400 г.) Среди построек Юрия он наиболее совершенен, а его образ наделен светским изяществом и удивительной стройностью. Храм поднят на глухом цоколе с аттическим профилем. К его перспективным порталам ведут лестничные входы. Несколько вытянутый кверху четверик с высокими апсидами членят тонкие пилястры с полуколонками и легкими, украшенными резьбой капителями. На углах они приобретают пучковый характер. Тройная лента плоского орнамента опоясывает тело храма и проходит по карнизу апсид и барабана. Орнамент представляет собой сложное плетение растительного стиля, образующего связанные между собой медальоны; в карнизе апсид он сочетается с поребриком, что указывает на связь этой орнаментики с владимирскими источниками. Амбразуры щелевидных окон обрамлялись изящными валиками с килевидным завершением. Еле заметное сужение кверху объема храма, апсид, барабана и оконных проемов создает оптическую иллюзию большей высоты и стройности здания. Это подчеркивает и ступенчатость верха: над килевидными фасадными закомарами возвышались угловые диагональные закомары — кокошники, а высокое цилиндрическое основание барабана опоясывал венок из восьми килевидных же кокошников. Точно так же и интерьер храма казался высоким и просторным. Его широко расставленные столбы слегка сужались кверху, на стенах не было лопаток, ступенчато приподнятые арки усиливали впечатление высоты храма; сравнительно узкие хоры в западной трети здания почти не нарушали этого эффекта. Для творческой мысли характерно свободное отношение к связи внешних членений здания с его конструкцией. Так, они придают фасадам симметричное членение, не связанное с осями внутренних столбов; в тех же целях симметрии объема они несколько сдвигают к востоку главу здания, а прямоугольник подпружных арок под ней обрабатывают, как круглый постамент, и т. п. Эти принципы, появившиеся еще во владимиро-суздальском зодчестве XIII -в., московские мастера развивают и узаконивают29. Отдельные детали храма — порталы, капители, круглые оконца — розетки, освещающие внутристенную лестницу на хоры, любовь к многолопастным завершениям проемов и ниш-печур внутри здания и пр. -свидетельствуют, что храм Юрия Звенигородского строили те же зодчие, которые создали церковь Рождества в Московском Кремле.
Вторая постройка Юрия — собор Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевеком монастыре под Звенигородом (1405 г.), имея общие черты с придворным собором на Городке, сильно отличается от него по своему общему облику. Также поднятый на
29 См. Б. А. Огнев. Успенский собор в Звенигороде на Городке. МИА. № 44, 1955, стр. 20—58.
— 247 —
Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря под Звенигородом, 1405 г. (реконструкция Б. А. Огнева)
цоколе с лестничными всходами собор характеризуется тяжеловесными широкими пропорциями. Его фасады членятся простыми плоскими лопатками, орнаментальный пояс перерезает их, невысокие апсиды сильно выступают из тела храма. Как можно думать, храм имел такой же ярусный верх, как и собор на Городке, но барабан его более грузен. Изящество и стройность, присущие княжескому храму на Городке, сменились здесь известной суровостью и простотой, видимо, продиктованными иным назначением здания — монастырского собора. Существенно отличен и его интерьер. В нем исчезли хоры—типичная принадлежность храмов времени раннего феодализма. Алтарь отделен соединенной с восточ-
— 248 —
Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, 1422 г. Западный фасад (реконструкция В. И. Балдина)
ними столбами белокаменной украшенной росписью преградой. В эту пору низкие преграды постепенно превращаются в высокие иконостасы, полностью отделяющие алтарь от помещения для молящихся 30.
С храмом Саввино-Сторожевского монастыря сходен Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (1422 г.). Но и в этой постройке мы найдем много нового, свидетельствующего об энергичных и 30 См. Н. И. Брунов. Собор Саввино-Сторожевского монастыря близ Звенигорода. «Труды этнографо-археологического музея I МГУ», т. II. М., 1926,
стр. 18—22.
— 249 —
«смелых творческих исканиях московских мастеров. Здесь с еще большей силой проявляется принцип решения внешней архитектуры здания независимо от его конструкции и используется прием «оптических поправок». Как и другие рассмотренные нами памятники этой поры, храм поднят на цокольном ярусе с лестницами перед порталами. Его четверик и мощные апсиды имеют сильный наклон стен внутрь; но этот прием создает иной, по сравнению с Звенигородским собором, эффект: массив здания не становится -легким, но приобретает подчеркнутую устойчивость и пирамидаль- ность. Пропорции боковых фасадов широки и спокойны, суровость их плоскостей с редкими оконными проемами оттенена широкой горизонтальной полосой плоского орнамента и узкими лопатками, несущими дуги килевидных закомар. Как и в Звенигородском соборе, над углами храма возвышались диагональные кокошники, а за ними оформленный килевидными арками прямоугольный постамент могучей, сильно сужающейся кве<рху главы. Ее высота вместе с постаментом равнялась почти половине высоты всего здания. Сквозь схему крестовокупольного храма как бы просвечивало сходство с деревянным срубом, увенчанным шатром. Эта черта особенно ощущалась при взгляде на здание с запада, со стороны московской дороги, откуда храм представлялся как бы ярусной башней. Этот главный фасад был и богаче убран: над его порталом помещен белокаменный киот с цветным пятном фрески, изображавшей Троицу. Возможно, что эти черты внешнего облика храма были связаны с его особым назначением: он был храмом- мавзолеем над гробницей выдающегося деятеля XIV—XV вв. и основателя монастыря Сергия Радонежского. Интерьер храма также очень своеобразен. Здесь нет хор; западная пара столбов сильно сдвинута к востоку, так что западный неф почти равен среднему. Белокаменная алтарная преграда, на которой вешались шитые пелены и ставились иконы, отделяет алтарь. Все это сближает собор с теми двухстолпными храмами, которые появляются в XVI в. С этой новой структурой интерьера никак не связаны членения •фасадов лопатками. Более того, своды храма лежат ниже закомар, превращающихся в чисто декоративные парапеты над сводами, они скрывали горизонтальные линии сводов и верх храма уподоблялся зубчатой короне. В этих особенностях художественной манеры строителей впервые с такой силой звучали принципы, которые развернутся в зодчестве XVI—XVII вв. с его свободой внешней обработки здания. Мастера проявили большое внимание и к интерьеру здания. Они стремились подчеркнуть его высоту. Стены и внутренние грани столбов наклонены внутрь, арки и своды имеют повышенную овоидальную кривую, так же наклонены и стены барабана. Это создает оптическую иллюзию сильного ракурса верхних частей помещения, освещенных сильнее, чем низ помещения, и потому более «воздушных». «Пластичность» интерьера может быть связана со знакомством зодчих с кремлевской церковью Рождества31.
31 См. Н. И. Б р у н о в. К вопросу о раннемосковском зодчестве. «Труды Института археологии и искусствознания», т. IV. М., 1928; В. И. Балдин. Архитектура Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. В кн.: «Архитектурное наследство», т. 6. М., Госстройиздат, 1956.
— 250 —
Крупным шагом в развитии московской архитектуры явился 'Спасский собор Андроникова монастыря в Москве, созданный в 1425—1427 гг. на средства крупного богача, московского гостя Ермолы— родоначальника купеческой династии Ермолиных. При той же в принципе конструкции четырехстолпного крестово-купольного храма, какую мы не раз видели выше, зодчие очень (решительно переосмыслили композицию здания. Угловые своды были сильно опущены по отношению к средним сводам боковых нефов, а подкупольные арки были еще сильнее подняты по отношению к последним. Интерьер собора получил при этом большую целостность и живописность. Но особенно важно, что описанная система повышающихся к центру здания сводов определила ступенчатую ярусность объема храма, которая затронула и самый куб здания, напоминая в этом отношении Троицкий собор в Пскове (см. рис. на стр. 228). Особенно поразительна по -своей смелости и красоте композиция верха храма, где большие трехлопастные арки на каждом фасаде дополняются по осям крупными килевидными кокошниками, а в основании стройного барабана главы положен венок малых кокошников. Здесь все наполнено сложным нарастающим движением как бы пружинящих арок. Собор Андроникова монастыря показывает, что и в московской архитектуре, столь приверженной к владимирским традициям, быстро назревал процесс решительной переработки крестово-купольной системы, который приводит в XVI в. к разрыву с ней и появлению шатровых и столпообразных храмов 32.
Рассмотренные памятники первых десятилетий XV в. представляют собой лишь часть созданных Московскими мастерами, но не сохранившихся до нас построек. Так, в 1404 г. был достроен начатый в 1379 г. собор Симонова монастыря, имевший, как полагают, верх из ярусов закомар, как в соборе Коломны33. В 30-х годах XV в. был заново перестроен обрушившийся собор Чудова монастыря в Московском Кремле. Хотя новая постройка и была меньше первоначальной по площади, «но обаче высока и зело пространна и прекрасна и трикровна, выспрь восходы имея»34. Это был высокий храм с двухъярусным подклетом и также высокими лестницами перед входами. В то же время можайский князь Андрей Дмитриевич построил в своем стольном городе белокаменный -собор Николы, близкий по стилю к звенигородским храмам35, и небольшую белокаменную же церковь в монастыре Иоакима и Анны36. Видимо, при помощи московских мастеров ростовский епископ Григорий смог быстро реконструировать обрушившийся в
32 См. Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси, т. II, стр. 311 — 320. Высказана мысль, что Андроников собор построен в 90-х годах XIV в. См. В. Г. Брюсова. Спорные вопросы биографии Андрея Рублева. «Вопросы истории», 1969, № 1, стр. 35—48.
33 См. П. Н. Максимов. К характеристике памятников московского зодчества XIV—XV вв. МИ А, № 12, 1949, стр. 215—216.
34 «Житие митрополита всея Руси св. Алексия, составленное Пахомием Логофетом». СПб., 1877—1878, стр. 204—213.
35 См. Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси, т. II, стр. 267—278.
36 Там же, стр. 279—289.
— 251 —
Спасский собор Андроникова монастыря в Москве, ок. 1427 г. (реставрация Л. А. Давид:)
1408 г. Успенский собор XIII в. в Ростове и построить в 1412 г. каменную церковь Благовещения на ростовском подворье в Москве в Дорогомилове37.
Во второй четверти XV в., в княжение Бориса Александровича (1425—1461 гг.) Тверское княжество переживает свой последний расцвет, связанный с временным ослаблением Москвы феодальной войной. В это время в Тверском кремле были построены новые белокаменные придворные храмы Бориса и Глеба (1435—1438 гг.) и Михаила архангела (1452—1455 гг.). Дошедшая до нас церковь Рождества Богородицы в селе Городне (бывшем городе Вертя- зине) на Волге свидетельствует об относительной технической и художественной отсталости ее строителей. Поднятый на двухстолп- ном подклетном этаже белокаменный храм не лишен известной стройности. Тонкие столбы широко раздвинуты, образуя свободное центральное пространство. В западных углах сохранились остатки хор или, возможно, камер для хранения казны. Система сводов нечеткая: одна пара подпружных арок слита со сводами, вторая — очень слабо приподнята. Выше под барабаном идет коническая часть—как бы отрезок шатра, поставленный над парусным кольцом. По-видимому, храм первоначально имел позакомарное покрытие38.
Этот единственный памятник позволяет оценить всю разницу между затухающей творческой линией тверского зодчества и полной сил и новых исканий архитектурой Москвы, привлекающей к своему строительству лучшие кадры зодчих и вдохновляющей их размахом работ и смелостью замыслов. За период немногим более столетия московские зодчие создали свыше двадцати каменных зданий, т. е. по количеству построек история раннемосковской архитектуры даже превосходит владимиро-суздальскую. Московское зодчество, исходившее вначале из владимиро-суздальских образцов и традиций, в конце XIV—XV в. находит свой собственный путь и глубоко перерабатывает владимирское наследство. Частые катастрофы московских построек свидетельствуют не о потере строителями старого мастерства и не об их технической отсталости, а о сложности и новизне решавшихся ими задач. Это были болезни роста. В своем развитии московское зодчество находит такие художественные принципы, которые перекликаются с зодчеством XVI—XVII вв. Однако эти новые тенденции еще сдерживаются привязанностью к владимирскому искусству, к освященной традицией крестово-купольной системе храма. Новый расцвет древнерусского зодчества, связанный с временем образования Русского централизованного государства, был обязан своей стремительностью и совершенством созданных в XV—XVI вв. памятников двухвековому труду русских зодчих героической эпохи борьбы русского народа с монголо-татарским игом за возрождение Руси.
37 «Летописец о ростовских архиереях». СПб., 1890, стр. 7 и прим, на стр. 11, 13 и 14.
38 Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV вв., т. II, стр. 394—414.
Живопись
Г. И. ВЗДОРНОВ
Русская живопись второй половины XIII, XIV и XV вв. является естественным продолжением живописи домонгольской эпохи. Но в силу общерусской катастрофы, вызванной нашествием монголо-татар, ее развитие сосредоточилось в других, нежели это было раньше, художественных центрах, получило другую окраску и направление. Первым следствием событий середины XIII в. было перемещение интенсивной художественной жизни с юга на север. Правда, и северные города, главным образом в Залесье, тоже испытали «велико зло» монголо-татарского штурма, и многие из них вынуждены были долгое время влачить жалкое существование, но все же здесь удар захватчиков не имел столь тяжелых и мрачных последствий, как на юге. Ростов и Ярославль избежали вражеского разорения, так же как и крупнейшие художественные центры Северо-Западной Руси Новгород и Псков. В этих уцелевших городах, где имелось много памятников старого искусства, служивших образцами для подражания, и где сохранились живые носители культурных традиций, искусство живописи и получило свое дальнейшее развитие.
— 254 —
В Киевской Руси и в крупных государственных объединениях первоначального периода феодальной раздробленности живописное оформление храмов состояло главным образом из мозаической декорации и фресковой росписи, так как в это время сооружалось, много каменных церквей, и большинство изображений писалось на их стенах и сводах. Характерной же особенностью второй половины XIII в. является, наоборот, почти полное отсутствие памятников монументальной живописи. Это связано с прекращением строительства каменных храмов, что повлекло за собой быстрое развитие иконописи. Деревянное церковное строительство преобладало над каменным и в последующее время, когда исчезла прямая угроза порабощения Руси монголо-татарами. Поэтому иконопись, эволюционировала по восходящей линии, и на протяжении XIV и XV вв. в этой области было создано множество замечательных произведений. Вообще в этот период усиленно развивались такие виды художественного творчества, которые не требовали слишком больших денежных расходов и материальных затрат, создавались преимущественно произведения, которые в случае нужды можно было бы легко переместить с одного, места ца другое, спасти, ук- крыть, унести. Не случайно, что именно в это время, параллельно с иконописью, пышным цветом расцвело искусство рукописной книги, где подвизалось множество первоклассных каллиграфов, рисовальщиков и миниатюристов.
До середины XIII в. живопись в городах Северо-Западной и Северо-Восточной Руси была как бы ветвями единого древа, выросшего на почве культуры Киева. Областные особенности (за исключением, пожалуй, Новгорода) выражались в ней слабо. Поэтому древнейшие русские иконы, рукописи и фрески плохо поддаются классификации по областным группам. Существует немало памятников, относительно которых нельзя утверждать безоговорочно, что они являются киевскими, новгородскими или владимирскими.
Интенсивные художественные связи, которые осуществлялись между Киевом и Новгородом, Новгородом и Псковом, Киевом и Владимиром, Ростовом и Киевом, а также между русскими городами и Византией, неизбежно нивелировали процесс развития искусства, совершавшийся в отдельных городах. Они придавали ему общие черты, которые заслоняли проявления местного стиля. Дробление больших государственных территорий на уделы, начавшееся в XII в., способствовало развитию местных особенностей в искусстве того или иного княжества, и в ряде случаев оно даже привело к зарождению самостоятельных школ. В Новгороде, Ростове и Владимире уже в XII в. стали складываться художественные традиции, стоявшие по отношению к традициям Киева и Византии несколько особняком. Вторжение монголо-татар и длительная изоляция Руси от Византии, а также усилившаяся разобщенность русских городов между собой с небывалой силой подтолкнули рост областных тенденций в искусстве. Именно в XIII в. произошла окончательная кристаллизация новгородской и ростовской школ живописи, а несколько позже, уже в XIV в., — тверской* псковской, московской и вологодской.
— 255 —
1
Эволюция русской живописи в первые полвека после монголотатарского нашествия лучше всего прослеживается по памятникам Новгорода, которых сохранилось больше, чем в остальных русских городах. К тому же о местном происхождении ряда новгородских икон хорошо свидетельствуют лицевые рукописи. Для классификации древнерусских икон по месту их происхождения, а также для их датировки лицевые рукописи имеют неоценимое значение. Снабженные приписками, указывающими дату и место их написания, они становятся исходными точками для реконструкции целых школ и направлений.
До нас дошло несколько новгородских лицевых рукописей второй половины XIII в. Наибольший интерес представляет Евангелие 1270 г., написанное сыном попа церкви Благовещения на Городище Георгием для инока соседнего Юрьева монастыря Симона Г Это Евангелие содержит четыре миниатюры с евангелистами. На одном из листов под аркой восточной подковообразной формы изображен евангелист Лука. Композиция миниатюры строго симметрична. В руках у Луки раскрытая книга, но он смотрит мимо нее, в пространство. Сильные чувства словно скрыты усилием воли, движения обдуманы и рассчитаны, они насыщены глубоким смыслом. Голова Луки напоминает его изображение на нере- дицкой фреске. Городище, где была написана рукопись, и Нере- дица расположены почти рядом, и, нет никаких сомнений, автор миниатюр хорошо знал росписи церкви и сознательно ориентировался на них. Он был убежденным сторонником самых крайних местных течений в новгородском искусстве. Это тем более показательно, что /рукопись написана в центре постоянной оппозиции новгородской вольности — на княжеском дворе1 2. Отсюда видно, насколько несущественным было влияние княжеской власти и связанных с ней кругов общества на искусство Новгорода. Живопись этого города, в отличие от искусства Киева, Владимира, Ярославля и Москвы, имеет наименьшее количество памятников, созданных в придворно-аристократической среде, всегда оставляющей заметный след и на идейной направленности произведения и на манере, в которой оно исполнено.
Стилистически к Евангелию 1270 г. примыкают две замечательные иконы, тоже, следовательно, относящиеся ко второй половине XIII в.: «Иоанн, Георгий и Власий» в Русском музее и «Спас на престоле с этимасией и фигурами святых на полях» в Третьяковской галерее3. Они написаны на красном фоне. Первая из этих 1 ГБЛ, ф. 256, № 105. См. О. С. Попова. Новгородская рукопись 1270 г. (миниатюры и орнамент). «Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. 25. М., 1962, стр. 184—'219.
2 Городище было официальной резиденцией новгородских князей. Как раз в год написания Евангелия (1270 г.) в Новгороде произошло восстание: новгородцы, обвинив князя Ярослава Ярославина в насилиях и во вмешательстве в их торговые дела с немцами, изгнали его из города (НПЛ, стр. 319—321).
3 См. В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода. М.—Л., «Искусство», 1947, стр. 45—46, табл. 31, 32; Н. Г. П о р ф и р и д о в. Два произведения новгородской станковой живописи XIII в. В кн.: «Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода». М., «Наука», 1968, стр. 140—144.
— 256 —
икон обращает на себя внимание фигурой Иоанна Лествичника, более чем вдвое превышающей изображения святых Георгия и Власия. Обобщенные контуры фигуры Иоанна, ровные пряди его бороды, вертикально падающие складки одеяния и крупные черты лица делают его похожим на идола, вырубленного из дерева. При этом икона вовсе не является беспомощным примитивом. Она отличается большой художественной выразительностью. Вероятно, тому же мастеру, который написал икону трех святых, принадлежит и вторая икона — «Спас на престоле». И здесь есть Георгий и Власий, причем они очень похожи на Георгия и Власия предыдущей иконы. Обе иконы исполнены звучными красками. Мы видим здесь также чисто линейное, графическое построение формы в противовес манере письма ранних новгородских икон, где упор делался на выявление формы с помощью переходов от света к тени. В иконе Спаса его лик обработан почти орнаментальными белыми дужками. Любовь к узору видна и в остальных частях иконы.
Стилистические черты этих двух икон, идущие от самобытного народного искусства,—их не осложненная аллегориями композиция, яркие краски, влечение к орнаменту, — находят свое классическое завершение в замечательном образе Николы Липенского, хранящемся в Новгородском музее. Эта монументальная икона имеет дату и подпись художника. Она написана в 1294 г. неким Алексой Петровым для монастырской церкви Николы на Липне, расположенной в окрестностях Новгорода4. В свое время икона стояла, конечно, в храме на почетном месте и должна была привлекать к себе общее внимание. Алексе Петрову удалось создать впечатляющий образ. От иконы трудно оторваться даже сейчас, люди же XIII в. должны были испытывать перед ней еще более глубокое чувство. Никола издавна был у русских любимым святым. Ни на греческом Востоке, ни в Италии, куда впоследствии попали его мощи, культ Николая Чудотворца не получил такой чисто народной, массовой окраски, как на Руси. На севере почти не встречалось церквей, где не имелось бы посвященного ему престола и где не стояла бы его икона. Популярность Николы объяснялась преимущественно разносторонним характером прославивших его чудес, отчего он и был прозван Чудотворцем5. На Руси в народе даже сложился такой взгляд на Николу, что он будто бы мог стать богом, но только не захотел этой чести6. В Николу верили, что он может помочь в плотничьем деле, уберечь от пожара, руководить в опасном путешествии. Но больше всего его почитали как покровителя плавающих. Ему одному приписывалась исключительная сила спасать потерпевших кораблекрушение и оберегать плавающих от этого зла. На Руси, где в старое время водные пути были
4 Макарий, архимандрит. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях, ч. II. М., 1860, стр. 77—79; С. Н. А з б е- л е в. Новгородские летописи XVII в. Новгород, 1960, стр. 108—109.
5 Многие чудеса сохранились только в русских списках, их греческие оригиналы не найдены (см. А. П. Рудаков. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917, стр. 251—252).
6 См. И. Калинский. Церковно-народный месяцеслов на Руси. «Записки Русского географического общества по отделению этнографии», т. VII. СПб., 1877, стр. 332.
17 Очерки русской культуры, ч. 2 257
Алекса Петров. Никола Липенский. Икона из церкви Николы на Липне-
близ Новгорода, 1294 г. Новгородская школа
главными, культ Николы и получил поэтому столь широкое распространение. Не случайно и то, что икону, написанную Алексой Петровым, поставили в церкви на Липне, как, в свою очередь, и церковь Николы на этом месте. Липенский холм возвышается при впадении реки Меты в озеро Ильмень, а по Мете шла дорога, соединявшая Новгород с волжскими и залесскими городами. Здесь, в монастырской церкви Николы, перед его замечательной иконой просили себе помощи в трудном путешествии те, кому предстояло плыть из Новгорода, и благодарили его за благополучное завершение плавания все, кто прибывал в Новгород.
Когда смотришь на икону Николы Липенского, забываешь о- том, что это греческий святой: так много в нем чисто русского. Суровый византийский философ, каким его изображали на древнейших греческих и русских иконах, он перевоплощается здесь в. очень внимательного и деловитого наставника. Одного только мягкого жеста его благословляющей руки достаточно, чтобы понять, какие сердечные чувства были вложены в этот образ написавшим его мастером. С живой непосредственностью художник окружает образ любимого святого изображениями других святых, причем Николе, естественно, отведена главная роль. По существу это нечто вроде иконостаса, ибо на иконе присутствуют все главные его элементы, начиная от образа Спаса, представленного в символической форме этимасии7 8 на верхнем поле в центре деису- са, и кончая изображением патронального святого, во имя которого освящена церковь.
Живопись иконы Николы Липенского отличается ярко выраженной декоративностью. Белый нимб святителя украшен тонким* линейным орнаментом и красными медальонами; края ворота, кресты омофора, рукавчики и переплет книги — белыми точками, имитирующими жемчужную обнизь; фелонь разрисована геометриче- ски-четкими фигурами крестов; синий хитон — светлыми ромбовидными бляшками. В этом обилии орнамента и яркости красок, несомненно, сказалось воздействие народного искусства, которое, как известно, всегда отдавало предпочтение узору и сочному, даже грубоватому цвету.
Миниатюры Евангелия 1270 г., иконы трех святых, Спаса на престоле и Николы Липенского, а также другие близкие к ним по стилю памятники® — это наиболее выразительное и самобытное направление в новгородской живописи второй половины XIII в. Единичные иконы и росписи, отличавшиеся от византийского канона, создавались и на протяжении XII — первой половины XIII в., но в то время такие памятники носили характер эпизодических явлений и не могли получить широкого признания. Показательно, что новые стилистические приемы в новгородской станковой живо7 Этимасия — уготованный престол, символ Иисуса Христа как судии мира, на престоле обычно изображались евангелие и орудия страстей.
8 Лицевая Псалтирь второй половины XIII в. в собрании А. И. Хлудова в* Историческом музее (эта рукопись написана тем же писцом, которому принадлежит известная Псалтирь Марины, написанная до 1296 г., также хранящаяся в. ГИМе), царские врата второй половины XIII в. в Третьяковской галерее, житийная икона Георгия начала XIV в. в Русском музее и другие произведения.
17
— 259 —
писи домонгольского периода встречаются в изображениях, помещавшихся то на оборотных сторонах икон, то на их полях, то в клеймах. В целом же произведения создавались в стиле, близком к византийскому. Лишь после событий середины -XIII в. старые грекофильские традиции новгородской живописи были преодолены и заложена прочная основа для развития национального искусства. От былых греческих и полугреческих оригиналов, влияние которых еще в начале и даже в середине XIII :в. давало о себе знать во многих памятниках, к концу этого столетия осталась по сути дела одна только иконографическая схема.
Энергия мастеров этого направления была так велика, а их произведения пользовались такой популярностью, что они отваживались пробовать свои силы даже в монументальной живописи. Памятником их деятельности в этой области были погибшие во вторую мировую войну фрески Липенской церкви, от которых сейчас сохранились лишь незначительные фрагменты. Это единственные новгородские росписи конца XIII в. Они создавались после семидесятилетнего перерыва, вызванного сначала тяжелыми войнами со шведами и немцами, а потом угрозой со стороны татар. Церковь была расписана в то же время, когда Алекса Петров писал для нее местную икону Николы, т. е. около 1294 г. В работе принимало участие несколько мастеров, у каждого из которых, несмотря на общность их стиля, была тем не менее своя, ярко выраженная манера9. Это проливает, между прочим, косвенный свет на то, что их искусство не было результатом планомерного обучения в одной централизованной художественной мастерской. Вероятно, эти мастера проходили выучку в многочисленных, но мало связанных между собой мастерских.
Было бы ошибкой судить об эстетической ценности новгородских миниатюр, икон и фресок второй половины XIII в. по мерке, выработавшейся по отношению к византийскому и древнейшему русскому искусству в их классических образцах. Мы не найдем здесь ни отточенной, веками искавшейся формы, ни изысканного колорита. Но они обладают особой ценностью и очарованием. В отличие от монументального искусства более ранней эпохи, которое в подавляющем большинстве случаев поддерживалось на уровне греческих оригиналов, новгородская живопись второй половины XIII в. развивалась в тесном контакте с местным народным творчеством. В годы тяжелых испытаний, выпавших на долю всей Руси, в условиях полувоенной жизни, продолжавшейся в то время 9 Об этих фресках см.: Г. Филимонов. Церковь св. Николая Чудотворца на Липне, близ Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквах. М., 1859, стр. 11—17; «Русские древности, издаваемые... В. Прохоровым», кн. 4. СПб., 1871, стр. 42—43 (табл.); В. К. Мясоедов. Никола Липный. «Сборник Новгородского общества любителей древностей», вып. 3. Новгород, 1910, стр. 7—14 (табл. IV); D. A i n а 1 о v. Geschichte der russischen Monumentalkunst der vormoskovitischen Zeit. Berlin — Leipzig, 1932, S. 51, Taf. 30(b); Ю. Дм и т p и e в. Церковь Николы на Липне в Новгороде. Сб. «Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР». М.— Л., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 67—74; его же. Стенные росписи Новгорода, их реставрация и исследование (работы 1945—1948 гг.). «Практика реставрацион- шых работ», сб. 1. М., Госстройиздат, 1950, стр. 161—165.
— 260 —
десятилетиями, содержание крупных художественных мастерских обходилось слишком дорого, и они были распущены или сокращены. Поэтому живописные работы сосредоточились в руках отдельных мастеров. Искусство, бывшее дотоле сферой глубокого, профессионального знания, стало приближаться к народному творчеству. Этим отчасти и объясняются красочная мажорность, обобщенные линии контура, скупые, несколько застывшие композиции, повторяемость излюбленных святых на новгородских иконах. Такие иконы были понятнее и ближе для простого человека, чем суровые образы святых XII в. В поисках как можно более непосредственного и общедоступного выражения иконографических тем в новгородской живописи постепенно выработался новый художественный стиль10.
Искусство «младшего брата» Новгорода — Пскова—развивалось в аналогичном направлении. Начиная со второй половины XIII в. здесь тоже происходила критическая переоценка старого художественного наследия. Но псковские иконы не образуют столь яркой и стилистически цельной группы, как новгородские, и нередко поражают воображение крайним архаизмом своих форм. В большинстве случаев это монументальные композиции. Таковы иконы «Богоматерь Одигитрия», «Илия пророк с житием» и «Успение Богоматери», хранящиеся в Третьяковской галерее11. Они имеют широкое письмо, обобщенные силуэты фигур, но их линии кажутся несколько вялыми, а колорит недостаточно ярким. Это отсутствие движения, оцепенелость формы надолго определили характерные черты отдельных памятников псковской живописи, о чем свидетельствуют произведения первой половины и даже середины XIV в.: «Деисус» в Русском музее12, близкая к этой иконе «Богоматерь Одигитрия» из Торопца (там же) и «Никола» (Третьяковская галерея) 13. О стилистических особенностях псковских икон этой второй группы можно составить четкое представление по иконе с изображением деисуса14. Она исполнена строгости и даже величия, которые были так свойственны искусству предшествующей, домонгольской эпохи. Насыщенные краски, среди которых обращают на себя внимание густые сургучно-красная и темнозеленая, сочетаются с крупными золотыми ассистами. Несмотря на
10 Одновременно с иконами и фресками этого рода в Новгороде писались иконы, являвшиеся как бы слабым отражением старой традиции, которая во главу угла ставила византийскую форму или ее древнейшие русские варианты. Для таких икон характерны тонкие, но иногда простоватые лица, темноватый серый санкирь, вытянутые пропорции, золотая шраффировка одеяний, сумрачный колорит. Такова икона «Сошествие во ад» из Духова монастыря начала XIV в. в Новгородском музее (В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода, табл. 34).
11 См. В. И. Антонова и Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи [Государственной Третьяковской галереи], т. I. XI — начало XVI века. М„ «Искусство», 1963, № 139, 140 (рис. 91), 141 (рис. 92, 93).
12 I. Grabar. Die Malerschule des alten Pskow. «Zeitschrift fur bildende Kunst», 63, 1929/30. Hf. 1, S. 8.
13 См. В. И. Антонова и H. E. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 142, рис. 95.
14 Икона происходит из церкви Николы от кож во Пскове. Внизу имеется надпись золотом. Начало надписи утрачено, а конец читается хорошо: «... рукою икону сию ко святому Николе».
— 261
Илия пророк в житии. Икона из церкви Илии пророка в с. Выбуты близ Пскова, вторая половина XIII в. Псковская школа устойчивость художественных идеалов и силу традиций, псковская живопись развивалась чрезвычайно бурно. К сожалению, выяснение истоков нового стиля в искусстве Пскова затруднено, так как ранние псковские иконы и рукописи встречаются очень редко.
Когда мы от Новгорода и Пскова переходим к Северо-Восточной Руси, то сразу замечаем, что здесь памятников живописи сохранилось меньше, и что они чаще, чем где бы то ни было, вызывают ассоциации с искусством домонгольской эпохи. Их плохая сохранность объясняется тем, что Северо-Восточная Русь в тече— 262 —
ние более чем полутораста лет являлась главным объектом монголо-татарского владычества. Оно нанесло местному культурному наследию непоправимый ущерб. Что же касается общего характера дошедших до нас северо-восточных икон и лицевых рукописей, то в них нетрудно разглядеть их аристократическую княжескую или греческую церковную основу. В отличие от Новгорода и Пскова города Северо-Восточной Руси были преимущественно оплотом княжеской и церковной власти. Немногочисленные художественные мастерские находились либо в управлении епископов, либо при великокняжеских дворах. Замкнутый, кастовый характер искусства был выражен здесь очень сильно, и поэтому демократические тенденции не получили заметного развития.
Крупнейшим художественным центром Северо-Восточной Руси на протяжении XIII—XIV вв. был Ростов. Его выдающаяся роль в истории русской культуры основывалась на том, что он являлся средоточием церковной жизни обширного края. Здесь находилась кафедра епископа, которой подчинялось множество больших и малых городов Залесья, Поволжья и Севера. Для обслуживания церквей этой большой епархии епископы ростовские и держали у себя художественные мастерские. Еще в начале XIII в. здесь существовала, в частности, мастерская по производству лицевых рукописей, откуда вышли такие замечательные памятники книжного искусства и лицевой миниатюры, как Апостол 1220 г.15, Евангелие того же времени, принадлежащее Московскому университету 16, и так называемое Спасское евангелие, хранящееся в Ярославском музее17, куда оно, вероятно, также попало из Ростова.
Характерными признаками ранних произведений ростовской школы живописи, к числу которых принадлежат и лицевые миниатюры в этих рукописях, являются заметно вытянутые пропорции фигур, аскетические типы лиц, хрупкая форма архитектурных кулис второго плана и особая, тщательная отделка верхнего красочного слоя. Все это, несомненно, связано с очень длительной художественной традицией, восходившей в Ростове, вероятно, еще к XI—XII вв. Она выработала настолько устоявшиеся схемы и технические приемы, что последующим поколениям художников было трудно отойти от них. К тому же в силу ярко выраженной греческой ориентации ростовской кафедры эта традиция впитала в себя немало догматических элементов от византийского искусства, например, ту переутонченную форму, следы которой неизменно дают о себе знать даже в иконах XIV в. Но и в искусстве Ростова, вследствие сокращения после монголо-татарского нашествия международных и межобластных связей, на некоторое время во-
15 ГИМ, Син. 7.
16 Отдел редкой и рукописной книги Научной библиотеки им. А. М. Горького, 2Ag80.
17 См. С. О. Долгов. Описание евангелия XIII в., принадлежащего Ярославскому Архиерейскому Дому. «Труды VII Археологического съезда в Ярославле, 1887», т. III. М., 1892, стр. 52—57. К этой статье приложены также две таблицы с очень хорошими хромолитографическими воспроизведениями инициалов рукописи {XXV и XXVI). Миниатюры впервые были опубликованы П. Уваровой («Каталог ризницы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле». М., 1887, стр. 4—5, табл. 3 и 4).
— 263 —
^обладали чисто местные вкусы, для которых типично некоторое огрубление стиля. В этом (Отношении наиболее выразительна икона Спаса Н е р у ко твор ного н ач ала
XIV в.18. Тяжелая, мощная, темная по цвету, с крупными чертами лица и свободно ниспадающими прядями волос голова Христа производит необыкновенно сильное и жизненное впечатление. Но тенденция к насыще- н.и ю и ко н о гр афич е с к и х
о бра з ЦО1В с о дер ж а н и е м,
п оче рп ну тым н епо ср ед ст- венно из наблюдений окружающей художника -обстановки, неизбежно приводила к утрате той отвлеченной красоты, суще- ство1вание которой всегда рассматривалось апологетами церковной живописи как неотъемлемое качество всякой иконы. (Поэтому в рамках ростовской школы на протяжении XIII—XIV вв. происходила постоянная борьба между старой и нов-ой тенденциями истолкования догматических образов. Не случайно иконе Спаса Нерукотворного противостоит другая ростовская икона того же времени — чудесная по живописи, утонченно декоративная по стилю «Троица» из Третьяковской галереи, где как бы оживают приемы опытных ростовских мастеров раннего XIII в.
Примечательной особенностью русского средневекового искусства является широкое развитие живописного ремесла в провинциальных художественных центрах, нередко расположенных очень далеко от главных городов, таких, как Новгород, Владимир, Ростов, Тверь, Москва. Уже в XIII в. Ростову принадлежал Устюг, находившийся далеко на севере, при слиянии рек Юга и Сухоны, которые образовывали здесь полноводную Северную Двину. Выгодное географическое положение и торговое значение Устюга, а также известная политическая и церковная автономия, которая была следствием его удаленности от Ростова, способствовали зарождению здесь своеобразной культуры. На протяжении XIII—
Спас Нерукотворный. Икона из Введенской церкви в Ростове Великом, начало XIV в. Ростовская школа
18 См. В. И. Антонова и Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 161.
— 264 —
Собор архангелов Михаила и Гавриила. Икона из Великого Устюга, вторая половина XIII— начало XIV в.
XV вв. в Устюге было создано, в частности, несколько интересных икон. Древнейшим памятником устюжской живописи условно можно считать эффектную икону «Собор архангелов Михаила и Гавриила» (Русский музей). Она происходит из местного Михаило- Архангельского монастыря и была, по-видимому, написана во второй половине XIII или в начале XIV в. На иконе изображены архангелы Михаил и Гавриил, одетые в императорские дивитисии с лорами, украшенными жемчугом и драгоценными камнями. Они торжественно выставляют напоказ диск с полуфигурой Спаса Эммануила, который должен служить символом воплощения. Догматическая идея выражена в этой иконе чрезвычайно про-стыми и вместе с тем гениальными средствами. Композиция отличается безупречной архитектоникой, рисунок — ясностью, колорит — выразительными сопоставлениями отдельных цветовых пятен и торжественностью в целом. Неизвестный художник хорошо сознавал праздничный, церемониальный характер иконографической темы «Собора» и удачно передал строгое и одухотворенное содержание этой сцены. В стиле великоустюжской иконы наблюдается соединение признаков ростовской школы живописи, от произведений которой, по-видимому, отталкивался ее автор, с ясно ощутимыми местными чертами. Широкий, даже размашистый рисунок, недостаточно плотные (особенно желтая и зеленая) краски, отсутствие золота, синий, очень темного оттенка фон, орнаментальный мотив на линии позема придают живописи устюжской иконы специфическую непосредственность и свежесть, которые, пожалуй, были бы неуместны в чисто ростовском памятнике.
Большой интерес представляют памятники живописи, происходящие из Ярославля. Обычно предполагается, что здесь развивалась особая школа, имевшая много общего с ростовской, но отчасти и независимая от нее19. К сожалению, разграничить собственно ярославские памятники от ростовских чрезвычайно трудно. Теоретически Ярославль, богатый и цветущий город, имел все условия для развития собственной живописи, но то обстоятельство, что он был расположен поблизости от епархиального центра с его крупными мастерскими и прочными художественными традициями, мешало зарождению местной школы. Сохранившиеся ярославские иконы и рукописи, созданные до начала XIV в., мало отличаются от ростовских, и это дает нам основание рассматривать их в рамках более общего явления, охватывающего весь круг памятников ростово-ярославского происхождения.
Лучший образец ярославского искусства — икона архангела Михаила в Третьяковской галерее. Она происходит из местной церкви архангела Михаила на Которосли. Церковь построена около 19 И. Э. Грабарь склонялся к тому, что ярославская школа сформировалась в XIV в. (Игорь Грабарь. Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918—1920 гг. «Вопросы реставрации», сб. I. М., 1926, стр. 59). В. Н. Лазарев считает, что специфические черты ярославской живописи стали складываться уже в начале XIII в. (В. Н. Л а з а р е в. Живопись Владимиро-Суздальской Руси. «История русского искусства», т. III. М., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 486).
— 266 —
1300 г.20, этим временем надо, следовательно, датировать и саму икону. Архангел изображен в императорских одеждах. На нем длинный, спускающийся до пят коричнево-красный дивитисий, а на плечах и на груди такая же красная лента лора. Эти негнущиеся, тяжелые от обилия драгоценных каменьев и жемчужной обнизи одежды образуют ослепительно - торжественный убор. При дворе византийских василевсов он предназначался для церемониальных выходов. И художнику в полной мере удалось передать великолепие этого убора. Изображение Михаила невольно захватывает нас
своим приподнятым, патетическим характером. Архангел написан так, что возникает впечатление выхода, явления предводителя небесных воинских сил. В руках у Михаила копье И зерцало; брови сдвину- Архангел Михаил. Икона из Ярос- ты, губы сжаты, глаза лавля, ок. 1300 г.
устремлены на зрителя; на шее и на щеках играют красные отблески. В целом это как бы момент созерцания грозной божественной красоты и силы.
С Ярославлем условно можно связать также одну лицевую рукопись — Федоровское евангелие, хранящееся в Ярославском музее. Как установил А. И. Некрасов, оно было написано в 1321 — 1327 гг. по инициативе ростовского епископа Прохора на память о ярославском князе Федоре Ростиславиче Черном21. Евангелие •содержит пять миниатюр, из которых, однако, рукописи современны только изображения Феодора Стратилата и евангелиста. Иоанна с учеником Прохором. Миниатюра, на которой представлен Феодор Стратилат, исполнена в том же духе, что и образ архан20 См. К. Л. Головщиков. История города Ярославля. Ярославль, 1889, •стр. 48—49. Существует очень вероятное предположение, что около этой церкви стояли хоромы ярославских князей и что она была, следовательно, дворцовой (там же, стр. 49—50).
21 См. А. И. Некрасов. Возникновение московского искусства. М., 1929, •стр. 145—148 и 182—184. Не следует, однако, принимать на веру предвзятую идею автора о происхождении рукописи из Москвы (стр. 210). С последней Федоровское евангелие не имеет ничего общего.
— 267 —
гела Михаила. Она отличается от иконы только иным, очень светлым и праздничным колоритом, где главная роль отведена малахитово-зеленой, белой и пунцово-красной краскам, а также золоту.
Ростовские и ярославские иконы и рукописи, естественно, подводят нас к одному из лучших памятников древнерусской иконописи— к иконе Бориса и Глеба из Русского музея22. Предположительно ее можно датировать первой четвертью XIV в. В «Борисе и Глебе» религиозная идея иконы и портретно-психологическая выразительность образов обоих князей сочетаются с необыкновенной чистотой и яркостью стиля. Эта икона до такой степени поражает воображение своими красочными сопоставлениями и ювелирно выполненными деталями, что ей невозможно подыскать какие- либо прямые аналогии. Равным образом трудно приписать ее с должной уверенностью какому-либо конкретному художественному центру. Некоторые исследователи связывают ее с Москвой. Между тем, она обнаруживает отдельные точки соприкосновения с ростово-ярославскими произведениями, декоративные качества и общая праздничность стиля которых находят здесь как бы свое наивысшее воплощение. Ни полуразрушенный монголо-татарами Владимир, ни ранняя Москва, которая в начале XIV в. еще не имела существенного значения в искусстве Северо-Восточной Руси, не могли создать подобного образа. Зато Ростов и Ярославль, где на протяжении XIII—XIV вв. шла интенсивная работа по созданию икон и лицевых книг и где использовались чрезвычайно отточенные формальные живописные средства, были в состоянии иметь все необходимые условия для появления этой изумительной по красоте живописи иконы.
Кроме упомянутых икон и миниатюр с Ярославлем связано еще несколько замечательных произведений живописи. Это, в частности, три иконы так называемой Толгской Богоматери: большая икона конца XIII в. из Третьяковской галереи23, малая икона, написанная около 1314 г., из Ярославского музея24 и еще одна малая икона первой половины XIV в. из Русского музея. Сравнительно с предыдущими памятниками живопись этих икон более сурова. Возможно, что эти иконы представляют собой чисто церковное и даже монашеское направление в ростово-ярославском искусстве. Особенно характерна первая малая икона Толгской Богоматери, явление которой предание относит к 1314 г. Написанная на потемневшем, свинцового цвета фоне, выдержанная в почти монохромной гамме, с резкими белыми высветлениями в виде коротких мазков и точек, скорбная по настроению, она производит незабываемое впечатление.
Параллельно с новгородской, псковской и ростовской школами живописи с конца XIII в. стали развиваться новые школы, среди которых едва ли не первое место принадлежало тверской. В области искусства Тверь вышла на самостоятельную дорогу
22 См. П. И. Нер а довский. Борис и Глеб из собрания Н. П. Лихачева. «Русская икона», I. СПб., 1914, стр. 63—77.
23 См. А. Анисимов. Домонгольский период древнерусской живописи. «Вопросы реставрации», сб. II. М., 1928, стр. 161, 166 и 167 (снимки), 171—174.
24 Там же, стр. 166, 167 (снимки), 171—173.
— 268 —
Феодор Стратилат. Миниатюра Федоровского евангелия из Ярославля, 1321—1327 гг.
Борис и Глеб. Ростово-ярославская икона, первая четверть XIV в.
намного раньше, чем ее будущая политическая соперница Москва. Возникновение тверской живописи было прямым следствием учре- ждения местной епископской кафедры (около 1271 г.) 25. Как и всегда в подобных случаях, обособление церковной жизни привело к образованию собственных иконописных кадров. К сожалению, в силу бурных политических событий XIV—XV вв., когда Тверь несколько раз становилась центром ожесточенных военных действий и разорялась то монголо-татарами, то москвичами, ее искусство развивалось очень неравномерно, и кратковременные периоды подъема, как правило, чередовались с весьма длительными периодами упадка. Можно думать, что временем наиболее интенсивной и плодотворной тверской художественной жизни был рубеж XIII— XIV вв., когда во главе княжества находились великий князь Михаил Ярославич (1272—1319 гг.) и его мать великая княгиня Окси- ния (1313 г.). В их правление был сооружен каменный собор Спаса Преображения, расписанный в 1292 г. фресками26. Это первая каменная постройка и вместе с тем первое упоминание о возрождении традиции монументальной живописи в Северо-Восточной Руси за весь период после монголо-татарского нашествия 1238 г.
Фрески тверского Спасо-Преображенского собора до нас не дошли, как не дошел и сам собор. Но, по-видимому, вскоре после того, как была произведена его роспись, т. е. в начале XIV в., была написана замечательная, идущая из Тверской земли, икона Спаса27. Она отличается необычной для русских икон сумрачностью красок, среди которых особенно широко использованы темнооливковая и темно-коричневая. Здесь же, в этой ранней иконе, впервые появляются и очень характерные для тверской живописи белесые высветления. В близком стиле исполнены икона архангела Михаила из Третьяковской галереи28 и выходные миниатюры тверского списка Хроники Георгия Амартола29. В рукописи особенно интересна первая миниатюра, изображающая тверского князя Михаила Яро-славина и его мать Оксинию перед восседающим на престоле Спасом. Д. В. Айналов еще в первые годы после революции высказал предположение о зависимости ранней тверской живописи от поздней киевской. Недостаток фактического ма-
25 Макарий, архиепископ Харьковский. История русской церкви, т. IV, кн. 1. СПб.. 1886, стр. 108.
26 ПСРЛ, т. X, стр. 168; т. XVIII, стр. 82.
27 См. В. И. Антонова и Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 197, рис. 135. Заслуга в определении большинства тверских икон принадлежит Н. Е. Мневой.
28 Там же, № 198, рис. 137.
29 Эта рукопись не имеет точной даты, но по косвенным признакам можно думать, что она была написана и украшена миниатюрами в XIV в. Кроме выходных миниатюр, она имеет 127 иллюстраций в тексте. См.: Д. В. А й н а л о в. Миниатюры древнейших русских рукописей в музее Троице-Сергиевой лавры и на ее выставке. «Краткий отчет о деятельности Общества древней письменности и искусства за 1917—1923 гг.», изд. ОЛДП («Памятники древней письменности», т. СХС). Л., 1925, стр. 12—35; его же. Летопись Георгия Амартола (Криница). «Deuxieme Congres international des etudes byzantines. Belgrade, 1927». Belgrade, 1929, pp. 127—135; его же. К истории древнерусской литературы, II. Иллюстрации к Хронике Георгия Амартола. ТОДРЛ, т. III, 1936, стр. 13—21. Д. В. Айналов датировал рукопись временем до 1294 г., но это слишком ранняя дата.
— 271
Спас. Икона начала XIV в. Тверская школа
Отослание учеников на проповедь. Миниатюра из Сийского 1339—1340 гг. Московская школа
18 Очерк русской культуры, ч. 2
евангелия,
териала не позволяет пока утверждать эту мысль безоговорочно, но возможно, что она окажется верной. В Южной Руси на протяжении XIII в. еще теплилась художественная жизнь, и хотя она была слабой, прежний, высокий авторитет Киева и его школы обращал к нему внимание подымавшихся новых княжеств.
К сожалению, очень плохо уловим пока облик раннего искусства Москвы. Попытки связать с Москвой икону «Явление архангела Михаила Иисусу Навину» из Успенского собора Московского Кремля (XIII в.) и упомянутую выше икону Бориса и Глеба из Русского музея Спас Ярое Око. Икона 40-х годов XIV в. (начало XIV В.) остаются Московская школа спорными.
Первый достоверный памятник московской живописи— это миниатюра Сийского евангелия 1339—1340 гг.30. Она изображает «Отослание учеников на проповедь». Красивая по цвету, миниатюра тем не менее еще отличается очень архаическим стилем. Особенно характерны фигуры апостолов: босые, большеголовые, по-крестьянски тяжеловатые, серьезные. Примерно в те же 40-е годы XIV в. была написана замечательная икона «Спас Ярое Око» из Успенского собора Московского Кремля31. Суровый лик Христа на этой иконе хорошо согласуется с ее темными красками. В миниатюре Сийского евангелия и в иконе «Спас Ярое Око» черты будущего московского искусства почти не прослеживаются. Между тем это центральные памятники московской живописи первой половины XIV в., так как рукопись, по указанию весьма обширного послесловия, изготовлена по личному заказу Ивана Калиты32, а 30 БАН, Арх. Ком. 338.
31 См. Г. В. Ж и д к о в. Московская живопись середины XIV в. М., 1928, стр. 13—39; его же. L’icone du «Sauveur a I’oeil lourvouce» de la cathedrale de la Dormition a Moscou. «L’art byzantin chez les slaves», t. II. Paris, 1932, pp. 174—194.
32 Евангелие заканчивалось в последний месяц его жизни, когда он уже принял монашество под именем Анании. В послесловии, которое по существу является похвальным словом Ивану Калите, он упоминается поочередно под обоими именами: то под мирским, то под иноческим. Поскольку автор послесловия называет заказчика рукописи чернеца Ананию «великим рабом божиим» и сравнивает его дела с деяниями византийских цесарей, то ясно, что речь идет об — 274 —
икона написана для кафедрального митрополичьего Успенского собора. Это дает основание думать, что первая половина XIV в. была для московской живописи еще таким периодом, когда она развивалась на сравнительно неширокой основе как одно из побочных направлений ростово-ярославского искусства. Очевидно также, что московские мастера исходили не от ярких и блещущих внешней красотой икон, вроде ярославской иконы архангела Михаила, а от суровой, монашеско-церковной ветви ростово-ярославской живописи, которую мы знаем по иконе Спаса Нерукотворного начала XIV в. из Третьяковской галереи и первой малой иконе Толгской Богоматери.
2
С конца XIII в. во многих русских городах возобновилось строительство каменных церквей. В связи с этим снова стало возможно развитие фресковой живописи. Но так как после монголотатарского нашествия художественная традиция русского монументального искусства была надолго пресечена и технические навыки мастеров были утрачены, их возрождение происходило медленно. Поэтому общее количество ранних русских росписей было невелико, а их качество, если судить по сохранившимся остаткам стенописи церкви Николы на Липне, чаще всего уступало качеству более ранних росписей XII — начала XIII в.
От первой половины XIV в. сохранился только один памятник русской монументальной живописи — фрески собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря около Пскова33. Система этой росписи в целом похожа на домонгольские памятники, где она находит себе много общего с Нередицей. Точки соприкосновения с домонгольским искусством обнаруживают и стилистические черты снетогорских фресок. Все это естественно, потому что роспись, исполнена в начальный период возрождения на Руси монументального искусства, и мастера при составлении программы росписи и в
Иване Калите. Так понимал содержание послесловия и И. И. Срезневский («Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках». «Сборник ОРЯС», т. XX, № 4. СПб., 1880, стр. 145—148).
33 См. А. Некрасов. Две заметки из источников по истории древнерусского искусства. «Среди коллекционеров», 1922, № 11—12, ноябрь — декабрь, стр. 35—36. О фресках см.: Л. Мацулевич. Фрагменты стенописи в соборе Снетогорского монастыря. «Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества», 1915, т. X, стр. 35—37, табл. X—XIII;
A. Некрасов. Древний Псков и его художественная жизнь. М., 1923г
стр. 30—33; A. Anissimoff. Les fresques de Pskow. «Cahiers d’Art», 1930,. № 7. pp. 366—368; L. N a d e j e n a. The Pskow School of Painting. «The Art Bulletin», 1939, v. XXI, n° 2, pp. 188—191, fig. 8, 9; H. M. Ч e p н ы ш e в. Искусство фрески в Древней Руси. М., «Искусство», 1954, стр. 31—60, илл. 1—18, 20; В. Н. Лазарев. Живопись Пскова. «История русского искусства», т. П„ стр. 348—359; его же. Снетогорские росписи. «Сообщения Института истории искусств Академии наук СССР», 8. М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 78—112;
B. В. Филатов. Особенности техники и состояние снетогорских росписей. Там же, стр. 113—122; В. Толстой. Фрески Снетогорского монастыря в Пскове. «Hist. Sztuki», 1963, t. XXV, pp. 5—21. Известно также о несохранившейся росписи церкви Василия на Горке, 1377 г., ПЛ, вып. I, стр. 24; вып. II, стр. 10€к
18*
— 275 —
Святые старцы. Фреска в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, 1313 г. Псковская школа
процессе написания особенно сложных композиций неизбежно должны были обращаться к более ранним памятникам. Но, завершая линию развития домонгольской монументальной живописи, снетогорские фрески в то же время неотделимы от искусства XIV в. Во многом они даже предопределили его новые черты. Разумеется, это надо понимать в рамках местного, псковского, искусства, а не русского искусства в целом, так как в других городах явления, сходные со снетогорскими росписями, по существу получили несколько иные формы.
Снетогорские фрески запоминаются по их необычайной выразительности. Пустынники и преподобные, которые бесконечной лентой опоясывают восточную часть храма, смотрят на зрителя ост— 276 —
рым, пронизывающим взглядом. Этому впечатлению крайней психологической напряженности способствует манера письма с очень характерными для псковской живописи короткими, образующими пучки высветлениями. В отличие от стенописей домонгольского времени, где фигуры святых кажутся массивно-неподвижными и как бы прикованными к линии почвы, на снетогорских фресках эти фигуры находятся в состоянии неустойчивого равновесия, причем они способны изменять свое положение не иначе как под острыми или даже прямыми углами. В целом это импульсивное и острохарактерное искусство уже бесконечно далеко от памятников предшествующей эпохи.
В условиях организации средневекового творческого труда, когда мастер-монументалист обычно совмещал в себе и профессию мастера-иконописца, эстетические нормы, утверждавшиеся в стенной живописи, рано или поздно должны были стать достоянием иконописи и наоборот. Этот процесс был общим для всех русских городов. Наглядное выражение он получил в искусстве Пскова. Кроме снетогорских фресок, мы находим здесь целый ряд станковых произведений, авторы которых так или иначе тоже воплощают черты художественного стиля новой эпохи.
Во главе их надо поставить замечательную икону Богоявления из Государственного Эрмитажа34. Как и снетогорские фрески, эта икона с первого взгляда поражает сочетанием архаичного облика в целом и энергично написанных деталей. Хорошо сохранившийся древний фон цвета потемневшего олова несколько скрадывает очертания фигур и общую схему композиции. Тем сильнее кажутся при внимательном рассматривании, лики ангелов. Они выражают магнетическую силу притяжения, которая как будто исходит от фигуры Христа. Несколько преувеличенное выявление внутренних смысловых связей и душевного состояния вообще характерно для псковской живописи, и черты, свойственные снето- горским фрескам и эрмитажной иконе, часто можно наблюдать и в других памятниках местной школы.
Лучшие псковские иконы написаны во второй половине XIV в. Это «Деисус с предстоящими Варварой и Параскевой» в Новгородском музее, большой образ великомучениц Варвары, Параскевы и Ульяны и «Собор Богоматери» в Третьяковской галерее35.
В этих иконах36, несмотря на то, что они, возможно, вышли из разных мастерских, мы находим общие признаки, типичные для Пскова. Обращают на себя внимание энергичные, импульсивные движения фигур действующих лиц, острое, впечатляющее выражение их глаз, напряженная сумрачность колорита. Особенно характерна в этом отношении недавно расчищенная от вековых наслоений потемневшей олифы и записей икона деисуса из Музея
34 См. А. Косцова. Древняя псковская икона «Богоявление» и ее связь с фресками Снетогорского монастыря. «Сообщения Государственного Эрмитажа», XXIV. Л., 1963, стр. 10—14.
35 См. В. И. Антонова и Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 147 и 149, рис. 100, 101—103.
36 См. о них: М. А. Реформатская. О группе произведений псковской станковой живописи второй половины XIV в. Сб. «Древнерусское искусство. Художественная культура Пскова». М., «Наука», 1968, стр. 114—126.
— 277 —
Богоявление. Икона из Успенской Пароменской церкви во Пскове,
первая половина XIV в. Псковская школа. Деталь
в Новгороде. Она, за исключением боковых фигур Варвары и Параскевы, повторяет композицию, уже известную нам по иконе из Русского музея. Но какие глубокие изменения произошли в искусстве Пскова за небольшой промежуток времени, разделяющий эти два памятника! Фигуры на иконе из Русского музея имеют величавый, неподвижный характер, они располагают к их длительному, неторопливому созерцанию. С этим хорошо согласуется манера исполнения ленинградской иконы, отличающейся некоторой тяжеловесностью и обилием украшений. Икона из Музея в Новгороде написана совсем иначе. Ее стиль превосходно передает увлечение мастера решением чисто художественной задачи. На светлом фоне иконы четко рисуются руки святых, молитвенно обращенные к Христу. Лики и фигуры написаны с изумляющей свободой. Это кажется почти невероятным, потому что иконографические типы Христа, Богоматери и Предтечи, а также Варвары и Параскевы выдержаны все же со всей необходимой точностью. Смелая красочная лепка форм сообщает глубоко традиционный сцене деисуса индивидуальный драматический оттенок. Его усиливает колористическая гамма, построенная на типичных для Пскова темно-зеленых, желтых, коричневых и кирпично-красных тонах.
Динамика живописной манеры и композиционного построения в той или иной степени характерна для всех псковских икон. Можно думать, что в целом ряде случаев псковские иконописцы сознательно стремились представить привычные религиозные сюжеты в такой форме, которая бы сама по себе пробуждала у зрителя мысль об этих событиях как о мировых явлениях исключительной важности. Таковы знаменитые иконы «Собор Богоматери» в Третьяковской галерее и «Сошествие во ад» в Русском музее. Икона «Собор Богоматери» написана на слова церковного гимна, поющегося на праздник Рождества Христова. Ее эффектная композиция воплощена с безудержной, неистовой свободой, опровергающей все понятия о строгой «иконописности» древнерусской живописи. По силе впечатления не менее выдающимся образцом псковского искусства является икона «Сошествие во ад». Центральный образ Христа на этой иконе представлен в славе: вокруг, словно грозовые разряды, змеясь, пробегают и исчезают белые линии. Особенно запоминаются лики Адама и Евы, которых Христос выводит из ада. Они написаны с редкой выразительностью, какую тщетно было бы искать в других русских иконах.
Псковская живопись интенсивно развивалась и на протяжении XV в. Началом этого столетия надо датировать замечательную икону, на которой представлены Параскева Пятница и святители Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Василий Великий37. Она
37 См. В. И. Антонова и Н. Е. М н ев а. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 144, рис. 96, 97. К XV в. относятся также следующие памятники псковской живописи: Евангелие 1409 г. (ГИМ, Син. 401), «Любятовская Богоматерь» (ГТГ), «Нерукотворный образ Спаса» (Музей в Смоленске), четыре иконы из полуфигурного деисуса (три в ГТГ и одна в ГРМ), икона Дмитрия Солунского (ГРМ), Палея 1477 г. (ГИМ), «Рождество Богородицы» (собр. П. Д. Корина), -«Рождество Христово» из Опочки (Музей в Пскове), «Сошествие во ад» (ГРМ), -житийный образ Параскевы Пятницы (ГИМ) и др.
— 279 —
Деисус с предстоящими Варварой и Параскевой Пятницей. Икона из церкви св. Варвары во Пскове, вторая половина XIV в. Псковская школа
происходит из каменной часовни, стоящей неподалеку от Снето- горского монастыря. Автор иконы, несомненно, был знаком с фресками монастырского собора, ибо композиция и образы святых напоминают изображения старцев на фресках. Незабываемое впечатление производит праздничный колорит иконы, где золотой фон сочетается с белой, красной, черной, коричневой и темно-зеленой красками. Икона четырех избранных святых — свидетельство неистощимой творческой энергии псковской школы живописи, очень своеобразной и, несомненно, одной из самых сильных школ живописи Древней Руси.
Центральным памятником псковской живописи XV в. являются фрески Успенской церкви села Мелётова, расположенного в 45 км от Пскова на восток, на границе с новгородской землей. Согласно летописи, они исполнены в 1465 г.38. Мелётовская роспись очень пострадала от времени. Лучше других сохранились фрески дьяконника, жертвенника и северо-западной угловой части на хорах. Несколько прекрасных по живописи больших фрагментов имеется также на западной стене южной ветви креста («Неверие Фомы»), на северной стене алтарной апсиды («Оплакивание Христа»), на южной стене среднего нефа под хорами («Покров») и на западной стене справа от входной двери (здесь помещена уже известная в литературе фреска с изображением скомороха). Всего по уцелевшим частям росписи восстанавливается около ста отдельных фигур и сюжетных и орнаментальных композиций. Первоначально их было, вероятно, вдвое больше.
Мелётовские фрески сразу после их открытия в 1925—1926 гг. К- К. Романовым вызвали большой интерес. Но внимание исследователей привлекали главным образом летописные надписи, относящиеся к фрескам, а также очень редкая, едва ли даже не уникальная, композиция с фигурой скомороха, играющего на музыкальном инструменте39. Между тем мелётовские фрески интересны прежде всего со стороны их стиля. Подобно снетогорским фрескам, они выдержаны в красновато-коричневых, терракотовых тонах. Этот колорит зависит от обильно примененной местной земляной краски, залежи которой в виде цветных глин имеются по
38 ПЛ, вып. I, стр.. 71; вып. II, стр. 160.
33 См. В. А. Б о г у с е в и ч. Мелётовская надпись. «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1934, № 7—8, стр. 166—168, рис. 1—3; К. К. Романов. Мелётово как источник истории Псковской земли. Там же, 1934, № 9—10, стр. 143—156, рис. 1—7; Ю. Н. Дмитриев. Мелётовские фрески и их значение для истории древнерусской литературы. ТОДРЛ, т VIII, 1951, стр. 403—412; В. Н. Лазарев. Живопись Пскова, стр. 370—372; Д. С. Л и х а ч е в. Древнейшее русское изображение скомороха и его значение для истории скоморошества. «Проблемы сравнительной филологии». Сборник статей к 70-летию В. М. Жирмунского. М.—Л., «Наука», 1964, стр. 462—466; Н. Е. М н е в а. Искусство Московской Руси. М., «Искусство», 1965, стр. 71—72, рис. 29 и 30 (в цвете); «Древнерусские фрески». Выставка копий фресок и фрагментов росписей [в Государственном Русском музее]. Л., 1965, стр. 16+таблица; Н. Н. Розов. Еще раз об изображении скомороха на фреске в Мелётове. К вопросу о связях монументальной живописи с миниатюрой и орнаментом. Сб. «Древнерусское искусство. Художественная культура Пскова», стр. 85—96; Л. В. Бетин. Реставрация настенных росписей Успенской церкви в селе Мелётово. Там же, стр. 220—223.
— 281
Параскева Пятница и святители Григорий Ьогослов, Ццанн Златоуст и Василий Великий. Икона начала XV в. П сковскаяшкола
берегам рек. Художники пользовались также синей, желтой, белой и зеленой красками, но преобладающей была все же красновато - коричневая ■охра. Ее тяжеловатый, если так можно выразиться, «материальный» тон сочетается, однако, с очень свободной, неожиданной для XV в., манерой письма. К. К. Романов, касаясь общей оценки росписи мелётовской церкви, особо отметил, что она оставляет «впечатление малой красочности при большом мастерстве исполнения»40. Художники, которых
здесь было несколько, заботились преимущественно о силуэте, о фигурах в целом, о ясности и простоте многофигурных сцен. Складки одежд на¬
писаны широко, жесты действующих лиц ясно
выражают их состояние или их отношение к переживаемым событиям. Располагая чрезвычайно скупой палитрой, мастера были вынуждены писать
одними и теми же красно¬
вато - коричневыми и тускло - желтыми охрами лики, фигуры, драцировки,
архитектурные кулисы. Поэтому, чтобы оживить фрески, они прибегали к системе виртуозно употребляемых ими высвет-
Апостол Петр, исцеляющий св. Галу. Фреска в Успенской церкви с. Мелётова близ Пскова, 1465 г. Псковская школа-
лений и бликов, очень напоминающих манеру Феофана Грека, работавшего столетием раньше в Новгороде. Меле- товские фрески имеют много точек соприкосновения с росписями Феофана и в стиле в целом. Но, в отличие от Феофана, любившего выразительные, крупномасштабные композиции, они мельче, а не-
40 К. К. Романов. Мелётово как источник истории Псковской земли, стр. 152.
— 283 —
которые из них выполнены в размерах и технике почти миниатюрной живописи41. Здесь ощущается также, что мастера стремились достичь выразительности не только с помощью пастозного красочного мазка, но и с помощью линии. Но характерная для росписей XV в. графичность, классическим примером которой были погибшие во вторую мировую войну фрески Никольской церкви бывшего Гостинопольского монастыря под Новгородом42, выражена здесь очень слабо. Псковские живописцы XV в. оказались более восприимчивы к традициям свободного художественного стиля XIV в., чем новгородские. Эта черта нашла себе яркое выражение в мелётов- ских фресках, и она составляет их наиболее интересную особенность.
В отличие от Пскова, где памятники искусства XIV—XV вв. связаны между собой ясно ощутимой местной исторической традицией, в новгородском искусстве такая единая стилистическая линия отсутствует. Это говорит о сложности художественной культуры Новгорода. Как один из крупнейших городских центров Восточной Европы Новгород пользовался широкой славой и притягивал к себе множество пришлых художников, которые рассчитывали получить здесь выгодные заказы. Ожидания обычно их не обманывали, так как усиленное строительство каменных церквей, развернувшееся в Новгороде с 30—40-х годов XIV в., повлекло за собой и расширение живописных работ. Особенно велика была нужда в мастерах, подвизавшихся в области монументальной живописи. Когда на Руси в XIV в. после длительного перерыва снова стали расписывать храмы фресками, русским художникам пришлось осваивать искусство стенописи почти заново. Отчасти они приобрели опыт в процессе самостоятельных поисков, как в Пскове, а отчасти, по свидетельству источников московского происхождения, им помогли приезжие греческие мастера43.
Новгородские летописи чрезвычайно скупы на сообщения о фресках. В сущности они говорят лишь о трех росписях середины XIV в., осуществленных по инициативе новгородских архиепископов в церкви Входа в Иерусалим в Кремле (1338—1339 гг.) 44, в Воскресенской церкви Деревяницкого монастыря (1348 г.) 45 и в Успенской церкви на Болотове (1363 г.) 46. Четвертое летописное известие — о фресках Спасо-Преображенской церкви на Ильине улице, исполненных Феофаном Греком (1378 г.), — не принадлежит современнику Феофана: оно попало в летопись в XVII в.,
41 По стилю и колориту с мелётовскими фресками тесно связана миниатюра, изображающая евангелиста Матфея, в псковском рукописном Евангелии 1463 п (ГПБ, Погод. 18). См.: А. Н. Свирин. Искусство книги в Древней Руси в- XI—XVII вв. М., «Искусство», 1964, стр. 225. Она, вероятнее всего, исполнена’ одним из художников, работавших в Мелётове.
42 См. Н. Р е п н и к о в. Памятники иконографии упраздненного Гостинопольского монастыря. «Известия Комитета изучения древнерусской живописи», вып. 1. Пг., 1921, стр. 13—20, таблица.
43 В летописных сообщениях о росписи московских соборов в 1344—1346 гг., производившейся несколькими артелями, греческими и русскими, об одной такой артели, работавшей в соборе монастыря Спаса на Бору, сказано, что ею руководили «старейшины и начялници... русстии родом, а гречестии ученицы...». (Г. В. Жидков. Московская живопись середины XIV в., стр. 64 и сл.).
44 НПЛ, стр. 348, 350.
45 Там же, стр. 361.
46 Там же, стр. 368.
— 284 —
когда какой-то любознательный новгородец собирал материалы для художественной истории города и списал не дошедшую до нас ктиторскую надпись, имевшуюся в храме47. Подобная же надпись имелась до второй мировой войны в церкви Спаса на Ковалеве, и она сообщала, что церковь расписана в 1380 г.48. Об остальных новгородских стенописях никаких данных нет, а их, кроме первой росписи Болотова, Спаса Преображения и Ковалева, еще пять: в церкви Феодора Стратилата на Ручье, вторичная в Успенской церкви на Волотовом поле, в церквах Рождества Христова на кладбище, Благовещения на Городище и архангела Михаила на Сковородке.
Недостаток исторических материалов сильно затрудняет изучение новгородских фресок. Исследователи вынуждены ограничиваться по большей части субъективной оценкой памятников. Поэтому в научной литературе даже по главным вопросам истории монументальной живописи Новгорода существуют мнения, взаимно исключающие друг друга. Чтобы разобраться в этом сложном вопросе, необходимо сначала обратить внимание на главные стилистические признаки каждого памятника отдельно, а потом, на основании этих признаков, объединить росписи в соответствующие группы. В итоге, за исключением первой алтарной росписи Болотова, стоящей по стилю особняком от прочих фресок, выделяются две группы. Первая — это фрески Спаса Преображения, Феодора Стратилата и основная роспись Болотова, а вторая — росписи Спаса на Ковалеве, Рождества на поле, Благовещения на Городище и архангела Михаила на Сковородке. В росписях первой группы преобладают широкая, живописная манера письма, смело построенные композиции, параболические линии, строгий колорит, драматизм общих ситуаций и повышенный психологизм одиночных изображений. В росписях второй группы, напротив, определяющими признаками служат их более тщательное и местами даже мелочное письмо, усиление графического начала за счет живописного, деление стенных поверхностей на сравнительно небольшие изолированные участки, напоминающие станковые произведения, разнообразие красок и в конечном итоге большая успокоенность и как будто некоторое равнодушие, привычка к хорошему, но не слишком эмоциональному искусству (Сковородка).
Поскольку достоверная хронология большинства новгородских стенописей неизвестна, постольку их обзор следует начинать с памятника, время создания и автор которого были бы установлены с бесспорной точностью. Таким памятником является роспись церкви Спаса Преображения на Ильине улице, выполненная в 1378 г. Феофаном Греком.
Феофан — первый живописец на Руси, о котором у нас имеются достаточно полные и достоверные сведения. О нем несколько раз упоминают летописи, и его личность ярко обрисована в большом письме, написанном около 1415 г. троицким иноком Епифа- нием Премудрым к игумену тверского Спасо-Афанасиевского мона47 См. М. К. К а р г е р. К вопросу об источниках летописных записей о деятельности зодчего Петра и Феофана Грека в Новгороде. ТОДРЛ, т. XIV, 1958, стр. 365—367.
43 Там же, стр. 366—367.
— 285 —
стыря Кириллу49. По словам Епифания, до приезда на Русь Феофан работал в Константинополе, Галате и Кафе, а на Руси — в Новгороде, Нижнем Новгороде и Москве. В общей сложности им было расписано около 40 церквей. Умер Феофан вскоре после 1405 г., так как под этим годом летописи упоминают о нем в последний раз. В письме Епифания о нем уже говорится в прошедшем времени: «...бяше ... муж он живый...».
Поскольку первым городом, где работал Феофан Грек, Епифаний называет Константинополь, то естественно думать, что Феофан вышел из столичной школы живописи. Его сохранившиеся произведения подтверждают свидетельство современника. В церкви Спаса Преображения лучшие по сохранности фрески Феофана расположены в куполе и в угловой северо-западной камере, устроенной на уровне хор. Хорошее представление о стиле Феофана дают также недавно открытые фрески, разбросанные в разных частях основного помещения церкви («Рождество Христово», «Крещение», фигура воина, голова пророка и др.), к сожалению не образующие, в отличие от купола и камеры на хорах, ничего целого.
В купольном своде написана большая фреска, изображающая Пантократора. Это, несомненно, самая сильная фреска Феофана. Безжалостно взирает Христос на расстилающуюся под ним землю. Он — грозный судия, не знающий ни пощады, ни снисхождения. Его всевидящее око проникает в самые глухие закоулки человеческой души. Это не глаза Спаса с их участием и добротой, это глаза Вседержителя, они призваны следить за человеком и, как духовный меч, карать любое проявление греха. Под этим страшным взором остается лишь склонить главу и ждать возмездия. Грозное выражение имеют лики архангелов и серафимов, составляющих небесную стражу Христа. Библейская мощь и широта воплощены в- гигантских фигурах праотцев, написанных в простенках барабана. Во всей росписи купола царит нечто сверхчеловеческое.
Если бы до нас дошли фрески на сводах и на верхних частях стен, мы бы, наверно, могли здесь увидеть захватывающую картину цикла страстей, трагическая канва которых должна была быть Феофану особенно по душе. К сожалению, все верхние фрески погибли. Очень мало их уцелело и внизу храма. Лишь в угловой камере на хорах фрески составляют небольшой цикл, дающий наравне с росписями купола хорошее представление о том, какой была живопись мастера в целом.
Камера, наверное, служила в свое время личной молельней главного строителя церкви Спаса Преображения «благородного и боголюбивого боярина Василия Даниловича». Она была посвящена Троице, так как на ее восточной стене написана фреска с изображением ветхозаветной Троицы. На других стенах камеры
49 О Феофане Греке см.: Игорь Грабарь. Феофан Грек. «Казанский музейный вестник», 1922, № 1, стр. 3—20, рис. 1—4; A. A n i s s i m о v. La pein- ture russe du XIV-е siecle (Theophan le Grec). «Gazette des Beaux Arts», 1930, Mars, pp. 166—177; K. Onasch. Gross-Novgorod und Feofan der Grieche. «Ostkirchliche Studien», 3. Wurzburg, 1954, SS. 179—192; В. H. Лазарев. Феофан Грек и его школа. М., «Искусство», 1961, стр. 7—13; К. Onasch. Theophanes der Grieche. «Renaissance und Humanismus im Mitteleuropas», Bd. I. Berlin^ 1962, SS. 376—386.
— 286 —
Феофан Грек. Пантократор. Фреска в церкви Спаса Преображения в Новгороде, 1378 г. Деталь
изображены Поклонение жертве и святые, среди которых почетное место отведено столпникам и великим египетским подвижникам: Иоанну Лествичнику, Ефрему, Акакию и Макарию. По общему признанию средневековой богословской мысли столпники были славой и надеждой человечества. Взойдя на столпы, чтобы отор’ ваться от пучины зла, наполняющей землю, они посвящали себя одной только молитве богу. Здесь, в росписях Феофана, они как бы символизируют идею богопознания и высшую ступень на пути к спасению души. Но и на столпах феофановские святые не могут избавиться от разъедающих их сомнений и страха. Даже этих подвижников преследует призрак Страшного суда, даже они испытывают на себе гневный взор Пантократора. Выставленные перед грудью руки, указующие на их отречение от мира, так ярко выражают тщету земного существования даже в его самых аскетических проявлениях, что в душе современников Феофана невольно должно было рождаться чувство глубокого покаяния. Видимо, роспись церкви Спаса Преображения воплощала в себе мысль о необходимости самоосуждения и бесплодности человеческих усилий достичь совершенства и заслужить прощение божества. Судя по остаткам живописи на западной стене и на примыкающих к ней сводах, роспись храма не имела изображения Страшного суда. Но дух этого грандиозного события является здесь, несомненно, определяющим.
Феофан — странствующий мастер. Большую часть своей жизни он провел в скитаниях по городам Византии, Крыма, России. Вот почему так трудно определить принадлежность Феофана к искусству одной какой-либо страны. Но уже теперь ясно, что его
— 287 —
Феофан Грек. Троица. Фреска в церкви Спаса Преображения в Новгороде, 1378 г.
нельзя оторвать ни от истории византийской живописи, ни от истории живописи Древней Руси. Здесь, на Руси, он прожил не менее половины жизни, и на это время падает расцвет его творческих сил. К тому же как в Новгороде, так и в Москве, куда Феофан переехал позднее, он работал не один, а в содружестве с местными художниками и, конечно, имел собственных учеников. Это слияние искусства Феофана с русским искусством хорошо иллюстрируют росписи церкви Феодора Стратилата.
Церковь Феодора Стратилата построена в 1360— 1361 гг. Но ее фрески должны были быть написаны много лет спустя, потому что в юго-восточном, северо- западном и северо-восточном углах они сделаны по заложенным световым аркам. Как и роспись церкви Спаса Преображения, феодоровские фрески сохранились плохо50. Мелкие фрагменты, разбросанные по стенам огромного храма, не образуют ничего целого. Долго скрывавшиеся под слоем побелок, они сильно пострадали от въевшейся в них извести. К тому же высветления на фресках были сделаны в свое время свинцовыми белилами, ставшими ныне совершенно черными. Все это исказило роспись, поэтому на первый взгляд она кажется не очень похожей на роспись церкви Спаса Преображения. Между тем связь их очевидна. Здесь наблюдается множество совпадений в области Феофан Грек. Столпники. Фреска в церкви Спаса Преображения в Новгороде, 1378 г.
50 См. Н. Л. Окунев. Вновь открытая роспись церкви св. Феодора Стратилата в Новгороде. «Известия Археологической комиссии», 1911, вып. 39, стр 88—101, табл. I—XVIII; А. Анисимов. Реставрация фресок церкви Феодора Стратилата в Новгороде. «Старые годы», 1911, февраль, стр. 43—52; П. Муратов. Русская живопись до середины XVII в. Четырнадцатый век. В кн.: Игорь Грабарь. История русского искусства, т. VI. Б. м., б. г., стр. 176—180 и рис. на стр. 168—185; Д. Гордеев. О новгородских феодоровских фресках. «Византийский временник», т. XXII (1915—1916), вып. 3 и 4, стр. 281—296; Ph. Schweinfurt h. Geschichte der russischen Malerei in Mittelalter. Haag, 1930, SS. 175—182, Abb. 67—70; В. H. Лазарев. Феофан Грек и его школа, стр. 48—52, илл. 39—43.
19 Очерки русской культуры, ч. 2 — 289 —
иконографии, типов святых, постановки фигур и даже приемов письма51. И все же фрески Феодора Стратилата оставляют какое-то двойственное впечатление. Наряду с такими изумительными фигурами, как ангел из «Благовещения», многие части росписи, например в куполе, по вялости и неточности рисунка, по рыхлости форм и плоскостности письма, по дробности композиции боль¬
Ангел из Благовещения. Фреска в церкви Феодора Стратилата в Новгороде, 80-е годы XIV в.
фресках купола. Возникла роспись
ших сцен не вяжутся со стилем, Феофана Грека. Естественно поэтому думать, что основная работа в этом храме была сделана не Феофаном, а его местными новгородскими учениками. Об этом, кстати, убедительно говорят частью русские, а частью испорченные, непонятые греческие надписи на церкви Феодора Стратилатаг
наверно, вскоре после росписи Спаса Преображения, в начале 80-х годов XIV в.
Выдающееся место в истории новгородской монументальной живописи принадлежит погибшим фрескам церкви на Волотовом поле52. Успенская церковь, сравнительно с остальными новгород-
51 Ср. ангела из «Сошествия во ад» в церкви Феодора Стратилата (Н. Л. Окунев, табл. XVI, 2) с ангелом «Троицы» в церкви Спаса Преображения (В. Н. Л а з а р е в. Феофан Грек и его школа, табл. 24 и 25), св. Григория (Н. Л. Окунев, табл. XVII, 1) с неизвестным святым (В. Н. Лазарев, табл. 10), св. воина (Н. Л. Окунев, табл. XVIII, 1) со св. Акакием (В. Н. Лазарев, табл. 36 и 37), архангела со сферой с архангелом Гавриилом над входной дверью камеры Спаса Преображения (А. А н и с и м о в. Новооткрытые фрески Новгорода. «Старые годы», 1913; декабрь, таблица).
52 См. В. В. Суслов. Церковь Успения пресвятой Богородицы в селе Волотово близ Новгорода, построенная в 1352 г. «Труды Московского Предварительного комитета по устройству XV Археологического съезда», т. II. М., 1911; Л. Мацулевич. Церковь Успения пресвятой Богородицы в Болотове. «Памятники древнерусского искусства», вып. 4 (изд. Академии художеств). СПб., 1912, стр. 1—34, рис. 1—46; Д. В. А й н а л о в. Византийская живопись XIV столетия. «Записки Классического отделения Русского археологического общества», т. IX. Пг., 1917, стр. 185—211, табл. XII, XIV, XVIII (1, 2), XXXI. XXXII (2, 3), XXXIV и XXXVII; М. В. Алпатов. Фрески храма Успения на Волотовом поле. Сб. «Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР», стр. 103—148; В. Н. Лазарев. Феофан Грек и его школа, стр. 52—63.
— 290 —
Скачущие волхвы. Фреска в церкви Успения Богородицы на поле в Новгороде, ок. 1390 г.
Болотовой
19*
Архангел Михаил. Фреска в церкви Успения Богородицы на Волотовом поле в Новгороде, ок. 1390 г.
скими церквами XIV в., была очень небольшой. Но мастер, которому было поручено ее расписать, сумел хорошо соотнести фрески с архитектурой. Он подобрал для фигурных композиций столь удачные масштабы, что храм как бы расширился, стал просторнее и легче. Это впечатление поддерживалось также необычной манерой его живописи. Болотовские фрески были написаны свободно, легко, летуче. Это казалось тем более удивительно, что в них ясно ощущалась предметная сторона вещей, ибо их автор широко пользовался светотенью, а из красок выбирал не только голубоватосерые, но и довольно плотные терракотовые. Эффект росписи заключался в ее изумительном совершенстве. Эта живопись обладала неизъяснимым свойством быть в одно и то же время и эскизной и законченной. Любая композиция сразу же поражала своей бесподобной свежестью и вместе с тем точностью воплощения замысла. Такой была, в частности, редкая по красоте полуфигура архангела Михаила, расположенная в замке одной из подпружных арок. Заключенная в классическую форму круглого медальона, она казалась чудом искусства рисунка и композиции. Вообще, какую бы фреску мы ни взяли, расположенную на виду или в углах церкви, всюду на них лежала печать высокого мастерства и какой- то особой независимости мышления их автора. Эта независимость проявлялась у него по-разному, но главным образом, пожалуй, в том, что, смело отбрасывая подробности, добиваясь в первую оче— 292 —
редь общего впечатления, он сумел вдохнуть в привычные иконографические схемы пульсирующий ритм жизни.
В росписях Болотова не было ничего иконного, застывшего. Гибкая широкая линия и красочное пятно, мазок служили главными художественными средствами волотовского мастера. Отсюда естественно вытекала динамика и картинность его фресок. Если в ранних новгородских иконах и росписях церкви Николы на Липне действующие лица были обращены лицом к зрителю, а композиции сочинялись по принципу вертикали, то у волотовского мастера фронтальная постановка фигуры, особенно в массовых сценах, чрезвычайно редка. Композиционная ось большинства волотовских фресок — это диагональ. По диагонали, снизу вверх и вглубь, скачут волхвы, по диагонали рвутся к небу острые, как стрелы, вершины скал, по диагонали развертывается изумительная сцена вознесения Христа 53. Беспокойная, экстатическая атмосфера волотовских фресок немало зависела именно от манеры, в какой они были написаны. Здесь не было ни грана заученности, ни одного намека на какие-либо колебания со стороны художника.
Чтобы оценить русское искусство XIV в., в частности новгородские фрески, должным образом, следует помнить, что в это время в Восточной Европе наблюдается усиление гуманистических элементов средневековой культуры. Этот процесс получил яркое выражение в литературе, пластике, живописи. Фрески, иконы и миниатюры этой эпохи обращают на себя внимание новыми стилистическими чертами. Композиции получают пространственный характер, в больших сценах почти необходимой деталью становятся архитектурные кулисы и пейзаж, движение фигур становится более естественным, усиливается интерес к психологической характеристике человека. Новый художественный стиль, который сначала широко применялся в константинопольских мастерских, с течением времени распространился в Сербии, Болгарии, на Руси. В каждой из этих стран он получил свой, национальный оттенок,, но вместе с тем сохранил и много общих признаков, нередко затрудняющих определение памятников.
Фрески Болотова содержали в себе много иконографических и стилистических особенностей, находивших убедительные параллели в росписях церквей Спаса Преображения и Феодора Стратилата, а также, вместе с этими последними, в памятниках греческой и сербской живописи54. Это понятно и объяснимо. На протяжении XIV в. в Новгороде несколько раз работали греческие мастера, и местные художники не могли, конечно, равнодушно отнестись к их искусству. Известно, что первая упоминаемая в новгородских летописях XIV в. роспись была исполнена именно византийскими мас53 См. Б. В. Михайловский и Б. И. Пуришев. Очерки истории древнерусской монументальной живописи. М.—Л., «Искусство», 194Г, стр. 26* табл. XXI.
54 См. Л. Мацулевич. Церковь Успения пресвятой Богородицы в Болотове, стр. 11—20. Ср.: Н. Л. Окунев. Сербские средневековые стенописи.. «Slavia», гос. II, ses. 2—3. Praha, 1923, str. 371—399.
— 293 —
терами — греком Исайей «с другы», расписавшими в 1338—1339гг. по инициативе архиепископа Василия кремлевскую церковь Входа в Иерусалим. Нам неизвестно, кто расписывал в 1348 г. Воскресенскую церковь Деревяницкого монастыря, но возможно, что и она была украшена тоже греками. Дорога на Русь, проложенная Исайей «с другы», не была забыта византийцами. Об этом ясно свидетельствует последующий приезд в Новгород Феофана Грека. Византийские художники стремились сюда тем более охотно, что найти работу на родине становилось все труднее, а на Руси их искусство пользовалось большим успехом. Вся история возрождения на Руси в XIV в. монументальной живописи как в Новгороде, так и в Москве была связана с именами греков. Однако давно высказанная гипотеза о принадлежности волотовских фресок Феофану Греку55 неприемлема. Достаточно обратить внимание на характерный для Болотова тип женской фигуры с узловатыми тонкими руками, чтобы отбросить всякую мысль об участии в росписи Феофана: такие фигуры нехарактерны для его живописи. М. В. Алпатов и В. Н. Лазарев предполагают, что в Успенской церкви на Болотове работал выдающийся новгородский мастер, который хорошо изучил творчество Феофана Грека, но сумел выработать и свою собственную манеру.
Согласно летописи, .Успенская церковь построена в 1352 и расписана в 1363 гг. Казалось бы, летописная дата должна была устранить всякие сомнения в хронологии волотовских фресок. Между тем этот вопрос до сих пор вызывает ожесточенные споры, так как под алтарной фреской, изображающей литургию, в 1855 г. была обнаружена другая фреска — того же содержания, но более древняя. Это дало повод А. И. Анисимову и В. Н. Лазареву датировать 1363 г. лишь нижнюю фреску, а сохранившуюся роспись второго слоя относить к более позднему времени56. И действительно, целый ряд соображений заставляет датировать основную роспись Болотова концом XIV в. (примерно около 1390 г.). Обратим, в частности, внимание на то, что архиепископ Алексий, чье изображение было написано вместе с изображением его предшественника архиепископа Моисея на южной стене храма около Богоматери, представлен в виде святого, с нимбом, а он умер только в 1388 г. Видимо, роспись возникла не раньше года его смерти. Прижизненные портреты даже выдающихся церковных деятелей с признаками святости в русской живописи нам неизвестны.
Совсем иными по стилю являются новгородские росписи второй группы. Во главе их надо поставить погибшие фрески церкви
55 См. Игорь Грабарь. Феофан Грек, стр. 15—16; Р. Muratov. Les icones russes. Paris, 1927, p. 124; A. Anissimov. La peinture russe du XIV-е siecle (Theophan le Grec), p. 171; H. Г. Порфиридов. Живопись Болотова. «Новгородский исторический сборник», вып. 7. Новгород, 1940, стр. 55— .56 и др.
56 A. Anissimov. La peinture russe du XIV-е siecle, p. 171 (около 80— '90-х годов XIV в.); В. H. Лазарев. Феофан Грек и его школа, стр. 53—54 (датирует началом 80-х годов). А. Л. Мацулевич и другие исследователи датировали основную роспись 1363 г., а первую алтарную фреску — временем вскоре после постройки храма.
— 294 —
Преображение. Фреска в церкви Спаса Преображения на Ковалеве в Нов городе, 1380 г.
Спаса на Ковалеве (1380 г.) 57. В отличие от подчеркнуто живописных фресок Спаса Преображения, Феодора Стратилата и Болотова ковалевская роспись была сделана мастерами, находившимися под сильным влиянием иконописи. Этим объяснялась необычная система размещения основных изображений на стенах церкви. Обрамленные широкими прямоугольными рамками, не связанные композиционно одна с другой, они напоминали большие иконы. И техника ковалевской росписи тоже обнаружила свою зависимость от иконописной. Мастера, которых здесь было трое, широко пользовались графьей, т. е. процарапывали по штукатурке рисунок той или иной предполагавшейся фрески. При этом графья, служившая обычно вспомогательным средством, приобретала у них непомернобольшое значение и влияла на стиль. Поэтому фигуры отдельных святых на ковалевских фресках казались очень странными, они были написаны в несколько неестественных и случайных позах. Это особенно бросалось в глаза на фреске «Преображение» с упавшими апостолами и на фресках нижнего регистра, где были изображены святые воины с очень неудобно, в сторону от вертикальной оси, поставленными ногами. Ковалевская роспись отличалась от фресок первой группы также своей иконографией. В этом отношении уникальными были изображения тетраморфа в росписи барабана и торжественная композиция под названием «Предста царица одесную тебе» на северной стене. На этой фреске изображены Христос в архиерейском облачении, сидящий на троне, и предстоящие Богоматерь в царских одеждах и Креститель. Смысл фрески «Предста царица одесную тебе» заключался в прославлении Христа как царя царей и великого архиерея. Этот иконографический тип в том варианте, который имелся в росписях Ковалева, сложился на почве Сербии и, несомненно, был занесен в Новгород сербскими мастерами58. И действительно, не только иконография, но и стиль ковалевских фресок обнаруживали прямую зависимость от сербского искусства. Они находили себе хорошие аналогии в росписях церкви Спасителя в Раванице (ок. 1376—1377 гг.). До войны в ковалевском храме сохранялись остатки надписи о его- росписи, где от имени или от прозвища автора оставались лишь три последние буквы «...инъ»59. Они, возможно, обозначали слово «сербинъ».
Несколько позже Ковалева должны были быть расписаны храмы Благовещения на Городище и .Рождества Христова на поле. Фрески городищенской церкви, тоже погибшие во вторую миро57 В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода, стр. 85—90, табл. 72—80; его ж е. Ковалевская роспись и проблема южнославянских связей в русской живописи XIV в. «Ежегодник Института истории искусств [АН СССР], 1957». М., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 233—266.
С 1965 г. в связи с археологическими раскопками руин церкви Спаса на Ковалеве производятся выемка, подборка, склейка, расчистка и консервация сохранившихся фрагментов стенописи. См. В. Б. Грекова. Реставрация стенописи храма Спаса на Ковалеве (итоги первого года работ). В кн.: «Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода», стр. 335—346.
58 См. В. Н. Лазарев. Ковалевская роспись и проблема южнославянских связей в русской живописи XIV в., стр. 254—260.
59 См. М. Каргер. К вопросу об источниках летописных записей о деятельности зодчего Петра и Феофана Грека в Новгороде, стр. 567.
— 296 —
вую войну, были раскрыты лишь частично60. Здесь в двух нишах жертвенника были представлены: в одной — композиция на сюжет «Не рыдай мене мати» с Иоанном Богословом и св. Родионом по сторонам, а в другой — литургия с двумя ангелами и двумя святителями. Сохранившиеся крайне плохо, эти фрагменты тем не менее отчетливо обнаруживали свою связь с фресками церкви Рождества на поле. В обеих росписях совпадали не только характерные типы святых, например, св. Родиона и Симеона, но и манера письма — плотная, суховатая, с мелкими иконописными движками поверх высветлений и довольно яркой красочной гаммой. Эти черты, которые ныне можно наблю-
Ангел из Благовещения. Фреска в церкви Рождества Христова на поле в Новгороде, 80—90-е годы XIV в.
дать на сохранившихся и целиком расчищенных фресках церкви Рождества 61, находили, в свою очередь, параллели в росписи Ковалева. Все три памятника имели признаки одного и того же направления, но не греческого, как утверждает М.‘ К. Каргер по отношению к фрескам церкви Рождества, а направления с южнославянским оттенком. Достаточно сравнить замечательную фреску церкви Рождества с изображением благове- ствующего ангела с аналогичными по сюжету фресками Феодора Стратилата и Болотова, чтобы сразу убедиться в различии их стиля. Полностью лишенная изысканной утонченности форм, мощ- 60 См. Л. Мацулевич. Фрагменты стенописи в соборе Снетогорского монастыря, стр. 52—55, рис. 19 и табл. XIV; В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода, стр. 89—90, табл. 81.
61 См. А. Анисимов. Новооткрытые фрески Новгорода. «Старые годы», 1913, декабрь, стр. 51—52; П. Муратов. Русская живопись до середины XVII в., стр. 182—183 и снимки на стр. 188 и 189; В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода, стр. 90—91, табл. 82 и 83; Ю. Н. Д м и т р и е в. Стенные росписи Новгорода, их реставрация и исследование (работы 1945—1948 гг.), стр. 168—170, с илл.; М. К. Каргер. Новгород Великий. Л.— М., «Искусство», 1961, стр. 217—222.
— 297 —
пая и как бы крадущаяся фигура ангела в церкви Рождества написана к тому же очень плотно, а крупные и жестко нарисованные черты его лика похожи на типы лиц в росписях Ковалева 62. Поскольку церковь Рождества построена в 1381 —1382 гг., ее фрески и близкие к ним фрески церкви Благовещения на Городище не могли быть написаны раньше 1382 г. Вероятно, это произошло на протяжении 80—90-х годов XIV в.
Значительным фресковым циклом, относившимся ко второй группе памятников монументальной живописи Новгорода, являлась также роспись церкви архангела Михаила в Сковородском монастыре63. Церковь, сооружение которой летописи относят к 1355 г., и ее роспись, точное время исполнения которой нам неизвестно, были разрушены немецкими фашистами. Эта невосполнимая утрата тем более велика, что сковородская стенопись, открытая незадолго перед второй мировой войной (в 1930 и 1937—1938 гг.), не была своевременно заснята и изучена специалистами. А между тем по качеству и сохранности красочного слоя уцелевших фрагментов она была одной из лучших в Новгороде.
Сковородская роспись имела сравнительно мало многофигур- пых композиций. Особо выделялась, пожалуй, только одна большая фреска над алтарной аркой с изображением вознесения Христа. Значительно больше здесь было единоличных фигур: пророков, евангелистов, праотцев, святителей, мучеников и ангелов. Немало места художники отвели и орнаменту, который сообщал сковород- ским фрескам радостный оттенок. Это впечатление создавалось, впрочем, не только благодаря орнаменту. Вся роспись храма была как-то по-особому ясной и простой. Она вовсе не была рассчитана на то, чтобы в последовательных и глубоко продуманных сценах развивать какую-то сложную богословскую идею. Напротив, ее мастера были как будто поглощены задачей создать в храме с помощью живописи настроение светлого, безмятежного покоя. Отсюда очень стройные и тонкие фигуры их святых, спокойные и даже бесстрастные выражения лиц, широкие, свободно падающие складки одеяний, обилие орнамента. Этим же объяснялся и очень красивый колорит сковородских фресок, где особенно часто можно было наблюдать сочетания нежных фиолетовых, серых, светло- зеленых, светло-коричневых и оранжево-желтых тонов. Палитра стенописи давала ясные указания, что здесь работали опытные мастера и что кажущаяся простота их искусства — это черты какой-то особой художественной школы. Как и для других росписей второй группы, аналогии сковородским фрескам мы находим в искусстве южных славян. Но диапазон этих аналогий, в отличие от
62 Ср В. Н. Л аз а р ев. Ковалевская роспись и проблема южнославянских связей в русской живописи XIV в., снимки на стр. 235, 239, 240, 244, 249 и др.
63 См. Ю. А. Олсуфьев. Памятник старой русской живописи. Вновь раскрытые фрески в Новгороде. «Архитектурная газета», 12 октября 1937 г., стр. 4; В. А. Б о г у с е в и ч. Вновь открытые фрески русских мастеров XIV в. «Новгородский исторический сборник», вып. Ill—IV. Новгород, 1938, стр. 216—218, рис. 41 (то же в книге: А. Строков и В. Богусевич. Новгород Великий. Л., 1939, стр. 97—99, рис. 81); В. Н. Л а з а р е в. Росписи Сковородского монастыря в Новгороде. Сб. «Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР», стр. 76—101.
— 298 —
Пророк. Фреска в церкви архангела Михаила Сковородского монастыря
в Новгороде, конец XIV — начало XV в.
предыдущих стенописей, более широк и не позволяет связать ско- вородские фрески с каким-либо конкретным сербским памятником. По характеру стиля в целом, где явственно дают о себе знать па- леологовские черты, они, как отмечал В. Н. Лазарев64, соответствуют сербским росписям первой половины XIV в. (церкви св. Дмитрия и Богородицы Одигитрии в Пече, 1317—1325 гг. и 1324—1337 гг.) 65. Однако в Сковородке полностью отсутствуют такие свойственные сербской монументальной живописи второй четверти XIV столетия черты, как несколько перенасыщенные фигурами сцены, их грубоватая экспрессия. В памятниках середины XIV в., хронологически еще более близких ко времени сооружения церкви Сковородского монастыря, например, в Дечанах (около 1340 г.) и особенно в Леснове (1349 г.) и Марковом монастыре* (церковь св. Дмитрия, около 1370 г.) 66, наблюдаются даже очевидные признаки упадка сербского монументального искусства. В сравнении с этими памятниками сковородские фрески выгодно^ отличаются своим благородным характером, чистотой линий, умеренностью в передаче движений, мягким и светлым настроением. Здесь преобладают изящные, спокойные формы, присущие стилку поздних сербских памятников монументальной живописи. Как это* ни странно, на первый взгляд, учитывая довольно раннюю дату сооружения церкви Сковородского монастыря, несомненны отдельные точки соприкосновения сковородских фресок именно с поздними сербскими средневековыми фресковыми циклами, относящимися к так называемой моравской школе живописи, которая сложилась в монастырях Северной Сербии, расположенных в долине речи Моравы, и которая процветала в конце XIV—начале XV вв.67. Лучшие образцы творчества моравской школы — фрески в церквах Богородицы в Калениче (вскоре после 1413 г.) и Троицы в Манасии (около 1418 г.), а также изумительные по качеству исполнения и художественному совершенству миниатюры работы мастера Радослава из одной афонской рукописи, хранящиеся ныне в Публичной Библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде68. Именно здесь мы находим детали, вызывающие близ64 См. В. Н. Лазарев. Росписи Сковородского монастыря в Новгороде, стр. 99
65 Ср. Г. СуботиЙ. Црква светог Димитри]а у netiKoj naTpHjapmHjH. Бео- град, 1964; С. Р а д о j ч и й. Старо српско сликарство. Београд, 1966, стр. 123— 127; табл. 73—75 (церковь Богородицы Одигитрии), стр. 130—134, табл. 77—79, 81а (Дечаны).
66 См. С. Радо|'чиЬ. Старо српско сликарство, табл. 82—83, 86—91.
67 Там же, стр. 175.
68 Об этих памятниках см.: В. Р. Петковий и Ж. Татий. Манастир Калений. Вршац, 1926 (в серии «Народни My3ej у Београду. Српски споменици», IV), стр. 59—87, сл. 35—73; В. Р. П е т к о в и й и П. I. П о п о в и й. Старо На- горичино. Псача. Калений. Београд, 1933 (Српска Крал>евска Академща. Стари )угославенски уметнички споменици. Део први. Стари српски уметнички споменици, кн>. I), стр. 67—76, табл. XI—XXIV; S. Radojcic. Kalenic. Beograd, 1964; С. ТомиЙ, Р. Николий, Б. Живковий. Манасса. HcTopnja — жи- вопис. Београд, 1964 (Републички завод за заштиту споменика културе. Саоп- штен>а, VI); С. Радо)чиЙ. Старо српско сликарство, стр. 188—203, табл. 102— 112; В. J. Ъурий. Сликар Радослав и фреске Каленийа. «Зограф». 2. Београд, 1967, стр. 22—29, сл. 1 —11.
— 300 —
кие ассоциации с деталями новгородского памятника. Здесь те же, что и в Сковородке, гладкие юношеские типы лиц с тонкими носами, маленьким ртом и круглым подбородком69, те же типы лиц более зрелых, бородатых мужей и старцев 70, те же характерные удлиненные пропорции фигур и красиво ниспадающие складки драпировок71 и, наконец, все признаки того же колорита. Преимущественно в сербских памятниках встречаются и орнаментальные мотивы сковородской росписи, например, мотив сходящихся и расходящихся синусоид. Не исключено, что в Сковородском монастыре работали заезжие сербские мастера или, что кажется нам не менее вероятным, русские художники, очень хорошо знавшие сербское искусство той фазы его развития, которая последовала сразу после создания росписи Раваницы. Какими путями этот стиль был занесен в Новгород — прямо ли из Сербии или через Афон, с которым новгородцы поддерживали очень оживленные связи — сказать (так же, как и по отношению к фрескам Ковалева) пока трудно. Что касается времени исполнения сковородских фресок, то предыдущее изложение достаточно ясно показывает, что мы склонны датировать их поздним XIV или даже ранним XV в.72.
69 Ср. головы пророков Захарии и Авдия (В. Н. Лазарев. Росписи Сковородского монастыря в Новгороде, стр. 96 и 98) с неизвестным святым в церкви Манасии (П. Покрышкин. Православная церковная архитектура XII— XVIII столетия в нынешнем Сербском Королевстве. СПб., 1906, табл. XCI) и св. Саввой Стратилатом в церкви Каленича (В. Р. ПетковиЬ и П. I. Попо- в и Ь. Старо Нагоричино. Псача. Калений, табл. XVI, 2; S. Radojcic. Kalenic, р. XVIII).
70 Ср. пророка Михея в Сковородке (В. Н. Лазарев. Росписи Сковородского монастыря в Новгороде, стр. 97) с неизвестным мучеником в церкви Манасии (Ст. CTaHojeBiih, Лаз. Мирковий, Ъ. Бошковий. Манастир Ма- Hacnja, табл. XXII, 3; V. R. Petkovic. La peinture serbe du Moyen Age, II. Beograde, 1934, pl. CCVI), а также святителей в Сковородке (В. Н. Лазарев. Росписи Сковородского монастыря в Новгороде, стр. 84 и 85) с изображением св. Иоанна Милостивого в Калениче (В. Р. Петковий и Ж. ТатиЬ. Манастир Калений, сл. 50; N. О k u n е v. Monumenta artis serbicae, II. Pragae, 1930, pl. 12) и пророка Иону в Сковородке (В. Н. Лазарев. Росписи Сковородского монастыря в Новгороде, стр. 91) с изображением св. Николая на каленичской фреске (S. Radojcic. Kalenic, fig. 33).
71 Ср. В. Н. Лазарев. Росписи Сковородского монастыря в Новгороде, стр. 80, 94 и S. Radojcic. Kalenic, fig. 57; С. Томий, Р. Николий, Б. ЖивковиЬ. Манасса, сл. 67—68 (особенно вторая фигура справа), 83.
72 Началом XV в. сковородские фрески датировал и Ю. А. Олсуфьев, которому принадлежит честь их открытия (они расчищены под его руководством и при непосредственном участии в 1937—1938 гг.). Но он считал их работой русских мастеров. В. Н. Лазарев тоже считает их русскими, но датирует 1360—1361 гг.
А. И. Анисимов на основании пробных расчисток сковородских фресок, произведенных в 1930 г., сделал вывод о смешанном характере их стиля, синтезировавшем, по его мнению, феофановское направление в его последней фазе, представленной росписями Болотова, и южнославянского, представленного фресками Ковалева и Рождества на кладбище; он писал, что этот «синтез, видимо, чисто русского происхождения» и датировал сковородские фрески XV в. (Отдел рукописей ГТГ, ф. 67, № 341, лл. 23 об. — 24).
С фресками Сковородки обнаруживают общие черты несколько икон. Особенно характерна краснофонная икона апостола Фомы в Русском музее. Тип апостола близок к юным пророкам из росписи Сковородки; он находит себе хорошую аналогию также в образе святого Саввы Стоатилата на каленичской фреске.
— 301
В XII в. новопостроенные новгородские каменные храмы расписывались обычно вскоре после завершения архитектурных работ73. В XIV в., наоборот, между постройкой и росписью церквей чаще всего лежали длительные интервалы. Церковь Спаса на Ковалеве простояла без росписи 35 лет, церковь Благовещения на Городище — не менее 40 лет, Успенская церковь на Болотове до первой росписи — 11, а до второй — не менее 30 лет, церковь архангела Михаила на Сковородке — около 40 лет. Подобные интервалы можно объяснить лишь тем, что в Новгороде в XIV в. не было или же было очень мало собственных мастеров, постоянно работавших в области монументальной живописи. Характерно, что новгородские летописи не упоминают о церковных росписях. Это тем более удивительно, что строительство храмов зафиксировано ими на редкость полно и обстоятельно. Остается заключить, что летописцы не очень стремились вписывать в местные анналы заслуги лиц неновгородского происхождения. И действительно, анализ новгородских стенописей показывает, что фресковая живопись XIV — начала XV в. была здесь искусством греческим либо южнославянским. Если исполнение фресок поручалось местным мастерам, то последние обнаруживали очень хорошее знание греческих и сербских образцов, которым они, за немногими исключениями, старались подражать.
Хронология и стилистические черты новгородских стенописей,, насколько это удается уловить по двум точно датированным циклам и по характерным признакам остальных памятников, свидетельствуют, что первоначальное византийское влияние в монументальной живописи Новгорода постепенно уступило место южнославянскому. Это произошло на протяжении 80-х годов XIV в., когда были осуществлены последние греческие росписи и первые южнославянские. Одновременно в новгородском искусстве произошли и существенные стилистические изменения, которые можно кратко определить, как нарастание в живописи иконописных приемов. Это зависело от бурного расцвета в Новгороде иконописи. Икона, а не фреска, была настоящим призванием новгородских мастеров. Именно в этой:- области они достигли высочайших вершин и внесли выдающийся вклад в историю мировой культуры.
В XIV в. новгородская иконопись, в отличие от фрески, развивалась медленно. Почти все сохранившиеся памятники отличаются крайне архаическим стилем. Особенно это заметно в иконах первой половины XIV в., таких, как «Введение во храм» из села Кривого в Русском музее в Ленинграде, «Рождество Богородицы»* из бывшего собрания С. П. Рябушинского в Третьяковской галерее, «Успение Богоматери» из села Курицкого в Музее в Новгороде, «Борис и Глеб» и «Покров» из Зверина монастыря в Истори73 Собор Рождества Богородицы в Антониевом монастыре построен в- 1117—1119 гг. и расписан в 1125 г., Благовещенская церковь Аркажского монастыря— соответственно в 1179 и 1189 гг., церковь Спаса Преображения на Не- редице — в 1198 и 1199 гг. Несомненно, вскоре после завершения строительства были расписаны Никольский собор на Ярославовом дворище (построен в 1113 г.), собор Юрьева монастыря (заложен в 1119 г.) и церковь Георгия в Старой Ладоге (построена, вероятно, в 1165 г., а расписана около 1167 г.).
— 302 —
ческом музее в Москве74. Все они так или иначе следуют очень старым художественным традициям, восходящим еще к XIII в. Наибольший интерес в этом отношении представляет большая житийная икона Николая Чудотворца второй половины XIV в., хранящаяся в Музее в Новгороде. Манера ее письма линейная, плоскостная, лики моделированы слабо, много места отводится орнаменту. Клейма по композиции напоминают рисунки в рукописях. Душевное состояние действующих лиц и общее содержание клейм выражено с помощью жестов и развернутых, обстоятельных надписей. Колорит из-за обилия коричневых, тускло-желтых, оливково-серых, водянисто-синих и зеленоватых тонов очень темный. Со всем этим, однако, хорошо гармонируют строгое изображение Николы на среднике и наивная, безыскусная простота сцен его жития.
Консервативное, мало затронутое новыми стилистическими изменениями искусство продолжало существовать в Новгороде очень долго. К этому направлению относятся, в частности, две лицевые рукописи — Типографский Пролог75 и Погодинский Пролог76 77. Обе они написаны во второй (половине XIV в. Еще более поздним временем, уже началом XV в., надо датировать интересную икону со множеством клейм, иллюстрирующих земную жизнь Иисуса Христа (Музей в Новгороде) 11.
Более живо написана икона конных Бориса и Глеба, находящаяся тоже в Музее в Новгороде. Она происходит из одноименной новгородской церкви, сооруженной в 1377 г. Существует предположение, что этот образ является репликой с известной иконы Бориса и Глеба из Успенского собора Московского Кремля, которая, в свою очередь, написана не без влияния греческой иконописи78. Это обстоятельство заслуживает внимания. В XIV в. произошло сильное расслоение новгородского общества. Основными заказчиками произведений искусства стали богатые боярские семьи, купеческие объединения, дом св. Софии. Их тянуло больше к искусству греков, чей авторитет по части живописи стоял на Руси очень высоко еще с XI в. Отсюда усиленное внимание к произведениям греческого мастерства, стремление архиепископа и бояр привлечь (особенно для росписи церквей) византийского или южнославянского художника. Отголоски византийского понимания формы, несвойственные более ранним и более поздним новгородским иконам, хорошо прослеживаются в крупных иконах Спаса и Благо-
74 О последних двух иконах см.: В. К. Л а у р и н а. Две иконы новгородского Зверина монастыря (к вопросу о новгородской иконописи первой половины XIV г.). «Сообщения Государственного Русского музея», VIII, Л., «Искусство», 1964, стр. 105—119.
75 ЦГАДА, ф. 381, Типогр., № 162. Ср.: Н. П. Лихачев. Материалы для истории русского иконописания. Атлас, ч. II. СПб., 1906, табл. CCCLXXX (№ 774—777).
76 ГПБ, Погод. 59.
77 См. В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода, стр. 94—95, табл. 100.
78 См. Г. В. Жидков. К истории новгородской живописи второй половины XIV века. «Труды секции искусствознания Института археологии и искусствознания», III. М., 1928, стр. 66—70, табл. V; ср.: его же. Московская жи* вопись середины XIV в., стр. 40—63.
— 303 —
Берне и Глеб. Икона из церкви Бориса и Глеба в Новгороде, ок. 1377 г.
Новгородская школа
вещения, написанных, вероятно, в 70—80-х годах XIV в. (обе в Новгородском музее) 79.
Еще совсем недавно новгородские иконы XIV в. были известны в единичных экземплярах. Сейчас в результате расчисток и открытий последних лет появились новые памятники, очень яркие и непохожие на предыдущие, но относящиеся тоже, несомненно, к XIV в. Здесь в первую очередь следует упомянуть две иконы, хранящиеся в Русском музее: «Сошествие во ад» из Тихвина80 и «Богоматерь Одигитрию» из села Любони Боровического района Новгородской области. Обе они написаны в широкой живописной манере, идущей от монументальной живописй. Постозные красноватооранжевые мазки на ликах и на тыльных сторонах рук сделаны уверенной кистью, привыкшей не выписывать, а лепить форму тела. В иконе «Сошествие во ад» новые приемы выявились особенно четко: композиция развернута свободно, динамика движений Христа, Адама и Евы выражена с большой силой, складки одежд написаны с невиданным раньше ощущением пластики, объема.
К числу ранних новгородских икон, где уже четко оформляются многие характерные черты местного художественного стиля, относится замечательная икона «Отечество» в Третьяковской галерее. Помимо выдающихся художественных достоинств она обращает на себя внимание редким сюжетом. Она изображает Троицу, но не в том ее варианте, который представлен известной иконой Андрея Рублева, а в более сложном, но зато и более конкретном, где бог-отец, бог-сын и дух святой получили каждый свое собственное лицо: бог-отец — убеленный сединами старец, бог- сын— отрок, а святой дух — голубь81. При этом все они различаются и по местоположению: фигура бога-отца находится несколько позади фигуры сына, который сидит у отца на коленях, а сфера с изображением голубя находится впереди сына. Такое расположение лиц Троицы обусловлено церковным учением, согласно которому отцу должно отводиться место позади, ибо он является началом, а сыну и святому духу должно отводиться место впереди, ибо они являются исполнителями и завершителями воли отца82. В целом икона была призвана в наглядной форме выразить церков-
79 Первая икона происходит из церкви Феодора Стратилата и отдаленно напоминает фигуры в росписи купола того же храма (Пантократор, пророк Илья и Иоанн Предтеча). Вторая икона происходит из церкви Бориса и Глеба. Об иконах Борисоглебской церкви см. специальную публикацию: В. К. Лаури- н а. Иконы Борисоглебской церкви в Новгороде (к вопросу о новгородской иконописи второй половины XIV в.). «Сообщения Государственного Русского музея», IX. Л., 1968, стр. 74—83 (статья посвящена иконам «Благовещение», «Никола в житии» и «Земная жизнь Иисуса Христа»).
80 См. Н. Порфиридов. Выдающийся памятник древнерусской живописи. «Искусство», 1959, № 2, стр. 67—71; Э. С. Смирнова. Новые работы по реставрации произведений древнерусской живописи. «Сообщения Государственного Русского музея», IV. Л., 1959, стр. 60—62.
81 Об иконографии «Отечества» см.: Н. Gerstinger. Uber Herkunft und Entwicklang der anthropomorphen byzantinisch-slawischen Trinitatsdarstellungen des sogennanten Synthronoi- und Paternitas (— Otechestwo) Typus. «Festschrift W. Sas — Zaloziecky zum 60. Geburstag». Graz, 1956, SS. 79—85.
82 См. И. H. Богословский. Бог Отец Первое Лице Святыя Троица в памятниках древнехристианского искусства. «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения», 1893, май, стр. 550.
20 Очерки русской культуры, ч. 2 _ 305 —
Сошествие во ад. Икона из Тихвина, последняя четверть XIV в. Новгородская школа
ный догмат святой Троицы. О том, что Троица состоит из трех божественных ипостасей, говорят различия в их внешнем облике, а о том, что она едина по существу, — расположение всех трех лиц по одной оси, как бы исходящей от бога-отца, и то, что признаки, свойственные одному лицу, приданы и двум остальным. Крестчатый нимб, являющийся обычно атрибутом Христа (ибо он свидетельствует о распятии), окружает здесь также голову бога-отца, а около символа святого духа написаны первые буквы имени Христа (они добавлены также около фигуры бога-отца). Ощутимый намек.
— 306 —
художника на сущность Троицы как на сущность Христову (ибо, по его замыслу, все три лица Троицы являются как бы тремя различными воплощениями Христа) объясняется тем, что в православной церкви бог вообще выступал преимущественно в его новозаветном аспекте, т. е. как Иисус Христос. Богословская идея иконы не оставляет никаких сомнений в том, что она была написана с определенной целью доказать единство трех лиц Троицы. Мысль о подобной задаче могла возникнуть лишь там, где на этот предмет имелись какие-то оппозицонные взгляды. Поэтому естественно предположить, что икона «Отечество» написана в Новгороде и написана в тот момент, когда церковь начала активную борьбу со стригольнической ересью. Известно, что стригольники критически относились к основным церковным догматам. Догмат святой Троицы, с рационалистической точки зрения непонятный и необъяснимый, должен был вызывать у них особое чувство протеста. Для вящей доказательности идеи Троицы и была пущена вход: иконографическая схема «Отечества»83.
В отличие от фрески, новгородская иконопись была очень крепко связана с местным искусством, и она имела более демократический облик. Станковая живопись в силу уже одной только своей дешевизны была более доступна рядовому населению, чем фреска,, ибо икону мог заказать и не очень состоятельный человек84. Поэтому вкусы широких масс отразились преимущественно в иконе. В конечном счете икона получила перевес над фреской, и подлинно местное новгородское творчество в XV в. сосредоточилось главным образом в области иконописи.
Многие дореволюционные историки искусства считали, чтсь иконопись представляет собой чистое искусство, не связанное с действительностью, что она является лишь воплощением религиозных, поэтических и живописных идей85. Трудно представить себе* более ошибочное понимание иконописи. Так же, как и любая Другая область духовной жизни народа, она была тесно связана с его> насущными интересами. Икона «Отечество» доказывает это с полной очевидностью. Чрезвычайно показателен также выбор святых: на новгородских иконах86. Здесь мы чаще всего видим Николу,. Георгия, Илью, Власия, Флора и Лавра, Параскеву Пятницу, Анастасию. Все эти святые имели в народном сознании прямое отношение к ходу крестьянской и городской жизни. К Николе прибегали вообще во всех трудных случаях, кроме того, он служил помощником в путешествиях и охранителем на водах; Георгий почитался как защитник от вражеского нашествия и покровитель зем-
83 См. Л. С. Ретковская. О появлении и развитии композиции «Отечест; во» в русском искусстве XIV—XVI вв. Сб. «Древнерусское искусство XV — начала- XVI века». М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 238 и сл.; В. Н. Лазарев. Об одной новгородской иконе и ереси антитринитариев. «Культура Древней Руси». Сб. статей в честь 40-летия научной деятельности Н. Н. Воронина. М., «Наука», 1966, стр. 101 — 112.
84 См. В. Н. Л а з а р е в. Искусство Новгорода, стр. 91.
85 См. П. Муратов. Русская живопись до середины XVII в., стр. 32; ср; Ю. Н. Д м и т р и е в. Об истолковании древнерусского искусства. ТОДРЛ, т. XI 1957, стр. 345—362.
86 См. В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода, стр. 106—117.
20*
— 307 —
Отечество. Икона конца XIV— начала XV в. Новгородская школа
леделия; Илья-пророк поил дождем землю и способствовал урожаю; Власий, а также часто изображавшиеся вместе с ним Модест или Спиридоний почитались как охранители домашнего скота; Флору и Лавру приписывалась роль святых коневодов; Параскева Пятница и Анастасия слыли как пособницы торговли, а также брака. Все это святые, которые, по народному убеждению, могли принести конкретную помощь, пользу.
Ни одна крестьянская изба и ни один городской дом не могли обойтись без того или иного подбора избранных святых. Особой популярностью пользовались моленные иконы, предназначенные для домашнего, нецерковного употребления. Прекрасными образцами подобных икон, представляющих собой как бы миниатюрные божницы, являются два складня, один из которых находится в Третьяковской галерее, а другой — в Историческом музее. Оба они сохраняют неповторимый аромат старого уклада и живо переносят нас в обстановку быта XV в.
Излюбленным типом новгородских икон была икона с единоличным изображением святого. Если же писалось несколько святых, то они обычно не связывались между собой действием, а изображались фронтально, с устремленными на зрителя глазами. Таким способом достигалась наибольшая сила воздействия иконы. Она сразу устанавливала необходимый двусторонний контакт между предметом молитвы и молящимися. Именно так написаны замечательная краснофонная икона Дмитрия Солунского из Музея в Рекклингхаузене (ФРГ) и две, тоже краснофонные, иконы пророка Ильи, хранящиеся в Третьяковской галерее87. Эти иконы датируются первой половиной XV в. Особенно выразительна икона Ильи из бывшего собрания И. С. Остроухова. Илья напоминает бога-отца на иконе «Отечество». Ему тоже присуще впечатление устрашающей силы и всемогущества. Народная вера связывала с Ильей грозу, дождь и огонь. Подобно Зевсу, он был повелителем небесных стихий и мог вызвать гром, пролить влагу, метнуть молнию.
Новгородские иконописцы очень охотно обращались к образу Георгия. При этом чаще всего они изображали его конным, поражающим змия. Большинство подобных икон изготовлено либо в самом Новгороде, либо в его обширных северных провинциях. В других областях подобные изображения были известны мало88. Почти исключительно местная новгородская популярность конного- Георгия весьма примечательна. В искусстве, тесно связанном скня-
87 См. В. И. Антонова и Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 36 и 42, илл. 53 и 54. Письмо второй иконы мягче, и образ пророка проще.
88 Сохранилась одна икона конца XIV в., написанная в Южной Руси Т. Логвин. Украинское искусство X—XVIII вв. М., «Искусство», 1963, рис. 49). Происхождение замечательной иконы конного Георгия из собрания Н. В. Розановой, бывшей на выставке «северных писем» в Третьяковской галерее в 1965 г., пока в точности не установлено; существует предположение, что это памятник псковской живописи (см. кн.: «Древнерусская живопись. Новые открытия». Сост. С. Ямщиков. М., «Советский художник», 1965, табл. 6, 7), требует тщательной проверки.
— 309 —
Дмитрий Солунский. Икона начала XV в. Новгородская школа
жескими кругами, предпочитался другой тип его икон, более строгих и статичных, где Георгий изображался фронтально и в полном вооружении89. Это был княжеский Георгий, патрон верхушки феодального общества. Широким же народным массам больше импонировали изображения конного Георгия, восходившие к сказочным, фольклорным сюжетам о всаднике, борющемся со злым драконом и освобождающем прекрасную царевну. К тому же церковное празднование Георгия было установлено 23 апреля, когда начиналась весна, выгонялись на волю конские табуны, близились полевые работы. Во всех этих весенних приготовлениях Георгию отводилась роль деятельного помощника. По народным представлениям, 23 апреля он лично выезжал на белом коне, чтобы охранять выпущенный на волю скот90. Естественно, что в свете подобных взглядов образ конного Георгия должен был пользоваться в Новгороде и его обширных лесных и сельских угодьях особым вниманием. Лучшие новгородские иконы Георгия написаны в XV в. Особенно хороша икона из Русского музея. Быстро скачет белый конь; свободно обернувшись, Георгий вонзает острое и тонкое копье в отверстую пасть змия. Никаких усилий борьбы, никаких подробностей. Георгий побеждает, потому что он не может не победить. Сияющие краски иконы, сочетание киноварного фона и белого цвета коня создают светлое, радостное настроение.
Уже давно замечено, что отступления от образца чаще всего встречаются в памятниках провинциального происхождения и что эти памятники обычно уступают по качеству столичным вещам. Между тем существует немало оригинальных икон, написанных бесспорно в Новгороде и притом первоклассными художниками. В этом плане очень характерна икона, которая происходит из церкви св. Власия на Софийской стороне и в настоящее время хранится в Историческом музее в Москве91. Она изображает святых Власия и Спиридония, а внизу множество овец, коз, коров и кабанов. Святые призваны охранять скот, заботиться о нем. Такой взгляд на Власия и Спиридония основан на их византийских житиях, где они оба предстают пастухами. Но в Новгороде на культ Власия наслоились также представления об его дохристианском предшественнике Велесе, который был «скотьим богом». Невольно вспоминаются этнографические наблюдения, согласно которым ко Вла-
89 Об иконографии Георгия см.: J. Myslivec. Svaty Jiri ve vychodokrestanskem umeni. «Byzantinoslavica», V. Praha, 1933—1934, str. 304— 375, tabl. I—XVI, В. H. Лазарев. Новый памятник станковой живописи XII в. и образ Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве. «Византийский временник», т. VI (1953), стр. 186—222; М. В. А л п а т о в. Образ Георгия-воина в искусстве Византии и Древней Руси, ТОДРЛ, т. XII, 1956, стр. 292—310; Н. Г. Порфиридов. Георгий в древнерусской мелкой каменной пластике. «Сообщения Государственного Русского музея», VIII. Л., 1964, стр. 120—125.
90 См. В. И. Ч и ч е р о в. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI—XIX вв. М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 236.
91 См. Л. М. Глащинская. Пережитки дохристианских верований в новгородском искусстве XIV в. «Новгородский исторический сборник», вып. III—IV. Новгород, 1938, стр. 127—134. Автор статьи датирует икону 1379 г., когда была построена деревянная церковь св. Власия. Более вероятно, что икона написана -около 1407 г., когда был сооружен существующий каменный храм.
— 311
Илия пророк. Икона начала XV в. Новгородская школа
сию крестьяне обращались не столько с молитвой, сколько с заговором 92. Что же касается многочисленных новгородских икон Флора и Лавра, на которых они обычно предстают с лошадиными табунами, то известными церковными преданиями подобные изображения вообще не подкреплялись93. Не исключено, что они появились на почве чисто народных верований. Позднее, в XVII — XVIII вв., когда богословы стали доискиваться, откуда пошли иконы Флора и Лавра с лошадьми, и когда никаких сведений на этот счет в агиографической литературе не оказалось, подобные иконы сделались предметом грозных обличений. Но в XV в. они писались в лучших мастерских, расходились в сотнях экземпляров и не вызывали возражений ни со стороны новгородских церковных властей, ни тем более со стороны заказчиков.
Свободное, не слишком скованное церковными рамками творчество новгородских иконописцев раскрывается также в замечательной иконе под условным названием «Молящиеся новгородцы» (Музей в Новгороде) 94. Она имеет точную дату— 1467 г. Иконой, собственно, является лишь ее верхняя часть, где изображен деисус. Сопровождающая надпись гласит: «молятся рабы божии Григорей, Марья, Яков, Стефан, Евстей, Тимофей, Олфим и с чады Спаса и пречистой Богородицы о гресех своих». Никакие другие иконы не дают столь ясного представления о внешнем облике жителей Новгорода XV в., как икона «Молящиеся новгородцы». Условная форма уступила здесь место конкретной, иконографическая схема— почти непосредственному наблюдению.
Наконец, еще один памятник живописи свидетельствует о теснейшей связи новгородского искусства с историей города. Это икона «Битва суздальцев с новгородцами», или «Чудо от иконы Знамения пресвятой Богородицы». Она известна в нескольких экземплярах, старший и лучший из которых одного происхождения с иконой «Молящиеся новгородцы» и тоже хранится ныне в Музее в Новгороде. Как и предыдущую икону, его надо датировать серединой XV в. Сюжет иконы «Битва суздальцев с новгородцами»95 восходит к летописному известию о том, как в 1169 г. Новгороду пришлось обороняться от объединенного войска русских князей во главе с сыном Андрея Боголюбского князем Мстиславом Андре-
92 См. В. И. Ч и чер о в. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI—XIX вв., стр. 223.
93 См. П. П. Гусев. Иконография св. Флора и Лавра в новгородском искусстве. «Вестник археологии и истории, издаваемый Археологическим институтом», вып. XXI, отд. I. СПб., 1911, стр. 71—104; Н. В. Малицкий. Древнерусские культы сельскохозяйственных святых по памятникам искусства. «Известия ГАИМК», т. XI, вып. 10. Л., 1932, стр. 21—24.
94 Макарий, архимандрит. Археологическое описание церковных древно¬
стей в Новгороде и его окрестностях, ч. II, стр. 79—80; А. Анисимов. Этюды о новгородской иконописи. «Молящиеся новгородцы». «София», 1914, № 3,
стр. 15—28; П. П. Гусев. Две исторические иконы Новгородского церковного древлехранилища. «Труды Новгородского церковно-археологического общества», т. I. Новгород, 1914, стр. 176—184.
95 См. П. П. Гусев. Две исторические иконы новгородского церковного древлехранилища, стр. 170—176; А. Анисимов. Этюды о новгородской иконописи. «София», 1914, № 5 (май), стр. 5—21; Н. Г. Порфиридов. Два сюжета древнерусской живописи в их отношении к литературной основе. ТОДРЛ, т. XXII, 1966, стр. 112—115.
— 313 —
Чудо Георгия о змие. Икона из церкви в с. Манихино на р. Паше близ Нов
города, XV в. Новгородская школа
евичем. Численное превосходство неприятеля сначала повергло новгородцев в уныние, но архиепископу Иоанну пришла в голову счастливая мысль обратиться к помощи чудотворной иконы Знамения Богородицы. Образ вынесли на площадку боевой стены. Суздальцы, увидев толпу с иконой, стали стрелять из луков, и одна стрела попала в лик Божьей Матери. Тогда икона повернулась к обидчикам тыльной стороной, врагов охватила тьма, они ослепли, смешались, обратились в бегство и были наголову разбиты воодушевившимися новгородцами. Эта история во всех ее узловых моментах и воплощена в иконе. Наверху мы видим, как икону Знамения переносят с Торговой стороны, где она хранилась в церкви Спаса, на Софийскую сторону, в детинец. В среднем регистре изображены безуспешная попытка новгородцев достичь мира Путем переговоров и тот момент, когда суздальцы пускают в чудотворную икону стрелы. Наконец, внизу представлена сама битва. Из распахнутых ворот выезжает новгородское войско. Впереди скачут святые воины Борис, Георгий, Глеб и Дмитрий Солунский. С копьями наперевес они устремляются на врага. Суздальцы дрогнули, и в то время как передние всадники еще пытаются принять бой, задние уже обернулись вспять и бегут, оставляяя на поле битвы раненых и убитых.
Сюжет иконы «Чудо от иконы Знамения» был воплощен в живописи в то время, когда Новгород, уступая натиску Москвы, терял последние остатки былой независимости. Напоминание о прежних победах над суздальцами, в лице которых автор иконы и ее заказчики, несомненно, подразумевали москвичей, должно было, по их мысли, возбудить новгородцев к самоотверженной борьбе за свою самостоятельность. И хотя в этой борьбе победила Москва, иконы на сюжет «Чуда» продолжали появляться и позже.
Но было бы неверно ценить икону только за сюжет, или, что ■еще хуже, искать в ней новизну сюжета. В Новгороде создавалось много икон, написанных по устойчивым иконографическим схемам. Взятые сами по себе, эти схемы не обнаруживают ничего специфически новгородского. Без каких-либо существенных отличий они тысячи раз повторяются в иконах, написанных и в других русских городах. Отклонения от нормы и особенности сюжетов новгородских икон вытекали, в общем, естественно из условий местной жизни. Настоящей же сферой приложения творческой фантазии и технического мастерства новгородских живописцев служила стилистическая, образная сторона икон. То особое, что отличает новгородскую иконопись от иконописи прочих областей в ее полном объеме, заключается в художественной форме: композиции, рисунке и колорите. В наше время, когда иконы перестали служить предметом только религиозного почитания, их эстетические качества раскрылись во всей своей полноте. Они привлекают к себе все более пристальное и широкое внимание. И в этом аспекте новгородские иконы, как и московские, вызывают наибольший интерес, ибо они являются произведениями подлинного искусства.
Наиболее характерные черты новгородских икон — это лаконизм их композиции, четкий, несколько жестковатый рисунок, чистота беспримесных красок, безупречная техника. Иконы Дмитрия
— 315 —
Битва новгородцев с суздальцами. Икона середины XV в. Новгородская школа
Солунского, Ильи пророка, святых Власия и Модеста и другие произведения показывают, что окончательное оформление всех этих особенностей новгородской иконописи произошло в первой половине XV в. И дальнейшее развитие местной живописи протекало на исключительно высоком уровне. Сохранилось много новгородских икон середины и второй половины XV в., художественные достоинства которых столь велики, что их смело можно рассматривать в ряду лучших памятников новгородского искусства за все века его существования. Таковы пять икон с праздниками из церкви Успения Богородицы на Болотове — «Сретение», «Воскрешение Лазаря», «Преображение», «Сошествие во ад» (Музей в Новгороде) и «Успение» (Государственный Эрмитаж), некоторые иконы из иконостаса Успенского собора Кириллово-Белозерского монастыря, часть пророческого чина в Третьяковской галерее. Все они написаны в конце XV в. Им свойственна холодная, несколько внешняя красота. Но их твердый, безошибочный рисунок, ясные композиции, сияющие краски производят неизгладимое впечатление. Живопись этих икон можно сравнить с красотой искусно отшлифованного самоцвета. Они радуют глаз совершенством своей формы, блеском технического исполнения.
К этим иконам чрезвычайно близка по стилю серия знаменитых двухсторонних таблеток Софийского собора. Серия состоит из 19 небольших иконок, написанных на левкашенном холсте (Музей в Новгороде; одна таблетка с изображениями Иоанна Предтечи в пустыне и святых Прокопия, Никиты и Евстафия хранится в Русском музее в Ленинграде). Изображения помещаются на обеих сторонах, следовательно в общей сложности их насчитывается 38. Подобные иконки предназначались для того, чтобы класть их на аналой в дни церковных праздников. Это в сущности святцы. Изображения следуют одно за другим, соответственно ходу церковного календаря. По качеству письма и полноте подбора софийские таблетки не знают себе равных. К них приближаются только таблетки из Рождественского собора в Суздале, хранящиеся ныне в Суздальском музее, но они написаны позже софийских. И все же в серии софийских таблеток, несмотря на их очень высокое качество, становятся уже заметными и некоторые черты поздней новгородской иконописи: усложнение композиций, измельчен- ность формы, тенденция к строго догматическому воплощению темы. Отчасти это результат воздействия на новгородскую живопись искусства Москвы. Еще с середины XV в. Москва стала оказывать на искусство остальных русских городов ощутимое влияние. По мере их включения в состав централизованного государства они теряли в искусстве собственное лицо. Особые черты их живописи исчезали и уступали место единому, идеально-прекрасному, но вместе с тем и безразличному художественному стилю, насаждавшемуся Москвой. На первых порах этот нивелирующий процесс имел характер эпизодических явлений. Но в последней трети XV в. он усилился, а на рубеже XV—XVI вв. стал явным.
Картина развития живописи на Севере была бы неполной, если бы мы ограничились только памятниками Новгорода и оставили в стороне иконы, написанные в обширных новгородских пя-
— 317 —
Пророк. Часть пророческого чина, конец XV в. Новгородская школа. Деталь
тинах. По наблюдениям Э. С. Смирновой96, иконописным делом в глухих озерных и лесных углах Севера обычно занимались как побочным ремеслом представители белого и черного духовенства, посадские жители и крестьяне. Работая в одиночку, оторванные от профессиональной иконописной среды, пользуясь кустарными способами, они, естественно, не могли ни дать квалифицированных 96 См. Э. Смирнова. Живопись Обонежья XIV—XVI веков. М., «Наука», 1967.
— 318 —
знаний своим ученикам, ни тем более основать особую школу. Как правило, иконы «северных писем», созданные в новгородской провинции, подражают новгородским образцам, но отличаются от них более низким качеством. Но и в этой массе посредственных вещей встречаются иной раз очень хорошие иконы. Таковы обонеж- ские иконы «Апостол Петр» конца XIV в. из села Вёгорукса, «Никола» XV в. из Пир-озера (обе находятся в Русском музее), «Власий» XV в. из села Инема Олонецкого района (Художественный музей в Петрозаводске). Живопись этой последней иконы, по-северному светлая и строгая, оставляет особенно сильное впечатление,
:г' з
Ни в какой другой стране не было написано так много икон, как на Руси. Отчасти это объясняется благоприятными условиями для развития иконописи. На Руси было много лесов. Сосна и липа легко поддавались обработке топором и скобелем. Широкие торговые связи обеспечивали использование редких красок. Во многих местах велась, видимо, и разработка своих, отечественных, красителей. Уже в XI—XII вв. стали формироваться собственные кадры художников. Но одними этими причинами объяснить расцвет русского иконописания было бы невозможно. Подходящие условия имелись и на греческом Востоке и на Балканах, однако там иконописное дело не получило широкого размаха. Следовательно, на Руси существовали особые причины для развития иконы. Установить их нетрудно. Перевес иконописи над стенописью был связан с тем, что церковное строительство на Руси было преимущественно деревянным. Каменные храмы Киева, Новгорода, Владимира и Москвы — это капля в море по сравнению с количеством деревянных церквей, поставленных в свое время как на юге, так и на безбрежных лесных просторах Севера. Украшать их стенной живописью бессмысленно — деревянные постройки не приспособлены для нее. Оставалось украшать их иконами и притом такими и в таком количестве, чтобы они служили заменой стенной росписи, если не в целом, то хотя бы в ее важнейших частях. Вот почему русские иконы и многочисленны и разнообразны по сюжетам. Они занимают в истории искусства Древней Руси такое же выдающееся место, какое в истории византийского искусства принадлежит мозаикам, а в истории искусства южных славян — фрескам.
Можно думать, что уже в очень ранний период иконы в церквах старались привести в какую-то систему. После монголо-татарского нашествия, когда каменное строительство повсеместно прекратилось, а иконопись не только продолжала существовать, но стала развиваться особенно интенсивно, потребности в систематизации икон должны были возрасти еще больше. Величайшие возможности для этого предоставлял деисус — композиция из икон Христа, Богоматери и Крестителя 97. Подобные деисусы помещались над царскими вратами алтарной преграды. Они выражали
97 См. В. Н. Л аз а ре в. Два новых памятника русской станковой живописи XII—XIII вв. (к истории иконостаса). КСИИМК, вып. XIII. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1946, стр. 67—76.
— 319 —
идею заступничества святых за человеческий род перед Иисусом Христом. И действительно, с увеличением количества икон в церквах к первоначальному ядру в виде трех икон деисуса стали присоединять и другие иконы, расширяя деисус вправо и влево. Эту стадию разрастания деисуса хорошо показывает семичастный краснофонный чин середины XIV в. в Русском музее, где к иконам Христа, Богоматери и Предтечи уже присоединены изображения апостолов Петра и Павла и архангелов Михаила и Гавриила. Расширенный деисус послужил исходной точкой для образования иконостаса 98. Но только деисус, даже в его расширенном виде, еще не составляет иконостаса. Настоящая история последнего начинается лишь с присоединения к деисусу других ярусов: местного, праздничного и пророческого. Иначе говоря, она начинается с того момента, когда предалтарная иконная композиция получает развитие не только по горизонтали, но и по вертикали, образуя между алтарем и главным помещением храма глухую и высокую стенку.
Какой ярус икон был присоединен к деисусу первым: нижний — местный или же верхние ярусы — праздничный и пророческий? В настоящее время можно уверено сказать, что первым присоединен местный ярус. Под местными иконами подразумевают самые крупные иконы иконостаса, помещавшиеся внизу: Богоматери, Спаса и тех святых или праздников, во имя которых был освящен храм. Подобных икон сохранилось много, причем древнейшие из них относятся даже к XII в. Поскольку местные, храмовые иконы составляли важнейшую часть набора икон любой церкви, их ставили в храмах на самые видные места, то есть помещали перед алтарной преградой. Особенностью местного яруса икон было то, что он не составлял неподвижного, догматического целого, как деисус. Местные иконы можно было снять, переставить или даже заменить другими иконами. Это объясняет нам, почему от XIV— XV вв. до нас дошли только разрозненные, единичные местные иконы и не сохранилось ни одного яруса местных икон в целом виде. Именно поэтому история местного яруса кажется неясной, расплывчатой, неопределенной и нередко вызывает искаженное представление о нем, как о самом позднем по происхождению ярусе иконостаса.
В тот момент, когда местные иконы стали помещаться в одной вертикальной плоскости с расширенным деисусом, а это произонь ло, вероятно, в XIII—XIV вв., в эволюции иконостаса был сделан первый действительно важный шаг: он стал превращаться в глухую стенку. Второй важнейший шаг был сделан в то время, когда 98 О русских иконостасах см.: Г. Филимонов. Церковь св. Николая Чудотворца на Липне близ Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквах; Н. Сперовский. Старинные русские иконостасы «Христианское чтение», 1891, ноябрь — декабрь, стр. 337—353; 1892, март — апрель, стр. 162—176; май — июнь, стр. 321—334; июль — август, стр. 3—17; ноябрь — декабрь, стр. 522—537; 1893, сентябрь — октябрь, стр. 321—342; Е. Голу б и н с к и й. История русской церкви, т. II (вторая половина). М., 1917,
стр. 343—354; М. Alpatov und N. Brunov.' Geschichte der altrussischen Kunst. Baden bei Wien, 1932, SS. 312—318; В. H. Л а з a p e в. Живопись Владимиро-Суздальской Руси, стр. 462—472; его же. Искусство Новгорода, стр. 73—76; его же. Феофан Грек и его школа, стр. 86—94.
— 320 —
иконостас стал расти в высоту, превращаясь не только в глухую, но и высокую стенку. В каменных расписанных церквах молящиеся должны были обязательно видеть алтарную роспись: Богоматерь или Христа в конхе и нижележащие регистры с изображениями евхаристии и святителей. Поэтому в каменных храмах алтарная преграда долгое время существовала в виде сравнительно невысокой стенки или портика с небольшим деисусом над ними, поверх которых отлично виднелись изображения в апсиде. Ставить на подобные алтарные преграды большие иконы избегали, так как они скрыли бы от глаз верующих роспись апсиды.^ В Византии, где церковное зодчество было исключительно каменным, а традиция монументальной живописи никогда не пресекалась, алтарная преграда и стоявший на ней деисус эволюционировали поэтому очень медленно, и проблема высокого иконостаса, который бы закрывал всю алтарную арку, вплоть до падения империи по существу не возникала ". На Руси же в деревянных церквах предалтарные деисусы никаких пределов по части увеличения размера не имели, ибо за ними не скрывалось ничего, кроме голых рубленых стен. Поэтому они могли расти как в ширину, так и в высоту — в зависимости от ширины и высоты постройки. Тенденция к увеличению высоты иконостаса в деревянных церквах получила развитие и в каменных храмах, которые в XIV в. подолгу, иногда десятилетиями, стояли без росписи.
Увеличение иконостаса осуществлялось разными способами. Один из них, получивший распространение несколько ранее прочих, заключался в увеличении размеров икон обычного полуфигур- ного деисуса. Остатками таких довольно крупных полуфигурных деисусов являются известная икона архангела Михаила конца XIV в. в Третьяковской галерее (из бывшего собрания С. П. Ря- бушинского) и составлявшие некогда один чин четыре псковские иконы первой половины XV в., три из которых (Спаса, Богоматери и Предтечи) хранятся в Третьяковской галерее, а четвертая (архангела Гавриила) —в Русском музее. К подобным иконам относится и знаменитый звенигородский чин Андрея Рублева. Другой способ состоял в замене полуфигурного деисуса полнофигурным. Старейшие образцы русских больших полнофигурных деисусов — это чин Благовещенского собора Московского Кремля (1405 г.) и чин Успенского собора во Владимире (1408 г.). Наконец, третий способ увеличения иконостаса по вертикали достигался с помощью прибавления к деисусу новых ярусов икон: праздничного и пророческого. На Руси первый законченный праздничный ярус мы видим в Благовещенском соборе (1405 г.) 10°, а пророческий — в Успен-
99 См. В. Н. Лазарев. Три фрагмента расписных эпистилиев и византийский темплон. «Византийский временник», т. XXVII (1967), стр. 162—196.
100 Недавно были опубликованы (находившиеся к моменту публикации еще в процессе расчистки) иконы с изображениями праздников из иконостаса Софийского собора в Новгороде, относящиеся, по мнению автора статьи об этих памятниках, к 1341 г. (См. В. В. Филатов. Иконостас новгородского Софийского собора (предварительная публикация). В кн.: «Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода», стр. 63—82, особенно стр. 77). Между тем древнейшая группа икон с изображениями праздников из новгородской Софии 21 Очерки русской культуры, ч. 2 321
ском соборе во Владимире (1408 г.) и Троицком соборе Троице- Сергиевой лавры (1425—1427 гг.). Нетрудно заметить, что новгородские и псковские иконы свидетельствуют о сравнительно робких попытках изменения первоначального вида иконостаса, в то время как московские памятники указывают на очень важные, по- настоящему новаторские перемены его облика. Пока нет никаких оснований считать, что крупные полнофигурные деисусы возникли на Руси где-то раньше, чем в Москве. Застрельщицей в создании классического высокого русского иконостаса выступила, наверно, Москва, а не Новгород. Это не случайно. По мере того как Москва становилась главным городом всей Северо-Восточной Руси и центром объединения разрозненных русских княжеств в единое государство, в ее искусстве ставились и решались такие крупные художественные задачи, которые были уже не под силу другим городам и княжествам.
Интенсивная художественная жизнь Москвы поддерживалась тем, что город являлся церковным центром всея Руси и местопребыванием великого князя. По размаху и разветвленности московская живопись не знала себе равных. Мнение, будто средоточием фресковой живописи на Руси в XIV—XV вв. был Новгород, верно лишь постольку, поскольку мы имеем дело с уцелевшими росписи- , ми. В Новгороде их действительно больше, чем в остальных русских городах. Но фресковая живопись усиленно развивалась и в Москве. К сожалению, большая часть памятников монументальной живописи Москвы погибла. До нас не дошли фрески, украшавшие некогда кремлевские соборы Успения (1344 г.), Михаила архангела (1344—1346 и 1399 гг.), Спаса на Бору (1345—1346 гг.) и церковь Иоанна Лествичника (1346 г.), а также Успенский собор в Коломне (1392 г.), кремлевские же церкви Рождества Богородицы и Благовещения (1395, 1405 гг.), собор Симонова монастыря (после 1405 г.), Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (1425— 1427 гг.). Сохранились жалкие остатки фресок, иногда просто ничтожные, лишь в четырех зданиях начала XV в.: в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (ок. 1400 г.), в Успенском соборе во Владимире (1408 г.), в соборе Спасо-Андроникова монастыря в Москве (1427—1430 гг.) и в соборе Рождества Богородицы Сав- вина-Сторожевского монастыря в Звенигороде (вероятно, 1425— 1434 гг.). Суммируя сведения о фресках московских и подмосковных соборов, мы получим весьма внушительную цифру осуществленных некогда росписей — 14. Эта цифра далеко превосходит наши сведения о росписях в Новгороде, которых, с присоединением первоначальной запрестольной фрески Болотова, насчитывается всего лишь 10. Ясно, что ведущая роль в области монументальной живописи в XIV—XV вв. принадлежала Москве, а не Новгороду, занимавшему лишь второе место. Третье, четвертое и пятое места
(очень слабая, кстати сказать, в художественном отношении) выполнена, судя цо наличию на их полях характерного орнамента балканского стиля из пересекающихся кругов и по другим признакам, не ранее конца XIV — начала XV в. и притом не русскими, а заезжими, по-видимому, провинциальными греческими или сербскими, мастерами. — 322 —
распределялись соответственно между Псковом, Тверью101 и Нижним Новгородом 102.
Так как большинство памятников монументальной живописи Москвы утрачено, мы не можем судить об этой существенной части московского искусства XIV в. Не лучше обстоит дело и с произведениями станковой живописи. Тысячи местных икон и лицевых рукописей погибли в пожаре при взятии города Тохтамышем в 1382 г. Поэтому восстановить подлинную картину развития московского изобразительного искусства чрезвычайно трудно. Уцелевшие вещи больше чем где бы то ни было имеют характер случайных и не столько раскрывают окно в исчезнувший мир, сколько возбуждают сомнения, ставят вопросы, плодят загадки. И все же они отчетливо рисуют главное, что происходило в искусстве Москвы на протяжении середины и второй половины XIV в. Это главное, как и в Новгороде, заключалось в параллельном существовании двух направлений — греческого и местного — ив том, что местное искусство, расширяясь и усиливаясь с каждым десятилетием, в конце концов полностью нейтрализовало греческое.
Выдающимся представителем греческого искусства в Москве был Феофан Грек. Он приехал из Новгорода в Москву около 1390 г. Летописи упоминают о трех расписанных им московских храмах: Рождества Богородицы (1395 г.), архангела Михаила (1399 г.) и Благовещения (1405 г.). Есть основания полагать, что он же в 1392 г. расписывал и Успенский собор в Коломне. Ни одна из этих росписей до нас не дошла. Сохранилось лишь несколько икон кисти Феофана, из которых одна (приписывается Феофану) происходит из коломенского собора, а остальные — из Благовещенского.
С коломенским собором связана двусторонняя икона Богоматери Донской. На ее лицевой стороне написано Умиление, а на оборотной стороне — Успение. Композиция Успения свидетельствует, между прочим, что икона была изготовлена специально для коломенского собора, так как он был посвящен Успению Богоматери. Поскольку собор был расписан и освящен в 1392 г., этим годом можно датировать и образ Богоматери Донской 103.
Художнику, написавшему икону, удалось замечательно передать нежную любовь матери к сыну и порывисто-доверчивое движение младенца Христа. Осторожный жест правой руки Марии, поворот ее головы, черты лица — все дышит подлинной жизнью. На оборотной стороне иконы представлена смерть Богоматери. Ее
101 В Твери и Старице не сохранилось ни одного памятника монументальной живописи, но здесь были расписаны алтарь и Введенский придел тверского Спасо- Преображенского собора (1349 и 1360 гг.), старицкий собор Михаила Архангела (1406—1407 гг.) и старицкая церковь Николы (видимо, в те же годы).
102 Археологическими раскопками доказано существование фресок в нижегородском соборе Михаила архангела (Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV вв., т. II. М , Изд-во АН СССР, 1963, стр. 212). Они были исполнены после 1359 г., но не сохранились, так как собор разрушен еще в XVII в.
103 См. В. Антонова. О Феофане Греке в Коломне, Переславле Залесском и Серпухове. «Материалы и исследования [Государственной Третьяковской галереи]», т. 1. М., 1962, стр. 10—22.
21*
— 323 —
•Феофан Грек (?). Богоматерь Донская. Икона из Успенского собора в Коломне, 1392 г.
Феофан Грек(?). Успение Богоматери. Оборотная сторона иконы Богоматери Донской из Успенского собора в Коломне, 1392 г.
хрупкое вытянувшееся тело со сложенными на груди руками покоится на высоком ложе, устланном белыми погребальными пеленами. В изголовье и в ногах, двумя группами по шести человек в каждой, изображены плачущие апостолы и два святителя. Позади ложа, на фоне темного синего ореола, под горящими крылами огненного серафима возвышается фигура Христа. Его сосредоточенное лицо бесстрастно, ему недоступно человеческое чувство подавленности и горя, охватившее апостолов. Он царь славы, спустившийся с небес, чтобы лично принять в свои руки душу матери. Явление Христа символично и незримо, поэтому апостолы не замечают его. Обступив смертное ложе Марии, они припадают к нему и, вглядываясь в дорогой им образ Богоматери, стараются запечатлеть его в своей памяти. Но этот момент прощания краток. Свеча, которая была зажжена Марией перед смертью и поставлена у ложа, горит, ее пламя колеблется, воск тает, и с последним лучом ее света погаснет и всякая надежда.
Икона Богоматери Донской имеет необычный для русских икон напряженный колорит. Ничего подобного никогда не достигали ни новгородские иконописцы, с безымянным представителем которых ее связывает В. Н. Лазарев 104, ни тем более московские, живопись которых обычно лишена ярко выраженного драматического оттенка. Стилистические черты иконы дают основания думать, что ее автором был греческий художник. Широко распространенное мнение, что «Богоматерь Донская» написана Феофаном 105, возможно, но доказать его чрезвычайно трудно. Ближайшие аналогии иконе Богоматери Донской мы находим в росписи Болотова, где имеются фигуры, поразительно напоминающие типы апостолов из «Успения» на тыльной стороне иконы. Нельзя вместе с тем закрывать глаза на то, что в отношении стиля, особенно колорита, икона близка к деисусу Благовещенского собора Московского Кремля, а этот последний написан бесспорно Феофаном Греком.
Деисус, а также расположенный непосредственно над ним праздничный ярус иконостаса Благовещенского собора написаны в 1405 г. Феофаном Греком, Прохором с Городца и Андреем Рублевым106. В написании икон праздничного яруса Феофан участия не принимал. Ему принадлежат лишь иконы главного яруса, но тоже не все, а только семь: «Спас», «Богоматерь», «Иоанн Предтеча», «Архангел Гавриил», «Апостол Павел», «Василий Великий» и «Иоанн Златоуст» 107. Руководящую роль в исполнении деисуса играл, конечно, Феофан. Поэтому здесь преобладают черты его собственного стиля. Глубокая одухотворенность, выразительный рисунок, драматическая сила колорита придают чину Благовещенского собора значение одного из величайших произведений миро104 См. В. Н. Лазарев. Феофан Грек и его школа, стр. 63—67.
105 См. Игорь Грабарь. Феофан Грек, стр. 12—13, 16—17; Р. Muratov. Les icones russes, p. 139; В. Антонова. О Феофане Греке в Коломне, Переславле Залесском и Серпухове, стр. 10—22.
106 См. М. Д. Приселков. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950, стр. 459; ПСРЛ, т. VIII, стр. 77; т. XXV, стр. 233.
107 См. В. Н. Л а з а р е в. Феофан Грек и его школа, стр. 90.
— 326 —
вого искусства. Деисус Благовещенского собора — это вершина творчества Феофана, воплощение в живописи одной из наиболее фундаментальных идей, выработанных в недрах восточнохристианского церковного искусства за все века его существования.
Поскольку иконы благовещенского чина предназначались для второго яруса иконостаса, то есть они должны были быть поставлены высоко от пола, Феофан сознательно обратил главное внимание на силуэты фигур. Он всячески избегает сложных поворотов, острых углов, неоправданных нарушений линий контура. Последние прерываются у него лишь там, где края одеяний приподнимаются от протянутых в молитвенном жесте рук. Этот прием останавливает на себе наше внимание и напоминает об идее заступничества, моления. Достаточно окинуть деисус даже беглым взглядом, чтобы уяснить, сколько тонкого расчета заключено в этих иконах. В свое время фигуры четко выделялись на ровно сияющем золотом фоне. Симметрично поставленные по сторонам от иконы Христа, слегка склоняясь, с выставленными вперед руками, святые обращались к нему с молитвой. Эта атмосфера моления невольно передавалась присутствующим. Деисус соединял в себе мысли и чувства всех, кто находился перед ним и созерцал его. Он был композиционным и смысловым центром оформления храма в целом, начиная от архитектуры здания, где происходила служба, и кончая порядком ее совершения.
Заслуга Феофана, создавшего этот замечательный деисус, заключается в том, что он выразил его содержание в соответствующей строгой и монументальной форме. Полуфигурные деисусы XIV в., в силу их незначительных размеров, были мало приспособлены для того, чтобы служить настоящим средоточием живописного оформления церковных званий. Воплощая в себе ту же мысль, что и деисус Феофана, они тем не менее всегда оставались на уровФеофан Грек. Богоматерь. Икона из иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле, 1405 г.
— 327 —
не обычных икон. Даже талантливые иконописцы не могли сделать из этой композиции больше, чем это разрешали ее традиционные размеры. Всеобъемлющая идея деисуса требовала принципиально другой, не по-иконному крупной формы. Чтобы производить впечатление, она должна была приблизиться по масштабам к фреске. Феофан чутко уловил эту несогласованность и потребности своего времени в большом деисусе. И он резко увеличил его размеры 108. Высота каждой из икон благовещенского чина свыше 2 метров, а их общая протяженность по горизонтали свыше 12 метров. Так как нам неизвестны русские полнофигурные деисусы, написанные до чина Благовещенского собора, то не исключено, что он был на Руси первым деисусом в рост. Это задача была в духе Феофана, искусство которого только тогда развертывалось в полную силу, когда он расписывал большие плоскости, решал крупные, комплексные художественные задачи. К благовещенскому чину с полным правом можно применить слова одного старого исследователя древнерусского искусства об апостольских ярусах русского иконостаса, которые «есть не что иное, как развернутый купол древних византийских и русских храмов» 109. Здесь имеется в виду то обстоятельство, что иконостас постепенно заменил стенопись, ибо в нем нашли себе место все главные составные части стенной росписи. Но фигуры святых деисуса Благовещенского собора так сильно напоминают грандиозные фигуры праотцев барабана церкви Спаса Преображения, что эти слова приобретают почти буквальный смысл. Благовещенский чин — это действительно образец монументального искусства, родственного фреске. Конечно, не может быть и речи о механическом претворении принципов монументальной живописи на иконной доске 110. Это творческое соединение лучших достижений иконописи и фрески. Четко нарисованные силуэты фигур сочетаются с очень широким, крупным письмом, глубокая психологическая выразительность ликов — с выразительностью движений и поз, тончайшие красочные решения каждой иконы в отдельности — с их общим, по-византийски сумрачным и торжественным колоритом.
Письмо Епифания Премудрого о Феофане сообщает нам, что появление греческого мастера в Москве сопровождалось чрезвычайным оживлением в местной художественной среде. Московские иконописцы внимательно следили за работами Феофана и наперебой старались получить его подлинный рисунок или копии с его рисунков, чтобы использовать их в собственной практике. Очень скоро у Феофана завелись и ученики. Они упоминаются уже в летописных известиях о росписи церквей Рождества Богородицы (1395 г.) и собора Михаила архангела (1399 г.). Но если бы мы опирались только на свидетельства письменных источников, нам бы пришлось заключить, что искусство Феофана было главной силой, 108 См. В. Н. Лазарев. Феофан Грек и его школа, стр. 89—90.
109 Н. С п е р о в с к и й. Старинные русские иконостасы. «Христианское чтение», 1892, июль — август, стр. 17.
110 О стиле Феофана применительно к иконам деисусного чина Благовещенского собора см.: М. В. Алпатов. Этюды по истории русского искусства, т. L М., «Искусство», 1967, стр. 88—98, рис. 58—65.
— 328 —
определившей в эти годы развитие московской живописи. Однако сохранившиеся памятники говорят, что греческое искусство в Москве было не единственным и даже не главным. С мастерской самого Феофана можно связать лишь две значительные вещи: большую икону Преображения из собора в Переяславле-Залесском (ок. 1403 г.) и миниатюрную четырехчастную иконку начала XV в. из Московского Кремля ш. После смерти Феофана его искусство вообще перестало оказывать какое-либо заметное влияние на московских живописцев. Они сосредоточили свои усилия главным образом на разработке собственной художественной традиции. С этой традицией неразрывно связано творчество великого русского художника Андрея Рублева.
Сохранилось несколько икон, написанных предшественниками и старшими современниками Андрея Рублева. Таковы «Сошествие во ад» из Воскресенской церкви в Коломне (3-я четверть XIV в.) и «Никола с житием» из Николо-Угрешского монастыря на Моск- ве-реке (ок. 1380 г.), хранящиеся ныне в Третьяковской галерее 111 112. На этих иконах мы впервые в истории московской живописи видим тип святого с большим открытым лбом, с мелкими, посаженными близко к переносице, глазами, с тонким прямым носом и внимательным взглядом. В искусстве Новгорода или Византии он не встречается, зато очень характерен для московской живописи, и многие местные иконы и фрески будут потом повторять подобный тип святого.
Интересны и другие московские памятники конца XIV — начала XV в. Это двойная икона Николы и Георгия из подмосковного Гуслицкого монастыря 113 и небольшая икона Богоматери типа Владимирской из Покровского монастыря в Суздале 114 (обе в Русском музее). Образ Георгия на гуслицкой иконе является выдающимся достижением московской живописи. В его благородном облике неизвестный художник запечатлел идею непоказной доблести и возвышенного страдания. Глядя на это юное, но суровое лицо, мы соприкасаемся с искусством, способным выражать очень глубокие и содержательные мысли, не прибегая к эффекту действия и блеску окружающей обстановки. Эта черта, как мы увидим далее, станет одной из наиболее характерных для искусства Андрея Рублева.
Иконы Николы и Георгия и Богоматери Владимирской написаны собственно уже в то время, когда Рублев приступил к самостоятельной работе. Но в целом обе они, созданные еще в тради111 Обе находятся в Третьяковской галерее; см.: В. Н. Лазарев. Феофан Грек и его школа, стр. 101—103, табл. 113—121.
112 См. В. И. Антонова и Н. Е. Мне в а Каталог древнерусской живописи, т. I, № 212, рис. 160—161 и № 214, рис. 169.
113 Этой иконе посвящено несколько замечательных строк в статье Н. А. Деминой «Черты героической действительности XIV—XV веков в образах людей Андрея Рублева и художников его круга» (ТОДРЛ, т. XII, 1956, стр. 313—314). Стилистическое сходство иконы с шитым изображением Сергия Радонежского на его надгробном покрове, созданном около 1424 г. (хранится в Загорском музее), позволяет думать, что икона написана примерно в то же время.
114 Воспроизведение в красках: Н. П. Кондаков. Русская икона, IV» Текст, ч. 2. Прага, 1933, табл. 17.
— 329 —
циях XIV в., могут рассматриваться как памятники искусства предрублевского периода, ибо творчество Рублева связано все же больше с XV в., а не с XIV. Важно подчеркнуть, что все упомянутые нами произведения живописи не имеют ничего общего с искусством Феофана. Равным образом и Рублев к моменту, когда произошла его встреча с Феофаном, был уже сложившимся мастером. Поэтому Феофан не оказал на него существенного влияния.
Достоверных сведений о жизни и работах Андрея Рублева сохранилось мало115. Мы не знаем, где и когда он родился. Он был монахом, но ни время, ни место, ни обстоятельства,
при которых он постригся, тоже не известны. Первое летописное упоминание о нем относится к 1405 г., когда он совместно с Феофаном Греком и Прохором с Город- ца расписывал Благовещенский собор. Вторично его имя упомянуто в 1408 г. в связи с росписью Успенского собора во Владимире. На этот раз он работал с Даниилом Черным, художником, творчество которого до сих пор остается еще менее ясным, чем творчество Рублева. Между 1425 и 1427 гг. Рублев принимал участие в росписи Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, а между 1427 и 1430 гг.— Спасского собора Андроникова монастыря в Москве. Андроников монастырь был, видимо, последним пристанищем художника, и Георгий. Деталь иконы Николы и Георгия из Гуслицкого монастыря под Москвой, начало XV в. Московская школа
115 Их новейшее критическое изложение см.: М. Н. Тихомиров. Андрей Рублев и его эпоха. «Вопросы истории», 1961, № 1, стр. 3—17.
— 330 —
здесь он умер в 1430 г. Показания источников явно отрывочны, и мы можем быть уверены, что многие, наверно, весьма важные факты его биографии не получили в них никакого отражения.
Обычно утверждается, что Рублев обучался в иконописной мастерской Троице-Сергиевой лавры. Но более вероятно, что он учился в одном из московских монастырей И6. Надо обратить внимание, что в начале XV в. Рублев работал преимущественно по заказам великого князя (Благовещенский собор, Успенский собор во Владимире). Это дает некоторые основания думать, что он был великокняжеским мастером и, следовательно, вышел из монастыря, тесно связанного с жизнью московского великокняжеского двора.
Летописные упоминания о творчестве Андрея Рублева относятся к тому времени, когда он уже получил признание и ему стали поручать ответственные работы. О ранних же его произведениях ни летописи, ни какие-либо другие письменные источники не сообщают ни слова. Существует, однако, несколько выдающихся памятников живописи конца XIV — начала XV в., особенности стиля которых имеют немало общего с достоверными произведениями Рублева. Здесь следует упомянуть о фресках Успенского собора на Городке в Звенигороде и о двух миниатюрах, украшающих небольшое Евангелие из Успенского собора Московского Кремля, хранящееся ныне в Историческом музее в Москве (Усп. 4 бум.). У нас нет твердых оснований приписывать эти фрески и миниатюры Андрею Рублеву, но они дают ясное представление об искусстве его круга, причем об искусстве того времени, когда он уже активно привлекался к выполнению художественных заказов.
Расположенный в окрестностях Москвы Звенигород с 1389 г. состоял в уделе второго сына Дмитрия Донского князя Юрия Дмитриевича. Здесь на рубеже XIV—XV вв. Юрий Дмитриевич построил каменный собор Успения Богоматери. Наверно, сразу после сооружения храм был расписан фресками, от которых до наших дней уцелело несколько фрагментов на алтарных столпах 116 117. Они исполнены двумя художниками, одному из которых, предположительно Рублеву, принадлежат медальоны с полуфигурами святых Флора и Лавра. Фон этих медальонов образуют разноцветные круги: белый, серовато-вишневый и розовато-вишневый. На Лавре, изображение которого сохранилось лучше, чем изображение Флора,
116 М. Н. Тихомиров предполагал, что это был Спасо-Андроников монастырь (М. Н. Тихомиров. Андрей Рублев и его эпоха, стр. 7—8). Не исключено также, что местом жительства Андрея Рублева были Успенский Симонов монастырь или монастырь Спаса на Бору в Московском Кремле (Г. И. Вздорнов. Книгописание и художественное оформление рукописей в московских и подмосковных монастырях до конца первой трети XV в. ТОДРЛ, т. XXII, 1966, стр. 139— 141; е г о же. Итог большого труда. Рец. на кн.: В. Н. Лазарев. Андрей Рублев и его школа. «Искусство», 1967, № 9, стр. 71).
117 См. Леонид, архимандрит. Звенигород и его соборный храм с фресками. «Сборник на 1873 год, изданный Обществом древнерусского искусства при Московском Публичном музее». М., 1873, стр. 114—116; Н. Протасов. Фрески на алтарных столпах Успенского собора в Звенигороде. «Светильник», 1915, № 9—12, стр. 26—48; Игорь Грабарь. Андрей Рублев, стр. 92, 95 и 88 (рисунок); В. Н. Лазарев. Андрей Рублев и его школа, стр. 16—18, табл. 1—2.
— 331 —
Св. Лавр. Фреска в Успенском соборе на Городке в Звенигороде,
ок. 1400 г.
светло-зеленый хитон и вишневый плащ. Эту очень изысканную- красочную гамму дополняют желтый цвет нимба и многочисленные высветления складок одеяния. В образе Лавра нет никаких следов динамики и напряжения. Эта фреска свободна от каких бы то ни было признаков натурализма. Такими же легкими и светлыми предстают перед нами рисунки евангелистов в рукописи из Исторического музея. Они исполнены в нежных серебристо-серых и фиолетовых тонах. Это работа мастера, обладавшего большим профессиональным опытом и вместе с тем чуткой поэтической душой.
Первые достоверно рублевские произведения относятся к 1405 г. Это иконы праздничного яруса иконостаса Благовещенского собора, написанные им совместно с художником старшего поколения— Прохором с Городца, предполагаемым учителем Рублева. Согласно классификации В. Н. Лазарева, Рублев исполнил семь икон праздников: «Благовещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим»
— 332 —
и «Преображение»118. Остальные иконы праздничного яруса принадлежат руке Прохора. Сравнительный анализ этих двух групп икон вскрывает существенное различие художественных идеалов и миропонимания художников. У Прохора твердая рука, чувствуется хорошее владение рисунком и композицией, технический профессионализм, но его произведениям не хватает глубины, поэзии, чувства. Колорит его икон скучноватый, детали малоинтересны и не имеют важного значения для понимания темы. В этом отношении Рублев намного опередил Прохора. Его вещи чрезвычайно красивы и разнообразны по цвету, фигуры тоньше, композиции просторнее, живопись в целом легче и Евангелист Иоанн. Миниатюра из Евангелия, конец XIV — начало XV в.
воздушнее. Особенно хороша икона «Преобра¬
жение» с ее как бы тающим в утренней свежести пейзажем, изящными фигурами Христа и апостолов и поразительно нежными оттенками розового и жемчужно-серого цвета. К великому сожалению, все иконы праздничного яруса в XVII в. были переписаны, причем их первоначальный красочный слой предварительно был спемзован, а по старым контурам каким-то острым предметом процарапаны новые. Это нанесло иконам непоправимый ущерб.
Значительно лучше сохранились написанные три года спустя фрески Успенского собора во Владимире (1408 г.). В области монументальной живописи они являются центральным памятником искусства Рублева. Эти фрески он писал не один, а в сотрудничестве с Даниилом Черным. Установить, какие части росписи сделаны им, а какие Даниилом, нелегко. И. Э. Грабарь полагал, что признаки живописного стиля, идущие от Феофана Грека, указывают скорее всего на руку Даниила, а признаки графического, линейного стиля согласуются больше с искусством Рублева 119. Не исключено, однако, что художники работали совместно, ибо нередко 118 См. В. Н. Л а з а р е в. Андрей Рублев и его школа, стр. 19.
119 См. Игорь Грабарь. Андрей Рублев, стр. 22—23 и 66—72.
— 333 —
одна и та же большая фреска содержит в себе черты стиля того и другого мастера, слитые как бы воедино. Поскольку провести четкую линию между, фресками, написанными Даниилом и Рублевым,, трудно, поскольку приходится воспринимать роспись в целом, не настаивая на принадлежности той или иной композиции только Рублеву или только Даниилу.
Фрески 1408 г. сохранились в разных частях собора. Больше всего их уцелело в западной части храма под хорами. Здесь написаны эпизоды Страшного суда, главным образом приготовления к судилищу, сонмы апостолов и ангелов, шествие праведников и картины рая 120. Что касается изображений грешников и адских мучений, то они, конечно, тоже были, но до нас не дошли. Вообще картины ужасов и попрания человеческого достоинства не вяжутся с искусством Рублева и его современников. Оно мягкое и спокойное, без исступления и без отчаяния. В этом смысле все фрески Успенского собора обладают одинаковыми чертами, и ни одна из них не обнаруживает отклонений в сторону какого-либо другого истолкования темы.
Одна из лучших фресок Успенского собора — «Шествие праведников в рай». Эта большая композиция написана по правую руку от входа, на южном склоне свода малого нефа. Исчезнувшая ныне надпись, которая сопровождала фреску, гласила: «Идут свя- тии в рай». По традиции, установившейся для подобных изображений, праведники разбиты на соответствующие группы: впереди написаны апостолы, за ними пророки, святители, мученики, преподобные, праведные жены и миряне. Шествие возглавляют апостолы Петр и Павел. Павел считался очевидцем рая, поэтому здесь ему отведена роль проводника, он указует путь к месту вечного блаженства и держит развернутый свиток с надписью: «Придете СО’ мною благиих». Другому апостолу, Петру, доверены ключи от рая. Он держит их в протянутой правой руке. Обернувшись к спутникам, он светлым и открытым взором ободряет их и как бы говорит им: наша судьба в наших руках, скоро нам откроются кущи рая, и мы услышим пение райских птиц, мужайтесь и держитесь друг друга.
Внешне владимирская фреска кажется вполне обычной. Подобные шествия праведных во главе с апостолом Петром имеются на грандиозной мозаике собора в Торчелло, на фреске церкви Спаса на Нередице и в других памятниках. Но с точки зрения истолкования сюжета она являет собой нечто совершенно новое. Во всех более ранних композициях апостол Петр обычно изображался отдельно от праведников, шел на некотором расстоянии от них. Если он оборачивался к ним, то его лицо выражало преимущественно заботу, похожую на заботу пастуха о целости порученного ему стада. На владимирской фреске, напротив, мы видим слияние Петра с группой апостолов, а через нее и с остальными праведниками. Его превосходство не выделено здесь особыми приемами, он является нам как один из участников шествия, он разделяет со
120 Об иконографии Страшного суда см.: Н. В. Покровский. Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства. «Труды VI Археологического съезда в Одессе (1884)», т. III. Одесса, 1887, стр. 285—381.
— 334 —
Шествие праведников в рай. Фреска в Успенском соборе во Владимире, 1408 г.
Шествие праведников в рай. Фреска в Успенском соборе во Владимире, 1408 г. Деталь
своими спутниками их ожидание грядущего блаженства, их веру. И если глаза идущих за ним праведников обращены в его сторону, то в них читается не страх и не сомнение в благополучном исходе шествия, а товарищеское доверие к вожаку, избранному волей их самих. В этом смысле очень выразительны лики тех апостолов и святителей, которые идут рядом с Петром и поблизости от него. Иоанн, поворот которого в сторону Петра является зеркальным отражением поворота самого Петра, наделен в сущности тем же характером, что и Петр. Поэтому нам легко вообразить его на месте Петра. От этого бы ничто не изменилось. Здесь мы соприкасаемся с одной очень существенной чертой искусства Рублева. Образы, созданные им, обладают замечательным свойством заменять друг друга, ибо они равны между собой. Сила не предполагает у него слабости. Его искусство освещено ровным светом идей всеобщего равенства, любви, дружбы и взаимной помощи.
Вообще в произведениях Рублева, созданных им на протяжении первого десятилетия XV в., мы уже сталкиваемся со многими характерными особенностями его искусства в целом. Отчетливо рисуется, между прочим, безмятежный дух живописи Рублева. В ней нет никаких признаков драматизма. По настроению образы,
— 336 —
созданные Рублевым, являются полной противоположностью образам Феофана. У русского художника ясно выражено естественное отношение человека к миру как к среде, в которой он призван жить и которая не противостоит ему. Поэтому он видит в ней преимущественно светлые стороны и как бы намеренно избегает изображать неоправданно динамические сцены, сложные характеры, сумрачные лица. Человека, который предстает перед нами в искусстве Рублева, не точит червь сомнений и не сжигает огонь страстей. Его душа не испытывает раздвоения между миром духовного и миром земного, она пребывает в состоянии счастливого равновесия. Но в целом образы, созданные Рублевым,— это не холодный канон. К тому же, в отличие от Феофана, святыми которого управляет обычно внешняя сила и жизнь которых проходит под знаком божественного предопределения, люди в искусстве Рублева управляют сами собой, они ведут себя естественно и просто, ибо все зависит только от них. Живопись Рублева утверждает в человеке его внутреннюю свободу, независимость и доброту. В этом источник ее неотразимого обаяния.
Одновременно с фресками Рублев и Даниил Черный написали для Успенского собора новый иконостас, от которого до нас дошло тринадцать чиновных икон, пять икон праздников и две иконы из пророческого яруса 121. Продолжая дело, начатое Феофаном, Рублев и Даниил еще больше увеличили высоту икон деисуса, доведя ее до S,14 м. Грандиозный замысел, осуществленный художниками, превосходил все, что было создано в их время в области живописи. Этот памятник искусства имел и крупное общественное значение. В начале XV в. владимирский Успенский собор еще сохранял за собой роль главного собора всей Северо-Восточной Руси. Здесь происходило, в частности, посажение на великокняжеский стол. Поэтому иконостас воплощал в себе не только древнюю мысль о заступничестве святых за человека вообще, но и мысль об их заступничестве перед Христом за Русскую землю, за ее церковь и ее князей. Иконы из Успенского собора хранятся в настоящее время в музеях Москвы и Ленинграда. Следует заметить, что в музейных помещениях эти иконы очень проигрывают. Они рассчитаны не на разглядывание их вблизи, а на впечатление издали. Было бы напрасно искать в них привычные достоинства станковых произведений. Настоящую силу выразительности древних икон Успенского собора невозможно постичь до тех пор, пока они не будут водружены на свои прежние места взамен полубарочного иконостаса, устроенного при Екатерине II. Только тогда их монументальность, воспринимаемая нами теперь преимущественно внешне, как величина этих исполинских икон, будет восприниматься в их естественном соединении с архитектурой собора, его пространством и протяженностью. * б
121 См. Игорь Грабарь. Андрей Рублев, стр. 77—79; В. Н. Лазарев. Андрей Рублев и его школа, стр. 29—31, табл. VIII—X, 119—125; В. И. А н т о н о-
б а и Н. Е. Мнев а. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 223—225, -рис. 178—183.
Первоначально чиновых икон было, вероятно, 15, не сохранились изображения великомучеников Георгия и Дмитрия. Сохранилось еще 6 икон праздников, но •они написаны на старых досках в начале XVIII в.
22 Очерки русской культуры, ч. 2 — 337 —
Наверно, в то же время, когда производилась роспись Успенского собора, Андрей Рублев написал для него замечательную икону Владимирской Богоматери, хранящуюся ныне в Музее во Владимире 122. Новая икона должна была заменить старую, греческую, вывезенную Василием Дмитриевичем в Москву. Судя по обстоятельствам, которые сопровождали увоз владимирской святыни, Рублеву вменялось в обязанность написать точную копию с оригинала XII в. Но, сравнивая подлинник и повторение, нетрудно увидеть, что это два разных понимания образа Марии с младенцем. Византийская икона написана с чувством глубокой скорби. Богоматерь, лаская сына, предвидит и осознает его грядущую смерть. У Рублева, напротив, естественно получается столь характерное для него настроение светлой печали, легкой задумчивости, в состояние которой погружена не только Мария, но и младенец. Христос.
По-видимому к 10-м годам XV в. относятся такие зрелые и совершенные создания творческого гения Рублева, как иконы Спаса, архангела Михаила и апостола Павла, входившие некогда в состав крупного полуфигурного деисуса 123. Они были найдены в 1918 г. в Звенигороде. Первоначально деисус, несомненно, включал в себя еще иконы Богоматери, Предтечи, апостола Петра и архангела Гавриила, которые не сохранились. Но и то, что уцелело, дает основание судить об этих иконах как о произведениях живописи мирового значения.
Первое, что обращает на себя внимание в иконах звенигородского чина, это их краски: холодные, чистые и светлые, как небо перед восходом солнца. Отсутствие конкретного источника света лишает их сочности красок живой природы, но вместе с тем придает необъяснимое очарование. Красота этих разбеленных синих, розовых, голубых, золотистых и серовато-сиреневых тонов располагает нас к длительному созерцанию, к ассоциациям, к размышлению. Главная икона чина — «Спас» очень пострадала от времени. К счастью, сохранилось лицо Христа, а оно обладает такой выразительностью, что невольно забываешь о фрагментарности иконы. Спас у Рублева мягкий, благообразный. Это не грозный судия, характерный для творчества Феофана Грека. Не кара, не возмездие за грехи читаются в его глазах. Взгляд Христа, направленный прямо на зрителя, не устрашает. В нем выражено ожидание, причем ожидание с оттенком благожелательности. Спокойная, уверенная сила, внимание и доброта написаны на лице Христа. К нему, как к источнику справедливости и утешения, должны были устремляться толпы людей. Звенигородский Спас — это опора страждущих. Рублеву удалось воплотить в нем так много человеческого, как никакому другому художнику Древней Руси. Один из наиболее тра-
122 См. Игорь Грабарь. Андрей Рублев, стр. 101 —103 и снимок на стр. 106; А. И. Анисимов. Владимирская икона Божией Матери. Прага, 1928, стр. 19, табл. VI.
123 Последняя работа об этом чине: М. А. Ильин. К датировке «звенигородского чина». Сб. «Древнерусское искусство XV — начала XVI века», стр. 83— 93. См. также: В. Н. Лазарев. Андрей Рублев и его школа, стр. 32—33^ 132—134.
— 338 —
Андрей Рублев. Богоматерь Владимирская. Икона из У сиенского собора во Владимире, ок. 1408 г.
22*
диционных, устойчивых иконографических образов приобрел в искусстве русского мастера совершенно новые, неизвестные дотоле качества.
Имя Рублева связано исключительно с историей московской ^художественной школы. Все его подлинные произведения, так же как и вещи, написанные мастерами его круга, происходят либо из Москвы, либо из подмосковных городов и монастырей. Больше того, даже в Москве Рублев соприкасался с очень определенными кругами современного ему общества. В миру это были сыновья Дмитрия Донского Василий Дмитриевич и Юрий Дмитриевич, а в монастырской среде — ближайшие ученики и последователи выдающегося церковного деятеля Сергия Радонежского (1322— 1392 гг.). Жизнь Сергия, основателя Троицкого монастыря, ставшего средоточием монашеской жизни всей Северо-Восточной Руси, должна была служить идеалом для Рублева. Прямо или косвенно к Троицкому монастырю имели отношение почти все известные деятели русской православной церкви второй половины XIV и последующих веков. Здесь рождались идеи братства, самоотвержения, духовного самоусовершенствования. Если мы добавим к этому, что Сергий был убежденным сторонником централизации Русского государства во главе с Москвой и что он всеми силами поддерживал политику Дмитрия Донского, направленную на прекращение княжеских усобиц и на борьбу против монголо-татарского ига, то нам станет ясно, какую прогрессивную роль играл Троице-Сергиев монастырь в русской истории при жизни Рублева и какой притягательной силой должны были быть окружены в глазах людей XIV в. имена Сергия и его последователей 124.
Мы уже говорили, что у нас нет оснований выводить Рублева из иноков Троице-Сергиева монастыря и считать, что именно здесь он получил нравственное и художественное воспитание. То обстоятельство, что его искусство формировалось и развивалось в атмосфере идей Сергия, необязательно истолковывать как свидетельство о происхождении мастера из Троицкого монастыря 125, ибо московские монастыри, основанные учениками Сергия, свято держались преданий учителя и были способны оказывать на молодого живописца такое же влияние, как и обитель самого Сергия. Кроме того, между Троицким монастырем и его московскими филиалами поддерживалась постоянная связь, и можно не сомневаться, что Рублев неоднократно бывал у Троицы и работал здесь. И действительно, мы знаем, что с его помощью и при его непосредственном участии создавались фрески и иконостас местного Троицкого собора (1425—1427 гг.).
124 Об исторической роли Троице-Сергиева монастыря и его основателя см.: Г. Георгиевский. Завет Преподобного Сергия. «Чтения в обществе любителей духовного просвещения», 1892, ноябрь, стр. 499—515; В. О. Ключевский. Очерки и речи, сб. 2. Пг., 1918, стр. 194—209; Е. Голубинский. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра, изд. 2. М., 1909, стр. 96—106.
125 Ср. М. В. Алпатов. Андрей Рублев. М., «Искусство», 1959, стр. 8—9; В. Н. Лазарев. Андрей Рублев и его школа, стр. 67.
— 340 —
Андрей Рублев. Архангел Михаил, Спас и апостол Павел. Иконы из Звенигорода, Ю-е годы XV в-
Зак. 314 стр. 340—341
Иконостас Троицкого собора Т роице-Сергиевой лавры, 1425—1427 гг.
По данным жития Никона Радонежского, при настоятельстве которого производилось украшение храма, Рублев, как и раньше, работал здесь совместно с Даниилом Черным, но кроме них участие в росписи принимали и другие мастера, «прочие с ними» 126. Фрески Троицкого собора до нас не дошли, они были сбиты со стен в XVII в. и уступили место новой живописи. Зато иконостас, иконы которого были написаны в те же годы, что и фрески, сохранился. Он и по сей день стоит в Троицком соборе. Это единственный из ранних московских иконостасов, сохраняющийся на том месте, где его установили в XV в. Кто хочет составить себе представление о древнем русском иконостасе в его подлинном,.немузейном окружении, тот обязательно должен побывать в Троицкой лавре. При этом он увидит здесь не только замечательную живопись, но и великолепный ансамбль, наиболее полный из иконостасов начала XV в. Рублев, Даниил Черный и их сотрудники написали для Троицкого собора кроме деисуса и праздников, которые имелись, уже в Благовещенском соборе, еще один ярус икон-пророков,
126 В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб.г 1908, приложения, стр. LXXVI.
— 341
повторив, следовательно, ту композицию, которая была впервые осуществлена ими же в 1408 г. для Успенского собора во Владимире 127.
Из иконостаса Троицкого собора происходит написанная Рублевым прославленная икона Троицы, хранящаяся ныне в Третьяковской галерее 128. Это одна из немногих достоверных работ великого мастера. О времени создания иконы не существует единой точки зрения. Согласно мнению И. Э. Грабаря и В. Н. Лазарева, сна была написана до иконостаса Троицкого собора, причем И. Э. Грабарь условно относил ее к 1415 г.129, а В. Н. Лазарев — к 1411 г.130, так как известно, что в 1411 г. в Троице-Сергиевом монастыре была построена деревянная церковь во имя св. Троицы. Из этой деревянной церкви, по предположению В. Н. Лазарева, икона попала в каменный храм. Однако в Загорском историкохудожественном музее хранится еще одна древняя икона Троицы, более архаическая по иконографическому изводу и по манере письма. По-видимому, из деревянной Троицкой церкви происходит эта икона, а икона, сохранившаяся в иконостасе Троицкого собора, была написана Рублевым одновременно с другими иконами специально для каменного храма в 1425—1427 гг.
Сюжет иконы Троицы Андрея Рублева основан на библейском рассказе о том, как столетнему старцу Аврааму и его супруге Сарре явились однажды три ангела и как один из них предсказал Сарре рождение сына. По богословским толкованиям этими ангелами были три лица Троицы: бог-отец, бог-сын и дух святой. Подавляющее большинство древнейших изображений Троицы восходит именно к этому сюжету. Примыкая к ним по главным иконографическим признакам, икона Троицы, написанная Рублевым, имеет вместе с тем и некоторые особенности, которые сообщают ей и новое качество, новое содержание.
Когда византийские и древнерусские иконописцы писали ветхозаветную Троицу, они обычно передавали обстановку и условия, при которых божество явилось Аврааму, со всеми подробностями. При этом почти обязательно изображались Авраам, Сарра, их слуга, закалывающий тельца, а также дом, дерево и скала. Центр тяжести в подобного рода иконах лежал в области повествования библейской легенды с ее неторопливо развертывающимся действием, и, казалось, художнику всякий раз доставляло удовольствие показать, как ангелы явились к патриарху, как он разместил их под сенью мамврийского дуба, как он приказал заколоть для них
127 В существующем иконостасе Троицкого собора к 1425—1427 гг. относятся иконы второго, третьего и четвертого ярусов, в общей сложности 41 икона. Первый ярус, местный, состоит из икон разного времени (XV—XVII вв.). Пятый ярус, праотеческий, написан при Борисе Годунове. См.: Ю. Олсуфьев. Опись икон Троице-Сергиевой лавры до XVIII в. и наиболее типичных XVIII и XIX вв. (изд. Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой
.лавры). Сергиев, 1920, стр. 3—34.
128 В галерею она передана в 1929 г. Вместо оригинала в иконостасе постав- .лена хорошая копия, сделанная в 1926 г. Г. О. Ч и р и к о в ы м.
129 См. Игорь Грабарь. Андрей Рублев, стр. 68, 77, 90, 109.
130 'См. В. Н. Лазарев. Андрей Рублев и его школа, стр. 135—137.
— 342 —
Андрей Рублев. Троица. Икона из иконостаса Троицкого собора лавры, 1425—1427 гг.
Троице-Сергиевой
«млада и добра» тельца и как он затем вместе с Саррой угощал ангелов, догадываясь о воплотившихся в них трех лицах святой Троицы. Ветхозаветная Троица есть всегда рассказ с вытекающими отсюда законами места, времени и действия.
«Троица», написанная Рублевым, отличается от более ранних: икон на аналогичный сюжет тем, что здесь отсутствуют Авраам и Сарра. Правда, существует несколько больших изображений Троицы, созданных до Рублева, тоже без Авраама и Сарры, но их появление, как правило, объяснялось причинами случайного характера, и они не имели подражаний. В «Троице» Рублева фигуры Авраама и Сарры впервые опущены художником сознательно, исходя из предпосылок совершенно особого истолкования легенды. В иконе, написанной Андреем Рублевым, представлено не явление Троицы Аврааму, не гостеприимство Авраама, как в иконах предшествующих веков, а выражена философская идея единства и нерасторжимости трех лиц Троицы.
Рублев все подчинил выражению этой идеи — композицию, рисунок, колорит. Как и всякий другой средневековый художник» Рублев сообщал своим произведениям или их частям символическое значение. Поэтому, изображая Троицу как нераздельное триединое божество, не имеющее ни начала, ни конца, он избрал форму круга, как символ вечности, и написал ангелов так, что их силуэт в целом составил форму круга 131. При этом их повороты, жесты, выражение ликов согласованы так, что все ангелы кажутся немыслимыми отдельно. Чтобы достичь эффекта единства, Рублев воспользовался наиболее сильным средством своего искусства — линией, рисунком. Линии в иконе Троицы спокойные, мягкие, плавные. С помощью линий, идущих в одном направлении по замкнутому кругу и как бы продолжающих одна другую, Рублев распространяет идею нераздельности, единства даже на неодушевленные предметы, изображенные на иконе. Медленный, текучий ритм линий создает настроение бесконечности, безмолвия. И эти качества присущи не только ангелам, но и дереву, скале, дому. Отсюда последовательно вытекает цельность, естественность и художественная правда произведения, ибо в нем нет ни одной детали и ни одного образа, которые бы по-своему не выражали или не дополняли основную мысль, вложенную в эту икону.
В настоящее время есть много оснований утверждать, что Андрей Рублев, создавая икону, столь отличавшуюся от более ранних икон Троицы, руководился вполне конкретными целями. Чтобы понять их, надо иметь в виду судьбы догматического учения о Троице. Это учение, распространявшееся церковью, отличалось- крайней неопределенностью и не поддавалось объяснению. Оно требовало, чтобы Троица признавалась единой по существу, но воплощавшейся не иначе, как в трех лицах. Единица приравнивалась трем, а число три — единице. Ближайшим следствием этой неопределенности явилось то, что догмат святой Троицы стал 131 Чтобы усилить это впечатление, Рублев не стал писать крылья боковых: ангелов полностью, а ограничился их верхними частями.
— 344 —
истолковываться по-разному. Одни объясняли Троицу, что это бог- отец, сын и святой дух, другие — что это бог (преимущественно Иисус Христос) и два ангела. Второе истолкование было понятнее, но оно уклонялось от официального взгляда в сторону. В XIV—XV вв., когда по Руси разлилась волна ересей, в них соответственно занял свое место и вопрос об иконах Троицы. Новгородские еретики, жидовствующие, полагали, что писать на иконах «святую и единосущную» Троицу «не подобает», потому что Авраам видел не Троицу, а бога с двумя ангелами 132. Другие еретики шли дальше и вообще отрицали троичность божества. Это была «армянская» ересь во главе с неким Маркианом в Ростове (между 1386 и 1389 гг.) 133 и группа лиц в Пскове, деятельность которой происходила в 10—40-х годах XV в. 134. Косвенные ссылки на противников догматического учения о Троице есть и в высказываниях московских писателей — у Афанасия Высоцкого (1382 г.) 135 и Епифания Премудрого (начало XV в.) 136.
Оживление антитринитарных выступлений должно было вызывать естественную реакцию со стороны церкви. И действительно, нам известны как литературные сочинения против еретиков, так и факты прямой расправы с ними. Уже теоретически можно было бы предполагать нечто аналогичное и в области искусства. Подобное предположение тем более основательно, что в русском изобразительном искусстве XII—XIV вв. укрепилась как раз та точка зрения на Троицу, согласно которой Авраам угощал бога и двух ангелов. Христос, как правило, олицетворялся в ангеле, восседающем посредине, и его особое положение обычно отмечалось либо крестчатым нимбом, либо увеличением масштаба этой фигуры по отношению к двум другим, либо широко раскинутыми крыльями, либо тем, что он держит в руке учительный свиток. Лишь в иконе Троицы, написанной Рублевым, мы наблюдаем равное значение всех ангелов. Лишь эта икона отвечала строгим требованиям ортодоксального учения о Троице 137. Конечно, гений Рублева сумел преодолеть узкие рамки богословской темы, поставленной заказчиками, и лучшим доказательством этого служит полное отсутствие в написанной им иконе воинствующего духа наступающей церкви. Можно только присоединиться к словам Конрада Онаша, что в отличие от позднейших инквизиторских мер, которые иосифляне применяли к еретикам, мы видим в иконе Рублева особую форму борьбы с антитринитариями — в духе будущих заволжских старцев: с помощью искусства вы обращаетесь к размышляющему труду созерцателя, вы хотите не силой одолеть отрицающих догмат 132 См. Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XV века. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 321—322.
133 См. А. И. К л и б а н о в. Реформационные движения в России в XIV— первой половине XVI в. М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 163—166.
134 Там же, стр. 173—176.
135 Там же, стр. 161 —163.
136 Там же, стр. 160—161.
137 Для истории новгородского искусства аналогичное значение имеет упоминавшаяся уже большая икона «Отечество» в Третьяковской галерее.
— 345 —
Троицы, а убедить их посредством тихого и спокойного погружения в смысл этой иконы 138.
Икона Троицы Рублева совмещает в себе образ триединого божества с изображением таинства евхаристии 139. Средний ангел, вероятно, олицетворяет бога-отца, левый — Христа, правый — святого духа. Левый и средний ангелы (Христос и бог-отец) благословляют стоящую посреди стола чашу. В чаше видна голова тельца. По объяснению церкви телец — это прообраз новозаветного агнца. Следовательно, чаша приобретает евхаристическое значение в общем смысле иконы: Христос, благословляя ее, как бы выражает готовность принести себя в жертву, а бог-отец благословляет Христа на подвиг. На светлом фоне престола отчетливо рисуется и правая рука третьего ангела (святого духа), но он не благословляет чаши, а присутствует при евхаристии как Утешитель, как вечно юное, неумирающее начало, как символ грядущего воскресения.
Можно думать, что обе сложные богословские идеи, положенные Рублевым в основу иконы, были понятны лишь сравнительно небольшому кругу ученых клириков и книжников. Вникая в глубокий замысел «Троицы», Епифаний Премудрый мог бы сказать о Рублеве, как о Феофане Греке, что он «философ зело хитрый». Большинству же было трудно постичь содержание «Троицы» в обоих его аспектах, исчерпать его до конца. Но почему же в таком случае эта икона приобрела столь широкую известность и не перестает волновать человека даже в наши дни, человека, весьма далекого от религии? Ответ на этот вопрос может быть только один: содержание Троицы не ограничивается ее богословскими идеями, оно шире их и имеет общечеловеческое значение. «Троица» не только образ триипостасного божества и символ евхаристии, она также символ человеческого единства и образ божественной любви.
Уже в XIV в. популярность культа святой Троицы была основана не только и даже не столько на его церковно-догматическом содержании, сколько на его соотношении с конкретными условиями политической и народной жизни. Это было время постоянных феодальных войн, уносивших тысячи жизней и систематически подрывавших и без того некрепкую экономику русских княжеств. Лучшие люди понимали, конечно, что феодальные распри таили в себе величайшее зло, ибо ослабляли Русь и делали ее добычей монголо-татар. Поэтому они прилагали все усилия к тому, чтобы положить конец феодальным войнам и сбросить монголо-татарское иго. Так как средневековые формы мышления ассоциировали обычно факты реальной жизни с понятиями, почерпнутыми из Священного писания и творений святых отцов, эти идеи путем сложной умозрительной работы воплощались, в частности, в обра138 К. О n a s ch. Andrej Rublev. Byzantinisches Erbe in russischer Gestalt. «Akten des XI. Internationalen Byzantinisten-Kongresses. Miinchen, 1958». Miin- chen, 1960, SS. 428—429. Онаш правильно отмечает, что возникновение «Троицы» Рублева связано с антитринитарными спорами XIV—XV вв. и что она выражает ортодоксальное понимание темы.
139 См. Н. А. Демина. «Троица» Андрея Рублева. М., «Искусство», 1963, стр. 45—57.
— 346 —
зах святой Троицы. В Троице как нераздельной осуждались усобицы и требовалось собирание, а в Троице как неслиянной осуждалось иго и требовалось освобождение 140. Вот почему Сергий Радонежский, посвятив основанный им монастырь Троице, не ограничился молитвами и не отгородился от мира в монашеском уединении. Великий патриот, он видел осуществление своей миссии не только в строительстве монастырской жизни, но и в деле прекращения феодальных усобиц, свержения монголо-татарского ига, объединения Руси в могучую централизованную державу. Его первый биограф Епифаний Премудрый писал, что Сергий основал свой монастырь для того, чтобы «воззрением на святую Троицу побеждался ненавистный страх розни сего мира».
И, наконец, последняя, всеохватывающая, мысль, вложенная Рублевым в икону, — это мысль о творческой силе, о благотворности любви, союза. Эта мысль перерастает рамки только богословского понимания темы и распространяется на природу человека вообще.
«Троица» Андрея Рублева не случайно стала ассоциироваться в нашем сознании с высочайшим достижением русского искусства в целом. Созданная в итоге длительного творческого пути одного мастера, она вместе с тем воплощает в себе работу творческой мысли нескольких поколений. Как и всякий другой средневековый художник, Рублев очень высоко ставил значение традиции и коллективного труда. Все лучшие стороны русской художественной культуры XIV—XV вв. соединились в «Троице»: ее глубокая связь с насущными вопросами жизни, внешне отвлеченная, но вместе с тем поразительно конкретная по содержанию форма философского обобщения, способность выражать в иконографических образах национальный характер. «Троица» принадлежит к тем редким произведениям искусства, которые никогда не перестанут волновать людей, ибо момент настоящего осмыслен в ней с точки зрения вечного.
В иконостасе Троицкого собора икона Троицы была бесспорно лучшей. Все остальные иконы по качеству и глубине выражения мысли уступают ей. Но, взятые сами по себе, многие из них являются истинными шедеврами. Это относится преимущественно к праздничным иконам, где особенно замечательны «Сретение» 141, «Тайная вечеря», «Омовение ног», «Раздаяние хлеба» и «Явление ангела у гроба». В «Тайной вечере» изображен один из наиболее драматических эпизодов жизни Христа, когда стремительным, жадным жестом тянущийся к солилу Иуда выдает в себе предателя. Автор иконы точно следовал евангельскому тексту, и ему. удалось сообщить сюжету характер неотвратимости происходящего. Христос спокойно следит за Иудой и внешне не проявляет своих чувств. Он знает, что его жизнь не принадлежит ему, что в ней лишь осуществляется написанное, осуществляется слово. Иоанн припал на грудь Христа, и в его глазах читается страх за судьбу
140 См. Г. Георгиевский. Завет Преподобного Сергия, стр. 512.
141 См. М. В. Алпатов. Икона Сретения из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (к изучению художественного образа в древнерусской живописи). ТОДРЛ, т. XIV, 1958, стр. 557—564.
— 347 —
Тайная вечеря. Икона из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лаврьц 1425—142/ гг.
учителя. Петр выставляет вперед руку, словно не хочет поверить в совершающееся преступление. Матфей, сидящий рядом с Иудой, с горечью поворачивается в его сторону. Апостол, находящийся справа от Иуды, положил протянутые руки на стол, и в его позе сочетаются и старание удержать предателя и вместе с тем понимание невозможности повернуть события вспять, и так далее. Словом, здесь развертывается сложнейшая психологическая драма.
В иконах деисуса тоже есть превосходные вещи, например икона великомученика Дмитрия. Этот образ написан с большим чувством. Тихая, покорная поза Дмитрия со слегка подогнутыми коленями и вообще весь ясный, не от мира сего облик святого навеяны искусством Рублева.
Хотя мы часто говорим о «школе» Рублева, было бы, пожалуй, неверно думать, что он стоял во главе большой группы учеников и систематически руководил ею. Источники, относящиеся к биографии Рублева, ни разу не упоминают о его учениках, они только сообщают о мастерах, работавших вместе с Рублевым и Даниилом, о «прочих с ними», т. е. о художниках, занимавших независимое положение. Иконы троицкого иконостаса, в известии о котором содержится упоминание о «прочих», и являются произведениями этих безымянных современников Рублева. Не исключено, конечно, что какая-то часть икон была написана лично Рублевым и Даниилом. В. Н. Лазарев полагает, что Рублеву принадлежат иконы «Апостол Павел» и «Архангел Гавриил», а также праздничная икона «Крещение» 142. Но не следует забывать о погибших фресках Троицкого собора, в исполнении которых руководящая роль и большая доля труда могли принадлежать именно Рублеву. Изготовление же иконостаса было, очевидно, предоставлено другим живописцам. Здесь работали разные мастера, причем нередко по манере письма и по истолкованию сюжетов сделанные ими вещи стоят даже в стороне от искусства Рублева. Такова упомянутая выше икона «Тайная вечеря», написанная художником старшего поколения. Лишь одну икону троицкого иконостаса действительно хочется назвать работой прямого ученика великого мастера — это икону Дмитрия Солунского. В остальных случаях уверенно можно говорить лишь о мастерах его круга, но не о школе, не о мастерской. У нас еще нет бесспорных признаков, которые бы могли быть использованы для расчленения московской школы на конкретные мастерские, связанные с именами крупнейших живописцев.
Существует несколько московских икон, которые тоже имеют общие черты с живописью Рублева. Здесь в первую очередь следует назвать «Рождество Христово» из Звенигорода и «Вознесение» из бывшего собрания С. П. Рябушинского (хранятся в Третьяковской галерее) 143. Эти иконы долго считались написан-
142 См. В. Н. Лазарев. Андрей Рублев и его школа, стр. 44—45, 50. Об иконах Троицкого иконостаса в целом см. стр. 43—52, табл. 142—182.
143 См. В. И. Антонова и Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 231, рис. 193 и № 252. См. также: М. В. Алпатов. Этюды по истории русского искусства, т. 1, стр. 170—174, рис. 123.
— 349 —
ными в разное время: пер- вая датировалась началом XV в. и приписывалась неизвестному художнику круга Андрея Рублева, а вторую икону обычно относили к середине XV в. и приписывали неизвестному последователю Рублева. Между тем, они происходят из одного иконостаса, который, судя по находке иконы Рождества Христова, существовал в Звенигороде, возможно, в одном из двух каменных звенйгородских соборов. Обе вещи дошли до нас в прекрасной сохранности. Они являются теми
Дмитрий Солунский. Икона из иконостаса Троицкого собора Троице- Сергиевой лавры, 1425—1427 гг.
весьма редкими иконами, на примере которых мы можем составить представление о живописной поверхности икон Рублева и мастеров его круга в ее первоначальном виде, еще не испорченном временем и позднейшими реставрациями. Звенигородские иконы написаны в 10-х или 20-х годах XV в. Кто был автором этих икон — Рублев, его ученик или неизвестный выдающийся мастер круга Андрея Рублева — сказать, конечно, трудно. Индивиду- альные манеры письма в русской средневековой живописи выражены все-таки настолько слабо, что даже
очень яркие произведения нельзя приписать тому или иному автору с полной уверенностью. Довольно четко рисуется искусство последователей Андрея Рублева. Это мастера, которые, не будучи связаны с Рублевым непосредственно, все же испытали его влияние и стремились решать творческие задачи в духе его искусства и сходными средствами. Их произведений сохранилось много, причем, как правило, они созданы либо в последние годы жизни мастера, либо уже после его смерти. Самой сильной была та группа последователей, которая сосредоточила свои усилия на дальнейшем развитии выработанной им художественной формы. Она довела тонкую, сплав-
— 350 —
Иоанн Предтеча. Икона из Дмитрова, вторая четверть XV в. Московская
школа
ленную манеру письма, применявшуюся Рублевым, до такого с< вершенства, какого, пожалуй, не встретишь и в его собственна ручных работах. Очень большое значение она придавала так очерку, силуэту фигуры. К лучшим произведениям мастеров эт< группы следует причислить большую чиновую икону Иоанна Пре течи из Дмитрова, хранящуюся ныне в Музее имени Андрея Ру лева в Москве144, а также икону Спаса из Троице-Сергиевой ла ры, хранящуюся в Третьяковской галерее 145. Но не все художник испытавшие воздействие искусства Рублева, сумели подняты достаточно высоко и внести в историю русского искусства со ственный творческий вклад. В большинстве случаев это были пр сто эпигоны. Не в силах освоить искусство великого мастера целом, они стали осваивать его по частям. Их внимание больн всего привлекала каноническая сторона искусства Рублева — е излюбленные иконографические типы, сочетания красок. Но ра павшись на отдельные составные части, наследие художника утр тило очарование и стало быстро вырождаться в красивые, стандартные и бездушные схемы.
Значительно интереснее иконы тех мастеров, которые жили одно время с Рублевым, но придерживались иного направлен в живописи. Особенно яркой фигурой был безымянный автор и ны Владимирской Богоматери из церкви Гребневской Божи Матери в Москве. Эта сумрачная впечатляющая икона написа с энергией, совершенно несвойственной Андрею Рублеву. Не им прямого отношения к нему и мастер, написавший большую ме ную икону архангела Михаила с деяниями для Архангельск собора Московского Кремля146 147. В этой великолепной вещи, р украшенной по золотому фону сложным гравированным орнам том, много движения. Фигура архангела написана в смелом i вороте, с поднятыми и широко расправленными крыльями. В его облик внушает ощущение непобедимости. Этих двух икон статочно, чтобы представить разнообразие московской живот начала XV в. Здесь уместно вспомнить слова Н. А. Деминой что даже в последние годы жизни Рублева рядом с ним работ мастера, самостоятельно трудившиеся над решением тех же пр лем, которые стояли и перед Рублевым, и что творчество этих м теров имело свою специфику.
Существенной стороной культурной жизни Руси в XIV—XV является то, что в обстановке образования централизованного сударства во главе с Москвой, когда последняя оказывала м« ное влияние на соседние княжества и отдельные города, постеп но подчиняя их своей власти, местные областные школы не тол
144 См. М. А. Ильин. К изучению иконы Иоанна Предтечи из Ник Песношского монастыря. «Советская археология», 1964, № 3, стр. 315—321.
145 См. В. Н. Лазарев. Андрей Рублев и его школа, стр. 52—53, табл. XVIII, 186.
146 См. Н. Гордеев и Н. Мнева. Памятник русской живописи X «Искусство», 1947, № 3, стр. 87—88.
147 См. Н. А. Демина. Черты героической действительности в образах дей Андрея Рублева и художников его круга, стр. 311.
— 352 —
Богоматерь Владимирская. Икона из церкви Гребневской Божией Матери в Москве, первая четверть XV в. Московская школа
23 Очерки русской культуры, ч. 2
продолжали свое существование, но сумели окончательно отшлифовать свои стилистические особенности и создать много ценных произведений искусства. Ущемляя политическую самостоятельность соперников, Москва долгое время не обращала серьезного внимания на унификацию и направление их литературной и художественной практики, и благодаря этому параллельно с московской школой в Северо-Восточной Руси на протяжении XIV—XV вв. развивались, например, такие крупные художественные школы, как ростовская, вологодская и тверская. Конечно, этот процесс был сложным, противоречивым, и следует особо подчеркнуть значение консервативных, тормозящих сил в развитии местного искусства. Нередко иконописцы, подвизавшиеся в отдаленных художественных центрах, выражали горячее желание познакомиться и воспринять черты нового стиля, создававшегося в столичных мастерских, но, не имея достаточных условий удовлетворить свои запросы, они были вынуждены бесконечно повторять одни и те же установившиеся образцы. С другой стороны, можно думать, что многие представители областных школ сознательно воздерживались от каких-либо новшеств и старались употреблять те стилистические приемы, которые были приняты исключительно в рамках данной школы. Пока это сопротивление соответствовало общей тенденции отстаивания своей самостоятельности отдельными княжествами, оно способствовало созданию интересных и ценных памятников, но с течением времени, когда централизующая политика московских князей стала насущной необходимостью и лишила местных деятелей культуры и искусства их внутренней социально-экономической базы, подобные устремления обнаружили свою ограниченность и стали служить тормозом в развитии областных школ.
Крупная художественная школа в XIV—XV вв. по-прежнему существовала в Ростове. Как и раньше, здесь любили писать житийные иконы и иконы с избранными святыми. Часто они поражают нас архаическим стилем, но это не лишает их эстетической ценности. Они производят приятное впечатление своими теплыми красками, наивно скомпонованными, но трогательными сценами житий, сосредоточенным выражением ликов святых. Отдельные ростовские иконы смело могут быть поставлены в один ряд с наиболее выдающимися памятниками живописи Древней Руси. Это, в частности, житийная икона Николы из села Павлова близ Ростова в Третьяковской галерее148. Возвышенный и суровый святой, каким Никола обычно изображался византийскими иконописцами^ под кистью ростовского мастера как бы перевоплощается и приобретает новые качества, которые соответствовали условиям и эстетическому идеалу местной жизни. Автор ростовской иконы чутко уловил в образе Николы черты, которые должны были особенно импонировать русскому человеку, чье существование протекало в суровом климате, среди дикой природы и требовало исключительной стойкости: его Никола предстает душевно крепким и
148 См. В. И. Антонова и Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 164, рис. 118—122.
— 354 —
Никола. Келейная икона Сергия Радонежского из Троице-Сергиевой лавры, вторая половина XIV в Ростовская школа
внимательным к нуждам простолюдина, а разнообразные сцены чудес на полях иконы призваны пояснять, что Никола — верный помощник во всех трудных случаях жизни. Не менее выразительна другая ростовская икона Николы, по преданию принадлежавшая Сергию Радонежскому и висевшая в его монастырской келье. Здесь Никола представлен по пояс. Особенностью этой иконы является прекрасно переданное состояние глубоко задумавшегося человека, который смотрит прямо на зрителя, но вместе с тем настолько поглощен своими мыслями, что не замечает окружающей обстановки. Это «внутреннее» молчание святого должно было быть •созвучно некоторым идеям Сергия Радонежского, в монастыре которого поощрялась практика самоусовершенствования путем отречения от пустых разговоров и ежедневного общения с миром. Икона написана очень плоскостно, но благодаря мелким мазочкам кисти, которые создают как бы вибрацию живописной поверхности, она производит чрезвычайно живое и убедительное впечатление.
Ростовская школа была далека от новых, художественных проблем, которые волновали в это время лучших мастеров Москвы и Новгорода. Искусство Феофана и Рублева совершенно не отразилось на стиле ростовской живописи, и здесь даже много десятков лет спустя после смерти Рублева продолжали писать иконы, которые пропорциями фигур и системой наложения красочного слоя напоминали произведения почти столетней давности.
Несколько прекрасных икон XIV—XV вв. происходит из Суздаля, хотя оснований думать, что Суздаль имел собственную школу, пока нет. Начало художественной мастерской (но не школы) в Суздале могло быть положено в середине XIV в., когда город получил церковное самоуправление, а затем отделился от центральных московских городов и вошел в особое Суздальско- Нижегородское княжество с центром в Нижнем Новгороде. Большинство предполагаемых суздальских икон найдено в местном женском Покровском монастыре, основанном около 1364 г. Они отличаются несколько ломким рисунком и очень тонким письмом. В этом отношении особенно замечательны иконы «Богоматерь Одигитрия» и «Рождество Богоматери» из Русского музея в Ленинграде. Своеобразие и хрупкую красоту суздальских икон легче всего понять, если сравнить женские образы на этих иконах с импульсивными образами и динамичной манерой письма памятников новгородской живописи той же эпохи. Это полярные противоположности, лишний раз свидетельствующие о чрезвычайном •богатстве и разнообразии древнерусского изобразительного искусства.
Еще недавно с тверской школой ассоциировались лишь случайные, единичные произведения. В настоящее время их количество резко возросло, чему способствовали регулярные поиски и расчистка предполагаемых памятников тверской живописи. Подавляющее большинство этих икон, за исключением нескольких экземпляров, хранящихся в Третьяковской галерее, написано в XV в. Это время ознаменовалось длительным правлением великого князя Бориса Александровича (1425—1461 гг.), при котором
— 356 —
Рождество Богоматери. Икона из Покровского монастыря в Суздале, конец XIV — начало XV в.
— 357 —
Тверское княжество, после бурных политических потрясений, выпавших на его долю в предыдущее столетие, вступило, наконец, в полосу относительного мира и даже процветания 149. При Борисе Александровиче заметно оживились тверская литература, строительство, ремесло, торговля, международные и межобластные связи. Все это благотворно повлияло и на развитие живописи.
Тверские иконы XV в. сосредоточены преимущественно в Третьяковской галерее и в Музее имени Андрея Рублева в Москве. Здесь хранятся такие интересные памятники, как житийная икона Параскевы Пятницы и створка царских врат из Отроча монастыря (МИАР), «Успение Богоматери», одинадцать икон из полнофигурного деисуса и житийный образ Ипатия Гангрского (ГТГ), «Никола» и «Архангел Михаил» (МИАР). Несколько хороших вещей имеется также в известном собрании П. Д. Корина («Апостол Павел» и «Чудо в Хонех»). В этих иконах мы находим две характерные особенности тверской живописи — широкое использование голубого цвета и плотное беловатое вохрение. Последний признак можно наблюдать и в ранних памятниках тверской школы. Но «Успение» в целом обнаруживает немало общего и с московским искусством, следуя, например, тем строгим и стройным пропорциям тел и типам лиц апостолов, которые вошли в обиход московских живописцев в начале XV в. Ясно, что к этому времени в тверской школе стала намечаться тенденция к развитию местного стиля на более широкой, общерусской основе. Но последующие тверские памятники показали, что эта тенденция не получила развития и тверская школа, замкнувшись в тесных рамках областного художественного явления, стала выпускать скучные, малоинтересные иконы. В ее истории, как в зеркале, нашла свое отражение сепаратистская и консервативная политика тверских князей, которые упорно сопротивлялись власти Москвы и в течение полутораста лет вели с ней ненужную и бесплодную войну.
С историческими судьбами крупных художественных центров •Северо-Восточной Руси в рассматриваемое время были тесно связаны некоторые области Севера.
Лучшим и, насколько можно судить по сохранившимся памятникам, наиболее продуктивным северным иконописным центром была Вологда. Это один из немногих северных городов, искусство которого можно уверенно рассматривать как самостоятельную школу. До 1393 г. Вологда принадлежала новгородцам и только в этом году отошла к Москве. В церковном отношении она зависела преимущественно от Ростова. Можно поэтому предполагать, что вологодская школа развилась из ростовской и, возможно, кое-что позаимствовала у Новгорода. Московское искусство не •оказало на вологодскую живопись заметного влияния, и она вплоть до конца XV в. развивалась самостоятельно. Уже в XIV в. вологодские иконописцы создавали оригинальные, непохожие ни на что другое памятники («Никола в житии» из погоста Каргач-
149 См. я. Лурье. Роль Твери в создании русского национального государства. «Ученые записки ЛГУ», серия исторических наук, 1939, вып. III, № 36
— 358 —
Никола. XV в. Тверская школа
Борисоглебский, «Нерукотворный образ Спаса» из села Новлен- ское и «Богоматерь Одигитрия» типа Смоленской из бывшего собрания С. П. Рябушинского в Третьяковской галерее150, «Богоматерь на престоле с предстоящими святителями Николой и Климентом» в Вологодском музее). Для вологодских икон характерно присутствие темно-синей краски кубового оттенка, которой обычно писали фон или одежды святых. Она употреблялась вместе с красной, желтой и белой. В целом колористическая гамма получалась яркой, декоративной, выразительной.
С вологодским краем связано творчество Дионисия Глушиц- кого, единственного местного художника, известного нам по имени (1362—1437 гг). По свидетельству биографа Дионисия, последний не только писал иконы, но был еще кузнецом и умел плести корзины151. Это указание подтверждает, что на севере даже такие прославленные иконописцы, как Дионисий, не были профессиональными художниками и совмещали знание иконописного дела с несколькими другими ремеслами. Благочестивое предание приписывало Дионисию множество произведений 152, . в частности небольшую икону Кирилла Белозерского 1424 г. (Третьяковская галерея) 153. Эта икона имеет выдающееся значение. Она написана еще при жизни святого, и ее автор, несомненно, запечатлел подлинный образ знаменитого игумена — кряжистого деловитого старичка в непритязательной ряске, с живыми глазами, с приветливым и умным лицом. Это очень редкий в древнерусской живописи портрет в настоящем смысле этого слова. Недаром первоначальная надпись на нем была «КИРИЛ», и только в XVII в. прибавленный эпитет «о агиос преподобный» закрепил за ним значение иконы, т. е. образа, предназначенного для молитвы и поклонения.
Вологодским мастерам, подвизавшимся в XV в., можно приписать несколько небольших, но интересных по живописи вещей. Особенно выделяется икона «Иоанн Предтеча в пустыне», хранящаяся в местном музее. Изумляющий по точности и лаконизму рисунок, безупречная композиция, необычный светлый колорит этой иконы свидетельствуют об опытном и талантливом художнике. «Фигура Крестителя настолько ритмична по силуэту и так хорошо вписана в просвет между деревом и скалами, что она могла бы оказать честь самому Рублеву», — замечает о ней В. Н. Лазарев 154.
150 См. В. И. А н т о н о в а и Н. Е. М н е в а. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 301. 302, рис. 235—237 («Никола»). См. также: А. Соболевский. Божия Матерь Смоленская из собрания С. П. Рябушинского. «Русская икона», сб. 2. СПб., 1914, стр. ПО—113; Д. В. А й н а л о в. Икона Божией Матери Одигитрии Смоленской из собрания С. П. Рябушинского. «Библиографическая летопись», 1914, № 1, стр. 34—36.
151 См. Н. Коноплев. Святые Вологодского края. ЧОИДР, 1895, кн. 4, отд. IV, стр. 43—53.
152 См. В. Лебедев. Иконописные труды преподобного Дионисия, Глу- шицкого чудотворца. Вологда, 1900.
153 См. В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода, стр. 124—125, табл. 129; Ю. Н. Д м и т р и е в. О творчестве древнерусского художника. ТОДРЛ, т. XIV, 1958, стр. 554—555; В. И. Антонова и Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 246, рис. 207.
154 В. Н. Л а з а р е в. Искусство Новгорода, стр. 124—125.
— 360 —
Иоанн Предтеча в пустыне. Икона из Успенской Семигородной пустыни близ г. Кадникова, XV в. Вологодская школа
Положение во гроб. Икона конца XV в. Неизвестный северный центр
С неизвестным северным центром следует связать серию выдающихся по живописи икон, принадлежавших в свое время И. С. Остроухову, В. Н. Ханенко и А. В. Морозову, а ныне хранящихся в Третьяковской галерее и в Киевском музее русского искусства. Серия состоит из пяти икон, изображающих Тайную вечерю, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Снятие со креста, Положение во гроб и Сошествие во ад. «Положение во гроб» смело может быть причислено к вершинам древнерусской живописи. Свободно владея рисунком и хорошо понимая специфику иконы как отображения определенного символа или идеи, неизвестный художник сумел достичь максимальной художественной и психологической выразительности избранного им сюжета. Пользуясь привычным для иконописи способом передавать содержание рассказа е помощью жестов действующих лиц, он приобщает нас к чувству безысходного горя, охватившего близких Иисуса в момент его погребения. Исступленное лицо Богоматери, порывисто прижавшейся к мертвому лику сына, страдальчески изогнутые брови Иосифа Аримафейского, вопрошающе и беззащитно протянутые вперед руки жены, стоящей у изголовья Иисуса, глубокая печаль остальных участников погребения находят свое кульминационное выражение в потрясающем жесте Марии Магдалины, которая всплескивает руками, не в силах сдержать отчаяния при виде замученного Христа. Симметрично, почти геральдически написанный пейзаж сообщает происходящему действию оттенок строгой возвышенности, а многократно повторяющиеся геометрически четкие линии горок, сходящиеся по закону обратной перспективы ко гробу Христа и к фигурам святых жен, гениально концентрируют внимание зрителя на сцене первого плана.
Точных сведений о происхождении иконы «Положение во гроб» и других памятников этой серии не имеется, и исследователи относили (и относят их до сих пор) то к «северным письмам» из района Каргополя, то к новгородской и нижегородской школам 155. Это обилие мнений вытекает прежде всего из несколько загадочного стиля икон. Здесь наблюдаются, как бы сплавленные воедино, характерные признаки различных местных течений древнерусской живописи. Лаконичный и чрезвычайно выразительный рисунок указывает как будто на косвенную связь икон с искусством Новгорода, плоскостная манера письма и жидкие, полупрозрачные краски, по мнению ряда ученых, свидетельствуют о причастности икон к «северным письмам», ярко выраженное эмоциональное начало наводит на размышления о московской живописи, а отдельные стилистические приемы, например, форма горок, истолковываются как возможные признаки нижегородской школы. Все эти аргументы по-своему верны, но, взятые вместе, они, очевидно, могут быть согласованы только в том случае, если 155 См. В. Н. Лазарев. Живопись и скульптура Новгорода. «История русского искусства», т. II, стр. 268—270; Н. Е. М н е в а. Древнерусская живопись Нижнего Новгорода. Сб. «Государственная Третьяковская галлерея». Материалы и исследования, т. II. М., «Советский художник», 1958, стр. 33; В. И. Антонова и Н. Е. М н е в а. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 105, 106, 107, рис. 75, 76 и примечание 1 к № 106.
— 363 —
признать, что иконы были написаны в таком городе, где постоянно ассимилировались лучшие достижения нескольких крупных художественных школ и велась активная работа по созданию собственного стиля. Этим условиям в полной мере отвечают лишь- северные города типа Вологды и Каргополя, и не случайно, что именно здесь были в свое время отмечены памятники, обнаруживающие отдаленное, но вместе с тем и несомненное сходство с иконами из Третьяковской галереи и Киевского музея156.
4
Нам неизвестны датированные памятники московской живописи середины XV в. Их открытие — дело будущего. Отчасти недостаток произведений темперной живописи восполняет превосходная шитая плащаница 1456 г., хранящаяся в Музее в Новгороде 157. Надпись, вышитая на плащанице, удостоверяет, что она является вкладом московского великого князя Василия Васильевича Темного и его сыновей в Софийский собор, в их «вотчину... в Великий Новгород пресвященному архиепископу владыце Евфимию». По непонятным причинам эта плащаница считается новгородской 158, а между тем имена вкладчиков и то, что свободный Новгород называется в надписи вотчиной московских князей, исключают вопрос о происхождении памятника из Новгорода. Плащаница, несомненно, прислана из Москвы. Она шита золотыми и серебряными нитями по синему, как ночное небо, усыпанному звездами фону. Миловидные и грациозные фигуры ангелов исполнены совершенно плоско, без малейшего намека на объем 159 160.
Почему, сравнительно с первой третью XV в., московское искусство середины столетия представляется не очень богатым первоклассными памятниками? Здесь, конечно, сыграли свою роль- события, имевшие место в Северо-Восточной Руси на протяжении второй трети XV в.: изнурительная феодальная война, эпидемии, периодически повторявшиеся голодовки, а также участившиеся набеги на пограничные земли монголо-татарских и литовских отрядов 16°. Но главное заключалось, пожалуй, в том, что московская школа исчерпала свои наличные силы раньше, чем они успели расшириться и укрепиться. Со смертью Рублева, Даниила и еще, быть может, двух-трех мастеров такого же значения она вошла в полосу повторений прославленных образцов и стала светить отраженным светом. Это был период, когда искусство Рублева и его
156 См. М. Alpatov und N. Brunov. Geschichte der altrussischen Kunst, S. 343 («Снятие co креста», нач. XVI в. из фондов Вологодского музея, ныне в Третьяковской галерее).
157 См. Н. В. Покровский. Древняя ризница Новгородского Софийского- собора. «Труды XV Археологического съезда в Новгороде, 1911», т. I. М., 1914,. сгр. 124, табл. XXIII.
158 См. В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода, стр. 130, табл. 135; А. Н. Свирин. Древнерусское шитье. М., «Искусство», 1963, стр. 34—35, 39.
159 По иконографии и стилю с этой плащаницей обнаруживают сходство еще две плащаницы, хранящиеся в Русском музее в Ленинграде и Загорском музее. Их надо, следовательно, датировать тоже серединой XV в.
160 См. Л. В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV веках. М., Соцэкгиз, 1960, стр. 743—810.
— 364 —
Плащаница, 1456 г. Московское шитье
современников уже отходило в прошлое, а искусство последующей яркой эпохи, связанной с именем Дионисия, еще не появилось.
Биография Дионисия так же, как и биография Рублева, восстанавливается исключительно по сообщениям о его работах161. В первый раз его имя упоминается между 1467 и 1477 гг., когда он принимал участие в росписи каменного собора Пафнутьева монастыря в Боровске. Последней крупной работой мастера явились фрески, написанные им в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре, они относятся к 1500—1502 гг. В тридцатипятилетний промежуток между этими двумя крайними датами Дионисий участвовал в изготовлении трехъярусного иконостаса для Успенского собора Московского Кремля (1481 —1482 гг.), написал икону Одигитрии для Вознесенской церкви (1482 г.), украшал фресками и иконами каменный собор Иосифо-Волоколамского монастыря (1484—1486 гг.) 162 и написал иконы для иконостаса в Павлово-Обнорском монастыре (1500 г.) 163.
161 См. В. Т. Георгиевский. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911, стр. 17—37. См. также: Н. К. Голейзовский. Живописец Дионисий и его школа. «Вопросы истории», 1968, № 3, стр. 214—217.
162 См. А. А. 3 и м и н. Краткие летописцы XV—XVI вв. «Исторический архив», т. V. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950, стр. 15—16.
163 См. В. И. Антонова. Новооткрытые произведения Дионисия в Государственной Третьяковской галерее. М., 1952, стр. 6—15.
— 365 —
Дионисий редко работал один. Обычно его сопровождали многочисленные сотрудники и помощники: Митрофан, Тимофей, Ярец, Коня, старец Паисий, сыновья Дионисия Феодосий и Владимир. Все эти художники пользовались широкой известностью. Каждое новое их произведение вызывало шумные восторги. Роспись храма в Пафнутьевом монастыре была так хороша, что ей удивлялись князья: написанный для Успенского собора деисус был «вельми чуден», а художники — «пресловущие тогда паче всех в таковем деле», «изящные и хитрые в Русской земле иконописцы, паче же рещи живописцы» и так далее. В этих лестных словах отчетливо- звучит чисто эстетическая оценка искусства Дионисия и мастеров его круга. Видно, что современники ценили их живопись за ее- красоту, за ее блеск, за впечатление, которое она производила на. зрителя.
Дионисий был очень плодовитый мастер. Можно с полной ответственностью утверждать, что количество написанных им икон исчислялось сотнями. В одном только Иосифо-Волоколамском монастыре, по описи 1545 г., его кисти принадлежало 87 икон 164. При этом составители описи имели в виду иконы, написанные им лично, а иконы его помощников (Паисия, Феодосия, Владимира и других) выделяли особо. Трудно сказать, какими конкретными признаками руководились авторы описи, классифицируя и распределяя огромные монастырские иконные запасы поименно. Скорее- всего они просто знали, что та или иная вещь написана Дионисием. В настоящее же время провести четкую грань между произведениями самого Дионисия, его сыновей и близких ему по духу мастеров нелегко. Поэтому бесспорно дионисиевские иконы составляют такую же величайшую редкость, как и иконы письма Андрея Рублева.
Молодые годы мастера, когда формировались его художественные вкусы и вырабатывался стиль, пришлись примерно на середину и третью четверть XV столетия. В то время еще была свежа память о Рублеве, а некоторые из его последователей были еще живы и продолжали свою деятельность. Дионисий, несомненно, был хорошо знаком с искусством Рублева. Не исключено также, что он побывал в Новгороде и видел фрески Сковородского монастыря. Но решающую роль в его творческой биографии сыграли произведения младших современников и последователей Рублева, которые стали развивать манеру великого мастера в сторону живописи все более утонченной и красивой. Некоторое представление об их искусстве дают две иконы Одигитрии из Троице-Сергиевой лавры, а также плащаница 1456 г. Эти произведения должны были нравиться Дионисию. Недаром его «Одигитрия», написанная в 1482 г., своим тонким письмом так напоминает обе иконы Одигитрии из Троицкой лавры 165.
Ранние работы Дионисия — фрески Пафнутьева монастыря и деисус, праздники и пророки Успенского собора — не сохрани164 См. В. Т. Георгиевский. Фрески Ферапонтова монастыря, стр. 2&
165 Ср. К. Onasch. Ikonen. Berlin, 1961, Taf. 82, 83, 107.
— 366 —
лись. Но в Успенском соборе есть несколько фресок, которые, очевидно, были написаны в одно время с иконостасом в 1481 —1482 гг. Это изображения преподобных на алтарной преграде, «Поклонение волхвов» на стене ризницы и «Сорок севастийских мучеников» и «Сцена из жизни св. Петра» в приделе Петра и Павла 166. За исключением композиции «Сорок севастийских мучеников», фрески имеют много общего с достоверными работами Дионисия. И хотя мы не знаем, принимал он участие в написании этих фресок или нет, они дают хорошее представление о том направлении в московской живописи, в русле которого развивалось и его собственное творчество.
Среди очень большого количества икон, приписываемых Дионисию, центральное место занимают большие житийные иконы митрополита Петра (Успенский собор в Московском Кремле) и митрополита Алексия (Третьяковская галерея). Предполагается, что они относятся к 80-м годам XV в., когда мастер был на вершине своей славы. Обе иконы происходят из Успенского собора Московского Кремля 167. Судя по их большим размерам, они предназначались для нового здания собора, построенного в 1475^ 1479 гг. В таком случае время их написания надо связать с общими работами по украшению храма живописью, производившимися, согласно показанию летописи, Дионисием, Ярцем и Коней в 1481 —1482 гг. и, наверное, в последующие годы. К тому же незадолго перед приглашением художников в Кремль состоялось торжественное перенесение в новопостроенный собор мощей митрополита Петра (1479 г.), а спустя несколько лет — перенесение мощей митрополита Алексия в церковь его имени, сооруженную в Чудовом монастыре неподалеку от Успенского собора (1485 г). С этим подъемом интереса к памяти первых московских иерархов, защитников русской церкви и государственности, и связан, очевидно, замысел обеих икон. Популярные в позднейшее время клейма с изображением перенесения мощей на иконах отсутствуют, и это дает основания предполагать, что они написаны в тот момент, когда событие только что совершилось и еще не успело найти выражения в иконографии.
Иконы митрополитов Петра и Алексия рисуют нам Дионисия как величайшего мастера житийных икон. Такие иконы, где изображение святого, занимающее средник, окружено серией клейм,
166 С. В. Поклонение волхвов (фреска, недавно открытая на стене московг ского Большого Успенского собора). «Светильник», 1914, № 2, стр. 3—5; его же. Древние фрески за иконостасом Московского Успенского собора. «Светильник», 1915, № 1, стр. 3—7; «Художественные сокровища Московского Кремля». М., Изогиз, 1963, стр. 10, рис. 36—39; О. В. 3 о н о в а. Стенопись Успенского собора Московского Кремля. Сб. «Древнерусское искусство. XVII век». М., «Наука», 1964, стр. 112—122.
167 См. В. Борин. Две иконы новгородской школы XV в. свв. Петра и
Алексия, митрополитов московских. «Светильник», 1914, № 4, стр. 23—32;
И. Е. Данилова. Житийные иконы митрополитов Петра и Алексея из Успенского собора в Кремле в связи с русской агиографией. ТОДРЛ, т. XXIII, 1968, стр. 199—216, рис. 1—4.
367 —
Дионисий. Митрополит Алексий в житии. Икона из Успенского собора
в Московском Кремле. 70—80-е годы XV в.
иллюстрирующих основные события его жизни и чудеса от его мощей, писались на Руси еще в XIII—XIV вв. Большой популярностью они пользовались и в последующее время. Но в сохранившихся житийных иконах XIII—XIV вв. большие клейма нередко стесняют выразительную силу главного изображения. Потребовалась длительная эволюция иконописи в сторону дробления художественной системы и выработки миниатюрной техники, чтобы житийная икона приобрела, наконец, черты полной завершенности. Именно в искусстве Дионисия тип иконы святого с житием откристаллизовался в свои классические формы.
Размер средника и размеры клейм строго согласованы между собой и находятся в зависимости, которую легко выразить в числовых отношениях. Сравнительно с образцами более раннего времени масштаб главной фигуры несколько уменьшен, а масштаб фигур в клеймах, как и масштаб самих этих клейм, несколько увеличен. Красочная рамка или заменявший рамку скос второго ковчега исчезли, и ровный голубовато-белый фон средника слился с аналогичным фоном сцен жития. Исчезли также вертикальные полоски между клеймами, роль которых перешла к архитектурным кулисам, обрамляющим отдельные сцены. В некоторых случаях наверху и внизу иконы, границы между соседними клеймами выражены слабо, и рассказ начинает развертываться по горизонтали, как в античных фризах. Впрочем, статика центрального изображения последовательно повторяется и в клеймах, действие которых обычно происходит в замедленном темпе, с повторяющимися позами торжественных предстояний и собеседований. Колорит средника и клейм не имеет существенных различий и строится на сочетании одних и тех же красок: белой, голубой, зеленой, желтой, розовой, вишневой и красной. Невиданно широкое употребление белого цвета, который заставляет с особой силой звучать все остальные краски, придает иконам праздничный, декоративный вид.
В творчестве Дионисия житийная икона приобрела настолько совершенный облик, что ее настоящее рождение как самостоятельного типа художественного произведения невольно хочется поставить в заслугу именно этому художнику.
В искусстве Дионисия интерес к внутреннему содержанию образа человека отчасти уступил место интересу к проблемам чисто художественной формы. Ему важен не столько сюжет, сколько способ воплощения сюжета. Отсюда влечение мастера к многофигурным сценам, которые давали ему больше простора для творческих (главным образом, колористических) комбинаций, нежели единоличные изображения. Иконы отдельных святых, в том числе и достоверно дионисиевские, как «Одигитрия» из Вознесенской церкви Московского Кремля, или иконы, относительно которых можно предполагать, что они написаны Дионисием, как очень красивая икона великомученицы Варвары из Волоколамска, хранящаяся ныне в Загорском музее, при всех их несомненных живописных достоинствах все же отодвигаются на второй план житийными иконами и превосходными композициями, написанными им самим или художниками его круга и школы на темы Успения •24 Очерки русской культуры, ч. 2 _ 369 _
Богоматери, Сошествия во ад 168, О тебе радуется 169 170, Покрова 17а, Апокалипсиса 171, Шестоднева 172 и многие другие. Праздничная картина многонародных торжеств, темы славы и величаний — это стихия Дионисия. Здесь ему доступны такие вершины, каких не достигал ни один мастер предыдущей эпохи.
Уже заранее можно было бы предполагать, что интерес Дионисия к внешнему великолепию повлечет за собой выработку стандартного иконописного типа, одинаково пригодного для всякой иконы независимо от ее содержания. И действительно, подавляющее большинство святых Дионисия написаны на одно лицо. Все они, если пользоваться выражением иконописных подлинников, «наподобие» один другого. Сергий Радонежский похож на Кирилла Белозерского, Кирилл — на Дмитрия Прилуцкого, Дмитрий — на Николая Чудотворца и т. д. Эта повторяемость тем более очевидна, что и с точки зрения иконописной техники работы Дионисия тоже единообразны. Преувеличенно удлиненные фигуры, строгий вертикализм складок одеяний, крайне слабо выраженное движение, мягкое, очень плавкое письмо с обязательной розоватой подрумянкой на щеках, широко использованные лессировки — все это переходит из одной вещи в другую без каких-либо существенных изменений. Порой кажется, что, найдя один раз вполне удовлетворявшую его манеру, Дионисий остановился в своем развитии и что весь его длительный творческий путь есть не что иное, как подражание самому себе. (Поэтому истинная хронология диони- сиевских произведений в конечном счете не имеет существенного значения.) Увлечение внешней стороной в ущерб психологической разработке образа человека можно было наблюдать еще в сковородских фресках, но в искусстве Дионисия оно расцвело пышным цветом и стало определяющим признаком творческого метода в целом.
В последние годы жизни Дионисий много работал на Севере, в районе Вологды. В 1500 г. им написаны деисус, праздники и пророки для Троицкого собора Павлово-Обнорского монастыря Единичные иконы, уцелевшие из иконостаса 173, показывают, что это был декоративный ансамбль, выдающийся по красоте живо-
168 Икона конца XV в. из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в Русском музее (В. К. Лаурина. Вновь раскрытая икона «Сошествие во ад» из Ферапонтова монастыря и московская литература конца XV в. ТОДРЛ, т. XXII, 1966, стр. 165—187).
169 Икона конца XV в. из Успенского собора города Дмитрова в Третьяковской галерее (В. И. А н т о н о в а и Н. Е. М н е в а. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 280, рис. 226—229), икона конца XV в. в Успенском соборе Московского Кремля («Художественные сокровища Московского Кремля», рис. 26).
170 Икона конца XV в. в Музее в Суздале.
171 Икона конца XV в. в Успенском соборе Московского Кремля (М. В. А л- патов. Памятник древнерусской живописи конца XV в. М., «Искусство», 1964), фрагменты «Страшного суда» начала XVI в. в Русском музее.
172 Икона начала XVI в. в Третьяковской галерее («Выставка древнерусского искусства в Москве 1913 г.». М., 1913, отд. I, № 18, таблица).
173 См. о них: В. И. Антонова. Новооткрытые произведения Дионисия в Государственной Третьяковской галерее, стр. 6—15; В. И. Антонова и Н. Е. М н е в а. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 276 и 277. На тыльной стороне центральной иконы деисуса («Спас в силах») имеется резная надпись, начала XVI в., удостоверяющая, что иконостас написан Дионисием в 1500 г.
— 370 —
Дионисий. Ласкание Марии. Фреска на западной стене собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1500—1502 гг.
писи. Особенно хороша хранящаяся ныне в Третьяковской галерее икона Распятия. Как и все дионисиевские произведения, она очень красива по колориту. Одежды сотника Логгина, стоящего рядом с Иоанном, написаны белой, ярко-голубой, лимонно-желтой, красной, темно-желтой, темно-голубой, зеленоватой и голубовато-зеленоватой красками. Даже для палитры Дионисия эта фигура является исключительно эффектной.
В том же 1500 г. Дионисий и его сыновья Феодосий и Владимир приступили к росписи каменного собора Ферапонтова монастыря. Роспись была закончена спустя два года, о чем ее авторы оставили соответствующую запись на софите северного дверного проема. Фрески сохранились исключительно хорошо, испытав за более чем четырехвековой период своего существования всего лишь одно и притом очень незначительное поновление. Открытые и опубликованные в 1911 г. В. Т. Георгиевским, они быстро получили широкую известность и всеобщее признание.
Ферапонтовский собор посвящен празднику Рождества Богородицы, и естественно, что вся его живопись по содержанию относится к Марии. Редкая в практике древнерусской живописи наружная фреска, обрамляющая портал, по единодушному мнению всех исследователей, написана лично Дионисием. Здесь в трех сравнительно коротких регистрах изображены деисус, Рождество Богородицы, Ласкание Богородицы и по сторонам от входа два ангела. Кроме того, непосредственно над входом написаны Знамение, символизирующее воплощение Христа, и припадающие к Бо- 24*
— 371
томатери в молитвенном экстазе великие песнопевцы Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский.
Уже в портальной фреске отчетливо прослеживается мысль, положенная в основу росписи храма в целом: это выражение радости по случаю рождества Марии, поклонение Богородице и ее прославление 174. Внутри собора эта мысль получает широчайшее развитие. Она последовательно воплощается в росписи алтарной ниши в таких фресках, как «Покров Богородицы», «О тебе радуется», «Похвала Богородицы», а также в целой серии сюжетов на слова акафиста — хвалебного песнопения в честь Марии. Помещая, по традиции, на западной стене церкви композицию Страшного суда, художники умело подчеркивают в этой фреске роль Марии как заступницы перед Христом за человеческий род, небесной предстательницы и молебницы. Обращает на себя внимание, что, несмотря на обилие сюжетов, прямо или косвенно относящихся к Марии, она, за исключением портальной фрески с изображениями Рождества и Ласкания, нигде больше не выступает в привычной обстановке повествования о ее жизни. Повсюду на первый план выдвигается отвлеченная идея ликования по случаю Рождества — праздника, « возвестившаго радость всей вселенней». Этот замысел и заставил художников использовать в росписи иллюстрации к акафисту — самому торжественному и вместе с тем наиболее абстрактному песнопению в честь Богоматери. Фрески, иллюстрирующие гимны акафиста, занимают средний пояс росписи. Иными словами, им отведено самое видное, почетное место. Точно следуя литературной канве, эти фрески воспевают Марию. При этом так же, как и текст, они имеют форму сложных символических изображений, раскрывающих не столько жизнь Богоматери, сколько ее различные значения. «Радуйся! звезда, являющая солнце; радуйся! заря таинственного дня» — этот славословящий лейтмотив акафиста стал вместе с тем и лейтмотивом всей фера- понтовской росписи.
Примечательной особенностью ферапонтовских фресок является их колорит. По цвету это бесспорно красивейшие древнерусские фрески. Известно, что Дионисий и его помощники пользовались богатыми россыпями местных красок на берегах озер, окружающих монастырь175. Это желтые, красные, фиолетовые, розовые, зеленые, коричневые, белые, серые и черные краски, способные, в свою очередь, давать множество изумительных по красоте нежных оттенков. При высыхании все местные краски становятся матовыми, воздушными. Эти свойства местных красок и
174 См. В. Т. Георгиевский. Фрески Ферапонтова монастыря, стр. 85— 121; Е. Georgievskij — Druzinin. Les fresques du monastere de Thera- pont. Etudes de deux themes iconographiques. «L’art byzantin chez les slaves», II. Paris, 1932, pp. 121 —134; В. H. «Лазарев. Дионисий и его школа. «История русского искусства», т. III, стр. 520—522; И. Е. Данилова. Иконографический состав фресок Рождественской церкви Ферапонтова монастыря. Сб. «Из истории русского и западноевропейского искусства». М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 118—129; Т. Н. Михельсон. Живописный цикл Ферапонтова монастыря на тему акафиста. ТОДРЛ, т. XXII, 1966, стр. 144—164.
175 См. Н. М. Чернышев. Искусство фрески в Древней Руси. М., «Искусство», 1954, стр. 75—82.
372 —
Богоматерь с ангелами. Фреска в конхе апсиды собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1500—1502 гг.
О тебе радуется. Фреска в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1500—1502 гг.
обеспечили фрескам собора их колористическое очарование. Преобладающие цвета росписи — белый, вишневый, розовый и светлые охры в сочетании с лазурным фоном. Зрителя, когда он рассматривает фрески, не покидает чувство просветления, блаженства. Этому способствует также чисто графическая сторона росписи. Фигуры высокие, тонкие, изящные. Пластика тел почти не выражена, и все они кажутся парящими в пределах стенной плоскости. Характерное для Дионисия вертикальное положение фигур имеет своим следствием то, что подавляющее большинство действующих лиц на фресках изображено в полный рост. Даже в тех случаях, когда иконографическая схема требовала от художника изображения сидящих людей, он заметно вытягивает их фигуры, и они кажутся стоящими. На всех фресках без исключения лежит печать дионисиевского равнодушия к драматическому действию и действию вообще. Повсюду мы видим мотив предстояния. Все люди на фресках предстоят друг перед другом. Даже Богоматерь и Христос, которые, казалось бы, должны были составлять композиционный центр большинства фресок, не деле отодвинуты от центральной оси и тоже изображены в молитвенных позах «предстояния. Такая странная на первый взгляд черта ферапон- товских фресок естественно вытекает, однако, из общих установок Дионисия, стремившегося изображать не столько божество, человека или действие, сколько религиозное состояние, молитву176.
176 См. И. Е. Данилова. Иконографический состав фресок Рождественской церкви Ферапонтова монастыря, стр. 129.
— 374 —
Поэтому святые, предназначенные служить объектом поклонения со стороны верующих, находят это поклонение в действующих лицах на тех же фресках, на которых они изображены сами. Этим, кстати сказать, объясняется и очень слабый чисто психологический эффект росписи. В отличие от мощных и фанатически импульсивных святых на новгородских фресках святые на фресках Дионисия не обращены к зрителю, их глаза не притягивают, не завораживают человека. Нетрудно понять, что характер искусства Дионисия и замысел росписи Ферапонтова монастыря очень хорошо согласованы между собой. Вот почему ферапонтовские фрески, несмотря на то, что они возникли в конце жизни художника и даже в подавляющей части были сделаны не им лично, а его сыновьями, получили тем не менее в его творческом наследии значение главного памятника.
Искусство Дионисия стоит на рубеже двух эпох. С одной стороны, оно завершает творческие искания XV в., с другой — начинает полосу пышной и замысловатой живописи XVI в. При этом с новой эпохой оно связано, пожалуй, даже теснее, нежели с предыдущей. Недаром живописью Дионисия восхищался Иван III, который видел в ней отражение славы своего княжения. Но особенно следует указать на связь Дионисия с церковью. Его постоянные заказчики и покровители — это высшие иерархи и игумены крупнейших монастырей. Первое место среди них бесспорно занимал Иосиф Волоцкий. Глава стяжателей, блестящий полемист ортодоксального направления, защитник идеи соединения царской власти с церковной, непримиримый враг любых проявлений свободомыслия, Иосиф должен был оказать на Дионисия глубокое влияние. Ему, Дионисию, или его сыну Феодосию Иосиф адресовал известное «Послание иконописцу» и «Слова» о почитании икон, проникнутые сугубо догматическим духом177. В этих произведениях Иосиф неоднократно высказывается по поводу того, что иконы должны быть прекрасными, чтобы их красота направляла человеческую мысль к «божественному желанию и любви», к «неописанному, и неизреченному и непостижимому» 178. Чтобы передать этот отвлеченный идеал с помощью художественных образов, требовался хорошо натренированный схоластический ум и чрезвычайная стандартизация изобразительных средств. Именно поэтому в росписи собора Ферапонтова монастыря Дионисий и его помощники сознательно повторяли одну и ту же композицию по нескольку раз, если она, по их мнению, с успехом могла выразить содержание разных событий. Это относится преимущественно к фрескам, изображающим Беседы трех святителей и Вселенские соборы. Они написаны по одной схеме и обнаруживают сильнейшее воздействие догматического мышления, стремящегося не к разнообразию приемов, а к их унификации.
Подобно тому как Андрей Рублев и Даниил Черный, расписывая Успенский собор во Владимире, не ограничились только фресками, Дионисий и его сыновья написали для Рождественского 177 Н. А. К а з а ко в а и Я. С. Л у р ь е. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века, стр. 320—373.
178 Там же, стр. 373 («Слово на ересь новоградскых еретиков...»).
— 375 —
собора Ферапонтова монастыря новый иконостас. От этого замечательного творения сохранилось несколько больших местных икон, деисус и пророки (сведений об иконах праздничного яруса не имеется). Их расчистка полностью еще не закончена, но даже те единичные иконы, которые уже представлены в музеях 179, свидетельствуют, что по красочности и общей деликатности живописи иконостас Рождественского собора служил подлинным средоточием в его оформлении, образуя вместе с фресками стилистически единый ансамбль.
Так же как и стенопись, иконы выполнены в нежных и вместе с тем декоративно очень выразительных тонах. Рассматривая эти иконы, невольно увлекаешься их тонким рисунком, игрой линий, гармонией цвета, широкими плавями. Особенно характерна икона Дмитрия Солунского с ее чудесным сопоставлением синих и вишневых тонов и золотого фона. Изображение святого по диагонали рассечено прямым, как стрела, краем его плаща. Благодаря этой Дмитрий Солунский. Икона из иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1500—1502 гг.
179 Иконостас Рождественского собора Ферапонтова монастыря расчленен, и его части хранятся ныне в Третьяковской галерее, в Русском музее и в Кирилловском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. См. В. И. Антонова и Н. Е. Мн ев а. Каталог древнерусской живописи, т. I, № 278, рис. 212—213, 216—223; В. К.
Лаурина. Вновь раскрытая икона «Сошествие во ад» из Ферапонтова монастыря и московская литература конца XV в., стр. 165— 187, рис. 1—2.
— 376 —
удачно найденной детали, юношески свежий, чистый и миловидный образ Дмитрия неожиданно приобретает строгую ясность и душевную твердость. Но в соответствии с общим содержанием искусства Дионисия психологические черты в образах его святых не являются преобладающими, и ценность чисто живописных исканий и находок мастера всегда останется наиболее важной стороной его художественного наследия.
Московская живопись второй половины XV в., признанная в качестве официального искусства великокняжеской властью и церковью, получила широкое распространение. При этом сфера ее воздействия не ограничилась Москвой и прилегающими к ней старомосковскими городами и монастырями. Подобно тому, как власть московских государей подчинила себе некогда независимые республики и княжества Северо-Западной и Северо-Восточной Руси, идеи, главные иконографические темы и отдельные стилистические черты этой живописи постепенно просочились в искусство других городов и оказали мощное влияние на областные школы. Но, несмотря на нивелирующую роль Москвы и известную утрату самобытности изобразительного искусства в других художественных центрах, развитие местных школ живописи не прекратилось и в течение XVI—XVII вв. здесь было создано много поучительного и прекрасного.
Декоративноприкладное искусство
М. А. ИЛЬИН
Монголо-татарское нашествие гибельно сказалось на развитии всего русского искусства. Почти полностью замерло строительство каменных храмов, прервалось искусство монументальной фрески, резко снизилось писание икон. Дошедшие до нас от второй половины XIII в. иконы свидетельствуют не столько о совершенствовании и появлении новых художественных приемов древнерусской живописи, сколько о повторении того, что было свойственно русской иконописи первой трети XIII в. Декоративно-прикладное искусство пострадало в еще большей степени. Будучи в основном сосредоточено в городах, оно почти полностью прекратило свое существование, поскольку мастерские художников были разграблены и сожжены, а они сами в большинстве уведены в Монголию, где были принуждены обслуживать нужды ханского двора. Недаром Плано Карпини, описывая достопримечательности Каракорума, назвал среди них ханский трон, изготовленный русским мастером Кузьмой из резной кости L Лишь немногим из мастеров удалось бежать из плена и вернуться
1 См. Д ж и о в а н ни дель Плано Карпини. История монголов; Г и л ь о м де Рубрук. Путешествия в восточные страны. М., Географиздат, 1957, стр. 78. — 378 —
на родину. Ипатьевская летопись под 1259 г., сообщая о строительстве города Холма князем Даниилом Галицким, говорит о том, что «мастере всяции бежаху ис Татар»2. Среди них упоминаются ювелиры и специалисты по обработке металла.
Разорение Русской земли было настолько велико, что некоторые виды художественного ремесла на долгие годы прекратили свое существование. Так, развитое в домонгольское время стеклоделие возродилось лишь к XVII в. Искусство финифти, изделия которой так прославили русских мастеров в предшествующее время, появляется вновь лишь в XIV столетии, заметно уступая произведениям XI—XII вв. как по технике исполнения, так и по колористической гамме. Отдельные дошедшие до нас изделия второй половины XIII в. (в большинстве выполненные из металла — печати, медные кресты-складни, каменные резные иконки и т. д.) отличаются грубостью форм и несовершенством исполнения. Создается впечатление, словно творческая мысль мастеров-художников, подавленная всем происшедшим, переживала глубокий кризис, образное их мышление оскудело, а огрубевшие руки не были способны изготовить то, что еще так недавно радовало глаз, привлекало совершенством исполнения и тонкостью рисунка3. В несколько лучшем положении было прикладное искусство деревни, произведения которой и легче исполнялись и, как правило, изготовлялись самими жителями. Однако русское деревенское узорное ткачество этого периода, как и вышивки, резьба по дереву на бытовых предметах, поделки из кости и т. д., до нас не дошли. Прекращение захоронения в курганах (с XIV в.) еще сильнее сузило возможность судить о бытовом крестьянском искусстве этого периода. Лишь случайные находки и схематические изображения на иконах создают некоторую возможность приблизительно представить себе изделия крестьянского искусства той эпохи.
Возрождение русского декоративного прикладного искусства следует связывать с серединой XIV в., что объясняется подъемом всей русской культуры. Среди различных изделий этого времени заметно выделяются новгородско-псковские произведения. Новгород и Псков не испытали ни нашествия монголо-татар, ни их последующих набегов, по-прежнему разорявших русские города и села. Помимо этого широко поставленные раскопки в Новгороде последних лет создали возможность судить об обычно плохо сохраняемых предметах4. Среди них определенный интерес вызывают резные спинки деревянных кресел. Они украшены разнообразным геометрическим орнаментом, некоторые мотивы которого легко сопоставляются с ткаными, вышитыми или плетеными из кожи узорами. Одновременно другие мотивы криволинейного очертания (своего рода крупноячеистая сеть, розетка и др.) свидетельствуют о желании найти собственно «деревянные» приемы резьбы. Ее относительно невысокий рельеф заставляет думать, что 2 ПСРЛ, т. II, стр. 843.
3 См. Б. А. Рыбаков. Прикладное искусство великокняжеской Москвы. «История русского искусства», т. III. М., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 216 и сл.
4 «Труды Новгородской археологической экспедиции». МИ А, № 55, 1956 и другие многочисленные публикации.
— 379 —
первоначально эти резные -спинки могли быть окрашены, что позволяло отчетливее видеть игру орнаментальных форм.
Среди новгородских деревянных декоративных произведений наиболее видное место занимает Людогощинский крест 1359 г. Его особенностью является необычное построение сильно разветвленных крестовин, что в известной мере сближает его с нательными значительными по масштабу металлическими крестами этого* времени. Однако крупный, ярко декоративный силуэт рогоподобных разветвлений заставляет вспомнить наружную декоративную резьбу более поздних деревянных же памятников (Сибирь, XVII— XVIII вв.). Декоративность креста усилена благодаря контрастному сопоставлению крупных деталей с мелкими, а также умелому использованию пустот четырех окружностей, вписанных в его центральную часть. Те же принципы можно наблюдать в декоративной плоской резьбе, покрывающей всю поверхность креста. Плоские орнаментальные завитки и спирали при их известной беспорядочности умело подчеркивают относительно крупные медальоны с изображением святых, выполненных более крупным обобщенным рельефом. Характер орнаментальных завитков и спиралей фона заставляет предполагать, что резчик стремился на свой «деревянный» лад истолковать металлическую скань, получившую распространение в это время.
В результате раскопок в Новгороде мы получили возможность судить о деревянной посуде. Особенно интересны токарные изделия, реконструкция которых свидетельствует не только о богатстве- форм, но и о высоком художественном чутье мастеров. Они с большой полнотой воплотили в своих изделиях пластические свойства дерева. К сожалению, весь этот материал не послужил темой для исследования художественных качеств русской деревянной посуды. Уже сейчас можно сказать, что значение деревянной посуды в художественном древнерусском ремесле было велико. Нет сомнения,, что многие художественные приемы, осуществленные в дереве, сказались на изделиях, выполненных в других материалах (металл) 5.
Сохранившиеся резные деревянные произведения других областей Древней Руси говорят примерно о подобном же пути развития. Так, царские врата церкви села Олюшенского Вологодской области (близ Вольска), датируемые XIV в., обнаруживают тенденции к крупным и вместе с тем достаточно декоративным формам6. Другие же произведения, относящиеся уже к XV столетию (фрагмент царских врат в Ростовском музее), поражают мастерским исполнением сложного плетеного орнамента, часть которого выполнена «на проем», т. е. применением ажура. Это обращение к сложной деревянной узорной резьбе стоит в прямой зависимости от общего стремления декоративно-прикладного искусства широко использовать орнаментальные геометрические и растительные формы. Отмечая эту особенность русского орнамента XV в., следует все же подчеркнуть, что при всей своей замысло-
5 См. Б. А. Колчин. Новгородские древности. Деревянные изделия. САИ Е1—55. М., «Наука», 1968.
6 См. Н. Соболев. Русская народная резьба по дереву. М.— Л., «Academia», 1934, стр. 194—195.
— 380 —
ватости он не теряет структурной ясности, позволяя «читать» его со сравнительно далекого расстояния. Количество сохранившихся костерезных изделий за XIII—XV вв. ничтожно. Лишь новгородские археологические раскопки несколько приоткрыли занавес над этой интересной, но совершенно не исследованной областью древнерусского
7 Кпетрпрч. Бляха из Новгородских раскопок с изобра-
’ „Р жением пьющей из рога «русалки»
ные изделия второй половины XIII—XIV вв. в своем большинстве носят утилитарный характер. То это костяной пенал, то ложки, то гребни, то нашивные декоративные бляхи, составлявшие органическую часть древнерусского народного костюма. Некоторые из них более лаконичны по форме, более композиционно собраны, но вместе с тем им присуща и определенная декоративность, выраженная в запоминающемся и хорошо найденном силуэте. Одной из особенностей этих изделий является типично «костяной» орнамент, состоящий из концентрических кружков, то равномерно покрывающий предмет, то группирующийся в своего рода розетки. Любопытно, что этот орнамент сохранился в Холмогорах, центре русского костерезного искусства, вплоть до наших дней. По-видимому, он попал сюда в ту эпоху, когда власть Великого Новгорода охватывала устье Северной Двины.
Другую группу изделий образуют предметы, где декоративное начало главенствует. Здесь следует назвать нашивные или накладные бляхи с умелым использованием пустот ажура. Последние хорошо подчеркивают фигуру пьющей из рога «русалки», оскалившего свою пасть дракона и т. п. Эти резные изображения при всей их плоскостности обладают крупными и глубокими прорезками, умело моделирующими их формы, создающими даже впечатление некоторой пластичности. Так же как и в резном дереве, мелкие детали или орнаментация четче и яснее выявляют основные декоративные формы, умело вписанные то в круг, то в более сложный своего рода картуш.
С XV в. связана группа костерезных произведений, где развитие пластических качеств резной кости становится более ощутимым. В наибольшей степени пластичность сказывается в надпрестольном кресте (конец XV в.), хранящемся в музее Углича, в
7 См. Б. А. Колчин. Топография, стратиграфия и хронология Неревского
раскопа. В кн.:
«Труды Новгородской археологической экспедиции», т. I,
стр. 63—75.
— 381
Распятие из Углича конца XV в.
котором фигура распятого Христа как бы следует естественной форме примененного здесь куска кости.
Незначительное количество сохранившихся изделий из дерева и кости может создать превратное представление о состоянии русского декоративно-прикладного искусства за рассматриваемый период. Произведения из металла вносят существенную поправку в эту картину. Они свидетельствуют о том, что начавшееся с XIV в. возрождение русской художественной культуры быстро приобрело широкий размах; восстанавливаются некоторые художественные приемы, с которыми мы не встречаемся после татарского нашествия. Однако, как установил Б. А. Рыбаков, в деревне изготовление художественных изделий из металла не переживало такого острого кризиса, которым отмечено русское городское художественное ремесло второй половины XIII в.
О ювелирном искусстве деревни XIII — начала XIV в. дают достаточно яркое представление московские курганы8. Наряду с грубоватыми, примитивными по форме изделиями встречаются вещи, отличающиеся как сложностью техники исполнения, так и определенным изяществом рисунка. Среди последних выделяются широкие пластинчатые браслеты, орнаментированные с помощью зубчатого колеса. Наряду с простым геометрическим узором в виде квадратиков, простой плетенки или зигзага применяется орнамент, основанный на криволинейных формах или стилизованном растительном узоре. Если в первом случае легко найти аналогию в вышивке того времени, то во втором — можно наблюдать желание выработать декоративные формы, соответствующие свойствам и особенностям материала. Среди подобных изделий, опубликованных Б. А. Рыбаковым9, выделяется браслет, орнамент которого в несколько усложненной форме был с замечательным совершенством применен в золотом нимбе известной псковской иконы Дмитрия Солунского XV в. (этот же орнамент применен в вышеназванных костерезных бляхах).
Но постепенно, как отмечают исследователи, изготовление относительно дешевых ювелирных изделий, применявшихся в деревне, переходит в город. Среди них выделяются своей простотой трехлопастные височные кольца XIV в., отличающиеся тонким по рисунку, ажурным обрамляющим орнаментом. Характер распределений пустот ажура, как и образованный ими геометрический орнамент, невольно сближает эти привлекательные изделия. Несравненно богаче и разнообразнее были изделия из металла, изготовлявшиеся в городах, где состоятельные заказчики — князья, бояре, духовенство — могли позволить себе большие материальные затраты. Своего рода художественными мастерскими становятся монастыри. Здесь не только переписывают книги, украшая их миниатюрами и заставками, но и работают живописцы и ювелиры. Недаром в одном из источников следующим образом говорится о деятельности определенного круга монахов: «... Во иноческом образе строим каменные ограды с полаты и
8 См. А. В. Арциховский. Курганы вятичей. М., 1930, стр. 165—196.
9 См. Б. А. Рыбаков. Ремесло Древней Руси. М., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 541.
— 383 —
Мастер Авраам из «Корсунских» врат (Новгород)
позлащенные узоры с травами многоцветными, аки царские чертоги украшаем себе в кельях» 10. Именно среди подобных мастеров постепенно возобновлялись приемы домонгольского декоративноприкладного искусства.
Художественная обработка металла знает разнообразную технику, среди которой литье занимает видное место. Образцами художественного литья из металла могут служить разнообразные произведения как Новгорода, так и Москвы. Так, при сборке поврежденных «Корсунских» (Магдебурских) врат XII в. Софийского собора в Новгороде исполнявший эту работу мастер Авраам изобразил себя с инструментами своей специальности. Хотя русскому искусству не было свойственно особое стремление к круглой пластинке, тем не менее художник учел специфические свойства рядом расположенных литых фигур и придал собственному изображению характер горельефа.
Среди московских произведений этого времени выделяется оклад евангелия боярина Ф. А. Кошки (1392 г.), украшенный 29 литыми фигурками, размещенными в киотах. Все изображения обладают достаточно высоким рельефом, что дополнительно подчеркивалось залитым различными цветами финифти фоном. Сами обрамляющие киотцы (отображающие детали архитектуры иконостасов) имеют подчеркнуто горельефный характер. Отмечая эти особенности накладных фигурок евангелия Ф. А. Кошки, все же следует отметить общую его перегруженность и нечеткость композиционного построения. Но постепенно высота рельефа подобных фигур заметно становится меньше (оклад евангелия 1448— 1461 гг., новгородский панагиар 1435 г. и другие), фигуры уплощаются. Вместе с тем улучшается композиционное построение,
10 Г. Н. М о и с е е в а. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины XVI века. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 169 (курсив мой.— М. И.).
— 384
Оклад евангелия Федора Кошки, 1392 г.
Зак. 314 стр. 384—3
Людогощинский крест
приобретающее большую ясность, собранность. Литые орнаментальные детали окладов (репья) почти совершенно плоскостны. Для усиления их декоративных свойств мастера применяли хорошо построенный и ясно «читаемый» ажур.
Вместе с литьем в XIV в. возобновляется производство скани, ковки, чеканки, басмы, финифти, черни. Эти виды художественной обработки металла почти полностью прекратили свое существование после монголо-татарского нашествия. Как правило, различные виды художественной обработки серебра и золота редко существуют обособленно друг от друга. Это говорит о том, что русские ювелиры рассматриваемого времени были разносторонними мастерами, умевшими выполнять самые сложные произведения. Уже в первой половине XIV в. встречаются изделия, где наличествует скань (серебряный потир новгородского архиепископа Моисея 1330 г. и др.).
Наряду с этими изделиями появляются такие, где можно проследить влияние восточной орнаментики. По-видимому, здесь сыграли роль не только восточные ткани, привозившиеся на Русь, но и так называемая шапка Мономаха — прекрасное произведение восточной скани XIV в. и. Однако восточные мотивы в русской скани были скоро переработаны на собственный лад. Яйцевидные и колбовидные языки «арабского цветка» скани, ее «ландышевые» ветки приобретают у русских мастеров меньшую геометричность, большую плавность рисунка. Количество вводных мотивов заметно уменьшается. Замечательным образцом русской скани следует считать серебряный оклад Владимирской иконы (1410—1431 гг.). Здесь скань использована в качестве фона, на котором выступают двенадцать праздничных чеканных в плоском рельефе икон с килевидным обрамлением и накладные, украшенные драгоценными камнями, своего «рода репья. В отличие от оклада евангелия Ф. Кошки общее композиционное построение оклада Владимирской иконы поражает ясной, продуманной во всех деталях композицией.
Скань первой половины XV в. отличается желанием мастеров подчеркнуть, сделать ясно видимым построение самого узора. Новгородский панагиар 1435 г. мастера Ивана и потир 1449 г. Ивана Фомина из Троице-Сергиевой лавры служат тому примерами. Накладывая, матовую по своей природе скань на полированный блестящий металлический фон, мастера добиваются дополнительных эффектов, заставляющих долго любоваться этими несравненными изделиями.
Совершенствуя приемы, ювелиры XV столетия идут на смелые сочетания драгоценного металла (золота) с деревом. Таков складень 1456 г. мастера-монаха Амвросия из ризницы Троице-Сергие- ва монастыря и ряд других предметов, стилистически связанных с этим подписным его произведением. В литературе, посвященной изделиям Амвросия, обычно все внимание уделяется его резьбе по дереву, являющейся действительно образцом высокого мастерства. Однако и скань, в которую заключены резные деревянные миниатюрные изображения, представляет не менее совершенный по»
11 Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло Древней Руси, стр. 642—643
251/4 Очерки русской культуры, ч. 2 — 385 —
Оклад митрополита Фотия на икону Владимирской богоматери
своему композиционному построению и красоте узор. Приписываемый ему же напрестольный крест помимо резьбы по дереву, накладной литой фигуры распятого Христа и скани, имеет хорошо подобранные драгоценные камни- кабошоны, масштабно соответствующие резным в дереве евангельским сценам. В некоторых названных предметах встречается финифть (обычно синего цвета) или следы ее первоначального существования, как и цветной мастики. Однако мастера вплоть до конца XV в. не смогли достичь того высокого художественного уровня, который был свойствен русской финифти домонгольского периода.
К XIV в. относится
возобновившееся ИЗГОТОВ- Новгородский панагиар, 1435 г.
ление медных церковных дверей с так называемой
«золотой наводкой» 12. От этого времени дошли до нас известные новгородские Васильевские врата 1336 г., перевезенные в 1570 г. Иваном Грозным в Александрову слободу, где они находятся и сейчас (помимо этого сохранились так называемые «Лихачевские врата» в Русском музее в Ленинграде). Изготовлявшие их мастера были новгородцами, на что указывает не только ха-рактер подписи, но и трактовка фигур 13. Примененный в них орнамент также указывает на их новгородское происхождение (орнамент «Лихачевских врат» легко сопоставляется с орнаментом уже названной иконы Дмитрия Солунского из Пскова).
Русская чеканка XIV—XV вв. представлена не только вышеназванными чеканными иконками оклада Владимирской богоматери, но и такой любопытной вещью, как кадило 1405 г. из Троице- Сергиева монастыря, воспроизводящего распространенный в то время тип крестово-купольного храма, увенчанного ярусами кокошников. Особой художественной цельностью обладает новгородский панагиар с его четырьмя несколько плосковатыми фигурами анге-
12 См. Ф. я. М и ш у к о в. К вопросу о технике золотой и серебряной наводки по красной меди в Древней Руси. КСИИМК, вып. XI, 1945, стр. 111—119.
13 См. В. Н. Лазарев. Васильевские врата 1336 года. «Советская архитектура», т. XVIII, 1953, стр. 386—442.
25 Очерки русской культуры, ч. 2 — 387 —
Складень мастера Амвросия, 1456 г. лов, утвержденными на львах и несущими верхнюю «тарель» с крышкой. Обрамляющий их по низу чеканный же орнамент из крестоцветов свидетельствует о знакомстве мастера Ивана с готической металлопластикой 14.
Среди чеканных произведений XV в. особое место занимает складень мастера Лукиана 1412 г. Обращает внимание не только- умело построенная композиция складня в целом, но и орнамент из цветов, обрамляющий двойной полосой его центральную часть. Выразительность, красота и умелое построение этого растительного орнамента в известной мере предвосхищает то, что разовьется в русском узоре с XVI в.
Как видно, большинство перечисленных изделий связано так или иначе с церковью или монастырями. Их сохранностью объясняется наличие ризниц, где с большей тщательностью, чем где либо, сохранялись разнообразные произведения.
Единственным произведением светского художественного ремесла является рогатина тверского князя Бориса Александровича, относимая к 20-м годам XV в. На ней выгравированы многочисленные фигурные сцены, смысл которых до сих пор по-настоящему не разгадан. Примерный орнамент по своему характеру близок вышеназванным узорным мотивам новгородско-псковских изделий.
14 См. Г. Н. Бочаров. Прикладное искусство Новгорода Великого. М.,. «Наука» 1969; В. П. Д а р к е в и ч. Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X—XIV вв.). М., «Наука», 1966.
— 388 —
Ковчег-мощевик мастера Амвросия, 1463 г.
Прав Б. А. Рыбаков, указавший, что ювелирное дело является своего рода мерилом культурного уровня страны. Русь XIV в. накапливала знания, восстанавливала забытые приемы, но уже первая половина XV в. обнаруживает зрелость мастерства. На нем строится дальнейшее развитие всех видов художественной обработки металла. Уже в эпоху битвы на Куликовом поле складываются ювелирные мастерские в Новгороде, Москве, Суздале, Твери. Вместе с тем русское ювелирное дело развивается в общении как
25* _ 389 —
Рогатина князя Бориса Александровича, XV в.
Узор пелены, 1389 г.
с Западом, так и Востоком 15. Развитие русского ювелирного искусства пошло настолько быстро, что уже в конце XV в. крымский хан Менгли Гирей, обращаясь к Ивану III с просьбой о предоставлении изделий русских ювелиров, должен был сказать: «У нас так сделати мастера доброво не добыти, а у тебя брата моего, так е есть...» 16.
К сожалению, наши представления о русском, несомненно существовавшем, узорном ткачестве и вышивке за XIII—XV вв. необычайно сужены. Археологические раскопки принесли в этой области настолько фрагментарный материал, что он не позволяет даже в общих чертах наметить развитие этого интереснейшего вида народного искусства. Единственный источник, который дает возможность, хотя бы приблизительно, судить о русском узорном ткачестве и вышивке — это иконы, шитье, отчасти художественная обработка металла. Однако до сих пор в этой области даже не начаты собирание и систематизация материала,, что, естественно, не позволяет сделать даже самых общих выводов.
О применении узорной ткани и вышивки в мужском костюме XIV в. дает возможность судить фигура мастера Авраама новгородских «Корсунских» (Магдебургских) врат. Его кафтан сделан из ткани с ромбовидным узором. Края кафтана, подол и другие части обложены узорной каймой, которая, по-видимому, является воспроизведением применявшейся вышивки.
О некоторых деталях одежды, а также об орнаменте Новгорода, Твери, Москвы и других древнерусских областных центров можно составить представление по иконам («Введение» из села Кривого, царские врата из Твери, псковские иконы трех святителей и мученицы Анастасии — ГТГ). Здесь следует обратить внимание на вышивку, изображенную на епатрахилях, где мы встречаемся с орнаментальными мотивами, часть которых восходит к домонгольскому времени. Во всех случаях она отличается ясностью построения, четкостью рисунка, масштабным соответствием с покрываемой ею вещью. Большинство изображенных орнаментов придерживаются геометрических форм. Однако вряд ли было бы возможно утверждать, что в эту эпоху в вышивке и ткачестве господствовали только эти мотивы. Новгородский шитый чин XV в. (ГТГ) обладает великолепным цветочным узором, легко сопоставляемым с цветочным орнаментом складня мастера Лукиана. Не менее интересна по рисунку своего орнамента пелена 1389 г. (ГИМ), где стилизованный растительный узор заставляет вспомнить мотивы, встречаемые как в металле, так и в иконописи.
Все это дает возможность предполагать, что русский орнамент XIII—XV вв. при всем его своеобразии по отношению тех или иных видов материала обладал определенным единством. Количество орнаментальных форм было достаточно велико. Наряду с четкими геометрическими элементами применялись и растительные узоры, многие из которых отличались незаурядными 15 См. Б. А. Рыбаков. Ремесло Древней Руси, стр. 650.
16 Там же, стр. 660.
— 392 —
декоративными качествами. Они-то и подготовили дальнейшее бурное развитие русского узорочья XVI—XVII вв.
Хотя новгородские раскопки дали значительный материал по бытовой керамике 17, однако она остается до сих пор не изученной как произведение прикладного искусства. Скупая геометрическая орнаментировка при разнообразии хорошо выполненных форм говорит о стремлении новгородских мастеров придать своим столь утилитарным изделиям определенную гармоничность соотношений и пластику форм. Нет сомнения, что в дальнейшем этот интересный вид произведений бытового назначения займет должное место в изучении русского декоративно-прикладного искусства.
В целом русское прикладное искусство достигает к середине XV в. заметного развития. Художественная обработка различных видов материалов (дерева, кости, металла, вышивки и т. д.) свидетельствует не только о возрождении утраченных после монголотатарского нашествия приемов, но и о несомненной одаренности мастеров18. Они подготовили почву для дальнейшего расцвета русского искусства, тесно связанного с образованием единого Русского государства.
17 МИ А, № 55, 1956, стр. 243 и с л.
18 См. подробнее в кн.: «Русское декоративное искусство от древнейшего периода до XVIII в.», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1962.
СПИСОК СОКРАЩЕНИИ
ААЭ
АГР
АИ
АСЭИ
АФЗиХ
АЮ
АЮБ
БАН ГАИМК
ГБЛ
ГВНиП
ГИМ
ГКЭ
ГМИИ
ГПБ
ГРМ
ГТГ
ДАИ
ДАН
ДДГ жмнп ИОРЯС ксиимк
— «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедицею Академии наук». СПб.,. 1836.
— «Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России», тт. I—II. Киев, 1860—1863.
— «Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею», тт. I—V. СПб., 1841—1842.
— «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной* Руси конца XIV — начала XVI вв.», тт. I—II. М., Изд-во^ АН СССР, 1952—1958.
— «Акты феодального землевладения и хозяйства XIV— XVI вв.», чч. I—III. М., Изд-во АН СССР, 1951—1961.
— «Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства», изд. Археографической комиссии. СПб., 1838.
— «Акты, относящиеся до юридического быта древней России», изд. Археографической комиссии, тт. I—III. СПб.,. 1857—1884.
— Библиотека Академии наук СССР в Ленинграде.
— Государственная академия истории материальной культуры.
— Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина в Москве.
— «Грамоты Великого Новгорода и Пскова». М.—Л., Изд-во* АН СССР, 1949.
— Государственный Исторический музей в Москве.
— Государственная коллегия экономии ЦГАДА.
— Государственный музей изобразительных искусств- им. А. С. Пушкина в Москве.
— Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.
— Государственный Русский музей в Ленинграде.
— Государственная Третьяковская галерея в Москве.
— «Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные- Археографическою комиссиею», тт. I—XII. СПб., 1846—1872.
— «Доклады Академии наук СССР», с 1922 г. (1922—1925 гг.— Российская Академия наук).
— «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв.», М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950.
— «Журнал Министерства Народного Просвещения». СПб.г издавался с 1834 по 1917 г. ежемесячно.
— «Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии наук». СПб., издавались с 1896 г.
— «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры Академии наук СССР». М., с 1939 г.
— 394 —
МИА
МИАР
НПЛ
ОЛДП
ОРЯС
ПЛ
ПСРЛ
САИ
ТОДРЛ
ЦГАДА
ЧОИДР
— «Материалы и исследования по археологии СССР». М.—Л.„ Изд-во АН СССР, с 1940 г.
— Музей искусства Андрея Рублева в Москве.
— «Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950.
— Общество любителей древней письменности.
— Отделение русского языка и словесности Российской Академии наук.
— «Псковские летописи», вып. J—II. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941—1955 (вып. I—VII, 1952—1961).
— «Полное собрание русских летописей, изд. Археографическою комиссиею». СПб., с 1846 г. (тт. I—XII, XV, XXIII,
XXV).
— «Свод археологических источников». М., Изд-во АН СССР, с 1962 г.
— «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук СССР». М.—Л., Изд-во АН СССР, с 1934 г.
— Центральный государственный архив древних актов в Москве
— «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете» (сб.). М.. издавался с 1845 до- 1917 г.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Абу Хамид, гренадский путешественник, ч. 1 — 322, 323
Авдий, библ., ч. 2 — 301
Авдотья Рязаночка, был., ч. 2—116
Авраам, Аврам, Оврам, новгородский мастер, ч. 1 — 282, 283, 284; 2 — 166, 384, 392
Авраам, Авраамий Ростовский, святой, ч. 2— 145, 342, 344, 345
Авраамий Смоленский, святой, ч. 2— 70
Авраамий Суздальский, святой, ч. 2— 198
Авраамка, летописец, ч. 1 —407, 411, 415; 2 — 84, 184
Агафонов С. А., ч. 1 — 450
Агафья, новгородская жительница, ч. 2 — 167
Агрепена, великая княгиня рязанская, был., ч. 2—120
Агрефений, архимандрит смоленский, ч. 2—197
Адам, библ., ч. 2 — 62, 73, 195, 279, 305
Адам, московский суконник, ч. 1 — 399; ч. 2—140
Адрианова-Перетц В. П., ч. 2 — 136, 152
Азак, монголо-татарский воевода, ч. 1 — 334
Азбелев С. Н., ч. 2 — 257
Азвяк, был., ч. 2 — 118
Айзенигтадт Л. М., ч. 1 — 6
Айналов Д. В., ч. 1 — 307; 2—102,
271, 290, 360
Акакий, святой, ч. 2 — 287, 290 Акиндин, монах тверской, ч. 2 — 72 Аксинья, святая, ч. 2— 159
Алекса Петров, художник, ч. 2 — 257 Александр, князь владимирский, ч. 1 — 345
Александр, князь смоленский, ч. 1 — 462
Александр, князь суздальский, ч. 2 —
133
Александр, князь ярославский, ч. 1 — 398
Александр, митрополит, ч. 2 — 257, 258, 259, 260
Александр, «содовар» Троице-Сергие- ва монастыря, ч. 1 — 143
Александр Васильевич, князь псковский, ч. 1 — 308
Александр Константинович, князь углицкий, ч. 1 — 381
Александр Македонский, древнегреческий полководец, ч. 1 — 357
Александр Михайлович, князь тверской, ч. 1 — 271, 308; 2 — 133, 134
134
Александр Свирский, святой, ч. 2 — 162
Александр Чарторыйский, князь литовский, ч. 1 — 373
Александр Ярославович Невский, князь, ч. 1 — 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 374, 397, 425;
2 — 65, 66, 70, 89, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 165
Алексеев Ю. Г., ч. 1 — 98
Алексей, архиепископ новгородский, ч. 1 — 283
Алексей Вологжанин, мастер, ч. 2 — 208, 210
Алексей Михайлович, царь, ч. 1 —
275
* Список сокращений, принятых в указателе: библ. — библейский, был. — былинный, лит. — литературный.
Имена и географические названия, встречающиеся в подписях к рисункам на вклейках, в указатели не входят.
— 396 —
Алексий, митрополит московский, святой, ч. 1 —378; 2 — 51, 61, 62, 63, 65, 100, 181, 240, 244, 251, 294, 367, 368
Алеппский Павел, путешественник, ч. 1 —207; 2 — 241
Алеша Попович, был., ч. 2 — 140
Алпатов М. В., ч. 2 — 290, 294, 316, 328, 340, 347, 349, 370
Альбрат, немецкий путешественник, ч. 2 — 46
Альтшулер Б. Л., ч. 2 — 241
Амартол Георгий, византийский историк, ч. 1 — 289; 2 — 271
Амвросий, мастер Троице-Сергиева монастыря, ч. 1 — 204; 2 — 388, 389
Амвросий, писатель, ч. 1 — 145, 146;
2 — 55
Анания, монах, ч. 2 — 274
Анастасия, святая, ч. 2 — 307, 309, 392
Андреаш, лит., ч. 2— 152
Андрей, галицкий военачальник, ч. 1 — 355, 356
Андрей, епископ тверской, ч. 2 — 72 Андрей Васильевич Большой, князь звенигородский, ч. 1 — 55
Андрей (Ондрей) Дмитриевич, князь можайский и белозерский, ч. 1 — 294, 313; 2 — 251
Андрей Иванович, князь серпуховской, ч. 1 — 288, 294; 2 — 92
Андрей Ольгердович, князь полоцкий, ч. 1 — 382, 388
Андрей Рублев, художник, ч. 1—31,
32, 33, 65; 2 — 71, 144, 150, 156, 181, 192, 195, 197, 251, 266, 305, 321,
326, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 346, 349, 356, 351, 352,
358, 360, 364, 365, 366, 375
Андрей Федорович, князь стародуб- ский, ч. 1—381
Андрей Федорович, князь ростовский, ч. 1—381
Андрей Юродивый, святой, ч. 1 — 136
Андрей Юрьевич Боголюбский, великий князь владимирский, ч. 1 — 17; 2—123, 313
Андрей Ярославович, великий князь владимирский, ч. 1 — 360
Аникин В. П., ч. 2—112
Анисимов А. И., ч. 1 — 283, 289, 296;
2 — 268, 289, 290, 294, 297, 301, 313, 338
Анна Васильевна, жена византийского императора Иоанна VI, ч. 1 — 288
Антоний Сийский, святой, ч. 2—170 Антоний, архиерей, ч. 2—189 Антонова В. И., ч. 1 —292, 401; 2— 261, 264, 271, 277, 279, 309, 323, 326, 329, 337, 349, 354, 360, 363, 365, 370, 376
Анфал, двинский боярин, ч. 1 — 308, 458
Анцис Ю. А., ч. 1 — 323
Апраксин П. М., наместник волости Обнора Вологодского уезда, ч. 2 — 39
Арапша, монголо-татарский воевода, ч. 1 — 386
Аристов Н. Я., ч. 1 — 57, 126
Аристотель, древнегреческий философ, ч. 1—29; 2— 192, 195, 196, 197
Арманович, немец, ч. 2 — 46
Артемий, боярин смоленский, ч. 2 — 46
Арциховский А. В., ч. 1 —6, 39, 50, 57, 59, 60, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 131, 141, 149, 150, 206, 220, 226, 227, 228, 230, 245, 277, 278, 280,
281, 282, 292, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 307, 310, 315,
316, 327, 329, 330, 331, 364, 389,
390, 394, 392, 393, 397, 400, 401,
406, 408, 411, 415, 430, 431; 2 — 15, 45, 46, 64, 109, 162, 163, 164, 165, 166, 175, 383
Афанасий, монах, ч. 1 —79
Афанасий Высоцкий, писатель, ч. 2— 345
Афанасий Никитин, тверской купец, путешественник, ч. 1 — 107; 2 — 77, 107, 148, 152, 153, 197, 200
Ахилл, мифологический герой Древней Греции, ч. 1 —357, 366
Ахмат, Ахмед, хан Большой Орды, ч. 1 — 448
Баженов И. П., ч. 1 — 451
Базилевич К. В., ч. 1 — 19
Балашов Д. М., ч. 2—116, 117
Балдин В. И., ч. 2 — 249, 250
Баранович М., ч. 1 — 448
Барбаро Иосафат, венецианский путешественник, ч. 1 — 302
Бартенев С. П., ч. 1 — 244, 288
Батый, хан Золотой Орды, ч. 1 — 8, 18, 35, 36, 37, 39, 75, 97, 237, 348, 349, 357, 358, 386, 388; 2 — 107, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 161
Бахмет, был., ч. 2—117
397
Башлов Ф. см. Федоска Башлов Башлов И. см. Исак Башлов
Башлов М. см. Матфейка Башлов Баязет, турецкий султан, ч. 2 — 201 Бевзенко С. П., ч. 2 — 92
Бегич, монголо-татарский военачальник, ч. 1 — 303, 382
Бегунов Ю. К., ч. 2— 123, 124, 357 Бежкович А. С., ч. 1 — 63
Безбородов М. А., ч. 1 — 214
Белинский В. Г., ч. 1 — 11; 2—133 Бережков М. Н., ч. 1 — 292
Бестужев-Рюмин К. И., ч. 1—9, 12 Бетин Л. В., ч. 2 — 281
Биргер, ’ шведский военачальник, ч. 1 — 359, 369
Бирель, немец, ч. 2 — 46
Бломквист Е. Э., ч. 1 — 232, 237, 255, 267
Богословский И. Н., ч. 2 — 305
Богусевич В. А., ч. 1 — 431; 2 — 213, 281, 298
Боккаччо, итальянский поэт и гуманист, ч. 2 — 73
Болеслав I, польский король, ч. 1 — 356
Болотников И. И., предводитель крестьянской войны, ч. 1 — 124
Боран, новгородец, ч. 2 — 167
Борин В., ч. 2 — 367
Борис, князь нижегородский, ч. 2 — 244
Борис, новгородец, ч. 1 — 280; 2 — 109, 167, 168
Борис, посадник псковский, ч. 1 — 420
Борис, тверской воевода, ч. 1—414
Борис Александрович, князь тверской, ч. 1 — 124, 126, 204, 300, 309, 311, 338, 346, 391, 407, 414, 434,
436, 437, 462; 2— 147, 253, 388, 390
Борис Владимирович, древнерусский князь, святой, ч. 1 — 246, 247, 307, 316, 401, 408, 409; 2 — 66, 108, 125, 235, 268
Борис Ворков, служилый человек князя московского, ч. 2 — 25, 26
Борис Данилович, князь костромской, ч. 1 — 376
Борис Захарович, лит., ч. 2 — 107
Борис Константинович, князь Городецкий и нижегородский, ч. 1 — 378, 381, 450
Борис Сильвестрович, новгородец, ч. 1 — 292, 294
Борис Федорович Годунов, царь, ч. 2 — 342
Борисовичи, братья, тверичи, ч. 2 — 118
Борковский В. И., ч. 1 — 39, 50, 59v 280, 281, 282, 292, 295, 299, 300,
302, 303, 307, 330, 408; 2 — 46, 83, 163
Бочаров Г. Н., ч. 2 — 388
Боян, древнерусский поэт, ч. 2—137'
Бранденбург Н. Е., ч. 1 — 177 Брокгауз, ч. 1 — 106
Брунов Н. И., ч. 2 — 249, 250
Брюсов В. Г., ч. 2 — 251
Будовниц И. У., ч. 1—21; 2 — 60
Булат, Булат-Темир, монголо-татарский военачальник, ч. 1 —376, 412'
Булаховский Л. А., ч. 2 — 87
Бутков П. Г., ч. 1 — 365
Бяконт С. Ф. см. Семен Федорович- Бяконт
В агнер Г. К., ч. 2 — 243
Вакуров В. Н., ч. 1 —39, 115, 119, 136. Варвара, псковская жительница, ч. 2 — 61, 62
Варендоир, немец, ч. 2—142
Ваолаам Хутынский, святой, ч. 2 — 142
Варвара, святая, ч. 2 — 277, 279, 280, 369
Варлаам, византийский писатель, ч. 2 — 73, 74
Варсонофий, епископ тверской, ч. 2— 62
Варсонофий, полочанин, путешественник, ч. 2 — 197
Вартберг Герман, ч. 1 — 131
Варфоломей, Сергий, святой, ч. 2 — 142
Василий, московский гость, ч. 2— 197 Василий, святой, ч. 2 — 229
Василий Буслаев, был., ч. 2—163
Василий Васильевич, князь ярославский, ч. 1 — 381
Василий II Васильевич Темный, князь московский, ч. 1 — 37, 55, 60, 76, 78, 293, 294, 303, 309, 311, 313, 314, 336, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 396, 407, 414, 443, 449, 450,. 452, 459; 2 — 9, 16, 25, 39, 62, 147, 184, 190, 364
Ирликий,—церковный гшса- тель, ч. 2 — 44, 129, 279, 282, 326
Василий Данилович, боярин новгородский, ч. 2 — 220, 286
Василий Дмитриевич, князь суздальско-нижегородский, ч. 1 — 463
Василий I Дмитриевич, великий князь московский, ч. 1 — 288, 293, 294, 305, 309, 314, 335, 336, 337, 345, 374, 394; 2 — 52, 54, 56, 97, 338, 340
— 398 —
Василий Есифович, новгородский тысяцкий, ч. 1 — 337
Василий III Иванович, великий князь московский, ч. 1 — 51, 343; 2 — 39, 150
Василий Иванович Патрикеев см. Патрикеев В. И.
Василий Игнатьевич, был., ч. 2—115 Василий (Григорий) Калика, архиепископ новгородский, ч. 1—313, 430; 2 — 58, 61, 73, 74, 146, 181, 194, 197, 198, 199, 294
Василий Константинович, князь ростовский, ч. 1 — 381
Василий Юрьевич (Косой), князь звенигородский, ч. 1 — 293, 314, 407, 452
Василий Михайлович, князь кашинский, ч. 1 —51, 289, 343, 381
Василий Федорович, новгородец, ч. 1 — 295
Василиса, княгиня тверская, ч. 1 — 304
Василь Михалев, житель д. Замо- стье, ч. 1 — 23, 44
Василько, князь галицкий, ч. 1 —
354, 355, 356; 2 — 90
Васко де Гама см. Гама Васко де Вахрамеев И. А., ч. 1 — 141 Введенский А. А., ч. 1 — 138, 141, 146 Векслер А. Г., ч. 1 — 68, 69
Велес («скотий бог»), ч. 2 — 311 Вельяминов И. В., московский боя¬
рин, ч. 1 — 191; 2 — 24, 33 Венедиктов А. В., ч. 2— 19, 23, 26 Вернадский Г. В., ч. 1—8, 14, 15 Вершинский А. Н., ч. 1 — 424 Веселовский Н. И., ч. 1 — 394 Веселовский С. Б., ч. 1 —22, 144, 145,
146, 181, 232, 233, 310; 2 — 24, 53 Вздорнов Г. И., ч. 2 — 254, 331 Веспасиан, римский император, ч. 1 —
366
Витовт, князь литовский, ч. 1 — 367, 373, 424, 460, 461, 462, 463; 2— 184, 203
Вихров В. Е., ч. 1 — 179
Владимир, сын Дионисия Глушицко-
го, ч. 2 —366, 371
Владимир Андреевич Храбрый, князь серпуховской и боровский, ч. 1 — 271, 315, 380, 381, 384, 387, 439,
447; 2 — 24, 60, 93, 95, 136, 137, 138, 139, 240
Владимир Василькович, князь волынский, ч. 1 — 325
Владимир Всеволодович Мономах, великий князь киевский, ч. 1 — 293, 364; 2 — 37, 91, 97, 104, 105, 107, 113, 137, 386
Владимир Глебович, князь, ч. 2 — 174
Владимир Мстиславич, князь волынский, ч. 2 — 174
Владимир Ольгердович, князь киевский, ч. 1 — 303; 2 — 203, 204
Владимир Святополкович, князь киевский
Владимир Святославович, «Красное Солнышко», великий князь киевский, ч. 1 —318, 320; 2—10, 11, 113, 158, 161, 162
Владимирский-Буданов М. Ф., ч. 1 — 8, 10, 12; 2 — 26, 27, 34
Власий, святой, ч. 2 — 256, 257, 275, 307, 309, 311, 317, 319
Власий Степанович, житель Двинской земли, ч. 1 — 304
Водовозов Н. В., ч. 2— 122, 123, 152 Волоцкий Й. см. Иосиф Волоцкий Волынский Д. М. см. Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский
Ворков Б. см. Борис Ворков
Воронин Н. Н., ч. 1 — 65, 119, 135, 239. 244, 416, 421, 435, 436, 439, 442, 459; 2 — 206, 207, 208, 227, 235, 236, 240, 243, 244, 245, 251, 253
Воскресенский Г. А., ч. 2—100
Всеволод (Гавриил) Мстиславич, князь новгородский и псковский, ч. 2— 12, 37, 63, 64
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, великий князь владимирский, ч. 1 — 10, 17, 345; 2— 104, 105, 138
Вышата, военачальник, ч. 1 — 356
Гавриил, архангел, библ., ч. 2 — 265,
266, 290, 320, 321, 326, 338, 349 Таврило Олексич, боярин новгород¬
ский, ч. 1 — 359
Гагарин Иван Михайлович, князь, ч. 1—234
Гайдук А. А., ч. 1 — 158
Гала, святая, ч. 2 — 283
Гама Васко де, португальский путешественник, ч. 2— 153, 200
Гацисский А. С., ч. 1 — 22
Гейденштейн Рейнгольд, польский историк, ч. 1 — 454
Гейза II, польский король, ч. 2—174 Геннадий, архиепископ новгородский,
ч. 2 — 100, 101, 107
Генрих Латышский, немецкий хронист, ч. 1 — 330
Геньци, немец, ч. 2 — 46
Георгиев В., ч. 2 — 83
Георгиевский В. Т., ч. 2 — 365, 366,
372
— 399 —
Георгиевский Г., ч. 2 — 340, 347
Георгий, новгородский писец, ч. 1 — 283
Георгий, новгородец, ч. 2 — 256 Георгий Писидийский, византийский писатель, ч. 2 — 192, 194, 195
Георгий Победоносец, святой, ч. 1 — 106, 406, 413; 2 — 66, 159, 256, 259, 302, 307, 309, 311, 314, 257, 315,
329, 330, 437
Герасим, епископ коломенский, ч. 2— 141
Герасимов Д. см. Дмитрий Герасимов Герберштейн Сигизмунд, австрийский посол, ч. 1 —43, 91, 101, 102, 103, 104, 108, 113, 115, 119, 120, 123, 124, 138, 150, 248, 275, 276 Герман Вартберг см. Вартберг Г. Геронтий, митрополит московский, ч. 1 — 143
Герцен А. И., ч. 1 — 11
Гильбер де Лануа см. Лануа Тильбер де
Гильфердинг А. Ф., ч. 2—114, 117 Глаголь С. см. Голоушев С. С. Гладенко Т. В., ч. 2 — 213 Глащинская Л. М., ч. 2 — 311
Глеб Владимирович, древнерусский князь, святой, ч. 1 — 246, 247, 307, 316, 401, 408, 409; 2 — 65, 66, 108, 125, 235, 270, 274, 302, 304, 317
Глеб Святославович, князь брянский, ч. 2 — 64
Гильом (Вильгельм) де Рубрук см. Рубрук Гильом де
Гневушев А. М., ч. 1 — 98 Гнеденко Б. В., ч. 2 — 178 Годовиков И., ч. 1 — 420 Годунов Борис Федорович см.
Б. Ф. Годунов
Голейзовский Н. К., ч. 2 — 365 Головщиков К. Д., ч. 2 — 267 Голоушев С. С., ч. 1 —314
Голубева Л. А., ч. 1 —40, 108, 114, 115, 256, 447
Голубинский Е. Е., ч. 1 — 206; 2 — 63, 320, 340
Горбачевский Н., ч. 1 — 136 Гордеев Д., ч. 2 — 289
Гордеев Н., ч. 2 — 352
Городенские, удельные князья в Тверском княжестве, ч. 1—339
Городцов М. В., ч. 1 — 259
Горский А. В., ч. 1 — 43
Г орский А. Д., ч. 1 — 46, 48, 50, 58, 59, 65, 72, 73, 75, 83, 84, 85, 86, 94, 98, 112, 115, 118, 297; 2 —4, 13
Горький А. М., ч. 2 — 263
Грабарь И. 3., ч. 2 — 240, 266, 286, 289, 294, 326, 331, 333, 337, 338, 342
Греков Б. Д., ч. 1 — 16, 30, 71, 234; 2—13, 19, 25, 112
Грекова В. Б., ч. 2 — 296
Григорей, новгородец, ч. 1—281
Григорий, епископ ростовский, ч. 2 — 251
Григорий, крестьянин, ч. 1 —50
Григорий, новгородец, ч. 2 — 313
Григорий, новгородский писец, ч. 2 — 176
Григорий Богданович, посадник новгородский, ч. 1 — 337
Григорий Богослов, церковный писатель, ч. 2 — 279, 282
Григорий Калика см. Василий Калика
Григорий Кириллович, посадник новгородский, ч. 1 — 306
Григорий Тучин, боярин новгородский, ч. 1 — 299
Григорь, наместник, ч. 2 — 46
Гришка, новгородец, ч. 1—280
Громов А., ч. 1 — 43
Громов Г. Г., ч. 1 — 58, 257
Гудзий Н. К., ч. 1—45; 2—121, 123, 124, 131, 132, 140, 144, 150
Гуревич Ф. Г., ч. 1 — 65
Гусев П. Л., ч. 2 — 313
Г у ссаковский Л. П., ч. 1 — 257, 264 Гуттен-Чапский Э. К., ч. 1 — 344
Давид, князь литовский, ч. 1 — 368 Давид Л. А., ч. 2 — 252
Давид Ростиславич, князь смоленский, ч. 2 — 175
Давид Юрьевич, князь муромский, ч. 2— 148, 149
Давыд Федорович, князь ярославский, ч. 2 — 66
Давыдко Михалев, житель д. Замо- стье, ч. 1 — 234
Даль В. И., ч. 1 —44, 71, 80, 105, 107,
126, 136, 225, 232, 268, 298, 299 Далмат, епископ тверской, ч. 2 — 62, 65
Даниил, игумен, ч. 2— 182, 197, 198, 199
Даниил, боярин новгородский, ч. 1 — 310
Даниил, князь пронский, ч. 1 — 382 Даниил Заточник, монах, писатель,
ч. 1 — 106, 133, 157, 158, 160; 2 —
123, 130, 131, 132, 133, 160
Даниил Александрович, князь московский, ч. 1 — 448
Даниил Романович, князь галицкий, ч. 1 — 124, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356; 2— 107, 123,379
400 —
Даниил Федорович, боярин московский, ч. 2 — 63
Даниил Черный, художник, ч. 2 — 71, 330, 333, 334, 337, 341, 349, 364,
367, 375
Данила, посадник псковский, ч. 1 — 406
Данило, боярин смоленский, ч. 2 — 46
Данило Ловчанин, был., ч. 2— 115 Данилова И. Е., ч. 2 — 367, 374 Данилова Л. В., ч. 1 —40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 56, 58, 81, 99, 119, 126, 151, 152
Даркевич В. И., ч. 2 — 388
Дашко, князь острожский, ч. 1 — 463 Двойченко-Маркова Е. М., ч. 2— 154 Демина Н. А., ч. 2 — 346, 352
Демьян, Дамиан, святой, ч. 2 — 231, 235
Джанибек, монголо-татарский военачальник, ч. 1 — 371
Дидман, магистр Ливонского ордена, ч. 1 — 364
Дионисий, епископ суздальско-нижегородский, ч. 1 — 398, 445; 2 — 75, 204
Дионисий Глушицкий, художник, ч. 1—33; 2— 181, 360, 365, 366,
368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377 Диомид, псковский писец, ч. 2—173 Дмитриев Л. А., ч. 1 —36, 271; 2 —
141
Дмитриев Ю. Н., ч. 2 — 260, 281, 297, 307, 360
Дмитрий Александрович, великий князь владимирский и переяславский, ч. 1 — 368
Дмитрий Герасимов, дипломат и путешественник, ч. 2— 146
Дмитрий Иванович, князь московский, ч. 2 — 109
Дмитрий Иванович, князь ростовский, ч. 1 — 437; 2 — 101
Дмитрий Иванович Донской, великий князь московский, ч. 1 — 36, 87, 97, 244, 271, 275, 288, 289, 293, 294,295, 305,315, 320, 326, 327, 335, 345, 336,
369, 372, 375,376, 378, 379, 380,382, 383, 384, 386, 387,388,391, 393, 402, 407, 439, 449, 463; 2 — 24, 38, 63, 60, 61, 65, 93, 95, 97, 135, 136, 137, 138, 139, 183, 194, 239, 240, 241,242, 247, 331, 340
Дмитрий Константинович, великий князь суздальско-нижегородский, ч. 1 — 293, 377, 378, 383; 2 — 70
Дмитрий Михайлович Боброк-Волын- ский, воевода московского великого князя, ч. 1 — 384, 386, 387, 388; 2— 139, 173,204
Дмитрий Михайлович Ноготь, князь, ч. 1—381
Дмитрий Солунский, святой, ч. 2 — 66, 220, 235, 279, 300, 309, 310, 315, 317, 337, 349, 350, 370, 376, 377, 383, 388
Дмитрий Юрьевич (Шемяка), князь звенигородский и галицкий, ч. 1 — 339, 340, 407, 414, 449, 451, 452,459, 463; 2 — 62
Днепровский Д. П., ч. 1 — 450
Добролюбов Н. А., ч. 2 — 113
Добрыня, был., ч. 2—140, 161
Довженок ~В. И., ч. 1 — 62, 65, 70, 78, 84, 95
Довмонт (Тимофей), князь литовский, затем псковский, ч. 1 — 346, 368, 373, 391, 392
Домир, новгородец, ч. 2—164
Домитр, новгородец, ч. 1 — 330 Долгов С. О., ч. 2 — 263
Драги А. А., ч. 1—428
Дракула Цепеш, был., ч. 2— 148, 153, 154, 155, 156, 157
Дрютские, князья литовские, ч. 1 — 396
Дювернуа Н. Л., ч. 2 — 44
Дюдень, монголо-татарский военачальник, ч. 2 — 67
Дюдко, дьякон тверской, ч. 2—118, 134
Дубынин А. Ф., ч. 1 —44, 62, 89, 117, 141, 239
Дурново Н. Н., ч. 2 — 87
Ева, библ., ч. 2 — 73, 279, 305
Евгеньева А. П., ч. 2 — 124
Евдокия, княгиня московская, ч. 1 — 378, 383; 2 — 240, 242
Евдокия, новгородская жительница, ч. 1 — 289
Евпатий Коловрат, был., ч. 2—121, 122
Евпраксия, был., ч. 2— 120
Евстафий, святой, ч. 2 — 317
Евстафий Шепент, книгописец, ч. 2 — 170
Евфимий, библ., ч. 2 — 142
Евфимий, архиепископ новгородский, ч. 1 — 230, 243, 272, 273, 306, 425; 2 — 43, 144, 223
Евфимий Вислень, епископ тверской, ч. 2 — 75, 204
Егорий, святой см. Георгий
Едигей, монголо-татарский хан, ч. 1— 412, 460; 2 — 66
Екатерина II, императрица, ч. 2 — 337
— 401
Елена Ивановна, великая княгиня московская, ч. 1 — 130
Елена Васильевна, княгиня Верейская, ч. 1 — 300
Епифаний Боголюбский, монах, ч. 1 — 303
Епифаний Премудрый, писатель, ч. 1 — 32, 37, 41, 89; 2—141, 142, 144, 150, 244, 286, 328, 345, 346,347
Еремей, зодчий, ч. 2 — 228, 229 Ерёмин И. П., ч. 1 —275; 2— 146 Еремин Н., староста, ч. 1—91 Еремка Остахнов, житель д. Закра- жье, ч. 1 — 234
Ермолины, купцы, ч. 2 — 251
Ермолка, купец, ч. 2 — 251 Ериклибердей, монголо-татарский военачальник, ч. 1 —412
Есип Пикин, служилый человек бело- зерского князя, ч. 1—56; 2 — 21
Есип Китович, велиянин, ч. 1 — 373 Есиф Давыдов, новгородец, ч. 2 — 167, 168
Еска, посадник псковский, ч. 1—412 Ефим, новгородец, ч. 1 — 295
Ефименко А. Я., ч. 1 — 237
Ефрем, святой, ч. 2 — 287
Ефрем Сирин, писатель, ч. 2 — 70, 98 Ефрон, ч. 1 — 106
Ефросиния, княгиня муромская, ч. 2— 148
Жабины, бояре, ч. 1—261; 2 — 217
Жегалова С. К., ч. 1—63
Желиговский В. А., ч. 1 — 181
Жеребцовы, бояре московские, ч. 2— 63
Жидков Г. В., ч. 2 — 274, 284, 303
Жирмунский В. М., ч. 2 — 281
■Забелин И. Е., ч. 1 —270, 271, 274;
2 — 209
Забелло С., ч. 2 — 207
Загоскин Н. П., ч. 1—312, 313
Зарубин Н. Н., ч. 1 — 106. 158
Засурцев П. И., ч. 1 — 257, 260, 262, 266, 267, 269
Захар, «содовар», ч. 1 — 142
Захар, митрополичий писец, ч. 2 — 71
Захарий, библ., ч. 2 — 301
Зеленин Д. К., ч. 1 — 63
Земзарис Я. К., ч. Г — 332
Зимин А. А., ч. 1 —44, 48; 2—12, 365
Зиновий Михайлович, посадник псковский, ч. 2 — 229
Зонова О. В., ч. 2 — 367
Зосима, монах Троице-Сергиева монастыря, основатель Соловецкого монастыря, ч. 1 — 141; 2—162,
194, 197
Зубцов Ф. И., ч. 1 — 436
Зухенвирт Петр, немецкий поэт, ч. 1—419
Иван, был., ч. 2 — 120
Иван, епископ псковский, ч. 1—412
Иван, игумен, ч. 2 — 236
Иван, князь копорский, ч. 1 — 412
Иван, посадник псковский, ч. 1 — 390
Иван, святой, ч. 1 — 247
Иван Александрович, князь псковский, ч. 1 — 303
Иван Андреевич, князь можайский, ч. 1 — 396
Иван Арип, новгородский ювелир, ч. 2—175, 176
Иван Баба, князь литовский, ч. 1 — 396
Иван Варфоломеевич, боярин новгородский, ч. 1 — 393
Иван III Васильевич, великий князь московский, ч. 1 —51, 55, 103, 106, 107, 123, 124, 130, 299, 306, 309, 342, 343, 345, 347, 442; 2 — 21, 29, 83, 97, 108, 185, 223, 375, 389
Иван IV Васильевич Грозный, парь, ч. 1 — 146, 345, 378; 2 — 237, 388
Иван Васильевич, князь рязанский, ч. 1 — 309
Иван Васильевич, князь смоленский, ч. 1—381
Иван Васильевич Вельяминов см. Вельяминов И. В.
Иван Данилович Калита, великий князь московский, ч. 1 — 9, 32, 243,
293, 294, 305, 306, 375, 439, 447;
2 — 25, 26, 66, 72, 78, 97, 133, 135, 236, 237, 240, 274, 275
Иван Дмитриевич, князь, ч. 1—294
Иван II Иванович (Красный), великий князь московский, ч. 1 — 288,
294, 295, 305, 306, 393, 402; 2 — 56, 92
Иван Иванович Патрикеев см. Патрикеев И. И.
Иван Константинович, князь тарусский, ч. 1 — 381
Иван Михайлович, новгородский житель, ч. 1 — 289
Иван Михайлович, великий князь тверской, ч. 1 —338, 346, 412, 436; 2 — 245
— 402 —
Иван Михайлович Гагарин см. Гагарин И. М.
Иван Овинов, посадник новгородский, ч. 1 — 299
Иван Офоносов, посадник, ч. 1—306
Иван Федоров, первопечатник, ч. 2— 163
Иван Федорович, князь рязанский, ч. 1 — 346
Иван Фомин, мастер, ч. 1 — 203, 204; 2 — 388
Иван Чеботов, московский житель, ч. 1 — 247
Иванов В. В., ч. 2 — 207
Ивановский Л. К., ч. 1 — 393 Иванушка-дурачок, лит., ч. 2—161 Ивашка Соха или Положи-Соха, крестьянин, ч. 1 — 61
Ивашко, житель д. Закражье, ч. 1 — 234
Ивашко, житель д. Замостье, ч. 1 — 234
Ивашко Гридин, житель д. Крюко- вичи, ч. 1 — 234
Игнат Молыгин, ушкуйник, ч. 1 — 311
Игнат Смолянин, писатель, ч. 2 — 183, 197, 198, 199, 200
Игнатьевы, бояре московские, ч. 2 — 63
Игорь, великий князь киевский, ч. 1— 28, 355, 374; 2— 115, 124, 136, 137, 138, 139, 157, 173, 174, 175
Идолище Поганое, был., ч. 2—158, 161, 114, 115
Иев Оберучев, землевладелец, ч. 1 — 54, 55
Измайловский Д., ч. 1 — 448
Изюмова С. А., ч. 1 — 199, 201, 285, 286
Изяслав Мстиславович, великий князь киевский, ч. 2 — 174
Иисус Христос, библ., ч. 2 — 53, 73, 76, 176, 259, 274, 277, 281, 286, 298, 303, 305, 306, 307,319, 320, 321,323, 326, 327, 332, 337, 338, 345, 346, 347, 363, 371, 374, 381, 386
Иларион, митрополит киевский, ч. 2— 129
Илия, епископ новгородский, ч. 2 — 11
Иловайский Д. И., ч. 1 — 12
Ильин А. А., ч. 1 — 344
Ильин М. А., ч. 1 — 448; 2 — 338, 378, 351
Илья, святой, ч. 2 — 223, 305, 307, 309, 312, 317
Илья Муромец, был., ч. 2—114, 115 Ингварь Ингоревич, князь рязанский, ч. 2— 121
Индикоплов К. см. Козьма Индикоп- лов
Иоаким, святой, ч. 2 — 251
Иоанн, архиепископ новгородский и псковский, ч. 2— 142, 146, 147
Иоанн Богослов, библ., евангелист, ч. 2— 129, 220, 297
Иоанн, евангелист, ч. 2 — 267, 333, 336
Иоанн, мастер, ч. 2 — 228, 236
Иоанн, митрополит, ч. 2— 11
Иоанн, святой, ч. 2 — 256, 371
Иоанн, экзарх Болгарский, писатель, ч. 2 — 78, 192
Иоанн Дамаскин, церковный писатель, ч. 2 — 192, 372
Иоанн Златоуст^^ерковный^ писатель, патриарх константинопольский, ч. 2 — 279, 282, 326
Иоанн Креститель, Предтеча, библ., ч. 2 — 223, 305, 317, 319, 320, 321, 326, 351, 352, 360, 361, 363
Иоанн Лествннник, святой, ч. 2 — 237, 238, 257, 287
Иоанн Малала, византийский историк, ч. 1 — 350
Иоанн Милостивый, святой, ч. 2 — 301
Иоанн Новгородский, лит., ч. 2 — 145, 146
Иоанн IV Палеолог, византийский император, ч. 1 — 288
Ион, библ., ч. 2 — 301
Иосиф, библ., ч. 2 — 125
Иосиф Аримафейский, библ., ч. 2 — 363
Иосиф Волоцкий, основатель Успенского монастыря, церковный писатель, ч. 2 — 375
Иосафат Барбаро см. Барбаро И. Ипатий Гангрский, библ., ч. 2 — 358 Ипполит, писатель, ч. 2 — 78 Исаев М. М., ч. 2 — 34
Исайя, византийский художник, ч. 2 — 294
Исак Башлов, ч. 2 — 42
Исаковы-Борецкие, князья, ч. 1 — 253, 272
Исидор, митрополит московский, ч. 2 — 56, 57, 68, 198
Истрин В. М., ч. 2 — 99, 123
Иуда, библ., ч. 2 — 347, 349
Казакова И. А., ч. 1 —43, 44, 45, 113,
149; 2 — 75, 126, 345, 375
Казимир IV, великий князь литовский, король польский, ч. 1—391; 2 — 40, 92
403
Калачев Н. В.,ч.2 — 11
Калинский И., ч. 2 — 257
Калин, царь, был., ч. 2—114, 115 Кампензе Альберто, итальянский
писатель, ч. 1 — 150
Кантакузин Фома см. Фома Канта- кузин
Караев Н. Г., ч. 1 — 361
Карамзин Н. М., ч. 1—8, 10, 11, 12, 412
Карамышев А. В., боярин, наместник
Плеса, ч. 2 — 39
Каргалов В. В., ч. 1 — 13, 35, 36_ Каргер М. К., ч. 2 — 213, 285, 297,296 Каринский М. И., ч. 1 — 83, 87
Карп, новгородский еретик, ч. 2 — 75 Кашинские, удельные князья в Твер¬
ском княжестве, ч. 1 — 339 Кентавр (Китоврас), был., ч. 2—182 Кидань, монголо-татарский воена¬
чальник, ч. 1 — 347
Киприан, митрополит московский, ч. 1 —45, 84, 87, 89, 105, 154, 280, 281, 289, 304; 2— 12, 29, 52, 54, 65, 70, 141, 204
Кирик, церковный писатель, ч. 2 — 11, 177
Кирилл, игумен тверской, ч. 2 — 286 Кирилл, митрополит киевский, ч. 1 —
364, 365; 2—11, 126
Кирилл, псковский мастер, ч. 2 — 228 Кирилл II, епископ новгородский, ч. 2 — 235
Кирилл (Косма) Белозерский, основатель монастыря, святой, ч. 1 —
57, 313, 314; 2— 195, 360, 370 Кирпичников А. Н., ч. 1 — 392, 393,
427
Курша Данилов, ч. 2 — 124, 169 Кирьянов А. В., ч. 1 —40, 41, 42, 43,
46, 47, 50, 56, 63, 67, 68, 69, 70, 75,
88, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 108, 112, 297, 299, 450
Кирьянов И. А., ч. 1 — 450
Киселев С. В., ч. 1 — 393
Кислов М. Н., ч. 1 — 249 Клибанов А. И., ч. 2 — 77, 345 Климент, новгородец, ч. 1—81, 106,
411; 2 — 88, 166
Климент, святой, ч. 2— 172, 220, 360 Ключевский В. О., ч. 1—9, 10; 2 —
142, 170, 340
Ковтун Л. С., ч. 2 — 103
Козел, новгородец, ч. 1 — 330
Козьма (Косьма) Индикоплов, византийский купец, путешественник, ч. 2 — 102, 193, 194, 195, 196
Козьма, святой, ч. 2 — 231, 235
Колумб Христофор, путешественник, ч. 2 —73
Колок, новгородец, ч. 1 — 330
Колудар Ирежский, великокняжеский дьяк, ч. 2 — 35
Колчин Б. А., ч. 1 — 85, 89, 92, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 117, 118, 157, 158, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 179, 185,186, 211, 213,226, 242, 258, 261,264,266,286, 321, 402; 2 — 4, 380
Комаров В. Л., ч. 1 — 299
Комарович В. Л., ч. 2 — 120
Кондаков Н. П., ч. 1—77; 2 — 329 Коноплев Н., ч. 2 — 360
Конрад Онаш, ч. 2 — 345
Константин Великий, римский император, ч. 2— 146, 151, 152
Константин Федорович, князь ярославский, ч. 2 — 66, 105
Контарини Амброджо (Амвросий), венецианский дипломат и писатель, ч. 1 — 102, 244, 302
Кончак, половецкий хан, ч. 2—161 Конюхова Т. А., ч. 1 — 6
Коня, художник, ч. 2 — 366, 367 Корецкий В. И., ч. 1 — 109 Корзухина Г. Ф., ч. 1 — 428
Корин П. Д., ч. 2 — 279, 358 Коробут, князь литовский, ч. 2 — 92 Косьма Маюмский, библ., ч. 2 — 372 Коста, новгородский мастер, ч. 1 — 280
Костомаров Н. И., ч. 1 — 8, 433 Косточкин В. В., ч. 1 —241, 250, 416, 417, 419, 422, 427, 428, 431
Костровы, землевладельцы, ч. 1 — 51 Косцова А., ч. 2 — 277
Кечин Г. Е., ч. 1 —40, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 58, 62, 63,
65, 67, 75, 77, 83, 84, 85, 91, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,
107, 108, 109, 112, ИЗ, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 126,130, 131,137, 138, 148, 149, 150, 151, 23’2, 233,235, 255
Кошка Ф. см. Федор Кошка
Кошман Л. В., ч. 1 — 6
Кощей Бессмертный, был., ч. 2—149 Красов И., ч. 1 — 247
Красовский М. В., ч. 2 — 207 Красочкин В. Т., ч. 1 — 102 Кречетников М. см. Микула Кречетников
Кротов Я., см. Яков Кротов
Крюков-Фоминский И. М., вотчинник, ч. 1 — 88
Ксения, святая, ч. 1 — 240, 435
Ксения Юрьевна, великая княгиня тверская, ч. 1 — 289; 2 — 209
— 404 —
Кузнецов П. С., ч. 2 — 78, 83, 87, 101 Кузьма, мастер, ч. 2 — 378
Кузьма Попович, дьяк псковский, ч. 2—172
Кузьмин А. Г., ч. 2 — 120
Кулишер И. М., ч. 1—219
Курбские, князья, ч. 1 — 253 Курбский Андрей Михайлович, князь, ч. 2 — 192
Курицын Ф., см. Федор Курицын
Кучеренко Э. И., ч. 1 — 324
Кучкин В. А., ч. 1 — 73
Лавр, святой, ч. 2 — 307, 309, 313,
331, 332
Лаврентей, новгородец, ч. 1 — 142 Лаврентий, суздальский монах, летописец, ч. 2 — 70
Лаврентий Зизоний, славянский грамматик, ч. 2 — 90
Лазарев В. Н., ч. 1 —401, 406, 408; 2 — 73, 256, 261, 266, 275, 281, 286, 289, 290, 294, 297, 298, 300, 301, 303, 307, 311, 319, 320, 321, 326, 328,
329, 331, 332, 333, 338, 340, 342, 349, 352, 360, 363, 364, 372, 387
Лазарь, святой, ч. 2 — 243, 317, 332 Лазарь, сербский мастер, ч. 1 — 230 Лазарь Моисеевич, посадник новгородский, ч. 1 — 368
Лануа Гильбер де, фландрский путешественник, ч. 1 — 101, 248, 296,
300, 302, 303
Ласковский Ф. Ф., ч. 1 — 454, 456 Латышева Г. П., ч. 1—45, 108 Лаурина В. К., ч. 2 — 303, 305, 369, 376
Лебедев В., ч. 2 — 360
Лебедева А. А., ч. 1 — 63
Лебедева Н. И., ч. 1 — 192
Лев Диакон, византийский историк, ч. 1 —295; 2—151
Лев Иванович, боярин кистемский, ч. 2 — 20
Левашова В. П., ч. 1 —40, 41, 44, 46, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 82, 84, 85, 95, 111, 114, 148, 149, 150
Левушка Федоров, ч. 1 — 373
Ленин В. И., ч. 1 —20, 26, 29, 154,
324; 2 — 5, 22, 87, 102, 256
Ленц Э. Э., ч. 1 — 392
Леонид Офонасович, новгородский писец, ч. 1 —283; 2—171, 176
Леонид Языкович, новгородский писец, ч. 2 — 171
Леонтович Ф. И., ч. 1—217
Леонтьев А. К., ч. 2 — 4, 5
Лесников М. П., ч. 1 — 332
Личко, новгородец, ч. 1—310 Лихачев Д. С., ч. 1 —28, 32; 2—112,
120, 138, 139, 140, 141, 144, 150, 156, 157, 162, 283
Лихачев Н. П., ч. 1 —72, 133, 300,
316, 391, 394, 414, 434, 436, 462; 2 — 147, 268, 303
Логвин Г., ч. 2 — 309
Логгин, библ., ч. 2 — 371
Лопарев X. М., ч. 2—123
Лука, евангелист, библ., ч. 2 — 256
Лука, окольничий, ч. 2 — 46
Лука, ушкуйник, ч. 1—311 Лука Федорович, посадник новго¬
родский, ч. 1 — 306
Лукиан, Лукьян, новгородский мастер-ювелир, ч. 2 — 166, 388, 392
Лукьян, новгородский писец, ч. 1 — 283
Лукьянов П. М., ч. 2 — 218, 220 Лурье Я. С., ч. 1 —43, 44, 45, 113,
149; 2 — 75, 147, 153, 345, 358, 375 Лычов, сотский, ч. 2 — 42
Мавродин В. В., ч. 1—386
Магнус, шведский король, ч. 1 — 369
Магомет II, турецкий султан, ч. 2 — 150, 151
Мазовша, ордынский царевич, ч. 1— 441
Макар, ювелирный мастер, ч. 1 — 294 Макарий, ч. 2 — 271, 287
Макарий, патриарх антиохийский, ч. 1 — 207
Маковецкий И. В., ч. 1 — 263
Максим, митрополит киевский, затем владимирский, ч. 1—301; 2 — 51
Максименков Г. А., ч. 1 — 430
Максимов П. Н., ч. 2 — 207, 214, 251
Малинин В., ч. 2—150
Малицкий Н. В., ч. 2 — 313
Мальм В. А., ч. 1 — 115, 117, 126, 128, 133, 134, 136
Малышев В. И., ч. 2 — 123, 124, 125
Мамай, монголо-татарский военачальник, ч. 1 — 32, 36, 275, 380,
384, 386, 387, 388; 2— 135, 136, 137, 138, 139, 173
Мансуров А. А., ч. 1 — 89, 104, 114, 115, 126
Мануил, византийский император, ч. 2 — 200, 201
Марасинова Л. М., ч. 1 — 54, 55, 82, 91, 93, 99, 131, 134, 136
Марина, новгородская жительница, ч. 1—281
/Марина, княгиня владимирская, монахиня, ч. 2 — 259
26 Очерки русской культуры, ч. 2
— 405 —
Мария, княгиня московская, ч. 1 — 295
Мария, святая, ч. 2 — 142, 323, 326, 338, 371, 372
Мария Дмитриевна, жена коломенского воеводы, ч. 2—139
Мария Ивановна, княгиня, ч. 1 — 288
Мария Магдалина, библ., ч. 2 — 363
Мария Петелина, землевладелица, ч. 1 — 76
Марк, святой, ч. 1 — 346
1Марк Витрувий Поллион, ч. 1—221
Маркиан, еретик ростовский, ч. 2 — 345
Марко Поло, путешественник, ч. 1 — 119, 123
Марков В. М., ч. 2 — 87
Маркс Карл, ч. 1 —8, 16, 19, 25, 26, 30, 34, 237, 239, 363, 458; 2— 10, 19, 23, 50, 71
Мартысевич И. Д., ч. 2 — 7, 34
Марфа Посадница, новгородская боярыня, ч. 1 — 272
Марцелл, венгерский воевода, ч. 1 — 151
Марья, новгородская жительница, ч. 2 —45, 167
Матвей, новгородец, ч. 2—168
Матвей Телятев, новгородец, ч. 1 — 299
Матков, земледелец, ч. 1 — 54
Матфей, евангелист, библ., ч. 2 — 284, 349
Матфейка Башлов, ч. 2 — 42
Матьяш, венгерский король, ч. 2 — 156
Мацулевич Л., ч. 2 — 275, 290, 293, 294, 297
Медведев А. Ф., ч. 1 — 110, 111, 114, 126, 205, 249, 393, 396, 397, 398, 394, 401, 406, 415
Мейчик Д. М., ч. 1—46, 110, 111, 154 Мелетий Смотрицкий, ученый и писатель, ч. 2 — 90
Мельникова А. С., ч. 1 — 338
Менгли-Гирей, крымский хан, ч. 1 — 123
Менгу-Тимур, Тимир, хан Золотой Орды, ч. 1 —76, 96, 227; 2 — 97,
208, 235
Мерперт Н. Я., ч. 1 — 8, 36, 37
Мец Н. Д., ч. 1 — 335, 336, 340
Микита, дьякон, еретик новгородский, ч. 2 — 75
Микита, егумен, ч. 2—173
Микитка Шенурин, крестьянин, ч. 2— 21, 26
Микифоров С. см. Савка Микифоров Микула, писец новгородский, ч. 2 — 171
/Микула Васильевич, коломенский воевода, ч. 2—136, 139
Микула Дядкович, боярин, ч. 2 — 4$
Микула Кречетников, пушечный мастер, ч. 1 — 414
Микулинские, удельные князья в- Тверском княжестве, ч. 1—339
Милов Л. В., ч. 2—173
Миловидов И., ч. 1—451
Милонов Н. П., ч. 1 — 42, 44, 45, 89,.
НО, 111, 114, 119, 126, 150 Милюков П. И., ч. 1 — 9 Минорский В. Ф., ч. 1 — 323 Миркевич И., ч. 1 — 11 Мисюрь Мунехин, дьяк великого князя московского, ч. 2—198
Митрофан, епископ владимирский,, ч. 2 — 64, 65
Митрофан, художник, ч. 2 — 366 Митрощь, новгородец, ч. 1 — 330 Митя Гридин, конюх епископа новгородского, ч. 1 — 234
Митяй, духовник великого князя московского, ч. 2 — 61, 65
Михаил, архангел, библ., ч. 1 — 240,. 435; 2— 173, 240, 244, 245, 265, 266, 268, 271, 274, 275, 285, 292, 298,
320, 321, 323, 328, 338, 358
Михаил, новгородский «владычев человек», ч. 1 — 234
Михаил, новгородец, ч. 2—167
Михаил Александрович, великий князь тверской, ч. 1 — 243, 310,
378, 383, 384, 407, 435, 436, 460,
461; 2 — 24, 38, 75, 173, 209, 245
Михаил Андреевич, князь верейский и белозерский, ч. 2—16, 21, 55
Михаил Борисович, великий князь тверской, ч. 1 —309, 310, 312, 338; 2—107
Михаил Всеволодович, князь черниговский, ч. 1 — 35, 2 — 65
Михаил Остахнов, житель д. За- кражье, ч. 1 — 234
Михаил Степанович, посадник, ч. 1 — 364
Михаил Федорович, царь, ч. 1 — 45Г Михаил Юрьевич, новгородец, ч. 2 — 168
Михаил Ярославович, великий князь, тверской, ч. 1 —31, 289, 368, 374; 2 — 62, 69, 72, 271
Михайловский Б. Ф., ч. 2 — 293 Михалев В. см. Василь Михалев Михалев О., см. Ондрейко Михалев» Михалко, десятский, ч. 1 — 42 Михаль, новгородец, ч. 1 — 106 Михей, пророк, ч. 2 — 301
Михельсон Т. Н., ч. 2 — 372
— 406 —
Мишак Володин, мастер, ч. 2 — 208, 210
Мишуков Ф. Я., ч. 2 — 386
Мнева Н. Е., ч. 1 —292, 401; 2 — 261, 264, 271, 277, 279, 281, 309, 329, 337, 349, 352, 354, 360, 363, 370, 376
Модест, святой, ч. 2 — 309, 317 Моисеева Г. Н., ч. 2 — 383
Моисей, архиепископ новгородский, ч. 1 —283; 2 — 61, 171, 294, 385
Моисей, немец, ч. 2 — 46
Моисей, библ., ч. 1 —388; 2—142
Монгайт А. Л., ч. 1 —40, 41, 42, 44, 45, 46, 65, 77, 85, 101, 103, 104, ПО, 115, 117, 119, 128, 239, 257, 323, 448
Морозов А. В., ч. 2 — 363
Мрочек-Дроздовский П. Н., ч. 2— 10 Мстислав Андреевич, князь владимиро-суздальский, ч. 2 — 313
Мстислав Давыдович, князь смоленский, ч. 2 — 80
Мстислав Изяславич, князь, ч. 2 — 174
Мунехин М. см. Мисюрь Мунехин
Муравьев М. В., ч. 1—408
Муратов П., ч. 2 — 289, 297, 307
Му ханов П. И., ч. 1 —40, 41, 43, 45, 87, 91, 107, 114, 123, 131, 130, 133, 137; 2 — 55
Мясоедов В. К., ч. 2 — 260
Навуходоносор, вавилонский царь, ч. 2 — 202
Напиерский К. Е., ч. 2 — 46
Наршахи Мухаммад, среднеазиатский историк, ч. 1—281
Насонкина Л. И., ч. 1—6
Насонов А. Н., ч. 1 — 16
Настасья, новгородская жительница, ч. 1—280; 2— 109, 167, 168
Нахлик А., ч. 1 — 196, 281, 282
Невоструев К. И., ч. 2 — 130
Неврюй, монголо-татарский военачальник, ч. 1 — 36
Некомат, сурожанин, купец, ч. 2 — 24
Некрасов А. И., ч. 1 —284, 411; 2 — 266, 275
Нерадовский П. И., ч. 2 — 268
Нестор, летописец, ч. 2 — 22, 144, 202
Нестор Искандер, писатель, ч. 2 — 148, 150, 151
Никита, святой, ч. 2 — 317
Никита Федорович, новгородец, ч. 1— 289
Никитский А. И., ч. 1 — 218, 294, 302 Никитин А. см. Афанасий Никитин Никишин И. И., ч. 1—65
Николай, митрополичий писец, ч. 2— 71
Никола, святой, ч. 2— 172, 159, 119,
120, 122, 223, 230, 251, 257, 259, 260, 261, 301, 303, 307, 319, 329, 330,
354, 355, 356, 358, 359, 360, 370 Николай I, император, ч. 1 — 14 Николай V, римский папа, ч. 2— 190 Никольский Н. К., ч. 1 — 166 Никон, игумен Троице-Сергиева монастыря, ч. 1—51; 2— 143, 341 Никон Черногорец, монах, ч. 2 — 99 Нифонт, архиепископ новгородский, ч. 2 — 11
Нифонт, святой, ч. 2 — 78, 81, 86, 88, 95
Новосильские, князья, ч. 2 — 92
Обнорский С. П., ч. 2 — 108 Образцовы, бояре, ч. 1 — 253
Обросим, новгородец, ч. 1 — 142
Овсей, писец, ч. 2—170
Овинов И. см. Иван Овинов
Овдотья Патрикеева см. Патрикеева О.
Огнев Б. А., ч. 2 — 247, 248
Одоевские, князья, ч. 2 — 92
Окинф, боярин, ч. 1 — 397
Оксенко Остахнов, житель д. За- кражье, ч. 1 — 234
Оксенко Федков, житель д. Хвойной, ч. 1 — 234
Оксинья, великая княгиня тверская, ч. 2 —271
Оксинья Онтуфьева, землевладелица, ч. 1 — 54
О кулич-Казарин Н. Ф., ч. 1 — 391, 392, 424; 2 — 227
Окунев Н., ч. 2 — 289, 290, 293
Олег Иванович, великий князь рязанский, ч. 1 — 335, 384, 386, 387, 448, 449; 2 — 38, 53, 66, 98, 135, 137, 161, 243
Олег Гориславич, князь, лит., ч. 2 — 173
Олексейков Ю. см. Юрок Олексейков Олена, великая княгиня московская, ч. 1 — 295
Олсуфьев Ю., ч. 2 — 298, 301, 342
Олфер Исаков, житель д. Хвойной, ч. 1—234
Олфим, новгородец, ч. 2 — 313
Ольгерд, князь литовский, ч. 1 — 376, 278, 379, 380, 383, 384, 439
Ольговичн, князья, ч. 2—174
Онанья, посадник новгородский* ч. 1 — 364; 2 — 65
Онаш К. см. Конрад Онаш
Ондрей, князь, ч. 2—138
Ондрей, Андрей, новгородец, ч. 1-- 401
26
— 407 —
Ондрейко Михалев, житель д. За-
мостье, ч. 1 — 234
Ондрейко Яковль, житель д. За-
кражье, ч. 1 — 234
Онтуфей Оберучев, землевладелец,
ч. 1 — 54
Онфим, новгородский мальчик, ч. 2— 163, 164, 165, 166
Онцифор Жабин, новгородский боярин, ч. 2 — 217
Орешников Л., ч. 1 — 335, 344
Орлов А. С., ч. 1 — 282, 288, 306; 2 — 124, 129, 130
Орлов О. В., ч. 2—111
Орлов С. Н., ч. 1 —65, 69, 431
Осиф, писец новгородский, ч. 2—171 Ослабя, монах, ч. 2—138
Остапка Башлов, ч. 2 — 42 Остахнов Е. см. Еремка Остахнов Остахнов М. см. Михаил Остахнов Остахнов О. см. Оксенко Остахнов Остафий, новгородский тысяцкий, ч. 1 — 430
Остей, князь литовский, ч. 1 — 463
Остроухое И. С., ч. 2 — 309, 363
Отрок, половецкий хан, ч. 2 — 107
Павел, князь муромский, ч. 2—148, 149
Павел, святой, ч. 2 — 220, 320, 326, 334, 338, 349, 358, 367
Павел Собольцев, новгородец, ч. 2 — 167
Павлов А. С., ч. 1 —79, 81; 2— 12
Паисий, художник, ч. 2 — 366
Пальма, византийский писатель, ч. 2 — 73
Пальм, шведский дипломат, ч. 1 — 315
Пальмквист, ч. 1 — 435
Пан, волхв, лит., ч. 2 — 142
Панковь, лит., ч. 1 — 79
Пантелей, святой, ч. 2 — 235 Панфил, новгородец, ч. 2—167 Параскева Пятница, святая, ч. 1 — 218; ч. 2 — 277, 279, 280, 282, 307, 309, 358
Парфенко, «человек» князя И. Гагарина, ч. 1 — 234
Патрикеев Василий Иванович, князь, инок, ч. 1 — 248
Патрикеев Иван Иванович, князь, ч. 1 — 248
Патрикеев Иван Юрьевич, князь, ч. 1 — 247, 248
Патрикеева Овдотья (Авдотья), княгиня, ч. 1 — 248
Пафнутий Боровский, основатель монастыря, ч. I — 83
Пахомий Логофет, серб, писатель, ч. 2 — 70, 142, 143, 144, 251, 341
Пахомий Нерехотский, основатель монастыря, ч. I — 43, 56, 57
Пашко Гридин, житель д. Крюкови- чи, ч. 1 — 234
Пашуто В. Т., ч. 1 —8, 35, 36, 37, 38
Перельман И. Л., ч. 1—98
Пересвет, монах Троице-Сергиева монастыря, ч. 1 — 387; 2—136, 138
Пересветов И. С., ч. 2—132
Перетц В. Н., ч. 2—159
Петин А., ч. 1 — 438
Петр I, император, ч. 1 — 380
Петр, митрополит московский, ч. 2—
51, 58, 66, 68, 69, 70, 72, 141, 367
Петр, новгородец, ч. 2 — 45
Петр, лит., ч. 1—45, 134
Петр, святой, ч. 2 — 62, 148, 149, 150, 157, 220, 283, 319, 320, 334, 336, 338, 349, 367
Петр Дмитриевич, князь дмитровский, ч. 1 — 294
Петр Константинович, боярин, ч. 1— 293
Петр Милонег, зодчий, ч. 2 — 228, 285, 296
Петрарка, итальянский гуманист, ч. 2 —73
Петров Т. см. Тарас Петров
Петухов Е. В., писатель, ч. 1 — 7, 35; 2— 126, 129, 130
Пикин Е. см. Есип Пикин
Пимен, митрополит московский, ч. 1 —35, 121, 123, 447; 2 — 65, 183, 199
Питирим, епископ, ч. 2 — 51
Платон, древнегреческий философ, ч. 2 — 192
Плещеев А. М., ч. 2 — 87
Плещеевы, бояре московские, ч. 2 — 63
Плиний, древнеримский философ, ч. 2 — 195
Плутарх, древнеримский писатель, ч. 2 — 195
Покровский М. Н., ч. 1—9, 11, 13, 23, 24, 26; 2 — 334, 364
Покровский Н. В., ч. 1 — 209
Покрышкин П., ч. 2 — 301
Поляк А. Г., ч. 2 — 7, 10
Пономарев И. А., ч. 1—228
Попов А. Н., ч. 1 — 158
Попов О. С., ч. 2 — 256
Поппэ А. В., ч. 1 — 280
Порфиридов Н. Г., ч. 2 — 256, 294,
305, 311, 313
Постникова-Лосева М. М., ч. 1 — 306
Потапко, житель д. Илово, ч. 1 — 234 Потапов А. А., ч. 1 — 89, 268
— 408 —
Потин В. М, ч. 1—319
Пресняков А. Е., ч. 1 — 11
Приселков М. Д., ч. 1 — 96; 2 — 67, 140, 235, 326
Прозоровский Д. И., ч. 2—181 Прокопий, святой, Устюжский, ч. 1—
99
Прокофий, воевода новгородский, ушкуйник, ч. 1 — 311
Пронские, князья, ч. 1 — 336
Просвиркина С. К., ч. 1 — 63 Протасов Н., ч. 2 — 331
Прохор, епископ ростовский, ч. 2 — 267
Прохор, художник, ч. 2 — 71, 326,
330, 332, 333
Прохор, ученик евангелиста Иоанна, ч. 2 — 267
Птолемей, древнегреческий ученый,
ч. 2 — 192, 196
Пуд, святой, ч. 2 — 159
Путята Дядкович, боярин, ч. 2 — 46
Пуришев Б. И., ч. 2 — 293
Путилов Б. Н., ч. 2— 140
Пушкарев С., ч. 1 — 14
Пушкин А. С., ч. 1 — 28, 29, 30, 88
Пыпин А. Н., ч. 1 — 9
Роман Васильевич, князь ярославский, ч. 1 — 381
Роман Семенович, князь новосиль- ский, ч. 1 — 381
Ростислав, князь, ч. 1 — 353, 354, 355 Рублев Андрей см. Андреи Рублев Рубрук, Рубруквис, Гильом (Вильгельм) де, путешественник, ч. 1 — 37, 237; 2 — 208, 378
Рубцов М. В., ч. 1—435
Рубцов Н., ч. 1 — 438
Руда, священник борисоглебский, ч. 1 — 372
Рудаков А. П., ч. 2 — 257
Руденко С., ч. 1 — 126
Румянцев Н. П., ч. 1 — 83
Рыбаков Б. А., ч. 1 — 19, 24, 27, 35, 68, 88, 89, 91, 98, 110, 124, 126, 138, 145, 147, 149, 152, 154, 158, 160, 202, 203, 204, 209, 210, 227, 382, 443;
2— 112, 122, 166, 170, 172, 176, 181, 203, 379, 383, 385, 392
Рындина Н. В., ч. 1 — 203, 204, 209 Рюрик, князь смоленский, ч. 2 — 175 Рюриковичи, князья, ч. 1 — 10; 2 — 111
Рябушинский С. П., ч. 2 — 302, 321, 349, 360
Рабинович М. Г., ч. 1 —40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 65, 68, 75, 89, 91, 101, 102, 103, 104, 107, 108, НО, 111,
112, 114, 115, 117, 119, 134, 149, 150, 231, 239, 240, 243, 244, 245, 249, 250, 252, 257, 259, 261, 263, 264, 268, 367, 431
Равдоникас В. И., ч. 1 — 65
Рагдай Удалой, был., ч. 2 — 140 Родослав, сербский мастер, ч. 2 — 300
Райнов Т. И., ч. 2 — 191, 192, 193 Раппопорт П. А., ч. 1 — 253, 422, 424,
430, 431, 452
Ратмир, воин новгородский, ч. 1—359 Ревис И. А., ч. 1 — 177, 207
Редин Е. К., ч. 2 — 102 Ретковская Л. С., ч. 2 — 307
Репников Н., ч. 2 — 284 Реформатская М. А., ч. 2 — 277
Ржига В. Ф., ч. 1 —36, 271, 374 Рикман Э. А., ч. 1 — 117, 149, 435,
438
Рождественский С. В., ч. 2 — 25 Рожков Н. А., ч. 1 — И
Рознежский С. см. Семен Рознеж- ский
Розанова Н. В., ч. 2 — 309
Розов Н. Н., ч. 2— 146, 281
Роман, князь, ч. 2—104, 161
Савва, воин новгородский, ч. 1 — 359
Савва, священник псковский, ч. 2 — 61, 172, 192
Савва Стратилат, ч. 2 — 301
Савка Микифоров, ч. 1—234
Савка Семенов, житель д. Точища, ч. 1 — 234
Савченко С. В., ч. 2—150
Савваитов П. И., ч. 1 — 295
Савватий, основатель Соловецкого монастыря, ч. 1 — 141
Садко, был., ч. 2—161
Салчей, астраханский эмир, ч. 1 — 372
Самсон, библ., ч. 2—125
Самуил, новгородец, ч. 2—166
Сапунов Б. В., ч. 2—170
Самоквасов Д. Я., ч. 1 — 394
Сараика, ордынский посол, ч. 1—37!
Сарра, библ., ч. 2 — 342, 344
Сахаров А. М., ч. 1 —6, 16, 24, 241; 2 — 6, 49, 57, 62
Сбыслав Якунович, боярин новгородский, ч. 1 — 359
Свирин А. Н., ч. 2 — 284, 364
Святополк, князь киевский, ч. 1 — 318, 320
Святослав, великий князь киевский, ч. 1 —295, 391
409
Святослав Всеволодович, князь тверской, ч. 1 — 368
Седельников А. Д., ч. 2—154
Седов В. В., ч. 1 —43, 62, 65, 85, 91, 104, 111, 119, 134, 235, 236, 253, 255, 263
Седов Н. В., ч. 1 — 21
Седова М. В., ч. 1 — 286, 287, 288 Секиз-Бей, монголо-татарский военачальник, ч. 1 — 376
Секиринский С. Л., ч. 1 — 456
Семен, архиепископ новгородский, ч. 2 — 64
Семен, воевода великого князя Бориса Александровича Тверского, ч. 1 — 414
Семен Андреевич, посадник новгородский, ч. 2 — 219, 220
Семен Борисович, князь нижегородский, ч. 1 — 381, 463
Семен Васильевич, дьяк князя Андрея Васильевича Большого, ч. 1 — 55
Семен Дмитриевич, князь суздальский, ч. 1 — 381
■Семен Иванович Борисов, боярин, ч. 1 — 51
Семен Иванович Гордый, великий князь московский, ч. 1 — 288, 294, 305
Семен Константинович, князь Оболенский, ч. 1 — 381
Семен Рознежский, новгородец, ч. 1— 414
Семен Федорович, новгородец, ч. 1— 295, 408
Семен Федорович Бяконт, боярин московский, ч. 1 — 378, 412
Семенов С. см. Савка Семенов Семенов Т. см. Тимошка Семенов Серапион Владимирский, епископ владимирский, проповедник, ч. 1 — 7, 35; 2— 11, 51, 65, 70, 126, 127, 128, 129, 130
Сергеева-Козина Т. Н., ч. 1—445 Сергеевич В. И., ч. 1 — 10, 55 Сергий Радонежский, основатель Троице-Сергиева монастыря, святой, ч. 1 —37, 41, 57, 74, 75, 76, 82, 88, 89, 91, 92, 104, 109, 112, 119,
13’1, 149, 206, 226, 279, 281, 289,
297, 298, 304, 378, 401, 408; 2 — 60, 62, 63, 70, 142, 143, 162, 231, 250, 329, 340, 347, 355, 356, 370
Серебрянский И. И., ч. 2— 124, 209 Сержпутовский Л., ч. 1 — 131, 133,
134
Сигизмунд Герберштейн см. Гербер- штейн С.
Сидор, игумен, ч. 1 — 391
Сидор, крестьянин, ч. 1 — 50
Сидор, ростовщик новгородский, ч. 1 — 280
Сизов И. Л., ч. 1 — 45, 47
Сильвестр, римский папа, ч. 2—146 Симеон Полоцкий, писатель, ч. 1 — 275
Симеон, святой, ч. 2 — 223
Симеон, суздальский священник, ч. 2— 197
Симеон Дивногорец, ч. 2 — 220, 297
Симон, инок Юрьева монастыря, ч. 2 — 256
Симон, писец новгородский, ч. 1 — 172
Сирин Е. см. Ефрем Сирин
Скалой В. Н., ч. 1 — 128
Скиргайло, князь литовский, ч. 2 — 203
Скрипель М. О., ч. 2— 125, 130, 148, 150
Сохин Шевях, холоп, ч. 1—61 Слинько, новгородец, ч. 1 — 293
Смирнов И. И., ч. 1 — 50, 124; 2 —
20, 39, 131
Смирнов Н. Л., ч. 2 — 150
Смирнов П. П., ч. 1 — 55
Смирнов Я. И., ч. 1—392
Смирнова Г. П., ч. 1 —215, 305
Смирнова Э. С., ч. 2 — 305, 318 Смолянин, воевода новгородских ушкуйников, ч. 1—311
Соболев Н., ч. 2 — 380
Соболевский А. И., ч. 2 — 79, 87, 99, 166, 360
Сокира, посадник новгородский, ч. 1 — 340
Соловьев С. АГ, ч. 1—9, 10, 13, 412; 2— 105, 106, 107
Солодовников Д. Д., ч. 1 — 448
Соломон, библ., ч. 2—138, 182
Сотникова М. П., ч. 1 — 328, 344
Софийский Л. И., ч. 1 — 424
Софоний, старец, автор «Задонщины», ч. 2 — 70, 136, 137, 138, 139
Софья, София, святая, ч. 1 — 144, 346; 2 — 65, 67, 229
Софья Витовтовна, великая княгиня литовская, ч. 1 — 288, 293; 2—9, 56
Соха Ивашка, крестьянин, ч. 1 — 61 Сохин С. И., ч. 1 — 61
Спасские, удельные князья литовские, ч. 1 — 336
Спасский И. Г., ч. 1 —322, 344
Спегальский Ю. П., ч. 2 — 207, 228,
230
Сперанский М. Н., ч. 2—175, 198
Сперовский И., ч. 2— 320, 329
Спиридон, игумен Троице-Сергиева
монастыря, ч. 1 — 55
— 410 —
Спиридоний, святой, ч. 2 — 311 Спицын А. А., ч. 1 — 293, 393 Срезневокий И. И., ч. 1 — 43, 44, 48, 71, 76, 79, 81, 87, 88, 93, 102,
103, 105, 113, 116, 123, 124, 131, 133, 136, 149, 232, 235; 2— 160, 173, 190, 275
Старцев Г., ч. 2 — 322
Стасов В. П., ч. 1 — 283
«Степан, новгородец, ч. 1 — 295 Степан, священник с. Хабалина гора, ч. 1 — 234
Степан, землевладелец, ч. 1—304 Степановский И. К., ч. 1 — 453 Строков А. А., ч. 1 —431; 2—213, 288 «Стефан, новгородец, писатель, ч. 2 — 313, 197, 198, 199
Стефан Баторий, польский король, ч. 1 — 454
Стефан Махрищский, основатель Троицкого монастыря в Вологодской земле, ч. 2 — 53
Стефан Пермский, Храп, проповедник, пермский епископ, ч. 1—41, 76, 85, 87, 89, 109, 398; 2 — 51, 70, 75, 141, 142, 177, 201
Строганов М. М., купец, ч. 1 — 141 Строгановы, купцы, ч. 1 — 138 Строев П. М., ч. 1 —40, 82, 87, 109, 136
Судислав, боярин, ч. 1 —351 Сулешовы, князья, ч. 1—261 Супинский А. К., ч. 1 — 75 Суслов В. В., ч. 2 — 290 Сухомлинов Н. И., ч. 2—162 Сыроечковский В. Е., ч. 1 — 304 Сысойко, десятский, ч. 2 — 42 Сытин П. В., ч. 1 — 246
Сычевская Е. К., ч. 1 — 302
Тагай, монголо-татарский военачальник, ч. 1 — 376
Тайдула, жена татаро-монгольского хана, ч. 2 — 97
Тале нс кий Н. Л., ч. 1 — 367, 431
Талыч, монголо-татарский военачальник, ч. 1 — 442
Тараканова С. Л., ч. 1 — 110, 114, 117, 253, 299
Тарас Петров, нижегородский купец и боярин, ч. 1 — 22
Тарокан, Таракан, московский купец, ч. 1 — 274
Татищев В. Н., ч. 1—59, 71, 95
Телицын А., бортник, ч. 1 — 136 Телятев М. см. Матвей Телятев Темир-Аксак, Тимур, Тамерлан, монголо-татарский хан, ч. 2 — 65, 201
Теофил, писатель, ч. 1 —206, 217, 223 Терентий, новгородец, ч. 1—106 Тимошка Семенов, житель д. Точища, ч. 1 — 234
Тимофей, новгородец, ч. 2 — 313 Тимофей, новгородец, ч. 1—83; 2—167 Тимофей, художник, ч. 2 — 366 Тимушев Д. Л., ч. 1—322
Титмар Мерзебургский, немецкий путешественник, ч. 1—361
Титов А. Л., ч. 1 —453, 459
Титов Омешат, бежецкий вотчинник, ч. 1 — 61
Тихомиров М. Н., ч. 1 — 17, 24, 36, 38, 39, 42, 82, 146, 241, 245, 247,
271; 2 — 6, 10, 11, 12, 25, 91, 123,
163, 166, 170, 202, 203, 208, 210,
330, 331
Тихонравов Н. С., ч. 2—142
Толстой В., ч. 2 — 275
Толстой И. И., ч. 1 —330, 331, 335, 391
Тороп, был., ч. 2 — 140
Тохтамыш, хан Золотой Орды, ч. 1 — 27, 28, 335, 336, 411, 439, 459, 460, 463; 2— 170, 201, 323
Третъяков П. Н., ч. 1 —75, 89, 237 Трофимов И. В., ч. 1—450 Трубецкой Н. С. (И. Р.), ч. 1 — 13, 14
Трутовский В. К., ч. 1 —322, 334
Тугарин Змеевич, Тугоркан, был., ч. 2—161
Тупиков Н. М., ч. 1 —92, 104, 123,
124, 149
Тучин Г. см. Григорий Тучин
Уварова П., ч. 2 — 263
Удан, новгородец, ч. 2—167
Узбек, хан Золотой Орды, ч. 2 — 69, 98, 208, 235
Упырь Лихой, поп, ч. 2—100, 101
Улу-Махмет, монголо-татарский хан, ч. 1 — 450
Ульяна, святая, ч. 2 — 277
Устюгов Н. В., ч. 1 — 138, 145, 146
Ушаков Ф. А., ч. 1—424
Фалей, новгородец, ч. 2—167
Феврония, лит., ч. 1 —45, 134; 2 —
148, 149, 150, 157
Федков Оксенко см. Оксенко Фед- ков
Федор, кузнец, ч. 2 — 171
Федор, мастер, ч. 2 — 229
Федор, новгородец, ч. 1 — 142
Федор, новгородский писец, ч. 1 —
283
— 411
Федор, новгородский посадник, ч. 1— 430
Федор, святой, ч. 1 — 312
Федор Андреевич, боярин, ч. 2 — 38 Федор Добрый, епископ тверской, ч. 2—73, 74, 313
Федор Жеребец, новгородский ювелир, ч. 1 —328, 340, 341
Федор Кошка, московский боярин, ч. 1 —204, 205; 2 — 384, 385
Федор Курицын, дьяк московского великого князя, еретик, ч. 2—153 Федор Михайлович, князь моложский, ч. 1—381
Федор Ольгович, князь рязанский, ч. 1 — 309
Федор Остафьевич, новгородец, ч. 1 — 295
Федоров И. см. Иван Федоров
Федоров-Давыдов Г. А., ч. 1 — 325, 334
Федоска Башлов, крестьянин, ч. 2 — 42
Федосья Ивановна, великая княгиня московская, ч. 1 — 288
Федотов-Чеховский А. А., ч. 1—87; 2 — 20
Федотья, новгородская жительница, ч. 1 — 289
Феофан Грек, художник, ч. 1—31; 2 — 71, 73, 220, 239, 240, 242, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294,
296, 320, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 333, 337, 338, 346,
356
Феофил, архиепископ новгородский, ч. 2 — 185
Феофил Дедеркин, путешественник, ч. 2 — 190
Фетинья Ивановна, великая княгиня, ч. 1 — 295
Филатов В. В., ч. 2 — 275, 321 Филимонов Г., ч. 2 — 260, 320 Филипп, митрополит московский, ч. 2 — 35, 58
Филин Ф. П., ч. 2 — 83
Филица, писец, ч. 2—171
Филофей, псковский монах, писатель, ч. 2 — 150
Филя, воевода венгерского полка, ч. 1 —355; 2—107
Фиораванти Аристотель, итальянский инженер и архитектор, ч. 1 — 225
Флор, святой, ч. 2 — 309, 313, 331 Флоря Б. Н., ч. 1 — 138, 141
Фома, библ., ч. 2 — 301, 281
Фома, крестьянин, ч. 1 — 59
Фома, писец, ч. 2 — 170
Фома Кантакузин, византийский писатель, ч. 2 — 73
Фома, тверской монах, писатель,
ч. 1 — 31, 300, 391, 434, 436; 2— 147
Фома Хобычев, воин, ч. 2— 136
Фомин И. см. Иван Фомин
Фомины, бояре московские, ч. 2 — 63
Фотий, митрополит московский, ч. 1 —279, 288; 2 — 44, 51, 66, 76, 140, 386
Фрол, писец, ч. 2— 173
Хази-баба, «бесерменин», ч. 2 — 51 Ханенко В. Н., ч. 2—363 Хара-Даван Э., ч. 1 — 14
Хобычев Ф. см. Фома Хобычев Хорошкевич А. Л., ч. 1 —119, 124,
130, 133, 136, 138, 144, 145, 146,
147, 152, 281, 329
Хостоврул, был., ч. 1 —349; 2—121 Хлопин И. Н., ч. 1 — 430
Хлудов А. И., ч. 2—259 Храмовицкий Н. И., ч. 1 — 450 Христофор, игумен Кириллова мона¬
стыря, ч. 1 — 311
Цалкин В. И., ч. 1 — 105, 108, 110, 119, 301
Чеботарев X. А., ч. J — 444
Чеботов И. см. Иван Чеботов Челибей, монголо-татарский воена¬
чальник, ч. 1 —387; 2—136 Черепнин Л. В., ч. 1 — 8, 16, 26, 35,
36, 37, 38, 50, 58, 91, 93, 94, 96, 119*, 137, 152, 154, 233; 2 — 7, 9, 10, 12,
13, 14, 20, 24, 25, 34, 37, 40, 44, 61, 133, 147, 151, 177, 364
Чернышев Н. М., ч. 2 — 275, 372 Чернышевский Н. Г., ч. 1 — 11, 12 Черных Н. Б., ч. 1 — 197, 282 Черных П. Я., ч. 1 —71, 79, 105, 122;
2 — 87
Чечулин Н. Д., ч. 1—217
Чернягин Н. Н., ч. 1 — 40, 115 Чижов С. И., ч. 1—335
Чингис-хан, монголо-татарский завоеватель, ч. 1 —8, 14, 15, 28, 36, 348, 349
Чириков Г. О., ч. 2 — 342
Чичерин Б. Н., ч. 1—8, 10
Чичеров В. И., ч. 2 — 311, 313
Шамбинаго С. К., ч. 1 —374; 2— 135^ 209
Шапиро А. Л., ч. 1 — 48
Шарукан, был., ч. 2 — 161
— 412 —
Шахматов А. А., ч. 1 — 303; 2 — 29, 144
Шварн, литовский князь, ч. 1 — 354
Шелога, посадник изборский, ч. 1 — 420
Шенурины, земледельцы, ч. 2 — 21, 26
Шишкин, мастер, ч. 1 — 294
Штендер Г. М., ч. 2 — 222
Шубин И. А., ч. 1 — 307, 308, 309, 310, 311
Шуляк JI. М., ч. 2 — 222
Шумаков С., ч. 1 — 141
Щавинский В. А., ч. 1 —217
Щапов Я. Н.,ч. 1 — 81
Щапова Ю. Л., ч. 1 —214
Щелкан, Шевкал, монголо-татарский князь, был., ч. 1—271; 2—117, 118
Щепкина М. В., ч. 2 — 166
Щила, был., ч. 2 — 146, 147
Эммануил, святой, ч. 2 — 266
Этмануйл Этмануйлович, был., ч. 2 — 113
Энгельс Ф., ч. 1 — 16, 19, 25, 26, 30, 34, 239, 458; 2— 10, 19, 23, 50, 71
Юргинис Ю. NL, ч. 1 — 48, 51
Юрий Андреевич, князь новгородский, ч. 1 — 368
Юрий Васильевич, князь дмитровский, ч. 1 — 314
Юрий Васильевич, князь псковский, ч. 1—391; 2 — 35
Юрий Владимирович, Долгорукий, князь владимиро-суздальский, великий князь киевский, ч. 1 — 374
Юрий Всеволодович, великий князь владимиро-суздальский, ч. 2—121, 123
Юрий Данилович, великий князь московский, ч. 1 — 368, 369, 374, 375, 400; 2—173
Юрий Дмитриевич, князь звенигородский и галицкий, ч. 1 — 136, 279,280, 294, 309, 339, 340, 443,451; 2— 184, 247, 331, 340
Юрий Ингоревич, великий князь рязанский, ч. 2— 121, 173
Юрий Онцифорович Жабин, посадник новгородский, ч. 1 — 272
Юрий Святославич, князь смоленский, ч. 1 — 367
Юрий Ярославич, князь муромский, ч. 1 — 449; 2 — 243
Юрок Олексейков, житель д. Замо-
стье, ч. 1 — 234
Юстиниан, римский император, ч. 2 —
199
Юшков С. В., ч. 1—42; 2 — 6, 12, 21,
34, 39, 41, 44
Яблонский В., ч. 2 — 142, 341
Ягайло, великий князь литовский, король польский, ч. 1 — 386, 387
Яган, немец, ч. 2 — 46
Яков, мастер-гвоздочник новгородский, ч. 1 — 173, 207
Яков, новгородец, ч. 2 — 311
Яков, новгородец, ч. 1 — 106, 309
Яков, посадник Корелы, ч. 1 — 428
Яков, пушечный мастер, ч. 1 — 207 Яков Кротов, посадник псковский, ч. 2 — 230
Яков Федосович, мастер-резчик, ч. 2 — 177
Яковлев А. И., ч. 1 — 181, 310; 2 — 34
Яковлев В. А., ч. 2 — 130
Яковль О. см. Ондрейко Яковль Якубовский А. Ю., ч. 1 — 16, 30, 71 Ямщиков С., ч. 2 — 309
Ян, немец, ч. 2 — 46
Ян Усмошвец, был., ч. 2—140
Янин В. Л., ч. 1 —26, 317, 318, 322, 323, 335, 346; 2 — 4, 12
Янина С. А., ч. 1 — 335
Ярец, художник, ч. 2 — 366, 367
Ярослав, князь Пронский, ч. 1 — 448 Ярослав Владимирович Мудрый, великий князь киевский, ч. 1 — 157, 363; 2— 10, 36, 37, 51, 99, 208
Ярослав Всеволодович, великий князь владимирский, ч. 1 — 360; 2— 123, 130, 131, 132
Ярослав Ярославич, князь новгородский, ч. 2 — 256
Ярославна, княгиня, ч. 2—139, 173
Яцимирский А., ч. 2 — 154
* * ♦
R. Bloch — Gorlin, ч. 2—123.
J. Bogdan, ч. 2—154
Е. Georgievskij — Druzinin, ч. 2—372
Н. Gerstiger, ч. 2—305
М. Gorlin, ч. 2—123
A. Hall, ч. 1—223
А. В. Hoffmeyer, ч. 1—392
Е. Holyard, ч. 1—223
G. baking, ч. 1—392
J. Myslikec, ч. 2—311
413
L. Nadejena, ч. 2—275
L. Niederle, ч. 1—227
К. Onasch, ч. 2—236, 346, 366
F. Pfeiffer, ч. 1—397
W. Philipp, ч. 2—147
C. Sattler, ч. 1—332
Ph. Schwienfurth, ч. 2—289
Ch. Singer, ч. 1—223
Chr. S. Stang, ч. 2—92
H. Stocklein, ч. 1—390
W. Theobald, ч. 1—207, 217, 223
В. Unbegaun, ч. 2—151
T. Williams, ч. 1—223
* ♦ »
Ti. Башковий, ч. 2—301
Б. Живковий, ч. 2—300 Лаз. Мирковий, ч. 2—301
Р. Николий, ч. 2—300
B. Р. Петковий, ч. 2—300 П. I. Поповий, ч. 2—300
C. Радо)чий, ч. 2—300 Г. Суботий, ч. 2—300
Ст. Стано]евиЙ, ч. 2—301
С. Томий, ч. 2—300
В. J. Ъурий, ч. 2—300
Составитель Л. А. Александрова
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Абруцция, ч. 2 — 190
Абхазия, ч. 2 — 201
.Австро-Венгрия, Австрия, ч. 1 — 26
Азия, ч. 1 — 14, 28, 244, 357
Малая Азия, ч. 1 — 357
Северная Азия, ч. 1 — 128
Средняя Азия, ч. 1 — 192
Аквилея, ч. 2 — 190
.Александрова слобода, Александрово, с., ч. 1 — 233; 2 — 387
Алексин, Олексин, Алексино, с. и г., ч. 1 — 233; 2 — 29, 54
Англия, ч. 1 — 19, 281
Антиохия, ч. 2 — 99
Аредежа, Оредежа, р., ч. 1 — 234
Арзерус, ч. 2 — 201
Армения, ч. 2 — 201
Архангельск, г., ч. 2 — 173
Архангельская обл., ч. 2 — 210, 212,
213
Ассирия, ч. 2 — 201
Астрахань, г., ч. 1 — 371
Афон, ч. 2 — 70
Ахайские земли, ч. 2 — 201
Багдад, г., ч. 2 — 201
Бакино, с., ч. 1 — 233 Балканский п-ов, ч. 2 — 56, 79, 319 Балкошино, д., ч. 1 — 52
Балтика, Балтийское море, ч. 1 — 357, 366
Ботнический залив, ч. 1 — 365 Баренцево море, ч. 1 —311 Бахманийское государство, ч. 2—153 Бежецк, Бежицкий Верх, ч. 1 — 363, 375, 384, 385, 425; 2 — 39
Бежецкий у., ч. 1 — 40, 46, 47, 48, 52, 54, 60, 61, 83, 93, 120, 126
Белгород на Волге, г., ч. 1 — 434, 462 Белое, оз. (Белоозеро), ч. 1 — 115, 300
Белозерский у., ч. 1 —40, 41, 46, 47, 48, 53, 54, 61, 93, 99, 107, 120, 126, 131
Беломорское побережье, Беломорье, ч. 1 —40, 143, 375
Белоозеро, г., ч. 1 — 45, 47, 56, 62, 102,103, 149, 150, 179, 241,256,262, 370, 373, 375, 376, 377, 383; 2—16, 188, 195
Кирилловский монастырь, ч. 1 — 21, 91, 119, 144, 166, 300, 311, 314; 2— 16, 20, 69, 60, 70, 160, 190, 195, 196, 317
Успенский собор, ч. 2 — 317
Ферапонтов монастырь, ч. 2 — 55, 60, 365, 366, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Рождества Богородицы собор, ч. 2 — 365, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Белоруссия, ч. 1 — 131, 133, 134, 218, 232
Березовец, с., ч. 1 — 253
Березынь, р., ч. 1 — 387
Берендеева слобода, с., ч. 1 — 233 Бидар, г., ч. 2—153
Бобренёв монастырь, ч. 2 — 240 Боголюбово, с., ч. 2— 130, 242 Богородичское, с., ч. 2 — 25, 26 Болоховская земля, ч. 1 — 353 Болгария, ч. 1 —350; 2 — 70, 141, 293
* Список сокращений, принятых в указателе: библ. — библейский, в. — волость, г. — город, д. — деревня, кн. — княжество, обл. — область, оз. — озеро, о. — остров, п-ов — полуостров, пос. — поселение, р-н — район, р. — река, у. — уезд.
— 415 —
Болгария Волжская, ч. 1 —308, 371, 374, 384
Болгар, Булгар, городище, ч. 1 — 69, 324, 350, 370, 371, 372, 386
Большая Брембола, с., ч. 1 — 64, 67
Боровск, г., ч. 1 — 385; 2 — 365
Пафнутьев монастырь, ч. 2 — 365, 366
Бородино, городище, ч. 1 — 62, 253
Браслав, г., ч. 1 — 40, 43, 44
Брест, г., ч. 1 — 62
Брестская обл., ч. 1 — 64, 67, 78
Бронницы,, с., ч. 1 — 177
Брюнжвик, ч. 2 — 186
Брянск, г., ч. 1 — 62, 376, 383, 385; 2 — 57
Брянская обл., ч. 1 — 64, 67
Буг Южный, р., ч. 1 — 350
Бунаково, с., ч. 1 — 233
Бухара, г., ч. 1 —281
Быстрая Сосна, р., ч. 1 — 447
Вавилония, ч. 2 — 201
Вавилон, г., ч. 2 — 148
Вавилонская башня, ч. 1 — 225 Валаам, о-в, ч. 1 — 358; 2—195 Валахия, ч. 2—152, 153 Варадин, г., ч. 1 — 304
Варок, г., ч. 1 — 312 Варяжское, Балтийское море, ч. 1 — 350, 357
Васильков, с., ч. 1 — 62
Ватикан, ч. 1 —358; 2—190 Вёгорукс, с., ч. 2 — 319
Великая, р., ч. 1 — 115, 416, 417, 420, 421, 423, 457, 458; 2 — 231
Великие Луки, г., ч. 1 — 425 Великое, оз., ч. 1 — 115
Велье, Велие, г., ч. 1 —373, 416, 424 Велье, оз., ч. 1 — 424
Венгрия, ч. 1 —241, 350, 353
Вепрь, р., ч. 1 — 354 Верейское кн., у., ч. 1 — 40, 93, 342 Веренда, р., ч. 1 — 115
Верея, г., ч. 1 — 445
Кремль, ч. 1 — 40, 446, 447 Верена, г., ч. 2 — 190
Вертязин см. Городня на Волге Верховажье, с., ч. 1 — 65
Ветлуга, Ветлуза, р., ч. 1—312, 313 Ветлужский р-н, ч. 1 — 64
Виза, ч. 2 — 201
Византия, ч. 1 — 14, 288; 2 — 54, 56, 70, 73, 74, 151, 177, 189, 255, 287, 311, 329
Висла, р., ч. 1 — 356
Витебск, г., ч. 1 — 149, 363, 390 Витебская обл., ч. 1 — 43, 263 Вифания, ч. 2 — 183
Вифлеем, ч. 2 — 183
Вишенки, д., ч. 1 — 103 Вишенкино, д., ч. 1 — 103
Вишера, р., ч. 1 — 115
Владимир Клязьменский, г., ч. 1 — 18, 28, 31, 239, 349, 350, 354, 374, 377, 383, 442; 2 — 50, 64, 70, 121, 181, 234, 235, 236, 239, 255, 256,264, 268, 319,321, 322, 330, 331, 333,335, 336, 337, 338, 339, 342
Благовещенский собор, ч. 2 — 331
Дмитриевский собор, ч. 2 — 235
Константино-Еленинский монастырь, ч. 1 —45, 98, 154; 2 — 54
Крепость, ч. 1 — 432 Рождественский монастырь, ч. 2 — 70
Успенский собор, ч. 2 — 235, 236, 321, 330, 331, 335, 336, 337,338, 339, 342
Придел Пантелеймона, ч. 2 — 235
Владимир Волынский, г., ч. 1 — 354 Владимиро-Волынское кн., ч. 1—350 Владимирское ополье, ч. 1 — 263 Владимирский у., ч. 1 — 40, 46, 48,
52, 51, 53, 54, 60, 61, 67, 83, 93, 96, 99, 120, 126, 154, 253, 257
Владимиро-Суздальская земля, Северо-Восточная Русь, Залесье, Ростово-Суздальская земля, Низов- ская земля, ч. 1—6, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 71, 77, 93, 99, 97, 106, 107, 108, 120,377; 2 — 54, 178, 204, 254, 263, 320
Влукома, г., ч. 2— 185
Вожа, р., ч. 1 —381, 382, 386; 2 — 135, 241
Воищинское городище, ч. 1 — 62, 64, 252 253
Волга, р., ч. 1 — 20, 21, 25, 115, 243, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 324, 350, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 379, 383, 385, 386, 396, 398, 433, 434, 436, 438, 443, 450,451, 461; 2— 107, 152, 253
Верхняя Волга, ч. 1 —42, 371,379 Нижняя Волга, ч. 1 — 370, 389 Средняя Волга, ч. 1 — 370
Волма, р., ч. 2 — 185
Вологда, г., ч. 1 —45, 137, 179, 314, 370, 371, 373, 377; 2 — 210, 364,370 Вознесения церковь, ч. 2 — 210
Вологодский край, земля, ч. 1—45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 61, 64, 65, 67, 70, 93, 99, 120, 131; 2 — 39, 360,380
Володимирец, г., ч. 1—417, 424 Володчина гора, ч. 1 — 424
416
Волок, Волок Ламский, Волоколамск, г., ч. 1 —60, 367, 380, 381, 382, 384, 385, 425, 461; 2 —53, 369
Иосифо-Волоколамский монастырь, ч. 2 — 87, 365, 366 Волотово, с., ч. 2 — 214, 216, 285,290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 302,317
Успения церковь, ч. 2 — 214, 216, 219, 229, 285, 290, 291,292, 293, 294, 302, 317, 322 Волоцкий у., ч. 1—40, 41, 61, 120 Волхов, р., ч. 1 — 115, 123, 234, 245, 310, 430; 2— 183, 223
Волынь, Волынская земля, ч. 1—321, 324, 349, 406; 2— 184, 203, 204 Вора, в., ч. 2 — 35
Воронач, г., ч. 1 —417, 424, 461 Воронеж, р., ч. 1 — 386, 447 Воронежская обл., ч. 1 — 263 Вороний Камень, ч. 1 — 361 Воротниковское городище, ч. 1 — 43 Врев, г., ч. 1 —417, 424
Всвята, Усвяты, ч. 1 — 363 Всеславль, г., ч. 2 — 29 Вщиж, г., ч. 1 — 64 Вуокса, р., ч. 1 — 428 Выбор, г., ч. 1 —400, 417, 424, 459, 461
Выбуты, с., ч. 1—412; 2 — 262 Выга, р., ч. 1 — 115
Вым, р., ч. 2 — 202 Высокое, г., ч. 1 — 367 Вычегда, р., ч. 1 — 137; 2 — 202 Вышгород, г., селище, ч. 1 — 77, 80, 367, 416, 424, 425
Вязьма, г., ч. 1 — 350 Вятическ, г., ч. 2 — 203
Вятка, г., ч. 1 — 120, 349, 370, 433, 460
Вятка, р„ ч. 1 —311, 349, 370, 372, 433; 2 — 202
Галицкое кн. в Залесье, у., ч. 1—40, 42, 51, 54, 60, 61, 76v 93, 99, 120, 241, 377, 384; 2 — 2, 21, 26, 186
Галицкое кн. см. Галицко-Волынская Русь
Галицкое, оз., ч. 1 —451, 452
Галицко-Волынская Русь, Галицкое,
Галицко-Волынское кн., ч. 1 — 349, 350, 356
Галич Залесский, Мерьский, г., ч. 1 — 137, 293, 314, 336, 339, 341, 375,376, 385, 414, 451, 452, 453; 2 — 66 Крепость, ч. 1 — 452
Верхнее городище, ч. 1—451, 452
Нижнее городище, ч. 1—451, 452
Столбище, гора, ч. 1—451
Галич Южный, г., ч. 1 —350, 354; 2—186
Ганза, ч. 1 — 292
Ганинское городище, ч. 1—62
Германия, ч. 1 — 24, 244
Гдов, г., ч. 1 —417, 422, 425, 457, 458 Кремль, ч. 1 — 459
Тайницкая башня, ч. 1 — 457
Гдовка, р., ч. 1 —422
Гледень см. Устюг Великий
Голландия, ч. 1 — 19, 281.
Голутвин монастырь, ч. 2 — 60, 240
Гоморра, г., библ., ч. 2—128
Город, г. в Италии, ч. 2— 190
Городок на Холохолне, ч. 1 —377, 379
Городенка, р., ч. 1 —444
Городец на Волге, г., ч. 1 — 137, 361, 150; 2 — 326, 330
Городец Мещерский см. Касимов Городищенское, оз., ч. 1—418 Городня на Волге, с., ч. 1 —64, 65,
67, ПО, 111, 434; 2 — 253
Рождества Богородицы церковь, ч. 2 — 253
Гороховец, г., ч. 2 — 54
Гороховецкий у., ч. 1 —60, 61 Горький, г. см. Нижний Новгород Готланд, о., Готский берег, ч. 1 — 391; 2 —6, 18, 80, 85, 96
Гочево, курганная группа, ч. 1—390
Греция, ч. 1 —30, 106; 2 — 201
Гродно, г., ч. 1 — 62, 65, 69 Гродненская обл., ч. 1—64, 67
Грузия, Гурзустан, ч. 1 —348, 349; 2 — 301
Гуслицкий монастырь, ч. 2 — 329,330
Давыдово, д., ч. 2 — 169
Дамаск, г., ч. 1 — 201
Дарья, р., ч. 2 — 115
Двина, р., ч. 1 — 115, 120, 235, 373, 375, 459, 461; 2 — 173
Двинская земля, ч. 1 — 40, 44, 46, 54, 81, 120, 304; 2 — 40
Джагатайский улус, ч. 2 — 201
Декан, горы, ч. 2— 153
Дели, г., ч. 2 — 201
Демань, Демянец, г., ч. 1 — 425 Дерпт см. Юрьев
Дербент, Железные Врата, Темир- баты, г., ч. 2 — 201
Дешт-и-Кыпчак, ч. 1 — 348
Дикое поле, ч. 1 — 375
Дмитриевский монастырь, ч. 1 — 437
Дмитров, г., ч. 1 —42, 62, 126, 314,
336, 363, 374, 385; 2 — 351, 370, 352
— 417 —
Николо-Песношский монастырь, ч. 2 — 352
Успения церковь, ч. 2 — 370
Дмитровский у., ч. 1 —40, 42, 48, 51, 52, 53, 54, 61, 83, 93, Р9, 101, 102, 107, 120, 126, 339, 341, 379
Днепр, р., ч. 1 —350, 385; 2—139
Днестр, р., ч. 1 —350; 2 — 202
Дон, р., ч. 1 —35, 123, 350, 370, 375, 386, 387, 447; 2— 107, 137, 138,139, 199, 205, 240
Донбасс, ч. 1 — 217
Дорогобуж, г., ч. 1 — 434, 462; 2 — 81, 82
Дрогичин Надбужский, г., ч. 1 — 323, 354
Дрожжаниково, с., ч. 1 —91
Дынинская, д., ч. 1 — 102
Дубенка, р., ч. 1 — 429
Дубков, г., ч. 1 — 417, 424
Дубровна, г., ч. 1 — 425
Дунай, р., ч. 1 — 350; 2 — 202, 204, 205
Дьяково, с., ч. 2 — 227
Церковь, ч. 2 — 227
Евразия, ч. 1 — 14, 28
Европа, ч. 1 — 11, 12, 14, 26, 28, 29, 32, 145, 150, 227, 229, 239, 244,266, 272, 281, 299, 300, 315, 318, 348,349, 357, 358, 389, 392, 393, 398,408,411, 420; 2 — 49
Восточная Европа, ч. 1 — 13, 14, 35, 48, 94, 105, 144, 318, 320, 321, 322, 324, 334; 2 — 56, 204, 284, 293, 388
Западная Европа, ч. 1 — 18, 19, 20, 25, 119, 144, 240, 248, 281, 319, 320, 348, 357, 367, 390,399, 411, 435; 2 — 76, 109, 197, 219 Египет, ч. 2 — 198 Едоский стан, ч. 2 — 21 Емь см. Ямь
Желча, р., ч. 1 — 361 Жеравья гора см. Изборск Жерновка, р., ч. 1 — 444 Жолочко, оз., ч. 1 —361 Жукотин, г., ч. 1 — 370, 371 Жуннар, г., ч. 2— 153
Заволжье, ч. 2 — 59, 177, 195, 201
Заволочье, ч. 1 — 235, 433, 452; 2 — 177
Загорск, г., ч. 1 — 306
Закражье, д., ч. 1 — 234
Залесье см. Владимиро-Суздальская земля
Замостье, д., ч. 1 — 234
Зандан, Зендене, с., ч. 1—281
Заозёрье, с., ч. 1 — 161
Заонежье, ч. 1 — 161
Западная Русь, ч. 1 —29
Засурье, ч. 1 — 371
Звенигород, г., ч. 1 —55, 241, 385, 443, 444, 445, 447; 2 — 47, 246, 247г 248, 249, 322, 331, 332, 334, 338,349, 351
Кремль, ч. 1 — 444
Саввино-Сторожевский монастырь, ч. 1 —55, 136; 2 — 247,. 248, 249, 322
Рождества Богородицы собор, ч. 2 — 247, 249, 250, 322, 33Ц 332, 334
Звенигородский у., ч. 1 —51, 52, 54„ 60, 76, 93, 99, 101
Зижьч, г., ч. 1 — 363
Злостьицы, д., ч. 1 — 228
Знаменка, пос., ч. 1 —62
Золотая Орда, ч. 1 — 14, 15, 16, 19„ 22, 24, 30, 36, 37, 71, 325, 334, 344, 364, 367, 369, 371, 372, 375, 376,379, 380, 383, 384, 386, 389; 2 — 51, 53, 54, 63, 65, 68, 69, 96, 113, 115, 117, 133, 134, 135, 188
Зубцов, г., ч. 1 — 383, 434, 462
Иван-город, г., ч. 1 —250, 251 Святого Николы церковь, ч. 1 — 251
Ижина, р., ч. 1 —430, 434
Иерусалим, г., ч. 2— 145, 182, 183, 198, 200, 284, 294, 332
Феодосия монастырь, ч. 2—183 Саввы монастырь, Хирбет Саве, ч. 2 — 183
Изборск, г., ч. 1 —372, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 429, 430, 443, 456, 457, 459. 460, 461
Изволь, р., ч. 1 — 356
Изяславль, г., ч. 1 — 350
Ижора, р., ч. 1 — 115, 359
Иевло, с., ч. 1 — 234
Ильмень, оз., ч. 1 — 115; 2 — 214, 25£
Инема, с., ч. 2 — 319
Индия, ч. 2— 143, 152, 153, 161, 189, 197, 200, 201
Иордан, р., ч. 2— 183, 200
Ипр, г., ч. 1 — 183
Иран, ч. 1 — 357
Иртыш, р., ч. 1 — 348
Испания, ч. 1 —26, 106, 281; 2 — 257 Исфагань, ч. 2 — 201
418 —
Италия, ч. 1 — 106, 227, 392; 2 — 73, 190
Кабаново, д., ч. 1 — 120
Кабановская, д., ч. 1 — 120
Кавказ, ч. 1 — 179, 378
Северный Кавказ, ч. 1 — 389, 394;
2—188
Кадников, г., ч. 2 — 361
Успенская семигородная пустынь, ч. 2 — 361
Калка, р., ч. 1 — 18; 2—119, 136
Калуга, г., ч. 1 — 380
Калязин, Колязин, г., ч. 2—107
Монастырь, ч. 2 — 107
Кама, р„ ч. 1 —308, 370, 371; 2 — 202 Камское усолье, ч. 1 — 138
Кана Галилейская, г., библ., ч. 2 — 183
Каравай, д., ч. 1 — 91
Каравай, починок, ч. 1—92 Карашская в., ч. 2 — 54
Каракорум, ч. 2 — 378
Каргач-Борисоглебский погост, ч. 2 — 360
Каргополь, г., ч. 2 — 363, 364
Карелия, ч. 1—369
Каринское, с., ч. 1 — 55
Каринтия, ч. 2—190
Карпаты, ч. 1—351; 2 — 201
Касимов, Мещерский Городец, ч. 1 — 361, 382, 385
Каспийское, Хвалынское, море, ч. 1 — 311, 350; 2—153
Кафа, г., ч. 2— 139, 286
Кашин, г., ч. 1 —60, 314, 385, 407,
434, 436, 437, 438, 441
Крепость, ч. 1 — 437
Кашинка, р., ч. 1—436
Катино, пустошь, ч. 1 — 54, 55
Кашинский край, ч. 1 —40, 41, 48, 53, 54, 61, 83, 93, 99, 102, 120, 40, 48
Каяла, р., ч. 2—136
Каяна, ч. 1 — 365, 366
Кемь, р., ч. 1 — 115
Кешма, р., ч. 1—452
Киев, г., ч. 1 — 18, 28, 241, 245, 263, 323, 343, 349, 350; 2 — 57, 104, 106, 115, 122, 128, 161, 184, 198, 203, 204, 255, 256, 274, 319
Десятинная церковь, ч. 2—122
Печерский монастырь, ч. 2 — 126
Киевская земля, Киевская Русь, ч. 1 — 14, 27, 15, 31, 32, 324, 325, 350; 2— 12, 13, 31, 37, 59, 113, 125, 140, 158, 192, 203, 204, 255
Кижи, с., ч. 2 — 210
Кимры, г., ч. 1 — 42, 126
Кидекша, с., ч. 2 — 235
Церковь, ч. 2 — 235
Кирьипча, г., ч. 1 — 372
Китай, ч. 1 — 13, 28, 348, 349; 2 — 201
Клин, г., ч. 1—434
Клинский у., ч. 1—93
Кличен, г., ч. 1 — 425
Клязьма, р., ч. 1 — 115, 376, 377, 385;
2—184
Княжья гора, ч. 1 — 323
Кобылье городище, ч. 1—361 Козельск, г., ч. 1 — 349, 350; 2 — 203
Козодавлево, с., ч. 1 — 233 Кола, ч. 1—361
Колкач, с., ч. 2 — 21
Колож, г., ч. 1—416, 424
Колодяжин, г., ч. 1 — 350
Дворец, ч. 1 — 275
Вознесения церковь, ч. 2 — 210 Коломна, г., ч. 1 —379, 380, 381, 385,
387; 2 — 57, 60, 238, 240, 241, 242,
251, 322, 323, 324, 325, 326, 329
Крепость, ч. 1 — 380; 2 — 240,
322
Воскресенская церковь, ч. 2 — 240, 329
Успенский собор, ч. 2 — 240, 241, 242, 243, 323, 324, 325
Коломенский у., ч. 1 —40, 46, 48, 51,
52, 53, 54, 58, 65, 93, 107, 120 Колымыя, г., ч. 1—351 Конопляник, д., ч. 1—46 Коноплянник, д., ч. 1—46 Коноплянино, д., ч. 1—46 Константинополь, Царьград, г., ч. 1—
35, 121, 123; 2 — 70, 72, 100, 148,
150, 151, 152, 161, 171, 183, 196, 197, 198, 199, 200
Великая, ул., 2— 198
Галата, ч. 2 — 286
София Цареградская, ч. 2 — 200, 244
Копорье, г., ч. 1 —251, 360, 364, 365,
366, 367, 425, 426, 427, 428 Корельский, г., ч. 1 — 367 Корела, г., ч. 1 — 425, 427, 428 Корняки, д., ч. 1—361 Кострома, г., ч. 1 —43, 314, 370, 371,
376, 377, 382, 385, 450, 451, 452; 2 — 55, 104
Богоявленский монастырь, ч. 1 — 452
Ипатьевский монастырь, ч. 2 — 55, 104
Кремль, ч. 1 —450, 451 Кострома, р., ч. 1 — 115, 372, 376;
2 — 55
Костромской у., ч. 1 — 40, 45, 46, 47,
— 419 —
48, 51, 52, 53, 54, 61, 64, 67, 70, 93,
99, 107, 120, 126
Котельно, ч. 1—417, 424
Которосль, ч. 2 — 266
Архангела Михаила церковь, ч. 2 — 266
Кошкин, г., ч. 1 — 367
Кошкинская в., ч. 1 — 459
Кочевинская пустошь, ч. 1 — 56
Красный, г., ч. 1—417, 424
Красивая Меча, р., ч. 1 —35, 123, 388; 2—138
Кременец, г., ч. 1 — 349, 350, 463; 2—184
Кривое, с., ч. 2 — 210, 213, 302
Крюковичи, д., т. 1 — 234
Крым, ч. 1 —218, 325; 2 — 287
Кузьмина Гать, д., ч. 1—387
Курба, с., ч. 1 — 253
Кутва, р., ч. 1 — 350
Куликово поле, ч. 1 — 335, 387, 396,
402, 403, 449; 2— 119, 135, 139, 389
Курмышский у., ч. 1 — 76, 78
Курицкое, с., ч. 2 — 302
Курская земля, ч. 1 — 324; 2 — 83
Ладога, г., ч. 1 —62, 179, 245, 358,
367, 425
Крепость, ч. 1 — 428
Ладожское, оз., ч. 1 — 115, 358, 428 Латвия, ч. 1 — 332
Лача, оз., ч. 2 — 51, 130, 131
Леснов, ч. 2 — 300
Ливония, Ливонский орден, ч. 1 — 150, 329, 331, 358, 350, 360, 416
Ликургская в., ч. 2 — 26
Лисино, д., ч. 1 — 120
Лисицино, д., ч. 1 — 120
Литва, Великое кн. Литовское, Литовско-русское государство, ч. 1 — 25, 217, 241, 251, 350, 351, 352, 363,
368, 373, 375, 379, 386, 396, 416,417, 429, 43’4, 463; 2 — 57, 187, 203, 204
Копыл, г., ч. 2 — 203
Лода, р., ч. 1 — 459
Ломбардия, ч. 2—190
Лопасня, с., ч. 1 — 387
Лосево, д., ч. 1 — 120
Луга, р., ч. 1 — 427
Лужская Губа, ч. 1 — 161
Луха, р., ч. 1 — 115
Луцк Великий, г., ч. 1 — 184
Лытня, г., ч. 2 — 185
Лыбедь, р., ч. 1 — 447, 448
Лыково, с., ч. 1 — 233
Лыткинское, с., ч. 1 — 233
Любичи, с., ч. 1 — 51
Люблин, г., ч. 1 — 350, 352, 354, 356
Любонь, с., ч. 2 — 305
Любляна, г., ч. 2—190
Любутск, г., ч. 1 — 384
Люнебург, г., ч. 1 — 145 Лядьская земля, ч. 1 — 356
Малосук, р., ч. 1 — 424 Малоярославецкий у., ч. 1—42, 51,
54, 58, 99, 120 Манихино, с., ч. 2 — 314 Марково, д., ч. 1 — 234 Матковское, Маткова пустошь, ч. 1 —
54, 55
Медведица, р., ч. 1 — 434 Меденское, Медня, с., ч. 1 — 88 Медынь, г., ч. 2 — 38
Мелеча, с., ч. 1 — 425 Мелётово, с., ч. 2 — 281, 283, 284
Успения церковь, ч. 2 — 229, 230, 281, 283
Мета, р., ч. 2—185
Мещерская низменность, ч. 1 — 380 Меча, р. см. Красивая Меча
Микулин, г., ч. 1 —383, 434, 461 Микулинский у., ч. 1 — 92
Митяевский починок, ч. 1 — 233 Можайка, р., ч. 1—445
Можайск, г., ч. 1 —241, 336, 339,376, 385, 445; 2—184
Колоцкий монастырь, ч. 2—184 Кремль, ч. 1 — 445
Никольская башня, ч. 1 — 445 Иоакима и Анны монастырь, ч. 2 — 251
Николы церковь, ч. 2 — 251 Можайский у., ч. 1 —40, 93, 120,251, 341
Молвотицы, г., ч. 1 — 253
Моленга, р., ч. 1—433
Молога, г., ч. 1 — 443
Молога, р., ч. 1 — 115, 375, 385, 430, 434
Монголия, ч. 2 — 378 Мордовия, ч. 1—69; 2 — 51 Морж, о., ч. 1 — 122
Моржова гора (на Северной Двине), ч. 1 — 122
1Морева, г., ч. 1 — 425 Морковцыно, починок, ч. 1 — 102 Москва, г., ч. 1 —3, 9, 11, 25, 26, 27,
32, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 65, 67,
68, 69, 75, 82, 89, 91, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 141, 149, 150, 177, 179, 188, 200, 202,207, 220, 229,234, 239, 241, 242, 243,244,245, 246, 248, 249, 250, 252, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 293, 294, 301, 302, 303,
420
306, 309, ЗТ4, 315, 325, 327, 335, 336, 337, 338, 339,340,341,342. 345, 347,350, 367,370, 371, 372, 374,377, 378,379,381, 383, 385, 386, 387, 394, 391, 399, 411, 412, 414, 428, 430,
433, 434, 438, 439, 441, 442, 443,
447, 450, 452, 455, 459, 460, 463;
2 —6, 7, 9, 10, 11, 12, 20, 24, 33, 40,
51, 53, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 72, 73, 75, 76, 79, 83, 85, 99, 110, 111, 116, 119, 134, 135, 139; 140, 142, 144, 145, 147, 152, 170, 184, 185, 190, 195, 197, 199, 204, 253, 207, 208, 210, 223, 232, 236, 237, 238, 239, 240,243, 244, 245, 251, 252, 253, 256, 264, 267, 268, 271, 274, 284, 286,294, 302, 303, 311, 315, 317, 319, 321,322, 323, 328, 329, 330, 331, 337, 338, 340, 351, 352, 353, 354,356, 358, 370, 377, 379, 383, 389, 393
Алексеевский монастырь, ч. 1 — 286
Андроньев, Андроников, Спасо- Андроников монастырь, ч. 1 —
246, 247, 441, 443; 7 — 71, 251, 252, 322, 330, 331.
Спасский собор, ч. 2 — 251,252, 322, 330
Арбатская пл., ч. 1 —245, 246 Болвановская дорога, ч. 1 — 246 Большая ул., ч. 1 — 247 Боровицкий мост, ч. 1 — 247 Боровицкий мыс, ч. 1 — 438 Бубна, р., ч. 1 — 246 Ваганьково, ч. 1 — 246 Ваганково место см. Великий
Посад
Варьская ул., ч. 1 — 246 Васильевский луг, ч. 1 — 246 Великая ул., ч. 1 — 246, 249, 250, 261
Великая Владимирская дорога, ч. 1—246
Великий луг, ч. 1 — 246
Великий посад, ■ Китай-город, ч. 1 — 69, 108, 239, 245, 246,
247, 249
Владимира в Садах церковь, ч. 1 — 246
Вознесения церковь, ч. 1 — 248 Волоколамская дорога, ч. 1 — 246 Воронцово, с., ч. 1 — 246
Воскресения церковь, ч. 1 — 248 Всех святых церковь, ч. 1 — 246 Георгиевский монастырь, ч. 1 — 247
Гребневской Божией Матери церковь, ч. 2 — 352, 353
Губинское место, ч. 1—247 Бориса и Глеба церковь, ч. 1 —
246, 247
Данилов монастырь, ч. 1 — 246, 441, 443
Дорогомилово, с., ч. 1 — 246; 2 — 253
Благовещенья церковь, ч. 2 —
253
Дмитровская дорога, ч. 1 — 246 Дмитровские ворота, ч. 1 — 450 Духов монастырь, ч. 2 — 261 Занеглименье, ч. 1 —245, 246,247
Иван Святы Кушник церковь, ч. 1 — 247
Заречье, Замоскворечье, ч. 1 245, 246
Зарядье, ч. 1 — 44, 50, 65, 68, 69, 70, 112, 117, 141, 250, 259, 261, 269
Зачатья в Остром конце церковь, ч. 1 — 246
Николы Мокрого церковь, ч. 1 —238, 246, 247, 249;
2 — 45
Зачатьевский монастырь, ч. 1 —
441, 443; 2 — 60
Заяузье, ч. 1 — 245, 246, 247 Козьмы и Демьяна церковь,
ч. 1 —246, 247 Земляной город, ч. 2—184 Кабаниха, р., ч. 1 — 246 Капля, р., ч. 1 — 246 Кобельское место, ч. 1 — 247 Китай-город см. Великий Посад Козье болото, ч. 1 — 246 Колитннково, с., ч. 1 — 246 Колычево, с., ч. 1 — 246 Красная пл., ч. 1 — 439 Красное, с., ч. 1 — 246 Красный пруд, ч. 1 — 246 Кремль, ч. 1 — 225, 229, 238, 243, 244, 246, 258, 271, 273, 274,278, 288, 380, 381, 387, 406, 439, 441,
442, 238, 455, 459; 2 — 223, 232, 236, 238, 239, 241, 242, 244, 247, 251, 274, 303, 321, 326, 327, 329, 331, 352, 365, 367, 368, 369,370 Архангельский собор, ч. 2 —
56, 236, 239, 322, 323, 328, 352 Благовещенский собор, ч. 1 —
229, 406; 2 — 240, 243, 244, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 330, 332, 341
Большой Кремлевский дворец, ч. 1 — 439
Боровицкая башня, ч. 1 — 246 Ворота, ч. 2 — 239
Вознесенский монастырь, ч. 1— 246
Грановитая палата, ч. 1 —273,
274; 2 — 223
27 Очерки русской культуры, ч. 2 — 421 —
Иоанна Лествичника церковь,
ч. 2 — 239, 322
Иоанна Предтечи церковь,
ч. 2 — 239
Каменный дворец, ч. 1 — 244 Константиновская (Тимофеев- ская) башня, ч. 1 — 246 Нижние (Тимофеевские) ворота, ч. 2 — 239
Круглая угловая башня (Свиблова стрельница), ч. 2 — 239
Никольская башня, ч. 1 — 246
Ворота, ч. 2 — 239
Ризположенские, Богородицкие ворота, ч. 2 — 239
Рождества Богородицы церковь, ч. 2 — 241, 242, 243, 247, 322, 323, 328
Рождества Предтечи церковь, ч. 1—246
Спаса на Бору собор, ч. 2 — 238, 239, 240, 284, 322, 331
Терем златоверхий Дм. Донского, ч. 1 — 244
Троицкая башня, ч. 1 — 246 Успенский собор, ч. 1 — 27, 225, 243, 246; 2 — 56, 70, 236, 237, 239, 240
Фроловская (Спасская) башня, ч. 1 — 246, 274, 275, 303, 322, 331, 365, 366, 367, 368, 370 Ворота, ч. 1 — 274; 2 — 239 Чешьковы ворота, ч. 2 — 239 Чудов монастырь, ч. 1 — 246;
2 — 132, 239, 240, 251, 367
Митрополита Алексия церковь, ч. 2 — 240, 267
Чуда архангела Михаила собор, ч. 2 — 239, 240
Крутицкий монастырь, ч. 1 — 246, 247; 2 — 56
Церковь, ч. 2 — 56
Крымская пл., ч. 1 — 89, 268 Крымский брод, ч. 1 —441, 443 Кудрино, с., ч. 1 — 246
Кучково поле, ч. 1 —246, 391, 441, 443
Ленивый вражек, ч. 1 — 246 Можайская дорога, ч. 1 — 246 Напрудная, р., ч. 1 — 246 Неглинная, р., ч. 1 — 238, 246, 247, 438, 442; 2 — 239
Напрудское, с., ч. 1 — 246
Трифона церковь, ч. 1 — 246
Никитский монастырь, ч. 1 — 247
Никиты Мученика церковь, ч. 1 — 238, 246, 247
Никитские ворота, ч. 1 — 245 Никольская ул., ч. 1 — 246 Новый мост, ч. 1 — 247
Ордынская дорога, ч. I — 246 Патриарший пруд, ч. 1 — 246 Петровский монастырь, ч. 1 — 246, 247, 441, 443
Подол, ул., ч. 1 — 246 Пресня, р., ч. 1 — 246 Рачка, р., ч. 1—246 Рождественский монастырь, ч. 1—246, 247, 441, 443 Рождества пречистые церковь, ч. 1 — 247
Самотёка, р., ч. 1 — 246 Семчинское, с., ч. 1 — 246, 268 Церковь Семёна, ч. 1 — 247 Сивка, р., ч. 1 — 246
Симонов монастырь, ч. 1 — 144, 246, 247, 441, 443; 2 — 42, 60„
240, 241, 251, 322, 331 Собор, ч. 2 — 322
Сполье, Всполье, ч. 1 — 247
Сретенский монастырь, ч. 1 — 246, 441, 443
Страстной монастырь, ч. 1 — 247 Сущево, с., ч. 1 — 246 Тверская дорога, ч. 1—246 Троицкий монастырь, ч. 1 —407;
2 — 30, 32, 45 Хвостовское, с., ч. 1 — 246 Черногрязка, р., ч. 1 — 246 Черторый, ручей, ч. 1 — 246 Чечора, р., ч. 1—246
Москва, р., ч. 1 — 115, 246, 251г 380, 385, 438, 441, 442, 443, 444; 2 — 52, 236, 239, 240, 247, 329
Московская обл., ч. 1 — 62, 65, 66, 67 Московское Великое кн., Московское государство, Московия, ч. 1 — 9Г 10, 15, 23, 24, 60, 61, 79, 101, 136, 217, 250, 252, 310, 312, 314г 340, 342, 347, 368, 375, 377, 378, 379, 380, 384, 386, 434, 438; 2 — 6, 9, 16г 24, 25, 29, 30, 31, 34, 37, 40, 11Ц 140, 157, 207
Московский у., ч. 1 —40, 41, 44, 46г 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 6Ц 76, 83, 93, 99, 101, 103, 107, 120„ 126, 233, 444; 2 — 35
Меча, р., ч. 1—241
Мета, р., ч. 1 — 177, 385; 2 — 259 Мстиславль, г., ч. 1 — 376; 2 — 203 Муром, г., ч. 1 — 134, 350, 385, 448,.
449; 2— 148, 243, 149
Монастырь, ч. 2 — 210
Муромское, Муромо-Рязанское кн.г у., ч. 1 —46, 51, 54, 60, 61, 120, 126г 350, 448; 2 — 148
Назарет, г., ч. 2—183
Нара, р., ч. 1 — 115, 380, 447
422
Наров, г., ч. 1 — 368, 390 Неаполь, г., ч. 2—190 Нева, р., ч. 1 — 115, 358, 359, 360,
368, 369, 427; 2—125 Нейгаузен, г., ч. 1 — 456 Неман, р., ч. 2 — 205 Ненокса, с., ч. 2 — 210 Церковь, ч. 2 — 210 Нередица, р., ч. 2 — 256, 275, 302 Нерехта, г., ч. 1 — 146, 312 Нерль, р., ч. 1 — 115 Нижегородское кн., у. см. Суздальско-Нижегородское княжество Нижний Новгород, г., ч. 1—22, 31,
243, 333, 336, 339, 341, 349, 371,375, 376, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 398, 449, 450; 2— 103, 239, 243, 244, 286, 323, 356, 363
Благовещенский монастырь, ч. 1—450
Михаила архангела церковь, ч. 1 —449; 2 — 323
Храм Николы «на бичеве», ч. 1— 449; 2 — 244
Печерский монастырь, ч. 1 — 450 Спасский собор, ч. 1 — 449
Низовская земля см. Владимиро-Суздальская земля
Никольское, с., ч. 1 — 64 Ниневия, ч. 2—128
Новгород Великий, ч. 1 — 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 44, 45, 46, 47, 50, 62, 64, 66, 68, 78, 79, 80, 82, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 107,108, 109, НО, 111, 112, 115, 117, 119, 122, 123, 126, 131, 133, 135, 144, 146, 149, 156, 159, 161, 162, 164,165,167, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 226, 228, 230,234,239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 258, 260,261,262, 263, 264, 266, 269, 272, 274, 275, 280,281,282, 284, 285, 286, 287,288, 292, 294, 296, 298, 299, 300, 301,302, 303, 304, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 323, 325, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 337, 339, 340, 342,343,346, 349, 350, 357, 358, 360, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 374, 375, 378, 382, 384, 385, 393, 395, 397, 399, 400, 401, 402, 404,406,407, 408, 410, 411, 415, 425, 427, 428, 430, 431,433, 434, 437,442; 2 — 6, 8, 9, II, 12, 15, 22, 24, 28, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, &3,
84, 87, 100, 103, 105, 106, 109, 119, 130, 140, 142, 144, 145, 146, 158,
163, 165, 167, 169, 176, 181, 183, 185, 186, 189, 191, 197, 198, 203, 204,207, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 239, 245, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 279, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,305,307,311, 313, 314,315, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 329, 345, 356, 360, 363, 364, 365, 366, 379, ЗЕО, 381, 383, 384,388, 389,393 Антониев, Онтониев (Сийский) монастырь, ч. I — 298, 299; 2— 55, 72, 79, 302
Рождества Богородицы собор, ч. 2 — 302
Аркажский монастырь, ч. 2 — 302 Благовещенья церковь, ч. 2 — 302
Бориса и Глеба церковь, ч. 2 — 304, 305
Васильевские врата, ч. 2 — 386 Великая ул., ч. 1 —210, 215, 260, 261
Великий волховский мост, ч. 1 — 310.
Власия церковь, ч. 2 — 220, 311 Городище, ч. 1 —407; 2 — 214, 236, 238, 256, 285, 296, 298, 302
Благовещенья церковь, ч. 2 — 214, 238, 256, 285, 296, 298, 302
Гостинополье, ч. 2 — 223 Гостинопольский монастырь, ч. 2 — 284
Николы церковь, ч. 2 — 223, 284
Грановитая палата, ч. 2 — 225 12 апостолов церковь, ч. 2—220 Деревяницкий монастырь, ч. 2 — 284
Воскресения церковь, ч. 2 — 284.
Дмитрия церковь, ч. 2 — 220 Зверин монастырь, ч. 2 — 223, 224, 302, 303
Симеона церковь, ч. 2 — 223, 224.
Иоанна Предтечи церковь, ч. 1— 298, 300, 303; 2 — 63, 64, 223
Ильина ул., ч. 2 — 220, 221, 285, 286
Ильи церковь, ч. 1 — 430
Спаса на Ковалёве церковь, ч. 1 — 408, 410; 2 — 220, 221, 285, 286, 287, 288, 408, 410
Кожевники, ч. 1 — 200; 2 — 222.
27*
— 423 —
Петра и Павла церковь, ч. 2 — 220 222
Копорье, ч. 1 —251, 360, 364,365, 366, 367, 425, 426, 427, 428
Красильницкая ул., ч. 1 — 197 Кремль, ч. 1 —247; 2 — 284
Входа в Иерусалим церковь, ч. 2 — 284, 294
Людогоща, ул., ч. 1—431; 2 — 176
Липенский холм, ч. 2 — 259
Николы церковь, ч. 2 — 214, 215, 257, 258, 259, 260, 275, 293, 320
Немецкий и Готский дворы, ч. 1 —244, 292, 294
Неревский раскоп, ч. 1 — 192, 197, 200, 210, 242, 261, 282,286 Павловский монастырь, ч. 1 — 430
Перынь, гора, ч. 1 —62, 263,337;
2 — 214
Рождества Богородицы церковь, ч. 2 — 214
Прусская ул., ч. 1 — 245 Прусские ворота, ч. 2— 189 Пятницы церковь, патрональная
церковь купцов, ч. 1 — 244
Радоковицы, ч. 2 — 220
Иоанна Богослова церковь, ч. 2 — 220
Софийская сторона, ч. 1—313, 430, 431; 2 — 63, 125, 137 «Белая» башня, ч. 1—431
Софийский собор, ч. 1 — 144,243,
232, 284; 2 — 63, 125, 137, 166,
303, 321, 364, 365, 383
Магдебургские ворота, ч. 1 — 282, 284; 2 — 383, 384, 393
Сковородский монастырь, ч. 2 —
217, 298, 299, 300, 301, 302
Михаила архангела церковь, ч. 2 — 285, 298, 299, 300, 301, 302
Славна, Славенский конец, ч. 1— 406, 431; 2 — 53, 223
Ильи церковь, ч. 2 — 223 Спасский-Нередицкий монастырь, ч. 1 — 144
Спаса Преображения церковь, ч. 2 — 289
Терпилов погост, ч. 1 — 298 Торговая сторона, ч. 1—313,
430, 431; 2 — 315
Феодора Стратилата на Ручье церковь, ч. 2 — 219, 220, 285, 289, 290, 293, 296, 305
Фроловский погост, ч. 2 — 55 Холопья ул., ч. 1 —215, 260,261 Часозвоня «сторожня», ч. 2—226
Юрьев монастырь, ч. 1 — 99; 2 — 55, 256, 302
Собор, ч. 2 — 302 Ярославово дворище, ч. 2 — 302 Никольский собор, ч. 2 — 302
Новгородская земля, республика, Северо-Западная Русь, ч. 1—40, 41,
42, 46, 17, 18, 24, 38, 47, 48, 49, 50,
45, 56, 58, 59, 61, 67, 69, 71, 75, 78,
79, 81, 82, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 104, 107, 120, 131, 144, 145, 146, 151, 154, 232, 234, 235, 243, 250, 253, 255, 263, 297, 324, 350, 358, 363, 367, 372, 380, 390, 416, 425, 428, 454; 2 — 7, 12, 22, 45, 46, 50, 63,
80, 84, 87, 185, 255, 305, 377
Водская пятина, ч. 1 — 79, 80, ПО, 136, 160, 161, 234, 393, 425 Шелонская пятина, ч. 1 — 136;
2 — 55
Новгород Северский, г., ч. 1 — 350 Новгород-Северское кн., ч. 1 — 350 Новленское, с., ч. 2 — 360 Новогрудок, г., ч. 1 — 64, 65 Новосиль, г., ч. 1 — 384, 385 Новоторжский у., ч. 1 —40, 41, 44,
46, 47, 48, 51, 52, 54, 60, 61, 76, 78, 83, 82, 88, 107, 243
Новый Торг, Торжок, г., ч. 1—379
Новый городок на Старице, ч. 1 — 434, 436, 447, 462
Норвегия, ч. 1—311
Обнора, в., ч. 2 — 39
Оболенск, г., ч. 1 — 379, 385; 2 — 203 Обонежье, ч. 2 — 318
Обухов, г., ч. 1—371
Обь, р., ч. 1 — 120
Овлуй, р., ч. 1 — 365
Овруч, г., ч. 1—321
Озёры, с., ч. 2 — 45
Озолица, оз., ч. 1 — 308, 361
Одоев, г., ч. 1 — 387
Ока, р., ч. 1 —20, 21, 115, 309, 324, 350, 370, 374, 375, 376, 377, 380,381, 384, 385, 386, 387, 447, 448, 449, 450; 2— 149, 240, 243
Олгина гора, ч. 1—412
Олексин см. Алексин
Олонец, г., ч. 1 — 161
Олонецкий р-он, ч. 2 — 319
Олюшенское, с., ч. 2 — 380
Церковь, ч. 2 — 380
Ондреиковская-Огурцова, д., ч. 1 — 102
Онега, р., ч. 1 — 115
Онежское, оз., ч. 1 — 115
Опока, г., ч. 1 — 416, 417, 424, 426, 457, 459, 460; 2 — 279
— 424 —
Опочка, г., ч. 1 — 434
Орехов, г., ч. 1 — 425, 427—428, 458
Ореховый, о., ч. 1 — 369
Орешек, г., ч. 1 — 365, 367, 456
Орлец, г., ч. 1 —433, 459, 461
Орловская обл., ч. 2 — 83
Орнач, г., ч. 2 — 201
Осиливрийская страна, ч. 2 — 201
Остров, г., ч. 1 —209, 416, 417, 422, 423, 430, 443
Оулуярви см. Каяна
Павлово-Обнорский монастырь, ч. 2— 365, 370
Троицкий собор, ч. 2 — 370 Павлово, с., ч. 2 — 354 Палеостровский монастырь, ч. 1 — 109
Палестина, ч. 2— 182, 197, 198 Пальное, городище, ч. 1 — 77 Панилово, с., ч. 2 — 210, 212
Николы церковь, ч. 2 — 212 Парват, г., ч. 2—153
Парма, ч. 2—190
Пензенская обл., ч. — 263
Пепелы, Пепел, ч. 1 — 56 Перемышль, г., ч. 2—174
Перемышль на Моче, г., ч. 1 — 241, 251
Пересечен, г., ч. 2 — 203 Переяславская дорога, ч. 2—184 Переяславль Залесский, г., ч. 1 —
119, 137, 368, 239, 262, 375, 377,
385; 2 — 323, 326, 329
Собор, ч. 2 — 239 Переяславль-Рязанский, г., ч. 1 —
23, 44, 241, 377, 448; 2 — 243
Кремль, ч. 1 — 447, 448
Архангельский собор, ч. 1—447 Архиерейский дом, ч. 1 — 447 Богоявленская церковь, ч. 1 —
447
Введенская башня, ч. 1 — 447 Воеводский двор, ч. 1 — 447 Всехсвятская башня, ч. 1—447 Глебовская башня, ч. 1 —447,
448
Глухие башни, ч. 1 — 447 Духовская башня, ч. 1 — 447 Духовской монастырь, ч. 1 — 447
Ипатская башня, ч. 1—447 Казанский монастырь, ч. 1 — 447
Ольгов монастырь, ч. 2 — 53, 243
Преображения церковь, ч. 1 — 447
Приказная изба, ч. 1 — 447
Рождественский собор, ч. 1 — 447
Рязанская башня, ч. 1 — 447 Спасская башня, ч. 1 — 447 Спасский монастырь, ч. 1—447 Тайнинская башня, ч. 1—447 Тюрьма, ч. 1 —447 Успенский собор, ч. 1 —447;
2 — 243, 329
Пресвятой Богородицы церковь, ч. 2— 120
Солотчинский монастырь, ч. 2 — 243
Переяславль-Залесское кн., у., ч. 1 — 40, 41, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 58, 61, 76, 78, 83, 93, 98, 99, 107, 120, 126, 233
Переяславль Южный, г., ч. 1 — 350 Переяславское, оз., ч. 1 — 115 Пермская епархия, ч. 2 — 51 Пермская земля, ч. 1 — 129; 2 — 51,
117, 202
Пермь, г., ч. 1 — 124, 146; 2 — 57, 202 Персия, ч. 2—152, 153
Персидский залив, ч. 2—153 Пехорская (Печорская) в., ч. 2 — 42 Печора, р., ч. 1 — 120
Пинск, г., ч. 1 — 350 Пир, оз., ч. 2 — 319 Плашкино, г., ч. 2—185 Плес, Плесо, г., ч. 1 — 450, 451; 2 —
39
Пнёво, с., ч. 1—361 Поволжье, ч. 1 —263, 303, 319, 334,
386, 450; 2 — 51, 263 Подборовье, ч. 1—361 Подгорье, ч. 1 — 356 Подмосковье, ч. 1 — 45, 239 Подолия, ч. 2 — 353 Поемеское, с., ч. 1 — 55 Полесье, ч. 1 — 353 Полоцкая земля, ч. 1 — 356 Полоцк, г., ч. 1 — 323, 350; 2 — 57,
197, 236 Спасо-Евфросиниев монастырь, ч. 2 — 236
Полоцкое княжество, ч. 1 — 350 Польша, Речь Посполитая, ч. 1 — 226,
241, 244, 350
Поморье, ч. 1 —365, 366; 2 — 59 Понтийское (Черное, Русское) море,
ч. 1 —350, 357; 2— 153, 201, 202 Порхов, г, ч. 1 — 367, 425, 428, 429,
430, 431, 432, 443, 457; 2 — 203 Малая башня, крепость, ч. 1 — 429
Пошехонский у., ч. 1 —40, 51, 53, 54,
93, 126 Приазовье, ч. 1—319
— 425
Прибалтика, ч. 1 — 119, 144, 281, 336,
337, 357; 2 — 60
Восточная Прибалтика, ч. 1—416 Приладожье, ч. 1 — 428
Прионежье, ч. 2 — 210 Приуралье, ч. 1 —206; 2—177
Пронск, г., ч. 1 — 77
Пронь, р., ч. 1 — 448
Протва, р., ч. 1 —380, 381, 445, 446, 447
Пруссия, ч. 1 — 332
Прут, р., ч. 1 — 350; 2 — 203
Псков, г., ч. 1 — 17, 19, 24, 31, 32, 64,
69, 101, 103, 116, 133, 149, 156, 161, 179, 202, 218, 240, 245, 249, 296,
302, 325, 333, 336, 337, 338, 339, 346, 360, 364, 366, 368, 369, 372, 373,
391, 406, 412, 417, 420, 421, 423, 424, 433, 443, 458, 459, 460, 462;
2 — 6, 7, 8, 17, 28, 30, 31, 32, 34,
37, 41, 42, 43, 47, 58, 60, 63, 74, 75, 76, 119, 158, 173, 180, 186, 207, 220, 227, 229, 228, 231, 232, 233, 251, 254, 255, 261, 262, 263, 268, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284,
323, 345, 370
Богоявленский конец, ч. 1 — 458 Васильевская горка, ч. 1 — 420
Василия церковь, ч. 2 — 229, 275
Елеазаров монастырь, ч. 2—150
Завеличье, ч. 1 — 423
Залужье, ч. 2 — 231
Сергия церковь, ч. 2 — 231 Запсковье, ч. 1 —420, 421, 423,
458; 2 — 233
Зрачка, ручей, ч. 1 — 420 Зраковщи, ч. 2— 172
Ильи церковь, ч. 2 — 262
Кирилла у Смердья моста церковь, ч. 2 — 228
Красное, с., ч. 1 — 457
Кром, Кремль, крепость, ч. 1 — 40, 115, 420, 421, 423; 2—172 Довмонтов городок, ч. 1 — 420 Вшивая, Ушивая горка, ч. 2 — 52
Святой Варвары церковь, ч. 2 — 28
Троицкий собор, ч. 1 — 391, 421, 2—52, 53, 63, 227,228,241,251
Козьмодемьянский конец, ч. 1 — 458
Козьмы и Демьяна с «При- мостья» церковь, ч. 2 — 229
Мирожский собор, ч. 2—220, 227 Николы Каменноградского церковь, ч. 2 — 230, 231
Николы от кож церковь, ч. 2 — 261
Окольный город (Полонище), ч. 1 —420, 421, 423
Пароменье, ч. 2 — 231, 232, 278 Успения церковь, ч. 2 — 231, 232, 278
Петра и Павла церковь, ч. 1 — 420
Смердий мост, ч. 2 — 228
Снетогорский монастырь, ч. 2 —
76, 227, 275, 276, 277
Рождества Богородицы собор, ч. 2 — 276
Софии церковь, ч. 2 — 227, 229
Средний городок, Застенье, ч. 1 — 420, 423
Торг, ч. 1—420
Псковская земля, республика, ч. 1 —
24, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 54, 59, 61,
67, 83, 93, 97, 99, 120, 131, 144, 145, 227, 228, 309, 346, 416, 417, 425,
455; 2 — 7, 15, 16, 22, 84, 228, 229, 281, 283
Псковская обл., ч. 1—263
Пскова, р., ч. 1 — 420, 423, 458 Псковское, оз., ч. 1—416 Пудожский край, ч. 2—144
Пустая Ржева, ч. 1—417
Пьяна (Пьяная), р., ч. 1 —303, 315,
383, 386
Раваница, г., ч. 2 — 296, 301 Спасителя церковь, ч. 2 — 296, 301
Радилов, г., ч. 1 — 434
Радоковницы, г., ч. 2 — 220
Иоанна Богослова церковь, ч. 2 — 220
Радонеж, г., ч. 1 — 40, 42, 44, 45, 62, 78; 2 — 60
Льняниковская пустошь, ч. 1 — 45
Радонежский у., ч. 1—61, 76
Раковор, г., ч. 1 — 366, 368
Ржев, Ржева, г., ч. 1 — 376, 382, 385, 414, 434, 462
Ржевский у., ч. 1—40, 41, 120
Рекклингхаузен, г., ч. 2 — 309
Релово, д., ч. 1—51
Репищо, д., ч. 1 — 101
Репкино, д., ч. 1 — 101
Рига, г, ч. 1 —368, 391; 2—18, 46, 80, 85, 96, 123
Рим, г., ч. 1 —357, 391 Константиновский двор, императорский дворец, ч. 2— 198
Римская империя, ч. 2 — 49
Робичинская в., ч. 1—99; 2 — 55 Романов, г., ч. 1—443
Рославль, г., ч. 1—241
— 426 —
Ростов Великий, г., ч. 1 —31, 77, 138, 245, 342, 350, 375, 382, 385; 2 — 25, 57, 203, 210, 253, 254, 255, 263, 264, 268, 345, 354, 358
Бориса и Глеба церковь, ч. 2 — 235
Успенский собор, ч. 2 — 235, 253 Ростово-Суздальское кн. у. см. Владимиро-Суздальская земля
Ростовское, оз., ч. 1 — 115 Рудница (старая), ч. 1—361
Руза, г., ч. 1 — 444, 447
Рузский у., ч. 1 —40, 41, 83, 93, 99, 103, 120
Русса, р., ч. 1 — 142
Русь, Русская земля, Русское государство, Россия, ч. 1—7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44,
45, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59,
<60, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 75,
76, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93,
‘94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, .105, 106, 107, 108, 109, 111, 112,
113, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 124, 126, 130, 131, 133, 134, 136, 137,
144, 145, 146, 147, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 160,
162, 164, 165, 168, 169, 170, 171,
173, 174, 177, 178, 179, 181, 183,
186, 192, 197, 199, 202, 204, 205,
206, 207, 214, 217, 218, 219, 220,
221, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
1231, 232, 233, 234, 235, 237, 239,
240, 241, 243, 244, 245, 255, 256,
262, 270, 275, 281, 287, 288, 289,
291, 292, 299, 300, 301, 305, 310,
312, 312, 313, 314, 315, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
334, 343, 344, 345, 349, 346, 351,
352, 355, 356, 357, 358, 360, 363,
364, 366, 367, 369, 371, 375, 376,
378, 379, 383, 386, 388, 389, 391,
394, 396, 399, 400, 402, 406,
411, 412, 414, 416, 434, 448, 453,
455, 456, 460, 464; 2 — 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 44, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65,
67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, .85, 90, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112. 115,
119, 120, 122, 123, 124, 128, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 139, 141,
144, 152, 153, 156, 157, 158, 161, 162,
166, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177,
178, 18Т, 182, 186, 188, 191, 195, 199,
200, 201, 204, 205, 206, 208, 213,
239, 240, 241, 245, 251, 253, 255, .297, 275, 281, 284, 286, 287, 289,
293, 294, 309, 311, 319, 321, 322,
337, 338, 345, 346, 347, 352, 354,
364, 366, 372, 375, 377, 379, 380,
381, 386, 388, 393
Рыдин, г., ч. 2—185
Рязанское кн., земля, ч. 1 — 24, 35,
40, 41, 45, 46, 47, 85, 93, 101, 103, 104, 110, 115, 117, 119, 126, 128,
250, 257, 334, 336, 358, 367, 375,
386, 447, 448; 2—121
Рязанская обл., ч. 1 — 64, 67, 80, 263 Рязанское ополье, ч. 1 — 78
Рязань, г. см. Переяславль-Рязан- ский
Савво-Вишерский монастырь, ч. 2 — 53
Сакгвина, ч. 2—190
Саклаб, ч. 1 — 322
Самолва, ч. 1—361
Сан, р., ч. 1 — 355, 356
Сандомир, ч. 1 — 350
Сарай Великий, Сарай Берке, ч. 1 — 308, 370, 371, 372; 2 — 57, 201
Сарайская епархия, ч. 2 — 51 Сарачка, р., ч. 1—444
Свейская земля, Швеция, ч. 1—315, 369, 416, 425; 2 — 213
Свирь, р., ч. 1 — 115
Свияжск, г., ч. 1 — 433 Святая земля, ч. 2— 148, 166 Севастия, ч. 2 — 201
Северка, р., ч. 1 — 387
Северная Двина, р., ч. 1 — 137, 175; 2 — 79, 69, 264, 381
Северное Причерноморье, ч. 1 — 25 Генуэзские колонии, ч. 1—25 Северный Донец, д., ч. 1 — 350 Северный полярный круг, ч. 1 — 366 Северо-Восточная Русь см. Владимиро-Суздальская земля
Северо-Западная Русь см. Новгородская земля
Селигер, оз., ч. 1 — 115, 253
Селунь, Солунь, земля, ч. 2—198, 201 Семеновское городище, ч. 1—64 Сербия, ч. 2— 142, 293, 296, 300, 301 Серет, р., ч. 1 — 350
Серпухов, г., ч. 1 — 336, 339, 380,
381, 384, 385, 447; 2 — 60, 233, 240, 323, 326
Высоцкий монастырь, крепость, ч. 1 — 447
Серпуховской удел, ч. 1 — 107, 341; 2 — 9
Сибирь, ч. 2— 169, 380
Синяя, р., ч. 1—424
Синяя Орда, ч. 2 — 201
Сирвна, г., ч. 2—190
427
Сить, р., ч. 1 — 350
Скандинавия, ч. 1 — 315 Скирменовская слобода, ч. 1 — 233
Скнятин, г., ч. 1 — 434
Скорнищево, с., ч. 1—384
Словенск, г., ч. 2 — 203
Славянск, г., ч. 1 — 106
Смоленск, г., ч. 1 — 149, 156, 179,
241, 245, 248, 249, 251, 252, 257,
303, 322, 323, 325, 349, 350, 368,
376, 383, 384, 391, 462; 2 — 6, 18,
96, 152, 178, 186, 197
Смоленское кн., ч. 1 — 43, 65, 225,
350, 375; 2—18
Смоленщина, Смоленская обл., ч. 1— 43, 62, 64, 67, 236, 252, 263, 264,
324
Содом, библ., ч. 2—183
Гора Соблазна, библ., ч. 2—183 Соколово, с., ч. 1 — 233
Солдайя (Сурож, Судак), г., ч. 1 — 456
Соловецкий монастырь, ч. 1—22, 138, 158; 2 — 60
Соловецкий, о., ч. 2 — 60
Соль Галицкая, ч. 1 — 137, 142, 376 Соль Камская, ч. 1 — 138, 145, 146 Соль Переяславская, ч. 1 — 147 Солцы, с., ч. 1 — 138
Сороть, р., ч. 1—417
Сороцинская земля, ч. 2 — 199 Сосна, р., ч. 1 — 35, 370
Сохина Гридинская, д., ч. 1—61 Сохино, с., ч. 1 — 61
Спасский Верендовский монастырь,, ч. 2 — 43
Средиземноморье, ч. 1 — 357
Старая Ладога, г., ч. 1 — 64, 65, 67г 69, 70, 256; 2 — 220, 302
Георгия церковь, ч. 2 — 302 Климента церковь, ч. 2 — 228
Старая Русса, г., ч. 1 — 137, 142, 144, 145, 149, 425; 2 — 223
Спаса церковь, ч. 2 — 223
Старая Рязань, г., ч. 1 — 18, 28, 108, 239, 257, 448
Старица, г., ч. 1 — 241, 434, 436, 439, 440; 2 — 245, 323
Городище, ч. 2 — 245
Михаила архангела собор, ч. 2 — 245, 323
Вознесенский монастырь, ч. 1 — 496
Старицкий у., ч. 1 — 93
Старица, р., ч. 1 — 436
Стародуб, г., ч. 1 — 377, 385 Стародуб Литовский, г., ч. 2 — 203 Старо-Нагоричено, ч. 2 — 301
Старое Рыдино, ч. 2—185
Степурино, с., ч. 1 — 233*
Студеное (Белое) море,, ч. 1—2Ъ„ 137, 138, 375; ч. 2 — 60
Суздаль, г., ч. 1 —31, 77, 138, 239, 263, 349, 350, 368; 2 — 57, 103, 197, 317, 239, 356, 357, 370, 389
Кремль, ч. 1 — 76
Покровский монастырь, ч. 2 — 329, 356, 357
Спасо-Евфимиев монастырь,
ч. 1 — 144
Рождественский собор, ч. 2 — 317
Суздальско-Нижегородское кн., Суздальское кн. у., ч. 1 — 10, 24, 40, 41, 44, 45, 48, 51, 50, 52, 53, 54, 60^ 61, 62, 78, 107, 83, 93, 96, 120, 126, 136, 264, 335, 336, 375, 377, 449, 450; 2— 104, 105, 121, 207, 243, 356
Суздальское ополье, ч. 1 — 78 Сулман, г., ч. 2— 190
Сура, р., ч. 1 — 115, 313
Сурожское (Азовское) море, ч. 1 — 350.
Сухона, р., ч. 1 — 115, 375, 452, 458;. 2 — 53,. 264
Стрельный порог, ч. 1 — 458
Сумь, земля, ч. 1 — 358
Сюзм:а, р., ч. 1 — 115
Талыш, ч. 1—179
Тамбовская обл., ч. 1 — 263 Таруса, г., ч. 1 — 385
Тверца, р.,. ч, 1 —434, 438
Тверь, г., ч. 1 —25, 26, 31, 32, 42, 44, 45, 206, 239, 241, 243, 248, 271, 308,. 309, 312, 325, 333, 338, 339, 349,
363, 368, 370, 375, 377, 378, 379,
380, 381, 384, 385, 412, 414, 433,
434, 435, 436, 438, 442, 443, 457,
459, 461, 462; 2 — 24, 57, 62, 67,
72, 75, 76, 118, 119, 133, 134, 135,
140, 147, 152, 197, 207, 234, 235, 236, 238, 239, 244, 245, 264, 271, 286, 323, 358, 389, 393
Желтиков монастырь, ч. 2 — 24Ф Кремль, ч. 1 — 240, 244, 435, 459*, 2 — 253, 209, 235, 244 Василия церковь, ч. 1 — 435 Дмитрия церковь, ч. 2 — 235 Козьмы и Демьяна церковь ч. 2—235
Мачевские ворота, ч. 1—351 Михаила архангела церковь, ч. 2 — 244, 245, 253
Отрочь монастырь, ч. 2 — 358
Спаса Преображения церковь, ч. 1 —243,. 436; 2 — 235, 244, 271, 323.
— 428 —
Спасо-Афанасьевский мона¬
стырь, ч. 2 — 285
Бориса и Глеба церковь, ч. 2 — 253
Введения церковь, ч. 2 — 235 Федоровский монастырь, ч. 1 — 436; 2 — 236
Тверское кн., у., в., ч. 1 —24, 40, 41, 46, 47, 61, 120, 250, 257, 243, 339,
341, 368, 375, 384, 385, 433, 438;
2— 10, 24, 147, 235, 244, 245, 271, 358
Тебриз, г., ч. 1 —348; 2 — 201 Тевтонский орден, ч. 1 — 350 Терек, р., ч. 1 — 314
Терский Бор, ч. 1 — 366
Тиверец, г., ч. 1 — 367, 425, 428, 429 Тимерово, с., ч. 1—62
Тифлис, г., ч. 2 — 201
Тихая Сосна, р., ч. 1 —370, 386 Тульская засечная черта, ч. 1 — 380 Тульская обл., ч. 1 — 263
Тихвин, г., ч. 1—42, 161; 2 — 305,
306
Тов, г., ч. 2 — 38
Торопец, г., ч. 1 — 363, 364 Торчелло. г., ч. 2 — 334
Торчелла, р., ч. 2 — 334
Торжок, г., ч. 1 —78, 137, 290, 311,
349, 350, 363, 367, 384, 434, 460
Тотьма, г., ч. 1 — 145, 376 Преображенский монастырь, ч. 1 — 146
Точища, д., ч. 1—234
Троице-Сергиев монастырь, ч. 1—21,
23, 43, 47, 51, 55, 76, 136, 137, 142, 144, 146, 147, 206, 306, 310, 312,
313, 314; 2 — 53, 55, 60, 62, 69, 70,
71, 130, 197, 349, 250, 271, 322, 330, 331, 340, 341, 342, 343, 347, 348,
350, 351, 355, 366, 386, 388
Троицкий собор, ч. 2 — 249, 260, 322, 330, 341, 342, 343, 347, 348, 349, 350
Троицкий монастырь в Вологодской земле, ч. 2 — 53
Троена, р., ч. 1—379
Трубеж, р., ч. 1 — 447, 448 Турово-Пинское кн., ч. 1 — 350 Турция, ч. 1 — 106; 2 — 53, 163 Туров, г., ч. 1 — 350
Тушков, г., ч. 1 —251, 252 Тырнов, г., ч. 2 — 204
Тьмака (Тмака), р., ч. 1 — 243, 434,
435; 2 — 236
Тьмутаракань, г., ч. 2 — 203
Углич, г., ч. 1 —241, 273, 313, 339,
376, 377, 385, 414, 443; 2 — 381,
382
Дворец, ч. 1 — 273
Угличский у., ч. 1 —40, 42, 51, 52, 54, 93, 120, 126
Угра, р., ч. 1 —377, 381
Удине, г., ч. 2—190
Узмень, ч. 1—361
Украина, ч. 1—216
Улеаборг, б. Овлуй, ч. 1 — 365 Улома, р., ч. 1—91
Урал, ч. 1 — 366
Ургенч, г., ч. 1 — 348
Усвяты см. Всвята
Устюжна, крепость, ч. 1 — 177, 425, 430, 433, 434
Устюг Великий, ч. 1 — 40, 62, 120, 312, 314, 370, 375, 376, 452, 458, 460; 2 — 205, 208, 210, 264, 265, 266 Гледень, гора, ч. 1 —452, 453 Михаило-Архангельский монастырь, ч. 2 — 266
Успенский собор, ч. 2 — 208, 210 Черный прилук, ч. 1 — 453
Устюжна-Железнопольская, ч. 1 — 161
Ушьменка, р., ч. 2—169
Фаворская, гора, ч. 2 — 73
Федоровский, о., ч. 1 — 436
Финляндия, ч. 1 — 364, 365
Финский залив, ч. 1 — 161, 358, 364, 365, 425
Фландрия, ч. 1 — 19, 281
Флоренция, ч. 2 — 147
Форнелюм, г., ч. 2—190
Франция, ч. 1 — 106
Северная Франция, ч. 1 — 19
Хабалина гора, с., ч. 1 —234
Покрова Пречистые церковь, ч. 1—234
Хабаров, городок, ч. 1 — 253 Хаджи-Тарханы, Хасторокани, ч. 1— 370
Халынка, р., ч. 1 — 434 Хвалынское море см. Каспийское
Хвойное, оз., ч. 1 — 234
Хвойно, д., ч. 1 — 234
Хлынов, г. см. Вятка
Холм, г., ч. 1 —241, 354, 425, 434;
2 — 379
Холмогоры, г., ч. 1 — 120, 126; 2 — 381
Холова, р., ч. 2—185
Хопёр, р., ч. 1 — 370, 375
Хоросан, Хор, ч. 2 — 201
Хотомель, г., ч. 1 — 64, 78
429
Царьград, г. см. Константинополь
Церковище, городище, ч. 1 — 62
Цна, р., ч. 1 — 447
Чадо, оз., ч. 1—424
Чаул, г., ч. 2 — 153
Чегодаево, с., ч. 1—51 Чегодаевское поле, ч. 1—51 Червленый Яр, ч. 1 — 375
Черная гора, ч. 2 — 99
Черное, оз., ч. 1 — 424
Черная Могила, курган, ч. 1 — 398 Черная Русь, ч. 1 — 350
Чернигов, г., ч. 1 —28, 241, 343, 349,
350, 352; 2 — 57, 120, 121, 161
Черниговское кн., Черниговщина, ч. 1 — 324, 350
Чехия, ч. 1 — 220
Чудская рудница, ч. 1—361
Чудское, оз., ч. 1 —360, 363, 416,
417; 2 — 227
Чудь, Эстония, ч. 1 — 364 Чухломский Покровский монастырь,
ч. 1 — 142, 144
Чюхченемский монастырь, ч. 1 — 304
Шексна, р., ч. 1 — 115, 310, 385
Шемаха, г., ч. 2 — 201
Шелонь, р, ч. 1 —417, 429, 430, 457
Шелково, с., ч. 1 — 233
Шерна, р., ч. 1 — 115
Шираз, г., ч. 2 — 201
Шоша, р., ч. 1 — 434
Шохонка, ч. 1—451
Эльба, р., ч. 1 — 357, 363
Эфиопия, ч. 1 — 106
Юг, р., ч. 1 — 452; 2 — 264
Южная Америка, ч. 1 — 106
Юксовичи, с., ч. 2 — 210, 211
Георгия церковь, ч. 2 — 210, 211
Юрьев, г., ч. 1 — 173, 331, 365, 368, 461
Юрьев Польской, г., ч. 1 — 138, 385; 2 — 236
Георгиевский собор, ч. 2—336
Юрьевский у., ч. 1 —40, 41, 48, 51, 52, 53, 54, 61, 93
Яжелбицы, с., ч. 2—185 Якутский округ, ч. 1 — 158
Яма, г., ч. 1 —367, 414, 425, 427, 459, 462
Ямь, ч. 1 — 358, 366
Яновское городище, ч. 1 — 62 Яранский у., ч. 1 — 62
Ярославль, г., ч. 1 — 293, 336, 339,
342, 350, 354, 355, 371, 385, 443; 2— 66, 99, 254, 256, 263, 266, 267, 268, 269
Архангела Михаила на р. Кото- росли церковь, ч. 2 — 266 Крепость, ч. 1 — 443 Спасо-Преображенский монастырь, ч. 2 — 263
Спасо-Ярославский монастырь, ч. 1 — 144
Ярославль на Сане, г., ч. 1 — 354 Ярославский у., кн., ч. 1 — 24, 47,
48, 51, 53, 54, 60, 61, 67, 76, 78, 93, 62; 2 — 66
Ярославская обл., ч. 1 — 67 Ятвяжское полесье, ч. 1 — 353
Яуза, р., ч. 1 — 40, 246
Составитель Л. А. Александрова
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИИ
стр. Слова и поучения Серапиона, епископа Владимирского. Пергаменный сб.
XIV в. «Златая цепь». Полуустав. ГБЛ, отдел рукописей 127
Житие Сергия и Никона Радонежских, с послесловием Пахомия Логофета.
Пергаменный сб. XV в. Полуустав. ГБЛ, отдел рукописей 143
Повесть о Дракуле, мутьянском воеводе. Пергаменный сб. XV—XVI вв.
Полуустав. ГБЛ, отдел рукописей 155
Тверской кремль в начале XV в. По иконе кн. Михаила и Ксении. Прорись 209 Церковь Георгия на погосте Юксовичи, 1493 г. 211
Церковь Николы в с. Панилове, 1600 г. 212
Икона «Введение во храм», XIV в. с погоста Кривого. Прорись. ГРМ 213
Церковь Николы на Липне, 1292 г. Новгород 215
Церковь Успения на Болотове, 1352 г. Новгород 216
Церковь Успения на Болотове, 1352 г. План 217
Церковь Спаса на Ковалеве, 1345 г. Новгород 218
Церковь Спаса на Ковалеве, 1345 г. План 218
Церковь Феодора Стратилата, 1360 г. Новгород 219
Церковь Спаса на Ильине улице, 1374 г. Новгород 221
Церковь Петра и Павла в Кожевниках, 1406 г. Новгород 222
Церковь Симеона в Зверине монастыре, 1467 г. Новгород 224
Грановитая палата, 1433 г. Интерьер. Новгород 225
Грановитая палата, 1433 г. План 225
Часозвоня «сторожня», 1443—1673 гг. Новгород 226
Собор Снетогорского монастыря, 1311 г. Реконструкция. Псков. 227
Троицкий собор, 1365—1367 гг. Чертеж XVII в. Псков 228
Церковь Василия на горке, 1413 г. Псков 229
Церковь Успения Богородицы в Мелётове, 1462—1463 гг. Реконструкция 230 Церковь Николы Каменноградского, XV в. Аксонометрия. Псков 231
Церковь Успения в Пароменье, 1521 г. Псков 232
Звонница церкви Богоявления на Запсковье. Псков 233
Псков на иконе Владычного креста 234
План Московского Успенского собора, 1326—1327, 1472 и 1475—1479 гг. 237 Резной камень собора Спаса на Бору в Московском Кремле 238
Резной камень церкви на Городище под Коломной 238
Московский Кремль 1339 и 1366—1367 гг. и постройки XIV в. 239
Церковь Рождества Богородицы в Московском Кремле, 1393—1394 гг.
Интерьер 241
Успенский собор в Коломне, 1379—1382 гг. Реконструкция. 242
Церковь Благовещения в Московском Кремле, 90-е годы XIV в. Подклет 244 Планы храмов Старицкого городища 245
Успенский собор в Звенигороде на Городке, около 1400 г. 246
— 431 —
Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря под Звенигородом, 1405 г. Реконструкция 248:
Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, 1422 г. Западный фасад.
Реконструкция 249
Спасский собор Андроникова монастыря в Москве, около 1427 г. 252
Алекса Петров. Никола Липенский. Икона из церкви Николы на Липне
близ Новгорода, 1294 г. Новгородская школа. Историке-художественный музей в Новгороде 258
Илия пророк в житии. Икона из церкви Илии пророка в с. Выбуты близ
Пскова, вторая половина XIII в. Псковская школа. ГТГ 262
Спас Нерукотворный. Икона из Введенской церкви в Ростове Великом,
начало XIV в. Ростовская школа. ГТГ 264
Собор архангелов Михаила и Гавриила. Икона из Великого Устюга, вто¬
рая половина XIII — начало XIV в. ГРМ 265-
Архангел Михаил. Икона из Ярославля, около 1300 г. ГТГ 267
Феодор Стратилат. Миниатюра Федоровского евангелия из Ярославля,
1321—1327 гг. Ярославский музей, библиотека, № 821 /1 /, л. 1, об. 269
Борис и Глеб. Ростово-ярославская икона, первая четверть XIV в. ГРМ 270*
Спас. Икона начала XIV в. Тверская школа. ГТГ 272
Отослание учеников на проповедь. Миниатюра из Сийского евангелия,
1339—1340 гг. Московская школа. БАН, отдел рукописей. Арх. Ком.
338, л. 172 об. 274
Спас Ярое Око. Икона 40-х годов XIV в. Московская школа. Успенский
собор в Московском Кремле 273-
Святые старцы. Фреска в соборе Рождества Богородицы Снетогорского
монастыря, 1313 г. Псковская школа 276-
Богоявление. Икона из Успенской Пароменской церкви во Пскове, первая
половина XIV в. Псковская школа. Деталь. Государственный Эрмитаж, Ленинград 278
Деисус с предстоящими Варварой и Параскевой Пятницей. Икона из
церкви св. Варвары во Пскове, вторая половина XIV в. Псковская школа. Историко-художественный музей в Новгороде 280-
Параскева Пятница и святители Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и
Василий Великий. Икона начала XV в. Псковская школа. ГТГ 282
Апостол Петр, исцеляющий св. Галу. Фреска в Успенской церкви с. Мелё-
това близ Пскова, 1465 г. Псковская школа. По копии А. Н. Овчинникова 283
Феофан Грек. Пантократор. Фреска в церкви Спаса Преображения в Нов¬
городе, 1378 г. Деталь 287'
Феофан Грек. Троица, Фреска в церкви Спаса Преображения в Новго¬
роде, 1378 г. 288
Феофан Грек. Столпники. Фреска в церкви Спаса Преображения в Новго-
ооде, 1378 г. 289-
Ангел из Благовещения. Фреска в церкви Феодора Стратилата в Новго¬
роде, 80-е годы XIV в. 290
Скачущие волхвы. Фреска в церкви Успения Богородицы на Волотовом
поле в Новгороде, около 1390 г. 291
Архангел Михаил. Фреска в церкви Успения Богородицы на Волотовом
поле в Новгороде, около 1390 г. 292
Преображение. Фреска в церкви Спаса Преображения на Ковалеве в
Новгороде, 1380 г. 295
Ангел из Благовещения. Фреска в церкви Рождества Христова на поле в
Новгороде, 80—90-е годы XIV в. 297
Пророк. Фреска в церкви архангела Михаила Сковородского монастыря
в Новгороде, конец XIV — начало XV в. 299-
Борис и Глеб. Икона из церкви Бориса и Глеба в Новгороде, около 1377 г.
Новгородская школа. Историко-художественный музей в Новгороде 304 Сошествие во ад. Икона из Тихвина, последняя четверть XIV в. Новго¬
родская школа. ГРМ 306
Отечество. Икона конца XIV — начала XV в. Новгородская школа. ГТГ 308*
— 432 —
.Дмитрий Солунский. Икона начала XV в. Новгородская школа. Музей в Рекклингхаузене, ФРГ 310
Илия пророк. Икона начала XV в. Новгородская школа. ГТГ 312
Чудо Георгия о змие. Икона из церкви в с. Манихино на р. Паше близ
Новгорода, XV в. Новгородская школа. ГРМ 314
Битва новгородцев с суздальцами. Икона середины XV в. Новгородская школа. И ст о рико-художественный музей в Новгороде 316
Пророк. Часть пророческого чина, конец XV в. Новгородская школа. Деталь. ГТГ 318
Феофан Грек (?). Богоматерь Донская. Икона из Успенского собора в Коломне, 1392 г. ГТГ 324
Феофан Грек (?). Успение Богоматери. Оборотная сторона иконы Богоматери Донской из Успенского собора в Коломне, 1392 г. ГТГ 325
Феофан Грек. Богоматерь. Икона из иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле, 1405 г. 327
Георгий. Деталь иконы Николы и Георгия из Гуслицкого монастыря под Москвой, конец XIV в. Московская школа. ГРМ 330
Св. Лавр. Фреска в Успенском соборе на Городке в Звенигороде, около 1400 г. 332
-Евангелист Иоанн. Миниатюра из Евангелия, конец XIV — начало XV в.
ГИМ, отдел рукописей, Усп. 4-бум, л. 48 об. 333
Шествие праведников в рай. Фреска в Успенском соборе во Владимире,
1408 г. 335
Шествие праведников в рай. Фреска в Успенском соборе во Владимире,
1408 г. Деталь 336
Андрей Рублев. Богоматерь Владимирская. Икона из Успенского собора
во Владимире, около 1408 г. Музей во Владимире 337
Андрей Рублев. Архангел Михаил, Спас и апостол Павел. Иконы из Звенигорода, 10-е годы XV в. ГТГ... вклейка между стр. 340—341
Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, 1425—1427 гг. 341
Андрей Рублев. Троица. Икона из иконостаса Троицкого собора Троице-
Сергиевой лавры, 1425—1427 гг. ГТГ 343
Тайная вечеря. Икона из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, 1425—1427 гг. ГТГ 348
.Дмитрий Солунский. Икона из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, 1425—1427 гг 350
Иоанн Предтеча. Икона из Дмитрова, вторая четверть XV в. Московская школа. МИ АР 351
Богоматерь Владимирская. Икона из церкви Гребневской Божией Матери в Москве, первая четверть XV в. Московская школа. ГТГ 353
Никола. Келейная икона Сергия Радонежского из Троице-Сергиевой лавры, вторая половина XIV в. Ростовская школа. Историко-художественный музей-заповедник в Загорске 355
Рождество Богоматери. Икона из Покровского монастыря в Суздале, конец XIV — начало XV в. ГРМ 357
Никола, XV в. Тверская школа. МИ АР 359
Иоанн Предтеча в пустыне. Икона из Успенской Семигородной пустыни близ г. Кадникова, XV в. Вологодская школа. Областной краеведческий музей в Вологде 361
Положение во гроб. Икона конца XV в. Неизвестный северный центр. ГТГ 362
Плащаница, 1456 г. Московское шитье. Историко-художественный музей в Новгороде 365
Дионисий. Митрополит Алексий в житии. Икона из Успенского собора в Московском Кремле, 70—80-е годы XV в. ГТГ 368
.Дионисий. Ласкание Марии. Фреска на западной стене собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1500—1502 гг. 371
Богоматерь с ангелами. Фреска в конхе апсиды собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1500—1502 гг. 373
— 433 —
О тебе радуется. Фреска в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1500—1502 гг. 374
Дмитрий Солунский. Икона из иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1500—1502 гг. ГТ Г 376
Бляха из Новгородских раскопок с изображением пьющей из рога «русалки». Коллекция Новгородской археологической экспедиции АН СССР и МГУ 381
Распятие из Углича, XV в. Историко-художественный музей в Угличе 382.
Мастер Авраам из «Корсунских» врат в Новгороде. ГИМ 384
Оклад Евангелия Ф. Кошки, 1392 г. ГБЛ, отдел рукописей \ вклейка
I между Заласе Людогощинский крест. Историко-художественный музей в I стр.
Новгороде J
Оклад митрополита Фотия на икону Владимирской богоматери. Оружейная палата в Московском Кремле 386
Новгородский панагиар, 1435 г. Историко-художественный музей в Новгороде 387.’
Складень Амвросия, 1456 г. Историко-художественный музей-заповедник в Загорске 388
Ковчег-мощевик мастера Амвросия, 1463 г. Историко-художественный музей-заповедник в Загорске 389*
Рогатины князя Бориса Александровича, XV в. Оружейная палата в Московском Кремле 390 >
Узор пелены, 1389 г. ГИМ 391
Содержание
ПРАВО И СУД 5
А. К. Леонтьев
РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ 49
А. М. Сахаров
РУССКИЙ язык 78
|/7. С. Кузнецов]
ЛИТЕРАТУРА 111
О. В. Орлов
ПРОСВЕЩЕНИЕ 158
Б. А. Рыбаков
АРХИТЕКТУРА 206
Н. Н. Воронин
живопись 254
Г. И. Вздорнов
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО . 378
М. А. Ильин
Список сокращений 394
Именной указатель 396
Географический указатель 415
Список иллюстраций 431
Очерки русской культуры XIII—XV веков
Часть 2
Тематический план 1969 г. № 106
Редактор И. И. Лебедева
Художник Е. А. Михельсон
Художественные редакторы
к. И. Журинская, Н. Ю. Калмыкова
Технический редактор Н. А. Рябикина
Корректоры
И. А. Большакова, И. С. Хлыстова
Сдано в набор 24/III 1969 г.
Подписано к печати 27/Ш 1970 г.
Л-107200. Формат 70х1081/ц
Бумага тип. № 1
Физ. печ. л. 27,25-|-2 вкл.
Усл. печ. л. 38,154-0,375 (вклейки)
Уч.-изд. л. 33,64. Изд. № 988
Зак. 314. Тираж 4000 экз.
Цена 2 р. 32 к.
Издательство
Московского университета Москва, Ленинские горы, Административный корпус. Типография Изд-ва МГУ. -Москва, Ленинские горы