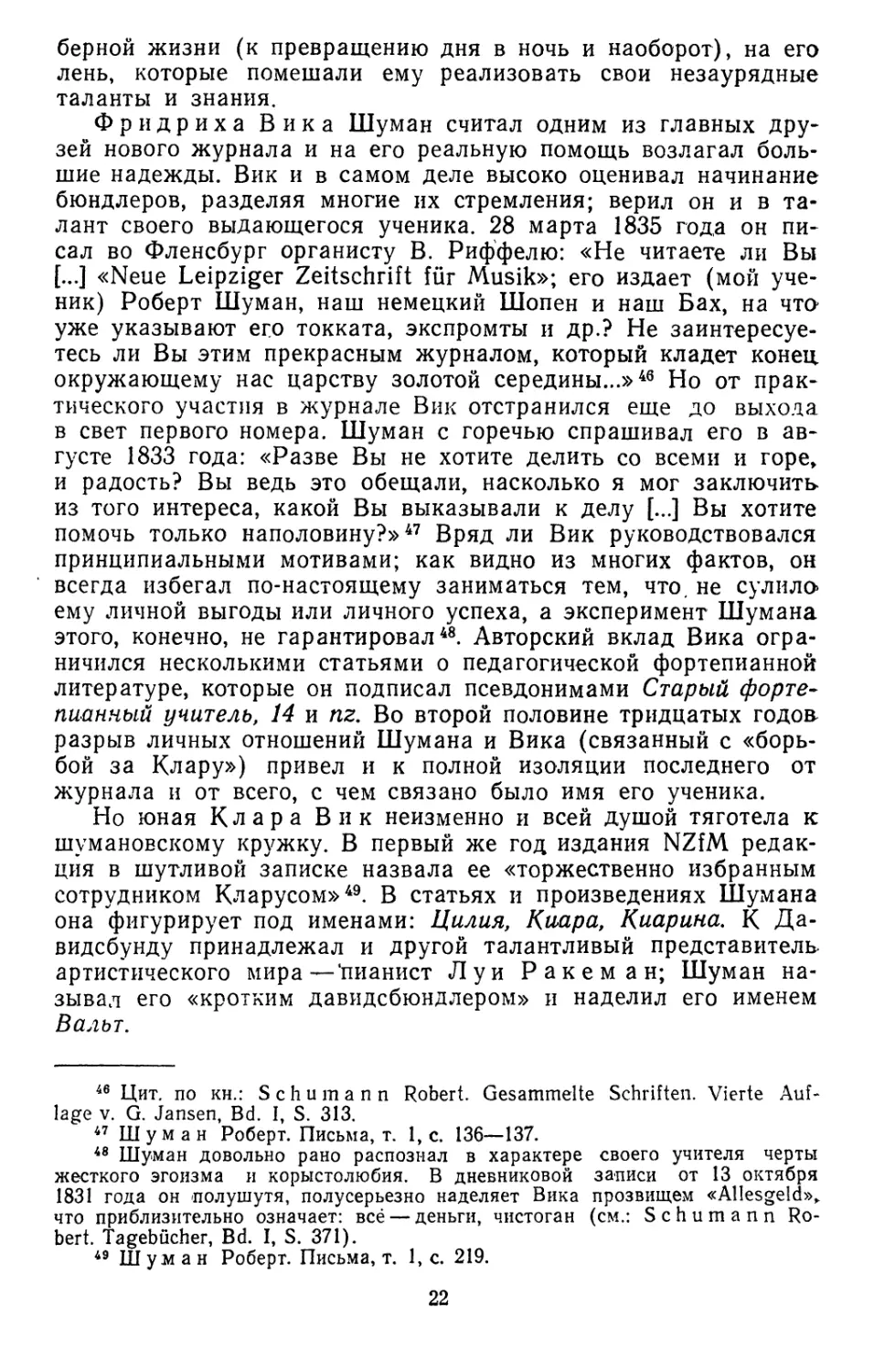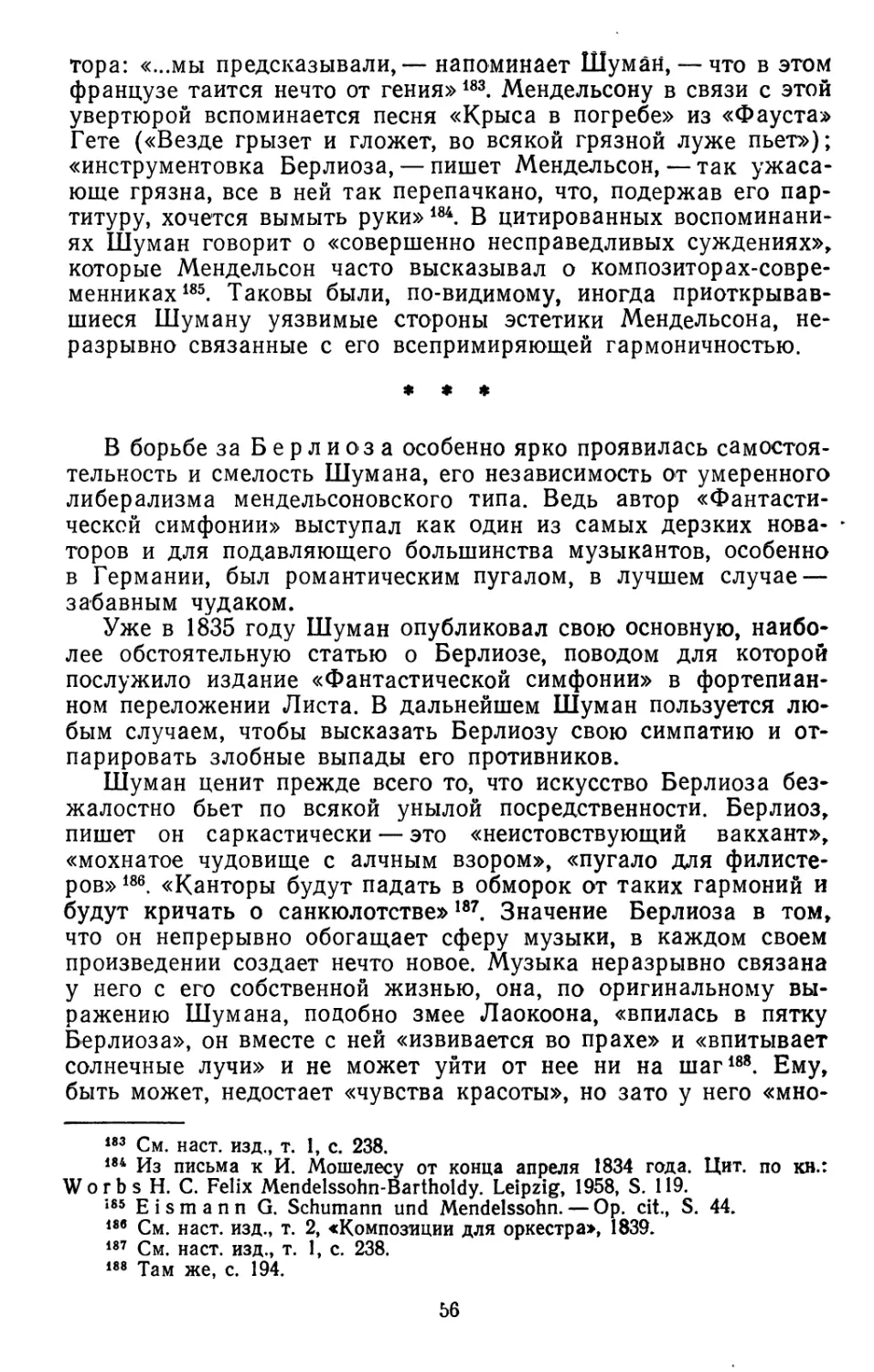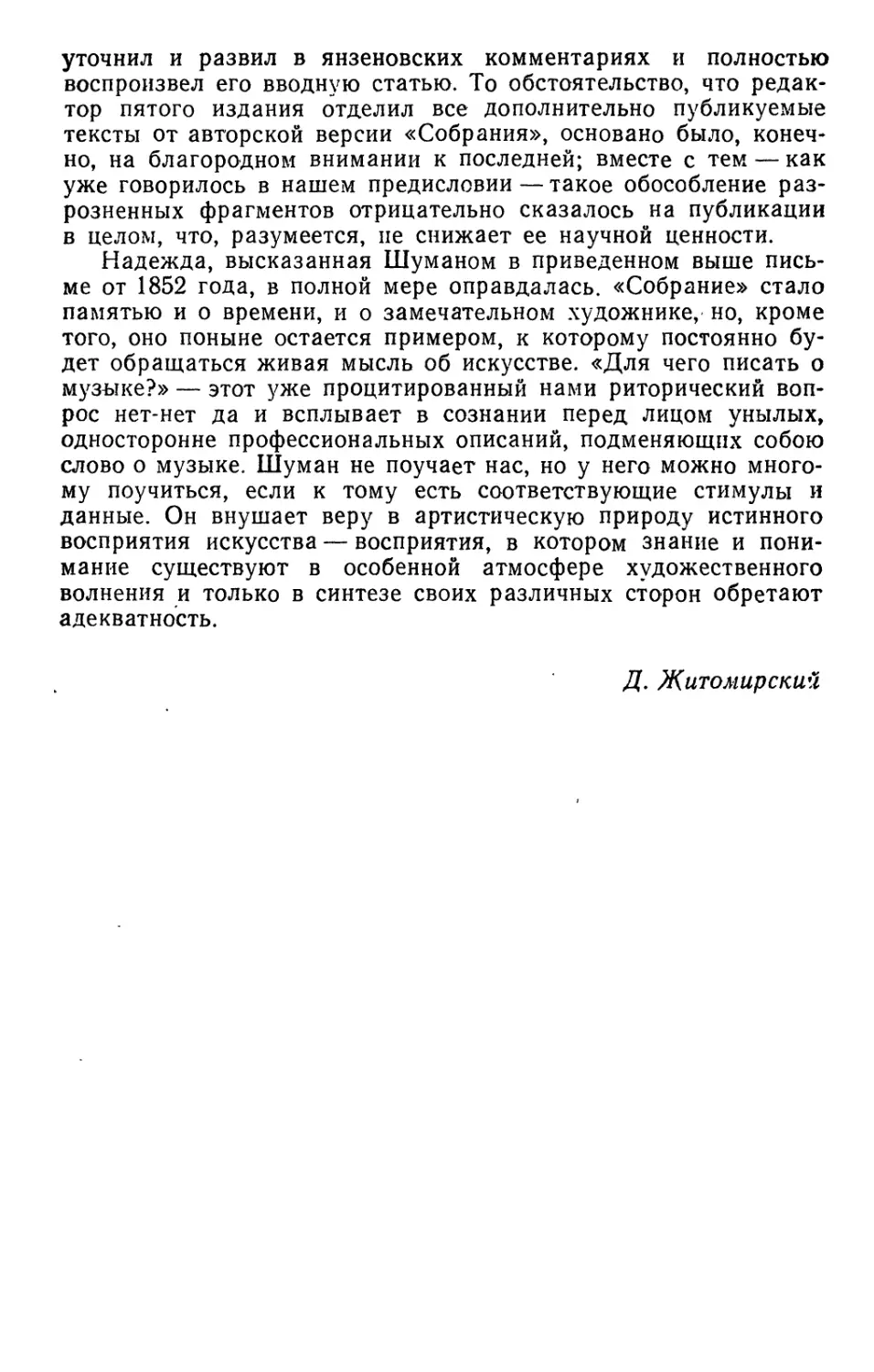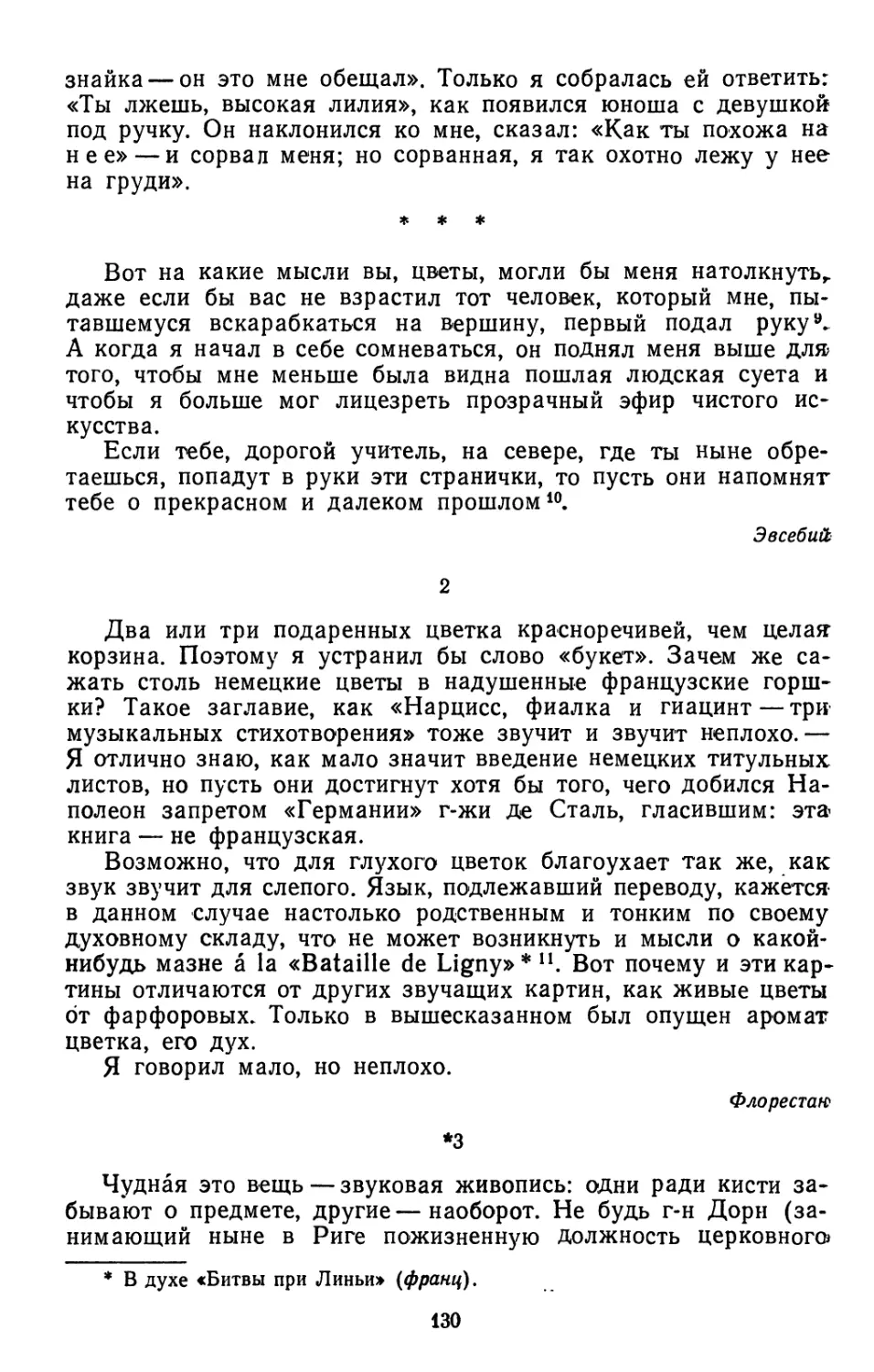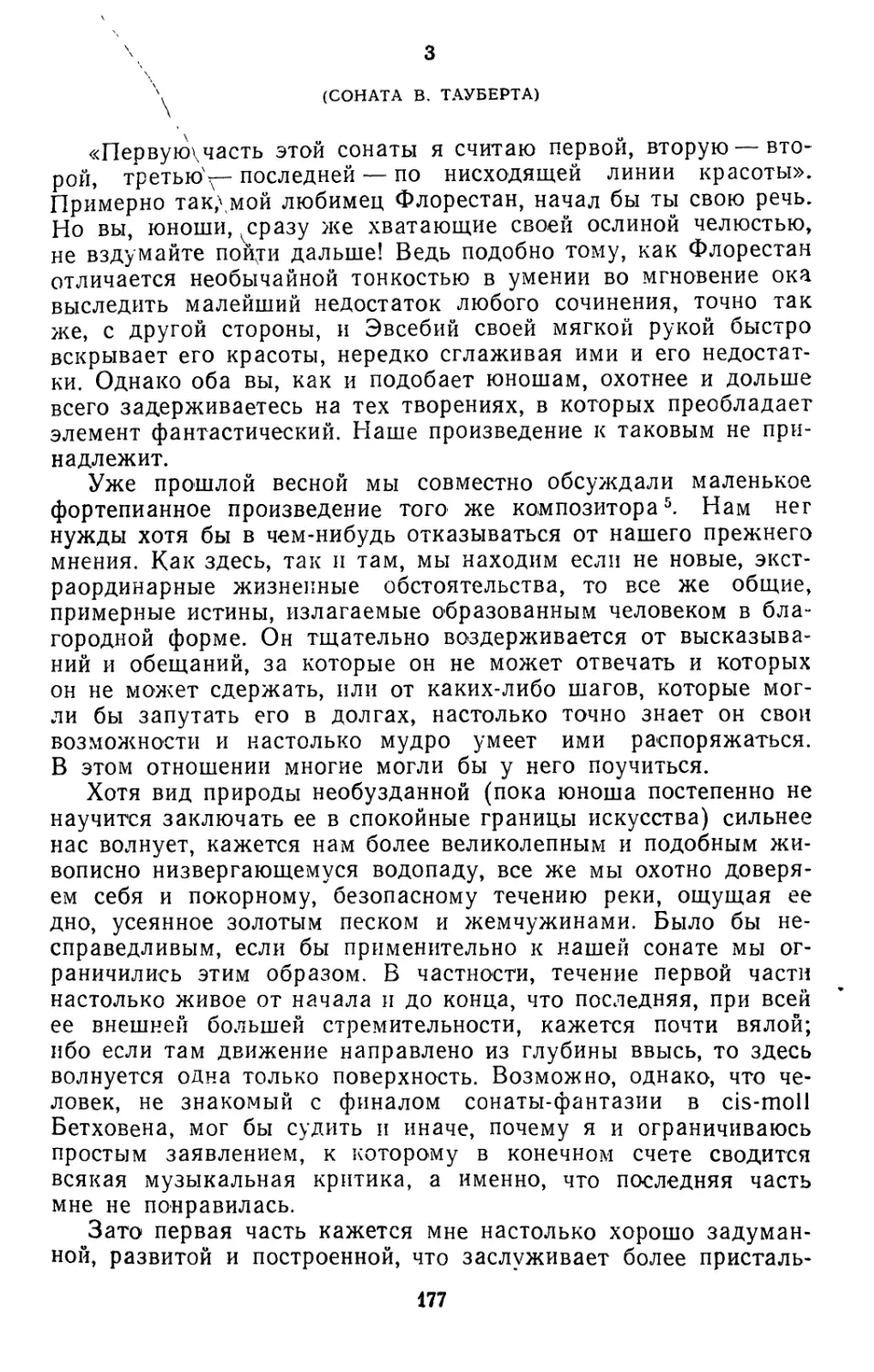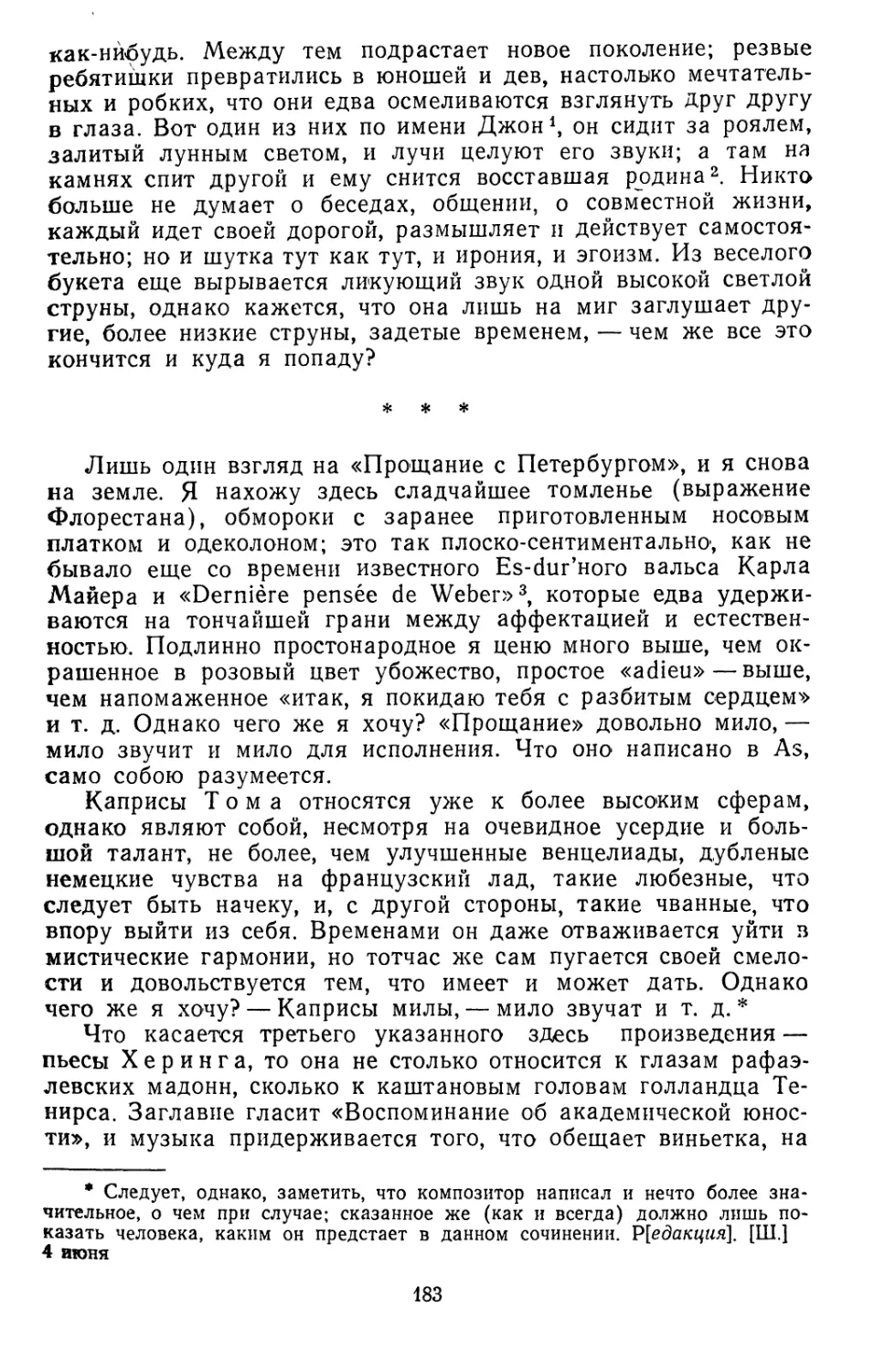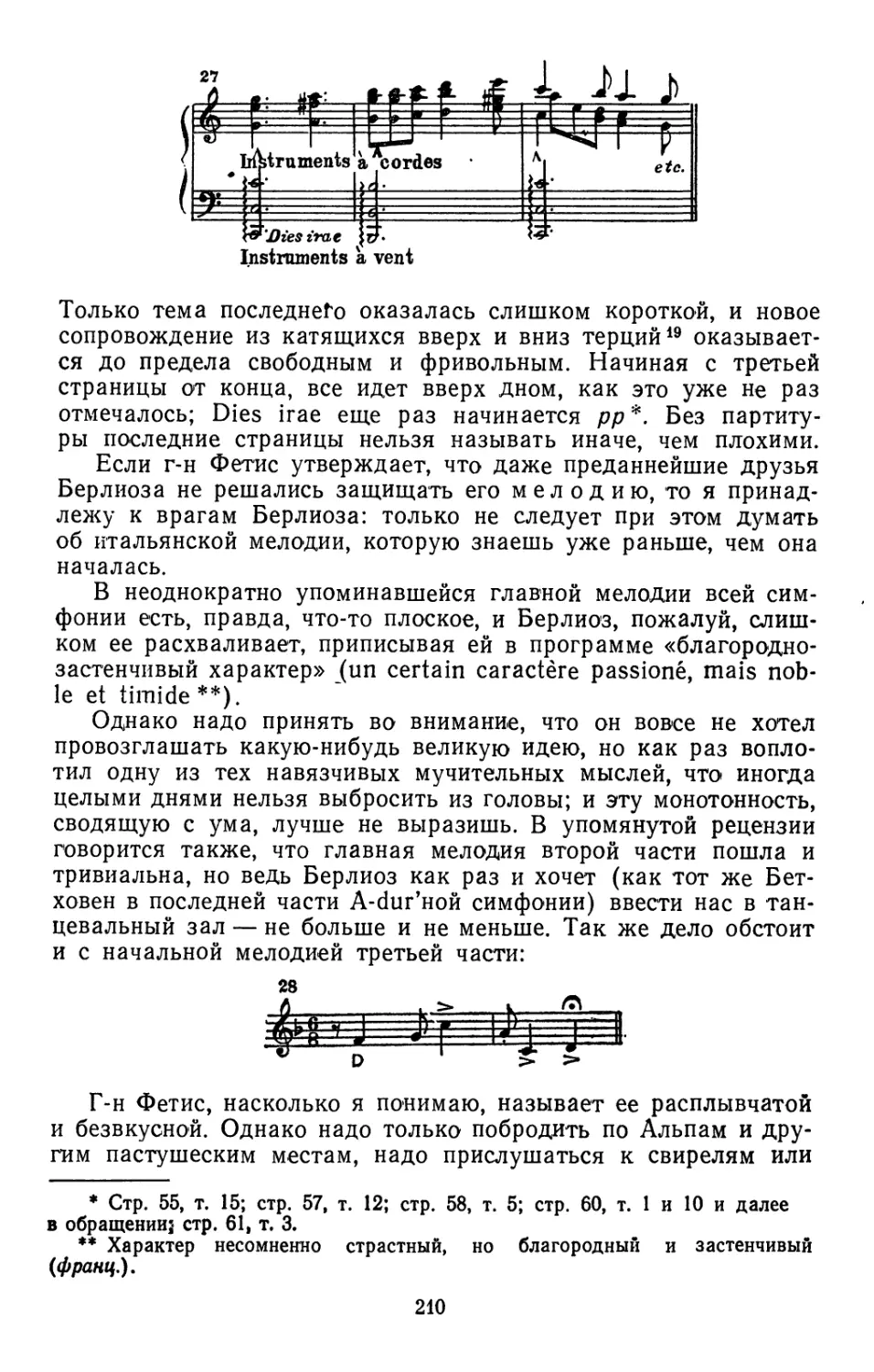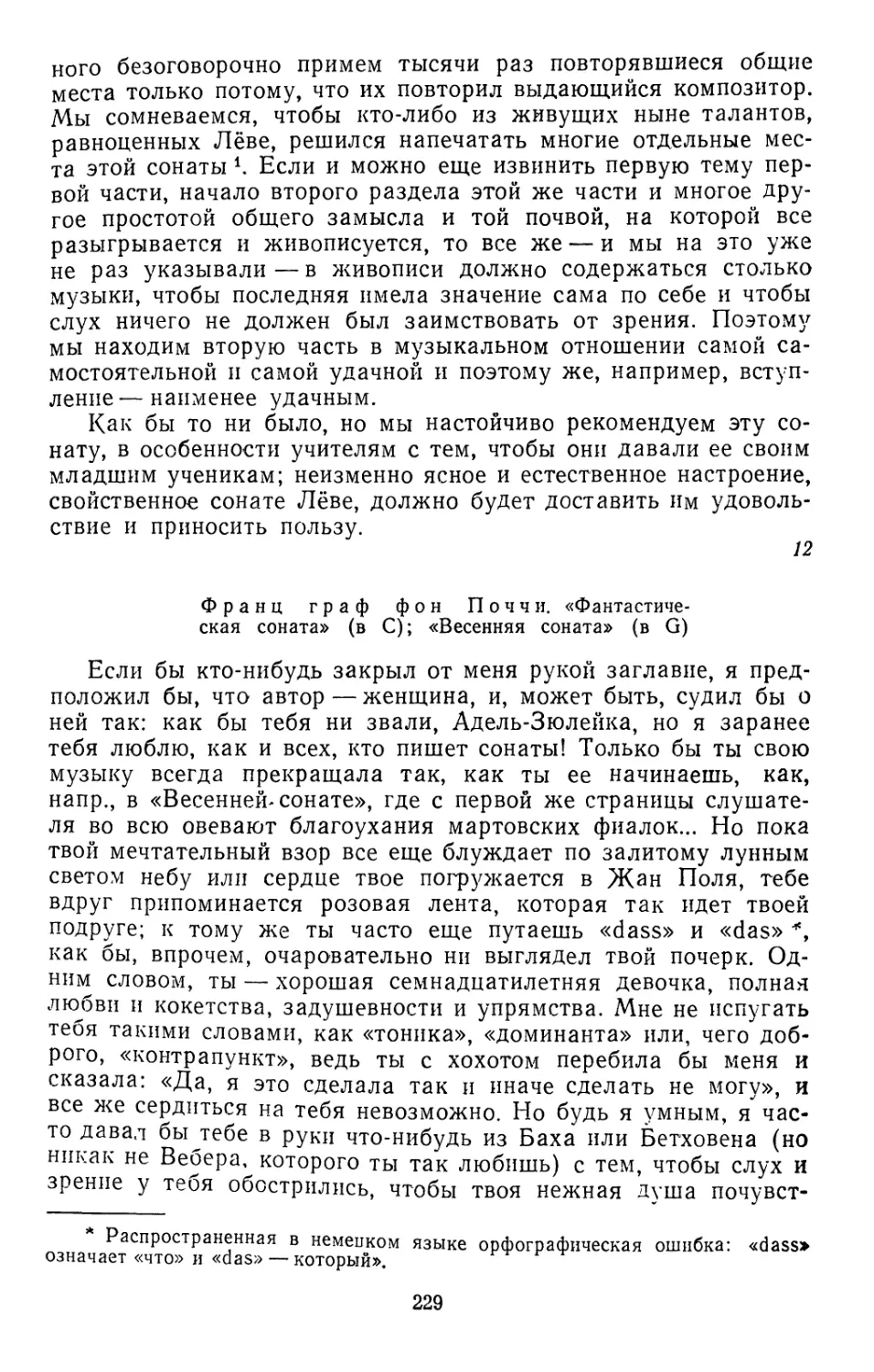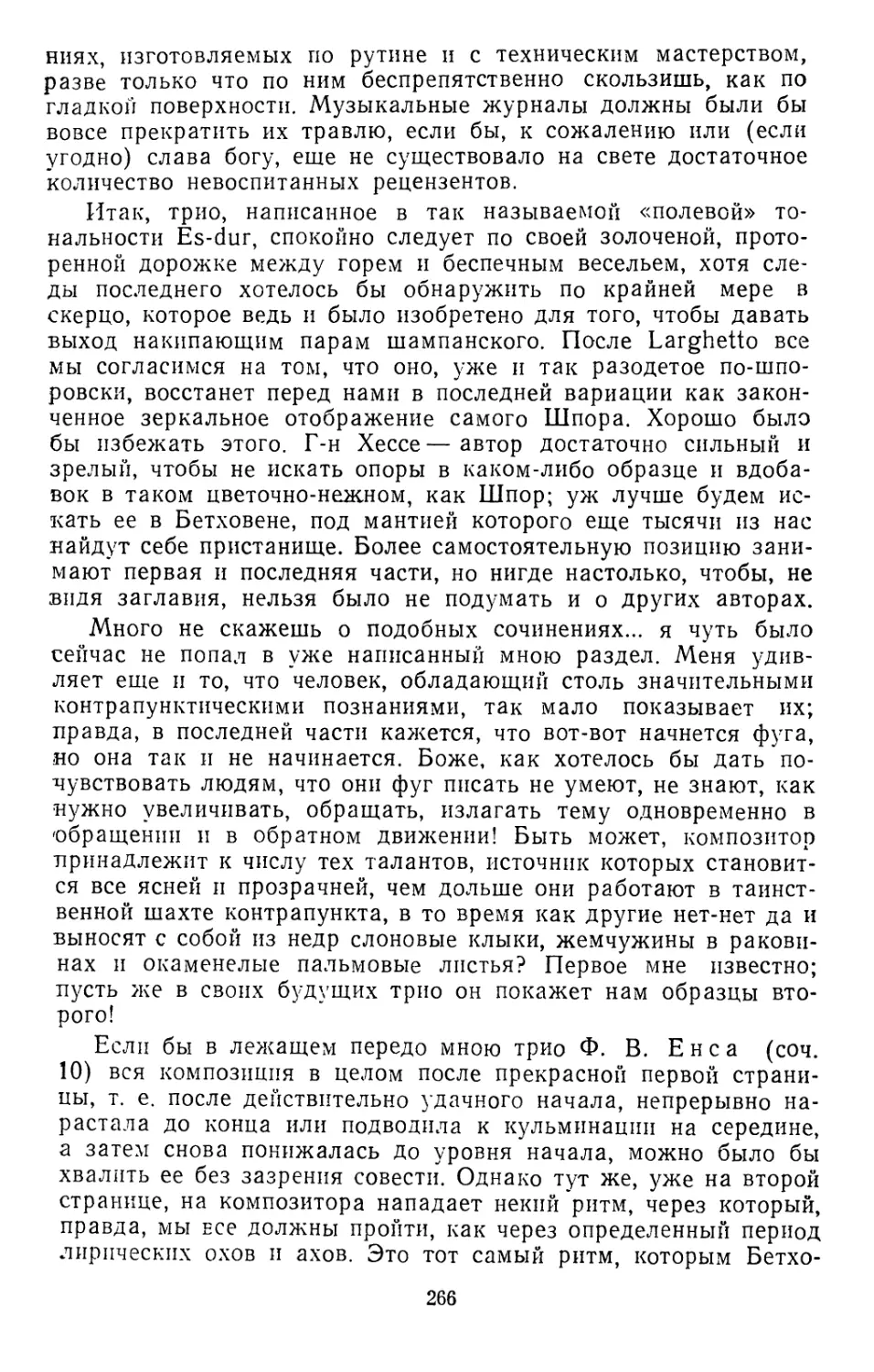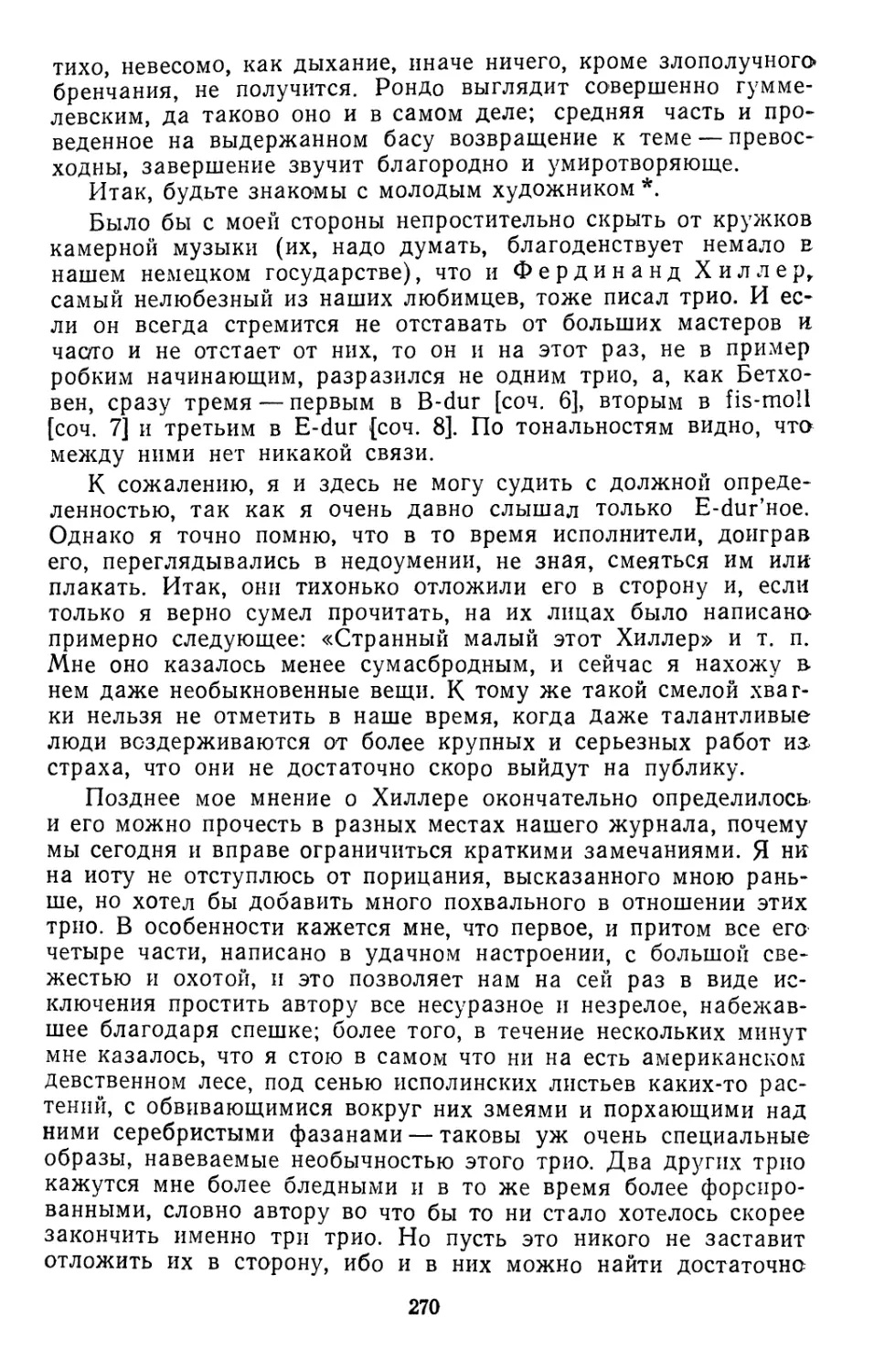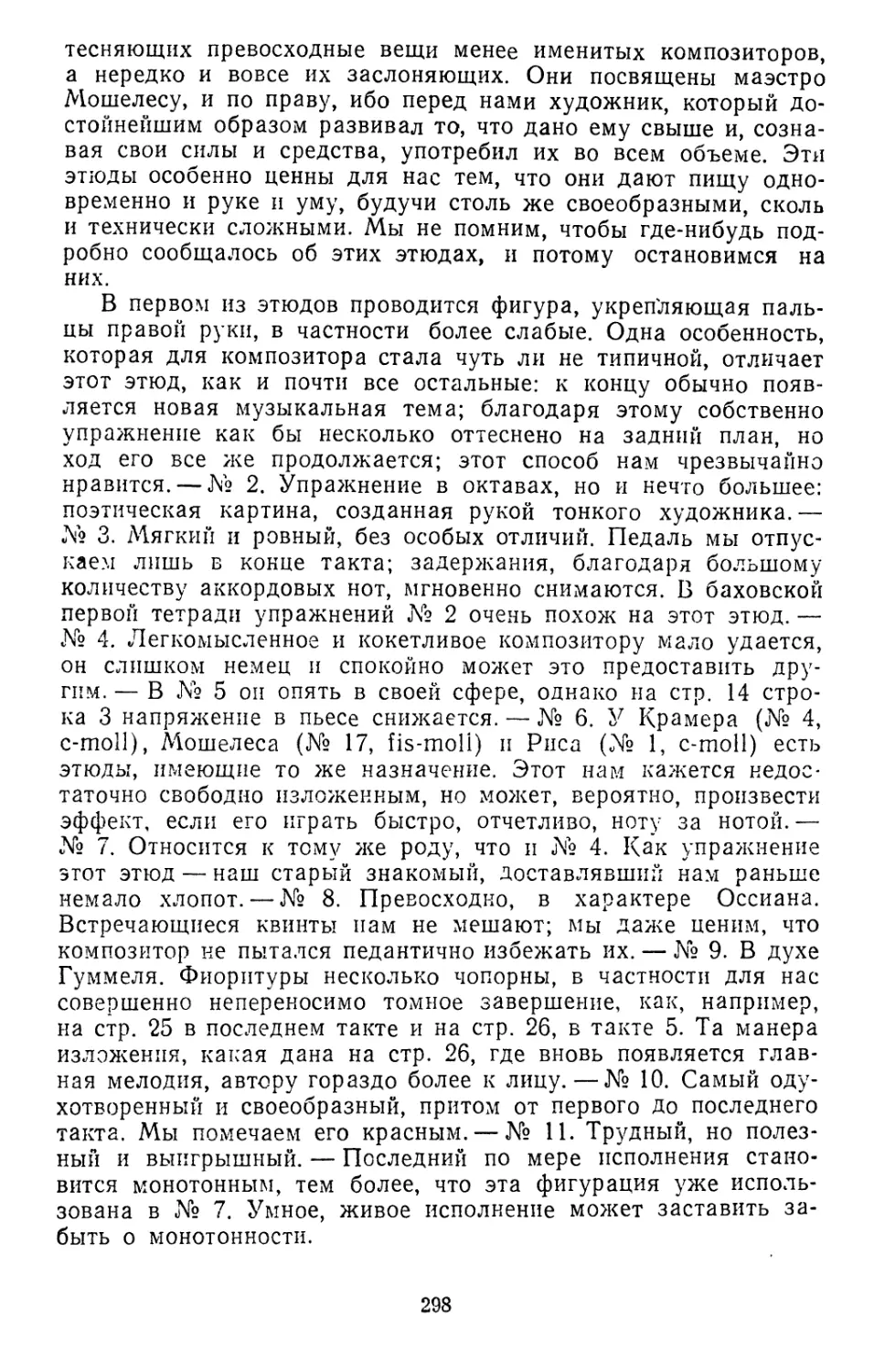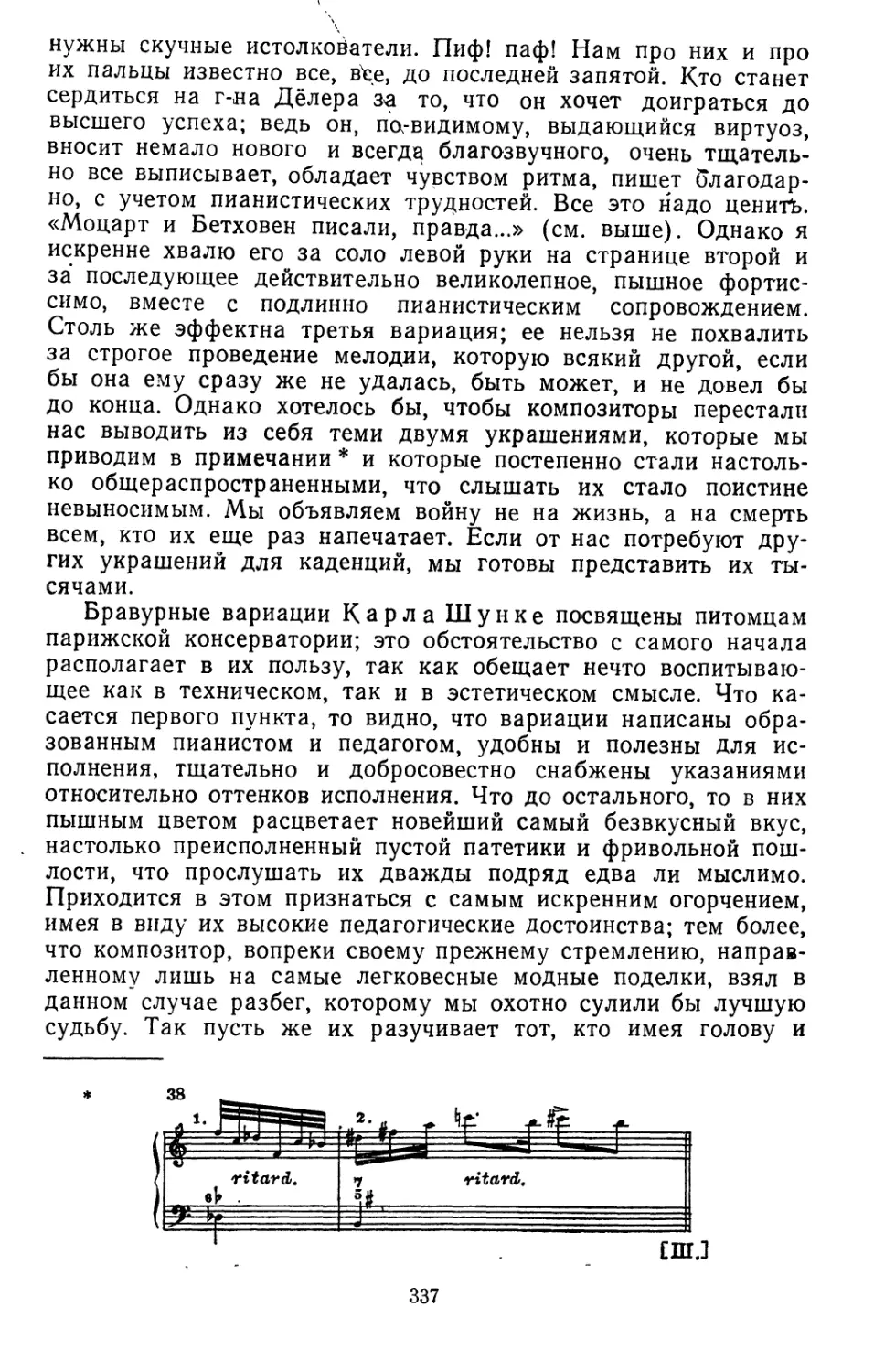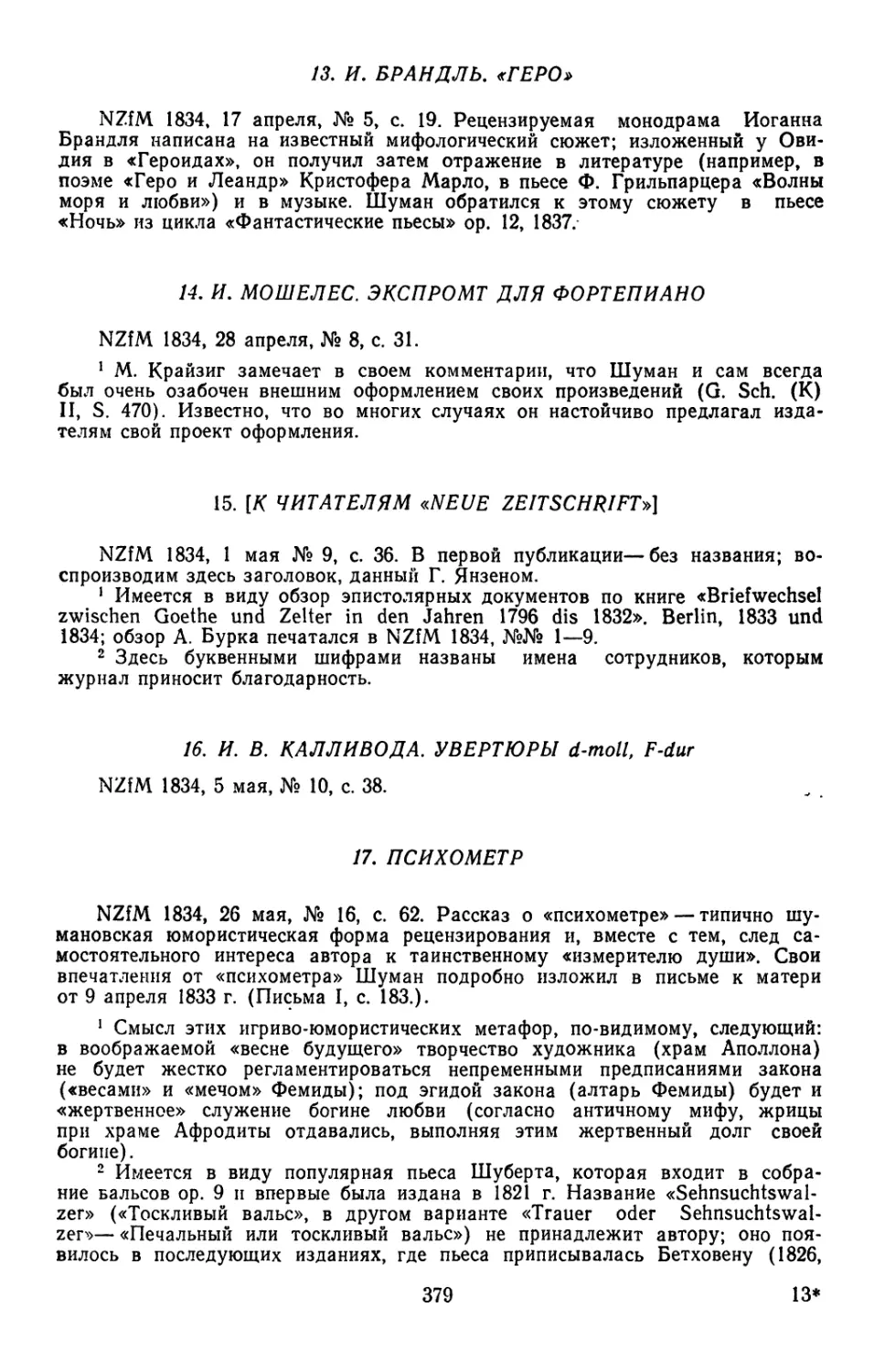Author: Шуман Р.
Tags: история музыка история искусства переводная литература издательство музыка собрание статей
Year: 1975
Text
ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ
Предлагаемый двухтомник — первое полное издание статей Шумана на
русском языке. Чем обусловлена потребность в таком издании, иначе
говоря — в чем ценность и привлекательность литературных работ Шумана? На
этот вопрос составитель пытается ответить во вступительной статье.
Здесь же мы лишь кратко скажем об основных принципах данной
публикации.
Состав публикации. Для первого издания своего «Собрания
сочинений о музыке и музыкантах»1 Шуман произвел весьма строгий, но не всегда
справедливый отбор. Отброшены были многие статьи и заметки, ни в чем
не уступающие выбранным. Другие же исключенные публикации, которые не
без основания могли показаться автору малозначительными, таили в себе
ценность исторического документа или характерного штриха своего времени.
В последующих изданиях такого рода материалы публиковались, причем
количество их резко возросло в изданиях четвертом2 и пятом3. Указанные
дополнения, естественно, использованы в нашем издании. Таким образом, в нашу
публикацию входят: во-первых, полный текст «Собрания», подготовленного
самим автором; во-вторых, почти все не включенные им тексты, авторство
которых очевидно или с той или иной степенью достоверности установлено
немецкими исследователями. Эти дополнительно включенные тексты отмечены
звездочками.
Расположение статей. В соответствии с авторским вариантом
«Собрания», статьи публикуются в хронологическом порядке. При этом все
1 Schumann Robert. Gesammelte Schriften uber Musik und Musiker,
Bd. I—IV. G. Wigand's Verlag, Leipzig, 1854.
2 Schumann Robert. Gesammelte Schriften uber Musik und Musiker.
Vierte Auflage, mit Nachtragen und Erlauterungen von F. Gustav Jansen.
2 Bande. Druck und Verlag von Breitkopf u. Hartel, Leipzig, 1891.
3 Schumann Robert. Gesammelte Schriften uber Musik und Musiker.
Funfte Auflage, mit den durchgesehenen Nachtragen und Erlauterungen zur
4. Auflage und weiteren herausgegeben von Martin Kreisig. 2 Bande. Druck und
Verlag von Breitkopf u. Hartel, Leipzig, 1914.
дополнения входят в общую хронологическую последовательность4. Замыслу
автора соответствует и другой принцип: при объединении небольших текстов
в циклы или обзоры хронологический порядок соблюдается только внутри
такого объединения, отдельные же его части уже не подчиняются общей
хронологии издания. Этот принцип использован нами, однако с одним
ограничением: в циклах и обзорах объединяются тексты, не выходящие за
рамки данного года. Местоположение цикла устанавливается на
основании той его части, которая имеет самую раннюю дату (см., например,
дикл под номером 23 «Композиции для фортепиано», место которого
определено на основании даты первой рецензии —27 января 1835 года). Учитывая
склонность автора к циклам, мы сочли возможным провести данный принцип
более последовательно: в пределах года мы в некоторых случаях соединили
небольшие рецензии в циклы, использовав уже имеющиеся в авторской
версии заглавия (см., например, № 11—«Концерты», № 42—«Из книжек давидс-
бюндлеров»).
Текстология. Многочисленные купюры и редакционные поправки,
сделанные Шуманом при подготовке «Собрания», в большей своей части
являлись усовершенствованием текста. Автор стремился освободить статьи от
ненужных или имевших узкозлободневный характер подробностей, убрать
длинноты, прояснить некоторые не вполне понятные строки, сделать более
точными и краткими названия статей и т. д. и т. п. Авторская редакция
отразила более высокую зрелость Шумана как теоретика и литератора. Вот
почему мы по примеру крупнейших немецких издателей оставляем здесь
окончательную авторскую версию в неприкосновенности. Вместе с тем
многие из шумановских купюр и ранних вариантов достойны внимания. Для
их критического рассмотрения мы обратились к уртексту, то есть к первым,
прижизненным публикациям данных статей в шумановском журнале5 и в
других доступных нам периодических изданиях (в тех случаях, когда первые
публикации оказывались недоступными, их заменой служили
соответствующие фрагменты, приводимые в изданиях Г. Янзена и М. Крайзига). Те из
разночтений, которые в каком-либо отношении представляют интерес, мы
приводим в отделе «Комментарии» — некоторые в виде цитат, другие в
кратком изложении. Стремясь сохранить авторскую литературную композицию,
мы в отдельных немногих случаях включаем восстановленные строки в
основной текст, отметив их звездочками в начале и в конце (см., например,
отзыв о сонате Л. Шунке в цикле статей № 32).
Одна из текстологических трудностей данной публикации связана с
тем, что Шуман имел обыкновение (особенно в ранних статьях) возвращаться
к уже высказанным мыслям и формулировкам. Порою он вновь предлагает
целые фрагменты. Было бы, однако, неосторожным механически исключать
такие повторения. Чаще всего в них имеет место варьирование и развитие
высказанных мыслей; повторяемое оказывается в ином контексте, иногда
получает особое заглавие.
Во многих случаях едва ли возможно решить, какой из вариантов
лучший, какой следует сохранить. Все же некоторые дословные или почти
дословные повторения мы сочли возможным исключить, снабдив эти купюры
•необходимыми ссылками. В таких случаях мы стремились не жертвовать
строками, которые являются частями целостного текста (например в № 3).
4 В этом мы следуем примеру Г. Янзена. Составитель пятого издания
М. Крайзиг напечатал все дополнения в виде отдельной части публикации.
Оставив в неприкосновенности авторский вариант (что, конечно, является
выгодной стороной издания), он вместе с тем крайне затруднил пользование
дополнениями: вырванные из контекста, они воспринимаются как весьма
хаотическое нагромождение разрозненных отрывков. Принцип, избранный Г. Янзе-
ном, представляется нам более гибким: сохраняется целостность всей
публикации, вместе с тем наличие звездочек дает возможность легко отделить
авторский вариант от всех дополнений.
5 «Neue Zeitschrift fur Musik»; в дальнейшем сокращенно обозначается
NZfM.
В соответствии с авторской версией «Собрания», мы воспроизводим все
псевдонимы, а также все подписи собственного имени, с которыми
шумановские статьи впервые были напечатаны6. Ряд статей на основании той же
авторской версии остается без подписи7. Включая в данную публикацию
тексты, не имеющие подписи или предлагаемые от имени редакции, мы
опираемся либо на отбор самого автора, либо на вполне авторитетные
дополненные издания Г. Янзена и М. Крайзига.
В заглавиях статей все названия произведений, кроме немецких, даются?
(как и у автора) на языке оригинала, здесь же приводится русский перевод.
Перевод. Большая часть статей для нашего издания переведена была
профессором А. Г. Габричевским, прекрасным знатоком немецкой культуры в
немецкого языка, комментатором русских изданий Гёте (к великому
сожалению, ему не пришлось дожить до выхода в свет данной публикации).
Л. С. Товалевой принадлежит главным образом перевод статей «со
звездочками», а также нескольких статей и фрагментов, которые не успел
перевести А. Г. Габричевский. Редактор перевода Г. А. Балтер — по специальности
музыкант-теоретик — имела возможность проконтролировать не только общую
смысловую точность перевода, «о и все его специально-музыкальные
элементы. Г. А. Балтер и автор этих строк, участвовавший в редактирований
перевода, одной из своих задач считали приближение текста к
естественности, непринужденности, импровизационной легкости шумановского
изложения. В транскрипции имен и названий мы стремились к возможно более
последовательному соблюдению фонетического принципа (воспроизведение
реального звучания имени на языке, к которому оно относится). При этом
транскрипции, ставшие для русского языка традиционными (Гейне, Гендель,
Гофман и т.п.), не изменяются.
Комментарии. В основном тексте, в сносках, даются примечания
переводчика; здесь же— немногочисленные примечания Шумана.. Знаком [Ш.}
отмечены примечания, которые уже существовали в первоначальном
варианте статьи; знаком [Ш., 1852] — примечания, внесенные автором в указанный
год, когда он готовил свое «Собрание» к печати. Комментарии составителя
даются в конце каждого тома; кроме того, отдельные поясняющие слова или
цифры (например, имена, обозначения опусов, тональностей) мы даем в
основном тексте в квадратных скобках. Сведения, приводимые в отделе
«Комментарии», дополняются в указателе имен и названий, который помещен во
втором томе.
За помощь в подготовке настоящего издания приношу благодарность
О. Т. Леонтьевой.
6 О псевдонимах Шумана см. во вступительной статье, с. 14, 23—24.
7 Иногда Шуман оставлял отдельные небольшие рецензии без подписи»
рассматривая их как части цикла и обозначая свое авторство только в
конце (см., например, № 40). В других случаях, явно не придерживаясь
строгого единообразия, автор проставлял подписи под отдельными частями
цикла (например, в № 38).
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОБЕРТА ШУМАНА
Хотя Шуман вошел в мировую культуру прежде всего как
композитор, литературная деятельность отнюдь не была
периферией его творческой жизни. Наоборот, она принадлежала к
главному руслу духовных интересов композитора и ее окрылял
тот же пафос, которым наполнена была музыка Шумана. Ведь
не случайной прихотью явился тот факт, что «Карнавал»
знакомит нас с Флорестаном и Эвсебием и завершается «Маршем
давидсбюндлеров против филистеров». И если литературные
метафоры Шумана органически входят в era музыку и прекрасно
комментируют ее, то последняя является ключом к его
творчеству публициста и критика. Вспомним типично «шумановское»
периода расцвета композитора: порывы и натиски сильной
страсти, нетерпение и благоговейную поэтическую
сосредоточенность, пылкую мужественность и задушевность, игривость,
шутку, сарказм. И перед нами легко возникнут образы бюндлеров —
всегда беспокойных, дерзко атакующих, саркастичных, но и
всегда зачарованных красотой, жаждущих красоты в жизни и
в искусстве. .
У Гейне в «Романтической школе», есть следующие строки,
связанные с характеристикой Жан Поля: «Его сердце и его
сочинения составляли одно целое. Это свойство, эту цельность мы
находим также у писателей нынешней «Молодой Германии»,
которые тоже не хотят различать между жизнью и писательством,
которые никогда не отделяют политики от науки, искусства от
религии и которые одновременно являются художниками,
трибунами и апостолами. Да, я повторяю слово «апостолы», потому
что не знаю более подходящего слова. Новая вера одушевляет
их страстностью, о которой писатели предыдущего периода не
9
имели никакого представления. Это вера в прогресс, вера,
проистекающая из знания» К
Все сказанное здесь о Жан Поле и о «Молодой Германии»
можно с полным правом отнести к деятельности самого Гейне и
его великого музыкального современника Роберта Шумана.
Правда, искусство и публицистика Шумана не достигали гей-
новских идейных масштабов и революционно обличительной
остроты. Все же историческое родство этих двух художников
несомненно. Оба они томились в затхлой, душной атмосфере
мещанской Германии, оба бунтовали, бросали дерзкий вызов
Я'илнстерам, смело рвались на волю, в царство подлинной
человечности.
У Шумана, как и у Гейне и «младогерманцев», духовная
активность тесно связана с исторической ситуацией — с подъемом
оппозиционных настроений в Германии тридцатых годов, для
которых сильным толчком явились события Июльской
революции во Франции. Именно поэтому у всех у них художественное
творчество тесно переплеталось с общественной борьбой, поэзия
существовала бок о бок с публицистикой. Характерен уже сам
по себе тот факт, что бурная литературная деятельность Шума-
на совпала с временем, когда композитор, по его словам, едва
поспевал записывать переполнявшие его музыкальные мысли.
Типичен и боевой дух этих статей, их высокая принципиальность
it страстная убежденность, противопоставлявшие себя любому
нейтрализму.
Протест против духовной нищеты самодовольного
бюргерства, этого, по словам Маркса, «обесчеловеченного мира*2,
протест против уродующего и порабощающего влияния мещанской
«культуры» — ее фальши, ее суетности, ее ханжества; борьба за
•свободную творческую личность, за человека высших этических
принципов — наследника и продолжателя подлинной культуры,
за жизненную полноту, яркость и многогранность искусства —
тгк можно определить общую идейную направленность статей
Шумана. «Юность и движение» — еот слова, которыми Шуман
выразил дух созданного им музыкального журнала3.
Деятельность этого журнала связана была не только с
современностью, но и с прогрессивными явлениями в немецкой
литературе и художественной критике предшествующих
десятилетий. В своей борьбе против отечественного провинциализма Шу-
1 Гейне Генрих. Романтическая школа. — Собр. соч. в 10-ти т., т. 6.
Л., 1958, с. 244. В прогрессивную литературную группу «Молодая Германия»
входили К. Гуцков, Г. Лаубе, Т. Мундт, Л. Винбарг, Г. Кюне. В середине
тридцатых годов по решению германского союзного сейма произведения
участников этой еще даже не вполне оформившейся группы были
запрещены. Одновременно запрещено было издание и распространение сочинений
Гейне
2 м а р к с К, Энгельс Ф. Соч., изд 2-е, т. 1. JVL 1955. с. 373.
3 Шуман РоСерт. Письма, т. 1 (1817—1840). Сост. я ред. Д.
Житомирский. *М., 1970, с. 266.
10
мак вполне сознательно опирается на Жан Поля; в пропаганде
искусства высокого духовного ранга, в борьбе против
профанации и принижения творчества рутиной, ремесленничеством,
мещанской безвкусицей он выступает как прямой продолжатель
Э. Т. А. Гофмана и К. М. Вебера. Шумановский Давидсбунд4,
впитавший в себя опыт прошлого, явился новой фазой в
развитии того же музыкального общественного движения и ярко за-*
печатлел черты своего времени.
ДАВИДСБУНД И НОВЫЙ ЖУРНАЛ
Дарования и интересы Шумана с детских лет были
многообразны, и он долгое время не мог решить, что для него
важнее — музыка, литература или философия искусства. Уже в
гимназические годы усиленному чтению сопутствуют опыты
литературного творчества, среди них — переводы античных
классиков, собственные стихи, наброски драм, научные трактаты. На
рубеже двадцатых и тридцатых годов Шуман под прямым
влиянием Жан Поля создает ряд литературных фрагментов,
написанных в свободной форме и сочетающих в себе разные жанры;
это и повествования, и дневники, и лирико-философские
диалоги («Июньские вечера и июльские дни», «Селена», «Готтенто-
тиана») 5.
В 1830 году, будучи студентом-юристом Гейдельбергского
университета, Шуман окончательно избирает для себя путь
музыканта. Осенью этого года он возвращается в Лейпциг и
продолжает свои занятия у Фридриха Вика. Начинается усиленная
тренировка на фортепиано, своим чередом идут занятия
композицией, которые после внезапного заболевания руки выходят на'
первый план. Но литературные интересы Шумана вовсе не
оказываются подавленными. Дневники и письма свидетельствуют а
том, что они по-прежнему широки и проявляются весьма актив-
ьо. В дневниковой тетради за 1831 год встречаются, например,
следующие записи — по-видимому, темы для размышлений или
научных разработок: «О гении, который сам себя не понимает»,
<Ю поэтическом воплощении в искусстве обыденного», «О
проникновении в духовное», «О прививке красоты и о красоте
гения», «Мысли к поэтической биографии Гофмана»; на одной из
страниц упомянутой тетради записана тема «Женщины у
Шекспира», и далее следует подробный список женских персонажей в
пьесах великого драматурга. Здесь же несколько стихотворений
4 «Davidsbund» — «Давидов союз», назван так по имени легендарного
библейского царя-песнопевца Давида, боровшегося против филистимлян.
5 Сведения о ранних литературных опытах Шумана читатель найдет в
биографических трудах, о композиторе. Некоторые фактические данные,
относящиеся к этим работам, мы приведем в комментариях ко второму тому
данной публикации.
11
Шумана6. В письме от 4 декабря 1830 года и в дневниковой
записи от мая 1831 года названа повесть Шумана «Филистер и
король оборванцев»7.
В начале тридцатых годов литературные начинания Шумана
ьсе чаще соприкасаются с музыкой; в тесном переплетении
именно с музыкальными интересами формируется идея Давидс-
бунда. Уже с июня 1831 года в дневнике начинают мелькать
имена бюндлеров. В это же время созревает статья о вариациях
Шопена ор. 28 и почти одновременно рождается замысел
романа под названием «Вундеркинды». Действующими лицами этого
неосуществленного романа должны были стать Паганини, Гум-
мель, Клара Вик, Флорестан (то есть сам Шуман), а также
некоторые вымышленные персонажи. Автору хотелось
разработать в романе живо интересовавшую его проблему
музыкального исполнения, а именно обычное для практики разъединение
виртуозного совершенства и артистической выразительности;
синтез этих двух качеств должен был проиллюстрировать
великий Паганини9.
Вскоре возникает новый крупный замысел — книга о Давиде-
бунде, о которой автор впервые упоминает в одном из писем
1832 года10. Работа над этой воображаемой книгой фактически
была накоплением отдельных разрозненных записей,
фиксировавших текущие впечатления и мысли музыканта. Автор
стремился оформлять эти записи как сценки и диалоги с участием
бюндлеров. Началом послужила статья о Шопене. К ней очень
близки по жанру некоторые дневниковые записи 1831 года,
например от 1 июля и 19 августа, где обсуждаются рондо ор. 37
Герца и «Венгерский дивертисмент» Шуберта11. Некоторые из
своих ранних музыкально-критических заметок Шуман
опубликовал в 1832—1834 годах в журнале «Komet», другие оставались
в рукописи до первого издания «Gesammelte Schriften»I2. По-
видимому, все они и были теми «предварительными работами»
для нового журнала, о которых Шуман упоминает в письме к
матери от июня 1833 года13.
Год 1833 явился одновременно и важным итогом, и
знаменательным началом. Окончательно созрела терпеливо выношенная
e Schumann Robert. Tagebiicher, Bd. I (1827—1838). Herausgegeben
von Georg Eismann. VEB Deutscher Verlag fur Musik, Leipzig, 1971,
S. 333, 335, 336, 351. В 1838 году тему «Женщины у Шекспира» разработал
Гейне.
7 Ibid., S. 334, 464 (цитируемое в комментариях к дневникам письмо от
1830 г. полностью не опубликовано).
8 Ibid., S. 324, 351. Сведения о литературном дебюте Шумана см. в
наст, изд., т. 1, с. 370—371. В ссылках на второй том настоящего издания
(еще не изданный) указывается только название статьи.
9 Ibid., S. 342—343.
10 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 161.
" Schumann Robert. Tagebucher, Bd. I, S. 344, 363-364.
12 См. наст, изд., т. 1, статьи 3, 4, 5.
13 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 190.
12
идея Давидсбунда. Искавшие для себя выход чувства и мысли
нашли свое русло: летом 1833 года в шумановском кружке уже
обсуждаются практические вопросы издания нового
музыкального журнала. Их удалось разрешить далеко не сразу.
Потребовалось еще много усилий, прежде чем вышла в свет скромная
журнальная тетрадка, на которой значилась дата: 3 апреля
1834 года.
Шуман определяет Давидсбунд как «духовное братство»14.
В письме к Г. Дорну говорится о весьма широких и свободно
понимаемых рамках содружества. «Давидсбунд — это только
духовный, романтический союз, как Вы давно заметили. Моцарт
был таким же великим бюндлером, как теперь Берлиоз, как
Вы...» 15 Позднее Шуман отметил, что Давидсбунд являлся
союзом «более чем тайным» и существовал «только в голове его
основателя» 16. Последнее нельзя признать точным. То, что
шумановский кружок был реальностью и что, по крайней мере,
вначале в нем царил дух солидарности, явствует из многих
документов 17. И все же акценты в приведенных выше
определениях указывают на существенную особенность шумановского
начинания. Давидсбунд менее всего походил на функционирующее
общество или союз; он оставался идеей, знаменем, а по форме
своего существования скорее всего напоминал компанейское
застольное содружество (местом постоянных встреч шумановского
кружка был маленький ресторан А. Поппе в нижнем этаже
гостиницы «Цум кафебаум» на Флайгерштрассе, № 230) 18.
14 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 255.
15 Там же, с. 264.
18 См. наст, изд., т. 1, с. 70.
17 Об этом пишет, в частности, сам Шуман (см. наст, изд., т. 2, «К
новому, 1839 году»), об этом же свидетельствует один из участников кружка
И. П. Лизер в статье «Роберт Шуман и романтическая школа в Лейпциге»,
которая опубликована 20 октября 1838 года в венском журнале «Humorist»;
частично приведена в книге: Schumann Robert. Gesammelte Schriften.
Vierte Auflage v. G. Jansen, Bd. II, S. 511—514.
18 Прообразами шумановского Давидсбунда могли явиться некоторые
реально существовавшие художественные объединения. По идейным
задачам родственным Давидсбунду было веберовское «Гармоническое общество»
(«Harmonischer Verein»), основанное автором «Фрейшюца» совместно с
Мейербером и Готфридом Вебером в 1810 году. В определенном отношении
похожим был дружеский круг Шуберта в Вене. Можно упомянуть и о
некоторых объединениях времени Шумана. К. Вернер называет, в частности,
возникший в 1827 году кружок берлинских поэтов «Tunnel uber der Spree».
Собрания этого кружка происходили по воскресеньям в одном из кафе;
участникам присвоены были особые имена. В Мюнхене П. Хайзе и Э. Гейбель
создали литературный кружок «Krokodil». В Вене известен был
артистический ферейь, основанный Морицом Зафиром и носивший название «Ludlam-
shole»; по словам Ф. Грильпарцера, здесь встречались «все лучшие
художники, музыканты и литераторы». По примеру этих кружков в Лейпциге
возник свой артистический союз под названием «Tunnel uber der Pleisse»; его
13
Но в еще большей мере Давидсбунд был литературной
мистификацией, придуманной под влиянием многих романтических
образцов, и прежде всего, вероятно, в подражание «Серапионо-
вым братьям» Э. Т. А. Гофмана 19.
Такая мистификация, помимо того что она сама по себе
была привлекательной для романтически настроенных молодых
людей, рассчитана была также и на определенное воздействие. На
с?то Шуман указывает в письме к А. Цуккальмальо:
«Таинственность имеет, между прочим, для многих особую прелесть и,
кроме того, как все сокровенное, — особую силу»20. Расчет был
верный: интригующая форма, избранная бюндлерами, сразу же
привлекла внимание к новому журналу, ускорила
распространение его идей.
Вымышленные имена, которые Шуман присваивал людям,
так или иначе причастным к его среде или к его идеям, получали
двоякое применение. Они служили литературными
псевдонимами, вместе с тем появлялись как персонажи или «маски» в
постоянно развивавшейся на страницах NZfM литературной
«игре». В первом случае за псевдонимами скрывались реальные
авторы; что же касается «игры», то ее творцом был только
Шуман. Сочиненные им диалоги, конечно, отражали действительные
споры, черты характеров, но при этом оставались
литературными произведениями, действующие лица которых лишь очень
условно были связаны с их прототипами. Сбивчивая, прихотливая
система шифров, а также их обилие и причудливость
(псевдонимами служили не только имена, но и цифры, буквы, притом
часто не заглавные) — все это придавало жизни бюндлеров еще
большую загадочность; журнал настойчиво поддерживал это
впечатление интригующими намеками и обещаниями разгадок.
Во второй половине тридцатых годов Шуман размышляет о
том, что форма существования Давидсбунда могла бы стать
более определенной; нужно, как он пишет Цуккальмальо, дать
этому содружеству «действительную жизнь, то есть объединить
единомышленников — и притом не только музыкантов по
специальности, но и писателей и художников — в более
тесный союз»21. Почему организационная реформа осталась
неосуществленной— об этом можно лишь высказывать предположе-
основателем явился лейпцигский издатель Ф. Хофмайстер (W б г п е г К. Н.
Robert Schumann. Zurich, Freiberg, 1949, S. 69). Добавим, что Хофмайстер
был одним из первых издателей произведений Шумана, в начале тридцатых
годов оь проявлял живой интерес к начинаниям давидсбюндлеров и
обсуждал вместе с ними проект нового журнала.
19 То, что романтику дружбы и единомыслия Шуман ассоциировал с
жизнью гофмановских «братьев», видно из его письма к старому приятелю
Э. А. Беккеру. Шуман вспоминает здесь о времени их теснейшего сближения
(в 1833 году) как о «серапионовых ночах» (Ш у м а н Роберт. Письма»,
т. 1, с. 249).
20 Там же, с. 255.
21 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 276.
14
пия. По-видимому, в своем бюндлерстве, каким оно естественно
сложилось в начале тридцатых годов, Шуман всегда ценил
приоритет чисто духовных интересов, романтическую свободу и
«необязательность». Отвечая Ф. Бренделю на предложение вступить
в одно из музыкальных обществ, он в 1849 году писал: «От
вступления в ваш союз увольте меня, дорогой Брендель. Вы
знаете, что я всегда любил свободу и независимость, в
подобного рода союзы никогда не вступал и вступать не буду. Каждый
имеет право выполнять долг по отношению к искусству по-
своему, позвольте и мне оставаться самим собой. Духовный
союз, который нас соединяет, является самым крепким. Поэтому
в прежние времена, когда все молодые таланты поспешили на
выручку, я не конституировал Давндсбунд; но мы все знаем
себя»22.
Идея создания нового журнала непосредственно связана
<5ыла с обстановкой в музыкальной жизни Германии в конце
двадцатых — начале тридцатых годов. Шуман кратко и
отчетливо обрисовал ее во Введении к своему собранию статей23.
Господство рутины сказывалось и в музыкальной периодике.
Старейшая и самая распространенная лейпцнгская газета «Allge-
rrieine musikalische Zeitung» давно утратила привлекательность
и авторитетность, которыми она более всего была обязана
своему основателю Иоганну Фридриху Рохлицу. В период
редакторства Г. Финка (1818—1841) газета стала вялой, безразличной,
-академически сухой. Так воспринимали ее отнюдь не только
молодые поборники новизны, но и многие музыканты старшего
поколения, более умеренные по своим взглядам. Примечательны
строки из письма видного дрезденского композитора и
дирижера Карла Райсигера: «В той же мере, в какой я являюсь
решительным противником финковского беззубого филистерства,
меня огорчает и здешнее недозерие к благородной правдивости,
которой придает цену только одна газета, недоверие к отличным,
умным статьям «Neue Zeitschrift»24. В одном из первых
«Журнальных обозрений» NZfM говорилось, что критика газеты
Финка «с одинаковой осторожностью уклоняется от признания
духовно богатого, гениального и от открытой борьбы против
посредственного, бездарного. Тенденция газеты — высшая
терпимость [...] ее лозунг: живи и жить давай другим»25.
22 Schumann Robert. Briefe. Neue Folge. Herausgegeben von F. Gustav
Jansen. Zweite vermehrte und verbesserte Auilage. Leipzig, 1904, S. 313.
23 См. наст, изд., т. 1, с. 69.
24 J a n s e n F. G. Die Davidsbundler. Aus R. Schumanns Sturm- und
Drangperiode. Breitkopf und Hartel, Leipzig, 1883, S. 216. Здесь же
приводятся данные о критическом отношении к «Allgemeine Musikalische Zeitung»
Маршнера, Мендельсона, Хофмайстера.
25 NZfM, 1834, 8 сентября, № 46, с. 183.
15
По словам близкого к Шуману Ф. Бренделя, лейпцигская
критика, предшествовавшая выступлению давидсбюндлеров
(имеется в виду главным образом Финк), «все более и более
обнаруживала некую расслабленность, она удалилась на покой
и ради сохранения предпочитаемого ею мира считала, что все
должно идти так, как идет»26.
Более сложным было отношение Шумана и его ближайших
друзей к берлинскому журналу «Iris» и его редактору Л. Рель-
штабу. «Iris» читался с интересом благодаря живости своего
тона, прямоте суждений, вниманию к новым явлениям искусст-
ва._Рельштаб один из первых отозвался о произведениях
Шумана (о цикле «Тема на имя Абегг», «Бабочках», «Этюдах но
каприсам Паганини» ор. 3). Но при этом эстетические мерки Рель-
штаба были весьма консервативны, и романтическую музыкаль-
ьую школу (в том числе Шопена и Шумана) он считал «школой
заблуждений». В «Журнальном обозрении» NZfM иронически
обыгрывается название журнала («Iris» — означает радуга):
рецензент называет его «одноцветным». Он спорит против
навязываемого редактором эстетического единообразия. «Не
верится, — пишет он, — чтобы Рельштаб смог внушить
путешественнику, направляющехмуся, например, в Грецию, что тот находится
на ложном пути потому, что он (Рельштаб) стремится попасть
на север. Различные усилия требуют различной пищи, и мы идем
не по одной и той же дороге»27. Руководимый И. Кастелли
венский журнал «Allgemeiner musikalischer Anzeiger» и особенно
журнал «Cacilia», издававшийся в Майнце под руководством
Готфрида Вебера, отличались большей гибкостью, лучше
понимали творчество молодых (отзыв Вебера о первых опусах
Шумана — едва ли не первые слова настоящего признания
композитора). Однако активность и влиятельность названных
журналов оставались ограниченными.
29 июня 1833 года Шуман'писал матери: «Множество
молодых, высокообразованных людей, большею частью изучающих
музыку, составили круг моих знакомых, которых я привлекаю
в дом Вика. Более всего нас захватывает мысль о новой
большой музыкальной газете, которую будет издавать Хофмайстер
и объявления о которой, как и проспект, появятся уже в
будущем месяце. Общий тон и окраска должны быть более свежими
и разнообразными, чем в других газетах, прежде всего следует
воздвигнуть преграду перед укоренившейся рутиной...»28.
Хлопоты по подготовке нового издания затянулись на много
месяцев, так как намечавшиеся издатели после некоторых
размышлений отклоняли предложение бюндлеров, считая его матери-
20 В г en del F. Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frank-
reich, Bd. II. Leipzig, 1855, S. 237.
27 NZfM, 1834, 22 сентября, № 50, с. 198. О взаимоотношениях Шумана
и Рельшгаба см. также в коМ'Ментарии 1 к статье 5.
28 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 188—189.
16
ольно рискованным29. Первый номер NZfM появился 3 апреля
1834 года. Журнал выходил два раза в неделю в виде тонких
тетрадей малого газетного формата. С 1837 года каждые три
месяца выпускались нотные приложения, главной целью
которых была поддержка молодых талантливых композиторов, с
трудом пробивавших себе дорогу к публикациям. В первый год
издания соредакторами Шумана числились Л. Шунке, Ю, Кнорр,
Ф. Вик. Однако уже тогда на плечи Шумана легла вся
повседневная работа редакции, включая правку корректур и
переписку30. К концу первого года издания стало очевидным, что соре-
дакторство основателей журнала по разным причинам было-
лишь одной надеждой. В дневниковых записях Шумана,
относящихся к этому году, мы читаем: «Ссора с Виком и другими
редакторами», «Размолвки в газете», «Я приобретаю газету»31.
В феврале 1835 года Шуман сообщает другу Т. Тепкену: «Я
теперь единственный редактор и владелец газеты...»32. Положение
не менялось на протяжении десяти лет, за исключением шести
месяцев 1838—1839 годов, которые Шуман провел в Вене,
пытаясь перенести сюда издание своего Журнала; в эти месяцы его
заменял в Лейпциге О. Лоренц.
Однако журнал не являлся только его личным рупором. Как
значилось на титуле, издание выходило от имени «союза худож-
ьпков и любителей искусства». Союзом были те, кого Шуман
называл давидсбюндлерами,— вначале его ближайшее окружение,
затем более широкий круг друзей и единомышленников, чья
деятельность протекала в разных городах и странах.
Кто же были бюндлеры? Их имена почти забыты. Среди них,
очевидно, не было равного Шуману, никто не соединял в себе
(или не реализовал) того многого, что только в целом
образует непреходящую силу крупной творческой личности. Но в
«звездный час» нового движения каждый вносил свою долю
творческой энергии, свой энтузиазм, мысли и чувства. И, читая
сегодня статьи Шумана, необходимо отдать должное его
Духовным союзникам 33.
29 Отказались от издания и братья Шумана (Эдуард и Карл, владельцы
небольшого издательства в Цвиккау и Шнееберге), и Ф. Хофмайстер.
Предприятие взял на себя Г. Ф. Хартман. Уже к концу первого года возникли
трудности, в результате которых издание перешло непосредственно в руки его
официального редактора, а роль комиссионера взял на себя В. А. Барт.
С 1837 года издателем журнала сделался Роберт Фризе, с которым у
Шумана завязались теплые, дружеские отношения.
30 Об огромном объеме переписки Шумана свидетельствует его
регистрационная книга («Breifbuch»). См. об этом в приложениях к книге: Шуман
Роберт. Письма, т. 1.
51 Schumann Robert. Tagebucher, Bd. I, S. 420.
32 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 241.
33 Сведения о друзьях и сотрудниках Шумана собирал его первый
биограф В. Й. Вазилевски, позднее, с большей основательностью, — Г. Янзен.
Оба исследователя почерпнули многое из устных сообщений
непосредственных участников шумановского кружка, из мемуаров и писем. К тому,
1 V
Самым близким ему был Людвиг Шунке. Их дружба
длилась недолго, оборванная трагически ранней смертью
Людвига. Но след от этой дружбы оказался очень глубоким.
Исключая Клару Вик, Шуман никогда и ни к кому на
протяжении всей своей жизни не испытывал такой глубокой, нежной
привязанности, как к Шунке. В марте 1834 года он писал
матери: «...я мог бы лишиться всех друзей ради этого
единственного»; «превосходный человек и друг», почти двойник по
восприятию жизни искусства, — таким ощущал Шуман своего
Людвига34.
Шунке, уроженец Касселя, принадлежал к известной
музыкальной семье (отец и брат — выдающиеся
виртуозы-валторнисты, другие братья — виолончелист и скрипач, сестра —
пианистка). Как сообщает биограф Людвига, в его семье, наряду
с музицированием, «много читали вслух, особенно охотно Гете,
Шиллера, Шекспира, но также и современников»35. Уже в
пятнадцать лет он с успехом выступал на эстраде, а его ранние
сочинения заслужили похвалу Карла Марии Вебера. Некоторое
время Шунке жил и учился з Париже, затем в Штутгарте и
Вене, где быстро завоевал репутацию отличного пианиста.
Осенью 1833 года Людвиг переселяется в Лейпциг: здесь он
становится частым rocTeiM в домах Фридриха Вика и Генриетты
Фойгт. О первых встречах с'Людвигом Шуман вспоминал
впоследствии как о волнующем событии; он писал: «...все сошлись
на том, что это наверное художник, настолько уверенно
природа запечатлела его звание в его внешнем облике [...]
восторженные глаза, орлиный нос, тонкий иронический рот,
великолепные ниспадающие кудри и под всем этим — легкий, хрупкий
торс, который казался скорее несомым, чем несущим»36. В 1834
году, последнем в жизни Людвига, он и Шуман поселились в
одной квартире.
К этому времени Шунке был уже автором ряда
фортепианных сочинений, а в Лейпциге написал несколько новых,
наиболее значительных (в том числе сонату g-moll, посвященную
Шуману, два каприччо, посвященные Кларе Вик и Шопену,
«Блестящий дивертисмент», «Концертные вариации» для
фортепиано с оркестром на тему вальса Шуберта и другие). В среде
давидсбюндлеров эти произведения находили горячий отклик,
хотя позднее Шуман признавал, что как композитор его друг
что Г. Янзен изложил в своей книге «Die Davidsbundler» и затем в
комментариях к четвертому изданию статен Шумана, прибавилось не много.
Богатые источники, относящиеся к Давидсбунду и истории NZfM, еще нельзя
считать в достаточной мере исследованными/
34 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 207.
35Schunke M. Ludwig Schunke (1810—1834) und seine Familie. — In:
Sarnmelbande der Robert-Schumann-Gesellschaft, II. VEB Deutscher Verlag fur
Musik, Leipzig, 1966, S. 103.
38 См. наст, изд., т. 1, с. 179.
18
не успел дойти до той высоты, какой он достиг в области
исполнительства. Об игре Шунке Шуман отзывался с наивысшей
похвалой. Он подчеркивал, что при блестящей виртуозности
Людвига не пальцы у него были главным, «у него все
вырастало из духа», «слушать в течение часа, как он занимается, даже
просто разучивает гаммы [...] было для меня наслаждением и
давало больше, чем иное концертное исполнение»37.
Литературная деятельность не была его сферой. В
сочинении немногочисленных статей Шунке, опубликованных на
страницах NZfM, ему активно помогал Шуман, так как «пером он
владеет в тысячу раз хуже, чем роялем»38. Но в содружестве
с Шунке Шуман находил прочную опору для своих идей и
начинаний; по-видимому, его собственные высказывания во
многих случаях включали в себя и мнения друга.
Людвиг Шунке скончался от туберкулеза легких 7 декабря
1834 года. Номер NZfM, датированный следующим днем,
открывался извещением о кончине «несравненного художника и
человека». Шуман тотчас же начал собирать материалы о его
жизни; 14 декабря он писал в Вену Й. Фишхофу: «Я хотел бы
воздвигнуть нашему Людвигу памятник в нашем журнале, и
если даже мое сердце разорвется, я сделаю это...»39.
Задуманная, по-видимому, биографическая статья не появилась, но.
проникнутые глубоким чувством строки о Шунке вошли в
некоторые рецензии Шумана.
Духу Давидсбунда особенно близки были люди с широкой
культурой и разносторонними художественными склонностями..
Юлиус Кнорр происходил из семьи филологов; с пятнадцати
лет посвятил себя изучению литературы, одновременно
занимался музыкой и вскоре проявил себя как талантливый
пианист. Его увлечение шумановским журналом свидетельствовала
о том, что литературные интересы Кнорра не были
мимолетными. Темные, гладкие волосы и всегда темный костюм
оттеняли бледное, сухощавое лицо; через стекла очков смотрели
умные острые глаза; во рту балансировала сигара; из-за
искривления ноги он чуть прихрамывал, опираясь на суковатую
палку— таким был внешний облик молодого Кнорра, в котором,
по словам Янзена, было что-то мефистофельское. Но это
впечатление исчезало как только Юлиус втягивался в беседу:
здесь сразу чувствовался одухотворенный, пылкий художник.
Шумана сблизила с'Кнорром их общая восторженная любовь
к Шопену. Исполнение Юлиусом 27 октября 1831 года в Ге-
вандхаузе вариаций на тему из Дон Жуана ор. 2 явилось
началом распространения Шопена в Германии и в немалой
степени способствовало началу критической деятельности Шумана.
В качестве давидсбюндлера Кнорр носил имена Юлиус и Кнаф;
37 См. наст, изд., т. 1, с. 290.
38 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 222.
39 Там же, с. 238.
19
лоследнее представляло собой перевернутое имя редактора
«Allgemeine musikalische Zeitung» Финка (затея была шутливо-
полемическим выпадом и одновременно отражала склонность
Кнорра, как и Шумана, к символическим комбинациям букв).
Для деятельности концертирующего артиста Кнорру,
по-видимому, не хватало энергии и целеустремленности, но в зрелые
годы он завоевал признание как музыкальный педагог. Его
книга «Путеводитель в области педагогической фортепианной
литературы» осталась ценным документом своего времени; она
содержит, в частности, уникальные материалы о фортепианных
произведениях Шумана.
Родителями Иоганна Петера Лизера были артисты
драматического театра; сам он вначале готовился к карьере
музыканта, но с шестнадцати лет, пережив тяжелое
заболевание, начал терять слух и вскоре почти совсем оглох. Лизер стал
профессиональным художником и писателем, сохранив, однако,
тесную связь с музыкой. В Лейпциге, в начале тридцатых
годов, он близко сошелся с Шуманом и явился одним из первых
активных сотрудников NZfM. В этом и в других изданиях
Лизер печатал свои литературные портреты композиторов. За
большим очерком «Отец Долее и его друзья» (об ученике
И. С. Баха, композиторе и канторе церкви св. Фомы Иоганне
Фридрихе Долесе) последовали новеллы «Гендель», «Себастьян
Бах и его сыновья», «Бетховен», «Глюк в Париже», статьи
о Гайдне, Моцарте, Берлиозе, Мейербере, Шумане, Л. Шунке,
Шредер-Девриент, а также корреспонденции из Дрездена,
где автор жил с 1835 года. Музыке посвящены и его работы
художника. Сравнительно более известны пародийные портреты
Бетховена. О другой его работе Гейне писал: «На мой взгляд,
только одному человеку удалось передать на бумаге
подлинную физиономию Паганини: это — глухой художник, по имени
Лизер, который в порыве вдохновенного безумия несколькими
взмахами карандаша так хорошо уловил черты, Паганини, что
не знаешь, смеяться или пугаться правдивости его рисунка [...]
Этот художник был удивительный чудак; несмотря на свою
глухоту, он страстно любил музыку, и говорят, что, когда он
находился достаточно близко от оркестра, он умел читать звуки на
лицах музыкантов и в состоянии был по движению их пальцев
судить о более или менее удачном4 исполнении...»40
Из сотрудников, которые импонировали Шуману широтой
культуры, назовем здесь Эдуарда Крюгера — филолога,
историка музыки, критика и композитора, чей глубокий
интерес к творчеству Баха в особенной мере привлекал к себе
редактора NZfM. В журнале сотрудничал (с 1838 года)
писатель и композитор, доктор философии Юлиус Беккер; в
числе его литературных произведений — роман «Новый роман-
40 Гейне Генрих. Флорентийские ночи. — Собр. соч., т. 6, с. 365—366.
20
тик», где одна из глав названа «Произведения Флорестана и
Эвсебия». Шуман писал, что в этом романе «много хороших
намерений, но композиция [...] чрезвычайно слаба...»41 В 1840
году Ю. Беккер сочинял стихотворный текст для задуманной
Шуманом оперы «Дож и догаресса» (по «Серапионовым
братьям» Э. Т. А. Гофмана). Назовем также лейпцигского писателя
Августа Бюрка, дружившего с бюндлерами и в первых
номерах NZfM выступившего с большой статьей «Переписка
Гете и Цельтера».
К самому близкому окружению молодого Шумана
принадлежал Эрнст Ортлепп. Изучавший в Лейпциге филологию
и богословие, Ортлепп стал затем переводчиком с английского,
плодовитым поэтом, музыкальным критиком («Zeitung fur die
elegante Welt»). Он чрезвычайно увлекся идеей нового
музыкального журнала и очень помогал Шуману в пору основания
NZfM. Впрочем, предложенный Ортлеппом" первый вариант
проспекта Шуман решительно отверг, находя его безличным и
компромиссным; он писал: «...имея то оружие, которым мы
хотим сражаться, он [Ортлепп] с самого начала сдается в плен;
я полагаю, нет ничего нового, поэтического или убедительного
ии в его взглядах, ни в проспекте»42. Эта реплика — один из
многих фактов, свидетельствующих о том, что единство
настроений и порывов, объединявших ближайшую шумановскую
среду, не всегда подкреплялось достаточно определенным и
осознанным единством взглядов. Такое «приблизительное»
единство впоследствии проявилось и в судьбе кружка, и в
эволюции отдельных его участников.
Среди тех, кого Шуман поначалу называл «дирижерами»
нового журнала, заметная роль принадлежала Фердинанду
Штегмайеру (подпись Шт.). Пианист, скрипач,
композитор43, капельмейстер Лейпцигского театра, сменивший на этом
посту Т. Дорна, он пользовался в Лейпциге большим
авторитетом. Шуман очеуь симпатизировал ему, охотно проводил
время в его обществе и советовался с ним. «Штегмайер [...]
превосходный музыкант, я должен его за многое благодарить», —
писал Шуман весной 1834 года44. В связи со слухами о
переезде Штегмайера в другой город, он высказал тревогу: «Это была
бы невосполнимая потеря, Лейпциг потерял бы в его лице
одного из первых музыкантов»45. Несмотря на активный интерес
к шумановскому начинанию, практическое участие Штегмайера
в работе редакции NZfM оказалось ничтожным. В письмах
Шуман сетует на склонность своего старшего друга к безала-
41 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 548.
42 Там же, с. 192.
43 См. наст, изд., т. 1, с. 353—354. * .
44 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 208.
45 Цит. по кн.: Schumann Robert. Gesammelte Schriften. Vierte Auf-
lage v. G. Jansen, Bd. I, S. 315.
21
берной жизни (к превращению дня в ночь и наоборот), на его
лень, которые помешали ему реализовать свои незаурядные
таланты и знания.
Фридриха Вика Шуман считал одним из главных
друзей нового журнала и на его реальную помощь возлагал
большие надежды. Вик и в самом деле высоко оценивал начинание
бюндлеров, разделяя многие их стремления; верил он и в
талант своего выдающегося ученика. 28 марта 1835 года он
писал во Фленсбург органисту В. Риффелю: «Не читаете ли Вы
[...] «Neue Leipziger Zeitschrift fur Musik»; его издает (мой
ученик) Роберт Шуман, наш немецкий Шопен и наш Бах, на что*
уже указывают его токката, экспромты и др.? Не
заинтересуетесь ли Вы этим прекрасным журналом, который кладет конец,
окружающему нас царству золотой середины...»46 Но от
практического участия в журнале Вик отстранился еще до выхода
в свет первого номера. Шуман с горечью спрашивал его в
августе 1833 года: «Разве Вы не хотите делить со всеми и горе,
и радость? Вы ведь это обещали, насколько я мог заключить
из того интереса, какой Вы выказывали к делу [...] Вы хотите
помочь только наполовину?»47 Вряд ли Вик руководствовался
принципиальными мотивами; как видно из многих фактов, он
всегда избегал по-настоящему заниматься тем, что, не сулила
ему личной выгоды или личного успеха, а эксперимент Шумана
этого, конечно, не гарантировал48. Авторский вклад Вика
ограничился несколькими статьями о педагогической фортепианной
литературе, которые он подписал псевдонимами Старый
фортепианный учитель, 14 и nz. Во второй половине тридцатых годов-
разрыв личных отношений Шумана и Вика (связанный с
«борьбой за Клару») привел и к полной изоляции последнего от
журнала и от всего, с чем связано было имя его ученика.
Но юная Клара Вик неизменно и всей душой тяготела к:
шумановскому кружку. В первый же год издания NZfM
редакция в шутливой записке назвала ее «торжественно избранным
сотрудником Кларусом»49. В статьях и произведениях Шумана
она фигурирует под именами: Цилия, Кыара, Киарина. К Да-
видсбунду принадлежал и другой талантливый представитель
артистического мира—'пианист Луи Ракеман; Шуман
называл его «кротким давидсбюндлером» и наделил его именем
В альт.
46 Цит. по кн.: Schumann Robert. Gesammelte Schriften. Vierte Auf-
lage v. G. Jansen, Bd. I, S. 313.
47 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 136—137.
48 Шуман довольно рано распознал в характере своего учителя черты
жесткого эгоизма и корыстолюбия. В дневниковой записи от 13 октября
1831 года он -полушутя, полусерьезно наделяет Вика прозвищем «Allesgeld»^
что приблизительно означает: всё — деньги, чистоган (см.: Schumann
Robert. Tagebucher, Bd. I, S. 371).
49 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 219.
22
Назовем здесь еще некоторых наиболее деятельных и
преданных участников шумановского кружка и журнала. Карл
Фердинанд Беккер (С. F. В.), органист и педагог (с
1843 года — класс органа в Лейпцигской консерватории), был
обладателем богатого собрания книг о музыке, нот, в частности
редких изданий старинной музыки; постоянно писал о
музыкальной классике, помогал Шуману в подготовке
документальных публикаций, с большой заинтересованностью выполнял
разнообразные заказы редакции, связанные с текущими
событиями музыкальной жизни. Освальд Лоренц,
разносторонне образованный музыкант (органист, учитель пения), кроме
того, активный журналист, сотрудничал в NZfM с 1837 года и
дважды стоял во главе издания. Шуман называл его своим
«министром песен», полностью доверив ему организацию и
сочинение рецензий о вокальной музыке. Со времени застольных
бесед и мечтаний на Флайгерштрассе и до конца своих дней
Лоренц был неизменным поклонником личности Шумана.
Б 1879 году он писал: «Шуман был одним из самых
задушевных, доброжелательных и вообще одним из самых
благородных людей, каких я когда-либо знал»50. Шуман выразил свое
дружественное расположение к Лоренцу посвящением ему
песенного цикла «Любовь и жизнь женщины». Франц
Бренде л ь — вначале сотрудник NZfM, а с 1844 года его редактор —
в молодости усиленно изучал философию (Лейпциг, Берлин) и
находился под сильным влиянием школы Гегеля. Одновременно
учился музыке (у Ф. Вика); позднее стал видным
музыкальным писателем и ученым. Уже в сороковые годы у Бренделя
проявляется тяготение к идеалам так называемой
«новонемецкой» (или «веймарской») школы с ее оппозиционным
отношением к школе «лейпцигской». Вместе с тем нити, сближавшие
его с Шуманом и Давидсбундом, долгое время оставались
весьма прочными, о чем свидетельствует приведенное выше
письмо Шумана от 1849 года (см. с. 15). В своих лекциях по
истории музыки Брендель посвящает Шуману страницы,
полные не только глубоких наблюдений, но и живого, неостываю-
щего чувства. Автор «Крейслерианы», в котором историк видит
принципиальные отличия от Мендельсона, представляется ему
одним из самых крупных явлений музыки XIX века,
обозначившим собою переход к новой эпохе; уже в ранних произведениях
Шумана «сразу же открывается новый мир»51.
Имена самых активных бюндлеров были псевдонимами и
«гдаскамш» самого Шумана. По его собственному определению,
Флорестан и Эвсебий выражали два полюса его характера.
Идею олицетворения противоположных сторон одной личности
50 Циг. по кн.: Jansen F. G. Die Davidsbundler, S. 239.
51 В r e n d e i F. Geschichte der iVlusik in Italien, Deutschland und Frank-
reich, B. II, S. 188.
23
Шуман заимствовал у Жан Поля. Прообразами Флорестана и
Эвсебия явились, в частности, Лайбгебер и Зибенкез («Зибен-
кез») и особенно Вульт и Вальт — герои любимого Робертом
романа Жан Поля «Мальчишеские годы» («Flegeljahre»).
Первый из них (странствующий музыкант) — смуглый брюнет,
энергичный, непокорный и дерзкий; у второго нежный цвет
лица, он мягок, сердечен, больше переживает, чем действует.
Вульт и Вальт—братья-близнецы, чем подчеркивается их
глубокая близость при всем различии внешнего облика и
характеров.
В Флорестане черты Вульта выражены еще резче и, как
будто, соединены с более сложными психологическими чертами
гофмановского Крейслера. У Флорестана неистовый
темперамент, острая и бурно выражаемая впечатлительность, он
подчеркнуто ироничен, склонен к парадоксальному своеволию
мысли, ведет себя порою с демонстративной
экстравагантностью. По словам Шумана, это один из тех редких музыкантов,,
«которые как будто задолго предугадывают все грядущее,
новое, из ряда вон выходящее; странное уже в следующее
мгновение теряет для них свою странность; необычное сразу же
становится их достоянием»52.
Эвсебий, наоборот, чужд какой бы то ни было
экстравагантности, он нетороплив, страстно мечтателен, «схватывает с
большим трудом, но вернее, наслаждается реже, но медленнее и
дольше»53. Игра Эвсебия строже и, вместе с тем, нежнее,
техническое мастерство более законченное, чем у Флорестана.
Противоположные суждения Флорестана и Эвсебия Шуман
любит уравновешивать высказываниями майстера Раро. В
дневниковых записях начала тридцатых годов этим именем (скорее
всего итальянским) он часто называет Фридриха Вика. В уже
упоминавшейся примечательной записи от 13 октября 1831 года
Шуман весьма загадочно говорит о том, что отныне некоторые
имена бюндлеров, в том числе Раро, «изменили свою роль»,
«из личностей реальных стали фантастическими»54. В этом
новом качестве Раро противопоставляется своему реальному
прототипу, который здесь же награжден приведенным выше
прозвищем «Allesgeld». Совершенно очевидно, что в своей третьей
маске Шуман запечатлел только одну, вполне ему
импонировавшую черту учителя — трезвость суждений, своевременно
охлаждавшую слишком разгоряченные головы. Но и в себе самом
Шуман усиленно развивал способность контролировать и
объективно оценивать непосредственные впечатления так же, как и
скороспелые мысли.
52 См. каст, изд , т. 1, с. 371.
53 Там же.
54 Schumann Robert. Tagebucher, Bd. I, S. 371.
24
Журнал сразу же заявил о новизне и серьезности своих
целей. Он предупреждал, что не намерен развлекать читателя
невинной болтовней, пересудами и комплиментами. Об этом
красноречиво говорил эпиграф из «Короля Генриха VIII»
Шекспира, предпосланный первому номеру NZfM (и затем
повторенный в первых номерах следующих лет): «Только те, что к
нам пришли сюда, ища забавы, послушать шум от кожаных
щитов иль лик смотреть шута в наряде пестром, обманутся».
В проспекте говорилось о стремлении защитить композитора
от односторонней или ложной критики, привлечь внимание
читателей к произведениям несправедливо забытым или не
замеченным, а также к заслуживающим поощрения рукописям
молодых талантов. В передовой статье к первому номеру 16*35
года Шуман дает следующее определение главных задач
журнала: «...настойчиво напоминать о старом времени и его
творениях, поскольку лишь этот чистый источник может питать силы
нового искусства; бороться с недавним прошлым как с
нехудожественным, направленным лишь на повышение внешней
виртуозности; наконец, помочь подготовке и скорейшему
наступлению новой поэтической эпохи»55. В этих строках хорошо
сформулированы и основные линии критической деятельности
самого Шумана: его борьба за истинное понимание великой
музыкальной классики, его выступления против
антихудожественного «недавнего прошлого», то есть академической рутины,
салонного музыкального пустословия, виртуозного щегольства;
наконец, его горячая пропаганда новых композиторов —
носителей прогресса.
Впечатления от нового журнала были, естественно, весьма
различными. Его необычно острый критицизм, нападки на
общепринятое многим показались слишком резкими и
бесцеремонными; литературные приемы — слишком причудливыми,
малопонятными. В постоянной оппозиции к NZfM оставалась
газета Г. Финка; избегая открытых столкновений, не называя
имен, «Allgemeine musikalische Zeitung;>, однако, не уставала
ехидничать по адресу бюндлеров. Полемические выпады
против NZfM появлялись и в других изданиях и связаны были
нередка с критикой романтической школы в целом.
Вместе с тем с первого же года издания интерес к
шумановскому журналу был очень велик, и количество подписчиков
непрерывно увеличивалось. «Журнал повсеместно пускает
корни»,— сообщал Шуман в письме от сентября 1836 года; а в
статье «К началу нового, 1839 года» он с достаточным
основанием писал: «...так как мы вообще затеяли этот журнал в
благоприятное время и при благоприятных обстоятельствах. [...] то
55 См. наст, изд., т. 1, с. 140.
25
неудивительно, что он быстро пробил себе дорогу и получил
повсеместное распространение...»; и далее: «...непрерывно
растущее за последние годы распространение журнала служит
лишь доказательством того, что он выражает умонастроение
очень многих...»56
В Лейпциге, помимо названных уже музыкантов, артистов,
литераторов, существовала среда верных друзей шумановского
журнала. Назовем прежде всего М ен д е л ь с о н а,
украсившего собой начиная с 1835 года музыкальную жизнь Лейпцига
(«бриллиант, упавший с неба», — как писал о его приезде
Шуман; и вскоре в рецензиях NZfM появилось имя нового бюнд-
лера — Меритиса). Дружественными очагами были известные в
Лейпциге музыкальные дома певицы Гевандхауза
Генриетты Грабау (певица Мария) и супругов Карла и
Генриетты Фойгт. Ученица Людвига Бергера, восторженная
почитательница Бетховена, Шопена и Мендельсона, Генриетта
Фойгт тесно сдружилась с Людвиком Шунке и Шуманом.
В своих воспоминаниях о Фойгт автор «Карнавала» писал:
«Переступив порог ее дома, художник чувствовал себя сразу в
своей сфере»57. В доме Фойгт музицировали многие
выдающиеся артисты, в частности Мендельсон и Шопен. Шуман окрестил
ее именем Элеонора.
Не без активных усилий Шумана, но и вместе с тем вполне
естественно, журнал приобрел весьма широкий круг
корреспондентов, друзей, поклонников в ряде городов Германии и за
границей. Уместно назвать здесь хотя бы некоторых. Это были:
в Дрездене — композитор и дирижер Карл Райсигер,
пианист Карл Креген; в Веймаре — дирижер Карл Монтаг, в
Майнце — дирижер Карл Космали; в Бремене — друг
школьных и студенческих лет Шумана, адвокат и просвещенный
любитель музыки Теодор Тепкен; в Иене—пастор Густав Ке-
ферштайн (К.* Штайн), философ и музыкальный писатель; в
Данциге — приятель студенческих лет в Гейдельберге,
пианист и виолончелист Август Лемке; в Бреслау профессор
философии Карл Август Калерт; в Рудольфштадте —
вокальный педагог, скрипач и музыкальный писатель Вильгельм
Шюлер; в Галле — певец и музыкальный педагог Густав Hay-
энбург; в Кенигсберге — дирижер и музыкальный писатель
Эдуард Соболевский.
В Лондоне Шуман видел своего покровителя в лице
уважаемого им Игнаца Мошелеса; сам он оказал горячую
поддержку молодому английскому композитору Вильяму Стерн-
далю Беннету, заслужив его благодарные чувства;
«Английские письма» присылали в журнал певец и композитор Франц
Отто (в начале тридцатых годов жил в Лейпциге и общался с
56 См. наст, изд., т. 2, «К новому, 1839 году».
57 Там же, «Воспоминания о друге».
26
бюндлерами), а также приятель Шумана по Гейдельбергу,
медик и музыкант (виолончелист) В. Глок. Из Парижа
присылал статьи скрипач и педагог, широко осведомленный
журналист Генрих Панофка. Из Вены писали пианист, профессор
консерватории Иозеф Фишхоф, а также композитор, дирижер,
музыкальный писатель И. К- Р. Зайфрид. В Риге жил и
охотно откликался на призывы Шумана его учитель теории музыки
Генрих Дорн, уже давно награжденный званием бюндлера. Из
Варшавы почта принесла Шуману первое письмо Антона
Цуккальмальо, чье появление в сфере Давидсбунда было
незаурядным событием58. Из Петербурга писали Карл Вайц-
ман, скрипач и теоретик музыки, а также Роберт Штёкхардт,
профессор Училища правоведения, талантливый
музыкант-любитель и давний поклонник Шумана.
Спустя четверть века после того как о шумановском
журнале узнали в России, один из первых русских шуманистов
Н. Ф. Христианович вспоминал: «На публику произвела
странное впечатление эта Новая музыкальная газета, она удивилась
и резкому тону, и оживленным речам ее, пока еще только
смутно чувствуя и то, что много правды в них, и то, что в одной
статье ее более жизни, поэзии и смысла, чем в целом томе
вялых, сонных и напыщенных рассуждений отсталого эстетика
•Финка и подобных ему писателей, самонадеянно и гордо
гулявших по арене тогдашней музыкальной критики Германии».
По словам Н. Христиановича, публика читала поэтические
статьи Шумана, «как читается большая часть лирических
произведений, наслаждаясь ими, но не слишком вдумываясь в то,
что пряталось за прихотливой тканью его живой, вдохновенной
речи. А за этой тканью скрывалось магическое слово: вперед,
всегда и вечно вперед! Убийственное слово для тех, чьи ноги
страждут параличом и другой не менее неприятной болезнью —
старческой немощью»59.
58 Собиратель народных песен и даровитый музыкальный писатель, Антон
«фон Цуккальмальо становится в 1835 году активным сотрудником
шумановского журнала (псевдоним Деревенский пономарь Ведель). С детства
приобщившийся к музыке, Цуккальмальо учился затем в Гейдельбергском
университете, где кроме юриспруденции изучал археологию, естественные науки и
немецкий язык. В тридцатые годы, живя в Варшаве, Цуккальмальо
овладевает славянскими языками, изучает восточную поэзию, продолжая вместе с
тем заниматься музыкой. В сороковые годы он — один из деятельных
организаторов немецких певческих праздников. Охотно приобщив Цуккальмальо
к своему кругу, Шуман, однако, не принимал эстетической ограниченности
Веделя, в частности его резко отрицательного отношения к Берлиозу. Спор по
этому вопросу отражен в статьях Цуккальмальо и Шумана о премированной
симфонии Ф. Лахнера. Характерна также их полемика по поводу
«онемечивания» музыкальной терминологии.
59 Христианович Н. Ф. Письма о Шопене, Шуберте и Шумане. М.,
1876, с. 202, 223 (первая публикация этих «Писем» — «Русский вестник»,
1857—1863).
27
ШУМАН-КРИТИК
Большая часть выступлений Шумана на страницах NZfM —
отклики на события текущей музыкальной жизни. Как правило,
это рецензии на новые нотные издания, на первые исполнения,
иногда на рукописи композиторов. Своей специальностью
Шуман считал музыку инструментальную и прежде всего
фортепианную. Обзоры фортепианных сонат, концертов, этюдов,
разнообразных «коротких пьес» на протяжении ряда лет являются
главным руслом его критической деятельности. Охотно
высказывается он также о симфониях, увертюрах и камерных
ансамблях. Но уже с 1835 года постепенно вторгается в сферу
вокальной музыки и в дальнейшем много пишет о песнях,
ораториях, операх.
С музыкальной повседневностью чаще всего связаны и
другие выступления Шумана — обзоры концертной жизни,
обращения к читателям NZfM, полемика, афоризмы и небольшие эссе
на разные темы.
Среди имен и фактов, которым посвящены все эти статьи,
подавляющее большинство принадлежит только истории. Едва
ли читателям наших дней, даже и музыкантам, говорят о чем-
нибудь такие имена, как Бенедикт, Беннет, Бертини, Борер,
Добжиньский, Калливода, Кесслер, Кребс, Пиксис, Поль, Ро-
зенхайн, Харткнох, Хессе и т. п. Лишь немногим известны
имена Бергера, Лёве, Хиллера, Калькбреннера, Тальберга, Ген-
зельта, Герца или же таких артисток, как А. Бельвиль, Г. Гра-
бау, К. Новелло. Не лучше ли, подумает иной читатель,
ограничиться выбором статей о Бетховене, Шуберте, Шопене, Листе
и других достойнейших? Заметим, что различные варианты
«избранного» Шумана существуют на многих языках мира, в
том числе и на русском, по-своему они полезны, но отнюдь не
способны заменить целое.
Как известно, значительность наблюдений вовсе не
определяется значительностью предмета. Страницы некоторых
посредственных мемуаров не становятся глубокими или
поучительными, если даже автор сподобился поговорить с великими. И
наоборот, если летописец как критик одарен острым взглядом и
высокой мерой духовной активности, даже повседневное и
преходящее открывается ему в глубоких связях с существенным и
затрагивает интересы, идущие гораздо дальше злобы дня. Так
обстоит дело и в статьях Шумана.
Его главной заботой критика было точное и тонкое
различение. То, что в обывательском восприятии или рутинной
критике оказывалось смешанным, перепутанным, теряло
качественную определенность, создавая удобную ситуацию для
процветания ничтожного, — все это ему хотелось резко осветить и
назвать вещи своими именами. Ничтожное, посредственное,
компромиссное рассматривалось поэтому в дразняще-дерзком
28
сопоставлении с подлинным и великим. И точно так же
достойное, обнадеживающее, даже если это были только проблески, и
тем более гениальное, оценивалось в связи с тем, что его
окружает и профанирует. Здесь-то и сосредоточен был внутренний
пафос, благодаря которому шумановские статьи, чего бы они.
ни касались, обретали содержательность и свежесть, кое в чем
напоминающие свойства его музыки. От внимательного
читателя этих статей не ускользнут высказанные как будто
мимоходом, но на самом деле глубоко выношенные замечания о
смысле искусства, о путях его развития и опыте истории, об
истинных и ложных критериях. Читатель заметит и некоторые
особенности метода и литературного стиля автора, неразрывно
связанные с идеями и целями его высказываний.
«Лучший способ говорить о музыке — молчать о ней [...]
зачем писать о Шопене? Зачем заставлять читателя скучать?
Почему не черпать из первых рук, самому играть [...] самому
t сочинять?»60 Это, конечно, шутливая бравада, и не случайно
' она вложена в уста несдержанного Флорестана. Шуман не
оставил бы нам в наследство своих статей, если бы считал
музыкальную критику ненужной. В парадоксальной форме
он выражает лишь свою высокую требовательность к слову
о музыке.
Против рутины в музыкальной критике Шуман борется с
такой же настойчивостью, как и против застоя и мертвечины в
творчестве. Со злой иронией отзывается он о серых и мелочных
описаниях музыки; «посредственные художественные
критиканы, приставляющие к колоссу лестницу и добросовестно
измеряющие его аршинами», бессильны что-нибудь разъяснить в
произведении великого художника61. «Ничто "так не плодит
посредственности, как посредственные рассуждения об этом»62.
Искусство должно быть окружено атмосферой живого,
всегда свежего восприятия. Для Шумана писатель о музыке это —
прежде всего глубоко заинтересованный слушатель, тонко
восприимчивый, одаренный богатым художественным
воображением, способный зажечься и воспламенить своего читателя
непосредственным впечатлением от искусства. Отсюда и требование,,
предъявляемое Шуманом к высшему роду критики: «...во
всяком случае, признаемся, что считаем высшей критикой ту,
которая сама производит впечатление, подобное взволновавшему
нас оригиналу»63.
С этими взглядами и целями связано литературное
своеобразие статей Шумана. Он ищет литературные формы,
чуждые газетным стереотипам, придающие высказыванию свежесть
60 См. наст, изд., т. 1, с. 260.
61 Там же, с. 143.
62 Там же, с. 278.
63 Там же, с. 143.
29
и непринужденность. Некоторые из его статей написаны в
форме писем к другу, например рецензии, составившие цикл
«Письма мечтателей». Другие носят характер диалогов или сценок.
Очень типична для Шумана рецензия на несколько
танцевальных пьес, сочиненная в форме романтически интригующего
описания бала («Отчет Жанкири»). Шумана очень привлекают
также формы эскизных «записей в дневнике», афористических
заметок, новелл, художественных очерков. Он намеренно
культивирует краткость, фрагментарность изложения, выражая этим
одну из своих излюбленных мыслей о том, что ведь и сама
жизнь это не универсальная схема, а скорее — «пестрые
листки». Лишь в немногих случаях Шуман предпринимал
относительно крупные аналитические экскурсы, причем в двух — о
«Фантастической симфонии» Берлиоза и об этюдах Хиллера —
погрешил не свойственной ему громоздкостью. По-видимому, и
здесь и в других аналогичных текстах автору еще не удавалось
органически слить наблюдения эстетико-психологического и
технического порядка, хотя на пути к такому слиянию Шуман
достиг значительных успехов.
Передавая впечатления от музыки, Шуман широко
пользуется приемом ассоциаций, поэтических параллелей,
самостоятельных программных истолкований. Его манера образного
описания и истолкования музыки связана с той характерной
разновидностью немецкой романтической литературы, которую
А. В. Луначарский назвал как-то «литературной музыкой».
Одним из ранних образцов этого жанра была повесть
Вильгельма Вакенродера «Достопримечательная музыкальная жизнь
композитора Иосифа Берлингера». Поэтические описания
музыки культивировали Людвик Тик и Э. Т. А. Гофман. Из
писателей-музыкантов к этому роду литературы тяготел К. М. Ве-
бер (неоконченный роман «Жизнь музыканта»).
В литературных высказываниях Шумана, особенно в
молодые годы, есть явные черты гофманианства. Они чувствуются
во всей атмосфере музыкальных впечатлений бюндлеров,
прежде всего в суждениях капризного, восторженного и ироничного
Флорестана. Они проявляются в свойственных Шуману
поэтически импровизационных вольностях, в некоторой
усложненности образов и метафор, идущей, впрочем, не только от
Гофмана, но и от Жан Поля64. Шуман—Флорестан, подобно
Гофману—Крейслеру, любит подразнить педантов свободой
поэтического истолкования музыки. Но он обычно хорошо ощущает
степень объективности и достоверности своих
музыкально-поэтических ассоциаций. Ему важно уловить и подсказать
читателю определенный род образов, но отнюдь не прикрепить му-
64 С годами литературный стиль Шумана заметно меняется, становится
менее прихотливым; появляется сдержанность, большая строгость в выборе
поэтических метафор, большая логическая стройность и лаконичность.
30
зыкальную мысль к одному незаменимому сюжетному
варианту. В этом духе набрасывает он, например, воображаемую
программу Седьмой симфонии Бетховена, преднамеренно не доводя
ее до конца («Письма мечтателей»). Если конкретизация
является слишком произвольной, Шуман сам предупреждает об
этом. В одном из маршей Шуберта Эвсебий усмотрел целый
австрийский ландштурм с волынками впереди и с колбасами и
окороками на штыках. «Однако это уж слишком субъектив-
но>>) _ замечает автор, как бы предвосхищая возможную
полемическую реплику читателя65.
По мысли Шумана, критик не вправе судить о произведении
изолированно. Для полноценного суждения мало одних лишь
непосредственных впечатлений. Нужно знать жизненный
«контекст» произведения. В этом плане Шумана интересует очень
многое, начиная от самых общих исторических сведений и
кончая разнообразными данными об авторе. Ему хочется знать «о
школе композитора, о его юношеских взглядах, о том, что
служило ему примером, даже о его привычках и житейских
обстоятельствах»68. Шуман обладал настоящим талантом
историка. Его меткие образные характеристики музыкальных стилей,
разбросанные в различных рецензиях, стоят многих
фундаментальных исторических трудов. Г. Кречмар говорит о
необычайно остром историческом чутье Шумана. Благодаря этому чутью
он открыл ошибки в издании F-dur'Hoft токкаты Баха,
g-molTHoii симфонии Моцарта, «Пасторальной симфонии»
Бетховена, на которые до этого времени никто не обращал
внимания67.
Научная взыскательность Шумана проявляется в его
постоянном внимании к музыкальной форме, ко всем выразительным
средствам музыки. Менее всего его интересует простое
описание или регистрация формальных элементов. Рассмотрение
композиции он считает неотъемлемой частью общего анализа,
главная цель которого—понять конкретное и специфическое
содержание данного произведения. «Лишь тогда, когда тебе
станет вполне ясной форма, тебе станет ясным и дух», —
замечает он в «Правилах для музыкантов»68. Выступая как критик-
публицист, Шуман пользуется, вместе с тем, всеми доступными
в его время музыкально-научными категориями. Этот
целостный взгляд на задачи и методы познания музыки, стремление
придать критике научную достоверность, а науке общественную
действенность — одна из ценнейших особенностей
литературной деятельности Шумана.
65 См. наст, изд., т. 1, с. 112.
66 Там же, с. 132.
87 См. наст, изд., т. 2, «О некоторых предположительно искаженных
местах в произведениях Баха, Моцарта и Бетховена».
68 Там же, «Жизненные правила для музыкантов».
3J
Манера высказывания Шумана обладает завидной
непосредственностью, импровизационной легкостью. Это — след
блестящего дарования автора, но отнюдь не его «легкого»
отношения к задачам критики. Шуман очень требователен к себе. Он
придает большое значение воспитательной, педагогической роли
критики. Он знает, как важна осторожность суждений, так как
ему хорошо известна впечатлительность и ранимость души
художника. И если Флорестан порою выпускал слишком острую
стрелу, Эвсебий тотчас же готов был предложить порцию
бальзама. Но там, где стояла задача не столько воспитания,
сколько размежевания, он умел быть безоговорочно резким и
непримиримым.
Ниже мы попытаемся лишь в основных чертах
охарактеризовать эстетические идеалы Шумана, его отношение к
некоторым музыкально-творческим проблемам и к некоторым
композиторам.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ
Свое кредо Шуман никогда не излагал в виде законченной
концепции. Его теоретические высказывания разрозненны,
фрагментарны, не всегда последовательны. И все же на каждом
шагу критик дает почувствовать свою вполне определенную
позицию, свои принципы и идеалы. Они то всплывают на
поверхность в виде философских афоризмов, то — гораздо чаще —
действуют изнутри, формируя и обостряя суждения о
конкретных фактах искусства. И в том и в другом случаях Шуману
как нельзя более чуждо доктринерство. Утверждение общих
истин получает отпечаток непринужденной «игры мысли»
благодаря юмору, остроте и свежести преподнесения. Критическая
активность смягчается изящной шуткой, поэтичностью и
умением найти верный для каждого случая тон статьи.
Определенность взгляда никогда не превращается в претензию на
оригинальность концепции. Наоборот, Шуман дорожит своей ролью
глашатая группы, течения, «братства». В теоретических
посылках он ищет опору у классиков; отсюда, в частности,
установленный им обычай: каждый номер журнала открывался
эпиграфом, часто связанным с важнейшим материалом данного
номера. Это были подобранные редактором мысли Шекспира, Гете,
Шиллера, Клопштока, Гельдерлина, Жан Поля, Нова лиса и
еще многие другие, в том числе изречения древних.
Сопоставление этих эпиграфов позволяет довольно отчетливо проследить
генезис шумановской эстетики. Но совершенно очевидно, что
Шуман не просто следует своим любимым авторитетам, у него
есть свой отбор, свои акценты, непосредственно
продиктованные духом времени и сильно окрашенные собственным
темпераментом художника и публициста.
32
Сквозь все высказывания Шумана красной нитью проходит
одна главная, определяющая мысль: искусство полноценно,
содержательно, действенно только тогда, когда оно широко
впитывает в себя впечатления от реальной жизни, когда оно
находится в самом центре кипучего потока жизни. Этот критерий
исторически связан с центральной идеей немецкой
романтической эстетики рубежа XVIII—XIX веков: искусство — путь к
слиянию отдельной души с «душой мира». Для творцов этой
концепции ощущение тождества единичного со всеобщим
возможно лишь в таком художественном переживании, которое
подымается до прикосновения к «сущности» (в исходной
мысли— к «божественному»). Поэтому предметом искусства
достойно быть только духовно значительное, а художественный
акт требует бескомпромиссной чистоты и целеустремленности.
В творческой практике немецких художников отмеченные
философские мотивы, как иззестно, получали весьма разную
интерпретацию. Шуман, идейно менее связанный с Шеллингом, чем
с Жан Полем, Гофманом, Гейне, акцентировал в
романтической теории ее реально человеческие элементы. «Сущностное»
становилось полнотой самой жизни, концентрацией
чувственно-прекрасного, возвышенного, естественного, духовно
цельного.
Шумана возмущает, когда в музыке усматривают лишь
отвлеченные мысли, например «о боге, бессмертии и заоблачных
мирах»69. В статье «Комическое в музыке» он спорит с теми,
кто сводят содержание музыки к немногим, притом
искусственно отграниченным чувствам, видят в ней «либо только
страдание, либо только радость, либо (среднее между ними) грусть»70.
Нет, музыка в ее высших проявлениях способна воплощать всю
многообразную конкретность реальной жизни: самые тонкие и
характерные состояния души, сложные, противоречивые
смешения чувств, жизнь отдельного человека и жизнь народов,
национальный характер страны и ее природу. Бетховен и Шуберт,
по его словам, «каждое жизненное состояние умели перевести
на язык звуков»71. В произведениях Листа он видит события,
картины и чувства, пережитые самим композитором. Вальсы
Шопена ор. 34 могли прийти на ум великому композитору,
когда он бросает взгляд на сутолоку танцующих, возбужденных
его же игрой, и думает при этом о чем-то большем. В музыке
этих вальсов «столько жизни, что действительно кажется,
будто они сымпровизированы в бальном зале»72. У Берлиоза в
третьей части «Фантастической» звучат мелодии как будто
заимствованные у альпийских пастухов. Беннет в своих фортепиан-
69 См. наст, изд., т. 1, с. 224.
70 Там же, с. 111.
I1 Там же.
См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано». 1839.
2 Р Шуман, т. I до
ных «Эскизах» «подслушал у природы некоторые из ее
музыкальных сцен» — таинственную музыку вечера, «гневливые и
шумные звуки той музыки, которая крутит колеса» 73. А о
самом себе в пору своих лучших циклов тридцатых годов Шуман
сказал: «Меня волнует все, что происходит на белом свете,—
политика, литература, люди; обо всем этом я размышляю на
свой лад, а затем все это просится наружу, ищет выражения в
музыке»74.
Нет, по его мнению, ничего опаснее для художника, чем
изоляция от жизни. Цитируя слова Гете: «Кто предался
одиночеству, тот, увы, вскоре станет одинок», Шуман замечает:
«Слишком длительная отрешенность от мира в конце концов
вредит художнику; он до того привыкает к определенным
формам и приемам, что вдруг увязает в них, становясь чудаком и
фантазером»75. Деградацию многих своих музыкальных
современников (например К. Лёве, И. Калливоды, Т. Теглихсбека)
Шуман объясняет тем, что их долгое время окружала затхлая
атмосфера немецкой провинции. Такая участь могла бы
постигнуть и Бетховена. «Заприте Бетховена на десять лет в какое-
нибудь захолустье (возмутительная мысль) и посмотрите,
напишет ли он там что-нибудь похожее на (ЬтоП'ную
симфонию» 7в.
Не замыкаться в узких рамках композиторского ремесла,
находиться в постоянном общении с жизнью — таков обычный
призыв Шумана. По поводу пьесы К. Куленкампа, где
ощущается лишь «серое на сером фоне», критик говорит: «Пусть он
[композитор] только не останавливается и ищет, в особенности
богатые источники жизни, ибо они освежают и питают
творческие силы»77. Эти источники должны быть разнообразны.
Нужно воспринимать все общезначимое, истинно человеческое,
нужно общаться с искусством Шекспира и Жан Поля, Баха и
Бетховена, побродить хотя бы год по «прекрасной Италии»78,
нужно постоянно «погружаться в кипучий поток жизни»79, ибо ведь
музыка по своей природе — «воспоминание о самом
прекрасном, что жило и умирало на земле»80.
Слова о «самом прекрасном, что жило и умирало на земле»,
сказанные мимоходом (в обзоре второстепенных пьес),
отражают важную особенность эстетических взглядов Шумана. По его
убеждению, истинно великое искусство не является простым
зеркалом жизни. Возражая против разговоров о
самодовлеющей «абсолютной» красоте музыки, Шуман, вместе с тем, от-
73 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано», 1837.
74 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 358.
75 См. наст, изд., т. 2, «К. Лёве. Иоганн Гус».
76 См. наст, изд., т. 1, с. 280.
77 Там же.
78 См. наст, изд., т. 2, «Квартетные утренники», II.
79 Там же, «Фортепианная музыка».
80 См. наст, изд., т. 1, с. 348.
34
вергает натуралистическое отношение музыки к жизни. Он
замечает: «Конечно, искусство должно не подражать несчастным
[параллельным] октавам и квинтам самой жизни»81, а скорее
скрывать их»82. И здесь же, уточняя мысль, он высказывает
сожаление, что иногда у композиторов имеет место' красота без
правды или правда без красоты. Последнее преодолевается
тогда, когда художник активно перерабатывает впечатления от
мира,' пропуская их сквозь призму эстетического и
нравственного идеала.
Этот важнейший принцип подлинного искусства Шуман
коротко выражает словами: «Законы морали те же, что и законы
искусства»83. Художник выполняет свою миссию, когда он в
авангарде жизни, когда активно участвует в «борьбе юности
за новое», и «Бетховен, который боролся до последнего вздоха,
для нас— образец человеческого величия»84. В одной из
рецензий Шуман говорит о необходимости поддерживать в
современной музыке всякое проявление нравственной силы, все, в
чем выражен завет Бетховена: из души мужественной «музыка
должна высекать огонь»85.
Такой взгляд на искусство предъявляет к художнику самые
высокие требования. Неудивительно поэтому, что Шуман и его
журнал уделяют огромное внимание вопросам этики
художественного творчества. Критик пользуется любым
подходящим поводом, чтобы напомнить об ответственности
композитора— ответственности перед людьми, перед совестью,
перед высоким предназначением искусства.
Художник погибает, если оказывается в стороне от жизни.
Но его подстерегает и другая опасность: будучи в потоке
жизни, потерять руль, поплыть по течению. Такого художника
захлестывает муть жизни, он становится рабом суетной моды и
также гибнет. Шуман неоднократно говорит об этой опасности
и указывает, между прочим, что ее типичными очагами
являются музыкальный Париж и музыкальная Вена с их культом
внешней эффектности и сенсационной моды. Быть может, в
своей крайней подозрительности ко всему, что так или иначе
связано со светской жизнью мировых столиц, Шуман был
слишком пристрастен, слишком во власти своих специфически
немецких вкусов. Шопен и Лист обладали в этом смысле
несколько большей широтой. Но в главном — в антагонизме по
отношению к любым видам профанации искусства — они были
глубоко солидарны. И в истолковании «большого света» музы-
81 Иными словами, не должно подражать уродливым неправильностям
жизни. —Д. Ж. \
82 См. наст, изд., т. 1, с. 223.
83 См. наст, изд., т. 2, «Жизненные правила для музыкантов».
и Там же, «Струнные квартеты».
ьъ Там же, «Обзор песен».
2'
кальной Европы своего времени Шуман не ошибался,
интуитивно ощущая в нем то самое растлевающее воздействие, какое в
более широком аспекте проанализировали Бальзак и Гейне.
Бесследно исчезают, по словам Шумана, «люди
приспособившиеся, быстро отказавшиеся от более высоких идеалов», те,
кто «вместе с сотнями других плыли по течению»86. Идеалом
для Шумана был подлинно взыскательный художник, тот, кого
не обольщают рукоплескания модной толпы, для кого «один
порицающий голос звучит сильнее, чем десять хвалебных»87.
Шуман развернуто высказывается на эту тему в рецензии на
шестую симфонию Ф. Лахнера. Критик напоминает об
одаренности композитора, о его заслуживающем уважении творческом
прогрессе и, вместе с тем, предостерегает его от соблазна
почить на лаврах. «Что толку, — пишет Шуман, — убеждать нас
в том, что мы — великие люди, что толку, если добрые друзья
нас поднимают на ходули, на которых нам без их помощи все
равно не удержаться? [...] Хвала лишь тому впрок, кто умеет
ценить и порицание, то есть тому, кто, невзирая ни на что,
нисколько не обижаясь, неустанно продолжает
совершенствоваться, кто не замыкается эгоистически в самом себе, но хранит
живую восприимчивость к чужому мастерству, — такой человек
долго сохраняет свою молодость и свои силы»88.
С этикой художественного творчества, так же как и с
эстетическими идеалами, Шуман постоянно связывает вопрос о
мастерстве. 'Замечательны гибкость и многосторонность
его суждений в этой области. Дисциплину мастера и сиободу
творческого воображения он рассматривает только в их
неразрывной связи и органическом единстве: первая без второго
мертва, вторая без первого беспомощна и бесплодна.
Первостепенное значение придается задаче отбора и
критической самопроверки. Шуман говорит об этом
многократно; один из примеров находим в рецензии на
фортепианную поэму К. Лёве «Весна». Произведение представляется
критику поэтичным, естественным, достаточно простым (даже
«простоватым»), но «целое... рождено, пожалуй, слишком
поспешно». Бетховен умел быть совсем простым, некоторые темы
«Пасторальной» «могла бы выдумать любая детская душа»,
однако великий мастер «наверняка записывал не все, что ему
внушал первый порыв вдохновения, а выбирал из многого» 89.
«Выбор из многого» — это, в частности, работа над
музыкальной формой. Шуман по собственному опыту хорошо знал,
как велика в творческом процессе роль фантазии, интуиции,
непосредственного чувства. Часы импровизации он называет
86 См. наст, изд., т. 2, «Трио для фортепиано с сопровождением».
87 См. наст, изд., т. 1, с. 82.
88 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для оркестра».
89 См. наст, изд., т. 1, с. 228.
36
самыми счастливыми часами юности, и в одном из ранних
афоризмов явно отдает им предпочтение перед работой
конструирующего ума: «Первый замысел всегда самый естественный и
самый лучший. Рассудок ошибается, чувство никогда»90. Но
уже в молодые годы Шуман достаточно полно осознает
взаимозависимость непосредственного импульса и работы; итог
размышлений отчетливо сформулирован в «Правилах для
музыкантов»: «Берегись, однако, слишком часто отдаваться
влечению таланта, который соблазняет тебя тратить силы и время
на создание как бы призрачных образов. Овладение формой,
сила ясного воплощения придут к тебе только вместе с
нотными знаками. Итак, больше пиши, чем фантазируй»91.
В чем же сущность этого предостережения? Суммируя
разрозненные замечания Шумана, можно так сформулировать его
мысль: свобода фантазии, не признающая высших требований
мастерства, есть лишь мнимая свобода. В действительности она
легко попадает в путы. Такими путами являются случайные
вкусовые увлечения, мимолетные веяния моды, узкая
субъективность, культ внешней эффектности и еще многое, что
обрекает искусство на неминуемую гибель. Только мастерство,
рожденное глубокой этической ответственностью художника,
открывает для творчества не мнимую, а настоящую свободу.
Только мастерство, то есть бескомпромиссный отбор,
концентрация существенного, проверка и шлифовка позволяют
выразить в искусстве глубокое, реальное содержание, создавать
произведения на долгие времена, как это делали классики.
Но если Шуман предостерегает против расплывчатого
фантазирования, то он хорошо знает и о другой опасности—об
отвлеченном, формальном понимании мастерства. Он тонко
улавливает границу, где изобретательность превращается в
надуманность, из средства становится целью. В отзыве на
фортепианную сонату Ю. Леонхарда Шуман отдает должное доброй
воле автора, его стремлению «из немногого волшебным образом
сотворить многое». Но проводимая композитором чуть ли не в
пятидесяти вариантах главная тема (вернее мотив) под конец
становится навязчивой, и «ухо дошедшее до полной апатии, не
знает, как отмахнуться .от беспощадно преследующего
оборота». Таковы, по словам критика, «излишества разработки,
граничащие с нехудожественной нарочитостью». Композитор
«хочет, быть может, слишком многого и потому в конце концов
убивает в себе последний остаток непосредственности»92.
90 См. наст, изд., т. 1, с. 85.
91 См. наст, изд., т. 2, «Жизненные правила для музыкантов». В 1838 году
Шуман советовал Кларе Вик: «...не слишком много фантазируй, при этом
выливается слишком много непригодного [...] Старайся тотчас же все
заносить на бумагу. Тогда мысли собираются и концентрируются все более и
более» (Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 416).
92 См. наст, изд., т. 2, «Три премированные сонаты для фортепиано».
37
Существенное замечание делает Шуман в рецензии на песни
Г. Пирсона. Использованные композитором стихи Бернса «как
бы сами собой укладываются в песню», притом близкую к
народной. Между тем Пирсон «расточает слишком много средств»,
он создает широко разработанные композиции, которые стоят
«в противоречии с наивной формой стихотворения»93.
Подобные упреки сводятся, в конечном счете, к требованию
органического единства содержания, стиля, композиционных средств.
Только при таком единстве богатая и совершенная форма
остается «незаметной», естественной, наилучшим образом
выражает содержание. Шуман подчеркивает эту мысль типично фло-
рестановским шутливым афоризмом: «...лучшей фугой остается
та, которую публика принимает приблизительно за штраусов-
ский вальс, иными словами та, в которой, как в цветке,
искусное плетение корней скрыто настолько, что мы видим лишь
самый цветок»94.
Один из афоризмов Флорестана гласит: «Эстетика одного
искусства есть эстетика и другого; только материал
различен»95. Здесь сжато представлен один из главных мотивов
немецкого романтизма: все виды художественного творчества
устремлены к одной цели — к выражению «сущностного» (о чем
уже говорилось выше). Отсюда тяготение всех художников
романтического направления к синтезу искусств. Отсюда же для
музыканта, в данном случае для Шумана, расположенность к
программности. Последняя — частный случай художественного
синтеза. Для Шумана несомненно, что музыка, слитая с
поэтическими или живописными элементами, создает обогащенное
целое, воздействует сильнее и шире.
Свое отношение к ассоциативности Шуман с полной
отчетливостью проявил в своей композиторской практике: известно,
как велика была в его творчестве роль программных замыслов.
Ту же позицию он выражает в многочисленных сюжетно-образ-
ных истолкованиях чужих произведений и в теоретической
защите принципа программности. Шуман находит, что «удачно
выбранное название усиливает воздействие музыки»96. Для
композитора это, кроме того, «наиболее верный способ
предотвратить явное искажение характера пьесы»97. Критик
ссылается на опыт других искусств: «Ведь это делают и поэты, пытаясь
облечь в какое-нибудь заглавие общий смысл стихотворения;
почему же музыкантам не делать этого?»98
Вместе с тем Шуман часто выступает против мнимой
программности. Он замечает как-то, что поверхностный и легко
93 См. наст, изд., т. 2, «Обзор песен».
** Там же, «Музей».
85 См. наст, изд., т. 1, с 87.
96 См. наст, изд, т. 2, «Композиции для фортепиано», 1839.
97 Там же, «И. Мошелес. Характерные этюды».
»8 Там же.
38
возбудимый парижский слушатель готов аплодировать
композитору за один лишь занятный литературный комментарий, ибо
«до музыки самой по себе им нет дела»99. Между тем, по
мысли Шумана, действительная программная конкретность
определяется только наличием или отсутствием декларированного
композитором содержания в самой музыке. Иначе говоря,
способность музыки вызвать у слушателя, незнакомого с
намерениями автора, ассоциации или образы в какой-то мере
родственные тем, какие имел в виду композитору—вот что
считает критик решающим признаком подлинной
программности.
Музыка, содержательность которой заключена не в ней
самой, представляется Шуману неполноценной. Он замечает:
«...плохой признак для начинающего композитора, если он не
расположен прежде всего создавать музыку как таковую, но
хочет лишь изображать то да се при помощи музыки, если музыка
нужна ему только как служанка или переводчица» 10°.
Шуман выступает также против нечуткого пользования
программными комментариями. Его шокирует чрезмерно
конкретизированная и слишком детальная программность, так как она
«грубо руководит мыслями» слушателя101, сковывает его
собственную фантазию и навязывает ему субъективные
представления композитора. Перед лицом слишком откровенных
комментариев Шуман взывает к скромности: «...ведь и природа
обнаруживает некую стыдливость, скрывая свои корни под землей.
Так пусть же художник таит про себя свои муки; мы узнали бы
страшные вещи, если бы в каждом произведении могли
проникнуть до самой основы...»102 Но статья о Берлиозе, откуда
заимствованы предшествующие строки, ни в коей мере не ставит
под сомнение самый принцип «сюжетной» музыки. Речь идет
лишь о чувстве меры, о художественном такте. Далеко не
всякие словесные расшифровки кажутся Шуману уместными.
Когда музыка говорит об особенных, «сокровенных» чувствах,
словесный намек композитора способствует быстрейшему
пониманию, «и за этот намек мы должны быть ему благодарны»ш.
Но если в музыке выражены более общие и «хорошо известные
состояния души» (как, например, в пьесе Ю. Шефера) 104,
заголовки и пояснения оказываются излишними, они снижают
впечатление, особенно если не находятся на высоте
художественного вкуса.
99 См. наст, изд., т. 1, с. 214.
100 См.: Schumann Robert. Gesammelte Schriften. Vierte Auflage
v. G. Jansen, Bd II, S. 511. Из высказывания Шумана, приводимого в
комментариях Г. Янзена.
101 См. наст, изд., т. 1, с. 214.
102 Там же.
103 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано», 184*1.
104 Там же.
39
Эстетические требования Шумана следует видеть в
контексте времени. В некоторых отношениях они выражали
творческие позиции весьма широкой среды, так или иначе причастной
к антифилистерскому, духовному сопротивлению; этим именно и
обусловлен был общеевропейский успех шумановского
журнала. Вместе с тем они несли на себе отпечаток вкусов более
узкой группы, прежде всего — самого автора «Карнавала».
Верность многих суждений Шумана была лишь относительной и
ему не всегда удавалось до конца понять иные по психологии и
эстетике явления художественной современности (к этому мы
еще вернемся). К счастью, однако, Шуман не был догматиком.
Импульсивность его фантазии, художественная отзывчивость
противились — и вовне и в себе самом — какой бы то ни было
нормативности. И это особенно способствовало широте его
воздействия как критика и теоретика искусства.
ПСЕВДОИСКУССТВО, КОМПРОМИССЫ ХУДОЖНИКА
Главный объект критических нападений Шумана —
немецкое музыкальное филистерство. Оно весьма многолико. Один
его лик — это вкусы мещанского или великосветского салона:
пустота, бездушие, банальность в обличье «приятного»,
«красивого», «благопристойного». Это — суетная мода, особенно
падкая на виртуозный блеск, на любое эффектное пустозвонство,
особенно если о нем «говорят» и если приобщение к нему
способствует престижу.
На музыку подобного рода Шуман обрушивается в ряде
случаев с большой резкостью, без церемоний, считая, что на
это «глубочайшее убожество» и слов тратить нечего. Но
обычный тон Шумана, когда он говорит о салонной пустоте, — это
ирония. Трио А. Тома—«очень приятное сочинение!...]салонное
трио, во время которого можно лорнировать, не совсем теряя
при этом нить музыкального произведения. Ни трудно, ни
легко, ни глубоко, ни бессодержательно, ни классика, ни
романтика, но все благозвучно и кое-где даже полно прекрасных
мелодий...» 105. «По отношению к господину Бертини при всем
желании нельзя быть грубым: он может вывести из терпения своей
любезностью и всеми этими благоухающими парижскими
общими фразами; его музыка — сплошной шелк и бархат» (о
трио А. Бертини) 106. В фортепианных этюдах того же автора
«все только искусственно подогрето, только кокетливо, только
выучено—улыбки, вздохи, сила, бессилие, привлекательность,
дерзость»107. Рондо К. Кребса «разукрасило себя, как кокет-
105 См. наст, изд., т. 1, с. 268.
106 Там же, с. 274.
107 Там же, с. 296.
40
ка», в нем все наполовину жеманно, наполовину пресно108.
Интродукция и рондо Антуанетты Пезадори — «настоящая дамская
работа, вышитая подушечка или бювар»109. Пьесы И. Калливо-
ды «легки, бодры, краснощеки, но обыкновенны»110.
Этюды Тальберга Шуман склонен называть «салонными
этюдами, венскими этюдами, этюдами для титулованных
пианисток, ради прекрасных глаз которых легко можно не
обратить внимания на иную фальшивую ноту»111. Здесь же^он гобо-
рит о «расслабляющей атмосфере салонов», из которой
настоящего художника тянет к «свободной и сильной стихии». Шуман
предостерегает еще не совращенных: «Истинно говорю вам,
молодые художники, берегитесь всяких графинь и баронесс,
которые только ждут, чтобы вы посвящали им свои композиции;
всякий, кто хочет стать художником, должен перестать быть
кавалером»112.
Ирония Шумана особенно часто метит в популярного
Генриха Герца. Этот любимец салонной публики всегда «мил»,
«очарователен», безотказно оживлен. «Герц, мой Герц, откуда
грусть!» — ехидничает критик по поводу что-то уж очень
серьезной первой части с!-то1Гного фортепианного концерта. «Наш
крылатый любимец облекся в железо и броню»113. Впрочем, все
эти доспехи заимствованы. Вездесущий и горя не знающий
Генрих, он же Анри, для Шумана — едва ли не классический
образец преуспевающего эклектизма. Упомянутый концерт, по
мнению Шумана,— лоскутное одеяло, сшитое из всего того, что
«на слуху». Критик отмечает здесь откровенные подражания
Бетховену, Веберу, Калькбреннеру, Мошелесу, Шопену, Шпору;
и только украшения, «хроматические жемчужные нити»
принадлежат самому автору114.
«Эстетическим бедствием» называет Шуман бездумное
смешение разных стилей и манер, неопределенность творческих
целей. В трио А. Хальма он видит «высокие намерения наряду
с потешными прыжками [...] таинственные намеки наряду с
очевидными пошлостями, бетховенские, шубертовские влияния
наряду с венской слащавостью...»115 Эклектизм не исключает
талантливости и благих намерений; порою он лишь следствие
незрелости. Он опаснее в стадии полной стабилизации, когда
уже вполне определившаяся творческая немощь и безличность
маскируют себя ловкой, по-своему блестящей
подражательностью. Такой эклектизм «гладок, как змея, и ускользает всякий
108 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано», 1837.
109 Там же.
110 См. наст, изд., т. 1, с. 282.
111 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано», 1837.
112 Там же.
143 Там же.
114 Там же.
115 См. наст, изд., т. 2, «Камерная музыка».
41
раз, когда его хочешь ухватить», ибо в нем есть «плавность,
легкость, корректность», и все же ничто в такой музыке не
трогает, не проникает сколько-нибудь глубоко116.
Одна из задач Шумана — обнажить действительную
сущность псевдоискусства, скрытую нередко под покровом
эффектной мишуры. Он пишет: «...с теми нищими или обнищавшими
лицемерами, которые свое убожество все еще обряжают
пестрыми лохмотьями, — вот, с кем надо бороться изо всех сил» ш.
Но посредственность не всегда прикрыта дешевой пестротой.
Она является нередко в обличье серьезности,
благонамеренности, она зачастую клянется в верности великим традициям
классиков. В этих случаях перед критиком, обладающим не
только твердой убежденностью, но и желанием убедить, стояла
более сложная задача. Серьезные, но посредственные
произведения Шуман анализирует с терпеливой педагогичностью. Он
признает в ряде случаев, что о такой музыке нельзя сказать
ничего плохого, что в ней есть даже достоинства формы,
изложения, стиля. Но в ней нет и ничего такого, что способно
привлечь внимание. В таких произведениях нет «более высокого
полета», они «не многим возвышаются над будничной прозой»,
в них вдохновение «уж очень медленно поднимает и опускает
крылья»118, тогда как одно из главных требований к
искусству— истинно поэтический подъем.
Симфония В. Аттерна производит на критика впечатление,
подобное ручью, текущему по тихим лугам: покуда
воспринимаешь ее — она радует, но более глубокие впечатления
вытесняют эту радость, так как она поверхностна: таков результат
«идилличности, ограниченности», свойственный этому
произведению 119.
Мнимая приверженность к традиции классиков — пожалуй,
самая коварная разновидность музыкального филистерства. На
знаменах этих классицистов начертаны те же имена, что и на
знамени давидсбюндлеров. Они нередко — признанные
авторитеты и мастера. Они искренно верят в то, что Бах, Бетховен и
Моцарт — их эстетический идеал и что именно они — жрецы
этих богов. На самом же деле они уже давно в стороне от пути
большого искусства. Несмотря на знание великих образцов, им
нечего сказать, так как их реальная почва — тот же затхлый
бюргерский мирок.
Против эпигонства, против рутины, выдающей себя за
академически непререкаемое искусство, Шуман выступает с непри-
116 См. наст, изд., т. I, с. 230.
117 Там же, с. ПО.
!18 Первые два замечания относятся к произведениям Ф. Э. Вильзинга
(см. наст, изд., т. 2: «Композиции для фортепиано», 1841; «Композиции для
фортепиано», 1839), третье связано с оценкой дуэта для фортепиано В. Тау-
берта (см. наст, изд., т. 1, с. 109).
119 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для оркестра», 1843.
42
миримостью. В трио Ф. Енса вторая часть (Адажио) написанаг
только потому, что «так принято». «Так не пишите же больше
никаких Адажио или пишите их лучше, чем Моцарт! Разве вы
сделаетесь мудрее оттого, что наденете парик? Мыслям вашего
Адажио нехватает правдивости, подлинности, жизни —словом,
всего...»120. Шуберта-симфониста критик противопоставляет
«тем беспомощным и скучным кропателям симфоний, которые в
состоянии воспроизводить лишь жалкие подобия напудренных
париков Гайдна и Моцарта, но без голов, на которых эти
парики сидели» 121.
В одной из рецензий Шуман замечает: «...если в наше время
родится гений подобный Моцарту, он станет писать концерты
скорее шопеновские, чем моцартовские»122. Эти слова очень
многозначительны. Шуман утверждает в них закон постоянного
обновления искусства. Великие художники прошлого тем и
были велики, что выступали как завоеватели нового. Остановиться
на однажды найденном — значит нарушить подлинную
преемственность с искусством прошлого, отвернуться от него. «Тот,
кто вечно вращается в кругу одних и тех же форм и
соотношений, тот застывает в какой-либо манере или становится
филистером» 123. По мысли Шумана, подражатель улавливает лишь
внешние черты оригинала, но не в состоянии проникнуть в его
сущность, в его «истинно прекрасное»124. Подражать «истинно
прекрасному» в великих произведениях прошлого возможно
лишь при условии, если художник стоит на уровне высших
идеалов своего времени, если он движет искусство вперед и
если цели этого движения в широком смысле слова
прогрессивны.
МАСТЕРА ПРОШЛОГО
В высказываниях Шумана о мастерах прошлого всегда в
той или иной мере ощущается полемический подтекст.
Полемика направлена против академически равнодушного,
иконописного или показного почитания великих. Для него самого
классики — прежде всего живые художники и первейшие из первых
враги мертвых «классицистов». Их искусство до краев
наполнено жизнью, чувством и мыслью. С юных лет классики —
любимые спутники Шумана, его главные наставники, в них источник
его самых сильных художественных переживаний.
120 См. наст, изд, т. 1, с. 267.
121 См. наст, изд., т. 2, «С-сЫг'ная симфония Франца Шуберта».
122 См. наст, изд., т. 1, с. 254.
123 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано», 1839.
124 См., в частности, афоризм «Несчастье подражателя...» (наст, изд.,
т. I, с. 81).
43
Из композиторов добетховенского времени его внимание
более всего приковано к Иоганну Себастьяну Баху125.
Шуман ценит в нем прежде всего необычную глубину. «Как
велика и богата была его внутренняя жизнь по сравнению с
окружающей»126; Бах работал в глубинах, «где фонарь
рудокопа грозит погаснуть...»127; он «знал в миллион раз больше,
чем мы предполагаем...»128—таковы обычные шумановские
оценки Баха.
Постоянно говорит он о всеобъемлющем мастерстве
композитора, о его совершенном владении материалом, при этом
подчеркивает, что гениальная способность музыкального
«комбинирования» всегда соединяется у Баха с одухотворенностью.
«Мысль, дух наполняют его произведения. Он был насквозь
человек»129.
Общение с искусством Баха Шуман считал могучим
средством воспитания. В «Жизненных правилах» он говорит:
«Усердно играй фуги больших мастеров, особенно И. Себ. Баха.
«Хорошо темперированный клавир» должен быть твоим хлебом
насущным»130. Шуман опирается на собственный опыт. Уже в
юношеских письмах он отмечает, что «Хорошо
темперированный клавир» служит ему «грамматикой», притом самой лучшей;
он видит в изучении Баха не только практическую пользу, но и
«общее морально укрепляющее воздействие на человека»131.
Эту мысль Шуман варьирует впоследствии многократно. Будучи
вполне зрелым мастером, он в минуты сомнений и колебаний
«спасается у Баха», который вновь одаряет его «радостью и
силой, помогающими действовать и любить»132. Бах, по его
убеждению, особенно нужен тем молодым художникам, которые
не нашли еще для себя определенного русла, чьим мыслям не
хватает «уверенности и определенности» 133.
Следует напомнить, что именно в годы, о которых идет речь,
музыка Баха впервые становится известной относительно более
широкому слушателю. Значительная часть произведений вели-
125 И все же ни разу ему не довелось высказаться о Бахе с той полнотой,
которая соответствовала бы его любви к этому композитору. Относительно
более обстоятельны разделы о Бахе в статьях «Старинная музыка для клавира»
и «О некоторых предположительно искаженных местах в произведениях Баха,
Моцарта и Бетховена». Другие высказывания совсем невелики по объему,
но почти всегда значительны по содержанию. Такова, в частности, справочная
заметка «Бах», написанная молодым Шуманом для «Дамского
энциклопедического словаря».
126 См. наст, изд., т. 2, «Из юношеских статей».
127 Там же, «Музей».
128 См. наст. изд.,т. 1, с. 127.
129 См. наст, изд., т. 2, «Из юношеских статей».
130 Там же, «Жизненные правила для музыкантов».
131 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 166.
»32 Там же, с. 503.
*33 См. наст, изд., т. 1, с. 230.
44
кого мастера еще не была издана и покоилась в пыли архивов;
в представлении не только обывателя, но и многих рядовых
музыкантов Бах был синонимом учено-музыкальной скуки.
Наряду с Мендельсоном Шуман выступает как один из самых
горячих пропагандистов его наследия, добиваясь нового «открьь
тия Баха». Он впервые ставит вопрос о необходимости издания
полного собрания сочинений композитора134. О выдающихся
исполнениях Баха он отзывается как о праздниках искусства.
Шуман особенно ценит одушевленную, согретую живой
артистичностью интерпретацию Баха в концертах Мендельсона.
Отношение Шумана к венским классикам, при глубокой
приверженности ко всем троим, все же неодинаково.
Внутренняя заинтересованность возрастает по мере того, насколько
каждый из них, преодолевая зависимость от эпохи рококо,
приближался к романтическим идеалам нового века. Гайдн
упоминается очень часто, но всегда мимоходом; понимание его
роли и ценности как бы само собой разумеется. В стиле Гайдна
Шуману импонирует простодушие, непосредственность,
способность к «легкому выражению серьезного»135. Близость к новому
времени он, по-видимому, особенно ощущает в гайдновском
юморе, в самобытно-народных элементах некоторых его
менуэтов и финалов. Но порою в музыке Гайдна Шуман замечает
что-то от «дедовского парика», а в изобретениях мастера —
нечто уж слишком наивное и ребяческое136. Отзывы о
Моцарте также не свидетельствуют об активном внимании к этому
композитору, но окрашены совсем иначе, нежели замечания о
Гайдне. В них — всегда следы живых, волнующих впечатлений.
В творце любимейших симфоний (прежде всего g-moH'Hofi)
подчеркивается именно то, что. дороже всего самому Шуману:
сердечная общительность, свежесть, «чистое золото» волнений
и радостей души, блеск которого не в состоянии замутнить ни
время, ни омертвляющая традиция подражателей. Об увертюре
к «Волшебной флейте» Шуман говорит: «Это игривое,
блаженное, чудом рожденное дитя, дарующее свет и радость, всегда
еще где-нибудь да всплывет, невзирая на туман и мрак»137.
В мастерстве Моцарта Шуман отмечает удивительное
равновесие простоты и сложности, способность из самой, казалось бы,
«непроходимой чащи гармоний» вернуться к «первозданной
чистоте» 138.
134 Мысль высказана в одном из обзоров «Фрагменты из Лейпцига, II»
(см. наст, изд., т. 2). В примечании 1852 года автор добавляет: «К радости
всех художников, эта идея была впоследствии осуществлена».
135 См. наст, изд., т. 1, с. 291.
136 См. наст, изд., т. 2, «Абонементные концерты в Лейпциге в 1840—
1841 годах», 5-й концерт.
137 Там же, 10-й концерт.
m Там же, «Композиции для фортепиано», 1837.
45
Бетховена Шуман скорее отделяет от его
непосредственных предшественников, нежели объединяет с ними.
Внимание, оказываемое в шумановских статьях автору «Эроики»,
несоизмеримо с тем, которое уделяется здесь другим венским
классикам. В представлении Шумана Бетховен появляется на
исторической арене прежде всего как могучая личность: в ней
одинаково сильно проявлены необычайный масштаб и
необычная спонтанность личной воли. Эта воля нетерпима к
принуждению, способна разорвать цепи любых условностей. В
шумановских эскизных набросках музыкальных эпох образно и
вместе с тем с безупречной исторической правдивостью
обрисовывается скачок от искусства галантного XVIII века к новому
по духу искусству Бетховена. Вот отошли в прошлое
«единовластие контрапункта», миниатюрные формы сарабанд, гавотов
и вместе с ними кринолины и мушки. «Тогда зашуршали
длинные шлейфы в менуэтах Моцарта и Гайдна; танцующие молча,
по-бюргерски чинно стояли друг против друга, долго кланялись
и под конец расходились». Еще можно было временами увидеть
важный парик, но «туго зашнурованный прежде стан двигался
уже гораздо эластичнее и грациознее». И вот вскоре здесь
появляется молодой Бетховен, «задыхающийся, смущенный и
растерянный, с беспорядочно всклокоченными волосами, с
обнаженной грудью и челом, подобный Гамлету, и все дивятся
чудаку». А ему тесно и скучно в бальном зале, он охотнее
устремляется в темноту, не разбирая дороги, «рыча на моду и
церемониал...»139.
Но этот чудак-романтик, новый Гамлет предстает в статьях
Шумана отнюдь не как погруженный в себя одинокий
мечтатель. Напротив — он носитель демократических идеалов,
художник-трибун. Замечательная черта Бетховена — способность
захватывать массу. Вот почему достойный памятник Бетховена
Шуман представляет себе в виде грандиозного храма, где по
временам происходили бы массовые народные празднества.
Говоря об огромном масштабе Бетховена, Шуман вместе с
тем указывает на простую, жизненно конкретную,
общечеловеческую основу его искусства. Критик иронизирует над
завзятыми «бетховенианцами», над восторженными болтунами,
которые хотят видеть у своего кумира лишь «выспренние раздумья
о боге и бессмертии» ио, «полет от звезды к звезде» и стремление
«отбросить все земное»ш. В полемической заметке «Ярость
из-за потерянного гроша» Шуман призывает композиторов
поучиться у Бетховена прежде всего «естественности,
естественности и естественности» 142. Замечательны шумановские слова
о том, что Бетховен «хотя и указывает на небо, высоко подни-
139 См. наст, изд., т. 1, с. 182.
140 Там же, с. 224.
141 Там же, с. 165.
142 Там же.
46
мая свою увенчанную цветами голову, но все же глубоко уходит
корнями в любимую землю» ш.
Силу Бетховена Шуман находит не только в его идеях, но и
в его требовательности. Слушая подряд четыре увертюры к
«Фиделио», критик как бы видит композитора за работой в его
мастерской и с волнением наблюдает за «натисками»
мастера— созидающего, отбрасывающего, изменяющего, не
ведающего ни отдыха ни покоя.
Для Шумана нет, пожалуй, более яркого и вдохновляющего
примера творческой смелости, принципиальности и
независимости, чем Бетховен. Вот почему, между прочим, он так часто
нападает на мнимых поклонников великого композитора,
суетных мелких людишек, тщеславных филистеров вроде того си-
лезского помещика, которому для украшения его
«музыкального шкафа» с алебастровыми колоннами, шелковыми
занавесками и бюстами композиторов непременно понадобилось также и
полное собрание сочинений Бетховена. Разве не был автор
«Эроики» самым непримиримым врагом всех этих фальшивых
прихвостней искусства?144
РОМАНТИКИ
Среди композиторов-современников, принадлежавших к
романтической школе, Шуман склонен был проводить
разделительную черту. Он не хотел смешивать художников типа
Шопена или хЭДендельсона с теми, кто получил в немецкой печати
порицательную кличку «дьявольских романтиков». Называя
Стефана Хеллера романтиком, он с удовлетворением отмечает,
что в этом композиторе «нет, слава богу, ничего, подобного той
смутной нигилистической бессмыслице, за которой многие ищут
романтику, так же как нет и намека на грубо материальную
мазню, которой услаждают себя французские неоромантики»145.
Можно по-разному оценивать шумановскую
дифференциацию композиторов-романтиков, ее историческую точность и
последовательность. Но здесь мы хотим подчеркнуть лишь тот
важный факт, что Шуман хорошо понимал пестроту и много-
ликость эстетических тенденций, проявлявшихся в современном
ему музыкальном творчестве. Его симпатии были на стороне
тех, в ком он видел создателей искусства подлинно
содержательного, духовно полновесного, свежего по мысли и по
выразительным средствам. При этом резкую и все более
возраставшую критичность вызывали у него любые — пусть даже и
возникавшие под знаменем романтизма — преувеличения, любая
143 См. наст, изд., т. 1, с. 224.
144 Там же, с. 171.
145 См. наст, изд., т. 2, «Музей».
47
Гфетенциозность, подчеркнутость, форсированность выражения.
«Когда сердце любит, оно меньше всего об этом говорит, —
замечает Шуман.— Если бы Франц Лист начал это понимать,
безумства его сочинений обрели бы стройность и форму»146.
Вместе с тем многие высказывания Шумана показывают, что к
явлению творческого «безумства», иначе говоря, к резко
выраженному своеобразию и экспериментальности в искусстве он
умел подходить вдумчиво и смело. В поисках решения этой
сложной проблемы критик акцентирует то одну, то другую
сторону явления, порою обнаруживает противоречивость и
пристрастность и нигде не находит обобщающей, универсальной
формулы, хотя его тонкая наблюдательность постоянно
приближается к искомой истине.
Говоря о наиболее близких ему композиторах-романтиках,
Шуман никогда не противопоставлял их художникам
предшествовавших эпох. Он подчеркивал, наоборот, их теснейшую
преемственную связь, духовное единство в борьбе за настоящее
искусство. Бетховен — один из главных вдохновителей молодых,
именно он завещал столь нужную новому искусству «свободно
льющуюся речь», которая пришла на смену «гладкому
стихотворному слогу»ш. Бах более чем когда-нибудь является
наставником молодого поколения, ее высшим мерилом и ее
«хлебом насущным». И вместе с тем новое передовое искусство
Шуман ценит потому, что оно не повторяет, а развивает
старое, завоевывает новые области. Начиная с Шуберта,
музыка более тонко и разветвленно охватывает различные стороны
реальной жизни, она учится быть более конкретной. У
романтиков Шуман находит также новую, своеобразную лирическую
одухотворенность, нередко она излучается скрыто и
таинственно, как свет ранней утренней зари или как нимб, угадываемый
вокруг главы. Но в этом чисто романтическом «духовном
свете» нет ничего «сверхчеловеческого», есть толька «чувствую-,
щая душа в живом теле»148. Последние слова, сказанные о
Хеллере, дают отчетливое представление о критерии, на основе
которого Шуман выказывает симпатии к некоторым из своих
современников, в том числе и не первого ранга (Гензельт, Тау-
берт, Беннет, Луи Фердинанд, Калливода, Мошелес; в
творческой эволюции последнего он хвалит отказ от внешней
нарядности в пользу поэтичности, силы чувства, цельности
воплощения).
Одной из привлекательных тенденций романтической школы
Шуман считает усиление народных и
национальных элементов. По поводу некоторых из «Песен без слов»
Мендельсона он пишет: «Народная струя, намечающаяся во
146 См. наст, изд., т. 1, с. 91.
147 Там же, с. 142.
ш См. наст. изд.. т. 2, «Музей».
48
многих сочинениях молодых композиторов, настраивает нас на
самые отрадные размышления о ближайшем будущем»149.
Шуман призывает молодых музыкантов внимательно
прислушиваться к народным песням: «...это целая сокровищница
прекраснейших мелодий, они откроют тебе глаза на характер
различных народов»150.
Шумана радует, что во всей Европе возникает и ширится:
движение национальных музыкальных культур и он с чувством^
удовлетворения пишет: «...из России мы узнаем о Глинке, Поль-,
ша дала нам Шопена, в лице Беннета имеет своего
представителя Англия, в Берлиозе—Франция; Лист известен как
венгр...»154. Из голландцев Шуман приветствует молодого)
И. Ферхюлста, «музыканта по призванию, которому его
голландское происхождение придает особый интерес»152. В Дании-
он поддерживает Гаде, а также молодого автора оперы
«Ворон» И. Хартмана; в рецензии на эту оперу критик отмечает,
что музыка пускает корни в соседних с Германией странах и
что его музыкальное отечество со временем испытает «благо--
творное обратное воздействие»153.
Из романтиков Шумана глубже всего захватывает Шуберт-
и Шопен. Шуберта он с юных лет называет «своим
единственным», сравнивая с другим своим кумиром, тоже
«единственным»— Жан Полем. По поводу С-с1иг'ной симфонии он пишет:
«...в ней осуществились все идеалы моей жизни»154. Важную
черту Шуберта он видит в его способности схватывать жизнь,
во всем многообразии оттенков, мгновенно и точно фиксировать,
разнообразные впечатления. Шуберт «находит звуки для тон-
чайших чувств и мыслей, даже для происшествий и житейских-
обстоятельств»155, «здесь жизнь во всех фибрах»156; «чем для
других является дневник, в который они заносят свои
мимолетные переживания и т. д., тем для Шуберта, собственно го--
воря, был лист нотной бумаги...»157.
Новизна и особое обаяние Шуберта — в его задушевности^
внутренней подвижности, остроте реакции. Именно эти черты,,
так же как и способность к юмору, шутке, делают творца «Пре-^
красной мельничихи» «любимцем юности»158.
149 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано», 1841.
150 Там же, «Жизненные правила для музыкантов».
151 Там же, «Квартетные утренники».
152 Там же.
153 См. наст, изд., т. 2, «Датская опера».
154 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 524—525.
155 См. наст, изд., т. 1, с. 233.
156 См. наст, изд., т. 2, «C-dui-'ная симфония Франца Шуберта».
157 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 94.
158 См. наст, изд., т. 2, «Последние сочинения Франца Шуберта».
49
Шуман очень внимателен и чуток к каждой ценной крупице
нового. В фортепианных произведениях Шуберта он
улавливает, в частности, новое, более специфическое ощущение
инструмента, умение излагать «в соответствии с самой сущностью
фортепиано» 159.
Открыв никому не известную до тех пор шубертовскую
симфонию C-dur, Шуман впервые указал на оригинальность и
самостоятельное значение Шуберта-симфониста. То исторически
новое, что создал этот композитор в своих песнях и
фортепианных произведениях, проявилось и в его зрелой симфонии; она
«уводит нас в такие сферы, где мы еще никогда не бывали».
Новизна партитуры — в богатстве колорита, в обилии тонких
выразительных оттенков, благодаря чему все в этой музыке
«полно значения». Повествовательность и детализированная
выразительность симфонии рождает шубертовские
«божественные длинноты». Порою она напоминает «толстый
четырехтомный роман Жан Поля», где писатель как будто не в состоянии
закончить повествование. «Какое наслаждение, — пишет
Шуман,— чувствовать всюду это богатство, в то время как у
других вечно боишься конца и так часто огорчаешься, что тебя
обманули»160.
О Шопене Шуман отзывается как о самом смелом и
оригинальном даровании нового времени; это «редкая звезда в
поздний ночной час», в которой мы всякий раз видим «все то
же глубокое внутреннее горение, ту же концентрацию света,
ту же резкую отчетливость...»161 С Шопеном связаны первые
горячие слова, сказанные Шуманом в защиту нового искусства;
к своему любимому композитору он возвращается затем
многократно в статьях, дневниках, письмах.
Биограф Шопена Ф. Нике справедливо замечает, что среди
ранних концертных пьес польского композитора вариации ор. 2
стали наиболее известными не столько благодаря своей
безусловной художественной ценности, сколько благодаря
прославившей их шумановской рецензии162. Первые опусы Шопена
это только преддверие. Здесь композитор еще не порывает с
салонно концертной виртуозностью, хотя и дает уже
возможность ощутить свою оригинальность и творческую мощь. Те,
кто не ждали и не жаждали появления художника подобного
ранга, у кого не была обострена способность различения,
вполне могли спутать «блестящего» Шопена с Герцем и Калькбрен-
нером. Тем более велика заслуга Шумана. Он первый сказал о
музыке Шопена: «...перед вами гений!». Он первый — и это не
159 См. наст, изд., т. 1, с. 233.
160 См. наст, изд., т. 2, «C-dui-'ная симфония Франца Шуберта».
161 Там же, «Музей».
162 См. в кн.: N i е с k s F. Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker.
Leipzig, 1883. Автор имеет в виду рецензию на шопеновский ор. 2
(статья 2).
50
менее важно — поделился «переживанием» Шопена. Избрав
для своего высказывания форму музыкально-поэтической
фантазии, Шуман пожертвовал многим ради главного: найти
верный тон, передать живое волнение, отбросив при этом все
тормоза и все предрассудки профессионально-музыкального
рационализма.
Шуман дает отдельным вариациям программное
истолкование. Легко оспорить этот анализ-комментарий по самому его
принципу, то есть как привнесение сюжета в непрограммное
инструментальное произведение. Еще легче опровергнуть
отдельные образные расшифровки, где несомненно присутствует
элемент субъективной фантазии. И автор рецензии, видимо,
вполне сознавал это. Ведь не случайно он вкладывает свои
наиболее вольные мысли в уста неистово романтичного Флорес-
тана («этого сумасшедшего», как его называет в другой
шопеновской рецензии Эвсебий).
Какова же цель? В чем пафос дерзкого фантазирования
Шумана—Флорестана? Это фантазирование в глубине своей
полемично. Салонность, виртуозность, академический
формализм не чувствительны к истинному духу музыки — к ее
поэтической глубине, пламенности, к ее живому пульсу; поэтому —
да здравствует настоящая музыка, тысячами нитей связанная с
жизнью! Музыка многих страстей, характеров и впечатлений,
музыка тишины ночи, прибоя морской волны, закатного луча,
скользящего к вершинам гор...
Едва ли стоит придирчиво отыскивать, в каком именно
такте третьей вариации шопеновского ор. 2 слышатся проклятия
Мазетто и где в Адажио звучит поцелуй любви. Но признаем
вслед за Шуманом, что к фигурационным узорам, Еыражающим
в какой-нибудь фантазии Герца только лишь: «полюбуйтесь!»,
«я блестящ, я изящен, я очарователен», — здесь прикоснулась
магия искусства. И вот сквозь пустоту и холодную болтливость
жанра уже просвечивают жемчужно радужные теплые тона.
Мерцают и волшебно меняются краски (приоткрывается
поразительная модуляционная фантазия Шопена). Смены вариаций
приносят не только новые орнаментальные фигуры, но и новые
«лица» и новый колорит. Мы можем не помнить о персонажах
моцартовского «Дон-Жуана», но мы услышим в этой пьесе и
смех, и молодой задор, и наивную нежность, и веселую
суматоху праздника. И Шуман гоиорит своим читателям: слушайте,
слушайте, не пропускайте ничего! Это не Герц, это Шопен!
Здесь блестят грани настоящей жизни. Поверьте этому — ведь
музыка способна на многое, о чем вы не догадываетесь. Так
слушайте же!..
В 1836 году Шуман выступил со своей глубоко
содержательной статьей о фортепианных концертах Шопена163. Главное в.
163 См. наст, изд., т. 1, с. 259—262.
этой статье—расширение понятия о духе, о масштабе, об
историческом месте Шопена. В тридцатые годы о польском
музыкальном гении говорили только как о проникновенном лирике,
жреце поэтической красоты. Для Бальзака типично
шопеновское то, что проникнуто «грустью и рафаэлевским
совершенством» 164; «его истинная родина — волшебное царство поэзии», —
писал о Шопене Гейне165. Все это была лишь часть правды о
Шопене. Шуман указывает на иные грани явления, на разные
его источники.
Он говорит о Шопене — преемнике Бетховена (который
«закалил его дух»), преемнике Шуберта (который «дал нежность
его сердцу»), ученике Фильда (давшего «беглость его
пальцам»), он говорит о Шопене как о сыне «оригинальной»,
«сильной», но облаченной в траур Польши. Мир Шопена — это
«мечтательность, грация, одухотворенность», но также и «пылкость
и благородство», даже «ненависть и необузданность»166.
Шопеновское скерцо b-moll — музыка не только страстная, но
«преисполненная презрения», и Шуман сравнивает эту пьесу с
некоторыми стихами Байрона167.
С удивительной смелостью, проникая в идейно-историческую
сущность явления, говорит Шуман о гражданской
направленности искусства Шопена, о революционном дерзании его духа.
Гений «волшебной поэзии» один из первых «поднялся на вал,
за которым покоилась во сне трусливая реставрация»; в его
творчестве — «великолепное мужество», вызывающее злобу
«карликового филистерства» и ликование тех, кто внимал
«могучему голосу народов». Знаменитыми стали шумановские
слова: «Да, если бы могущественный самодержавный монарх там,
на севере, знал, какой опасный враг кроется для него в
творениях Шопена, в простых напевах его мазурок, он запретил бы
эту музыку. Произведения Шопена — это пушки, прикрытые
цветами» 168.
В конце тридцатых и в сороковые годы Шуман продолжает
внимательно следить за новинками шопеновского творчества и
отмечает в них много существенного. Его восхищает жизненная
конкретность и полнота образов Шопена, умение быть в гуще
жизни и одновременно над жизнью. Создавать такое
искусство — удел художников самого высокого ранга, и Шопен — один
из них. Поэтому даже его эскизные наброски—«орлиные
перья» (так пишет Шуман о 24 прелюдиях). Пусть каждый
выбирает среди них то, что ему милее, но только филистер —
164 Бальзак О. Кузен Понс.
165 Гейне Генрих. О французской сцене. — Собр. соч. в 10-ти т., т. 7.
М, 1958, с. 305.
166 См. наст, изд., т. 12 с. 261—262.
167 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано», 1838.
168 См. наст, изд., т. 1, с. 261.
52
эта «кишка пустая, наполненная страхом и надеждой»169 —
пусть держится подальше: Шопен не для него!..
Сила искусства Шопена — в его умении истолковать
простое как высокоодухотворенное, оригинальное, артистически
сложное. Шуман отмечает, в частности, оригинальность каждой
из шопеновских мазурок. Сколь ни многочисленны у него
пьесы этого рода, вполне сходных очень мало. Для каждой
композитор находит «какую-либо особую поэтическую черту», нечто
новое «в форме или выражении»170. Автор рецензии указывает
далее на некоторые из таких выразительных находок,
например, на своеобразные колебания ладотональностей, на
своеобразные способы изложения. Зная аналитический метод
Шумана, нетрудно понять, что в каждом из таких технических
приемов он видит новые ощущения и краски, то есть
поэтически обогащенное восприятие жизни.
Шопен велик, по мысли Шумана, своей победой над мнимой
сложностью во имя сложности подлинно творческой,
артистической, той, что оказывается в диалектическом единстве с
простотой. Критик постоянно возвращается к этой мысли, особенно
когда речь идет об эволюции Шопена. Так, ноктюрны ор. 37
отличаются, по наблюдению Шумана, от прежних «большей
простотой убранства, более скромной грацией»; их автор все
еще любит украшения, «но более осмысленные, сквозь которые
тем привлекательнее просвечивает благородство поэзии»171.
Иногда суждения Шумана о Шопене кажутся странными.
В отдельных прелюдиях он находит нечто «больное,
лихорадочное, отталкивающее»172. Что-то «отталкивающее» почудилось
ему и в гениальном траурном марше из шопеновской Ь-то1Гной
сонаты; финал той же сонаты — «скорее насмешка, чем
музыка». Впрочем, в оценке этого финала заметна двойственность;
«в этой безрадостной части,— пишет Шуман,— лишенной
всякой мелодии, мы чувствуем веянье какого-то своеобразного
жуткого духа, готового мощно подавить все, что попыталось бы
восстать против него, и вот безропотно, как завороженные мы
слушаем до конца — но и не хвалим, ибо это — не музыка» 173.
Эта противоречивость суждений очень типична для Шумана
зрелых лет (отзыв о Ь-то1Гной сонате относится к 1841 году).
Тенденция к рационализму, классической нормативности
борется в нем в эти годы с эмоциональной творческой стихийностью.
Зато Шопен, который был «классичнее» молодого Шумана, до
конца дней остался свободным от сковывающей власти
традиционных норм; мало того, он все свободнее и смелее претворял
классические традиции. Неудивительно, что кое-что, особенно в
169 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано», 1839.
170 Там же, «Композиции для фортепиано», 1838.
171 Там же, «Композиции для фортепиано», 1841.
172 Там же, «Композиции для фортепиано», 1839.
173 Там же, «Композиции для фортепиано», 1841.
53
поздних крупных сочинениях Шопена, начинало казаться
Шуману причудливым и слишком субъективным. Он недооценил,,
например, композиционного совершенства шопеновской
Фантазии, сказав, что она «полна отдельных гениальных черт», хотя
«целое и не захотело подчиниться совершенной форме»174.
Отзывы Шумана о Фантазии, о второй и третьей балладах
написаны вообще будто мимоходом, без внутренне значительного
отклика на глубину и новизну содержания этих произведений.
И, вместе с тем, несомненно, что Шуман-романтик по-прежнему
подвластен силе этой музыки, слушает ее «безропотно, как
завороженный», хотя и похвала замирает на устах.
Так собственная эволюция Шумана (но отнюдь не
эволюция Шопена) внесла некую неуверенность, шаткость в его «шо-
пениану», что, однако, не затемнило ее радужного блеска.
Шуман наполнил ее поэтической силой собственного гения, и
она — подобно известной книге Листа — стала неотъемлемой
частью дорогой людям «культуры Шопена».
Одно из главных мест среди своих музыкальных
современников отводит Шуман Мендельсону. Соединение лучших
традиций классиков с идеалами новой школы — вот что считает
Шуман драгоценнейшей чертой автора «Песен без слов»: «...эта
Моцарт XIX столетия, самый светлый музыкант, который яснее
всех разглядел противоречия своего времени и впервые их
примирил»175. На основании многих документальных текстов Г. Ай-
сман замечает, что в Мендельсоне Шумана особенно
привлекает «гармоническая уравновешенность»176. Гармонично его
мастерство — совершенное, зрелое с самых юных лет, по-моцартов-
скп легкое и «незаметное». Гармонично сочетание в нем дара
композитора и исполнителя. Наконец, гармоничны черты его
личности, сказывающиеся, как находит Шуман, даже в его
почерке177.
Двух крупнейших музыкантов Лейпцига тридцатых годов
связывают узы теплой дружбы — как личной, так и
художественно-идейной. В Мендельсоне Шуман видит своего самого
сильного и верного союзника в борьбе за серьезное искусство,
за возрождение духа классиков. В игре и дирижировании
Мендельсона его восхищает способность одухотворять полузабытые
творения старых мастеров, освобождать их от наслоений
академической рутины, открывать в них живое, могучее искусство.
Авторитет Мендельсона Шуман ставит очень высоко. Он пишет
своему французскому корреспонденту: «Мендельсона я считаю
174 См. наст, изд., т. 2, «Фортепианная музыка», I.
175 Там же, «Трио для фортепиано с сопровождением».
176 Е i s m a n п G. Schumann und Mendelssohn. — In: Erinnerungen an
Felix Mendelssohn-Bartholdy. Nachgelassene Aufzeichnungen von Robert
Schumann. Zwickau, 1948, S. 13.
177 Ibid., S. 55. «Его жизнь — совершенное художественное творение»,—
читаем мы на той же странице шумановских воспоминаний.
5-1
первым музыкантом современности и снимаю перед ним шляпу
как перед мастером»178. «Его похвалу, — вспоминает Шуман, —
я ценил как наивысшую —он являлся последней, высшей
инстанцией» 179.
Наиболее ценным и оригинальным в творчестве Мендельсона
Шуман считает музыку к «Сну в летнюю ночь», где
«соединились все заветные желания художника»180. Соответственно
оцениваются и близкие «Сну» мендельсоновские каприччо. В
каприччо E-dur op. 33 при его изящной фантастичности все очень
реально: «Всюду ступаешь по твердой почве, по цветущей
немецкой земле, как в летнем загородном путешествии Валь-
та»181. Реальную образность, близость к природе Шуман с
удовлетворением отмечает и в других произведениях
Мендельсона. В сонате E-dur op. 6 «все по-утреннему зеленеет, как в
весеннем ландшафте! Трогает и привлекает не необычайное, не
новое, но как раз милое и привычное. Ничто не ставит себя
выше нас, ничто не должно повергнуть нас в изумление; нашим
чувствам лишь даны вполне отвечающие им слова...» ш В
борьбе против мертвящей будничности, против рутины и в жизни и
в искусстве Шуман апеллировал не к «необычайному», но
более всего к простому, общечеловеческому, вновь
опоэтизированному и одухотворенному. "Именно это соединение простоты
и одухотворенности импонировало ему в пьесах Мендельсона.
Мендельсон едва ли не единственный из современников, о
ком Шуман писал без тени критицизма. Можно ли
предположить, что при своем даре критического восприятия Шуман
никогда и ни в чем не ощущал относительной ограниченности
мендельсоновского творческого мира и некоторой компромисс-
ности его стиля? Ведь так явственно заметны иные черты в
творчестве самого Шумана, чья стихийность, порою
необузданность нередко спорили с манившими его идеалами гармонии.
Была ли это слепота или критические соображения уводились
вглубь вследствие особого пристрастия к художнику-другу и
к союзнику? Об этом можно лишь догадываться.
Во всяком случае есть неопровержимые доказательства, что
эстетические вкусы и критерии Шумана и Мендельсона не
всегда совпадали. По-разному оценивали они, например позднего
Бетховена (финал Девятой симфонии), некоторые
произведения Шопена; особенно резко расходились они в оценке
Берлиоза. Достаточно сравнить отзывы Шумана и Мендельсона об
увертюре «Тайные судьи». Первый, не скрывая своей
критичности к этому отнюдь не лучшему произведению Берлиоза, все
же подчеркивает свою уже ранее высказанную веру в компози-
178 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 448.
179 Eismann G. Schumann und Mendelssohn. — Op. cit., S. 44.
180 См. наст, изд., т. 1, с. 288.
181 Там же.
182 Там же, с. 232.
55
тора: «...мы предсказывали,— напоминает Шуман, — что в этом
французе таится нечто от гения»183. Мендельсону в связи с этой
увертюрой вспоминается песня «Крыса в погребе» из «Фауста»
Гете («Везде грызет и гложет, во всякой грязной луже пьет»);
«инструментовка Берлиоза, — пишет Мендельсон, — так
ужасающе грязна, все в ней так перепачкано, что, подержав его
партитуру, хочется вымыть руки»184. В цитированных
воспоминаниях Шуман говорит о «совершенно несправедливых суждениях»,
которые Мендельсон часто высказывал о
композиторах-современниках185. Таковы были, по-видимому, иногда
приоткрывавшиеся Шуману уязвимые стороны эстетики Мендельсона,
неразрывно связанные с его всепримиряющей гармоничностью.
В борьбе за Берлиоза особенно ярко проявилась
самостоятельность и смелость Шумана, его независимость от умеренного
либерализма мендельсоновского типа. Ведь автор
«Фантастической симфонии» выступал как один из самых дерзких
новаторов и для подавляющего большинства музыкантов, особенно
в Германии, был романтическим пугалом, в лучшем случае —
забавным чудаком.
Уже в 1835 году Шуман опубликовал свою основную,
наиболее обстоятельную статью о Берлиозе, поводом для которой
послужило издание «Фантастической симфонии» в
фортепианном переложении Листа. В дальнейшем Шуман пользуется
любым случаем, чтобы высказать Берлиозу свою симпатию и
отпарировать злобные выпады его противников.
Шуман ценит прежде всего то, что искусство Берлиоза
безжалостно бьет по всякой унылой посредственности. Берлиоз,
пишет он саркастически — это «неистовствующий вакхант»,
«мохнатое чудовище с алчным взором», «пугало для
филистеров» 186. «Канторы будут падать в обморок от таких гармоний и
будут кричать о санкюлотстве»187. Значение Берлиоза в том,
что он непрерывно обогащает сферу музыки, в каждом своем
произведении создает нечто новое. Музыка неразрывно связана
у него с его собственной жизнью, она, по оригинальному
выражению Шумана, подобно змее Лаокоона, «впилась в пятку
Берлиоза», он вместе с ней «извивается во прахе» и «впитывает
солнечные лучи» и не может уйти от нее ни на шаг188. Ему,
быть может, недостает «чувства красоты», но зато у него «мно-
183 См. наст, изд., т. 1, с. 238.
184 Из письма к И. Мошелесу от конца апреля 1834 года. Цит. по кн.:
Worbs H. С. Felix Mendelssohn-Bartholdy. Leipzig, 1958, S. 119.
185 Eismann G. Schumann und Mendelssohn. — Op. cit., S. 44.
186 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для оркестра», 1839.
187 См. наст, изд., т. 1, с. 238.
188 Там же, с. 194.
56
го правды и даже глубины»189. Шумана привлекает размах,
энергия и некоторая «неотесанность» Берлиоза, совершенно
противоположные, по его словам, другой французской школе —
оберовской, которая «по-скрибовски легка, как перышко» 19°.
Берлиоз «вовсе не хочет, чтобы его считали учтивым и
элегантным; то, что он ненавидит, он свирепо хватает за волосы, то,
что любит, готов задушить в искренних объятиях; на несколько
градусов больше или меньше — это ему не важно»191.
Шуман внимательно отмечает все существенные черты
новаторства Берлиоза. Автор «Фантастической» смелее, чем кто
бы то ни было из наследников Бетховена реформирует
традиционный симфонический цикл. Он обогащает типы изложения и
развития, преодолевая, в частности, традиционную («вопросно-
ответную») квадратность мелких построений. Гармонии
Берлиоза при некоторой внешней корявости обладают, по
ощущению Шумана, мощью и лаконизмом. Их нельзя рассматривать
изолированно, они получают свое объяснение только в
контексте, в связи с особенностями индивидуального стиля и
темперамента композитора. Шуман говорит и о своеобразии мелодий
Берлиоза: их нельзя сравнивать с теми привычными
итальянскими мелодиями, которые знаешь до конца прежде чем они
начали звучать. Они своеобразны, но очень естественны, так
как почерпнуты из жизни. Шуман спорит с Фетисом, который
находит тривиальность и безвкусицу в темах второй и третьей
частей «Фантастической»; он указывает на жизненную
правдивость этих мелодий. Тема второй части вводит нас в
танцевальный зал, в третьей части звучат именно те мелодии, какие
можно услышать в горах, стоит только прислушаться к
свирелям или альпийским рожкам. Мелодии Берлиоза обладают
особой интенсивностью почти каждого отдельного звука, и это,
по мысли Шумана, сближает их с народными песнями; именно
по этой причине они, подобно старым народным песням,
обычно не терпят никакого гармонического сопровождения. Шуман,
разумеется, отмечает новаторство и необычайную
изобретательность Берлиоза как оркестратора.
Нередко он замечает у французского композитора
некоторый элемент эксцентричности: «...не знаешь, назвать ли его
гением или музыкальным искателем приключений. Он
вспыхивает, как молния, но и оставляет после себя запах серы...». Но
целое, общий облик этой музыки имеет «неотразимую прелесть,
несмотря на многое оскорбительное и непривычное для
немецкого уха»192. Что же касается до рискованных приемов
Берлиоза, вроде, например, гротесковой подачи Dies irae в финале
«Фантастической», то здесь критик усматривает глубокий внут-
189 Schumann Robert. Briefe. Neue Folge, S. 156.
190 См. наст, изд., т. 1, с. 238.
191 Там же, с. 203.
192 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для оркестра», 1839.
57
ренний смысл. Здесь, как нередко бывало у Байрона, Гейне к
им подобных, «поэзия на несколько мгновений на протяжении
вечности надела маску иронии, чтобы не видели ее
страдальческого лика...»193.
В Листе Шуман видит художника огромной, удивительной
творческой силы. Лист на концертной эстраде умеет полностью
завладеть публикой, «поднимать ее, нести и низвергать»; под
его руками инструмент «раскален и мечет искры»; его игра —
целый поток ощущений, мгновенно сменяют друг друга
«нежное, благоуханное, безумное»194.
О Листе-композиторе Шуман судит главным образом по его
ранним сочинениям, транскрипциям и виртуозным этюдам. Тем
более ценна глубина и проницательность этих суждений. Для
Шумана вполне очевидны творческая сила, оригинальность
произведений Листа, большое будущее композитора. В кратком
отзыве о листовском фортепианном переложении
«Фантастической симфонии» Берлиоза критик отмечает новую трактовку
инструмента, заметно отличающуюся от обычного стиля
виртуозных транскрипций; он усматривает здесь открытие «многих
тайн, которые еще скрывает в себе фортепиано»i95. Говоря о
том, что листовское переложение «может быть смело исполнено
наряду с оркестровым оригиналом»196, Шуман имеет в виду
важнейшую, исторически новую черту фортепианного стиля
Листа, его симфоническую монументальность, декоративность.
О «Больших этюдах» Листа Шуман пишет: «Это поистине
этюды бури и ужаса, этюды — самое большее для десяти,
двенадцати исполнителей во всем мире»; сопоставляя две редакции
этих пьес, критик обращает внимание на новизну фортепианной
фактуры: видно, «насколько средства стали теперь богаче,
насколько современная манера в смысле блеска и полноты
стремится превзойти прежнюю...»197.
Вместе с тем картина творчества Листа представляется
Шуману сложной, противоречивой, как сложна и пестра жизнь
автора. Он испытал пагубное влияние «водоворота большого
города», куда был брошен уже в юные годы и где стал жертвой
шумных сенсаций. На него повлияли «романтические идеи
французской литературы» и дух «фривольности, пенящейся на
легкий французский манер». Он предается нередко «самым
необузданным виртуозным изобретениям», и, хотя влияние
Шопена как будто заставило его «образумиться», Листу уже
трудно было наверстать упущенное198. В этюдах Листа критика
шокируют те места, где композитор «не знает ни удержу, ни ме-
193 См. наст, изд., т. 1, с. 215.
194 См. наст, изд., т. 2, «Концерты», 1840.
195 См. наст, изд., т. 1, с. 212.
196 Там же.
197 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано», 1839.
198 Там же.
58
ры, и где достигнутый эффект все же недостаточно нас
вознаграждает за принесенную в жертву красоту» 199. В листовских
«Бравурных этюдах по каприсам Паганини» Шуман не находит
£вязи «между основным музыкальным содержанием и
техническими трудностями»200.
Шуман чувствует, что композиторское дарование Листа еще
не развернулось, еще не реализованы все творческие
способности этого художника. Лист, по его мнению, мог бы стать
крупным композитором, если бы отдавал все свои силы
сочинению так же, как он отдает их инструменту. От Листа можно
ждать много, но чтобы заслужить признание своей родины «он
должен был бы прежде всего вернуться к душевной ясности, к
простоте, столь благотворно сказывающейся в его прежних
этюдах»201. Шумановская критика указывает на то, к чему упорно
стремился и сам Лист: она призывает к преодолению
стилистических излишеств, к мудрой экономии средств.
Впрочем, в высказываниях Шумана заметна не только
объективная критика определенных недостатков или несовершенств
отдельных произведений — в ней чувствуется и общее
несколько оппозиционное отношение к стилю Листа. Эта
оппозиционность более откровенно проявлялась в письмах. Так, в письме
к Кларе от 18 марта 1840 года мы читаем: «Как он [Лист] все
же необыкновенно играет, — смело и неистово и потом снова
нежно и воздушно, все это я теперь слышал. Но, Клерхен, этот
мир — имею в виду листовский — уже более не мой.
Искусство, как его культивируешь ты, да и я часто, когда
сочиняю за фортепиано, — эту прекрасную сердечность, я не отдам
за все его великолепие, — здесь есть некая мишура и, пожалуй,
ее слишком много»202. И однако впечатление непрерывно
колеблется. В письмах, непосредственно следовавших за
приведенным выше, Шуман снова говорит о покоряющей
гениальности Листа. 22 марта он пишет Кларе: «...Лист с каждым днем
кажется мне все более могучим. Сегодня утром он снова играл
у Р. Хертеля, — играл так, что мы все трепетали и
ликовали...»203. Как видно из многих других высказываний, такого
рода колеблющиеся впечатления относились к «миру Листа» в
целом, ибо именно в органической связи ощущал и понимал
Шуман артистическое и композиторское творчество этого
художника.
Несомненно, что и Лист, при всем своем уважении к
Шуману, критически относился к отдельным элементам его
творчества, особенно в произведениях сороковых—пятидесятых годов.
Это отношение прорвалось во время встречи композиторов в
199 См. наст, изд., т. 2, «Композиции для фортепиано», 1839.
200 Там же, «Этюды для фортепиано».
201 Там же, «Композиции для фортепиано», 1839.
202 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 552.
203 Там же, с. 555—556.
59
1848 году, когда Лист чрезвычайно обидел своего друга, назвав
его квинтет «лейпцигской музыкой» и высказав несколько
критических замечаний о Лейпциге и Мендельсоне204. И все же до
конца жизни Шумана его отношения с Листом оставались очень
дружественными. Лист не жалел усилий для пропаганды его
новых крупных произведений: он исполнил в Веймаре
отдельные части из «Фауста», затем полностью музыку к «Манфреду».
Если о своих эстетических разногласиях с Берлиозом и
Листом Шуман говорит мягко и не придает им решающего
значения, то его отзывы о Мейербере, наоборот, отличаются
чрезвычайной резкостью и выражают непримиримый
антагонизм. Слушая «Гугенотов», Флорестан гневно сжимает кулаки
и не задумываясь причисляет автора к воспитанникам Фран-
кони, знаменитого в свое время директора парижского цирка.
По мнению критика, основной козырь Мейербера — внешний
эффект; этот композитор стремится воздействовать на
слушателя любой ценой, не считаясь ни с какими эстетическими
принципами, приспосабливаясь к любым, даже самым
низкопробным требованиям театральной публики. «Ошарашить или
пощекотать слух — высший девиз Мейербера, это ему и удается,
когда он имеет дело с простачком». В «Гугенотах», на взгляд
Шумана, все «намеренно плоско, нарочито поверхностно»,
всюду «одна видимость и притворство», «предельная
неоригинальность»; при этом композитору нельзя отказать в «умении
преподнести, придать блеск, драматически обработать». Шуман
отдает должное некоторым впечатляющим номерам «Гугенотов»,
но целое представляется ему «пошлостью и уродством»205.
Примечательно почти буквальное совпадение этих
высказываний с вагнеровской критикой Мейербера («Опера и драма»,
1851). Совсем иначе воспринимал его оперы Гейне. То, что
Шуман, а вслед за ним Вагнер ощущали как кричащую
дисгармонию, как тщеславную погоню за эффектом, Гейне пытается
понять в историческом контексте. «Июльская революция, — пишет
он, — вызвала большое волнение на небесах и на земле. Звезды
и люди, ангелы и короли и даже сам господь бог простились
со своим спокойствием [...] у них нет ни досуга, ни должного
душевного спокойствия, чтобы наслаждаться мелодиями
личного чувства...» Мейербер — «человек своего времени», и именно
отсюда, по мнению Гейне, новый размах, новая театральная
выразительность его музыки, к которой сердца людские
«прислушиваются и, восторженно вторя им, рыдают, ликуют и
ропщут»206. Вероятно, от пристрастий злобы дня не свободна была
ни та, ни другая из спорящих сторон, а истина находится где-то
посредине. Во всяком случае критика тех элементов
оперного стиля Мейербера, которые более всего шокировали Шу-
204 Schumann Robert. Briefe. Neue Folge, S. 522—523.
205 См. наст, изд., т. 2, «Фрагменты из Лейпцига, IV».
206 Гейне Генрих. О французской сцене. — Собр. соч., т. 7, с. 289.
60
мана, оказалась столь же перспективной и серьезной, как и.
некоторые важнейшие творческие достижения автора
«Гугенотов».
Сложным и весьма шатким было отношение Шумана к
Вагнеру; впрочем, наиболее зрелых творений оперного
мастера ему узнать не довелось. В 1845 году, познакомившись с
«Тангейзером» по партитуре (подаренной ему автором), Шуман
дает об этом произведении явно отрицательный отзыв. По его
мнению, Вагнер «полон бешеных затей», но «поистине не в
состоянии написать четыре такта подряд красиво, хотя бы
складно»207. Прослушав «Тангейзера» в театре, Шуман отказывается
от своего прежнего мнения, ибо «на сцене это выглядит совсем
по-иному» и «многое его совсем захватило»208. В другом письме
он отмечает, что в «Тангейзере» есть «глубина,
оригинальность», что он «во сто крат лучше прежних опер Вагнера,
правда, многое в музыкальном отношении тривиально»209.
Но даже испытав сильное непосредственное впечатление от
«Тангейзера», почувствовав в нем «нечто гениальное», Шуман
готов признать лишь театральную одаренность Вагнера;
что же касается до собственно музыки, то она его мало радует.
«Вы не должны судить о нем по клавираусцугу, — пишет
Шуман в письме 1853 года. — Вы оценили бы многие места из его
опер, если бы послушали их со сцены [...] это часто
таинственное волшебство, которое завладевает нашим сознанием.
Однако, повторяю, музыка, взятая отдельно от спектакля,
незначительная, часто к тому же дилетантская, бессодержательная и
неприятная...»210. В данном случае совершенно очевидна
двойственность позиции Шумана: художественная чуткость и
верная интуиция помогают ему приблизиться к «таинственному
волшебству» искусства Вагнера в целом, и одновременно
некоторая ограниченность личного вкуса мешает ему понять мир
этого искусства во всей его полноте.
Шуман в последний раз взялся за перо критика, чтобы
рассказать о никому еще неизвестном молодом Брамсе (1853).
В сочинениях юноши он угадал и масштаб дарования, и
большую творческую будущность Брамса. В молодом композиторе
он видит того, кто призван «в идеальной форме выразить
наивысшие чаянья своего времени», увенчать стремления многих
художников, за путями которых Шуман следит «с величайшим
участием»211.
Предугадал ли Шуман ход истории? И да и нет. Во второй
половине девятнадцатого века западноевропейская музыка не
выдвинула универсального художника, который бы, подобно
207 Schumann Robert. Briefe. Neue Folge, S. 252.
208 Ibid., S. 254.
209 Ibid., S. 373.
210 Ibid.
211 См. наст, изд., т. 2, «Новые пути».
61
Баху или Бетховену, концентрировал в себе высшие идеалы
эпохи. Эти идеалы предстали в разном истолковании у ряда
композиторов, но среди них Брамс был одним из виднейших.
И именно он, как никто другой, воплотил эстетические
стремления зрелого Шумана, к которым автор «Крейслерианы»
пришел в итоге многих увлечений и опытов: это мечта Шумана о
слиянии романтического и классического, о синтезе баховских и
бетховенских традиций с новыми достижениями музыкального
искусства в области психологической лирики и колорита.
Естественно поэтому, что он ждал появления Брамса, и
неудивительно, что, узнав, предсказал его историческую роль.
К ИСТОРИИ ШУМАНОВСКОГО «СОБРАНИЯ»
Даже в немецкой литературе сведения о шумановском
«Собрании» представлены в разрозненном виде. Думается, что
читателю этой публикации небесполезно будет иметь в руках
свод относящихся к ней основных фактов, расположенных в
хронологическом порядке.
1837. В письме к А. Цуккальмальо от 18 мая Шуман
предлагает: «...не издадим ли мы в особом сдвоенном томе наши
прежние и будущие размышления о музыке, Вы — Вашу Веде-
лиану, я — моих Давидсбюндлеров»212. Несомненно, это было
оживление уже давно высказанной идеи создать книгу о бюнд-
лерах, — идеи, о которой Шуман упоминает в письмах 1832—
1834 годов. Тогда модификацией этого замысла явился
музыкальный журнал, теперь вновь появляется мысль о книге.
Развития она пока не получает, что не трудно понять, если
вспомнить, сколь напряженной была жизнь Шумана в конце
тридцатых годов.
1846. 20 марта в письме к издателю Р. Хертелю Шуман
просит прислать ему старый номер NZfM (от 7 декабря 1831 года)
с его юношеской статьей о шопеновском опусе 2 и добавляет:
«...именно она нужна мне для одной работы, которую я теперь
замышляю»213. Двумя днями ранее Шуман упоминает в
дневниковой записи о двух задуманных литературных работах: «Да-
видсбюндлеры. — Привести в порядок старые
стихотворения»214. Намерение, высказанное в письме к Хертелю, конечно,
относится к первой части этой записи, так как именно в статье
«Сочинение II» Шуман впервые представил читателю персо-на-
жей Давидсбунда. Таким образом, идея создания книги вновь
оживляется. Теперь замысел мог получить гораздо более от-
212 Шуман Роберт. Письма, т. 1, с. 277 (Ведель — псевдоним
Цуккальмальо).
213 Schumann Robert. Briefe. Neue Folge, S. 477.
214 В о e 11 i с h e r W. Robert Schumann in seinen Schriften und Briefen.
Bernhard Hahnefeld Verlag, Berlin, 1942, S. 421.
62
четливые контуры, поскольку обширная шумановская давид-
сбюндлериана уже реально существовала; начинание 1846 года
явилось, по-видимому, первым шагом в подготовке будущего
«Собрания». Однако продолжение оказалось возможным лишь
шесть лет спустя. Во второй половине сороковых и в начале
пятидесятых годов Шуман создает множество значительных
произведений, в том числе такие, как Вторая и Третья
симфонии, музыка к «Манфреду», опера «Геновева», «Сцены из
Фауста».
1852. В письме от 3 июня к д-ру Герману Хертелю
(совладельцу издательской фирмы) Шуман сообщает: «Некоторое
время тому назад я занялся перечитыванием старых
комплектов моего музыкального журнала. Целая жизнь до периода
наивысшего творческого расцвета Мендельсона все богаче
разворачивалась передо мною. И тут мне пришла мысль —
соединить эти разрозненные листы, где как в зеркале отражено все
это полное волнений время, в одну книгу; многим молодым
художникам она может дать поучительные примеры,
свидетельства лично испытанного и пережитого, может стать памятью о
времени и обо мне самом. Я быстро приступил к работе,
которая становится очень значительной из-за обилия материала.
Сейчас я уже так близок к завершению, что могу обозреть все
в целом»215. Огромную работу по отбору и редактированию
«Собрания» (в объеме, как указывает сам автор, двух томов
по 25—28 печатных листов каждый) Шуман действительно
проделал с необычайной быстротой. В дневниковой записи от
4 июня сказано достаточно определенно: «Книга в
значительной степени закончена»216. Быстрота, несомненно, связана с
увлеченностью и чувством удовлетворения, которые Шуман
испытал, живо вспомнив волнующее прошлое. Позднее он писал
А. Штракериану по поводу той же работы: «Я испытываю
радость, замечая, что за долгое время, почти за 20 лет, почти не
отошел от высказанных прежде взглядов»217.
1853. Несмотря на весьма широкую в это время известность
Шумана, вопрос об издании его статей оказался не простым.
Издательство Брайткопф и Хертель отклонило предложение
автора. 5 января Шуман обращается с аналогичной просьбой к
лейпцигскому издателю Б. Зенфу. В этом письме представляет
интерес предлагаемый автором ранний вариант названия
книги: «Из недавнего музыкального прошлого; заметки о музыке и
музыкантах за годы 1834—1844»218. Обращение к Зенфу, также
как и 11 июля к лейпцигскому нотному издателю К. Ф. Кан-
215 Schumann Robert. Briefe. Neue Folge, S. 474.
218 В о e 11 i с h e г W. Robert Schumann in seinen Schriften und Brie-
fen, S. 484.
217 Schumann Robert. Briefe. Neue Folge, S. 390.
218 В о e 11 i с h e г W. Robert Schumann in seinen Schriften und Brie-
fen, S. 479.
63
ту219 остались безуспешными. Наконец, в результате письма от
17 ноября220 издание берется осуществить Г. Виганд
(Лейпциг). По сведениям, исходившим от издателя, Шуман успел до
своего последнего рокового приступа болезни полностью
подготовить текст к печати и в декабре уже начались типографские
работы221.
1854. Возвратившись в конце минувшего года в
Дюссельдорф из концертной поездки в Голландию, Шуман продолжает
заниматься текстом «Собрания», о чем он сообщает в
упомянутом письме к Штракериану; скорее всего это была корректура
белового экземпляра, предназначенного к набору. Печатание,
по-видимому, совпало с трагическими в жизни Шумана
февральскими событиями. В начале марта его увозят в лечебницу
в Энденихе, откуда он уже не вернулся. Издание Виганда
вышло в свет к пасхальной книжной ярмарке в Лейпциге в виде
четырех томов карманного формата222. Известие об этом дошло
до Шумана только в сентябре223; довелось ли ему увидеть
изданные тома — неизвестно.
1871. Второе, двухтомное издание шумановских статей
вышло опять-таки у Г. Виганда. Оно было почти буквальным
повторением первого. Единственным отличием явилось
дополнение ко второму тому: последняя статья Шумана «Новые
пути»— о молодом Брамсе, почему-то не включенная в
«Собрание» самим автором.
1888. Третье, трехтомное издание было предпринято Ф. Рек-
ламом в рамках его знаменитой популяризаторской серии
«Universal-Bibliothek»224. Редактор Г. Симон отметил в
предисловии, что литературное наследие Шумана пока еще далеко
не так известно, как оно этого заслуживает. «Это излияние
горячего сердца подлинного художника должно быть доступно
каждому музыканту и любителю музыки», — писал редактор;
приобщаясь к мыслям Шумана, «мы чувствуем себя
приподнятыми над ничтожеством повседневности», поэтому следует
пожелать, «чтобы книга, оказывающая подобное воздействие,
получила как можно более широкое распространение, особенно в
наше время с его склонностью к материальным интересам»225.
219 Schumann Robert. Rripf* Neue Folge, S. 482.
220 Ibid., S. 477. Дата этого письма, а также упомянутого выше письма
к Б. Зенфу уточнены М. Крайзигом (см.: Schumann Robert. Gesammelte
Schriften. Funfte Auflage v. M. Kreisig, Bd. II, S. XX).
221 Уведомление, прибавленное в виде вклейки к первому тому издания
Г. Вигаида и датированное 15 апреля 1854 года.
222 Полное название на языке оригинала см. на с. 5.
223 См.: Schumann Robert. Briefe. Neue Folge, S. 398.
224 Schumann Robert. Gesammelte Schriften tiber Musik und Musiker.
Herausgcgeben yon Dr. Heinrich Simon. 3 Bande. Druck und Verlag von
Philipp Reclam jun., Leipzig. Предисловие к первому тому датировано: «июль
1888», предисловие ко второму тому — «февраль 1889»; в третьем томе даты
-отсутствуют.
225 Ibid., S. 3-4.
64
В третьем издании была впервые сделана попытка выйти за
рамки авторской версии. Г. Симон снабдил текст небольшими
примечаниями, в которых кое-где восстановил авторские
купюры. Но, вместе с тем, опасаясь перегрузки издания, редактор
сделал большое количество малых и больших сокращений,
которые заметно обеднили первоначальный вариант. Таким
образом, как опыт научно-критической публикации третье издание
оказалось компромиссным.
1891. Четвертое, двухтомное издание, подготовленное Г. Ян-
зеном и выпущенное издательством Брайткопф и Хертель,
следует считать действительным началом научно-критической
публикации шумановского литературного наследия226. Густав Ян-
зен, окончивший в 1850 году Лейпцигскую консерваторию,
начал свою деятельность как музыкальный педагог, органист,
дирижер в Геттингене и Вердене. Но уже в пятидесятые годы он
изучает биографические материалы и творческое наследие
Шумана и именно этой работе отдает большую часть своих сил.
Его документальная книга «Давидсбюндлеры» (1883), два
издания писем Шумана (1886, 1901), наконец, выпущенное в
1891 году четвертое издание «Gesammelte Schriften» явились и
поныне являются прочным фундаментом для исследовательской
работы в этой области. Янзен впервые предпринял научно
обоснованный критический пересмотр авторской версии «Собрания»
и в результате обогатил его более чем восемью десятками
новых статей, заметок, фрагментов. Он впервые снабдил издание
обширными комментариями, куда включил большую часть
восстановленных авторских купюр и множество интереснейших
документов. Он предпослал изданию краткий очерк литературной
деятельности Шумана.
1914. Мартин Крайзиг, выпустивший в этом году двухтомное
пятое издание «Gesammelte Schriften»227, по-видимому,
рассматривал его как улучшенный вариант янсеновского; глубокое
уважение к работе своего предшественника он высказывает в
первых же строках предисловия. Связанный с семьей Фридриха
Серре (замок Максен близ Дрездена), где в свое время Роберт
и Клара Шуман были желанными гостями; лично общавшийся
с Кларой, которая помогала ему советами в области
фортепианной игры, Крайзиг, подобно Янзену, относился к изучению
шумановского наследия как к делу своей жизни. В 1910 году
он явился основателем мемориального музея Шумана в Цвик-
кау, а в 1920 году—немецкого Общества Роберта Шумана.
Крайзих увеличил количество вновь публикуемых текстов,
уделив, в частности, внимание ранним опытам Шумана — его
статьям школьных лет и заметкам Для «Дамского
энциклопедического словаря», а также стихотворениям. Крайзиг многое
226 Полное название на языке оригинала см. на с. 5.
227 Полное название см. там же.
3 Р Шуман, т I 65
уточнил и развил в янзеновских комментариях и полностью
воспроизвел его вводную статью. То обстоятельство, что
редактор пятого издания отделил все дополнительно публикуемые
тексты от авторской версии «Собрания», основано было,
конечно, на благородном внимании к последней; вместе с тем — как
уже говорилось в нашем предисловии—такое обособление
разрозненных фрагментов отрицательно сказалось на публикации
в целом, что, разумеется, не снижает ее научной ценности.
Надежда, высказанная Шуманом в приведенном выше
письме от 1852 года, в полной мере оправдалась. «Собрание» стало
памятью и о времени, и о замечательном художнике, но, кроме
того, оно поныне остается примером, к которому постоянно
будет обращаться живая мысль об искусстве. «Для чего писать о
музыке?» — этот уже процитированный нами риторический
вопрос нет-нет да и всплывает в сознании перед лицом унылых,
односторонне профессиональных описаний, подменяющих собою
слово о музыке. Шуман не поучает нас, но у него можно
многому поучиться, если к тому есть соответствующие стимулы и
данные. Он внушает веру в артистическую природу истинного
восприятия искусства — восприятия, в котором знание и
понимание существуют в особенной атмосфере художественного
волнения и только в синтезе своих различных сторон обретают
адекватность.
Д. Житомирский
СТАТЬИ
[. ВВЕДЕНИЕ
В конце 1833 года в Лейпциге каждый вечер и как бы
случайно собиралось некоторое количество музыкантов, большей
частью — молодых; они встречались, главным образом, для
того, чтобы совместно провести время, но и не без того, чтобы
обменяться мыслями о том искусстве, которое было в их жизни
хлебом насущным — мыслями о музыке. Нельзя сказать, чтобы
тогдашняя музыкальная обстановка в Германии была особенно
отрадной. На сцене все еще господствовал Россини, в
фортепианной музыке — почти исключительно Герц и Хюнтен. И все
же прошло лишь немного лет с тех пор, как среди нас жили
Бетховен, К. М. фон Вебер и Франц Шуберт. Правда, звезда
Мендельсона уже восходила и к нам проникали сказочные
слухи о некоем поляке Шопене, но более глубокое влияние их
сказалось лишь позднее. И вот в один прекрасный день эти
буйные молодые головы осенила мысль: не будем больше сидеть
сложа руки, возьмемся за дело, чтобы все стало лучше, чтобы
поэзия искусства снова оказалась в чести. Так возникли первые
выпуски нового музыкального журнала. Однако не долго
пришлось им радоваться той крепкой сплоченности, которая
объединяла молодые силы. Смерть потребовала себе жертву в лице
одного из самых дорогих друзей — Людвига Шунке. Из
остальных— некоторые на время совершенно расстались с
Лейпцигом. Всему начинанию грозил крах. Тогда один из них, как раз
тот, кто был в этом сообществе музыкальным фантастом и
который до того всю свою жизнь промечтал больше за роялем,
чем за книгами, решился взять на себя руководство редакцией
и ведал ею в течение чуть ли не десяти лет вплоть до 1844
года1. Так возник ряд статей, часть которых и представлена в
настоящем сборнике. Высказанных здесь взглядов автор в
большинстве случаев придерживается по сей день. То> что он
с надеждой и со страхом писал о многих художественных
явлениях, с течением времени оправдалось.
Следует здесь упомянуть еще об одном союзе, более чем
тайном, а именно существовавшем только в голове его
основателя — о давидсбюндлерах. Для того, чтобы высказать
суждения, связанные с различными взглядами на искусство, казалось
уместным выдумать противоположные художественные
характеры; самыми значительными из них были Флорестан и Эвсе-
бий, а посредником между ними — майстер Раро. Это давид-
сбюндлерство проходило красной нитью через весь журнал,
юмористически сочетая «Правду и поэзию»2. Позднее эти
друзья, не без сочувствия встречавшиеся тогдашними
читателями, бесследно исчезли со страниц журнала, и с того времени,
как некая «Пери»3 похитила их в отдаленные пределы, об их
писательской деятельности уже больше ничего не было слышно.
Если бы собранные здесь листки, отражающие полное
волнений время, привлекли внимание современников к тем
явлениям искусства, которые уже полностью сметены потоком со-
лременности, задача этого издания была бы выполнена.
То, что в расположении статей сохранена хронологическая
.их последовательность, как раз и должно воссоздать наглядную
картину развивавшейся, все более и более крепнувшей и
прояснявшейся музыкальной жизни тех лет.
1831-1834
2. «СОЧИНЕНИЕ И»
Недавно в дверь тихо вошел Эвсебий. Тебе знакома
ироническая, нарочито загадочная улыбка на его бледном лице. Я
вместе с Флорестаном сидел у рояля. Флорестан, как ты
знаешь, один из тех редких музыкантов, которые словно заранее
предчувствуют все грядущее, новое, необычное1. Сегодня,
однако, его ждало нечто особенное. Со словами: «Шапки долой,
господа, перед вами гений!» Эвсебий выложил перед нами
какую-то пьесу. Заглядывать на титульный лист нам было
запрещено. Ни о чем не думая, я стал перелистывать тетрадь; есть
что-то волшебное в этом затаенном наслаждении музыкой без
звуков; к тому же мне кажется, что у каждого композитора
нотная запись имеет свой особый облик: Бетховен выглядит на
бумаге иначе, чем Моцарт, точно так же, как проза Жан
Поля— иначе, чем проза Гете. Но тут у меня было такое чувство,
словно на меня глядят одни только неведомые глаза, глаза
цветов, василисков, павлиньи, девичьи глаза. В.некоторых
местах все прояснялось, и я будто различал моцартовское «La ci
darem la mano»2 сквозь переплетение сотен аккордов.
Казалось— мне в самом деле подмигивал Лепорелло и Дон Жуан
проносился мимо в белом плаще. «А теперь сыграй», — сказал
Флорестан. Эвсебий согласился; мы слушали, забившись в
оконную нишу. Он играл как одержимый, и перед нами
проходили бесчисленные образы, живые, как сама жизнь. Ведь
бывает же так: мгновенный порыв вдохновения словно увлекает
за собой пальцы за пределы возможного. Правда, помимо
блаженной улыбки все одобрение Флорестана свелось к замечанию,
что вариации могли быть написаны Бетховеном или Францем
71
Шубертом, будь они, конечно, фортепианными виртуозами.
Однако когда он, приблизившись к титульному листу, ничего на
нем не прочел, кроме:
La ci darem la mano, varie pour le Piano par
Frederic Shopin, Oeuvre 2" *
и мы оба с удивлением Еоскликнули: «Сочинение второе!» —
разыгралась сцена, которую я не берусь описать. Лица заметно
зарделись от необычайного изумления, уже ничего нельзя было
разобрать, кроме отдельных восклицаний, вроде: «Да,
наконец-то что-то толковое — Шопен — я этого имени никогда не
слыхал—кто бы это мог быть — во всяком случае гений —
разве там не смеется Церлина и даже Лепорелло!»
Разгоряченные вином, Шопеном и нескончаемыми
разговорами, мы отправились к майстеру Раро, который очень смеялся
и не проявил особого любопытства к «Сочинению II»: «Знаю я
вас с вашим новомодным энтузиазмом; что ж, как-нибудь при
случае принесите мне этого Шопена». Мы обещали сделать это
па следующий же день. Эвсебий вскоре пожелал всем доброй
ночи, я еще посидел у майстера Раро; Флорестан, у которого
с некоторых пор нет жилья, полетел к моему Дому по улочке,
залитой лунным светом. Около полуночи я застал его у себя в
комнате, лежащим на диване с закрытыми глазами.
«Шопеновские вариации, — начал он, как во сне, — все еще звучат у меня
в голове; конечно, — продолжал он, — все в целом драматично
и в достаточней степени шопеновское3; вступление, хотя оно и
обладает цельностью (ты помнишь скачки терций у
Лепорелло?), кажется мне меньше всего подходящими к целому, зато
тема (почему он написал ее в B-dur?), вариации, заключение и
адажио это действительно — нечто, в каждом такте
проглядывает гений. Конечно, дорогой Юлиус, Дон Жуан, Церлина,
Лепорелло и Мазетто — это говорящие персонажи. Ответ Церли-
ны уже в теме звучит влюбленно. Первую вариацию можно
было бы, пожалуй, назвать слишком светской и кокетливой, в
ней испанский гранд уж очень галантно волочится за
деревенской девушкой. Однако это получается у него весьма
непринужденно во второй вариации, которая уже гораздо более
простодушна, комична, задорна — так и кажется будто двое
влюбленных гоняются друг за другом и смеются больше обычного.
Но как все меняется в третьей! Вся она наполнена лунным
светом и волшебными чарами. Мазетто, правда, стоит где-то
вдалеке, но ругается достаточно внятно, что, впрочем, мало
смущает Дон Жуана. Ну а четвертая, что ты о ней скажешь?
(Эвсебий сыграл ее совершенно чисто). Разве скачки ее не дерзки,
не задорны и разве они не попадают в цель, хотя адажио (мне
* «La ci darem la mano» [перевод см. в комментарии 2]. вариации для
фортепиано Фредерика Шопена, сочинение 2» (франц).
72
кажется вполне естественным, что Шопен повторяет его первую
часть) идет в b-moll, и это вполне уместно (ибо оно как бы
служит предостережением Дон Жуану). Рискованно, правда,
но и хорошо, что Лепорелло подглядывает из-за кустов, смеется
и издевается и что гобои и кларнеты волшебно манят и
наплывают и что в расцветающем B-dur так ясно звучит первый
поцелуй любви. Но все это ничто по сравнению с последней
частью — у тебя есть еще вино, Юлиус? — Это совершенно моцар-
товский финал: хлопанье пробок от шампанского, звон бутылок,
голос Лепорелло — а потом хьатающие, преследующие духи и
убегающий от них Дон Жуан, и, наконец, заключение, которое
так успокаивает и по-настоящему завершает». Только в
Швейцарии, сказал под конец Флорестан, испытывал он нечто
подобное этому заключению. А именно, когда в погожие дни лучи
заходящего солнца все выше и выше скользят по горным
вершинам и, наконец, пропадает их последний отблеск, тогда
будто еидишь, как белые альпийские исполины смежают очи.
Чувствуешь только одно — ты был свидетелем небесного явления4.
«А теперь очнись и ты для новых сновидений, Юлиус, и ложись
спать!» — «Сердечный друг ты мой, Флорестан, — отвечал я
ему,—эти личные чувства, пожалуй, достойны похвалы, хоть и
несколько субъективны5. Но если даже гений Шопена и мало
нуждается в том, чтобы разгадывали его намерения, все же я
склоняю главу перед таким гением, перед такими дерзаниями,
перед таким мастерством»6. Затем мы уснули.
Юлиус7
*3. РЕМИНИСЦЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ КОНЦЕРТОВ
КЛАРЫ ВИК В ЛЕЙПЦИГЕ
Необычное повергает нас в изумление, когда мы к нему при-
ближаемся, однако сила непосредственного впечатления нам
всегда мешает отличать причину от воздействия. Лишь на
расстоянии возвращается к нам сознание. Между тем, точно так
же, как солнечный луч не теряя своей силы достигает самых
отдаленных пределов, и ослабление его яркости нисколько не
уменьшает его животворного тепла, так и настоящий художник
ничего не проигрывает от того, что мы с ним общаемся за
пределами его творческой мастерской и направляем рефлексы
внешней жизни на зажигательное стекло его восприимчивой
души.
Верные суждения — дети опыта, и беспристрастное
сравнение приводит к ясности взгляда. Поэтому, прослушав Клару и
73
желая дать себе отчет о ее достижениях, я вместе с ней
посетил ателье m-lle Бельвиль1.
Они — разные мастера, вышедшие из разных школ;
сопоставляя их, мы первую относим к немецкой, а вторую к
французской. Игра Бельвиль технически несравненно лучше: у нее
каждый пассаж — произведение искусства, до тонкости
разработанное и подчиненное целому; у Клары это — заплетенная
арабеска, но более специфическая и характерная. Зато первой,
быть может, не хватает волшебных полутонов в побочных
голосах. Ибо, если басы должны быть несущими корнями,
прозрачно оплетаемыми, но не заглушаемыми остальными
голосами, то у Клары эти голоса разветвляются по всему целому.
Звук Бельвиль ласкает слух, не притязая на большее, звук
Клары проникает в сердце и обращается к душе. Первая
сочиняет стихи, вторая—сама поэзия. Границы, которые первая
однажды себе поставила, она никогда не должна переступать
под страхом лишиться успеха, который всегда обеспечивается
талантом; вне этих границ ее художественный аппарат перестал
бы правильно функционировать. Гению дозволены вольности,
в которых таланту отказано.—Только ради добычи
жемчужины с опасностью для жизни опускаются на морское дно. Но з
том-то и заключается проклятие, тяготеющее над талантом, что,
с какой бы уверенностью и с каким бы упорством он ни
пробивался и ни совершенствовался, он всегда в конце концов
бывает вынужден остановиться, достигнув поставленной им себе
цели, в то время как гений легко парит на высоте идеала и с
улыбкой все кругом озирает.
Насколько же счастливым должно быть стечение
обстоятельств, чтобы мы воочию могли лицезреть явление
Прекрасного во всем его достоинстве и великолепии! Для этого мы
требуем больших и глубоких замыслов, идеальности, свойственной
настоящему произведению искусства, энтузиазма в
исполнителе, виртуозности его достижений, гармоничного, как бы в
единой душе происходящего взаимодействия между внутренними
потребностями и чаяниями воспринимающего и счастливым
настроением, охватившим в данный миг дающего, благоприятного
сочетания требований, предъявляемых эпохой, с интересами как
общими, так и особенными, с обстоятельствами времени и
места; требуем, наконец, от исполнителя умения передать свои
впечатления, чувства, взгляды и пр. — словом, чтобы радость
искусства отражалась в глазах другого человека. Разве такое
совпадение не то же, что шестью шесть, выпавшее сразу на
шести костях?
Концерт Пиксиса [ор. 100] был в руках Клары букетом
цветущих апельсиновых веток. Мад. Ф., державшая розу, сказала
д-ру X., что Клара делает в герцовских вариациях слишком
много украшений, которых там и в помине нет. «Не так уж
важно, — отвечал тот, — получает ли кокетка одним цветком
больше или меньше», — и при этом пристально посмотрел на
мал. Ф., которая вся утопала в искусственных цветах.
Г-н К-, любитель сумрачных эпизодов, держался того
мнения, что в симфонии Хессе [№ 2, ор. 28] слишком много светло*
го. Он считал, что манерность неприятна уже в оригинале
(Шпор), не говоря о ней же у подражателя, но что, впрочем, в
этой симфонии прекрасное построение целого и естественное
выполнение частей весьма похвальны. Что же касается
шопеновских вариаций, то они, мол, написаны не без гениальности,
хотя и должны оставаться пчщей для мужчин, которую
женщины не могут ни приготовить, ни принять, а потому и публика
способна понять их только внешне. «Обыденная мысль,
высказанная правдиво и просто, сама по себе не оскорбляет, другое
дело — мысль цветистая, принаряженная, претендующая на
нечто большее и более священное»2. Последние слова, видно,
метили в герцовские адажио.
Несчастье подражателя заключается в том, что он решается
присвоить себе лишь самое заметное, что есть в оригинале,
воспроизвести же подлинно прекрасное он по свойственной ему
робости не осмеливается. Нельзя отрицать, что
художественные взгляды Паганини оказали влияние на развитие Клары, но
и учитель ее и она сама по врожденному ей инстинкту сумели
счастливо избежать этой опасности. Трудно, конечно," ставить
каждое явление на свое место, сохраняя при этом собственное
равновесие. История развития Клары могла бы быть интересной
и полезной для преподавателей музыки. Не имея о ней точного
представления, мы, судя по результатам, могли бы придти к
следующему выводу: мелочность и механичность в понимании
своей задачи — тормозы на ровной дороге. В каждом ребенке
таится дивная глубина, не следует только ее замутнять или
засыпать. Алмазу охотно прощаешь остроту его граней;
закруглять их — слишком дорого. — Клара очень рано сбросила
покрывало Изиды. Дитя спокойно взирает на море света,
человека постарше такой блеск ослепил бы.
Для того, чтобы музыкальнее произведение меня удовлет-
Еорило, я требую от него чувства, подобного тому, которое я
испытываю при входе в новый большой чужой дом с
великолепными статуями в вестибюле — все невиданное и в то же
время знакомое и словно давно предчувствованное.
Иной раз кажется, что и ты способен изрекать сентенции,
достойные Гете, однако легкость, присущая только гению,
заставляет человека необразованного ошибаться в оценке
подлинного величия. Между тем существуют и гении тяжести (Бах,
Клопшток).
Я не могу обойти молчанием дебют певицы Ливии Герхардт
на первом концерте Клары. Кроме красивого естественного
исполнения и легко «доходившего» голоса (как говорят про звук
гармоники, что он доходчив), во всем у нее чувствуется настоя-
щее рвение и некая горячая, передающаяся и слушателю
заинтересованность в избранном ею виде искусства. Как было бы
хорошо, если бы все певицы переходили в итальянскую школу
не иначе, как предварительно пройдя школу немецкой песни.
Когда же я слушал тех певиц, которые переселились за
границу, не успев освоиться у себя на родине, мне иногда
казалось, что передо мною не певицы, а певцы в сапогах и при
шпорах.
За три недели Клара Вик публично исполнила концерт Пик-
сиса, дон-жуановские вариации Шопена (ор. 2], Бравурные
вариации Герца ор. 20, «Sentinelle» * Гуммеля ор. 51, Дуэт Берио
и Герца и, наконец, полонез из Es-dur'Horo концерта Мошеле-
са и Герца ор. 48.
В большей или меньшей степени, но каждое из этих ее
достижений обеспечило ей заслуженный успех, и если ее игра
отличается не только техническим мастерством, но и усеяна
цветами, взращенными собственным гением исполнительницы, то
уже одно это, равно как и свойственная ей свободная игра по
памяти, достойны признания и восхищения.
Если Тибо называл Палестрину ангелом среди
композиторов, то среди фортепианных концертов таковым можно считать
фильдовский в As-dur, тональности, которую я вообще охотно
величал бы лунной. Но у человека не каждый день хватает сил
для отражения и восприятия незаурядного (чем оно как раз и
измеряется), скорее он расположен к восприятию
поверхностного, как например сочинений Герца, в которых есть все, кроме
того, что обозначается этим словом **, и поэтому его
произведение, пожалуй, меньше других удалось Кларе Вик.
Игре случая обязаны мы тем, что все произведения
второго концерта принадлежали композиторам еще живущим:
Фильду, Шпору, Гуммелю, Мошелесу, Дорну, Отто, Эйхлеру
и Герцу.
Комические квартеты пятого из них и один серьезный
квартет шестого безусловно следует отметить. Что касается шестого,
то меня удивляет, почему он не берется за то, на чем можно
скорее испытать и развить свои силы. Подобно тому как
[академическая] школа живописи не очень-то признает права
гражданства за пейзажистами, так и нам следовало бы относиться
к авторам вокальной музыки, если они остаются только
таковыми. Я далек от того, чтобы ставить симфонию ниже оперы.
К тому же нехорошо, когда человек приобретает слишком
большую легкость в чем-нибудь одном3.
Дивертисмент Эйхлера [для скрипки] был больше, чем
просто дивертисмент, он доставил настоящее полноценное
наслаждение: во всем было мастерство, смелость и жизнь.
Р. в.
* «Часовой» (франц.).
** Игра слов: Герц (Herz) по-нем. сердце.
76
\ 4. ИЗ ПАМЯТНОЙ И ПОЭТИЧЕСКОЙ ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ МАНСТЕРА РАРО, ФЛОРЕСТАНА И ЭВСЕБИЯ *
СЛУШАНИЕ С ПАРТИТУРОЙ
Когда однажды некий юный музыкальный студент во время
репетиции Восьмой симфонии Бетховена ревностно следил по
партитуре, Эвсебий заметил: «Это, наверно, хороший
музыкант!» — «Отнюдь нет, — сказал Флорестан, — хороший
музыкант тот, кто понимает музыку без партитуры и партитуру без
музыки. Слух не должен нуждаться в зрении и зрение—во
(внешнем) слухе». — «Высокое требование,—заключил майстер
Раро, — но я хвалю тебя за это, Флорестан!»
ПОСЛЕ D-MOLL'HOH СИМФОНИИ »
Я—тот слепец, который, стоя перед Страсбургским
собором, слышит колокола, но не находит входа. Оставьте меня,
юноши, в покое, людей я больше не понимаю.
Фойгт2
Кто станет порицать слепого за то, что он стоит перед
собором и не знает, что сказать? Достаточно того, что он обнажил
голову, когда вверху звонят колокола.
Эвсебий
Да, любите его, любите со всей силой, но не забывайте, что
поэтической свободы он достиг лишь путем многолетних трудов,
и почитайте его неистощимую нравственную силу. Не
выискивайте в нем ничего необычайного, но поднимитесь до истоков
его творчества, не приводите в доказательство его гениальности
только последнюю симфонию, сколько бы в ней ни было
высказано смелого и неслыханного, никем еще не произнесенного, —
с таким же успехом вы могли бы это сделать и на примере
первой или по гречески стройной В-с!иг'ной. Не возноситесь над
правилами, которых вы еще не достаточно основательно
проработали. Нет ничего более опасного, и даже бесталанный чело-
♦ Большинство нижеследующих выдержек написаны до .возникновения
«Neue Zeitschrift fur Musik», частично уже в 1833 году, и до сих пор не
печатались; их можно рассматривать как начало давидсбюндлерства. [Ш, 1852]
77
век мог бы уже на втором с#6ве самым постыдным для вас
образом сорвать с вас маску.
/ /
Флорёстан
А когда они кончили, майстер произнес почти что
растроганным голосом: «Ни слова больше! Возлюбим же тот
высокий дух, что с невыразимой любовью взирает долу на жизнь,
давшую ему так мало. Я чувствую, что сегодня мы были от
него ближе, чем когда-либо. Юноши, вам предстоит долгий и
трудный путь. На небе рдеет необычная заря, вечерняя или
утренняя, я не знаю. Творите для света!»3
В великом круговращении времен источники все больше
сближаются. Так, к примеру, Бетховену не было надобности
изучать все то, что изучал Моцарт, Моцарту то, что Гендель,
Генделю — что Палестрина, ибо своих предшественников они
уже вобрали в себя. Лишь из одного можно было бы всегда
черпать заново — из И. С. Баха!
Фа.
Есть и бесталанные, много чему научившиеся, которых
обстоятельства заставили заняться музыкой, — это ремесленники.
Фа.
Что пользы, если вы необузданного юношу засунете в
дедовский шлафрок, а в рот воткнете ему длинную трубку, в
надежде, что он угомонится и остепенится. Уж оставьте ему и его
непокорные кудри и его легкую как ветер одежду.
Фл.
Не люблю я тех, чья жизнь не созвучна их творениямА.
Фл. [1833]
О юноше, сочиняющем музыку. Надо его предостеречь.
Скороспелый плод падает. Юноше нередко приходится забывать о
теории, прежде чем он сможет применить ее на практике.
Раро
Не достаточно что-нибудь знать, усвоенное должно быть
проверено и подкреплено практикой.
БОГАТСТВОХА£ОЛОДОСТИ
ч
vTo, что я знаю, я отбрасываю— ^го, что имею, раздариваю.
Фл.
) * * * v
Пусть каждый бережет собственную шкуру. Если у меня
есть враг, это для меня не основание быть его врагом; я могу
стать его Эзопом, превращающим его в басню, или его Ювена-
лом, превращающим его в сатиру.
Фл.
РЕЦЕНЗЕНТЫ s
Музыка побуждает соловьев к любовному зову, мопсов — к
тявканию.
Кислый виноград —плохое вино.
Они распиливают доски, и гордый дуб превращается в
опилки.
Подобно афинянам, они объявляют войну с помощью овец6.
* * *
Музыка говорит на самом общем языке, который
освобождает душу и приводит ее в некое неопределенное возбуждение,
но она чувствует себя на родине7.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
В конце концов вы в «Сотворении мира» Гайдна еще
расслышите, как растет трава8.
Фл.
# * *
Художник должен, как греческий бог, ласково обращаться с
людьми и с жизнью. Только если она осмелилась бы его
коснуться, он должен был бы исчезнуть, не оставив после себя
ничего, кроме облаков.
Фл.
79
/ I
Признак необычного в том, ч^о его отнюдь не всегда
понимают, большая часть людей /расположена к поверхностному,
например к слушанию виртуозных вещей. /
/ !э-
/
В музыке как в шахматах. Королева (мелодия) обладает
высшей властью, но решает всегда король (гармония).
Фа.
Художник должен всегда искать равновесия с жизнью; ина-
ему придется туго9.
В каждом ребенке кроется чудесная глубина.
[1832]
КЛАРА (1833)
Зная людей, которые, только что прослушав Клару, уже
предвкушают ее следующий концерт, я спрашиваю, что же,
собственно., так долго поддерживает интерес к ней?
Вундеркинд ли, чьи децимы заставляют удивленно покачивать
головой; труднейшие ли трудности, которыми она, играя, как
цветочными гирляндами, оплетает публику; или, быть может,
некоторая гордость, с которой город смотрит на своих уроженок,
или то, что она знакомит нас так быстро с самым интересным,
что появилось за последнее время. А может быть, толпа
понимает, что искусство, не должно зависеть от каприза отдельных
энтузиастов, стремящихся увести назад на целое столетие,
через труп которого колесница времени давно уже пронеслась?
Я не знаю, но я думаю, что просто покоряет дух, к которому
люди еще питают какое-то уважение. Коротко говоря, это дух,
о котором они так много говорят, не желая им обладать, а
именно тот, которого у них нет.
Фл.
Она рано сбросила покрывало Изиды. Дитя взирает
спокойно — человека постарше такой блеск, вероятно, ослепил бы.
Эвсебий
К Кларе не применим уже масштаб возраста, а лишь
масштаб исполнения.
Раро
80
Клара Вик — первая немецкая артистка.
Фл.
О, если бы вокруг цепи правил всегда заплеталась
серебряна^ нить фантазии!
\ Эвсебий
Жемчужина не плавает на поверхности; ее надо искать в;
глубине, хотя это и опасно. Клара — нырялыцица.
Фл,
АННА ФОН БЕЛЬВИЛЬ И КЛАРА
Их нельзя сравнивать; они разные мастера разных школ.
Игра БельвилЪ технически несравненно лучше; игра Клары
более страстная. Звук Бельвиль ласкает, но проникает не
дальше уха, звук Клары — до самого сердца. Первая — поэт,
вторая— сама поэзия.
[18321
ГЕНИЙ
Алмазу прощаешь остроту его граней, закруглять их —
слишком дорого.
Фл. [1832]
В'том-то и заключается проклятие таланта, что он, работая
уверенней и упорней, чем гений, не достигает цели, в то время
как гений уже давно парит на высоте идеала, с улыбкой все
кругом озирая.
[18321
Несчастье подражателя в том, что он решается присвоить
себе лишь бросающееся в глаза, воспроизвести же то истинно
прекрасное, что есть в оригинале, он по свойственной ему
робости не осмеливается.
Эвсебий
Нехорошо, когда человек в чем-либо достигает слишком
большой легкости.
Раро [1832]
81
Мы уже у цели?—ошибаемся! Искусство станет той боль-,
шой фугой, в которой будут чередоваться голоса различны}
народов.
}
Один порицающий голос звучит сильнее, чем десять
хвалебных.
Фа.
К сожалению!
Эвсебий
* * *
Глупо говорить: Бетховен последнего периода непонятен.
Почему? Разве это так трудно гармонически? Так странно по
форме? Слишком контрастирующие мысли? Но что-то там все
же кроется; ибо в музыке бессмыслица вообще невозможна:
даже сумасшедший не в силах подавить законы гармонии.
Правда, он может быть более вздорным.
Фа.
Необычное в художнике не всегда признается сразу, и это
к его выгоде.
Раро
Кто однажды поставил себе границы, от того, к сожалению,
требуют, чтобы он их всегда соблюдал.
Эвсебий
Через сравнения результат достигается лишь окольными
путями; бери предмет таким, каков Он есть, со всеми
присущими ему «за» и «против».
Фл.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПУРИТАНЕ
Мелким было бы то искусство, которое располагало бы
только звучаниями, не имея ни языка, ни знаков для
выражения душевных состояний.
Фл
* * *
Всем новым явлениям свойственно духовное начало.
Эвсебий
82
О КОНТРАПУНКТИСТАХ
Не отказывайте духу в том, в чем вы снисходительны к
рассудку; разве вы себя не изводите самыми жалкими, пустыми
забавами, самыми запутанными гармониями? Но посмей только
кто-нибудь, ничем не обязанный вашей школе, написать что-
нибудь не по-вашему, как его уже гневно поносят. Того гляди
настанет время, когда положение, вами же ославленное как
демагогическое: «Что звучит хорошо, то не фальшиво» —
превратят в положительное: «Все, что звучит не хорошо, то
фальшиво», и тогда горе вашим канонам и в особенности ракоходным.
Фл.
Противникам хроматизма следовало бы подумать о том, что
было время, когда септима так же коробила, как сейчас хотя
бы уменьшенная октава, и что благодаря развитию гармонии
страсть обогатилась более тонкими оттенками. Это поставило
музыку в ряд высших искусств, владеющих средствами для
воплощения всех состояний души.
Эаседий
Может случиться, что для наказания филистеров того гляди
появится • какой-нибудь Хаман под руку с каким-нибудь Лес-
сингом и что время это уж*е не далеко10.
Фл.
Спокойная Психея со сложенными крыльями прекрасна лишь
наполовину; она должна парить в воздухе.
Эвсебий
Равные силы друг друга нейтрализуют; неравные друг
друга повышают.
Раро
ИГРА НА ФОРТЕПИАНО
Слово «играть» — очень хорошее, так как игра на
инструменте должна быть тем же, что и игра с ним. Кто не играет с
инструментом, не играет на нем.
Эвсебий
Какая радость! Оказывается
Шредер-Девриент—подписчица «Критической терминологии» К. Гольмика!41
Фл
83
ШОПЕН
Он созерцает различные явления, но всегда одним и тем жЬ
остается его взгляд на эти явления.
Фл.
* * #
Ничего необыкновенного не нахожу в том, что в Берлине
начинают ценить Баха и Бетховена.
Фл.
Трезвучие — времена. Терция, как настоящее, посредничает
между прошедшим и будущим.
Эвсебий
Рискованное сравнение!
Раро
Такие люди, как Ш. (художник ведет несколько
распущенный образ жизни) как раз и должны были бы обзавестись
семьей. Тем болезненней будут они в зрелые годы жалеть о
растраченной силе, чем богаче они были по сравнению с
другими.
Раро
Сколь немногие из людей дарят с чистым сердцем!
Эвсебий
Прощайте юности ее заблуждения! Бывают и такие
блуждающие огоньки, которые указывают путнику верную дорогу, а
именно ту, где блуждающие огоньки отсутствуют.
Фл.
Вполне достаточно славы, которой пользуется увертюра к
«Сну в летнюю ночь»; остальные увертюры могли бы носить
имя других композиторов12.
Эвсебий
На юношеские произведения зрелых композиторов смотрят
совершенно иными глазами, чем «а те, которые сами по себе
столь же хороши, но обещаний не сдержали.
Раро
84
\
V Удивительно, как слабости и недостатки, которые
замечаешь у иных еще в детстве, со временем обнаруживают себя,
как явные духовные изъяны, слабости таланта и т. п.
Раро
Может ли талант позволить себе такие же вольности, как и
гений?
Фл.
Да, но первый терпит неудачу, тогда как второй
торжествует.
Раро
Манерность неприятна уже в оригинале, тем более у тех, кто
копирует (Шпор и его ученики).
Эвсебий [1832]
Пустейшая голова может спрятаться за фугой. Фуги — дело
только величайших мастеров.
Раро
Т Из
УВЕРТЮРА К «ЛЕОНОРЕ» u
Говорят, что Бетховен заплакал, когда она во время
первого исполнения в Вене настолько не понравилась, что была
близка к провалу. — Россини в подобном случае самое
большее — рассмеялся бы. Бетховен дал себя уговорить написать
новую, в E-dur, которая с таким же успехом могла бы быть
сочинена и другим композитором. Ты заблуждался, но слезы
твои были благородны.
Эвсебий
Первый замысел всегда самый естественный и самый
лучший. Рассудок ошибается, чувство никогда.
Раро
. И вы не содрогаетесь, вы, палачи от искусства, при словах,
произнесенных Бетховеном на смертном одре: «Мне кажется,
что я только начинаю», или Жан Поля: «У меня ощущение,
словно я еще ничего не написал».
Фл.
1 85
СИМФОНИЯ Н — а15 (1833)
Я чувствую себя растроганным, когда вижу, как художник,
чей путь нельзя назвать несерьезным, неестественным, не
получает от народа ничего за бессонные ночи, которые он отдал
своему произведению, — созидая, уничтожая, вновь отчаиваясь
(быть может, временами озаряемый гениальными
проблесками),— не получает даже признательности за избегнутые
ошибки, которые допустил бы более молодой и слабый. Как он
стоял — напряженный, встревоженный, печальный, — стоял в
надежде на какой-нибудь, пусть даже робкий голос одобрейия!
Это глубоко трогает меня.
Талант работает, гений созидает.
Фл.
КРИТИК И РЕЦЕНЗЕНТ
Вооруженный глаз видит звезды там, где невооруженный
видит одни туманности.
Фл.
РЕЦЕНЗЕНТЫ
Швейцарские пирожники, работающие на bon gout*, сами
не пробуя ни кусочка, никакой пользы от этого bon gout не
получают, так как он приелся им до тошноты16.
Пусть камень преткновения, который они всюду находят, не
будет приложен к ним в качестве пробного камня истины,
который, как известно, оборачивается для них смехотворностью.
0.1.
Музыкальные черти-проказники (Diavolini) действуют:
когда приходится пером преодолевать песчинку, чтобы писать
дальше; когда я в листе нотной бумаги пропускаю две
внутренние страницы; когда появляется сомнение, что раньше
писать — обозначение такта или тональности; когда западает мо-
* Хороший вкус (франц.),
so
лоточек; когда в пылу сочинительства нет под рукой бумаги.
Хуже всего, когда дирижерская палочка вылетает из рук.
Фл.
Великое постоит за себя и в разрушении. Разрежьте на
части симфонию Гировца и симфонию Бетховена и посмотрите,
что останется. Компилятивные сочинения таланта подобны
рассыпающимся карточным домикам, в то время как от творения
гения и по прошествии столетий остаются капители и колонны,
говорящие о разрушенном храме, какое бы высокое значение
мы в музыке ни придавали целому (композиции).
Драма без живого воспроизведения ее для глаз оставалась
бы мертвой и чуждой народу, точно также, как музыкальное
произведение без рук, которые истолковывали бы его. Если же
на помощь творящим (сочиняющим) приходят исполняющие
(играющие), то половина времени тем самым выигрывается.
Э.
Образованный музыкант может с такой же пользой изучать
рафаэлевскую мадонну, как живописец—моцартовокую
симфонию. Более того: для ваятеля каждый актер превращается в
застывшую статую, а для актера творения скульптора — в
живых людей. Для живописца стихотворение становится картиной,
а музыкант перекладывает картины на звуки.
Э.
Эстетика одного искусства есть эстетика и другого; только
материал различен.
Фл.
Трудно себе представить, что в музыке, которая романтична
сама по себе, могла образоваться особая романтическая школа.
Фл.
Паганини — поворотный пункт в виртуозности.
Фл.
Во что бы то ни стало надо с детства сделать пальцы
ненапряженными, свободными и подвижными; чем легче рука,
тем более совершенно исполнение.
Э.
Чему научишься с детства, того не забудешь.
Фл.
87
контрапунктисты
Мало им того, что юноша перерабатывает старую
классическую форму как мастер и в своем духе; он, видите ли, должен
это делать даже в их духе.
С/ -
Музыка — искусство, развившееся позже других; ее
источниками были простые состояния радости и печали (dur и moll);
не очень развитой человек даже едва ли может себе
представить, что бывают совершенно особые страсти, поэтому так
трудно и дается ему понимание всех более индивидуальных
мастеров (Бетховена, Фр. Шуберта). Благодаря более тонкому
проникновению в тайны гармонии было достигнуто умение
выражать и более тонкие оттевки душевных переживаний17.
Э1
Если хочешь узнать человека, спроси его, с кем он дружит,,
иными словами, если хочешь судить о публике, примечай, чему
она хлопает, — нет, каков в целом ее вид после прослушанного.
В отличие от живописи, музыка—то искусство, которым мы
лучше всего наслаждаемся сообща, в толпе (симфония в
комнате для одного слушателя едва ли понравилась бы ему),
искусство, которое в одно и то же мгновение захватывает тысячи
таких, как мы; оно поднимает нас над жизнью, как над морем,
и, когда мы падаем, оно не поглощает, не убивает нас, но
отражает на своей поверхности человека, как некоего окрыленного
гения, до тех пор, пока он не снизится под сень священных рощ,,
населенных греческими богами. В музыке есть произведения^
действующие на души с одной и той же мощью, и в силу этого
они достойны наивысшего признания; это произведения,
одинаково доступные как юности, так и старости. Я припоминаю, как
однажды, во время исполнения с-то1Гной симфонии, когда при
переходе к заключительной части нервы судорожно напряжены,
какой-то мальчик все теснее и теснее прижимался ко мне, и
когда я его спросил почему, он ответил мне, что ему страшно*
Эвсебий
Большая разница, Бетховен ли пишет хроматические гаммыъ
или Герц. (По прослушании Es-dur'Horo концерта.)
Великое часто бродит в умах вокруг, находя выражение з
сходных словах и звуках.
88
Древнейший человек был самым молодым; пришедший же
последним является самым старшим; как же мы дошли до того,
что позволяем прошлым столетиям нам предписывать что-либо?
Фл.
Твое замечание, Флорестан, что «Пасторальную» и
«Героическую» симфонии ты меньше любишь потому, что Бетховен
сам их так назвал и этим ограничил нашу фантазию, основано,
как мне кажется, на правильном чувстве. Но если ты
спросишь: почему?—я едва ли нашелся бы, что ответить.
Э.
Нет ничего худшего, чем получить хвалу от негодяя.
Фл.
БЕССТЫДНАЯ СКРОМНОСТЬ
За выражением: «Я бросил это в печку», по существу,
кроется бесстыдная скромность; из-за плохого произведения мир
еще не станет несчастным, притом это всегда одни лишь слова.
А надо бы и действительно постыдиться. Терпеть не могу
людей, которые бросают свои произведения в печку.
Фл.
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОМПОЗИЦИЯХ,
Два варианта бывают часто равноценны.
Эвсебий
Но первоначальный большей частью лучший.
Раро
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
«Allgemeine musikalische Zeitung» (ред. г-на магистра
Г. В. Финка) уже давно предлагает множество интересных,
мистических передовиц, написанных в стиле Откровения от
Иоанна, некиих трансцендентальных давидсбюндлериан. Их
значение для искусства нельзя было бы недооценить, если бы
то здесь, то там не раздавались жалобы на их некоторую ту-
89
манность, которую подходящий комментарий мог бы, пожалуй,
и рассеять. Редакция давидсбюндлеров не может упустить
такого случая, чтобы и здесь не выступить на благо искусства.
Она владеет прекрасным экземпляром сочинений Моцарта—
Гайдна—Бетховена. Не могла ли бы она позволить себе
предложить его в качестве награды тому художнику, ценителю,
ученому или государственному мужу, который смог бы
сообщить более точные сведения об упомянутом духовном
содружестве художников, что могло бы в то же время
рассматриваться и как конкурсное задание?18
Как меня злит, когда иной раз говорят: симфония Калливо-
ды не то, что симфония Бетховена. Правда, любитель икры
снисходительно улыбается, когда младенец находит вкус в
яблоке.
э.
Подобно тому, как существует школа вежливости (Румора},
никто, к моему удивлению, еще не додумался до школы поле
мики, которая давала бы гораздо больше пищи воображению
Искусствами должны заниматься только таланты; я хочу
сказать, что язык благожелательности в музыкальной критике был
бы само собой разумеющимся условием, если бы можно было
всегда обращаться к одним лишь талантам. Но сейчас волей-
неволей приходится воевать. Музыкальная полемика до сих пор
еще — необозримое поле, и это оттого, что лишь очень немногие
музыканты пишут хорошо, большинство же писателей — не
настоящие музыканты, и ни те, ни другие толком за это дело
взяться не умеют, отсюда — музыкальные сражения, которые
обычно кончаются двусторонним отступлением или объятиями.
Поскорее пришли бы настоящие люди, умеющие как следует
подраться!
Фл.
МУЗЫКА ТРОПИЧЕСКИХ СТРАН
Мы до сих пор знаем в качестве отдельных разновидностей
только немецкую, французскую и итальянскую музыку. А что,
если присоединятся и другие народы, вплоть до Патагонии?
Тогда какому-нибудь новому Кизеветтеру пришлось бы
высказываться только фолиантами19.
Фл.
90
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МОМЕНТЕ В ТО ВРЕМЯ КАК ОН ДЛИТСЯ
Неистовый Роланд не смог бы сочинить «Неистового
Роланда». Когда сердце любит, оно меньше всего об этом говорит.
Если бы Франц Лист начал это понимать, безумства его
сочинений обрели, бы стройность и форму. Интереснейшие тайны
творчества можно было бы исследовать в связи с этим
вопросом. Нельзя становиться ногами на то, что хочешь привести в
движение.
Этому противостоит грубый материализм средневековых
фигур, из пасти которых свисали огромные ярлыки с
пояснительными речами.
Фл.
Почему не все великие Прометеи прикованы к скалам?
Потому что они слишком рано похитили небесный огонь!
Фл.
Журнал должен не только отражать настоящее; когда оно
идет на убыль, критика должна его опережать и как бы
отвоевывать его с позиций будущего.
Журнала, посвященного «будущей музыке», пока еще нет.
Правда, в качестве редакторов годились бы только такие люди,
как ослепший кантор школы св. Фомы и глухой капельмейстер,
чей прах покоится в Вене20.
Фл.
Кто слишком беспокоится о том, как бы сохранить свою
оригинальность, уже наверняка на пути к тому, чтобы ее
потерять.
Э.
Лишь немногие из гениальнейших произведений сделались
популярными («Дон Жуан»).
Фл.
Не идите наперекор времени; давайте юношам изучать
стариков, но не требуйте, чтобы они простоту и
безыскусственность доводили до крайности. Просветите юношу, чтобы он мог
обдуманно применять новые расширенные художественные
средства.
Раро
I I21
Причина упадка музыки — в плохих театрах и плохих
преподавателях. Поразительно, насколько последние способны
91
своим руководством и воспитанием на долгие годы, даже на
целые поколения оказывать либо благотворное, либо пагубное
влияние.
Раро
Соколиные охотники выщипывают у своих соколов перья,
чтобы они летали не слишком высоко22.
Красное — цвет юности. Бык от него разъяряется, индюк
надувается.
Критик и рецензент—явления разные: первый ближе к
художнику, второй — к ремесленнику.
Фл.
Если речь идет о гении, то не столь уж важно, как именно
он проявляется, — в глубине ли, как у Баха, в высотах ли, как
у Моцарта или сразу в глубинах и в высотах, как у Бетховена.
Аполлон — бог муз и в то же время бог врачей.
Фл+
*5. ДАВИДСБЮНДЛЕРЫ
Сообщение Ш.
1. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЛЕЙПЦИГА
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ
Надо мной торопливо захлопнулось окно, за которым я в
полутьме разглядел резкие очертания стриженой головы с
кривым носом. Едва я посмотрел вверх, как вокруг меня
запорхало и заиграло нечто вроде тонко благоухающей древесной
листвы — это были кем-то сброшенные бумажные обрезки. Дома
же я, как прикованный, углубился в чтение завернутого в
более плотную бумагу листочка, на котором было написано
следующее:
«Наши итальянские ночи продолжаются. Штурмующий небо
Флорестан за последнее время тих, как никогда, и, видимо,
что-то задумал, однако недавно Эвсебий проронил несколько
92
слов, пробудивших в нем старого Флорестана. Оказалось, что
тот, по прочтении одного из номеров «Iris», сказал: «На этот
раз он позволяет себе лишнее». — «Как? Что ты говоришь, Эв-
себий? — вспылил Флорестан. — Рельштаб позволяет себе
лишнее? Неужели же этой проклятой немецкой вежливости хватит
еще на столетия? * Ведь литературные партии противостоят
друг другу совершенно открыто и ведут открытую борьбу, а в
художественной критике — какое-то пожимание плечами,
какая-то сдержанность, которую нельзя ни понять, ни достаточна
осудить. Почему прямо не отвергать бездарных? Почему не
выкидывать за борт мелкотравчатых и половинчатых, а с ними
заодно и зазнавшихся? Почему не вывешивать предупреждений
на тех сочинениях, которым не место там, где начинается
критика? Почему авторы не издают собственной газеты против
критиков и не призывают их к более грубому обращению с их
произведениями? Стоит кому-нибудь приняться за расправу и
за избиение, как вы уже вне себя. Разве насмешка — оружие,
которым пользуется этот достопочтенный для нападения, —
разве насмешка, которая только ранит, но не убивает, не
слишком даже хороша для породы, подлежащей полному
выкорчевыванию вплоть до последнего корешка и побега? Да и
вообще, не легче ли уничтожить породистое животное, чем
обыденную выносливую скотинку, — прошу тебя, Эвсебий, будь мне
свидетелем! Наконец-то настало время всем нам подняться
против того наступательного и оборонительного союза, который
заключили друг с другом Пошлость и Упрямство, пока они еще
не совсем нас заполонили и пока бедствие это еще не совсем
безысходно. Но каково Ваше мнение, майстер Раро?»
Тебе ведь знаком цепкий, въедливый разговорный стиль
Раро, который кажется еще более чуждым благодаря
итальянскому акценту; ты знаешь, как он по всем правилам фуги
нанизывает одно предложение за другим, разводит их, снова
сплетает, еще более уплотняет, в заключение же еще раз все
объединяет и как будто говорит вам: вот чего я хотел.
«Флорестан, — отвечал майстер,—Вы правы, хотя Ваших
выражений я не одобряю. Снимайте маску, когда дело доходит
До высших благ и способностей, даруемых духом! Отдельных
Великих я исключаю — быть может, они сами того не знают,
что речь идет о них. Но что за времена! Разве естественное
еще производит впечатление? А не украшения, не покровы?
Разве великое нас еще трогает? Разве от него не требуют к
тому же и великолепия? Разве изучение не останавливается на
полпути, чтобы сразу же хвататься за последнее? Разве некая
деланная таинственность не прикидывается, будто она...» В
этом месте листок был оборван, на обороте же стояло:
«Нашедший! Тебе суждено доброе и прекрасное! Ты будешь
давидсбюндлером, будешь истолковывать миру тайны этого
союза, т. е. союза, которому надлежит сокрушать филистеров,
93
музыкальных и прочих! Но тут ты уже все знаешь — теперь
действуй! Не наводи порядок по-мещански, но выкладывай все
как можно более причудливо и сумасбродно.
Майстер Раро, Флорестан, Эвсебий, Фридрих, Бг., Шт., Хф.,
Книф — надувальщик мехов при органе, что у св. Георгия2».
Божественно! Это все, что я внутренне мог ответить, придя
в восторг от того, что мне, затесавшемуся среди чужих имен,
посчастливилось подсунуть и свои собственные, великолепные
мысли. Я не мог удержаться от продолжения:
38-е заседание Давидсбунда. — Уже близость обоих
концертов во времени наводит на разные сравнения, которые, если бы
не отвращение некоторых субъектов к выискиванию всякого
рода различий или сходств, могли бы оказаться интересными,
поскольку в обоих случаях выбрана была одна и та же пьеса
того же композитора, бывшего к тому же и ее исполнителем3.
Редок и счастлив тот юный талант, к которому приложим
масштаб уже не возраста, а его достижений —хотя о бутоне
можно, пожалуй, сказать больше, чем о цветке, больше об
исканиях, чем о завершенном (да и вообще, бывает ли оно в
искусстве), ибо в первом еще заключена надежда на будущее. Но
смешно ставить что-либо на вид таким виртуозам, как Кальк-
бреннер или Клара Вик; во-первых, потому, что никто бы этому
не поверил, особенно в Лейпциге, городе, где знаменитые имена
делаются еще знаменитей, но зато незнаменитых зарывают в
землю еще глубже, чем Россия зарывает своих художников
(будь они музыканты или демагоги); во-вторых, потому, что им
нечего и ставить на вид. Правда, всегда найдется некоторое
количество безответственных людей, которые требуют от Мо-
шелеса, чтобы он хотя бы показал, насколько он знаком с
манерой игры Гуммеля и Фильда, или которые, допуская, что
Калькбреннеру все доступно в пределах человеческих
возможностей, все же признают, что каждого нет-нет да и потянет на
старую добротную пищу, на фортепианные концерты Генделя,
Баха и им подобных.
Э.
А затем (и это следует из предыдущего) пусть человек
возьмется за что-нибудь одно по-настоящему и надолго, за
какую-нибудь одну отрасль искусства или науки даже с
опасностью впасть в односторонность (которая редко сочетается с
поверхностностью) и пусть он эту отрасль лелеет,
разрабатывает, облагораживает, доходит в ней до виртуозности — и тогда
он скорее может рассчитывать на победу, чем тот несчастный,
который, обладая, быть может и более высоким гением,
обрекает себя на безвестную гибель под тяжестью колоссов.
Р.
94
Никому, кроме Калькбреннера, не дано с такой точностью
отображать в своих произведениях самого себя как человека.
Он пишет свои музыкальные картины с тон же тонкостью,
непринужденностью, остроумнем и обаянием, какие свойственны
ему в общении с людьми. Даже те места б ето композициях,
равно как и в его игре, которые выражают силу — не более чем
Хариты, надевшие на себя шлем и панцырь. И все же из этого
не следует, что вообще композитор, даже знаменитый виртуоз,
должен исполнять собственные произведения лучше и
интересней, чем кто-либо другой, в особенности же свои новейшие,
только что написанные сочинения, которыми он еще не владеет
с достаточной объективностью. Так, например (по
свидетельству знатоков), Шимановская играла а-то1Рный концерт Гумме-
ля, Бельвиль — бравурные вариации Герца, Клара
Вик—концерт Пиксиса куда более значительно, чем мы это привыкли
слышать в исполнении Гуммеля, Герца или Пиксиса.
Э.
Ибо человек, которому противостоит его собственный
физический образ, легко запечатлевает свою идеальную сущность в
сердце другого. Если уже прибегать к сравнениям, как в свое
время рецензент «Tageblatt», который со всей серьезностью
сравнивал игру Калькбреннера с июльской революцией, а его
триоли — с легкой кавалерией, то при имени этого мужа мне
скорее всего вспоминалось бы море, покорно отражающее все
светлые и мрачные небесные явления, а при имени этой девы
(Клары) — радуга, которая, перекинувшись через спокойный
водный поток, столь же спокойно переливается всеми своими
цветами, но начинает сильно трепетать, как только тот
приходит в движение.
Фл.
Хвалю тебя, Флорестан, за то, что ты часто вместо
суждения предлагаешь нам образ: так легче достичь понимания, чем
с помощью специальных выражений, понятных менее
подготовленным людям. Поэтому, когда ты однажды об одном из
фортепианных концертов Пиксиса сказал, что он под пальцами
Клары превратился в букет из цветущих апельсиновых веток,
или о Мошелесе, что он раздает драгоценные нити восточных
жемчугов, или о Калькбреннере, что у него из-под клавиш
вылетают бабочки, высоко-высоко поднимающиеся в небесную
лазурь, я ценю это нисколько не меньше, чем когда иной говорит:
«У Кая большая точность удара, которая достигается
предусмотренной школьными правилами независимостью мышц за-
93
пястья от мышц предплечья (нет ничего ужасней, чем
напряженное «стругание» с плеча) и дает нам представление о
подлинном звучании чембало, которое во времена Клементи и т. д.».
Р.
Этюды Калькбреннера в его собственном исполнении были
шедеврами en miniature (лицами королевских «mignons» *,
прозрачными до того, что на них просвечивали все жилки,
вплоть до самой тонкой и самой извилистой). Вся публика
словно превращалась в ученика, напряженно внимавшего
каждому звуку, издаваемому учителем.
Э.
Исполнение в концертах коротких, рапсодических пьес
должно было бы войти в традицию. (Для этого достаточно хотя бы
одной знаменитости. — Фл.) Виртуоз сможет тогда в
кратчайшее время показать игру своего духа во всевозможных его
преломлениях.
р.
I Р
Почему Клара не играет более наизусть, как прежде?
Называйте такую игру отчаянной смелостью, чье величие
удерживает от нареканий, которые по праву высказываются в случае
провалов, ибо публика слишком мало ценит ее; называйте
такую игру шарлатанством — желанием удержать шар на острие
иглы, — все равно она всегда будет свидетельствовать об
огромной силе музыкального духа и именно вследствие
недостатка такой силы всегда будет находить мало подражателей
(предшественники Паганини и Ромберг — исключения). Да и
к чему эта суфлерская будка? К чему кандалы на ногах, когда
голова окрылена? Разве вы не знаете, что аккорд, как бы
свободно его ни взять, глядя в ноты, и наполовину не звучит так
свободно, как аккорд воображенный? О, я отвечу вам из
глубины вашего же сердца: конечно, я липну к традициям, ибо я
немец. Правда, я несколько удивился бы, если бы танцовщица
вытащила из кармана свои пируэты, актер или декламатор —
свои роли, чтобы увереннее танцевать, играть и декламировать;
но я действительно подобен тому филистеру, который, когда
у одного виртуоза с пульта свалились ноты и он, несмотря на
это, спокойно продолжал играть, нараспев закричал:
«Смотрите, смотрите, вот оно, великое искусство! Он это выучил
наизусть!»— О ты, треть публики! Следовало бы тобою зарядить
пушку, чтобы расстрелять вторую треть, состоящую из
филистеров.
Фл*
* Любимицы (франц.).
96
Едва ли возможно представить себе нечто более
совершенное, чем дон-жуановские вариации Шопена [ор. 2], когда их
играла Клара, настолько все было в них нежно, изысканно и
значительно по колориту и настолько стройно они
закруглялись, образуя единое целое. На месте рецензента можно было
бы сказать об этом еще многое другое. Но нельзя не
упомянуть о той живой силе, с которой она исполняет каждую вещь;
эта сила — в постоянном напоре, нагнетании, начиная от еле
ощутимого трепета зарождающегося чувства и кончая бурными
взрывами страсти. Право же, все сыгранное Калькбреннером
едва ли превысило две трети общей ценности того, что
прозвучало в исполнении Клары, к тому же и сами по себе пьесы,
исполненные ею, были гораздо труднее7.
Э.
(Я нахожу, что Эвсебий пишет очень скучно!) A propos, кто
этот анонимный баран, который в одном из прошлогодних
номеров «Musikalische Zeitung» проблеял что-то про шопеновские
вариации8, хотя Ш[уман] в предшествующей рецензии, никого
не спросясь, по этому же поводу вывел на арену своих давид-
сбюндлеров, чем он, впрочем, заслужил замечание майстера?
Не пришел ли в ужас этот баран от мазурок, от этюдов, от
трио, от концерта?
Фл.
Но разве это не подлость — из сочинения, которое даже
мастера признали многообещающим (и Шопен эти обещания
сдержал) 9, по-одиночке выхватывать мелкие недочеты, которые
следовало бы порицать лишь у зрелого мастера, и тут же нагло
писать: «Смотрите, вот оно, новое время!» Да разве этакий
мастеровой от критики когда-либо вникнет в целое? Разве ему
когда-либо придет в голову, что от произведения искусства
можно, кроме корректности и стиля, требовать еще и другого —
жизненного порыва, внутренней необходимости? Разве он
когда-либо старается обратить внимание читателей на
возможность будущей деятельности молодых художников и горячо
поддерживать их достижения? Разве он не анатомирует их души,
как трупы, чтобы составить себе коллекцию желчных камней,
заведомо умалчивая о Духе и о фантазии — этом неотъемлемом
достоянии молодости?
Хф.
Испытываешь божественное наслаждение, когда читаешь, с
какой елейностью этот горе-рецензент заканчивает свою
рецензию. После того, как он на протяжении целых двух страниц
безудержно себя расхваливал, осудив какое-нибудь слишком
широкое расположение за то, что оно слишком широко, и
несколько проходящих нот (transitum irregularem) за то, что они про-
4 Р. Шуман, т. I 97
ходящие, он заявляет: «После вступления, занимающего в
партии солиста пять страниц in folio (Largo, B-dur, в дальнейшем
чуть подвижнее), следует тема, за ней четыре вариации в
быстром темпе, одна вариация Adagio (b-moll) и, наконец, в
заключение alia polacca на восьми страницах в B-dur. Что же
касается (продолжает он с разбега) внешнего убранства этого
роскошного издания, составляющего 27 выпуск «Одеона»10, то
нет необходимости добавлять еще что-нибудь хвалебное. Хас-
лингеровское издательство всегда отличается ясным шрифтом,
хорошей печатью и прекрасной бумагой. Бросающиеся в глаза
опечатки, исправления которых не сразу бросаются в глаза
(здесь явно вкрались словесные параллельные квинты),
рецензенту не попадались. Правда, за оркестровые голоса он
отвечать не берется, так как вещицы этой он в оркестре не
слышал». Смейся же, горе-рецензент, над потом и временем,
которые я потратил на переписку. Однако ты всегда верен себе,
когда, набросав в порыве обожествления: «О ты, единственный
Бетховен», быстро добавляешь в скобках: (родился в Бонне в
1770 году) ".
Фл.
Вы правы, Флорестан! Рецензия эта — бабья болтовня. Но
Вам надо было нагрубить, а не острить. Радует то, что
уважаемая редакция, поместив отличную рецензию на шопеновское
трио12, тем самым признала, что была неправа, опубликовав ту
критическую статью13.
Раро
«Сон в летнюю ночь»14! Легкая, как сон, говорящая музыка,
которая настолько выше обычной звуковой живописи,
насколько сон в летнюю ночь выше трезвого, тяжелого,
послеобеденного сна — мне хотелось бы играть с тобой и хотя бы пожать
руку твоему создателю, но поменьше разговаривать, разве
только глазами! Как смели непосвященные руки тебе аплодировать,
неуклюже касаться твоего образа, словно вторгаясь в твои
грезы, подобно тому, как нарушаются ночные сны. Разве высшую
хвалу (как и самый горький упрек) можно выразить словами?
Э,
Я всегда досадую на одно место в Adagio A-dui-'ной
симфонии (существует лишь одна), где мелодия парит в мягких,
почти шпоровских задержаниях, что, как известно, глубоко претит
врагу всего изнеженного, и слишком женственного15. К тому же
я готов поспорить, что Бетховен писал это с иронией, судя хотя
бы по тут же вступающим резким басам. А вот рядом со мной
стоит кто-то и все стонет, да станет: «О ты, единственный
Бетховен!» О, это ужасно!
Фл.
Презрение к материальным средствам отдаляет от
художественного идеала. Задача заключается в таком одухотворении
материала, которое заставляет забыть о всем материальном16.
Р.
Но почему же иной раз характеры только тогда и начинают
жить самостоятельной жизнью, когда они находят себе опору в
другом я; например, Шекспир, который, как известно,
заимствовал все темы своих трагедий из трагедий более старых, из
новелл и т. п.?
Э.
Эвсебий говорит верно. Иной дух лишь тогда действует
свободно, когда он связан какими-то условиями; наоборот, в
безграничном он рассеялся бы и растворился.
Р.
Мог ли этот звучащий ночной сон родиться без Шекспира,
хотя не один сон (только без заглавия) был написан и
Бетховеном (f-тоП'ная соната)? Эта мысль способна меня огорчить
Фл.17
О первой части симфонии Ш[умана}18 я едва ли могу судить.
Разве он не приходится мне старшим братом и двойником и
разве эта вещь не выросла у меня на глазах? Следует ли
приписывать то беспокойное, что в ней есть, оркестру, который
из-за сложности изложения играл недостаточно уверенно, а
также все еще не нашел должных, самых нежных оттенков, или
тому, что она именно такой и родилась (это мое мнение), или
тому, что немец, не желающий, чтобы его сразу затопило
Allegro, быть может, рассчитывал на вступление (что так хорошо
высмеял Бетховен в А-с1иг'ной симфонии, точно так же, как и в
заключении F-dur'Hofl19),— этого я решать не берусь. Я очень
прислушивался к критике соседей. Милейший, по-настоящему
музыкальный Штегмайер полагал, что опыт и обильное
сочинительство так или иначе, но со временем сообщат должную
уверенность и легкость инструментовке, которая слишком цветиста.
«Да и вообще говоря, безусловно ошибочно, — ввязался
остроумный и практичный Хофмайстер, — выпускать на эстраду
99 4*
только первую часть; это все равно, что играть один только
первый акт. Здесь нет еще подлинного развития, а
произведение находится в состоянии становления, часто самому автору
как бы еще не все ясно и т. д.» (Я хочу только признаться, что
весь этот абзац сочинен не давидсбюндлерами, а мною самим,
но не могу пропустить одного замечания Раро:)
«Не требуйте от зрелого мужа восторгов юноши, а от
последнего спокойствия первого; мало того, осуждайте это!
Юношескому произведению чрезмерная серьезность не к лицу, как и
наоборот: танец сорокалетнему мужчине».
(Ливия Герхардт в концерте Вик.) Жалко было бы и
безответственно, если бы этот милый талант развивался
недостаточно спокойно. С эфирным голосом следует обращаться нежней,
чем с руками пианиста, и излишество в первом случае столь же
пагубно, как и недостаточность во втором. Быть может, я и
ошибаюсь, но мне казалось, что голос ее, вообще говоря, уже
достаточно развитой, кое-что утратил в отношении свежести и
блеска.
Э.
Нет, ты не настоящий давидсбюндлер, Эвсебий, а самый
заскорузлый филистер, к тому же глухой. У греков был закон:
созерцать прекрасные изваяния молча, а что же в таком случае
говорить об изваяниях дышащих и звучащих. Ты сущий
филистер, Эвсебий.
Фл.
Однако критикам не следовало бы влюбляться, хотя критик
Франчиллы20, которому нельзя отказать в горячем,
бесстрашном чутье ко всему подлинному (если даже он и слишком
часто цитирует признанные авторитеты в ущерб* растущим
талантам), этот критик недавно влюбился. Он написал на одной и
той же странице, об одной и той же певице (правда,
очаровательной), что она 1) хотя и начинающая, но обещает быть
одной из первых певиц нашего времени, что она 2) скоро
воссияет над музыкальным горизонтом, как звезда первой величины,
что она 3) выступила с таким совершенством, что ее уже по
праву можно причислить к самым первым певицам, что она
4) хотя ей только шестнадцать лет, безусловно станет одной из
первых певиц, что она 5) — одна из первых певиц и явление
настолько исключительное, что все живущие здесь в Лейпциге
певицы (это подчеркнуто) рядом с ней — пигмеи, что 6) и т. д.
Э.
* Ибо это подстрекает ученика нарушить пределы того круга, в котором
он еще не исчерпал своих возможностей. [Ш.]
100
Но пусть это тебя не смущает, прекрасный лебедь!
(Хвалебные изречения султанов в художественной критике не
оказывают никакого воздействия) и смотри, не принимай такие
афоризмы, если только они не подкреплены контекстом и не развиты
по существу, за нечто большее, чем просто блажь, и уж ни в
коем случае не усматривай в них результаты глубоких
исследований!
Критика ничего не должна утаивать! Правда, всякое
искание в искусстве — приблизительно, и нет такого
художественного произведения, которое ни в чем нельзя было бы
улучшить— нет такого звука в голосе, в речи, такого движения в
теле, такой линии в картине. Если только признать это, то не
следует забывать, что нередко виртуозность в чем-либо одном
возмещает собою бессилие в другом и что иное произведение
можно назвать даже классическим, только бы манера его была
выражена с достаточной полнотой и являлась оригинальной.
Раро
Поэтому критика не права, когда она с упреком отмечает
отсутствие отдельных качеств, обычно требуемых от
художественного произведения. Однако это можно ей простить в тех
случаях, когда другие духовные способности проявляются в
произведении с такой силой, что отсутствие необходимых становится
незаметным. Так, пению Грабау бесспорно недостает того
лирического взлета, которым отличается искусство Франчиллы
Пиксис; зато у Грабау другие стороны дарования (чистота и
естественность голоса и выражения), развитые настолько
полно, что отсутствие недостающих ей качеств вовсе не
ощущается.
А.
Чем зрелее суждение, тем проще и скромнее оно будет
выражено. Лишь тот, кто десятки раз вновь и вновь возвращается
к изучаемому предмету и путем добросовестных сопоставлений
в упорном самоотречении вникает в его сущность, — лишь тот
знает, насколько скуден прирост наших сведений, насколько
медленно очищается наше суждение и насколько, поэтому, мы
должны быть осмотрительны в своих высказываниях; Где-то я
прочитал, что «без миогообразнейшего опыта и руководящих
познаний мы, взирая с открытыми глазами на творение
искусства, пребываем в слепоте».
Р.
101
Я довел свою копию до этого места, как вдруг вошел
чернокудрый, красивый паренек21 и молча вручил мне письмо.—
«Кто ты?» — Но он уже скрылся за дверью. Что же было в
письме? Я скажу это тебе на ухо... Ты поняла?
статья вторая
Последнее «ты» было обращено к прекрасной читательнице.
Да и вообще публика, которой в наше время все преподносится
с такими удобствами и так энциклопедично, должна только
радоваться той неразберихе, которая заметно преобладает не
столько среди самих давидсбюндлеров, сколько в их киоте со
скрижалями завета, (состоящего из одной книги), причем я не
в праве пренебречь одним из флорестановских бумажных
клочков, гласящим: «Черт возьми, разве Земля — гладкая
поверхность? И разве нет на ней Альп, рек и различных людей?
И разве жизнь — система? И разве она не состоит из отдельных
полуразорванных листков, покрытых детскими каракулями,
юношескими профилями, рухнувшими надгробиями,
цензурными пробелами судьбы? Я утверждаю, что это именно так. Более
того, небезынтересно было бы и в самом деле как-нибудь
срисовать жизнь такой, какой она живет и бытует, и написать ее
роман в афоризмах в том же роде, в каком Платнер и Якоби
излагали целые философские системы». Хотя мысль эту следует
признать отнюдь не художественной, все же я не скрою, что
майстер Раро меня утешил надеждой на будущий логический
порядок, на равномерную темперацию взятой тональности,
словом, просветил меня относительно манеры письма одного
«бесконечно любимого» немецкого писателя22, манеры, с
особенностями которой никак нельзя не считаться и которая, как он
полагает, доставит человеку радость.
Все это я извлек из того письма, которое вкупе с другими
вложениями мне вручил красивый итальянский мальчик. Меня
сначала удивило, что среди всех этих бумажных обрезков мне
не попались имена надувальщика мехов и Фридриха, однако
достаточное для этого основание я нахожу в нижеследующем
письме:
Ваше Высокоблагородие,
едва вернувшись, усталый как собака, из пешего путешествия в Венецию23,
совершенного мною по делам майстера в обществе глухого живописца
Фрица Фридриха, прошу извинить краткость моего письма, ибо у меня (по
выражению Цицерона) не было времени написать его короче. Имею по
поручению Давидсбунда доложить, что он, на основании точных полученных им
сведений о критическом таланте Вашего Высокоблагородия, вполне доволен
состоявшимся избранием. При сем прилагается дополнительный материал, из
коего можно убедиться в том, насколько Союз наш озабочен тем, чтобы
осветить для Вас, равно как и для публики, все обстоятельства, его
касающиеся.
Вашего Высокоблагородия
покорный слуга
Книф, надувальщик мехов
102
Кроме продолжения критических, запротоколированных
Книфом замечаний (которые я решаюсь приводить только с
большим выбором из-за частых грубых выпадов Флорестана),
в письмо были вложены: портреты двух девичьих головок,
которые я хочу называть не иначе как только их собственными
именами — Цилия и Джульетта24, портрет итальянского
мальчика с пописью: Гектор, письмо Цилии из Венеции, письмо
Раро ко мне с просьбой никаких тайн пока что не разглашать.
О, если бы я мог сказать то, что знаю, хотя многое знаю лишь
наполовину! О, если бы мне было дозволено поговорить о
Цилии, о Флорестане, о том, что Союз вовсе не какое-то
подпольное судилище, не фема25, что критическая цветочная пыльца —
не более чем легкая осыпь — как след целой жизни, блаженно
прожитой художником, о том, кто этот мастер, которого мы все
знаем, — тогда все удивились бы нисколько не меньше, чем если
бы, заснув на лекции профессора географии, они проснулись,
скажем, в Италии, под сенью цветущей апельсиновой рощи.
Ну, а пока что тысячи миллионов напряженно ожидающих
людей должны удовольствоваться разделом критики.
К великой своей радости, я как раз нахожу продолжение
одной, оборвавшейся в первой статье фразы Раро, видно,
заимствованной им из какого-то его письма к неизвестному
лицу. После слов Раро: «Разве некая деланная
таинственность не прикидывается...» следует: «глубиной — никакой
цельности, одни обрывки — никакого достоинства, одно
легкомыслие».
«Раз вы уже говорите о целом, — вмешался здесь Флорес-
тан, который никогда не давал договорить тому, с кем он
соглашался,— то к вашему мнению, майстер, я присоединяюсь.
Однако, не в пример тем, кто только и делают, что кричат о
гениальных дерзаниях, о неуважении к уважаемым формам, о
неоромантическом роландовом неистовстве, я в новейшей
музыке нахожу скорее нечто подавленное, болезненное,
полуправдивое, во всяком случае чуждое старой музыке». «Я тоже так
думаю, — продолжал Раро,—впрочем, я вовсе не поклонник
слишком древнего; все эти исследования допотопных вещей я
вполне признаю в качестве исторического любительства, но
считаю, что большого влияния на наше художественное
развитие они иметь не могут. В то же время вы знаете, как
настойчиво я вас толкал на изучение древних. Ведь учитель живописи
посылает своего ученика в Геркуланум не ^для того, чтобы он
срисовывал каждый торс в отдельности, но для того, чтобы он
окреп, приобщившись к строю и величию целого и, созерцая это
целое, им наслаждался и его воспроизводил на его родной
почве. В таком же духе руководил вами и я, не для того, чтобы
вы приходили в ученый восторг от каждого отдельного
произведения, каждого отдельного композитора, но, чтобы вы,
обогатившись новыми художественными средствами, научились от-
103
-крывать заложенный в них принцип и находить Для них
различное применение».
После этого майстер перевел речь на то, что характерно
для современности, — на партии, как вдруг — вошли Книф и
«Фридрих, только что вернувшиеся из Венеции26. Об общем
ликовании я умалчиваю.
Фл.
{ Р7
Остряки подняли голос, заявив, что для освящения нового
зала лучше было выбрать Marcia funebre из «Героической
симфонии», чем ликующий хор из «Афинских развалин», более того,
говорилось кое-что и покрепче. По моему мнению, за это
упущение следовало винить дирекцию, которая была полна самых
добрых намерений и желаний. Наконец, шестьсот человек не
должны были бы повторять одну и ту же остроту относительно
кухни, а сочинить новую28. Однако Новалис прав (если только
не осуждать эту мысль за ее изысканность, ведь в конце концов
дело дошло чуть ли не до того, что люди захотели
наслаждаться всеми искусствами сразу), когда он говорит, что музыку
следует слушать только в красиво убранных залах, а
произведения пластики созерцать только с сопровождением музыки29.
Э.
Сама по себе твоя защитительная речь могла бы оказаться
•очень неплохой, любезнейший Эвсебий! Однако только для
того, чтобы филистеру было не так уж неуютно в непривычном
помещении, можно было и не прибегать к столь сильно
возбуждающим средствам, можно было не исполнять после
юбилейного хора еще и «юбилейную» увертюру, а за ней
«триумфальную» фантазию Пиксиса (по крайней мере таковой она
•была для Клары Вик), можно было не так уж основательно
вдалбливать все это ликование в нашу наипочтеннейшую
публику.
Фл.
Не забудьте обратить сугубое внимание на психологическую
правдивость, заключенную в этом ликующем хоре! В самом
деле, подобно тому, как во время публичных празднеств мы в
глазах соседа уже заранее видим разлитую во всех
восприимчивость и отражение грядущих восторгов, подобно тому, как
светлая радость опережает бурные вихри ликования, и
Бетховен начинает с невинных звуков флейт и гобоев. А теперь
смотрите, как он, сохраняя всю естественность чувства, поднимается
все выше, как он от такта к такту наращивает массы, и как они
друг с другом сливаются, образуя последнее, самое мощное
104
трезвучие. В то время как в «Юбилейной увертюре»
один-единственный выражает многие желания («Мне кажется, что в
высоких звуках виолончели я различаю сильную жажду свободы
печати», — вставил Флорестан30) у Бетховена все объединяют
свои желания в одно и то же, единственное. Но разнице этой я
придаю большое значение31.
Иначе как очевидной тайной не назовешь то странное
обстоятельство, что восприимчивый, глубокомысленный немец, к
тому же выращенный и воспитанный отчасти еще в
классическое время, так легко и охотно отличает подлинное от
кажущегося и, в то же время, только из-за границы выписывает свои
отечественные таланты, уже снабженные отзывами и
увешанные орденами. Пожалуй, можно допустить, что и в этом случае-
все дело в чисто театральном воздействии физической
отдаленности, которая, ослепляя нашего немца, идеализирует все в его
глазах и заставляет его принимать заграничные стеклярусы за
алмазы. Правда, за беду эту отвечают все — как композиторы,,
так и виртуозы, как издатели, так и покупатели, но больше всех
те, кто могли бы оказать самое непосредственное влияние на
развитие народного вкуса — театр и преподаватели музыки.
И сколько при этом напрашивается самых унылых мыслей: с
одной стороны, о том, насколько государство мало печется о
музыке, не уступающей другим высшим видам искусства, а с
другой, о том, как даже для самой счастливой идеи часто еще
приходится подыскивать перо, которое ее записало бы, а эта
только лишний раз призывает нас к тому, чтобы
объединенными силами по возможности противостоять потоку пошлости,,
грозящему затопить всех и вся.
Э..
I Р3
Вот уже некоторое время, как Флорестан все таскается по
самым жалким пивным и винным погребам, стараясь
послушать одного ярмарочного скрипача, который, как ему кажется,
его здорово встряхнул и обогрел, ибо (продолжал он)
скрипача-то еще можно услышать, а вот скрипку — редко. Что же
касается смелости, с которой он водит смычком, и его
здорового, гениального понимания всего, вплоть до самой ничтожной
французской песенки, то в этом равного ему не найти; кстати,,
зовут его Гроссман * и играет он во много раз лучше, чем сам
думает об этом. А так как он при своих талантах вправе
рассчитывать на признание со стороны высшей критики, уже одно
Grossmann (grosser Mann) буквально великий человек (нем.).
105
то обстоятельство, что он предпочел поэтическую жизнь
трубадура светскому прозябанию в какой-нибудь капелле,
заставляет нас надеяться на самое лучшее. Да (сказал в заключение
Флорестан), я представляю себе давидсбюндлеры, как
божественно было бы, если бы я эдак играл в Вольфовском погребке
и вдруг вошел бы, скажем, Паганини. Сначала я угощал бы его
самым что ни на есть жалким пиликанием — Паганини
пропускал бы это мимо ушей, меня бы это сердило, и я бы преподнес
ему что-нибудь из Дон Жуана и затянул бы длинную, трудную
кантилену — тут он стал бы недоумевать, а я с самым
невинным лицом, словно и не подозревая, кто он такой, продолжал
бы играть и, как бы невзначай, принялся бы за один из его
каприсов — и вот меня охватила бы мысль, что великий человек
здесь, около меня, и я начал бы плакать, хохотать, буйствовать,
молиться, забыв обо всем в порыве безудержного восторга.
А когда он после этого ко мне подошел бы — и пожал бы мне
руку! —
(Продолжение следует) 84
*6. [ПРОСПЕКТ «NEUE LEIPZIGER ZEITSCHRIFT
FOR MUSIK»!
Журнал помещает:
Теоретические и исторические статьи, по эстетике
искусства, грамматике, педагогике, акустике, статьи
биографические и др., некрологи, статьи о формировании знаменитых
художников, сообщения о новых изобретениях или
усовершенствованиях, отзывы о выдающихся достижениях виртуозов, об
оперных представлениях; под заголовком современники —
очерки о более или менее знаменитых художниках; под
рубрикой журнальное обозрение — сообщения о деятельности
других критических изданий, заметки об их рецензиях,
сопоставление различных отзывов об одном и том же предмете,
собственные выводы по этому поводу, а также возражения на
критику, исходящие от самих музыкантов, затем выдержки из
иностранных изданий и наиболее интересное из старых
музыкальных газет.
Беллетристику, короткие музыкальные рассказы,
фантастические сочинения, сцены из жизни, юмор, стихи, наиболее
пригодные для музыкальных произведений.
Критические статьи на произведения современного
искусства, причем предпочтение будет оказано музыке для
фортепиано. Внимание читателей привлекается к созданным
ранее, не замеченным или забытым произведениям, представ-
106
ляющим ценность, а также <к рукописям, которые присланы
талантливыми неизвестными композиторами, заслуживающими
поощрения. Сочинения, принадлежащие к одному жанру, будут
часто сгруппированы, будут сравниваться между собой, а особо
интересные обсуждаться повторно. О сочинениях, присланных
для оценки, будет сообщаться заранее, однако очередность их
рецензирования определяется не временем присылки рукописи,
а ее ценностью.
Смесь, короткие заметки, касающиеся музыки,
анекдоты, заметки об искусстве, о литературе, музыкальное из Гете,
Жан Поля, Хайнзе, Гофмана, Новалиса, Рохлица и многое
другое.
Корреспонденции в том случае, если они отражают
самую суть музыкальной жизни. Мы поддерживаем связь с
Парижем, Лондоном, Веной, Берлином, Петербургом,
Неаполем, Франкфуртом, Гамбургом, Ригой, Мюнхеном, Дрезденом,
Штуттгартом, Касселем и др. — Информационные статьи
относятся к следующему разделу.
Хроника, музыкальные исполнения, объявления о
концертах, поездки, место пребывания художников, должностные
назначения, случаи из жизни. Нас не остановят никакие
трудности в стремлении сделать эту хронику всеобъемлющей, дабы
как можно чаще напоминать об именах музыкантов.
Затем мы предварительно извещаем о том, что если журнал
сможет привлечь к себе широкий интерес, издатель готов будет
назначить премию за лучшее из присланных сочинений, для
начала за наиболее выдающуюся сонату для фортепиано.
Подробнее об этом будет сообщено в свое время.
О месте, которое этот журнал намерен занять среди других,
уже издающихся, яснее всего скажут его первые номера.
Кто хочет познать художника да посетит его в его
мастерской. Нам казалось необходимым создать и для него орган,
который побудит его воздействовать — кроме своего
непосредственного влияния, еще и словом; создать трибуну, с которой
он мог бы поведать о лучшем из того, что видел собственными
глазами, познал собственным разумом; создать журнал, в
котором он смог бы защитить себя против односторонней или
неверной критики, в той мере, в какой это вообще совместимо
со справедливостью и беспристрастностью.
Разве могли бы издатели не признать заслуги
существующих весьма почтенных органов, которые занимаются
исключительно музыкальной литературой! Издатели далеки от того,
чтобы приписывать возможные недостатки незнанию
требований, которые музыкант вправе теперь предъявлять критику,
107
или упадку интереса к искусству. Но они, с одной стороны,
считают невозможным для одного отдельно взятого человека
детально охватить всю столь расширившуюся область музыки,
с другой же стороны, естественным, что при сотрудничестве
нескольких людей, из которых с течением времени одни
выбывают, а их место занимают инакомыслящие, забывается
главное, — и до такой степени, что оно в конце концов становится
шатким и превращается в общие места.
Итак, мы, художники и друзья искусства, молодые и старые,
живя многие годы друг подле друга, хорошо друг друга
знающие и придерживающиеся одних и тех же взглядов,
объединились для издания этих страниц. В полной мере сознавая
значение нашего замысла, мы с радостью и усердием приступаем к
новому делу. То, что это дело предпринято с чистыми
помыслами и в интересах искусства людьми, для которых
искусство— жизненное призвание, внушает нам гордую надежду, что
оно будет встречено благосклонно. Всех же тех, кто любит
прекрасное искусство фантазии, мы просим способствовать новому
начинанию советом и делом и поддержать его.
Издатели
7. В. ТАУБЕРТ. ДУЭТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО В 4 РУКИ
(a-moll). Соч. 11
После многократного прослушивания и проигрывания этой
в общем ясной пьесы, я всегда чувствовал в ней какой-то
изъян: словно еще что-то должно было последовать или словно
предшествовало что-то, связанное с дальнейшим. Формально
пьеса закончена, но не по своей идее. Возможно, что
произведение было задумано, как соната, в которой, как это бывает,
композитор начал с финала.
Люди несносны и к тому же необразованы — они сразу же
перерывают весь свой музыкальный шкаф, чтобы доискаться
до всяких сходств и реминисценций. Нельзя упрекать автора в
том, что по стилю этот дуэт кажется несколько сродни
известной, но более глубокой е-то1Гной сонате Онслова. Нельзя
также ставить ему в вину то, что, подобно сонате Онслова с ее
близостью к струнным инструментам, инструментальный
характер преобладает и в дуэте, хотя и на более широкой основе.
Тот, кто знает свой инструмент и изучил его, всегда найдет
верную линию. Так, с одной стороны, выдержанный звук
человеческого голоса навсегда останется чуждым некоторым инст-
108
рументам, зато благодаря тщательному испытанию других,
более или менее родственных данному, могут быть открыты
новые эффекты. Поэтому, если я в первых же тактах могу
подразумевать литавры, во втором — ответное тутти, а в следующих
коротких восьмых —унисон, то это еще нисколько не нарушает
характера того инструмента, для которого это написано, но,
пожалуй, даже усугубляет получаемое удовольствие.
После тех образцов своего творчества, которые композитор
нам предложил в прошлогодних зимних лейпцигских
концертах, я чувствовал себя вправе надеяться, что данное его
произведение оправдает мои ожидания. Я не ошибся. Г-н Тауберт
держит в этой вещи крепкий, бюргерский шаг, достойный
всякого уважения, никогда * не преступает запретных границ,
шествует без страха и с паспортом в кармане. Все мы хороши.
Сидя в коляске, мы завидуем пешеходу, который может не
спеша наслаждаться и стоять перед каждым цветком ровно
столько, сколько ему вздумается. А когда идем пешком, нам
скоро делается невмоготу и мы предпочли бы сидеть на козлах.
Я хочу сказать: иные ошибки одного мы охотно считаем
преимуществом другого. Если бы существовал обмен духовными
способностями, то я влил бы г-ну Тауберту несколько капель
крови некоторых сверхгениальных сочинителей, которым в свою
очередь я передал бы долю его умеренности и
благопристойности. Попробуйте что-нибудь возразить против такой точки
зрения! Правда, художественное произведение нельзя свести к
алфавитному списку эстетических эпитетов, но критика не
должна замалчивать тех необходимых требований, которых
художник не выполнил (указывая не на то, чего в произведении нет,
а на то, чего ему недостает). Я думаю, что одно из таких
требований — подлинное поэтическое вдохновение. Но в этой вещи
оно уж очень медленно поднимает и опускает крылья. Пусть
композитор не поймет меня превратно! От кого еще можно
ожидать счастья и успеха в искусстве, как не от тех, которые
кроме благородных стремлений обладают и силой воплотить их.
Именно лучшие не должны были бы выступать со своими
незначительными сочинениями. Меня возмущает, когда я вижу
эдакие «souvenirs», состряпанные таким мастером, как Моше-
лес, вкупе со всякими сочиняющими музыкальными статистами,
которые кричат: «Да ведь и у него получилось не лучше!»
Настоящий дуэт, конечно, лучше тысячи других, ему подобных,
но и требований, предъявляемых к лучшему, в тысячу раз
больше. С талантами не следует быть вежливым. Перед Герцем и
Черни я обнажаю голову — в крайнем случае с просьбой меня
больше не беспокоить.
Это сказано вообще, в частности же для того композитора,
которого многие оценили за отличный фортепианный концерт;
Исключая четвертый такт на стр. 14. [Ш.]
109
он обещал в скором времени предложить этот концерт нашему
вниманию. И хотя рецензируемый дуэт как внешне, так и
внутренне гораздо более легковесен, все же нельзя не пожелать ему
самого широкого распространения. Более того, последнее
можно даже предсказать, так как вещь эта написана достаточно
удобно для пальцев, без особенно сложных пассажей; она
прозвучала бы приятно, даже красиво, если бы ее можно было
сыграть вместе с той отменнейшей любительницей, которой она
посвящена 1.
В целом пьеса написана в a-moll, хотя, по характеру,
предпочла бы, пожалуй, высказаться скорее в g-moll. Насколько
певуча, почти что проникновенна первая тема, настолько третья,
в e-moll, выделяется по сравнению с ней своей скудостью. Сама
мысль контрастно противопоставить первой протяжной теме
вторую, написанною отрывистыми нотами, была бы похвальной,
если бы е-то1Гная тема была значительней по выдумке и
гармонически не настолько пустой. Все неудавшееся и далекое от
совершенства тем отчетливее выступает в дальнейшей
разработке, в которой много деланного, сочиненного и мало
гениального. Хорошо уже одно то, что скудость здесь обнаруживается
по крайней мере в неприкрытом виде. — Но если вы хотите
знать, что могут сделать из простой мысли2 усердие,
пристрастие, а главное, гений, то почитайте Бетховена и обратите
внимание на то, как он такую мысль поднимает и
облагораживает и как самое поначалу будничное слово превращается у
него3 в конце концов в величавое речение, оглашающее всю
вселенную.
Выше я пожелал этому дуэту широкое распространение.
Моя мысль такова. Прежде всего необходимо дать в руки
молодому, подрастающему поколению нечто такое, что защищало
бы его от дурного влияния, которое на него оказывают
некоторые виртуозные сочинения самого низкого пошиба4. Чем шире
распространено художественное чутье, тем лучше. Должны
существовать сочинения для каждого культурного уровня.
Бетховен наверняка не хотел, чтобы имели в виду только его, когда
речь заходит о музыке. Он это даже осудил бы. А потому для
всех — истинное и подлинное! Только для лицемерия, для
уродства, скрывающегося под соблазнительным покровом, искусство
не должно служить зеркальным отражением. Была бы только
борьба не слишком унизительной! Но с теми борзописцами,
число творений которых определяется их оплатой (а среди них
немало прославленных имен), с теми зазнайками, для которых,
якобы, закон не писан, наконец с теми нищими или
обнищавшими лицемерами, которые свое убожество все еще обряжают
пестрыми лохмотьями, — вот с кем надо бороться изо всех сил.
Когда они будут раздавлены, масса сама потянется к
лучшему 5.
НО
8. «ХРИСТОС НА МАСЛИЧНОЙ ГОРЕ».
КИРИЕ И ГЛОРИЯ ИЗ «ТОРЖЕСТВЕННОЙ МЕССЫ»
БЕТХОВЕНА
Музыкальное исполнение 28 марта в университетской церкви
в Лейпциге
Идея представить нам сегодня Бетховена как юношу и как
мужа у алтаря искусства—как бы послушником и
первосвященником—прекрасна и поэтична1. О жизни внутренней, так
часто омраченной печалью, ничто не напоминает. Есть лишь
душа, полностью погруженная в благоговейное раздумье и
восторг перед божественным.
За это возвышенное наслаждение мы обязаны живейшей
благодарностью господину музикдиректору, и мы желаем в
этом смысле, чтобы побольше было страстных пятниц. Трудно
найти похвалу, вполне достойную того, что предпринимается с
таким усердием и бескорыстием. Публика это тоже ценит, но
она судит по исполнению. Если исполнение было плохим — она
осуждает, если хорошим — хвалит, а затем забывает. Однако о
бесчисленных затруднениях, об утомительном разучивании,
репетициях, добывании средств, о многих жертвах она и понятия
не имеет. Так пусть же господин Поленц примет всеобщее
признание многочисленного и внимательного собрания как
благодарность за свою достойную деятельность и как стимул для
того, чтобы представить нам вскоре полностью произведение,
которое ведь принадлежит к высочайшему в нашем искусстве.—
Огромные трудности мессы, с которыми исполнители частично,
вероятно, встретились впервые, почти не ощущались. Во всем
были жизнь, движение, уверенность.
9. КОМИЧЕСКОЕ В МУЗЫКЕ
Не очень образованные в общем склонны слышать в музыке
без текста либо только страдание, либо только радость, либо
(среднее между ними) грусть, но не способны различать более
тонкие оттенки чувства, как, например, гнев и раскаяние в
страдании или безмятежность и благодушие в радости. Поэтому
им так трудно и дается понимание таких мастеров, как
Бетховен и Франц Шуберт, которые каждое жизненное состояние
умели перевести на язык звуков. Так, в некоторых Moments
musicaux * Шуберта я словно вижу неоплаченные счета
портного, настолько в них все овеяно чисто мещанским чувством
досады. В одном из его маршей Эвсебию совершенно ясно чу-
* Музыкальные моменты (франц.).
111
дился целый австрийский ландштурм с волынками впереди, с\
окороками и колбасами на штыках. Однако это уж слишком1
субъективно, /
Но из чисто комических инструментальных эффектов я
отмечу настроенные в октаву литавры в скерцо d-тоП'ной
симфонии Бетховена1; нижеследующее место у валторн в его
A-dur'Hoft симфонии2:
Да и другие вторгающиеся моменты в D-dur в медленном
темпе, на которых он внезапно задерживается и трижды
пугает3 (недаром весь финал этой симфонии — вершина юмора,
достигнутая инструментальной музыкой); затем пиццикато- в
скерцо с-то1Гной симфонии4, хотя за этим и слышится какой-то
рокот.
Так, в одном месте финала симфонии F-dur некий всем
известный и опытный оркестр5 начинает как один человек
хохотать, уверяя, что он ясно слышит имя одного уважаемого
оркестранта (Бельке) в следующей басовой фигуре6:
Так же забавно звучит вопросительная фигура у
контрабасов в с-то1Гной симфонии7:
Фигура же в адажио B-dur'Hofi симфонии:
в особенности в басах или литаврах8 — настоящий Фальстаф.
Юмористическое впечатление производит и финал квинтета
(соч. 29), начиная от задорной фигуры:
112
и кончая внезапным появлением двухчетвертного размера,
который во что бы то ни стало стремится подавить борющиеся с
ним шесть восьмых9. Несомненно, что в Andante scherzoso10
появляется сам Бетховен (как тот же Граббе с фонарем в
собственной комедии11) или ведет сам с собой такой разговор:
«Боже, что ты тут натворил!»—Тут-то парики и будут
покачивать головами (собственно говоря, наоборот) и пр. Далее,
очень забавны окончания в скерцо А-ёиг'ной симфонии, в
Allegretto Восьмой. Так и видишь, как композитор отшвыривает
перо, которое, вероятно, было достаточно плохим. Далее —
валторны в конце скерцо В-с1иг'ной симфонии:
которые как бы еще раз хотят взять разбег. А сколько можно
найти у Гайдна (у идеального Моцарта меньше)! Среди новых,
кроме Вебера, нельзя не упомянуть в особенности о Маршнере,
у которого комический талант намного, видимо, превышает
лирический.
Ф—н
* 10. СОВРЕМЕННИКИ
(Написано старым музыкантом)
АННА КАРОЛИНА ФОН БЕЛЬВИЛЬ
Возглавь эту вереницу портретов, ты, юная художница, по*
дарившая моей старости еще три прекрасных дня! Если бы ты
владела только половиной отпущенных тебе возможностей, то
немец, требующий от виртуоза одних только сражений и атак,
словом, борьбы с инструментом, легче понял бы тебя и с
большим трудом отпустил бы тебя в Англию, в ту самую Англию,
которая, как всегда, заживо хоронит и губит своих художников.
Если только я верно ее понял, родилась она (лет двадцать
тому назад) в Аугсбурге в семье французского происхождения.
С детства привыкшая путешествовать, подолгу проживавшая в
Англии, во Франции и, если не ошибаюсь, в Италии, она
говорит на этих языках, облагородивших и смягчивших ее немецкий
говор. В разговоре с отдельными людьми она держится
открыто и доверчиво, хотя и отстаивает свои художественные
убеждения; в более широком кругу, как я слышал, ей свойственно
некое артистическое высокомерие, которое в таких случаях
бывает уместным и поэтому простительным. — В Вене она совер-
113
шенствовалась главным образом у Черни, а затем ей помог
старик Андреас Штрайхер. Так выступила она в Лейпциге в
полном расцвете своих художественных сил. — Подходят ли
друг другу французская и английская кровь, я не знаю.
Позднее она вышла замуж за английского скрипача Ури1, вместе с
которым она недавно разъезжала в концертном турне по
России2.
Слегка наклонив голову, чему виной близорукость, и
несколько приподняв над клавиатурой точеные руки, белые, как
слоновая кость клавиш, она с легкостью и грацией управляет
игрой покорившихся ей звуков. Ее игра — как это и должно
быть,—игра с инструментом. Толпе эта тайна непонятна. Чем
резче отдельные ноты, тем спокойней лицо; чем бешеней
скачки, тем уверенней удар. В отношении выработанности,
закругленности, начиная от простого звука и вплоть до мчащихся друг
другу навстречу молниеносных потоков двойных нот, она не
уступает другим мастерам. По уверенности каждого движения
она, пожалуй, превосходит всех. Знатоки считают ее
исполнение C-dur'Horo концерта Пиксиса высшим ее достижением, а
гуммелевского а-то1Гного — самым слабым. Только первое мне
известно. Самое в ней совершенное и ей одной свойственное
это — затихающая трель, которая под конец как бы
растворяется в эфире. Недостаток, заключающийся в том, что левая рука
по беглости и певучести в туше далеко уступает правой, быть
может, и устраним путем правильной тренировки и того
упорства, которое ее отличает от всех других женщин-виртуозов.
Но как могли односторонность и пристрастие к собственной
методе ослепить одного, вообще говоря, превосходного
художника настолько, что он отказал ей и в школе и в туше?
В области композиции всюду проглядывает женщина —
патетические начала, неуверенность в форме и в гармонии,
сентиментальные эпизоды в середине, быстро обрывающиеся
мысли.— Что ж, мы вас зйаем, милые, мечтательные создания!
11. КОНЦЕРТЫ
ТЕОДОР ШТАЙН*
Мы были бы менее строги в своем суждении, если бы дело
шло не о таком, действительно, редчайшем, но, пожалуй,
недооцененном таланте. Мы любим вундеркиндов. Тот, кто смолоду
способен на необычное, тот упорным трудом достигнет с
возрастом еще более необычного. Некоторые, заложенные в руке
технические возможности, следует, даже как можно скорее, до-
114
водить до виртуозности. Однако именно с тем, благодаря чему
наш юный исполнитель по преимуществу и завоевал себе это
имя, но что мы считаем в корне неправильным, мы и ведем
борьбу — с публичным фантазированием в молодые годы. Мы
обращаемся не к нему, ибо за ним мы признаем талант, даже
талант незаурядный, а к его руководителю, к его учителю, кем
бы он себя ни величал.
Кто вздумал бы снова сворачивать только что
распустившийся бутон. Это было бы бесполезно. Насильственно загонять
обратно только что пробудившуюся склонность кажется столь
же противоестественным/ насколько естественным может
оказаться созревание и развитие какой-либо особой способности в
одном человеке раньше, чем в другом. Важно лишь одно: чтобы'
редкостный январский цветок был взращен и взлелеян в
укромном заповеднике, прежде чем выставлять его напоказ широкой
и холодной толпе. Мы не собираемся предвосхищать
будущность нашего молодого художника. Она могла бы быть, а при
известных обстоятельствах стала бы блестящей. Однако в его
воспитании, по-видимому, столько упущено, столько сделано
ошибок, что мы вынуждены предостеречь его учителя: впредь
ради скороспелой и бесполезной славы не стоит жертвовать
более поздним, но длительным признанием. Все преимущества
его ученика — это только преимущества его таланта, все его
недостатки—следствия неправильного воспитания. Если к
числу его достоинств мы должны отнести способность уверенно
схватить мгновение на лету и перевести его на язык звуков,,
чаще всего удачное сплетение и распутывание тематического
материала, нередко поражающую своей неожиданностью
пластичность голосоведения, то из его недостатков прежде всего
обращает на себя внимание мутное однообразие
эмоционального строя, нудный, упорно страдальческий характер мелодий*
бесконечное нанизывание минорных тональностей. Он
показывает нам образы, но они бледные и заплаканные. Этого быть
не должно. Если это до некоторой степени и связано со всем
направлением недавнего музыкального прошлого, то это не
должно мешать молодости ощущать цветущую и сильную
жизнь. Не давайте Бетховена слишком рано в руки
начинающим, питайте и укрепляйте их свежим жизнерадостным
Моцартом! Конечно1, бывают натуры, которые, казалось бы,
устремлены против обычного хода развития, но существуют и вечные
законы природы, согласно которым опрокинутый факел,
который раньше светил своему носителю, теперь пожирает его
своим пламенем.
Причины этих недостатков искать недалеко. Наш милый
художник, человек безусловно умный и музыкальный, должен
прекрасно чувствовать, что ему еще многого не хватает,
собственно говоря, даже настоящего умения играть на своем
инструменте, спокойной беглости, вырабатываемой хорошей школой,
115
уверенной легкости, приобретаемой лишь постоянным
упражнением, а главное полнокровного звука, которым никто от
рождения не обладает. Если мы в этом не ошиблись, то он, быть
может, с годами поблагодарит нас за то, что мы так строго
раскрыли перед ним будущее, с которым шутить не следует. Если
же мы ошиблись, то мы и в таком случае должны признать,
что в его лице погиб бы талант, достойный большего.
И в том и в другом случае пусть он вспомнит мудрое
древнее предание! Аполлон общался с прекрасным из смертных.
Когда же тот, подрастая, становился все более богоподобным,
духом и телом все более похожим на бога юности — тут-то- он
прежде времени и открыл людям свою тайну. Бог же,
разгневавшись на это, ему больше не являлся, и юноша, потрясенный
горем, не отрываясь смотрел в глаза Солнцу, своему далекому
возлюбленному, пока не умер. — Так не показывай же светской
черни своих божественных даров, пока этого не приказали
небожители, которые тебе их отпустили и которые тобою
Дорожат. Для художника, для прекрасного из смертных греческий
бог превращается в Фантасоса *2.
Эвсеб.
АНРИ ВЬЕТАН И ЛУИ ЛАКОМБ
Случайное сочетание двух очень молодых французов,
которые встретились на своих путях3. Tout genre est bon, exupte le
genre ennuyeux**,— таков и их жанр. Если судить об их
достижениях по успеху, то достижения эти — самые неслыханные.
Перед началом — аплодисменты, в середине — снова и снова
аплодисменты, в конце, во время тутти, — вызовы Анри, и все
это в зале лейпцигского Гевандхауза.
Правда, дюжина аплодирующих французов — это уже нечто,
и притом большее, чем целый зал уснувших от восторга
немецких бетховенцев. У тех аплодирует каждый нерв с головы до
пят, порывы восхищения ударяют друг о друга, как тарелки.
Немцы же перед концом подвергают краткому обзору все
музыкальные эпохи и бегло, хотя и основательно, их
сравнивают — так возникает то меццо-форте, которым мы всегда
отличались.
Иначе было в тот вечер. Кто не порадуется пламенеющей
от восторга публике, тем более, что мальчики это заслужили.
Тот, кто представляется свету, не должен быть ни слишком
молодым, ни слишком старым, но цветущим и не только кое-
где, а целиком по всему стволу. Этого Анри можно спокойно
слушать, закрыв глаза. Его игра благоухает и в то же время
* О дальнейшей судьбе многообещающего в то время молодого человека
нам никаких подробностей узнать не удалось. [Ш., 1852]
** Все жанры хороши за исключением жанра скучного (франц.).
116
сияет, как цветок. Он добивается своего полностью и
мастерски, от начала и до конца.
Говоря о Вьетане, нельзя не вспомнить о Паганини. Когда я
впервые слушал Паганини, я думал, что он начнет с
неслыханной силой звука. И вот он начал —но до чего звук его был
нежным и тихим. Когда же он легко и еле заметно начал
закидывать в толпу свои магнетические цепи, люди стали невольно
покачиваться. И вот волшебные кольца заплетались все больше
и больше; люди все теснее жались друг к другу, пока они
постепенно не слились в едином порыве, как бы
загипнотизированные художником. Другие волшебники пользуются в своем
искусстве иными формулами. У Вьетана это не отдельные
запоминающиеся красоты и не постепенное сжатие, как у
Паганини, или безмерное расширение, как у других высоких мастеров.
Здесь мы находимся от первого и до последнего звука как в
заколдованном кругу, очерченном вокруг нас так, что ни начала
его ни конца нам уже не найти4.
Что же касается Луи, то этого маленького, пылкого
пианиста, обладающего большой смелостью- и большим талантом, я
приемлю весьма охотно. Правда, более зрелый художник не
натягивал бы до предела ни физических ни психических струн,
хотя бы потому, что они от этого рвутся. Но что же тут такого,
когда под пальцами нашего крошки нежный а-то1Гный
концерт5 превращается в настоящего Orlando furioso*, вокруг
которого люди, как известно, падали замертво, когда он стучал
зубами? Недолюбливаю я эти приятные маленькие часы с
музыкой. Переизбыток же силы со временем сам пойдет на
убыль. — В герцовских вариациях6, которые хотят убедить нас,
что они самые трудные и значительные, обнаруживалось то, что
им действительно свойственно: это было блестяще, цветисто,
шикарно, как того требует это сочинение и как это любит
публика.— Так вот, хотя мы отнюдь не собираемся отрицать, что
обе пьесы были тщательно разучены, к тому же исполнены во
французском духе и с тем чувством собственного достоинства,
которое вызывает успех, мы все же обращаемся с просьбой к
его учителю, чтобы тот не слишком долго его задерживал на
отдельных, к тому же плохих пьесах. Это убивает молодое
чутье и вредит общей культуре, это было ясно видно по его
аккомпанементу скрипке, который до странности резко
отличался от остальной его игры. Но мы ведь все знаем, что по
аккомпанементу можно отлично судить о том, насколько в
исполнителе разбужено и воспитано музыкальное чутье.
Итак, доброго пути, дорогие малыши, и, если вы сегодня
меня не совсем поняли, то при случае переспросите меня через
несколько лет! **
Ф—н
* Неистовый Орландо {итал.).
** Это была первая заграничная поездка двух молодых французов.
А. Вьетан достиг с тех пор еще большей славы. [Ш., 1852]
117
* 12. АНГЛИЙСКАЯ МАТРОССКАЯ ПЕСНЯ
(«THE SUN SINKS» *)
Музыка мад. Малибран
Эта песня прославилась в Германии, и многие не могут ее
забыть благодаря своеобразному исполнению богато одаренной
певицы Франчиллы Пиксис. На прощание она пела о разлуке1.
Пусть горечь, звучащая в песне, никак не коснется ее жизни! —
Но и помимо этих обстоятельств эта песня все равно остается
очаровательной и трогательной. В ней» есть нечто волнующееся,
подлинно музыкальное. Так ясно чувствуется «Wide and
silvered sea» ** и вечер, распростертый над морем, и корабль в
ожидании с поднятыми парусами. Однако это — не грубая
мазня, а картина души, пробуждающая в ней и другие.
* 13. И. БРАНДЛЬ. «ГЕРО», МОНОДРАМА С ХОРАМИ
И ФОРТЕПИАНО. Соч. 57
Мне снилось, почтенная публика, что я смотрю из окна на
веселую ярмарку в Эслингене. Развевающиеся ленты, ларьки с
пряниками, высовывающиеся торговки, обезьяны на верблюдах,
барабан и флейта Папагено — от всей этой сутолоки пестрело в
глазах. Больше всего занимал меня один старикашка с
большой картиной на шесте, который разглагольствовал перед
сельскими ребятишками, одного же из них, сильно дергавшего его
сзади, схватил за шиворот и тут же выпорол. Но это было
только присказкой. Ибо дальше он со всей серьезностью
приступил к делу на своем зарейнском диалекте, который я
перевожу на литературный немецкий язык: «Посмотрите, здесь на
большой, красивой картине—редкостная любовная история,
которая плохо кончилась, — посмотрите здесь на мамзель в
красном платье, зовут ее Геро, смотрите, как старый папаша
во фраке на нее изо всей мочи кидается, бьет ее и хочет
заточить ее в башню, стоящую на воде, за то, что девица любит
другого, кого любить ей нельзя — все очень хорошо
представлено и совсем натурально. А теперь посмотрите здесь, как она
сидит на башне, что в воде, и чулки штопает, и горюет, что не
смеет любить того, кого хочет». Так монотонно продолжалось
до самого конца, когда, с толикой влаги на оедой щеке, он
воскликнул: «Так потонули Геро и Леандрос, которые очень
любили друг друга». Ярмарка была явно растрогана.
Когда я проснулся, я, странным образом, держал в руке
32-ю, последнюю страницу.
Ф—н
* «Солнце заходит» (англ.).
** «Широкое серебристое море» (англ.).
118
* 14. [И.] МОШЕЛЕС. ЭКСПРОМТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО.
Соч. 89
Драгоценная безделушка, которая (за исключением начала)
кажется еще и непритязательной. Создается впечатление, будто
Мошелес задумал этюд, а затем придал ему теперешнюю
форму, вставив в него интермеццо. Прерывающая сочинение
средняя часть, проникновенная, почти в стиле Керубини, и есть
собственно экспромт. Хотелось бы, чтобы бас появлялся не на
восьмой восьмушке, а кое-где уже на седьмой с обозначением
Л, благодаря чему контраст с верхним голосом проявлялся бы
еще живее. — Умеренное, экономное использование средств
повсюду позволяет узнать легкую искусную руку мастера. — По
поводу квинтовых последовательностей, возникающих в
результате обыгрывания аккордов, как, например, в четвертом такте
на странице пятой, ученые пока расходятся во мнениях.
Указанное место ни в коей мере не оскорбляет слух; однако у
мастера это всегда бросается в глаза.
Отбросив устарелую концовку, в которой рецензенты
восхваляют оформление и превосходную бумагу, мы позволим себе
хвалить иногда работу издателя в целом. Господин Кистнер
заслуживает этого в первую очередь. Он умеет одеть издаваемые
у него произведения продуманно и благородно, — не осыпая их
при этом с головы до ног цветами, так что композиторам,
которые в этом отношении подобны девицам, хочется по всей
форме пожелать счастья, когда их вводят в свет в таком
подвенечном наряде. Для немцев, как раз в этом отношении всегда
отстававших, отмеченное качество особенно ценно, тем более
что неукоснительная точность, всегда составлявшая наше
преимущество перед иностранцами, остается при нас. Нашу эпоху
упрекают в пренебрежительном отношении к сочинениям
старых мастеров; к сожалению, не исключено, что отнести это
нужно отчасти за счет весьма неопрятных старых изданий, от
которых глаз уже отвык. С другой стороны, отрадно, что
начинания нашего издателя встречают у публики поддержку,
которая позволяет ему подобающим образом оформлять издания,
не повышая при этом цены на них. Господин Кистнер достиг
здесь таких высот, что мы охотно подпишемся под любым
хвалебным отзывом *.
2
* 15. [К ЧИТАТЕЛЯМ «NEUE ZEITSCHRIFT»]
За короткое время по отношению к нам было проявлено
столько участия, как добровольного, так и нами же вызванного,
что мы обнаружили недостаток не в людях, всей душою стре-
119
мящихся к деятельности на пользу правого дела, а лишь в
поводах к осуществлению этого желания. Начало положено.
Завершение будет зависеть от нашего упорства.
По случаю закончившегося в настоящем номере обзора
переписки между Гете и Цельтером1, следует заметить, что мы
вовсе не собирались занимать наших товарищей по искусству
только тем, что их непосредственно касается в области музыки,
но и намерены были давать то, что могло бы их заинтересовать
как людей искусства вообще, доставляя им радость и духовную
пищу. Мы полагаем, что живописец может чему-нибудь
научиться от бетховенской симфонии с таким же успехом, как
музыкант чему-нибудь другому от художественного
произведения, созданного Гете.
Правда, оказывается не так-то легко распределять
предлагаемый читателю обширнейший материал в правильных
соотношениях, выделять из него самое существенное и, как в
государстве, отводить каждому свое менее или более ответственное
место. Однако всякий человек, справедливый в своих
требованиях, согласится с нами, что в любом начинании на первых
порах не всегда бывает возможно ответить на все запросы
подобного рода.
Нас не должно смущать сомнение в том, всеми ли будут
одобрены наши взгляды в том виде, в каком они были
высказаны нами (правда, не полно) в уже вышедших в свет номерах
нашего журнала. Мы едва ли вправе требовать одобрения от
каждого. Если нам безусловно и предстоит столкнуться с
неприязнью и упрямством, то, с другой стороны, это с лихвою
возместится деятельностью тех новых Духовных сил, руководить
которыми достаточно лишь издалека, чтобы они могли
доставить искусству новые радости и сообщить ему новое
достоинство.
Пусть же предлагаемые вам страницы будут первыми
каплями росы того утра, ранние часы которого хотя еще и не
наступили, но с которыми мы уже сейчас хотим вас поздравить,
ибо в них залог недалекого светлого будущего. Шлем свою
благодарность и приветствия всем тем, кто, торопя наступление
этого утра, столь радостно пошли нам навстречу и вступили в
наше содружество.
Л[ейпциг] 1 мая [1834 г.]
Издатеш
120
16. И. В. КАЛЛИВОДА
Первая увертюра (d-moll). Соч. 38
Вторая увертюра (F-dur). Соч. 44
Для современности характерны ее партии. Подобно
политическим, музыкальные партии можно разделить на либералов,
умеренных и реакционеров, иначе говоря, на романтиков,
модернистов и классиков. Справа сидят старики,
контрапунктисты, противники хроматизма, слева — юнцы, фригийские
колпаки, сокрушители формы, дерзновенные гении, из которых бетхо-
венцы выделяются как особый класс. На золотой середине
смешались колеблющиеся, молодые и старые. Сюда относится
большинство произведений сегодняшнего Дня, мимолетные
создания, рождаемые и уничтожаемые текущим моментом.
Калливода принадлежит к умеренным, любезным, умным,
временами совсем будничным. Его симфонии это — молнии,
невзначай скользнувшие по римским и греческим развалинам.
В остальном он, как республиканец, — не страшен.
Как вступления к тем или иным публичным собраниям
увертюры эти, пожалуй, и хороши. В таких случаях публике
хочется думать как можно меньше. Перед началом представления
или самого концерта всегда нужно еще о чем-то договориться,
и тогда музыкальные общие места, легкие, приятно
расположенные обороты всегда уместны.
Первая скрипичная тема первой увертюры — из тех, что у
Маршнера, Райсигера или Вольфрама бывают навеяны
Шпором и Вебером. Вторая в обычной мажорной тональности на
терцию вверх — не нова, но очень певуча. Средняя часть,
построенная на мотиве из вступительного Adagio, хорошо
включается в целое, но, что касается контрапунктических
моментов — не особенно высокого качества. Слишком резко
обрывается каденция при повторении первой скрипичной темы. В
транспонированном переходе ко второй — все то же, что и
раньше. Напряжение, достигаемое при помощи piu mosso.
Заключение в мажоре.
Вторая увертюра — родная сестра первой, но, вообще
говоря, достаточно ласково на нас смотрит своими итальянскими
глазками. Сказав о первой, мне мало что остается сказать о
второй. Можно лишь отметить более красивую вторую тему.
Секстоли в Adagio —не секстоли, а триоли. Каждый раз
приходится обращать внимание на эту разницу!
12
121
17. ПСИХОМЕТР
Надо полагать, что лишь очень немногие из читателей не
знают, что такое психометр Порциуса *, хотя он и остается
загадкой. Не следует только думать, что это какое-нибудь жалкое
существо с рыбьим темпераментом, которое бы сильно
сморщивалось при соприкосновении с сангвиником; как утверждает
сам изобретатель, это подлинно научным путем созданная
машина, которая без лишних слов и в тончайших оттенках
показывает натуру rf характер испытуемого. Если бы за такой
машиной признали право голоса, она так же быстро была бы
сокрушена человечеством, как и она сама многое сокрушила
бы. Ибо человек вовсе не хочет знать о тех удивительных
свойствах, которыми он отличается и которые в нем заложены.
Удивленный, озадаченный ушел я от измерителя души и
пока спускался с лестницы размышлял о многом. Уже одно то
хорошо в нем, что по крайней мере хоть часок сам о себе
подумаешь. Наряду со многими печальными истинами, которые мне
были высказаны, я выслушал и кое-что явно лестное для меня.
Человек склонен принимать себя за того, за кого его
принимают. Не скрою, что машина назвала меня изобретательным.
Музыка слишком близка мне, чтобы я мог не подумать, как
применить это качество именно к ней. При этой мысли вся
кровь ударила мне в голову.
Прежде всего я подумал об издателях. Слов не нахожу,
чтобы обратить их внимание на все величие, заключенное в
реализации такого изобретения. Представьте себе, например, что
юный композитор врывается в дверь. Тогда торговец спокойно
вкладывает рукопись в «композиторский» измеритель души и,
основываясь на том, что магнитная стрелка осталась
незыблемой, отмечает в отношении молодого фантаста: «Неспособность
к рефлексии», и тот ни капельки ни обижается. Затем я думал
о многом и о мире вообще. Мимо меня стали проноситься
целые вереницы будущих весен, вроде тех, что бывают на Уране,
а там каждая весна длится 21 год, 134 дня и 12 часов. Мне
стало ясно, что в таком случае ни один моцартовский гений не
пропадет в купеческой колыбели, что в таком случае все
музыкальные Калиостро будут сразу изгнаны из этого мира — на
храмах Аполлона стояли бы статуи Фемиды без весов и меча,
на алтарях Фемиды приносили бы жертвы обнаженные
Афродиты 1 — поистине так бы оно и было! Художники и критики
несли бы радугу мира, под которой проплывало бы искусство,
достигшее высшего счастья.
Долго я экспериментировал, прикидывал, отвергал. Удачные
опыты снова множились. Подобно Николаусу Маргграфу **,
* Это было пока еще не объясненное изобретение некоего М. Порциуса,
о котором в то время в Лейпциге много говорили. [Ш., 1852]
** В «Комете» Жан Поля. [Ш.]
122
увидавшему блеск алмаза среди углей, я часто в глубине души
восклицал: «Неужто же господь столь милостив ко мне,
грешнику и собаке» — короче говоря, алмаз лежал передо мной и
искрился.
Каждому ясно, как легко при таких обстоятельствах писать
в газетах. Свет любит авторитеты (тем хуже для обоих) и
истины (тем лучше для всех). Но вот истине могло бы придти в
голову прощупать эти авторитеты, и тогда легко обнаружились
бы вещи, весьма удивительные.
По поводу сочинений возникает много вопросов весьма
различных— талантливы ли они, чувствуется ли в них школа,
свидетельствуют ли они о сознательности автора, наконец, к какой
именно партии следует такового причислить.
Естественно, что психометр ставит, например, такие
вопросы:
I. Обнаруживает ли композитор выдающийся талант?
II. Прошел ли он школу?
III. Следовало ли ему придержать свое сочинение?
IV. К кому он ближе:
1) к классикам,
2) к представителям золотой середины или
3) к романтикам?
Ответы же таковы:
a) нет (безусловно- отрицательно)
b) не знаю (относительно отрицательно)
c) думаю (относительно утвердительно)
d) конечно (безусловно утвердительно).
Льщу себя надеждой, что выражаюсь ясно. Пусть же
каждый на «композиторском» психометре безмятежно и
основательно проверит нижеследующие достижения.
При проверке первого из названных ниже сочинений на
вопрос I последовал ответ d, на II — d, на III — а, на IV
возникло колебание между 1 и 3. С какой радостью я обнаружил,
что мое собственное суждение подтвердилось в следующих
признаках, из которых я привожу некоторые, а именно:
пианистически красиво, чисто сработано, толково, богато по форме и
содержанию, несколько по-шпоровски сдержанно, остроумно,
благородно, достойно самой горячей рекомендации. К признаку
«сдержанно» позволю себе добавить, что психометр, вероятно,
имеет в виду сурдины, которые композитор накладывает на
свои мелодии. Это не значит, что отсутствует юношеский
восторг, его громкий вызов, но кажется, словно автор боится, как
бы свет не признал его голос еще недостаточно полным —
поэтому в отдельных местах, где он смело пускается в отдаленные
тональности, чувствуется какой-то страх перед тем, удастся ли
ему вовремя из этого выпутаться. Это обозначает не столько
ошибку таланта, сколько черту характера.
123
О проверке второго сочинения я коротко сообщаю
следующее. На вопрос I последовал ответ — в, на II — d, на III — в.
На IV молчание. Высказывания психометра можно было бы
обобщить следующим образом. Вальсы бывают головные,
ножные, сердечные. Первые пишут, зевая, в халате, когда внизу
проносятся на бал коляски, не захватившие с собой автора:
пишутся они обычно в С или F-dur. Вторые — штраусовские, в
них все плывет и скачет — локон, глаз, губы, рука, нога.
Зритель вовлекается в толпу танцоров, музыканты совсем не
ворчат, но весело дуют себе во всю, написанные танцы словно
сами танцуют вместе с танцующими; тональности их—D-dur,
A-dur. Последний раздел составляют Des и As-dur'Hbie
мечтатели, их отец, видимо, Sehnsuchtswalzer2. Это — вечерние
цветы и образы сумерек, это — воспоминания об ушедшей юности
и тысячах других милых вещах. Нижеприведенные относятся
скорее к первому жанру, чем к последнему, но никак не ко
второму.
После этого я предложил 8 романсам и всем Adagio лечь в
машину. С самыми добрыми намерениями и дабы испытать их
в излюбленной в наше время игре: вопросы—ответы, я вставил
органную пьесу, как матрону в толпу полишинелей.
Великолепнейшие результаты не обманули моих ожиданий.
За вопросом I последовало а, за II — с, за III — с, за IV —
решительное 1. Психометр продолжал довольно туманно:
«Добро можно творить в тиши, однако не всему в целом следует
придавать значение; этим можно лишить места лучшее; средние
голоса необходимы, но если они будут звучать слишком сильно,
мелодия как таковая, несомненно, пропадет (это, вероятно,
имеет более глубокий смысл и относится не только к средним
голосам в музыкальном произведении). — И все же добрая воля,
даже не поддерживаемая силой таланта, менее вредна
искусству, чем талантливая заносчивость. Жало прощается пчеле
ради ее хоботка, собирающего мед, но оно не прощается осе,
не имеющей хоботка. Между тем кругом порхает некий
средний вид, не особенно трудолюбивый и не особенно вредный.
Эдаких не стоит сразу же давить, если только они назойливо
не вертятся перед глазами».
Когда я вложил названную ниже Allegresse, все деятельно
зашевелилось — с к вопросу I, d ко II, а к III, на IV
последовал ответ 2. Но тут я услыхал следующее: «Едва ли стоит
переводить немецкое Frohlichkeit * такими словами, как gladness,
giocondita, l'allegresse. Если пьесу исполнить, можно было бы
сказать: это шустрая, веселая штучка. Порхай же на здоровье,
бабочка-девица, ты потеряла бы свой цвет, если б тебя
схватили слишком грубо».
* Веселость (нем.), далее то же по-англ., итал., франц.
124
Теперь машина слегка утомилась. Но когда я вложил в нее
танцы, она явно забеспокоилась. На I ответствовало с, на II —
а, на III — d, на IV сильно откликнулось 3. Узнал я
следующее: «Он много переживает, но чаще всего невпопад —
несмотря на отдельные лунные вспышки, он бродит ощупью во мраке,
кое-где и добывает себе цветочек, но также и солому — многое
пришлось бы принять за явную шутку, если бы из целого не
вытекало, что оно задумано всерьез; он целит хорошо, но (как
неопытные стрелки) жмурится при спуске; так как ему еще
предстоит поучиться, то пусть его ободрит сознание того, что
психометр предпочитает этих вкривь и вкось скачущих
кобольдов дюжине ученых подслеповатых глаз и острых носов».
Итак, мне остается только переписать титулы произведений,
равно как и мой собственный —
К. К р е г е н. 3 полонеза для ф-п. в 4 руки, соч. 9.
К. Э. X а р т к н о х. 6 больших вальсов для ф-п., соч. 9.
К. Гайслер. 8 романсов и Adagio для фисгармонии или
органа, соч. 11.
Ю. Отто. L'Allegresse. Рондолетто для ф-п. в 4 руки,
соч. 19.
Э. Гюнц. Танцы для фортепиано3.
Ф—н
18. ИЗ КРИТИЧЕСКИХ КНИЖЕК ДАВИДСБЮНДЛЕРОВ *
I. ЭТЮДЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И. Н. ГУММЕЛЯ.
Соч. 125
1
Ясность, покой, грация — признаки античных творений
искусства, но также и моцартовской школы. Грек даже своего
Юпитера-громовержца рисовал ясноликим, но таков и Моцарт,
мечущий молнии.
Истинный мастер воспитывает не учеников, а опять-таки
мастеров. Я всегда преклонялся перед созданиями этого
мастера, деятельность которого была столь обильной и столь
широкой. Если этот светлый склад ума и творчества будет когда-
либо оттенен другим, более бесформенным и мистическим
согласно духу времени, отбрасывающему свою тень и на
искусство, то все же да не будут преданы забвению те счастливые
времена, когда Моцарт правил искусством. До основания по-
* Предполагается, что давидсбюндлеры завели себе книжку, в которую
они заносили свои мысли по поводу появлявшихся в печати новых
произведений и пр. [Ш., 1852]
125
трясенное Бетховеном, оно впервые заколебалось, не без
согласия, быть может, еще державного предшественника, того же
Вольфганга Амадеуса. Позднее на престол вступили Карл
Мария фон Вебер и несколько чужеземцев. Но когда и эти
сложили свою власть, все большее и большее смятение стало
охватывать народы, которые отныне ворочаются и потягиваются,
погруженные в беспокойный классико-романтический полусон.
Художникам уже немолодым нередко советовали, чтобы они,
достигнув кульминационной точки, продолжали творить
безымянно, ибо то, что молодым, еще неизвестным именам и можно
было бы зачесть как движение вперед, будет рассматриваться
у стариков как ослабление их художественной натуры. Если
таким путем и можно было бы добиться того, чтобы отныне
никто больше не заблуждался, соблазнившись звучным именем,
бывшим в свое время у всех на устах, то все же любое
заявление критика, якобы уловившего эту кульминационную точку,
будет всегда случайным, даже дерзким (какие он имел бы
основания ожидать от Бетховена после седьмой симфонии
восьмую, а после восьмой еще и девятую?), — художник же, если
только он вообще стремится вперед и если его стремление
благородно, будет всегда считать свое последнее, только что им
законченное произведение этой кульминационной точкой1.
Было бы несправедливо ставить настоящее сочинение
маститого мастера в один ряд с его же сочинениями от 60-го по
80-е, т. е. сравнивать его по красоте с теми произведениями
искусства, в которых гармонически участвовали все силы его
дарования. Правда, это — все тот же поток, по-прежнему
величественный и внушительный, но как бы еще шире
растекающийся, впадающий в гостеприимное море там, где горы уже
снижаются и берега уже не сковывают его бега в своих цветущих
объятиях. И все же, почтительно следя за его течением,
помните о том, сколь беззаветно он некогда принимал в свое лоно
внешний мир и отображал его!
При стремительной быстроте, с какой развивается музыка,
не в пример любому другому искусству, легко может случиться,
что даже лучшее не переживет и десятилетия в устах своих
современников. Когда многие неблагодарные молодые таланты
забывают о том, что они лишь достраивают вершину здания,
основание которого заложено не ими, то это — проявление той
нетерпимости, которую испытывало и впредь всегда будет
испытывать каждое новое молодое поколение.
Хотя я и молод, все же я в этом отношении не хотел бы
иметь ничего общего и делить ответственность с так
называемым Флорестаном, при всей моей любви к нему. Флорестан,
если бы ты был великим королем и однажды проиграл
сражение, а твои подданные срывали бы с твоих плеч порфиру, разве
ты гневно не сказал бы им: «О, неблагодарные!»2
Эвсебий
126
Насмешил же ты меня, прекраснодушный Эвсебий! И если
вы переведете назад все ваши часовые стрелки, солнце будет
восходить по-прежнему.
Как я ни преклоняюсь перед твоим желанием отводить
каждому явлению свое место, я все же считаю тебя скрытым
романтиком— только лишь с некоторой долей страха перед
именами, который время, конечно, сметет.
Право же, милейший, если бы все шло так, как этого
хочется иным, мы ведь скоро вернулись бы к тому золотому
времени, когда давали по уху за большой палец, поставленный на
черную клавишу. Я вовсе и не собираюсь вдаваться в вопрос о
том, насколько ложны некоторые твои фантазии, но прямо
перехожу к самому произведению.
Конечно, метода и школьная манера скорее продвигают
вперед, но делают это односторонне и мелочно. Ох! Сколько же
у вас, у преподавателей, грехов на душе! Со всей вашей ложье-
ровщиной3 вы насильственно извлекаете бутоны из их
оболочки! Подобно соколиным охотникам, выщипываете вы перья у
ваших учеников, чтобы они не взлетели слишком высоко. Вам
следует' быть дорожными столбами, надежно указующими им
дорогу, а не самим все время бежать рядом с ними!
Уже тогда, когда я имел дело с фортепианной школой Гум-
меля (вам ведь известно, давидсбюндлеры, что мне каждый раз
приходилось прибегать к чудовищным грузоподъемным
приспособлениям, так как нотный пульт ее не выдерживал), во мне
зародилось сомнение в том, что он, отличнейший виртуоз своего
времени, будет в такой же мере и педагогом для будущего.
Наряду со многими полезными вещами, в этой школе было
столько бесцельного и нагроможденного, наряду с хорошими
указаниями столько тормозов для развития, что меня по
настоящему испугало как издание Хаслингера, так и мое собственное.
То, что примеры состояли из сплошных «гуммелиан», мне
казалось извинительным, ибо каждый лучше всего знает
собственные вещи и тем скорее и удачней может из них выбрать.
Настоящая же причина, заключавшаяся в том, что Гуммель,
пожалуй, и не поспевает за нынешним быстро текущим
временем, мне в голову не приходила. Будущее и самые эти этюды
открыли мне глаза.
Этюды, милые бюндлеры, суть этюды, т. е. на них следует
учиться тому, чего вы раньше не умели.
Достославнейший Бах, который знал в миллион раз больше,
чем мы^ предполагаем, начал писать для учащихся, но сразу же
с такой мощью и с таким исполинским размахом, что лишь
спустя много лет через отдельных лиц, ушедших тем временем
вперед собственными путями, он стал известен миру как
основатель строгой, ко в корне здоровой школы.
127
Его сын, Эммануил, унаследовал прекрасные способности.
Он оттачивал, утончал, подвел мелодию, кантилену под
господствовавшую в то время гармонически-фигурационную основу,
но как творческий музыкант не мог сравняться со своим отцом,
«будто карлик, попавший к великанам», как однажды
выразился Мендельсон4.
За ним последовали Клементи и Крамер. Первый, из-за
своего контрапунктического, часто холодного искусства, не
нашел широкого доступа к молодым сердцам. Предпочтение было
оказано лучезарной ясности этюдной музыки Крамера.
Позднее за отдельными школами хоть и признавали те или
иные специальные достоинства, но ведущей с точки зрения ее
общеобразовательного значения в отношении и пальцев и
головы считалась только крамеровская.
Теперь захотелось что-то дать и чувству. Поняли, что
(духовное) однообразие этих этюдов часто приносило вред, поняли
(слава богу!) и то, что нет нужды разучивать их подряд, один
за другим, как ходят гуси, чтобы отметить успехи, хотя и те же
самые.
Утонченный Мошелес думал тогда об интересных,
характерных пьесах, которые дали бы пищу и фантазии.
Тут выступает Гуммель. Эвсебий, я должен прямо сказать,
что эти этюды устарели на несколько лет5. Станешь ли ты,
имея в изобилии спелые, золотистые плоды, давать просящему
ребенку горькие корешки? Лучше поведи его в богатый мир
прежних творений композитора, чтобы напоить его из
источника духа и фантазии, цветисто переливающихся там тысячами
оттенков.
Кто посмеет отрицать, что большинство этих этюдов
мастерски задуманы, что в каждом запечатлен определенный
образ, что все они, наконец, возникли из того чувства уверенности
и благополучия, которое приобретается мастером за время
долгой и хорошо прожитой жизни? Но в них полностью
отсутствует то, чем мы можем увлечь юность настолько, чтобы красота
произведения заставила ее забыть о трудностях его усвоения —
в них нет очарования фантазии6. .
Ибо поверь мне, Эвсебий, если (выражаясь на твоем
образном языке) теория — верное, но безжизненное зеркало-, молча
отражающее истину, но остающееся мертвым без оживляющего
ее объекта, то я называю фантазию ясновидящей с
завязанными глазами, от которой ничего не скрыто и которая в своих
ошибках часто кажется наиболее очаровательной. — Что вы на
это скажете, майстер?
Флорестан
128
Юноши, вы оба ошибаетесь! Прославленное имя сделало
одного слишком робким, другого — несговорчивым. А что
сказано в «Западно-восточном диване»?
Важно ль, как я именую,
Что растет в молчаньи строгом,
Я люблю красу благую,
Исходящую от бога*7.
Раро
II. «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ» ГЕНРИХА ДОРНА [соч. 10]
Так что же говорит гиацинт? Он говорит: «Моя жизнь была
так же прекрасна, как мой конец, ибо прекраснейший из богов
меня любил и меня убил. Но из пепла возник цветок, который
готов тебя утешить»8.
А нарцисс? Он говорит: «Помни обо мне, чтобы ты не
возгордился своей красотой. Ибо когда я впервые увидел свой
образ в ручье, я уже не мог забыть собственной прелести, как бы
ни любила меня Эхо, мною отвергнутая. Поэтому боги
превратили меня в этот бледный цветок, но я прекрасен и горд».
Фиалка же рассказала: «Была прелестная лунная майская
ночь, подлетела ночная бабочка, сказала: «Поцелуй меня!» Но
я втянула благовонное дыхание в глубину своего венчика, и
она сочла меня мертвой. Появился шаловливый ветерок,
сказал: «Ты видишь, я всюду тебя нахожу, приди же в мои
объятия и выйди на божий свет — там внизу тебя никто не видит».
Когда я ответила: «Я спать хочу», он улетел и сказал: «Ты
сонное, упрямое создание, тогда я поиграю с лилией». — Скатилась
на меня толстая росинка, сказала: «Уж очень, наверное, удобно
лежать у тебя на лоне при свете луны». Но я покачала
головой, так, что она упала и разлилась. Когда же издали подполз
ко мне и лунный луч, я попросила жимолость меня спрятать;
высокая лилия сказала мне: «Фу, стыдись, смотри, как я
красуюсь, как меня целуют бабочка, ветерок, росинка и лунный
свет, и как люди передо мной останавливаются и называют
меня «красивой» — тебя же в твоей норке никто не замечает».
Отвечала я: «Оставь меня, высокая лилия!» — ибо рано утром
ко мне пришел робкий прекрасный юноша и так мило сказал:
«Как ты хороша — но подожди до вечера, я сорву тебя для
нее». Лилия сказала: «Тебя он хотел сорвать? Какая ты за-
* Перевод С. Шервинского.
5 Р. Шуман, т. I 129
знайка — он это мне обещал». Только я собралась ей ответить:
«Ты лжешь, высокая лилия», как появился юноша с девушкой
под ручку. Он наклонился ко мне, сказал: «Как ты похожа на
нее» — и сорвал меня; но сорванная, я так охотно лежу у нее
на груди».
Вот на какие мысли вы, цветы, могли бы меня натолкнуть^
даже если бы вас не взрастил тот человек, который мне,
пытавшемуся вскарабкаться на вершину, первый подал руку9.
А когда я начал в себе сомневаться, он поднял меня выше для?
того, чтобы мне меньше была видна пошлая людская суета и
чтобы я больше мог лицезреть прозрачный эфир чистого
искусства.
Если тебе, дорогой учитель, на севере, где ты ныне
обретаешься, попадут в руки эти странички, то пусть они напомнят
тебе о прекрасном и далеком прошлом10.
Эвсебий
Два или три подаренных цветка красноречивей, чем целаяг
корзина. Поэтому я устранил бы слово «букет». Зачем же
сажать столь немецкие цветы в надушенные французские
горшки? Такое заглавие, как «Нарцисс, фиалка и гиацинт — три
музыкальных стихотворения» тоже звучит и звучит неплохо.—
Я отлично знаю, как мало значит введение немецких титульных
листов, но пусть они достигнут хотя бы того, чего добился
Наполеон запретом «Германии» г-жи де Сталь, гласившим: эта
книга — не французская.
Возможно, что для глухого цветок благоухает так же, как
звук звучит для слепого. Язык, подлежавший переводу, кажется
в данном случае настолько родственным и тонким по своему
духовному складу, что не может возникнуть и мысли о какой-
нибудь мазне a la «Bataille de Ligny»* п. Вот почему и эти
картины отличаются от других звучащих картин, как живые цветы
от фарфоровых. Только в вышесказанном был опущен аромат
цветка, его дух.
Я говорил мало, но неплохо.
Флорестаю
*3
Чудная это вещь — звуковая живопись: одни ради кисти
забывают о предмете, другие—наоборот. Не будь г-н Дорн
(занимающий ныне в Риге пожизненную Должность церковного»
* В духе «Битвы при Линьи» (франц).
130
органиста) достаточно известен своими прежними отменными
работами, мы вправе были бы предполагать, что этот так
называемый «букет» — обычные излюбленные побрякушки, в ко-
торых самое лучшее (как в иные времена это, к сожалению,
часто бывало) —заглавная виньетка. Однако дело обстоит вовсе
не так. Независимо от большей или меньшей ценности
звукового живописания вообще, эти короткие, отрывистые пьесы (их
всего три) несут на'себе печать меткой характеристики. Пусть
уважаемый читатель и пианист сам в этом убедится.
№ 1. La narcisse. Allegretto (B-dur, размер 3/4) начинается
удачно найденной, свежей, бодрой темой, которая, после
беспорядочного движения в начале, наконец устремляется ввысь, а
затем снова идет по нисходящей. Так продолжается вплоть до
второго раздела. Здесь неприятно бросается в глаза внезапно
выскакивающая фигура (пусть даже и связанная с
предшествующим). Следующее затем движение, взятое из первой темы
(пожалуй, на менее звучных инструментах басы были бы
несколько невнятным бормотанием), crescendo, подымающееся до
forte, далее места, исполняемые fortissimo, где встречаются
вздохи на piano, наконец весьма рискованные скачки —
обратим внимание хотя бы на следующие:
— все это очень хорошо сочетается. Снова явственно слышится
первоначальный ритм. Тут идет место, на которое мы обратили
особое пристальное внимание:
Строго говоря, это не что иное, как секстаккорды,
окружаемые сверху и снизу, не что иное, как12:
7 б
3 —
as
5 6
7
3
g
5 6
— И Т. Д.
Мы спрашиваем, что получится со звуками е и d? И почему
последние два такта не согласуются с первым периодом? Все
же это место звучит неплохо, и на него тоже найдутся
любители (не станем их характеризовать). Честь тому, кто сумеет не
131 5*
только взять следующие затем децимы, но и как надлежит
выдержать их, хотя трудности (как и повсюду) отнюдь не
свалились с неба, а проистекают из самой сути дела. Впрочем, если
не считать упомянутых скачков, возврат в основную
тональность (B-dur) прост и ясен; первый раздел транспонирован как
обычно. Очень приятно звучит новое басовое сопровождение в
сдержанных, упрямо шествующих вниз трехчетвертных йотах,
как бы предсказывая близкий конец. Целое заканчивается не-
сколько неожиданно ударом правой руки через левую.
№ 2. La Violette i-. Andaniino (A-dur, размер 2Д) и т. д....
Вот вкратце, насколько позволяет место в этом журнале,
наши замечания. Мы также должны засвидетельствовать
уважаемому композитору, что он, благодаря подобного рода
сочинениям, вскоре получит доступ в салоны, а именно в такие, где
больше любят слушать, нежели говорить [...]13.
Rohr™
19. КОМПОЗИЦИИ И. К. КЕССЛЕРА
Нельзя судить о целой жизни по одному-единственному
поступку, ибо мгновение, грозящее опрокинуть целую систему,
часто можно объяснить и оправдать, исходя из целого.
Разрежьте бетховенскую симфонию, которой вы еще не знаете, и
посмотрите, может ли самая прекрасная, вырванная из целого
мысль сама по себе оказать на вас какое-либо воздействие.
Гораздо 'больше, чем в искусствах изобразительных, в которых
единичный торс может уже указать на руку мастера, в музыке
все — связь, целое, как в малом, так и в большом, как в
отдельном произведении, так и в целой жизни художника. Часто
. говорят — хотя это неправда и невозможно — будто Моцарту
достаточно было написать одного только «Дон Жуана» и он
уже был бы великим Моцартом. Конечно, он остался бы
автором «Дон Жуана», но далеко еще не был бы Моцартом.
Поэтому я с некоторой робостью высказываюсь о тех про-
) поведениях, предшественники которых мне не известны. Мне
всегда хочется что-нибудь узнать о школе композитора, о его
юношеских взглядах, о том, что служило ему примером, даже
о его привычках и житейских обстоятельствах — словом, о
человеке и художнике в целом, каковыми он до того себя
показал. К сожалению, по отношению <к композитору, о котором
здесь идет речь, мне это не доступно. Однако тот, кто
приступает к суждению о единичном, не обладая такими сведениями,
легко становится равнодушным и ограниченным. Я охотно при-
ним.аю на себя второй упрек; равнодушия с моей стороны
композитор может не опасаться, так как он четырьмя своими про-
* Фиалка {франц.).
132
изведениями *, мне известными, ничего кроме уважения
внушать ке можег.
Неохотно признаюсь, что оба более ранних произведения я
предпочитаю двум последующим, и вовсе не из-за их
содержательности пли более законченной формы, к которой композитор
и не стремился, а из-за настоящей изобретательности и
большей эмоциональной непосредственности. Я ке знаю, хорошо ли,
когда определенные образцы сбивают художника с того пути,
который он если и не открыл, то во всяком случае по-своему
проложил дальше. Но я знаю, насколько осторожно надо
напоминать молодым талантам о то;л, чтобы они сохраняли свою
самобытность, ибо иначе они всячески пытаются уклониться от
того, что служило им примером или вовсе не считаться с этим,
вследствие чего возникают еще большие препятствия для
естественного развития их творческих возможностей; однако в
данном случае проявилась поэтическая натура настолько сильная,
что она сама, без помощи извне, неминуемо сбросит те цепи,
которые обычно связывают одних художников с другими.
Таким образом, эти пьесы не что иное, как проявления сил,
заложенных в еще скованном духе, порывы гордости и в то же
время как бы гнева, выраженные к тому- же юношей, который,
видимо, полностью охвачен чувством преклонения перед своими
вождями: Бетховеном и Францем Шубертом. Если он делается
мягче, мечтательней, сразу же замечаешь, как он противится
этому1. Когда же он, наконец, берет себя в руки, то с ним
случается то же, что и с сильными юношами, которые считают
себя жестокими, в то время как на самом деле они были только
серьезными.
Я только что говорил, что обе более поздние вещи по своей
изобретательности уступают первым двум, — я хочу этим
сказать, что в последних больше уже открытого. Первое,
изобретательность — это открывание еще никогда не существовавшего,
второе же — нахождение уже существующего. Первое — дело
гения, разбрасывающего (как природа) "тысячи семян, второе —
признак таланта, который (как отдельный ком земли)
воспринимает семя и его перерабатывает, превращая его в единичное
живое образование. Если я, таким образом, в первых пьесах
находил больше эмоциональной непосредственности, то я все
же не назвал их безусловно естественными и зрелыми. В самом
деле, хотя мысли автора—действительно мысли, хотя он
всегда знает, чего он хочет, все же он кое-где стремится при
помощи странного заключительного оборота, ритма и т. п. придать
этим мыслям нечто мистическое, в чем непосвященный
усмотрит, пожалуй, глубокомыслие, а человек образованный —
неодолимую потребность как-нибудь принарядить или приподнять
* Имеются в виду: Фантазия, соч. 23; Экспромт, соч. 24; Багатели, соч.
оО; 24 прелюдии, соч. 31; все они— для фортепиано в две руки. {Ш.)
133
обычное, которого в некоторых случаях (например, в
заключениях и т. п.) избежать невозможно. Плохо, когда в конце, там
где мысль должна спокойно излиться, слушателя заставляют
почувствовать или подумать нечто новое; этого следует
тщательно остерегаться. Действительно, причина того, что чувство
не может идти вровень с теми постепенно нарастающими
колебаниями, которые вызывает в нас длинное художественное
произведение, заложена в форме, вернее в бесформенности
описываемых нами сочинений, и именно в том, что неожиданно
возникший оборот привлекает наше внимание в неподходящую
минуту (в подходящую он мог бы попасть в точку). Все
зависит от руки мастера, способной даже в самом малом создать
нечто завершенное. Здесь же господствует стремление
нарочито завладеть вниманием, выказать себя властителем наших дум.
В итоге пожелаем нашему уважаемому собрату по
искусству, чтобы он научился ясно учитывать свои возможности,
отчетливо распознавать предстоящий ему путь и, наконец, меньше
распылять свои силы, обращаясь к самой мелкой, хотя и самой
остроумной художественной форме, к форме рапсодической.
Нельзя измерить мощь Этны по камням, которые она время от
времени из себя выбрасывает: зато люди с изумлением
взирают на ее вершину, когда она вспыхивает огромными огненными
столбами, вздымающимися к облакам. Композитора можно
упрекнуть в том, что он (я сохраняю тот же образ) дал только
камни, меня — что я их подобрал, не дождавшись более
крупного извержения2. Я знаю, что это столь же преждевременно,
как если бы я предвосхитил удачное завершение целой
картины на основании отдельных ее контуров, — но знаю и то, что
в наше время, опошленное скороспелыми знаменитостями, мы
обязаны говорить о тех, кто, как он, обогащают искусство
силой своей целеустремленности.
Раро
20. АФОРИЗМЫ
(давидсбюндлеров)
КОМПОЗИТОРЫ-ВИРТУОЗЫ
Вообще говоря, нет оснований предполагать (и опыт
говорит о том же), что композитор должен сам лучше и
интереснее исполнять свои произведения, в особенности последние,
только что им написанные, которыми он еще не владеет
объективно. Человеку, которому противостоит его собственный
физический образ, легче запечатлеть в сердцах других людей свой
образ идеальный1.
Эвсебий
134
Верно. Потому что если бы композитор, которому после
завершения своей работы необходим покой, сразу же
сосредоточил свои силы на внешнем выражении новой вещи, то его
зрение, как бывает, когда глаза напряженно устремлены в одду
точку, еще больше ослабело бы, а то и вовсе затуманилось бы
вплоть до слепоты. Известны примеры, когда из-за такой
насильственной операции композиторы-виртуозы совершенно
искажали свои произведения.
Раро
ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ
По поводу калькбреннеровской четырехголосной фуги для
одной руки я вспоминаю случай, о котором мне как-то
рассказывал уважаемый Тибо, автор книги «Ober Reinheit der Ton-
kunst» *. Однажды в Лондоне, в концерте Крамера, одна
знатная, сведущая в искусстве леди, вопреки всем правилам
английского хорошего тона, встала на цыпочки, пристально
рассматривая руку виртуоза; то же, естественно, проделали ее
соседи сбоку и сзади, а за ними постепенно и все общество; и,
наконец, леди с энтузиазмом прошептала Тибо на ухо: «Боже!
какая трель! Трель! И к тому же четвертым и пятым и сразу в
обеих руках!» Публика (закончил тогда Тибо) шепотом тихо
повторяла за ней: «Боже! Какая трель! Трель! И к тому же и
т. д.»
Р—о
Но ведь это характерно для публики, которая хочет у
виртуоза, да и вообще в концерте еще что-то и увидеть.
Эвсеб.
Но, клянусь небом! Было бы истинным счастьем, если бы в
артистическом мире разрослось племя Бильфингеров, которые,
как известно, наделены были двумя лишними отвратительными
пальцами; тогда со всем этим виртуозным хозяйством было бы
навсегда покончено.
Флорестан
О ПУБЛИЧНОЙ ИГРЕ НАИЗУСТЬ
Называйте такую игру смелостью или шарлатанством, все
равно она всегда будет свидетельствовать об огромной силе
музыкального духа. Да и к чему эта суфлерская будка? К чему
кандалы на ногах, когда голова окрылена? Разве вы не знаете,
* «О чистоте музыкального искусства» (нем.).
135
что аккорд, как бы свободно его ни взять, глядя в ноты, и на
половину не звучит так свободно, как аккорд воображенный?
О, я отвечу вам из глубины вашего же сердца: конечно, я липну
к традициям, ибо я немец. Правда, я несколько удивился бы,
если бы танцовщица вытащила из кармана свои пируэты, актер
или декламатор — свои роли, чтобы увереннее танцевать,
играть и декламировать; но я действительно подобен тому
филистеру, который, когда у одного виртуоза с пульта свалились
ноты и он, несмотря на это, спокойно продолжал играть, нараспев
закричал: «Смотрите, смотрите, вот оно, великое искусство! Он
это выучил наизусть!»
Ф—н
НЕПРЕОБОРИМОЕ 2
Я уже давно заметил, что в сочинениях Фильда очень редко
встречаются трели, а если и встречаются, то лишь тяжелые и
медленные. Это действительно так. Фильд ежедневно и весьма
прилежно упражнялся в трелях в одном лондонском
музыкальном магазине; однажды над инструментом свешивается
какой-то коренастый малый и, стоя, исполняет такую быструю,
отделанную трель, что Фильд покидает магазин, заявив: «Если
он это умеет делать, нечего мне этому учиться». — Но разве в
этом и в подобных случаях явно не заложен более глубокий
смысл, а именно, что человек склоняется, собственно говоря,
лишь перед тем, чему технически подражать невозможно?
Ф—н
ЗАИМСТВОВАНИЕ
Появился ли бы на свет мендельсоновский «Сон в летнюю
ночь» без Шекспира, хотя Бетховен и написал много таких снов
(только без заглавия)? Эта мысль способна повергнуть меня в
уныние.
Ф—н
Действительно, почему иные характеры проявляют свою
самостоятельность, лишь опираясь на чужое, как, например, сам
великий Шекспир. Ведь известно, что большинство своих
сюжетов он заимствовал из более старых пьес или из новелл и т. п.
Э-й
136
Эвсебий прав. У некоторых творческий дух проявляется
свободно лишь тогда, когда они чувствуют себя в определенных
границах. p_QS
РОССИНИ <
Было бы слишком односторонним5 подавлять у нас все рос-
синиевское, если бы оно хоть сколько-нибудь отвечало задачам
поощрения немецкого искусства. Россини отличнейший
живописец-декоратор, но отнимите у него искусственное освещение и
соблазнительные театральные дали, и посмотрите, что после
этого останется. Вообще, когда я слышу о том, что надо
считаться с публикой, об утешителе и спасителе Россини и о его
школе, у меня руки чешутся. Слишком уж деликатничают с
публикой, которая начинает прямо-таки упорствовать в своих
вкусах, в то время как раньше она скромно издали
прислушивалась и была счастлива, если ей хоть что-нибудь перепадало
от художника. И разве я это говорю без оснований? Разве не
ходят на «Фиделио» ради Шредер6 (в известном смысле
правильно), а на оратории из чистейшего сострадания? Более того!
Разве стенограф Герц7, у которого сердце только в кончиках
пальцев — разве он не получает четыреста талеров за тетрадку
вариаций, а Маршнер за всего «Ханса Хайлинга» едва ли
больше? Повторяю — у меня руки чешутся.
Ф—н
РОССИНИ ПОСЕЩАЕТ БЕТХОВЕНА
Бабочка полетела наперерез орлу, но тот посторонился,
чтобы не смять ее ударом крыла.
Э—й
ИТАЛЬЯНЦЫ И НЕМЦЫ
Взгляните на порхающую, миловидную бабочку, но
смахните с нее пеструю пыльцу, и вы увидите, как жалок будет ее
полет и какой она станет невзрачной в то время, как от
исполинских созданий еще через столетия находят скелеты,
которые потомки с изумлением показывают друг другу8.
.9-й
137
ДИЛЕТАНТИЗМ
Остерегайся, Эвсебий, недооценивать дилетантизм (в
лучшем смысле этого слова), неотделимый от художественной
жизни. Ибо изречение: «Не художник — значит, не знаток» должно
остаться полуистиной до тех пор, пока не будет доказано, что
существовал период, когда искусство процветало без такого
взаимодействия.
Я—о
* АФОРИСТИЧЕСКОЕ9
Почему вы так высокомерно воротите нос от афоризмов,
долговязые филистеры? Черт возьми, разве Земля — гладкая
поверхность? И разве нет на ней Альп, рек и различных людей?
И разве жизнь — система? И разве она не состоит из
отдельных полуразорванных листков, покрытых детскими каракулями,
юношескими профилями, рухнувшими надгробиями,
цензурными пробелами судьбы? Я утверждаю, что это именно так.
Более того, небезынтересно было бы отразить жизнь в искусстве
такой, какая она есть. Ведь создали же Платнер и Якоби
целые философские системы.
Ф—н
♦ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ты говоришь не как художник, однако и мне известно, что
шагами измеришь в миллион раз меньше пространства, чем
взглядом, и что маленький глаз вбирает в себя все мироздание.
Я—о
835
21. К НАЧАЛУ ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА В 1835 ГОДУ
Наша тронная речь будет короткой. Правда, первого января
журналы обычно обещают многое, не располагая, однако,
материалом для предстоящего года. Пусть эпиграф из Шекспира,
однажды предпосланный уже нашему изданию1, читатель
истолкует в таком смысле, который даст нам возможность и
впредь сохранить его благорасположение. Не нам судить о
том, полностью ли мы выполнили свои обещания и оправдали
ли те ожидания, которые должны были разрастись под
влиянием широко задуманного нами плана. В признании юности
этого начинания заложены, пожалуй, и те возражения, которые
оно могло бы вызвать. В основном же тело и душа его (да
будет она дарована ему свыше) и впредь останутся
неизменными 2.
Мы должны лишь высказаться о продолжении критического
раздела в нашем журнале.
Век взаимных комплиментов постепенно сходит в могилу;
признаемся, мы нисколько не хотели содействовать его
оживлению. Тот, кто не решается нападать на зло, защищает добро
лишь наполовину. Художники, в особенности вы,
композиторы, — вы едва ли поверите, как мы бывали счастливы, когда
имели возможность безудержно вас хвалить. Мы хорошо знаем
язык, на котором следует говорить о нашем искусстве,— это
язык благожелательности. Однако при всем старании не всегда
удается поощрять или порицать благожелательно — идет ли
речь о людях талантливых или неталантливых.
За короткое время нашей деятельности мы уже приобрели
некоторый опыт. Направление наше было установлено заранее.
139
Оно определяется просто, а именно: настойчиво напоминать о
старом времени и его творениях, поскольку лишь этот чистый
источник может питать силы нового искусства; бороться с
недавним прошлым как с нехудожественным, направленным лишь
на повышение внешней виртуозности; наконец, помочь
подготовке и скорейшему наступлению новой поэтической эпохи.
Одни нас поняли и убедились, что нашими суждениями
руководило беспристрастие и прежде всего живая
заинтересованность.
Другие совсем об этом не думали и благодушно взирали на
начало конца старой песни. Иначе было бы совершенно
непонятно, что от нас требовали обсуждения вещей, которые,
собственно говоря, для критики как бы вовсе не существуют.
Третьи называли наши выступления бесцеремонными и
ригористичными. Мы хотим видеть у наших противников не
низкие, но самые благородные побуждения. Быть может, в основе
здесь лежит то, что наши собратья по искусству в общем не
очень-то избалованы материальными благами и что не следует,
пророча им безрадостное будущее, подрывать их жизненное
благополучие, нередко добытое с большим трудом. Или, быть
может, то, что художнику, проделавшему уже длинный путь,
горестно бывает услышать, что направление оказалось ложным.
Ибо мы отлично знаем: музыкант, как и всякий художник, не
может без ущерба для своего искусства заниматься тем, что
ему дает прочное жизненное положение. Однако мы не видим,
в чем заключаются наши преимущества перед другими
искусствами и перед наукой, где партии открыто противостоят друг
другу и враждуют между со<бой. Мы не знаем также,
совместимо ли с достоинством искусства и правдивостью критики
спокойное отношение к трем исконным врагам музыкального, как
и пообще всякого художественного творчества: к бездарности,
к дюжинным способностям (лучшего слова я не
нахожу), наконец, к талантливому многописанию. Пусть не
думают, что мы восстаем, например, против некоторых
знаменитостей сегодняшнего дня. Они имеют право на
существование, поскольку заполняют места, уготованные для них
могущественным гением времени; надо, к сожалению, также
сознаться, что они являются капиталом, которым издатели (а редь
без них также не обойдешься) покрывают убытки, часто
причиняемые изданием классических произведений. Но остальное
на три четверти ненастоящее, не достойное печати. Множество
людей с головой погружены в ноты, путаются и путают;
бесполезно затрачивается время издателя, печатника, гравера,
исполнителей, слушателей. А ведь искусство должно быть чем-то
большим, чем игра, чем простое времяпрепровождение.
Таковы были наши взгляды уже с самого начала
деятельности этого журнала и кое-где они, вероятно, проглядывают.
Но с такой определенностью, как сейчас, мы их еще не выска-
140
зыва^и; казалось, что посредственность будет преодолена
отчасти i благодаря успеху некоторых благородных молодых
талантов и мы считали своим долгом брать их под защиту;
отчасти же благодаря сознательному умолчанию обо всей этой
обыденной кампании. Надо признаться, что позднее перед
нами возникла дилемма. Некоторые читатели, вероятно, замечали
и жаловались на то, что критике у нас отводилось место, ни в
коей мер^ не соответствующее количеству выходивших в свет
произведений. Читатель был лишен возможности составить себе
представление обо всех новинках, как положительных, так и
отрицательных. Затруднялось же это главным образом
наличием трех вышеупомянутых исконных врагов. Однако для того,
чтобы читатель занял определенную точку зрения, с которой он
мог бы обозреть все вокруг себя, мы должны были искать
такой метод, при котором не наносился бы ущерб обсуждению
необходимрго и важнейшего.
Отдельйые произведения упомянутых трех категорий
настолько похожи друг на друга, первые — своей
безжизненностью, вторые своим легкомыслием и третьи своей ремеслен-
ностью, что характеризуя отдельные произведения, легко уста-;
новить основные черты всей группы. И вот, посоветовавшись с
художниками, принимающими близко к сердцу и повышение
уровня искусства, и судьбу художника, мы решили держать
наготове три стереотипные формы рецензий; они
предназначены для сочинений, которые легко отнести к одной из трех
упомянутых рубрик, причем не на основании какого-нибудь
одностороннего мнения, а по добросовестному убеждению многих;
таким образом, в эти стереотипные рецензии придется лишь
вписывать заглавия произведений. Нет нужды заверять, как
мечтаем мы о том, чтобы список подобных сочинений
оказывался возможно более коротким и что мы хотим посвящать
особые, более или менее пространные статьи всему, что
обнаруживает какую-нибудь, пусть даже самую маленькую
счастливую черту.
Так пусть же это признание послужит началом нового года!
Часто говорят: «Новый год — то же, что \\ старый», будем
надеяться, что он будет лучше старого.
22. ФЕРДИНАНД ХИЛЛЕР *
В бетховенской романтике есть черта, которую можно было
бы назвать провансальской и которую Франц Шуберт в своем
собственном духе развил до виртуозности. На этой основе зиж-
* *5а,писано п0 слУчаю появления его [фортепианных] этюдов соч. 15.
141
дется, сознательно или бессознательно, новая, еще не срвсеж
сложившаяся школа, от которой можно ожидать, что она'
ознаменует собой особую эпоху в истории искусств.
Фердинанд Хиллер принадлежит к ее последователей, к ее
самым примечательным явлениям1.
Описывая его, я описываю целое поколение молодёжи, чье
назначение, как видно, заключается в том, чтобы освободить от
цепей наше время, которое тысячами звеньев еще увязано с
предыдущим столетием. Одной рукой это поколение еще
силится оборвать цепь, а другой оно уже указует на! будущее,
когда оно будет повелевать новым царством, которое, подобно
земле Магомета, подвешено на чудесно сплетенных алмазных
нитях. В своем лоне это царство скрывает неведомые и
невиданные сокровища, о которых нам уже кое-где поведал
пророческий дух Бетховена и которые нам пересказал возвышенный
юноша Франц Шуберт на своем детском, умном и/сказочном
языке. Бетховен был для музыки тем, чем для поэзии Жан
Поль, который, после того, как его опустили в землк),
продолжал, наподобие целебного источника, нести свои воды по
глубоким подземным каналам, пока его снова не вывели на свет
божий два ученика; называть их мне незачем; они восторженно,
но уж слишком рьяно провозгласили: «Наступили новые
времена». Как некое божество, Бетховен невидимо, но действенно
обитал в душах отдельных творцов и повелевал им не
пропустить того мгновения, когда будут свергнуты кумиры, перед
которыми преклонялась толпа в течение долгих и бесплодных лет.
И он советовал им выдержать борьбу и пользоваться не
нежным, гладким стихотворным слогом, а свободно льющейся
речью, которую он сам уже применял не раз, и молодые
творцы заговорили на этом языке в новых оборотах, исполненных
глубокого смысла.
Старые мудрецы только и делали, что улыбались и
говорили, как великан, приснившийся Альбано: «Друзья, здесь не
бывает водопадов, низвергающихся вверх!»2 Но юноши
говорили: «Ну, что ж, у нас есть крылья!» — И вот кое-кто в народе
внял этим юным голосам и сказал: «Слушайте, слушайте!»
Сейчас в мире это мгновение остановилось3.
Флорестан
II
Плохо то, что мы не можем каждый раз прилагать к своим
рецензиям самое сочинение вместе с виртуозом, который тотчас
же сыграл бы его нам в совершенстве, или (и это было бы
лучше всего) экземпляр всего автора целиком; многое можно
было бы таким образом предотвратить. Во всяком случае хо-
142
poiiio сразу же приводить для читателя начальные такты
первых Угюдов, чтобы он не верил нам на слово и мог добавить и
собственное суждение. К тому же, приводить образцы этюдов,
видимо, не так скучно, как давать образцы сочинений, напи-
санныА в других жанрах, ибо первые такты этюдов большей
частькДобразуют основу пьесы, которую любой
единомышленник развил бы, возможно, в том же духе. Приводим эти
начала *. \
Продолжаю, но со вздохом — ни в одной критике не бывает
так трудно доказывать, как в музыкальной. Наука бьет
математикой к логикой, поэзии принадлежит решительное, золотое
слово, другие искусства избрали себе судьей природу, у
«которой они Заимствуют свои формы, — но музыка — сирота, отца
и мать кбторой никто назвать не может. И, может быть, все
обаяние efe красоты как раз и заложено в таинственности ее
происхождения.
Издателям этого журнала часто ставилось в упрек, что они
разрабатывают и развивают лишь поэтическую сторону музыки
в ущерб ее научной, что они — молодые фантасты, что они
даже не подозревают, что о греческой и всякой другой музыке по
существу мало что известно и т. п. В этом упреке заложено
именно то, в чем нам хотелось бы видеть отличие нашего
журнала от других. Мы не собираемся исследовать вопрос о том,
в какой мере тот или другой вид критики быстрее воздействует
на искусство, но, во всяком случае, признаемся, что считаем
высшей критикой ту, которая сама производит впечатление,
подобное взволновавшему нас оригиналу**. Правда, это легче
сказать, чем сделать, последнее под силу было бы лишь более
крупному поэту — двойнику композитора. Между тем, когда
речь идет об этюдах, которые не только должны нас чему-то
научить, но и научить хорошо и хорошему, важно и нечто
другое. Поэтому мы на этот раз будем как можно меньше
пропускать и подходить к произведению Хиллера со многих сторон —
как с эстетической, так и с теоретической, и отчасти с
педагогической.
Ибо меня, как педагога, особенно интересуют три вещи, я
бы сказал: цветок, корень и плод, иначе говоря, содержание
поэтическое, гармонически-мелодическое и техническое, и еще
проще — польза для сердца, для уха и для руки.
О многих вещах на свете вообще ничего не скажешь, как,
напр., о С-с1иг'ной симфонии Моцарта с фугой, о многом у
* Они, за недостатком места, здесь опущены. [Ш., 1852]
** В этом смысле Жан Поль мог бы посредством соответствующего
поэтического произведения в гораздо большей степени способствовать
пониманию симфонии или фантазии Бетховена (ничего, впрочем, не говоря о самой
симфонии или фантазии), чем посредственные художественные критиканы,
приставляющие к колоссу лестницу и добросовестно измеряющие его
аршинами. [Ш.} г г
143
Шекспира, об отдельных моментах у Бетховена. Зато
остроумное, индивидуально характерное сильно будоражит мысли,
почему я и предпочту разделить эту рецензию, как настоящую
проповедь, на три части и завершить все в целом
характеристикой отдельных этюдов. /
Первая часть: поэзия произведения, цветок, дух./Думаю,
что Хиллеру никогда не будут подражать. Почему? Потому что
он, будучи самобытным композитором, столько заимствует от
других самобытных композиторов, что его собственная
сущность предстает в своеобразном преломлении, причудливо
сочетая чуждые и оригинальные черты. Подражателю Пришлось
бы поэтому вникать в это сочетание собственного и (не
собственного, что привело бы к абсурду. Этим я вовсе не/хочу
сказать, что Хиллер хочет подражать — ведь кто этопр хочет! —
или что у него не хватает сил уберечь свою натуру от чужих
влияний — наоборот, он обладает стольким, что лишь
опасается, будет ли его натура понята в ее высших проявлениях.
Очертя голову, устремляется он по следам первого попавшегося в
любой эпохе, хочет быть не только таким запутанным, как Бах,
таким эфирным, как Моцарт (хотя это меньше Bceito), таким
глубокомысленным, как Бетховен (а это больше все^о), но, по
возможности, стремится сочетать в себе все высокое,
достигнутое и этими мастерами и другими; поэтому нет ничего
удивительного, что уж очень многое ему не удается. Однако за этим
ненасытным стремлением следует по пятам горькое
разочарование, ибо здесь, как у Шиллера в эпизоде со Старцем гор, над
человеком простирается исполинский образ, который
осаживает его окриком: «Дальше ни шагу, друг, это мое царство»4.
Отсюда наблюдение, которое напрашивается в каждом этюде.
Это — внезапные заминки, это — спады во время самых
стремительных взлетов. Композитор берет разбег, как призовая
лошадь, и падает недалеко от цели; ведь цель неподвижна и не
идет нам навстречу: более того, кажется, что она удаляется,
чем больше к ней приближаешься. Поэтому почти всем этюдам
недостает блаженного чувства удовлетворения, уверенности в
победе, которое с первых же слов замечаешь у человека,
сильного духом.
Если я здесь, быть может, и усматриваю лишнее или если я
ошибаюсь, то, по крайней мере, я уверен, что могу перечислить
те преимущества, которые противостоят этому и которые
следует положить на другую чашу весов.
Таковы: фантазия и страсть (не мечтательность и не
вдохновенность, как, например, у Шопена), и то и другое,
погруженное в романтическую светотень, которая впоследствии, быть
может, и поднимется до просветленности; ибо, пусть он
опасается следующего шага, ведь здесь начнут орудовать гномы и
кобольды, и пусть он вспомнит увертюры к «Сну в летнюю
ночь» и к «Гебридам» (относящиеся друг к Другу, примерно,
144
как Шекспир к Оссиану), где романтический дух веет в такой
степени, что совершенно забываешь о тех материальных
средствах, \о тех орудиях, которыми он пользуется. И все же Хиллер
вращаемся в сфере необычного и сказочного, хотя и не столь
тонко п{ не столь поэтично, как Мендельсон, однако всегда
успешно, а второй, семнадцатый, двадцать второй, двадцать
третий этюд^ принадлежат к самым удачным во всем сборнике и
вообще к (самому лучшему, что было написано после f-тоП'ной
сонаты Бетховена и многого другого у Шуберта —
произведений, вперйые, видимо, открывших этот волшебный мир.
Если к> этому добавить яркую изобретательность и
характер, слишком иной раз безосновательно отбрасывающий все
более обычное, то мы получим образ юного художника, вполне
заслуживающего тот интерес, который во многих вызвало
благородство его происхождения. Однако он еще не умеет
использовать его с той умеренностью, которая приводит к
самопознанию, позволяющему нам распоряжаться нашими
прирожденными духовными богатствами.
Следующие части нашей рецензии еще больше уяснят смысл
того, что имелось нами в виду.
Вторая часть — теоретическая: соотношение мелодии и
гармонии, форма и построение периодов. Где Хиллеру не
хватает таланта, там ему не хватает и знаний. Он многому
выучился, но, подобно иным нетерпеливым людям, иногда, как
видно, уже перелистывал и заучивал последние страницы, пока
учитель ьсе еще растолковывал начало.
Легко представить себе, что такой честолюбивый характер
будет выискивать любые средства, чтобы скрыть свои слабости.
Поэтому он часто при помощи пестрых гармоний пытается
отвлечь нас от поверхностности своей работы, одурманить нас,
или же бросается на что-нибудь совершенно инородное, или
внезапно обрывает на паузе и т. п. Например, первое — в
первом этюде сразу же, начиная с девятого такта, во многих
местах двадцатого; второе — в пятнадцатом, начиная с четвертого
такта на стр. 45, в двадцать четвертом в последних тактах на
стр. 73 при переходе в c-moll, и, наконец, последнее — в № 7,
стр. 19, такт 5, и в том же этюде во многих местах. Но когда
он собирается провести что-либо основательно или же что-
нибудь разработать, как, например, в фуге № 12, в № 18, кстати
говоря, самом слабом (а я знаю, почему он таковым оказался),
в № 24, где он позднее повторяет тему седьмого такта, то в
таких случаях он по большей части становится неясным,
натянутым и вялым.
К сожалению, я не знаю, что можно было бы посоветовать
отличному поэтическому таланту, который, возможно, слишком
быстро прошел школу. С гениями легче справиться, они падают
и сами же снова встают на ноги. Но что скажешь первым?
Должны ли они двигаться вспять, начинать с азов или пере-
145
учиваться? Должны ли они стремиться к естественности и
простоте, как это им часто советуют? Должны ли они писать по-
моцартовски? Но кто же может издать закон, разрешающий
идти именно до сих пор, а не дальше? Следует ли отвергать
прекрасную идею только потому, что она не совсем ходошо
выражена и развита? Я не знаю, до каких высот поднимется
Хиллер; но ради него самого необходимо обратить е^о
внимание на то, чтобы он научился отличать удачное от
неудавшегося, чтобы он спрашивал благожелательных к нему друзей, на
суждение которых о пригодности той или иной вещи для
публичного исполнения он может положиться. Они ему говорят:
«On ne peut pas etre grand du matin jusqu'au soir» *. Любимых
детей надо наказывать. Под собственной крышей я могу
заниматься тем, что мне нравится; но всякий, кто выйдет на
публику, будет освещен ярким солнцем.
Возвращаемся к этюдам. Одно обстоятельство бросается
мне в глаза. Хиллер, по-видимому, чаще овладевает словом и
выражением, чем духом и мыслью; он располагает украшением,
не обладая красотой, которую оно должно подчеркнуть. Говоря
образно, у него готова колыбель до того, как он успел
подумать о матери; он подобен ювелиру, которому безразлично, на
чью голову будет надета диадема, на голову ли горделиво
прекрасной римской девы или седой обергофмейстерши, только бы
ему сбыть свой товар. Хотя это несоответствие не столь важно
в этюдах, как в более высоких жанрах, я вовсе упразднил бы
такие этюды, как №№ 4, 8 и 18, в которых
фигурация—главное, а мысль—второстепенное, ради многих других (как 5, 6,
10, 16 и 23), в которых назначение этюда и благородство мысли
составляют одно целое.
Мелодия также находится в подчиненном положении по
сравнению с гармонией, богатой, даже ориентальной, нередко
жесткой5 в своем развитии. Непонятно, как такой человек,
переживший и написавший столько музыки, слышавший самое
лучшее и самое худшее и научившийся отличать одно от
другого, может в своих собственных сочинениях терпеть такие
гармонии, которые, пожалуй, и не фальшивы с точки зрения
определенных, давно приевшихся правил, но звучат настолько
отвратительно, что мне пришлось бы заявить автору (не будь я
с ним знаком ближе): «Ты лишен музыкального слуха».
Первые же ноты во втором такте девятого этюда могли бы мне
подсказать это; сначала я заподозрил, что это опечатки, но в
повторении снова обнаружил ужасающую удвоенную терцию.
Такие невыносимые интервалы попадаются почти во всех
этюдах.
Что же касается формы и построения периодов, то наши
этюды существенно отличаются от всяких других своей непри-
♦ «Невозможно быть великим с утра и до вечера» (франц.).
146
нужДенностью, которая, правдаг часто выражается в неясности
и отсутствии соразмерности.
Hiitae мы попытаемся расчленить один из них. Возьмем
первый этюд [см. схему, с. 148].
Автор приведенного анализа, пожалуй, не принадлежит к
тем, которые охотно начинают в C-dur, вводят вторую тему
в G-dur, "после недолгого пребывания (самое большее) в B-dur
и d-moll, \a затем в a-moll вновь проводят первую тему в C-dur
с присовокуплением второй в той же тональности и тотчас же
заканчивают; и все же он любит известный порядок в
беспорядке. Этого-то порядка в приведенном выше этюде
недостаточно; в Других же (как, напр., в №№ 18, 20, 24) он вовсо
отсутствует. Многое возразил бы я и против заключений: мне
почти всегда кажется, что в них чего-то слишком мало или
слишком много, равно как и против последовательности всех
24 пьес в делом. Однако все это, в частности последнее,
настолько индивидуально, что я предпочитаю на этом не
настаивать.
Переходим к самой короткой и последней части — к
технической. Для молодых композиторов, если они к тому же и
виртуозы, нет ничего притягательней, как писание этюдов, по
возможности самых сногсшибательных. Новую фигурацию,
сложный ритм легко изобрести и гармонически развить;
сочиняя, незаметно чему-нибудь да научишься; предпочтительно
разучиваешь свои собственные вещи, рецензенты не смеют
порицать их за то, что они написаны слишком трудно — иначе,
к чему этюды?—Хиллер пользуется репутацией виртуоза и
должен ее заслужить. Воспитанный в свое время Гуммелем, он
потом отправился в Париж, где не было недостатка в
соперниках. Общение с Фр. Шопеном, знающим свой инструмент как
никто, могло его вдохновить на то или другое — словом, он
уселся и стал писать. Спрашивается, имел ли он изначально в
виду определенные задачи, предназначал ли он свои этюды для
собственного упражнения или для своих учеников и т. п. Кто
знает? — Но читатель, играющий на рояле, и преподаватель
вправе спросить, приобретать ли эти этюды, что можно от них
ждать, насколько они трудны и к какому разряду учеников они
преимущественно подходят. На это можно ответить только одно.
Конечно, в каждом отдельном этюде можно извлечь какое-либо
упражнение, здесь или там возникает новая трудность, но
композитору было, очевидно, важнее создать характерные пьесы и
окрылить поэтическое воображение, чем развивать
пианистическую технику. Поэтому во всем сборнике нигде не проставлена
аппликатура, редко указана педаль и нигде нет ни одного
скрупулезного исполнительского совета с помощью таких, например,
слов, как animato и т. п. Имеются лишь заглавия, указывающие
настроение пьесы в целом. Все это предполагает навыки,
которыми от рождения никто не владеет. Итак, если бы я захо-
147
Первая мысль
a-moll. Модуляция
в e-moll
8 тактов
Связка
Модул, через C-dur
7
па 3#
8 тактов
[СХЕМА]0
Вторая мысль,
сопровождаемая первой.
Модуляция из d-moll через
9 b
7 6 6
3 j| 6 з'р 5
A F F Н
в c-moll
8 тактов
Своб. часть
Модул, через
G и D
в a-moll
12 тактов
Органный
пункт
на доминанте Е
Главная
каденция
12 тактов
Повторение второй
мысли, но измененной.
Гармонии:
6 4
3#536
A D E F
6 4
6 536
Gis A H С
8 тактов
Своб. часть
Модул, в [сторону
e-moll]
7
н
Dis
7 тактов, пауза
Своб. часть
Модул, через
9 9{> 9
7 5jf
Е A A D НЕ
в a-moll
6 тактов
Реминисценция
второй темы
a-moll
4 такта
3 а к л к) ч е н и е
a-moll
тел Определить уровень пианистов, которым можно было бы
дать b руки эти этюды, я имел бы в виду тех, кто, обладая
талантом и воображением, вовсе не собираются овладеть своим
инструментом при помощи этих этюдов, но им уже владеют;
зообще\я имел бы в виду музыкальных людей, которых уже
ничем нельзя испортить.
Мы заключаем эти общие замечания краткой
характеристикой отдельных номеров.
1) Живой ритм, налет старины, чередование вялого и
сильного, упражнение в тяжелом стаккато.
2) Сновидение. Подземная возня. Духи земли поют и
стучат молотками. Феи склоняются над алмазными цветами.
Веселая суета. Сновидец пробуждается: «Что же это такое было?»
3) Пьеса церковная, готическая. Вокруг cantus firmus'a
более низкие голоса появляются и снова исчезают. Идея хорошая,
выполнение — неудачное.
4) Ничего не говорит, просто упражнение — чтобы
связывать правую руку и заставлять скакать левую.
5) Нежная картина — нечто вроде детской мольбы.
Обращение предыдущего упражнения. Правая рука быстро ударяет
октавы в то время, как тенор ведет связную мелодию, которая,
однако, ближе к середине становится напряженной и
напыщенной.
6) По форме и общему характеру, быть может, самое
удачное во всем сборнике, хотя и не блещет выдумкой.
Волнообразное движение с растяжением на дециму в одной руке, в то
время как другая выдерживает мелодию. Гармонии — чистые.
7) Несколько деланно, но и как упражнение слишком
неопределенно.
8) Живо, но не привлекательно. Удобно для упражнения в
быстром подкладывании первого пальца. В третьей строке
(стр. 25) столько опечаток, что приходится прямо-таки все
пересочинять.
9) Красивый аккомпанемент, холодная кантилена.
Упражнение на морденты. Исполнение мастера могло бы создать
ложное представление о подлинном содержании этого этюда.
10) Мог бы быть отличным при большем стремлении к
старой форме. Оживленное движение вперед после возвращения
темы в фортиссимо—блестяще по эффекту. Заключение вялое.
Упражнение на басовые скачки в левой руке и на
выдерживание мелодии правым пальцем правой руки, которому
аккомпанируют остальные пальцы.
11) Массивное передвижение трезвучий вверх и вниз,
подобное тому, каким Гендель часто сопровождает свои хоры.
Величественно; лишь отдельные слабые места.
12) Фуга в манере Баха; в «Хорошо темперированном
клавире» есть похожая по тональности и по теме.
Контрапунктическое мастерство еще не значительное. Слишком много сво-
149
бодных вступлений, часто голоса пропадают. Отличная ^ема,.
из которой можно было бы многое сделать. /
13) Жига в старом стиле. Все бьет в точку и полно
отдельных красот, кроме тех мест, которые приведены выше. Начиная-
с пятого такта на стр. 41 не нахожу разрешения. /
14) Играть очень быстро. Не лишено очарования/ В dis-
тоИ'ном эпизоде мелодия мучается понапрасну. Как этюд
особых трудностей не представляет.
15) Лишено всякой мысли; тонкая игра стаккато могла бы,.
пожалуй, заставить нас об этом забыть. Средняя часть сама
по себе хороша, если бы она имела хоть какое-либо отношение
к началу и к дальнейшему. Ощущение все время идет по
зигзагу, в гору и под гору.
16) Исключительно хорошо, почти сплошь. Только конец,
мешает своей поверхностностью; я, пожалуй, сразу перескочил
бы со второго такта пятой строчки на восьмой—шестой. К тому
же и педаль, которую Хиллер так редко применяет, кажется
именно в этом этюде неуместной, ибо из-за нее внутренняя
мелодия еще больше расплывается. Пользоваться как этюдом на
перебрасывание левой руки через правую.
17) Вероятно, самый благодарный во всей тетради, если
играть его престиссимо. В нем прогуливаются двойники,
одноногие люди, люди без тени, зеркальные отражения — в общем,,
играйте его.
18) Я уже раньше назвал его самым слабым из всех и
обещал сказать, почему так получилось. Потому что Шопен
написал два этюда, один в f-moll и другой в c-moll, которые Хиллер-
во всяком случае знал, прежде чем написал свой седьмой и
восемнадцатый. Последний звучит неясно — таковым пусть и
остается.
19) Выше уже разбирался подробно.
20) В таком быстром темпе может и импонировать, но уж
очень буйствует в гармониях. В четвертом такте пятой строки
на стр. 59 начинается красивый гармонический ход. Как этюд
полезен, но утомителен.
21) Пятые пальцы обеих рук остаются лежать на клавишах
в то время, как остальные передвигаются в двойных нотах.
Хорошее упражнение на растяжение и на попадание на
верхние клавиши. Ценно как композиция.
22) Принадлежит к «волшебному» жанру; все от начала до-
конца исполнять не громко, легко и воздушно, — музыка для
эоловых арф. Отличное упражнение; быть может, единственное
на свете, в котором первые четыре пальца правой руки так
часто бывают заняты, а именно — 322 раза, пятому же удается
ударить 324 раза. Сами проверьте и так же, как и я, через
минуту в этом убедитесь и будете смеяться.
23) Оригинально и фантастично. Этюд на короткие трели в
обеих руках.
150
24) Октавные ходы в обеих руках. Крепкий ритм в первой
теме,*" в дальнейшем — несколько неясный и лишенный
единства. Главная мысль вводится во второй раз так свободно и
непринужденно, как это не удавалось ни в одном другом этюде.
Вхождение (как говорится) в главную мысль при ее
повторении остается гениальной находкой.
Мы пришли к концу. Хиллер, подписывая слово «Fine» под
24 номером, вряд ли радовался больше, чем читатель,
мечтающий, чтобы его, наконец, отпустили. Я сам много раз
проигрывал и просматривал эти этюды внимательно и с интересом.
Если редакция нашего журнала посвятила их обсуждению
столь большое место, которое, может быть, не совсем
оправдано, то пусть это послужит юному немецкому художнику
доказательством того, что его родина о нем еще не забыла. Если же
ему покажется, что мы слишком строго его порицали и
слишком мало хвалили, пусть он вспомнит и о том, какую мерку он
хотел бы, чтобы к нему приложили, а именно наивысшую. Но
если читатель потребует от нас окончательного суждения, я
ему на прощание ничего лучшего не мог бы дать на дорогу,
как слова из «Вильгельма Мейстера», которые все время
звучали у меня в ушах, пока я писал эту рецензию:
«Самый ничтожный человек может быть полноценным, если
он вращается в пределах своих способностей и навыков; но
даже лучшие достоинства омрачаются, снимаются и
уничтожаются, когда отсутствует эта необходимая и требуемая
соразмерность. Беда эта будет еще не раз обнаруживаться в наше
время, ибо кто сможет удовлетворить чрезвычайно возросшим
требованиям настоящего, да и притом в их стремительнеишем
движении?»
23. КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
Д ж. Фильд. Nocturne pastorale. Пасторальный
ноктюрн; Nouvelle Fantaisie. Новая фантазия
Не забуду, как в одной старой музыкальной газете некий
рецензент потешается над первым сочинением Фильда и на
него обрушивается, в частности же отвергает растяжения на
дециму, как неестественные и неисполнимые. Я отлично помню,
что с тех пор я ни в одном сочинении Фильда никогда не
находил обозначения опуса, но зато всегда бесчисленное множество
децим. Вот как велико воздействие рецензентов. Насколько же
сейчас все изменилось! Таким широким растяжениям не
удивляется уже больше ни один ребенок, и то, что Фильд (конечно,
151
не без основании) своих сочинений уже больше не нумерует,,
уже вовсе не важно. Ибо, подобно шекспировским, они
'расставлены по кругу; чистая случайность, что он третий концерт
написал раньше четвертого; на волосок меньше гениальности, и
ему никогда не позволили бы с такой легкостью проскользнуть
через школу. И вот тысячи следили за прекрасным беглецом,
видя, как он с хохотом вьюном высвобождается из костлявых
рук репетитора, и бросали ему вслед цветы, которыми ныне
увенчана его глава1.
Если бы я только посмел, я сам возложил бы на него венок
из макового цвета и ночных фиалок, ибо он — возлюбленный
того сумеречного часа, когда солнце уже зашло и когда в
душах пробуждается вечная тоска по родине. Напоминать ли тем,,
кто его знают, о тех мгновениях, когда они продолжали
прислушиваться к музыке, уже умолкнувшей? Если бы они
захотели что-нибудь узнать об этих двух новых поэмах, неужели же я
должен был бы повторять то, что они давно уже знают — хотя
бы все ту же древнейшую песню о человеческом сердце?
Коснись лишь одной мировой струны — и она будет
колебаться до бесконечности. Упоительным должно быть то
мгновение, когда ты осознаешь, что впервые дотронулся до одной из
них, — когда .ты сможешь что-либо назвать всецело своим —
почувствовать себя первым в этом новом мироздании, а свою-
вещь — первым творением, которое отныне заключает тебя в
свои жаркие объятия и носит твое имя. Каким счастливым он,
вероятно, стоял перед своим первым ноктюрном2: ведь это было-
всецело его детище, и никто до него ничего подобного никогда
не говорил.
Так, мнится нам, художник для своего искусства постепенно
совлекает покровы, скрывающие от нас образ природы,
который предстает нашему взору в малом — как день, в большом —
как год, а в самом большом — как само время и сама вечность.
Бодрое утро — удел Баха и Генделя. Все, что шевелилось
до них, было не более чем предрассветные голоса, утренние
предчувствия, и подчас весьма холодные. Но вот вместе с
Моцартом и Гайдном воцарились день и светлая живая
жизнь, снова умолкнувшая в звездной ночи, которую перед
нами раскрыли Бетховен и Шуберт. Затем к этим
верховным жрецам присоединились и более молодые. Ф и л ь д
возлагает свою жертву на алтарь по вечерам; слова его
понимают не все, но никто не мешает бледному юноше, пока он
молится. В поздний час еще работает Шопен, словно в
преображающем его северном сиянии. Но уже поблизости от него
пробуждаются призраки, ночные хищные птицы уже вырвались
на волю, единичные ночные бабочки возникают из далекого
прошлого и падают, охваченные стужей и обессиленные.—Мы
достигли цели? О, нет! Завершившийся день с его четырьмя
малыми сроками будет, в пределах великого круговращения,
152
лишь одним весенним днем, который в сбою очередь Оудет
.лишь частью года, — и далее история искусств будет вести счет
столетиями, которые опять-таки будут возникать и исчезать в
вечности как единые мгновения.
Эвсебий
* Ф. Хил л ер. La danse des Fees. Танец фей.
Соч. 9; La serenade. Prelude, romance et Final.
Серенада. Прелюдия, романс и финал. Соч. 11
Мы отсылаем читателя к рецензии на этюды Хиллера3.
Зти небольшие пьесы еще более укрепляют нас в ранее
высказанном мнении. Тогда мы упоминали, что композитору удается
преимущественно феерическое и сказочное и отмечали
соответствующие образы. На этот раз название говорит само за себя,
да и без него пьесу нельзя было бы истолковать иначе. Начало
«Танца фей», в котором туше пианиста должно быть подобно
тихому колокольному звону, вводит нас непосредственно в круг
этих образов. На пятой странице вбегают несколько страшных
гармонических кобольдов, которым- ведь тоже хочется жить. —
Серенаду мы—дабы не думать плохо о Хиллере — считаем
сатирой, и в этом мнении нас утверждает не только посвящение
«Madame de...». Если же она написана с серьезными
намерениями, то мы этому влюбленному едва ли позволили бы влезть в
окно.
Мы хотим воспользоваться случаем и поблагодарить
издателя от имени множества молодых композиторов за то, что он
ввел их в свет, хотя грудь их не украшена ни звездами, ни
крестами.
Заполучить для своего каталога композиторов с громкими
именами нетрудно, и это, пожалуй, быстро окупится. Другое
дело — поощрить к работе безвестных музыкантов, хорошо
напечатав их и, прежде всего, как мы видели на примере г-на
Хофмайстера, участливо поддержав их стремления: пусть это и
не приносит тотчас же золотых слитков, но рано или поздно
одна из этих молодых жил приведет в блаженное Эльдорадо.
Увы, нет никаких шансов попасть туда в волшебном сне! Пусть
же те, кто заслуживают нашего уважения, примут от нас
добрые пожелания.
12
Феликс Мендельсон. Шесть песен без
слов. Вторая тетрадь. Соч. 30
Кто не сиживал в сумерках за фортепиано (слово рояль уж
слишком отдает придворным тоном) и, фантазируя,
бессознательно не подпевал тихую мелодию? Если же случайно сопро-
153
вождение и мелодию можно исполнить только руками, а
главное, если вы к тому же — Мендельсон, то из этого возникнут
прекраснейшие песни без слов. Еще проще было бы прямо
сочинять музыку на тексты, зачеркивать слова и в таком виде
выпускать сочинение в свет. Но тогда получится не то и даже
нечто вроде обмана,—если только не применять это как
испытание на ясность музыкального восприятия и как средство
побудить поэта, чьи слова были скрыты, сочинить новый текст к
музыке на свою же песню. Если бы новый текст совпал со
старым, это было бы лишним доказательством точности
музыкального выражения.
Обратимся же к нашим песням! Ясно, как солнечный свет,
смотрят они на вас. Первая по чистоте и красоте чувства может
почти что сравниться с Е-с1иг'ной из первой тетради, разве лишь
что там чувство выливается из первоисточника с еще большей
непосредственностью. Флорестан сказал: «Кто сумел так спеть,
может рассчитывать на долгую жизнь, как здесь на земле, так
и после смерти; кажется, эта песня мне милее всего». Вторая
напоминает мне гетевскую «Вечернюю песню охотника». «Я
крадусь полем тих и дик, взведен курок ружья» * и т. д.; по
воздушной нежности своего построения она не уступает
стихотворению поэта. Третья кажется мне менее значительной; это
нечто вроде хороводной песни в какой-нибудь лафонтеновской
семейной сцене, но все же за этим столом обносят настоящим,
ничем не разбавленным вином, хоть оно и не самое крепкое и
не самое редкое. Четвертую нахожу я весьма очаровательной,
немного грустной и ушедшей в себя, но вдали зовет надежда и
отчизна. Во французском издании во всех песнях, и особенно в
этой, встречаются значительные отклонения от немецкого; по-
видимому, они не принадлежат Мендельсону. В характере
следующей [пятой] есть что-то нерешительное, даже в форме и в
ритме, и производит она соответственное впечатление.
Последняя, венецианская баркарола, мягко и нежно завершает
целое.— Итак, можете вновь наслаждаться дарами этого
благородного духа!
2
В. Тауберт. К возлюбленной. Восемь любовных
песен. Соч. 16
Композитор принадлежит к тем талантам, которые, ничем
не вызывая в партиях ни вражды ни ненависти, добились
признания и уважения у всех, будь то классики или романтики,
* Перевод М. Михайлова.
154
знатоки или любители; принадлежит к тем просвещенным
консерваторам, которые, хотя они с горячей любовью и преданы
старине, но все же обладают восприимчивостью к новым
явлениям и силой отстаивать собственные взгляды. Последнее снова
обнаруживается в только что названном его сочинении.
Правда, в очаровательно-меланхоличном g-тоП'ном этюде Людвига
Бергера, учителя Мендельсона и Тауберта, я уже нахожу
самую настоящую песнь без слов, однако Мендельсон дал этому
жанру название, а Тауберт развил его еще по-иному. Только
вместо заглавия «любовные песни» (хотя это в целом значения
не имеет) я предпочел бы другое, более точное. Сказать песни
«без» слов, конечно, можно, однако в самом понятии песни
(без всякого добавления) уже подразумевается участие голоса.
Эту музыку я, пожалуй, просто назвал бы «музыкой к текстам
Гейне» и т. д. Ибо тем-то данные пьесы и отличаются от мен-
дельсоновских, что они вдохновлены стихотворениями, в то
время как те, быть может, наоборот, должны вдохновлять на
сочинение стихов.
Я не знаю, следует ли музыка от начала и до конца
предпосланным ей стихотворениям, воспроизводится ли в ней
основной тон всей этой поэзии или только смысл приводимых
эпиграфов; я предполагаю, что в большинстве случаев имеет место
последнее.
Композицию как таковую следует всячески рекомендовать
всем, кто любит все превосходное, подлинное, музыкальное;
более того, она кое-где уходит корнями еще глубже, чем
родственные ей «Песни без слов» Мендельсона, в которых зато
цветущие ветви возвышаются, безусловно, стройней, свободней и
одухотворенней: там господствует глубина, здесь же
стремление ввысь.
Самой прекрасной и самой глубокой я считаю ту, которая
является и самой легкой: «Wenn ich mich lehrf an deine Brust,
kommt's uber mich wie Himmelslust». Музыкальный перевод
заключения этого гейневского стихотворения: «Doch wenn du
sprichst, ich liebe dich, so muss ich weinen bitterlich» *,
композитор, вероятно, отложил себе на будущее.
В № 2 аккомпанемент кажется мне слишком
живописующим, слишком внешним4. Во всяком случае при переходе
в мажор должна была появиться новая, успокаивающая
фигура.
* Г. Гейне. Лирическое интермеццо, № 4. В переводе В. Левика:
Склонюсь на грудь и, как в раю,
Блаженство трепетное пью,
Но ты шепнешь: «Люблю, твоя», —
И безутешно плачу я!
155
В № 1 «JPer Holdseligen sonder Wank sing1 ich frohlichen
Minnesang» * музыка отодвигается на задний план, уступая
главное место радостным возгласам любящей души; кроме
того, ближе к середине пьеса несколько расплывается и только
в конце (переход из c-moll в As-dur) снова согревает.
Остальные номера в большей или в меньшей степени
хороши, но это всегда напевы, идущие от самого сердца.
Единственная пьеса, об отсутствии которой я бы не пожалел, — это № 5.
Все без исключения тексты лиричны.
22
24. КРИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
* «Музыкальный друг семейства». 11-й год издания
Изданиям карманного формата в музыке едва ли повезет,
не в пример «карманной музыке». Однако несчастье ранее
издававшихся альманахов, погибших еще прежде, чем им
присвоили имя, заключалось не только в формате, но и в самом
содержании. Иовелл, анекдотов, песен для гитары,
танцевальных пьес слишком мало для тех, кто ждал целый год. И в
данном карманном издании — несмотря на то, что у него было
десять предшественников — нечего было бы похвалить (за
исключением фантазии по поводу соломы и непритязательности
всего остального), если даже лучшее в нем многие считают
весьма скверным и, перелистывая, пропускают целые страницы.
Это лучшее—напечатанные наверху музыкальные афоризмы
на все времена года, какие и Гете мог бы написать в юности1.
Возьмись за них некий музыкальный двойник Гете, получилось
бы веселое дополнение к гайдновским «Временам года», о
которых, кстати, кто-то сказал, будто в них можно услышать, как
растет трава2; однако не следовало бы, как это сделано в
карманном издании, писать их все в форме канона, как бы забавно
это ни звучало в отдельных случаях.
Я читал эти стихи перед сном и мысленно пропел их
каноном. Всю ночь после этого мне снились всякие прелестные сны
про мартовские фиалки, праздничное жаркое и т. д. Итак,.
мы можем рекомендовать это карманное издание нашему
читателю.
12
* «Той, что сердце мое покорила, я пою, исполненный сил, веселую
песнь любви».
156
3. Тальберг. Fantaisie sur «Norma» pour Piano.
Фантазия на темы из «Нормы» [Беллини] для
фортепиано. Соч. 12.—Ф. Калькбреннер.
Fantaisie sur «La straniera». Фантазия на темы из
«Чужестранки» [Беллини] для фортепиано. Соч. 123
(Суаре у графини)
Атташе. Счастливые клавиши, графиня, дерзающие служить опорой"
для этих пальчиков! Поистине, будь я роялем, я бы каждым своим звуком
давал пианистке новое имя, означающее красоту и добродетель. Звук С звал
бы ее Коринна (Corinna), D — Дездемона, Е — Элеонора, F — Фиормона 3,
Вы догадываетесь, о чем я прошу?
Мы не без оснований сопоставляем названные выше
произведения. Единственная между ними разница—лишняя цифра 3
в обозначении опуса. Это милейшие характеры, которые
большой свет отшлифовал как куски льда, гладкие и блестящие.
Лести учишься по мере того, как тебе льстят: дающий и
приемлющий пьют сладкий яд одинаковыми глотками; поистине...
Графиня. «Последние дни Помпеи»? О, я люблю эту книгу. Слепая
божественна 4.
Артист. А вам при этом не вспоминается Миньона?
Г р а ф и <н я. Конечно. Но разве Булвер знал немецкий?
Мать. А разве не он перевел «Геца фон Берлихингена»?
...Поистине я завидую этим композиторам, которые
способны беседовать с очаровательнейшей супругой пасла, не
шокируя какими-либо гениальными суждениями; с какой грацией
они умеют поднять перчатку и при этом тонко намекнуть на
шиллеровскую — опасную5. Правда, самому молодому из них
придется еще потрудиться, пока за ним в салоне признают та
положение, которое старый уже давно себе обеспечил;
потому-то первый из них иногда еще и цитирует Гете или
Бетховена, разговаривает даже остроумней, чем это дозволено в
высших кругах, в то время как второй своими старыми приятными
галантностями кавалера гораздо быстрее покоряет сердца;
между тем мы не хотели бы, чтобы...
Атташе. Итак, вы не можете разгадать этой шарады, сударыня?
Позволю себе ее вам повторить. Я называю вам три слога. Первый —
известная порода [Кальк — известь], которая, вероятно, часто встречается в по-
следних двух, в точности воспроизводящих название горы [Бреннер]. В
целом вы любите великого виртуоза...
Графиня. Решаю вашу шараду при помощи другой, состоящей иа
двух слогов. Без первого {Таль — долина] не было бы второго [Берг —гора}
и наоборот. Целое обладает богатыми залежами; только пусть оно
опасается попасть туда, где оба слога кончаются...
Вот уже пробило одиннадцать. Куда же девался Эвсебий?
Флорестак
157
Шельма, я прекрасно видел тебя через окно, — видел, как
ты сидел у Рёмера за стаканом вина, как ты тер себе лоб и,
наконец, попытался зажечь трубку, чтобы вызвать в себе
критические мысли. Но это курьезный способ рецензирования...
Эвсеб.
25. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОНАЛЬНОСТЕЙ
Высказывались и за и против; истина, как всегда, лежит
посередине. Так же, как нельзя утверждать, что то или иное
ощущение для своего правильного выражения в музыке
требует определенной тональности (напр., теоретически предписать,
что для истинного выражения гнева требуется cis-moll и т. п.),
точно так же нельзя согласиться и с Цельтером, полагающим,
что все можно выразить в любой тональности. Этот вопрос
поставлен был еще в прошлом столетии; в частности, поэт
К. Д. Шубарт указывал на связь тональности с выражением
определенного чувства1. Но сколько бы тонкого и поэтического
не было заключено в этих его характеристиках, он прежде
всего совершенно упустил из виду важнейшие отличительные
черты мажорных и минорных тональностей; к тому же он приводит
слишком много мелочно-детализирующих эпитетов, что было
бы очень хорошо, если бы это отвечало действительности. Так,
он называет e-moll девушкой в белом платье с розовым бантом
на груди; в g-moll он находит неудовольствие, состояние «не по
себе», терзание от несбывшихся надежд, мрачные угрызения
совести. И вот сравните с этим моцартовскую g-molTHyK)
симфонию, эту парящую греческую грацию, или g-moH'Hbm концерт
Мошелеса — и судите сами! Давно установлено, что, перенося
произведение из первоначальной тональности в какую-нибудь
иную, мы достигаем другого впечатления и что в этом как раз
и проявляется различие в характере тональностей. Попробуйте
сыграть, например, «Sehnsuchtswalzer» в A-dur и Jungfernchor
в H-dur!2 В новой тональности обнаружится нечто противное
чувству, ибо естественное настроение, породившее эти вещи,
должно будет сохраниться как бы в чуждой ему сфере.
Процесс, заставляющий композитора выбрать ту или иную
тональность для выражения его ощущений, необъясним, как и само
творчество гения, которое вместе с мыслью одновременно
создает и форму, т. е. сосуд, вмещающий мысль. Композитор
поэтому находит необходимую ему форму непосредственно, как
живописец свои краски, не размышляя особенно долго. Если же
действительно в разные эпохи выработались определенные
стереотипные характеры тональностей, то следовало бы сопоста-
158
вить друг с другом шедевры, написанные в одной и той же
тональности и признаваемые классическими, и сравнить
преобладающие в них настроения; но для этого, разумеется, здесь не
хватит места. Заранее же следует допустить существование
разницы между мажором и минором. Первый — действенное,
мужское начало, второй — пассивное, женское. Менее сложные
чувства требуют для своего выражения и менее сложных
тональностей; более сложные лучше укладываются в тональности
необычные, с которыми слух встречается реже. Смыкающийся
квинтовый круг дает поэтому самое лучшее представление о
нарастании и падении. Так называемый тритон, т. е. fis,
является как бы высшей точкой, той вершиной, от которой —
через бемольные тональности — идет падение снова к
безыскусственному C-dur.
26. ТРЕТЬЯ СИМФОНИЯ К. Г. МЮЛЛЕРА
(Сыграна в тринадцатом концерте лейпцигского Гевандхауза)
Будь я издателем, уже сегодня передо мной лежала бы
раскрытой рукописная партитура, а через несколько недель и
напечатанная. Без партитуры об этой симфонии можно еще
кое-что сказать, но отнюдь не судить о ней, ибо произведение
столь немецкое нельзя сразу же разглядеть со всех сторон.
Так, например, то, что в Страсбургском соборе издали кажется
лишь украшением и заполнением, оказывается при ближайшем
рассмотрении органической частью целого. Однако неплохо
бывает и в тех случаях, когда первое впечатление от какой-нибудь
вещи мы предоставляем фантазии; ведь, скажем, при лунном
свете весь массив собора кажется гораздо более волшебным,
чем при солнечном, проникающем в мельчайшие узоры.
Общеизвестно, что большинство молодых композиторов
хочет сразу же слишком хорошо сделать свое дело; так, напри-
мер, они нагромождают много лишнего тематического
материала, который при дальнейшей обработке в малоопытных руках
превращается в бесформенные комья. Нечто подобное
усматривалось в двух прежних симфониях Мюллера; однако в
настоящей, третьей его симфонии все расчленяется гораздо легче и
удачнее, и можно ожидать, что если уже сейчас его симфония
приближается к мастерству по своему рисунку, то следующая
приблизится к нему и по колориту.
Конечно, дух и его царственная свита — всегда самое
главное. И здесь, особенно в последней части, он дает о себе знать
с гордостью, более того, со смелостью. Это вдвойне удивляет и
радует в композиторе, который прежде робко предпочитал
оставаться там, где чувствовал твердую почву под ногами.
Отдельные черты, напоминающие бетховенскую манеру, иной pas
159
наталкивают даже на размышления, которые в некотором
смысле говорят в пользу молодого композитора: его
самобытные находки весьма выгодно отличаются от прежних попыток
лодражать чужому образцу. К таким находкам я отношу,
например, в высшей степени нежную реминисценцию перед
концом всей симфонии, реминисценцию, которая, как бы
оживленная чувством удовлетворения от собственной мысли, переходит
к шумному, ликующему заключению. Другие интересные
моменты, отдельные красоты гораздо легче было бы обнаружить,
просматривая партитуру, нежели сейчас, когда приходится
довольствоваться лишь отзвуками целого.
Так, первой темы Allegro я в точности уже не могу
припомнить, знаю только, что я сомневался, принимать ли ее всерьез
или в шутку; пожалуй, здесь то и другое; вторая же тема, с ее
очень привлекательным и запоминающимся ритмом, выражена
гораздо более правдиво и определенно.
В более медленной, средней части особенно запомнилось
Stringendo, в котором стремительно развивается жизнь с ее
полнотой и надеждой на будущее. Как раз то обстоятельство,
что в конце предчувствуешь, что еще что-то будет, является в
драматическом отношении преимуществом этой симфонии перед
другими, в частности перед симфониями старой школы; в них
все четыре части были как внешне, так и внутренне,
завершенными и находились как бы в покое одна рядом с другой. Лейп-
цигцы любят похлопать после Adagio, и на этот раз хлопки их
были оправданы.
Ритм скерцо после первого прослушания остается неясным;
однако, чтобы в нем разобраться, хватило бы одного взгляда,
брошенного на партитуру. Alternativo может сделаться
любимцем симфонической публики: тяжелый нажим на слабой доле
такта напоминает удары в «Героической симфонии»
[Бетховена]:
etc.
Но [у Мюллера] "он воздействует совершенно иначе, так что
внешнее сходство вспоминается лишь между прочим. Если не
ошибаюсь, эта часть, как и все остальные, обрывается слишком
неожиданно. Следует всячески остерегаться — как я в свое
время уже писал — заставлять слушателя прочувствовать или
продумать что-либо новое ближе к концу, когда мысль должна
найти спокойное завершение. Такие острые концы часто
называли оригинальными, но ведь нет ничего легче, чем написать
оригинальный конец (да и вообще всякий конец), даже если и
не идти так далеко, как Шопен, который недавно остановился
на квартсекстаккорде1. Я говорю это вообще и безотносительно
к нашей симфонии.
160
Последняя часть самая страстная, почти сплошь как бы
опутана шелестящей фигурацией у скрипок; многое, быть
может, не столь красиво, сколь интересно сработано и задумано.
Конец всей симфонии в целом мною уже упоминался.
Итак, по глубочайшему нашему убеждению, произведение
это делает большую честь новому немецкому таланту, и его по
заслугам можно назвать одним из лучших среди большинства,
написанных в этом жанре. Пусть же замечания наши,
высказанные без всякой претензии на безошибочность суждения, хотя
бы отчасти докажут самому композитору, столь ревниво
охраняющему чистоту своих устремлений и не идущему на поводу
у толпы, с каким нетерпением и с какой радостью многие уже
предвкушают его будущие достижения.
Я совершенно намеренно сказал в самом начале, что, будь я
издателем, я напечатал бы симфонию через несколько
недель. Если бы я что-либо смыслил в этом деле, я попросил бы
скромного композитора о некоторых маленьких изменениях.
Завершение чего-нибудь вызывает, конечно, блаженное чувство,
но многое зависит и от начала, если оно вышло из рук гения.
Так, я многое изменил бы уже во вступлении, появившемся
здесь, видимо, только потому, что так принято. К чему здесь
вообще эта церемонная, патетическая затея? Как бывает
отрадно, когда Моцарт (в g-тоП'ной симфонии) и Бетховен (в
большинстве своих позднейших) сразу же вводят нас в богатую,
кипящую жизнь! Да! Я считаю — даже в некоторых Гайднов-
ских симфониях — этот внезапный скачок от Adagio к Allegro
большим эстетическим преступлением, чем сотню
хроматических параллельных квинт. Далее, я бы чем-нибудь оттенял
отдельные четырехголосные эпизоды духовых инструментов, ибо
это всегда звучит так, словно они вот-вот скажут: «Слушайте,
вот мы и дуем в четыре голоса», не говоря уже о некоторой
неловкости в публике, внимательно следящей за паузирующи-
ми скрипачами. Наконец, в последней части при нарастаниях
от форте и фортиссимо до /// я, пожалуй, выкинул бы
несколько инструментов, чтобы иметь их под рукой для fff. Так обстоит
дело, скажем, в последней части А-с1иг'ной симфонии *, в
которой, когда думаешь, что шум народа уже достиг возможных
пределов, тут же внезапно и вступают новые голоса и новые
силы, которые доводят неистовство до, быть может, наивысшей
(по интенсивности) силы, доступной музыке. — После этого же
(будь я издателем) партитура и должна была бы выйти в свет.
Написано на утро после исполнения.
Флорестан
* Боюсь, что бетховенцы побили бы меня камнями, если бы я отважился
сказать им, какое содержание я вкладываю в финал А-с1иг'ной симфонии.
[Ш
6 Р Шуман, т I
27 «DIE WEIHE DER TONE». «ОСВЯЩЕНИЕ ЗВУКОВ».
СИМФОНИЯ Л. ШПОРА
(Исполнена в Лейпциге 5 февраля 1835 года) 1
Чтобы набросать картину этой симфонии для тех, кто ее не
слышал, пришлось бы в третий раз прибегнуть к поэтическому
пересказу; ведь поэт, создавая свой текст, вдохновлялся
музыкой, Шпор же, в свою очередь, положил его вдохновение на
музыку. Если бы нашелся слушатель, который, не будучи
знаком с поэмой и с заглавиями отдельных частей симфонии, мог
бы дать нам отчет об образах, ею в нем вызываемых, это
послужило бы для нас пробным камнем, чтобы судить, насколько
удачно композитор разрешил свою задачу. К сожалению, я
тоже был предварительно знаком с программой симфонии и
против воли вынужден облекать музыкальные образы, и без
того слишком навязчивые, в еще более материальную одежду
поэмы Пфайфера.
Но отбрасывая эти мысли в сторону, я хотел бы сегодня
коснуться другого. Если я, впрочем, нападаю на сочинение
музыки именно к данному тексту и тем самым задеваю ее
идейную сущность, то само собой разумеется, что я не хочу
одновременно ставить под удар это в общем превосходное
музыкальное произведение.
Бетховен отлично знал опасность, которая ему грозила при
создании «Пасторальной симфонии». В нескольких
предпосланных им словах: «больше выражения чувств, чем живописи»,
заложена целая эстетика для композиторов, и поистине
смехотворно, когда живописцы на своих портретах изображают
Бетховена сидящим у ручья — прижав голову к руке, он
прислушивается к журчанию струй. Мне думается, что в случае нашей
симфонии опасность была еще большей.
Если кто-нибудь когда-нибудь сумел обособиться от всех и
остаться верным самому себе, то это именно Шпор с его
прекрасной вечной грустью. Но так как он на все смотрит как бы
сквозь слезы, темы его расплываются в бесформенные эфирные
образы, для которых едва ли существуют названия; это —
непрекращающееся звучание, правда, управляемое и
сдерживаемое рукой и сознанием художника. Впрочем, мы все это знаем,
И вот позднее он все свои силы бросает на оперу2. Чтобы
лирический по-преимуществу поэт мог подняться до большей
силы воплощения, ему ничего лучше и не посоветуешь, чем
изучение мастеров драматургии и собственные опыты в этой об-*
ласти. Поэтому можно было ожидать, что опера, в которой он
был вынужден следовать ходу событий и развивать действие и
характеры, вырвет, наконец, Шпора из его мечтательного
однообразия. «Иессонда» возникла из самой глубины его сердца3,
Тем не менее в инструментальных своих вещах он остался при-
162
мерно тем же: третья симфония лишь внешне отличается от
первой. Он чувствовал, что должен решиться на новый шаг.
Быть может, под влиянием девятой симфонии Бетховена,
первая часть которой содержит, пожалуй, ту же основную
поэтическую мысль, как и первая часть шпоровской, он прибег к
поэзии. Как, однако, странен был его выбор, но и как созвучен
его натуре, его существу! Он обратился не к Шекспиру, Гете
или Шиллеру4, но к произведению чуть ли не еще более
бесформенному, чем сама музыка (если это не слишком смело
сказано); он воспел хвалу музыке, использовав поэму,
описывающую ее действие. Иначе говоря, в звуках описал звуки,
описанные поэтом, восславил музыку с помощью музыки. Когда
Бетховен воплотил свои мысли в «Пасторальной симфонии», то
не отдельный короткий весенний день вдохновил его на
радостное ликование, но смутно сливающийся звон всех песен песней,
парящих над нами (как, кажется, где-то сказал Гейне),
движение всего бесконечно многоголосного мироздания. Однако
автор поэмы «Освящение звуков» отразил его в своем уже
весьма тусклом зеркале, и Шпор еще раз отразил отраженное.
Но какое место занимает эта симфония сама по себе как
произведение музыкального искусства среди других новейших
произведений, об этом судить не мне, почтительно взирающему
на ее создателя, а тому знаменитому ветерану, который обещал
изложить в нашем журнале свои взгляды на этот предмет*.
Р.Ш.
28. И. МОШЕЛЕС. БОЛЬШОЙ СЕПТЕТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО,
СКРИПКИ, АЛЬТА, КЛАРНЕТА, ВАЛТОРНЫ,
ВИОЛОНЧЕЛИ И КОНТРАБАСА (IN D). Соч. 88
Рецензия будет не намного длиннее заглавия, так как мы
еще не слышали произведения в исполнении ансамбля.
Создается, естественно, впечатление, что надо всем властвует
фортепиано, хотя и не как самодержец, но все же как монарх;
поэтому мы берем на себя ответственность обещать и другим то
наслаждение, какое нам доставили фортепианная партия и
беглое ознакомление с инструментальным сопровождением1.
Если кое-кому, в частности в последних трех частях, будет
недоставать живости его ранее написанного секстета, то все же
следует вообще благодарить небо, что вновь появилось сложное
сочинение, которое потребовало от композитора всей его
серьезности и усердия и на этот раз наверняка заслуживает усилий,
необходимых для его исполнения и вознаградит за них. Ибо
кажется, что молодые композиторы, пишущие для фортепиано,
* Это был г-н кавалер Игнац фон Зайфрид в Вене. [LLL, 1852] 5
163 6*
хотят постепенно полностью отказаться от других
инструментов и возвысить свой инструмент до самостоятельной роли
некоего оркестра en miniature; более того, даже четырехручные
сочинения редко можно увидеть и услышать. Как бы то ни
было, является ли это шагом вперед для фортепианной музыки
или шагом назад, если принимать музыку за целое, все же
давайте помнить о той радости и той пользе, которые всегда
доставляли и будут доставлять совместное музицирование и
совместные устремления.
Трудности фортепианной партии не являются ни смелыми,
ни новыми, но хорошо продуманы и органично входят в целое.
Своеобразная, здоровая и уверенная манера игры этого
виртуоза как бы слышится на каждой странице.
В издании без сопровождения — как и вообще во всех
аранжировках — хотелось бы, чтобы в местах, поддержанных
Другими инструментами и лишь благодаря им приобретающих
значение, аккомпанемент был бы указан еще точнее, чем это
сделано, и это не для того, чтобы исполнителю меньше
приходилось следить за сопровождением, но чтобы он мог при сольной
игре в своем воображении как бы вести за собой инструменты.
Если же при отсутствии аккомпанемента голоса
концентрируются так, как это имеет место на странице 10-й, следует, как
нам кажется, иными средствами изложить то, что, будучи в
точности перенесено на фортепиано, не достигает эффекта. Из-
ложение же, какое мы находим в указанном месте,
воспринимается как пробел и пустота, которую очень легко было бы
заполнить. Но это лишь мелочь, и едва ли, обращаясь к такому
мыслящему и добросовестно работающему композитору, каким
Мошелес предстает перед нами в своих крупных произведениях,
мы можем сказать что-либо, чего бы он не знал еще тогда,
когда рецензент штудировал его «Alexandervariationen», то есть
более десяти лет назад2. Но для других композиторов мы это
отметим. Ибо в т^м, что они, например, так небрежно и не
пнанистично аранжируют tutti своих кониертов, — басы внизу,
мелодия наверху, посередине две немые октавы — заключается
причина безответственного, недостойного отношения к tutti: его
считают чем-то второстепенным и еще более, чем сам
исполнитель, радуются, когда tutti кончается и можно перейти к
сольной партии. Уж избавьте нас от рассуждения, что во время
tutti якобы нужно передохнуть. Никто иной, как Мошелес
может явиться лучшим, достойным подражания образцом
уважительного отношения к композиторам и к сочинениям. Мы
неоднократно слышали, как он в приватной обстановке исполнял
свои концерты: с какой силой и энергией, с какой тонкой
нюансировкой различных инструментов воссоздавал он своими
десятью пальцами звучание оркестра; в этом он проявлял себя
как истинный художник.
12
164
29. «ЯРОСТЬ ИЗ-ЗА ПОТЕРЯННОГО ГРОША»
РОНДО БЕТХОВЕНА
(Посмертное сочинение)
Едва ли существует нечто более забавное, чем эта шутка.
Я сразу же начал хохотать, сыграв ее недавно впервые. Но
каково же было мое удивление, когда при вторичном
проигрывании я прочел следующее примечание: «Это каприччо,
найденное в бумагах Л. в. Бетховена, озаглавлено в рукописи
«Ярость из-за потерянного гроша, излившаяся в некоем
каприччо»1.— О, эта очаровательнейшая, бессильнейшая ярость,
подобная той, которая охватывает, когда вам не удается
стащить с ноги сапог, и вот вы потеете, топаете, а он совершенно
флегматично посматривает вверх на своего владельца.
Ну вот, наконец-то я вас поймал, бетховенцы! — Еще не так
хотел бы я свирепствовать и всех вас до единого поглаживать
нежнейшим кулаком, когда вы выходите из себя, закатываете
глаза и в безмерном восторге возглашаете: «Бетховен
стремится только к безмерному, летит от звезды к звезде, отбросив все
земное!» «Сегодня у меня поистине душа нараспашку»,— так
любил он говорить, когда ему было весело. И тогда он
смеялся, как лев, и наносил удары направо и налево, ибо он во всем
был неукротим.
Я побиваю вас этим каприччо. Вы, конечно, найдете его
слишком обыденным, точно так же, как и мелодию к «Freude
schoner Gotterfunken»2 в d-тоИ'ной симфонии, и запрячете его
далеко-далеко под «Эроику»! Но поистине, если когда-нибудь
на Страшном суде искусств гений правды будет держать весы,
на одну чашу которых положат это «Groschencapriccio», а на
другую — десяток новейших патетических увертюр, — высоко,
до небес взлетят увертюры. Но прежде всего одному могли бы
вы здесь поучиться, молодые и старые композиторы, — о чем,
думаю, необходимо вам время от времени напоминать:
естественности, естественности и естественности!
* 30. МАНУСКРИПТЫ
Ф р. П[а р]ц ш К «Радость и горе». Песня
Гете для голоса с фортепиано
Я бы эту песню вовсе не упомянул и не пытался бы по этой
солнечной пылинке измерить солнце (как, вероятно, выразился
бы композитор), если бы не приложенное письмо/ Эта песня
столь же радостна и скорбна, как и многие иные, и приятно
165
будет услышать ее в исполнении какой-нибудь девушки у окна
в час сумерек. Пусть только мой композитор сочиняет так же,
как он пишет письма, т. е. весело и в хорошем расположении
духа, и мир будет ему благодарен! В письме я прочел даже о
симфонии, которую он написал несколько лет тому назад. И
хорошо сделал. Если хочешь проверить, есть ли в тебе нечто
драгоценное, испытывай и шлифуй себя, как обрабатывают алмаз.
Пришлет ли мне автор письма дополнительно разрешение, если
я его представлю любезным читателям, приведя его
собственные слова?2
«...Настанет пора, когда наши правнуки, даже внуки нас
перерастут и в конце концов обилие лавров скроет от нас (от
меня) весь белый свет! Да это и естественно, так как нам тогда
придется (не играть, видит бог! а просто) существовать под
неким шатром, но надеюсь, именно поэтому мы уже не будем
блуждать в потемках, как это часто бывает с нами теперь!
К сказанному следует добавить, что вследствие некоторых
обстоятельств я писал эту вещь (симфонию) при помощи старого
спинета ( как некогда Рамо), который к тому же звучал на
терцию ниже. Досуга у меня было мало; я наслаждался им
только во время каникул, когда францисканцы оставляли меня '
в покое в качестве кантора и учителя музыки или когда я,
испытывая творческие муки, сам себе их устраивал. Это удалось
мне несколько раз летом, когда и без того было мало
посетителей, потому что многие мои ученики на лоне природы
занимались не науками, а лежанием на сене и вольными мыслями
по поводу фантастического движения облаков и полета птиц.—
Если же по счастью приходил лишь один субъект, то я ему,
спустя две-три минуты, говорил: ему, так же, как и мне,
очевидно, что сегодня, как уже бывало, во всяком случае никто
больше не придет и потому занятий быть не может. — Когда
этот ученик удалялся, то, правда, через несколько секунд
являлся другой. Тому я жаловался: «К сожалению, он сегодня,
по-видимому, будет единственным, а посему он может идти»! —
У меня уже появлялась надежда. — Однако вскоре приходил
третий, которому я давал понять, что убегание с занятий всех,
кроме него, который совсем не во время стал порядочным и
так глупо свалился, вынуждает меня сделать доброе дело и
отправить его домой ни с чем. Четвертый, которого я энергично
отчитывал за опоздание, был рад отделаться легким испугом.—
После этого я запирал дверь и только нескольким опоздавшим
резко читал (сверху из окна) мораль! — Вы можете себе
представить, насколько эти низменные помехи сковывали мою
фантазию, и понять, что я, хоть и с жаром, но принуждая себя и с
неспокойной совестью, продолжал сочинять. — Наконец, я все
же закончил и помчался с партитурой и голосами к городскому
Musico loci, который уже собрал своих людей (в количестве трех
человек) и любителей. После терзающего душу и уши настраи-
160
вания, битья в литавры, трубных звуков и споров
подействовало мое полное отчаянья лицо. Общество успокоилось; я поднял
виолончельный смычок (кто как не я мог играть партию
виолончели?), давая знак к вступлению, и Andante maestoso
началось. Дальше мы на первой репетиции и не продвинулись.
Ибо флейтист, честный чулочник, беря G третьей октавы,
каждый раз задувал энергичным выдохом свечу — свою и своего
vis-a-vis, — отчего мы снова и снова должны были начинать
сначала. Попутно замечу: контрабасист, ипохондрик и
ремесленник, имел странную привычку играть только целыми
тонами, не учитывая бемолей и диезов! Он смотрел лишь на
местоположение ноты. Если, например, пьеса была написана в Es,
то он всегда спокойно играл £", А и Я; следовательно, иногда
совпадали лишь звуки F, G, С, D. — Сказать же ему ничего
нельзя было! У нас при исполнении получался гораздо более
примечательный «Хаос», чем у Гайдна в его увертюре к
«Сотворению мира». Я же сидел подобно флюгерному петуху на
мачте этого музыкального корабля, как организующее начало
моей нечленораздельной звуковой массы, и странно сквозь
слезы улыбался. — Однако» и т. д.
Вашу руку, дорогой учитель! Мы друзья.
Флорестан
В. Б о м м е р. Две сонаты для фортепиано
Сонаты заслуживают внимания, хотя мы и воздерживаемся
от настоятельного совета издать их. То и дело кажется, что
некая старательность в работе, боязливая забота о симметрии
и форме мешают свободе. С сочинением третьей и четвертой
сонат, к чему мы дружески побуждаем композитора, это
пройдет. Первую часть в As мы считаем наиболее удачной, она
парит, словно фея, и под этой легкой поступью трава едва
колышется.— Adagio не будут удаваться современным
композиторам до тех пор, пока они будут пытаться писать их так, как
это делали Моцарт и Гайдн. Зачем сочинять, оглядываясь
назад? Кому идет парик, тот пусть его и надевает, но не
убирайте непокорный юношеский локон, даже если он несколько
прихотливо свисает на лоб. Итак, локоны, сочинители сонат, и
не поддельные!
Ф—н
Г. Ф л ю г е л ь. Вариации с интродукцией и
финалом на тему тирольской песни из оперы
Россини «Вильгельм Телль» для фортепиано
Старый Моцарт (молодому я только что пожимал руку на
прощание3) однажды написал некоему графу, чьи сочинения он
просматривал: «Пусть Ваше превосходительство не удивляется,
167
если Вы теперь увидите в рукописи больше оконных
переплетов, нежели нот...» Под оконными переплетами он
подразумевает изящные решетки, которыми композиторы часто с пора-
зительнейшим усердием перечеркивают нотные линейки, когда
они хотят изъять что-либо из сокровищницы своего бессмертия.
Я предложил бы нашему окрыленному композитору * наставить
побольше таких решеток—например, перечеркнуть сразу все
вступление. Зачем так долго церемониться с темой, которая
известна каждому? Если же автору непременно понадобилось
вступление, то почему бы вместо чопорных прелиминариев не
дать лучше несколько легких, приятных аккордов, в которых
чувствуется что-то от альпийских рожков или альпийских роз?
Правда, это всегда трудно. Затем мне бы хотелось убрать
марш, так как он недостаточно характерен, потом — шестую
вариацию с неуместным, на мой взгляд, намеком на «Di tanti
palpiti» и, наконец, некоторые разделы финала. Здесь не место
вдаваться в разъяснения. То, что останется после всех
изменений, достойно похвалы, а отдельные своеобразные черты —
даже большой похвалы. Композитор живет в маленьком городке,
и в этом я вижу причину всех его недостатков. Нехватает же
ему грации, подвижности, художественного такта. Пусть же
будущее восполнит все эти изъяны, и пожелаем ему, чтобы для
него не была окончательно отрезана возможность изменить
поле своей деятельности. Тогда мы с удовольствием напомним
публике об этом молодом композиторе, которого мы сочли
необходимым судить со всей строгостью именно в силу его
таланта и серьезности его устремлений.
Э. В е б е р. Ноктюрн для двух фортепиано
в восемь рук
Тому, кто носит имя «Вебер» или «Мюллер» нужно вдвое
больше времени, чтобы стать известным среди публики,
которая, вопреки всем уверениям, все еще не желает верить, что
«Sehnsuchtswalzer»4 написал не Бетховен. Автор лежащего
перед нами сочинения — глава музыкального учебного заведения
в Штаргарде, основывающегося на принципах Ложье5, и для
него не составляет труда найти участников для исполнения в
восемь рук. У нас же их нет, и потому мы слышали эту
непритязательную пьесу, написанную в фильдовском духе, только
внутренним слухом, для которого она звучит хорошо. Не
заглушается ли кое-где мелодия сопровождением? Хотелось бы
услышать это сочинение, когда оно будет напечатанным.
* В оригинале «Flugelkomponisten»; возникает игра слов, связанная с
фамилией композитора и с двойным значением слова «Fltigel» (крыло и
рояль).
168
31. КАРНАВАЛЬНАЯ РЕЧЬ ФЛОРЕСТАНА
(произнесенная после одного из исполнений
последней симфонии Бетховена)
Флорестан вскочил на рояль и сказал:
Собравшиеся давидсбюндлеры! Сиречь юноши и мужи, коим
надлежит побивать филистеров, музыкальных и прочих,
особливо же давнишних (см. «Komet», последний номер за 1833 г.1),
Я никогда не увлекаюсь, друзья! Поистине эту симфонию
я знаю лучше, чем самого себя. Ни слова я не потрачу на нее.
Что бы ни говорить о ней — будет звучать до смерти нудно,
давидсбюндлеры. Я отслужил настоящие овидиевы «Тристии»-,
прослушал курс антропологии. Стоит ли приходить в ярость от
некоторых вещей, стоит ли корчить всякие сатирические рожи,
стоит ли, подобно жан-полевскому Джаноццо3, прятаться в
воздушном шаре, только ради того, чтобы люди, чего доброго,
не вообразили, что до них кому-то есть дело — так глубоко,
глубоко внизу влачатся эти двуногие существа, именуемые
людьми, по узкому ущелью, которое лишь с грехом пополам
можно было бы назвать жизнью.
Конечно, я нисколько не сердился, — тем менее, чем больше
я слышал. Особенно рассмешил меня Эвсебий. Как настоящий
плут одурачил он одного толстяка. Этот толстяк таинственно
спросил его во время Adagio: «Скажите, сударь, ведь Бетховен,
кажется, написал еще и «Военную симфонию?». «Это и есть
«Пасторальная», сударь, невозмутимо ответил Эвсебий. «Ах,
верно, верно», протянул толстяк, как бы припоминая.
На то бог и дал человеку нос, чтобы можно было водить его
за нос. Многое способна перенести она, эта публика, и об этом
я мог бы рассказать великолепнейшие вещи. Например, тот
случай, когда вы, Книф, как-то в концерте переворачивали мне
ноты, — фильдовский ноктюрн. Публика была уже наполовину
погружена в самосозерцание, т. е. спала. По несчастной
случайности я зацепил на этом хвостатом флюгеле *— самом
потрепанном из когда-либо залетавших в концертный зал —
вместо педали нечто, вызвавшее янычарскую музыку4; к счастью,
я извлек звук настолько piano, что не мог отказать себе в
удовольствии заставить публику поверить, будто это издали
доносится нечто вроде марша; время от времени я тихонько
повторял этот эффект. Эвсебий разумеется, сделал все от него
зависящее, чтобы разгласить происшедшее; публика же бурно
выражала одобрение.
Множество подобных историй припоминалось мне во время
Adagio, пока не ворвался первый аккорд финала. «Ведь это,
* Игра слов: Flugel по-немецки крыло и рояль.
169
кантор (сказал я вздрогнувшему соседу), не более чем
трезвучие с задержанной квинтой в несколько мудреном
расположении, так как не знаешь, что считать басом — А у литавр или F
у фагота? Посмотрите хотя бы у Тюрка5, часть 19-ая, стр. 7!» —
«Ах, сударь, вы очень громко разговариваете и конечно
шутите». Тихим, пугающим голосом сказал я ему на ухо: «Кантор,
берегитесь грозы! Молния не высылает впереди себя
ливрейного лакея, в лучшем случае — бурю до и гром после. Таков уж
ее обычай». — «Все же такие диссонансы должны быть
подготовлены»,— но тут разразился второй удар. — «Кантор,
прекрасная септима трубы прощает вас».
Я совершенно обессилел от собственной кротости, но я
хорошо погладил его своими кулаками.
Теперь ты, дирижер, доставил мне прекрасную минуту: темп
в низком басовом проведении темы6 так великолепно
подчеркивал линию, что я забыл почти всю свою досаду от
исполнения первой части, в которой, несмотря на скромно
вуалирующую надпись «Un poco maestoso»7, говорит божество,
медленно шествующее в своем величии.
«Что, однако, мог подразумевать Бетховен под этими
басами?»— «Сударь, — говорю я, — ответить на это не так-то
легко; гении любят шутить, здесь, видимо, нечто вроде песенки
ночного сторожа». —
Прекрасной минуты как не бывало, и сатана снова тут как
тут. Ну и насмотрелся я на этих бетховенцев, как они стояли
с вытаращенными глазами и говорили: это принадлежит
нашему Бетховену, это — немецкое творение; в последней части
двойная фуга — ему ставили в упрек, что это не его дело — но
к а к он это сделал; да, это — наш Бетховен. Тут вступил
другой хор: кажется, что в этом произведении содержатся все
виды поэзии, в первой части — эпос, во второй — юмор, в
третьей— лирика, в четвертой (сочетание всех других)—драма.
Кое-кто прямо-таки изощрялся в похвалах: гигантское
творение, колоссальное, сравнимое с египетскими пирамидами.
Другие расписывали: симфония изображает историю сотворения
человека— сначала хаос, затем возглас божества: «Да будет
свет» — и вот восходит солнце над первым человеком, который
восхищен таким великолепием; словом, вся первая глава
«Пятикнижия».
Я становился злее и тише. И пока они усердно следили по
тексту и, наконец, захлопали, я схватил Эвсебия под руку и
увлек его вниз по ярко освещенным лестницам в окружении
улыбающихся лиц.
Внизу под темными фонарями Эвсебий произнес как бы про
себя: «Бетховен — что кроется в этом слове! Уже сама по себе
глубокая звучность этих слогов словно вливается в вечность.
Кажется, что для этого имени не может быть другого
начертания». — «Эвсебий, — сказал я действительно спокойно, — не-
170
ужели и ты осмеливаешься хвалить Бетховена? Как лев
воспрянул бы он перед вами и спросил бы: кто вы такие, что
отваживаетесь на это? Я не тебе это говорю, Эвсебий,
ты—хороший — но неужели великий человек должен всегда иметь в
своей свите тысячу карликов? Они улыбаются и хлопают,
воображая, что понимают его — того, кто был так полон
устремлений, кто так боролся в бесчисленных битвах. Они, которые не
могут дать мне отчета о самом простом музыкальном законе,
берут на себя смелость судить о мастере в целом? Эти люди,
которых я, всех до одного, обращаю в бегство, стоит мне
только обронить слово «контрапункт»,—эти люди, которые, быть
может что-то и уловили в его музыке, сразу ;же восклицают:
о, да это скроено как раз по нашей мерке,— эти люди,
которые хотят говорить об исключениях из правил, им
неведомых, — эти люди, которые ценят в нем не меру при его
гигантских силах, а именно чрезмерность — мелкие суетные люди —
ходячие вертеровские страдания8— немощные хвастливые
мальчишки — и эти люди хотят его любить, более того —
хвалить?»
Давидсбюидлеры, я сейчас не знаю никого, кто имел бы на
это право, кроме силезского помещика, который недавно так
написал одному музыкальному торговцу:
Милостивый государь,
скоро мой музыкальный шкаф будет в порядке. Посмотрели бы Вы, как он
великолепен. Внутри алебастровые колонки, зеркала с шелковыми
занавесками, бюсты композиторов, словом — одно великолепие. Но чтобы как можно
лучше его украсить, прошу Вас прислать мне полное собрание сочинений
Бетховена, так какон мне очень нравится9.
Что я еще мог бы сказать, я, честно говоря, не знаю.
32. ИЗ КНИЖЕК ДАВИДСБЮНДЛЕРОВ
СОНАТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
Дельфина Хилл-Хандлей, урожд. фон
Шаурот. Соната (c-moll). — К. Лёве.
Элегическая соната (f-moll). Соч. 32; Блестящая соната
(Es-dur). Соч. 41. — В. Тауберт. Большая
соната (c-moll). Соч. 20.— Л. Шунке.
Большая соната (g-moll). Соч. 3
Подойди ближе, нежная художница, и не страшись
свирепого слова, которое грозит тебе сверху!* Клянусь тебе, что я от-
* Прежнее заглавие «Критика». [Ш., 1852] • : г
171
нюдь не какой-нибудь Мендель1, а скорее Александр/ когда он
по Квинту Курцию говорит: «С женщинами я не сражаюсь, и
нападаю лишь там, где есть оружие». — Как стебельком лилии,
буду я критическим жезлом овевать твою главу, или ты
думаешь, что мне неведом тот миг, когда что-то хочешь сказать,
но, от переполняющего тебя блаженства, этого сделать не в
силах, когда хочется все прижать к своей груди, пока еще не
найдено единственное, и когда именно музыка показывает
нам то, что нам еще когда-либо суждено утратить? — В таком
случае ты ошибаешься.
Поистине, в этой сонате, как на ладони, — весь твой
восемнадцатый год; все, что в нем есть преданного, милого,
бездумного — ах! чего только в ней нет? — даже немного учености.
В ней звучит все, что заложено в едином мгновении, в
настоящем. Никакого страха по поводу того, что уже случилось,
никакого страха перед тем, что могло бы произойти. И если бы
даже в ней ничего не было, пришлось бы похвалить сестру
Коринны2 за то, что она отказалась от миниатюрной живописи,
обратившись к более высоким формам, и захотела дать нам
картину в натуральную величину. Почему Меня не было при
ней, когда она записывала эту сонату? Я простил бы ей все —
и фальшивые квинты, и негармоничные перечения, словом —
все; ибо в самом существе ее — музыка, самая женственная,
какую только можно себе представить; более того, она
дорастет до романтики и, таким образом, вместе с Кларой Вик в
блистательном строю стояли бы две амазонки.
Лишь одно ей еще недоступно — сочетать воедино
композитора и виртуоза, о котором я думаю, вспоминая ее прежнюю
фамилию. Она хотела показать, что и у нее есть жемчуга,
которыми она может себя украсить. Но они ведь вовсе не нужны
в тот сумеречный час, когда, чтобы быть счастливым, не
требуется ничего, кроме одиночества, а чтобы осчастливить — лишь
вторая душа. И на этом я откладываю в сторону эту сонату,
полный самых различных мыслей.
Эвсебий
Теперь примемся за льва! Подобно молниям, молодые
критические львы охотнее всего сразу же устремляются на
вершины, будь то церковные башни или высокие дубы. Если я твердо
убежден в том, что мой любезнейший Эвсебий нашел в сонате
Дельфины много такого, чего в ней нет, то сейчас я мог бы
оказаться в обратном положении. И все же ex ungue leonem *.
* По когтям узнают льва (лаг.).
172
Я в этом ^ самого же начала убедился по одному месту,
которое меня порядком разозлило. Оно звучит так:
О боже, — думал я, продолжая проигрывать, — четыре раза
подряд повторить человеку: «Я мало что имею тебе сказать» —
не чрезмерно ли это? К тому же филистерские украшения! К
тому же самоочевидность общих мест! Я несколько смягчился,
когда в дальнейшем на меня под видом второй темы взглянула
следующая:
•1
f
Ш
К концу, с новыми басами, она мне понравилась еще
больше. Переворачиваю страницу— Andantino — что же там
написано?
173
If
r
i
r
***T
to
etc.
Следует Allegro agitato; словно собираясь не на шутку меня
рассердить, на меня наскакивает:
13
6 J,^
i?
U—*\*Ъи
—J J
N
В конце Adagio меня совсем умиротворило следующее:
В скерцо я стал было потихоньку сердиться на собственную
ярость и думал, что меня успокоит фигурация. Начинается
финал; ничего не подозревая, я продолжаю играть, и вот,
pianissimo legatissimo, зазвучало до ужаса знакомое:
Оно всюду является то в закругленных, то в угловатых
линиях, а уж к концу, чтобы я уж совсем вышел из себя, оно
начинает «тикать» и «такать»:
16
ilk
На Ьелые два часа фигура эта засела у меня в ушах, и,
конечно, автору это было на руку, так как я внутренне многое
хвалил в \гой сонате и применил к нему, правда, не в полной
мере, то, чтъ в свое время писал другой давидсбюндлер по
другому поводу\ и на что я обращаю внимание уважаемой
редакции*.
Но однажды, уже раздраженный и выведенный из себя, я
старался добраться до ахиллесовой пяты в других местах; ведь
мы у первейших героев музыки знаем такие местечки, куда
стрелы рецензентов могут проникнуть и пролить самую что ни
на есть земную кровь.
Судя по тем «лёвианам», которые я до сих пор проигрывал,
мне уже более или менее ясно, чего я хочу и что имею сказать.
Лёве наделен богатством идущей изнутри напевности, которой
отмечены его баллады; в данном случае он выбрал инструмент,
к которому — если хочешь, чтобы все здесь звучало и пело —
надо применить совсем иные средства, нежели к человеческому
голосу, и который вообще воздействует по-иному. Лёве честно
воспроизводит пальцами то, что слышит внутренним слухомk.
Между тем убогая фортепианная мелодия может еще кое-как
прозвучать, если ее хорошо спеть, но богатая вокальная
мелодия будет на фортепиано звучать в два раза хуже, чем в пении.
Чем старше я становлюсь, тем больше я убеждаюсь, что
сущность и своеобразие фортепиано по преимуществу выражаются
в трех его свойствах — в обилии голосов и смене гармоний (как
у Бетховена и Франца Шуберта)', в пользовании педалью (как
у Фильда) и в беглости (как у Черни, Герца). В числе тех,
кто пользуется первым из них, мы находим исполнителей en
gros**, вторым — фантастов, третьим — владеющих игрой «рег-
1ё» !**. Разносторонне развитые композиторы виртуозы, какГум-
мель, Мошелес, а в последнее время Шопен, применяют все
три способа одновременно и потому пользуются наибольшей
любовью пианистов; но все те, которым ни один из этих
способов не свойствен по преимуществу и которые ни один из них
особо не изучили, оказались оттесненными на второй план. Что
касается Лёве, он тоже пользуется всеми тремя в одинаковой
мере, но я не считаю его отличным пианистом, а одного
вдохновения еще не достаточно.
Можно со всей серьезностью исследовать такие вопросы,
даже вовсе и не думая об «Элегической сонате», которую я, по
многим причинам, очень люблю и предпочитаю «Блестящей»,
* «Но если вы хотите знать, что могут сделать из простой мысли
усердие, пристрастие, а главное, гений, то почитайте Бетховена и обратите
внимание на то, как он такую мысль поднимает и облагораживает и как самое
поначалу будничное слово превращается у него в конце концов в величавое
речение, оглашающее всю вселенную». [Ш.]3
** В данном случае — исполнители «большого стиля» (франц.).
*** То есть «бисерной» игрой (франц).
175
как, впрочем, вероятно, и сам композитор. Смыкать тш( части
в единое целое — таково, на мой взгляд, намерение в/ех
сочинителей сонат, а также концертов и симфоний. Старики делали
это более внешне с помощью формы и тональности. Молодые
же расширили отдельные части, создавая в них но&ые
внутренние разделы; они изобрели и новую часть цикла т^- скерцо.
Однако они не ограничивались тем, что одну идею/разрабатывали
в пределах одной части цикла: они незаметно вводили ее в
другие, где она представала в иных обличьях, в' иных
преломлениях. Словом, стремились внести в сонату интерес исторический
(не смейся, Эвсебий), а по мере того, как в искусство
проникала поэтичность, стремились также внести и интерес
драматический. За последнее время отдельные части цикла стали
связывать друг с другом еще тесней, так чтобы одна примыкала
к другой с помощью мгновенного перехода.
Если в <:Блестящей сонате» нить была более заметна Ъ
ощутима, то в «Элегической» она создает скорее духовную
связь. Эта соната от начала и до конца сохраняет тоИ'ный
характер, звучащий даже сквозь все отклонения. Беглость, с
какой сочиняет Лёве, заложена в его природе: никогда не
останавливаться на детали, мгновенно изображать целое и
завершать его без малейшей заминки. Лишь этим можно извинить
многие незначительные места, с которыми приходится
мириться, как у пейзажиста с травой и облаками, хотя проще было бы
насладиться ими в природе.
Еще одно чувствую я в сочинениях Лёве, а именно, когда
он уже кончил, мне всегда хочется что-то еше от него узнать.
К сожалению, это случалось и со мной и мне казалось
наивным, когда меня кто-нибудь спрашивал, что именно я
подразумевал в моих собственных экстравагантных излияниях, поэтому
я и от него не требую ответа; и все же я утверждаю, что у
Лёве за этим часто что-нибудь да кроется.
Во вступлении меня сразу же коробят следующие гармонии:
6 b 5 b 7 b
4 — 34
С Des H
возвращающиеся на протяжении всей части. Сами взгляните!
В остальном же Лёве сильный и нежный, пожалуй, даже
слишком страстный, чтобы его можно было назвать
элегическим. Andante я назову просто-напросто песней. Presto я
пропускаю потому, что оно мне вовсе не нравится. Из финала
сквозь решетчатое окно глядит монахиня под покрывалом: что
это звучит по средневековому, сомневаться не приходится.
Не могу удержаться от смеха, когда Лёве нет-нет да и
помечает аппликатуру, причем иной раз весьма странным
образом. Ему, вероятно, безразлично, какими пальцами его играют.
Не так ли?—Полагаю, что так.
Флорестан
17G
\ (СОНАТА В. ТАУБЕРТА)
«Первую\часть этой сонаты я считаю первой, вторую —
второй, третью4^- последней — по нисходящей линии красоты».
Примерно так,\мой любимец Флорестан, начал бы ты свою речь.
Но вы, юноши, vcpa3y же хватающие своей ослиной челюстью,
не вздумайте пойти дальше! Ведь подобно тому, как Флорестан
отличается необычайной тонкостью в умении во мгновение ока
выследить малейший недостаток любого сочинения, точно так
же, с другой стороны, и Эвсебий своей мягкой рукой быстро
вскрывает его красоты, нередко сглаживая ими и его
недостатки. Однако оба вы, как и подобает юношам, охотнее и дольше
всего задерживаетесь на тех творениях, в которых преобладает
элемент фантастический. Наше произведение к таковым не
принадлежит.
Уже прошлой весной мы совместно обсуждали маленькое
фортепианное произведение того же композитора5. Нам нег
нужды хотя бы в чем-нибудь отказываться от нашего прежнего
мнения. Как здесь, так и там, мы находим если не новые,
экстраординарные жизненные обстоятельства, то все же общие,
примерные истины, излагаемые образованным человеком в
благородной форме. Он тщательно воздерживается от
высказываний и обещаний, за которые он не может отвечать и которых
он не может сдержать, или от каких-либо шагов, которые
могли бы запутать его в долгах, настолько точно знает он свои
возможности и настолько мудро умеет ими распоряжаться.
В этом отношении многие могли бы у него поучиться.
Хотя вид природы необузданной (пока юноша постепенно не
научится заключать ее в спокойные границы искусства) сильнее
нас волнует, кажется нам более великолепным и подобным
живописно низвергающемуся водопаду, все же мы охотно
доверяем себя и покорному, безопасному течению реки, ощущая ее
дно, усеянное золотым песком и жемчужинами. Было бы
несправедливым, если бы применительно к нашей сонате мы
ограничились этим образом. В частности, течение первой части
настолько живое от начала и до конца, что последняя, при всей
ее внешней большей стремительности, кажется почти вялой;
ибо если там движение направлено из глубины ввысь, то здесь
волнуется одна только поверхность. Возможно, однако, что
человек, не знакомый с финалом сонаты-фантазии в cis-moll
Бетховена, мог бы судить и иначе, почему я и ограничиваюсь
простым заявлением, к которому в конечном счете сводится
всякая музыкальная критика, а именно, что последняя часть
мне не понравилась.
Зато первая часть кажется мне настолько хорошо
задуманной, развитой и построенной, что заслуживает более присталь-
177
ного рассмотрения. Предоставляем слово Эвсебию, мь^ли
которого на этот счет мне нравятся. /
Соната начинается вполголоса. Все как будто тол/ко
подготовляется, становится на свои места. Пение усиливается.
Вступает нечто, подобное оркестровому тутти. Вплетается быстрая
фигурация. До сих пор мы ничего примечательно^ еще не
слышали; но нас влечет вперед, хоть мы много и не размышляем.
Однако появляются вопрошающие басы в мажсфе; им отвечает
очень милый и робкий голос: «Не смотрите на/меня так сурово,
я никого не обижу» и тут же льнет к первойу, тихому напеву.
С любопытством сюда подскакивают прежние быстрые фигуры.
Сцена становится более оживленной. С трудом пробивается
более короткая, нежная и веселая мысль. Все струится вверх и
вниз; прорывается вперед и снова отступает назад. Чья-то
сильная рука наводит порядок и все завершает. Выступают два
новых, но бледных образа, мужской и женский, и рассказывают о
том, что им довелось испытать в горе и в радости. Участливо
подходят к ним другие: «Только не падайте Духом, осушите
слезы, пусть молния сверкает в глазах»; «Но простите нам боль
о тех, кого уже нет». И вот все сглаживается, все чуждое друг
другу объединяется, знакомое сочетается с незнакомым; и даже
чей-то старый голос весело замечает: «Но зачем же сразу по
любому поводу выходить из себя!». «Выслушайте меня», —
говорит первый голос.
Так сказал Эвсебий, хотя он явно вложил в это много
собственных чувств. Во второй части, о которой я совсем еще
ничего не говорил, появляется прежний главный образ, но
совершенно по-новому. Он выступает приветливо и уверенно, словно
прежняя грусть уже давно забыта; следы слез едва заметны, и
если его об этом спросить, он, конечно, будет это отрицать.
Место действия совершенно переменилось, кажется, что все
стало более практичным, более жизнедеятельным. На
некоторых физиономиях запечатлелись столь тонкие, оригинальные
черты, что мне даже незачем обращать на них ваше внимание.
Последняя часть, как мне кажется, довольно неуклюже
присоединена к скерцо, да и вообще я не могу простить ее
композитору, который должен был дождаться более удачной минуты
вдохновения.
Раро
4
(СОНАТА ЛЮДВИГА ПТУПКП
Помнишь ли ты, Флорестан, августовский вечер в
знаменательном 1834-м году? Мы шли рука об руку. Шунке, ты и я.
Над нами стояло грозовое облако со всеми его красотами и
ужасами. Я до сих пор еще вижу отблески молнии на лице
Людвигами его поднятый взгляд, когда он еле слышно произнес:
«Одна молния на нас троих!»
А ныне\небо разверзлось без молнии, и рука божества поД-
няла и перенесла его по ту сторону так тихо, что он сам едва
это заметил. ^ Ежели когда-нибудь — но пусть этот миг
наступит не скоро -^-Моцарт, властелин духов, в том мире, который
воздвигла себе^самая прекрасная вера в человека, — созовет
всех своих учеников, носивших на этом свете немецкое имя
«Людвиг», о! какие же благородные души к нему вознесутся и
с какой несказанной радостью будет он взирать на Людвига
Бетховена, Керубини, Шпора, Бергера, Шунке! — За первым
из них последовал самый младший * — в воскресное утро
седьмого декабря прошлого года, за несколько дней до того, как
ему минуло двадцать четыре года.
Зимой, за год до этого, в погребке К.6 к нам подошел
молодой человек. Все взоры были обращены на него. Некоторым
хотелось видеть в нем облик Иоанна Крестителя; другие
полагали, что если бы в Помпеях раскопали подобную голову, ее
признали бы за изображение какого-нибудь римского
императора. Флорестан сказал мне на ухо: «Ведь это вылитый тор-
вальдсеновский Шиллер, который здесь перед нами
расхаживает, только у этого, у живого, еще больше шиллеровского».
Однако все сошлись на том, что это наверное художник,
настолько уверенно природа запечатлела его звание в его
внешнем облике.
Вы все, впрочем, знали его: восторженные глаза, орлиный
нос, тонкий иронический рот, великолепные ниспадающие кудри
и под всем этим — легкий, хрупкий торс, который казался
скорее несомым, чем несущим. Прежде чем он в тот день
первой нашей встречи успел нам тихо назвать свое имя «Людвиг
Шунке из Штутгарта», внутренний голос сказал мне: «Это тот,
кого мы ищем»; но и в его глазах было написано нечто
подобное. Флорестана, настроенного тогда меланхолически7,
незнакомец мало интересовал. Их сблизил случай, о котором вы, быть
может, еще не слышали.
Спустя несколько недель после появления Шувке, у нас был
проездом один берлинский композитор **, которого вместе с ним
пригласили в одно общество. Людвиг был неравнодушен к
именам виртуозов, прославившихся в его семье, особенно к именам
валторнистов. Неизвестно почему, но за обедом разговор
коснулся валторн. Берлинец коротко заметил: «Поистине лучше
было бы не давать им играть ничего, кроме звуков Л, G, £»; и
далее: «Разве первая валторновая тема в с-то1Гной симфонии
не звучит всегда ужасно, в то время как она очень легкая?».
* С тех пор скончались и Керубини и Бергер. [Ш., 1852]
** Это был Отто Николаи. [Ш, 1852]
179
Людвиг не сморгнул, но через час он поспешно ворвался к нам
в комнату и сказал, что дело обстоит так-то и так-то^ что он
написал берлинцу письмо, что задета честь его семш, что он
предложил ему драться на шпагах или на пистолетах, и что
Флорестан должен быть его секундантом. В ответ ,йы, не
удержавшись, громко расхохотались, Флорестан заметил, что
старый знаменитый лютнист Рохаар как-то сказав: «Музыкант,
который способен на храбрость, просто-напро^о...» Поистине,
милейший Луи Шунке, вы позорите этого лютниста». Тот не на
шутку разобиделся, вообще принял это дело всерьез и, выйдя
на улицу, стал вовсю разыскивать оружейные лавки. Наконец,
через 24 часа, пришел написанный на оберточной бумаге ответ
берлинца: у него (у Шунке), верно, не все дома — он
(берлинец) с удовольствием будет с ним стреляться, но в ту минуту,
как Ш. будет читать его ответ, скорая почтовая карета под
рожок почтальона уже давно вывезет его (берлинца) из
городских ворот прямым путем в Неаполь и т. д. — До сих пор
вижу, как он стоит передо мною, такой милый, с письмом в руке,
разгневанный, как бог—водитель муз, и настолько
взволнованный, что можно было сосчитать все жилки на его белой
руке, и при этом он так лукаво улыбался, что хотелось броситься
ему на шею. Флорестану же история очень понравилась, и оба
они, как дети, стали рассказывать друг другу о своих любимых
блюдах вплоть до самого Бетховена. Следующий вечер еще
крепче и на веки стянул узы дружбы между ними.
До этого мы еще ничего от него не слушали, кроме
блестящих вариаций, сочиненных им в Вене, где он вообще, как
впоследствии сам рассказывал, сделал невероятные успехи, но
правда, только как виртуоз. Уже с первых аккордов мы заметили,
что имеем дело с мастером фортепианной игры; но Флорестан
остался холодным и по дороге домой даже излил мне всю свою
давно накопившуюся злобу против виртуозов: виртуоз, который
не мог бы потерять восемь пальцев, чтобы в случае
необходимости двумя оставшимися записать свое сочинение, не стоит, по
его мнению, пороха на один выстрел, и разве не виртуозы
виноваты в том, что самые божественные композиторы умирают с
голоду и т. д. — Тонкий Шунке отлично заметил, что он ошибся
и в чем он ошибся. Тот вечер настал; у нас собралось
несколько давидсбюндлеров, был также и майстер; о музыке вовсе и
не думали, рояль раскрылся как бы сам собой, Людвиг уселся
за него случайно, словно какое-то облако его занесло туда, и
внезапно нас увлек поток какого-то неизвестного нам
сочинения. Все как сейчас еще вижу перед собой — гаснущая свеча,
тихие, словно прислушивающиеся стены, друзья, столпившиеся
вокруг и затаившие дыхание, бледное лицо Флорестана,
задумавшийся майстер и среди них Людвиг, приковавший нас к
себе, как волшебник в заколдованном кругу. А когда он
кончил, Флорестан сказал: «Вы мастер своего искусства, и Вашим
180
лучхиимчсочинением я считаю сонату, в особенности, когда
играете ее\Вы. Поистине давидсбюндлеры были бы горды
причислить такого художника к своему ордену».
Людвиг'стал нашим. Вы хотите, чтобы я вам еще рассказал
<о тех счастливых днях, которые последовали за этим часом?
Увольте меня от этих воспоминаний. Закроем их, как венки из
роз, в самый потайный ящик, ибо существуют лишь немногие
поистине праздничные дни, когда мы вправе выставлять их на
показ.
* Но если в эту минуту благодатные гении сна овевают чело
той благородной его подруги, той женщины-художницы,
которая закрыла ему глаза и которая свои дары называла долгом,
а свою жертвенную доброту данью таланту, то пусть она
подумает о том, что эти гении — пожелания друзей, в сердцах
которых образ просветленного юноши утвердился нераздельно от
ее образа. Тех же, кто поступают подобно ей, не будем никогда
называть иначе, чем «Генриетта»!8*
После того, как давидсбюндлеры обменялись
соображениями по поводу всего этого, они расположились в кружок и
рассказали еще много грустного и радостного. Тут из комнаты
Флорестана стали доноситься мягкие звуки; друзья, узнав
соната, притихли и все больше затихали. А когда Флорестан
замолк, майстер сказал: а теперь — ни слова! — сегодня мы были
к нему ближе, чем когда-либо. С тех пор, как он от нас ушел,
в небе заметен какой-то странный багрянец. Не знаю, откуда
он. Во всяком случае, юноши, творите для света!9
Так расстались они под полночь.
* И когда я дома еще раз стал следить за стремительным
бегом облаков, под окнами раздался чужой, но благотворный
голос: «Людвиг... Людвиг». — Вероятно, это был какой-то
незнакомец, не подозревавший о том, что произошло. Я же
быстро закрыл окно и глаза, погрузившись в темную, темную ночь.
За окном полил тихий дождь, словно небу хотелось вдоволь
выплакаться *.
РЖ
33. КОРОТКИЕ И РАПСОДИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ /
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО /
Э. В е н ц е л ь. Les adieux de St. Petersbourg.
Valse sentimentale. Прощание с
Санкт-Петербургом. Сентиментальный вальс.—А. Тома. Шесть
каприсов в форме характеристических вальсов.
Соч. 4.—К. Э. X е р и н г. Дивертисмент (на-
известные студенческие песни). — М. X а у п т-
м а н. Двенадцать избранных пьес. Соч. 12.—
К. Э. Харткнох. La Tendresse, la plainte, la
consolation. Nocturnes caracteristiques. Нежность,
жалоба, утешение. Характеристические ноктюрны.
Соч. 8. — К л а р а В и к. Каприс в форме
вальса. Соч. 2.—Ю. Бенедикт. Notre Dame de
Paris. Reverie. Собор парижской богоматери.
Мечты. Соч. 20. — Ф. X и л л е p. La danse des fan-
tomes. Танец призраков; * Reveries. (Мечты.
Соч. 17. — * Р. Шуман. Papillons. Бабочки.
Соч. 2; Интермеццо. Соч. 4; Экспромт на романс
Клары Вик. Соч. 5. — Й. К. К е с с л е р.
Экспромты. Соч. 24.—И. Поль. Каприсы в форме
Anglaise [английского танца] на 24 звука гаммы.—
Ф. Шопен. Три ноктюрна. Соч. 15; Скерцо
(h-moll). Соч. 20. — Ф. Мендельсон-Бар-
тольди. Каприччо (fis-moll). Соч. 5;
Характерные пьесы. Соч. 7. — Ф. Шуберт. Moments mu-
srcaux. Музыкальные моменты. Соч. 94. —
Л. Ш у н к е. Две характеристические пьесы в
4' руки. Соч. 13
Как политические перевороты, так и музыкальные
проникают в малейшие закоулки нашего житья-бытья. В музыке новое
влияние заметно даже там, где она наиболее ощутимо связана
с жизнью — в танце. По мере того, как постепенно исчезала-
единовластие контрапункта, начали пропадать и такие
миниатюры, как сарабанды, гавоты и т. п.; кринолины и мушки стали
выходить из моды, и косы уже становились намного короче.
Тогда зашуршали длинные шлейфы в менуэтах Моцарта и
Гайдна; танцующие молча, по-бюргерски чинно стояли друг
против друга, долго кланялись и под конец расходились;
правда, временами еще появлялся какой-нибудь важный парик, но
туго зашнурованный прежде стан двигался уже гораздо
эластичнее и грациознее. Вскоре здесь появляется молодой
Бетховен— задыхающийся, смущенный и растерянный, с
беспорядочно всклокоченными волосами, с обнаженной грудью и челом,
подобный Гамлету, и все дивятся чудаку. Но в бальном зале
ему тесно и скучно, он охотнее устремляется в темноту, бежит*
не разбирая дороги, рыча на моду и церемониал, но при этом:
обходит цветок, чтобы его не растоптать, — и те, кому такое
поведение нравилось, называли все это капризами * или еще
* В оригинале Caprice {франц.), что означает также и название жанра
(италл. вариант capriccio) — пьеса причудливого, капризного характера.
182
как-нибудь. Между тем подрастает новое поколение; резвые
ребятишки превратились в юношей и дев, настолько
мечтательных и робких, что они едва осмеливаются взглянуть Друг другу
в глаза. Вот один из них по имени Джон1, он сидит за роялем,
залитый лунным светом, и лучи целуют его звуки; а там на
камнях спит другой и ему снится восставшая родина2. Никто
больше не думает о беседах, общении, о совместной жизни,
каждый идет своей дорогой, размышляет и действует
самостоятельно; но и шутка тут как тут, и ирония, и эгоизм. Из веселого
букета еще вырывается ликующий звук одной высокой светлой
струны, однако кажется, что она лишь на миг заглушает
другие, более низкие струны, задетые временем, — чем же все это
кончится и куда я попаду?
Лишь один взгляд на «Прощание с Петербургом», и я снова
на земле. Я нахожу здесь сладчайшее томленье (выражение
Флорестана), обмороки с заранее приготовленным носовым
платком и одеколоном; это так плоско-сентиментально, как не
бывало еще со времени известного Es-dur'Horo вальса Карла
Майера и «Derniere pensee de Weber»3, которые едва
удерживаются на тончайшей грани между аффектацией и
естественностью. Подлинно простонародное я ценю много выше, чем
окрашенное в розовый цвет убожество, простое «adieu»—выше,
чем напомаженное «итак, я покидаю тебя с разбитым сердцем»
и т. д. Однако чего же я хочу? «Прощание» довольно мило, —
мило звучит и мило для исполнения. Что оно написано в As,
само собою разумеется.
Каприсы Тома относятся уже к более высоким сферам,
однако являют собой, несмотря на очевидное усердие и
большой талант, не более, чем улучшенные венцелиады, дубленые
немецкие чувства на французский лад, такие любезные, что
следует быть начеку, и, с другой стороны, такие чванные, что
впору выйти из себя. Временами он даже отваживается уйти в
мистические гармонии, но тотчас же сам пугается своей
смелости и довольствуется тем, что имеет и может дать. Однако
чего же я хочу? — Каприсы милы, — мило звучат и т. д. *
Что касается третьего указанного здесь произведения —
пьесы Херинга, то она не столько относится к глазам
рафаэлевских мадонн, сколько к каштановым головам голландца Те-
нирса. Заглавие гласит «Воспоминание об академической
юности», и музыка придерживается того, что обещает виньетка, на
* Следует, однако, заметить, что композитор написал и нечто более
значительное, о чем при случае; сказанное же (как и всегда) должно лишь
показать человека, каким он предстает в данном сочинении. Р[едакция]. [Ш.]
4 июня
183
которой сильно дымится чаша с пуншем. Особенно ударным я
считаю вступление, такое пылко-студенческое, будто
от/пирушки зависит благо всего мира; постепенно сюита становится все
более сумасбродной и полуночной, и разрешаешь себе
«согрешить», с тем чтобы на другой день испросить за это прощение.
Играющие на фортепиано проповедники и актуариусы
послушают эту пьесу с удовольствием, в особенности, если у них нет
долгов.
Следующие композиторы, Хауптман и Харткнох,
представляются мне жертвами воспитания или собственного
трудолюбия. Второму из них, как мне кажется, в зрелом возрасте
пришлось наверстывать то, чем в детстве овладевают как
ремеслом; другого же забыли после обучения ввести в жизнь.
Первая рапсодия Хауптмана настолько сильно понравилась
мне своей полнозвучной плотной музыкальной тканью,
звучащей на фортепиано почти как на органе, что проигрывание
последующих бездушных контрапунктических пьес, впрочем,
трудных и по-своему удачных, меня воистину расстроило.
Вкрапленные вальсы — это мертвые цветы, не обладающие достаточно!*
силой, чтобы уравновесить гнетущую ученость остального. Если
бы композитор, чье место пребывания и круг деятельности мне
совершенно неизвестны, отказался бы как от умозрительных
рассуждений, убийственных и для него и для других, так и от
легкого танцевального жанра, который совершенно
несовместим с его солидной образованностью, то при столь прочных
знаниях и решительном характере от него можно было бы
ожидать немало хороших произведений. Другой композитор в
прошлом году умер довольно молодым. Я сомневаюсь, чтобы он
когда-либо поднялся до самостоятельности; все же эта ранняя
смерть прервала усердное стремление к развитию
музыкального жанра, лежащего между Гуммелем и Фильдом, — жанра, н
котором Карл Майер (создавший в Петербурге отдельные
очень удачные пьесы) нашел бы заслуженное признание. В
сущности мне его ноктюрны не по душе, однако не все пока
избалованы фильдовско-шопеновской игрой, а на ребенка,
смело вгрызающегося в яблоко, тоже приятно смотреть. — «La
plainte» сильно напоминает превосходное Рондо в h-moll К.
Майера.
В окружении стольких серьезных мужских лиц этой
Миньоне, пожалуй, стало бы страшно; кроме того, мне известно
также, что не следует прикасаться к куколке, потому что это
вредит бабочке; однако я сделаю это очень осторожно... Только
я собрался было писать дальше, как в окно влетел темноватый
майский бражник, который будто глядит на меня и говорит:
«Мрачно, друг...» и т. д.—тут я уж лучше подумаю о будущей
Психее. И поскольку мне как раз пришли на ум слова Моцарта
о Бетховене («Он когда-нибудь заставит мир заговорить <^
себе»), я сделаю эту рецензию женственной.
184
В «Notre Dame de Paris» Бенедикта мы видим легкую
жанровую картину, которую мы все написали бы подобным же
образом, если бы нам пришла на ум эта идея; это—история
о Колумбовом яйце. В начале звучат колокола Notre Dame,
едва ли это можно передать точнее; по ходу дела
разыгрываются забавные сценки. В церкви — торжественная месса, перед
церковью — чешские музыканты, тут — торговки цветами,
издали видна смена караула, там мальчик с сурком и балаганчик.
И если пьесе для того, чтобы быть произведением искусства п
недостает тонкого колорита и поэтического восприятия — она и
по форме только некий конгломерат, — то многое восполняется
фантазией, благодаря романтичности места, от которого так
веет стариной. Октавы на странице 3 (строка 5, такты 6, 7) я
услышал, а не увидел, потому и упоминаю их. — И еще меня
удивляет, что Неаполь4, умеющий заставить забыть столь
многое, еще не сумел полностью развеять воспоминания об
отечественной музыке Вебера.
сТанец призраков» Хил л ер а монотонен и является лишь
слабой копией его лучших вещей этого рода. Он пишет
слишком много историй про ведьм, и ему не следовало бы забывать,
что грации тоже умеют танцевать.
* Что касается «Reveries», то я в затруднительном
положении из-за моей прежней рецензии на этюды Хиллера. Дело в
том, что я тогда еще не сказал с полной определенностью,
какого я мнения об его таланте (насколько он мне знаком) — а
именно, что я считал его творчество самым остроумным
притворством и лицемерием, какие когда-либо скрывались за
звуками; я даже соглашался с Флорестаном, сказавшим однажды,
что Герц, учись он столько же, сколько Хиллер, возможно,
достиг бы того же. Мне всегда недоставало чего-то решающего,
чему я в сущности не могу найти названия; я ощупывал, я
слушал, ощущал, видел все перед собой, это затрагивало почти
все мои духовные силы, только не тот душевный музыкальный
нерв, который ему так часто хочется затронуть. Последняя пьеса
из этих «Reveries» побуждает меня отчасти просить у него
прощения за мои подозрения; я в ней нахожу столько правды и
реальности, и к тому же возвышенной, идеализированной, что от
души желаю Есем нам сочинений, подобных этому по простоте
и искренности. Другие достоинства «Reveries» я не упоминаю,
так как они каждому и без того будут очевидны, и если даже
кое-где нельзя не почувствовать влияния Шопена, то это
сочинение все же интересно, остроумно и заслуживает особого
внимания всех обучающихся.
О следующих за этим «Papillons» и т. д. я из-за кровного
родства композитора с журналом не имею права что-либо
сказать, кроме того, что они существуют и ищут людей, подобно
Диогену. Мы с благодарностью отсылаем к суждениям,
высказанным в «Allgemeine musikalische Zeitung» и в «Wiener An-
185
zeiger», а также к рецензиям, напечатанным Готфридом Вебе-
ром в «Cacilia» и Рельштабом в «Iris»; первые судят более или
менее единодушно, — последний — пренебрежительно 5. *
О Кесслере и его экспромтах на этих страницах уже
ранее появилась подробная статья маистера Раро6. Мне нечего
добавить к ней, кроме сожалений по поводу того, что этот
композитор с некоторого времени, кажется, совершенно перестал
сочинять, и пожелания, чтобы он тем неожиданнее и отраднее
нарушил свое молчание.
Каприсы Поля я считаю прекрасными и совершенными в
двух отношениях: каждый из них хорош сам по себе, рядом с
другими, и, кроме того, все они хороши как целое. Редко
удается встретить на столь немногих страницах так много зрелого,
здорового, свежего, благородного, более того—сверкающего.
Говорят, что композитор умер молодым7 и с момента создания
каприсов прошло много времени. Кажется, что ни одно из
искусств не требует столь продолжительных усилий и
воздействий, чтобы дойти по потомков, как музыка; причина же,
возможно, заключается отчасти в том, что следующие одна за
другой эпохи быстро самоуничтожаются, да еще в текучести и
безбрежности самой музыки; между тем великая мысль,
высказанная немногими словами, делает ее автора бессмертным.
И потому, если о Лайзевице и его «Юлиусе Тарентском»
говорили: «Лев родил только одного детеныша, но это снова был
лев», то давайте в честь рано умершего композитора вспомним
легенду о лебедях: они поют лишь однажды и от этой песни
умирают.
Давидсбюндлеры уже давно обещали нам относительно
более пространные сообщения о Шопене, Мендельсоне и
Шуберте и на повторные наши запросы всегда отвечали, что
о тех вещах, в которых они разбираются лучше всего, они судят
наиболее добросовестно и медленно. Но так как они нас все-
таки обнадеживают, то мы, кроме названий, пока что приводим
следующие замечания: Шопен, видимо, дошел, наконец, туда,
где Шуберт был уже задолго до него, хотя последнего как
композитора не связывали требования виртуозности; правда, с
другой стороны, сейчас первому из них его виртуозность идет
на пользу. Флорестан однажды несколько парадоксально
сказал: «За бетховенской увертюрой к «Леоноре» большее
будущее, чем за его симфониями», что правильнее было бы отнести
к последнему шопеновскому ноктюрну в g-moll [op. 15 № 3] (я
лично вижу в этой увертюре самый страшный вызов,
брошенный всему прошлому). И далее: невольно напрашивается
вопрос, во что же одевать серьезное, если уж «шутка» (скерцо)
расхаживает в темном покрывале? Далее: я считаю мендельсо-
новское «Каприччо» в fis-moll произведением образцовым, его
же «Характерные пьесы» — лишь интересным вкладом в исто-
186
рию развития этого юноши-мастера, который в то время, будучи
почти ребенком, играл баховскими и глюковскими цепями;
впрочем, в последней из этих пьес я усматриваю как бы вещий
сон, предрекающий «Сон в летнюю ночь». И наконец: Шуберт
останется нашим любимцем — ныне и навеки.
В названном далее сочинении наш покойный друг Ш у н к е
вновь вступил на тот путь, который был ему предназначен
природой и от которого он, сделавшись в силу внешних
обстоятельств виртуозом, отошел лишь на короткое время. Чего бы он
еще достиг, ах, кто знает это! Но никогда еще смерти не
удавалось погасить факел гения столь рано и к столь великому
нашему прискорбию, как на сей раз. Послушайте только его
мелодии, и вы украсите венком его могильный холм, даже
если б не ведали, что в его лице покинул землю, несказанно им
любимую, не только возвышенный художник, но еще более
возвышенный человек.
Так замкнем же пока этот круг миниатюр, рисующих
земные горести и блаженства! Когда Хайнзе говорит в своем «Ар-
дингелло»: «Не переношу мелочь, она мне претит, это убежище,
куда прячутся посредственность и слабость, которые
важничают перед женщинами, детьми и невеждами», он относит это к
пространственным искусствам, к искусствам покоя и тишины —
к живописи и пластике; и пусть законодатели искусства сами
решают, как далеко распространяется это суждение. Когда же
я думаю о музыке и поэзии, искусствах времени и движения, и
когда, воспроизводя внутренним слухом перечисленные выше
сочинения, уясняю себе, как многое в миниатюре не удается
даже самым удачливым талантам, и как средним недоступно
то, чем воздействует все краткое, — та молния духа, которая
должна образоваться, сгуститься и воспламениться во
мгновение ока, тогда я начинаю понимать, почему я предпослал
настоящему номеру нашего журнала греческое изречение,
гласящее: «Все прекрасное — трудно, короткое — труднее всего».
34. КОНЦЕРТЫ
* ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФРОЙЛАЙН ЛИВИИ ГЕРХАРДТ 1
Мы приобретаем прекрасное право на благоволение и
любовь к явлениям искусства, если они выходят из нашей среды,
на наших глазах стремятся к совершенству и до определенной
степени достигают его. Ливия Герхардт принадлежит к ним, и
все охотно одаряют ее этими чувствами: ее талант опережает
187
время, ее воля превосходит ее силы. Пусть же ныне, когда мы
расстаемся с ней, насладившись ее юношеским цветением,
живой интерес к этому прощальному вечеру, который артистка
нам посвящает, покажет, как высоко мы ценили ее стремление
и как верны мы ей будем и в разлуке.
* ЛИПИНЬСКИЙ *
Липиньский здесь. Этих слов для любителя музыки
вполне достаточно, чтобы всколыхнуть все его чувства; если же
мы еще добавим: Липиньский даст концерт, то сердце его
возликует, и он немедленно приложит все старания, чтобы
получить доступ к этому высочайшему наслаждению. Мы
остережемся прибегнуть к какому бы то ни было иному слову для
рекомендации этого большого музыканта, кроме его имени. Тоту
кому оно неизвестно, пусть будет обречен никогда не услышать
второго Паганини.
«Он играл божественно»
Едва ли кто-нибудь в пространных суждениях высказал о
Паганини больше, чем это сделал Берне тремя приведенными
выше словами. Мы также ничего не .можем сказать о Липинь-
ском, тем более, что люди только еще идут из концерта и
оживленно его обсуждают, а у нас кровь пульсирует и волнуется
сильнее обычного. Одно несомненно: если бы Паганини,
который до сегодняшнего дня был единственным обладателем всех
почетных знаков властителя, — если бы Паганини его сегодня
слышал, он бы вложил в его руку,скипетр (по меньшей мере).
Давайте сделаем то же самое! Подробнее об этом, может быть,
после второго концерта.
4 июня
Липиньский даст, как читателям уже известно из
объявления, второй концерт. Тех, кто имел возможность слушать
первый, уже нет нужды приглашать для наслаждения,
принадлежащего к самым редким и возвышенным, какие только мо-
188
жет доставить музыка. Лишь тем, кто пока упустил случай
услышать могучего властителя скрипки, умеющего на своем
инструменте открыть многим дотоле совершенно неизвестные
области чувств, мы напоминаем о возможности получить такого
рода художественное наслаждение, какое едва ли скоро опять
выпадет на их долю. Правда, природа, сверкающая в своем
лучшем наряде, уводит из залов искусства большое число
слушателей. Но наслаждения природой не ограничены кратким
течением одного дня и, надеюсь, будут доступны еще на
протяжении недель и месяцев, музыканта же завистливая судьба
скоро уведет от нас. Здесь нужно пользоваться мгновением —
упущенное не вернешь. Поэтому мы не сомневаемся, что,
несмотря на прекрасные дни, даруемые нам ласковым небом,
концерт посетит такое большое число слушателей, какого
заслуживает замечательный талант музыканта.
* КАРЛ ЛЁВЕ3
Господин музикдиректор д-р Карл Лёве из Штеттина, чьи
баллады тысячи немецких голосов распевают с любовью и
вдохновением, даст завтра в отеле de Pologne музыкальный вечер.
Если бы нам потребовалось назвать какого-либо из ныне
здравствующих композиторов, который с самого начала своей
музыкальной карьеры и по сегодняшний день обнаруживал бы
немецкий дух и немецкую душу и проявил бы это как в самом
нежном, так и в самом бурном, в словах первой любви и при
вспышке величайшего гнева, то мы должны были бы назвать
Лёве. К этому добавляется еще и редкий союз, который
заключили между собой композитор, певец и виртуоз в одном
лице. Драматический артист, исполняющий с высочайшим
мастерством, к примеру, роль Тассо, едва ли вызвал бы у нас тот же
интерес, как если бы Гете сам читал нам этот текст. Здесь же
мы слышим звуки в исполнении того, в чьей груди они
родились, кто первым их прочувствовал, без кого они вовсе бы не
существовали. Чем реже мы имеем возможность получать такое
наслаждение, тем скорее нам следует пользоваться мгновением.
И потом: мы ведь охотно переносимся мысленно в те древние
времена бардов и народных певцов, когда их песни
воспринимались и почитались как изречения человека, вдохновленного
богом. Неужели мы стали более равнодушными и менее
впечатлительными? Мы не предвосхищаем ответа на наш вопрос,
мы с радостью ждем завтрашнего вечера, который даст нам
возможность оказать музыканту-соотечественнику те почести,
какие столь заслуживает его высокий талант.
189
И. МОШЕЛЕС
(Концерт 9-го октября 1835 г,)
О зрелых, известных виртуозах редко можно сказать что-
либо новое. Однако в своих последних сочинениях Мошелес
избрал путь, который не мог не отразиться на его виртуозности.
Если прежде он кипел от избытка юношеских сил в Es-dur'HOM
концерте и в Es-dur'Hoft сонате, а потом творил более вдумчиво
и более художественно в g-moirHOM концерте и в своих этюдах,
то теперь он вступает в более темные и таинственные области,
не заботясь, как он это делал раньше, о том, чтобы
понравиться толпе. Уже Пятый концерт [ор. 87] частично склонялся к
романтизму, в последних же то, что отражало колебания
между старым и новым, окончательно оформилось и укрепилось.
Однако проходящая здесь романтическая струя совсем не та,
что у Берлиоза, Шопена и др., т. е. не та, что стремится вперед,
далеко оставляя позади общую культуру современности, она
скорее обращена вспять — это романтика старины, подобная
той, которая с такой силой глядит на нас из готических
храмовых сооружений Баха, Генделя и Глюка. В этом творения его
действительно похожи на некоторые произведения
Мендельсона, пишущего, правда, еще во всеоружии своей юности.
Вероятно, лишь немногие решатся вынести безошибочное суждение о
том, что они услышали в тот вечер. Восторги публики были
отнюдь не вакхическими, казалось даже, что она ушла в себя и
хотела выразить свое сочувствие мастеру лишь напряженным
вниманием. Зато бурные овации прорвались после дуэта,
который Мошелес и Мендельсон сыграли не только как два
мастера, но и как два друга, подобные паре орлов, из которых один
или другой то снижается, то взмывает, и оба смело кружат
один вокруг другого. Произведение, посвященное памяти
Генделя 5, мы считаем одним из самых удачных и самых
оригинальных сочинений Мошелеса. Об увертюре к шиллеровской
«Орлеанской деве» даже знатоками высказывались самые
различные суждения; что же касается нас, то мы в глубине души
просили у Мошелеса прощения за то, что прежде судили о
ней по фортепианному переложению, звучащему очень бедно
по сравнению с блестящим оркестром. Дальнейшее попадает
уже под рубрику критики как таковой; на сегодняшний день
достаточно и того, что мы узнали пастушку, начиная с того
мгновения, когда она затягивает на себе панцырь, и кончая
тем, когда ее прекрасное тело погружается в могилу, осененное
знаменами, а также того, что мы в увертюре действительно
обнаружили черты подлинного трагизма. Кроме того, художник
исполнил первую часть из нового «Патетического концерта»
(ор. 97) и целиком «Фантастический концерт» (ор. 90), причем
оба можно было бы с таким же успехом назвать дуэтами фор-
190
тепиано и оркестра, настолько самостоятельно выступает
последний. Мы считаем и то и другое произведение настолько
значительными и настолько по форме своей отличными от прежних,
что надеемся вскоре одолеть их собственными руками, чтобы
окончательно утвердиться в том высоком мнении, какого мы о
них придерживаемся, не считая отдельных, менее
увлекательных мест. Что касается манеры игры этого мастера, никто, хотя
бы только однажды его слышавший, не может усомниться в
эластичности его туше, в здоровой силе его звука, в
уверенности и осмысленности его достижений на высшем уровне
выразительности. И если по сравнению с прошлым что-то и было
утрачено в смысле юношеской мечтательности и симпатии к
новейшей фантастической манере исполнения, то зрелый муж
полностью возмещает это остротой характеристики и духовной
строгостью. В области же свободного фантазирования, которым
закончился вечер, он блистал в течение нескольких прекрасных
минут.
С великой радостью должны мы упомянуть и о том
наслаждении, которое за несколько дней до концерта нам доставило
редкое сочетание трех мастеров и одного молодого человека,
обещающего стать мастером, совместно исполнивших с1-то1Гный
концерт Баха для трех фортепиано. Трое первых были Мошелес,
Мендельсон и Клара Вик, четвертый же — г-н Луи Ракеман из
Бремена. Мендельсон аккомпанировал, исполняя партию
оркестра. Это было чудесно.
* К ПРЕДСТОЯЩЕМУ КОНЦЕРТУ КЛАРЫ ВИК6
У искусства есть два языка. Один — обычный, земной,
которым большинство изучающих искусство может овладеть в
школе при наличии усердия и доброй воли. Другой язык —
более возвышенный, неземной; он смеется над железной
муштрой, ибо он должен быть прирожден человеку. Обыденный язык
подобен каналу, в прямое русло которого насильственно
направлено усмиренное движение воды. Язык возвышенный — это
лесной поток, бурно низвергающийся с облачных высот,
стремясь неведомо откуда и неведомо куда, текущий, как говорит
Клопшток, «сильно и многодумно». На этом языке говорили
пророки, и он же — язык художников, ибо художники —
пророки. Дочь неба * умеет ценить преимущества своей земной сеет-
По-немецки «язык» (die Sprache) женского рода. Отсюда избранная
автором метафора «дочь».
191
ры, благопристойную одежду, некоторую размеренность в
походке и осанке; но важней для нее привлекательность, грация,
доходящая до священного безумия, когда она распускает по
ветру кудри, вращает глазами, впадает в божественный трепет,
что-то бормочет, разрывая в клочья грамматику вульгарного
хорошего тона, так что у нее, как у прорицающей Сивиллы,
глава овеяна листьями, гонимыми бурей. Но на каждом
оторванном листе—изречение оракула.
К тем немногим, которые владеют возвышенным языком
искусства от рождения, принадлежит и наша молодая пианистка,
Клара Вик, пророчица в искусстве, признанная даже в
собственном отечестве настолько, что зтим доказана ложность
общеизвестной пословицы. Художница, неутомимо стремящаяся
вперед, после более чем годичного перерыва, ^9-го ноября [1835] —
до своей ближайшей концертной поездки (в Дрезден, Берлин и
т. д.) — выступит в зале Гевандхауза с большим концертом,
который несомненно вызовет огромный интерес у всех
любителей музыки. Ибо этот концерт целиком составлен из сочинений,
здесь публично еще не исполнявшихся. Она играет в нем Сар-
riccio brillant с оркестром Ф. Me н д е л ь со н а-Б а рто л ьди,
богатое художественным содержанием и оригинальными
мыслями; большой концерт собственного сочинения —
произведение, раскрывающее нам глубины ее души, — и чрезвычайно
трудные и блестящие вариации Герца, соч. 36, для
фортепиано соло на тему греческого хора из «Осады Коринфа»
[Россини]. Кроме того, будет исполнен концерт для трех фортепиано
Йог. С е б. Баха при участии нашего гениального Мен-
д е л ьсон а-Б а р т о л ьд и и господина Ракемана из
Бремена Для жителей Лейпцига будет интересна и примечательна
встреча с их земляком, старым Бахом, чей дух предстанет
перед ними во всем своем глубоко серьезном,
добродушно-своенравном очаровании, приветствуя их, увещевая и как бы
спрашивая строгим тоном: «А как сейчас обстоят дела в вашем
мире искусства? Видите, вот каким я был!»
Кроме того, господин Густав Науэнбург, который в
настоящее время живет в Халле и как баритон с чрезвычайным
успехом выступал на многих музыкальных празднествах, а два
года тому назад дал также несколько концертов в Берлине,
исполнит одну из самых популярных баллад Лёве. Любящей
музыку публике, конечно, будет столь же интересно, сколь и
приятно услышать молодую Клару Вик именно сейчас,
непосредственно после выступлений больших мастеров, которыми мы на
этих днях восхищались, в сопоставлении с их различной
манерой игры. Слушатели наверняка не преминут живейшим
вниманием к концерту доказать свой интерес к искусству,
прекрасных достижений которого мы вправе ждать от этого
вечера.
35. ГЕКТОР БЕРЛИОЗ
EPISODE DE LA VIE D'UN ARTISTE. GRANDE SYMPHONIE FANTASTIQUE.
PARTITION DE PIANO PAR F. LISZT.
ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ АРТИСТА. БОЛЬШАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ.
OP. 41. ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО Ф. ЛИСТА
* 1
Выйдем же в бой не с дикими криками, как наши древне-
германские предки, а как спартанцы — под звуки веселых
флейт. Правда, тот, кому посвящены эти строки, не нуждается
в оруженосце и, надо надеяться, станет противоположностью
гомеровского Гектора, который, наконец, победив, волочит за
собой как пленницу разрушенную Трою минувших времен, но
если его искусство — пламенеющий меч, то пусть это слово
будет защитными ножнами.
Чудно мне было на душе, когда я в первый раз заглянул в
эту симфонию. Еще ребенком я часто ставил ноты на пульт
вверх ногами, чтобы любоваться странными,
переплетающимися нотными сооружениями (как позднее венецианскими
дворцами, опрокинутыми в воде). Симфония, поставленная прямо,
очень похожа на такую опрокинутую музыку. Затем пишущему
эти строки припомнились и другие сцены из его самого раннего
детства, как, например, однажды, когда поздней ночью в доме
уже все спали, он, во сне, с закрытыми глазами, прокрался к
своему старому, ныне уже разбитому роялю, стал подбирать
аккорды и при этом много плакал. Когда ему на следующее
утро рассказали это, он вспомнил только странно звучавший
сон и много незнакомых вещей, которые он слышал и видел, и
он отчетливо различал три могучих имени, одно на юге, другое
на востоке и последнее на западе — Паганини, Шопен,
Берлиоз. — Первые два с быстротой и силой орла выбились вперед;
им это было легче, так как они являли собою сочетание в
одном лице поэта и лицедея. С виртуозом оркестра, Берлиозом,
будет труднее, и борьба будет более ожесточенной, но, быть
может, и победные венки будут пышней. Так ускорим же
наступление решающего мига! Времена всегда и вечно куда-
нибудь устремлены: вперед или назад, на благо или на зло —
06 этом пусть судят грядущие поколения. Куда именно
устремлено наше время — этого мне никто определенно предсказать
еще не смог.
После того, как я просматривал берлиозовскую симфонию
до бесконечности много раз, сначала ошеломленный, потом в
отчаянии и, наконец, с удивлением и восхищением, я
попытаюсь обрисовать ее беглыми штрихами. Я хочу изобразить
композитора таким, каким я его узнал, в его слабостях и в его
достоинствах, и его обыденности и духовном величии, в его
исступленной жажде разрушения и в его любви. Ибо я знаю:
то, что он дал, художественным произведением назвать нельзя,
7 Р Шуман, т. I 193
так же, как нельзя им назвать великую природу, не
облагороженную рукой человека, или страсть, не обузданную высокой
силой нравственного закона.
Если у старика Гайдна характер и талант, религия и
искусство в равной мере облагораживали друг друга, если у
Моцарта его идеальная художественная натура проявлялась
независимо от его человеческой чувственности, если у других
поэтических натур внешний жизненный путь и художественная
продукция развивались в прямо-таки противоположных направлениях
(как, например, у беспутного поэта Хайденрайха, написавшего
уничтожающее стихотворение против сладострастия), то
Берлиоз принадлежит скорее к характерам бетховенского типа; у
таких натур художественное развитие в точности совпадает с
историей их жизни, каждая перемена всегда сопровождается
падениями или взлетами в творчестве. Подобно змее Лаокоона
музыка впилась в пятку Берлиоза; без нее он не может
двинуться ни на шаг; он вместе с ней извивается во прахе; она
вместе с ним впитывает в себя солнечные лучи; даже если бы он
ее отбросил, он должен был бы и это выразить в своей музыке.
А когда он умрет, то дух его, быть может, растворится в той
музыке, отражение которой в час Пана — сиречь в полуденный
час — нередко доносится к нам из-за далекого горизонта.
И вот, такой музыкант, едва достигший девятнадцати лет,
француз по крови, полный сил, к тому же в борьбе с будущим,
а быть может и с другими необузданными страстями, —
оказался впервые во власти бога любви, но в него вселилось не то
робкое ощущение, которое охотнее всего доверяется луне, а
темный жар, который по ночам вырывается из Этны... И вот, он
увидел ее2. Я представляю себе это женское существо в
облике главной темы симфонии, бледной, лилейно стройной,
скрытой под покрывалом, молчащей, почти холодной; — но сонные
слова не поспевают, а звуки ее прожигают до самого нутра, —
сами прочитайте об этом в симфонии, о том, как он бросается
к ней навстречу и хочет обнять ее всеми руками своей души и
как, едва переводя дыхание, он отпрянул перед леденящим
обликом британки и как он снова уже готов покорно нести хотя
бы край ее шлейфа и целовать его, и снова гордо
выпрямляется и тр ебует любви, ибо он так чудовищно ее любит;
прочитайте об этом: все это каплями его крови записано в первой
части 3.
Конечно, первая любовь способна превратить труса в
полководца, однако «герою героиня очень вредит», как написано у
Жан Поля4. Рано или поздно, но пламенные юноши, не
испытавшие ответной любви, выбрасывают своего внутреннего
Платона ко всем чертям и толпами приносят жертвы на
эпикурейских алтарях. Однако Берлиоз не похож на Дон Жуана. Со
стеклянным взором сидит он среди разгульной молодежи, с
каждой лопнувшей пробкой от шампанского в нем лопается
194
еще одна струна! Как перед больным в жару, перед ним у
каждой стены вырастает старый, любимый образ и ложится ему
на сердце, и душит его, и он его отталкивает, и громко
хохочущая девка бросается ему на колени и спрашивает его, что
с ним.
И тогда, гений искусства, ты спасаешь своего- любимца, и
он отлично понимает улыбку, дрогнувшую на твоих устах. Но
что за музыка в третьей части! Какая искренность, какое
раскаяние, какой огонь! Образом природы, глубоко вздохнувшей
после грозы, пользовались часто; но более прекрасного и более
подходящего я не знаю. Все мироздание дрожит от небесных
объятий и оттаивает, разливаясь слезами из тысячи глаз, и
испуганные цветы рассказывают друг другу о незнакомом госте,
который по временам озирается, разражаясь громом.
Всякий, кто захотел бы заслужить имя художника, как раз
в этом месте закончил бы и отпраздновал бы победу искусства
над жизнью. Но она, она! От этого Тассо попал в
сумасшедший дом. Но в Берлиозе его старая жажда разрушения
просыпается с удвоенной силой, и он размахивает вокруг себя
кулаками настоящего титана. И, подобно тому как он воображает
обладание возлюбленной и жарко обнимает безжизненную
фигуру, так и в музыке он безобразно и пошло цепляется за свои
видения и за попытку к самоубийству. И все это под звон
колоколов и под звуки органа, на котором скелеты разыгрывают
свадебную пляску... Тут гений со слезами от него
отворачивается.
Недаром мне иногда кажется, что я в этой части слышу, но
ужасно тихо, отзвуки того стихотворения Франца фон Зоннен-
берга5, основной тон которого тот же, что и во всей нашей
симфонии в целом:
[1] Это ты — желанная страстно душа,
В немые ночные часы так страстно желанная.
[7] Это ты, кто однажды с трепетом сладким,
В глубоком молчаньи прильнула ко мне,
И нежным смущеньем зардевшись,
■Мне в душу шептала:
[8] «Я — та, что вечно сердце твое сжимает,
И стиснув его, снова к небу подъем лет.
[10] Ко мне ты невольно свой первый вздох обращал,
В каждом священном порыве твоем
Была я. Ко мне взывал ты, руки сложив
В мольбе...
[11] Во всем, к чему твое сердце с волненьем рвалось,
Чему раскрывал объятья — была я».
195 7*
{26] О да, это ты — великое Нечто,
К чему в божественный час мое сердце стремится.
В божественный час, когда жаждет оно
Прижать к себе все сердца людские и слиться с ними.
[36] Слиться друг с другом — второе бессмертье!
Этот миг — испытанье в себе всей природы.
Блаженный миг, когда мы
Молча и с дрожью сердечной друг друга объемлем!*
Флорестан
* Внимательно перечел я слова Флорестана об этой
симфонии и самую симфонию; что я говорю перечел — исследовал до
мельчайшей ноты! Я почти полностью присоединяюсь к его
суждению, но мне кажется, что такой психологический метод
критического рассмотрения не вполне достаточен для
произведения композитора, который известен лишь по имени и о
котором высказывались к тому же самые противоречивые мнения;
суждение Флорестана, настраивающее читателя в пользу
композитора, легко может быть поставлено под сомнение, так как
он полностью обошел молчанием собственно музыкальную
композицию.
Хотя я отлично понимаю, что для того, чтобы уже сейчас
отвести этому примечательному творению подобающее ему
место в истории искусства, необходима голова, более чем только
поэтическая, т. е. человек, который, будучи не только
философски образованным музыкантом, но даже и настоящим знатоком
истории других искусств, много размышлял бы о значении и
внутренней связи явлений этих искусств, а также о глубоком
смысле, заложенном в их последовательности; все же следовало
бы прислушаться и к словам музыканта, который в своем
собственном творчестве хотя и примыкает к направлению нового
поколения, телом и душой заступаясь за все высокое, что в нем
заложено, все же ради этого не удержится от того, чтобы перед
лицом закона сломить жезл над главой своего любимца; быть
может, с глазу на глаз он охотно и простил бы его
прегрешения. Правда, в данном случае пришлось бы ломать скорее
лавры, чем жезлы *.
Многообразный материал, предлагаемый этой симфонией
для размышления, мог бы в дальнейшем уже очень легко
запутать читателя, поэтому я предпочитаю разобрать ее по
отдельным признакам, хотя бы часто и приходилось для
объяснения одного из них ссылаться на другой. Я хочу рассмотреть
симфонию с тех четырех точек зрения, с которых вообще мож-
* Перевод редакторов наст. изд.
196
но рассматривать музыкальное произведение, а именно, со
стороны формы (целого, отдельных частей, периода, фразы), со
стороны музыкальной композиции (гармония,
мелодия, изложение, тематическая работа, стиль), со стороны
особой идеи, которую художник хотел воплотить, и со
стороны духа, господствующего над формой, материалом и
идеей.
Форма — вместилище духа. Чем крупнее вместилище, тем
большими должны быть масштабы наполняющего духа. Словом
«симфония» в инструментальной музыке до сих пор
обозначаются наиболее крупные соотношения.
Мы привыкли по названию вещи судить о ней самой;
мы предъявляем одни требования к «фантазии», другие к
«сонате».
Для талантов второго ранга достаточно владеть
традиционной формой; первоклассным талантам мы разрешаем ее
расширять. Лишь гений вправе свободно рождать новое6.
После Девятой симфонии [Бетховена], крупнейшего по
объему из существующих инструментальных произведений, мера и
цель казались исчерпанными7.
Здесь должны быть названы: Фердинанд Рис,
безусловное своеобразие которого могло померкнуть только перед бет-
ховенским; Франц Шуберт, богато одаренный фантазией
художник, кисть которого одинаково глубоко была напоена как
лунными лучами, так и пламенем солнца, и который после
Девяти бетховенских муз, быть может, родил бы нам десятую *;
Шпор, чья нежная речь не достаточно громко отдавалась под
обширными сводами симфонии, где ему приходилось
высказываться; Калливода, веселый, гармоничный человек, более
поздние симфонии которого, при всей их глубокой
основательности, все же лишены полета фантазии его первой симфонии.
Из более молодых мы знаем и ценим также Л. May pep а,
Фр. Ш н а йде р а, И. М о шел еса, К. Г. Мюллер а, А. X ес-
се, Ф. Лахнера и Мендельсона, которого мы
умышленно называем последним.
Никто из названных—а они все, за исключением Франца
Шуберта, еще живут среди нас — ничего существенного не
осмелился изменить в старых формах, если не считать отдельных
попыток, как в новейшей симфонии Шпора9. Мендельсон,
художник столь же продуктивный, сколь и вдумчивый, вероятно,
понял, что на этом пути ничего не достигнешь и вступил на
новый, правда, предварительно уже расчищенный для него
Бетховеном в его большой увертюре к «Леоноре». Своими
концертными увертюрами, в которых он сжал идею симфонии и
заключил ее в более узкий круг, он завоевал себе корону и
скипетр, воцарившись таким образом над всеми инструменталь-
* Симфония в C-dur в то время еще не появилась. [Ш., 1852]8
197
ными композиторами своего времени. Можно было опасаться,
что симфония отныне станет достоянием истории.
За границей на все это отмалчивались. Керубини уже
долгие годы работал над симфоническим произведением, но, как
говорят, сам признался в своем бессилии, быть может,
слишком рано и слишком скромно. Вся остальная Франция, а также
Италия, писали оперы.
Тем временем в безвестном уголке на северном побережье
Франции некий юный студент-медик замышляет новое. Четырех
частей ему мало; ему нужны, как для драмы, пять. Сначала я
считал (не в связи с последним обстоятельством, которое
вовсе не могло служить основанием, так как бетховенская
девятая симфония насчитывает четыре части, а по другим
причинам), что симфония Берлиоза — следствие этой девятой; но ее
сыграли в Парижской Консерватории уже в 1820 году10,
бетховенская же была издана лишь после этого, так что мысль о
подражании отпадает. Теперь наберемся смелости и приступим
к самой симфонии!
Если мы рассмотрим все пять частей в их взаимной связи,
то мы увидим соблюдение старой последовательности, за
исключением последних двух, образующих, однако, как две сцены
одного и того же сновидения, опять-таки своего рода единое
целое. Первая часть начинается с Adagio, за которым следует
Allegro, вторая занимает место скерцо, третья — место
среднего Adagio, две последних соответствуют заключительному
Allegro. Они, видимо, связаны и тонально: вступительное Largo
написано в c-moll, Allegro — в C-dur, скерцо в A-dur, Adagio в
F-dur, две последние части — в g-moll и C-dur. До сих пор все
идет гладко. Только бы мне удалось, сопровождая читателя
вверх и вниз по лестницам этой диковинной постройки, дать
ему ясное представление об ее отдельных помещениях! и
Медленное вступление к первому Allegro (я здесь говорю
все время только о форме) мало чем отличается от других
вступлений к другим симфониям, разве, пожалуй, большей
упорядоченностью, которую замечаешь сразу же после повторных
перестановок более крупных периодов. По существу это — две
вариации на одну тему со свободными интермеццо. Главная
тема тянется до 2-го такта на 2-й стр.12, связующая часть — до
5-го такта на 3-й стр., первая вариация—до 6-го такта на
5-й стр., связующая часть — до 8-го такта на 6-й стр., вторая
вариация на выдержанных басах (по крайней мере, я слышу
интервалы темы, правда, лишь в качестве намека, в облигатной
валторне) —до 1-го такта на 7-й стр. Движение по
направлению к Allegro. Предваряющие аккорды. Из преддверия мы
входим во внутрь Allegro. Кто захочет долго останавливаться на
мелочах, отстанет и заблудится. От начальной темы окиньте
быстрым взглядом всю страницу до первого animato (стр. 9).
Здесь тесно примыкали друг к другу три мысли. Первая (Бер-
198
лиоз называет ее la double idee fixe * по причинам, которые
выяснятся позднее) идет до обозначения sempre dolce e arda-
mente, вторая (взята из Adagio)—до первого 5/ на девятой
странице, где к ней присоединяется последняя (стр. 9), идущая
до animato. Дальнейшее надо охватить целиком до rinforzando
басов на странице десятой, не пропустив при этом эпизод от
ritenuto il tempo до animato на девятой странице. В rinforzando
мы приходим к своеобразно освещенному месту (собственно
вторая тема), где можно бросить беглый взгляд на
предшествующее. Первая часть заканчивается и повторяется. Начиная
отсюда, построения как бы стараются яснее следовать друг за
другом, но под натиском музыки они приобретают то большую,
то меньшую протяженность; так протекает развитие от начала
второго раздела до con fuoco (стр. 12) и далее до sec. (стр. 13)
затишье. Вдали одинокая валторна. Нечто очень знакомое
звучит до первого рр (стр. 14). Теперь следы становятся труднее
уловимыми и более таинственными. Две мысли, одна в четыре,
другая в девять тактов. Ходы по два такта. Свободные фразы
и обороты. Вторая тема, во все больших сокращениях,
появляется, наконец, целиком, в полном блеске, вплоть до рр
(стр. 16). Третья мысль первой темы во все более низких
регистрах. Тьма. Постепенно силуэты оживают и уплотняются
вплоть до disperato (стр. 17). Первоначальная форма главной
темы в самых искаженных преломлениях вплоть до стр. 19.
Теперь вся первая тема целиком в неслыханном великолепии
вплоть до animato (стр. 20). Совершенно фантастические
формы, лишь один раз напоминающие прежние, да и то как
надломленные. Исчезновение.
Берлиоз вряд ли с большим отвращением анатомировал
голову красивого убийцы **, чем я первую часть его симфонии.
И принес ли я вдобавок этим анатомированием какую-нибудь
пользу своим читателям? Но у меня было три цели: во-первых,
показать тем, кому симфония совершенно не знакома,
насколько такая расчленяющая критика вообще мало способна им
что-либо разъяснить в музыке; указать несколько
кульминационных пунктов для тех, кто лишь поверхностно ее просмотрел
и, не сразу разобравшись, быть может, отложил ее в сторону, и,
наконец, доказать тем, которые ее знают, но не хотят признать,
что этому телу, несмотря на его кажущуюся бесформенность,
присущ, в наиболее крупных его членениях, определенный
порядок, симметричность, не говоря уже о внутренней связи.
Однако в необычности этой новой формы, этого нового способа
выражения отчасти, видимо, и заложена причина досадного
недоразумения. Большинство при первом или втором прослу-
Двойная навязчивая идея (франц.).
* В юности он изучал медицину. [Ш., 1852]
199
шивании слишком задерживаются на частностях, и здесь дело
обстоит так же, как при чтении трудной рукописи: всякий, кто
задерживается на каждом ее слове, тратит на ее расшифровку
несравненно больше времени, чем тот, кто сначала бегло ее
просматривает, чтобы познакомиться с ее смыслом и
намерением автора. К тому же, как мы на это уже намекали, ничто так
не раздражает и не вызывает таких возражений, как новая
форма, носящая старое название. Если бы кто-нибудь вздумал,
например, написанное в пятичетвертном размере назвать
маршем или двенадцать следующих друг за другом маленьких
пьес — симфонией, то он, конечно, заранее всех восстановил бы
против себя. Между тем надо всегда исследовать дело по
существу. Поэтому чем произведение кажется нам на вид более
странным и более искусным, тем с большей осторожностью
следовало бы судить о нем. И разве не достаточным примером
служит для нас Бетховен, чьи произведения, в особенности
последние, были поначалу признаны непонятными, и, конечно,
столько же в силу своеобразия их конструкций и форм, в
которых изобретательность его была неисчерпаемой, сколько и в
силу их одухотворенности, каковой, правда, никто отрицать и
не мог? Если мы теперь, не обращая внимания на мелкие,
часто, правда, резко выступающие углы, попытаемся охватить все
первое Allegro одной широкой аркой, перед нами отчетливо
возникнет следующая форма [см. схему № 1]. Для сравнения
сопоставим с ней более старую форму [см. схему № 2].
[СХЕМА № 1]
Вступ- Первая Средние раз- Первая Средние раз- Первая тема Заключение
ление тема делы со вто- тема делы со
второй темой рой темой
(C-dur) (C-dur) (G-dur, (G-dur) (e-moll, (C-dur) (C-dur)
e-moll) G-dur)
[СХЕМА № 2]
Первая тема Вторая тема Средний раздел Первая тема Вторая тема
(C-dur) (G-dur) (a-moli) (C-dur) (C-dur)
(разработка обеих тем)
Мы не сумели бы сказать, каковы преимущества второй
схемы перед первой в смысле разнообразия и согласованности, но
хотели бы, заметим попутно, обладать поистине современной
фантазией, а затем, следуя за нею, делать все, что только она
повелит. Остается еще только сказать о структуре отдельных
фраз. Нельзя назвать ни одного новейшего произведения, в ко-
200
тором одинаковые тактовые и ритмические соотношения так
свободно сочетались бы с неодинаковыми, как в этом. Почти
никогда ответное предложение не отвечает начальному, ответ—•
вопросу. Это настолько свойственно Берлиозу, настолько
отвечает его южному темпераменту, настолько чуждо нам,
северянам, что неприятное впечатление, испытываемое в первое
мгновение, и жалобы на неясность вполне простительны и легко
объяснимы. Но какой смелой рукой все это сделано и притом
так, что нельзя ничего ни прибавить, ни убавить, не лишив
мысль ее остроты, убедительности и силы, — в этом можно
удостовериться лишь собственными глазами и ушами13.
Кажется, будто музыка хочет вернуться к своим первоистокам, когда
ее еще не стесняли узы такта, — и самостоятельно возвыситься
до свободной речи, до более совершенной ее поэтической
расчлененности (как в греческих хорах, в языке библии и в прозе
Жан Поля). Мы воздерживаемся от дальнейшего развития этой
мысли, по напомним, в заключение этого раздела, слова, много
лет тому назад пророчески произнесенные по-детски
простодушным поэтом Эрнстом Вагнером: «Кому суждено в музыке
совершенно скрыть тиранию такта и сделать ее совершенно
неощутимой, тот даст этому искусству хотя бы Бидимую свободу;
тот, кто после этого даст ей сознание, даст ей и силу для
изображения прекрасной идеи, и с этого мгновения она станет пер-
выхМ среди всех изящных искусств».
Как уже говорилось, было бы слишком длинно и бесполезно
подвергать такому же разбору другие части симфонии. Вторая
играет во всевозможных изгибах, подобно тому танцу,
который она должна изображать; третья, пожалуй вообще самая
лучшая, с эфирной легкостью взлетает и опускается, как дуга
полукружия; обе последних совсем не имеют центра и
безудержно устремляются к концу. При всей внешней бесформенности,
всюду очевидна духовная связь, и можно было бы вспомнить
суждение — хотя и ошибочное — о Жан Поле, которого кто-то
назвал плохим логиком и великим философом.
До сих пор мы имели дело только с внешними покровами;
теперь мы переходим к той материи, из которой они сотканы,
к музыкальной композиции.
Я сразу же предупреждаю, что могу судить только по
фортепианному переложению, где, однако, в самых важных местах
указаны и инструменты. И даже если бы этого не было, все,
как мне кажется, задумано и найдено настолько в оркестровом
характере, каждый инструмент так на своем месте, и
использован, я бы сказал, в своей первозданной звуковой мощи, что
любой хороший музыкант мог бы составить себе сам вполне
сносную партитуру, за исключением, разумеется, тех новых
комбинаций и оркестровых эффектов, в которых Берлиоз, как
известно, проявил столько творческой изобретательности.
Никогда ни одно суждение не казалось мне столь
несправедливым, как суммарное суждение г-на Фетиса, высказанное
201
им в словах: «Je vis, qu'il manquait d'idees melodiques et har-
moniques» *.
Г-н Фетис мог бы (что он и сделал) отказать Берлиозу во
всем, что у него есть, — в фантазии, изобретательности,
оригинальности, но в богатстве мелодии и гармонии? 14
Я вовсе не собираюсь полемизировать с этой, впрочем,
блестяще и остроумно написанной рецензией, поскольку я
усматриваю в ней не личное пристрастие и несправедливость, но прямо-
таки слепоту, полное отсутствие органа для восприятия
подобного рода музыки. Однако читатель не обязан принимать от
меня на веру то, в чем он не убедился бы сам. Как ни вредны
бывают часто отдельные, вырванные из целого нотные
примеры, я все же попытаюсь при их помощи сделать некоторые вещи
более наглядными.
Что касается гармонической ценности нашей
симфонии, то в ней, конечно, чувствуется восемнадцатилетний15, еще
неопытный композитор, который особенно не оглядывается ни
направо, ни налево, но очертя голову устремляется к главной
цели. Если, например, Берлиозу надо перейти из Des в G, то- он
делает это без особых церемоний:
] dimi/u
Можно с полным правом покачать головой по поводу такого
образа действия! Однако понимающие музыканты, слышавшие
симфонию в Париже, утверждали, что в этом месте ничего
другого и не могло быть написано; более того, кто-то о музыке
Берлиоза проронил примечательные слова: «Que cela est fort
beau, quoique ce ne soit pas de la musique» **. Пусть это сказано
как бы на ветер, все же замечание стоит того, чтобы к нему
прислушаться. Добавим, что подобные места попадаются лишь
в виде исключения***; я позволил бы себе даже утверждать,
что, несмотря на многообразие комбинаций, достигаемых им
при помощи малого материала, гармония его отличается
некоторой безыскусственностью, во всяком случае крепостью и
собранностью, свойственными Бетховену, у которого, правда, все
это встречается в значительно более разработанном виде. Или,
* «Я убедился в том, что ему недоставало мелодической и
гармонической мысли» (франц.).
** «Это очень красиво, хотя это и не музыка» (франц.).
*** Ср., однако, стр. 61, т. 1—2 1в.
202
быть может, он слишком удаляется от главной тональности?
Возьмем же сразу первую часть: вступление* — сплошной
c-moll, после чего он дает в точности те же интервалы первой
мысли в Es-dur**; далее он долго остается в As-dur*** и легко
возвращается в C-dur. Из приведенной мною выше схемы
видно, как Allegro строится на простейших сопоставлениях C-dur,
G-dur и e-moll. И так всюду. Через всю вторую часть отчетливо
звучит светлый A-dur, в третьей — идиллический F-dur с
родственными ему С и B-dur, в четвертой — g-moll вместе с В и
Es-dur. Только в последней, несмотря на преобладающий в
принципе С, все начинает пестрить, как это и подобает
инфернальной свадьбе. Однако часто наталкиваешься и на плоские,
обыденные гармонии****,— на ошибочные, во всяком случае
запрещенные по старым правилам *****, хотя многие и звучат
великолепно,— на неясные и смутные******,— на плохо звучащие,
вымученные и искаженные *******.
Пусть же никогда не настигнет нас то время, которое
вздумает санкционировать такие места как прекрасные! Однако у
Берлиоза это—дело особого рода; попробуйте только
что-нибудь изменить или исправить, что для опытного гармонизато-
ра —детская игра, и вы увидите, как после этого все покажется
бесцветным!
В самом деле, первым порывам сильной молодой души
свойственна совершенно своеобразная, неукротимая сила; как бы
грубо она ни выражалась, воздействие ее будет тем более
мощным, чем меньше мы будем пытаться ввести ее с помощью
критики в русло художественного ремесла. Бесполезно стараться
отшлифовать ее посредством искусства или насильно удержи-
* Стр. 1—3, т. 5.
** Стр. 3, т. 6.
*** Стр. 6, т. 4.
**** Стр. 2, т. 6,7; стр. 6, т. 1—3; стр. 8, т. 1—8; стр. 21, последняя
строка, т. 1—4; во второй части, стр. 35, строка 5, т. 1—18.
***** Уже на стр. 1, т. 4, звук h (вероятно, опечатка); стр. 3, т. 2—4;
стр. 9, т. 8—9, 15—19; стр. 10, т. 11—14; стр. 20, т. 8—18; стр. 37, т. 11—14,
28—29; стр. 48, строка 5, т. 2—3; стр. 57, строка 5, т. 3; стр. 62, т. 9—14;
стр. 78, строка 5, т. 1—3 и все следующие; стр. 82, строка 4, т. 1—2 и все
следующие; стр. 83, т. 13—17; стр. 86, т. 11—13; стр. 87, т. 5—6. Повторяю,
я сужу только по фортепианному переложению: в партитуре многое, быть
может, и выглядит иначе.
****** Стр. 20, т. 3. Возможно, гармонии таковы:
6~7
6~7 6~б# 6^6 Ц
з# з - ab - з -
D* E P Fis и т.д.;
стр. Ь2, строка 5, т. 1—2; стр. 65, строка 4, т. 3, вероятно, шутка Листа,
который хотел изобразить замирающий звук тарелок; стр. 79, т. 8—10- сто 81
т. 6 и ел.; стр, 88, т. 1—3 и т. п. ' 9
******* Стр. 2, строка 4; стр. 5, т. 1; стр. 9, т. 15-19; стр. 17, т. 7 и
дальше; стр. 30, строка 4, т. 6-7; стр. 28, т. 12-19; стр. 88, т. 1—3 и т.п.
203
вать в его границах, пока она сама не научится более разумно
обращаться со своими средствами и находить себе цель и
путеводную звезду на собственном пути. Берлиоз вов'се не хочет,
чтобы его считали учтивым и элегантным; то, что он ненавидит,
он свирепо хватает за волосы, то, что любит, готов задушить в
искренних объятиях; на несколько градусов больше или
меньше — это ему не важно. Не придирайтесь же к пламенному
юноше, которого нельзя мерить на аршин галантерейной лавки!
Но мы будем отыскивать и все нежное, все
прекрасно-самобытное, что уравновешивает собою грубости и странности, о
которых мы говорили. Таково гармоническое построение всей
первой кантилены *, неизменно чистое и благородное, так же, как
и ее повторение в Es-dur **. Сильное впечатление должно
производить As, выдерживаемое басами на протяжении
четырнадцати тактов***, а также органный пункт в средних
голосах****. Тяжело передвигающиеся вверх и вниз хроматические
секстаккорды***** сами по себе ничего не говорят, но должны
в этом месте необычайно импонировать. По фортепианно-му
переложению нельзя судить о тех ходах, где в имитациях
между басом (или тенором) и сопрано слышатся ужасающие
октавы и переченья ******; если октавы хорошо скрыты, это должно
потрясать до мозга костей. — Гармоническая основа второй
части, за немногими исключениями, простая и менее глубокая.
По чистоте гармонического содержания третья- часть может по-
меряться с любым другим симфоническим шедевром: здесь
каждый звук полон жизни. В четвертой интересно все и все
написано в самом сжатом и самом добротном стиле. Пятая
неистовствует сверх всякой меры; за исключением отдельных
мест, интересных по своей новизне*******, она некрасива, в ней
много резкого и отталкивающего.
Как ни пренебрежительно относится Берлиоз к частностям
и жертвует ими ради целого,' он прекрасно знает цену более
искусной, тонко сработанной детали. Но он не
выжимает своих тем до последней капли и не отравляет, как это
часто делают другие, скучной тематической разработкой
удовольствие от хорошей мысли; он скорее делает намеки на то,
что мог бы разрабатывать и строже, если б он этого захотел и
если бы это было уместно, — предлагает эскизы в остроумной
* Стр. 1, начиная от т. 3.
♦♦ Стр. 3, т. 6.
*** Стр. 6, т. 4.
♦*** Стр. 11, т. 10.
***** Стр. 12, т. 13.
****** Стр. 17, т. 7.
******* £Тр уб, начиная от 4 строки; стр. 80, где в средних голосах звук Es
выдерживается чуть не 29 тактов; стр. 81, т. 20 — органный пункт на
доминанте; стр. 82, т. 11, где я безуспешно пытался устранить неприятную квинту
в строке 4, т. 1—2.
204
и сжатой манере Бетховена. Самые лучшие свои мысли он по
большей части высказывает только один раз и как бы
мимоходом*:
Главный мотив симфонии
19 Clar. et Bassons
сам по себе и незначительный и неподходящий для
контрапунктической разработки, в позднейших ситуациях выигрывает,
однако, все больше и больше. Уже с самого начала второго
раздела (разработки) он становится все более интересным (см.
нотный пример 18) **, пока он сквозь кричащие аккорды не
пробивается к C-dur***. Во второй части симфонии Берлиоз
вводит его нота в ноту, но в новом ритме и с новыми гармониями,
в качестве трио****. Почти в конце он повторяет его еще раз,но
* Стр. 3, т. 2; стр. 14, строка 4, т. 6—18; стр. 16, т. 1—8; стр. 19,
строка 5, т. 1—15; стр. 40, строка 4, т. 1—16.
** Стр. 16, строка 6, т. 3.
*** Стр. 19, т. 7.
Стр. 16, стро
Стр. 19, т. 7.
**** Стр. 29, т. 1.
205
слабо и как бы задерживая*. В третьей части мотив
появляется как речитатив, прерываемый оркестром**; здесь
он становится страстным до ужаса вплоть до пронзительного
As, после чего он как бы в изнеможении падает. Позднее***,
нежный и успокоенный, он появляется как бы ведомый главной
темой [данной части]. В marche du supplice **** он снова
поднимает голос, но coup fatal***** его пресекает******.
В сцене видения [V часть] он звучит на тривиальном С и Es
кларнете *******э увядший, опошленный и грязный. Берлиоз
сделал это с намерением.
Вторая тема первой части как бы непосредственно вытекает
из первой********; обе они так необычайно срослись, что в
точности обозначить начало и конец периода невозможно, пока,
наконец, не отделяется новая мысль:
Вскоре она снова почти незаметно звучит в басу*********.
Позднее композитор снова подхватывает ее, набрасывая весьма
остроумный ее эскиз:
Yiolonceffi
* Стр. 35, строка 5.
** Стр. 43, последний такт.
*** Стр. 49, т. 3 и 13.
**** Шествие на казнь (франц.).
***** Роковой удар (франц.).
****** Стр. 63, т. 4.
******* Стр. 67, т. 1; стр. 68, т. 1.
******** Стр. 10, строка 5, т. 3.
********* Стр. 11, т. 5; стр. 12, т. 7.
206
ff
На этом последнем примере яснее всего видно, каким
образом композитор осуществляет разработку. Столь же нежно
вырисовывает он впоследствии мысль, которая казалась уже
совсем забытой *.
Мотивы второй части симфонии сплетены менее искусно,
однако тема в басах звучит превосходно**; очень тонко
разрабатывает он один такт из этой же темы ***.
С очаровательным разнообразием преподносит Берлиоз
монотонную главную мьшль третьей части ****. Бетховен едва ли
мог бы разработать ее,с большей тщательностью. Вся эта часть
полна продуманно связанных моментов; так, однажды дается
скачок со звука С на большую септиму вниз17; позднее
композитор отлично использует этот незначительный штрих:
22
fizz.
* Стр. 9, т. 19; стр. 16, т. 3.
*• Стр. 31, т. 102 стр. 3, т. 1.
••• Стр 28, т. 10. F
**** Стр. 39, т. 4; стр. 42, т. 1; стр. 47, т. 1.
207
zurfrz&zz'i^
etc.
Clarinettes
о четвертой части автор дает очень красивый контрапункт
; ;.-..4Бной "теме13:
5?5SfetfEz!2rzfeSffe
** VioionoeUes ci Contreba-s'ses
marcatissimo
Заслуживает также знимания, как она тщательно
транспонирована в Es-dur *:
TimbaUes con sord'aii
и в g-moll:
* Стр. 87, т. 8.
208
Г. ^ruments h eordes
к .1 if
В последней части композитор вводит Dies irae, — сначала
целыми нотами, затем половинными и, наконец, восьмыми *; к
этому присоединяются колокола, звучащие через определенные
промежутки времени на тонике и доминанте. Следующая затем
двойная фуга:
г*«Т | I ■s '
Ronde du\Sabhat
3„
(Берлиоз скромно называет ее фугато) хотя и не баховская, но
построена ясно, по всем правилам. Dies irae и Ronde du
Sabbat - хорошо сплетены друг с другом:
* Стр. 71, строка 4, т. 7; стр. 72, т. 6; там же, т. 16.
«Хоровод шабаша» (франц.).
209
Instruments a vent
Только тема последнего оказалась слишком короткой, и новое
сопровождение из катящихся вверх и вниз терций19
оказывается до предела свободным и фривольным. Начиная с третьей
страницы от конца, все идет вверх дном, как это уже не раз
отмечалось; Dies irae еще раз начинается рр*. Без
партитуры последние страницы нельзя называть иначе, чем плохими.
Если г-н Фетис утверждает, что даже преданнейшие друзья
Берлиоза не решались защищать его мелодию, то я
принадлежу к врагам Берлиоза: только не следует при этом думать
об итальянской мелодии, которую знаешь уже раньше, чем она
началась.
В неоднократно упоминавшейся главной мелодии всей
симфонии есть, правда, что-то плоское, и Берлиоз, пожалуй,
слишком ее расхваливает, приписывая ей в программе «благородно-
застенчивый характер» (un certain caractere passione, mais
noble et timide **).
Однако надо принять во внимание, что он вовсе не хотел
провозглашать какую-нибудь великую идею, но как раз
воплотил одну из тех навязчивых мучительных мыслей, что иногда
целыми днями нельзя выбросить из головы; и эту монотонность,
сводящую с ума, лучше не выразишь. В упомянутой рецензии
говорится также, что главная мелодия второй части пошла и
тривиальна, но ведь Берлиоз как раз и хочет (как тот же
Бетховен в последней части А-с1иг'ной симфонии) ввести нас в
танцевальный зал — не больше и не меньше. Так же дело обстоит
и с начальной мелодией третьей части:
28
Г-н Фетис, насколько я понимаю, называет ее расплывчатой
и безвкусной. Однако надо только побродить по Альпам и
другим пастушеским местам, надо прислушаться к свирелям или
* Стр. 55, т. 15; стр. 57, т. 12; стр. 58, т. 5; стр. 60, т. 1 и 10 и далее
в обращении^ стр. 61, т. 3.
** Характер несомненно страстный, но благородный и застенчивый
(франц.).
210
альпийским рогам — именно так это и звучит. Но ведь все
мелодии симфонии столь же своеобразны и естественны; зато в
некоторых эпизодах они совсем сбрасывают с себя всякую
характерность и поднимаются до более общей и более
возвышенной красоты. Что можно, например, возразить против первой
же кантилены, с которой начинается симфония? Может быть,
она преступает границы октавы больше, чем на одну ступень?
Но разве в ней недостаточно грусти? А что можно сказать
против скорбной мелодии гобоя в одном из предшествующих
примеров? Что в ней неуместные скачки? Но кто же станет на все
указывать пальцем! Если уж делать упрек Берлиозу, то можно
было бы упрекнуть его в пренебрежении к средним голосам; но
этому можно противопоставить особое обстоятельство,
наблюдавшееся мною лишь у немногих других композиторов. Дело- в
том, что мелодии его отличаются такой интенсивностью почти
каждого отдельного звука, что они, подобно многим старым
народным песням, часто не терпят никакого гармонического
сопровождения, а иногда могут от такого сопровождения
потерять даже полноту своего звучания. Поэтому Берлиоз и
гармонизирует их по большей части при помощи выдержанного баса
или же аккордов соседней верхней и нижней квинты *.
Конечно, мелодии его не только для ушей; кто не сумеет следовать
за ними внутренним чувством, тот их не поймет; эти мелодии
надо петь не вполголоса, а полной грудью, и тогда они
приобретут смысл, который будет казаться обоснованным тем
глубже, чем чаще их повторять.
Чтобы ничего не обойти, мы уделим здесь место еще
нескольким замечаниям об этой симфонии как произведении
оркестровом, а также о фортепианном
переложении Листа.
Прирожденный виртуоз оркестра, Берлиоз, конечно,
предъявляет невероятные требования как к отдельному оркестранту,
так и к оркестровой массе, — больше, чем Бетховен, больше,
чем все другие. Но он требует от оркестрантов не повышенной -
технической виртуозности, — ему нужна заинтересованность,
работа, любовь. Индивидуум должен отступить на второй план,
чтобы служить целому, а последнее в свою очередь должно
подчиняться воле своих руководителей. Тремя, четырьмя
репетициями здесь ничего не достигнешь; в области оркестровой
музыки симфония, может быть, должна занять место, подобное
концерту Шопена в области фортепианной игры20; впрочем, это
не значит, что мы хотим их сравнивать. — Даже г-н Фетис,
противник Берлиоза, воздает должное его инстинкту как инст-
рументатора; выше говорилось уже, что по одному фортепиан-
* Первое —напр., стр. 19, т. 7; стр. 47, т. 1; второе — главная мелодия
«Ьала», где основные гармонии собственно A, D, Е, А, а также в «Шествии»,
стр. 47, т. 1.
211
ному переложению угадываются все облигатные инструменты.
Между тем самая живая фантазия с трудом сможет
представить себе все разнообразие комбинаций, контрастов и
эффектов. Правда, композитор не пренебрегает ничем, что только
называется звуком * — так он применяет приглушенные литавры,
арфы, валторны с сурдинами, английский рожок, под конец и
колокола. Флорестан даже сильно уповает на то, что Берлиоз
как-нибудь заставит в тутти всех музыкантов свистеть, хотя он
мог бы с таким же успехом написать и паузы, ибо едва ли кто-
либо из музыкантов сможет от смеха сложить губы Для свиста;
в будущих партитурах Флорестан твердо рассчитывает
услышать также трели соловья и моментами раскаты грома.
Словом, это надо слышать. Опыт покажет, насколько все
притязания композитора основательны, и увеличивается ли
пропорционально им чистая прибыль от получаемого удовольствия.
Достиг ли бы Берлиоз чего-нибудь немногими средствами — этот
вопрос остается открытым. Удовольствуемся тем, что он нам
дал.
Фортепианное переложение Франца Листа
заслуживало бы пространного обсуждения; мы оставляем его
на будущее, равно как и некоторые соображения о
симфоническом использовании фортепиано. Лист сделал этот клавир так
тщательно и так вдохновенно, что его следует рассматривать,
как оригинальное произведение, как итог глубоких изысканий,
как практическое руководство к чтению партитур. Это
исполнительское искусство, совершенно отличное от детализирующей
игры виртуоза. Требуемое им разнообразие удара, действенное
применение педали, отчетливое сплетение отдельных голосов,
охват массового звучания, словом, знание тех средств и тех
многих тайн, которые еще скрывает в себе фортепиано, — все
это доступно только мастеру и исполнительскому гению,
каковым Лист всеми признан. Такое переложение может быть
смело исполнено наряду с оркестровым оригиналом, что Лист и
сделал публично, сыграв его недавно в Париже в качестве
вступления к более поздней симфонии Берлиоза (Melologue,
продолжение «Фантастической») 21.
Окинем еще раз единым взглядом путь, пройденный нами
до сих пор. Согласно нашему первоначальному плану, мы
намеревались говорить отдельно о форме, музыкальной
композиции, идее и духе симфонии. Прежде всего мы увидели, что
форма целого мало чем отличается от традиционной, что
отдельные части развивают в большинстве случаев новые образы,
что по своим необычайным соотношениям периоды и фразы
отличаются от обычных. Говоря о музыкальной композиции, мы
обращали внимание на гармонический стиль, на остроумную
* В оригинале «was irgend, Ton, Klang, Laut und Schall heissb, т.е.
даны четыре немецких обозначения понятия «звук*.
212
разработку деталей, на интересные соотношения и обороты, на
своеобразие мелодии. Кроме этого, мы уделили внимание
инструментовке и фортепианному переложению. Мы заканчиваем
несколькими словами об идее и духе произведения.
Берлиоз сам изложил в программе все мысли и
представления, которые он хотел вызвать своей симфонией. Приводим
вкратце эту программу.
Композитор хотел изобразить в музыке некоторые моменты
из жизни художника, Видимо, необходимо, чтобы план
инструментальной драмы был предварительно разъяснен словами.
Нижеследующую программу нужно рассматривать, как
вводный текст, предпосылаемый музыкальным номерам оперы.
Первая часть. Мечты, страдания (reveries, passions). По
замыслу композитора, некий юный музыкант, мучимый тем
моральным недугом, который один знаменитый писатель назвал
«le vague des passions» *, впервые увидел женское существо, в
котором все отвечает его идеалу. По странной прихоти случая
любимый образ является ему не иначе, как в сопровождении
определенной музыкальной мысли, которая кажется ему
страстной, благородно застенчивой — такой же, как характер
девушки; эта мелодия и этот образ преследуют его неотступно, как
двойная навязчивая идея. Мечтательная меланхолия,
прерываемая лишь отдельными тихими звуками радости и доходящая
до сильнейшего любовного неистовства, страдание, ревность,
сердечный пыл, слезы первой любви — таково содержание
первой части. — Вторая часть. Бал. Художник в гуще
праздничной толпы, погружен в блаженное созерцание красот природы,
но всюду, в городе и вне его, юношу преследует и волнует его
душу любимый образ. — Третья часть. Сцена в полях.
Однажды вечером он слышит напев двух перекликающихся
пастухов; этот диалог, пейзаж, тихий шелест листвы, проблеск
надежды на взаимную любовь — все соединяется, чтобы дать его
сердцу необычный покой, а его мыслям радостное направление.
Он думает о том, что вскоре не будет так одинок... Но если она
обманет! Эту смену надежды и страдания, света и тьмы
выражает Adagio. К коицу один из пастухов повторяет свой напев,
но другой больше не отвечает. Отдаленный гром... Одиночество,
глубокая тишина. — Четвертая часть. Шествие на казнь
(Marche du supplice). Художник убежден, что его любовь
безответна, и отравляется опиумом. Наркотик, слишком слабый,
чтобы его убить, погружает его в сон, исполненный самых
страшных видений. Ему снится, что он стал ее убийцей и,
приговоренный к смерти, видит собственную казнь. Процессия
трогается; ее сопровождает марш, то мрачный и дикий, то
блестящий и торжественный; глухой гул шагов, грубый шум толпы.
К концу шествия появляется навязчивая идея — последняя
* «Неопределенная страсть» (франц.).
213
мысль о возлюбленной, но она не заканчивается, как бы
оборванная ударом топора.— Пятая часть. Сон в ночь шабаша»
Он видит, как его обступили страшные рожи, ведьмы,
всевозможные чудища, собравшиеся на его похороны. Вопли, вой,
хохот, стоны. Любимая мелодия звучит еще раз, но как пошлая,
вульгарная танцевальная тема: это идет она. Ликующий рев
встречает ее. Дьявольская оргия. Похоронный звон. Пародия
на Dies irae.
Такова программа. Германия может вернуть ее Берлиозу: в
таких путеводителях есть всегда что-то недостойное и
шарлатанское. Во всяком случае достаточно было бы пяти основных
заглавий; более подробные обстоятельства, представляющие
все же интерес в связи с личностью композитора, который сам
пережил эту симфонию, и так передавались бы в устной
традиции. Одним словом, тонко чувствующий немец, не слишком
расположенный ко всему сугубо личному, не хочет, чтобы так
грубо руководили его мыслями; уже в «Пасторальной
симфонии» его оскорбляло то, что Бетховен не доверил ему разгадать
характер музыки без помощи композитора.
Человеку присуща особая робость перед мастерской гения:
он не хочет ничего знать о причинах, орудиях и тайнах
творчества, ведь и природа обнаруживает некую стыдливость,
скрывая свои корни под землей. Так пусть же художник таит про
себя свои муки; мы узнали бы страшные вещи, если бы в
каждом произведении могли проникнуть до самой основы, из
которой оно произошло!
Однако Берлиоз писал прежде всего для своих французов,
а им трудно импонировать эфирной скромностью. Я могу себе
их представить — как они с программой в руках читают и
аплодируют своему соотечественнику, который так хорошо все
изобразил22. До музыки самой по себе им нет дела. Может ли
эта музыка вызвать у человека, незнакомого с намерениями
композитора, образы, подобные тем, которые он хотел
нарисовать, — этого я, прочитавший программу до слушания, решить
не берусь. Раз уже глаз направлен на что-то определенное, ухо
больше не может судить самостоятельно. Если же спросят,
способна ли музыка действительно дать то, что Берлиоз от нее
требует в своей симфонии, то пусть попробуют связать ее с
другими или противоположными образами. Вначале программа
отравляла и мне всякое удовольствие, стесняя свободу
восприятия. Однако по мере того, как программа эта все больше и
больше стушевывалась и заработало собственное мое
воображение, я стал находить не только все указанное, но и гораздо
больше, и почти всюду — теплый, живой тон.
Что же касается вообще трудного вопроса, как далеко
может идти инструментальная музыка в изображении мыслей и
событий, то многие смотрят на это слишком опасливо. Конечно,
ошибаются те, кто думают, что композиторы раскладывают пе-
214
ред собой перо и бумагу с жалким намерением то или другое
выразить, описать, изобразить. Но и не следует недооценивать
случайных влияний и внешних впечатлений. Бессознательно,
рядом с музыкальной фантазией, часто продолжает
воздействовать какая-нибудь идея, рядом с ухом — и глаз, и последний,
этот неизменно деятельный орган, удерживает среди звучаний
некоторые контуры; вместе с продвижением музыки они могут
уплотниться и развиться до отчетливых образов. И вот, чем
больше элементов, родственных музыке, несут в себе мысли и
образы, порожденные звуками, чем сильнее поэтическая и
пластическая выразительность произведения, и чем, вообще,
большим воображением и остротой восприятия обладает музыкант,
тем больше будет его произведение нас возвышать и
захватывать. Почему, например, Бетховену среди его фантазий не
могла придти в голову мысль о бессмертии? Почему бы не могла
его вдохновить память о великом павшем герое? А другого —
воспоминание о блаженно прожитом времени. Неужели мы не
будем благодарны Шекспиру за то, что он из груди одного
юного поэта звуков вызвал достойное его произведение?23 Неужели
не поблагодарим природу и будем отрицать, что мы Для наших
произведений пользовались ее красотой и величием? Италия,
Альпы, картина моря, какой-нибудь весенний рассвет — разве
музыка нам до сих пор еще ничего об этом не рассказывала?
Даже незначительные, более специфические образы могут
придать музыке такой чарующе определенный характер, что диву
даешься ее способности выражать такие явления. Так, один
композитор рассказал мне, что в то время, как он писал, его
непрерывно преследовал образ бабочки, плывущей на листе
вниз по ручью; это придало его пьесе такую нежность и
наивность, какими может обладать только картинка, взятая из
действительности. Мастером подобного рода тонкой жанровой
живописи был в особенности Франц Шуберт, и я не могу не
привести здесь памятного мне случая. Сыграв однажды со своим
приятелем шубертовский марш, я спросил, не представляются
ли ему здесь совершенно определенные образы; он ответил:
«Действительно, я находился в Севилье, но более чем сто лет
назад, среди прогуливающихся взад и вперед донов и донн со
шлейфами, длинноносыми башмаками, остроконечными
шпагами и т. д.». Странным образом наши видения совпали вплоть
до города. Пусть же никто из читателей не вычеркивает у меня
этот незначительный, маленький пример!
Вопрос о том, много ли поэтических моментов заложено в
программе к берлиозовской симфонии, мы оставляем
открытым. Главным остается вопрос — имеет ли эта музыка сама по
себе, без текста и пояснений нечто ценное и прежде всего —
одухотворена ли она? Что касается первого, мне кажется, я
кое-что уже доказал; второго, вероятно, никто отрицать не
станет, даже в тех случаях, где Берлиоз явно ошибался.
215
Если бы кто-либо вздумал воевать с духом времени,
терпящим Dies irae в виде фарса, то ему пришлось бы повторять то.
что уже долгие годы писалось и говорилось против Байрона,
Гейне, Виктора Гюго, Граббе и им подобных. Поэзия на
несколько мгновений на протяжении вечности надела маску
иронии, чтобы не видели ее страдальческого лика; возможно, что
ласковая рука некоего гения когда-нибудь и снимет эту маску.
Еще много плохого и хорошего следовало бы здесь обсудить,
но на этом мы умолкаем!
Если бы эти строки могли хоть отчасти содействовать тому,
чтобы прежде всего Берлиоз постарался умерить
эксцентричность своего направления; затем — привлекли бы внимание к
его симфонии не как к творению зрелого мастера, но как к
произведению, которое отличается от всех существующих своей
оригинальностью; наконец, если бы немецкие художники,
которым Берлиоз протянул мощную руку для союза против
бездарной посредственности, пробудились к более живой
деятельности,— то цель опубликования этих строк была бы достигнута.
Р. Шуман
36. ПИСЬМА МЕЧТАТЕЛЕЙ
1. КИАРЕ
Что ни говори, но среди всех наших задушевных
музыкальных праздников всегда нет-нет да и выглянет чья-то ангельская
головка, которая — вплоть до лукавой ямочки на подбородке —
уж очень похожа на личико некой Клары. Но почему же ты не
с нами? И как же ты вчера вечером должна была вспоминать
нас, жителей Фирленца1, от первых звуков «Морской тиши» я
до заключительной вспышки В-с1иг'ной симфонии2.
Для меня — кроме разве самого концерта — нет ничего
более прекрасного, чем предконцертный час, когда напеваешь
себе под нос эфирные мелодии, как пчелы жужжащие у тебя1
на кончиках губ, когда ты на цыпочках осторожно
прохаживаешься взад и вперед, а на оконных стеклах умудряешься
исполнять целые увертюры... Но вот часы пробили три четверти...
* Эти письма могли бы также носить название «Правда и поэзия». Они
относятся к первым концертам Гевандхауза в октябре 1835 г. под
управлением Мендельсона. [ILL, 1852]
216
И мы с Флорестаном поднимаемся по блестящим ступеням.
«Себ, — говорит он, — я много радостей жду от сегодняшнего
вечера; во-первых, я целиком предвкушаю музыку, которой мы
жаждем, как после засушливого лета, предвкушаю и Ф. Мери-
тиса, который со своим оркестром впервые выходит на поле
брани, и певицу Марию3 с ее голосом весталки, наконец, и всю
эту публику, которая ждет бог весть каких чудес и с которой я,
как ты знаешь, обычно не очень-то считаюсь...» При слове
«публика» мы уже стояли перед старым капельдинером с
лицом командора, и каких только хлопот мы ему не доставили,
пока он нас с раздраженным видом наконец не пропустил, ведь
Флорестан, как всегда, забыл свой билет. Вступая в сияющий
золотом зал, я, судя по выражению моего лица, словно готов
был произнести нижеследующую речь: «Поступь моя легка, ибо
мнится мне, будто здесь и там наплывают на меня лики тех
единственных, кому даровано прекрасное искусство, способное
в единый миг возвысить и осчастливить сотни людей. Вот вижу
я Моцарта; сочиняя симфонию, он стучит ногами так, что
пряжка отлетает у него от башмака; вот старик Гуммель,
импровизирующий за роялем; вот Каталани, срывающая с себя шаль,
так как перед ней забыли разостлать ковер, вот Вебер, Шпор и
многие другие. Тогда-то я подумал и о тебе, Киара, чистая,
светлая, — вспомнил, как ты, бывало, из своей ложи глядишь
вниз, рассматривая партер через лорнет, который так тебе
идет». Все еще погруженный в эту мысль, я вдруг
почувствовал на себе гневный взгляд Флорестана; он стоял, приросший
к своему привычному косяку, и в его гневном взоре было
написано примерно следующее: «Так-то, публика, вот ты и снова
вся целиком в моих руках и снова я могу всех вас натравливать
друг на друга... Давно уже собирался я учредить концерты для
глухонемых; они послужили бы руководством, научили как
вести себя на концертах, и притом на самых лучших... подобно
Цинг-Зингу4 ты должна была бы окаменеть, превратившись в
китайского божка, если бы тебе, чего доброго, пришло на ум
разболтать хотя бы что-нибудь из того, что ты подглядела в
волшебном царстве музыки» и т. п. Мои размышления были
прерваны внезапной тишиной, воцарившейся среди публики.
Появляется Ф. Меритис. Сразу же сотни окрыленных сердец
устремились ему навстречу.
Помнишь ли ты, как мы однажды вечером отплывали из
Падуи вниз по Бренте? Итальянская жаркая ночь каждому из
нас поочередно смыкала очи. А утром чей-то голос вдруг
вскричал: «Ессо, ессо, signori, Venezia!»*, и море, тихое и
безбрежное, простиралось перед нами, но на самом краю горизонта
что-то тонко звенело, поднимаясь и опускаясь, словно
маленькие ролны перешептывались друг с другом во сне. Вспомни,
< Смотрите, смотрите, сеньоры, Венеция!» (итал.).
217
именно так все шелестит и шуршит в «Морской тиши», и по
настоящему клонит тебя ко сну, и ты уже не мыслишь, а сам
превращаешься в мысль. Бетховенский хор на слова Гете и
акцентируемое слово звучат почти что грубо по сравнению с этим,
как паутинка тонким, звучанием скрипок5. Ближе к концу из
общего фона вдруг вырывается неожиданная гармония,
вероятно, как раз в тот миг, когда на поэта мог упасть соблазняющий
его взор одной из дочерей Нерея, чтобы увлечь его за собой в
глубину — но тут впервые выше всплеснула волна, и море,
куда ни повернешься, становится все говорливей и вот уже тре-
пещат паруса и веселые вымпелы, а там — ура! — все дальше
вдаль и вдаль... «Какая из увертюр Ф. Меритиса вам больше
по Душе?» — спросил меня какой-то чудак, и сразу же во мне
переплелись тональности e-moll, h-moll и D-dur6, образуя как
бы новое трезвучие из трех граций, и я не нашел ответа
лучшего, чем наилучший! «Каждая!» Ф. Меритис дирижировал так,
будто он тут же и сочинял эту увертюру, и оркестр играл
соответственно. Но меня поразило замечание Флорестана, что
Ф. Меритис играл якобы так, как играл сам Флорестан, 'когда
он из провинции попал в учение к майстеру Раро. «Досаднее
всего, — продолжал он, — в тогдашнем моем кризисе было это
среднее состояние между искусством и природой. При всей
пылкости моего восприятия, я теперь был вынужден все
исполнять медленно и отчетливо, так как повсюду мне недоставало
техники; стали появляться запинки и скованность, и я уже
начал сомневаться в своем таланте, но, к счастью, кризис
продолжался недолго»7. Что же касается лично меня, то в
увертюре, так же, как и в симфонии, мне мешал дирижерский жезл *,
и я соглашался с Флорестаном, считавшим, что в симфонии
оркестр должен выступать как республика, которая не признает
над собой повелителя. И все же любо было смотреть на Ф.
Меритиса, как он взглядом своим предвосхищал нюансировку всех
извилин содержания исполняемых сочинений от тончайшей до
самой мощной и плыл на высоте блаженства, возглавляя
общий поток. А ведь иногда попадаются дирижеры, которые
своим скипетром грозятся отколотить партитуру, а заодно и
оркестр и публику. Ты знаешь, до какой степени я ненавижу
всякие споры о темпе и что для меня решающее—это
внутренняя мера движения. Так, более быстрое Allegro у холодного
исполнителя всегда звучит более вяло, чем более медленное у
сангвиника. Но в оркестре нужно считаться и со звуковыми
массами: более грубые и более плотные оркестры способны
сообщать большую весомость и большую значительность как
целому, так и частностям, зато в оркестрах, меньших по соста-
* До Мендельсона, когда во главе оркестра стоял Маттеи, оркестровые
произведения исполнялись без дирижера, постоянно указывающего такт.
(Ш., 1852J
218
ву и более тонких, как наш фирленцовский, недостаточную
звучность следует возмещать оживлением темпов. Словом,
скерцо симфонии8 показалось мне замедленным, что, впрочем,
было ясно по тому беспокойству, с которым оркестр
добивался спокойствия.
Но какое дело до всего этого тебе, сидящей в своем Милане,
да по правде говоря и мне, поскольку я в любое время могу
представить себе это скерцо в точности таким, как я хочу. Ты
спрашиваешь, получит ли Мария в Фирленце такое же
признание, как и прежде. Как ты можешь в этом сомневаться?
Правда, тогда она выбрала арию, которая доставила ей больше
чести как художнику, чем успеха как виртуозу9. Кроме того,
какой-то вестфальский музикдиректор10 сыграл один из
скрипичных концертов Шпора — хорошо, но несколько бледно и
худосочно. По выбору пьес каждому было ясно, что в
руководстве произошли перемены: если раньше с первых же фирлен-
цовских концертов итальянские мотыльки кружили вокруг
немецких дубов, то на сей раз дубы эти, могучие и тенистые,
стояли совершенно одиноко. Известная партия готова была
усмотреть в этом какую-то реакцию, я же считаю это скорее
случайным явлением, чем преднамеренным. Мы все знаем,
сколь необходимо защищать Германию от вторжения твоих
любимцев, между тем это следует делать с осторожностью,
скорее воодушевляя отечественную молодежь, чем безуспешно
ограждая ее от поветрия, которое возникает и исчезает
наподобие моды.
Только что, в полночный час, ввалились Флорестан вместе- с
Ионатаном, новым давидсбюндлером, воинственно наскакивая
друг на друга в споре об аристократии духа и о республике
мненийи. Наконец-то Флорестан нашел себе противника,
который заставляет его разгрызать алмазы. Дальнейшие
подробности об этом мощном противнике ты узнаешь со временем.
На сегодня хватит. Не забудь при случае взглянуть в
календаре на 13 августа, где некая Аврора соединяет твое имя с
моим12.
Эвсебий
* 2. ЭВСЕБИЮ
...Кровь стучит в моих жилах с лихорадочным
возбуждением, и печальные звуки Феличиты * еще звучат где-то глубоко
внутри меня. Нет, это были не знаки одобрения восхищенной
публики, но визг и топот разнузданной толпы; весь шум наших
северных музыкальных празднеств звучит для меня, как набож-
* Мы предполагаем, что здесь подразумевается Малибран; да и имя
совпадает. Редакция]. [Ш.]
219
ный лепет какого-нибудь «Dona nobis pacem» * по сравнению
с этим хоровым тутти восторженных миланцев. Мужчины вели
себя как куклы на шарнирах и вместе с йогами и с руками
выбрасывали наружу все свое «вне себя», дамы хватали
благоуханные букеты цветов и сотнями бросали их к ногам
Дездемоны, контрабас отложил свой смычок и выхлопывал бас к
заключительному тутти, литаврист же импровизировал бешеное
тремоло там, где ему, собственно говоря, делать было нечего.
Мы тоже не оставались без дела; даже Ливия, казалось, на
несколько мгновений забылась. — Маркиз предложил руку
своей сладостной страдалице, и я должна была последовать за
ними.
Я только что дочитала и дослушала твое письмо. Твои идеи
об оркестровой республике мне очень понятны. Я представляю
себе, как в том самом мастерском Adagio в «Морской тиши»
каждый инструмент, а главное бас вступает всякий раз как бы
невзначай, подобно тому, как из океана все время наплывает
одна необозримая бесконечность за другой. Твоими взглядами
я поделилась и с Фрицем Фридрихом. «Все это счечь
хорошо,— заметил он. — однако для того, чтобы сыграть таким
образом хотя бы эту увертюру с должной духовной правдивостью,
тебе пришлось бы предварительно послать фирлекцовский
оркестр к морю». — «Али-Бабу» я не понимаю13; я уже ряньше
признавалась тебе, какую я испытала досаду, когда слушала
его в Париже; и при этом мне вспоминается лаконичное
замечание Флорестана: «Если великий поэт, впавший в старческое
слабоумие, подолгу рассказывает нянюшкины сказки, то это
естественно; если же ты видишь синее небо, когда идет дождь,
то это неестественно».
А теперь еще кое-что о Феличите; эта женщина поистине
непостижима, столь же мила, как и необыкновенна; она
пригласила нас на репетицию, и мы улизнули от маркиза.
Посмотрел бы ты на нее, это существо не только замечательный
участник труппы, но и по-настоящему живая ее душа, и в этом она
совсем как Шредер. Так же распоряжается она костюмами,
расстановкой хора, поправляет игру партнеров, да-ет оркестру
темпы и почти з то же мгновение импровизирует грациозней-
шие украшения для своей арии. Без пения она была бы первой
актрисой, а без языка первой мимической артисткой столетия.
Этот неукротимый гений снова как нельзя лучше подтверждает
изречение майстера Раро: «Гения следует иногда пробуждать
насильственно и воспитывать его до известной степени с
педантичной строгостью», ибо Феличита имела в лице своего отца
очень строгого учителя, который ее отличным успехам
молодости почти всегда противопоставлял недовольство, упреки и
еще более высокие требования. Более того, в Нью-Йорке, где
* «Дай нам мир» (лат.).
220
она играла Дездемону, а он Отелло, он угрожал, что в самом
деле зарежет ее, если она не добьется еще большей
выразительности в игре и пении; и эта угроза столь жестокого учителя
с такой убедительностью подействовала на шестнадцатилетнюю
девочку, что после представления отец, опьяненный радостью,
напророчил ей будущее величие. Я слышал, как она сама это
рассказывала с благодарностью отцу за его правоту, и если ты
это сообщишь майстеру Раро, я уже вижу, как он с
торжествующей улыбкой кое-кому протянет этот листок для
прочтения... 14
Ливия склонилась мне на плечо, ей хочется поглядеть на
лунное освещение с крыши собора. Я с радостью исполняю ее
желание. Ты же будь здоров!
Ночью часто начинают звучать струны, будто от
прикосновения призрачной руки, тогда думай, что я думаю о тебе.
Следующие наши письма из Венеции.
Киара
3. КИАРЕ
Цветком распустился навстречу мне почтальон, как только
я заметил блеск алого «Milano» на твоем письме. С восторгом
вспоминаю и я первое посещение театра La Seal а как раз
тогда, когда Рубини пел вместе с Мерик-Лаланд. Ведь
итальянскую музыку надо слушать среди итальянцев; немецкой,
правда, наслаждаешься под любыми широтами 15.
Я был совершенно прав, что не вычитал никаких
реакционных намерений в программе прошлого концерта, ибо уже
следующие одарили нас плодами из садов Гесперид. Но больше
всех забавляет меня Флорестан, который при этом
по-настоящему умирает от скуки и не бросается вырубить эти кущи
только из упрямства, назло кое-каким генделианцам и другим
«анцам», разговаривающим так, будто они, сидя в халате, сами
написали «Самсона». Зато он все это сравнивает, скажем, с
«фруктовым десертом» или с «бездушной тициановской плотью»
и т. п., правда, в тоне настолько комичном, что можно было
бы громко расхохотаться, если бы не орлиное око [дирижера.!,
грозно взирающее на нас с высоты. «По правде говоря, —
заявил он между прочим, — сердиться на итальянщину давно уже
вышло из моды, да и вообще к чему разгонять дубинкой
цветочную пыльцу, которую ветер то приносит, то уносит? Я,
право, даже не знаю, что я предпочел бы — мир, состоящий сплошь
из одних лишь ощетинившихся бетховенов^, или мир, полный
танцующих пезарских лебедей16. Удивляют меня только Две
вещи: во-первых, почему певицы, которые ведь никогда не зна-
221
ют, что им петь (исключив все или, наоборот, не исключая
ничего), почему их каприз не довольствуется малым, хотя бы
песней Вебера, Шуберта или Видебайна, и во-вторых, немецкие
композиторы, сочиняющие вокальную музыку, жалуются, что
их так редко исполняют в концертах, но почему же в таком
случае они не подумают о концертных пьесах, ариях и сценах и
таковых не сочиняют?» — Певица (не Мария) 17, исполнявшая
что-то из «Торвальдо» Россини, затянула свое «Dove son? Chi
m'aiuta» * таким дрожащим голосом, что я мысленно ответил
ей: «В Фирленце, милочка, aide-toi et le ciel t'aidera!» ** Ho
вскоре она почувствовала себя в ударе и запела так же
непринужденно, как и непритворно ей захлопала публика. «О, если
бы немецкие певицы, — заметил Флорестан, — не
прикидывались малыми детьми, которые думают, что их никто не видит,
когда они закрывают руками глаза. Ведь в большинстве
случаев они так и поступают, с такой таинственностью прячутся за
нотной тетрадью, что тут-то и начинаешь обращать внимание
на их лицо и сразу же замечаешь разницу, отличающую
немецких певиц от итальянских. Этих я видел в Миланской
академии; они так великолепно вращали глазами, «когда пели,
обращаясь друг к другу, что мне становилось боязно, как бы
артистическая страсть не перешла допустимых границ. Последнее я,
конечно, преувеличиваю, но все же мне хотелось бы как-нибудь
прочитать и в немецких глазах хотя бы намек на те драмати •
ческие ситуации, на те радости и те страдания, которые
выражает музыка. Красивое пение в устах мраморного изваяния зг •
ставляет усомниться, обладает ли эта красавица каким-нибуд ,
внутренним богатством. Я говорю об этом вообще».
Как жалко, что ты не видела Меритиса, исполняющего мен-
дельсоновский g-тоИ'ный концерт! Он сел за рояль с
беспечностью ребенка, но вот, пленяя одно сердце за другим, он
целые толпы их повел за собой, а когда он их отпустил, каждому
из нас было ясно, что мы пролетали мимо каких-то островов,
населенных греческими богами, и что теперь, невредимые и
счастливые, мы снова приземлились в фирленцовском зале.
«Вы — поистине благословенный мастер своего искусства», —
сказал Флорестан в заключение Меритису, и на такую похвалу
они оба имели право18. Моего Флорестана, ни слова мне не
сказавшего о концерте, я вчера оценил по-настоящему. Дело в
том, что я заметил, как он перелистывал какую-то книжицу и
что-то в нее вписывал. Когда он отошел, я увидел, что к
одному месту своего дневника, гласившему: «О многом на свете
ничего сказать нельзя, как, напр., о С-с1иг'ной симфонии
Моцарта с фугой, о многом у Шекспира, кое о чем у Бетхо-
* «Где я? Кто придет мне на помощь?» (итал.).
** «Помоги себе сам, и небо тебе поможет» (франц.).
222
вена», он приписал на полях: «О Меритисе, когда он играет
концерт М.».
Большое удовольствие получили мы от исполнения одной
пышащей здоровьем веберовской увертюры 19, прародительницы
стольких ковыляющих по ее следам тощих ублюдков, равно как
и от скрипичного концерта, сыгранного молодым ***20, ибо
поистине отрадно, когда с уверенностью можно предсказать, что
путь ищущего приведет его к мастерству. Я не стану занимать
тебя всем тем, что повторяют из года в год, исключение сделаю
лишь для симфоний. То, что ты как-то мне говорила о
симфонии Онслова в А, а именно, что прослушав ее дважды, ты такт
за тактом уже знаешь ее наизусть, могу сказать и о себе, хотя
истинная причина такого быстрого запоминания мне не
понятна. Ибо, с одной стороны, инструменты слишком тесно спаяны
и слишком разнородные нагромождены друг на друга, с
другой— все главные и все побочные элементы, все основные
мелодические нити ясна ощущаются. И именно то, что при
наличии густой инструментовки мелодия так настойчиво дает о себе
знать, мне кажется весьма примечательным. Здесь господствует
некое таинственное для меня обстоятельство, которое я
объяснить не могу. Впрочем, это, возможно, натолкнет тебя на
размышления. Лучше всего чувствую я себя в аристократической
сутолоке менуэта, в котором все сверкает алмазами и
жемчугами; в трио я вижу сцену, происходящую в соседнем кабинете,
в который через постоянно притворяемые двери бального зала
врываются звуки скрипок, заглушающие любовный шепот. Как?
Но ведь это очень легко вводит меня в А-(1иг'ную симфонию
Бетховена, которую мы с тобой недавно слушали. Испытывая
весьма умеренные восторги, мы еще в тот же вечер зашли к
майстеру Раро.
Ты же знаешь Флорестана, знаешь, как он садится за рояль
и, фантазируя, разговаривает сам с собой как во сне, хохочет,
плачет, встает, снова начинает сначала, и т. д. Цилия
находилась в эркере, другие давидсбюндлеры, разбившись на группы,
стояли в разных местах. Обсуждалось многое. «Я не мог (так
начал Флорестан, одновременно играя вступление к A-dur'Hofi
симфонии), не мог не хохотать над одним тощим актуариусом,
который усматривал в ней битву с гигантами, а в последней
части — их окончательное изничтожение, но который тихонько
прокрался мимо Allegretto, не подходившего к его идее. Да и
вообще смешны мне все эти вечные разглагольствования о
непорочности и абсолютной красоте музыки как таковой. Конечно,
искусство не должно подражать несчастным [параллельным]
октавам и квинтам самой жизни, а скорее их скрывать, и,
конечно, я нахожу, например, в ариах из «Хайлинга» Маршнера
красоту без правды, а у Бетховена (но редко) последнюю без
первой. Однако сильнее всего чешутся у меня руки, когда иные
223
заявляют, будто Бетховен в своих симфониях неизменно отдает
себя во власть самых возвышенных сентиментов и самых
выспренних раздумий о боге, бессмертии и заоблачных мирах,
между тем как этот гениальный человек, хотя и указывает на небо,
высоко поднимая свою увенчанную цветами голову, но все же
глубоко уходит корнями в любимую землю.
Возвращаюсь к симфонии. То, что я о ней сейчас скажу,
принадлежит вовсе не мне, а кому-то другому и взято из
старой тетради «Cacilia» (причем там место действия перенесено
в изысканные графские покои или еще куда-то в этом же
роде — возможно из чрезмерной .деликатности по отношению к
Бетховену, без которой можно было и обойтись)...21 Итак, это
самая что ни на есть развеселая свадьба, но невеста —
небесное создание, и в волосах у нее одна роза, только одна. Пускай
я ошибаюсь, но гости собираются под музыку вступления,
учтиво приветствуя друг друга, изгибая спины наподобие запятой;
пускай я очень ошибаюсь, но веселые флейты уже напоминают
нам о том, что вся деревня, где березки разубраны пестрыми
лентами, уже ликует по поводу бракосочетания Розы. Пускай я
очень и очень ошибаюсь, но бледная мать с трепещущим
взором словно уже оплакивает дочь: «А знаешь ли ты, что нам
придется расстаться?», в ответ на что у Розы подкашиваются
ноги и она падает в объятия матери, но свободной рукой тянет
к себе за руку юношу... Но вот на деревенских улицах стало
совсем тихо (здесь Флорестан уже приступил к Allegretto,
выбирая из него отдельные отрывки), пролетает одинокая
бабочка или осыпается цветущая вишня... Вступает орган, солнце
стоит высоко, длинные косые лучи играют золотыми
пылинками в сумерках церкви, колокола звонят вовсю, один за другим
появляются прихожане, хлопают откидные сиденья, кое-кто из
крестьян очень пристально вглядывается в молитвенник, иные
заглядывают на хоры — шествие приближается, впереди —
певчие мальчики с зажженными свечами и кадилами, за ними —
друзья, которые часто оглядываются на молодых,
сопровождаемых священником, родителями, подругами, да и к тому же всей
деревенской детворой. А теперь — смотрите, как все
выстраиваются, как священник поднимается к алтарю, как он
обращается к невесте и к счастливчику, как он им разъясняет все
обязанности, вытекающие из их союза, и его цель и желает им
счастья в согласии и в любви, как после этого она в ответ на
его вопрос отвечает «да», которое на вечные времена лишит ее
многого и которое она произносит твердо и медленно — но
разрешите мне оставить картину недописанной и сами допишите
ее во время финала по вашему усмотрению...» Флорестан
оборвал и резко перешел к заключению Allegretto, прозвучавшему
так, словно сторож захлопнул церковные врата и гулом
наполнил всю церковь.
224
Довольно. Флорестановское толкование сразу же разбудило
что-то и во мне, и буквы задрожали у меня под пером. Многое
еще хотелось бы тебе сказать, но меня тянет на волю. И пусть
же пауза между этим и следующим моим письмом проявит
должное терпение б надежде на более удачное начало!
Эвсебий22
4. КИАРЕ
«Первое, что мы прослушали, вспорхнуло перед нами, как
юный феникс, устремивший полет свой ввысь. Откуда-то
склонялись белые томные розы и венчики лилий, окропленные
росой, где-то раскачивались апельсиновые цветы и мирты, а
между ними вязы и плакучие ивы расстилали свою
меланхолическую тень; но в самой чаще мерцало сияющее Девичье лицо, и
дева подбирала себе цветы для венка. Часто замечал я ладьи,
смело несущиеся поверх волны, недоставало лишь мастерского
поворота руля и туго натянутого паруса, чтобы они не только
победно и быстро, но и уверенно бороздили водную стихию. Так
и здесь услышал я мысли, которые часто ошибались в выборе
достойных переводчиков и не могли заблистать во всей своей
красе, но пламенный дух, гнавший их вперед, страстное
томленье, управлявшее рулем, донесли их, наконец, до желанной
цели II вот, как некий стяг победы, приблизился юный
сарацинский герой с копьем и мечом и стал всем на радость
орудовать ими, как на турнире, а под конец подскочил какой-то
французский щеголь и все сердца обратились к...»
Так писал Эвсеб. Я застал его вчера вечером положившим
голову на этот листок и крепко уснувшим; вид у него был
такой, что хотелось его нарисовать и расцеловать. Казалось, что
во сне он все еще переживает концерт Цилии 23, о котором он
хотел Вам написать. Посылаю Вам листок целиком. Только не
смейтесь над тем, что он пишет о концерте для трех
фортепиано [d-moll] старого Себастьяна, сыгранном Цилией, Меритисом
и кротким давидсбюндлером Вальтом, но будьте похожим на
Флорестана, который сказал по этому поводу: тут-то и
начинаешь по-настоящему понимать, какое ты, в сущности, убожество.
Между тем стоит рассказать о том, как наш очередной фир-
ленцовский концерт, еженедельно происходящий с
благотворной точностью, подвергся на этот раз весьма опасному
нарушению. А именно, тотчас же после симфонии возникла пожарная
тревога, загремели пожарные трубы, зазвонили колокола,
ураган беспокойства пронесся по залу; многие уже схватили свои
головы под мышку; маленький певец, который с одной
фрачной полой (другую у него оторвали в давке) перелезал через
8 Р Шуман, т. I 90^
скамейки, чтобы Еыбраться на волю, выглядел достаточно
плачевно, так же, как и певица, упавшая на колени перед толстым
литавристом и распевавшая перед ним свою мольбу о спасении
методом отнюдь не итальянским... Посмотрел бы ты тогда на
твоих давидсбюндлеров! Они стояли, как скалы, и, настойчива
предъявляя свои билеты, спокойно требовали музыки; Меритис
тоже метал молнии и размахивал своим тактовым скипетром
высоко над головами всех; мало того, какой-то трубач
похрабрей даже выдул свою партию соло... Но ничего уже не
помогало. Наконец все разбежались. Вот смеху-то было, когда на
следующее утро услыхали, что у заснувшего часового подожгли
будку над его собственной головой.
Перед следующим концертом Флорестан наводил точные
справки, не грозит ли опасность снова, ибо в программе
значился целый мир музыки и он не хотел пропустить ни звука.
Но глаза опаляют скорее, чем пламя. Он оказался в зале
рядом с парой карих, и сердце его, ими сраженное, стучало еще
более пламенно, чем жезл Ф. Меритиса, отбизающий такт—от
этого-то, вероятно, и произошло, что он все темпы «Героической
симфонии» (Флорестак называет ее «римской», а четвертую з
В — «греческой») признал слишком медленными и
недостаточно гибкими, и «клянусь Меритису» (сказал он на улице), «если
это будет так продолжаться и я когда-нибудь сделаюсь музик-
директором, я его любимую увертюру никогда не буду играть
иначе, чем только так 24:
r Г If
ill
f-r Г If Г Г Г
"»
В бравурной арии с облигатной скрипкой Паэра было
больше кринолинов и шлейфов, чем молоденьких щечек. «Как вам
нравится наша новая певица—спросил меня сосед. —
Элегантная метода, чистота интонации и послушное mezzo voce много
значат в наше убогое время, и я думаю...;\
«A propos, слышали ли вы, — вмешался сосед слева, — что
образовался Союз немецких певиц для объявления конкурса на
решение вопроса, можно ли в совершенстве петь с закрытым
ртом и не произнося никаких слов?»
Только что окончился концерт Для флейты. «Я очень хотел
бы, захметил сосед справа, чтобы перед этим вместо скрипки
играла флейта».—«Вы правы (сосед слева)—я люблю
слушать флейту, в особенности пикколо, она так приятно
врезаемся в...», при этом хор из «Титуса» [Моцарта] так врезался мне
в ухо, — мы сидели совсем близко от юных римлян, — что я не
расслышал слов моих чувствительных соседей. Я снова убе-
226
дился, насколько трудно добиться хорошего оперного ансамбля
в концертном зале, хотя я был совершенно согласен с выбором
сегодняшнего, почти исчезнувшего из сценического репертуара.
Отсутствие декораций и настоящего движения в ходе действия
оказывает едва ли устранимое влияние на духовную теплоту и
гармонию исполнения, да и техническая его сторона
приобретает какую-то скованность и шаткость.
Наконец-то приехала Франчилла25, которую искусство
так тесно связывает с тобой и с Ливией 26. Твои слова,
дошедшие до нас из Мюнхена, жили в нашей памяти. Ты права:
это— алмаз чистейшего огня, он зажигает так же, как светит —
сверхопасно; она штурмует небо, смело шагая к самому
высокому. В ее концерте вся публика имела только одно лицо, лицо,
сияющее от подлинного полного наслаждения, а когда все ее
слушали, молча и затаив дыхание, словно впитывая из ее уст
звуки сирен, мне казалось, что я слышу стук сердец и вижу,
как над душами реют тайные вздохи и блаженные улыбки. —
И старый конторщик, который сзади меня разразился бурей
аплодисментов подобно какому-нибудь молодому буяну, делал
это, вероятно, не без оснований, ибо ныне, впервые после
двадцати лет, он вспомнил прежнее горячее юношеское время,
полное счастливых любовных мук, и, быть может, то была
последняя поэтическая строфа в его ограниченной жизни. Когда мы
шли домой, Раро сказал, что сегодня он ни за какие деньги не
согласился бы быть певицей, слушавшей Франчиллу. Ионатан
находит в ней много общего с Малибран; Флорестан снова
проклинает церемониал, «запрещающий как ни в чем не бывало
броситься ей на шею и т. д.»; Эвсебий же весьма простодушно
заметил, что ведь наш долг тотчас же послать ей давидсбюнд-
леровский диплом; — о себе могу только сообщить, что на
следующее утро, отправившись к ней, я еще не знал, что ей
сказать, разве только, что в глазах моих было написано:
молчание— тоже язык. Словом, в данное мгновение я тебе не
завидую, что ты в Венеции с ее сверкающими волнами, с ее
женщинами и мраморными дворцами,— (хотя Венеции я завидую, что
в ней ты).
Серпентин
Еще одно скажу тебе на ушко, пока не пришел Флорестан.
После концерта Франчиллы я слышал, как Ионатан сказал
ему: «Если не ошибаюсь, господин Флорестан, после арии
Доницетти я заметил на ваших щеках нечто весьма мокрое».
«Возможно, — отвечал тот, — но это не были капли пота». Но когда
мы были уже дома, я слышал, как Флорестан в ярости ходил
взад и вперед по своей комнате. «О, вечный позор» (он
произносил это отрывистыми фразами), «о Флорестан, в своем ли ты
уме, для того ли ты зубрил Марпурга, для того ли ты анатоми-
227 8*
ровал «Хорошо темперированный клавир», для того ли ты
выучил наизусть всего Баха и Бетховена—для того ли, чтобы
после двадцати лет от презренной арии какого-то Доницетти
вроде как расплакаться? И к тому же этот Ионатан —
свидетель! А ну-ка подайте сюда эти слезы, я их напрочь уничтожу,
расцарапаю вот этими кулаками». И тут, с жутчайшими
причитаниями он сел за рояль и сыграл эту арию так по-кабацки,
так смехотворно и уродливо, что наконец совсем успокоился и
сам себе сказал: «Поистине то было только звучание ее голоса,
которое меня так растрогало!» — Но пусть это послужит тебе
мерилом божественного искусства Франчиллы!
37. НОВЫЕ СОНАТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
К. Лёве. «Весна», музыкальная поэма в
форме соыаты (в G). Соч. 47
Во всякой музыке уже самой по себе должно быть нечто
весеннее; на этот раз поэт, исполненный фантазии, приносит на
алтарь весны особую жертву. Правда, скорее можно было
ожидать от Лёве зимней сонаты, в которой я уже (если он только
пойдет навстречу этому желанию) заранее слышу хруст снега
под колесами и крик ночных птиц вокруг колокольного шпиля;
но и у весны подслушал он ее приметы. Если он сделал это не
так, как Бетховен, чья Шестая симфония относится к другим
идиллическим сочинениям подобно тому, как жизнь великого
человека — к его биографиям, то все же как поэт с ясным и
открытым взором. А это уже радует в такое время и в таком
искусстве, которое все более и более по-фаустовски замыкается
в самом себе и предпочитает мрачную мистику здоровому
наслаждению благами жизни.
Итак, ошибается тот, кто ждет ночных сцен и северных
сияний; но зато он видит перед собой зеленеющий луг и древесную
почку, на которой сидит бабочка. Это о музыке как о поэзии.
Как композицию ее нельзя назвать ни новой, ни глубокой;
мелодии и гармонии примыкают друг к другу естественно, часто
простовато; целое зачато и рождено, пожалуй, слишком
поспешно. Пусть композитор поймет нас правильно! Бетховен в
своей «Пасторальной симфонии» распевает такие простые темы,
какие могла бы выдумать любая детская душа; но он наверняка
записывал не все, что ему внушал первый порыв вдохновения,
а выбирал из многого. С этим-то и связан упрек, который мы
предъявляем настоящему и многим другим произведениям
Лёве; они, высказываясь тишайшим голосом, часто притязают на
нечто большее и ждут от нас, что мы ради значительности глав-
228
ного безоговорочно примем тысячи раз повторявшиеся общие
места только потому, что их повторил выдающийся композитор.
Мы сомневаемся, чтобы кто-либо из живущих ныне талантов,
равноценных Лёве, решился напечатать многие отдельные
места этой сонаты *. Если и можно еще извинить первую тему
первой части, начало второго раздела этой же части и многое
другое простотой общего замысла и той почвой, на которой все
разыгрывается и живописуется, то все же — и мы на это уже
не раз указывали — в живописи должно содержаться столько
музыки, чтобы последняя имела значение сама по себе и чтобы
слух ничего не должен был заимствовать от зрения. Поэтому
мы находим вторую часть в музыкальном отношении самой
самостоятельной и самой удачной и поэтому же, например,
вступление— наименее удачным.
Как бы то ни было, но мы настойчиво рекомендуем эту
сонату, в особенности учителям с тем, чтобы они давали ее своим
младшим ученикам; неизменно ясное и естественное настроение,
свойственное сонате Лёве, должно будет доставить им
удовольствие и приносить пользу.
12
Франц граф фон Поччи.
«Фантастическая соната» (в С); «Весенняя соната» (в G)
Если бы кто-нибудь закрыл от меня рукой заглавие, я
предположил бы, что автор — женщина, и, может быть, судил бы о
ней так: как бы тебя ни звали, Адель-Зюлейка, но я заранее
тебя люблю, как и всех, кто пишет сонаты! Только бы ты свою
музыку всегда прекращала так, как ты ее начинаешь, как,
напр., в «Весенней-сонате», где с первой же страницы
слушателя во всю овевают благоухания мартовских фиалок... Но пока
твой мечтательный взор все еще блуждает по залитому лунным
светом небу или сердце твое погружается в Жан Поля, тебе
вдруг припоминается розовая лента, которая так идет твоей
подруге; к тому же ты часто еще путаешь «dass» и «das» *,
как бы, впрочем, очаровательно ни выглядел твой почерк.
Одним словом, ты — хорошая семнадцатилетняя девочка, полная
любви и кокетства, задушевности и упрямства. Мне не испугать
тебя такими словами, как «тоника», «доминанта» или, чего
доброго, «контрапункт», ведь ты с хохотом перебила бы меня и
сказала: «Да, я это сделала так и иначе сделать не могу», и
все же сердиться на тебя невозможно. Но будь я умным,
я'часто давал бы тебе в руки что-нибудь из Баха или Бетховена (но
никак не Вебера, которого ты так любишь) с тем, чтобы слух и
зрение у тебя обострились, чтобы твоя нежная Душа почувст-
* Распространенная в немецком языке орфографическая ошибка: «dass»
означает «что» и «das» — который».
229
вовала твердую почву под ногами и чтобы мысль твоя обрела
уверенность и определенность. И тогда я уже не знал бы, к
чему еще могла бы придраться «наиновейшая» музыкальная
газета2, что не рифмовалось бы с «прелестно» и «чудесно».
Э.
А Эвсебий-то мой каков! Как хитро он ходит вокруг да
около! Почему же не сказать прямо: «У господина графа очень
много таланта, но мало знаний».
Флорестан
Ф. Л а х н е р. Соната для четырех рук (в F).
Соч. 39
Будь эта соната написана французом, а тем более
итальянцем, всякий подивился бы ее серьезности и глубине. Ведь не
существует же еще мирового искусства, а потому и такой
критики, которая не соизмеряла бы своих суждений с уровнем
культуры, достигнутым разными народами, и не считалась бы
с их характером. Лахнер—немец; немецкое слово, бьющее
прямо в цель, будет ему по душе.
Мы не знаем, радоваться ли нам или огорчаться, что, кроме
этой сонаты, многих песен и одной симфонии1 однажды
прослушанной нами, ни одно другое сочинение Лахнера нам не
известно. Для критики он один из самых трудных характеров, и
не потому, что мысли его пребывают в столь темных глубинах,
что к нему и не подступишься, а потому, что он гладок, как
змея, и ускользает из рук всякий раз, когда хочешь его
ухватить. Сказал ли он что-нибудь пресное, как он тут же
исправляет это великолепно найденным словом; раздражает ли он вас
реминисценциями из Шпора или Франца Шуберта, как вскоре
появляется нечто свойственное ему одному; покажется ли вам
после этого все лишь видимостью и обманом, как в следующее
же мгновение он отдается весь целиком, открыто и без
задних мыслей. В этой сонате найдешь все, что хочешь: мелодию,
ритм (в котором он, однако, наименее изобретателен),
плавность, ясность, легкость, корректность и все же ничто не
трогает, почти ничто не проникает глубже, чем в ухо. Мы думали,
что виновато наше собственное настроение, и, чтобы сравнить
последующее впечатление с первым, мы намеренно надолго
отложили эту сонату в сторону, а также интересовались мнением
других: результат — тот же, тот же ответ. К этому не следует
относиться легкомысленно. На Лахнера возлагались радужные
надежды. Снисходительная критика многое прощала его
таланту. Настало для него время строго следить за собой, чтобы
еще больше не запутаться в самом себе. Дело в том, что
существуют своего рода полугении, которые с необыкновенной лег-
230
костью и восприимчивостью поглощают все необычное, будь оно
хорошее или дурное, и перерабатывают это как свое
собственное достояние. У них одно крыло — гения, а другое — из
восковых перьев. В добрый час, в минуту возбуждения первое
увлекает второе за собою ввысь, но в нормальном состоянии покоя
восковое еле-еле поспевает за другим. Говоря о подобных
характерах, часто хочется отказаться от нашей беспощадной
опенки — ибо удачи бывают и у них; часто же хочется
посоветовать им вовсе оставить творческую деятельность, ибо они
сами не ведают, как жестоко они обманывают и себя и других.
Они живут в неослабном напряжении, в постоянном кризисе,
в котором их следовало бы спокойно оставить и дать им самим
выкарабкаться оттуда. Ибо ведь достаточно единого упрека,
чтобы они еще пуще заупрямились, но точно также достаточно
одной похвалы, чтобы они тотчас же зазнались. Но так как
они по большей части тщеславны и не настолько собой
владеют, чтобы не навязывать миру своих творений, вполне
естественно, что от последнего не может ускользнуть все то
недоразвитое и двусмысленное, что заложено в их существе. Именно
потому, что в подобных характерах и в подобных сочинениях
ничего нет такого, что можно было бы назвать стилем и
системой, часто ошибаются и в них и в их будущности, предрекая
им подчас худшее, чем случается с ними на самом деле.
Последнее мы от всего сердца желаем и Лахнеру и сами готовы
воздержаться от всякой пророческой критики. Пусть же он
воспримет эти слова, относящиеся к целому классу и лишь отчасти
к самому Лахнеру, как мнение многих, которые, относясь
безусловно сочувственно к его художественным задаткам, не могут
в то же время подавить в себе чувство, что от него можно
ожидать еще более высоких достижений, если он только захочет
пожертвовать успехом у широких масс ради более
существенного признания со стороны его товарищей по искусству.
Ф. Мендельсон. Соната E-dur. Соч. 6.—
Ф. Шуберт. Первая большая соната (a-moll).
Соч. 42; Вторая большая соната (D-dur). Соч. 53;
Фантазия или соната (G-dur). Соч. 78; Первая
соната в четыре руки (B-dur). Соч. 30
Давидсбюндлеры уже неоднократно писали о сонатных
новинках на страницах журнала 3. Они вряд ли могли бы
замкнуть это ожерелье алмазными скрепами более благородными,
чем вышеназванные сочинения, т. е. самым прекрасным из
всего, что появлялось в этом наиболее дорогом для них жанре
231
фортепианной музыки со времен Бетховена, Вебера, Гуммеля и
Мошелеса. Перед взором человека, пробившегося наконец
через горы хлама, нагроможденного вокруг, .подобные вещи
вырастают из-за нотного пульта, как оазисы в пустыне.
Мы могли бы их рецензировать на память, так как (сегодня,
ради торжественного окончания, мы хотим увенчать свою главу
короной множественного числа — «мы») знаем их наизусть уже
много лет. Мы, конечно, не обязаны упоминать о том, что
сочинения эти напечатаны чуть ли не восемь лет тому назад, а
создавались вероятно еще раньше. Нам лишь приходит по этому
поводу мысль — не лучше ли вообще давать отчет обо всем
только по истечении столь же длительного срока. Тогда бы все
удивились, как мало осталось бы вещей, подлежащих
рецензированию, какими тощими оказались бы музыкальные газеты и
как бы нас боялись. Лишь то, что овеяно духом и поэзией,
продолжает звучать и в будущем, и тем медленнее и дольше
колеблется это звучание, чем глубже и крепче те струны, которые
были задеты.
Хотя давидсбюндлеры рассматривают большую часть
юношеских сочинений Мендельсона как подготовительные работы
к его шедеврам — увертюрам, все же в деталях этих ранних
сочинений встречается так много своеобразно-поэтического, что
нетрудно было заранее предвидеть великую будущность этого
композитора. Давидсбюндлеры представляют себе — конечно,
это не более, чем образ, — как он правой рукой опирается на
Бетховена, взирая на него, как на святого, и как за другую
руку ведет его Карл Мария Вебер (с которым уже разговаривать
легче); они видят, наконец, — и это тоже не более, чем
образ,— как он пробуждается от одного из своих прекраснейших
снов — «Сна в летнюю ночь», и те, кто его вели, ему говорят:
«В нас ты больше не нуждаешься, лети на собственных
крыльях». Между тем этот образ все время стоит перед глазами.
Итак, если в этой сонате многое и воспринимается как
отзвуки (так, например, в первой части мы слышим нечто
напоминающее меланхолически-задумчивую музыку последней
A-dur'noft сонаты Бетховена4, а в финале — отзвуки веберов-
ского стиля в целом), то это не отсутствие самостоятельности,
а духовное родство. И как здесь все полно устремлений, какая
бьющая ключом жизнь! Все по-утреннему зеленеет, как в
весеннем ландшафте! Трогает и привлекает не необычайное, не
новое, но как раз милое и привычное. Ничто не ставит себя выше
нас, ничто не должно повергнуть нас в изумление; нашим
чувствам лишь даны вполне отвечающие им слова, так что нам
кажется, что мы сами их подобрали. Пусть каждый в этом
убедится!5
Переходим теперь к нашим любимцам — к сонатам Франца
Шуберта; многим он знаком лишь как автор песен,
большинство же вряд ли знает его даже по имени. Здесь мы должны ог-
232
рапичиться лишь беглыми замечаниями. Чтобы подробно
разъяснить, на какую высоту мы ставим его произведения,
понадобились бы книги, для которых, быть может, придет еще время.
Хотя все три сонаты мы без лишних слов должны назвать
попросту великолепными, соната-фантазия все же кажется нам
самой совершенной по форме и по Духу. Здесь все органично,
все дышит одной и той же жизнью. У кого нет воображения,
пусть и не пытается разгадать загадку последней части.
Наиболее родственна ей соната a-moll. Первая часть так
тиха, так мечтательна; она может растрогать до слез. Притом
она так легко и просто построена из двух [тематических]
кусков, что надо только удивляться чародею, который сумел так
своеобразно их сплести и противопоставить.
И насколько иная жизнь кипит в смелой D-dur'Hofi, которая
удар за ударом захватывает вас и увлекает! А затем Adagio,
чисто шубертовское, страстное, неистощимое, где музыка как бы
не может закончиться. Последняя часть едва ли подходит к
целому и в достаточной степени забавна. Если бы кто вздумал
принимать ее всерьез, оказался бы в смешном положении. Фло-
рестан называет это сатирой на плейль-вангаловский стиль
ночного колпака6. Эвсебий находит в сильных и контрастных
местах гримасы, которыми обычно пугают детей. И то и другое
сводится к юмору.
Четырехручную сонату мы считаем одним из наименее
оригинальных сочинений Шуберта; автора можно узнать здесь
лишь по отдельным вспышкам. Как много есть композиторов,
которым лишь из одного этого сочинения можно было бы
сплести лавровый венок! В венке Шуберта это только скромная
веточка; до такой степени в нашем суждении о человеке и
художнике мы всегда берем за меру лучшее из созданного им.
Если в своих песнях Шуберт, быть может, еще более
оригинален, чем в инструментальных композициях, то эти последние
с их чисто музыкальной ценностью и самостоятельностью мы
ставим также очень высоко. Шуберт имеет некоторые
преимущества перед другими, особенно как фортепианный
композитор,— кое в чем^ даже перед Бетховеном (впрочем, Бетховен,
при своей глухоте, поразительно тонко слышал с помощью
воображения). Преимущество это заключается в том, что
Шуберт инструментует более фортепианно, т. е. что все звучит
у него в соответствии с самой сущностью фортепиано, в то
время, как, например, у Бетховена нам для окраски звука
приходится еще представить себе звучание валторны, гобоя и т. д.
Для общей характеристики внутреннего содержания этих
произведений Шуберта можно было бы добавить следующее.
Он находит звуки для тончайших чувств и мыслей, даже для
происшествий и житейских обстоятельств. Сколь многообразны
человеческие мечты и стремления, столь же неисчерпаема и
музыка Шуберта. Все, на что направлен его взор, чего касается
233
его рука, превращается в музыку. Из камней, которые он
бросает, возникают, как у Девкалиона и Пирры, живые
человеческие образы. Самый выдающийся после Бетховена,
смертельный враг всякого филистерства, он творил музыку в высшем
смысле этого слова.
Да будет же он тем, кому мы мысленно еще раз подаем
руку в тот самый миг, когда вот-вот прозвучит последний удар
новогоднего колокола. Если же вам взгрустнется при мысли о
том, что рука эта уже давно холодна и ничего ответить не
сможет, то подумайте: если еще живут подобные Ему — те, о ком
мы здесь выше говорили, — жить еще стоит. А затем старайтесь
быть всегда, как и он, верными самим себе, а именно — тому
высшему, что вложено в вас свыше.
i836
38. КРИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
I. УВЕРТЮРЫ
Ф. Мендельсо н-Б артольди. Увертюра
к «Сказке о прекрасной Мелузине»
(впервые прослушана в лейпцигских концертах
в декабре 1835 г. х)
Многие крайне озабочены решением вопроса о том, какая
же из увертюр Мендельсона, собственно, самая красивая, самая
лучшая. Уже по поводу прежних было достаточно разговоров и
споров, но вот появляется еще и четвертая. Поэтому-то Фла-
рестан и различает партии: «сновидцев в летнюю ночь»
(безусловно сильнейшая), «фингальцев» (не самая слабая, особенно
среди представителей прекрасного пола) и т. д.2 Партию «ме-
лузинистов» можно было бы, во всяком случае, считать самой
малочисленной, поскольку эту увертюру нигде в Германии,
кроме Лейпцига, еще не слышали. Англия же, где ее, как свою
собственность, впервые показало Филармоническое общество,
может оставаться лишь в качестве резерва, на крайний случай.
Есть произведения настолько духовно тонкие, что даже
самая неуклюжая критика стыдливо отступает перед ними и
настраивается на комплименты. Так было с увертюрой к «Сну в
летнюю ночь» (я по крайней мере вспоминаю лишь поэтические
рецензии о ней — хоть в сопоставлении этих двух слов и
кроется противоречие), так и теперь с увертюрой к «Сказке о
прекрасной Мелузине».
Мы полагаем, что для ее понимания незачем читать
длинный, хотя и богатый фантазией рассказ Тика3 — самое
большее надо лишь знать, что обворожительная Мелузина
сильнейшей любовью воспылала к прекрасному рыцарю Лузиньяну,
но согласилась стать его женой при одном условии: в известные
дни года он должен был оставлять ее в одиночестве. Однажды
Лузиньян нарушил свой обет —Мелузина же оказалась
русалкой — наполовину рыбой, наполовину женщиной. Тема эта раз-
235
рабатывалась не раз как в слове, так и в звуках. Но в
увертюре Мендельсона, так же, как и в его музыке к шекспировскому
«Сну в летнюю ночь», не следует усматривать столь грубую
нить фабулы *. Композитор, чья концепция всегда поэтична,
рисует и здесь лишь характеры мужчины и женщины: гордого,
рыцарственного Лузиньяна и обольстительной, преданной Ме-
лузины. Но кажется, будто видишь, как морские волны
врываются в их объятья, то объединяют их под своим покровом, то
снова их разлучают. И при этом во всех нас, вероятно,
оживают те веселые картины, которыми так охотно тешится наша
отроческая фантазия, — сказания о жизни в глубине бездонных
пучин, полных золоточешуйчатых, юрких рыбок, жемчужин в
открытых раковинах, засыпанных сокровищ, похищенных морем
у людей, высоко громоздящихся изумрудных чертогов и т. д.
Эта увертюра, как нам кажется, тем и отличается от прежних,
что она повествует о подобных вещах в истинной манере
сказки, то есть внутренне не переживая происходящего. Поэтому ее
внешний облик кажется на первый взгляд даже несколько
холодным и немым; о том же, что живет и трепещет в ее глубине,
музыка способна поведать яснее, чем слова, вот почему
увертюра (мы должны в этом признаться) неизмеримо выше
нашего описания.
Все, что можно сказать о музыкальной композиции после
второго прослушания и беглого взгляда на партитуру4,
сводится к тому, что и так само собой разумеется: музыка написана
мастером, полностью владеющим формой и средствами
музыкального выражения. Увертюра начинается и заканчивается
волшебной волнообразной фигурой, которая несколько раз
всплывает в ходе изложения; она, как уже отмечалось,
производит такое впечатление, будто вы внезапно перемещаетесь с
арены действия бурных человеческих страстей в
величественную, объемлющую всю землю водную стихию. Это особенно
ощущается в том месте, где происходит модуляция из As через
G в С. Ритм рыцарской темы в f-moll показался бы в более
медленном темпе еще более гордым и значительным. Долго
еще продолжает в нас звучать нежная, ласкающая мелодия в
As-dur, за которой будто мелькает головка Мелузины. Из
отдельных инструментальных эффектов мы все еще слышим
чудесное В трубы (ближе к началу), образующее септиму
аккорда— звук из глубины времен.
•Поначалу нам казалось, что увертюра написана в размере
шесть восьмых, чему, вероятно, был виною слишком быстрый
темп исполнения, состоявшегося в отсутствии композитора. Такт
в шесть четвертей, который мы после этого увидели в партиту-
* Какой-то любопытствующий спросил однажды Мендельсона, что,
собственно, означает увертюра к «Мелузине». Мендельсон, не задумываясь,
отвечал: «Гм... мезальянс*. [Ш., 1852]
236
ре, имеет, правда, более бесстрастный, но и более
фантастический вид и, во всяком случае, сдерживает исполнителя. Все же
этот размер обычно кажется нам как бы слишком широким и
растянутым. Сказанное, быть может, не так уж важно, но все
же основано на непреодолимом ощущении, которое мы, правда,
в состоянии только высказать, но не доказать его правильность.
Как бы то ни было, но эта увертюра остается тем, что она есть.
Г. М а р ш н е р. Большая праздничная
увертюра (в D). Соч. 78
Перед талантом Маршнера мы всегда почтительно снимали
шляпу, перед этой увертюрой мы вовсе не собираемся этого
делать. Было бы весьма желательно, если бы и наши лучшие
композиторы не культивировали жанр тех увертюр, которые
изготовляются дюжинами и придерживаются золотой середины,
\вертюр, в которых lU итальянского, XU французского, Ve
китайского, 3/s немецкого, а целое равно нулю. Уж лучше сплошные
Россини, чем люди, старающиеся угодить всем. Впрочем, если
бы мы не считали Маршнера хорошим роялистом, мы могли бы
обнаружить в его мыслях о God save the King * (особенно в
Allegro, где этот гимн появляется в сокращенно-англизированном
виде) и нечто совсем другое, вовсе не восторженное. Однако это
подсудно другим инстанциям.
12
Г. Берлиоз. Ouverture des Francs-Juges.
Увертюра к «Тайным судьям» (в F). Соч. 3
Выбор сюжетов, которые вдохновляют Берлиоза, уже сам по
себе может быть назван гениальным. Так, он писал музыку к
гетевскому «Фаусту», к стихотворениям Мура, к «Королю Лиру»
и к «Буре» Шекспира, к «Сарданапалу» и «Чайльд Гарольду»
лорда Байрона. Я не знаю, является ли названная увертюра
самостоятельной концертной увертюрой или вступлением к драме5.
Впрочем, заглавие достаточно ясно определяет содержание и
характер. Она возникла, как читатель, может быть, припомнит,
по напечатанному очерку жизни Берлиоза б, в критическую
эпоху его жизни, оставившую на этой увертюре свои следы. Правда,
аранжировка ее едва ли нечто большее, чем тощий скелет, за
hio Берлиоз вправе был бы привлечь автора переложения к
судебной ответственности7, хотя трудно представить себе
оркестровую музыку, которая труднее поддавалась бы аранжировке,
* Английский национальный гимн.
237
чем музыка Берлиоза. И все же, поскольку фантазия ,может
восполнить переложение недостающими оркестровыми
голосами, немцам вполне стоит познакомиться с увертюрой, хотя бы
для того, чтобы увидеть крайнюю противоположность двух
французских музыкальных школ — оберовской и этой.
Насколько первая по-скрибовски легка, как перышко, настолько вторая
неотесана и дика, как Полифем Канторы будут падать в
обморок от таких гармоний и будут кричать о санкюлотстве.
Конечно, и нам в голову не придет сравнивать эту увертюру хотя бы
с моцартовской к «Фигаро». Однако, будучи твердо убеждены в
том, что известные теоретики от школьной скамьи причинили
гораздо больше вреда, чем наши штурмующие небо практики, и
что покровительство, оказываемое жалкой посредственности,
наделало куда больше бед, чем высокая оценка такого рода
поэтической экстравагантности, — мы одновременно призываем
наших потомков: пусть они раз и навсегда засвидетельствуют, что
и отношении сочинений Берлиоза наша критическая мудрость
ке отстала, как это обычно бывает с критикой, на десять лет,
но что мы, наоборот, предсказывали, что в этом французе
таится нечто от гения 8.
12
И. М о ш е л е с. Увертюра к «Орлеанской деве»
Шиллера. Соч. 91
Бедность словесного описания ощущается живей всего,
когда имеешь дело с любимыми вещами; увертюра эта
принадлежит к нашим любимицам и не только среди сочинений Мошеле-
са. Если во время ее исполнения в Лейпциге — насколько нам
известно, первом в Германии, — публика этого
высокообразованного города оказалась более безучастной, чем сочинение
заслуживало этого, то объяснить это нетрудно. Многие, быть
может, вспоминали роскошно костюмированную шиллеровскую»
трагедию, между тем как наша музыка, хотя и сообщала о том
знаменитом событии и о смутных временах, но без особой
пышности и страстной выразительности, а только так, словно
интересовать нас мог только самый рассказ, а не личность
рассказчика. Когда я слушаю эту музыку, мне всегда кажется, что я
читаю древнюю рыцарскую хронику, чисто выписанную
готическими литерами и по-старинному пестро раскрашенную. Лишь
ближе к концу самому композитору становится как бы грустнее
ка душе, в том прекрасном месте, когда флейты и кларнеты
взывают откуда-то свыше — в тот самый миг, когда шнллеров-
ская Иоганна указует на небесную радугу со словами: «Без
знамени явиться не могу» * и т. д. Если вообще пытаться найти
человеческие образы, то легко было бы опознать и смиренную
* Перевод В. Жуковского.
238
деву героиню, и рыцарственного Тальбота и др. Здесь всякий
,раз фантазия делает свое дело; в одном, однако, все
согласятся—что увертюра эта едва ли мыслим?, для другого сюжета,
настолько кажется она нам проникнутой духом именно этого.
От оркестра, который хотел бы угодить мне исполнением
этой увертюры, я потребовал бы нечто большее, чем обычное
овладение нотами, даже нечто большее, чем просто пылкое
исполнение. Хотелось бы услышать музыку, при которой нельзя
было бы аплодировать, музыку, значение которой раскрылось
бы перед нами лишь после того, как она отзвучит; это должно
быть исполнение, чуждое всякого расчета на успех виртуозности,
некое повествование, которое хочет показать не себя, а лишь то,
что происходит.
II. КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
Э. Г. Ш о р н ш т а и н. Первый концерт (f-moll).
Соч. 1
Даже если бы это не значилось на титульном листе, можно
было бы догадаться, что автор — ученик Гуммеля. Но к чему
эти приписки, лишь толкающие на сравнения между учителем
к учеником? Пускай это — скромность, но ведь такие вещи не
касаются ни публики, ни критики, которую этим ни за, ни
против подкупить нельзя и которая обязана считаться только с
самостоятельным значением достигнутого. Но до тех пор, пока
лудожйик вообще не убежден в том, что произведение,
сдаваемое им в печать, не только увеличивает количество
написанного, но и духовно обогащает музыку, до тех пор он должен ждать
и продолжать работать. Ибо что толку повторять идеи того или
иного мастера, которыми мы можем наслаждаться из
первоисточника во всей их первозданной свежести? —
Самостоятельности во всяком случае недостаточно и в нашем концерте; менаду
тем он обладает иными достоинствами, которые, мы надеемся,
все же не куплены ценою этой самостоятельности.
Красоту формы, которая, как всем известно, вас поражает в
школе Моцарта и, в частности, в сочинениях Гуммеля, мы
находим и здесь в очень удачном воспроизведении и не только как
шаблонное повторение определенной манеры, но и как
действительно врожденное композитору чувство соразмерности и
единства. Этим уже достигнуто многое, и ученик представляется нам
стоящим на одной из последних внешних ступеней уже
близко от той завесы, за которой все еще скрывается святая святых.
Если и бывают единичные смельчаки, влетающие через купол,
или другие, насильственно срывающие завесу, и многие, у
которых не хватает силы ни для того, ни для другого, то путь, на
239
/
который вступил наш композитор, все же остается самым на/
дежным и спасительным. Однако если он не стремится дальше/
то с этим мы поделать ничего не можем, отдавая в то же время
дань его энергии и некой самоуверенности, без которой
талант ничего выдающегося достичь не может. '
То, что концерт назван «первым», заставляет нас
предполагать, что за ним последуют другие, поэтому вполне возможно,
что молодой художник и сумеет кое что для себя почерпнуть из
этих строк. Против построения отдельных частей нам, как уже
говорилось, возразить нечего; это — построение, свойственное
лучшим образцам, в нем есть голова, туловище и ноги,
естественно слагающиеся в единое целое.
Отдельные мысли концерта, то, как они высказаны, излож)е-
ны и развиты, все это не поднимается выше среднего уровня, но
и не опускается до откровенной пошлости. Но всюду хотелось
бы видеть еще более строгий отбор, еще большую тонкость, от-
деланность. Правда, первый набросок целого всегда остается
самым удачным, однако деталь, т. е. то, что обеспечивает
таланту уважение, а его произведению — долговечность,
требует постоянной переработки и тщательной шлифовки, чтобы
поддерживать тот интерес, которого замысел в целом, в его самых
общих чертах не вызывает. К деталям мы причисляем
элегантность пассажей, привлекательность сопровождения в певучих
местах, колоритность средних голосов, разработку и
трансформацию тем, противопоставление и сочетание разных мыслей,
причем безразлично, поручается ли это оркестру, солисту или и
тому и другому. Кое что из перечисленного в этом концерте
иногда и встречается, но не в той степени, когда уже не
возникает мысль о том, что это можно было сделать иначе и еще
лучше. Мы охотно показали бы композитору все то, что в
описании оказалось бы слишком многословным9; пусть он только
не сомневается в том, что всюду, где не хватает фантазии,
рассудок еще способен на удивительные подвиги. Однако если
композитор сробеет перед трудностями этих требований, мы дадим
ему другой, на первый взгляд, почти противоположный совет:
не принуждать себя к творчеству, сочинять не ежедневно, но
через бездействие набираться сил, повышая в себе потребность
к высказыванию, а там уже, не колеблясь, отдаваться своему
доброму гению. К сожалению только, нам попадается слишком
много молодых композиторов, которые, если спросить их об их
сочинениях, разворачивают перед вами, как Лепорелло, целые
свитки, исписанные именами любовниц, начиная с
нескольких симфоний, к которым презрительно добавлена дюжина
мелочей. И если при виде такой плодовитости вы покачаете
головой и заметите, что эдак можно в конце концов и
обанкротиться, вы получите в ответ, что «в наши дни надо испытать
себя во всех жанрах» и т. п. — или чаще всего никакого ответа.
Однако пусть наш композитор не стремится прославиться
240
\
с^оей продуктивностью и, обладая к тому достаточной силой,
дйст, вместо нескольких хилых произведений, одно
здоровье и удавшееся ему на слав^.
2
] * К. Л а з е к к. Концертино с сопровождением
двух скрипок, виолончели, контрабаса и флейты.
Соч. 10
Всем известно по опыту, что делами, которые не относятся
ни к должности нашей, ни к нашему ремеслу, мы чаще всего
занимаемся с такой непосредственностью и с такой охотой,
какие неведомы профессионалам, и что сами эти слова нередко
служат дилетантизму оружием в его нападках на художников.
Еще ничего не зная наверняка, я уже предполагал, что наше
концертино непременно написано дилетантом, и притом
настолько талантливым, что и он мог бы притязать на все то, на
что притязает каждый, провозглашающий „anch'io"*; мог бы,
если бы не отказывался добровольно от возможности слыть
воистину тем, чем он только кажется. Ему незнакомы мучительные
усилия многих художников, но едва ли и самый значительный
из них способен творить так легко и радостно, как он. Ведь он
немало общался с лучшими из художников, и это развило —
быть может, помимо сознания — его природные способности;
у этих лучших научился он уверенности, изысканной
выразительности, тону. Оригинальных идей у него нет, но зато
довольно светской наметанности глаза, довольно остроумия, чтобы
воспринять чужое и передать ею на свой лад. К тому же он не
стремится блеснуть ученостью и глубокомыслием, а если бы ему
вдруг и приспела такая охота, он сумел бы сдержаться и
перевести разговор на предметы более ему понятные. Одним словом,
он мне больше по душе, чем иные художники, которые
высокомерно не заметят его концерта.
Концертом же мы должны назвать это сочинение потому,
что оно состоит из трех разделенных цезурами частей, краткость
которых составляет еще одно их преимущество. На мой взгляд,
эта форма художественно более совершенна, нежели обычная
форма концертино, т. е. разнородных пьес различного размера,
переходящих одна в другую. Да и может ли получиться что-
нибудь, кроме эстетического фиаско, если вслед за кодой
какого-нибудь Allegro начинается далекое тремоло литавр, затем —
скучнейшее Andante, а там, после бесконечных ritardando, —
полонез! Насколько удачнее получается все у нашего
дилетанта, который предпочитает дать три небольшие, но законченные
картины вместо одной, но такой, что у ней все швы наружу!
* И я тоже (итал.).
241
Естественно, что при таком лаконизме пришлось отказаться от
средней части 10, которая в больших концертах пишется с осо-
Сым тщанием, и заменить ее небольшим tutti. Сделано это
настолько хорошо, что может быть даже рекомендовано как
пример для подражания. /
Если главное в этой приятной пьесе — и во внешнем ее/
облике, и во внутреннем содержании — способно удовлетворить
самые строгие требования, то и все второстепенное в ней не
оставлено без внимания. Здесь нет и следа тех наивных гармоний,
которыми порой ошарашивают нас дилетанты. Мелодические
украшения сделаны со вкусом и на подобающих местах, линии
пассажей стремительны и округлы, вступления маленького
оркестра обдуманы и порой занимательны. Короче говоря,
композитора тут при всем желании не в чем упрекнуть — разве
только в том, что он порхает вокруг искусства и не отдает ему,
как следовало бы, все свои душевные силы.
И, наконец, если мы обращаем внимание на имя дилетантки,
которой посвящен концерт, то у нас есть к тому веские причины,
и угадать их нетрудно п.
Т. Дёлер. Первый концерт (A-dur). Соч. 7.
Четыре пятых новейших концертов, о которых мы еще
сообщим нашему читателю, написаны в миноре, так что становится
по-настоящему боязно, не исчезает ли большая терция вовсе из
нашей тональной системы. И вот когда я, развернув концерт
Делера, увидел A-dur — тональность, по преимуществу
преисполненную молодости и силы, а на титульном листке заранее
обнаружил лавровые ветви, во мне вспыхнула надежда
наконец-то встретиться с приветливым человеком, который сможет
мне многое рассказать о прекрасной Италии, где он так долго
путешествовал, и которому я в знак благодарности мог бы
сплести венок из этих ветвей 12. Поначалу было как будто и ничего,
но уже на середине я, проигрывая одну страницу, стал с
надеждой поглядывать на соседнюю, ибо человек этот нравился мне
все меньше и меньше. В конце же концов я должен был со всей
искренностью поставить ему на вид, что он еще понятия не
имеет о достоинстве искусства, к которому природа наделила его
некоторыми задатками — хотя и без особой расточительности,
из-за чего он и должен был бы обращаться с ними тем более
бережливо. Ведь если кто-нибудь пишет веселое рондо, он имеет
на это полное право. Но если кто-нибудь сватается за знатную
невесту, то предполагается, что он благороден по крови и по
духу, или (не злоупотребляя лишними образами) если кто-
нибудь работает в такой большой художественной форме, к
которой лучшие из лучших подступают лишь скромно и робко, то
он должен это знать. И это-то в данном случае больше всего нас
242
и ^озмущает. Ведь даже самые талантливые из ходовых
композиторов— Герц и Черни — всегда старались в своих более круп-
пых произведениях дать нечто и более ценное. Но если более
молодой, но куда менее талантливый сочинитель считается с
нами меньше, чем его святые покровители, то он заслуживает
того, чтобы его за это особо отметили, что мы и делаем. Однако,
прежде чем он уложит свои пожитки для вторичного посещения
Италии, пусть его добрый гений, ему же на пользу,
распорядится, чтобы этот номер журнала попал ему в руки и чтобы он
внял нижеследующей нашей просьбе: на двадцать верст по
окружности не приближаться к той стране, которая почти всегда
возвращает нам наших молодых, здоровых музыкантов
расслабленными и неработоспособными.
У Италии есть свои волшебные песни, но к тому же и свои
композиторы, и потому она вовсе не нуждается в том, чтобы и
мы в качестве тяжеловесных швейцарцев вступали в их ряды,
а затем, в лучшем случае, нападали на нашу собственную
страну — не говоря уже о том презрении, с каким новые друзья
смотрят на наших перебежчиков. Но если вы все-таки хотите
получить там пользу для себя, то на дорогу вооружитесь па
крайней мере достаточным количеством благоразумия, чтобы
вам ради одной выгоды не пришлось пожалеть о десятикратном
уроне; а потому не жертвуйте силой ради изнеженности,
красотой — ради украшения, словом не жертвуйте зерном ради
оболочки! Да и ты, веселый имперский город 13, хотя ты и не одного
отменного художника вправе считать своим, почаще напоминай
своим юным художникам о том, что в твоих стенах жил один из
величайших людей нашего времени, вместо того, чтобы в твоем
доброжелательном благодушии толкать их на дорогу,
упирающуюся в конце концов в зыбучую песчаную мель, в которую
они с божественной легкостью и под твои нескончаемые
рукоплескания будут погружаться все глубже и глубже!
* Ф. Хил л ер. Концерт (f-moll). Соч. 5
Сложный характер Хиллера мы пытались обрисовать уже
при обсуждении его этюдов — произведений, написанных,
наверное, позже, чем вышеназванное. Мы и сегодня не отрекаемся
ни от одного сказанного тогда слова; в этой более ранней
работе мы находим те же недостатки и те же достоинства,
врожденные и благоприобретенные, на которые уже указывали. Быть
может, только в концерте они присутствуют в еще более
неясном и беспорядочно перемешанном виде. Поистине мы
опасаемся, что его талант так никогда и не сможет развиваться
свободно, слишком уж рано он начал его насиловать, чтобы суметь
243
исправить дело. Может быть, он теперь и сам раскаивается/в
опубликовании этого концерта, где, правда, кое-где и
проявляется смелый ум, но повсюду чувствуется форсированное
рождение недоношенного плода. А возможно, это его и не заботит,
иначе он ведь мог бы позже доказать делом, что отказывается
от своей насильственной манеры прославиться. Молодых же
композиторов мы должны особенно предостеречь от этого
«маленького Бетховена», как весьма иронически прозвал его Гейне.
Хотя и трудно себе представить, чтобы Хиллер когда-либо
сумел привлечь на свою сторону значительное число
приверженцев, так как ему для истинной дружбы недостает как раз
главного— души, — но он все же умеет развлечь нас разными
историями, которые неопытные легко могут принять за истинные
и захотеть, лучше или хуже, пересказать другим. В искусстве
дело обстоит так же, как в жизни: некоторые люди могут нас
на какое-то время заинтересовать своей необычностью, более
того — даже резкостью и невоспитанностью; в конце концов
привыкаешь к этому и какую-то часть пути бодро шагаешь
рука об руку с ними, пока, на свое счастье, не встретишь
разумного человека, который откроет тебе глаза и укажет н-i
опасность. Однако из-за этого ни в коей мере не следует
упускать случай познакомиться с сочинениями Хиллера; чтобы
составить себе суждение, нужно лишь после этого своевременно
взять в руки что-либо заведомо здоровое, какой-нибудь золотой
самородок (к примеру, сочинения Бетховена или Мендельсона),
и тот, у кого после этого еще будут сомнения, может считать,
что его прощание с искусством — дело решенное.
О самом же концерте нужно сказать следующее: здесь еще
больше, чем в этюдах, где можно было спрятаться за
фигурами, бросается в глаза мелодическая бедность. Существует
такая игра в кости, при помощи которой можно дюжинами
составлять вальсы и арии; внешне они звучат неплохо, но до
смерти безжизненно. Напевные места у Хиллера напоминают
мне нечто подобное. Ему, конечно, лучше всего известно, с
каким трудом дались ему такие места, как на стр. 3, строка 4,
такт 2 и далее, стр. 4, строка 4 такт 2 и далее, стр. 5, строка 4,
такт 3 и далее, стр. 8, такт 2 и далее, целиком все Adagio и
т. д. Мы охотно простили бы композитору недостаток
божественного дара пения, если бы он только не старался его
демонстрировать. К тому же автор даже не пытается возместить
отсутствие мелодий гармонией, хотя при его знаниях это вовсе
не составило бы для него труда. Одним росчерком пера можно
было убрать или исправить такие безвкусные басы, как,
например, на стр. 3 строка 5, стр. 5 строки 5 и 6, такие неприятные
удвоения, как на стр. 3 такт 1 (странным образом здесь та же
терция G, какую мы порицали в этюдах14). Но почему он
пишет хуже, чем может? Почему не спросит других, раз не
доверяет больше своему слуху? Не каждому из нас дано быть мас-
244
тером, но быть музыкальным и музыкантом — обязательное
требование.
Итак, печально, что наряду со многими действительно
одухотворенными и очаровательными моментами в этом концерте
есть так много безвкусного и безобразного. Едва ли на минуту
хватает автору выдержки, едва ли полстраницы он остается
неизменным; когда хочешь отдохнуть, он отталкивает, когда ему
следовало бы увлечь, он вызывает сопротивление, и так до
конца, где просыпаешься раздосадованным, как после ночного
кутежа, и утешает только одно: вряд ли может быть еще хуже.
В* заключение же мы хотим обратить внимание на
превосходные детали, как, например, на очень нежную, грациозную тему
рондо, к которой композитор все время так удачно
возвращается, на главную тему первой части, хотя она и
представляется нам несколько странной, а также на сопровождающий
оркестр. Одновременно мы просим всех, кто интересуется этим
композитором, самим прочитать концерт и сопоставить наше
суждение со своим.
2
К. Э. X а р т к н о х. Второй большой концерт
(g-moll). Соч. 14
Легче сказать, чем доказать, что все мы умираем вовремя.
Конечно, и в этом художнике смерть пресекла деятельность
таланта, который со временем созрел бы до большего
совершенства. Правда, весь концерт как бы овеян дыханием смерти;
порою оно сказывается как усталость, как пресыщение жизнью,
другой раз снова прорывается сила, но прорывается судорожно,
или на автора находит томление, и тогда он пишет почти что
трогательно, словно желая передать миру свое предсмертное
завещание. — Однако наступивший печальный конец легко
может ввести в заблуждение и заставить нас увидеть в этом
концерте больше, чем в нем содержится. Как бы то ни было, но
это — самая значительная его работа и, конечно, она была его
любимицей, выращиванию которой он посвятил большую часть
своего времени. Все знания и весь опыт, которыми он обладал,
были им вложены преимущественно в это его создание и, хотя
он в этом едва ли не перестарался, так что одно часто
подавляет другое, все же мы должны оценить его доброе намерение
ничего не пропустить из того, что могло, по его мнению,
обеспечить его любимице всеобщее уважение и всеобщую любовь.
Хорошо было бы в беседах с учащимся показать все удачи
и просчеты этого сочинения. Оно в этом смысле на редкость
поучительно.
С одной стороны, еще слишком занятый своей борьбой с
формой, чтобы отпустить свою фантазию на волю, с другой —
245
колеблясь между старыми образцами и новыми идеями, он
наслаждается то спокойствием прошлого и мудростью его
представителей, то — взволнованностью будущего и смелостью
рвущейся в бой молодежи. Поэтому — всюду беспокойство, всюду
вспышки; поэтому он выламывает в одном месте целые куски,
чтобы снова вставить их в другом, поэтому он в одном месте
говорит спокойно и ясно, а в другом напыщенно и туманно.
Его «я» не определилось; он нерешительно стоит на пороге двух
эпох.
Эти колебания как бы сконцентрированно показаны в
заключениях каждой части. Весь склад первой и последней части
безусловно требовал мягкой тональности; но вот композитор
изворачивается и выкручивается, чтобы ввести в заключение
хотя бы несколько светлых мажорных звуков, и создает
настолько неприятное и половинчатое впечатление, что ухо
композитора могло к нему привыкнуть и закалиться лишь после
многократного проигрывания. Наоборот, в Adagio, требующем
ничем не омраченного мажорного заключения, он вводит
всякого рода малые интервалы и снова возбуждает там, где
настроение должно было тихо сойти на нет. В таких случаях надо
иметь при себе беспристрастного судью вроде мольеровской
экономки15, т. е. кого-нибудь с верным и простым чутьем,
чтобы беспощадно менять в тех случаях, когда ошибка произошла
от злоупотребления украшениями и завитушками в ущерб
естественности.
Легко было бы увеличить число примеров этой
ипохондрической неуверенности. Так, я думаю, что не ошибусь, если
предположу, что первоначально фортепианное соло вступало на
восемь тактов позже, настолько такты эти явно не связаны с
целым. Возможно, что он вставил их для того, чтобы слушатель
не вспомнил начала h-тоП'ного концерта Гуммеля, его
учителя. Но, как и видно, это ему не удалось, к тому же случайная
реминисценция всегда лучше, чем отчаянная самостоятельность.
Как легко и просто было бы (начиная от буквы «В»)
передохнуть в g-moll с тем, чтобы перейти к тому вступлению, о
котором мы говорили выше. Неуместность этой вставки столь же
очевидна, когда он ее повторяет на 14 стр. вместо того, чтобы
с первого такта пятой строки сразу же перескочить на тутти.
Очевидно, он это здесь сделал ради внешней симметрии, и
насколько такие переклички и более мелкие формальные
соответствия удаются иным большим мастерам и насколько, в
частности, Бетховен умеет пользоваться ими, как легким дуновением
эфира, настолько же более молодой композитор должен
всячески остерегаться, чтобы не мельчить и не прерывать
внутреннего течения целого такого рода изяществом соответствий.
За вычетом этих и подобных им ошибок, возникших,
однако, как уже говорилось, на основе искреннего желания добить-
246
ся художественной разработки даже в деталях, в этой вещи
остается еще столько доброкачественного, что нам приходится
только пожалеть художника, которому, видимо, недоставало
поощрения и признания и который ничего из сказанного нами
уже не услышит. Будучи еще при жизни оторван от своей
родины 13 и предоставлен самому себе, он, быть может, и грезил
о том мечтательном юноше, которого мы называем Шопеном —
и подобно тому, как во сне мы часто видим столкновение
противоположных образов, так и кажется, словно его старый
уважаемый учитель грозит ему за это пальцем, дабы он не
соблазнился и не отрекся от веры своих отцов; но когда он
проснулся, концерт был уже готов.
Однако по твоим глазам, Эвсебий, я уже вижу, что ты готов
почтить безвременно от нас ушедшего, проигрывая его
лебединую песню всем тем, кто тебя об этом попросит — а это значит
много и много раз.
Ионатан
3. Тальберг. Большой концерт (f-moll).
Соч. 5
Сочинения Тальберга на этих страницах всегда
обсуждались особенно строго, и это лишь потому, что мы в нем
предполагали и композиторский талант, которому, однако, грозила
опасность быть заглушённым тщеславием
исполнителя-виртуоза. На этот же раз он нас полностью обезоруживает. Его
произведение далеко не доходит до того уровня, исходя из
которого мы судим в этой серии рецензий о концертах. Возможно,
композитор сейчас (концерт вышел года три тому назад) сам
раскаивается, что позволил друзьям, опьяненным лишь его
блестящей игрой, склонить его к изданию совершенно незрелой
юношеской работы. Словом «возможно» мы одновременно
выражаем сомнение, которое, судя по последующим действиям
Тальберга, вряд ли можно считать оправданным: эти действия
ни в коей мере пока не позволяют предположить такое
раскаянье. Нам известно, что артист в данный момент находится в
Париже. Пребывание там может иметь для него как хорошие,
так и плохие последствия. Хорошие — потому, что при
непосредственном соприкосновении с видными композиторами от
него никак не может укрыться, насколько мелка его цель по
сравнению с бескорыстными устремлениями других; плохие —
так как он от радости по поводу лавров, которыми парижане
щедро увенчивают таких превосходных виртуозов, в конце
концов полностью убьет в себе композитора. Случись последнее,
мы его за это не станем упрекать. Пусть он, пожертвовав не
радующей его посмертной славой, наслаждается быстротечной
247
привлекательностью жизни виртуоза; только пусть он не
требует от нас, чтобы мы видели в его сочинениях что-либо, кроме
этого. Случись же первое, мы без промедления проявим к нему
то внимание, которым обычно так охотно поощряем талант,
даже если он какое-то время не выказывает своего
благородного происхождения.
12
Г. Герц. Второй концерт (c-moll). Соч. 74
О Герце можно писать 1) грустно, 2) весело, 3) иронически
или всеми тремя способами сразу, как на этот раз. Трудно
даже поверить, с какой я осторожностью и робостью уклоняюсь
от всякого разговора о Герце, а его самого всегда готов
Держать на почтительном от себя расстоянии, чтобы не
приходилось слишком уж сильно хвалить его в глаза. Ведь никто, за
исключением разве Зафира, не бывал по отношению к людям и
к самому себе так честен, как Генрих Герц, наш земляк. А ведь
что ему еще нужно как не развлекать, а кстати и
обогащаться? Разве он ради этого кому-либо запрещает любить и хвалить
последние квартеты Бетховена? Разве он требует, чтобы к ним
проводили какие-либо параллели? Не является ли он скорее
всего самым что ни на есть беспечным щеголем, который
никого волоском не тронет, если же и прикоснется к чьим-либо
пальцам, то разве для постановки руки у ученика, в лучшем
случае будет думать о своих собственных пальцах, дабы
удержать за собой славу и деньги? И разве не смешна ярость
филистеров от классики, которые с глазам!» навыкат и копьем
наперевес вот уже целых десять лет как выстроились во
всеоружии, чтобы он своей неклассической музыкой как-нибудь не
посягнул на их детей и внуков, между тем как эти дети и эти
внуки хотя и танком, но все же ею наслаждаются. Если бы при
восхождении этой хвостатой звезды критики сразу же
правильно определили ее расстояние от солнечного очага искусства и
своим криком не придали бы ей значения, о котором она сама
и не помышляла, мы давным-давно отделались бы от этого
художественного насморка. Но если он сейчас исполинскими
шагами уже близится к своему концу, то это в порядке вещей.
В конце концов самой публике эта игрушка опостылет, и она
за ненадобностью закинет ее в угол. К тому же подросло и
новое поколение, полное силы и решимости найти ей
применение. Ведь стоит человеку, по-настоящему остроумному,
невзначай появиться в светском кругу, где до того некоторое время
задавали тон лощеные французики, как все они с досадою
забиваются в угол, а общество с напряженным вниманием
прислушивается к новому гостю. То же случилось и с Герцем: он
уже никак не может разглагольствовать и сочинять с прежней
248
развязностью. С ним уже не так носятся, он чувствует себя
неловко и стесненно; все у него как-то не клеится и не звучит;
говоря языком Жан Поля, он работает на рояле в жестяных
перчатках, ведь к нему через плечо заглядывают люди,
переросшие его и замечающие каждую фальшивую ноту, да и
многое другое. Однако мы отнюдь не собираемся делать вид,
будто забываем, что он давал работу миллионам пальцев и что
благодаря разучиванию его вариаций публика действительи-*)
достигла некоторой технической сноровки, которую можно было
использовать и в других целях и для исполнения вещей более
высокого качества, мало того, совершенно противоположных
по духу. Итак, поскольку мы убеждены в том, что всякий,
одолевший герцовские бравурные пьесы, намного легче и свободнее
сыграет (если он только ее вообще поймет) бетховенскую
сонату, чем он мог бы ее сыграть без этой сноровки, постольку мы
с чистым сердцем будем вовремя, хотя и редко, заставлять
наших учеников разучивать что-нибудь «чисто герцовское», а если
вся публика, как один человек, будет встречать все эти
великолепные скачки и трели возгласами «superbe» *, мы вместе с
нею возгласим: «Во всем этом много хорошего даже для нас,
бетховэнцев».
Второй концерт Герца написан в c-moll и может быть
рекомендован тем, кто любит первый. Если случайно в
каком-нибудь концерте будет наряду с ним объявлена и некая с-тоИ'ная
симфония17, то мы просим поместить ее в программу после
него.
2
Ф. К а л ь к б р е н н е р. Четвертый концерт (в As).
Соч 127
Две вещи кажутся мне особенно предосудительными у
концертирующих сочинителей концертов (это не плеоназм) — во-
первых, то, что они пишут сольные партии раньше, чем тутти,
а это в достаточной мере неконституционно, так как ведь
оркестр играет роль палат, без согласия которых фортепиано не
вправе предпринять ничего, и почему же не начинать с
настоящего начала? Разве наш мир был создан на второй день? Да и
вообще, не труднее ли снова подхватить оборванную нить (в
особенности музыкальную, которая настолько тонка, что нужны
критические щупальца, чтобы прощупать каждый узелок), чем
спокойно вести ее дальше? Мы можем побиться об заклад, что
г-н Калькбреннер свои вступительные и промежуточные тутти
сочинил и включил лишь напоследок, и есть все основания к
тому, что мы выиграем.
* Великолепно (франц.).
219
Во-вторых же, я осуждаю модуляцию:
7b 5
5 3
X-dur после X + 1 - dur
к которой, в частности, прибегают молодые композиторы, когда
они толком не знают, как им быть дальше, и которую они
обычно применяют так, что, если в первой половине этого
перехода чередуются бурные подъемы и спады, то во второй
неожиданно как бы начинают шептаться какие-то неземные звуки;
с этой неожиданностью мы так и быть готовы примириться и
простить ее г-ам Дёлеру и Тальбергу, пользующимся ею на
каждом шагу, но ни в коем случае не такому маэстро, как
Калькбреннеру, который претендует на звание тончайшего
светского человека и который, безусловно, должен был бы
заботиться о новых неожиданностях. Однако можно представить
себе человека в целом по некоторым мелочам, которые многие
считают слишком незначительными, чтобы скрывать за ними
свое лицо, а потому я сразу же понимаю, с кем имею дело,
когда человек несколько раз угостит меня такой модуляцией.
Если бы я вообще сказал, что всегда был большим
поклонником сочинений Калькбреннера, то сказал бы неправду; хотя*
я и не отрицаю, что в молодые годы не раз охотно слушал и
играл их. Имею в виду, в частности, его первые, бодрые, по-
настоящему музыкальные, юношеские сонаты, после которых
можно было ожидать много выдающегося в будущем и где нет
еще и следа деланного пафоса и некоего аффектированного
глубокомыслия, столь раздражающих в его более поздних крупных
произведениях. Теперь, когда можно уже в точности определить
объем его достижений, ясно видно, что с!-то1Гный концерт был
его высшим расцветом, вещью, в которой прорвалось Есе
светлое, что было свойственно его приятному таланту; но это была
и та граница, за пределами которой его звезда покинула его.,
Во всяком случае нельзя не признать, что, потеряв, быть
может, силу, он не потерял смелости пробиваться вперед — еще
на несколько шагов. Мы имеем здесь дело с редким случаем,
когда известный пожилой композитор пытается угнаться за
более молодым Ч Действительно, мы в этом концерте безошибоч-
* Литерой «X» мы обозначаем какой-либо основной тон, а литерой
«Х+1»-— басовый тон следующего аккорда на полутон выше; мажор и ми-
нор определяют вид гаммы. Вышестоящие цифры обозначают интервалы
аккордов; стоящие рядом с цифрами # повышают, Ь — понижают, таким
образом, если: _ ... ^
7|? 7Г> 5 5
5 5 3 3
Х= С, то Х+1 =Des
Г. Вебер (если я не ошибаюсь) предложил нечто подобное в своей теорию,
250
но улавливаем влияние молодых романтиков, сбежавших из его
школы и оставивших его на перепутье в раздумьи, дальше ли
ему идти по старому пути, храня при себе венки, которые он
на нем добыл, или же завоевывать себе новые на другом пути.
Там его влекут к себе удобства и привычки, здесь же
пламенный призыв, которому внемлет всякий романтик. В полном
соответствии со своим промежуточным складом он, однако, не
слишком решительно устремляется в новую сферу, словно
выпытывая у публики, что она обо всем этом думает. Если же она
похожа на нас, то она не может не признать, что это
равносильно эстетическому несчастью. Представьте себе только
элегантного Калькбреннера, который, приставив дуло пистолета к
собственному виску, вписывает «Con disperazione» * в свою
фортепианную партию или, стоя в отчаянии на краю пропасти, до-
баиляет три тромбона к своему Adagio. Но ничего из этого не
выходит; это ему не к лицу; он не обладает даром
романтической дерзости, и даже если бы он надел какую-нибудь
дьявольскую маску, его сразу бы узнали по лайковым перчаткам,
которыми он ее держит. Мы готовы признать, что образ этот
применим только к двум первым частям, в третьей он снова
становится самим собой и снова выступает с естественной для
виртуоза любезностью, которую мы так высоко в нем ценим.
Так пусть же он, по возможности, остается верен своей
заслуженной славе одного из самых опытных фортепианных
композиторов, мастерски сочиняющего для пальцев и для рук,
умеющего столь удачно обращаться с легким оружием, пусть он и
впредь радует нас сверканием своих трелей и стремительным
полетом своих триолей, — мы ставим их значительно выше всех
•его четырехголосных фугированных тактов, псевдо-томных
задержаний и т. п.
12
Ф. Рис. Девятый концерт (g-moll). Соч. 177
Даже Наполеон проиграл свои последние сражения, но Ар-
холь и Ваграм заставляют забывать об этом. Рис написал
cis-тоН'ный концерт и может спокойно почивать на лаврах.
Что же, однако, все еще производит столь приятное, радующее
впечатление в более зрелых, т. е. написанных в более поздние
годы сочинениях Риса, несмотря на ослабление фантазии и
художественной силы? Это—торжество мастерства, покой после
борьбы и победы, когда уже нет нужды сражаться и
побеждать. В этом смысле девятый концерт примыкает к своим
предшественникам. В нем автор уже не продвигается вперед—ни
как композитор/ ни, тем более, как виртуоз. Те же мысли, что и
* «С отчаяньем» (итал.).
251
прежде, и точно так же выражены; все прючно и ясно, как
будто иначе и не может быть; ни одной недостающей ноты; все
монолитно — гармония, основная идея, музыка. О таких
сочинениях так же трудно говорить и так же мало можно сказать,
как о голубом небе, которое как раз сейчас заглядывает в мое
окно. А потому нам хотелось бы, чтобы оно смотрело и на тех
интересующихся, кто сейчас читает эти строки, чтобы они столь
же легко, как и мы, увидели общность между концертом
старого мастера и этим голубым спокойным простором.
В. Тауберт. Концерт (в E-dur). Соч. 18
«Если кто-нибудь во что бы то ни стало захотел бы
придраться к этому концерту, он самое большее мог бы сказать,
что концерту недостает ничего, кроме недостатков новейшего
времени», примерно так выразился человек, спускавшийся в
октябре 1833 года с лестницы Гевандхауза, когда г-н Тауберт
только что доиграл свой концерт. Я слов не нахожу, чтобы
сказать, насколько я в тот вечер наслаждался этой вещью и
сердился на хулителя, на которого концерт никакого впечатления
не произвел, кроме сожаления, что он оказался не хуже.
Однако внимательнее обдумывая эти слова, я все же начал
улавливать скрывавшийся за ними смысл, но об этом ниже.
Если бы хвалы, которыми мне, как из рога изобилия,
хочется засыпать эту музыку, все же оказались не достаточно
хвалебными, то виноват в этом только издатель, не одолживший
мне партитуры, о чем ведь я его просил (кстати говоря, у него
ее и нету). Судить о музыке концерта без партитуры все равно,
что говорить о супружеской чете, зная только одну ее
половину: настолько тесен брачный союз между фортепиано и
оркестром. Правда, я в своем воображении добросовестно удерживаю
все то, что можно извлечь из отдельных голосов. Но я снова
обращаюсь к композиторам с просьбой подумать о том, что не
всегда возможно обзавестись аккомпанирующим оркестром как
по мановению волшебного жезла и что поэтому над теми
лучшими местами своих великолепных концертных партий, где все
дело решает оркестр, им необходимо помещать особые строчки
с миниатюрной партитурой, чтобы можно было таким образом
наслаждаться всей музыкой целиком. Однако пора обратиться
к самому концерту!
Аллегро, E-dur, такт в 6/s, отдаленные звуки валторн — кого
при этом сразу же не потянет вдаль и в глубь зеленого леса!
Если кто захочет познать житье-бытье охотника (хотя бы так,
как это неповторимо описано Гофманом в «Эликсире
дьявола») — познать все это в музыке, тот найдет нечто подобное
здесь; но из мира романтики—ничего, кроме нескольких томя-
252
щих нашу Душу бледно-голубых полос вечернего тумана внизу
у подножия леса. А нечто более темное, готовое вот-вот
сгуститься над Andante вовсе не горе по поводу того или иного
мещанского происшествия, а просто-напросто милая, всем
доступная тоска, которая закрадывается к вам в сердце, когда
наступают сумерки. Наконец последняя часть, собственно
говори— лишь заключение первой, а минор — не что иное, как
завуалированный мажор, пока он не прорывается полностью —
светлый и алый. Выражаясь не столь цветисто, я назову этот
концерт одним из лучших. А если так называемые классики
обрушатся с криками об упадке музыки в наше время, будут
совать нам в нос какой-нибудь моцартовский концерт и, пыхтя,
приговаривать: «Вот это ясность, бот это великолепие», в чем
как раз никто и не сомневался, таубертовские концерты будут
хороши именно для того, чтобы утихомирить первый порыв
ярости, а затем с высшим хладнокровием на примере их доказать,
что писать и сочинять еще не разучились. В самом деле, если
даже встать на прежнюю точку зрения, — в чем можно
упрекнуть этот концерт? Разве он по форме своей разросшийся,
неестественный, путаный, рваный — любимые слова классиков,
когда они что-нибудь понимают не сразу — и разве кроме
превозносимых покоя и ясности концерт этот не обладает еще и
многими другими достоинствами, которые мы в прежних
концертах встречаем лишь кое-где и в отдельных случаях: таковы,
например, поэтичность языка, своеобразие ситуаций, нежность
контрастов, сплетение нитей и оркестровое сопровождение,
полное выразительности и жизни?
Если же мы на него посмотрим с новой и новейшей точки
зрения, тут-то мы и дойдем до «недостающих недостатков»
человека из Гевандхауза. Полагаем, что он именно так и думал
Мы все знаем, что алмазы ценятся дороже, чем, например,
ленты, добротное сочинение выше, чем оберовское. «Только все в
свое время и все на своем месте», — говорил наш сельский
пономарь Ведель, держа перед собой в раскрытом виде великую
партитуру19. Концерт должен радовать, а по возможности и
восхищать стоглавую толпу, которая в свою очередь должна
восхищать виртуоза своим одобрением. Очевидно, что в
особенности французы слишком уж злоупотребляют пикантными
приправами и непрерывными потугами во что бы то ни стало
изобрести новые, мы же, немцы, как правило, их недооцениваем в
ущерб виртуозу, который ведь тоже хочет жить. С этой точки
зрения мы нападаем не столько на настоящий концерт, сколько
на самый принцип некоторых композиторов, которые,
по-видимому, свили себе гнездо главным образом в Берлине и
воображают, что им удается уменьшить виртуозную возню, изрекая
Доморощенные формулы и обороты, словно невесть что. Мы же,
сочинители концертов, будем во всем, вплоть до косички и
парика, следовать нашим почтенным предкам и в то же время, с
253
разумным учетом новых потребностей, добавлять к этому и
кое-что новое, конечно, если только оно вообще чего-нибудь
стоит. Мы будем питать твердое убеждение в том, что если з
наше время родится гений подобный Моцарту,' он станет
писать концерты скорее шопеновские, чем моцартовские.
Возвращаясь к нашему достойному композитору, мы должны
признать, что его выдумкам действительно кое-где недостает
новизны и завлекательной пикантности.
Мы, упаси боже, не собираемся делать из него то, что в нем
не заложено, например, какого-нибудь элегантного щеголя или
т. п.; но он нас поймет, если мы ему пожелаем, чтобы,
например, пассажи, которыми он обволакивает свою мысль, были
тоньше, изысканней и не столь старомодны, и если мы упрекнем
некоторые его темы (например, первую в последней части —
как она ни хороша для разработки) в некоторой немодности и
к тому же в какой-то натянутой приветливости, что нынешняя
блестящая концертная публика уже не одобряет. То, что есть,
того не изменишь; пусть он только помнит о том, что можно
•отлично пойти навстречу определенным требованиям и
желаниям своего времени, ни на йоту при этом не поступившись своим
достоинством как художника.
В заключение — еще одно. Хотя мне всегда казалось
неуместным обращать внимание в созданиях далеко продвинувшихся
талантов на реминисценции и сходства с другими
современными произведениями, все же родство таубертовского концерта с
мендельсоновским (g-тоП'ным) настолько бросается в глаза и
настолько интересно, что обойти этого никак нельзя. Духовно
они, правда, разыгрываются в совершенно различных
плоскостях; этим, вероятно, и объясняется, что это сходство
совершенно не является оскорбительным. Но внешне они в самых
ответственных моментах настолько точно совпадают, что
приводится допустить если не стремление к соперничеству со
стороны отстающего, то во всяком случае наличие знакомства
каждого из них с работой другого во время этого состязания.
Здесь, однако, укажем на то, что Мендельсон по большей части
всегда шел на несколько шагов впереди, почему другой должен
был все время торопиться, чтобы догнать своего неутомимого,
обгоняющего его соперника и почему, быть может, и вещь его
получила оттенок некоторой сжатости и поспешности. В
качестве же упомянутых выше основных моментов мы приводим *:
* Мендельсон Тауберт
a) стр. 5, строка 4 стр. 3, строка 4
b) « 11, « 2 « 6, « 7
c) « 14, € 5 с 9, с 2
d) « 15, с — « 9, — —
e) с 18, заключение < 15, заключение
i) « 29, строка 2 « 23, строка 2
[Ш.]
254
1) вступление тутти со всей темой (а), 2) трель в прерванной
каденции (Ь), 3) переход к теме в конце первой части (с),
4) подготовку к средней части (d), у Тауберта — нежной и
плавной, у Мендельсона — более жесткой, но и более
эффектной. В Andante у Мендельсона доминирует виолончель, у
Тауберта — гобой; оба Andante необыкновенно хороши; оба
растворяются в бесконечной дали. В обоих концертах выдерживается
пауза (е); оба начинают последнюю часть с речитатива; темы
этих частей похожи не столько по своему звуковому составу,
сколько по характеру и главным образом по разработке в
деталях. Оба сходным образом вводят легкий намек на мысль,
высказанную ранее в одной из предшествующих частей ({),
причем одинаково эффектно. Оба заканчиваются одинаково.
Назовите это случайностью, симпатией или как-нибудь еще,
но концерт Тауберта остается — и мы повторяем это в шестой
раз — произведением настолько значительным и по существу
самостоятельным, что даже Л. Бергер, прежний учитель этих
молодых мастеров (который, кстати, остался нам должен
несколько концертов), должен был бы с радостью усомниться,
кому из них, справа от него или слева, отвести почетное место.
А потому поступим так же и припишем заглавия обоих к числу
наших лучших фортепианных концертов, на той же «линии
красоты».
2
Джон Фи ль д. Седьмой концерт (c-moll)
Было бы лучше всего вместо рецензии приложить 1000
экземпляров этого концерта к номеру журнала для его читателей,
правда, это обошлось бы не дешево. Ведь я совершенно им
переполнен и, кроме бесконечной хвалы, ничего разумного о
нем сказать не берусь. И если Гете говорил: «Тот, кто хвалит,
должен поставить себя на место восхваляемого», то пусть он и
в этом, как всегда, окажется правым, и пусть этот художник
завяжет мне глаза и руки, и я этим ничего другого не хочу
сказать, кроме того, что он меня полонил целиком и что я
слепо ему следую. Только в том случае, если бы я был жпеопис-
цем, я решился бы рецензировать (скажем, картиной, на
которой грация отбивается от сатира), если бы поэтом — только в
лорд-байронозских стансах, настолько ангельским (в двояком
смысле) * нахожу я этот концерт. Я развернул перед собой
партитуру оригинала, надо было видеть ее! — пожелтелая, словно
она прошла сквозь линию огня, ноты, как колья, между ними
мелькающие кларнеты — толстые поперечные балки,
протянутые через целые страницы, посередине ноктюрн, озаренный
лунным светом, сотканный из благоухания роз и белоснежных
* Игра слов: englisch — ангельский и английский.
255
линий (во время этого ноктюрна мне вспомнился старик Цель-
тер: в одном месте «Сотворения мира» он увидел восход луны
и при этом, стереотипно потирая руки, блаженно произнес:
«Этот еще не туда залезет») — а там снова NB с
вычеркнутыми тактами и сверху длинными буквами: «Cette page est
bonne» *. Да, конечно, все — «bon», так что расцеловать хочется,
и в особенности ты, сея последняя часть, в твоей божественной
скуке, твоем очаровании, твоей неуклюжести, твоем
прекраснодушии,— расцеловать тебя хочется с головы до пят! А вы —
прочь отсюда с вашими кольями для отметки формы и генерал-
баса! Ваши школьные скамьи вы предварительно выточили из
кедрового дерева гения и не один раз; выполняйте вашу
обязанность, т. е. имейте талант; будьте фильдами и пишите что
хотите; будьте поэтами и людьми, я вас прошу!20
И. Мошелес. Пятый концерт (C-dur). Соч. 87;
Шестой концерт («Concert fantastique».
«Фантастический концерт» в В). Соч. 90
Алфавит порицания имеет в миллион раз больше букв, чем
алфавит одобрения, поэтому и данная критика так коротка и
мала по сравнению с отменным качеством обоих концертов.
Мы много раз их слышали в исполнении самого мастера и при
этом каждый раз снова убеждались в том, что никто, даже
самый опытный и образованный музыкант не взял бы на себя
■смелость только после простого прослушивания вынести о них
правильное и окончательное суждение. Если эти вещи, которые
подобны его прежним, но мечут лишь более темные искры,
увлекли слушателя не настолько, насколько они во всяком случае
должны были бы его захватить в исполнении более
вдохновенного пианиста, то это, возможно, зависело от очень спокойной
и размеренной игры композитора. Нам думается, что иные
сочинения фантастического склада значительно выиграли бы и
гораздо скорее произвели бы впечатление некоторой грубостью
исполнения, чем той модной виртуозной чистотой и гладкостью,
которая ставилась в упрек братьям Мюллерам за их
интерпретацию отдельных бетховенских квартетов, хотя во всем
остальном их игра была превыше всяких похвал. Однако более
поздние сочинения Мошелеса все больше и больше сбрасывают с
себя, на пользу искусству, внешнюю нарядность; для того,
чтобы покорить слушателя и быть воспринятыми они требуют
человека музыкального по преимуществу, способного создать
картину, в которой частное должно быть подчинено высшему
единству целого. Если, тем не менее, виртуоз находит в них
«Эта страница хороша» (франц.).
256
достаточно поводов для того, чтобы показать себя и произвести
впечатление, то это еще одно преимущество, которым в столь
разумной мере обладают лишь немногие.
Нам представляется, что в художественном развитии этого
мастера можно с определенностью установить три периода.
К первому, примерно с 1814 по 1820 гг., относятся
«Александровские вариации», концерт F-dur и кое-что в Es-dur'HOM. To
было время, когда слово «brillant» вошло в моду и когда
легионы девиц влюблялись в Черни. Но и Мошелес не отставал,
с тою только разницей, что, в соответствии со своей культурой,
он выставлял гораздо более тонко отшлифованные бриллианты.
В целом, однако, поражавший всех смелый виртуоз затмевал
еще лучшего музыканта. Четырехручная Еэ-ёиг'ная соната
знаменует собой переход ко второму периоду, когда композитор и
виртуоз, обладавший равной силой, протянули друг Другу руки
и заключили союз, — время расцвета, возникновения g-moll'-
ного концерта и этюдов, двух сочинений, которых было бы
достаточно, чтобы включить автора в ряды первых фортепианных
композиторов современности. Мостом к третьему периоду,
когда поэтическая тенденция начинает полностью преобладать в
творчестве композитора, служат пятый С-ёиг'ный и
«Фантастический» концерты; второй из названных — самое значительное
произведение этого периода. Если мы оба эти концерта
называем романтическими, то мы имеем в виду то волшебное, мрачное
освещение, в которое они погружены и о котором нельзя
сказать, исходит ли оно от самих предметов или откуда-либо еще.
Невозможно установить, в каких именно местах отблеск
романтизма ощущается сильнее всего, но всюду чувствуется его
присутствие, в особенности в редкостном е-то1Гном Adagio пятого
концерта, которое в своем почти церковном обличий выглядит
особенно кротким среди остальных, более деятельных и пылких
частей, интересных — за какую ни возьмись.
Подлинно музыкальное художественное изложение имеет
всегда некий определенный центр тяжести, к которому в своем
развитии все тяготеет и где сосредоточиваются все духовные
радиусы. Многие помещают его в середине (по-моцартовски),
другие—ближе к концу (по-бетховенски). Но от его силы
зависит общее впечатление. Если до этого момента слушаешь с
напряжением и неким стеснением, то после него как бы
впервые вдыхаешь полной грудью: вершина достигнута, и взор,
ясный и удовлетворенный, обращается и вперед и назад. В
данном случае это происходит в середине первой части, в том
месте ", где оркестр вступает с главным мотивом: чувствуется, что
главная мысль наконец пробилась на волю и что композитор
как бы^полным голосом восклицает: этого-то я и хотел. В
последней части этот момент, правда, менее подготовленный, на-
* Стр. 16— вначале. [Ш.]
^ Р. Шуман, т. I 957
ступает тогда, когда скрипки начинают фугировать, оркестр-
кратко излагает тему, а фортепиано ее повторяет. Вообще он,
наделенный чувством юмора, вовсе не собирается привести нас
к пели путем постепенных переходов, как это подобает в
первых, серьезных частях, наоборот, он все время задорно смотриг
то вверх, то вниз. Все это очень по-мошелевски: ведь Мошелесу
свойственны некоторые стилистические особенности, которые
приписать можно только ему, даже если продемонстрировать
их в отдельности, в отрыве от остального*. Однако мы
предпочли бы, чтобы басовые аккорды первой темы имели другое
расположение (в дециму) и чтобы следующая мелодия (такт 3,
строка 3) была, может быть, на октаву ниже; благодаря более
тесному расположению гармонии места эти были бы
полнозвучней.
«Фантастический концерт» состоит из четырех частей,
следующих друг за другом в разных темпах, но без перерывов.
Против этой формы мы высказывались уже раньше. Хотя создание
благотворно воздействующего целого в ней, видимо, и
возможно, однако эстетическая опасность слишком велика по
сравнению с тем, что может быть достигнуто таким путем. Правда,
нам недостает небольших концертных пьес, в которых виртуоз
мог бы одновременно блеснуть исполнением Allegro, Adagio и:
рондо. Следовало бы подумать о создании особого жанра,
который состоял бы из одной крупной пьесы, исполняемой в
умеренном темпе, в которой подготовительная часть занимала бы
место первого Allegro, певучая — место Adagio и блестящее
заключение — место рондо. Быть может, идея эта окажется:
плодотворной, и мы, конечно, охотнее всего воплотили бы ее в-
собственном своем сочинении необычного типа. Такая пьеса
могла бы быть написана и для фортепиано соло.
Итак, независимо от формы «Фантастический концерт»
содержит музыку, вполне подходящую для нашего Гевандхауза,
она всегда добротна, оригинальна, сильна сама по себе и,
несмотря на некоторую неустойчивость формы, Действенна в
полной мере. Вместе с оркестром концерт создает картину живого-
взаимодействия, в котором почти каждый инструмент несет
свою долю ответственности, имеет что сказать и что-то значит.
Больше всего после первой части нам нравится Andante с его
старинно-романтической окраской, меньше — следующая за ним
связующая часть, повторяющая с некоторой нарочитостью
отдельные мысли из первой части. Главная тема последней части
похожа на тему увертюры к его «Орлеанской деве», о чем мы
упоминаем для того, чтобы другим не приходилось, как нам,
мучительно вспоминать, где они уже слышали это место. Вто-
^ * Стр. 18, строки 5—6, стр. 29, последняя строка, стр. 31.
Проницательный наблюдатель легко мог бы показать характерные особенности разных
композиторов на примерах отдельных тактов. [UIJ
258
-рая наивная тема, исполняемая левой рукой на фоне трели в
лравой, могла бы с таким-же успехом принадлежать и Баху.
Все в целом заканчивается так, как это принято у мастеров
искусства, словно оно еще долго могло бы продолжаться.
С искренним удовольствием предвкушаем мы новый,
«Патетический концерт» этого автора [c-moll, соч. 93], а за ним и
новый цикл этюдов, о чем мы его в свое время уже просили.
2
Ф. Шопен. Первый концерт (e-moll). Соч. 11;
Второй концерт (f-moll). Соч. 21
Если вы встречаете противников, молодые художники,
принимайте это с радостью как свидетельство силы вашего
таланта и считайте, что талант тем значительней, чем более упрямы
ваши недруги. И все же не перестаешь удивляться, что в годы
великой музыкальной засухи перед 1830-м, когда следовало
благодарить небо за каждую мало-мальски стройную былинку,
даже критика (которая, впрочем, всегда будет плестись в
хвосте, если только она рождается не в творческих головах) долго
пожимала плечами и медлила с признанием Шопена; кое-кто
даже отважился заявить, будто произведения Шопена
пригодны лишь для того, чтобы их уничтожить21. Но довольно об
этом. Герцог Моденский тоже еще до сих пор не признал Луи-
Филиппа, и если трон, воздвигнутый баррикадами, и не стоит
на золотых ножках, то уже, конечно, не по вине герцога.
Может быть, мне следует здесь мимоходом упомянуть об одной
знаменитой, находящейся под башмаком газете, которая
изредка, как говорят, бросает на нас из-под маски свой взгляд —
наинежнейший, но коварный, как кинжал (мы сами ее не
читаем и льстим себя сознанием, что мы в этом отношении хотя бы
чуточку походим на Бетховена22). Причина маскируемых
уколов — мое давнишнее замечание одному из сотрудников этой
газеты, написавшему нечто о шопеновских вариациях на «Дон
Жуана»: шутя, я заметил тогда, что, мол, он, сотрудник, имеет,
подобно плохому стиху, лишнюю пару стоп, которые при случае
ему не преминут отрезать! — Неужели же я должен об этом
вспоминать сегодня, когда я только что вернулся после
шопеновского f-moH'Horo концерта? Боже упаси! Против яда —
молоко, холодное, свежее молоко! Ибо какое значение имеет
целый годовой комплект какой-нибудь музыкальной газеты по
сравнению с шопеновским концертом? Что стоит магистерское
безумие по сравнению с безумием поэта? Или десять крон,
полученных от редактора, по сравнению с Adagio во Втором
концерте? И поистине, давидсбюндлеры, я бы не придал никакого
значения вашим речам, если бы вы сами не отваживались соз-
259 9*
давать произведения, подобные тем, о которых вы пишете;
подобные, но за исключением некоторых, именно таких, как этог
Второй концерт, — до него всем нам вместе взятым не
дотянуться, разве лишь прикоснувшись губами к краю одежды.
Долой музыкальные газеты! Что говорить, для лучшей из них
было бы триумфом, конечной целью достигнуть в музыке такой
высоты, при которой газету никто от скуки читать не станет;
добиться, чтобы мир от избытка продуктивности ничего больше
и слышать не хотел обо всем, что пишется по поводу этой
продуктивности. Высочайшее стремление честных критиков (иные
к этому уже стремятся) — сделать самих себя совершенно
излишними;— лучший способ говорить о музыке — молчать о ней^
Вот веселые мысли газетного писаки. Но пусть они (критики)
не воображают себя чем-то вроде господа бога для
художников, которые ведь всегда могут обречь их на голодную смерть.
Долой газеты! Сколько бы критика ни преуспевала, она всегда-
и прежде всего не более как сносное удобрение для будущих
творений, но божье солнце и без того порождает достаточно
много. Еще раз, зачем писать о Шопене? Зачем заставлять
читателя скучать? Почему не черпать из первых рук, самому
играть, самому писать, самому сочинять? В последний раз, долой
музыкальные газеты, специальные и прочие!
Флорестак*
Будь его воля, этот сумасшедший Флорестан, пожалуй,
выдал бы все вышеизложенное за рецензию и завершил бы этой
тирадой весь номер. Однако пусть он имеет в виду, что мы еще
в долгу перед Шопеном; ведь мы в наших выпусках его еще
совсем не обрисовали, и свет может очень превратно
истолковать нашу благоговейную немоту. В самом деле, если мы его
до сих пор еще не прославили словами (лучшие почести уже
воздали ему тысячи сердец), то основание к тому я
усматриваю, с одной стороны, в робости, охватывающей каждого перед
явлением, о котором чаще и охотнее всего размышляешь
наедине с собой, в частности сомневаясь, возможно ли выразить
словами все его величие и всесторонне охватить его во всей
глубине и возвышенности, — с другой стороны, в тех
внутренних художественных взаимоотношениях, в которых мы,
признаться, находились с этим композитором. Наконец, мы не
возвеличили Шопена еще и потому, что он в последних своих
сочинениях избирает не то чтобы иной, но более высокий путь,,
направление и предполагаемую цель которого мы надеялись
еще больше уяснить прежде чем дать об этом отчет нашим
дорогим собратьям...
260
Гений создает царство, отдельные области которого
распределяются высшей волей между талантами; эти последние
разрабатывают в деталях и доводят до совершенства то, что
невозможно охватить гению в его многообразной кипучей
деятельности. Подобно тому, как в свое время Гуммель,
прислушиваясь к голосу Моцарта, облекал мысли своего учителя в
более блестящую развевающуюся одежду, так поступает и
Шопен по отношению к Бетховену. Или, говоря не образно:
подобно тому как Гуммель, удовлетворяя запросам виртуоза,
разработал стиль Моцарта в области одного отдельного инструмента,
так Шопен ввел бетховенский дух в концертный зал.
Шопен не выступил во главе целой оркестровой армии, как
это делают гении-полководцы; он владеет лишь малой когортой,
но она целиком принадлежит ему одному вплоть до последнего
героя.
Учился он, однако, у лучших — у Бетховена, Шуберта, Филь-
да. Можно сказать, что первый закалил его дух, второй — дал
нежность его сердцу, третий — беглость его пальцам.
Таков был он, облеченный глубоким знанием своего
искусства, уверенный в своей силе, во всеоружии мужества, когда в
1830 году на Западе раздался могучий голос народов. Сотни
юношей ждали этого мгновения, но Шопен одним из первых
поднялся на вал, за которым покоилась во сне
трусливая реставрация, карликовое филистерство. Как посыпались
тогда удары направо и налево, как вскочили проснувшись
разъяренные филистеры с криками: «Посмотрите-ка на этих
наглецов!» Тогда как другие говорили, следя за наступавшими:
«Какое великолепное мужество!»
Ко всему этому счастливому стечению обстоятельств и
условий времени судьба наделила Шопена еще одной особенностью,
отличающей его от других и вызывающей к нему интерес, —
принадлежностью к сильной оригинальной национальности,
именно к польской; и так как эта национальность теперь
облечена в траурные одежды, то тем сильнее привлекает она нас к
мыслящему художнику. Его счастье, что нейтральная Германия
не слишком одобрительно приветствовала его в первый момент
и что его добрый гений увлек его в одну из мировых столиц,
где он мог свободно творить и изливать свой гнев. Да, если бы
могущественный самодержавный монарх там, на севере, знал,
какой опасный враг кроется для него в творениях Шопена, в
простых напевах его мазурок, он запретил бы эту музыку.
Произведения Шопена — это пушки, прикрытые цветами.
В этом его происхождении, в судьбе его родины кроется
объяснение как достоинств Шопена, так и его недостатков.
Мечтательность, грация, одухотворенность, пылкость и
благородство,— кто не подумает при этом о Шопене, но кто не
вспомнит его также, когда речь зайдет о странностях, болез-
261
ненной эксцентричности, более того — о ненависти и
необузданности!
Такой отпечаток резко выраженной национальности несут
на себе решительно все ранние творения Шопена.
Но искусство требует большего. Узкие интересы клочка
земли, на котором он родился, должны были быть принесены в
жертву интересам общечеловеческим; его новейшие
произведения постепенно теряют свой специфический сарматский
характер — все более и более приближаются они к тем всеобщим
идеалам, творцами которых издавна считались божественные
греки; и вот в конце концов на этом новом пути нас снова
приветствует дух Моцарта.
Я сказал «все более и более», потому что всецело
отрешиться от своего происхождения он не может и не должен. Но чем
дальше он отойдет от него, тем больше возрастет его
общечеловеческое значение в искусстве.
Если мы захотим в немногих словах определить то, что им
уже достигнуто, то должны будем сказать, что Шопен
способствует утверждению истины, признание которой представляется
все более необходимым: подъем нашего искусства начнется
лишь вместе с подъемом художников до уровня той духовной
аристократии, по законам которой овладение ремесленными
знаниями рассматривается не просто как требование, а как
сама собой подразумевающаяся необходимая предпосылка; в
ряды же избранных допускается лишь обладающий
достаточным талантом, чтобы дать то, что он сам требует от других:
воображение, чувство и мысль. И все это должно привести к
более высокой эпохе общего музыкального развития, когда не-
будет разногласий ни относительно истинно прекрасного, ни о
разноообразнейших возможностях его воплощения; под
музыкальным же будут понимать ту внутреннюю живую
созвучность, то активное сопереживание, ту способность к быстрому
восприятию и воспроизведению, при наличии которых
творчество в союзе с исполнительством все ближе будут подходить к
высшим целям искусства.
Эвсебий
III. ТРИО ДЛЯ ФОРТЕПИАНО, СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ
По воле случая мне предстоит в первый же день нового
полугодия ввести своих читателей если не в розарий — как же
после этого назвать какое-нибудь бетховенское трио!—то все
же в трио Я. Розенхайна* (соч. 2).
Возьмите тональность e-moll, замысловатый трехчетвертной
такт, представьте себе за роялью пылкого пианиста и двух
* Rosenhain — розовый сад, розарий (нем.).
262
тихо ему аккомпанирующих, понимающих его друзей, освежите
всю эту картину отблесками утренней зари, и вы получите
картину этого трио. Оно нравится мне безусловно как по общему
замыслу, так и по построению; более того, я готов причислить
автора к композиторам мендельсоновского склада, одержавшим
победу над формой уже во чреве матери. Надеюсь, что он не
обманет ожиданий, возлагаемых нами на его будущую
художественную деятельность, которая неизменно будет
распространять вокруг себя много радости и много жизни. Дело в том,
что если среди молодой композиторской поросли несомненно
многие и стремятся к более высокому и даже способны на
полет, то уж конечно редко можно встретить автора, который,
подобно нашему, умел бы с такой силой и с такой скромностью
выносить наружу то, что было им однажды воспринято; но я
сказал «воспринято», ибо мы во всяком случае не встречаем-в
этом трио ни редких состояний, ни большого своеобразного
стиля, а всегда лишь общезначимое и подлинно человеческое;
это—образцовый этюд с лучших мастеров: всюду любовь к
схваченному им искусству, всюду талант, даже священный
трепет. Это действует благотворно и достойно признания.
Музыкальнее всего развивается первая часть; в ней почти
все удачно и органично связано друг с другом. Многое как
будто уже где-то встречалось, в частности у Бетховена и у
Риса; однако это бросается в глаза не настолько, чтобы можно
было это доказать буквально. Кантилена здесь, как правило,
легкая и благородная; подход к темам свидетельствует о
наступающем мастерстве. Несмотря на почти назойливую
минорную тональность, общее впечатление бодрящее и целостное.
В Andante автор пребывает в той сфере, в которой мы раз
и навсегда никогда не сможем сравняться с нашими самыми
знаменитыми предками — Моцартом и другими; это, видимо,
уже завершенный вид музыки и пора уже подумать о создании
нового типа средней части, совершенно иного характера.
Однако во всем чувствуется музыкальная душа и это да послужит
ему большой похвалой.
Итак, мы настойчиво указываем на это трио, которое к тому
же благодаря легкости всех трех партий скоро войдет в
музыкальный обиход, и указываем с тем большей настойчивостью,
что более поздние работы этого талантливого молодого
человека, судя по тем, которые мы видели, едва ли могут сравниться
с превосходным началом его композиторской деятельности; в
этом заключена лишь просьба о том, чтобы он вслед за ними
вскоре выпустил свои более крупные сочинения.
Если ты, дорогой читатель, внезапно ночью вышел бы из
ярко освещенного зала, облицованного белым мрамором, в
сосновый лес с переползающими через дорогу густо сплетенными
и бугристыми корнями — с неба падают тяжелые редкие капли,
263
справа и слева ты стукаешься головой о стволы, до крови
исцарапавшись в кустарнике, пока, наконец, после долгих
блужданий не найдешь выхода, — ты испытал бы то же, что испытал и
я при переходе от розенхайновского трио к трио А. Бор ер а
(соч. 47).
С самого начала признаю, во-первых, свою ошибку: будучи
до сих пор знаком лишь с немногими сочинениями Борера, я
причислял его к обычным блестяще пишущим виртуозам, к
немецким лафонтам; во-вторых, напоминаю, что нет на свете
более жалкой партитуры, чем такая, которую приходится самому
склеивать из отдельных партий, более того, каюсь, что этого
трио я даже не слышал, а потому в нижеследующих строках я
заведомо не претендую на непререкаемость суждений.
Что касается первого пункта, то действительно
поражаешься, когда вместо ожидаемых триолей из рассыпного жемчуга и
гармоний из накладного золота вдруг наталкиваешься на
высокотрагический замысел и на такой сумбурный стиль письма,
какой мне редко попадался в каком-либо 47-м сочинении;
впрочем, этим хотелось бы выразить не столько упрек, сколько
надежду, что все это может измениться и проясниться при
решении более скромной задачи, которую композитору следовало
бы себе поставить в будущем.
Во всех частях мне нравится одно: им всем присуща
определенная основная окраска, определенный характер, даже если
это и характер чего-то колеблющегося и беспочвенного. Первая
с такой яростью заглядывает в жалкую юдоль человеческого
существования, чувствует себя настолько неловко в своих
одеждах и с такой тоской оглядывается в надежде на совет и
утешение, что остается только пожалеть, что помочь уже ничем
нельзя, поскольку трио уже награвировано.
Зато вторая несколько мягче и светлей; благодушествуя в
C-dur, она все же как-то странно не в духе, но, конечно, в
исполнении бореровского трилистника должна произвести
впечатление 23.
Последняя, если не считать отдельных гротескных моментов,
пробует свои силы в более смелом полете; в одном месте
(стр. 35, строка 4) автор даже чуть не поднялся до должной
высоты, но несчастное Икарово крыло, которое я на
протяжении всего трио давно уже замечаю, снова увлекает его на
ложный путь.
В Париже, сыгранное перед французами, сочинение это, без
сомнения, вызовет недоумение, и когда артисты встанут из-за
своих пультов, я ясно вижу, как перед этим трио почтительно
расступятся, завидуя его "так называемой немецкой глубине.
Одним словом, я та,к и не знаю, что мне о нем говорить
(потому и рецензия так затянулась); конечно, в этой работе
блистает множество особенно редкостных мыслей, но и обна-
264
руживается некий дух, борющийся с невидимым враждебным и
чуждым ему существом, и потому трио это хотя и будет
производить двойственное впечатление, но все же вызовет к себе
участие и некоторую поэтическую тоску по тому, что от него
хотелось бы еще получить. Если в этом признается кое-кто,
кому, например, последние творения Бетховена кажутся
доступными (в высшем смысле) и ясными как божий день, то можно
быть уверенным, что в заявлении его содержится доля истины,
хотя то обстоятельство, что пьеса эта ни разу не была им
прослушана «живьем», наверняка еще больше сгустит облекающий
ее полумрак.
Из всего этого, а также из тщательного сравнения всех
голосов, явствует, что композитор страдает не от отсутствия идей>
а от недостатка внутренней живой напевности или же оттого,
что последняя в нем еще не прорвалась. К этому
присовокупляется некоторое недовольство тем, что он только что
завершил; он как бы опасается, что ему не удастся придерживаться
определенного пути, и потому он вслепую что-то нащупывает и
извлекает таким образом настолько ужасающие гармонии, что
от них прямо-таки уши гудят. Так, на стр. 9 появляются
вполне определенные e-moll, a-moll, es-moll, h-moll, f-moll. Все это
может, при случае, великолепно звучать, но здесь каждое
отклонение ощущается особенно болезненно и всегда замечаешь
боязливые попытки добраться до той тональности, которая
издали мерещится как закономерная.
Надо ожидать, что партии скрипки и виолончели отвечают
природе лэтих инструментов. Но фортепианная партия, ух! Там
наворочено такое, от чего свои драгоценные пальчики не
мудрено и вывихнуть. Самое трудное, что может записать человек,
вполне овладевший клавиатурой, будет всегда намного легче
самого легкого, что напишет любитель. Здесь не стоит даже
браться за перечисление примеров; но любой ловкий пианист
должен был бы предоставить в распоряжение нашего
композитора такую фортепианную партию, которую тот с радостью
признал бы своей.
Таков наш взгляд на это трио, и композитор меньше всего
может поставить нам в вину, что мы высказали его безучастно.
Когда в композиции можно утверждать, что она в
гармоническом отношении почти что уже не может быть улучшена, а в
мелодическом очень приятна, что она кое-где слегка обвита
контрапунктом, но при этом полна приветливых мыслей и
вообще отличается привлекательностью, хотя иной раз основной
характер ее и бывает ослаблен шпоровскими призвуками, то
это, во всяком случае, уже большая похвала. II при этом
тотчас же приходит на ум г-н А. Хессе, чье 56-е сочинение —
трио в излюбленном инструментальном составе — всюду будет
охотно прослушано. Многого не скажешь о подобных сочине-
265
ниях, изготовляемых по рутине и с техническим мастерством,
разве только что по ним беспрепятственно скользишь, как по
гладкой поверхности. Музыкальные журналы должны были бы
вовсе прекратить их травлю, если бы, к сожалению или (если
угодно) слава богу, еще не существовало на свете достаточное
количество невоспитанных рецензентов.
Итак, трио, написанное в так называемой «полевой»
тональности Es-dur, спокойно следует по своей золоченой,
проторенной дорожке между горем и беспечным весельем, хотя
следы последнего хотелось бы обнаружить по крайней мере в
скерцо, которое ведь и было изобретено для того, чтобы давать
выход накипающим парам шампанского. После Larghetto все
мы согласимся на том, что оно, уже и так разодетое по-шпо-
ровски, восстанет перед нами в последней вариации как
законченное зеркальное отображение самого Шпора. Хорошо было
бы избежать этого. Г-н Хессе — автор достаточно сильный и
зрелый, чтобы не искать опоры в каком-либо образце и
вдобавок в таком цветочно-нежном, как Шпор; уж лучше будем
искать ее в Бетховене, под мантией которого еще тысячи из нас
найдут себе пристанище. Более самостоятельную позицию
занимают первая и последняя части, но нигде настолько, чтобы, не
видя заглавия, нельзя было не подумать и о других авторах.
Много не скажешь о подобных сочинениях... я чуть было
сейчас не попал в уже написанный мною раздел. Меня
удивляет еще и то, что человек, обладающий столь значительными
контрапунктическими познаниями, так мало показывает их;
правда, в последней части кажется, что вот-вот начнется фуга,
но она так и не начинается. Боже, как хотелось бы дать
почувствовать людям, что они фуг писать не умеют, не знают, как
нужно увеличивать, обращать, излагать тему одновременно в
обращении и в обратном движении! Быть может, композитор
принадлежит к числу тех талантов, источник которых
становится все ясней и прозрачней, чем дольше они работают в
таинственной шахте контрапункта, в то время как другие нет-нет да и
выносят с собой из недр слоновые клыки, жемчужины в
раковинах и окаменелые пальмовые листья? Первое мне известно;
пусть же в своих будущих трио он покажет нам образцы
второго!
Если бы в лежащем передо мною трио Ф. В. Енса (соч.
10) вся композиция в целом после прекрасной первой
страницы, т. е. после действительно удачного начала, непрерывно
нарастала до конца или подводила к кульминации на середине,
а затем снова понижалась До уровня начала, можно было бы
хвалить ее без зазрения совести. Однако тут же, уже на второй
странице, на композитора нападает некий ритм, через который,
правда, мы нее должны пройти, как через определенный период
лирических охов и ахов. Это тот самый ритм, которым Бетхо-
266
вен начинает свою с-то1Гную симфонию, и я уже предвидел,,
как после этого композитор будет вести себя и работать, ибо я
по опыту знаю, как этот ритм преследует того несчастного,
который имеет с ним дело. Правда, на последней строке 4-й стр.
пробивается мысль, обрисованная гораздо более тонко, хотя и-
не новая; однако прежняя продолжает главенствовать, и
изложение так и не может подняться до отрадной высоты. Но
вспомним, что существует много людей, которые еще до сих
пор не узнали этой ритмической фигуры, а также подумаем о
стараниях, приложенных автором, о достигнутой им плавности
изложения и об отменно музыкальном встречном движении
крайних голосов, что всегда является признаком образованного
музыканта. Если при этом взглянуть на бесконечный
французско-итальянский хлам, которому отдают предпочтение, но
который мог бы служить макулатурной бумагой для такой
работы, как эта, то первая часть удостоится одобрения и похвалы и
с честью заполнит отведенное ей место в любом камерном
вечере.
Точно так же и вторая часть, озаглавленная Adagio,
содержит хорошие мысли. В целом же она присутствует здесь только
потому, что так уже повелось. Стерн говорит: человеку едва
хватает времени надеть башмаки. Так не пишите же больше
никаких Adagio или пишите их лучше, чем Моцарт. Разве вы
сделаетесь мудрее оттого, что наденете парик? Мыслям
вашего Adagio не хватает правдивости, подлинности, жизни —
словом, всего, и куда же вы денете вашу необъятную
фантазию, ваше остроумие и т. п.? Итак, я страстно надеялся найти
хотя бы в скерцо что-нибудь более живое и более оригинальное,
но, увы, это самое слабое, что есть в этом трио, к тому же
невыносимая подделка под Вебера, против чего композитор
должен быть вообще настороже.
Еще бы немного, и в виде трио (соч. 6) господина И. К. Луи
Вольфа перед нами была бы вторая жертва пресловутого
ритма с-то1Гной симфонии. Я не знаю, кто он вообще и где
живет, но его трио хорошее, и оно льется так легко,
непринужденно, в привычном русле, что сносные исполнители смогут без
запинки отбарабанить его с листа, более того: человек,
сведущий в музыке, в любом месте сумеет за четыре такта
довольно точно предсказать, что будет дальше и какой последует
поворот.
Как это чаще всего бывает, наиболее значительна здесь
первая часть. Правда, композитора одолевает несколько раз
отмеченный выше опасный ритм, но не настолько, чтобы не дать
возникнуть и другим мыслям. Вторая часть—Larghetto з
As-dur в четырехчетвертном ритме—милое, добродушное,
только очень уж мещанское. В последней части — подлинно гайд-
новское начало, и она нигде не претендует на то, чтобы
казаться чем-то большим, чем рондо.
267
По построению все три части похожи друг на друга, как две
капли воды, и уж во всяком случае, слишком растянуты.
Каждая, как принято, распадается на три раздела, последний из
которых является транспонированным повторением первого;
средний раздел несколько более насыщен, и в нем видно нечто
вроде разработки, но глубины нет нигде. Таким образом, на
всех страницах этой тетради проглядывает доброжелательный
веселый характер, предающийся воспоминаниям о моцартовско-
гайдновских временах. Однако это трио — только шестое
произведение композитора, а потому можно надеяться, что он
будет стремиться вперед. Ибо тот, кто полагал бы, что в наше
время достаточно изучить вышеупомянутых Двоих, тот стал
бы сильно отставать. Самые высокие горы все еще не
преодолены, а в морских глубинах может быть скрыто еще много
сокровищ.
Теперь мы подходим к очень приятному сочинению—к Ged-
reie (как хотелось бы его назвать Веделю) * Амброзиуса
Тома [соч. 3]. Это салонное трио, во время которого можно
лорнировать, не совсем теряя при этом нить музыкального
произведения. Ни трудно, ни легко, ни глубоко, ни
бессодержательно, ни классика, ни романтика, но все благозвучно и кое-где
даже полно прекрасных мелодий, например, в главной — очень
мягкой — кантилене первой части, которая, однако, в мажоре
теряет многое от своей прелести, более того, даже звучит
обыденно— вот как много иногда могут изменить малая и большая
терции.
По форме все части отличаются краткостью и
деликатностью; форма первой кажется настолько сжатой, что
собственно вторая тема вовсе не появляется, зато есть небольшой
мелодический ход у скрипки, который подхватывается виолой-
челью. В Andante нет ничего необычного, оно вводит—и
притом искусно — в последнюю часть. Над ней написано «Finale»,
правильнее было бы Rondo. И здесь можно найти французскую
легкость и немецкую школу. Композитора подстерегает
опасность впасть в слащавость и женственность, а от этого он легко
может уберечься, если обратит пристальный взгляд на
серьезное. Пусть же он это иногда делает!
* О только что вышедшем трио И. Феликса Добжинь-
ского (a-moll, соч. 17), я, к сожалению не могу говорить
столь подробно, как это сочинение того заслуживает, ибо 2
трудом кое-как разобравшись в сложных партиях, можно взять
на себя смелость судить о главных мыслях, но не о связи
между ними. Хотя я и не уверен, что оно будет исполнено, я все
же, говоря о новых трио, менее всего хотел бы обойти именно
* Gedreie — не существующее в немецком языке слово; в приблизительном
переводе — «тройственное». О музыкальных терминах, предложенных Веделем
(А. Цуккальмальо), см. в статье 43.
268
это, в котором во всяком случае везде чувствуется старание,
мошь и любовь к искусству.
Оно посвящено уважаемому Гуммелю и во многом
напоминает его стиль. Молодому художнику прежде всего нужно
научиться соблюдать размеры; будь трио на треть короче,, оно
определенно оказывало бы более сильное воздействие, в
данном же виде оно часто охлаждает пробудившийся уж было
интерес. Подобно многим молодым композиторам с честными
намерениями, автор еще слишком много занимается
второстепенным, слишком несмело работает, пытается где только можно
вставлять малозначащие фигуры и т. п. Если этим заниматься
после завершения всей работы, то можно много изменить к
лучшему. Когда же композитор при первом излиянии чувств
слишком много задумывается над мелочами, он не может
отдаться порыву. Правда, где найдешь его, кроме как в
редчайших шедеврах, но можно, по крайней мере, предостеречь ог
приковывания себя к земле собственными руками. Так
воздадим все же трио должное и попросим композитора уверенно,
не оглядываясь по сторонам, идти своим путем.
Не берусь решить, какой из четырех частей следует отдать
предпочтение; ни одна из них не уступит другим, хотя мне
-больше всего нравится скерцо — именно из-за его краткости.
Тема, с которой трио начинается, привлекает внимание, хотя
красивой ее назвать нельзя. Мне хотелось бы, чтобы сразу же
после конца пятой строки автор перешел бы, не затрагивая
бесцветного G-dur, к приятной С-с1иг'ной теме; в самой же теме
я хотел бы видеть иные басы вместо нынешних, которые, на
мой вкус, вообще недостаточно свободны и подвижны. Во
втором такте этой темы было бы лучше выдержать звук С; в пер-
7 6
вой его половине 4 и во второй— 4 звучали бы благороднее.
Говорить о подобных вещах можно много, но будучи
напечатанными, они, пожалуй, наведут скуку на читателя. Отрадно,
что в рондо используется та же С-с1иг'ная тема, появляющаяся
здесь в более кратком виде. Блестящие места не возвышаются
над обычными фортепианными пассажами; здесь автору также
следовало быть тщательнее в отборе и стремиться к большей
напевности. Конец первой части хотелось бы непременно
видеть в миноре; другое решение, к какому прибегают обычно
новички, редко бывает уместным и во всяком случае выглядит
слишком избитым. О скерцо в a-moll я уже говорил: его начало
по настроению напоминает скерцо из g-тоП'ного трио Шопена;
правда, последнее родилось в несравненно более глубоких
тайниках души.
Адажио с его дополнительным обозначением «Fantastico»
нужно услышать, а потому я воздерживаюсь от суждения.
Пианист должен сыграть тысячи его мелких нот как можно более
269
тихо, невесомо, как дыхание, иначе ничего, кроме злополучного
бренчания, не получится. Рондо выглядит совершенно гумме-
левским, да таково оно и в самом деле; средняя часть и
проведенное на выдержанном басу возвращение к теме —
превосходны, завершение звучит благородно и умиротворяюще.
Итак, будьте знакомы с молодым художником *.
Было бы с моей стороны непростительно скрыть от кружков
камерной музыки (их, надо думать, благоденствует немало в
нашем нем едком государстве), что и Фердинанд Хил л ер,
самый нелюбезный из наших любимцев, тоже писал трио. И
если он всегда стремится не отставать от больших мастеров п
чаото и не отстает от них, то он и на этот раз, не в пример
робким начинающим, разразился не одним трио, а, как
Бетховен, сразу тремя — первым в B-dur [соч. 6], вторым в fis-mo!l
[соч. 7] и третьим в E-dur {соч. 8]. По тональностям видно, чта
между ними нет никакой связи.
К сожалению, я и здесь не могу судить с должной
определенностью, так как я очень давно слышал только E-dur'Hoe.
Однако я точно помню, что в то время исполнители, доиграв
его, переглядывались в недоумении, не зная, смеяться им или
плакать. Итак, они тихонько отложили его в сторону и, если
только я верно сумел прочитать, на их лицах было написана
примерно следующее: «Странный малый этот Хиллер» и т. п.
Мне оно казалось менее сумасбродным, и сейчас я нахожу в.
нем даже необыкновенные вещи. К тому же такой смелой хваг-
ки нельзя не отметить в наше время, когда Даже талантливые
люди воздерживаются от более крупных и серьезных работ иа
страха, что они не достаточно скоро выйдут на публику.
Позднее мое мнение о Хиллере окончательно определилось
и его можно прочесть в разных местах нашего журнала, почему
мы сегодня и вправе ограничиться краткими замечаниями. Я не
на йоту не отступлюсь от порицания, высказанного мною
раньше, но хотел бы добавить много похвального в отношении этих
трио. В особенности кажется мне, что первое, и притом все его
четыре части, написано в удачном настроении, с большой
свежестью и охотой, и это позволяет нам на сей раз в виде
исключения простить автору все несуразное и незрелое,
набежавшее благодаря спешке; более того, в течение нескольких минут
мне казалось, что я стою в самом что ни на есть американском
девственном лесе, под сенью исполинских листьев каких-то
растений, с обвивающимися вокруг них змеями и порхающими над
ними серебристыми фазанами — таковы уж очень специальные
образы, навеваемые необычностью этого трио. Два других трио
кажутся мне более бледными и в то же время более
форсированными, словно автору во что бы то ни стало хотелось скорее
закончить именно три трио. Но пусть это никого не заставит
отложить их в сторону, ибо и в них можно найти достаточна
270
много нового, неожиданного и разительного; не следует только
ограничиваться однократным проигрыванием: жемчужину с
одного раза из мусора не выкопать. Этих слов вполне
достаточно, чтобы обратить внимание кружков камерной и иной
музыки'на эти ранние произведения Хиллера24.
Среди стольких профессиональных музыкантов мы
встречаем и дилетанта (по крайней мере я так предполагаю), некоего
г-на барона Карла Августа ф. К лай на, с которым
следует обращаться бережно, особенно потому, что он честно
относится к своему искусству и сочиняет, ей богу, так скромно и
так робко, что все время хочется ему крикнуть, чтобы он не
слишком боялся профессионалов.
Откровенно признаться, у меня создалось впечатление, что
б его трио (соч. 5) рука какого-нибудь педанта из школьных
учителей слишком уже много вычеркивала и хозяйничала.
Если это не так и если г-н ф. Клайн изложил все так жидко и
так немощно следуя собственной системе, то пусть он не
доводит простоты до сухости и жеманства. Зеленой и голубой
краской можно, конечно, написать цветок, на тонике и доминанте —
построить вальс, но чтобы создать пейзаж, надо уметь
свободно распоряжаться всеми красками. Так пусть же он смело
ударяет по клавишам: сильная мысль быстро заглушит
затесавшуюся фальшивую ноту. К сожалению, несмотря на это,
произведение его не стало грамотным и во всем изобличает
неопытное ухо. Что до меня, вы можете безнаказанно применять
хроматические ходы квинтами вверх и вниз, можете удваивать
мелодию в октаву ко всем интервалам, более того, недавно я
слышал (но во сне) музыку ангелов, а именно музыку, полную
божественных квинт, и это происходило, как они меня уверяли,
только оттого, лто их никогда не заставляли учить генерал-бас.
Кому следует, прекрасно поймут этот сон.
Насколько, как уже говорилось, дух и рука композитора
крепко зажаты школьными веревками и цепями, настолько в
нем все же проглядывают черты стойкого характера,
который со временем, быть может, и научится играть своими
оковами. Надеяться на это нам дает право небольшой романс,
несмотря на свои заминки и колебания. Скерцо выиграло бы от
менее обычного замысла; но трио не выиграло бы даже от
этого, ибо оно ведет себя действительно уж слишком старозаветно.
Главные мелодии двух остальных частей очень певучи. Однако
нигде ни натолкнешься на сколько-нибудь изобретательную
разработку—на сочетание тем, на стретту или т. п.; обычно
тему или пассаж начинает скрипка, затем это же излагает
виолончель, а за ней фортепиано или наоборот. В качестве
характерной черты упомяну еще и то, что во всех голосах, за
исключением нескольких «dolce» и обычных р и f, нигде не найдешь
исполнительских обозначений.
271
Что касается, в частности, фортепианной партии, то какой-
нибудь виртуоз должен был бы заново ее изложить — полнее и
сложнее, чтобы она зазвучала и могла быть сыграна. Это
звучит странно, но тем не менее это так. Двумя нотами бывает
труднее орудовать, чем десятью, и листовские фантазии легче,,
чем иные строки клайновского трио. Зато струнные
инструменты трактованы с любовью и знанием их особенностей.
Итак, мы не находим в трио ничего достаточно зрелого, что
позволило бы нам сделать определенный вывод, касающийся
будущих достижений этого автора и даже позволяющий нам
ответить на вопрос, имеем ли мы дело с человеком молодым
или пожилым, хотя первое более вероятно. Если это так, то
хотелось бы, чтобы он со временем давал нам повод скорее к
обузданию, чем к понуканию!
Но если кто захочет научиться писать трио уверенно и
закругленно, пусть возьмет за образец хотя бы, например,
новейшие трио Райсигера. Когда я вообще думаю об этом
композиторе, перед мной, как цветочки на нитке, сразу
нанизываются слова: «миловидный, наивный, нарядный» и как бы еще
не назывались прочие атрибуты более мелких граций,
избравших Райсигера своим любимцем. Стоит им застать его в
хорошем настроении, как тотчас же можно рассчитывать на
приятную беседу, но если он от нх отворачивается и пытается быть
трагичным или юмористичным, он легко впадает в своего рода
театральное декламирование или (во втором случае) в
поверхностный балетный тон. Поэтому восьмое трио [соч. 97, F-durJ,
в котором он избегал обеих крайностей, нравится мне особенна
и почти что больше, чем четыре более ранних из тех, которые
мне известны. В нем ничего особенно не предпринимается й
заранее не расставляют стульев; оказываешься, как бы
невзначай, перед лицом светского человека, со свободно льющейся
речью, занимающего нас разговором хотя бы о путешествиях и
о знаменитых людях, никогда нас не утомляющего и до конца
приковывающего к себе наше внимание; впрочем — и этого
отрицать нельзя, — здесь имеет место скорее привлекательность
изложения, нежели веское содержание мыслей. Естественно,
что такой характер может завоевать многих друзей, и мы
далеки от того, чтобы осуждать любовь некоторых к музыке столь
общительной; не следует только презирать того, кто стоит
поодаль в одежде, быть может, более невзрачной и у кого как раз
в это время вспыхнула в очах мысль, достойная Бетховена.
Итак, в этом последнем его трио композитора узнаешь на
каждой странице. То, что в общем похоже на Вебера,
постепенно настолько слилось с его собственной физиономией, что
отличить уже трудно. Зато в восьмом трио меня покоробил
мотив, заимствованный из одной баллады Лёве (или, если дальше
углубиться в прошлое, из скерцо с-то1Гной симфонии Бетхове-
272
на). Когда же я его снова услышал в скерцо, я подумал, что>
он скрывается во всех частях в качестве трансформации этой
основной мысли; однако я ошибся, и так как он снова
появляется даже в финале девятого трио (соч. 103, f-moll), его
приходится рассматривать как излюбленный ход этого
композитора, подобный тем, какие в разное время разрабатываются
решительно всеми композиторами. Точно так же удивило меня
начало Allegro в девятом трио, которое почти нота в ноту
составляет начало одного трио Лёве25. Между тем это — фраза,
которая встречалась в музыке уже не раз и которую, подобно
рифме «любовь—кровь», никто не вправе считать своей
собственностью.
Если бы кто-нибудь стал удивляться быстро растущему
числу трио, сочиняемых Райсигером (мы слышали, что еще два из
них снова уже находятся на пути в Лейпциг), нельзя конечно,,
не признать, что ему, одному из самых ловких
капельмейстеров, это во всяком случае особого труда не составляет. О
новых формах, оборотах, заключениях он и не Думает; обычно
вторая половина части нота в ноту повторяет первую в
транспонированном виде; пассажи его самые какие ни на есть
доступные. Столь же легко и естественно скрипка и виолончель
вплетаются в партию рояля. Коротко говоря, он за два или за
три дня может смастерить трио, и любой «трилистник» может
его разучить в такое же количество часов.
Так пусть же оба эти произведения начнут свое путешествие
по белу свету с легкой поступью счастливых странников.
Потребуй они составленный по форме паспорт, я твердо знаю, что
глаза я обозначил бы — «голубые».
Я обещал читателю, что в конце этого обзора появившихся
за последние три года трио скажу еще кое-что о сочинениях
Мошелеса, Шопена и Франца Шуберта. Тем
временем же мне попались на глаза еще два менее известных
трио; автор одного из них Г. Ф. Лёвеншельд [соч. 2, в F]r
другое написано [А.] Б ер тин и [соч. 43]. И потому сначала
несколько слов о них.
Имя первого как будто шведское, и его вряд ли можно
спутать с художественным именем Шоппе из «Титана», так как
трио является полной противоположностью Духу Лайбгебера26.
Это обычная чисто и приятно звучащая пьеса, сочиненная на
случай, или это салонное произведение, написанное не в силу
возвышенной потребности, но все же рукой, которая при
большом усердии и старании могла бы задумать, да и создать нечто
более глубокое. Первую тему последней части даже следует
назвать грациозной в лучшем смысле слова. Один такт — в
конце первой части — я должен из-за его оригинальности
упомянуть особо. Это место, где обе руки пробегают октавным
пассажем в гамме F-dur по всей клавиатуре. Но В — черная
273
клавиша, и ее вряд ли можно взять с той. стремительностью,
какую требует этот быстрый темп; таким образом, приходится
играть Н, которое при такой скорости, пожалуй, и не будет
слышно. Композитор же, которому Н в F-dur в конце концов,
наверно, самому показалось странным, лукаво закрыл глаза на
это и оставил В, предоставляя исполнителю выходить из
положения самостоятельно. Мне это кажется очень забавным.
По отношению к господину Бертини при всем желании
нельзя быть грубым; он может вывести из терпения своей
любезностью и всеми этими благоухающими парижскими общими
фразами; его музыка — сплошной шелк и бархат. Пусть же трио
выполнит свое назначение и будет отложено в сторону.
Правда, все части, за исключением разве что скерцо, могли бы быть
наполовину короче и произвели бы тот же самый, если не
гораздо больший эффект. Однако напечатанное остается
напечатанным; когда же звучит первая часть, где блестящий раздел
повторяется трижды, а весьма излюбленная гармоническая
последовательность, как на странице 6 такт 7 и такты 13, 14, еще
чаще, можно ведь думать и о чем-нибудь другом, о других
сочинениях Бертини. Одно мне в нем особенно нравится, а
именно то, что он не желает быть причисленным ни к старой, ни к
молодой Германии и очень бы обиделся, узнай он, что его не
считают истинным парижанином. В целом же в трио нужно
похвалить легкую плавную гармонию.
* О новом трио И. П. Пиксиса (c-moll), который для
того же состава написал одно из своих самых удачных
сочинений (в h-moll), я не могу говорить обстоятельно, так как
слышал его не в том составе, для которого оно написано, а вместе
с одним знакомым весьма жалким образом воспроизвел на
фортепиано. Поэтому сразу признаюсь, что я, хоть и понимаю
отдельные части, ни в малейшей степени не понимаю связи
между ними. Быть может, композитор писал их в разное
время, как заставляет меня думать отрывочность некоторых
периодов? Или же я ожидал найти больше, чем композитор
намеревался сказать сам. Особенно поражает заголовок третьей
части: «Сиена из оперы И. П. Пиксиса «Бибиана». Тот, кому эта
опера знакома, возможно, скорее найдет связующее начало,
которое призвано драматургически объединить все части трио
в единое целое; тому же, кто не знает оперы, остается лишь
удивляться неожиданному Andante в C-dur, которое особняком
стоит между частью в g-moll и частью в c-moll и которое не
обнаруживает ни ритмической, ни мелодической связи ни с
предыдущим, ни с последующим. К тому же рондо носит
пометку «Венгерское». Неужто Бибиана — цыганка, которую
судьба с севера занесла на юг? Одним словом, я не могу найти
драматургической связи, а хотелось бы, чтобы она была.
Поэтому скажу лишь об отдельных частях. Они, сами по себе
.остроумные, по характеру весьма отличаются друг от друга, но
274
отнюдь не кажутся мне столь цельными и совершенными, ,
например, в трио h-moll. Первая часть местами, может быть,,
еще удерживается на уровне начала — превосходного и скорее
подобающего концерту или симфонии, отчего вторая тема
кажется немного бледной и деланной. Кроме того, еще раньше,
после умных, вопрошающих октавных скачков у струнных
инструментов, ждешь скорее весомого ответа, определенной
мысли, нежели фортепианного пассажа. В остальном же эта часть
богата маленькими пикантностями и в среднем разделе соткана
блестяще, пусть даже и не очень искусно. В скерцо живо
чередуются двух- и трехдольный размер, но и здесь хотелось бы
услышать подобающий контраст; насколько мил и красив
g-moll, настолько G-dur ничем не примечателен. О
драматической сцене я говорил уже, что не нахожу ей истолкования.
Рондо очень милое и проносится быстро. Однако E-dur никак
не выходит у меня из головы и звучит отвратительно, вплетаясь
в c-moll; потому поспешим к блестящему заключению в C-dur,
стр. 23*.
При обсуждении остальных трио — Мошелеса, Шопена и
Шуберта — мне очень поможет то, что я их слышал, и
неоднократно, а именно, первое несколько раз в исполнении самого
композитора, второе — в исполнении Клары Вик и братьев
Мюллер, а шубертовское играли при мне Мендельсон и Давид.
Трио Мошелеса [соч. 84, в С] принадлежит к самым
совершенным сочинениям мастера. Испытываешь нечто
возвышающее, когда видишь, что композиторы старшего поколения, от
которых уже ничего более не ждали, вновь полны творческого-
рвения. В то время как иные, создав нечто подобное g-moll'Ho-
му концерту, двум тетрадям этюдов, т. е. непреходящие
образцы,— почивали бы на лаврах, этот как бы отказывается от
своей прежней славы и становится в один ряд с молодыми, чтобы
вместе с ними вступить в бой против закоснелых форм, власти
моды и филистерства. Поэтому в трио мы и видим господство
идеи, поэтическую основу, благородные душевные порывы. Во
всех частях чувствуется ум, и скорее пронзительный,
лаконичный, глубокий, нежели гибкий и выразительный. В первой
части каждому бросится в глаза, что хотя вторая тема здесь и
присутствует, но это — та же первая тема, только идущая
теперь в мажоре. Это мне кажется странным, так как в этом
месте без труда можно было бы найти другую тему. С другой
же стороны пьеса, благодаря этому, обрела цельность и
ритмическую мощь, которые иным путем, возможно, и нельзя было
бы достичь. Еще меня удивляет, что спокойная побочная тема
(страница 7 строка 5, начиная с такта 1) при повторении в
конце проходит не у скрипки. Сдержанное заключение особенно
прекрасно. В Adagio нет большого своеобразия, в среднем
разделе в f-moll даже наступает спад по сравнению с
первоначальным настроением, но тем не менее оно и прославленным
275
именам еще делало бы честь. Весьма остроумно и замысловато
развивается скерцо, в основе которого, вероятно, лежит
шотландская национальная мелодия. Последняя часть, быстро
усмирив задор, представляет нашему взору множество
интересных картин и оканчивается радостно, как бы в сознании, что
совершено нечто достойное.
Я предполагаю, что трио Шопена [соч. 8, g-moll],
появившееся несколько лет назад, большинству известно. Можно ли
упрекать Флорестана, если он не прочь похвастаться тем, что
он первый (к сожалению, в весьма усыпляющем месте27)
представил публике юношу, явившегося как бы из неведомого мира.
И как Шопен оправдал его пророчество, каким победителем
вышел он из борьбы с филистерами и невеждами, как он все
еще стремится вперед, но только творит еще проще, еще более
художественно! Ведь и трио принадлежит к его раннему
периоду, когда Шопен кое в чем еще отдавал преимущество
виртуозу. Но кто мог бы искусственно предвосхитить развитие
такого своеобразия, непохожего ни на что другое, к тому же
столь энергичной натуры, которая скорее изнурит сама себя,
чем допустит, чтобы другие предписывали ей законы! Так,
Шопен миновал уже разные стадии своего развития, самое
трудное стало Для него детской игрой, и он уже отбрасывает это и,
как подлинно художественная натура, предпочитает более
простое. Что я могу сказать об этом трио, чего не сказал бы себе
каждый, способный его прочувствовать? Разве оно не
благородно настолько, насколько это вообще возможно, не
мечтательно так, как еще ни один поэт не певал, не своеобразно от
каждой мелочи и до целого, разве каждая нота его — не
музыка, не сама жизнь? Бедный берлинский рецензент28, ты ничего
этого не подозревал и никогда подозревать не будешь, бедный
ты человек!
Один взгляд на трио Шуберта [соч. 99 в В], и жалкая
человеческая суета обращается в бегство и мир по-прежнему сияет
во всей своей свежести. Ведь уже лет двадцать тому назад
одно шубертовское трио уже пронеслось над тогдашней
музыкой как грозное небесное явление; это было как раз его сотое
сочинение и вскоре после этого, в ноябре 1828 года, его не
стало. Недавно появившееся трио, видимо, старше. По стилю оно
никак не говорит о более раннем периоде и могло быть
написано незадолго до известного в Es-dur29. Но внутренне они
существенно отличаются одно от другого. Первая часть, которая
в es-тоП'ном— глубокий гнев и опять-таки чрезмерная тоска,
в нашем — прелестна, доверчива, девственна; Adagio в первом
случае — вздох, нарастающий до ужаса, сжимающего сердце,
здесь — блаженная греза, приливы и отливы прекрасных
человеческих чувств. Скерцо похожи, но я предпочитаю то, которое
во втором трио. Последние части сравнивать не берусь. Одним
•словом, Es-dur'Hoe трио более действенно, мужественно, драма-
276
тично, зато наше более пассивно, женственно, лирично. Да
будет нам это посмертное сочинение драгоценным заветом! Как
ни щедро время и как ни прекрасны его дары, второго
Шуберта родит оно не так скоро.
Р.Ш.
IV. ДУЭТЫ
Ф. Шопен и О. Франшомм. Большой дуэт
на тему из «Роберта-Дьявола» для фортепиано и
виолончели (в Е) 30
Пьеса для салона, в котором из-за графских плеч нет-нет
да и вынырнет голова знаменитого артиста, иными словами, не
для приемов, где угощают чаем и где музыка лишь
аккомпанирует беседе, но для самых образованных кругов,
оказывающих художнику то внимание, которого заслуживает его
положение. Мне кажется, что она целиком набросана Шопеном и
Франшомму легко было со всем согласиться; ибо все, к чему
только ни прикоснется Шопен, обретает и форму и духовное
содержание; да и в этом малом салонном стиле он выражается
с такой грацией и с таким благородством, перед которыми
разлетается в прах все приличие других блестяще пишущих
композиторов вместе со всеми их тонкостями. — Будь весь
«Роберт-Дьявол» наполнен такими же мыслями, как Шопен
почерпнул для своего дуэта, его пришлось бы окрестить другим
именем. Во всяком случае и здесь сказывается рука Шопена,
который разработал эти мысли с такой фантазией (то
обволакивая их, то снова совлекая с них покровы), что они еще долго
продолжают звучать в ушах и сердце каждого. Упрек в
длиннотах, который боязливые виртуозы, быть может, предъявляют
к этой пьесе, не лишен основания: на двенадцатой странице
она даже цепенеет в своем движении, но уже на тринадцатой,
чисто по-шопеновски, снова нетерпеливо ударяет по струнам, и
вот все устремляется к концу в полете волнообразной
фигурации. Стоит ли добавлять, что мы горячо рекомендуем этот
дуэт?
И. М о ш е л е с. Большой дуэт для двух
фортепиано (в G). Соч. 92
Эта пьеса, как свеча темницы, улыбается каждому, кто,
подобно нам, по уши погряз в ворохе повседневных музыкальных
сочинений и который вынужден в досаде, более того, в ярости
одно за другим выбрасывать их в угол. Хотя мне глубоко
противно все хоть сколько-нибудь напоминающее журнальную
полемику, я все же не могу объяснить себе ту наивность, с кото-
277
рой иные редакции совершенно чистосердечно признают, будто
они рецензируют лишь то, что им поручается по доброму
желанию господ композиторов и издателей. Поистине может
наступить время, когда ни тем, ни другим это и в голову не
придет, и меньше всего выдающимся композиторам, которым
наплевать на всяких рецензентов. И что тогда? Другие редакции,
вместо того чтобы отбирать из того, что появляется в печати,
самое интересное в смысле безобразия или красоты, с горьким
презрением опять ополчаются на все французско-итальянское,
на Беллини, Герца и т. п. и все же заполняют страницы своих
журналов побрякушками и снова побрякушками; мало того,
они в лучшем случае просят немецких композиторов, ради бога,
ничего из своих сочинений им не присылать, а направлять их
только издателю, чтобы тот их отбирал сам.
И это понимание искусства? И это уважение к
художникам? Неизменное пребывание в окружении выдающихся людей
или постоянное лицезрение высших творений искусства,
духовный облик и жизненное тепло которых почти бессознательно
сообщаются людям восприимчивым настолько, что красота
становится для них как бы живой практикой, — вот что нужно,,
чтобы облагораживать воображение народа. Ведь гораздо
важнее водить людей по галереям с произведениями мастеров или
юношей, стремящихся с ними сравниться, чем таскать их из
одной лавочки, торгующей лубками, в другую. Можно
предостеречь от безобразного или непристойного, но ничто так не
плодит посредственности, как посредственные рассуждения об
этом31. Однако ни один художник так не нуждается в цветущем
зеркале своего искусства, как музыкант, жизнь которого часта
расплывается в весьма смутных очертаниях, и ни одно
искусство не следовало бы накладывать на более тонкую фольгу,
чем это наинежнейшее, вместо того чтобы грубыми руками
мясника перерабатывать его себе на закуску. Астрологическим
затеям, скучным длиннотам, догадкам и т. п. — место в книге;
в журнале же мы можем, как богатые странники на борту
корабля, влекомого быстрым потоком, проноситься мимо самых
плодородных берегов современности и, по воле божьей,
устремляться в открытое море к прекрасной цели. Неужели мы
способны будем задержаться, если какая-нибудь жалобно
каркающая ворона запутается в наших снастях: напротив, мы с
легкостью унесем ее с собой, и смотрите, смотрите же—она
вынуждена за нами следовать по пути к нашей обетованной
стране.
Вышесказанное связано с композицией Мошелеса тем, что
она — одна из самых очаровательных, о которой мы можем
поведать нашим читателям. Глаз и ухо будут ею упиваться; глаз
потому, что ее старозаветный, но галантный покрой многим
напомнит о тех достойных физиономиях с большим париком и
зорким, ясным взглядом под ним, какие мы часто видим на
278
картинах прошлого века; ухо потому, что она то смеется, то
сердится в удивительно изящных мелодиях и гармониях.
Почему она во что бы то ни стало хочет красоваться под именем
«Генделя», я не знаю и не настаивал бы на таком
подзаголовке32. Но какое-то добавление было необходимо, ибо без него
оставался бы открытым вопрос, заглянул ли Мошелес в
прошлое сам по себе и по чисто природному влечению или же он
лишь на несколько мгновений перенесся в тот здоровый,
достопочтенный и грубоватый век. Случилось последнее, и мы от
души ему за это благодарны. В заключение заметим, что это
тот самый дуэт, который прошлым октябрем в Лейпциге
сыграли Мошелес вместе с Мендельсоном — я говорил тогда: как два
•орла, но можно было бы также сказать: как живые отпрыски
генделевской породы.
Роб. Шуман
V. КАПРИЧЧО И ДРУГИЕ КОРОТКИЕ ПЬЕСЫ
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
Юлия Барон и-К авалькабо. Бравурное
Allegro (e-moll). Соч. 8
Имена наших женщин-композиторов свободно можно
уместить на лепестке розы, поэтому мы следим за каждой, и ни
одно из дамских сочинений от нас не ускользает. Ибо у
девушки, которая из-за нотных голосов может забыть о многом, что
связано с ее собственной женской головкой, должно быть в
десять раз больше оснований сочинять, чем у нас,
занимающихся этим только ради бессмертия. Однако нашего
композитора, вероятно, еще кое-что побудило писать. Она — внучатая
ученица Моцарта; дело в том, что ее учителем был сын
Моцарта, родина же ее — далекий Лемберг33. При воспоминании об
этОхМ и в таком месте частенько, пожалуй, может напасть тоска,
да и зимний вечер свое дело делает. Короче, открываешь
рояль, обретаешь поэтические крылья", фантазируешь/сам не
подозревая об этом, а если в тебе таятся мечты и музыка, то
ты поступаешь так же, как та, о которой мы говорим.
За исключением некоторых шероховатых моментов,
нескольких слишком неясно очерченных мелодий, которые легко
можно было бы превратить в простые и очень благородные, я
нахожу, что все хорошо и правильно, есть форма и развитие.
Только добавленное «di bravura» мне мешает, ибо в таком
случае Allegro должно было бы быть более напористым, и этот
жанр вообще меньше подходит женщинам, которые скорее
* Игра слов: Flugel означает и рояль и крыло (крылья). В оригинале:
«.. der Flugel wird aufgemacht, der dichterische angelegt...»
279
должны были бы сочинять мечтательные романсы и им
подобное. И, наконец, мне хотелось бы, чтобы за этой частью
следовали две другие, с тем, чтобы получилась соната, первую часть
которой это Allegro больше всего напоминает (в нем лишь не
хватает среднего раздела). Следует добавить, что скромная
дилетантка сделала бы тогда очень большой шаг на пути к тому,
чтобы ее имя стало широко известно. Ведь в наше время среди
множества появляющихся и вновь исчезающих имен даже
лучшие остаются незамеченными. Да будет ее следующий шаг еще
большим!
12
Г. К. Ку ленка мп. Каприс (d-moll).
«Скажи мне, где ты живешь, и я скажу тебе, как ты
сочиняешь». Что-то есть в этом парадоксе Флорестана, который
находит его верным даже в перевернутом виде. Прогулки,
путешествия не имеют в этом смысле значения, хотя они временами
и получают отражение в музыке. Но заприте Бетховена на
десять лет в какое-нибудь захолустье (возмутительная мысль)
и посмотрите, напишет ли он там что-нибудь похожее на
(1-то1Гную симфонию.
Ибо, люди, живущие в маленьких городах, в худшем
случае— друзья. Ты сочиняешь, спрашиваешь любого из них, он
изумляется; посылаешь в печать, об этом пишут газеты и
начинают примерно так: «Скажи мне» и т. д.— Мне кажется, что
уважаемому композитору вышеназванного каприса следовало
бы жить в большом городе, где постоянное противодействие
других талантов вызывает к жизни новые силы и удваивает их.
Большинству его чувств присуще нечто робкое, вызванное
провинциальной жизнью, над которой он бы очень хотел, да и
смог бы подняться, если бы его не так сильно тянули назад
крепкие руки обывателей. Отсюда — при всем хорошем,
добротно написанном, при явном стремлении к благороднейшей
цели, — столько неровного, напыщенного, сама мысль не
получает отчетливого выражения, как бы автор близко ни подходил
к этому; всюду серое на сером фоне или серебряное на
серебряном фоне; иначе говоря, содержательно, но без отчетливых
контуров, без ясного звучания. Может быть, композитору
пошло бы на пользу, если бы он один раз попытался в точности
скопировать настоящего мастера, чтобы ему при сравнении
своих идей с идеями оригинала явственно бросалась в глаза
разница между своим и чужим. Пусть он только не
останавливается и ищет, в особенности богатые источники жизни, ибо они
освежают и питают творческие силы. Мы и до сих пор с
пристрастием, которое внушает нам любое серьезное занятие
искусством, следили за его успехами, но молча, так как ждали
280
выдающегося. Впредь мы будем следить публично с тем
вниманием и той строгостью, какие он заслуживает.
12
Ф р. Поллини. Токката (c-rnoll). Соч. 68
Фортепианные сочинения современных итальянцев, как
правило, немногого стоят. Поллини можно рассматривать как их
Шопена; для итальянца он пишет серьезно и сложно, по
гармонии — интересно, вообще ему свойственны чистота изложения
и хорошее знание инструмента. Эту токкату отличает еще и та
особенность, что она написана на трех строчках — верхняя для
основной мелодии, средняя для сопровождения и нижняя для
баса. Однако композитор, пожалуй, ошибается, если полагает,
что этим создал облегчение, и если думает, что некоторые
фразы в его пьесе вовсе нельзя было изложить обычным способом.
Я готов написать ему все с начала до конца на двух строчках,
и исполнители предпочтут мой способ, ибо трехстрочная запись
придает сочинению немузыкальный вид и больше затрудняет
чтение, чем помогает рукам; уж как-нибудь разобрались бы.
Как бы то ни было, здесь, как и во всем сочинении, следует
похвалить добрые намерения.
22
Г. Д о р н. L'aimable Roue. Divertissement.
«Любезный Руэ». Дивертисмент (в С). Соч. 17
В глубоком сне, как я это часто делал наяву, я писал об
этой пьесе Дорна следующее: мне хотелось бы броситься
композитору на шею и, одновременно смеясь и плача, воскликнуть
«Да, дорогой Ювенал от музыки, трудно не написать сатиру;
сначала просто сатиру, а потом сатиру на сатиру». А он будто
мне ответил: «Благодарю небо, что хоть один человек меня
понял, так как покупатели дешевого журнала (пьеса составляет
часть его) вряд ли заметят мой гейнизм». «Гейнизм» неслось
из всех углов, и странное слово распалось в воздухе на
отдельные буквы. Я же проснулся.
В сущности, этого сновидения достаточно, чтобы понять
намерения композитора. Однако для ясности добавим еще
следующее. Нередко случается, что мы, художники, честно просидев
полдня за работой, попадаем в окружение дилетантов, и притом
самых опасных, так как они знают симфонии Бетховена.
«Сударь,— начинает первый, — истинное искусство в лице
Бетховена достигло своей вершины; все, что выходит за эти рамки,—
грех, мы непременно должны возвратиться на прежний путь».
«Сударь, — отвечает другой, — вы не знаете молодого Берлио-
281
за; с него начинается новая эра, музыка вновь вернется к тому,
с чего она начала, то есть к речи и во имя речи»34. «Это
намерение,— вставляет первый,—довольно ясно видно и в
увертюрах Мендельсона» и т. д. — Наш же брат в немой ярости сидит
между ними (к сожалению, мы, музыканты, умеем все, только
не говорить и доксиывать), а все, что выводит его из себя, он
в наилучшем расположении духа вливает в дорновские и ему
подобные дивертисменты. Таким образом и получается самая
веселая насмешка над дилетантизмом, итальянизмом,
контрапунктом, виртуозной бравурностью, над всей музыкой вообще,
над личностью самого композитора; и я поражаюсь лишь тому,
что у него хватает терпения написать нечто подобное; правда^
в душе у него, вероятно, бушевала буря. Но если в наше
искусство уже вкрадывается ирония, то воистину можно
опасаться, что оно, каь многие полагают, действительно близко к
своему концу, если, впрочем, веселые кометы в состоянии нарушить
порядок большой солнечной системы.
И. Калливода. Три соло. Соч. 68
Никогда еще я так не смеялся, как недавно в обществе
музыкантов, состоявшем главным образом из известных
виртуозов, когда некий остряк предложил в одном тройном концерте
переставить нотные партии так, чтобы скрипач играл на
фортепиано, пианист на виолончели; нашелся и злосчастный
флейтист. Трудно представить себе весь комизм этой сцены; мастера
своего дела из сил выбивались, играя на чужих инструментах.
Звучало это так, что можно было умереть от хохота, особенно
смешон был флейтист, который не мог дуть от судорожных
взрывов хохота. Я вспоминаю об этом случае при имени
милейшего Калливоды, который будучи по существу мастером
игры на скрипке, охотно, как говорят, сочиняет для фортепьяно,
хотя в данной области он мастером отнюдь не является. И хотя
он в этом и не так смешон, как вышеописанный вывернутый
наизнанку трилистник, все же он мне больше всего нравится в
сочинениях для того инструмента, которым он, как всеми
признано, владеет. Да и наше время отнюдь не изобилует
хорошими скрипичными сочинениями: поэтому уж лучше было бы ему
позаботиться об этом. О самих соло много не скажешь; они
легки, бодры, краснощеки, но обыкновенны. Если бы я написал
его третью симфонию, то я побоялся бы, что мне когда-нибудь
придется раскаяться в издании таких пустячков. Но каждому
самому лучше знать, почему он поступает так, а не иначе.
12
282
Франц От т о. «Phalenes». «Ночные бабочки».
Соч. 15
Они посвящены Флорестану и Эвсебию и служат, как это
признает сам композитор, продолжением их «Papillons»35, хотя
последние в гораздо большей степени могли бы считаться
ночными. Талант этого композитора, впрочем, уже давно
преследуемого нападками за то, что он где-то слишком глубоко увяз,
всецело принадлежит светлой и оживленной дневной поре,
лусть даже на нижней поверхности крыльев его бражников
кое-где и переплетаются более темные линии. Единой нити,
более глубокой связи в их последовательности я, вообще говоря,
и не ищу; каждый порхает сам по себе, часто зигзагами, часто
плавной округлой линией, то вяло, то с быстротой стрелы.
Каждый в отдельности вызывает на размышления и часто на
самые глубокие, если только умеет вникать в музыку. В
частности, в последнем бражнике мне слышится грустная песнь
давно отзвучавших времен. Если я к тому же замечу, что они
на бумаге и в ответной игре нашего воображения кажутся
намного значительнее, чем в реальном звучании, я тем самым и
воздаю хвалу певцу, умеющему сочинять и на воле, но
осуждаю пианиста, который легко мог бы изложить многое
значительно легче. Таким образом, мы от души его приветствуем и
желаем ему, чтобы его гений ничего с его духовных крыльев
не стряхнул, кроме той пыли, которая, к сожалению, слишком
часто ложится вторым слоем на солнечную пыльцу.
РЖ
* Ф. Д о б ж и н ь с к и й. Fantaisie quasi fugue
sur un Mazurka favori (D maj.) Фантазия в
характере фуги на любимую мазурку. Соч. 10
Это тот же композитор, который получил премию на
Венском симфоническом конкурсе. Что бы ни говорили вообще
против соревнования художников, они наверняка побуждают
работать более настойчиво, особенно робкие таланты, а мысль
о победных лаврах придает силы, пожалуй, и мастерам
постарше. Сколько еще пришлось бы написать этому молодому
художнику, прежде чем его имя, которому и без того мешает стать
широко известным сочетание столь твердых согласных,
проникло бы за пределы его родины. Пусть же он воспользуется
теперь этим счастливым случаем, пусть все, что он напишет,
будет подлинным и неподдельным, ибо драгоценный миг решает
все. Однако по названной выше небольшой и непритязательной
пьесе нельзя решить, заслужил ли он — рядом со своими
многочисленными партнерами по конкурсу — награду за свой талант.
По сравнению с другими пьеса хороша, главное—безыскусст-
283
венна, приятна, не лишена остроты, и пусть в ней нет
совершенного мастерства, но автор уже находится на пути к нему.
В целом нет, по-моему, нужного расположения частей,
недостает контрастов и нарастания, которых в этой форме не так
трудно было добиться. Кроме того, композитор слишком часто и
быстро пробегает квинтовый круг в сторону доминанты.
Пожелаем же ему и внешнего и внутреннего расцвета под лучами
дружелюбного солнца.
3. Та л ь бе р г. Каприс (e-moll). Соч. 15; Два
ноктюрна (Fis, H). Соч. 16
Венцы, если бы они это умели, должны были бы
возненавидеть наш журнал за то дурное мнение, которое он до сих пор
высказывал о сочинениях их любимца, их оберегаемого как
зеницу ока Тальберга. Еще недавно мы обещали — чтобы не
огорчаться и не огорчать других, — что будем полностью
умалчивать о его произведениях до тех пор, пока со всей
убежденностью не сможем похвалить какое-либо из них. Следует учесть,
что мы очень ценим свои похвалы и очень скупы на них, что
многое, от чего другие газеты отделываются замечанием
«достойно быть рекомендованным», для нас вовсе не существует,
иначе любой воробей пожелал бы, чтобы с ним обращались,
как с орлом, ибо он был сотворен и творит. Следует учесть^
что для похвального отзыва достаточно написать в редакции...
или..., которые этим кормятся; напомним, что тот, кто хвалит,
по словам Гете, приравнивает себя к восхваляемому, от чего
мы отказываемся, — учтя все это, каждый будет рад отделаться
у нас легким ушибом. Говоря прямо, мы считаем два последние
произведения Тальберга его лучшими, и мы в этом совершенна
убеждены, хотя он мог бы, исполни он их сам, ввести нас в
заблуждение, так как, говорят, он великолепно играет на своем
инструменте, и в частности свои собственные сочинения. И хотя
то, что музыкальное произведение кажется прекрасным в
исполнении его автора, еще не является полноценным
доказательством его высокого качества, а свидетельствует лишь о
превосходном исполнении, все же многое в этих пьесах и под
чужими руками должно звучать прекрасно. Правда, капрису
недостает остроты и глубины юмора, но в нем есть хорошо
развитая главная мысль, отдельные по-настоящему блестящие
места (напр., Agitato, стр. 10) и он являет собой единое целое,
которое, несомненно, вызовет бурное одобрение. На каждой
странице каприса видно, что он написан исполнителем, точна
знающим все красоты фортепиано и одинаково ловко умеющим
использовать как простые, так и сложные средства. Впрочем,
этот каприс найдет больше почитателей, чем тех, кто сумеет с
ним справиться. — Ноктюрны же напоминают мне молодого
284
человека с прекрасной фигурой, изящными манерами и
несколько бледным обликом; таких мы часто видим на венских
модных картинках. Поскольку здесь имеется так много
привлекательного и действительно ласкающего слух, мне до глубины
души жаль, что встречаются отдельные банальные обороты;
таковы, например, на первой странице после нежного напевного
места такт второй последней строки, на стр. 4 второй такт
второй строки; мне хочется перескочить через это, зажмурить
глаза. По правде говоря, мне кажется, что у композитора нет
подлинной тяги к творчеству, что он сочиняет только потому, что
ему ничего другого не приходит в голову: не о н должен — так
должно. Гейне имеет обыкновение говорить одному богатому
немецкому композитору, чье имя и на этих страницах
встречалось много раз: «И зачем ты только сочиняешь? У тебя ведь
в этом нет необходимости»36. Временами нам так и
хочется крикнуть г-ну Тальбергу то же самое. В таланте мы ему
не отказываем — как бы он иначе заслужил столько внимания!
Но истинной радостью для нас будет, если мы о его следующем
сочинении сможем сказать: оно написано ровно, оставаясь
верным себе от начала до конца, без отступлений виртуозности
ради, чистейшее движение души в святой час. Да подарит он
нам его!
[Ноктюрны Шопена и Фильда]
Но так как мы остановились как раз на ноктюрнах, я не
могу не признаться, что пока я писал эти строки, меня все
время занимали два новых ноктюрна Шопена — cis-moll и Des-dur
(соч. 27), которые я, как и многие его прежние (в особенности
те, что в F-dur и в g-moll), наряду с фильдовскими, считаю
идеальными образцами этого жанра, мало того, самым
задушевным и просветленным, что только может быть создано в
музыке37.
Наконец, и сам г-н Джон Фильд одарил нас тремя новыми
ноктюрнами, от четырнадцатого по шестнадцатый. Разве
слушая их, не чувствуешь себя человеком, впервые снова
вернувшимся в отчий дом после долгого путешествия, полного всяких
приключений и тысячи опасностей, грозивших ему на суше и
на море? Все так незыблемо стоит на своем старом месте, что
трудно удержаться от слез. Странной и подозрительной
кажется мне лишь шестнадцатая ночная пьеса: в ней
предпринимается что-то новое, даже привлекается целый квартет,
состоящий из скрипок, альта и баса.' Ждешь от этого невесть каких
чудес, ведь старик у нас лукавый: он способен одним штрихом
превратить простоватое выражение лица в сверкающее, более
того, он умеет, подобно декламирующему Гаррику, так
произнести простейшую музыкальную азбуку, что невольно даже
взгрустнется... Однако не происходит ровно ничего.
12
285
Г. Герц. 2-eme Caprice sur la Romance fav. «La
Folle» d'A. Grisar. 2-й каприс на любимый романс
де А. Гризара «Безумец» Соч. 84
В великой мировой партитуре38 я без всяких оговорок
отношу Генри Герца к представителям янычарской музыки. Он
тоже участвует в игре, достоин внимания и заслуживает
похвалы, если выдерживает достаточную паузу и при вступлении не
производит слишком много шума. Вообще стало новейшей
модой художников haute volee '•' хвалить Герца: и в самом деле,
прямо-таки надоели жалобы скучных патриотов по поводу
«щекотания слуха», «позванивания» и т. п. Не то чтобы последние
нас когда-нибудь восхищали или мы полагали, что музыка не
может существовать без треугольника. Однако если уж он
высочайшим капельмейстером создан и предписан, то пусть
звучит время от времени звонко и весело. Итак, да здравствует
Герц! Кроме того, его сочинения можно использовать в
качестве словаря терминов, обозначающих характер исполнения.
В этом отношении он исчерпывает полностью весь итальянский
язык: нет ни одной ноты, которая не служила бы цели, для
которой не был бы предписан выразительный оттенок, нет ни
одного сентиментального места, под которым бы не было
написано Smorzando. По Жан Полю, истинные произведения
поэзии не нуждаются в такого рода переводчике, иначе они похо-
.дили бы на «Чтеца-декламатора» Зольбрига, где, как известно,
текст напечатан семью различными шрифтами, в зависимости
ют требуемого повышения или понижения голоса; но господин
Герц, который знает это, вовсе не хочет слыть поэтом, он
просто между нотными линейками как бы еще раз выражает свои
чувства словами. Как много здесь можно было бы еще сказать,
•если бы наборщик из-за праздника троицы не заглядывал мне
со страхом через плечо. Поэтому о каприсе скажем лишь, что
ему предшествовали 83 сочинения, после которых он не явился
неожиданностью. «La Folle» — знаменитый французский
салонный романс, коронный номер мадам Мази, folie de salon **, как
ее назвал наш гамбургский корреспондент. Каприччо не
только так же прекрасно, но и еще лучше. Герц, в частности,
дюжинами сыплет из рукава некие слегка элегантные, порою
даже почти роскошные гармонические последовательности
(например, на стр. 8) и при этом достигает определенного
подъема, цель и назначение которого издавна, к сожалению,
слишком известны. А уж когда дело Доходит до его Stretto, Allegro,
Presto, Prestissimo 4Д, 2А, 6/s, то восхищение публики, подобно
морю, выходит из берегов, и даже самый отменный кантор
может не заметить октав на стр. 14 строки 3, 4.
22
♦ Высокого полета (франц.).
** Предмет безумного увлечения салона (франц.).
286
Г. Дорн. «Bacchanales. Rhapsodie». «Вакханалии.
Рапсодия» (в D). Соч. 15
Заглавие подходящее. Винным ягодам впору лопнуть от
наслаждения вкупе с пьяницами. Пьеса, за которую остроумный
рецензент дорновской «Нищей» (в приложении "к «Allg[emeine]
musfikalische] Zeitung) может стяжать новые лавры
(достаточно указать на квинты, стр. 3, строки 4, 5). Мы остережемся
связываться с композитором. Он колется *. Рано или поздно он
изобразил бы нас в рапсодии под заглавием «Nous», Rhapsodie
sur le «Nous» des Journalistes ** и т. д., и это нам бы не дало
ничего, кроме смехотворного бессмертия. Мы хотим сказать,
что рапсодия нам больше нравится, чем ее будущий рецензент,
вакханалии — больше, чем литании. Учеными вопросами, вроде
«можно ли в пьесе обнаружить настоящую логику, план,
единство, полный достаток», здесь ничего не сделаешь, и следует
лишь поберечься, чтобы в твою ученую голову не полетел
золотой кубок. Однако среди множества геркулесовых и иных
божеств, предающихся наслаждению за пиршественным столом,
я не вижу старшей дочери Гармонии, одного взгляда которой
часто бывает достаточно, чтобы прекратить шутки этих буйных
малых; вы, вероятно, поняли, что я подразумеваю Мелодию.
В этот момент мне вспомнилось из мифологии, что во времена
знаменитых ежегодных вакханалий, правда, творилось нечто
совершенно безумное, но среди пьяных сатиров и менад
шествовали благородные, скромные девушки, их высоко поднятые
корзины были наполнены дарами весны. А может быть,
композитор этого не знал?.. Вот в меня летит кубок...
12
В. Т а у б е р т. Miniatures. Миниатюры. Соч. 23;
Tutti Frutti. Соч. 24; Six Impromtus caracteri-
stiques. Шесть характеристических экспромтов.
Соч. 14
Мы называем их по восходящей, в соответствии с их
внутренними претензиями, а не следуя нумерации сочинений.
«Miniatures» представляют собой раешные картинки для детей:
тут— пастух с собакой, там — крепость и т. д., одна милее
другой; прямо-таки настоящие хебелевские немецкие народные
песни про «родник» и про «птичку»***39. Часто слышишь от
учителей, что Доступных пьес немецких композиторов мало и
поэтому они вынуждены прибегать к Герцу и Хюнтену. Теперь
* Дорн — по-немецки шип, колючка.
** «Мы», рапсодия о «Нас», журналистах (франц.).
*** Эти существительные даны на венском диалекте в
уменьшительно-ласкательной форме: «Brtinnelb, «Vogeli».
287
они могут использовать эти миниатюры, которые для их цели
сочинены действительно образцово, к тому же они наивны,
забавны, воспитывают руку, душу и ум ребенка, и каждая имеет
свой характерный облик.
«Tutti Frutti» по своей выдумке стоят уже несколько выше и
больше подходят для тринадцатилетних мальчиков, даже для
более взрослых, а также для дилетантов, если они только
хорошо освоились с клавиатурой. Из-за смешения различных
трудностей, как то: частой смены положения рук, их следует давать
лишь тем, кто твердо усвоил аппликатуру, иначе произойдет
путаница. В качестве композиции мне больше всего нравится
марш, скорее что-то вроде марша, то есть кажется, будто за
горой маршируют солдаты. Все это очень мило! Польский
танец хотелось бы видеть менее пестрым гармонически и более
ясным ритмически; я охотно обошелся бы и без старомодных
группетто, хотя они здесь не лишены характерности.
Мы теперь подходим к шести экспромтам, которые в равной
мере являются маленькими лирическими стихотворениями; они
очень привлекательны, картинны, насквозь немецкие. № 1.
«Рождество». Картинка у камина: на переднем плане —
играющие дети с трещоткой, лошадкой-качалкой и т. д.; временами
как бы слышны звуки рождественской службы; под полозьями
хрустит снег. Нам к этому нечего добавить, разве что убавить.
Кантилена часто напоминает мендельсоновскую. — № 2.
«Маскарад». И здесь нам хотелось бы, чтобы музыка меньше
вдавалась в детали. Главная тема хорошо знакома. Сцена часто
меняется, что вполне естественно; в середине происходят более
серьезные события. В Alia polacca перекрещиваются темпы
вальса и полонеза — старая, всегда милая идея. На последних
страницах вновь затрагиваются все старые темы, но скорее
деланно, чем естественно. — № 3. «Ощущение весны», казалось
бы, самый простой музыкальный сюжет, и потому самый
трудный. Вступление удачно; главное же мне не нравится. Видна
нарочитость и т. д. Говоря о целом, остается похвалить его
краткость. — В «Вальпургиевой ночи» больше музыкальных
мыслей, однако в последнее время в музыке появилось так
много подобного рода призрачности, что кажется, будто все это
уже знакомо. Но нигде это не могло быть сделано настолько
зримо, как здесь, где видишь, как ведьмы на козле и кочерге
летят сквозь облака. Впрочем, в картине есть хорошие мысли,
и написана она явно с любовью. — Заканчивает композитор
«Грезами», самой поэтической из пьес этого сборника; пусть же
жизнь и для него, и для нас воплотит такие грезы в образы.
Все, что можно было бы еще сказать по этому поводу, гораздо
приятнее и основательнее сказано музыкой, и мы рекомендуем
ее тем, кто, обманутый действительностью, ищет утешения в
^иллюзиях, создаваемых искусством.
288
Ф. Мендельсон-Бартольди. Три каприса
(a-moll, E-dur, b-moll). Соч. 33
Часто кажется, что этот художник, которому по воле случая
уже при крещении дано правильное имя *, вырывает из своего
«Сна в летнюю ночь» отдельные такты, даже аккорды и
расширяет, разрабатывает их снова в целые произведения, подобно
живописцу, который с какой-нибудь своей мадонны пишет
различные ангельские головки. В этом «Сне» соединились все
заветные желания художника; это результат его бытия — и
насколько это прекрасно и значительно, знаем мы все. Возможно,
что два из названных выше каприсов принадлежат к более
раннему периоду, среднее же несомненно относится к
последнему40. Те два могли быть написаны и другими мастерами, но в
среднем на каждой странице как бы прописными буквами
начертано Ф. М. Б. Больше всего я люблю именно этот каприс и
он мне представляется маленьким гением, тайно прокравшимся
на землю. Здесь ничто не держит в напряжении, ничто не
бушует, нет пугающих призраков и манящих фей. Всюду ступаешь
по твердой почве, по цветущей немецкой земле, как в летнем
загородном путешествии Вальта у Жан Поля.
Хотя я почти убежден, что никто не может сыграть этой
пьесы с такой неподражаемой прелестью, как сам композитор,
и хотя я согласен с Эвсебием, утверждающим, что «он
(композитор) мог бы исполнением этого каприса даже самую
любящую девушку сделать на несколько мгновений неверной», —
все же у любого исполнителя будут ощущаться эти
просвечивающие жилки, этот изменчивый колорит, эта тончайшая игра
настроений. Насколько отличны от среднего каприса другие
два, почти не связанные с ним! В последнем особенно
чувствуется какой-то скрытый молчаливый гнев, который по мере
приближения к концу вполне благополучно рассеивается, но
затем безудержно прорывается. Почему? — Кто знает! Ведь
иной раз приходишь в ярость не от той или иной причины, но
просто хочется «нежнейшим кулаком» крушить все направо и
налево, да и. себя самого стереть с лица земли, когда станет
совсем невтерпеж. На других этот каприс подействует иначе,
на меня оно действует так. Пускай! Зато мы все согласимся,
что в первом чувствуется менее глубокое горе, требующее и
получающее облегчение от музыки, к которой оно устремилось.
Больше мы ничего не скажем. Пусть же следующий свой взгляд
читатель перенесет на самую тетрадь.
Людвиг Шунке. Первый каприс (C-dur).
Соч. 9; Второй каприс (c-moll). Соч. 10
Как-то раз весной 1834 года в мою комнату (нас разделяла
только растворенная дверь41) вошел Шунке с обычной для него
* Феликс — счастливый (лат.).
10 Р. Шуман, т. I 289
стремительностью и бросил: «Хочу играть в концерте, но не
знаю, как назвать пьесу, ибо слово «каприс» говорит мне
слишком мало». При этом он уже давно сидел за роялем, объятый
пламенем второго, с-то1Гного. В полном восхищении я, шутя,
ответил ему: «Назови это «Beethoven, scene dramatique» "—и
так оно и попало в программу; но на самом деле вещь эта
отражала лишь тысячную долю бетховенской душевной жизни —
лишь одну маленькую темную складку на его челе. — После
той весны миновало два года. Когда умирает виртуоз, люди
обычно говорят: «Оставил бы он нам свои пальцы!» Но пальцы
у Людвига Шунке были не при чем: у него все вырастало из
духа и оттуда прямо в жизнь; слушать в течение часа, как он
занимается, даже просто разучивает гаммы вверх и вниз по
клавишам CDEFG, было для меня наслаждением и давала
больше, чем иное концертное исполнение. Если же он как
композитор (сейчас, оглянувшись на,прошлое, уже можно об этом
судить) и не поднялся до той же высоты, как и виртуоз
(уверенность и смелость его игры, в особенности в последние
месяцы перед смертью, достигли невероятного предела и
отличались даже некоторой болезненностью), то, судя по одлому
только этому второму капрису, ему можно было пророчить
плодотворное и славное будущее.
В каприсе много от самого автора: эксцентричность,
благородство характера, какой-то затаенный блеск; зато первый
всегда казался мне более холодным, самая основа его — даже
прозаичной, и выигрывал он только в исполнении автора. Да,
слушать его игру! Он парил как орел, как орел, держащий в
своих когтях молнии Юпитера. Взгляд его метал искры,
оставаясь спокойным, каждый нерв его был полон музыки, — будь
под рукой живописец, перед нами на бумаге сразу же, конечно,
возник бы образ бога — водителя муз. При его предвзятом
отношении к публике и к публичным выступлениям, которое
отчасти можно было объяснить опасением не быть достойно
признанным и которое постепенно разрослось до отвращения, что,
естественно, не могло не отразиться на исполнении, нельзя
требовать, чтобы те, кто слушали его лишь однажды и
поверхностно, согласились со столь высокой оценкой, сложившейся на
основе ежедневного с ним общения. Однако для того, чтобы
дать читателю представление о его вполне созревшем
мастерстве, приведу здесь маленький пример, который мне как раз
припомнился. Когда что-либо посвящаешь кому-нибудь, всегда
хочется, чтобы он это исполнял с особым предпочтением. По
многим причинам я посвятил Шунке одну из, быть может,
самых трудных фортепианных пьес — свою токкату. Так как от
меня не ускользал ни один звук, извлекавшийся им из рояля,
я потихоньку досадовал на то, что он не принимается за мою
* «Бетховен, драматическая сцена» (франц.).
290
токкату и, вероятно, чтобы его подзадорить, я временами
проигрывал ее, в твердой уверенности, что из моей комнаты он
услышит ее. Но, как и раньше, — ни звука. И вот, уже много
времени спустя, нас посетил иностранец, чтобы послушать
Шукке. Каково же было мое удивление, когда он ему проиграл
токкату с полным совершенством и признался мне, что он
несколько раз у меня ее подслушал и потихоньку разучил ее без
инструмента, в голове42.
К сожалению, опасение быть непризнанным, о котором я
только что говорил, часто наталкивало его на ложные мысли;
то он считал свои достижения все еше недостаточными и
восторженно говорил о каких-то новых паганиниевских идеалах,
которые он в себе чувствовал, и «что он запрется на полгода и
будет работать над техникой»; то он собирался бросить всякую
м}?ыку и т. п. — Однако такие мысли проносились мимо как
выражение боли на величавом лице, и он, пламенея всей
Душой, оставался верен своему искусству до последнего часа,
когда в жару просил окружающих принести ему флейту...43
Р.Ш.
* 39. МАНУСКРИПТЫ
X. Нойман (в Кёльне). Первая симфония для
оркестра. Партитура
Если уже само слово «симфония» приводит нас в волнение,
то тем более волнует симфония написанная (да еще в такое
зрегчя, когда над пятьюдесятью семью нависло такое же число
дамокловых мечей) \ о которой еще никто не знает, кроме ее
создателя; вероятно, он долго хранил ее, сотни раз ее листал,
пока у него как молния не сверкнула мысль, что ее ведь можно
показать миру или отдать на суд какой-нибудь редакции.
Поэтому мы с особой стремительностью вцепляемся в партитуры:
ведь никогда нельзя знать, какой непризнанный, погребенный
в каком-нибудь уголке света будущий Бетховен их написал.
Эта симфония создана знающим музыкантом, которому, может
быть, только следовало пожелать соприкосновения с другими,
чтобы его собственная внутренняя сущность яснее проявилась.
Он пишет в той манере легкого выражения серьезного, какую мы
ценим в гайдновской школе, притом корректно, ясно, отчетливо,
одним словом — привлекательно; главное же — он обладает
даром умело и эффектно инструментовать. Первые разделы
скерцо кажутся нам наиболее своеобразными из всей
симфонии; заурядную мелодию трио следовало бы в ходе развития
201 Ю*
сделать интереснее; нужна более тонкая работа (включение
среднего голоса или какого-либо иного контраста), какая видна
в последней части, где скрипки сопровождают главную партию
новой темой. Вступление к первой части очень напоминает «Дон
Жуана», мы предлагаем сочинить другое. Чтобы обогатить
фантазию, мы советуем композитору почитать партитуры
последних симфоний Бетховена так же тщательно, как он изучил
его ранние партитуры, что повсюду явствует из его
собственной. Пусть же благодаря возвышенному духу достигнет
расцвета все то, чего можно добиться прилежанием. Мы от души
желаем этого.
В. Шюлер (в Рудольфштадте). Адажио и
рондо из фортепианного концерта. Партитура
Уже внешний вид манускрипта дает возможность по
почерку судить о характере музыки, а он такой аккуратный, такой
старательно опрятный и приглаженный, что мы с полным
основанием заранее решили, что музыка подобна ему. Адажио,
как это часто бывает, обязано своим возникновением
случайности. Находясь на лоне природы, композитор чертил линии на
песке, которые в конце концов сложились в музыкальную
фигуру. Эта часть выразительна в своей простоте, сопровождается
она, впрочем, только тремя виолончелями. Относительно рондо
композитор признается в приложенном к партитуре письме, что
он здесь стремился вернуться к прежней простоте. В таком
случае, чтобы его впустили, ему придется стучаться в двери.
Мы не любители возвратов и предпочитаем, чтобы болезнь
была побеждена сильной натурой, а не устранена на несколько
мгновений пустяшными искусственными средствами. Итак,
вперед, друзья! Оглянемся на вершине — не ранее.
40. ЭТЮДЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
Ни один из жанров фортепианной музыки не может
похвастаться таким количеством отличных произведений, как
этюд. Причина вполне очевидна: форма этюда одна из самых
легких и привлекательных, цель, которой добиваются,
настолько ясна и твердо установлена, что ошибиться невозможно.
В предлагаемом обозрении мы сопоставляем этюды нескольких
композиторов старшего поколения, которых мы в какой-то
степени обошли, а также младшего — еще не обсуждавшихся в
292
печати. Вообще мы предупреждаем, что этюды, подлежащие
обсуждению, должны рассматриваться как образцы
специального жанра, как связующие нити между мастерскими этюдами
эпохального значения таких композиторов, как Крамер,
Клементи, Мошелес и Шопен. Но в отдельности эти сборники
содержат немало ценного, в связи с чем время от времени к ним
следовало бы обращаться.
И. П. П и к с и с. Этюды в форме вальса. Соч. 80
В самом широком смысле слова каждая музыкальная пьеса
является этюдом и самая легкая часто представляет собой
самый трудный из них. В узком же смысле мы должны требовать
от этюда, чтобы он имел определенную задачу, содействовал
развитию тех или иных навыков, приводил к преодолению
какой-либо трудности, например, в области техники, ритмики,
выразительности, исполнения [в целом] и т. п. Если попадаются
смешанные трудности, то этюд принадлежит к жанру каприса.
Впрочем, лучше приложить свои усилия к более крупным и
связанным друг с другом частям концерта, которые в
последнее время, как известно, содержат все виды трудностей и в
полной мере способствуют штудированию.
Если иметь в виду вышеизложенные требования, легко
убедиться в том, что эти миниатюрные этюды всегда им отвечают;
этого и следовало ожидать от композитора, которого ценят так
же, как и педагога. Если иные, быть может, и не сочувствуют
такого рода педагогическим средствам обольщения, то им все
же следовало бы подумать о том, что нельзя ежедневно мучить
мальчика или девочку бесконечным разыгрыванием гамм и
пальцевых упражнений, но что следует вовремя вкрапливать в
эти упражнения и пьесы танцевального характера. Поэтому в
противоположность иным прославленным преподавателям игры
на фортепиано мы объявляем ложным столь же прославленное
положение, согласно которому «юные души не должны
питаться танцами, но по возможности сразу же Бетховеном» (равно
как и то, что они не должны учить наизусть), и горячо
рекомендуем эти вальсы в качестве полезных интермеццо, удобных
для пальцев, очень милых, живых и музыкальных. — Под
басами девятого вальса значится слово Cornemuse. Мы отлично
помним, что это слово беспокоило нас уже раньше (этюдам
Пиксиса уже исполнилось 8—10 лет), ибо мы подозревали, что
под этим кроется нечто подобное музе, пока, наконец, мы не
напали в словаре на «волынку» *. Слово это, видно, обогащает
собой критическую терминологию; даже г-н Гольмик в своем
труде о терминологии не упоминает его2; между тем оно было
бы уместно во многих ***ских произведениях. По этому поводу
(раз мы уже увязли в мелочах) нам вспоминается журнал
293
«Iris>\ который недавно в слове Ессо*, встречающемся в
последней части второго герцовского концерта, усмотрел латинское
слово — как бы указание на красоты этого сочинения, — между
тем как это обозначает, вероятно, не что иное, как «Эхо», т. е.
повторение фразы, звучащей как бы издалека.
И. Поль. Дивертисменты и экзерсисы в форме
экосезов. Соч. 6
Э:и дивертисменты — те самые, которые мы в свое время
уже упоминали под заглавием «Caprices en forme d'Anglaises» **
и то!да же по заслугам похвалили3. Мы настойчиво повторяем
свою высокую оценку, хотя, правда, большинство из них
отклоняются в сторону каприччо вообще и лишь некоторые (1, 4, 6,
15, 16, 21) отличаются ярко выраженным этюдным характером.
Они больше всего уделяют внимание перекладыванию рук и
перекрещиванию пальцев правой и левой руки, создающему
совершенно особый колорит, но также, впрочем, всем остальным
видам трудностей; недаром такие этюды могут быть
предложены лишь самым первоклассным пианистам. Как музыкальное
произведение тетрадь эта должна быть поставлена в один ряд
с лучшим, что было создано в жанровой музыке — поистине
алмазное ожерелье, в котором каждый камень обладает
собственным цветом и все до одного кажутся добытыми из одного
пласта. Духовная значительность и самобытность на каждой
странице и в то же время — красивое, легкое изложение и
глубокое знание тех средств, которые свойственны данному
инструменту. Владеет ли композитор и более крупными формами,
мы, к сожалению, не знаем, так как мы не имели возможности
познакомиться с другими его сочинениями, перечисленными з
гофмайстеровском каталоге. Если мы что-либо об этом узнаем,
то узнает и читатель. К тому же мы с великой радостью
исправляем одну нашу ошибку. В указанном выше отзыве мы
сообщали, что автор якобы умер4. Судя по другим,
достоверным сведениям, он все еще здравствует в Париже, однако, как
говорят, отрекся от всякой светской музыки <и посвятил себя
исключительно изучению контрапункта. Мы об этом упоминаем
потому, что, судя по экосезам, будущее сулило ему скорее
блестящую светскую карьеру, чем уединенную жизнь в тесной
монашеской келье; можно предположить, что эти пьесы
возникли, как это иной раз и бывает, в период жизни, особенно
богатый впечатлениями.
* Гляди, обрати внимание (лаг.).
** «Каприсы в форме англеза» (франц.).
294
Мария Шимановская. Двенадцать этюдов
Имя это во многих вызовет чудесные воспоминания. (J6 эюи
артистке мы уже не раз слышали как о Фильде в женском
облику, и, в этом, судя по настоящим этюдам, без сомнения
заключается доля истины. Это — нежные голубые крылья,
которые не перегружают, но и не облегчают чаши весов и грубо
обращаться с которыми никому не захочется. Если мы
превозносим тех женщин, которые играют этюды, то тем более тех,
кто их пишет; к тому же эти этюды действительно хороши и
полезны, в частности для овладения фигурациями,
украшениями, ритмами и т. п. Если мы всюду замечаем неуверенность
женщины, особенно в форме и в гармонии, то одновременно
видим, как она чувствует музыку; она охотно сказала бы и
больше, если бы могла. Во всяком случае, что касается
выдумки и характерности, мы считаем эти этюды самым
значительным, что было до сих пор создано музыкальным женским
миром, имея к тому же в виду, что написаны они уже очень давно
и что мы поэтому должны ценить в них как нечто новое и
исключительное многое, что мало-помалу стало для нас обычным
и общепризнанным.
Й. К. Кесслер. Двадцать четыре этюда.
Соч. 20
Удивительно, что в стольких тетрадях, выпущенных
композитором, которого мы вообще привыкли ценить как человека
одаренного, даже поэтически одаренного, мы не нашли почти
ничего, кроме пальцевых упражнений, сухости, формализма и
рассудочности. Действительно, решительно все этюды
настолько скроены на один лад, притом настолько растянуты вдоль и
поперек, что их можно для охлаждения рекомендовать лишь
пианистам с очень разгоряченной фантазией, но у менее
пылких, только механических исполнителей они высосут последнюю
каплю крови взамен ничтожного излишка беглости,
полученного от их разучивания. Впрочем стиль, в котором они написаны,
сам по себе чистый, разработанный и крепкий, приближается к
крамеровскому, не обладая, однако, его прелестями. О, если бы
у нас были всегда под рукой фаустовские плащи, на которых
мы могли бы подлетать к композиторам в тот самый час, когда
они отсылают свои рукописи издателям! — На этот раз мы
пропустили бы только №№ 1, 3, 15, 18, 22 и 24, остальные у
Крамера короче и более сжаты. Выберем еще и № 5, перед
которым мы падаем ниц, если только композитор сочинил его
за инструментом, действительно перекидывая одну руку через
другую, а не просто написал это на бумаге; такой случай
можно понять только обратившись к нотам5.
295
А. Бертини. Двадцать пять каприсов или
этюдов. Соч. 94
Композитор ударяет здесь по двум мировым струнам, по
низкой — патетической и по верхней — фривольной и тем самым
соединяет венцы Беллини и Обера под одной шляпой. В
сущности же мы считаем этого молодого композитора довольно
пустым малым, который после первого знакомства (с его
прежними этюдами) хоть и оставил приятное впечатление, но со
временем становится совершенно невыносимым. Так, в этих этюдах
почти все только искусственно подогрето, только кокетливо,
только выучено — улыбки, вздохи, сила, бессилие,
привлекательность, дерзость. Мы живем надеждой, что такая мишура
никогда долго на свете не удерживается и потому
отказываемся от дальнейших нападок. По известным причинам мы даже
рекомендуем эти этюды как превосходные тем, кто в высшем
свете вести себя не умеют, но хотят и должны в нем жить. Ибо
вряд ли кто-нибудь умеет выразить общие места с большей
элегантностью и мнимой глубиной, чем это делает Бертини; он
пишет с такой необычайной пианистичностью и так
благозвучно, что остается только попытать свое счастье — у богатых вдов
и у некоторых других.
Обратимся однако к более благородным произведениям, к
этюдам К. М а й е р а, Ф. В. Г р у н д а, К. Э. Ф. В а й з е, Ф.
Риса и Л. Бергера.
К. Майе р. Шесть этюдов. Соч. 31
Учителем Ахилла считают кентавра, мы же хотим научиться
прекрасным играм у граций. Таковы и названные этюды —
грации с пленительным обликом и ясным взором.
Еще со школьной скамьи мы все помним, как некоторые
учителя нас чуть ли не пугали своей холодностью и строгостью,
в то время как уроки других нам доставляли истинную
радость. Таково же отношение многих других этюдов к
рецензируемым: с ними охотно засиживаешься сверх положенного
времени и стараешься вникать в них как можно глубже, ибо они
сразу же встречают вас приветливым взглядом и ничем
трудным "и запутанным не отпугивают. Иной раз попадаются
ученики с печальным обликом, такие, которых классная комната
зажала, сделала немыми и робкими. Предоставленные самим
себе, они не знают, куда им податься, не знают, за что взяться,
чтобы сдвинуться с места, делают два шага вперед и один
назад. Чтобы вдохнуть жизнь и звук в эти озябшие натуры,
надо дать им в руки эти и подобные этюды, трудности которых
не препятствуют возможности их вольной передачи.
296
Этюды эти, рассматриваемые как таковые, изобличают
основательного виртуоза, изучившего свой инструмент если не
всесторонне, то во всяком случае со стороны свойственного ему
и характерного для него звучания, виртуоза, который не
требует от пианиста ничего недоступного, чего тот постепенно не
научился бы исполнять уверенно, словом, который уже н не
способен написать что-либо не фортепианное. Поэтому не
ждите от этих этюдов никаких опасных зигзагообразных пассажей
или исполинских прыжков, здесь именно поступь и изгибы,
которые свойственны грациям и которые не столько укрепляют
наши суставы, столько делают их свободными и гибкими.
Первый и третий кажутся несколько более возбужденными, но
ничто через край не переливается. Второй, безусловно
очаровательный, начиная со второй части хорошо изложен и вообще
полезен как упражнение. Четвертый по характеру своему
напоминает Е-с1иг'ный Мошелеса; он выиграл бы от сокращения, но
достаточно привлекателен и в таком виде. Кажется, что в
пятом намечено рондо, которое хотелось бы развить. Последний
как композиция нравится нам меньше других; ему не хватает
ритмически оживляющей мысли, которую мы поручили бы
левой руке; мы советуем его часто проигрывать в качестве
упражнения для беглости правой руки.
Ф. Рис. Шесть этюдов Соч. 31
Мы здесь лишь отдаем дань уважения юношескому
произведению мастера, чьи высокие заслуги в развитии
фортепианной игры не должны быть забыты. Я еще и теперь с радостью
вспоминаю тот день — с тех пор прошло более десяти лет —
когда мне в руки попала эта тетрадь. Все мне представлялось
огромным, непостижимым, в особенности первый этюд с его
странными переплетениями и зигзагами и тот, что в D-dur, где
восьмые, триоли и шестнадцатые наслаиваются друг на друга;
об этом этюде мой учитель заметил: «Его в десять раз легче
сочинить, чем сыграть», чего я тогда не понял. Что касается
трудности, то мое мнение впоследствии изменилось, и только
уважение к этим этюдам осталось неизменным. Мы вновь
горячо рекомендуем их всем и каждому.
Ф. В. Г р у н д. Двенадцать больших этюдов.
Соч. 24
Возможно, кое-кому видна рука, которой мы поднимаем эти
этюды (как и последующие, принадлежащие Вайзе и Бергеру)
высоко над уровнем посредственных сочинений, так часто от-
297
тесняющих превосходные вещи менее именитых композиторов,
а нередко и вовсе их заслоняющих. Они посвящены маэстро
Мошелесу, и по праву, ибо перед нами художник, который
достойнейшим образом развивал то, что дано ему свыше и,
сознавая свои силы и средства, употребил их во всем объеме. Эти
этюды особенно ценны для нас тем, что они дают пищу
одновременно и руке и уму, будучи столь же своеобразными, сколь
и технически сложными. Мы не помним, чтобы где-нибудь
подробно сообщалось об этих этюдах, и потому остановимся на
них.
В первом из этюдов проводится фигура, укрепляющая
пальцы правой руки, в частности более слабые. Одна особенность,
которая для композитора стала чуть ли не типичной, отличает
этот этюд, как и почти все остальные: к концу обычно
появляется новая музыкальная тема; благодаря этому собственно
упражнение как бы несколько оттеснено на задний план, но
ход его все же продолжается; этот способ нам чрезвычайно
нравится. — № 2. Упражнение в октавах, но и нечто большее:
поэтическая картина, созданная рукой тонкого художника.—
№ 3. Мягкий и ровный, без особых отличий. Педаль мы
отпускаем лишь в конце такта; задержания, благодаря большому
количеству аккордовых нот, мгновенно снимаются. В баховской
первой тетради упражнений № 2 очень похож на этот этюд. —
№ 4. Легкомысленное и кокетливое композитору мало удается,
он слишком немец и спокойно может это предоставить
другим. — В J\о 5 он опять в своей сфере, однако на стр. 14
строка 3 напряжение в пьесе снижается. — № 6. У Крамера (№ 4,
c-moll), Мошелеса (№ 17, fis-moll) и Риса (<Nb I, c-moll) есть
этюды, имеющие то же назначение. Этот нам кажется
недостаточно свободно изложенным, но может, вероятно, произвести
эффект, если его играть быстро, отчетливо, ноту за нотой.—
№ 7. Относится к тему же роду, что и № 4. Как упражнение
этот этюд — наш старый знакомый, доставлявший нам раньше
немало хлопот. — № 8. Превосходно, в характере Оссиана.
Встречающиеся квинты нам не мешают; мы даже ценим, что
композитор не пытался педантично избежать их. — № 9. В духе
Гуммеля. Фиоритуры несколько чопорны, в частности для нас
совершенно непереносимо томное завершение, как, например,
на стр. 25 в последнем такте и на стр. 26, в такте 5. Та манера
изложения, какая дана на стр. 26, где вновь появляется
главная мелодия, автору гораздо более к лицу.—№ 10. Самый
одухотворенный и своеобразный, притом от первого До последнего
такта. Мы помечаем его красным. — № 11. Трудный, но
полезный и выигрышный. — Последний по мере исполнения
становится монотонным, тем более, что эта фигурация уже
использована в № 7. Умное, живое исполнение может заставить
забыть о монотонности.
298
К. Э. Ф. Вайзе. Восемь этюдов. Соч. 51
К сожалению, из работ этого композитора (который
написал также симфонии, оперы и церковные сочинения) мы не
знаем ничего, кроме указанных выше этюдов и бравурных Allegro
для фортепиано. Нам вспоминается высказывание о последних
компетентного судьи (Мошелеса), который полагал, что Вайзе
одним этим произведением обеспечил себе место среди первых
из ныне живущих композиторов, пишущих для фортепиано.
Вероятно, будет позволительным обнародовать и личное
похвальное мнение, особенно здесь, ибо в этом случае любой
непредубежденный читатель должен будет с ним согласиться.
Большинство впервые появляющихся этюдов в большей или
меньшей степени можно отнести к школе того или иного
мастера (Фильда, Гуммеля, Крамера и т. д.); эти же вполне
самостоятельны и закончены и, может быть, только по стилю в
чем-то родственны Бетховену. Охотнее всего (пишет где-то Эв-
себий) я бы их сравнил с теми одинокими маяками, которые
возвышаются над брегами вселенной, хотя есть, правда, гении
и более возвышенные, легко и гордо скользящие, подобно
парусам, и отыскивающие новые земли. Иначе говоря, есть
отдельные таланты, которые, не подчиняясь ни всемогуществу
господствующего в данный момент гения, ни власти "г^ды, живут и
творят по собственному закону. С первыми их, правда,
объединяет то, что вообще свойственно сильным и благородным
натурам: они презирают моду. И в этой непреклонности, упорстве,
с которыми они отвергают все, что походило бы на стремление
завоевать популярность, пожалуй, и заключается причина того,
что их имена и вовсе не доходят до народа, быть может в
ущерб и той и другой стороне, хотя народ, конечно, теряет
больше.
Итак, все, что нам здесь предлагается, создано
оригинальным умом, какой не часто можно встретить. Отметим уже
первый этюд: как много в нем здорового, какой он немецкий и
рыцарский! Ему мало красок, чтобы создать картину, он
высекает в камне, и каждый удар точен. — Второй — напевная
баллада, на фоне которой вздымаются и опускаются низкие
голоса. Здесь, как и во многих других этюдах из этой тетради,
композитор прерывает плавное течение свободной темой; нечто
подобное мы отмечали уже в этюдах Грунда, но тут это
сделано смелее и с большей фантазией. Весь этюд превосходен. —
В третьем номере нужно стараться разделять пение и
аккомпанемент; он представляется нам, во всяком случае, слишком
длинным и мелодически пустоватым, особенно там, где левая
рука подхватывает фигурацию; зато это хорошее упражнение
на стаккато и на переплетение черных и белых клавиш. — № 4
весьма своеобразен, по форме несколько недоработан, но с
выдумкой и блеском. — № 5 ничем не выделяется, однако благо-
299
даря его прекрасным, богатым гармониям слушать его будет
приятно, если играть быстро, хотя и с внутренним
спокойствием.— № 6 выиграл бы, как нам представляется, будь он
написан в двухчетвертном размере; по тонкости и свежести красок
он нам милее всех других. Хотя мы и не любим указателей на
дороге чувств, таких как delirando и др., все же для менее
восприимчивых исполнителей могло бы быть несколько больше
обозначений оттенков, в особенности в этом этюде, где весь
эффект зависит от красивого распределения света и тени.—
В № 7 нам бросилось в глаза указание метронома:
добавленную к цифре половинную ноту следует исправить на
четвертную, но и тогда она даже хорошему исполнителю доставит
немало хлопот. В остальном же этюд отличается как
трудностью, так и блеском. — В № 8 мы бы играли начальную
мелодию так, как она идет потом, т. е. октавами, иначе звучание
слишком жидко. Это замечание — мелочь по сравнению с тем,
что представляет собой этюд в целом. С ним следует
познакомиться самому; и чем раньше, тем лучше.
С истинным уважением мы открываем эти этюды за
фортепиано и наслаждаемся ими.
Людвиг Бергер. Двенадцать этюдов. Соч. 12
Нам не приходит в голову рекомендовать сегодня сочинение,
появившееся, быть может, лет 20 тому назад и объявленное
первыми авторитетами образцовым и мастерским. Однако эти
этюды непонятным образом почти не вышли за пределы того
круга, с которым Бергер был непосредственно связан как
учитель. И так случилось именно с этими этюдами — подлинными
платоновскими беседами, где из уст поэта исходят еще и слова
мудрости; каждый обучающийся должен был бы знать их
наизусть. — Какие надежды возлагались на это сочинение! Мы не
хотим сказать, что они не оправдали себя в нем самом (если
бы каждый написал хотя бы одну такую тетрадь, это было бы
очень хорошо для него), но дело в том, что в этих отдельных
поэмах были как бы сокрыты зародыши будущих более
крупных произведений. Кого следует упрекнуть в том, что они не
были написаны,— критику, публику или композитора — этого
мы не решаем. Мы знаем лишь одно: уважаемый мастер создал
многое и, в частности, вторую тетрадь этюдов. И в этой заметке
мы лишь хотим высказать пожелание, чтобы новые этюды как
можно скорее были обнародованы. Мы просим об этом
композитора как его искренние почитатели6.
300
Six etudes de Concert сотр. d'apres des Caprices
de Paganini par R. S. P[o б е р т] Ш[у м а н]
Шесть концертных этюдов по каприсам Паганини.
Соч. 107
Обозначение опуса я на этих этюдах проставил по
настоянию издателя, говорившего, что они от этого лучше «пойдут», —
основание, перед которым все мои многочисленные доводы
должны были отступить. Однако в глубине Души я рассматривал
цифру 10 (ведь я и до 9-й музы еще не дошел8) в качестве
знака некоей неизвестной величины, а самую композицию —
как подлинно паганиниевскую, если не принимать в расчет
басы, чисто немецкую густоту средних голосов и вообще
полноту гармонии, а также большую гибкость, которую я кое-где
придал форме. Но если всегда похвально с любовью вобрать в
себя мысли человека, достигшего более высокой ступени, их
переработать и после этого снова вынести наружу, то я,
пожалуй, имею право претендовать на такую похвалу.
Говорят, что сам Паганини ставил свой композиторский
талант выше своей гениальной виртуозности. Хотя полного
единодушия в этом вопросе, по крайней мере до сей поры, еще не
достигнуто, все же в его сочинениях и, в частности, в его
скрипичных каприсах*, из которых заимствованы наши этюды и
которые все до одного зачаты и рождены с редкой свежестью и
легкостью, содержится такая алмазная прочность, что более
богатая оправа, требуемая фортепианным изложением, могла
бы скорее их укрепить, чем ослабить. Однако не в пример
ранее изданной мною тетради этюдов на темы Паганини**, в
которой я, быть может, в ущерб оригиналу, копировал его почти
ноту за нотой и лишь давал гармоническое развитие, я на этот
раз отказался от педантически дословного переложения и
хотел бы, чтобы предлагаемое издание производило впечатление
самостоятельного фортепианного сочинения, которое заставило
бы слушателя забыть о его скрипичном происхождении; этим
отнюдь не умаляется заложенная в оригинале поэтическая
идея9.
Само собой разумеется, что для достижения указанной цели,
особенно в отношении гармонии и формы***, я многое переста-
'' Заглавие оригинала: «24 Capricci per il Violino solo, dedicati agli
Artisti Op 1, Milano, Ricordi». «24 каприччи для скрипки соло. Посвящается
артистам. Соч. 1, Милан, [издательство] Рикорди». [Ш.]
** Этюды для фортепиано по скрипичным каприсам Паганини [соч. 3] с
предисловием и т. д. [Ш.]
ч* Многое в оригинале можно простить, если знать, как возникли эти
этюды и с какой поспешностью они были сданы в печать. Г-н Липиньский
рассказывал, что они писались в разное время и в различных местах и что
Паганини раздаривал их рукописи своим друзьям. Когда впоследствии
издатель, г-н Рикорди, предложил Паганини издать весь сборник, тот поспешно
записал их по памяти. [Ш.]
301
вил, вовсе опустил или добавил, но делалось это, разумеется,
всегда с той осторожностью, какую предписывает гений, столь
мощный и достойный величайшего уважения. Потребовалось бы
слишком много места, чтобы привести все изменения и
объяснить причины, а насколько это было уместно, я предоставляю
решить благожелательным ценителям путем сравнения
оригинала с фортепианным переложением, что, безусловно, не
лишено интереса.
Добавляя слоео «de concert»-, я хотел подчеркнуть отличие
настоящих этюдов от вышеупомянутых, уже вышедших. К тому
же по своему блеску они во всяком случае подходят для
публичного исполнения. Но так как они по большей части весьма
решительно нацелены на главное, к чему, однако, не привыкла
смешанная концертная публика, то лучше всего было бы
предпослать им свободное, краткое и подходящее вступление.
Что касается частных замечаний, мне хотелось бы обратить
внимание также и на следующее10.
В № 2 я выбрал другой аккомпанемент так как тремоло
оригинала слишком утомило бы как исполнителя, так и
слушателей. Впрочем, я считаю этот номер особенно красивым ;i
нежным — его одного достаточно, чтобы обеспечить Паганини
одно из первых мест среди итальянских композиторов. Флорес-
тан называет его здесь итальянским потоком, устье которого
находится на немецкой почве.
№ 3 кажется для своей трудности недостаточно
благодарным; между тем всякий, кто ее преодолеет, получит многое
другое в придачу.
Во время работы над № 4 передо мной вставал похоронный
марш из бетховенской «Героической симфонии». Возможно, что
всякий это и сам заметит. — Вся пьеса полна романтики.
В № 5 я намеренно пропустил все исполнительские
обозначения с тем, чтобы учащийся сам для себя отыскал все высоты
и глубины. Такой прием должен показаться весьма удобным
для проверки восприимчивости ученика.
Я сомневаюсь в том, что всякий, кто играл эти каприсы на
скрипке, мгновенно узнает шестой. Гладко сыгранный в
качестве фортепианной пьесы, он в своем потоке гармоний
производит чарующее впечатление. Добавим к тому же, что
перекинутая сверху левая рука (кроме 24 такта) должна каждый раз
брать лишь одну, самую высокую верхнюю ноту. Аккорды
полнее всего звучат тогда, когда переброшенный палец левой руки
подхватывает движение правой. Следующее Allegro
гармонизовать было трудно. Мне лишь незначительно удалось смягчить
жесткое и несколько плоское возвращение в E-dur (стр. 20—
21), иначе пришлось бы все пересочинить.
Этюды все до одного представляют высшую трудность и
каждый — свою. Те, кому они попадают в руки впервые,
хорошо сделают, если предварительно просмотрят их, ибо если даже
302
молниеносно схватывающие глаза и руки попытаются
прочитать их с листа, они едва ли окажутся в состоянии следить за
мелодией.
Поэтому трудно ожидать, чтобы число исполнителей,
способных мастерски овладеть этими вещами, достигло значительного
количества, зато они действительно содержат столько
гениального, что всякий, однажды прослушавший их в совершенном
исполнении, будет часто вспоминать о них с благодарностью.
Роберт Шуман
41. ЭТЮДЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО, РАСПОЛОЖЕННЫЕ
ПО ИХ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАЧАМ
У многих обучающихся поникли бы крылья, если бы они
увидели всю массу накопившихся до настоящего времени этюд-
нъгл сочинений. Нижеследующая таблица Должна им помочь
разобраться в этой массе, найти этюды, сходные по своим
задачам. Если мы в этой таблице обращаемся к написанным
более ста лет тому назад этюдам Баха * и советуем
тщательнейшим образом изучить их, то у нас на это имеются основания.
Ведь если исключить те преимущества в средствах, которые мы
получаем благодаря увеличению объема нашего инструмента,
а также выигрыш в эффектах благодаря совершенствованию
самого звучания, то Бах уже знал фортепиано во всем его
богатстве1. И подобно тому как он все планировал сразу в
гигантских масштабах, так он сочинил, например, не просто 24
этюда в известных тональностях, а в каждой сразу по целой
тетради. Никто не станет отрицать, что Клементи и Крамер
многое у него почерпнули. Начиная с этого времени и до Мо-
* Здесь и ниже Шуман приводит в сносках названия важнейших
этюдов каждого из упоминаемых авторов. Мы даем этот перечень в уточненной
редакции и в переводе на русский язык. И. С. Б а х. Клавирные упражнения,
ч. 1-я н 2-я; М. Клементи. Путь к Парнасу («Gradus ad Parnassum»);
И. Б. Крамер. Этюды или 42 пальцевых упражнения в различных
тональностях; И. М о ш е л е с. Этюды для совершенствования уже обученных
пианистов. Соч. 70; Ф. Шопен. 12 больших этюдов. Соч. 10; Л. Бергер.
12 этюдов. Соч. 12; К. Вайзе. 8 этюдов. Соч. 51; Ф. Рис. 6 упражнений.
Соч. 31; И. Н. Гуммель. 25 этюдов. Соч. 125; Ф. В. Грунд. 12 больших
этюдов. Соч. 21; "И. К. К е сел ер. 24 этюда. Соч. 20; А. Шмитт. Этюды.
Соч. 16 и др.; Ф. К а л ьк бр ен не р. 24 этюда. Соч. 20; К. Черни. Школа
беглости. Соч. 299.—Школа развития пальцев. Соч. 740 и др.; Г. Герц.
Упражнения и прелюдии. Соч. 21; К. П оттер. 24 этюда. Соч. 19; Ф. Хил-
лер. 24 этюда. Соч. 15; М. Шимановская. 12 этюдов; К. Майер.
6 этюдов. Соч. 31; А. Б е р т и н и. 25 характеристических этюдов. Соч. 66;
Р. Шуман. Этюды по каприсам Паганини. Соч. 3.—6 концертных этюдов
по каприсам Паганини. Соч. 10.— Ред.
303
шелеса наступила пауза. Возможно, что причиной тому было
влияние Бетховена, который, будучи врагом всего
технического, более всего взывал к чисто поэтическому творчеству.
Поэтому у Мошелеса и в еще большей степени у Шопена при
наличии технических задач господствующую роль играло
творческое воображение. За этими пятью самыми выдающимися
следуют как наиболее оригинальные Л. Бергер и К. Вайзе. Рис и
Гуммель нагляднее проявили присущий им стиль в свободных
сочинениях, не обусловленных техническими намерениями, чем
в этюдах. В качестве солидных и дельных сочинителей этюдов
следует назвать Грунда и Кесслера, а также Шмитта, чья
ясная простота должна благотворно действовать на молодые
сердца. Калькбреннер, Черни и Герц создали произведения
если не выдающиеся, то весьма ценные, чему способствовало
их знание инструмента. Нельзя обойти, учитывая их
романтический дух, Поттера и Хиллера, а также нежную Шиманов-
скую и приятного К- Майера. Бертини вводит в заблуждение,
но делает это грациозно. Кому хочется самого трудного,
найдет его в этюдах по Паганини, принадлежащих перу
нижеподписавшегося.
Р. Шуман
Быстрота и* легкость (свободное движение пальцев, мягкий удар).
Правая рука. Клементи № 522.— Крамер 12, 23, 27х, 36х. —Моше-
лес 1. — Шопен 4х, 5х (на черных клавишах), 8х. — Грунд 1. — Кес-
слер 1, подобный Бертини 1. — Шимановская 11. — Поттер 3, 16.—
Хиллер 2х, 22х. — Майер 6. — Калькбреннер 4.—-Этюды по Паганини,
тетрадь II, 5.
Упражнения для четвертого и пятого пальцев. Клементи
19, 22, 47.— Крамер 3, 28. —Л. Бергер 7х. — Поттер 15х. —Бертини 12.
Левая рука, Клементи 87. — Крамер 9. — Шопен 12х. — Бергер 6х.—
Кесслер 16, 4, 6.— Хиллер 18. —А. Шмитт 6, тетрадь II, 16,
Для обеих рук. Бах, тетрадь I, Аллеманда; V, Преамбула. — Клементи
2, 7, 16, 28, 36.— Рис. 3. —Гуммель. 1, —Кесслер 9, 14.— Шимановская
4, 8 (особенно полезно. — Поттер 5, 20. — Хиллер 17х. —
Калькбреннер 1. —Герц 13. —Бертини 3. —Шмитт, тетрадь II, 1.
Быстрота и сила (тяжелый удар в быстром темпе, более
мелодичное [мелодически связное] исполнение отдельных нот и т. д.).
Правая рука Клементи 48.— Крамер 1.—Бертини 21.
Левая рука. Крамер 16.
Для обеих рук. Бах, тетрадь I, Куранта; II, Аллеманда; III,
Жига; V, Куранта. — Клементи 44.— Крамер 38. — Мошелес 14. — Гум-
. мель 12. — Кесслер 10. — Хиллер 13. Этюды по Паганини, тетрадь I, 6.
Примечание. По различным трудным типам противоположного
движения, а также по характеру в целом сходны между собой следующие: Кле-
304
меити 72.— Крамер 4х, — Мошелес 17.— Рис. I. — Грунд 6.— Этюды по
Паганини, тетрадь II, 6.
Связная игра (одноголосная и многоголосная). Сравни также
задерживание отдельных пальцев*. Бах, тетрадь II, Куранта; III.
Фантазия^ — Клементи 29, 33 канон (мастерская пьеса), 52, 71, 79, 86, 100
(последние четыре очень схожи).— Крамер 30.—Мошелес 9х, 20.— Бергер 10.—
Шимановская 7. — Хиллер 9. Два последних главным образом для левой
руки.—А. Шмитт, тетрадь II, 22.
Стаккато (сравни также быстро следующие друг за
другом удары одними и теми же пальцами и октавные
пассажи). Хиллер 1, 15.
Легато в одной и стаккато в другой руке. Крамер 31х.—
Кесслер 18, 22. —Хиллер 4.
Мелодия и сопровождение в одной и той же руке
(сравни также следующую рубрику). Клементи 91. —Крамер 5, 41.
—Мошелес, 5х. — Поттер 2х — Хиллер 3х. Последние три производят впечатление
совершенно одинаковых. — Шопен 3х, 6х. — Бергер 41Х, 11х. — Вайзе 6х. — Гум-
мель П. —Хиллер 5х, 10, 16.— Шимановская 4.— К. Майер 3, 5.— А. Шмитт
2. — Бертини 6, 9. — Этюды по Паганини, тетрадь II, 2.
Задерживание отдельных пальцев, в то время как другие
пальцы ударяют (сравни также т р е л и с дополнительными
мелизмами). Клементи 1, 3, 27, 35, 86, 99. Крамер 20, 25х. —Вайзе 2х.—• Поттер
11х,— Хиллер 21х. — Калькбреннер 13.— Шмитт, тетрадь II, 8.
Беззвучная подмена пальцев на одной и той же
клавише. Клементи 46, 96х.—Гуммель 24х (особенно красивый). —Хиллер 19;
Многозвучная аккордовая фактура, быстрая смена
аккордов. Мошелес 2х.— Шопен 11х.— Рис, 2.— Грунд 8.— Кесслер 3,
15. — Шимановская 5. — Поттер 22. — Хиллер 1, 11х. — А. Шмитт 1. —
Калькбреннер 14. — Этюды по Паганини, тетрадь II, ч, 6.
Растяжение.
Правая рука. Клементи 30х, 36.—'Крамер 21. — Шопен Iх. —
Бергер Iх.— Вайзе 7.— Хиллер 20.—Бертини П. —Шмитт, тетрадь III, 6.
Левая рука. Клементи 81. —Шопен 9х.— Кесслер 20.— Хиллер 7,—
Берини 19,— Шмитт, тетрадь II, 7.
В обеих руках. Крамер 40.—Мошелес И. — Шопен 11х. — Гуммель 5,.
17.— Поттер 17 (очень сходен с предыдущим), 14. — Шимановская 5.—
Хиллер 6, 23. — Калькбреннер 8.
Скачки (сравни также следующую рубрику). Клементи
76.—Мошелес 16 (особого рода). —Вайзе 7. —Гуммель 5.— Грунд 10х, с ним сходе»
Рис. 4. —Кесслер 3, 12, 19. — Шимановская 3, 9. —Поттер 6, 23 (особого
рода), 24. Хиллер 8.
Переплетение пальцев и перекладывание рук. Бах,
тетрадь I, Жигах; V, Менуэтх. — Клементи 53. —Крамер 33, 34', 37. —Рис. 2.—
Вайзе 5. —Гуммель 21. —Кесслер 5, 7, 13. —Поттер 9. —Хиллер 16х, 22.—
* Сюда следует причислить и различные фуги из Баха, Клементи, и
[Ш.]
305
Калькбреннер 9, 22.— Герц 7, 19. — Бертини 10. — Этюды по Паганини, тет^/
радь II, 6. <;
Быстрые удары одними и теми же пальцами (сравни
также стаккато и октавные пассажи). Клементи 1, 27, 55.—Мо-
шелес 8х. — Вайзе Iх. — Поттер 12х. — Кесслер 2, 15х.— К. Майер соч. /40,
2х. —• Хиллер 5х. — Калькбреннер 14.— Бертини 7, 18, 24, 25.— А. Шмитт,
тетрадь II, 25.
Октавы. Клементи 65, 21. — Гуммель 8. — Грунд 2 (очень схож-'с ним
по ритму Гуммель 18). —Кесслер 8. — Шимановская 12.— Поттер 18.—
Хиллер 1, 5, 24. — Бертини 4.
Смена пальцев и рук на одной и той же клавише.
Клементи 30, 34. — Мошелес 19, 22. — Шопен 7х (двойные ноты). Бергер 5х.—
Гуммель 20.— Грунд 5.— К. Майер соч. 40, 1. —Кесслер 2.— Герц 2.—
Бертини 20. — Этюды по Паганини, тетрадь I, 5.
Форшлаги. Клементи 77, 97. — Гуммель 2х.
Группетто. Клементи 11, 37. — Кесслер 24. — Калькбреннер 10. —
Шимановская 11. — Поттер 4.
Мордент. Бах, тетрадь I, Прелюдия. — Клементи 66. — Гуммель 13.—
Грунд 5. — Шимановская 2. — Мошелес 7х, 10х. — Поттер 8. — Хиллер 23. —
Этюды по Паганини, тетрадь II, 3.
Длинная трель.
Правая рука, Клементи 50.— Кесслер 22. — Шмитт, тетрадь II, 3.
Левая рука. Бергер 3х. — Поттер 9. — Бертинн 13.
Трель в соединении с другими голосами в той же
руке. Клементи 25. — Крамер П. — Поттер 13. — Калькбреннер 14,23.—
А. Шмитт, тетрадь II, 10.
Трель в сексту. Цепочки трелей. Клементи 68, 88.
Двойные терции и сексты. Клементи 88. — Крамер 19> 35. —
Мошелес 13х. — Гуммель 3. — Кесслер 23 (очень похож на предыдущий).—Грунд
12. — Поттер 10. — Калькбреннер 20 и 21. — Бертини 4. — Этюды по Паганини,
тетрадь I. — А. Шмитт, тетрадь II, 11.
Трех- н четырехголосные упражнения в одной руке.
Клементи 23. — Поттер 15х. — Хиллер 19.
Хроматическая гамма с сопровождающими звуками.
Мошелес 3. — Шопен 2.
Трудности в акцентировании, тактовом делении и
ритм е. Бах, тетрадь VI, Жига. — Клементи 83, 94, 95 (упражнение на квин-
толи; см. также Хиллер 23х). —Мошелес 8х, 18х.— Шопен 10х, — Рис 5.—
Хиллер 2, 10, 16.— Калькбреннер 17. ....
Примечание. Сходные фигуры и ритмы проводятся а) Гуммель 10. —
Грунд 4.— Поттер 7.— Бертини 14. —б) Гуммель 19. —-Вайзе 7.— Поттер
24.— в) Крамер 37. Грунд П. —г) Вайзе Iх.— Хиллер 14. — Калькбреннер 5.
Адажио с мелизмами. Мошелес 4х.—Гуммель 16. 22. — Грунд 9.—
Майер 4.
Упражнения для одной левой руки. Бергер 9.
—Специальная тетрадь этюдов Гройлиха (соч. 19).
306
42. ИЗ КНИЖЕК ДАВИДСБЮНДЛЕРОВ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
И. К. Кесслер. Три полонеза для фортепиано.
Соч. 25. — 3. Тальберг. 12 вальсов. Соч. 4'.—
Клара В и к. Романтические вальсы. Соч. 4—
Л. фон М а й е р. Салон. 6 вальсов. Соч. 4 —
Ф. Шуберт. Первые вальсы. Соч. 9; Немецкие
танцы. Соч. 33
«А теперь, Цплия, играй! Я хочу целиком погрузиться в
звуки и лишь изредка высовывать голову, чтобы вы не
подумали, что я утонул в тоске, ибо танцевальная музыка
располагает к печали и расслабляет, тогда как, наоборот, музыка
церковная приводит в радостное и деятельное настроение, по
крайней мере меня». Так говорил Флорестан, в то время как
Цилия уже витала в ^первом кесслеровском полонезе.
«А право, как это было бы прекрасно, — продолжал он,
наполовину слушая, наполовину говоря, — если бы девушки из Да-
видсбунда сделали бы этот вечер незабываемым и сплелись бы
в хоровод граций. Жан Поль уже отмечал, что девушки
должны были бы танцевать только друг с другом (правда, тогда
меньше было бы свадеб), мужчины же (добавляю
я)—вообще никогда». «Но если бы это все же случилось (вставил Эв-
себий), то в трио пришлось бы сказать одной из девушек Да-
видсбунда: «Ты так проста и так добра». А во время второй
части ей надо было бы уронить букет цветов; тогда можно
было бы налету подхватить его и получить право заглянуть в
светящиеся благодарностью глаза». Но все это не столько
было сказано, сколько можно было прочесть в глазах Эвсебия
и услышать в музыке. Флорестан лишь поднимал иногда
голову, в частности во время третьего полонеза, блестящего,
полного звуков валторн и скрипок.
«А теперь что-нибудь более быстрое. Сыграй-ка ты
Тальберг а, Эвсебий, пальцы Цилии слишком нежны для
этого»,— сказал Флорестан, но вскоре остановил игравшего и
попросил не повторять отдельных частей: «Вальсы чересчур
водянисты, в частности девятый, который весь сводится к
одной линии, даже к одному такту, и вечно тоника и доминанта,
доминанта и тоника. Впрочем, для того, кто там слушает
внизу, это достаточно хорошо». Но стоявший внизу (какой-то
студент) по окончании совершенно серьезно закричал «da capo»,
и всех долго смешила ярость Флорестана и то, как он ему
сверху приказал убираться к черту и не мешать подобными
одобрениями, а то он заставит его замолчать, играя на
протяжении нескольких часов трель двойными терциями и т. д.
Итак, сочинение дамы (начал бы рецензент свой отзыв о
307
-«Романтических вальсах»)? Так, так, значит, квинты и мелодию
нам долго искать не придется.
Цилия взяла медленно четыре тихих лунных аккорда. Все
насторожились. Но на рояле лежала ветка розы (у Флореста-
на вместо подсвечников всегда вазы с цветами), которая от
колебания постепенно соскользнула на клавиши. И вот, когда
Цилия рванулась к басовой ноте, она слишком резко задела
розу и остановилась; из пальца шла кровь. Флорестан спросил,
в чем дело? — «Ничего, — сказала Цилия, — то же, что эти
вальсы, не такая уж сильная боль, это только капли крови —
от розы». Пусть, однако, сказавшая это никогда не узнает
другой боли!
После небольшого перерыва Флорестан очертя голову
бросился в майеровский «Салон», полный графинь и
посланниц. Какое блаженство: богатство и красота в высшем
обществе, блестящие наряды и сверх всего этого музыка; все
говорят и никто друг друга |не слышит, ибо звуки все заливают1
своими волнами1. «Здесь, — выпалил Флорестан,—как-то
особенно хочется иметь инструмент с лишней октавой справа и
слева, чтобы можно было по-настоящему размахнуться и
упиваться звуками». Трудно себе вообразить, как Флорестан
играет такие вещи, как он бушует и, бушуя, увлекает за собой.
Да и давидсбюндлеры совсем распалились и возбужденно
кричали (музыкальное возбуждение всегда ненасытно) — «еще и
еще», пока Серпентин не предложил выбрать между вальсами
.Шуберта и Болеро Шопена. «Если отсюда, — воскликнул
Флорестан и встал в угол далеко от рояля, — я, бросившись с
разбегу на клавиатуру, попаду на первый аккорд финала d-moU'-
ной симфонии2, то пусть это будет Шуберт». Он, конечно,
попал. Цилия играла вальсы наизусть.
Первые вальсы Франца Шуберта, маленькие гении,
парящие над землей не выше, чем, скажем, на высоте цветка! По
правде говоря, я не люблю Sehnsuchtswalzer'a3, в звуках
которого купались уже сотни девичьих сердец, не люблю и
последних трех, которые в целом я как эстетическую ошибку не
могу простить их создателю. Но как хорошо вьются вокруг тех
все остальные, то больше, то меньше оплетая их душистыми
нитями; все они проникнуты такой мечтательной бездумностью,
что сам становишься бездумным мечтателем и, играя
последний, воображаешь, будто все еще играешь первый.
Зато в «Немецких танцах» пляшет целый карнавал. «И
отлично было бы, — прокричал Флорестан в ухо Фрицу
Фридриху*,— если бы ты Достал свой «Laterna magica»** и показал
на стене этот маскарад». Тот в восторге умчался и тотчас же
появился снова.
Глухому художнику. [Ш.]
«Волшебный фонарь» (лаг.).
308
Следующая сцена была одной из самых очаровательных.
Комната слабо освещена. У рояля Цилия с изранившей ее
розой в волосах. Эвсебий в черном бархатном пиджаке
облокотился на спинку стула. Флорестан в таком же одеянии
ораторствует, стоя на столе. Серпентин, обхвативший ногами шею
Вальта, время от времени проезжает на нем верхом.
Живописец а 1а Гамлет с выпученными глазами вытаскивает
китайские тени, и некоторые из них на своих паучьих ножках уже
успели перебежать со стены на потолок. Цилия начинает
играть, Флорестан же говорит примерно следующее (хотя все
было гораздо более отшлифовано):
№ 1. A-dur. Толпа масок. Литавры. Трубы. Чад от свечей.
Человек в парике: «Все как будто получается на славу». —
№ 2. Комическая фигура, почесывая себя за ухом, все время
зовет «пет, пет». Исчезает. — № 3. Арлекин подбоченился.
Кувырком вон через дверь.—№ 4. Танцуют две чопорные
светские маски, мало разговаривают друг с другом. — № 5.
Стройный рыцарь, преследующий маску: «Наконец-то я настиг тебя,
прекрасная артистка». — «Пустите» — убегает. — № 6. Бравый
гусар с султаном и ташкой. — № 7. Жнец и жница,
вальсирующие в упоении. Он тихо: «Это ты?» Они узнают друг друга.—
№ 8. Сельский арендатор, готовый пуститься в пляс. — № 9.
Двери широко распахиваются. Пышное шествие рыцарей и
благородных дам. — № 10. Испанец — урсулинке4: «Говорите
же по крайней мере, раз вы не смеете любить». Она: «Лучше
бы я не смела говорить, чтобы меня поняли!..»
Но в самый разгар вальса Флорестан соскочил со стола и
выбежал в дверь. Это никого не удивило. Вскоре и Цилия
перестала играть, а остальные разбрелись кто куда.
Дело в том, что Флорестан имеет обыкновение прерывать
миг наивысшего наслаждения, быть может, чтобы сохранить
его в памяти во всей свежести и полноте. На этот раз он и
достиг того, чего хотел, — когда друзья рассказывают друг другу
о своих самых веселых вечерах, они всякий раз вспоминают
28 декабря 18.. года.
ШЕСТНАДЦАТЬ НОВЫХ ЭТЮДОВ
Титульный лист потерялся, и я могу рецензировать без
всяких повязок Амура и без всяких шор: ведь имена связывают,
а сведения о личности тем более. Поэтому, если этюды эти
сочинил Мошелес — меня не испугает, что придется слишком
сильно их порицать за слабость характера, если Шопен — его
мечтательный взор меня ни за что не соблазнит, если
Мендельсон — я за версту почувствую его в пальцах и вообще, если
Тальберг — пусть он узнает правду, а если это ты, Флорестан,
ты, который в конце концов когда-нибудь нас озадачишь
309
«Скрипичными этюдами для фортепиано», вроде тех, какие.'ты
уже сочинял в оркестровом духе5, если это ты — мы от наших
Голиафов ничего скрывать не станем. Бросив испытующий
взгляд en gros !: на тетрадь в целом (я придаю большое
значение облику нотного письма для глаза), должен признать, что
дело, вероятно, не только в четкости отдельно стоящих нотных
головок, словно высеченных из камня, а в том, что каждая из
них что-то значит и кажется, будто свободно переплетающиеся
нити голосов всегда срастаются в один ясно обозначенный
пучок. Затем я уже вижу, как на меня смотрит нечто
необыкновенно солиднее, ко при этом опрятное и нарядное (именно так
старые люди все еще охотно одеваются по воскресеньям), но
главное — нечто давно знакомое, когда-то в жизни уже
встречавшееся. Никаких бурных романтических потоков ухо мое не
различает, зато до него доносится плеск изящных фонтанов
среди подстриженных тисовых аллей. Однако все это не более,
чем оптические догадки и будет гораздо вернее, если я сразу
же раскрою на стр. 30 — «Moderate en carillon»:
Слово «carillon» в любом случае означает колокольный
педезвон, и я сравниваю этот этюд со звучащей китайской
башней, когда ветер проносится между этими дурацкими
колокольчиками. Я нахожу этюд очень милым и считаю его достойным
хорошего музыканта: более того, в нем есть нечто крамеров-
ское. Дальше — стр. 32:
3! Andantfc^cantabile.
etc.
В общих чертах (франц.).
310
Мелодия, как видно, не твой конек, неведомый художник,
но насколько же ты на стр. 34 умеешь быть и задушевным!
Ведь не иначе как зарница из прошлого вспыхивает на
старческом лице, на- мгновение оно светлет и снова в изнеможении
опускается на свое изголовье. Это не Шопен: за это я ручаюсь.
Назад — стр. 20:
Allegro moderato
l\ этому мог приложить руку и Мошелес, если бы музыка
так долго не оставалась в первоначальной тональности, но как
удачно она в новом движении достигает цели:
Далее на стр. 23 я нахожу:
Con affefto e soare
Людвиг Бергер уже долгие годы, как отделывает сборник:
здесь я сильно начинаю подозревать, что это он. Он так
уверенно пробивает себе путь через поток гармонии, не страшась ни
мелей, ни пучин; более того, в E-dur он выходит на сушу и
греется под солнцем на зеленой травке, а там, глядишь, и
снова погружается в волны.
311
Назад — стр. 18:
Andante leg*g»iero
35
Композитор сбивает меня с толку: какой-то налет далекого
Юга, более того — нечто вроде квартета из беллиниевской
оперы. Я готов был бы заподозрить, что это какое-нибудь
посмертное сочинение Клементи, однако я здесь чувствую новейшие
влияния. Зато стр. 2 кажется мне старомодной, а стр. 28 и
42 — сухими и скучными.
Однако что здесь вспыхнуло на стр. 26 и обдало своим
благоуханием:
36 Scherzando
Переливчатая игра звуков из шести и более голосов, веселая
сутолока, болтовня любимых уст — и, поистине, я здесь
опускаю свой меч, ибо на такое способен только мастер.
Вдобавок меня смущает следующий ход:
loco
312
— ив довершение всего, к моему удивлению, над одним из
этюдов значится № 97. — Не сочинил ли их, в конце концов,
старик И. Б.?
Конечно, Эвсебий, так оно и есть, и я уже давно пытаюсь
перевести заглавие, гласящее: 16 nouvelles Etudes pour le
Pianoforte composees et dediees a Mr. A. A. Klengel, organiste a la
cour de sa Majeste le Roi de Saxe, par son ami J. B. Cramer,
membre de Tacademie royale de Musique Stockholm. Oeuv. 81
{№ 85—100). Propriete des editeurs. Enregistre dans l'archive
de 1'union. Vienne, chez T. Haslinger, editeur de musique etc. *
Роб. Шуман
43. К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ГОТШАЛЬКА ВЕДЕЛЯ
ОБ ОНЕМЕЧИВАНИИ
Наш очень дорогой, очень рассудительный Ведель, Должно
быть, давно заметил, что этот предмет нам представляется
достойным. Так, например, журнал дает названия музыкальных
произведений насколько это возможно по-немецки. Глаз
привыкает к такой практике и в конце концов люди спросят себя,
почему такое, например, обозначение, как «mit inniger Emp-
findung» **, должно выглядеть хуже, чем «con grand espres-
sione».
Сомневаюсь, однако, найдет ли сочувствие введение таких
странных слов, как «Bardiet» *** вместо «симфония», и я не
поддерживаю этого *. Наше слово «Lied» у нас никто не отнимет,
зато слова «Sonata», «Rondeau» давайте оставим там, где они
возникли; да и совершенно невозможно онемечить эти
понятия такими едва ли не надуманными словами, как «Klang-
stiick» или «Tanzstuck» ****. Итак, не слишком многое, но
зато такие слова, как «Composees et dediees****** давайте
выбросим!
Для обозначения характера исполнения я также дорожу
знаками, которые нотному письму ближе, чем более ограни-
* 16 новых этюдов для фортепиано, посвященные г-ну А. А. Кленгелю,
придворному органисту Его Величества короля Саксонии и сочиненные его
другом, И. Б. Крамером, членом королевской академии музыки в
Стокгольме. Соч. 81 (№ 85—100). Собственность издателей. Зарегистрировано в
архиве союза. Вена, музыкальное издательство Т. Хаслингера и т. д.» (франц.).
** «С большим чувством».
*"** В прямом значении — песнь бардов.
ч"с~" Буквально «звуковая пьеса» и «танцевальная пьеса».
***** Сочинено и посвящено (франц.).
313
ченное в своем значении слово. Как быстро глаз воспринимает
знак—===== в то время, как итальянское слово ему
приходится разбирать по буквам; в переплетении дуг, линий,
крючков заключено особое очарование, и манера, в которой
композиторы дают эти обозначения, едва ли не яснее говорит об их
эстетическом формировании, чем сами звуки2.
* 44. ЗАМЕТКИ
Скажи мне, где ты живешь, и я тебе
скажу, как ты сочиняешь.
Фло реотанов ское
Под этим заглавием мы намерены время от времени
помещать заметки о трудах и днях как ныне здравствующих, так и
умерших; мы будем печатать заметки вскоре после того, как
читатель на этих страницах познакомится с каким-либо нз их
произведений. Однако для этой рубрики мы вынуждены в еще
большей мере, чем обычно, заранее испросить разрешения на
то, чтобы писать в легкой рапсодической манере. Ведь так
нелегко управиться со всем тем, что относится к духовной
жизни человека, каково же будет, если еще взвалить на себя
груз его плоти. Однако мы охотно за это беремся в надежде
развлечь читателя. Еще раз просим не ждать от нас ученых
разработок и фуг, но только заметок. Быть может, эти
нотабене порой превратятся в звучащие ноты.
И. Б. Крамеру, быть может, уже лет шестьдесят, и едва
ли есть где-нибудь равные ему знаменитости — ибо наверное
нет человека, который бы не играл его всемирно исторического
этюда б С, а научившись его играть, мы все мним о себе бог
весть что. — Его жизнь ничем не примечательна и, надеюсь,
явится в будущем столь же превосходным предметом
штудирования, какие он в таком множестве подарил нам в искусстве Ч
Не могу, однако, утаить один вывод, который я сделал,
наблюдая даже самые хорошие головы: если слишком долго
разучивать его этюды, становишься боязливым и робким. Другим его
композициям недостает того, что для этюдов не столь уж
существенно, а именно мелодии и полета фантазии. — Известно, что
Клементи был его учителем и другом. В юные годы он посе-
314
лился в Лондоне и, как я слышал, совершенно забыл своп род-
нон язык, однако не в музыке. Ко вот уже год как он на свою
ренту живет в Мюнхене; он вполне мог бы решиться на
концертную поездку по Германии, и если бы в программе был
только один названный Еыше этюд, зал все равно был бы
полон.— О манере его игры на фортепиано с уверенностью
можно сделать заключение на основе его пьес. Однако он, говорят,
владеет и секретом оригинальной виртуозности, т. е. обладает
неким даром, в котором никто не может с ним сравниться и
которому невозможно найти название; иногда этот дар
проявляется б тончайших оттенках, оборотах, но услышать их можно
и сквозь закрытые двери. Крамер, как и его друг Мошелес,
оказывающий ему глубокое почтение, пользуется в Англии
всеобщим уважением, и если в каком-нибудь из английских
журналов речь заходит о музыке, то наверняка приводятся
слова одного из них.
Нотный магазин фирмы И. Б Крамера пользуется хорошей
репутацией, а то, что престарелые виртуозы посвящают себя
нот-ном торговле, б последнее Еремя не такая уж редкость.
Пожалуй, излишке было бы писать Илиады о композиторах,
являющихся таковыми лишь наполовину или вовсе ими не
являющимися. Поэтом^ автор этих заметок выбирает из
сочинителей рондо лишь наиболее видных, а из последних в свою
очередь тех, которых* он знает.
О Ю. Бенедикте в «Универсальном словаре» Шиллинга
есть подробные сведения. Родился в сочельник 1804 года в
Штутгарте; ученик Карла Марии Вебера. Уже в 19 лет —
капельмейстер в Вене. Длительное пребывание в Италии.
Сочиняет оперу «Португальцы в Гоа». В статье из словаря, между
прочим, говорится следующее: «Его мелодии такие богатые и
плавные, что могут проистекать только из итальянского
источника; его модуляции легки и зачастую приятно неожиданны» и
т. л Хотя эта статья верна в гласном, в этом месте можно
было бы со спокойной совестью поставить отрицание «не»
перед всеми эпитетами. Но это уже дело критики, а здесь сказано
лишь потому, что слишком резко противоречит суждению
нашего журнала. — В Неаполе Б. немало времени проводил в
обществе великого скрипача Берио и вместе с ним работал над
оперой для Малибран, но об этом сочинении пока мало что
известно. Еще несколько недель тому назад з немецких газетах
сообщалось об ошеломляющем впечатлении, которое он
произвел в Париже и Лондоне, выступая как пианист, и о том, что,
по всеобщему мнению, он в этом качестве достиг небывалых
высот.
315
Г-н Энкхаузен, придворный органист в Ганновере,
родился в один день с Гете, но в [17]99 году. «Универсальный
словарь» дает о нем весьма хвалебную и подробную статью.
Его почитают как хорошего образованного музыканта и
наставника.
Г-н Карл X а с л и н г е р из Вены — единственный сын
всемирно известного г-на Тобиаса, и он унаследовал веселый и
счастливый композиторский талант. Приходится сожалеть, что
этот богач от музыки лишь ухаживает за музой, т. е. что он,
как будущий владелец крупного дела, останется дилетантом —
и по необходимости и по доброй воле; а у него, по всей
видимости, есть истинные задатки художника. Он, видимо, очень
хорошо играет на фортепиано.
О господине К. В. Гройлихе автор заметок ничего не
может сообщить кроме того, что он большей частью жил в
Берлине, а когда-то долгое время был близок к кругу Ложье ч
По своему замыслу достойны внимания его этюды для одной
левой руки. Хотя это и лучше, чем учиться танцевать на одной-
ноге, но всегда есть что-то комическое, можно сказать
глуповатое в том, что правой руке остается лишь роль праздного
наблюдателя, словно бы говорящего: «Довольно одного моего
прикосновения — и тебе не придется так мучиться». Но в виде
исключения этот замысел можно принять. Мне при этом
вспоминается мысль одного знаменитого композитора, который
говорил, что «ему всегда казались забавными усилия скрипачей-
виртуозов, бьющихся над двух- и трехголосием, меж тем как
оркестранты со скрипками в руках спокойно наблюдают за
ними». Но разница здесь (и не только разница в звучании)
столь же велика, как между одним исполнителем, играющим
двухголосие, и двумя, играющими один голос.
Г-н О. Герке — музикдиректор в Падерборне, учился у
Шпора игре на скрипке, но сочиняет также и для фортепиано.
Если я не ошибаюсь, он еще в детстве обратил на себя
внимание и рано начал ездить повсюду с концертами. Ему, вероятно,
нет еще и тридцати лет. Это один из многих хороших
скрипачей, не обладающих, однако, особыми, неповторимыми
совершенствами. Недавно вышла тетрадь его скрипичных этюдов.
Г-н Жак [Якоб] Шмитт сочиняет, можно сказать, в рас-
счете на миллионы, и пишется ему легко. Приведенное
суждение высказано автором настоящих заметок от души3. Его
жизнь, должно быть, небезынтересна, и будущие историографы,
вероятно, сумеют это обнаружить. Как учитель музыки он
сейчас в Гамбурге слывет первым, его домогаются и ценят
чрезвычайно высоко.
Г-на А. Шмитт а автор настоящих заметок слышал з
1829 году в концерте Паганини во Франкфурте4; едва ли
можно представить себе двух более противоположных музыкантов.
Играет он, правда, мастерски, но повсюду виден усердный ра-
316
зыгрыватель этюдов, в то время как под рукой Паганини даже
самые сухие ученические формулы возгораются пламенем,
одушевлявшим пророчества Пифии. Ш. живет в благоприятных
условиях, большей частью на Рейне. В минувшем году он
долго ездил по Голландии и повсюду встречал заслуженный
прием. Оперу «Валерия» автор настоящих заметок еще не
слышал.
Карл Майер живет в Петербурге; он является там
первейшей музыкальной знаменитостью и одним из самых
известных учителей музыки. Говорят, что он очаровательно играет
сочинения Душека и Фильда. Главным образом ему
приписывают открытие или же по меньшей мере частое применение
вибрации и превосходное владение ею. Прием этот достигается
быстрой сменой пальцев на одной клавише. Его токката E-dur,
которая служит для лучшего овладения этим прекрасным,
новым и своеобразным эффектом фортепианной игры, кроме того,
есть одно из приятнейших созданий художника, наделенного
душой и умом.
45. ОБЗОР СОЧИНЕНИЙ
РОНДО ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
ПЕРВАЯ СЕРИЯ
3. А. Циммерма н. Рондо в As. Соч. 5. —
Валери Моми. Рондо со вступлением в F.
Соч. 4. — Кам. Г р'и л ьп а р цер. Рондо в А.—
Ю. Бенедикт. Рондо в As. Соч. 19.— Г. Энк-
х а у з е н. Рондо в G. Соч. 38. — Ф. К. Хватал.
Рондо в a-moll. Соч. 18. — К. X а с л и н г е р.
Рондо в G. Соч, 8.
О первом рондо доморощенная критика высказалась бы
так: «Весьма нелегкое рондо написано в As-dur на тему
широко популярного, многопишущего Обера. И хотя композитору
(предположительно еще молодому) нельзя отказать в знании
современных блестящих пассажей, но... и т. д. — Пьеска
завоюет себе друзей среди определенного круга пианистов и т. д. —
Опечатки незначительны». Признаюсь, мне часто случалось
писать отрицательные рецензии, но я еще никогда не имел дело
с произведениями более бездарно беспомощными, безнадежно
ничтожными, неописуемо никудышными. По сравнению с этим
меркнет все, что когда-либо отмечалось в кратких отзывах,
даже остроты с намеками на пилу, плотничью работу и т. п. *.
Стоишь, зажатый между двумя досками на краю света и не
* Игра слов: Zimmermann — фамилия композитора — означает «плотник»»
Говоря Zimmermannsarbeit, имеют в виду топорную работу.
317
можешь двинуться ни вперед, ни назад. Остается лишь
выпрыгнуть в окно!
Валери Моми, в недобрый час ты приближаешься ко
мне! Что я о тебе думаю? Никому не скажу, только себе на ухо:
«Although you have no heart, you possess a finger of the
immortal Henri (это немецкая игра слов) and the hand yields
not in whiteness to the keys it touches. I could indeed wish
that the diamonds, which adorn it, existed in the mind (у
англичан и французов нет слова, передающего смысл нашего «Qe-
mut»),— yet I would take the hand, if you would give it me,
with this single promise on your part, that you would never
compose anything» :\
И наоборот — желательно было бы, чтобы господин Ка-
милло Грильпарцер (родственник автора трагедий1)
больше сочинял, и не потому, что он незаменим (что на свете
вообще может быть незаменимым, даже о симфонии d-moll
этого не скажешь, даже об Allgemeine musikalische Zeitung),
а потому, что он нам представляется истинным талантом,
которому, правда, еще необходимо отшлифоваться. Рондо
является странной смесью из поэзии и филистерства, в сущности
это не рондо, а скорее соната. Не имея — несмотря на
вступление— начала, не имея центрального момента и конца —
несмотря на неизменность тональности, — оно содержит очень
небольшой круг мыслей и постоянно ускользает. Такое
впечатление оно произвело на меня уже давно и теперь снова.
Непременно нужно будет проследить за последующими сочинениями
автора.
Рондо господина Ю. Бенедикта называется «Les Char-
mes <Je Portici»** и очень мне не нравится в своем стремлении
сделать немецкие мысли удобоваримыми для итальянских ушей,
ибо оно явно для этого написано. К тому же скудное
воображение, которым обладает г-н Б., и вонсе не может с этим
справиться, а прирожденная беспомощность еще ухудшает Дело.
О душевности, музыке тут и речи нет; пьеса разворачивается
без какой-либо логической связи, вымученио тянется от такта
к такту просто как ложатся пальцы. А ведь именно рондо
требует той легкости в творчестве, которая заставляет форму
опережать руку и которую реже всего можно встретить. У нас
гораздо больше хороших фуг, чем хороших рондо.
* «Хотя у тебя и нет сердца, ты все же обладаешь пальцем
бессмертного Генри, н твоя рука по белизне не уступает клавишам, на которых она
играет. Были бы только украшающие ее драгоценные камни и в твоей душе!
Но если бы у тебя явилось желание подать руку, я взял бы ее при условии,
что ты мне обещаешь никогда больше ничего не сочинять» (англ.). Генри — имя
хомпозитора Герца; по-немецки Herz, по-английски heart — сердце. Gemul
нем.) имеет много оттенков значения, здесь — душа, совокупность душевных
состояний.
* «Очарования Портичи (франц.).
318
Более хорошими задатками, бесспорно, обладают два
Других композитора, один из них — г-н Энкхаузен, с чьим
рондо и пианисты помоложе справятся без особого труда и с
пользой; своеобразие совершенно отсутствует, а легкость здесь та,
что свойственна прозе.
В «Hardiesse» * же г-на Хватала на нас несется казак с
пикой, но лишь с тем, чтобы напугать нас; очень хорошая
четкая гравюра. Из подражания музыке различных
национальностей мне до сих пор меньше всего нравилось подражание
казачьей музыке; воображение все время должно таскать за
собой избитый бородатый образ. Но ведь и в Сицилии есть люди
и сицилианки.
Г-н Хаслингер об этом знает, и его «Весенний привет»
родился на юге. У него светлая, свободно изливающаяся
душа, которая нам дорога еще со времени его музыкального]
«Путешествия по Рейну», о чем подробнее в одном из
ближайших обзоров вариаций. В рондо много простора и больше
травы, чем цветов, но они сливаются в приятную равнину, а это в
наше хаотическое время уже много значит. Приходится
сожалеть, что такой музыкальный человек лишь обхаживает Музу.
ВТОРАЯ СЕРИЯ
Ф. Л а х н е р. Рондино (в Е).—К. В. Г р о й л и х.
Третье больш[ое] блсст[ящее] рондо (в Е).
Соч. 22. — О. Г е р к е. Фантазия и блест[ящее]
рондо (в F). Соч. 21. — Я. Шмитт. Блестящее
рондо (в Es). Соч. 250. — Ал. Шмитт. Рондо
(в Es). Соч. 78. — К. М а й е р. Три больших
блестящих рондо (в Des, e-moll, h-moll)
Триумфатора зовут Франц2, стало быть, я намерен хвалить
не его, а Винченцо; последний, как я слышал, один из его
братьев. Рондино — маленький обнаженный бог любви, с
ямочками на щеках, т. е. лукавый и постоянно готовый ускользнуть;
в середине он даже тащит на себе кусок от бетховенской
львиной шкуры (композитор нас наверняка понимает), но очень
скоро сбрасывает ее, так как она для него становится слишком
тяжелой. Короче говоря, рондино рисует приятные картины \г
оставляет цельное впечатление, более того — в виде лаврового
листа им можно было бы, не стыдясь, даже увенчать чело
такого победителя, как Франц Лахнер; ибо, говоря откровенно, если
последний иногда, казалось, стремился к чему-то, что
превосходило его возможности или лежало за их пределами, то этот
не предпринимает ничего, не будучи уверенным в удачном
воплощении задуманного. Однако на основании одного
единственного удачного боя не следует делать и слишком поспешного
вывода, будто перед нами законченный герой. Если же он
создаст подлинную сонатину, как написал подлинное рондино, л
* «Отвага» (франц.).
319
пробьется через сонату к чему-то высочайшему, то мы не
станем умалчивать об этом.
Сколь бы притягательным ни было сопоставление
нескольких сочинений одного и того же жанра, оно неизбежно острее
выявит контрасты между различными характерами. Но рондо
г-на Гр ой л их а, даже без сравнения с вышеупомянутым рон-
дино, очень чопорное; говоря прямо: чтобы быть грациозным,
у него отсутствует все, пожалуй, даже творческая мощь — она
(и не только по Шиллеру) служит почвой, на которой
грациозность расцветает подобно цветку. Его рондо спотыкается, как
неловкий танцор, который в Kgyry* подает правую руку вместо
левой и этим во все звенья цепи вносит смущение и путаницу.
Зачем здесь еще и вступление, будто это «Альчидор» или «Нур-
махаль»?3 Такие эстетические погрешности еще в меньшей
степени заслуживают прощения, чем ученические квинты. Если я
хочу кому-то сказать нечто приятное, то ведь я не
подготавливаю его к этому, изображая из себя караиба. Но даже и это
можно было бы простить ради дальнейшего более
значительного впечатления, если бы только приятное вовсе не
отсутствовало. Что же получаешь на целых пятнадцати страницах,
кроме мучительно соединенных друг с другом восходящих и
нисходящих пассажей большей частью в манере Гуммеля;
решающего момента, кульминации пьеса нигде не достигает.
Кое-что позволяет предположить, что оно в сущности было
написано с инструментальным сопровождением, и тогда многое
можно было бы истолковать в пользу этого сочинения. Если
это не так, то еще хуже, если же так, то на это все же нужно
было указать в заглавии. Композитор несомненно обладает
сноровкой в гармонизации, т. е. опытом и знанием гармонии;
ему следовало бы употребить их прежде всего для
совершенствования и облагораживания мелодии, ибо это у него
полностью отсутствует. Данное суждение основано не на одном
только рецензируемом сочинении.
Как бывают пассивные гении, так же встречаются и
пассивные таланты; те живут, например, в сфере Бетховена, эти в
сфере Гуммеля. Г-н О. Герке, как будто, многое слушал,
изучал и воспринимал; в его сочинениях есть форма,
соразмерность, суть, но нигде нет проявления подлинной силы; его голос
всегда как бы хрипловат, приглушен; он еще не может
свободно и непринужденно отдаться вдохновению, а часто вынужден
искать подходящее выражение, входить в нужное состояние
духа. Если сравнить это рондо с десятью другими, то оно
несомненно достойно похвалы, но оно не захватывает, не берет
власть над ними; оно требует нашей оценки, но вызвать
участие, сопереживание оно не может. А между тем это легко
поддается улучшению, и часто пересадка на другую почву делает
* Игра слов: в оригинале Ronde, что означает и круг и рондо.
320
чудеса. Было бы поистине прискорбно, если бы устремления,
несомненно более благородные чем те, что проявляют сотни
других, и к тому же при владении столь многими техническими
средствами, когда-либо не достигли своей цели. Что до нас, то
мы не заставим ждать отчета о будущих успехах.
Мы подошли к очень талантливому человеку, г-ну Якобу
Шмитту, который, возможно, продвинулся бы гораздо
дальше, если бы не достиг уже 250-го своего сочинения. Одним
словом, он пишет слишком много и слишком легко относится к
своему делу. Иной раз трудно бывает не сердиться на ту
взбалмошность, с какой природа распределяет свои дары. Одному
она дарует характер, но и упрямство; другому —
изобретательность, но и легкомыслие; этому — тщеславие, но без
выносливости; тому — поэтические мысли, но без умения с ними
обращаться; многим — кое-что, большинству — очень мало. Г-н Якоб
Шмитт обладает частично всем этим; его педагогические
сочинения относятся к лучшим образцам этого жанра, многие из
его вольных творений полны музыкальной жизни; но его
устремленность вращается по кругу и не может найти средоточия;
первые его произведения не хуже последних; куда ни
посмотришь — всюду талант, но не успеешь оглянуться, как он уже
снова скрылся из виду. Ведь у него, в лице его брата г-на Ало-
иса Шмитта всегда под рукой пример того, как возможно
поднять самого себя до полного овладения виртуозностью в
пределах более узкого поля деятельности! Разве он не
обладает такими же способностями, быть может, даже более
разносторонними? Но насколько тот его перевешивает по культуре,
вкусу (не в обычном, модном смысле), артистизму. Этого
достаточно, чтобы судить о рондо братьев Ш. Рондо Я. Шмитта
пестрит мыслями и, не считая неподходящего вступления в
es-moll (тональность, в которой на этом свете сочиняют реже
всего), обладает чертами настоящего рондо. Напротив, как
мудро хозяйствует А. Шмитт, удерживая твердой рукой лишь
две или три мысли, затягивая их в узел и столь же успешно их
распутывая. Если бы мы стали то здесь то там задерживаться
на мелочах и придираться к ним, то мы никогда бы не кончили.
Все дело в том, как выглядит художественное произведение в
целом; в отдельности же — что может быть безупречным и что
непоправимым!
В заключение этой второй серии я пользуюсь случаем
напомнить о трех более ранних рондо Карла Майера. Их
можно рассматривать как своего рода итог его исканий. Форма
их принадлежит почти что всецело ему (если только совсем
про себя не подумать о Фильде), и он умно делает, что сохра
няет ее во всех трех, ибо новонайденные формы надо повторять
не один раз, если они должны завоевать себе место в мире.
Художественная ценность их растет пропорционально их числу,
степень же их фантастичности соответственно убывает; правда,
11 Р. Шуман, т. I 321
это лишь с одной точки зрения; во всяком случае одно
компенсирует другое. Своеобразие заключается в том, что
медленная кантилена вплетается в более подвижную стихию рондо,
благодаря чему самый жанр приобретает два аспекта и,
удаляясь от своего первоистока, являет собою сжатую сонатную
форму. К этой удачной манере присоединяются все
преимущества хорошей композиции, очаровательное течение гармонии,
изысканные украшения, прозрачная структура, задушевная
напевность и пианистичность, которые сделали произведения
этого художника вхожими всюду и которые будут способствовать
еще более широкому их распространению, если автор будет
продолжать в том же духе.
46. ПАМЯТНИК БЕТХОВЕНУ
ЧЕТЫРЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА ЭТУ ТЕМУ
1
Будущий памятный мавзолей живо встает в моем
воображении: достаточно высокое сооружение из тесаного камня, на нем
лира с годами рождения и смерти, над ним небо, а по сторонам
несколько деревьев.
Некий греческий ваятель, которому поручен был проект
памятника Александру, предложил высечь из горы Афона
статую, на протянутой руке которой лежал бы целый город;
человека объявили сумасшедшим; но, право же, он менее
заслуживает такой оценки, чем эти немецкие грошовые подписки.
Тебе повезло, император Наполеон: ты спишь где-то там
далеко в океане1, и мы, немцы, уже не можем тебя
преследовать памятником за те сражения, которые ты выиграл у нас и
вместе с нами. Да ты и восстал бы из гроба с сияющим
свитком, на котором начертано: «Маренго, Париж, альпийский
перевал, Симплон», а карликовый мавзолей рассыпался бы!
Однако твоя (1-то1Гная симфония, Бетховен, и все твои
возвышенные песни, страдания и радости кажутся нам еще недостаточно
великими, чтобы избавить тебя от памятника, и тебе никак не
уйти от нашего признания!
Я же по лицу твоему вижу, Эвсебий, как раздражают тебя
мои слова и как ты, по доброте душевной, согласился бы
окаменеть и превратиться в статую в каком-нибудь карлсбадском
«шпруделе» *, если бы можно было этим помочь комитету.
Разве и я не болею тем, что никогда не видел Бетховена, что
Karlsbader Sprudel — Карлсбадский минеральный источник.
322
никогда не прижимался горячим лбом к его руке, а я отдал бы
за это немалую часть своей жизни...
Медленно подхожу я к Schwarzspanierhause, № 2002,
поднимаюсь по лестнице; вокруг меня все затаило дыхание; я
вхожу в его комнату; он поднимается, лев — с короной на голове,
с занозой в лапе. Он говорит о своих страданиях. В эту самую
минуту тысячи восхищенных людей, проходят под колонными
портиками храма его с-то1Гной симфонии. Но стены готовы
расступиться и рухнуть; его тянет на волю; он жалуется, что
его так и оставили одного, что недостаточно о нем заботятся.
В этот момент в скерцо симфонии басы покоятся на самом
низком звуке; ци одного вздоха; тысячи сердец повисли на
волоске над бездонной пропастью, и вот он обрывается, и
великолепия горного мира громоздятся Друг над другом, как радуга
над радугой. Мы же устремляемся по улицам; никого, кто бы
знал, кто бы его приветствовал. Гремят последние аккорды
симфонии; публика потирает руки, филистер с восторгом
восклицает: «Вот это — настоящая музыка!»
Так чествовали вы его при жизни. Ни спутника, ни
спутницы, которые предложили бы ему себя: он умер в еще болеэ
горестном значении этого слова, чем Наполеон, не прижав к
сердцу младенца, один в пустыне большого города. Так
поставьте же ему памятник — возможно, он его заслужил, но
когда-нибудь на вашем опрокинутом камне могут появиться
известные гетевские стихи:
[Коль сердцем кто весел, бодр и здоров,
Соседи доймут мученьями.]
Пока живет и творит, готов
Всяк его побить каменьями.
А случись лишь, что он умрет,
Как тотчас уж сбор объявлен,
И в честь его земных тягот
Уж монумент поставлен.
Но не умеет чернь пока
Блюсти свои расчеты:
Забыли б просто бедняка,
И не было б заботы *3.
Но если во что бы то ни стало необходимо спасти кого-
нибудь от забвения, то уж лучше отвести долю бессмертия
рецензентам Бетховена, в частности тому, который в «Allgemeine
musikalische Zeitung» за 1799 год (стр. 151) предрекал: «Если
бы г-н ван Бетховен перестал отрекаться от самого себя и
Перевод С. Шервинского.
323
вступил бы на путь, предначертанный природой, то он, при
своем таланте и усердии, наверное, мог бы создать много
хорошего для инструмента, который...» Все это, конечно,
естественно и лежит в природе вещей. С тех пор прошло тридцать лет;
имя Бетховена расцвело подобно некоему небесному
подсолнечнику, рецензент же на своем чердаке зачах, как крапива. И все
же хотелось бы с этой шельмой познакомиться и открыть
подписку в его пользу во избежание его голодной смерти.
Берне говорит: «Мы готовы в конце концов поставить
памятник самому господу богу». Я говорю: уже один памятник
есть обращенная в будущее руина (так же, как последняя —
монумент, обращенный в прошлое) и потому вещь
сомнительная; тем более два или три. Предположим, что венцы
приревновали боннцев и тоже настаивают на памятнике; не забавно
ли будет, когда начнут спрашивать — какой же из них,
собственно, сооружен на законном основании? Оба имеют право на
существование; Бетховен записан в обеих церковных книгах.
Рейн называет себя его колыбелью, Дунай (слава, правда",
печальная)— его могилой. Поэтические натуры предпочитают,
быть может, второе, ибо один только Дунай течет на восток и
впадает в большое Черное море; другие же отстаивают
блаженные рейнские берега и величие Северного моря. Но в конце
концов выступает и Лейпциг, в качестве промежуточной гавани
немецкой культуры, обладающей особой заслугой — он впервые
заинтересовался бетховенскими сочинениями, что и принесло
ему изобилие небесных даров. Поэтому-то я и рассчитываю на
целых три...
Однажды вечером я отправился на лейпцигское кладбище,
чтобы разыскать место упокоения одного из великих: много
часов бродил я вдоль и поперек— никакого «И. С. Баха» я не
нашел... а когда я об этом спросил могильщика, он только
покачал головой по поводу человеческого невежества и заметил,
что Бахов много. По дороге домой я сказал себе: «Как
поэтично распорядился случай! Чтобы нам не думать о бренном
прахе, чтобы перед нами не возникал образ обычной смерти, он
развеял пепел во все стороны, и вот я всегда буду представлять
себе Баха, сидящим прямо за своим органом в самой нарядной
одежде; под ним бушуют волны его творений, паства
благоговейно взирает на него снизу, а сверху, быть может, — и
ангелы». И вот ты, Феликс Меритис, человек с челом столь же
высоким, как и твои помыслы, вскоре после этого сыграл один из
его варьированных хоралов; текст гласил: «Schmucke dich,
о Hebe Seele» *, вокруг cantus firmus вились позолоченные
гирлянды листьев и во всем разлито было такое блаженство, что
ты сам мне признался: «Если бы жизнь отняла у тебя надежду
и веру, один этот хорал вернул бы тебе все это снова».
* «Укрась себя, о любимая душа» (нем.).
324
Я промолчал и опять, почти машинально отправился на
кладбище. Я почувствовал там острую боль оттого, что даже
не мог возложить цветок на его могилу, и лейпцигцы 1750 года
потеряли мое уважение. Нет, я не буду высказывать своих
пожеланий о постановке памятника Бетховену, избавьте меня
от этого4.
Ионаган
В храме надо ходить на цыпочках, ты же, Флорестан, меня
оскорбляешь своим шумливым поведением. Сейчас ко мне
прислушиваются сотни людей. Речь идет о Германии; самый
возвышенный немецкий художник, верховный представитель
немецкого слова и мысли, не исключая даже Жан Поля, должен
быть почтен; он принадлежит нашему искусству. Над
памятником Шиллеру трудятся уже много лет; за гуттенберговский
только принялись. Вы заслужите все издевательства со
стороны французских жаненов, все дерзости какого-нибудь Берне,
все пинки задорной музы лорда Байрона, если провалите это
дело или будете мешкать с ним!
Я хочу указать вам на один пример. Последуйте ему! Много
лет тому назад в наш город приехали из Богемии четыре
бедных сестры; они играли на арфе и пели. Таланта у них было
много, но о школе они не знали ничего. И вот один
искушенный в искусстве человек * принял в них участие; он дал им
образование и они, благодаря ему, сделались знатными и
счастливыми. Человека этого давно не стало, и о нем помнили
только его близкие. И вот лет через двадцать из далеких стран
пришло письмо от четырех сестер; они прислали средства,
достаточные для того, чтобы соорудить памятник их учителю.
Памятник этот стоит под окнами И. С. Баха, и когда люди
осведомляются здесь о Бахе, взгляд их падает и на скромную
скульптуру; трогательная память будет этим обеспечена как
благодетелю, так и благодарности5. Неужели же целая нация
не способна воздвигнуть в тысячу раз более грандиозный
памятник Бетховену — тому, кто каждой своей страницей внушал
ей величие мысли и национальную гордость! Будь у меня
власть, я построил бы ему целый храм в стиле Палладио, и в
нем было бы десять статуй. Не все могли бы быть изваяны
Торвальдсеном и Даннекером, но во всяком случае под их
присмотром. Под девятью статуями я разумею как число муз, так
и число его симфоний. Клио будет «Героической», Талия —
Четвертой, Евтерпа — «Пасторальной» и так Далее; он сам пред-
* Кантор школы св. Фомы [И. А.] Хиллер. [Ш., 1852]
325
станет в образе божественного Мусагета. Там время от
времени должны были бы собираться немецкие народные певцы,
происходить состязания, празднества, там же с полным
совершенством должны были бы исполняться его произведения. Или
иначе: возьмите сотню столетних дубов и этим гигантским
шрифтом начертайте его имя на большом поле. Или изваяйте
его в виде исполинской фигуры, вроде святого Борромеуса на
Лаго Маджоре6, чтобы, как и при жизни, он мог смотреть
вдаль поверх горных вершин; и когда чужеземцы с
проходящих по Рейну судов будут спрашивать: «Что это за великан?»,
каждый ребенок сможет ответит: «Это Бетховен»; и они будут
думать, что, наверно, это какой-нибудь немецкий император.
Или же, если вы хотите практической ""пользы, постройте в его
честь академию, назовите ее «Академией немецкой музыки», и
пусть в ней прежде всего проповедуется его слово, по
которому музыка — не дело каждого, как простое ремесло; это некая
страна чудес, открываемая жрецами только для избранных, это
школа поэтов, более того — школа музыки в греческом смысле.
Словом, возвысьтесь на мгновение, отбросьте свою
флегматичность и подумайте о том, что это будет памятник вам самим.
Эвсебий
Ваши идеи — сосуды без ручек. Флорестан их разбивает,
Эвсебий их роняет. Конечно, знак высшего почитания по
отношению с великим, любимым и уже усопшим — деятельность в
их духе. Но согласитесь, Флорестан, что свое преклонение мы
должны выразить также и каким-нибудь внешним образом, и
если не положить начала, одно поколение будет ссылаться на
косность другого. Под мантией задорности, которую ты
набрасываешь на все это дело, может ведь кое-где укрыться и самый
низменный образ мысли, и скупость, а также боязнь быть
пойманным на слове, если иной раз слишком
неосмотрительно начнешь расхваливать памятники. И так —
объединяйтесь!
Однако во всех немецких землях можно было бы учредить
сборы частных взносов, ученые собрания, концерты, оперные
представления, церковные исполнения; уместно было бы также
обращаться за пожертвованиями во время больших
музыкально-певческих фестивалей. Рис во Франкфурте, Шелар в Ауг-
сбурге, Л. Шуберт в Кенигсберге уже положили славное
начало. Спонтини в Берлине, Шпор в Касселе, Гуммель в Веймаре,
Мендельсон в Лейпциге, Райсигер в Дрездене, Шнайдер в Дес-
сау, Маршнер в Ганновере, Линдпайнтнер в Штутгарте, Зайф-
рид в Вене, Лахнер в Мюнхене, Д. Вебер в Праге, Эльснер в
Варшаве, Лёве в Штеттине, Калливода в Донауэшингене, Вайзе
326
в Копенгагене, Мозевиус в Бреславле, Рим в Бремене, Гур во
Франкфурте, Штраус в Карлсруэ, Дорн в Риге — смотрите,
какой список достойных художников развертываю я перед вами и
сколько остается еще в запасе городов, средств и сил. И пусть
высокий обелиск или пирамидальная громада возвестят
потомкам, что современники великого человека, чтившие творение
его духа превыше всего, стремились запечатлеть это почитание
в знаке необычайном.
Раро
47. ВАРИАЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
ПЕРВЫЙ ТУР
И. Рохлиц. Вступление и вариации на
оригинальную тему. Соч. 7. — Ф. Д е п п е. Вариации на
' тему Россини. — К. К р е б с. Вступление и
вариации на тему Обера. Соч. 41. — Леопольдина
Блахетка. Вариации на тему Гайдна. Соч. 28.—
Г. Герц. Большие вариации на тему Беллини
Соч. 82. — К. Р у м м е л ь. Фантазия и вариации
на тему Доницетти. Соч. 80. — Ст. Хеллер.
Вступление и вариации на тему Герольда.
Соч. 6. — И. М. Д р о л и н г. Блестящие вариации
в 4 руки на тему Обера. Соч. 34
Тот, кто выдумал первые вариации (ведь в конце концов
опять же Бах), был, конечно, человек неплохой. Симфонии
невозможно писать и слушать каждый день, и вот фантазия
набрела на эти милые забавы, из которых бетховенский гений
вызывал к жизни даже идеальные создания искусства. Однако
собственно блестящая пора вариаций явно клонится к концу и
уступает место каприччо. Вариации, мир праху вашему! Ибо,
безусловно, ни в одном жанре нашего искусства не выпускалось
большего количества хлама да и будет выпускаться. Трудно
представить себе все убожество, расцветающее на этой почве,
всю пошлость, потерявшую всякий стыд. Раньше все-таки
попадались добрые, скучные немецкие темы, теперь же
приходится проглатывать самые затасканные итальянские подряд в
пяти—шести водянистых растворах. И лучшие еще те, которые
этим ограничиваются. Но- стоит только пожаловать к нам из
провинции всем этим мюллерам, майерам и как их там еще!
Десять вариаций, Двойные репризы! Но и это полбеды! Есть
еще и минорная вариация и финал на 3/в — ух! Ни слова не
стоило бы терять, и марш-марш прямо в печку! Преподносить
нашим читателям весь этот мусор (лучшего слова не найти) в
327
отдельных рецензиях, как желают того иные восторженные
журналы — для этого мы слишком уважаем и читателей и
самих себя. Между тем вещи исключительно плохие и по
настоящему ученические следует иной раз и упомянуть. В общем же
мы, за исключением этого первого тура, ограничимся
явлениями более отрадными.
К таковым вариации г-на Р ох лиц а, конечно, не относятся
и мы едва ли удостоили бы их поощрительного отзыва, если
бы в них не проглядывали добрые намерения, явные старания
и при этом некая приниженность, которая, однако, и не прочь
немного приподняться. Такие сочинения меня прямо-таки
удручают. Молодой музыкант непременно хочет, чтобы его
напечатали; попробуйте ему отсоветовать, ничего не поможет. А если
сказать, что ему следует пойти в высшую школу в той же Са-
ламанке и еще поучиться, то наживешь себе еще одного
смертельного врага. Часто они сами убеждены в том, что вещи их
ничего не стоят. И все же их надо печатать. Если заметишь
талант, значит дело не безнадежное. Но если отсутствуют
даже начальные школьные познания, то остается только
промолчать и предоставить их своей судьбе.
Что касается господина Д е п п е, то и он на лучшем пути к
тому, чтобы не стать достоянием потомства. Ни одного
проявления высокого чувства, ни искры ума,-все—пустые перепевы
Черни; только четвертая вариация несколько выделяется. Лишь
присущая автору некоторая сноровка и легкость — но самого
низкого свойства — удерживает от того, чтобы отбросить эту
тетрадь совсем.
Вариации господина К. Кребса особого рода. На первый
взгляд, они довольно приятны для глаза, по существу же это
жалкая ерунда, к которой нельзя отнестись снисходительно,
так как автор еще и хвастлив и пытается ошеломить. Об этом
догадываешься уже на второй странице, поскольку все
составлено из совершенно пустых фраз — кусочков из Обера, Лафон-
та, Калькбреннера, даже Шпора, все просто так, без
всякого основания блестяще, почему-то написано именно так,
а не иначе. Эту же тему варьировали Герц и Лафонт. Так
пусть же автор у них поучится французским манерам,
кокетству, раз уж намерен именно этим вызвать восхищение. Вдвойне
печально, что приходится говорить все это потому, что
вариации несомненно сочинены человеком талантливым, бегло
владеющим композиционной и пальцевой техникой и к тому же
очень хорошо знающим инструмент1.
Вариации госпожи Блахетки мы также минуем как
можно быстрее. Она превосходная пианистка и она очаровательна.
Сен-Симона в моем отношении к дамским композициям она из
меня сделать не сможет.
Что же, однако, случилось с нашим превосходным Генри
Герцем? Прямо-таки кажется, будто он бессильно опустил
328
голову, будто он уже не может так невинно и мило прыгать и
скакать, кажется, будто он познал превратности и козни света!
А ведь достигнуть такого мастерства в варьировании поистине
никому так легко не удается, даже вновь ему самому. Мир
обязан ему тысячами приятных часов, а из прекрасных уст я
слышал, что лишь Герцу дозволено их поцеловать, пожелай оп
этого. «Годы уходят». Это изречение, по-моему, подтверждает
вот какое обстоятельство. Бывают модные гении, чье вредное и
тормозящее влияние, правда, вполне осознавалось, но времз*
проходит, они отстают от самих себя, и образуется брешь,
которую без особого успеха пытаются заполнить менее
талантливые, и тогда часто мечтают вернуть прежних гениев. Так
критики начали по-настоящему расхваливать Россини лишь тогда,
когда на вершину поднялся Беллини. Так же вознесут и этого
композитора, когда окажется, что Караффа и другие не могут
его заменить. То же с Обером, Герольдом, Галеви. Но вернемся
к вариациям. Это, конечно, Герц, но, как сказано было,
вариации намного слабее прежних — свежих, богатых выдумкой.
Тема взята из «Пуритан». Ее первая часть, полная запевности,
опирается на тонику и доминанту, вторая же настолько
бесплодна, что из нее, конечно, никакой райской музыки не
сделаешь. Напрасно автор удвоил Ges, сначала на странице 13,
строка 4-я, такт 5-й, а затем еще раз. Во всяком случае
вариации остаются герцовскими и должны понравиться.
Господин Руммель явно выдает себя за родственную
тому парижанину душу. Недостающую ему французскую
изысканность он возмещает естественным для него немецким
добродушием и простодушием, чем он мне всегда нравился.
Вступление к его последним вариациям, изложение темы из
Доницетти (которая у Франчиллы Пиксис становится возвышенным
любовным песнопением) весьма достойна похвалы. Вариации
(исключая вторую) и финал — самые заурядные.
В вариациях Стефана Хеллера чувствуется
прирожденный музыкант. Темой служит известная песня Цампы2
(между прочим, в десять раз менее форсированная и более
оригинальная, чем мейерберовская «L'or n'est qu'une chime-
re»*3; она вводится легким фривольным аллегро, которое здесь
очень уместно. О теме. Разве в оригинале в такте 7 стоит
малая нона? Уж очень вяло для Цампы. Вариации слишком
похожи одна на другую и после разудалой пиратской песни
льются слишком мягко. В финале зато есть юмор, но он мог бы
быть более буйным и неистовым. Тема, ее предмет стоят того,
чтобы в процессе разработки была достигнута большая
характерность. Пусть талантливый композитор сделает это своей
дальнейшей задачей.
«Золото — лишь химера» (франц.).
329
Четырехручные вариации господина Дролинга написаны
на очень пикантную, совершенно прелестную тему из
«Бала-маскарада», так же прелестно построены, к тому же необычайно
легки, совсем не притязательны; они весьма достойны рекомендации
именно потому, что не претендуют ни бы!ъ, ни казаться иными.
Пусть же композитор остается в этих указанных ему пределах
и сохранит ту музыкальную детскую свежесть, которая
заслужила похвалу в ранних небольших произведениях Черни.
ВТОРОЙ ТУР
И. Н. Эндтер. Вступление и вариации на
«Песнь о плаще». — Э. П р ю д а н. Большие
вариации на тему Мейербера. Соч. 2.— К. Хеслин-
гер. Вступление, вариации и рондо с
сопровождением оркестра. Соч. 1. — Ю. Бенедикт.
Вступление и вариации на тему Беллини. Соч. 16.—
Г. Элькамп. Фантазия и вариации. Соч. 15.—
Ф. К с. Хватал. Вступление и вариации на
тему Штрауса. Соч. 23.— Г. В. Штольце.
Вступление и вариации в четыре руки на русскую
тему. Соч. 37. — Л. Ф а р е н к. Вариации на
русскую тему. Соч. 17. — 3. Та л ьб ер г. Вариации
на две русские темы. Соч. 17
Слово «тур» выбрано нами не без тонкого намека; только
при этом надо представить себе не игру и не танец, а самый
настоящий турнир. Критика как бы выступает против
творчества: у глупых, зазнавшихся она выбивает оружие из рук,
сговорчивых щадит и воспитывает, смелым деятельно и дружественно
идет навстречу, перед сильными опускает шпагу и салютует.
К сговорчивым принадлежит композитор, названный нами на
первом месте. Человека узнаешь уже по выбору темы. Чем
больше с ней связано ассоциаций, тем многозначительней и
глубже будут мысли, которые она вызовет. Однако
обыкновенная, прозаическая «Песнь о плаще» едва ли может
вдохновлять на что-либо необыкновенное; последнее было бы даже и
неуместно, ибо вариации должны представлять собою нечто
целостное, центральным моментом которого является тема
(поэтому ее можно было бы иной раз поместить в середину или а
конец). Правда, мало кто об этом думает; большинство
предпочитает удобный, но по существу бессмысленный прием —
чередование блестящих вариаций с серьезными. Так и в
произведении г-на Эндтера я не нахожу ни связи, ни значительности,
ни идеи. Возьмем вступление. Какая пестрота! Некоторое
время тянутся четверти, потом тридцать вторые, потом триоли,
потом восьмые, потом снова триоли! И все же B-dur даже
гармонически толком не подготовлен. Не знаешь, для чего все это,
куда это все ведет. Тема же, как уже говорилось, не поэтична
330
и вообще никакая, да и формально никуда не годится. Первая
часть ее состоит только из четырех тактов, которые
повторяются; вторая же из шести убогих тактов; к тому же обе части
кончаются одинаково. На такой сухой почве пахать мудрено.
Тем не менее некоторые вариации мне понравились каким-то
оттенком серьезности; таковы первая, вторая и четвертая. Та,
что в духе полонеза, торчит довольно безвкусно в самой
середине и должна быть безусловно изъята из последующих
изданий. Но упаси нас боже от варьирования в манере Гелинека,
который заставляет одну из рук сопровождать тему бегущими
вверх и вниз гаммами; этого в наше время печатать уже
нельзя. Мы могли бы предъявить композитору целые страницы
частных замечаний. Пусть же он примет то немногое, что было
нами сказано, как поощрение; но главное, пусть он не
распыляет свои силы в такой мелкой работе и в жанре, в котором
тысячи других оставят его позади.
В лице г-на Эмиля Прюдана я вижу молодого
француза, сотворившего себе кумир из Мейербера. Крупных
изобретений в его вариациях, разумеется, не найти, однако они
изобличают ловкого игрока (не думайте, что я оговорился),
который умеет весьма привлекательно выразить самое обыденное.
Удачная тема вызвала бы и здесь более удачные мысли;
поэтому фатальное голосоведение в мелодии и в басу (3-й такт
темы) должно было, к сожалению, повториться и во всех
вариациях. Кусочек фуги в последней части достаточно
забавен.
Основное заглавие вариаций г-на Хаслингера гласит:
«Voyage sur le Rhin» *, так что я уже мысленно разглядывал
целую карту с картинками и надписями над ними вроде: «Мау-
ence, Cologne» ** и т. д. Ничего подобного не оказалось, хотя и
можно было бы, пожалуй, истолковать вступление как отъезд,
отдельные вариации как разные остановки в пути. Вообще же
гораздо поэтичней тот веселый дух рейнского вина, которым
овеяна вся тетрадь; и звенят зеленые стаканы и издали на нас
поглядывают черные глазки кельнерши; музыка, от которой
становится веселее, с которой вы уноситесь, не спрашивая
почему и куда. Итак, заглавие кажется вовсе не лишним. Правда,
в частностях многое мне не по нутру: некоторые черниевские
пассажи, немощные беллиниевские отклонения, — но основной
тон остается свежим и чистым; вариации образуют целое,
достигают своей цели. А это-то и есть проявление таланта. Уже
вступление полно жизни и вводит в суть дела; напряжение
нарастает почти незаметно. Тема, блестящий Е-с1иг'ный марш
Штёбера, исполняется всем оркестром фортиссимо — прием но-
* «Путешествие по Рейну» (франц.).
** «Майнц, Кёльн» (франц.).
331
вый и весьма уместный. За ней следуют только три, легко друг
друга сменяющие, переливчатые вариации. Все строго
рассчитано. Вместо скучного фальшиво-сентиментального Adagio
вставлена на двух страницах почти сплошь интересная
каденция, в которой короткая, принадлежащая самому композитору
мысль из вступления (страница четвертая, такт четвертый)
получает дальнейшее развитие, правда, все еще недостаточно
ясное; лишь в рондо она проясняется в светлой кантилене и даже
приобретает нечто фантастическое. Заключение короткое и
пламенное.
Примерно к тому же разряду следует отнести и вариации
Бенедикта с той разницей, что то, что у предыдущего
автора совершается естественно, почти бессознательно, у этого
выращено рассудком и искусством. Но как бы хитроумно он ни
брался за дело, он все же своего не добьется ни у публики
ни у исполнителя именно потому, что ехму хочется угодить
обоим. Эти жалкие колебания, это «желание всем
понравиться» ни к чему путному привести не могут. Между тем только
человек, лишенный чувства справедливости, мог бы проглядеть
многие прекрасные страницы в этих вариациях. Третья прямо-
таки отличная, две предшествующие—блестящие, сделанные
со вкусом, с esprit *. Но после этого автор заканчивает вялым
рондо, словно ему захотелось уступить дорогу великому Герцу.
После стольких удач это оскорбительно вдвойне, и вот извольте
теперь хвалить, что, впрочем, очень хотелось бы сделать,
учитывая способности автора и его знания! Прошли времена, когда
люди млели от какой-нибудь слащавой фигуры, томного
задержания или пассажа Es-dur через всю клавиатуру; теперь
требуется мысль, внутренняя связь, поэтическая цельность и все
это овеянное свежей фантазией. Остальное на миг вспыхивает
и исчезает. Г-н Бенедикт это давно знает. Следовал бы и он
по этому пути!
Обратимся теперь к комически-оригинальной пьесе г-на
Генриха Элькампа, к вариационной фантазии без темы.
Ключ без бородки, загадка без разгадки, Паганини без
скрипки, пьеса особенная, если угодно, руина, для которой ни один
критик не установит правила — возможны, пожалуй, лишь
некие размышления о гаммах h-moll и D-dur. Правда, кое-где
как будто и проникают далекие отзвуки сумасшедшего пагани-
ниевского рондо колокольчиков, кое-где отзвуки шпоровской
«Пляски ведьм» из «Фауста». Однако ничего отчетливо не
проявляется, маленькие язычки пламени вовсе затухают, кругом
воцаряется кромешная тьма. После этого пусть каждый сам
рассудит, не романтичны ли и не интересны ли эти вариации,
и пусть сделает свои выводы. Но никогда я так живо не вспо>
Остроумие (франц.).
332
минал те пьесы про дунайских русалочек, которые ребенком
смотришь в театре с таким радостным содроганием, те сцены,
когда любопытный оруженосец хочет выследить похождения
своего рыцаря и через замочную скважину уже наслаждается
всеми романтическими прелестями, пока его, страшно
исколоченного невидимыми руками, снова -не водворяют на
зеленую лужайку, где он должен пасти коня своего
благородного господина. Тот, кто пишет темно, поймет и туманные
рецензии...
И вот, когда над всеми этими романтическими призраками
опускался занавес и когда всюду оказывались знакомые лица
соседских детишек и чувствовалось, что сидишь среди них так
прочно и уверенно, — чувство благополучия, которое я тогда
испытывал, мало чем отличалось от того, которое после этих
вариаций пробудили во мне вариации г-на Ф. Кс Хватала.
Весело, хлопотливо и беспечно резвятся они одна вслед другой,
без всякого удержу и жеманства, скорее даже несколько по-
деревенски, но нежно и в то же время грубовато. Пусть же
автор их всегда спокойно следует по стопам своего времени;
то, что в нем есть дурного, к нему не пристанет, а от чужих,
но хороших людей всегда можно получить что-нибудь для себя
полезное.
Примерно с таким же призывом хотелось бы обратиться и к
г-ну Штольце, если бы он вообще захотел блистать и
приобрести европейскую славу. Но он предпочитает действовать в
домашнем кругу, где он себя и проявляет в полной мере. Его
вариации принадлежат более старому времени, однако и в
любое другое время их следовало бы признать
непритязательными, задушевными и к тому же полезными для начинающих.
Их можно горячо рекомендовать учителям, желающим
сохранить прилежных учеников. С самого же начала тема звучала
для меня как старая знакомая, пока я не признал в ней ту
самую русскую песню, которую Рис использовал в рондо
своего юношеского Es-dur'Horo концерта.
Если бы молодой композитор принес мне вариации,
подобные тем, что сочинила Л. Ф а р е'н к, я бы всячески его
похвалил, имея в виду прекрасное использование тех счастливых
задатков, которые проявляются в них на каждом шагу. Мне
заблаговременно стало известно, что их автор, вернее
сочинительница, является супругой известного парижского нотного
торговца, и меня огорчает, что она вряд ли что-нибудь узнает
об этих ободряющих ее строках. Это — небольшие, опрятные,
отточенные этюды, выполненные, быть может, еще под
наблюдением учителя, но настолько уверенные в своих очертаниях,
настолько разумные в своей отделке, словом, настолько з а-
конченные, что их нельзя не полюбить, тем более, что они
как бы еще овеяны неуловимым романтическим ароматом. Как
известно, темы, поддающиеся имитациям, наиболее подходят
333
для варьирования, и автор этим пользуется для всякого рода
очень милых канонических игр. Даже фуга ей удается вплоть
до обращений, стретт и увеличений -г- и все это легко и певуче.
Только заключение — после всего предшествующего — хотелось
бы видеть более мягким.
Раз мы уже погрузились в поток славословий, упомянем
еще об очень милых новых вариациях Тальберга, лучшем
и самом удачном из всех его сочинений, попадавшихся мне до
сих пор. Он взял две прекрасные русские темы. О первой
сказано в «Картинах из Москвы», недавно напечатанных в нашем
журнале; это просьба ребенка к матери, полная поистине
трогательной выразительности4. Другая — новый национальный
гимн, сочиненный полковником Алексеем Львовым и принятый
во всем русском государстве в качестве «God save the king»5,
мужественный, спокойный, пламенный напев. Мысль
варьировать одновременно две темы не нова, ,но применяется редко и,
конечно, похвальна, в особенности когда между ними
существует какая-нибудь связь, как в данном случае, — правда, не
столько в эстетическом смысле, сколько вытекающая из
одинаковой национальной принадлежности. Г-н Тальберг особенно
облюбовал первую тему, и это кажется мне естественным; он
вообще писал эту вещь с любовью, в добрый час, и так
возникло полное фантазии и впечатляющее вступление, вслед за
которым выплывает песнь ребенка, очаровательная и
просветленная, как ангельская головка. К ней льнут две вариации,
столь же нежные, значительные и удачные по музыкальному
изложению, плавности голосоведения и общей закругленности.
Контраст к этой задушевной идиллии образует блестящий
национальный гимн, в который в дальнейшем вплетается первая
тема. Заключение по типу своему короткое, так что публика
будет в течение нескольких секунд прислушиваться, не
произойдет ли что-нибудь еще, прежде чем прорвутся ее бурные
восторги. Заключение это в высшей степени благодарное,
блестящее, даже изысканное. В качестве строгого критика я
изменил бы или упразднил бы только два незначительных места:
модуляцию во втором такте восьмой страницы, где вместо
a-moll ожидается fis-moll и где переход через D-dur и H-moil
в g-moll кажется мне несколько насильственным; не нравятся
мне также четвертый и третий такты от конца на странице 17,
где я предпочел бы услышать более светлые и более мягкие
голоса. В остальном мы желаем великому виртуозу,
каковым мы его узнаем на каждой странице, счастья на этом
пути, по которому ему и впредь следовало бы двигаться столь
же осмотрительно и имея перед глазами благороднейшую
цель.
334
ТРЕТИЙ ТУР
Г. Осборн. Вариации на тему Доницетти.
Соч. 16. — И. Н о h а к о в с к и й. Блестящие
вариации на оригинальную тему. Соч. 12.—
Ф. К а л ькбрен н ер. Вариации на тему
Беллини. Соч. 131.— К. Шунке. Большие
бравурные вариации на тему Палеви. Соч. 32. — Т. Д ё-
л е р. Фантазия и бравурные вариации на тему
Доницетти. Соч. 17.— К. Майер. Вариации на
тему Обера. Соч. 31; Большие блестящие
вариации на русскую тему. Соч. 32. — Л. Шунке.
Концертные вариации на тему Ф. Шуберта (в
As). Соч. 14. — Ф. Шопен. Вариации на тему
из «Людвика» Герольда и Галеви (в В). Соч. 12.
Лучшую рецензию на большинство перечисленных выше
вариаций читатель только что прочел в эпиграфе*. Все они как
одна, за исключением последней тетради, принадлежат салону
или концертному залу и весьма далеки от какой бы то ни было
поэтической сферы. Ведь и в этом жанре Шопену должна
быть присуждена пальма первенства. Подобно великому
актеру, которого публика восторженно приветствует даже тогда,
когда он проходит через сцену в качестве простого статиста,
он не может изменить своему высокому духовному призванию
ни при каких обстоятельствах; все, что его окружает,
заимствует от него и волей-неволей подчиняется его руке мастера.
Впрочем, само собой разумеется, что эти вариации не могут
сравниться с его оригинальными сочинениями.
Что касается до концертных вариаций покойного
Людвига Шунке, то они должны быть причислены к самым
блестящим фортепианным пьесам новейшего времени и, будь автор
жив, в его исполнении имели бы везде большой успех. В них
всюду проглядывает редкостный, мыслящий виртуоз. На
каждой странице наталкиваешься на инструментальные находки,
на исключительные технические трудности, на неожиданные и
острые комбинации. Правда, по идейному содержанию они
уступают его прежним работам, и он хорошо знал, что мне
всегда казалось неуместным разрабатывать такие глубоко
задушевные темы, как шубертовский «Sehnsuchtswalzer»7, в столь
героическом характере. Во всяком случае по своим
композиционным качествам вариации Шунке несравненно выше
большинства новейших бравурных вещей. Особенно следует
отметить финал — полонез в самом превосходном стиле, и
если кому-нибудь удастся сыграть третью вариацию так, как
* Сюртуки, чулки из шелка.
С тонким кружевом манжеты,
Речи, льстивые объятья, —
Если б сердце вам при этом!
Г. Гейне [Перевод В. Зоргенфрея]* [Ш.]
335
ее играл автор, того, конечно, объявят' мастером точного
попадания. /
Большие вариации Карла Майора по назначению,
складу и характеру совершенно аналог/чны предыдущим; они
написаны скорее со вкусом, нежели содержательно и с выдумкой.
Тема — та же русская народна/ песня, которую Тальберг
варьировал в своем соч. 17, и ока настолько блестяще
разукрашена, что вариации могут быть сыграны в присутствии самой
императрицы, которой они и посвящены. Кое-что кажется мне
слишком слащавым по контрасту с дородной крепостью темы,
к тому же меня удивляет, что Майер, обычно столь
осторожный и соблюдающий меру, не сумел в данном случае быть
более кратким. Это относится, в частности, к пятой вариации —
Andante, занимающей целые четыре страницы. Для успеха
концертной пьесы играет роль каждое мгновение: на
полминуты дольше — кто-нибудь уже закашлял и энтузиазма как не
бывало. Скорее уже на полминуты меньше. Если педантов,
быть может, и покоробит вступление, изложенное в чистом
Des-dur, хотя вся вещь идет и заканчивается в F-dur, то именно
оно-то и доказывает, что пьесу можно начать и кончить в
разных тональностях и все же это будет отличная вещь. Во всяком
случае такой образ действий следует считать допустимым
исключением, но не запрещать его. Впрочем, тетрадь эта не
содержит никаких опасных новшеств или больших трудностей,
напротив, все так и льнет и ластится к пальцам пианиста.
Первоначально вариации задуманы с сопровождением оркестра,
однако оркестровые партии отсутствуют; об этом нельзя не
пожалеть ради последней части, которая во многом выиграет
от инструментовки. Вариации на известную тему из оберовской
«Невесты», конечно, намного уступают предыдущим. О них
ничего не скажешь, разве только, что они благодаря своему
живому колориту выгодно отличаются от салонных вариаций
других композиторов.
Читатель, быть может, помнит резкую, но как нельзя более
справедливую критику фортепианного концерта г-на Дел ер а.
На вариации, однако, смотришь уже более снисходительно.
Г-н Рельштаб для таких концертных пьес пользуется
следующим хитрым оборотом: «Моцарт и Бетховен писали, правда,
лучшие вещи, все же...» — все же это не что иное, как
блестящие вариации на тему Доницетти, чем все сразу и сказано.
Стоит только композитору и публике объявить такие вещи тем,
что они есть на самом деле, как тотчас же с ними можно и
примириться; но как только то, «что есть на самом деле»,
начинает претендовать на большее, его уже нельзя подпускать и
на пушечный выстрел. И уже совсем ни к чему, когда даже
музыкальные журналы норовят «открыть глаза» всему свету
на такие, как они их называют «милые» таланты, как Кальк-
бреннер, Бертини и т. п. Через стекло видно и так, здесь не
336
нужны скучные истолкователи. Пиф! паф! Нам про них и про
их пальцы известно все, в^е, до последней запятой. Кто станет
сердиться на г-на Дёлера за то, что он хочет доиграться до
высшего успеха; ведь он, шх-видимому, выдающийся виртуоз,
вносит немало нового и всегда благозвучного, очень
тщательно все выписывает, обладает чувством ритма, пишет
благодарно, с учетом пианистических трудностей. Все это надо ценить.
«Моцарт и Бетховен писали, правда...» (см. выше). Однако я
искренне хвалю его за соло левой руки на странице второй и
за последующее действительно великолепное, пышное
фортиссимо, вместе с подлинно пианистическим сопровождением.
Столь же эффектна третья вариация; ее нельзя не похвалить
за строгое проведение мелодии, которую всякий другой, если
бы она ему сразу же не удалась, быть может, и не довел бы
до конца. Однако хотелось бы, чтобы композиторы перестали
нас выводить из себя теми двумя украшениями, которые мы
приводим в примечании * и которые постепенно стали
настолько общераспространенными, что слышать их стало поистине
невыносимым. Мы объявляем войну не на жизнь, а на смерть
всем, кто их еще раз напечатает. Если от нас потребуют
других украшений для каденций, мы готовы представить их
тысячами.
Бравурные вариации Карла Шунке посвящены питомцам
парижской консерватории; это обстоятельство с самого начала
располагает в их пользу, так как обещает нечто
воспитывающее как в техническом, так и в эстетическом смысле. Что
касается первого пункта, то видно, что вариации написаны
образованным пианистом и педагогом, удобны и полезны Для
исполнения, тщательно и добросовестно снабжены указаниями
относительно оттенков исполнения. Что до остального, то в них
пышным цветом расцветает новейший самый безвкусный вкус,
настолько преисполненный пустой патетики и фривольной
пошлости, что прослушать их дважды подряд едва ли мыслимо.
Приходится в этом признаться с самым искренним огорчением,
имея в виду их высокие педагогические достоинства; тем более,
что композитор, вопреки своему прежнему стремлению,
направленному лишь на самые легковесные модные поделки, взял в
данном случае разбег, которому мы охотно сулили бы лучшую
судьбу. Так пусть же их разучивает тот, кто имея голову и
Ш.З
337
сердце на месте, жаждет дать своим/пальцам полезное и
интересное упражнение. Виртуозы достаточно часто упрекают
Бетховена за то, что он писал, не считаясь с механикой своего
инструмента, и все же играют нам/его сочинения. Будем же ИхМ
благодарны, и для лучшего овладения этой механикой будем
иногда разучивать наиболее пц^нистичные пассажи виртуозов,
хотя бы и без бетховенской /Духовной нагрузки. Кстати, еще
одно замечание относительно facilite*, которые так часто
попадаются в новейших сочинениях. Не говоря о том, что
настоящая мысль вообще не допускает никаких изменений, мне
кажется, что такого рода облегчения занимают только лишнее
место в вещах, которые как раз и рассчитаны на преодоление
трудностей. К тому же надо учесть, что ученики, даже и не
очень подготовленные, но обладающие хотя бы искоркой
честолюбия, никогда не выберут более легкого варианта, но всегда
будут бредить именно о самом трудном. Итак, к чему это?
Если же композитор облегчает так, как это делает, напр.,
г-н Шунке на странице 19, где вместо первоначального
блестящего восходящего пассажа он предлагает вариант с пресными
нисходящими триолями, то я вижу в этом лишь непостижимое
снижение его собственных замыслов. Но об этом, довольно —
пусть каждый по собственному вкусу сам разовьет это
замечание.
Вариации Калькбреннера едва ли могут претендовать
на пространное их обсуждение. Они легки, привлекательны и
т. п., по существу же весьма убоги.
Столь же быстро можем мы миновать господ Новаков-
ского и Осборна. Один из них поляк с композиторским
талантом, другой — швед8 без оного. Оба — знатоки своего
инструмента. Тему поляка надо признать милой, тему Осборна
из «Анны Болейн» — очень посредственной. Г-н Новаковский
может чего-то добиться, если будет работать больше, чем это
делает г-н Осборн.
Две вещи на свете очень трудны: прочно завоевать себе
славу и сохранить ее. Но хвала мастерам — от Бетховена до
Штрауса — и каждому в своей сфере!
* 48. КНИГИ
Руд. X и р ш. Галерея здравствующих
композиторов. Критические биографии
Если бы кто-нибудь, уснувший 15 лет тому назад, сегодня
проснулся и взял бы в руки названную выше книгу, изданную
в 1836 году, дабы справиться, что произошло во время его сна,
Облегчение, облегченная редакция (франц.).
338
\
он ничего бы не узнал о текущем моменте и столь же мало о
недавнем прошлом. В книге обнаруживаются едва ли не все
изъяны,, от которых прежде всего должна быть свободна кри-
тико-биографическая работа., Неопределенность в суждениях,
неосведомленность во всем, что касается положения дел в
целом и связей между отдельными явлениями, неполнота даже и
в том, что имеется в книге, вялость и безвкусица в
изложении — таковы качества этой книги. Ее нельзя похвалить даже
за благие намерения, ибо ненависть к Беллини, Оберу, Герцу,
хоть она и не кажется преувеличенной, выражена столь
беспомощно, что итальянско-французская сторона скорее извлечет
из этого пользу. Следовало бы, конечно, отдать должное
автору, который советует своим землякам-венцам познакомиться,
наконец, с более новыми именами, например, с Мендельсоном
и др., — если бы только он сам больше о них знал. Нет нужды
перечислять здесь все изъяны, ибо мы верим, что большинство
наших читателей сами их найдут. Забавна сама манера
излагать биографию. Вначале всегда дается несколько строк
поэтических размышлений, в которых то и дело попадаются
«цветы», «звезды» и т. д.; затем они внезапно прерываются, и
следует жизнеописание, изложенное необычайно сухой прозой.
Например: «Дух человека—это лишь зерно, простой луч света,
маленькая звезда, и в то же время человеческий Дух — это
гигантское дерево, море света и огня, нескончаемый хоровод
звезд; он растет; лишь гений способен перескочить через этот
период, едва родившись, он предстает во всем величии своего
гигантского* роста и во всей своей моручей силе».
«Мария Людвиг Карл Зенобиус Сальватор Керубини
родился во Флоренции 8 сентября 1760 года. Его первыми
учителями были...» и т. д.
Или:
«Деньги могут быть предметом забот и мыслей художника
лишь в той мере, в какой он намерен употребить их для
поддержания жизни. Торговать искусством — унизительно, и мы в
этом случае, хотя и чтим художника, никогда не сможем
полюбить человека. А ведь сочетание почтения и любви есть
лучшее украшение на челе человека, возвышающегося над
повседневностью».
«Спонтннн (Гаспаро) родился в Чези, маленьком городке
папской области, в 1778 году. Осноеы теории музыки изучал...»
и т. д.
Немного более содержательны сведения о некоторых
австрийцах, таких как Томашек, Зайфрид, Хаслингер, лучше всего
то, что сказано о Паганини, хотя и взято из
энциклопедического словаря. На странице 147 кое-что списано дословно из
Гофмана — если я не ошибаюсь, из «Фантазий». При таких
обстоятельствах не удивляешься, когда находишь подробные
биографии никому не ведомых лиц, как Нидецкий, Титль, Р и-
339
/
гер и, напротив, ни одним словом не//упоминаются такие
композиторы, как Онслов, Фр. Шнайдер, Калливода или
иностранцы как Бишоп, Берлиоз, ван Б рее, или также
виртуозы, как Лист, Клара Вик и др.
И, наконец, приходится, как7 уже было сказано, сожалеть,
что явно добрые намерения осуществляются на столь зыбкой
почве. Поэтому пусть автор privatim * прилежно собирает
материал и продолжает работать; но пусть он впредь
поразмыслит, что значит для молодого человека, не свершившего ничего
такого, за что ему можно было бы поверить на слово,
набраться смелости и публично судить о лучших мастерах
современности.
Кристиан Фридрих Поле (Dr. ph. et
mus**). О разучивании произведений или
разгадка тайн исполнения, предлагаемая пианистам
Название книги весьма заманчиво. Стоит кому-нибудь
произнести слово «тайна», как тотчас же вокруг начинают
тесниться сотни внимательных слушателей. Для того, чтобы,
однако, теоретически и критически рассмотреть столь трудный для
анализа предмет, нужны место и время, и делать это должен
опытный учитель, каковым рец{ензент] не является. Поэтому мы
хотим высказаться кратко, лишь привлечь внимание читателя
к этой книге и ее содержанию. Правда, предполагается, что
понять книгу и пользоваться ею может только уже
преуспевший ученик, с которым можно обсуждать, не сбивая его с пути,
сегодня одно, завтра другое, поворачивая вопрос и так и сяк.
В книге пестрой чредой проходят более или менее верные
наблюдения, основанные на опыте и касающиеся условий,
необходимых для воспитания неофита; здесь и мысли о хороших,
талантливых, ленивых учениках, о способе, которым можно
сделать обучение приятным для них, — замечания о манере
исполнения, присущей различным виртуозам, о выборе
образцовых сочинений; далее — глава о необходимости
разностороннего образования, о полезных для обучения сочинениях, а
также о более обычных вопросах — о положении локтя, о пользе
постоянных механических упражнений, о медленной игре,
затем — об апликатуре, об отчетливой передаче звуков, о
ритмической выразительности, о громком счете, об украшениях, а в
конце — настоящий урок с учеником Фазелиусом, изложенный
с забазным лаконизмом. Все это дается в тоне приятной,
легкой беседы; почерпнутые из Квинтилиана, Гете и др. сентенции
позволяют временами отдохнуть среди зелени. Несомненно,
* Приватным образом, для себя (лаг.).
** Доктор философии и музыки (франц.).
340
трудно вызвать улыбку, трактуя столь сухую материю—даже
и смех сквозь слезы (Гомер), — и следует поблагодарить
уважаемого автора за то, что он, по крайней мере, сделал первый
шаг и попытался избежать обычного нравоучительного тона.
Итак, читайте книгу внимательно и извлекайте из нее пользу
для себя и «золотого древа» жизни, как этого и желал автор.
В заключение приведем несколько характерных выдержек.
«Свободней, свободней, Фазелиус! Вы ищете слишком робко
и не можете оторвать пальцы от клавиш; Вам только случайно
удалось сыграть эти шесть тактов правильно. Это место Вам
придется медленно проиграть, и не раз, чтобы отчеканивать
звуки, иначе слушатель испугается! Неужели Вы не слышите!
Этот аккорд слишком бледен» и т. д. (с. 78).
«Поэтому желательно, чтобы композиторы выписывали
мелизмы. Их трактуют по-разному; композиторы бывают порой
небрежны, гравировщики нот путают знаки, и не очень
вдумчивые исполнители делают не украшения, а искажения» (с. 68).
Общее заключение. «Художник тем и отличается от
дилетанта, что он учится более осознанно, что он не упускает ни
одного момента, способного повредить его исполнению, что он
сам подвергает всесторонней продуманной критике свою игру.
Художник — это пламенный любовник, который стремится
предупредить любое желание возлюбленной — искусства и который
всегда хочет действовать и жить лишь для нее. Чем ближе он
ее узнает, тем притягательнее становится она; он постигает ее
истинное благородство, осознает, как трудно овладеть ею: ведь
она высшего происхождения. А между тем она его непрерывно
влечет; он готов скорее погибнуть, чем отказаться от нее.
Временами она держит себя так, что у него вновь пробуждается
надежда овладеть ею. Его разгоряченное воображение
изыскивает все новые и новые пути, чтобы получить в свои руки это
сокровище. Он удваивает энергию, но никогда в полной мере
не становится обладателем возлюбленной, а потому его
страстное желание никогда не бывает удовлетворено. Его стремлению
нет конца».
С. Визе. «Бетховен». Драма в трех актах
Бетховен гостит на графской вилле и любит графиню
Аделаиду. Она отвечает ему взаимностью. Бетховен боится, что он
слишком художник, чтобы сделать свою жену счастливой. Она
отдает свою судьбу в его руки. Он, исполненный отчаянья и
скорби, уступает ее третьему лицу.
Но это не наш Бетховен: так наш Бетховен не говорит, так
он не думает и не поступает. Мы не хотим быть резкими с
автором, у него наверняка были добрые намерения, когда он
наградил тысячекратно увенчанного композитора еще и венцом
341
мещанской добродетели. Но то, что он принижает нашего
титана, представив его ничтожеством, смирившимся перед
судьбой, человеком, который неприятно колеблется между двумя
чувствами—любовью и страхом, опасаясь, что не сумеет
осчастливить любимую; то, что его избранница, для которой он
недостаточно красив, спокойно терпит его безропотное
смирение — все это и многое другое мы с негодованием отвергаем.
К тому же известно, что у Бетховена никогда не было
любовных связей1, так что и в этом отношении драма не
представляет ни малейшего интереса. Разобраться в том, имеет ли эта
пьеса какую-либо ценность сама по себе, как произведение для
театра, — дело литературного журнала. Но то, что этот
мародер обобрал гетевского «Тассо», заметит любой читатель.
Впрочем, в пьесе есть отдельные не лишенные приятности описания.
Эрнст Ортлепп. «Бетховен».
Фантастическая характеристика
Книгу предваряет прекрасный эпиграф, которым мы начали
этот номер2. Можно было бы добавить: «И не каждый
достигает вершины». А поэт даже не желает и не добивается этого,
он, как ребенок, резвится внизу, у большого церковного
портала, и лишь изредка смотрит ввысь, когда колокола звучат очень
громко. Ортлепповский «Бетховен» мне гораздо больше
нравится, чем визевский. Здесь Бетховен появляется в достаточно
неряшливом виде, без денег, без орлиных планов в голове, за
бутылкой шампанского, также влюбленный в некую Аделаиду;
все это не надушено чувствительностью, а попросту забавно.
Само собой разумеется, что из женитьбы ничего не выходит.
«Бог с ней, с Аделаидой, — говорит Бетховен, — я вновь
свободен от любви к земному!» «Когда я Думаю о с1-то1Гной
симфонии, которая станет моим последним произведением, но для
которой я еще далеко не созрел, то это мысли лишь о
великом — о необычайной ненависти и необычайной любви к всему
человечеству». В таком духе выдержана первая часть этой
задушевной книжки. Вторая носит общее название «Девятая
симфония Б-на». Это поэтичный, тонкий и верный разбор
произведения. В третьем разделе автор весело и яростно
фантазирует на тему о памятнике Бетховену. В конце предлагается
самое приемлемое: «Нельзя ли воплотить Девятую симфонию?
Мне кажется, что архитектор мог бы с этим справиться, и
тогда был бы найден лучший памятник для Людвига ван
Бетховена». — Впрочем, «Бетховен еще жив», как написано на
странице 87. «Он только больше не пишет. Ему опостылело писать
для такого огромного количества ослов». Браво, господин поэт!
Вот это дельно.
342
: 49. ФАНТАЗИИ, КАПРИСЫ И ДР[УГИЕ ПЬЕСЫ]
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ
К. Шнабель. Воспоминания о мад. Шредер-
Девриент. Фантазия на мотивы из опер Беллини.
Соч. 14. — А. Мер о. Большая фантазия на тему
Галеви. Соч. 42. — Й. А. Ладурнер. Фантазия,
фуга и соната на тему Генделя. — 3. Таль-
б е р г. Фантазия на темы из «Гугенотов» [Мейер-
бера]. Соч. 20
Печально, что сочинительство вторичного порядка —
фантазирование на заимствованные темы — начинает преобладать и,
как известно, прячется за весьма привлекательным названием,
со смыслом которого такое сочинительство имеет очень мало
общего. В частности, и г-н Шнабель погрузился в ту
безбрежную стихию, где фантазия отсутствует вовсе, и потому он
прогадал у нас со своим попурри. Будь я мад. Шредер-Деври-
ент, которой посвящены эти воспоминания, я прострелил бы
композитора одним своим пистолетным взглядом, как некоего
Пизарро1. Многое я прощаю немцу—безвкусицу, беспорядок,
его теоретизирование, даже его лень, но его намеренное
подражание влажной итальянской сентиментальщине, как оно
проявлено здесь, — никогда. Но и так уж слишком много слов!
В Париже между партиями Герца и Шопена вкралась
партия некоей романтизирующей салонной музыки, в которой
подвизается и г-н Амадеус Меро и притом с успехом. Паспорт
ее слишком ясно написан у нее на лбу, чтобы испытывать еще
какие-нибудь сомнения; он гласит: «Где только можно всего
понемножку». Между тем г-н Меро не лишен собственного
таланта и из него что-нибудь да получилось бы, попади он в
более строгие руки. Правда, в его «большой» фантазии вряд ли
что-нибудь найдешь, кроме вступления, которое многого не
стоит, а за ним аккуратные, очень блестящие вариации на марш
, из «Жидовки», которые и по тональности несколько
напоминают «Александровский марш»2. Кое-где он пробует силы и по
ученой части, но никогда этим не злоупотребляет, во
избежание зевков со стороны слушателей. Первая вариация звучит
очень хорошо. В первой части третьей наперекор всему
ритму— лишний такт.
Если бы г-н Ладурнер обладал хотя бы четвертой частью
развязности предыдущего автора, он завоевал бы публику
столь же быстро, сколь он вправе это заслужить своим
трудолюбием. При всех достоинствах, какими его фантазия
отличается от многих других, она, однако, полностью лишена
всякого изящества, в ней нет ни намека на более тонкую культуру,
которая местами проявляется даже у неотесанных талантов.
343
По сравнению с прежними временами наша музыка настолько
обогатилась гибкостью, подвижностью выразительных средств,
многообразием нюансировки, что мы давно уже отвыкли от
такой топорной и тяжеловесной оригинальности. Разумеется, по
поводу темы Генделя недопустимо болтать с той же легкостью,
как по поводу темы какого-нибудь Беллини. И наш композитор
сознает высоту своей задачи, он подходит к ней внимательно,
с достоинством, со всей любовью, на какую только способна
натура скорее жесткая. В этом для него столько похвального,
что порицание, только что нами высказанное, не должно
помешать ему и впредь работать в том же духе, но с более строгим
отбором средств. Если я не ошибаюсь, автор в своем знании
существующей музыки не ушел далее Бетховена, а быть может
и до него еще не добрался. Если он в самом себе находит
награду за проделанную им работу, то мы ему желаем в этом
счастья; но пусть от современников он не ждет большей
награды, чем за какое-нибудь латинское стихотворение. Тот, кто не
сумел подняться до уровня современности, будет по большей
части заблуждаться в том воздействии, какое может оказать
созданная им вещь, но часто и в самой этой вещи. Но если бы
г-н Ладурнер поднялся на эту высоту, то как напугало бы его
великое множество юных смеющихся лиц, ни о чем другом не
мечтающих, как о всяком старье, вроде непрерывного
перекидывания правой руки через левую, длинной мелодии,
излагаемой в басу (ср. трио в так называемом «Todtenpolonaise»3),
старомодных арпеджио в низком регистре, двойных форшлагов
и многого другого. Но в чем к нему не придирешься и где он
работает настолько крепко, по-генделевски, что молодежь с
почтением расступится перед ним, так это в фуге, хотя мне
лично хотелось бы, имея в виду ее длину, чтобы в ней было
больше стройности и больше нарастания. Жаль только, что
мелодию тенора на стр. 3 (там, где тема появляется впервые)
композитор в дальнейшем вовсе теряет; дело в том, что ее
отлично можно было бы в качестве второй темы включить в
сонату, состоящую, правда, из одной только части, и это могло
бы придать сочинению в целом более цветущий колорит. Во
всяком случае мы с большим участием предвкушаем
дальнейшие достижения этого композитора.
«Счастливыми же надо признать тех, кого их
происхождение сразу же поднимает выше нижних ступеней человечества;
тех, кто избавлен от условий, в которых томятся многие
хорошие люди на протяжении всей своей жизни, и даже не должны
пребывать в них в качестве гостей». Так говорит Гете, и
никогда еще я более живо не вспоминал этого места из «Вильгельма
Мейстера», как сейчас, при переходе от предыдущего
композитора к тому, которого мы назвали на последнем месте.
Насколько же он владеет своей речью и своими мыслями, как
великосветски он себя ведет. Более того, как легко он связывает,
344
переплетает и высвобождает отдельные нити, так что даже и
не замечаешь его намерений. Не перенапрягая, ко и не
отпуская слушателя, он влечет его за собой куда он только захочет.
Он подслушал у публики самое незаметное биение ее пульса и,
как редко кто другой, возбуждает ее и снова успокаивает.
Коротко говоря, всеобщий энтузиазм, вызванный фантазией
Тальберга на темы из «Гугенотов», как в Париже так и в
других местах, всецело в порядке вещей. Удачная форма,
которой" он пользуется в подобных своих новейших композициях,
применена им и здесь. Короткое вступление с намеками на
будущие темы, а затем первая из них с одной вариацией, в
которой уже появляются отзвуки второй темы, далее сочетание
обеих тем и, наконец, короткое убеждающее заключение.
Трудно было бы дать представление о том, как Тальберг
пользуется своим инструментом, человеку, не убедившемуся в
этом собственными глазами и ушами, представление о том, как
он наряжает мелодию вновь найденным аккомпанементом, об
изысканных эффектах, достигаемых педалью, о сквозном
проведении отдельных звуков через всю звуковую массу, так, что
часто кажется, будто слышишь несколько голосов сразу, и т. д.
Таким образом, самые выдающиеся из наших молодых
фортепианных композиторов создают каждый в отдельности свою
собственную особую инструментовку; конечно, все это не
существует для тех, кто видят в фортепиано только машину, часы
с музыкой — переливающиеся вверх и вниз миниатюрные
звуки. Зато другие будут радоваться разносторонности этого
инструмента, столь бедного в каждом отдельном звуке, но
способного обнаружить неслыханное богатство в их сочетаниях.
ВТОРАЯ ПАРТИЯ
К. Руммель. Воспоминания о Сабине Хай-
нефеттер. Соч. 79. — И. Р у к г а б е р. Воспо-
\ минания о Беллини. Соч. 35. — Э. К е л е р.
Воспоминания о Беллини. Соч. 54. — Г. Гер ц.
Драматическая фантазия на знаменитый
протестантский хорал из «Гугенотов». Соч. 89. —
Г. К. Куленкамп. Охота. Юмористическая
звуковая картина в четыре руки. Соч. 49
Когда к Вольтеру обратились за отзывом на присланную
ему книгу, он, как известно, написал весьма короткую
рецензию, вычеркнув из слова Fin последнюю букву. Кто знает, быть
может еще более короткой является литера I, написанная Фло-
рестаном на руммелевском «Воспоминании», если только это
не цифра, а латинская буква. Во всяком случае эта
композиция — сносное сочинение на случай, причем — с известными
рифмами вроде «море—горе», апофеоз, если не восхитительный,
то все же возникший от восхищения перед соотечественницей.
345
Если когда-нибудь будет запрещено говорить правду,
«Воспоминание» это придется причислить к лучшим произведениям.
Последнее относится и к сувениру Рукгабера. Многие
(как, например, мы и я) редко думают о Беллини, и поэтому
такая встряска * бывает полезна. Будь я на месте издателей,
я бы ни в коем случае не допустил такого высасывания меда
из беллиниевских опер. Этак можно высосать и самое лучшее.
Странно, что названные выше «Воспоминания», равно как и
одноименное произведение г-на К е л е р а — все написаны в
E-dur и служат вкладом в характеристику этой тональности;
столь же странно, что все они начинаются на один лад, а
именно в высшей степени блестяще, и только рукгаберовское сходит
на нет в еле слышном рр, тогда как остальные кончаются точь-
в-точь как Sinfonia eroica. Однако фантазия г-на Келера
весьма похвально выделяется из них к тому же и большей
органичностью своей формы и во всем изобличает солидность
знаний и мыслей. С хорошим сопровождением оркестра,
который подразумевается, и исполненная с огнем и с любовью, что
также подразумевается, она всюду пройдет под аплодисменты.
Как уже сказано, можно лишь пожелать, чтобы первые
немецкие композиторы таким же образом продолжали себя
увековечивать при помощи композиторов итальянских.
Когда Моцарт с выражением блаженства в очах
присутствовал при исполнении «Miserere» Аллегри4, он едва ли
вслушивался в него с большим напряжением, чем наш уважаемый
Герц в первое представление «Гугенотов». Он, вероятно, про
себя думал: «Шельмы вы шельмы, нужно быть немузыкантом,
чтобы вопреки всем этим авторским правам не взять себе на
заметку все лучшее, что здесь есть и что сорвало
аплодисменты». И в ту же ночь он садится и высиживает и пишет. Впрочем,
уже заглавие — явный, хотя и выгодный для покупателя обман:
вместо драматической фантазии на «le celebre Choral protestant
intercale par Giac. Meyerbeer dans les Huguenots» ** он
получает, кроме самого хорала, который словно вваливается только
один раз, чисто мейерберовскую, сиречь фальшивую, сцену с
хором, арию с действительно хорошими местами, цыганскую
песню, о которой ничего не скажешь, и очень хорошенький air
de ballet***. Мы сами еще не достаточно глубоко проникли в
«Гугеноты», чтобы с уверенностью сказать, что принадлежит
Герцу и что Мейерберу; и все же мы на это решились. Впрочем,
можно смело утверждать, что все умело, часто остроумно скрое-
* Намек на корень Ruck (нем. — толчок, рывок, встряска) в фамилии
автора.
*' Знаменитый протестантский хорал, включенный Джак. Мейербером в
«Гугеноты» (франц.).
*** Балетный номер (франц.).
346
но на живую нитку. A propos, что все же означают маленькие
хорошенькие коробочки над отдельными нотами? может быть —
легкий нажим, или изящное поднятие руки? В Штутгартской
энциклопедии коробочки этой наверняка нет. Обращаем на это
внимание.
О четырехручной «Охоте» г-на Куленкампа никаких
новых мыслей из себя не выжмешь, ибо содержание ее можно
во всех подробностях увидеть и прочитать на чистенькой
виньетке и в приложенной программе. Там можно, например, найти:
«11. Вскакивает заяц; промахи при стрельбе. 12. Насмешливые
замечания. 13. Плоские извинения» и т. п. В приписке,
адресованной редакции, композитор сам опасается, «что подобные,
замеченные им детали могут послужить поводом для
зубоскальства, но что он, ради правдивости изображения, таких мелочей
опустить не мог» и т. д. В первом пункте он совершенно прав,
во втором — лишь на половину. Между действительной
пошлостью и шекспировской еще большая разница. Зачем я буду
скрывать: «Охота» окончательно раздосадовала меня. Если
композитор годами трудится, пишет сорок пьес с усердием,
достойным всяких похвал, и наконец нападает на тему, которая
никаких поэтических волнений вызвать не может, и если он к
тому же обрабатывает ее настолько сухо и неостроумно,
насколько это вообще возможно, то это может только огорчить
всякого заинтересованного наблюдателя. Это не звук, свободно
вырвавшийся из груди; это и не звучание охотничьего рога;
словом, музыка эта не живет. «Скажи мне, где ты живешь, и я
скажу тебе, как ты сочиняешь», — говорил Флорестан по
случаю одного из прежних сочинений г-на Куленкампа. Флорестан
прав, был прав и Рельштаб, когда он, достаточно образно,
как-то воскликнул: «Застрелить зайца — это они могут, наши
композиторы, но задушить льва — не тут-то было».
ТРЕТЬЯ ПАРТИЯ
Я. Р о и з е н х а й н. Воспоминания. Роман. —
К. Черни, Воспоминание о моем первом
путешествии (по Саксонии). Соч. 4'13. — А. Берти-
н и. Воспоминания. (Impressions de voyage. Путе-
; вые впечатления). Соч. 104; Каприс на романс
Гризара. Соч. 108; «Сара» («Sarah»). Каприс на
романс Гризара. Соч. 110; Два ноктюрна.
Соч. 102. — А. Ле Карпантье. Каприс на
романс Гризара. Соч. 16. — Г. К. Куленкамп.
Три ноктюрна. Соч. 42. — Дельфина Хилл-
X а н д л е й. Каприс, (b-moll). — А. Ю. Б е х е р.
Девять лирических пьес. Соч. 2
«Воспоминания» образуют целую рубрику в нынешнем
ярмарочном каталоге, не говоря уже о реминисценциях. Среди
них больших монументов мне еще не попадалось; все же
эта тема — музыкальная, ведь сама музыка есть воспоминание
о самом прекрасном, что жило и умирало на земле.
347
Романс Розенхайна не поднимается выше легкой,
лирической пассивности. Это можно себе представить. Робкий, как
первая любовь, он сам не будет возражать, если о нем больше
ничего не скажут. Но где же сонаты, концерты и проч.,
которые г-н Розенхайн нам еще должен? Он еще достаточно силен
и молод, чтобы даже «задушить льва».
Поговаривают о том, что г-н Ч е р н и, уже осиянный
нимбом из четырехсот сочинений, еще во время последней
ярмарки писал своим издателям: «Радуйтесь, ибо я только сейчас
по-настоящему берусь за сочинительство». Действительно, он
сейчас снова за это взялся с пылом, который я склонен был бы
назвать неуемным. Если бы он занимался этим делом не в
такой степени en gros * (ведь часто у него десять, а то и
двенадцать толстых тетрадей значатся под одним опусом), то он уже
сейчас был бы первым, кто украсился тремя нулями;
достаточно вспомнить Скарлатти, который один написал До двухсот
опер, или Баха, в сочинениях которого все равно потеряешь
счет. Так соприкасаются великие умы и крайние
противоположности. Ныне же мы открываем в нем даже новый талант —
к живописной характерности, пользующейся в наше время
большим спросом и всеобщим предпочтением. Перед вами
описание целого путешествия. Почтальон трубит, композитор уже
выглядывает из окна кареты: «Неужто это возможно, —
восклицает он в соответствующем речитативе, — неужто ты
взаправду путешествуешь!» — и прекрасная Вена убегает все
дальше и дальше. Чего только не могло приключиться с нашим
композитором? Кто знает? Впервые в черниевской композиции
мы даже наталкиваемся на более туманные места, истолковать
которые мы не беремся. Впрочем, каждое из этих произведений
стоит большего, чем критика на них; поэтому разучивайте их
на здоровье. И когда Флорестан расхаживает передо мной взад
и вперед, бушует и заявляет: «Будь я Черни, я никогда не
напечатал бы произведения, столь выгодно отличающегося от
прежних» — то он, пожалуй, заслуживает только названия
ипохондрика.
Иного рода — более запутаны и таинственны — описания
путешествий г-на Б е р т и н и. Бедные, вы все проспали, если
считали его пресным! Пожмем же руку тому, кто еще обращает
внимание людей на те великолепия, которые громоздятся в
этом сочинении. Я сравню это путешествие скорее с полетом на
воздушном шаре, и лишь заключение несколько напоминает
чувствительный конец Йорика. Доницетти — профессор
контрапункта, Бертини может еще дотянуть до профессора эстетики.
Насколько здесь все вытекает одно из другого, сила сменяет
ласку, рассудок—фантазию, насколько здесь искусство и
природа взаимно проникают друг в друга! Все это еще в большей
Оптом (франц.).
348
степени относится к ноктюрнам, которые, видимо, выражают
нечто мечтательное, сладострастно-страдающее. Точно так же
и оба каприса — истинные чудеса, сотворенные человеческим
духом, — и сколько таких чудес нам еще придется отметить,
хотя бы в следующем каприсе г-на Ле Карпантье! Но здесь
уже не до шуток: мы без всяких обиняков должны причислить
этот каприс к самому худшему, что было за последнее время
предложено французской литературой, которую ее издатели
должны были бы ради собственной же выгоды переправлять к
нам с большим выбором.
Но вот появляются физиономии более интересного,
немецкого склада. Сначала — о ноктюрнах г-на Куленкампа:
просмотрим сразу же один из них такт за тактом. Номер
второй. E-dur. Начинается в должном характере. Такты 1—8 —
хорошо. Такты 9—16 — еще лучше, хотя желательна была бы
более свободная декламация. Затронут был cis-moll, значит,
он идет в Н. От появления D-dur становится не по себе; сам
композитор чувствует неуместность этой тональности при
основном тоне Е и переходит в fis-moll (такт 25). Какой-то злой
гений уводит его в A-dur; периоды уже теряют ясные границы;
автору все больше делается не по себе, и он спасается в G-dur;
но и это его не удовлетворяет. Появляется Es-dur — совсем как
с неба свалилось. Еще неудачней бросается он в A-dur, откуда,
правда, нетрудно было попасть в желанный E-dur. Но почему
вдруг тема проходит октавами, что лишает ее всякого
выражения? Почему в периоде — такты 9—15 на стр. 11 — не хватает
одного такта? Почему после аккорда е—gis—h—d идет аккорд
C-dur, что никогда в жизни звучать не будет?
Каждый согласится, что несмотря на все эти недостатки,
ноктюрны свидетельствуют о более благородном умонастрое1
нии, чем в сотнях других явлений сегодняшнего дня. Но если
спросить, кому это идет на пользу — публике, искусству или
самому композитору, ответ вряд ли явился бы
затруднительным.
Творчество этого композитора, вдумчивого и
восприимчивого, каким мы его знаем, протекает в эпоху раздоров, когда он
более чем когда-либо нуждается в строжайшем учете своих
сил, чтобы не попасть на ложный путь. Поэтому он и
колеблется между старым и новым, пробует то здесь, то там, всегда
готов угодить, вот-вот уже у самой цели и тут же теряет ее из
виду. Однако все это не мешает нам его подбодрить. Мы вовсе
не отчаиваемся в том, что он когда-нибудь достигнет
совершенства, хотя бы он этого и не хотел и продолжал писать ноктюрны
даже сотнями. Если из них удачными окажутся два или три,
это все же нечто большее, чем если бы композитор после
первой же не вполне удачной попытки вовсе спасовал.
Детям, однако, это дарят во сне. Каприс Дельфины
Хилл-Хандлей, которую многие лучше знают и предпочита-
349
ют величать под именем Шаурот, со всеми его небольшими
слабостями, принадлежит к самым милым образцам этого
жанра. Его недостатки свидетельствуют об отсутствии скорее
навыков, чем умения; подлинно музыкальный нерв
прощупывается всюду. Пока еще очень нежный, страстный румянец
придает этой миниатюре особый интерес.
Не менее интересны лирические пьесы г-на А. Ю. Бехера*.
Заглавие, однако, подходит не ко всем. Некоторые из них, как
я подозреваю, были вначале положенными на музыку
текстами, а затем переработаны для фортепиано. Если я не ошибся,
то это заслуживает порицания, ибо, по-моему, это
предосудительный поступок по отношению к собственному детищу. Если
это не так, то такие номера как второй, четвертый, седьмой
остаются непонятными. Оригинальными фортепианными
пьесами я считаю лишь номера третий, пятый, шестой; относительно
остальных я колеблюсь. Во всех господствует выражение
какого-то страдания, борьба за нечто недостижимое, тоска по
успокоению и миру, и все это высказывается то тяжело и
холодно, то легко и трогательно. С точки зрения музыкальной
всюду видно стремление к значительному и своеобразному,
всюду редкие гармонии, своеобразные мелодии, угловатые
формы — спокойно завершенных я не нахожу. Некоторые
такты мне даже совсем не нравятся, так же и порядок, в котором
пьесы следуют одна за другой; все это могло произойти
гораздо естественней и приятней. Хотелось бы, чтобы композитор
придал своим будущим образам немного той грации, которой
столь обворожительно овеяны творения вдохновившего его
образа, того, кому посвящены эти «лирические» пьесы6.
Внутреннего благородства они отнюдь не лишены.
50. ПЕСНЯ И РОМАНС ДЛЯ ГОЛОСА
С СОПРОВОЖДЕНИЕМ ФОРТЕПИАНО
К. Лёве. «Эсфирь». Круг песен в балладной
форме из пяти разделов [на стихи] Л. Гизебрехта.
Соч. 52
Польский король Казимир требует, чтобы прекрасная
еврейка Эсфирь стала его наложницей. Она соглашается на это
при условии, что ее народ, изгнанный из Венгрии, найдет
прибежище в его стране; она же за это должна крестить своего
первенца. В дальнейшем король и ребенок умирают. Мать из-
* Впоследствии умер при печальных обстоятельствах. [Ш., 1852]5
350
гоняют из королевского замка. Ее ребенок погребен на
христианском кладбище.
.-Таково содержание стихотворения, которое нам
представляется свежим и непосредственным по мысли, хотя во всех
деталях раскрывается лишь после неоднократного прочтения.
В частности, в первых строфах сомневаешься, кому
принадлежат слова: то ли королевскому сыну, еще не взошедшему на
трон, то ли кому-нибудь другому. Что действие включает в
себя множество музыкальных элементов, любому, впрочем,
видно сразу: заносчивый властитель и угнетенный народ,
могущественный король и прекрасная еврейка, скорбь матери, ее
самопожертвование ради своего народа — все это контрасты,
которые в состоянии передать только музыка и которые в силу их
особенностей никто не сумел бы лучше объединить в
живописную картину, чем именно Лёве.
Каждая песня обладает своим особым характером. В
первой— затаенная тоска, пылкое объяснение в любви,
сопротивление героини. «Христианин, твои любовные речи
воспламеняют мою душу. Должна ли я расстаться с израильским народом,
с теми, кого бог избрал и бог покинул?» Почти повсюду a-moll,
кое-где C-dur.
Во втором разделе — томление короля по Эсфири,
угрожающий тон, так как она ему отказывает, еще более грозные
настояния, F-dur переходит в минор. Наконец, она решается.
«Однако, король, лишь под крупный залог: за жизнь и благо
иудеев и за половину твоего королевства». Музыка страстна,
почти театральна.
В третьей песне Эсфирь сначала смиряется и находит
утешение в благе, содеянном ей своему народу; затем скорбь о
первенце: «Куда, куда? Священники идут, он окроплен святой
водою». Следующий за этим мотив напоминает один из
мотивов второго раздела.
В четвертой песне — радость Эсфири, доставляемая ей ее
дочерьми-близнецами, которых у нее не отняли; сопровождение
своеобразное. Весть о смерти ее сына: «Бог Авраама, ты дал!
То, что ты взял — твое». Прекрасные аккорды, переходящие в
колокольный звон. Маршал объявляет о смерти короля. Ее
изгоняют: «Пойдемте, дети, пойдемте к своему народу, еврейский
квартал нас примет». В музыке мягко проступает воспоминание
о начале событий.
В последней песне — насыщенный A-dur. Израиль стал
богатым: «Мои дочери-близнецы тоже расцвели, как божьи
лилии, я же должна жить в тихой скорби», — произносит Эсфирь.
Музыка возвращается в первоначальный a-moll: «Белый
крест — таков знак, там я найду могилу своего сына. Здесь
спокойно, здесь мне хочется поплакать» и т. д. И занавес тихо
падает на опустевшую сцену.
351
Бернхард Клайн. «Бог и баядера»
Гете; «Рыцарь Тогенбург» Шиллера;
«Коринфская невеста» Гете; Семь стихотворений из
«Картин Востока» {Штиглица] и из «Саги о Фритьо-
фе [Тегнера]; «Гимн» Рельштаба; Три песни
Гете. (Тетради 1—б посмертных баллад и
романсов.)
Если Лёве живописно характеризует в музыке почтьГ*"кая^-"
дое слово стихотворения, то Б. Клайи набрасывает
изображаемое, каково бы оно ни было, при помощи лишь самых
необходимых очертаний с простотой, подчас невероятной, подчас же
производящей впечатление чего-то стесненного и мучительного.
Одной простоты недостаточно для создания художественного
произведения, и она может, при известных обстоятельствах,
оказаться столь же предосудительной, как и ее
противоположность— перегруженность; но полноценный мастер использует
все средства с выбором и своевременно. Так, «Бог и баядера»,
это, по своей человечности, самое прекрасное стихотворение
на свете, вряд ли может — по крайней мере в отношении его
спокойных и величественных мест — получить более достойную
трактовку, чем это удалось Б. Клайну. Однако там, где поэма
становится более чувственной, более живописной, более
индийской, музыка по большей части слишком бесцеремонно отстав
от нее; в таких случаях хочется большего, мягких телесных
тонов; насколько здесь Франц Шуберт, Лёве и многие новейшие
композиторы накладывали часто слишком материальный слой
краски, настолько Клайн скуп в этом отношении, а там, где он
вынужден поступать, как они, он делает это не свободно и без
удовольствия. Попробуем представить себе некоторые места
баллады без многозначительных слов: в сущности, ничего не
останется, кроме обыденных гармоний и столь же обыденных
ритмов и мелодий. Если оставить в стороне то упорство, с
каким Клайн пренебрегает, как мы это видим, всеми
материальными средствами, то мы получим — и мы вправе это
утверждать — в обеих гетевских балладах два в высшей степени
благородных и достойных своего создателя произведения,
которыми композитор явно наслаждался сам. И если от гения,
объединяющего в себе высокое и глубокое, он унаследовал лишь
частицу второго, то он все же поднимается, в особенности к
концу, подобно самому богу, Еместе с баядерой так, что мы,
глубоко потрясенные, еще долго смотрим вслед блаженному
явлению, растворяющемуся в горном эфире.
Столь же спокойно и без всяких прикрас рассказывает нам
повесть о Тогенбурге: некоторые места даже неподвижны.
Музыка для должного воздействия нуждается в оживлении при
помощи тончайшей декламации, каковая, как говорят, была
свойственна исполнению самого Б. Клайна. Сама по себе
музыка ничего особенного не представляет. ,. ""
352
Первоначально: «которое на него оказывают произведения,
порожденные низменными интересами или безнравственными увлечениями».
5 Авторская купюра: «Иначе рано или поздно этот союз осилит всех
нас и обрушит целый потоп сочинений, в котором соединятся всеобщая
духовная нищета и умственное бессилие».
8. «ХРИСТОС НА МАСЛИЧНОЙ ГОРЕ». КИР НЕ И ГЛОРИЯ
ИЗ «ТОРЖЕСТВЕННОЙ МЕССЫ» БЕТХОВЕНА
NZfM 1834, 7 апреля, № 2, с. 8.
1 Оратория Бетховена «Христос на масличной горе» ор. 85 сочинена в
1802—1803 гг., его «Торжественная месса* ор. 123—в 1819—1824 гг.
9. КОМИЧЕСКОЕ В МУЗЫКЕ
NZfM 1834, 10 апреля, № 3, с. 10. Написана под впечатлением статьи
К. Штанна (Кеферштайна) под таким же названием («Cacilia» 1833, Heft 60,
S, 221). Шуман рассматривал свою заметку как эскиз для большой статьи
«О юморе в музыке», где «все будет развито с большей ясностью» (G. Sch.
(J) I, S. 322). В преамбуле заметки развита мылсь из цикла 4 (см. 88).
1 В скерцо 9-й симфонии Бетховена литавры настроены не на кварту, как
обычно, а в октаву (два /). Это связано несомненно с тем, что партия
литавр участвует в тематическом развитии данной части (что также необычно),
воспроизводя множество раз начальный мотив главной темы скерцо:
2 Бетховен, симфония № 7, часть третья, эпизод (Assai meno presto),
такты 51 и далее от начала эпизода.
3 По-видимому, имеется в виду продолжение фрагмента, указанного в
комментарии 2, а именно тутти в тактах 58—62 (то же при повторении
эпизода).
4 Бетховен, симфония № 5, скерцо, по-видимому, начало репризы, см.
цифру 245.
5 Оркестр лейпцигского Гевандхауза.
6 Бетховен, симфония № 8, финал, по-видимому, такты 16—18.
Ассоциация этого мотива с фамилией оркестранта — скорее всего шутка.
7 Бетховен, симфония № 5, скерцо, эпизод, два такта до цифры 200.
8 Бетховен, симфония № 4, часть вторая, такты 9-й и др.
9 Бетховен, струнный квинтет ор. 29, финал. По-видимому, Шуман имеет
в виду разработку, где после «задорной фигуры» в размере 6/8 (первая
скрипка), в партии второго альта проводится двухдольная тема (9-й такт
от начала разработки):
10 Точнее, Andante con moto e scherzoso.
11 В комедии Граббе «Шутка, сатира, ирония и глубокий смысл» в конце
последнего действия на сцене появляется сам автор с фонарем в руке.
13 Р Шуман, т. I 377
10. СОВРЕМЕННИКИ
Анна Каролина фон Бельвиль
NZfM 1834, 10 апреля, № 3, с. 11. Первая публикация без подписи.
Комментируя включение этой статьи в NZfM, г. Янзен указывает на ее ярко
выраженный «шумановский отпечаток». Подзаголовок «Написано старым
музыкантом», по мнению комментатора, не противоречит принятому им
решению, «ибо Шуман нередко скрывал свое авторство за неизвестными
шифрами»; кроме того, «отдельные мысли статьи он высказывает почти теми же
словами в других местах». Янзен указывает на полное совпадение данной
статьи с заметкой о Бельвиль, напечатанной в «Damenkoversations-Lexikon»
(«Дамском энциклопедическом словаре», издатели К. Херлоссон и В. Люэ),
где Шуман сотрудничал в 1833—1834 гг. (G. Sch. (J) I, S. 322). М. Крайзиг
перепечатал статью, опираясь на те же соображения (G. Sch. (К) II, S.
466).
1 Урй — французский эмигрант, первый скрипач итальянской оперы в
Лондоне.
2 Гастрольные концерты А. К. Бельвиль — Ури состоялись в Петербурге
и в Москве в 1832—1833 гг.
11. КОНЦЕРТЫ
NZfM 1834, 14 апреля, № 4, с. 14 (Штайн), 28 апреля, N° 8, с. 31 (Вье-
тан и Лакомб).
1 Рецензия на концерт молодого пианиста и композитора. Штайн родился
в Альтоне в 1819 г. В 1828 г. А. Метфессель издал первую тетрадь сочинений
девятилетнего вундеркинда («Шесть песен для детей»). В 12 лет,
поощряемый Гуммелем, Шпором, Метфесселем, Теодор отправился в свою первую
гастрольную поездку. В концертах он импровизировал с другим пианистом в
четыре руки (что заранее объявлялось в афишах). В 40-х годах Штайн жил
в Ревеле (ныне Таллин), с 1872 г. был профессором по классу фортепиано
Петербургской консерватории. Скончался в 1893 г.
2 Фатасос — сын бога сна Гипноса, по Овидию являлся людям во сне
в виде неодушевленных частей природы — земли, воды, камней и т. п.
3 Скрипачу Вьетану было в то время чуть более 14 лет, пианисту Лаком-
бу— 15 с половиной.
4 Авторская купюра: «Если бы мы могли обозначить первый род
виртуозности («отдельные 'красоты») знаком ~^*~>^~*^~* , второй — знаком
С© третий—знаком ^тжжвя=======. , то для последнего (вьетановско-
го) я бы охотнее всего выбрал знак дуги. Таковы мои, пусть несколько
странные, флорестановские мысли».
5 Концерт a-moll Гуммеля, 1-я часть.
8 А. Герц. Вариации на тему «Ma Fanchette est charmante».
12. АНГЛИЙСКАЯ МАТРОССКАЯ ПЕСНЯ
NZfM 1834, 14 апреля, № 4, с. 15.
1 В концерте 8 октября 1833 г.
378
13. Я. БРАНДЛЬ. «ГЕРО»
NZfM 1834, 17 апреля, № 5, с. 19. Рецензируемая монодрама Иоганна
Брандля написана на известный мифологический сюжет; изложенный у
Овидия в «Героидах», он получил затем отражение в литературе (например, в
поэме «Геро и Леандр» Кристофера Марло, в пьесе Ф. Грильпарцера «Волны
моря и любви») и в музыке. Шуман обратился к этому сюжету в пьесе
«Ночь» из цикла «Фантастические пьесы» ор. 12, 1837.
14. И. МОШЕЛЕС. ЭКСПРОМТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
NZfM 1834, 28 апреля, № 8, с. 31.
1 М. Крайзиг замечает в своем комментарии, что Шуман и сам всегда
был очень озабочен внешним оформлением своих произведений (G. Sch. (К)
II, S. 470). Известно, что во многих случаях он настойчиво предлагал
издателям свой проект оформления.
15. [К ЧИТАТЕЛЯМ «NEUE ZE1TSCHRIFT»]
NZfM 1834, 1 мая № 9, с. 36. В первой публикации—без названия;
воспроизводим здесь заголовок, данный Г. Янзеном.
1 Имеется в виду обзор эпистолярных документов по книге «Briefwechsel
zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 dis 1832». Berlin, 1833 und
1834; обзор А. Бурка печатался в NZfM 1834, Ш 1—9.
2 Здесь буквенными шифрами названы имена сотрудников, которым
журнал приносит благодарность.
16. Я. В. КАЛЛИВОДА. УВЕРТЮРЫ d-moll, F-dur
NZfM 1834, 5 мая, № 10, с. 38.
17. ПСИХОМЕТР
NZfM 1834, 26 мая, № 16, с. 62. Рассказ о «психометре» — типично
шумановская юмористическая форма рецензирования и, вместе с тем, след
самостоятельного интереса автора к таинственному «измерителю души». Свои
впечатления от «психометра» Шуман подробно изложил в письме к матери
от 9 апреля 1833 г. (Письма I, с. 183.).
1 Смысл этих игриво-юмористических метафор, по-видимому, следующий:
в воображаемой «весне будущего» творчество художника (храм Аполлона)
не будет жестко регламентироваться непременными предписаниями закона
(«весами» и «мечом» Фемиды); под эгидой закона (алтарь Фемиды) будет и
«жертвенное» служение богине любви (согласно античному мифу, жрицы
при храме Афродиты отдавались, выполняя этим жертвенный долг своей
богине).
2 Имеется в виду популярная пьеса Шуберта, которая входит в
собрание вальсов ор. 9 и впервые была издана в 1821 г. Название «Sehnsuchtswal-
zer» («Тоскливый вальс», в другом варианте «Trauer oder Sehnsuchtswal-
zep>— «Печальный или тоскливый вальс») не принадлежит автору; оно
появилось в последующих изданиях, где пьеса приписывалась Бетховену (1826,
379 13*
1828). В 1833 г. Шуман сочинил фортепианные вариации на этот вальс (Eis-
mann, S. 82). В статьях, так же как и в письмах Шумана, это, по-видимому,
очень милое его сердцу произведение упоминается неоднократно.
3 В первоначальном варианте статьи в этот список входила также пьеса
К. Цельнера — «Дивертисмент» для фортепиано на тему из оперы
«Фальшивомонетчики» ор. 40,— произведение, по мнению рецензента, «даже несколько
более солидное, чем большинство подобных, хоть ему и не хватает грации
и вкуса».
18. ИЗ КРИТИЧЕСКИХ КНИЖЕК ДАВИДСБЮНДЛЕРОВ
I. Этюды для фортепиано И. Н. Гуммеля. NZfM 1834,
5 июня, № 19, с. 73; II. «М у з ы к а л ь н ы е цветы» Генриха Дорн а.
NZfM 1834, 26 июня, № 25, с. 97. В редакционном примечании к первой
публикации говорится: «Относительно упоминаемых в названии «давидсбюндле-
ров» мы, к сожалению, пока не можем дать полных разъяснений. Но
уважаемый читатель в ближайшее время дождется таковых. Неизвестная рука,
которая уже в предшествовавших номерах газеты обозначена была шифрами
Эвсебий, Ф—н, Флорестан, дает нам более чем достаточную надежду на это».
1 Авторская купюра: «Опытный, размышляющий автор пишет иные
этюды чем молодой, фантазирующий. Тот знает накопленные силы, границы
своих возможностей и целей, очерчивает свой круг и не выходит за его
пределы. Этот же громоздит одно на другое, швыряет глыбу на глыбу, покуда он
сам и с опасностью для жизни не дойдет до некоего геркулесового строения.
Конечно, я вижу в гуммелевскнх этюдах односторонность; их цель —
достигнуть прочности только в своем стиле. Совсем иначе в этюдах Мошелеса, где
при неизменном единстве ощущается оригинальность разнообразнейших и
возвышенных способов изложения; при этом отнюдь не упускается задача
технического образования. Но как раз это (гуммелевское) длительно
формируемое Одно, Единственное, что делает ученика крепким, прокладывает ему
путь, по которому он уже далее идет самостоятельно и который может
перекрещиваться с другими путями. На твоих устах, Флорестан, я вижу,
играет упрек: в произведении, мол, невозможно было бы обнаружить ничего
нового. Но я отметаю этот упрек: ведь эти этюды должны быть только
предварительной школой, в которой ты, знающий работы мастеров,
владеющий ими, уже не нуждаешься».
2 Авторская купюра: «Это так. Когда солнце над нашей головой сияет в
вышине, мы не отваживаемся взглянуть ему в лицо. Мы рискуем сделать
это, когда оно близко к закату, ибо тогда блеск уже не ослепляет нас. И я
все же сделал это, однако не забывая прикрыть глаза рукою; ибо я видел
вокруг сто солнц, напоминающих мне угасающий день и наступающую
ночь».
3 Имеется в виду система И. Б. Ложье, изобретателя механического
устройства («хиропласта»), регулирующего положение руки на клавиатуре.
Система Ложье была хорошо известна Шуману, в частности потому, что ее
применял Ф. Внк (учитель Шумана). Следующая далее метафора
«Соколиные охотники...» заимствована из статьи 4, с. 92.
4 Окончание этого абзаца (от слов: «но как творческий музыканта)
дописано автором в 1852 г.
5 Авторская купюра: «И если ты назовешь их предварительной школой,
разве --по меняет дело?»
G ... очарования фантазии.— В первоначальном варианте «новизны
ф а н т а з и ir> (подчеркнуто автором).
7 Гете. Западно-восточный диван. Книга «Рендш-намэ», стихотворение
«Als wenn das aui Namen ruhte»; направлено против газетно-журнальной
болтовни об искусстве, профанирующей и художественное творчество и
серьезный интерес к нему.
380
8 Авторская купюра: «Ибо в мире ином слезы становятся
жемчужинами».
9 В 1831 г. Шуман брал у Дорна уроки по теории музыки.
10 С 1832 по 1843 г. Дорн жил в Риге.
11 Г. Янзен комментирует: «В прежнее время пианисты исполняли
подобные картины битв с большим успехом, например Штайбельт, выступая
со своими «Bataille de Jemappes», «Bataille de Neerwinde», «L'incendie de
Moscou». В музыке были претворены также битвы при Аустерлице, Иене,
Маренго, Ваграме, Лейпциге и т. п. Конечно, .«Битва при Виттории»
Бетховена пережила их всех. «Да здравствует гений и к черту всю критику»,—
воскликнул Цельтер, придя в полный энтузиазм от этой бетховенской пьесы»
(G. Sch.(J) I, S. 67).
12 Указанные гармонии обозначены по правилам генерал-баса; см также
комментарий 6 к статье 22.
13 Рецензия заканчивается технической оценкой издания и подробным
перечнем опечаток. По мнению Г. Янзена, этот последний абзац — ироническое
подражание стилю рецензий в AMZ (G. Sch. (J) I, S. 323). В NZfM к
статье дается редакционное примечание, где сообщается полное французское
название цикла Дорна и в конце добавлено: «Едва ли стоит отмечать, что
мы рассматриваем номер 3 (т. е. третий раздел статьи о «Музыкальных
цветах») как флорестановскую пародию на рецензию Эвсебия».
14 Псевдоним Rohr остается нерасшифрованным.
19. КОМПОЗИЦИИ Й. К. КЕССЛЕРА
NZfM 1834, 10 июля, № 29, с. ИЗ. Первоначальное название: «И. К. Кес-
слер в его отдельных произведениях».
1 Авторская купюра: «В момент, когда глаза готовы увлажниться, губы
тшатся выразить улыбку».
2 Вариант той же метафоры см. в письме к Л. Рельштабу от 13 января
1834 г. (Письма I, с. 206).
20. АФОРИЗМЫ
(давидсбюндяеров)
NZfM 1834, 7 августа, № 37, с. 147; 11 августа, N° 38, с. 150.
Первоначальное название цикла «Черновое и тонкое» («Grobes und Feines»). Большая
часть заметок заимствована автором из цикла «Давидсбюндлеры» (№ 5) и
лишь незначительно отредактирована. В конце № 38 NZfM напечатано было
следующее:
"Разъяснение
Ходят разнообразнейшие слухи по поводу подписей, относящихся к бюнд*
лершафту. Так как, к сожалению, мы по определенным причинам должны
еще сохранять свое скрытое существование, мы просили г-на Шумана
(уважаемая редакция должна его знать) в некоторых случаях представлять нас
своим именем. Давидсбюндлеры".
Далее следовал ответ: «Я сделаю это с радостью. Р. Шуман».
1 Смысл последней фразы не вполне ясен. По-видимому, автор хочет
сказать, что композитору, способному взглянуть на свое творение (т. е. свой
физически воплощенный образ) со стороны, легче запечатлеть в сердцах
слушателей идеальную сущность этого образа. Это особенно трудно сделать,
когда произведение только что написано и еще не возникло «объективного»
отношения к нему.
2 3 раннем варианте (цикл «Давидсбюндлеры») этот текст начинался
фразой: «47-е заседание Давидсбунда» и кончался следующей: «И не могло
381
ли бы это стать сквозной нитью размышлений, которую можно было бы
протянуть через 47-е заседание Давидсбунда?» (G. Sch. (J) I, S. 22).
3 См. также статью 5, с. 99.
4 В первоначальном варианте эта заметка снабжена редакционным
комментарием: «Нижеследующие замечания относятся к более раннему
времени. Теперь уже многое изменилось».
5 Первоначально: «слишком по-яновски, слишком односторонним».
Имеется в виду Фридрих Людвиг Ян (основатель немецких гимнастических
кружков, повлиявший на движение Буршеншафта), его отрицательное отношение
ко всему чужестранному в немецкой культуре.
6 В. Шрёдер-Девриент была выдающейся исполнительницей роли
Леоноры в опере «Фиделио» Бетховена.
7 ...стенограф Герц...— пианист и композитор Анри Герц.
8 Одно из ранних высказываний Шумана об итальянской музыке и
сравнение ее с немецкой см. в письме к Ф. Вику от 6 ноября 1829 г.
(Письма I, с. 93). В «Афоризмах» отношение автора к итальянцам более критично
и тенденциозно.
9 Заметки «Афористическое» и «Заключение» не включены были в
шумановское собрание ни автором, ни последующими составителями; М. Крайзиг
приводит их только в комментариях (G. Sch. (К) II, S. 387—388). Первая
из названных заметок почти текстуально воспроизводит один из эпизодов
статьи 5.
21. К НАЧАЛУ ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА В 1835 ГОДУ
NZfM 1835, 2 января, № 1, с. 2.
1 См. во вступительной статье, с. 25.
2 Авторская купюра: перечисление важнейших, по мнению редакции,
материалов за истекший 1834 год. Подчеркнут успех журнальных обозрений.
Названы статьи и корреспонденции из Италии, Англии, Франции, России,
Австрии, из городов Германии. Упомянуты статьи, приближающиеся к жанру
художественной прозы. Среди названных авторов — Л. Рельштаб, Г. Паноф-
ка, Ф. Вик, Г. Вебер, Л. Шунке, И. Лизер, К. Банк, К. Беккер, д-р Глок.
Псевдонимы Шумана в статье не упомянуты.
22. ФЕРДИНАНД ХИЛ Л ЕР
NZfM 1835, 6 января, № 2, с. 5; 6 февраля, № 11, с. 41; 13 февраля,
№ 13, с. 53; 17 февраля, № 14, с. 55. Первоначальное название: «Фердинанд
Хиллер, 24 этюда для фортепиано. Соч. 15». Вся статья подписана была
псевдонимом «2». В G. Sch. Шуман подписал первую часть статьи именем Фло-
рестана.
1 Авторская купюра: Шуман говорит о несоответствии между дарованием
Хиллера и пестротой его творческих стремлений и вкусов. «... Я бы назвал
его мастером, если бы он хотел быть учеником». «Он пытается тебя
прельстить, дабы ты признал в нем гения, но вдруг сам показывает себя, как
непереносимый филистер». «Природа одарила его, как своего любимца, а
время взяло его в плен, как злодея». Г. Янзен приводит для сравнения
отзыв Мендельсона о Хиллере: «Я видел недавно новые этюды Хиллера. Они
мне совсем не понравились и это меня огорчило, так как я отношусь к нему
хорошо и верю, что у него есть талант; но Париж — видимо, плохая почва».
«Я не теряю надежды вырвать его из парижской атмосферы славы и
развлечений» (письмо от 23 марта 1835 г.; см. G. Sch. (J) I, S. 325).
2 Цитата из Жан Поля («Титан»).
382
3 Авторская купюра: «Мы ничего не скажем более о молодых
композиторах, которые послужили поводом для этих образов. Но одно мы громко
скажем молодым: уважайте ваших судей, будьте, однако, достаточно
гордыми, чтобы не разговаривать с законченными холопами. Противопоставляйте
себя старому врагу и этим одолевайте его, впрочем, не убивайте его и
никоим образом не оскорбляйте!.. А теперь за работу!»
4 По-видимому, здесь Шуман свободно варьирует реплику Старца тор
из баллады Шиллера «Альпийский охотник». Старец запрещает охотнику
преследовать дичь на тех высотах, где начинается его царство.
5 Первоначально: «жесткой и безвкусной».
6 Цифровка Шумана исходит из принципов генерал-баса, т. е.
обозначает интервалы вверх от данного звука, -например 3 следует понимать, как
А
6 6
аккорд ля—до—соль; соответственно р = фа—ре, 5 = си—фа—соль и т. д.;
Н
буква без дополнительных цифр означает трезвучие. Приводим нотные
расшифровки по отделам схемы:
41 «Связка»
Шве
i «Вторая мысль»
ffH Т. В Зе=
«Повторение второй мысли»
р
«Свободная часть»
(модуляция в сторону e-moll)
«Свободная часть»
(модуляция в a-moll)
Схема, по мысли Шумана, должна проиллюстрировать свойственную Хил-
леру беспорядочность тонального плана и гармонических
последовательностей.
23. КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
NZfM 1835, 27 января, № 8, с. 29 (Фильд); 24 марта, № 24, с. 96 (Хил-
лер); 23 июня, № 50, с. 202 (Мендельсон); 14' июля, № 4, с. 15. (Тауберт).
1 Шуман, по-видимому, имеет в виду расставание двадцатилетнего Филь-
да с его учителем М. Клементи (в 1802 г., после европейского турне
Клементи в Париж, Вену, Петербург, Фильд, сопровождавший своего учителя,
остался на долгие годы в Петербурге). Однако школа, полученная Фильдом
у его единственного руководителя, была весьма основательной. Это помогло
ему довольно скоро завоевать авторитет музыкального педагога и пианиста-
мастера.
383
2 Первый ноктюрн Фильда (Es-dur) появился в 1814 г.
3 См. статью 22.
4 Авторская купюра: «Я часто проигрывал его для себя с
нижеследующим аккомпанементом:
42
г
24. КРИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
NZfM 1835, 16 января, № 5, с. 18 («Музыкальный друг семейства»); 2
июня, № 44, с. 178 (Тальберг, Калькбреннер).
1 Сборник содержит короткие вокальные пьесы на все месяцы года.
В первоначальном варианте рецензии Шуман приводит стихи ко всем этим
пьесам.
2 См. в статье 4 афоризм «Изобразительное», с. 79.
3 Кроме имен некоторых известных литературных персонажей, здесь
упоминается псевдоним Генриетты Фойгт (Элеонора).
4 Роман английского писателя Еулвера-Литтона «Последние дни
Помпеи» появился на языке оригинала в 1834 г. Слепая — героиня этого
романа — рабыня, жертвенно любящая своего господина.
5 Намек на ситуацию известной баллады Шиллера «Перчатка».
25. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОНАЛЬНОСТЕЙ
NZfM 1835, 6 февраля, № 1, с. 43. Статья предназначалась для
«Дамского энциклопедического словаря».
1 По-видимому, имеется в виду трактат Кристиана Даниэля Шубарта
«Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst» («Идеи к эстетике музыкального
искусства»).
2 Здесь назван известный вальс Шуберта (см. о нем комментарий 2
к статье 17) и хор девушек из третьего действия оперы Вебера «Фрайшюц»
(«Wir winden dir der Jungfernkranz»).
26. ТРЕТЬЯ СИМФОНИЯ К. Г. МЮЛЛЕРА
NZfM 1835, 12 февраля, № 12, с. 48.
1 По мнению Г. Янзена, Шуман мог подразумевать окончание мазурки
Шопена ср. 17, № 4 (издана была незадолго до опубликования рецензии на
симфонию Мюллера) — G. Sch. (J) I, S. 325. Однако окончанием названной
мазурки является не квартсекстаккорд, а секстаккорд (VI ступени,
выполняющей в данном случае роль завуалированной тоники).
384
27. «ОСВЯЩЕНИЕ ЗВУКОВ». СИМФОНИЯ Л. ШПОРА
NZfM 1835, 24 февраля, № 16, с. 65.
1 Премьера рецензируемой симфонии сотоялась в Лейпциге 11 декабря
1834 г. (G. Sch. (J) I,,S. 325).
2 Опера Л. Шпора «Иессонда»; премьера — 1823 г.
3 Авторская купюра: «Мы оставляем нерешенным вопрос о том, насколь*
ко музыкальный «Фауст» достиг высоты гетевского. Речь идет об опере
Л. Шпора «Фауст»; премьера— 1816 г.
4 Авторская купюра: «в чьих поэтических деяниях, как в мастерских,
божественные статуи дышат и говорят».
5 Упоминаемая статья И. Занфрида о симфонии Л. Шпора «Освящение
звуков» появилась в NZfM в 1835 г. (№№ 27 и 28 от 3 и 7 апреля).
28. И. МОШЕЛЕС. БОЛЬШОЙ СЕПТЕТ. Соч. 88
NZfM 1835, 27 февраля, № 17, с. 69.
1 Здесь и далее в этой статье под «сопровождением» и
«аккомпанементом» имеются в виду партии струнных и духовых инструментов.
2 Речь идет о концертной пьесе И. Мошелеса «Alexander-Marsch-Varia-
tionen» («Вариации на Александровский марш»). Известно, что Шуман с
успехом исполнял эту пьесу в студенческие годы (Гейдельберг, 1829—1830;
см. Письма I, с. 588). Возможно, что эта пьеса была в его репертуаре уже в.
середине 20-х годов; среди вещей, с которыми юный Шуман выступал на
гимназических вечерах в Цвиккау, его учитель И. Кунтш упоминает
«Вариации Мошелеса» (Eismann, S. 21).
29. «ЯРОСТЬ ИЗ-ЗА ПОТЕРЯННОГО ГРОША»
РОНДО БЕТХОВЕНА
NZfM 1835, 3 марта, № 18, с. 73.
1 Цитируемое Шуманом (с небольшим сокращением) примечание
напечатано в первом издании рондо, выпущенном венским издателем А. Диабел-
ли в 1828 г. Пьеса названа здесь «Рондо каприччо Людвига ван Бетховена.
Посмертное сочинение» (Диабелли приобрел рукопись в 1827 г. на венском
аукционе, где распродавались вещи и бумаги недавно скончавшегося
композитора). Опус в этом издании не обозначен; впоследствии, начиная с из*
дания 1832 г. у Артариа, пьесе присвоен опус 129. Современный
исследователь автографа" Бетховена (неожиданно найденного в 1945 г. в США) Эрих
Херцман относит пьесу к раннему периоду творчества Бетховена (1790-е гг.).
В автографе название «Ярость из-за потерянного гроша» («Die Wuth uber
den verlorenen Groschen») написано чужим почерком, возможно
принадлежащим А. Шиндлеру; здесь же рукою автора сделана карандашная надпись:
«Leichte Caprice» («Легкое каприччо») и еще дополнительно: «Alia ingharese
quasi un Capriccio» («В венгерском стиле в духе каприччо»). Подробные
сведения об автографной рукописи рондо см. во вступительной статье Н. Коп-
чевского к новому изданию пьесы Бетховена в СССР — М., «Музыка», 1967.
2 «Freude schoner Gotterfunken» — тема хора на слова Шиллера из
финала 9-й симфонии Бетховена.
30. МАНУСКРИПТЫ
NZfM 1835, 6 марта, № 19, с. 76 (Фр. Парцш); 24 марта, № 24, с. 96
(Боммер); 26 июня, № 51, с. 206 (Флюгель, Э. Вебер).
1 Фамилия автора рецензируемой песни (F. Partzsch) расшифрована
М. Крайзигом (G. Sch. (К) II, S. 470).
385
2 Будто бы цитируемое далее письмо — типично шумановская
мистификация. Как комментирует М. Крайзиг, Шуман хотел в деликатно-шутливой
форме отсоветовать композитору заниматься в дальнейшем симфоническим
творчеством (см. ссылку на источник в комментарии 1).
3 Речь идет о младшем сыне великого композитора, с которым Шуман
познакомился в 1835 г.
4 См. комментарий 2 к статье 17.
5 См. комментарий 3 к статье 18.
3L КАРНАВАЛЬНАЯ РЕЧЬ ФЛОРЕСТАНА
NZf M, 1835, 10 апреля, № 29, с. 116.
1 Имеется в виду статья 5.
2 «Тристии» («Tristia») или «Скорбные элегии» — цикл лирических
стихотворений, созданный Овидием в период изгнания, проникнутый горечью и
тоской.
3 Джаноццо — воздухоплаватель, персонаж из «Комического
приложения» к «Титану» Жан Поля.
4 ...янычарскую музыку — т. е. звуки, напоминающие ударные
инструменты.
5 Ссылка на воображаемый ученый том одного из старых теоретиков
музыки — не более, чем иронический прием.
6 Несомненно, речь идет о первом проведении главной темы финала у
виолончелей и контрабасов, Allegro assai| 2\
7 Обозначение темпа в начале первой части 9-й симфонии: Allegro ma
поп troppo, tin poco maestoso.
8 Авторская купюра: «люди, у которых в душе нет ничего святого,
проматывающие жизнь, люди, для которых музыка — лишь прикрытие их
пошлейших греховных чувств».
9 Первоначально: «прошу прислать мне пол-локтя квартетов, пол-локтя
фуг в широком формате, далее три четверти локтя сонат и вариаций
Бетховена, так как...». Письмо «силезского помещика» — конечно, литературная
выдумка автора.
32. ИЗ КНИЖЕК ДАВИДСБЮНДЛЕРОВ
СОНАТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
NZfM 1835, 17 апреля, № 31, с. 125 (Хилл-Хандлей, Лёве); 24 апреля,
№ 33, с. 135 (Тауберт); 5 мая, № 36, с. 145 (Шунке).
1 Вольфганг Менцель — консервативный немецкий критик, резко
выступавший против Гете, а также против всех молодых либеральных деятелей
своего времени.
2 Намек на известные романы Жермены де Сталь «Дельфина» (таково
же имя автора рецензируемой сонаты) и «Коринна или Италия»; героиня
второго романа — высоко одаренная поэтесса и артистка.
3 См. статью 7, с. НО.
4 Авторская купюра: «я думаю, он изобретает все это чаще всего без
инструмента».
5 Дуэт для фортепиано в четыре руки; см. статью 7.
6 В погребке Краузе, на Катариненштрассе в Лейпциге.
7 В октябре — ноябре 1833 г. Шуман потерял двух близких людей:
умерли его невестка Розалия и брат Юлиус.
8 Здесь упоминается Генриетта Фойгт, близкий друг Л. Шунке и Р.
Шумана; см. о ней во вступительной статье, с. 26.
9 См. статью 4, с. 78.
386
33. КОРОТКИЕ И РАПСОДИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ,
NZfM 1835, 12 мая, № 38, с. 153.
1 Джон Фильд.
2 Фридерик Шопен.
3 По-видимому, имеется в виду пьеса А. Герца «Блестящие вариации на
последний вальс К. М. Вебера».
4 Ю. Бенедикт в 30-е годы жил в Италии.
5 Уточняем сведения о первых отзывах на произведения молодого
Шумана:
АМА 1832 — «Вариации на тему Абегг» ор. 1, «Бабочки» ор. 2; 1833 —
«Этюды по каприсам Паганини» ор. 3; 1834 — «Экспромт» ор. 5; 1835 —
«Интермеццо» ор. 4, токката ор. 7, «Аллегро» ор. 8.
AMZ 1833 —ор. 1, 2, 3, 5.
«Cacilia* 1834 —ор. 1, 2, 4, 5.
Uris» 1832—ор. 1, 2; 1833 — ор. 3; 1834—ор. 4, 5.
«Komet» 1834 —ор. 4.
Фрагменты из этих рецензий приведены в G. Sch. (J.) I, S. 325—332.
6 См. статью 19.
7 Это была ошибка, Шуман исправил ее в статье 40, с. 294'.
34. КОНЦЕРТЫ
«Leipziger Tageblatb 1835, 24 мая (Герхардт); там же 3,18 июня, NZfM
1835, 9 июня, № 46, с. 188 (Липиньский); «Leipziger Tageblatb 1825,
29 июня (К. Лёве), NZfM 1835, 23 октября, № 33, с. 130 (Мошелес);
«Leipziger lageblatt» 1835, 5 ноября (К. Вик). Все упомянутые публикации
появились без подписи, авторство установлено Г. Янзеном.
1 Концерт состоялся 25 мая 1835 г. Хроникальная заметка об этом
вечере, появившаяся в NZfM 16 июня (№ 48, с. 196) по-видимому, также
принадлежала Шуману. Здесь сообщается, что певица исполнила отрывки из-
опер Маршнера, Райсигера и песни Банка. Автор замечает: «О певице кто-то
из сидевших около меня сказал: словно видишь ее пение и слышишь ее
образ — так гармонично слиты здесь дух и обличье». Ливия Герхардт
(позднее, по-мужу— Фреге) дебютировала в возрасте 14 лет вместе с юной.
Кларой Вик. На протяжении многих лет принадлежала к кругу друзей
Роберта и Клары Шуман. Композитор посвятил ей свой вокальный цикл на
стихи К. Рейнике ор. 36. Герхардт явилась первой и выдающейся
исполнительницей партии Пери в оратории Шумана «Рай и Пери».
2 Концерты польского скрипача Кароля Липиньского в Лейпциге
состоялись 4 и 18 июня 1835 г. Принадлежность публикуемых трех заметок
Шуману Г. Янзен обосновывает тем, что два газетных текста («Липиньский
здесь» и «Липиньский даст...») по содержанию полностью совпадают с
заметкой в NZfM («Он играл божественно»), авторство которой не вызывает
никаких сомнений (см. G. Sch. (J) I, S. 332). Осенью 1836 г. Липиньский
снова побывал в Лейпциге. Шуман несколько раз слушал его в домашней
обстановке, как участника камерных ансамблей (квартеты Бетховена,
сонаты Баха в дуэте с Мендельсоном). 15 ноября Шуман писал невестке
Терезе: «С Липиньским я провел много прекрасных часов; кажется, он любит
меня, как сына» (Письма I, с. 268). Каролю Липиньскому Шуман
посвятил свой «Карнавал» ор. 9.
3 Концерты Карла Лёве состоялись в Дрездене 24, в Лейпциге 29 июля;
см. NZfM 1835, 4 августа, № 10, с. 40, Хроника.
4 Комментируя включение этой заметки в шумановское Собрание,
Г. Янзен указывает на то, что авторство Шумана засвидетельствовал сам
Карл Лёве (Loewe Carl. Selbstbiographie. Berlin, 1870)—G. Sch. (J) 1„
S. 355.
387
5 И. Мошелес. «В честь Генделя», для фортепиано в четыре руки ор.92.
6 По поводу авторства данной статьи Г. Янзен пишет: «Эту статью, как
я думаю, следует без всяких колебаний приписать Шуману. На авторство
Шумана указывают уже выраженные в ней идеальные художественные
воззрения, одухотворенный язык, дружественные слова о Мендельсоне,
глубочайшее почитание «старого Баха» (ср. со «старым Себастьяном» в
четвергом из «Писем мечтателей»). Яснее же всего можно узнать Шумана в
том восторженном преклонении перед высоким искусством Клары, которое
исходит у него из глубины горячего чувства» (G. Sch. (J) I, S. 335). В этой
связи следует напомнить о новой фазе отношений Роберта и Клары, начало
которой относится к осени 1835 г.; см. письма этого периода, особенно
письмо Шумана из Цвиккау от 13 февраля 1836 г. (Письма I, с. 250).
35. ГЕКТОР БЕРЛИОЗ. «ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ АРТИСТА.
БОЛЬШАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ»
NZfM 1835, 3 июля, № 1, с. 1; 31 июля, № 9, с. 33; 4 августа, № 10,
с. 37; 7 августа, № 11, с. 41; 11 августа, № 13, с. 49.
1 Позднее «Фантастическая симфония» обозначена была автором как
ор. 14.
2 Речь идет о любви Берлиоза к английской актрисе Генриетте Смит-
сон. Композитор впервые увидел ее во время парижских гастролей
английской драматической труппы во главе с трагиком Кэмблем в сентябре 1827 г.
Берлиозу было тогда не 19 лет, как думал Шуман, но около 24-х. В 1833 г.
Смитсон стала женой композитора.
3 О содержании своей «Фантастической симфонии» и ее продолжения
«Лелио, или Возвращение к жизни» Берлиоз писал: «Сюжетом музыкальной
драмы являлась, как известно, повесть моей любви к мисс Смитсон, моих
Страданий и мои скорбные мечтания...» (Берлиоз Г. Мемуары. М„
1962, с. 295).
4 Жан Поль. «Титан».
5 Почти неизвестный ныне, рано погибший поэт Франц фон Зонненберг
родился в 1780 г. в Мюнстере (Вестфалия). В 12 лет начал сочинять стихи.
Учился юриспруденции в Иене, потом путешествовал по Швейцарии,
Франции, Германии. Вернувшись в Иену, упорно работал над своим самым
крупным произведением, эпопеей «Donatoa» (Галле, 1806, четыре тома). В 1805 г.
в припадке безумия покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна.
Имя Зонненберга встречается в воспоминаниях школьного товарища
Шумана Э. Флексига. Здесь оно названо в числе увлекавших будущего
композитора художников с необычайной судьбой. «Я вспоминаю, — пишет Флек-
сиг, — как уже с ранней юности он испытывал безумное пристрастие к
гениальным личностям, которые в своем творчестве сами себя разрушали». На
первом месте назван Байрон, чья неистовая запутанная жизнь
представлялась молодому Шуману «чем-то бесконечно великим». «Мощно
импонировала ему фантастическая жизнь и самоубийство автора «Donatoa» Зоннен-
берга>\ Говорится далее о глубоком интересе Шумана к трагической судьбе
Гельдерлпна; цит. по книге Boetticher, S. 9. Приводимые ниже стихи взяты
из поэмы Зонненберга «Избранница» («Die Erwahlte»). В поэме 36 строф,
Шуман цитирует только 7, причем не всегда полиостью и кое-где не вполне
точно (б квадратных скобках мы приводим порядковые номера строф в
оригинале поэмы). Произведение Зонненберга — характерная для поэта-
романтика история внутреннего «я», постоянно чувствующего в себе
присутствие великого Нечто, «мировой души» — синтеза природы, любви и
красоты Поэму «Избранница» см. в книге: Sonnenberg F. Ausgewahlte
Gedichtv?. Hfldburghaufen und New York. 1830, S. 56—63.
6 Эту мысль подчеркивают эпиграфы к некоторым номерам журнала,
где публиковалась данная статья.
388
'В номере от 4 августа:
Великому — великое доверье;
Он цель найдет, лишь дай ему простор!
Ф. Шиллер. «Валленштейн».
8 номере от 7 августа: «Высокая художественная образованность хможет
многое улучшить в отношении внешней отделки, однако то, что называют
силой и жизнью (Kraft und Saft), всегда вытекает из собственного богатства
гения, и обычно сила, если ей и недостает некоторой отделанности, выражает
себя с чистотой и наивностью, которых художественная образованность не
дает, по которые она легко может подавить. А. Тибо».
7 Авторская купюра: «Гигантские идеи жаждали гигантских воплощений.
Богу, для того, чтобы действовать, нужен был мир. Но искусство имеет
свои границы. Аполлон Бельведерский, будь он на несколько футов выше,
оказался бы уязвленным. Более поздние композиторы-симфонисты заметили
это и некоторые даже вернулись к уютным формам Гайдна — Моцарта».
3 ...еще не появилась. — Точнее, о существовании ее еще никто не знал.
Как известно, именно Шуман обнаружил в 1839 г. рукопись этой симфонии;
см. его статью «С-с1иг'ная симфония Ф. Шуберта» во II томе наст. изд.
9 Имеется в виду симфония Шпора «Освящение звуков»; см. статью 27.
10 Ошибка: первое исполнение «Фантастической симфонии» состоялось
5 декабря 1830 г. (Париж, дирижер Ф. А. Габенек). Симфония окончена была
в том же году, 16 апреля.
11 Авторская купюра: «Мы часто читали о старинных шотландских
замках, так верно изображенных английскими писателями. И душу радовали эти
будто произвольно пробитые окна и дерзко глядящие башни. Нечто
подобное наблюдается и в нашей симфонии. Последуйте теперь за мной по этим
фантастически переплетенным ходам и галереям».
12 Здесь и далее все указания на страницы даются автором статьи по
первому изданию листовского фортепианного переложения «Фантастической
симфонии» (1834).
13 Авторская купюра: «Если художественная эпоха Гете — Моцарта по
праву считается наивысшей, — эпоха, когда фантазия с такой божественной
легкостью, подобно чашечке цветка, несла на себе оковы ритма, — то здесь
кажется...»
14 Жозеф Франсуа Фетис, видный музыкальный критик, профессор
Парижской консерватории, опубликовал свой резко критический отзыв о
Берлиозе в редактируемой им парижской газете «La Revue musicale». Шуман
перепечатал эту статью на страницах NZfM (1835, 19 июня, с. 197; 23 июня,
с. 201), предпослав ей следующее редакционное примечание: «Мы уже ранее
обращали внимание на суждение редактируемой Фетисом «Revue musicale»,
тогда еще не зная ни симфонии, ни вообще каких-либо сочинений Берлиоза.
Письмо Генриха Панофки об этом произведении находилось в столь любо-
пытном противоречии с пренебрежительным тоном рецензии Фетиса, что мы
тотчас же обратились в Париж, чтобы получить эту симфонию. Уже
несколько недель она в наших руках. Со страхом смотрели мы и играли. Постепенно
наше мнение становилось все более и более определенным и настолько шло
вразрез со взглядом г-на Фетиса, что мы решили предложить эту рецензию
нашим читателям в сокращенном и свободном переводе. Мы делаем это
отчасти для того, чтобы усилить внимание немцев к этому остроумному
республиканцу, отчасти, чтобы дать возможность многим сделать собственные
сравнения».
Фетис начинает статью с некоторых давних впечатлений: «Вспоминаю,
как я однажды в качестве члена жюри в консерваторском классе композиции
присутствовал при выполнении учениками их экзаменационных работ.
Одному молодому человеку, как мне показалось, это занятие было очень
скучным. Он представил мне невесть какую бессмыслицу, которую выдал за
двойной контрапункт; это было, однако, не что иное, как соединение
гармонических мерзостей. Я кое-что исправил и шаг за шагом объяснил молодому
389
человеку причины этих исправлений. Вместо ответа бн сказал, что испытывает
большое отвращение ко всякому обучению и находит, что гениальному
человеку оно вовсе и не нужно. Подобный образ мыслей вызвал большой гнев у
дирек-iopi консерватории [Керубини] и у некоторых моих коллег. Лично я
отнесся к этому не так строго; я сказал молодому человеку, что обучение в
музыке помогает только тем, кто осознает его пользу и конечную цель и
посоветовал молодому сокрушителю контрапункта, чтобы он вовсе не
отдавался предметам, к которым не испытывает большого уважения и свободно
доверился своему гению, если таковой существует у него. Он последовал
моему совету, оставил консерваторию и с этого времени начал играть роль-
реформатора музыки. Этим молодым человеком был г-н Берлиоз».
Фетис вспоминает далее первые недоуменные впечатления слушателей
Берлиоза («это не музыка»), насмешки оркестрантов и свое собственное
тогдашнее убеждение, что не нужно пока торопиться с окончательным
приговором. «Я относился к нему тогда терпеливо и в достаточной мере совестливо».
«Наконец наступил день, когда г-н Берлиоз дал концерт [...] Небольшое
собрание состояло почти исключительно из его друзей и гостей. Здесь мы
впервые услышали его «Фантастическую симфонию». Думали, что нас хватит
удар, но заметили новизну некоторых эффектов в «Marche du supplice»
[«Шествии на казнь»] и аплодировали. С этого момента и начало
складываться мое мнение о г-не Берлиозе. Я увидел, что у него не было никакого
представления о мелодии и едва ли существовало понятие о ритме; увидел,
что его гармонии, которые обычно представляют собой уродливые
нагромождения звуков, были отнюдь не в меньшей мере плоскими и монотонными.
Словом, я убедился, что ему недоставало ни мелодической, ни гармонической
мысли и высказал мнение, что его варварский стиль не поддается
культурному развитию. Однако я отметил инстинкт в области инструментовки и
сказал, что свой талант к многочисленным комбинациям, которыми другие потом
могли бы воспользоваться лучше, чем он, — он все же сумеет развить.
Несмотря на то, что г-н Берлиоз знал мое мнение о его творчестве, он
испытывал доверие ко мне, неоднократно ко мне обращался. Ибо он считал
меня человеком, который охотно и ободрит художника и поможет ему [.. .]»
Фетис приводит далее некоторые факты, свидетельствующие о его
добром отношении к композитору, и продолжает: «Положение дел сильно
переменилось. Прошло то время, когда я брал г-на Берлиоза под защиту,
несмотря на его пренебрежение к прославленной школе, к публике, невзирая на
мою собственную антипатию; ныне г-н Берлиоз ведет себя как новатор,
который одержал триумфальную победу над своими врагами. Он пишет в
журналах и старается в четырех газетах с совершенно противоположными
политическими окрасками внушить своим читателям не то чтобы свою новую
музыкальную религию (ибо поныне неясно, в чем она заключается, разве чта
назвать ее религией варварства и безрассудства), но веру в свое имя и в>
свой авторитет. У него есть друзья, которых он старается найти не среди
музыкантов; в числе этих друзей — несколько влиятельных лиц, которые
превозносят его до небес и хотели бы убедить руководящих критиков, что
Берлиоз — гений века. Нужно признать, что снисходительность по отношению к
таким людям была бы неуместной; она бы даже могла его оскорбить [...]
Мне всегда хотелось, чтобы произведения г-на Берлиоза могли дойти до
публики; имею в виду не одних лишь друзей, но просвещенную публику,
которая судит, опираясь на здравый смысл. Публичные суждения, трезвый
дневной свет открытых высказываний — вот, что представляется мне
безусловно необходимым, чтобы покончить с диспутами и группками. Сколь
многие, поспешно прославленные знаменитости потерпели крах, когда они
выходили на свет божий. С Берлиозом, думается, было бы не намного иначе [...]»
Переходя к «Фантастической симфонии», Фетис пишет: «Симфония имеет
программу, трактующую содержание каждой из ее пяти частей. Мне уже
много раз приходилось обращать внимание на то, что подобные программы
связаны с самым ограниченным пониманием музыки. Ибо сила этого
искусства как раз заключается в его безграничности. Я не буду поэтому выяснять,
соответствует ли каждый раздел произведения предпосланной программе.
390
Ибо я знаю, что музыка не в состоянии выразить то, что композитор от нее
требует и уже сами по себе эти требования должны привести к неудаче [...]»
Характеристики отдельных частей симфонии Берлиоза, даваемые
рецензентом, состоят главным образом из упреков и порицаний4 Первая часть
{«Мечтания, страсти») кажется ему растянутой; главный лейтмотив даже
нельзя назвать мелодией, это всего лишь «несколько плоских и безвкусных
фраз» Во второй части («Бал») «меньше варварского, но это и все, что о
ней можно сказать. Вся она — вальс на пошлый мотив-». В третьей части
(«Сцена в полях») столь «расплывчатые мыслив и она вся так пространна,
что ее «трудно дослушать до конца» В четвертой части («Шествие па казнь»)
рецензент признает некоторую эффективность, однако видит здесь и
множество заблуждений. Пятая часть («Сон ночью на шабаше ведьм») — «альянс
тривиальности, гротеска и варварства».
«В небольшой публицистической статье, — пишет Фетис, — г-н Берлиоз
уверяет, что настанет день, когда художника не будут более мучить
вопросами о том, как он воплотил свои идеи и какие средства понадобились ему
для этого. Этот день пришел, г-н Берлиоз! Взвесьте все, если вы
прирожденный музыкант, если вы несете в себе истинное чувство прекрасного, если вы
не лишены фантазии; но не отказывайтесь от своих притязаний, пустив в ход
все мыслимые средства, не выдавайте своих слабостей, своего бессилия.
Словом, пусть будет у вас то, чего вам прежде всего не хватает — истинный
творческий гений, — и мы вам позволим все; те, кто сегодня выступают как
ваши судьи, станут впредь вашими почитателями! Но пока позвольте вам
сказать: вы можете вести себя как вам вздумается, но от этого все
сочиненное вами до сих пор не станет творением искусства» (цит. и излагаю по
немецкому варианту статьи Фетиса, см. указанный выше номер NZfM).
15 В апреле 1830 г, когда окончена была «Фантастическая симфония»,
Берлиозу было 26 лет; см. также комментарий 2.
16 Это и все нижеследующие примечания в тексте данной статьи
принадлежат автору и существовали уже в первой публикации.
17 Скорее всего речь идет о мотиве с трелью в партии первых скрипок,
который проходит начиная с такта 125 данной части:
JPZP
18 По-видимому, Шуман имеет в виду контрапунктические проведения
главной темы даьнсй части, начиная с 25-го такта (вначале тему
сопровождает соло фагота, затем самостоятельный рисунок у альтов, виолончелей и
контрабасов, далее новый контрапункт у фаготов).
19 В партитуре это унисонные пассажи флейт и струнных; см. часть V,
раздел Ronde du Sabbat от такта 182.
20 Шуман несомненно имеет в виду шопеновский фортепианный концерт
№ 1 (e-moll, op. 11), впервые изданный в 1833 г.; № 2 (f-moll, op. 21) вышел
в свет после опубликования данной статьи, в 1836 г.
21 «Лелно, или Возвращение к жизни», лирическая монодрама для чтеца,
тенора, баритона, хора и оркестра, op. 14b, 1831. Мелолог — обозначение
жанра этого произведения, придуманное автором.
"2 О программе «Фантастической симфонии» NZfM отзывался еще до
ознакомления Шумана с этим произведением. В номерах от 27 февраля и
3 марта 1835 г. была напечатана благожелательная статья Г. Панофки «Из
Парижа. О Берлиозе и его сочинениях», где большое место уделялось
«Фантастической» (программе и ее автобиографическим мотивам). В номере от
27 марта того же года (с. 102) журнал опубликовал высказывание Л. Берне
из его «Писем из Парижа» (письмо от 8 декабря 1830 г.). Берне сообщал:
«В воскресенье я присутствовал на концерте в консерватории. Один молодой
композитор по имени Берлиоз показал свое произведение. Он — романтик.
391
В этого француза вселился весь Бетховен. Но слишком безумный, чтобы его
можно было держать на привязи. Мне все очень цонравилось. Удивительная
симфония: драматическая музыка в пяти частяхУпритом, естественно, чисто
инструментальная. Но чтобы ее поняли, композитор напечатал поясняющий
действие текст, как это практикуется в опере. э4о самая безудержная ирония,
какую в слове не выразил еще ни один поэт, и все безбожно. Композитор
рассказывает здесь историю из своей собственной юности. Он отравился
опиумом и ему грезится, что он убил свою возлюбленную и приговорен к
смерти. Он присутствует при своей собственной казни. Звучит необычайный
^лрш, какого мне еще никогда не приходилось слышать. В последней части
он изображает шабаш ведьм, совсем как в «Фаусте», и все это с полной
наглядностью. Его возлюбленная, которая оказалась недостойной, также
появляется в этой Вальпургиевой ночи; но не как Грехтен в «Фаусте», а в
разнузданном дьявольском облике... В искусстве и литературе, так же, как в
политике, дерзость шагает впереди свободы. Нужно это знать и отдавать этому
должное, чтобы избежать несправедливых суждений о нынешних французских
романтиках». К подчеркнутым словам о «полной наглядности» изображения
дано примечание редакции NZfM: «Именно это пугает нас».
23 Имеется в виду Ф. Мендельсон и его музыка к «Сну в летнюю ночь».
36, ПИСЬМА МЕЧТАТЕЛЕЙ
NZfM 1835, 20 октября, JNfe 32, с. 126 (№ 1—Киаре); 6 ноября, № 37,
с. 147 (№ 2 —Эвсебию); 10 ноября, № 38, с. 151 (№ 3 — Киаре); 8 декабря,
№ 46, с. 182 (№ 4 — Киаре). Письма №№ 1, 3, 4 — отклики на первые
концерты лейпцигского Гевандхауза под управлением Мендельсона. Сезон
начался 4 октября 1835 г. (о прибытии в Лейпциг Мендельсона NZfM сообщила
в номере от того же числа). Письмо Киары (Клары, № 2) из Милана —
литературная мистификация. Клара Вик находилась в то время в Дрездене.
В письме № 2 Шуман использовал свои воспоминания о юношеском
путешествии в Италию (1829) и собственные впечатления от артистического
искусства Ф. Малибраы-Гарсия. 13 сентября 1835 г. артистка выступила в Милане
в партии Дездемоны («Отелло» Россини; сообщение об этом спектакле
напечатано в NZfM 1835, 2 октября, № 27, с. 108, в отделе «Хроника»), Скорее
всего этот факт и послужил поводом для «миланского письма».
1 Фирленц — так Шуман обозначает в своих статьях Лейпциг.
2 В рецензируемом концерте (4 октября 1835 г.) исполнялись увертюра
Мендельсона «Морская тишь и счастливое плавание» и симфония Бетховена
№ 4 (B-dur).
3 ...певицу Марию... — Генриетта Грабау, на протяжении ряда лет
выступавшая в концертах Гевандхауза.
4 Цинг-Зинг — комический персонаж из «китайской» феерии Обера
«Бронзовый конь» (20 сентября 1835 г. впервые поставлен в Лейпциге; см. NZfM
№ 26 за указанный год, с. 104, «Хроника»).
5 Шуман сравнивает здесь два произведения, написанные на один и
тот же стихотворный текст Гете: кантату Бетховена «Морская тишь и
счастливое плаванье» (для смешанного хора с сопровождением оркестра, ор. 112,
1814) и одноименную концертную увертюру Мендельсона (ор. 27, 1828).
Акцентируемое слово... — По мысли Шумана, стихотворный текст более
подчеркнут в вокальном произведении Бетховена.
G В этих тональностях написаны увертюры Мендельсона «Сон в летнюю
ночь> (e-moll), «Гебриды» (h-moll), «Морская тишь» (D-dur).
7 Эта реплика Флорестана автобиографична. Имеется в виду кризисные
настроения, испытанные молодым Шуманом (и именно его «флорестановской»
натурой) в начале его занятий у Ф. Вика.
8 См. комментарий 2.
9 Арию К. М. Вебера, вставленную в оперу Керубини «Лодоиска».
392
10 ...вестфальский музикдиректор... — По сведениям Г. Янзена, имеется в
виду скрипач Отто Герке.
11 Псевдоним «нового давидсбюндлера» Ионатана с полной
определенностью до сих пор не расшифрован. По мнению В. Вазилевского, имелся в
виду Людвиг Шунке (см. Wasielewski, S. 133). Г. Янзен с большим
основанием указывает на Шопена, с которым Шуман лично познакомился в первых
числах октября 1835 г., т. е. незадолго до опубликования «Писем мечтателей».
О пребывании польского композитора в Лейпциге NZfM сообщил в номере от
6 октября (с. 112, «Смесь»): «Шопен был здесь, однако на протяжении лишь
немногих часов, которые он провел в узком кругу. Он играет точно так же,
как сочиняет, т. е. несравненно». Приписка к публикации письма № 1 как бы
продолжает эту информацию и сочинена в духе давидсбюндлеров: «Шопен
был здесь. Флорестан устремился к нему. Я видел их идущими рука об руку,
они скорее парили, нежели шли. Не говорил с ним, страх берет даже при
мысли об этом». Именем Ионатан Шуман в двух случаях воспользовался как
собственным псевдонимом (1836), но им пользовались и другие сотрудники
журнала (см. G. Sch. (J) I, S. 336).
12 ...где некая Аврора соединяет твое имя с моим.—На 12, 13 и 14 августа
в календаре приходятся имена Клары, Авроры и Эвсебия.
13 По-видимому, упоминается увертюра к опере Л. Керубини «Али-Баба»,
написанная уже престарелым композитором в 1833 г.
14 Намек на строгости, которые Ф. Вик (майстер Раро) применял к своей
дочери в процессе обучения.
15 В письме к Ф. Вику от 6 ноября 1829 г. (написано вскоре после
возвращения из Италии) Шуман замечает: «...Вы не имеете никакого
представления об итальянской музыке, которую нужно слушать лишь под тем небом,
где она родилась...» (Письма I, с. 93).
16 «Лебедем из Пезаро» называли Россини.
17 По сведениям Г. Янзена, это была певица Вайнхольд из Брауншвейга
(G. Sch. (J) II, Namen-Register).
18 Авторская купюра: «Ты помнишь, что само по себе звучание
фортепианной партии мы никогда не считали чем-либо редким и оригинальным, ибо
ведь молодые, как правило, предпочитают субъективно-характеристическое
идеально-всеобщему. Но вот мы услышали такое звучание у Меритиса, с его
чутко реагирующим оркестром, и мы убедились, что концерт должен
выразить никак не более, чем то, что ощущает мастер, находящийся в чистейшем
душевном благорасположении. При вступлении труб (хотя оно и не
обусловлено эстетической связью, но, конечно, отнюдь не является неэстетическим)
кто-то рядом со мною прямо-таки вскакивал с места. Одно я знаю: пусть
никогда мне не придет в голову писать концерт, состоящий из трех
замкнутых, изолированных друг от друга частей».
19 Исполнялась увертюра К. М. Вебера к «Повелителю духов» ор. 27,
d-moll (на сюжет сказок о Рюбецале).
20 По сведениям Г. Янзена, в концерте выступил солист оркестра Геванд-
хауза К. В. Ульрих (G. Sch. (J.) II, Namen-Register).
21 Шуман имеет в виду статью К. Ф. Эберса, где содержание 7-й
симфонии Бетховена истолковано было как картина деревенской свадьбы («Cacilia»
1825, В. II, S. 271; привожу по G. Sch. (J) I, 337).
22 Авторская купюра: «Несколько слов также и от меня. Ливия просит
меня написать что-нибудь о концерте в «***sche Zeitung». Ты знаешь, как я
ненавижу публичные писания о музыке, особенно в добродушно аркадийском
стиле. Еще можно, пожалуй, написать нечто терпимое в свободной форме,
например в форме писем. Но получилось бы совсем иное, чем письмо к
определенному лицу, к Кнаре. Флорестанл.
23 Речь идет о фортепианном концерте Клары Вик ор. 7, a-moll.
Исполнен автором 9 ноября 1835 г. в лейпцигском Гевандхаузе.
2* Приводимая далее нотная цитата — вдвое замедленное изложение
начала главной темы из увертюры Мендельсона «Сон в летнюю ночь».
25 Певица Франчилла Пиксис.
26 ...с Ливией — с Л. Герхардт.
393
37. НОВЫЕ СОНАТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
NZfM 1835, 17 ноября, № 40, с. 158 (Л/ве); 21 ноября, № 41, с. 161
(Поччи, Лахнер); 29 декабря, № 52, с. 207/'(Мендельсон, Шуберт).
1 Авторская купюра: «Быть может, это звучит строго, но нам кажется,
что Лёве недостает друга-советчика, который сказал бы ему это; именно
таковым пусть он считает нас, к тому же мы ведь так высоко его ценим».
2 Намек на NZfM.
3 В журнальном варианте статьи автор упоминает имена В. Тауберта,
Дельфины Хилл-Хандлей, Л. Шунке, Ф. Поччи, Ф. Лахнера, К. Лёве, о
сонатных прогзведениях которых отзывался NZfM.
4 По-видимому, речь идет о сонате Бетховена ор. 101.
5 Авторская купюра. Шуман отмечает отдельные привлекающие его
внимание моменты в сонате Мендельсона, в частности «речитативную фугу», так
как «ничего похожего в этом роде мы не знаем».
8 ...плейль-вангаловский стиль ночного колпака. — И. Плейль и И. Ван-
гал — плодовитые и популярные в свое время композиторы, музыку которых
Шуман с достаточным основанием относил к области ремесленного
подражательства. «Ночной колпак» — символ немецкого мещанства.
38. КРИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
I. Увертюры. NZfM 1836, 5 января, № 2, с. 6 (Мендельсон); 22 марта,
№ 24, .с 101 (Маршнер, Берлиоз, Мошелес). II. Концерты для ф-п. с
оркестром. NZfM 1836, 26 февраля, № 17, с. 71 (Шорнштайн); 1 марта,
№ 18, с. 77 (Лазекк); 8 марта, № 20, с. 83 (Дёлер, Хиллер); 15 марта, №22,
с. 92 (Харткнох); 29 марта, № 26, с. 110 (Тальберг, Герц); 1 апреля, № 27,
с. 113 (Калькбреннер, Рис, Тауберт); 8 апреля, № 29, с. 122 (Фильд,
Мошелес); 22 апреля, № 33, с. 137 (Шопен). III. Трио для ф-п., скрипки
и виолончели. NZfM 1836, 1 июля, № 1, с. 4 (Розенхайн); 12 июля, №4,
с. 15 (Борер); 19 июля, № 6, с. 25 (Хессе, Енс); 2 августа, № 10, с. 40
(Луи Вольф, Тома, Добжиньский); 19 августа, № 12, с. 48 (Хиллер); 12
августа, № 13, .с 51 (Клайн, Райсигер); 23 декабря, № 51, с. 203 (Лёвеншельд,
Бертини, Пиксис); 27 декабря, № 52, с. 207 (Мошелес, Шопен, Шуберт).
IV. Дуэты. NZfM 1836, 7 июня, № 46, с. 191 (Шопен и Франшомм,
Мошелес) . V. Каприччо и другие короткие пьесы. NZfM 1836, 3 мая,
№ 36, с. 150 (Барони-Кавалькабо, Куленкамп); 10 мая, № 38, с 157 (Пол-
лини, Дорн, Калливода, Отто); 17 мая, № 40, с. 167 (Добжиньский, Тяп»--
берг, Шопен, Фильд); 24 мая, № 42, с. 173 (Герц, Дорн, Тауберт); 31 мая,
№ 44, с. 182 (Мендельсон, Шунке).
1 Увертюра к «Мелузине» впервые исполнена в концерте лейпцигского
Гевандхауза 23 ноября 1835 г. под упр. К. Мюллера (G. Sch. (J) I, S. 337).
2 Речь идет о приверженцах увертюр Мендельсона «Сон в летнюю ночь»
и «Фингалова пещера» («Гебриды»).
3 Л Тик. «Весьма удивительная история о Мелузине» («Sehr wunderbare
Historie von der Melusina»), 1800.
4 Увертюра к «Мелузине» в то время еще не была напечатана, и Шуман
знакомился с партитурой по автографной рукописи.
5 Увертюра к «Тайным судьям» — одно из ранних произведений
Берлиоза. Написана в 1827—1828 гг. к опере того же названия, которая
сочинялась с 1826 г. и, по-видимому, осталась неоконченной. Автор вспоминал об
этой работе: «Он [Э. Ферран] написал для меня либретто большой оперы
«Тайные судьи» ... и я сочинял музыку к ней с неописуемым увлечением^.
Позднее это либретто было отвергнуто репертуарным комитетом королевской
Академии музыки, и моя партитура одним ударом была осуждена на
забвение, из которого она никогда и не вышла Увидела свет лишь одна увертюра
к опере. Я использовал там и сям лучшие мысли из этой оперы, развивая их
394
в моих последующих произведениях...» (Берлиоз Г. Мемуары. М., 1962,
с. 74—75).
6 По-видимому, Шуман имеет в виду напечатанную в NZfM статью Г. Па-
нофки; см. комментарий 22 к статье 35.
7 Предположение Шумана отчасти соответствует фактам. Берлиоз резко-
осудил плохое качество четырехручного переложения своей увертюры в
открытом письме к издателю Ф. Хофмайстеру; см. об этом G. Sch. (J) I, S. 227.
* Спустя год после опубликования данной рецензии увертюра к «Тайным
судьям» явилась предметом дискуссии на страницах того же журнала. И. Лобе
охарактеризовал ее как произведение «глубокое, оригинальное, правдивое, от
которого все в человеке устремляется ввысь», как произведение «подлинно
народное». Ему возразил Ведель (А. Цуккальмальо), назвавший Лобе
«адвокатом дьявола», а увертюру «обыденной и школьной». Шуман заключил
полемику редакционным послесловием, где говорилось: «Как тут быть, на чем
остановиться! С одной стороны, эксцентричный панегирист, с другой — одетый
в броню обвинитель; предмет защиты и гнева — произведение, от которого,
быть может, и сам автор отошел довольно далеко. Мы полагаем, что все;
трое должны были бы пойти на уступки: Лобе — признать, что он умолчал
о некоторых слабостях, которые при более спокойном подходе не могли бы
остаться незамеченными; Ведель — признать, что, не изучив партитуры, не
прослушав произведения в его подлинном, оркестровом звучании, он не готов
был к тому, чтобы судить о целом; наконец Берлиоз — то, что он сам хорошо;
знает: только та пьеса мастера достойна быть выпущенной в свет, которая
допускает сравнение с подобными же работами Бетховена. И все же что
делать с произведением восемнадцатилетнего француза, у которого если,
даже и несколько меньше оригинальности, чем у одних, то больше
обещающей творческой силы, чем у других». По мнению Шумана, «чем горячиться
по поводу юношеской работы, лучше исполнять ее повсеместно» и самое
лучшее — создавать произведения «еще более прекрасные и прекраснейшие»
(NZfM 1837; статья И. Лобе — «Sendschreiben an Неггеп Hektor Berlioz in
Paris» — e № 37 от 9 мая, ответ Г. Веделя — «Sendschreiben an die deut-
sche lonkundigen»— в №№ 47, 49, 50 от 12, 19, 22 декабря; в последнем из,
названных номеров напечатано и послесловие редакции). Добавим, что
обсуждаемая увертюра сочинена в 1827—1828 гг.; Берлиозу было тогда.
24 года, а не 18, как пишет Шуман.
9 В конце данной рецензии автор отмечает разного рода частные
недостатки произведения, в G. Sch. эти строки автором выпущены.
10 «Средней частью» .(Mittelsatz) Шуман здесь, по-видимому, называет
разработку 1-й части — сонатного аллегро. Концертино Лазекка состоит из<
следующих частей: I. Allegro capricioso, II. Romanze, III. Rondo, Allegro;
appassionato.
11 Ни в одной из публикаций этой рецензии имя «дилетантки», которой
посвящено концертино Лазекка, не названо.
12 Теодор Дёлер родился и много лет провел в Италии.
13 Скорее всего имеется в виду Вена, где Дёлер учился у К. Черни.
14 См. статью 22, с. 146. («в повторении снова обнаружил ужасающую,
удвоенную терцию»).
15 Мольер испытывал действие своих комедий, читая их своей экономке>
16 К. Э. Харткнох родился в Риге, позднее жил в Петербурге и в Москве.
17 ...некая с-то1Гная симфония... — Несомненно, намек на 5-ю Бетховена.
18 ...угнаться за более молодым. — По мнению Г. Янзена, имеется в виду
Шопен.
19 Намек на статью Веделя (А. Цуккальмальо) «Великая партитура»; см.
комментарий 38 к данному циклу.
20 Авторская купюра: «Этим гекзаметром Флорестан завершает свое
объяснение в любви 7-му концерту Фильда. Мы могли бы многое добавить к
сказанному, например, что в этой коде мы сами кажемся себе чем-то вроде
второй половины русской парной бани (т. е. резким охлаждением после жара. —
Д Ж.), польза которой так прославлена; но мы предпочитаем нечто более
умное — молчание».
395
21 Автор имеет в виду отзыв Л. Рельштаба/6 мазурках Шопена ор. 7
<«Iris» 1833, № 28, S. 112).
22 Намек на AMZ и ее редактора Г. Фийка. Упоминание о Бетховене
(якобы не читавшем этой газеты) Г. Янзен . комментирует ссылкой на работу:
S е у f г i e d I. Beethovens Studien in General-bass* Contrapunkte und der
Compositionslehre. Wien, 1932.
23 ...в исполнении бореровского трилистника... — Антон Борер был
скрипачом, его брат Макс — виолончелистом, жены обоих были отличными
пианистками.
24 Авторская купюра: «Уже как будто два года Хиллер ничего не
публиковал. Что он все это время бездельничал так же трудно допустить — при его
молодости, — как и то, что его запугала критика, которая нередко обращалась
с ним жестоко. Во всяком случае мы с интересом следим за его новейшими
работами. Хотелось бы знать, обрел ли он, наконец, ясную цель или еще
глубже запутался в противоречиях. Мы надеемся на первое; и если мы
назвали его самым нелюбезным из наших любимцев, то у него должны быть
все основания назвать нас, т. е. рецензентов, своими любимцами среди всех
нелюбезных».
25 Речь идет о трио Карла Лёве ор. 12, g-moll. Упоминание об этом
произведении Шуман первоначально снабдил следующим примечанием: «Оно
появилось приблизительно шесть лет тому назад и является, быть может,
одним из наиболее самобытных и фантастичных произведений Лёве, которое
достойно лучших мастеров. Каждый ансамбль в этом составе должен его
иметь».
26 Шоппе — романтический персонаж из романа Жан Поля «Титан»; он же
лод именем Лайбгебер действует в романе того же писателя «Зибенкез».
27 ...в весьма усыпляющем месте... — Намек на AMZ, где 7 декабря 1831 г.
была напечатана рецензия Шумана на ор. 2. Шопена.
28 Имеется в виду Л. Рельштаб; см. также комментарий 21 к данному
диклу.
29 Упоминаемые ф-п. трио Шуберта написаны: B-dur op. 99 — в конце
1826 или в 1827 г.; Es-dur op. 100 — 6 ноября 1827 г.
30 «Большой концертный дуэт для фортепиано и виолончели» сочинен
Шопеном при участии виолончелиста Огюста Франшомма в 1832 г.; издан у
М. Шлезингера (Париж) в июне 1833 г.
31 АЕТорская купюра: «Мы со своей стороны пока хотим высказать лишь
следующее. Прежде чем мы не найдем единомышленников, которые шире
распространят тот род пристрастной критики, в каком мы писали о некоторых
молодых, — прежде чем мы не найдем их, мы готовы охотнее принять на себя
упрек в преходящей односторонности, нежели согласиться с тем
приглаженным, общепринятым тоном высказываний, который своей хвалебностью может
принести гораздо больше бед, чем проявления групповых интересов и
откровенные поиски скандала».
32 Подзаголовок «Большого дуэта» Мошелеса: «В честь Генделя».
33 Юлия Барони-Кавалькабо (1813—1887) в детстве училась музыке в
своем родном городе Лемберге (Львове) у Вольфганга Амадеуса Моцарта —
младшего сына великого композитора. Шуман лично познакомился с нею в
1835 г., когда молодая артистка вместе со своим учителем посетила Лейпциг.
С 1838 г. семья Барони-Кавалькабо живет в Вене, и их гостеприимный дом,
душой которого является мать Юлии Жозефина, привлекает к себе многих
.людей искусства. Здесь, зимой 1838—1839 гг., охотно бывал Шуман.
34 См. аналогичную мысль в статье 35, с. 201.
35 Имеется в виду фортепианный цикл Шумана «Бабочки» ор. 2.
36 ...одному богатому немецкому композитору... — По мнению Г. Янзена,
речь идет о Мейербере (G. Sch. (J) I, S. 233); известно, однако, что Гейне,
не раз награждавший Мейербера стрелами своей иронии, все же оценивал
автора «Гугенотов» очень высоко, например, в серии писем «О французской
сцене».
396
\
37 Авторская купюра: «Научиться тому, как в столь тесные рамки
вместить столь многое, пожалуй, невозможно. Но следует поучиться скромности
при созерцании такого высокого поэтического совершенства. Ибо можно
заметить, что здесь все струится из сердца, непосредственно (как Гете
называет этого рода первозданный поток), изливается со всей полнотой, с
блаженной печалью, неподражаемо, — все это мы видим и можем гордиться
человеком, принадлежащим нашему искусству».
i& Шуман не без лукавства воспользовался здесь названием статьи
Г. Веделя (А. Цуккальмальо) «Великая партитура» (NZfM 1835, 18 августа,
№ 14). Автор названной статьи видит обобщающий смысл как в голосах
отдельных инструментов, так и в звучании всего симфонического оркестра
(«великой партитуры»); каждый инструмент «на своем месте», а целое
становится «чистейшей блаженнейшей гармонией», выражением всеобщей
гармонии мироздания.
30 Хебелевские немецкие народные песни — жанровые картинки в духе
стихотворений известного поэта начала XIX века Иоганна Петера Хебеля.
*° Рецензируемые каприсы написаны: a-moll в 1834 г., E-dur в 1835 г.,
b-moll в 1833 г.
41 В то время Шуман и Людвиг Шунке жили в одной квартире,
занимая смежные комнаты.
42 Неизвестный рецензент журнала «Komet» в отзыве на концерт Клары
Вик, состоявшийся в Лейпциге 11 сентября 1834 г., писал: «Шумановская
токката так трудна, что за исключением Шунке и Клары Вик, ее, пожалуй,
никто здесь не может хорошо сыграть. Первый исполняет ее, как этюд, с
высочайшим мастерством; вторая умеет истолковать ее также и поэтически,
вдохнуть в нее душу» (цит. по G. Sch. (J) I, S. 342).
43 Авторская купюра: «Вспоминайте иногда юношу, прошу вас».
39. МАНУСКРИПТЫ
NZfM 1836, 8 января, № 3, с. И.
1 Намек на конкурс, объявленный в 1835 г. в Вене; см. вступительный
комментарии к статье 51.
40. ЭТЮДЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
NZfM 1836, 12 января, № 4, с. 16 (Пиксис, Поль, Шимановская, Кесслер,
Бертини); 19 января, № 6, с. 24 (Майер, Рис, Грунд); 26 января, № 8, с. 33
(Вайзе, Бергер); 19 апреля, № 32, с. 134 (Паганини-Шуман).
1 В оригинале «Dudelsack»; другое немецкое обозначение волынки
«Sackpfeife».
2 По-видимому, имеется в виду труд: G о I i m i с к С. Kritische Termi-
nologie fur Musiker und Musikfreunde. Frankfurt a/M, 1833; см. также
комментарий 11 к статье 4.
3 Шуман одобрительно отозвался о каприсах И. Поля сначала в
предисловии к своим «Этюдам по каприсам Паганини» ор. 3, затем в обзоре
«Короткие и рапсодические пьесы для фортепиано»; см. статью 33, в наст.
изд, т I, с. 186.
4 См. статью 33.
5 В рецензируемом этюде Кесслера на протяжении четырех страниц
требуется перекрещивание рук. Вот пример этого изложения:
397
Con moto J-138
6 Первоначально: «как его друзья и ученики».
7 Комментируемые автором его собственные этюды ор. 10 закончены в
1833 г и впервые изданы в сентябре 1835 г. За год до их издания в NZfM
появилось извещение о «выходящих вскоре» новых этюдах Шумана. В этой
заметке, подписанной Ф. Хофмайстером и, по-видимому, принадлежащей
автору этюдов, говорилось: «Уже ранее, в своих «Этюдах для одного
фортепиано по каприсам Паганини» [ор. 3] автор пытался передать на фортепиано-
своеобразие скрипки, стремясь притом усовершенствовать и обогатить
звучность в соответствии с характером и техническими средствами клавишного
инструмента; в этих [новых] каприсах он вступил на путь вполне свободный
и самостоятельный. Его цель — воссоздать глубину и поэтичность Паганини;
то, что дано в виде некоего скелета прекрасного, он воплощает со всей
телесной полнотой, в которой полностью отказывала себе натура скрипача.
Для усердно обучающихся это будет в равной мере интересно и полезно»
(NZfM 1834, 18 сентября, № 49, с. 196).
8 Опусное обозначение «Шести концертных этюдов» все же нельзя
считать ни случайностью, ни мистификацией. К моменту их издания (1835)
Шуман был автором десяти уже изданных или находившихся в печати
фортепианных произведений (опусы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13.).
9 Говоря о «педантически дословном переложении» текста Паганини в
своем ор. 3, Шуман допускает явное преувеличение. Точнее об этом сказано
в приведенной выше заметке из NZfM (комментарий 7), которая полностью
соответствует ранее опубликованному предисловию Шумана к этому опусу.
Там говорится, в частности: «Он [автор транскрипций] охотно признает, что
хотел дать нечто большее, чем одну лишь гармонизацию. Ибо если его и
побуждал к работе интерес к самой композиции, то одновременно
действовало и другое: он надеялся дать возможность сольным исполнителям
избавиться от часто предъявляемого им упрека в том, что они слишком мало
пользуются особенностями других инструментов для усовершенствования и
обогащения своего собственного» (цит. по изданию: Werke fur Klavier zu 2
Handen von Robert Schumann. Leipzig, С F. Peters, Bd. IV, S. 109). Таким
образом, уже в первой серии этюдов по Паганини Шуман не столько
перекладывал, сколько «переводил» скрипичный текст на язык фортепиано. Еще
смелее эта задача осуществлена была в ор. 10.
10 Здесь автором зачеркнуты строки, относящиеся к № 1. В них
отмечалось, что в тактах 15—17 (и соответственно 66—68) 1-го этюда Шуман
«теперь предпочитает следующее басовое сопровождение»:
398
Однако ни в одном из известных нам переизданий ор. 10 этот вариант
не отражен.
4L ЭТЮДЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО ИХ
ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАЧАМ
NZfM 1836, 6 февраля, № И, с. 45.
1 Авторская купюра: «Когда непонимающие называют его [Баха] сухим,
они не ведают, что это — молния, которая тысячами своих изломов в единое
мгновение касается и звезд и цветов».
2 Здесь и далее арабские цифры указывают номера этюдов в
перечисленных выше изданиях важнейших технических упражнений ряда композиторов
(при упоминании тетрадей Баха Шуман, по-видимому, имеет в виду
отдельные циклы, входящие в состав «Клавирных упражнений»). Этюды,
отмеченные знаком х как комментирует автор, «сверх того имеют поэтический
характер»; (см. указ. выше номер и страницу NZfM).
42. ИЗ КНИЖЕК ДАВИДСБЮНДЛЕРОВ
Танцевальная литература NZfM 1836, 23 февраля, № 16,
с. 69. Шестнадцать новых этюдов. NZfM 1836, 10 июня, № 47,
с. 193.
1 Леопольд фон Майер был уже ранее упомянут на страницах NZfM в
одной из венских корреспонденции. Сообщение об успехе Майера как
исполнителя Шопена и Тальберга Шуман сопроводил следующим редакционным
примечанием: «Если речь идет о том, кто некоторое время тому назад
сочинил и выпустил в свет «Салонные вальсы», то мы хотели бы призвать его
к дальнейшему развитию своего прекрасного композиторского таланта с
помощью более строгого обучения» (NZfM 1835, 28 марта, № 25, с. 101).
Г. Янзен замечает по этому поводу: «Леопольд фон Майер, быть может, и
прочел этот призыв, но во всяком случае не последовал ему. За вычетом
немногих вещей, где он пытался достигнуть более высокой цели, композитор
не выходил за рамки обычной музыки, также, впрочем, как он на
протяжении всей своей жизни не мог проникнуть в тайну музыкальной орфографии»
(G. Sch. (J) I, S. 340).
2 Несомненно, речь идет о финале 9-й симфонии Бетховена.
3 О пьесе Шуберта «Sehnsuchtswalzer» см. комментарий 2 к статье 17.
4 Урсулинки — члены католического женского союза, ставившего своей
задачей воспитание девушек и уход за больными.
5 Намек на шумановские «Симфонические этюды» ор. 13.
43. К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ Г. ВЕДЕЛЯ ОБ ОНЕМЕЧИВАНИИ
NZfM 1836, 8 июля, № 3, с. 11. Послесловие к статье А. Цуккальмальо
«Заметки сельского пономаря Веделя. Язык музыки». В названной статье
предлагалась замена всех принятых в музыке итальянских и французских
обозначений немецкими. При этом заменяющие слова, в случае отсутствия
таковых в немецкой музыкальной практике, А. Цуккальмальо придумывает,
руководствуясь приблизительным смысловым соответствием. Вот некоторые
из предлагаемых автором замен (приводим их на языке оригинала): Duetto—
399
Gezweie;. Trio — Gedreie; Quartetto — Gevierte etc.; Opera — Singspiel; Kan-
tate — Gesang; Symphonic — Bardlet; Chor — Reigen; Soli — Einzelstimtnen;
Recitativo — Redgesang. Цуккальмальо предлагает также заменить немецкими
словами общепринятые знаки, относящиеся к характеру исполнения.
Например, вместо двойного знака _ ^^ употреблять слова
«schweilende», «abnehmende».
1 Первоначально: «Сможет ли Ведель с помощью онемечивания
добраться до таких излюбленных слов, как «симфония» и т. п.— в этом давидсбюн-
длеры сомневаются и они не хотели бы этого».
2 Споря с Цуккальмальо, Шуман в известной мере сочувствовал era
идее. Уже в 30-е годы он стремился вопреки обычаям издавать свои
произведения с немецкими названиями. Однако издатели поступали по-своему.
Так, «Бабочки» ор. 2, «Карнавал» ор. 9 и «Симфонические этюды» op. 1&
появились в первых изданиях с французскими титулами. Лишь начиная с
«Детских сцен» ор. 15 (1838) желание композитора выполнялось. Известно
также, что Шуман охотно заменял некоторые французские и итальянские
исполнительские обозначения — немецкими. Однако он проявлял необходимую-
трезвость, не считая возможным посягать на обозначения и термины,
получившие интернациональное значение и глубоко укоренившиеся в
профессиональной практике.
44. ЗАМЕТКИ
NZfM 1836, 14 июня, № 48, с. 198 (Крамер); 12 июля, № 4, с. 17
(Бенедикт, Энкхаузен, К. Хаслингер, Гройлих) 19 июля, № 6, с. 26 (Герке,
Ж. Шмитт, А. Шмитт, К. Майер).
1 В этой довольно туманной фразе все же легко заметить ироническую
параллель между «ничем не примечательной жизнью» композитора и его
этюдами.
2 См. комментарий 3 к статье 18.
3 См. статью 46, с. 320 (отзыв о творчестве Я. [Ж]. Шмитта).
4 Шуман присутствовал на концерте Паганини во Франкфурте н/М. не в
1829 г., а 11 апреля 1830 г. А Шмитт, живший в то время во Франкфурте»
участвовал в концерте Паганини как пианист (его имя упоминается дважды
в дневниковых записях Шумана, относящихся к поездке во Франкфурт
весной 1830 г.; см. Tagebucher, S. 280, 283; см. также «Die Davidsbundler»,
S. 220).
45. ОБЗОР СОЧИНЕНИИ
NZfM 1836, 21 июня, № 50, с. 208 (1-я серия); 28 июня, № 52, с. 216
(2-я серия).
1 Камилло — брат известного австрийского писателя Франца. Грильпар-
цера.
2 Францу Лахнеру присуждена была в 1836 г. премия за симфонию;
см. вступительный комментарий к статье 51.
3 «Альчидор» (1825) и «Нурмахаль, или Праздник роз в Кашмире»
(1829) —оперы Спонтини.
46. ПАМЯТНИК БЕТХОВЕНУ
NZfM 1836, 24 июня; № 51, с. 211. Статья является откликом на призыв
Боннского комитета по сооружению памятника Бетховену (от 17 декабря
1835 г.) к сбору денежных средств. На этот призыв Шуман ответил также
400
сочинением своей «Большой сонаты для фортепиано», кЬторую предполагал
издать в пользу комитета. Проектировалась обложка черного цвета и на
ней надпись золотыми литерами: «Лепта на памятник Бетховену». Три части
цикла должны были носить названия: «Руины», «Трофеи», «Пальмы».
В «Пальмах», по словам композитора, «слышится Адажио из симфонии
[Бетховена] A-dur»; см. письмо к издателю Ф. Кистнеру, Письма I, с. 270—
271. Задуманное издание не состоялось. Выдающееся произведение Шумана в
переработанном виде появилось в 1839 г. под названием «Фантазия» ор. 17,
Памятник Бетховену в Бонне был открыт 12 августа 1845 г.
1 Речь идет о могиле Наполеона на острове св. Елены. Перенесение
праха императора в Париж состоялось в декабре 1840 г.
2 Дом в Вене, где жил Бетховен.
3 Гете. «Западно-восточный диван. V. Книга недовольства (Buch des
Unmuts)». Русский перевод см. в издании: Гете. Собр. соч. в 13-ти т.,
т 1. М.—Л., 1932, с. 377. Шуман цитирует стихотворение начиная с третьей
строки.
4 Авторская купюра; «Если угодно, считайте меня Корделией, которая
дважды повторила свое «нет».
5 История сестер Подлески (Podlesky) — их появления в Лейпциге,
обучения у И. А. Хиллера, артистических успехов и сооружения по их
инициативе в 1832 г. памятника учителю — изложена в воспоминаниях Ф. Н. Шнор-
ра (опубликованы в «Zeitung fur das elegante Welt», 1832, 30 июня).
Краткое изложение см. G. Sch. (J) I, S. 343.
6 Статуя кардинала Карло Борромеуса (21 метр высоты) воздвигнута в
1697 г. в городе Арона на берегу озера Лаго Маджоре (Италия).
47. ВАРИАЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
NZfM 1836, 23 августа, № 16, с. 64 (первый тур); 26 августа, N° 17,
с. 67 (второй тур); 6 сентября, № 20, с. 79 (третий тур).
1 Авторская купюра: «И, наконец, если музыкант после двадцати двух
страниц в A-dur пользуется такой орфографией:
то я ке стану ему петь дифирамбы».
2 Имеется в виду популярная песня из комической оперы Герольда
«Цампа». Герой, по имени которого названа опера,— морской пират.
3 Ария из оперы Мейербера «Роберт-дьявол».
4 Шуман говорит здесь об известной песне А. Варламова «Красный
сарафан» на стихи Н. Цыганова. Первая русская публикация — М.,
«Музыкальный альбом на 1833 год». Говоря о «просьбе ребенка к матери», автор
•статьи, видимо, лишь очень приблизительно понимал содержание стихов. В
«Красном сарафане», как известно, девушка просит мать не торопиться
выдавать ее замуж («Не шей ты мне, матушка»).
5 Начальные слова английского национального гимна. А. Львов — автор
музыки официального гимна русского самодержавия «Боже, царя храни»
(1833).
401
6 Четверостишие из стихотворения «Schwarze Rocke, seidne Strumpfe»,
которым открываются «Путевые картины» Гейне. В качестве эпиграфа
напечатаны в NZfM 6 сентября 1836 г. (№ 20).
7 См. комментарий 2 к статье 17.
8 ...другой — швед...—Г. Осборн, по происхождению ирландец, жил в то
время в Париже.
48. КНИГИ
NZfM 1836, 13 сентября, № 22, с. 88 (Хирш, Поле); 16 сентября, № 23,
с. 1 (Визе, Ортлепп).
1 Эти слова, сказанные мимоходом, могут быть восприняты как
упрощение далеко не простого вопроса о любовных чувствах и привязанностях
Бетховена. После опубликования в 1957 г. тринадцати неизвестных писем
Бетховена к Жозефине Дейм (урожденной фон Брунсвик) об этой стороне
жизни композитора известно больше, чем во времена Шумана (см. об этом
в кн.: Письма Бетховена. 1787—1811. М., 1970).
2 Эпиграф к данному номеру журнала гласил: «Страсбургский Мюнстер
[собор] — очень высокая башня»; ср. с заметкой «После d-тоН'ной симфонии»
в публикации 4 («Из памятной и поэтической записной книжки»), в наст,
изд., т. I, с. 77.
49. ФАНТАЗИИ, КАПРИСЫ И ДРУГИЕ ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
NZfM 1836, 7 октября, № 29, с. 115 (Шнабель, Меро, Ладурнер, Таль-
берг); 18 октября, № 32, с. 127 (Руммель, Рукгабер, Келер, Герц, Кулен-
камп); 21 октября, № 33, с. 131 (Розенхайн, Черви, Бертини, Ле Карпантье,
Куленкамп, Хилл-Хаидлей, Бехер).
1 Намек на ситуацию в опере Бетховена «Фиделио», в спектаклях
которой В. Шредер-Девриент прославилась как исполнительница партии Леоноры.
2 И. Мошелес. Вариации на «Александровский марш».
3 По указанию Г. Янзена здесь имеется в виду один из полонезов
№. Огиньского (G. Sch. (J) I, S. 285).
4 Ш>ман имеет в виду известный факт из биографии Моцарта: в 1770
году юный музыкант (ему было тогда 14 лет), прослушав только один раз
девятиголосное хоровое сочинение Аллегри (Рим, Сикстинская капелла) по
памяти записал всю партитуру.
* Г. Янзен комментирует: «Бехер был расстрелян в 1848 году в Вене по
приговору военного суда» (G. Sch. (J) I, S. 291).
6 Имеется в виду Мендельсон.
50. ПЕСНЯ И РОМАНС
NZfM 1836, 1 ноября, № 36, с. 143 (Лёве, Б. Клайн); 22 ноября, № 42,
с. 167 (Маршнер, Штегмайер); 29 ноября, № 44, с. 175 (Й. Клайн); 20
декабря, № 50, с. 200 (Трист, Рис).
1 «Иессонда» — опера Шпора. - - - "V \
51. ПРЕМИРОВАННАЯ СИМФОНИЯ «- «j
NZfM 1836, 4 ноября, № 37, с. 147 (Ведель); 8 ноября, № 38, с. 151
(редакция) . Две связанные между собой рецензии — Готшалька Веделя
(А. Цуккальмальо) и Шумана (за подписью «Редакция») — появились по
случаю присуждения премии Францу Лахнеру за его «Sinfonia passionata»
402
op. 52. Конкурс объявлен был в январе 1835 года в Вене музыкальным
обществом «Concerts spirituels» (объявление о конкурсе с указанием состава
жюри NZfM перепечатал в номере от 13 марта 1835 г.). А. Цуккальмальо
воспользовался фактом присуждения премии лишь как поводом для атаки
против «неоромантиков», особенно — против Берлиоза. Шуман не
сочувствовал этой статье и медлил с ее опубликованием. 18 октября 1836 г. он писал
Цуккальмальо: «Вы, кажется, думаете, что некоторые из Ваших статей
остались не напечатанными. Но это всего лишь одна единственная — сновидение
о конкурсной симфонии. Я часто вбираю на нее с искренней грустью и, хотя
многое в ней мне очень нравится, все же предпочел бы поместить ее в
другом издании, но не в NZfM, которая — вся юность и движение. К тому же
как раз о симфонии Берлиоза в нашей газете придерживались самого
прекрасного мнения, так что [Ваше] столь противоположное суждение могло бы
скорее сбить читателя с толку, чем принести ему пользу» (Письма I, с. 266).
Все же Шуман опубликовал статью Цуккальмальо, сопроводив ее
обстоятельной рецензией, а в дальнейшем включил обе статьи в G. Sch. Свое
критическое отношение к премированной симфонии Лахнера Шуман подчеркнул
эпиграфом из Гете, предпосланным данному номеру NZfM:
Ein Kranz ist gar viel leichter binden,
Als ihm ein wurdig Haupt zu finden *.
Мнение Цуккальмальо о симфонии Лахнера, вначале благожелательно
нейтральное, стало весьма критичным после того, как он прослушал ее.
Искусственно растянутая, утомительно однообразная, эта симфония, по его
словам, способна, однако, получить «премию за терпение слушателей» (NZfM
1837, 4 июля, № 1, с. 2). Текст статьи Цуккальмальо печатается здесь с
небольшими редакционными поправками Г. Янзена, которые обоснованы в
примечаниях к его публикации (G. Sch. (J) I, S. 346).
1 Слова о «чудаковатом святом» — по-видимому, намек на биографию
Ф. Ламенне — аббата, разорвавшего с церковью, ставшего критиком
буржуазной Франции, видным публицистом. Ламенне был другом Листа, который
посвятил ему пьесу «Лион» («Альбом путешественника») и на его стихи
написал несколько вокальных произведений.
2 Вингольф («Wingolf») — христианский союз студентов, боровшихся
■против дебоширства и дуэлей.
3 Имеется в виду квартет Бетховена ор. 74 (1809).
4 См. публикацию 38, раздел «Трио», отзывы о произведениях Ф. Енса
и Луи Вольфа.
5 См. комментарий 2 к статье 17.
52, ФРАГМЕНТЫ ИЗ ЛЕЙПЦИГА. Г
NZfM 1836, 6 декабря, № 46, с. 184. Начало новой серии рецензий,
посвященных концертной жизни Лейпцига. В данном обзоре речь идет о
концертах Гевандхауза.
1 Шопен приехал в Лейпциг 12 сентября 1836 г. Провел здесь только
один день, посетив Шумана и Генриетту Фойгт. В' обоих домах играл свои
произведения. Это было второе и последнее посещение Лейпцига Шопеном;
■см. также комментарий 11 к публикации 36.
2 «Эвтерпа» — концертное общество в Лейпциге.
3 «Израиль в Египте» — оратория Генделя (1739).
4 См. статью 51.
5 Имеется в виду однофамилец великого композитора, концертмейстер
дрезденского симфонического оркестра Франц Шуберт (1808—1878).
* «Гораздо легче сплести венок, чем найти главу, достойную носить его»
{нем.).
403
СОДЕРЖАНИЕ
От* редактора-составителя : . 5
Д. Житомирский. Литературное наследие Роберта Шумана ... 9
СТАТЬИ
1. Введение 69
1831—1834
2. «Сочинение II» 71
*3. Реминисценции последних концертов Клары Вик в Лейпциге . . 73
4. Из памятной и поэтической записной книжки майстера Раро, Фло-
рестана и Эвсебия 77
*5. Давидсбюндлеры 92
6. Проспект «Neue Leipziger Zeitschrift fur Musik» 106
7. В. Тауберт. Дуэт для фортепиано в 4 руки 108
8. «Христос на масличной горе». Кирие и Глория из «Торжественной
мессы» Бетховена 111
9. Комическое в музыке 111
*10. Современники. Анна Каролина фон Бельвиль 113
11. Концерты 114
Теодор Штайн 114
Анри Вьетан и Луи Лакомб 116
*12. Английская матросская песня 118
*13. И. Брандль. «Геро», монодрама с хорами и фортепиано . . .118
*14. И. Мошелес. Экспромт для фортепиано 119
*15. К читателям «Neue Zeitschrift» 119
16. И. В. Калливода. Увертюры 121
17. Психометр 122
18. Из критических книжек давидсбюндлеров 125
I. Этюды для фортепиано И. Н. Гуммеля 125
II. «Музыкальные цветы» Генриха Дорна 129
19. Композиции Й. К. Кесслера 132
20. Афоризмы (давидсбюндлеров) 134
404
1835
21. К началу издания журнала в 1835 году 139
22. Фердинанд Хиллер 141
23. Композиции для фортепиано 151
Дж. Фильд. «Пасторальный ноктюрн»; «Новая фантазия» . 151
* Ф. Хиллер. «Танец фей»; Серенада. Прелюдия, романс и финал 153
Ф. Мендельсон. Шесть песен без слов 153
В. Тауберт. «К возлюбленной» 154
24. Критический вестник 156
* «Музыкальный друг семейства» 156
3. Тальберг. Фантазия на темы из «Нормы». — Ф. Калькбреннер.
Фантазия на темы из «Чужестранки» 157
25. Характеристика тональностей 158
26. Третья симфония К. Г. Мюллера 159
27. «Освящение звуков». Симфония Л. Шпора 162
28. И. Мошелес. Большой септет 163
29. «Ярость из-за потерянного гроша». Рондо Бетховена .... 165
*30. Манускрипты 165
Фр. Парцш. «Радость и горе» 165
В. Боммер. Две сонаты 167
Г. Флюгель. Вариации на тему тирольской песни из «Вильгельма
Телля» . 167
Э. Вебер. Ноктюрн 168
31. Карнавальная речь Флорестана 169
32. Из книжек давидсбюндлеров. Сонаты для фортепиано (Д. Хилл-
Хандлей, К. Лёве, В. Тауберт, Л. Шунке) 171
33. Короткие и рапсодические пьесы для фортепиано (Э. Венцель,
А. Тома, К. Э. Херинг, М. Хауптман, К. Э. Харткнох, К. Вик,
Ю. Бенедикт, Ф. Хиллер, *Р. Шуман, Й. К. Кеслер, Й. Поль,
Ф Шопен, Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт, Л. Шунке) 182
34. Концерты 187
* Прощальный концерт фройлайн Ливии Герхардт . . . .187
* Липиньский 188
«Он играл божественно» 188
«Липиньский даст...» 188
* Карл Лёве 189
И. Мошелес 190
* К предстоящему концерту Клары Вик 191
35. Гектор Берлиоз. «Эпизод из жизни артиста. Большая
фантастическая симфония» 193
36. Письма мечтателей 216
1. Киаре 216
* 2. Эвсебию 219
3. Киаре 221
* 4. Киаре 225
37. Новые сонаты для фортепиано 228
К. Лёве. «Весна» 228
Франц граф фон Поччи. «Фантастическая соната»; «Весенняя
соната» ' . 229
Ф. Лахнер. Соната для четырех рук 230
Ф. Мендельсон. Соната E-dur. — Ф. Шуберт. Первая большая
соната; Вторая большая соната; Фантазия или соната;
Первая соната в четыре руки 231
1836
38. Критическое обозрение 235-
I. Увертюры
Мендельсон. Увертюра к «Сказке о прекрасной Мелузине» . 235
405
* Г. Маршнер. Большая праздничная увертюра 237
Г. Берлиоз. Увертюра к «Тайным судьям» 237
! И. Мошелес. Увертюра к «Орлеанской деве» 238
II. Концерты для фортепиано с оркестром
Э. Г. Шорнштайн. Первый концерт . . 239
* К. Лазекк. Концертино 241
Т. Дёлер. Первый концерт 242
■* Ф. Хиллер. Концерт f-moll 243
К. Э. Харткнох. Второй большой концерт 245
3. Тальберг. Большой концерт 247
Г. Герц. Второй концерт 248
Ф. Калькбреннер. Четвертый концерт 249
Ф. Рис. Девятый концерт 251
В. Тауберт. Концерт E-dur 252
Дж. Фильд. Седьмой концерт 255
И. Мошелес. Пятый и шестой концерты 256
Ф. гШопен. Первый и второй концерты 259
III. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели (Я. Розенхайн, А. Бо-
рер, А. Хессе, Ф. В. Енс, И. К. Луи Вольф, А. Тома,
* И. Ф. Добжиньский, Ф. Хиллер, К. А. Клайн, Райсигер,
Г. Ф. Лёвеншельд, А. Бертини, * И. П. Пиксис, И. Мошелес,
Ф. Шопен, Ф. Шуберт) 262
IV. Дуэты
Ф. Шопен и О. Франшомм. Большой дуэт на тему из
«Роберта-Дьявола» 277
И. Мошелес. Большой дуэт 277
V. Каприччо и другие короткие пьесы для фортепиано
Ю. Барони-Кавалькабо. Бравурное Allegro 279
Г. К. Куленкамп. Каприс 280
Фр. Поллини. Токката 281
Г. Дорн. «Любезный Руэ» 281
И. Калливода. Три соло • . 282
Фр. Отто. «Ночные бабочки» 283
* Ф. Добжиньский. Фантазия 283
3. Тальберг. Каприс; Два ноктюрна 284
Ноктюрны Шопена и Фильда 285
Г. Герц. Каприс 286
Г. Дорн. «Вакханалии. Рапсодия» 287
В. Тауберт. Миниатюры; «Tutti Frutti»; Шесть
характеристических экспромтов 287
Ф. Мендельсон. Три каприса 289
Л. Шунке. Два каприса 289
*39. Манускрипты 291
X. Нойман. Первая симфония 291
В. Шюлер. Адажио и рондо 292
40. Этюды для фортепиано 292
И. П. Пиксис. Этюды в форме вальса 293
И. Поль. Дивертисменты и экзерсисы в форме экосезов . . 294
М. Шимановская. Двенадцать этюдов 295
й. К. Кесслер. Двадцать четыре этюда 295
А. Бертини. Двадцать пять каприсов или этюдов . . . 296
К. Майер. Шесть этюдов 296
Ф. Рис. Шесть этюдов 297
Ф. В. Грунд. Двенадцать больших этюдов * 297
К. Э. Вайзе. Восемь этюдов 299
Л. Бергер. Двенадцать этюдов 300
Р. Шуман. Шесть концертных этюдов по каприсам Паганини . 301
41. Этюды для фортепиано, расположенные по их техническим задачам 303
42. Из книжек давидсбюндлеров 306
406
Танцевальная литература (Й. К. Кесслер, 3. Тальберг, К. Вик,
Л. Майер, Ф. Шуберт) 307
Шестнадцать новых этюдов (И. Крамер) 309
43. К предложениям Готшалька Веделя об онемечивании .... 313
*44. Заметки (И. Б. Крамер, Ю. Бенедикт, Энкхаузен, К. Хаслингер,
К. В. Гройлих, О. Герке, Ж. Шмитт, А. Шмитт, К. Майер) . .314
45. Обзор сочинений. Рондо для фортепиано 317
Первая серия (3. А. Циммерман, В. Моми, К. Грильпарцер,
Ю. Бенедикт, Г. Энкхаузен, Ф. К. Хватал, К. Хаслингер) 317
Вторая серия (Ф. Лахнер, К. В. Гройлих, О. Герке, Я. Шмитт,
А. Шмитт, К. Майер) 319
46. Памятник Бетховену 322
47. Вариации для фортепиано 327
Первый тур (И. Рохлиц, Ф. Деппе, К. Кребс, Б. Блахетка,
Г. Герц, К. Руммель, С. Хеллер, И. М. Дролинг) ... 327
Второй тур (И. Н. Эндтер, Э. Прюдан, К. Хаслингер, Ю.
Бенедикт, Г. Элькамп, Ф. К. Хватал, Г. В. Штольце, Л. Фа-
ренк, 3. Тальберг) 330
Третий тур (Г. Осборн, И. Новаковский, Ф. Калькбреннер,
К. Шунке, Т. Дёлер, К. Майер, Л. Шунке, Ф. Шопен) . . 335
*48. Книги 338
Р. Хирш. Галерея здравствующих композиторов .... 338
К. Ф. Поле. О разучивании произведений или разгадка тайн
исполнения, предлагаемая пианистам 340
С. Визе. «Бетховен». Драма в трех актах 341
Э. Ортлепп. «Бетховен». Фантастическая характеристика . . 342
49. Фантазии, каприсы и другие пьесы для фортепиано .... 3431
Первая партия (К. Шнабель, А. Меро, И. А. Ладурнер, 3. Таль- 343
берг) 343
Вторая партия (К. Руммель, И. Рукгабер, Э. Келер, Г. Герц,
Г. К. Куленкамп) 345
Третья партия (Я. Розенхайн, К. Черни, А. Бертини, А. Ле Кар-
пантье, Г. К. Куленкамп, Д. Хилл-Хандлей, А. Ю. Бехер . 347
50. Песня и романс для голоса с сопровождением фортепиано . . 350
К. Лёве. «Эсфирь» 350
Б. Клайн. «Бог и баядера» Гете; «Рыцарь Тогенбург»
Шиллера; «Коринфская невеста» Гете; Семь стихотворений из
«Картин Востока» Штиглица и из «Саги о Фритьефе» Тег-
нера; «Гимн» Рельштаба; Три песни Гете 352
Г. Маршнер. «Картины Востока» Г. Штиглица .... 353
И. Клайн. Шесть стихотворений из «Вильгельма Майстера»
Гете; «Замок у моря» и «Дочь хозяйки», две баллады Уяанда 354
Г. Трист. Четыре песни; Шесть песен 355
Ф. Рис. Четыре песни лорда Байрона. — В. И. Томашек. Шесть
чешских песен В. Ханки 356
51. Премированная симфония 357
1. Рецензия Готшалька Веделя 357
2. Ответ Шумана 360
52. Фрагменты из Лейпцига. I : 362
Комментарии ; . . ; 367
Шуман Р.
III96 О музыке и музыкантах. Собрание
статей в двух томах. Т. 1. Сост.,
текстологическая ред., вступ. статья и ком-
мент. Д. В. Житомирского. Пер. с нем.
А. Г. Габричевского и Л. С. Товалевой.
Ред. перевода Г. А. Балтер. М.,
«Музыка». 1975.
407 сл, с ил., нот.
Настоящее «Собрание» — первое полное издание
литературных работ Шумана на русском языке. В него
включены материалы, опубликованные во всех
известных изданиях шумановских статей Кроме того,
введены некоторые статьи, прежде не публиковавшиеся в
аналогичных немецких изданиях шумановских работ о
музыке и музыкантах, и в ряде случаев восстановлены
авторские купюры. Первый том статей Шумана отражает
критико-публицистическую деятельность великого
композитора за 1831—1836 годы.
РОБЕРТ ШУМАН
О МУЗЫКЕ И МУЗЫКАНТАХ
Собрание статей
Том I
Редактор Д. Фришман
Художник Г. Дмитриев
Худож. редактор Ю. Зеленков
Техн. редактор И. Левитас
Корректор Г, Федяева
Подписано к печати 8/VIII 1975 г. Формат бумаги ЬОхЭО'/ю Печ. л. 25,5
Уч.-изд л. 25,53 Тираж 8000 экз. Изд. М> 4185 Т. п. № 621—75 Зак. 37
Цена 1 р. 93 к. на бумаге № 2
Издательство «Музыка», Москва, Неглинная, 14
Московская типография № 6 Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
109088, Москва, Ж-88. Южнопортовая ул., 24.