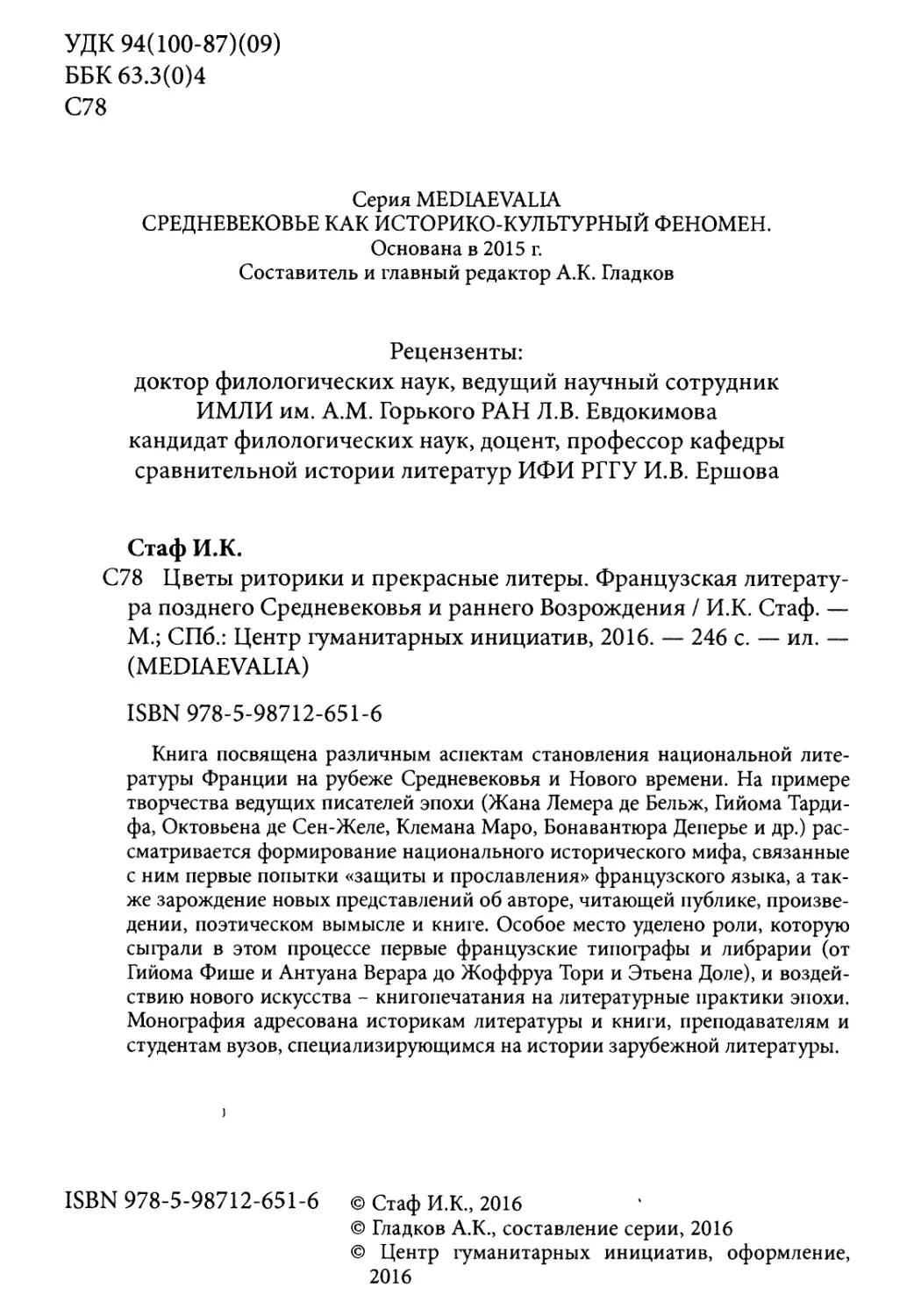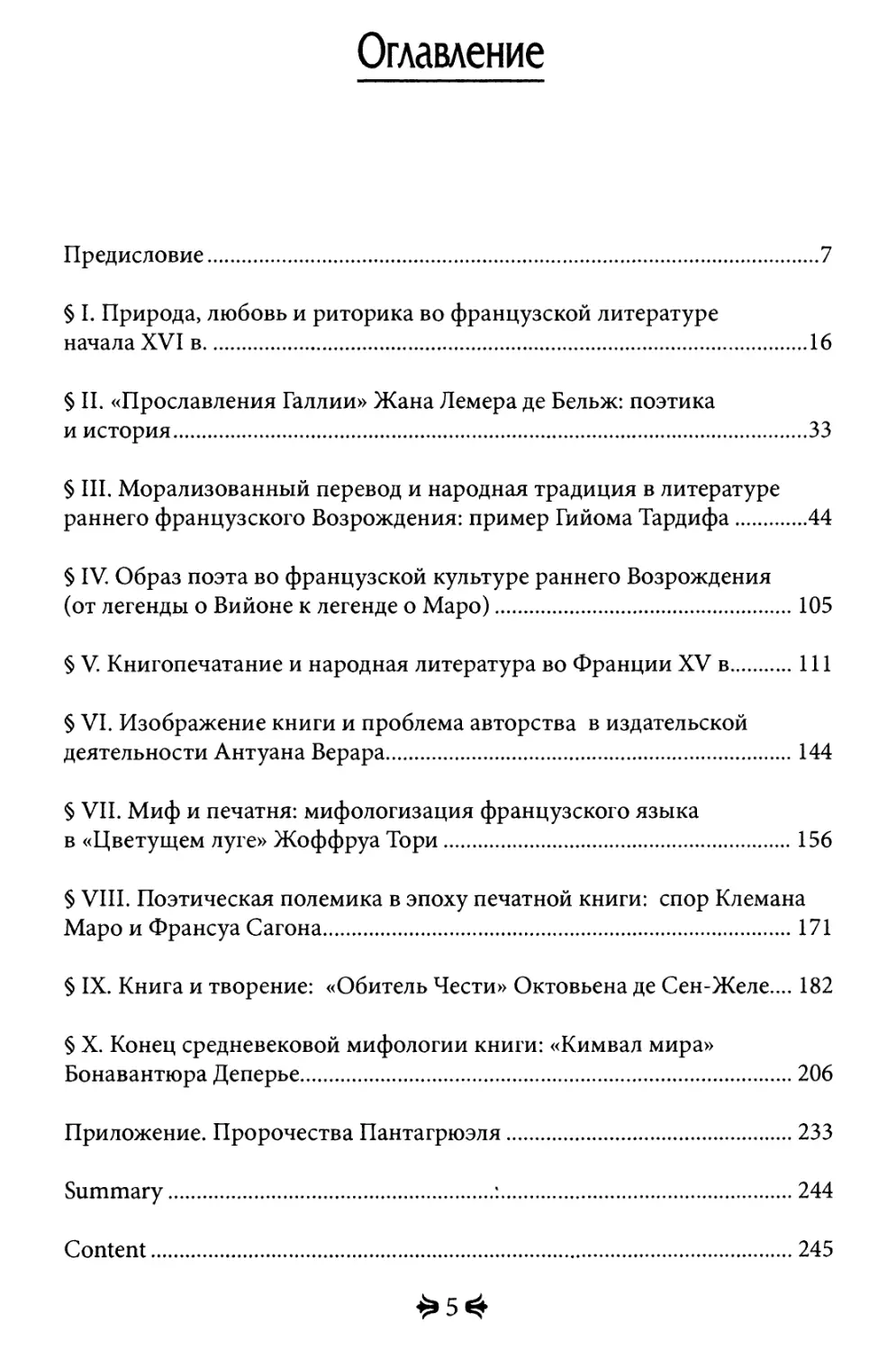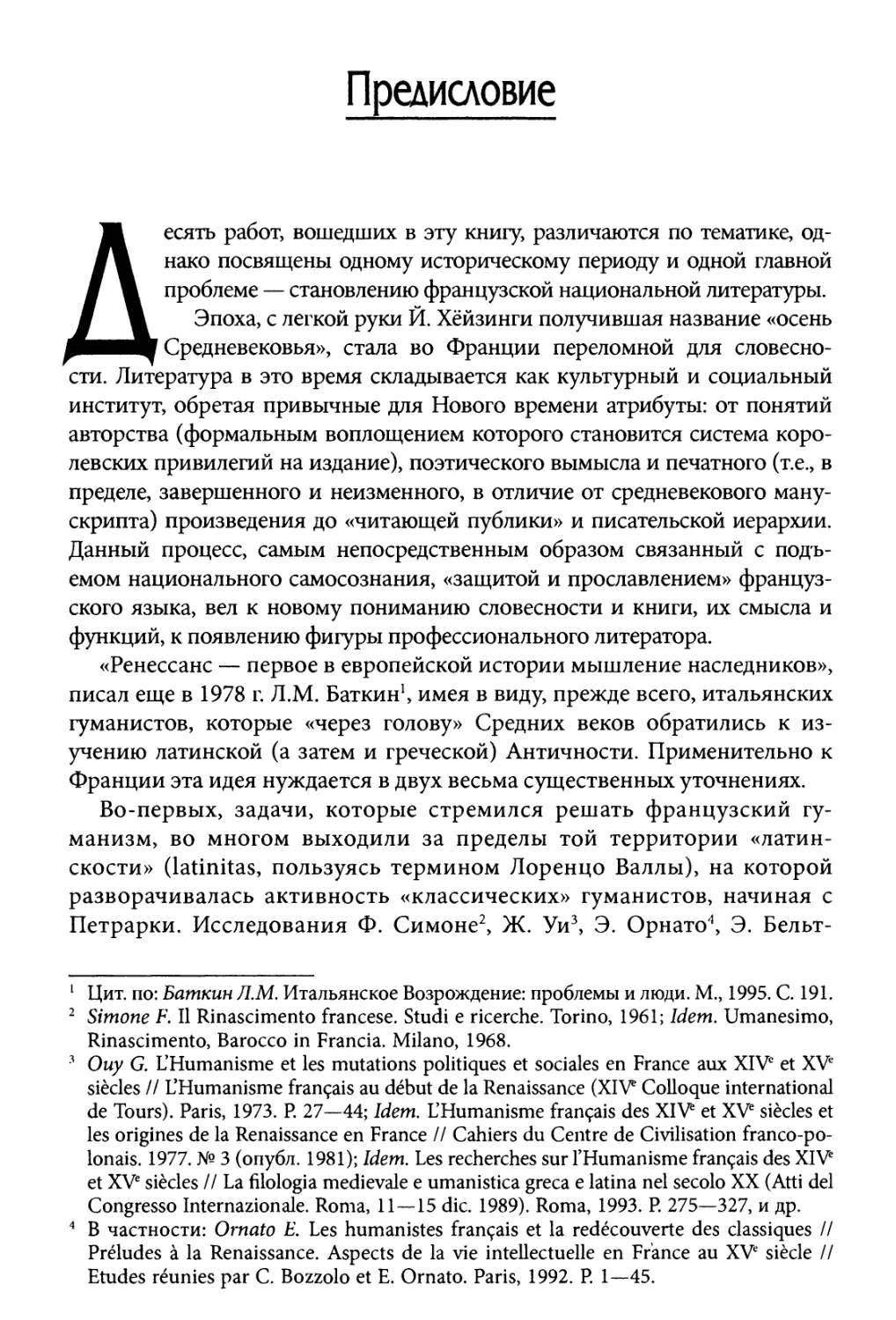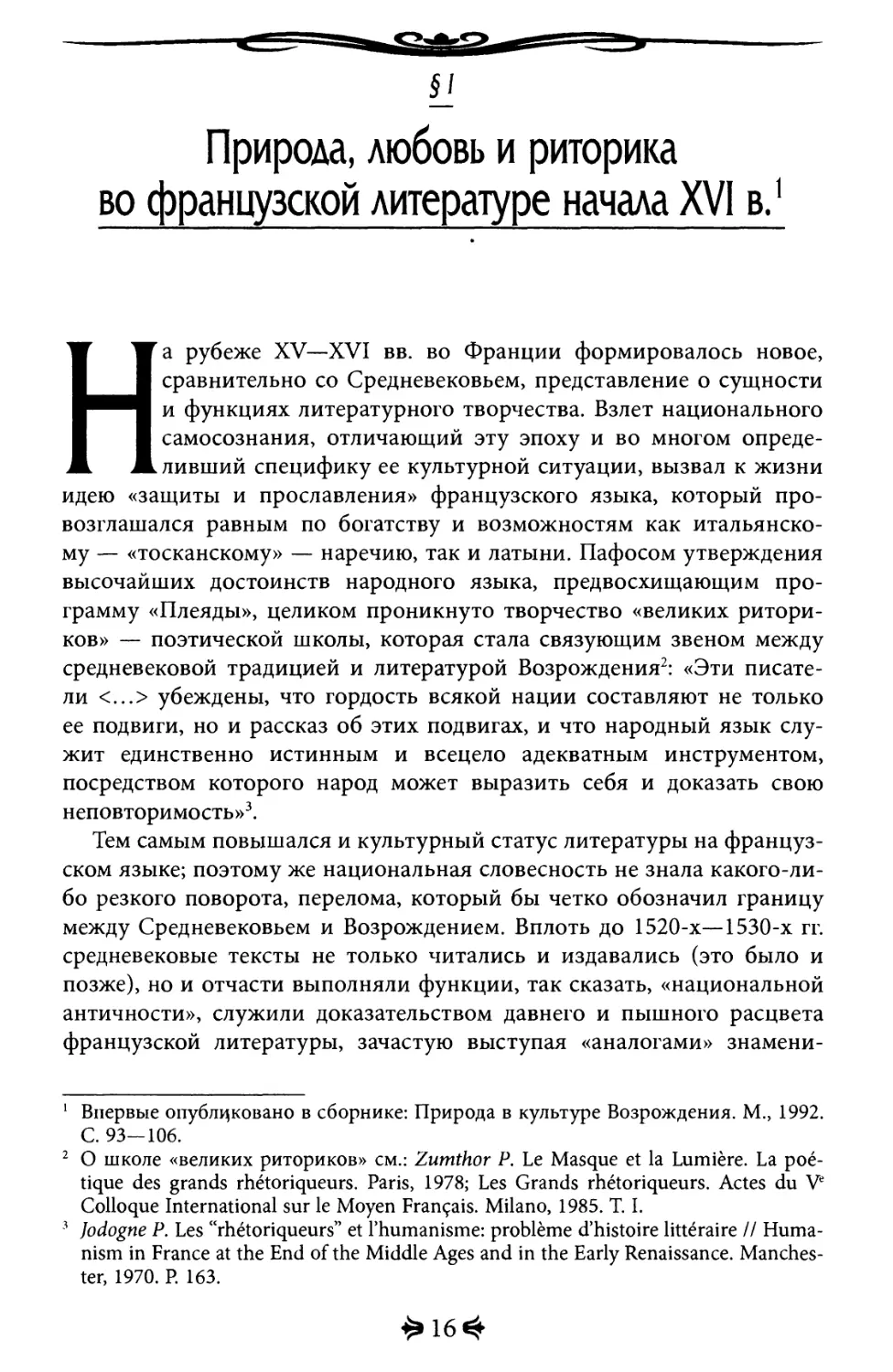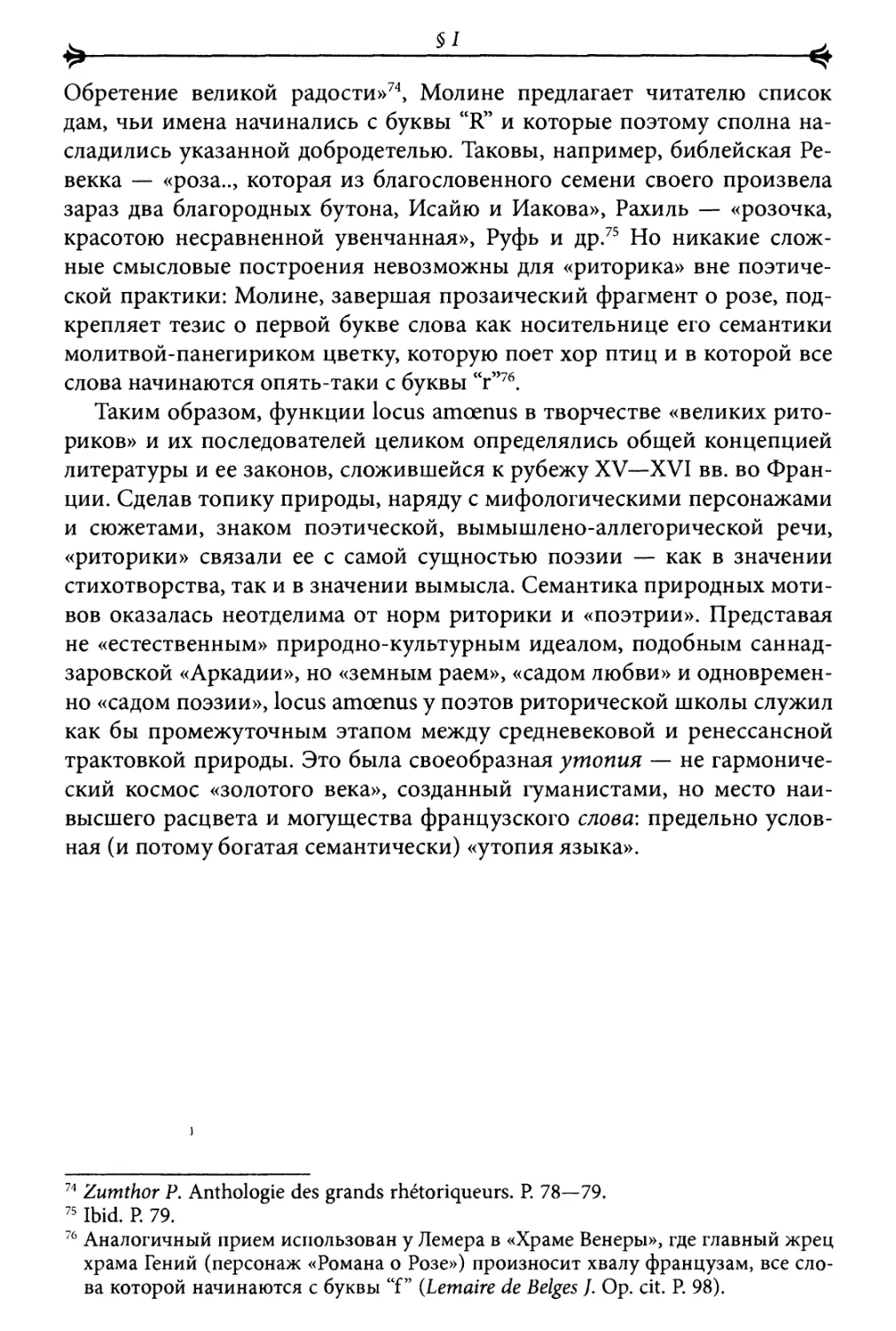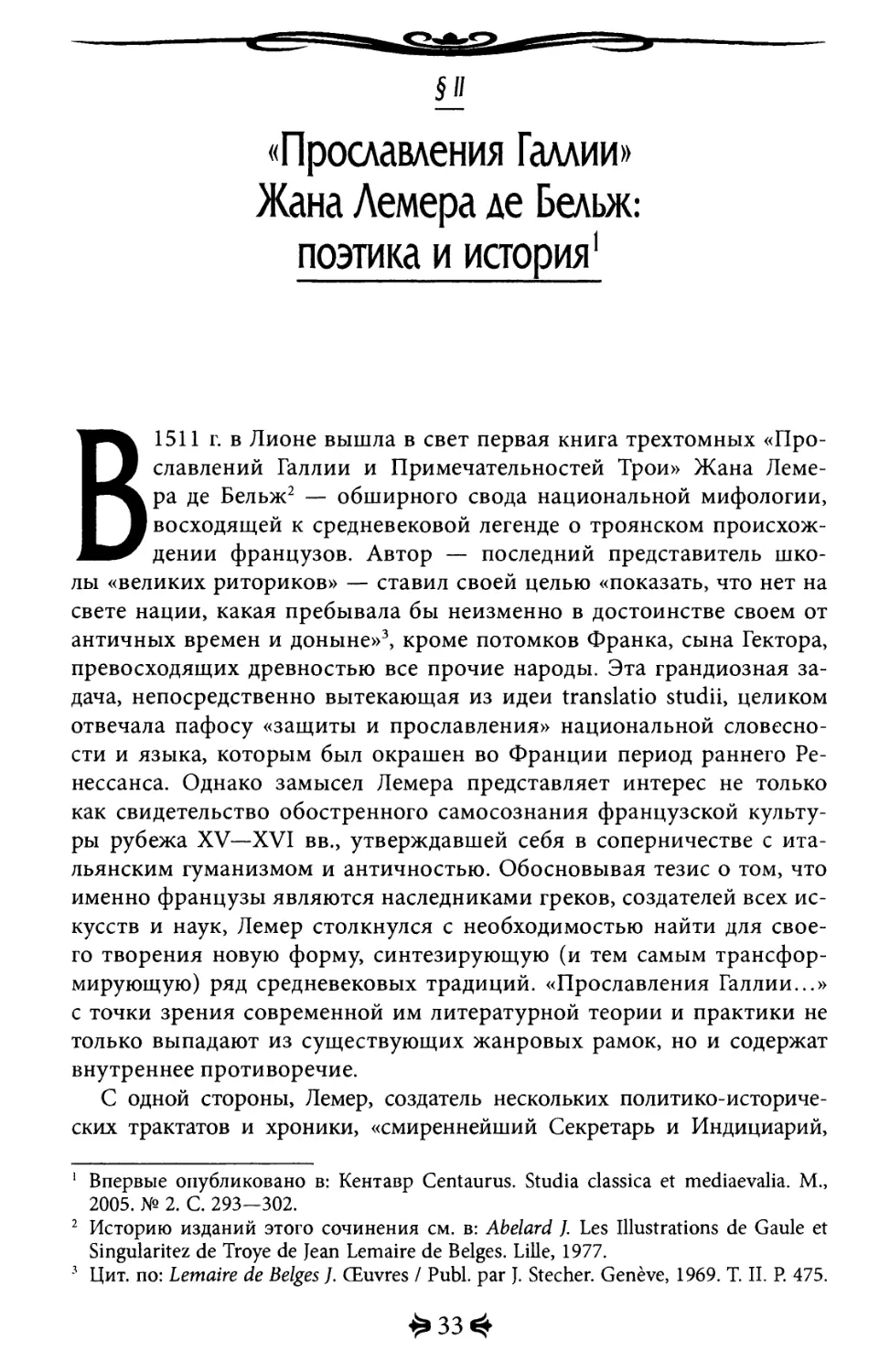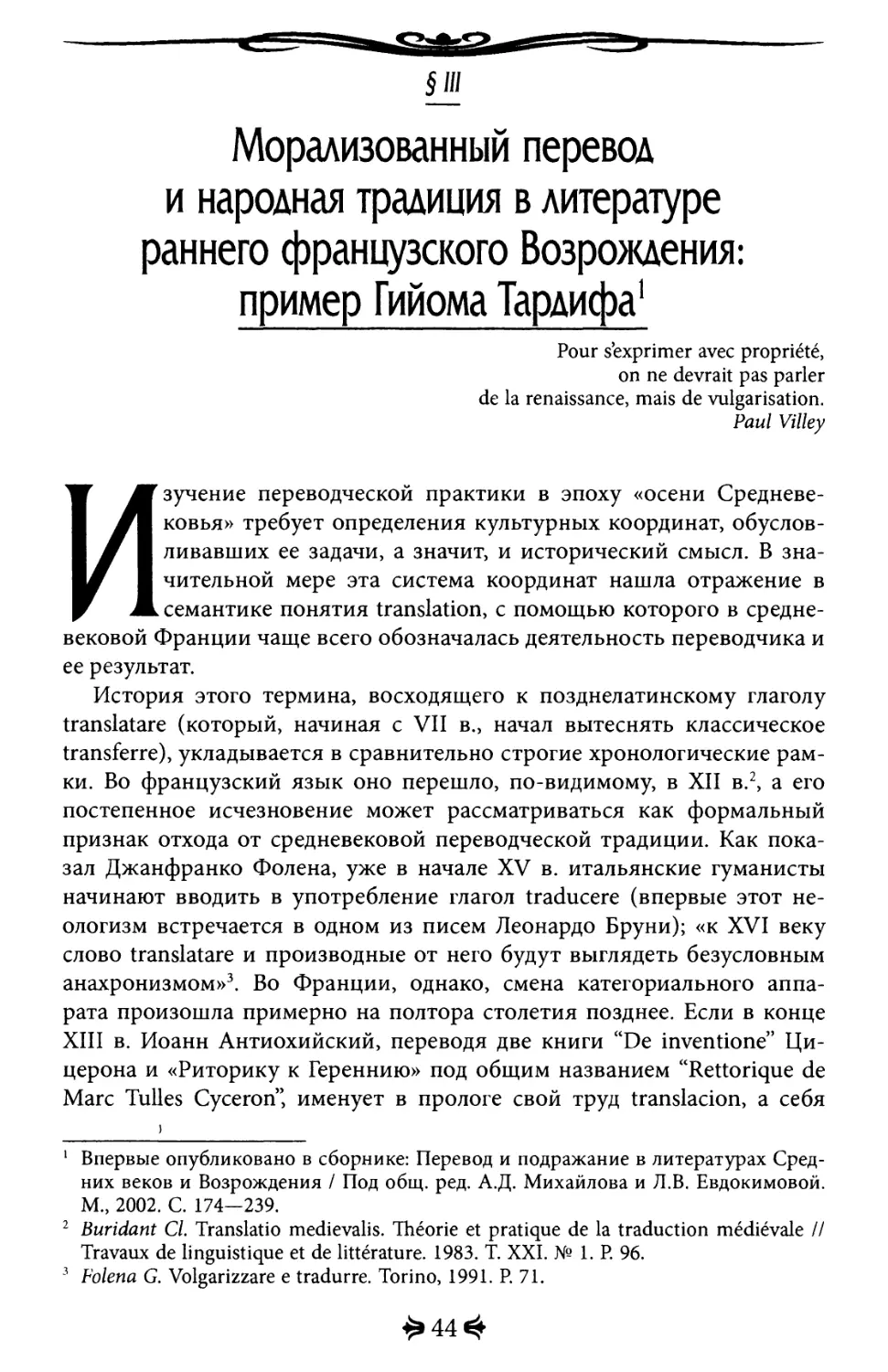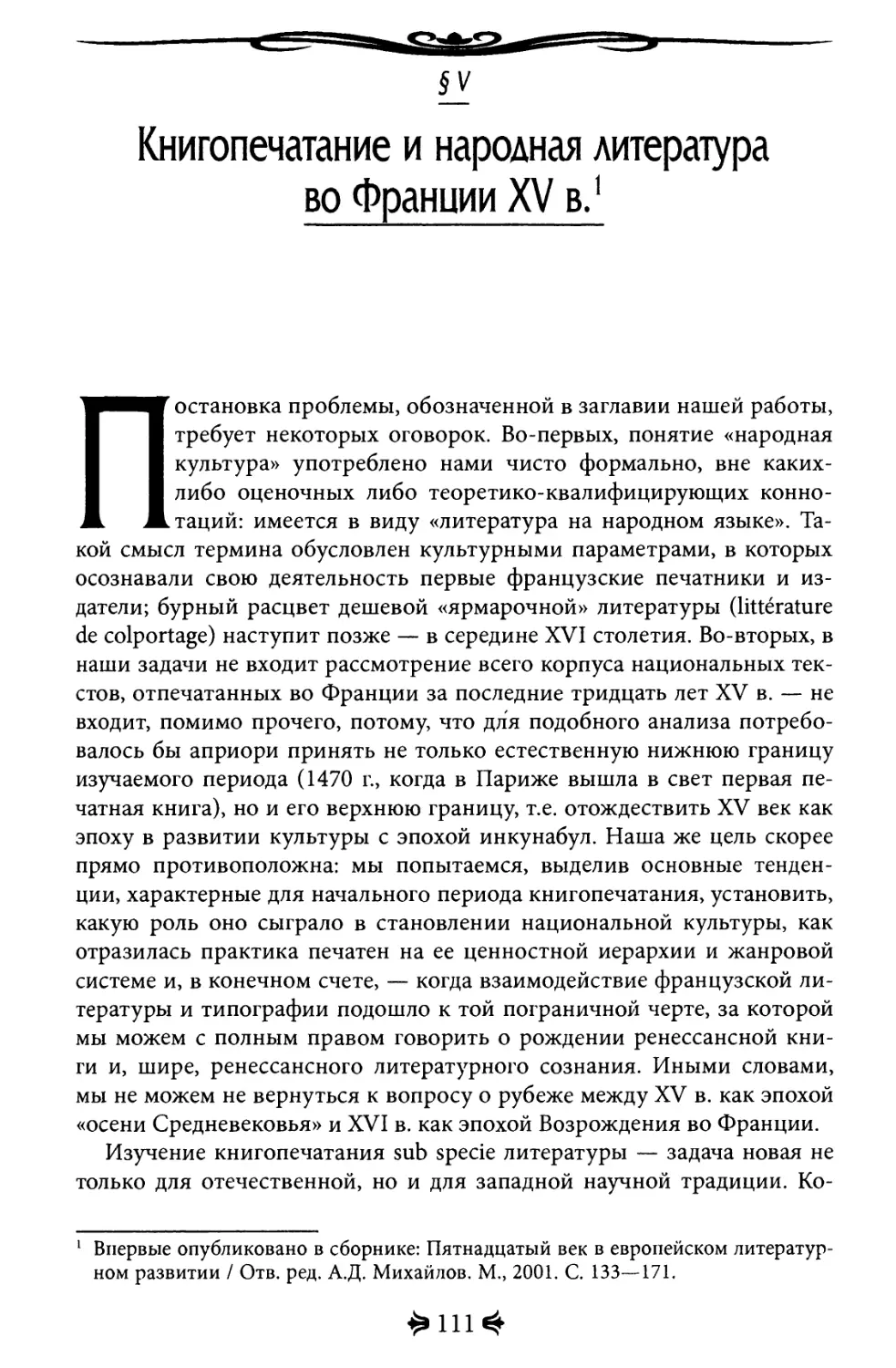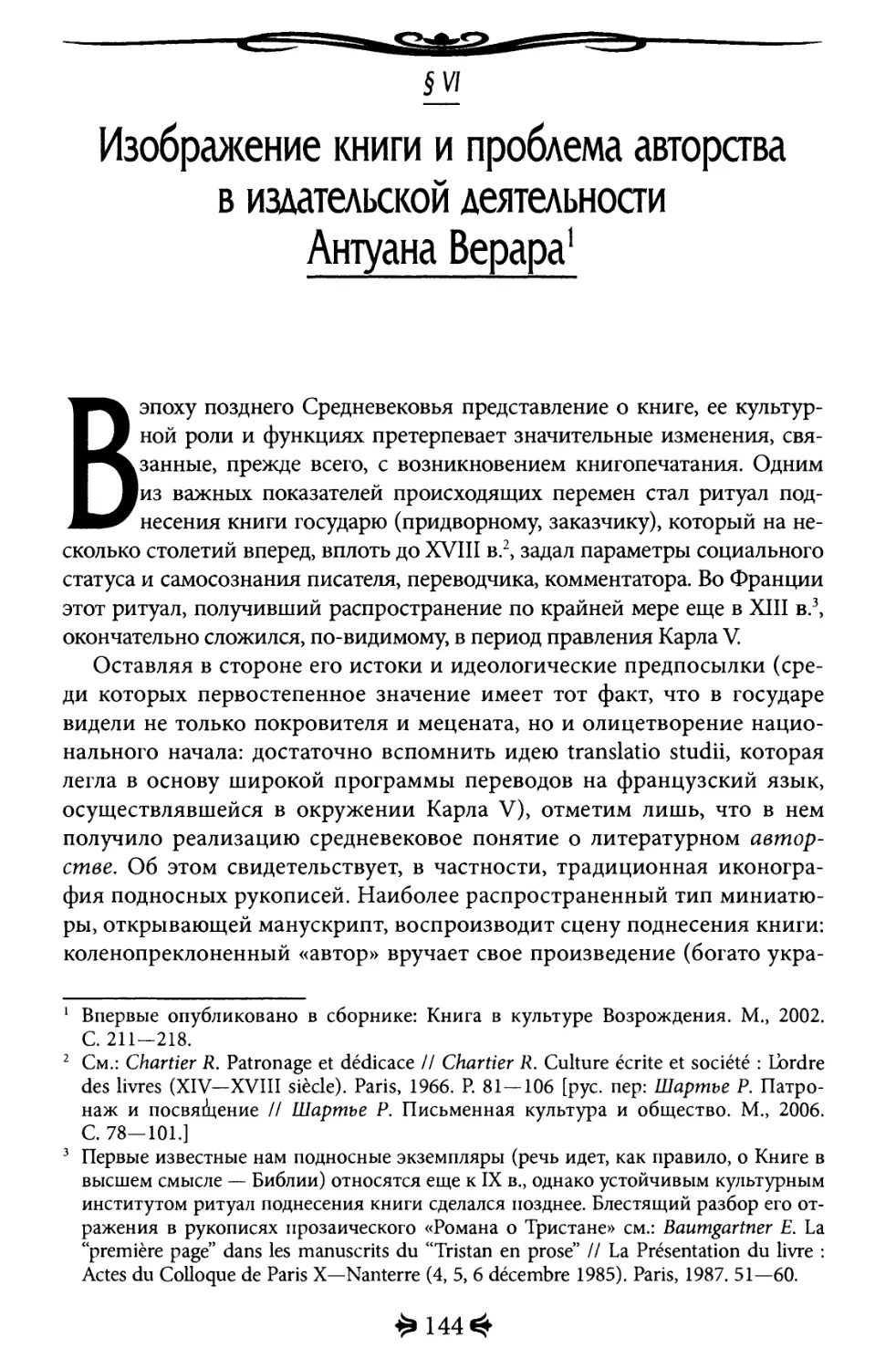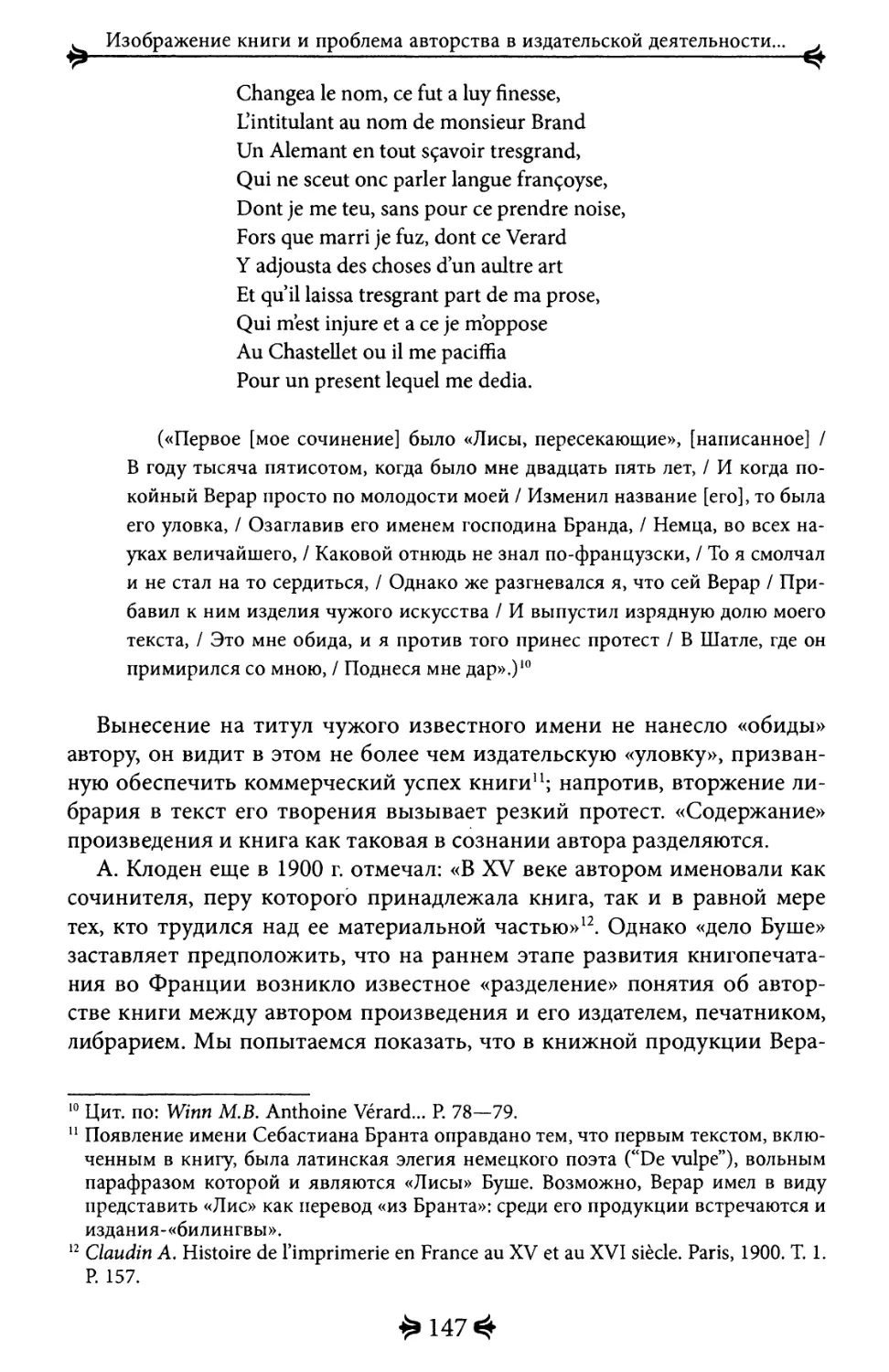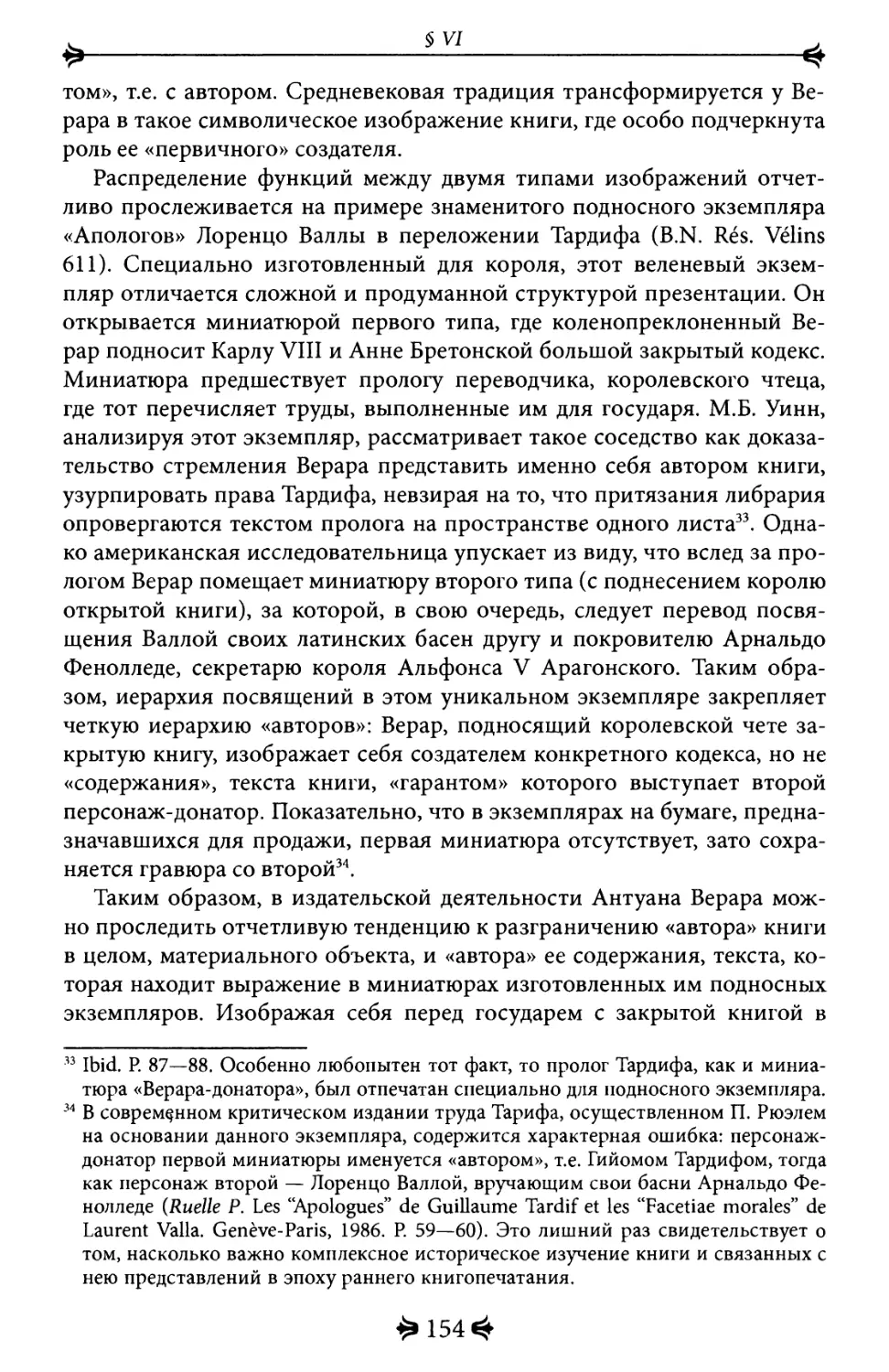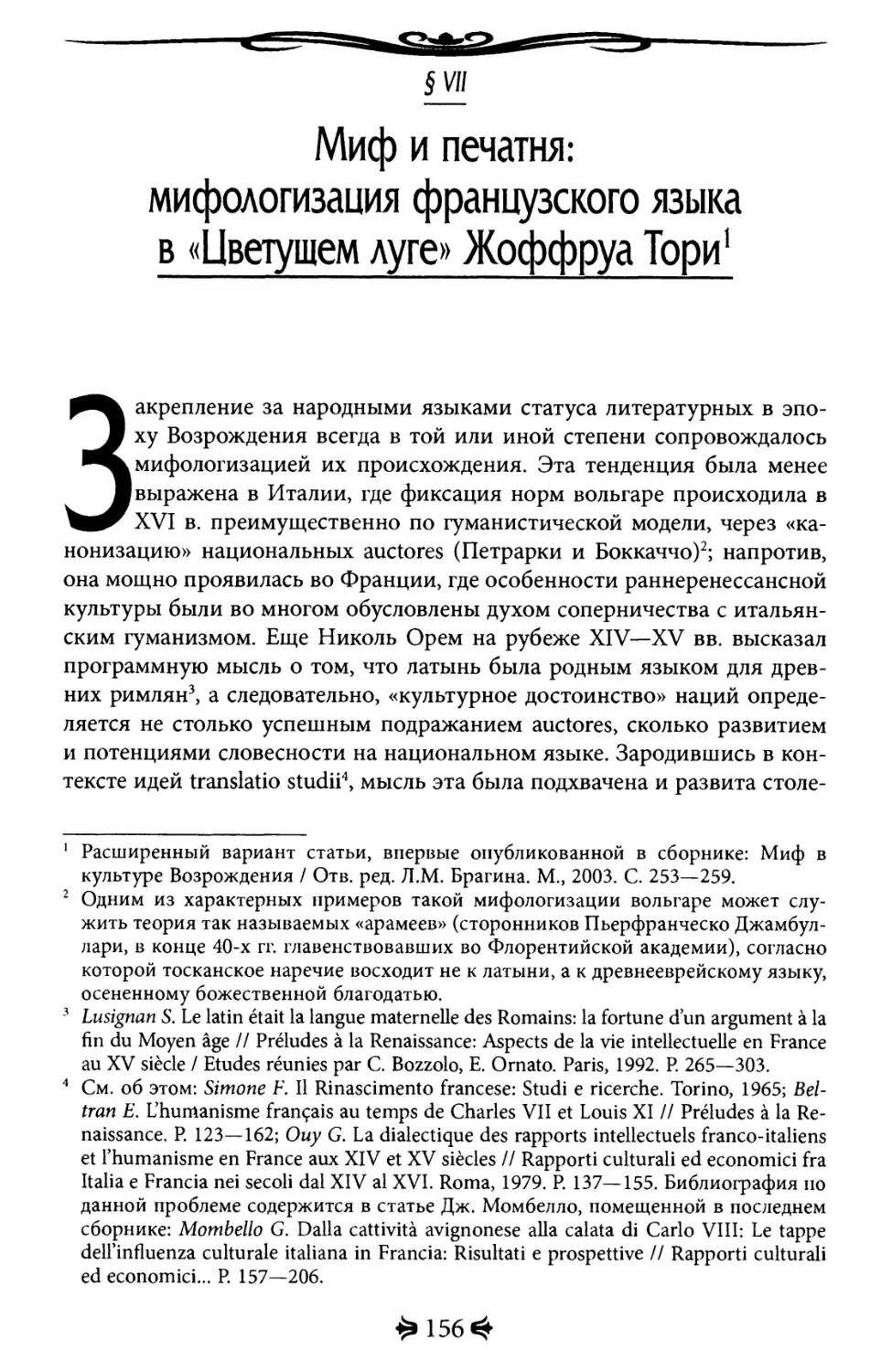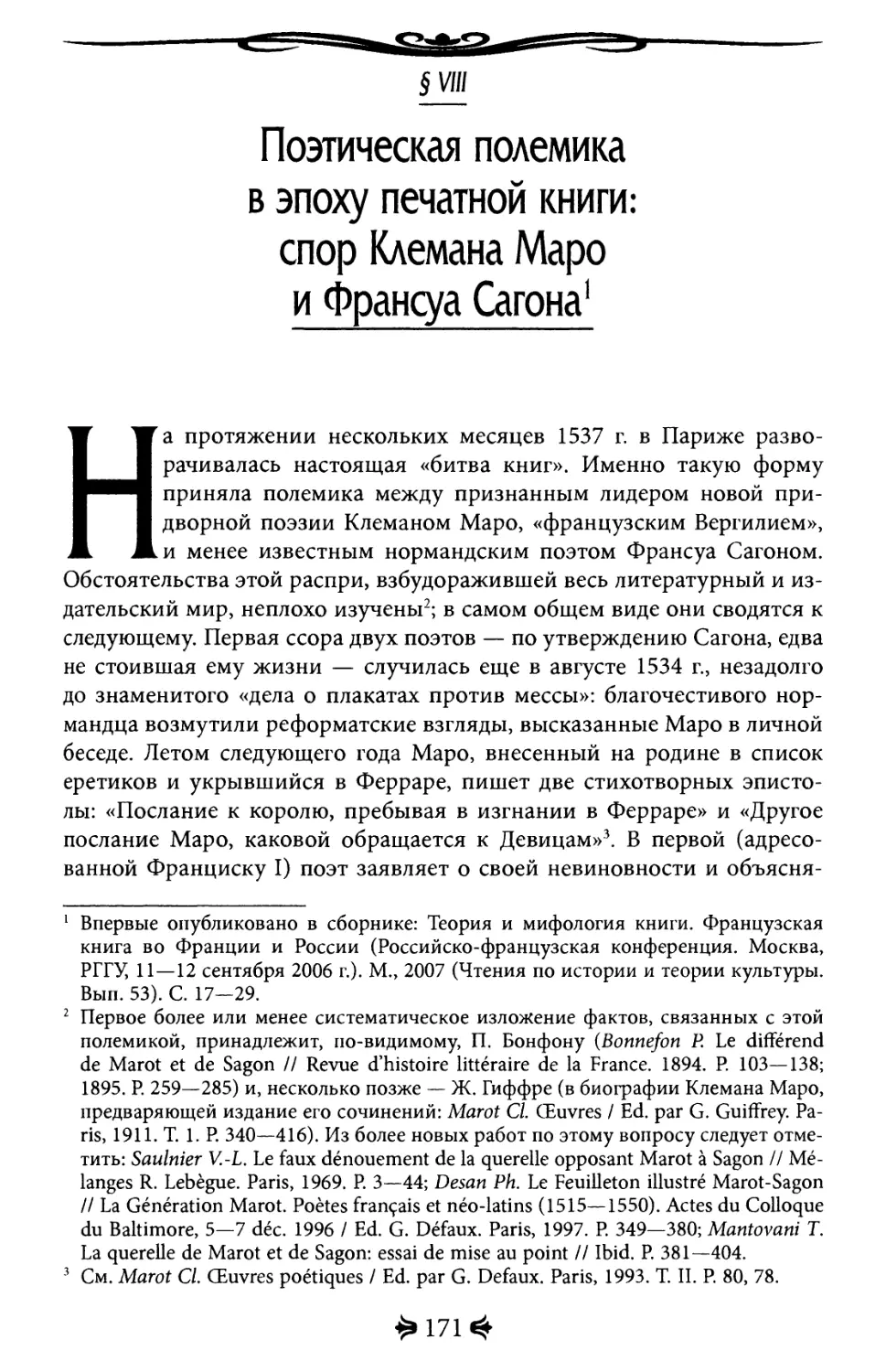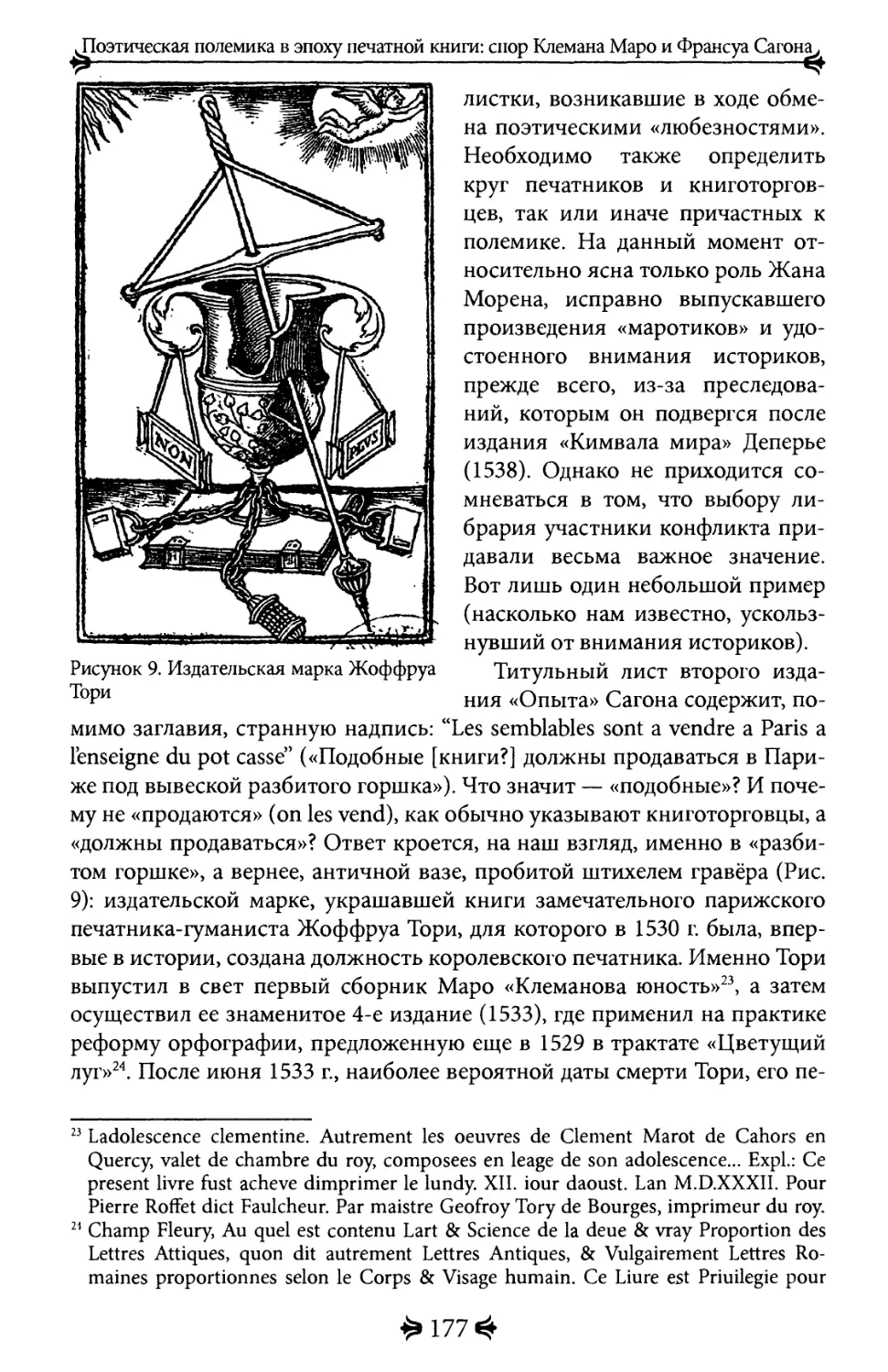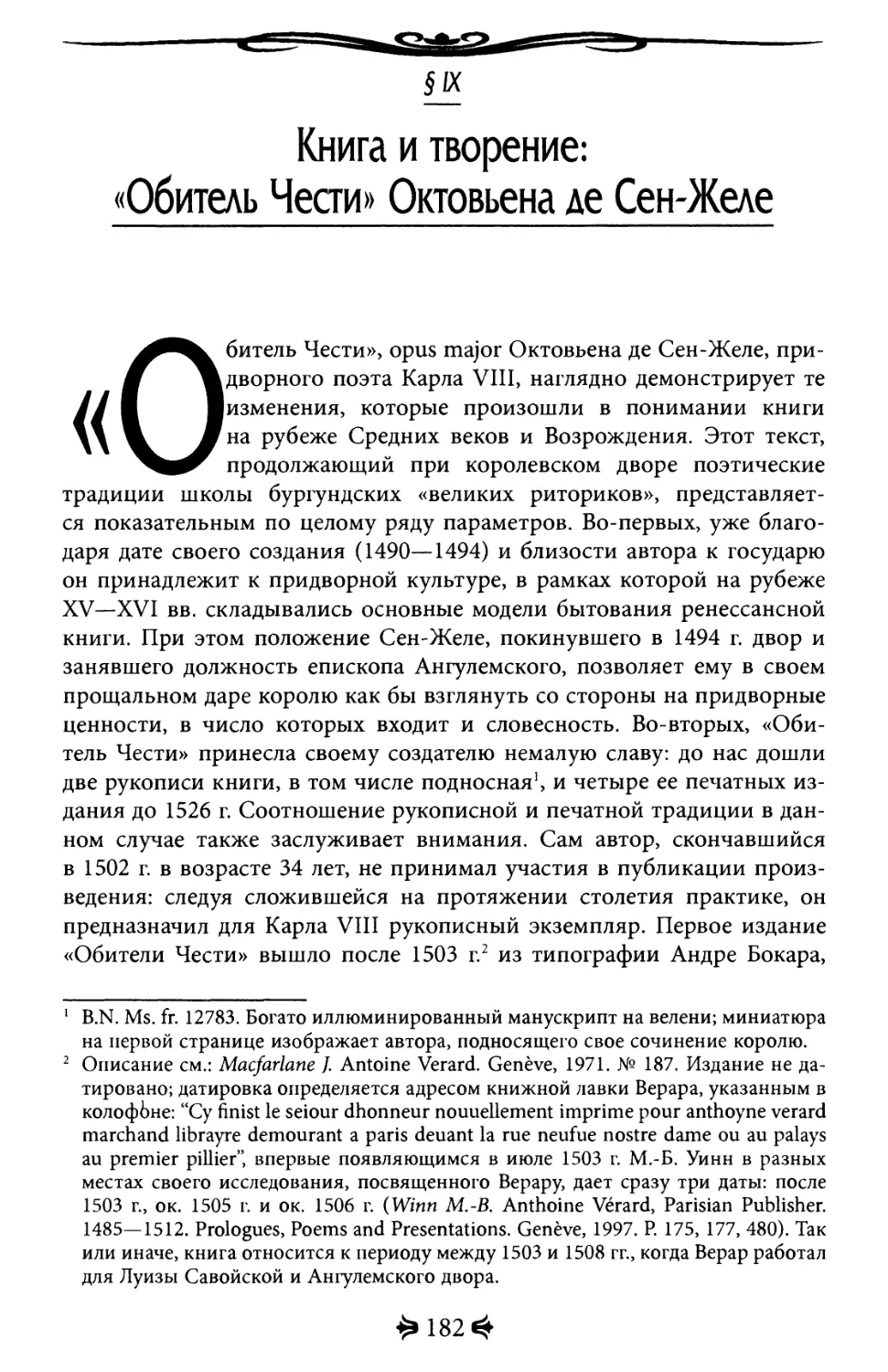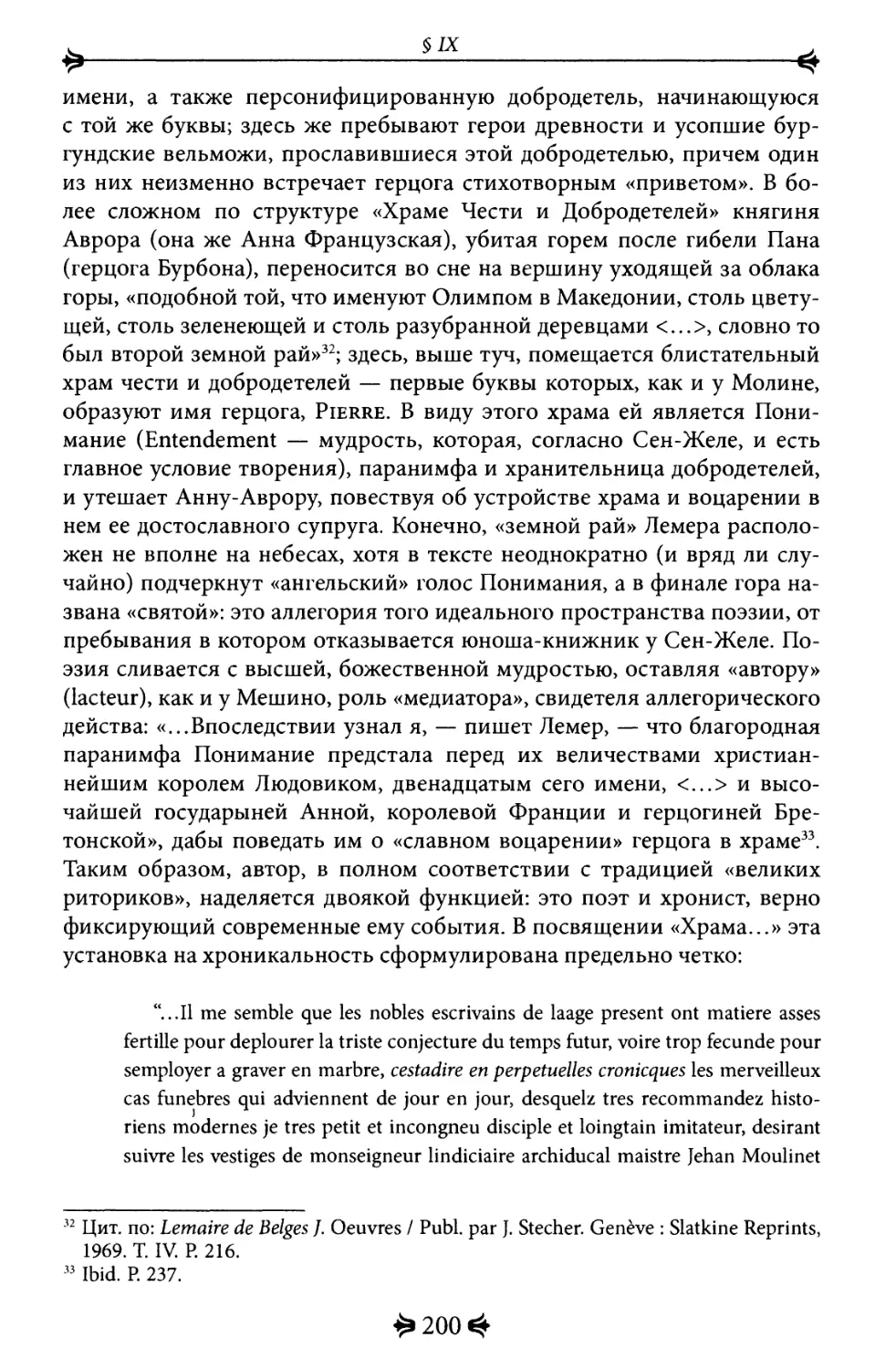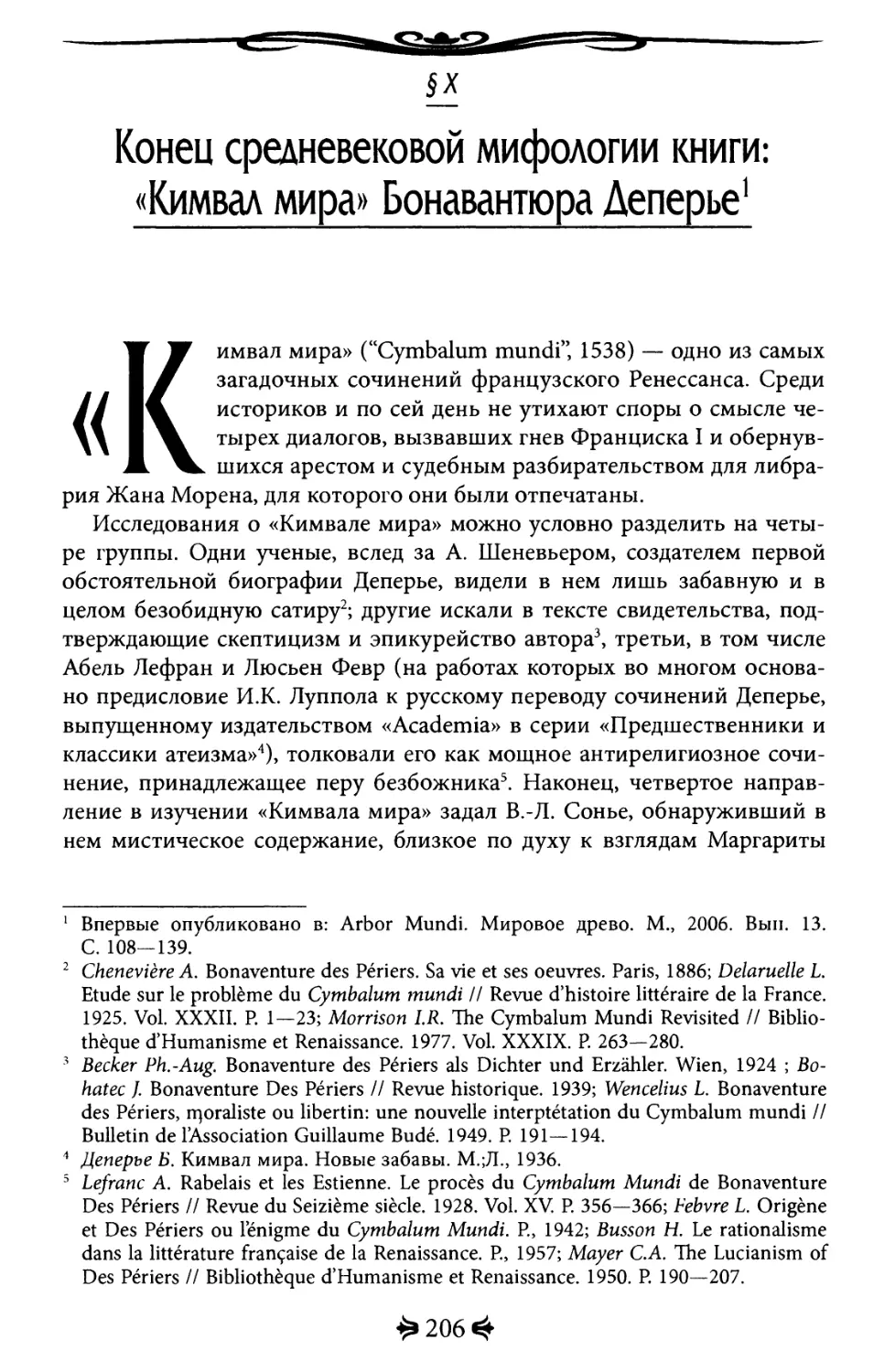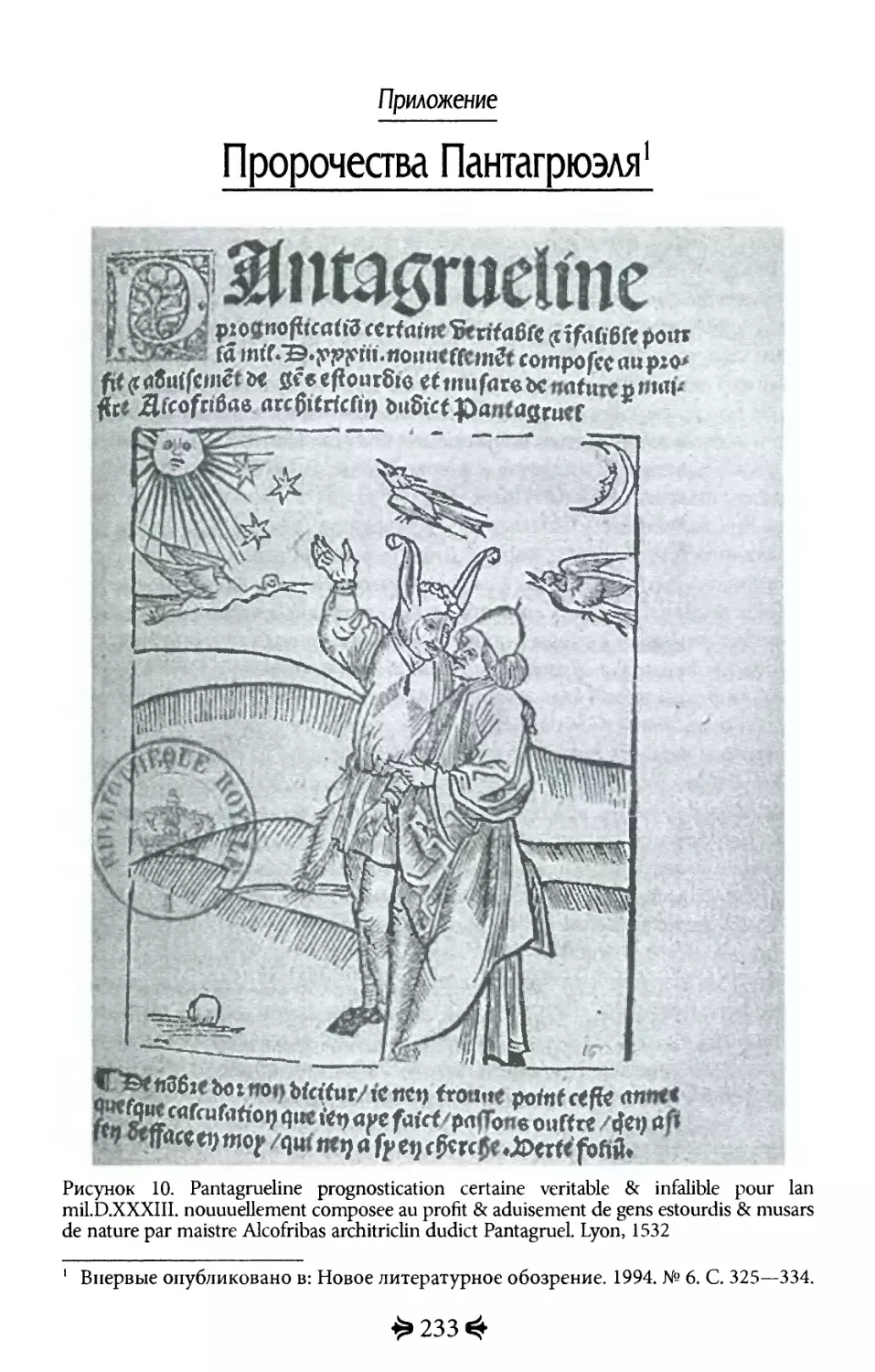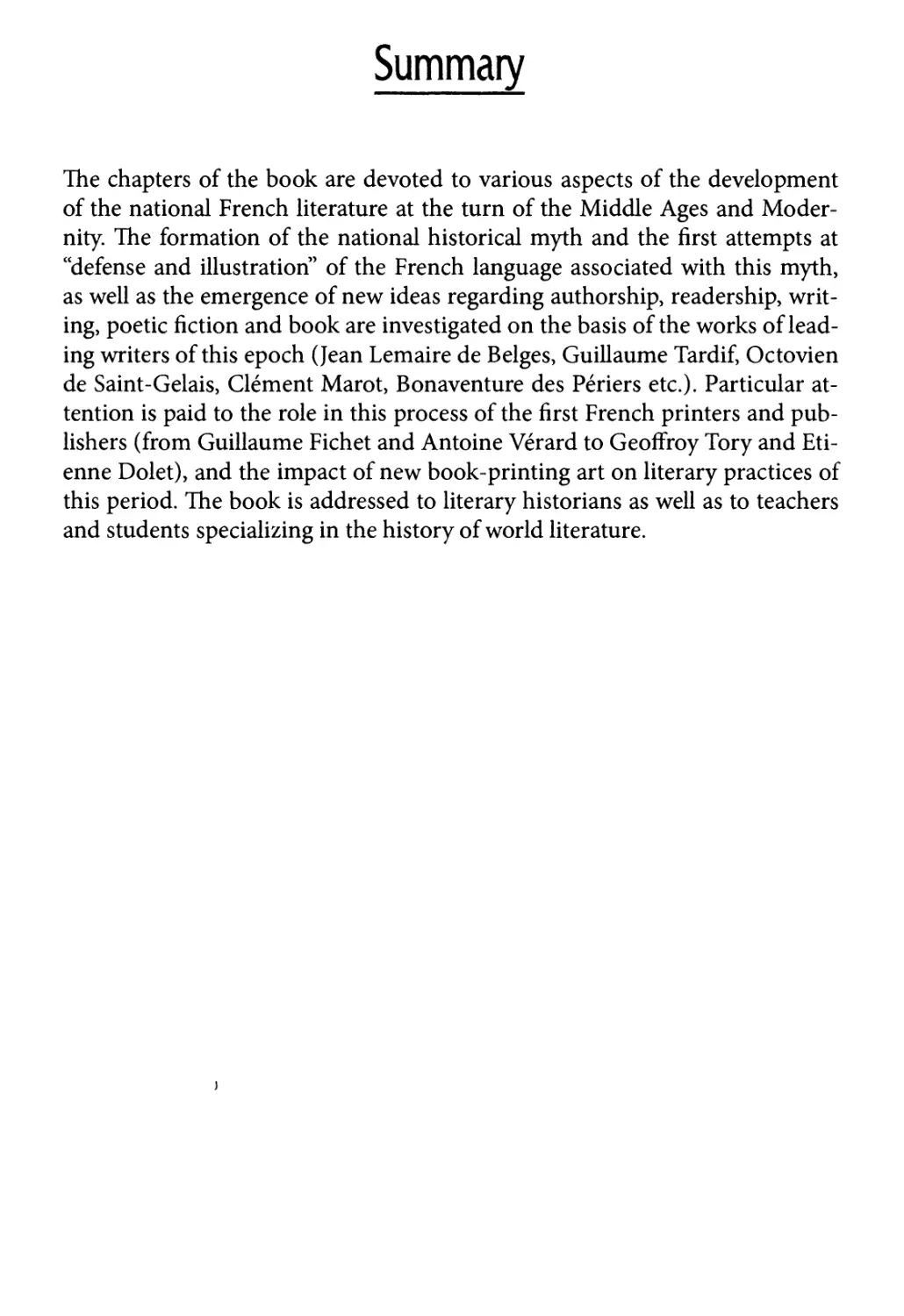Author: Стаф И.К.
Tags: всеобщая история средние века (v – xv вв) история литературы французская литература филология возрождение
ISBN: 978-5-98712-651-6
Year: 2016
Text
Institute of World Literature of Russian Academy of Sciences
Irina Staf
Flowers of Rhetoric
and Belles Lettres.
The French Literature
at the end of the Middle Ages
and in the early Renaissance
J
Center for humanitarian initiatives
Moscow - Saint-Petersburg
2016
Институт мировой литературы Российской академии наук
И. К. Стаф
Цветы риторики
и прекрасные литеры.
Французская литература
позднего Средневековья
и раннего Возрождения
Центр гуманитарных инициатив
Москва - Санкт-Петербург
2016
УДК 94(100-87)(09)
ББК 63.3(0)4
С78
Серия MEDIAEVALIA
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН.
Основана в 2015 г.
Составитель и главный редактор А.К. Гладков
Рецензенты:
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
ИМЛИ им. А.М. Горького РАН Л.В. Евдокимова
кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры
сравнительной истории литератур ИФИ РГГУ И.В. Ершова
Стаф И.К.
С78 Цветы риторики и прекрасные литеры. Французская литерату¬
ра позднего Средневековья и раннего Возрождения / И.К. Стаф. —
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. — 246 с. — ил. —
(MEDIAEVALIA)
ISBN 978-5-98712-651-6
Книга посвящена различным аспектам становления национальной лите¬
ратуры Франции на рубеже Средневековья и Нового времени. На примере
творчества ведущих писателей эпохи (Жана Лемера де Бельж, Гийома Тарди-
фа, Октовьена де Сен-Желе, Клемана Маро, Бонавантюра Деперье и др.) рас¬
сматривается формирование национального исторического мифа, связанные
с ним первые попытки «защиты и прославления» французского языка, а так¬
же зарождение новых представлений об авторе, читающей публике, произве¬
дении, поэтическом вымысле и книге. Особое место уделено роли, которую
сыграли в этом процессе первые французские типографы и либрарии (от
Гийома Фише и Антуана Верара до Жоффруа Тори и Этьена Доле), и воздей¬
ствию нового искусства - книгопечатания на литературные практики эпохи.
Монография адресована историкам литературы и книги, преподавателям и
студентам вузов, специализирующимся на истории зарубежной литературы.
)
ISBN 978-5-98712-651-6 © Стаф И.К., 2016
© Гладков А.К., составление серии, 2016
© Центр гуманитарных инициатив, оформление,
2016
Оглавление
Предисловие 7
§ I. Природа, любовь и риторика во французской литературе
начала XVI в 16
§ И. «Прославления Галлии» Жана Лемера де Бельж: поэтика
и история 33
§ III. Морализованный перевод и народная традиция в литературе
раннего французского Возрождения: пример Гийома Тардифа 44
§ IV. Образ поэта во французской культуре раннего Возрождения
(от легенды о Вийоне к легенде о Маро) 105
§ V Книгопечатание и народная литература во Франции XV в 111
§ VI. Изображение книги и проблема авторства в издательской
деятельности Антуана Верара 144
§ VII. Миф и печатня: мифологизация французского языка
в «Цветущем луге» Жоффруа Тори 156
§ VIII. Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор Клемана
Маро и Франсуа Сагона 171
§ IX. Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе.... 182
§ X. Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира»
Бонавантюра Деперье 206
Приложение. Пророчества Пантагрюэля 233
Summary : 244
Content 245
^5^
Предисловие
Десять работ, вошедших в эту книгу, различаются по тематике, од¬
нако посвящены одному историческому периоду и одной главной
проблеме — становлению французской национальной литературы.
Эпоха, с легкой руки Й. Хёйзинги получившая название «осень
Средневековья», стала во Франции переломной для словесно¬
сти. Литература в это время складывается как культурный и социальный
институт, обретая привычные для Нового времени атрибуты: от понятий
авторства (формальным воплощением которого становится система коро¬
левских привилегий на издание), поэтического вымысла и печатного (т.е., в
пределе, завершенного и неизменного, в отличие от средневекового ману¬
скрипта) произведения до «читающей публики» и писательской иерархии.
Данный процесс, самым непосредственным образом связанный с подъ¬
емом национального самосознания, «защитой и прославлением» француз¬
ского языка, вел к новому пониманию словесности и книги, их смысла и
функций, к появлению фигуры профессионального литератора.
«Ренессанс — первое в европейской истории мышление наследников»,
писал еще в 1978 г. Л.М. Баткин1, имея в виду, прежде всего, итальянских
гуманистов, которые «через голову» Средних веков обратились к из¬
учению латинской (а затем и греческой) Античности. Применительно к
Франции эта идея нуждается в двух весьма существенных уточнениях.
Во-первых, задачи, которые стремился решать французский гу¬
манизм, во многом выходили за пределы той территории «латин-
скости» (latinitas, пользуясь термином Лоренцо Валлы), на которой
разворачивалась активность «классических» гуманистов, начиная с
Петрарки. Исследования Ф. Симоне2, Ж. Уи3, Э. Орнато4, Э. Бельт-
1 Цит. по: Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М., 1995. С. 191.
2 Simone F. II Rinascimento francese. Studi e ricerche. Torino, 1961; Idem. Umanesimo,
Rinascimento, Barocco in Francia. Milano, 1968.
3 Ouy G. L’Humanisme et les mutations politiques et sociales en France aux XIVе et XVе
siecles // L’Humanisme fran^ais au debut de la Renaissance (XIVе Colloque international
de Tours). Paris, 1973. P. 27—44; Idem. L’Humanisme fran<;ais des XIVе et XVе siecles et
les origines de la Renaissance en France // Cahiers du Centre de Civilisation franco-po-
lonais. 1977. № 3 (опубл. 1981); Idem. Les recherches sur l’Humanisme fran^ais des XIVе
et XVе siecles // La filologia medievale e umanistica greca e latina nel secolo XX (Atti del
Congresso Internazionale. Roma, 11—15 die. 1989). Roma, 1993. P 275—327, и др.
4 В частности: Ornato В. Les humanistes fran<;ais et la redecouverte des classiques //
Preludes a la Renaissance. Aspects de la vie intellectuelle en France au XVе siecle //
Etudes reunies par C. Bozzolo et E. Ornato. Paris, 1992. P. 1—45.
Предисловие
*
4
рана5 и др. со всей очевидностью показали теснейшую связь фран¬
цузских studia humanitatis с национальной традицией знания.
Протестуя против провозглашенной Петраркой6 безоговорочной
культурной гегемонии Италии, гуманисты времен Карла V и Карла
VI — Жан Жерсон, Николя де Кламанж, Жан де Монтрёй и др. —
искали опору в наследии французского Средневековья7 и, тем са¬
мым, закладывали основы риторики и поэтики на народном языке.
Достаточно вспомнить знаменитый спор вокруг «Романа о Розе»8,
оказавший большое влияние на последующее развитие литературы,
на осмысление ее норм и места в культуре.
Во-вторых, для соперничества с античностью римской националь¬
ная «античность» нуждалась в достаточно глубоких исторических
корнях. В дополнение к идее translatio studii — «переноса знания» из
Афин в Рим, а оттуда в Париж9, — требовалось выстроить убедитель¬
ную картину древнего происхождения французской нации: эта задача
также была поставлена первым поколением французских гуманистов,
но решена лишь в начале XVI столетия. Создание национального мифа,
который бы позволил обосновать многовековое культурное величие
французов, предполагало соответствующую работу с историческим
прошлым, а как следствие — переосмысление законов исторического
повествования.
Данная проблема рассматривается в параграфе «“Прославления
Галлии” Жана Лемера де Бельж: поэтика и история». Трехтомный свод
национальной мифологии — восходящей к средневековым источни¬
кам истории греческого происхождения французской нации, — вышел
из печати в начале XVI в. Его автор, последний представитель школы
«великих риториков», индициарий Бургундского двора, историограф
5 В частности: Beltran Е. L’humanisme fran^ais au temps de Charles VII et Louis XI //
Preludes a la Renaissance. P. 123—162.
6 А за ним и Валлой; достаточно напомнить его панегирик латыни в предисловии
к первой книге “Elegantiae”: «...Ведь именно [латинский язык] научил все пле¬
мена и народы тем искусствам, которые зовутся свободными, он научил наи¬
лучшим законам, он открыл людям путь ко всей мудрости, он, наконец, дал нам
возможность более не зваться варварами.<...> Мы до сих пор царим в огромной
части мира... Ибо там, где господствует латинская речь, там сохраняется и рим¬
ская власть» // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. XV век.
М., 1985. С. 12].—122 (Пер. Н.А. Федорова).
7 Mazour-Matusevich Y. Gerson et Petrarque. Humanisme et idee nationale // Renais¬
sance and Reformation / Renaissance et Reforme. XXV. 2001. № 1. P. 45—80.
8 Тексты полемики см.: Christine de Pisan, Jean Gerson, Jean de Montreuil, Gontier et
Pierre Col, Le Debat sur le Roman de la Rose / Ed. E. Hicks. Paris, 1977.
9 В общих чертах французский извод понятия translatio studii описан во вводной
части параграфа «Морализованный перевод и народная традиция в литературе
раннего французского Возрождения: пример Гийома Тардифа».
^8^
Предисловие
¥
¥
Маргариты Австрийской, а затем короля Людовика XII, предпринима¬
ет первую во Франции попытку привить принципы гуманистической
историографии к повествованию на народном языке, отказавшись от
жанрового канона хроники. Одновременно Лемер, опираясь на опыт
«риторической» школы, комбинирует исторический нарратив с по¬
этическим вымыслом — в том смысле, какой придал этому понятию
Боккаччо в «Генеалогии языческих богов» и его французские последо¬
ватели, от Жака Леграна в начале XV века до Жана Тено в начале века
XVI-ro. Подчиняя структуру своего труда законам poetrie, «науки о вы¬
мысле», он придает ему, помимо исторической, более высокую — мо¬
рально-философскую достоверность. Его замысел — «показать, что нет
на свете нации, какая пребывала бы неизменно в достоинстве своем от
античных времен и доныне», кроме потомков Франка, сына Гектора,
превосходящих древностью все прочие народы, — воплощается в по¬
этическую аллегорию, «весьма богатую великими таинствами и поэти¬
ческими и философскими разумениями», содержащую полезный смысл
«под оболочкой выдуманных басен».
Сходной «мифологизации» подвергался в эпоху раннего Возрожде¬
ния и французский язык. Обретение народными языками статуса ли¬
тературных сопровождалось мифологизацией их происхождения не
только во Франции. Но если в Италии фиксация норм вольгаре проис¬
ходила в XVI в. преимущественно по гуманистической модели, через
«канонизацию» национальных auctores, Петрарки и Боккаччо (реша¬
ющая роль в этих усилиях принадлежит Пьетро Бембо), то во Фран¬
ции дело обстояло несколько иначе. Еще в XIV в. философ и теолог,
воспитатель будущего короля Карла V Николь Орем сформулировал
идею «латыни как родного языка римлян», предполагающую равную
ценность всех народных языков, «культурное достоинство» которых
обусловлено не столько подражанием auctores, сколько развитием и
возможностями национальной словесности. Некоторые аспекты поэти¬
ческой топики и символики XV—начала XVI в., посредством которой
«сад поэзии» превращался в локус расцвета и всевластия французского
слова, проанализированы в параграфе «Природа, любовь и риторика во
французской литературе начала XVI в.». Кроме того, особое значение
в этом контексте приобретал перевод на народный язык, который уже
для гуманистов из окружения Карла V стал одной из центральных сфер
деятельности. Ярким примером такого переноса гуманистического зна¬
ния на национальную почву служат произведения Гийома Тардифа,
автора первого латинского грамматического трактата, вышедшего из-
под пера француза (1470). Получив в 1483 г. должность «королевского
чтеца» при Карле VIII, он отказывается от studia humanitatis в класси¬
ческом смысле и целиком сосредоточивается на переводах; при этом,
^9^
Предисловие
*
как явствует из прологов к его трудам, перевод понимается им как про¬
должение именно гуманистической деятельности иными средствами.
Его переложения Валлы, Петрарки и Поджо имеют целью предоставить
королю образцовое пособие по современной риторике, позволяющее
державному адресату как поддерживать просвещенную беседу, так и
вершить государственные дела с опорой на принципы моральной фи¬
лософии.
Однако центральное место среди попыток утвердить французский
язык как язык культуры, обосновать его высокий статус, ничем не
уступающий статусу латыни и «флорентийского наречия», занимает
трактат Жоффруа Тори «Цветущий луг» (1529)10. Гуманист и печатник,
Тори не ограничивается восхвалением достоинств и древности наци¬
онального наречия, но первым приступает к решению насущной про¬
блемы — созданию нормативной грамматики, чье отсутствие не позво¬
ляло применять к французским текстам филологические принципы,
используемые при работе с сочинениями античных авторов. Именно
этой цели подчинена, в конечном счете, и сама мифологизация языка (в
трактате доказывается «аттическая» природа идеальных французских
литер, которые конструирует автор), а вернее, его основы: алфавита.
Единое символико-аллегорическое измерение, скрепляющее математи¬
ческие, исторические, лингвистические построения трактата, служит
залогом величия и расцвета национального наречия. Его эмблемой
становится фигура Геркулеса Галльского — древнего божества, олице¬
творяющего то «естественное» красноречие, которое, как стремится
доказать Тори, искони присуще французам и в котором он видит залог
грядущего соответствия французского языка классическим канонам.
Наконец, «Цветущий луг» стал также поворотной точкой в развитии
французского книгопечатания. Не только потому, что внедрение в ти¬
пографскую практику созданной Тори «идеальной антиквы» привело к
быстрому вытеснению традиционных для изданий на народном языке
готических шрифтов, а значит, к выравниванию и на этом уровне куль¬
турного статуса латинской и французской книги. Трактат фиксирует
принципиальный сдвиг, произошедший в первой трети XVI в. в пони¬
мании и бытовании книги: формирование «читающей публики», на ко¬
торую постепенно переориентируются литераторы и печатники. «Бла¬
гочестивые Любители добрых Литер и Литературы», которым адресует
свой труд Тори, занимают место покровителя-мецената; начинает рас¬
падаться устойчивая связь автора с патроном, характерная для Средне¬
вековья. Обретение печатной книгой своего, независимого от власти
10 См. параграф «Миф и печатня: мифологизация французского языка в “Цвету¬
щем луге” Жоффруа Тори».
Предисловие
*
■4
пространства — важнейший элемент новой социальной и культурной
парадигмы, в которую вписываются понятия автора и произведения,
книги и издателя.
Некоторые аспекты культурной семантики патронажа и ритуала
поднесения книги государю или сеньору прослеживаются в параграфе
«Книга и творение: “Обитель Чести” Октовьена де Сен-Желе». Обшир¬
ный прозиметрический текст придворного поэта Карла VIII, построен¬
ный как аллегория жизненного пути автора, дает беспрецедентный для
эпохи пример рефлексии позднесредневекового литератора о сущно¬
сти собственного труда и его духовных и культурных параметрах. На
каждом из этапов своего духовного возмужания взыскующий истины
странник попадает в определенные «сектора» литературного (и одно¬
временно социального) пространства, а конечная цель его скитаний
заключается в создании «нового творения». Причем творение не рав¬
нозначно книге — различие между двумя понятиями связано в пер¬
вую очередь с «авторской функцией» (пользуясь термином М. Фуко).
Творение — плоть от плоти автора: оно задумано им, оно заключает в
себе его поучительный жизненный путь, а процесс его создания подо¬
бен работе ремесленника над «шедевром» (т.е. изделием, на основании
которого мастера принимают в члены цеха). Но, доведя произведение
до конца, автор включает в него имя государя; именно такое, осенен¬
ное величием короля творение превращается в книгу. Иначе говоря,
книга — ремесленный «шедевр» и смысловой центр придворного ри¬
туала — объединяет в себе донатора-автора и читателя par excellence, в
роли которого выступает король.
Безусловно, в ритуале поднесения книги королю первостепенное
значение имеет тот факт, что в государе видели не только покровителя
и мецената, но и олицетворение национального начала. Однако с точки
зрения литературы как института этот ритуал реализует средневековое
понятие об авторстве11.
Практика книгопечатания, возникшая во Франции в 1470-е гг., внес¬
ла в средневековый ритуал существенные коррективы. Известно, что в
эпоху раннего Возрождения отношения между автором и типографом
складывались отнюдь не просто. Печатники и либрарии первыми ста¬
ли получать привилегию на публикацию произведений, и сетования
авторов на их «произвол», невежество и корыстолюбие превратились в
один из топосов литературной жизни как раз в XVI столетии. Личная,
даже интимная связь автора со своим творением оказывалась под угро-
11 Трансформации представления о поэте-авторе анализируются также в парагра¬
фе «Образ поэта во французской культуре раннего Возрождения (от легенды о
Вийоне к легенде о Маро)».
Предисловие
¥
зой (поэтому еще в XVII в. подносные экземпляры часто заказывались
у мастеров, изготовлявших их вручную). Имя либрария и печатника в
incipit и колофоне, а позже — на титульном листе книги едва ли не вы¬
тесняло имя автора. Вместе с тем, соперничество «сопроизводителей»
печатной книги и связанное с ними напряженное осмысление ее специ¬
фики способствовали рождению нового авторского самосознания12.
Было бы упрощением полагать, что борьба за авторство сводилась
только к «апроприации» текстов либрариями и печатниками. «Автор¬
ская функция» на раннем этапе развития книгопечатания реализовы¬
валась в нескольких плоскостях. Более того, между создателем произ¬
ведения и его издателем иногда возникала своеобразная дистрибуция
понятия об авторстве. Один из примеров подобной дистрибуции рас¬
смотрен в параграфе «Изображение книги и проблема авторства в из¬
дательской деятельности Антуана Верара». Продукция этого весьма
крупного и плодовитого парижского либрария, работавшего для Карла
VIII, Людовика XII, Анны Бретонской, Луизы Савойской, Генриха VII,
отличается отчетливо выраженным «авторским» началом — вплоть до
того, что в ряде случаев он прямо именует себя автором подносимой
книги. Помимо прологов, вступительных стихов и посвящений, одним
из способов разграничить разные «уровни» авторства становится у Ве¬
рара иконография: книжные миниатюры и гравюры с изображением
книги и донатора.
Влияние книгопечатания на литературные практики — важнейшая
и пока еще малоизученная проблема. Теоретической базой для исследо¬
вания этого влияния могла бы стать «история чтения»13 — дисципли¬
на, у истоков которой стояли Р. Шартье, Д.Ф. Маккензи, Ф. Кавалло, Э.
Графтон, А. Петруччи и в рамках которой произведение (текст) изуча¬
ется в связи с его «материальной» формой, обусловливающей читатель¬
ское восприятие, а книга осмысляется как сложная система факторов,
задающих способ прочтения произведения в различных социальных
и культурных группах. Однако с точки зрения истории чтения это но¬
вое искусство утрачивает свою «революционную» роль: печатная кни¬
га на протяжении почти столетия воспроизводила ряд особенностей
манускрипта (изготовление которого в период позднего Средневеко-
12 См. об этом, в частности, классическую работу Синтии Дж. Браун: Brown C.J. Po¬
ets, Patrons, and Printers: Crisis of Authority in Late Medieval France. Ithaca, 1995, a
также материалы международной конференции, состоявшейся в 2013 г. в Орле¬
ане: Les Poetes fran<;ais de la Renaissance et leurs “libraires” / Publ. sous la direction
de D. Bja'i et F. Rouget. Geneve, 2015 (Cahiers d’Humanisme et Renaissance, № 122).
13 Histoire de la lecture dans le monde occidental / Sous la dir. de G. Cavallo et R. Char-
tier. Paris , 1997 (рус. пер.: История чтения в Западном мире от Античности до
наших дней. М., 2008).
Предисловие
*
вья было поставлено почти на промышленную основу), а ее новый об¬
лик окончательно сложился лишь во второй половине XVI в. И все же,
как показано в параграфе «Книгопечатание и народная литература во
Франции XV века», революция Гутенберга во Франции произошла.
В эпоху раннего Возрождения это была, прежде всего, «революция в
сознании». Современники стремились осмыслить роль, задачи и функ¬
ции нового способа изготавливать книги, в культурном значении кото¬
рого не сомневался никто: не только гуманисты, восторженно привет¬
ствовавшие его как мощное средство распространения аутентичного
классического знания, но и многие французские литераторы, писавшие
исключительно на народном языке.
Один из примеров активного использования новых возможностей
книги, ее новой роли в литературном процессе эпохи проанализиро¬
ван в параграфе «Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор
Клемана Маро и Франсуа Сагона». Разгоревшийся в 1537 г. бурный об¬
мен посланиями между поэтами — сторонниками «мэтра Клемана» и
нормандского стихотворца Сагона, обвинившего его в ереси, — стал
первым во Франции поэтическим спором, главным адресатом которого
выступает та фигура «благосклонного читателя», какая вырисовывает¬
ся в литературном пространстве первой половины XVI в. под воздей¬
ствием книгопечатания. Эпистолы, обращенные к королю и собратьям
по стихотворному цеху, сменяются книжечками и брошюрами, пред¬
назначенными для широкой публики. Дабы вернее опорочить против¬
ника, Маро переводит полемику в регистр ярмарочной, «лубочной»
литературы — принципиально нового феномена, порожденного раз¬
витием типографии, — превращая ее в «иллюстрированный фельетон».
В потоке взаимных вербальных обвинений и карикатур формируется
представление о боговдохновенном поэте, чей дар освобождает его от
любых моральных изъянов, которые тщетно выискивают у него бездар¬
ные (а значит, порочные) зоилы. Одновременно в рамках шутовского
спора закладываются основы «республики литераторов» — той авто¬
номной от власти общности поэтов, писателей и ученых, какая станет
определять особенности литературного ландшафта в XVII столетии.
Средневековая парадигма бытования книги и словесности, во мно¬
гом воспринятая и развитая гуманизмом, окончательно утрачивает са-
кральность в одном из самых загадочных произведений французского
Ренессанса — «Кимвале мира» Бонавантюра Деперье14. «Маленький
трактат», принадлежащий перу секретаря королевы Наваррской, в бук¬
вальном смысле отрицает сам себя и, одновременно, всю систему коор¬
14 См. параграф «Конец средневековой мифологии книги: “Кимвал мира” Бонаван¬
тюра Деперье».
^13^
Предисловие
4
динат, задающих восприятие книги и фигуры автора в культуре эпохи.
Утверждая себя как самодостаточного творца, утрачивая опору на ав¬
торитет патрона или античных авторов, поэт оказывается в своеобраз¬
ном культурном вакууме — и в то же время завоевывает новое, куда
более широкое пространство, которое открывает перед ним печатня.
Таков в самых общих чертах круг проблем, затрагиваемых в пред¬
лагаемой вниманию читателей книге. Безусловно, процесс становления
французской национальной литературы описан в ней далеко не исчер¬
пывающим и, скорее, точечным образом. Ряд существенных аспектов
данного процесса (например, появление фигуры писателя-професси-
онала, живущего за счет издательских гонораров, а не вознагражде¬
ний от государя и вельмож; формирование новой жанровой системы
в ее соотнесении с бытованием печатной книги, и мн. др.) остался за
кадром, другие лишь намечены. Так, заслуживает самого присталь¬
ного внимания роль, которую сыграли в формировании французской
поэтики женщины — не только литераторы, но и их покровительни¬
цы, адресаты их текстов. Связь поэтического языка со служением даме
сложилась еще в эпоху трубадуров и труверов. Трансформация этого
служения в литературную ориентацию на дамское (прежде всего, при¬
дворное) общество в последнее время все чаще становится предметом
изучения историков и литературоведов15.
Еще одна важная и новаторская тенденция, характерная для указан¬
ного процесса в эпоху раннего Возрождения — соотнесение поэтиче¬
ского искусства с живописью, а не с музыкой, как в средневековой тра¬
диции. Переосмысление горациевской идеи ut pictura poesis в Италии
последней четверти XV столетия — одним из первых ее литературных
отголосков стала «Аркадия» Саннадзаро, — получившее развернутое
обоснование в записях Леонардо да Винчи, отразившись во француз¬
ском придворном искусстве первой половины XVI в., имело неожидан¬
ное следствие: в текстах Жана Лемера или Жоффруа Тори поэтика из
раздела риторики превратилась в своего рода целостную культурную
среду, подчиняющую своим законам реальную жизнь.
Наконец, требует дальнейшего прояснения место словесности сре¬
ди других наук — ее связи не только с философией, историей, теоло¬
гией, но и, например, с астрологией (примером тому может служить
«Кимвал мира» Деперье или пародийное «Предсказание на всякий год»
Франсуа Рабле16, которое вписывается в интереснейшую и малоизучен¬
ную литературную традицию, отмеченную, в частности, именами Жана
15 См., среди прочего, большой сборник: Patronnes et mecenes en France a la Renais¬
sance / Sous la dir. de K. Wilson-Chevalier avec la collaboration d’E. Pascal. Saint-
Etienne, 2007.
16 Русский перевод памятника см. в приложении к настоящему изданию.
Предисловие
+-
*
Молине и Пьетро Аретино). Мы назвали — почти наугад — лишь не¬
сколько возможных направлений исследования, каждое из которых
способно представить в неожиданном свете формирование литературы
Нового времени и, не исключено, привести к выработке оригинальных
подходов к ее изучению.
* * St-
Часть включенных в книгу статей написана в те годы, когда доступ к
источникам и критическим работам был весьма затруднен. Однако
содержащиеся в них идеи представляются нам актуальными и по сей
день. Правка, внесенная в них для данной публикации, минимальна: в
ряде мест добавлены новые сноски, оригинальные цитаты, а также пе¬
рекрестные ссылки; все дополнения заключены в квадратные скобки.
Выходные данные первой публикации указаны в первой сноске к каж¬
дому параграфу. Работа «Книга и творение: “Обитель Чести” Октовьена
де Сен-Желе» публикуется впервые.
Напротив, такие статьи, как «Морализованный перевод и народ¬
ная традиция в литературе раннего французского Возрождения» или
«Поэтическая полемика в эпоху печатной книги» — итог разысканий
автора в Национальной библиотеке Франции. Пользуюсь случаем,
чтобы выразить особую благодарность Роже Шартье, А.Я. Гуревичу и
Е.М. Мелетинскому, благодаря которым оказалась возможной работа
с первоисточниками. Приношу также свою глубокую признательность
коллегам по отделу классических литератур Запада и сравнительного
литературоведения ИМЛИ РАН, без критических замечаний, дополне¬
ний и поддержки которых большинство этих исследований не могло бы
состояться.
SI
Природа, любовь и риторика
во французской литературе начала XVI в.1
На рубеже XV—XVI вв. во Франции формировалось новое,
сравнительно со Средневековьем, представление о сущности
и функциях литературного творчества. Взлет национального
самосознания, отличающий эту эпоху и во многом опреде¬
ливший специфику ее культурной ситуации, вызвал к жизни
идею «защиты и прославления» французского языка, который про¬
возглашался равным по богатству и возможностям как итальянско¬
му — «тосканскому» — наречию, так и латыни. Пафосом утверждения
высочайших достоинств народного языка, предвосхищающим про¬
грамму «Плеяды», целиком проникнуто творчество «великих ритори-
ков» — поэтической школы, которая стала связующим звеном между
средневековой традицией и литературой Возрождения2: «Эти писате¬
ли <...> убеждены, что гордость всякой нации составляют не только
ее подвиги, но и рассказ об этих подвигах, и что народный язык слу¬
жит единственно истинным и всецело адекватным инструментом,
посредством которого народ может выразить себя и доказать свою
неповторимость»3.
Тем самым повышался и культурный статус литературы на француз¬
ском языке; поэтому же национальная словесность не знала какого-ли¬
бо резкого поворота, перелома, который бы четко обозначил границу
между Средневековьем и Возрождением. Вплоть до 1520-х—1530-х гг.
средневековые тексты не только читались и издавались (это было и
позже), но и отчасти выполняли функции, так сказать, «национальной
античности», служили доказательством давнего и пышного расцвета
французской литературы, зачастую выступая «аналогами» знамени¬
1 Впервые опубликовано в сборнике: Природа в культуре Возрождения. М., 1992.
С 93—106.
2 О школе «великих риториков» см.: Zumthor Р. Le Masque et la Lumiere. La poe-
tique des grands rhetoriqueurs. Paris, 1978; Les Grands rhetoriqueurs. Actes du Vе
Colloque International sur le Moyen Fran<;ais. Milano, 1985. T. I.
3 Jodogne P. Les “rhetoriqueurs” et Thumanisme: probleme d’histoire litteraire 11 Huma¬
nism in France at the End of the Middle Ages and in the Early Renaissance. Manches¬
ter, 1970. P. 163.
Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.
*
*
тых творений итальянцев и древних римлян4. Та же тенденция пере¬
осмыслять средневековое наследие, но не отказываться от него, нашла
воплощение в поэтическом языке «великих риториков», семантической
системе, включавшей на равных правах и средневековую топику, и ан¬
тичную образность и сюжеты. Одним из важных элементов этой систе¬
мы стал классический топос locus amoenus, «прелестного уголка».
В первом «Послании Зеленого любовника» Жана Лемера де Бельж
(1505) идеальный влюбленный — зеленый попугай, за шутливой ма¬
ской которого проступает фигура автора, придворного поэта, — не в
силах пережить даже временной разлуки со своей госпожой Маргари¬
той Австрийской, завещает похоронить его
.. .в прелестном уголке,
Где луг усеян множеством цветов,
Где речь слышна влюбленных пастухов,
Где птичек хор звенит и распевает
И радужные бабочки порхают
У ручейка с волною серебристой
Под пологом дерев зеленолистых5.
В шести строках описания будущей могилы у Лемера собраны едва ли
не все элементы «природной» топики, канонизированной Средневековьем:
цветы, зелень, деревья, ручей, птицы. Та же топика используется поэтом и
во втором «Послании...», на сей раз для изображения Блаженных остро¬
вов, своего рода птичьих Елисейских полей, куда после сурового суда Ми-
носа и почти Дантова путешествия по загробному миру попадает чистая и
верная душа умершего Зеленого любовника. Расположенный посреди свер¬
кающего моря, согреваемый ласковым солнцем остров утопает в зелени и
цветах; на нем много тенистых долин, растет множество фруктов, разно¬
образные птицы оглашают окрестности нежными трелями — словом, здесь
...все цвело и ликовало,
Сверкало радугой, благоухало6.
4 Так, например, «Роман о Розе» выступал французским аналогом «Комедии»
Данте, а Жан де Мён — национальной «ипостасью» великого флорентийца: см.,
в частности, финал «Согласия двух языков» Жана Лемера де Бельж.
5 [...En quelque lieu ioly, / Bien tapisse de diuerses flourettes, / Ou pastoureaux deuisent
damourettes: / Ou les oiseaux iargonnent et flageollent. / Et papillons bien coulou-
rez у vollent. / Pres d’vn ruisseau, ayant londe argentine, / Autour duquel les arbres
font courtine / De fueille verd...] // Lemaire de Beiges J. Dichtungen. Berlin, 1924.
S. 48 (здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод наш — И.С.).
6 [Ainz у fut tout riant en flouriture, / Souef flairant, de diuerse peinture] // Ibid. P. 65.
^17^
SI
4
Locus amoenus в «Посланиях Зеленого любовника», с одной стороны,
связан с любовной тематикой, а с другой, — несет в себе семантику земного
рая. Подобная смысловая нагрузка опирается на устойчивую средневеко¬
вую традицию. Цветы, зеленеющая трава, пение птиц, ручей (вариант: кап¬
ли росы на листьях) были обязательными мотивами «весенней строфы»,
вводившей в лирике трубадуров и труверов собственно любовную тему7.
Аналогичная топика — цветы, сад, лес, зеленый луг, источник — рекомен¬
довалась средневековой латинской риторикой для описания местности
(descriptio loci)8. Две эти линии — условно говоря, поэтическая, франко¬
язычная, и риторическая, латинская, — соединились и закрепились в «Ро¬
мане о Розе» с его Садом Любви, прямо названным земным раем9, а через
него — в пасторальной традиции позднего французского Средневековья10
и любовной лирике XIV—XV вв.11 У «великих риториков» связь идеально¬
го, гармоничного мира природы с темой любви окончательно оформилась
как поэтическое клише. Природные мотивы (в том же строгом наборе) сиг¬
нализировали о любовной тематике произведения вне зависимости от его
жанровой формы. В описании Храма Венеры из «Согласия двух языков»
Лемера (1511) явление богини любви сопровождается приходом Весны с
«сотней повозок зеленых листьев и чудной травки», Флоры с «прекрасны¬
ми коврами» из зелени, «усеянными множеством роз», и т.п. Храм же, пред¬
ставший глазам повествователя, «видом во всем походил на рай»12. Когда в
одном из посланий короля Франциска I герой говорит:
Я очутился в роще благодатной,
В тени чуть веял ветерок приятный,
Деревья были дивной высоты, —
Чуть солнца не касались их листы.
Трава и мох зелены и мягки,
И ласково журчали ручейки:
Несло струенье их хрустальных вод
Отдохновенье среди всех невзгод13,
7 Dragonetti R. La technique poetique des trouveres dans la chanson courtoise. Brugge,
1960. P. 163—193.
8 См., в частности: Ekkehard IV. De lege dictamen ornandi // Faral E. Les Arts poe-
tiques du XIIе et du XIIIе siecle. Paris, 1923. P. 104; Matthieu de Vanddme. Ars versifi-
catoria // Ibid- P. 148—149.
9 Часть I, ct. 635—636.
10 Blanchard J. La pastorale en France aux XIVе et XVе siecles. Paris, 1983. P. 15—41,283—312.
11 Poirion D. Le Poete et le Prince. Devolution du lyrisme courtois de Guillaume de
Machaut a Charles d’Orleans. Grenoble, 1965. P. 488—495.
12 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 84—85.
13 [Je me trouvay en un boys delectable / Oil lombre fut et le vent amyable; / Arbres es-
toient en grandeur si treshaulte / Que moins que trop de soleil avoyent faulte. / L’herbe
^18^
Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.
*
4
то это описание позволяет без труда предугадать дальнейшее развитие
сюжета: герой видит на скале горестного влюбленного, к мольбам ко¬
торого снисходит сам бог любви, обещающий смягчить непреклонное
сердце дамы. «Храм Купидона» Клемана Маро (1514) — это чудесный
сад, где под зелеными сводами деревьев текут ручьи, поют птицы, цве¬
тут, благоухая, цветы, из которых паломники, подобно пасторальным
пастухам, плетут венки:
Сей Храм — закрытый и цветущий сад,
Прекраснее он был, чем чудный дол,
Где пастушок Парис любви услад
Молил у Пегасиды...14
Последняя реминисценция у Маро восходит не к античным обра¬
боткам мифа о нимфе Эноне, первой жене Париса («Героиды» Овидия).
Описание locus amoenus, где произошла встреча юного пастуха с кра¬
савицей нимфой, введено (весьма органично) в изложение античного
сюжета учителем Маро, Лемером, в главе XXIV первой книги «Про¬
славлений Галлии и примечательностей Трои», изданной за три года до
написания «Храма». Парис у Лемера вначале попадает в «пространство
любви» — к источнику Креусы, «каковой расположен в глубине пре¬
лестной долины среди Идейских гор»15, и уже там, после недолгого сна,
видит на поляне стайку нимф, в том числе Энону.
Традиция, канонизировавшая связь топики природы с темой любви,
оставалась актуальной для литературного и, шире, культурного созна¬
ния еще, во всяком случае, в 1530-е гг. В «Любовных рассказах» лион¬
ской писательницы, укрывшейся за характерным псевдонимом Жанна
Флор16 (1531), несколько дам, собравшись в саду загородной виллы, об¬
мениваются историями, в которых утверждается и прославляется все¬
силие Венеры. «В большом и обширном саду, — пишет автор, — бил
прекрасный источник живой и серебристой воды, окруженный различ¬
ными деревьями, с которых доносилось пение птиц самых разных ви-
tant verde et la mousse si tendre / Et les ruisseaux murmurans au descendre / Ren-
doient le lieu par leur cristalin cours / Digne a tout mal de seur et doux secours] //
Frangois I. Oeuvres poetiques. Geneve, 1984. P. 329.
14 [Ce temple estoit ung clos foury verger / Passant en tout le val delicieux / Auquel jadis
Paris jeune berger / Pria d’amour Pegasis...] // Marot CL Oeuvres / Ed. G. Guiffrey.
Geneve, 1969. T. 2. R 75—76.
15 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 3.
16 Наиболее авторитетные на сегодня (хотя и нуждающиеся в уточнении) сообра¬
жения о происхождении этого псевдонима см.: Saulnier V.L. Documents nouveaux
sur Jeanne Gaillarde et ses amis // Bulletin de la Societe historique, archeologique et
litteraire de Lyon. 1951. T. XVIII. P. 79—100.
§1
*-
*
дов, столь мелодично распевающих маленькими своими горлышками,
что истинно райское удовольствие было их слушать. <...> Что же до
плодов сказанного сада, то я полагаю достоверным, что во всем мире,
даже и в самих садах Алкиноя, не было подобных...»17. В описании
Жанны отчетливо звучит мотив земного рая, хоть и заявленный не так
открыто, как у Маро, у которого Храм Купидона можно было бы при¬
нять за «Рай Земной, когда б там были Ева и Адам»18.
Таким образом, в поэтическом языке «великих риториков» и их по¬
следователей «природа составляла <...> уже целиком сконструирован¬
ный, идеальный мир»19. Некоторые черты этого мира соотносимы с осо¬
бенностями того пасторально-идиллического универсума, образцом
которого стала «Аркадия» Саннадзаро20. У поздних «риториков» (Лемер)
и Маро картина земного рая, напоминающая шпалеры-«мильфлёры»
этого периода — недаром «центры, где расцветало искусство живописи,
совпадали с теми, что посещали либо прославляли риторики»21, — вво¬
дится «антикизирующей» пасторальной топикой: как в «Храме Венеры»,
так и в «Храме Купидона» непременно присутствуют нимфы, дриады,
бог Пан с пастухами, играющими на волынках и свирелях, «весельчак
Титир»22 и т.д. Кроме того, в описаниях locus amoenus постепенно наме¬
чается принцип «сращения» и взаимодополнения природы и культуры.
Плащ нимфы Эноны, «расшитый разными изображениями цветочков
и птичек» и спадающий «многоцветными волнами» до самой земли23,
служит своеобразным зеркалом прелестной долины, где впервые видит
возлюбленную Парис. В «Троне Чести» Жана Молине (1467) пение птиц
уподоблено звучанию музыкальных инструментов. В его же «Венке Дам»
(1478) птицы «мелодично распевают» молитву во славу «королевы цве¬
тов» — розы24. В «Храме Венеры» Лемера соловьи, ласточки, дрозды,
жаворонки, канарейки, чижи, щеглы и множество иных певчих птиц (в
любви к перечислениям Лемер не уступает Саннадзаро) исполняют зау¬
треню под аккорды музыкальных инструментов25. Наконец, «Храм Купи¬
дона» целиком строится на слиянии природы и культуры. Если у Лемера
17 Flore J. Comptes amoureux. Geneve, 1971. P. 131.
18 [Brief on leust pris pour paradis terrestre / S’Eve, et Adam dedans eussent este] // Ma-
rot CL Op. cit. P. 76.
19 Баткин Jl.M. Мотив «разнообразия» в «Аркадии» Саннадзаро и новый культур¬
ный смысл античного жанра // Античное наследие в культуре Возрождения. М.,
1984. С. 159.
20 Ср.: Zumthor Р. Op. cit. Р. 189—190.
21 Ibid. Р. 204.
22 Marot CL Op. cit. P. 74.
23 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 5.
24 Zumthor P. Anthologie des grands rhetoriqueurs. Paris, 1978. P. 76, 79.
25 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 87.
^20^
Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.
*
4
храм Венеры и храм Минервы в «Согласии двух языков», или храм Чести
и Добродетелей (1503) — это именно здания, расположенные среди «зем¬
ного рая» и поражающие красотой и благородной роскошью отделки, то
у Маро храм есть творение природы. Его первые врата сделаны из алых
цветов; его своды — это виноградные лозы, алтарь — высокая скала26,
колонны — кипарисы, часовни — рощи и сады. При храме есть кладби¬
ще — зеленый лес, где роль крестов играют деревья27, а свечей — букеты
розмарина; певчими, конечно же, выступают птицы.
Однако как раз на этом последнем примере наглядно видны отли¬
чия подобных описаний у «великих риториков» от пасторального про¬
странства аркадийского типа. И прежде всего то, что в них полностью
отсутствует мотив упорядоченного разнообразия и какого-либо чело¬
веческого творчества, т.е. истинно культурного начала. Храм Купидона
недаром кажется рассказчику, попавшему в него в числе других палом¬
ников, «созданием Юпитера»28: в этом «цветущем саду», обустроенном
высшей силой, человеку отведена функция даже не служителя, а при¬
мерного, ревностного прихожанина. Смысл «слияния» природы и куль¬
туры здесь прямо противоположен аркадийскому — условная приро¬
да, «земной рай», вытесняет со своей территории любые произведения
человеческих рук, даже и само здание, пребывая высшей и самодоста¬
точной эманацией божества. Отзвуки такой трактовки locus amoenus
присутствуют и в гораздо более поздних текстах, иногда определяя
рецепцию итальянских образцов. Так, «Любовные рассказы» Жанны
Флор в своем построении ясно ориентированы на «Декамерон» Боккач-
чо, а описание прекрасного сада, где собираются дамы, имеет сходство
с картинами цветущих окрестностей Флоренции, по которым путеше¬
ствует компания рассказчиков, в частности, с Долиной Дам. Однако
мотив «естественного» сращения природы и искусства, важнейший
26 Два элемента в системе природной топики имели особое значение — гора и ис¬
точник. Гора обычно есть центр мироздания (как Ида в «Прославлениях Гал¬
лии...» или скала, похожая на Олимп, в «Храме Чести и Добродетелей» Лемера),
источник же придает картине земного рая «подлинность», завершенность. Когда
повествователь в «Согласии двух языков» Лемера описывает храм Венеры, он,
безусловно, видит в нем земной рай — но «рай телесный» (Lemaire de Beiges J.
Op. cit. P. 86), т.е. ущербный, не вполне должный, где, по мысли автора, не может
состояться союз французского и итальянского языков (ибо Венера «означает из¬
мену и безделье; к тому же она слишком влюблена в Марса, великого бога сра¬
жений» // Ibid. Р. 79). Показательно поэтому, что среди красот Храма отсутству¬
ет источник, замененный мотивом росы на цветах. Зато когда рассказчик после
долгих и трудных скитаний достигает храма Минервы, он первым делом обнару¬
живает у заросшей зеленью и мхом горной расщелины «маленький серебристый
ручеек, окруженный несколькими густолиственными деревьями» // Ibid. Р. 103.
27 Несомненный отзвук креста-дерева в современной Маро иконографии.
28 Marot Cl Op. cit. P. 76.
^21^
§1
4
у Боккаччо, постоянно подменяется у Жанны мотивом рукотворно¬
го изобилия — фруктов, винограда, рыбы в небольшом пруду29 и блюд
на обеденном столе собравшихся30. Сад — тот же земной рай, только
созданный хозяйкой виллы, дамой Сальфионной. И сад — это тот же
Храм: «Здесь никогда не случалось меж дам говорить о вещах непри¬
ятных, но лишь об Амуре, о божественности его и власти, а также о ма¬
тери его Венере...»31. Сакральность локуса закреплена в строгой регла¬
ментации принятых здесь бесед (по функции — молитв).
Сакральностью обусловлена и специфическая «космичность» опи¬
сываемого пространства — черта, неразрывно связанная с семантикой
земного рая. В свой Храм, «закрытый и цветущий сад», Маро помещает
и гору, и озеро, и рощи и леса (во множественном числе!). Разрабаты¬
вая в новелле 4 «Любовных рассказов» сюжет о Нарциссе, Жанна Флор
рисует картину поистине вселенского страдания тех бесчисленных дам,
что стали жертвой бездушного красавца: «То проклинали они судьбу,
то пылкие свои желания, по острым скалам и диким лесам скитаясь
<...> И так стенали, бродя по горам и долам, злосчастные бедняжки и
изливали жалобы свои и ропот на воздух и глухим ветрам...»32. Миф,
тем самым, приобретает универсальное, космическое звучание, a locus
amoenus, где настигает Нарцисса гнев бога любви, предстает не только
значимым, «любовным» пространством, но и центром мироздания, ор¬
ганизованного как храм Амура и Венеры.
Сугубая условность изображения проистекает в описаниях «прелест¬
ного уголка», прежде всего, из чисто речевой клишированности. Одна и
та же топика переходит у «великих риториков» из текста в текст практи¬
чески без вариаций. За исключением Лемера, почти ни у кого не встре¬
чается конкретизации, замены самых общих родовых наименований рас¬
тений и птиц видовым разнообразием33. Но и у Лемера обычно так или
иначе подчеркнут всецело риторический, формально-речевой характер
такого «разнообразия»: описывая, например, содержимое корзинки Эно-
ны, фруктового рога изобилия, он перечисляет 17 названий различных
плодов — и все строго по алфавиту34. Подобная устойчивость описаний
заставляет предположить, что, помимо изначальной функции риториче-
29 Если дамы у Боккаччо, резвясь в прозрачной воде озера, пытаются поймать ру¬
ками рыбок, то у Жанны пруд, богатый рыбой, служит лишь для изобильной
рыбной ловл#.
30 Flore ]. Op. cit. Р. 131—132.
31 Ibid. Р. 131.
32 Ibid. Р. 98—99.
33 Ср.: Planche A. Lexique et fonction du vegetal dans un corpus de textes fran<;ais des
XIV et XV si£cles // Actes du Vе Colloque International sur le Moyen Fran<;ais. Milano,
1986. T. III. Etudes litteraires sur le XVе siecle. P. 7—25.
34 Lemaire de Beiges ]. Op. cit. P. 13.
^ 22 ^
Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.
¥
4
ского descriptio loci, они несли во французской литературе рубежа XV—
XVI вв. иную и, видимо, основную для них функциональную нагрузку.
И здесь возникает еще одна их специфическая особенность. Как
правило, топика природы и идея любовного служения неотделимы от
понятия красноречия. Пространство «земного рая» оформляется не
только как «сад любви», но и как «сад риторики». В храме Купидона
главным святым служит аллегорическая фигура Beau Parler — Красно¬
речия. Литература, поэзия, опирающаяся на нормы риторики, прирав¬
нивается у Маро к божественному слову:
Евангелие, что читают здесь —
Любви искусство и искусство речи35.
Любовь — преимущественная сфера, где властвует риторика; два ис¬
кусства, любовное и поэтическое, как бы сливаются воедино. В Храме не
только умудренные опытом матроны наставляют юных девушек, обращая
их к служению Амуру, здесь существует свой набор «культовых» книг:
Овидий, мэтр Ален Шартье, и к ним
Петрарка, и еще «Роман о Розе» —
Вот те молитвы и псалмы, каким
Звучать в том Храме век, в стихах и в прозе36.
Идеей взаимосвязи любви и красноречия проникнута и упоминав¬
шаяся выше новелла Жанны Флор о Нарциссе. Смысловой центр по¬
вествования в соответствии с общей концепцией сборника переносит¬
ся с самовлюбленности и гордыни красавца-юноши — как это было в
«Метаморфозах», которые, по-видимому, послужили прямым источни¬
ком для лионской писательницы, — на немоту нимфы Эхо, лишенной
возможности объясниться с Нарциссом. Именно в недостижимости
для Эхо правильного, по законам риторики построенного изъяснения
своих чувств и состоит драматизм сюжета. Драма тем более велика,
что изначально, до того, как мстительная Юнона оставила нимфе спо¬
собность лишь повторять речи других, та обладала исключительным
даром слова. И по мнению рассказчицы новеллы (наиболее мудрой из
дам, госпожи Эгины Минервы, которой, помимо прочего, посвящен
35 [Ou pour Evangile disoit / L’art daymer faict dart роё^ие] // Marot Cl Op. cit. P. 94.
Как мы видим, у Маро эта связь заявлена еще более четко: буквальный перевод
второй строки — «искусство любви, сделанное из поэтического искусства».
36 [Ovidius, maistre Alain Chartier, / Petrarque, aussi le Roman de la Rose / Sont les
messelz, breviaire, et psaultier, / Quen ce sainct temple, on lit, en rithme et prose...] //
Ibid. P. 89.
^23^
§1
*
*
сборник в целом), не обойдись богиня с Эхо столь жестоко, развязка
истории могла быть иной: «И не случись так, что на время утратила
она нежное свое красноречие, быть может, удалось бы ей насладиться
любовной своей страстью»37. Главной силой в любви выступает сила
красноречия, не знающая преград. Овидиевский сюжет превращается в
подлинную драму несказанного слова.
Эта особенность, чрезвычайно характерная для французской литера-
туры раннего Возрождения, была чертой отнюдь не жанровой. Она была
одной из основ общего представления о сущности, задачах и законах по¬
этического творчества, которое бытовало во Франции примерно до 1530-
х гг. Так, в конце XV в. поэт и хронист Жан Молине открывал свой трак¬
тат «Искусство риторики» следующим посвящением: «Поскольку вы,
высокочтимый господин мой38, как я понимаю по изящным посланиям
вашим, недавно призваны были под знамена Купидона, бога Любви, и,
исполнены пылкого желания, желаете быть воителем рыцарственным и
достойным, дабы покорить противника вашего и одержать над ним слав¬
ную победу, обратились вы ко мне, чтобы использовать вам искусство
Риторики»39. В «Храме Венеры» Лемера множество «поэтов и стихотвор¬
цев» поют славу богине, «словами чудно речи украшая»40. В прологе «Со¬
гласия двух языков» автор, описывая спор двух благородных, живого ума
и ученых людей относительно достоинств французского и итальянского
языков, устами своих персонажей судит о языках, прежде всего, с точ¬
ки зрения их пригодности и выразительности в «любовной материи»41.
В «Храме Венеры» Лемер приводит и список жанров, в которых нахо¬
дит воплощение это единство любви и риторики, притом список весьма
длинный — ди, кантилены, оды, гимны, элегии, песни, мотеты, лэ, бал¬
лады, вирелэ, рондо, сирвенты, королевские песни. Приблизительно тот
же список дан и в «Храме Купидона» Маро: песнопения, которые в нем
дозволены — это рондо, баллады, вирелэ, триолеты и т.д.:
Венера учит их запоминать
Всех юношей влюбленных, в Храме новых,
Чтоб дам умели речью занимать42.
37 Flore /. Op. cit. Р. 101.
38 Об адресате трактата см.: Langlois Е. Recueil dArts de seconde rhetorique. Paris,
1902. P. LXI—LXIII.
39 Ibid. P 204.1
40 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 89.
41 Ibid. P. 78.
42 [Lesquelz Venus apprent a retenir / A ung grand tas damoureux nouvelletz / Pour
mieulx s<;avoir dames entretenir] // Marot CL Op. cit. P. 89. В отличие от «Храма
Венеры», где звучат стихи и на французском, и на итальянском, и на латыни,
«Храм Купидона» — целиком царство национальной поэзии.
£24^
Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.
*
4
В анонимном тексте, опубликованном в 1530 г. лионским издателем
Ф. Жюстом под видом третьего «Послания Зеленого любовника» Ле-
мера, разочарованный влюбленный, отказываясь от неблагодарного
любовно-поэтического поприща, перечисляет и отринутые им стихот¬
ворные формы — песни, баллады, триолеты, рондо, мотеты, вирелэ, ко¬
ролевские песни, послания и т.д.43
Набор жанров («форм») у трех авторов примерно одинаков — по
сути, это перечень основных типов стихотворных произведений, со¬
ставлявших предмет трактатов XV—начала XVI в. по «второй ритори¬
ке», т.е. риторике стихотворной речи на народном языке (в противовес
«первой риторике», прозаической и латинской). На практике этот на¬
бор охватывал всю традицию лирики, канонизированную «великими
риториками», ту, что несколько десятилетий спустя Дю Белле охарак¬
теризует как «пряные приправы, которые портят вкус нашего языка и
служат не чем иным, как свидетельством нашего невежества»44.
Однако в традиции этой имела место еще одна жанровая форма,
отсутствующая как в приведенных перечнях, так и в трактатах по ри¬
торике, но получившая в творчестве «риториков» широкое распро¬
странение: сравнительно большое по объему прозиметрическое про¬
изведение, в котором придворные поэты воплощали свою главную
миссию — славить и воспитывать государя. Именно здесь соединение
топики locus amoenus, любовной темы и красноречия дало результаты,
важные как для развития французской литературы, так и для становле¬
ния ренессансной литературы вообще.
Еще вторая часть «Романа о Розе» открыла традицию аллегорического
видения, во многом определившую поэтику трактатов и больших поэм у
«риториков»45. Природная топика играла в них значительную роль; чаще
всего она включалась в вводную часть текста, обозначая пространство,
куда попадает полный душевной смуты рассказчик (обычно он там за¬
сыпает) и где он видит некую аллегорическую и дидактическую карти¬
ну. «В предельном своем воплощении схема такова: поэт засыпает в не¬
коем саду и несколькими стихами позже “ему является видение”»46. Так,
например, у Молине в «Троне Чести»: «...Ища отдохновения и веселия
душевного и желая услышать мелодичные песни птичек, отправился
43 Цит. по: Mayer С.А. La Tierce Epistre de TAmand Verd de Jean Lemaire de Beiges //
De Jean Lemaire a Jean Giraudoux. Melanges... offerts a P. Jourda. Paris, 1970. P. 35.
Текст «третьего послания» см. Р. 30—35.
44 Дю Белле Ж. Защита и прославление французского языка. Гл. IV // Эстетика Ре¬
нессанса. М., 1981. Т. 2. С. 257 (перевод М. Толмачева).
45 Zumthor Р. Le Masque et la Lumiere. P. 79—94.
46 Angeli G. Le type-cadre du songe dans la production des Grands Rhetoriqueurs 11 Les
Grands Rhetoriqueurs. T. I. P. 10.
^25^
§1
4
я в прелестную рощу и там уснул под сенью прекрасного многолисто¬
го дуба, и во сне казалось мне, будто нахожусь я в некоем изысканном
саду...»47. Герой его политической аллегории «Упования простого люда»
(1481), «думая забыть свою меланхолию», идет в поля: «...И пока с вос¬
хищением смотрел я на приятные глазу цветы, коими богато были укра¬
шены травы на лугах, раскрылась внезапно земля и увидел я пропасть
глубины необычайной...»48; так вводится аллегория, призванная убедить
государей в необходимости мира, где бы правили попранные ныне Ти¬
ранией Справедливость и Истина. То же построение использует и Фран¬
циск I в упомянутом выше послании. В «Храме Чести и Добродетелей»
Лемера песенка пастушки Галатеи, славящей расцвет природы, пред¬
варяет видение самого храма, название которого говорит само за себя.
Locus amoenus становится у «риториков» тем условным пространством,
где поэта — провозвестника божественной истины и божественного сло¬
ва — посещает прозрение и дар красноречия. Топика природы как бы
маркирует переход из «реальности», в которой поэта обуревает неудов¬
летворенность и тоска, к высокому вымыслу, заключающему в себе по¬
следнюю истину. «Прелестный уголок» оказывается неразрывно связан с
понятиями поэтического вымысла и поэтического дара.
Понятия эти имели в системе литературных норм, сложившейся во
Франции к началу XVI в., особое значение. Они отсылали к науке «по-
этрии» (poetrie), которая отчасти пересекалась со «второй риторикой»,
но отнюдь не была ей тождественна. Эта разновидность поэтики отлича¬
лась по своему объекту и от средневековой латинской поэтики, — разде¬
ла грамматики, а позже диалектики (логики)49. Автор первого во Франции
трактата по этой науке, «Красноречивейшая София-Мудрость» (“Archiloge
Sophie”, ок. 1400—1405 гг.), монах-августинец Жак Легран, вдохновленный
«Генеалогией языческих богов» Боккаччо50, определял свой предмет так:
«Поэтрия есть наука, обучающая выдумывать и создавать вымышленные
творения, основанные на разуме и подобии вещей, о которых желают вести
речь, и наука сия весьма потребна всем, кто стремится быть красноречивым,
и оттого поэтрия, по разумению моему, подчиняется риторике <...>. По-
47 Molinet ]. Les Faictz et Dietz. Paris, 1936. T. I. P. 36.
48 Цит. no: Zumthor P. Le Masque et la Lumiere. P. 282.
49 Гаспаров MJL Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грам¬
матики и риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском
Средневековье. М., 1986. С. 108—109. Общую характеристику поэтики в XV в.
см.: Jung M.-R. Poetria. Zur Dichtungstheorie des ausgehenden Mittelalters in Frank-
reich 11 Vox Romanica. Bern, 1971. Vol. 30/1. S. 44—64.
50 Di Stefano G. Jacques Legrand, lecteur de Boccace 11 Yearbook of Italian Studies. Mon¬
treal, 1971. Vol. I. P. 248—264.
^ 26 4
Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.
*
4
этрия отнюдь не учит рассуждать, что делает логика, также поэтрия отнюдь
не описывает науку стихотворства, ибо наука эта частью принадлежит грам¬
матике, а частью риторике <...>. Цель и содержание поэтрии в том, чтобы
придумывать истории либо что иное в согласии с тем, о чем желают вести
речь.., ибо поэтрия есть не что иное, как наука, обучающая вымыслу»51 52.
В первоначальном, латинском варианте трактата (“Sophologium”, ок.
1400 г.) присутствует важное уточнение: “Proprie poetria non habet pro ob-
jecto metrificare, sed potius fingere, sive sit in prosa, sive in metro>52 (выделе¬
но нами — И.С.). Таким образом, правила этой науки в равной мере рас¬
пространяются и на стихи, и на прозу: различие между ними — на этом
уровне описания, в отличие от уровня риторического, — снято. «Поэти¬
ческим» (“selon la mode poeticque”) называет свое описание храма Вене¬
ры, где впервые во Франции использована терцина, Лемер53; “Dictier poe¬
tical” — название одного из стихотворений пасторальной тематики Жана
Роберте54. Но тот же Лемер в прозаических «Прославлениях Галлии...»
включает в главу XXIV «поэтическое повествование о могуществе и бла¬
горасположении сказанных нимф к Парису Александру»55, а Жанна Флор
именует свой сборник рассказов «поэтическим вымыслом»56. Каков же
был объем понятий «поэзия» и «поэтический вымысел» в эту эпоху?
Для раннего французского Ренессанса «поэзия» служила синони¬
мом «басни» в том смысле, в каком говорит о ней Боккаччо в «Генеа¬
логии...», защищая «басни» древних поэтов от нападок невежд, — т.е.
античной мифологии. Значительную часть трактатов по «поэтрии» за¬
нимают сводные каталоги мифологических персонажей и сюжетов,
причем источником для них, помимо творений древних, служит и Свя¬
щенное писание. В трактате Леграна два списка: в первом перечисля¬
ются герои и их истории, заимствованные из «Метаморфоз» Овидия,
во втором — основные сюжеты из Библии. Анонимный автор «Правил
второй риторики» (между 1411 и 1432 гг.) приводит объемистый пере¬
чень различных «поэтических» персонажей, где рядом с Адамом, Евой
и Каином стоят Юпитер, Купидон, Ясон, Пирам и Фисба57. Причисле¬
ние Библии к поэтическим текстам для Франции восходит, скорее все¬
го, к тому же Боккаччо, писавшему: «По способу изображения Писания
идут как бы нога в ногу с творениями поэтов <...> и то самое, что поэт
51 Цит. по: Langlois Е. Op. cit. Р. VIII—IX.
52 Ibid. Р. 10.
53 Lemaire de Beiges /. Op. cit. P. 80.
54 Zumthor P. Anthologie des grands rhetoriqueurs. P. 122.
55 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 3.
56 Flore J. Op. cit. P. 168.
57 Langlois E. Op. cit. P. 39—48.
^27^>
& ^
именует басней или вымыслом, наши теологи назвали фигурой»58. Во
всяком случае, еще в 1521 г. Пьер Фабри (или, во французском вариан¬
те, Лефевр), автор «Великого и истинного искусства полной риторики»,
считает его аргументацию вполне достаточной: «А тем, кто дурно от¬
зывается о поэтах, именуя их лжецами, тем первый ответил Боккаччо в
своей “Генеалогии богов” И мне сейчас довольно сказать, что все Свя¬
щенное писание исполнено поэзии, равно и Псалтирь»59.
Включение Библии в сферу поэзии имело глубокий смысл. Материал
поэтрии, «басня», предполагал, помимо прямого, скрытое, аллегориче¬
ское толкование, которое и служило его «оправданием», а поэта возво¬
дило в ранг философа и мудреца. Концепция poeta teologo определяла
все творчество «великих риториков» и их последователей. Маро, гото¬
вивший к изданию в 1526 г. «Роман о Розе», снабдил его «Моральным
истолкованием», в котором, предлагая по крайней мере три мистиче¬
ские интерпретации «духовной розы», писал:
«Басни создаются и придумываются, дабы излагать их в мистическом
смысле, а оттого осуждать их не подобает. <...> Если мы в понимании сво¬
ем продвинемся не далее оболочки буквального смысла, мы лишь получим
удовольствие от вымыслов и историй, не постигнув особенной пользы, ко¬
торую в моральном разумении приносит сердцевина духовная, то есть про¬
исходящая из внушения Святого духа»60.
Маро опирается здесь, помимо прочего, на традицию теолого-дидак¬
тической интерпретации «Романа о Розе», примером которой может, в
частности, служить его «морализированная» обработка Жаном Молине,
изданная крупным парижским издателем Антуаном Вераром (ок. 1500 г.),
где стихотворный текст переложен прозой и сопровожден многочислен¬
ными и пространными «моральными толкованиями» (moralites).
Топика природы, «земного рая» вписывалась в такую концепцию
поэтического языка легко и органично. Во-первых, включаясь в вы¬
мышленное пространство аллегории, она, подобно мифологическим
персонажам и сюжетам, становилась своего рода знаком, сигналом, ука¬
зывающим на начало поэтической (вымышленной и аллегорической)
58 Цит. по: Эстетика Ренессанса. Т. 2. С. 31 (перевод В.В. Бибихина).
59 Fabri Р. Су ensuit le Grant et vray art de pleine Rhetorique... Geneve, 1972. f. iij, v°. Правда,
трактовка (эиблейских персонажей в наставлениях по поэтрии далеко не всегда со¬
впадала с канонической. Вот, например, описание Евы из уже упоминавшихся «Пра¬
вил второй риторики»: «Ева, праматерь наша, была красоты несравненной, и не было
никого подобного ей в великой красоте, но дети, коих она родила, весьма ее испор¬
тили, хотя и была она наделена великой добродетелью; но, несмотря на то, была она
весьма осмотрительна, и во всем повиновалась Адаму, и сильно любила своих детей,
и всегда приносила двоих сразу, мальчика и девочку» // Langlois Е. Op. cit. Р. 39.
60 Marot CL Op. cit. P. 151.
^28^
Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.
речи — как у Молине или Франциска I61. Во-вторых, поскольку граница,
разделяющая «пространство вымысла» и «пространство реальности» в
произведениях «риториков», к началу XVI в. утратила изначальную от¬
четливость62, locus amoenus, сливаясь с мифологической образностью,
сам стал частью «поэтрии». У Маро в «Храме Купидона» природные
мотивы с самого начала «перекодируются» на язык мифологии: приход
весны — это явление богини Флоры, дуновение ветерка — бога Зефира,
заря, естественно, превращается в Аврору и т.д., причем процесс этот
происходит внутри самого текста, на глазах у читателя. Так же экспли¬
цитно заявлен и аллегорический характер повествования: толкование
часто включено в текст; например, «алые цветы и распускающиеся буто¬
ны», из которых сооружены первые врата Храма, означали:
.. .чудные услады,
Что в храме поселились навсегда63.
Вслед за этими вратами, которые охраняет приветливый страж Добрый
Прием (Bel Acueil, персонаж «Романа о Розе»), расположен портал из ко¬
лючек и чертополоха, обозначающих тернии Любви. Интересна связь ми¬
фологического и аллегорического кодов в «Храме Чести и Добродетелей»
Лемера: на горе, похожей на Олимп и «столь цветущей, столь зеленеющей,
столь убранной благоуханными деревцами и иными красотами в изоби¬
лии, словно то был второй земной рай»64, перед группой путников пред¬
стает Храм, в котором находятся шесть изукрашенных фигур; на каждой
изображена буква, и вместе они составляют слово, чей смысл пока не
вполне понятен вновь прибывшим. Храм сооружен по античному образцу,
из мрамора, и путники поначалу считают, что слово составлено из первых
букв имен античных богов (поэтический код), однако выясняется, что это
начальные буквы человеческих добродетелей (код аллегорический).
Принадлежность топики природы к поэтической сфере не могла не
повлиять и на ее семантику. Сделавшись одним из «знаков» аллегори¬
ческого вымысла, она приобрела тем самым весьма широкие смысловые
границы, что позволяло «риторикам» проецировать ее на самые разные
61 Еще один пример — «Послание, созданное из поэтических вымыслов» Жана
Буше, где повествователь, уснув на лугу, в тени дерева, под птичье пение, видит
во сне юношу и девушку в богато изукрашенной лодке. Вместе с ними плывет
множество веселых людей, которые «сочиняют баллады, вирелэ, блазоны, рон¬
до, песни, лэ» и т.п. См.: Zumthor Р. Anthologie des grands rhetoriqueurs. P. 254.
62 Angeli G. Op. cit. P. 10.
63 [Signifiant que joyes nompareilles / Sont a jamais en ce lieu fleurissans] // Marot Cl
Op. cit. P. 77.
64 Zumthor P. Anthologie des grands rhetoriqueurs. P. 150.
^29^
. §1 ,
£ ^
области литературы и культуры. Так, с помощью ее элементов славит бы¬
лую мощь Бургундского герцогства и его государя Карла Смелого Моли¬
не в «Древе Бургундском» (1486):
«Десяти лет не прошло с тех пор, как в мощном и обильном плодами
винограднике Бургундском цвело древо великое красоты изумительной, в
изобилии драгоценными добродетелями украшенное <...> Многие любез¬
ные пастухи и благородные пастушки в сени его укрывались, кои, подобно
ему, росли, расцветали и плодоносили в чести, добродетелях и славе»65.
В тексте празднества по случаю въезда Карла VIII в Руан в 1485 г., со¬
чиненном неким Пинелем, «народ» (жители Руана) отождествляется с
засыхающим древом, а Карл — с живительным источником, благодаря
которому происходит расцвет природы, сливающийся с расцветом по¬
эзии: вокруг ожившего дерева и источника начинают резвиться пастухи,
«из коих истекают все новые приятные песни»66. С другой стороны, при¬
родная топика могла непосредственно, эксплицитно обозначать литера¬
турное (прежде всего, версификаторское, но не только) творчество, его
законы и результаты. В «Двенадцати Дамах Риторики» Жоржа Шатлена
(1463), признанного главы «великих риториков», изложение поэтическо¬
го учения подается в форме диалога 12 дам — 12 разделов учения — в
прекрасном саду; дама Доктрина раскрывает даме Цветущая Память
(Flourie Memoire) названия цветов и деревьев сада, пространство кото¬
рого, тем самым, предстает «метафорой осведомленности, которой дол¬
жен обладать поэт, чтобы воплотить свое произведение»67. Метафора эта,
став почти общеязыковой, закреплялась даже в названиях издательских
сборников различных произведений — главным образом принадлежа¬
щих перу «риториков». Среди многочисленных «цветов» — «Цветок
всяческого веселья» (ок. 1530)68, «Цветы французской поэзии» (1534)69 и
т.п. — здесь выделяется антология «Сад удовольствия и цвет риторики»,
выпущенная в 1501 г. Антуаном Вераром и включающая, наряду со сти¬
хами французских поэтов конца XIV—XV вв., трактат «Руководство по
второй риторике» неизвестного автора, избравшего для себя псевдоним
«Горемыка»70. Отзвуки той же метафоры, но уже обогащенной ренессанс-
65 Ibid. Р. 84.
66 Ibid. Р. 133.
67 Muhlethaler J.-CL Un manifeste poetique de 1463: les “Enseignes” des Douze Dames
de Rhetorfque // Les Grands Rhetoriqueurs. P. 96.
68 La Fleur de toute ioyeusete, contenant epistres, ballades et rondeaulx ioyeux et fort
nouueaulx. S.I., s.d. In-8 goth.
69 Les Fleurs des poisies francoyses // Alberti L.B. Hecatomphile, de vulgaire it alien
tourne en langaige francoys. Paris, 1534. In-8.
70 Le Jardin de Plaisance et fleur de Rhetorique. Nouuellement imprime a Paris pour Ant.
Verard... [1501]. In-fol. goth.
^30^
Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.
*
*
ной идеей «естественного разнообразия», слышны еще в конце XVI в. у
Этьена Пакье, который в одном из писем сравнивает «Опыты» Монтеня
с «лугом, вперемешку и без всякого искусства разнообразно украшен¬
ным множеством цветов»71. Традиции «риториков» (в свою очередь, пре¬
ломлявших средневековый прием описания красот и пользы грамматики
через растительную и особенно цветочную образность) оказались впол¬
не устойчивыми.
Но включение топики природы в число поэтических, вымышлен¬
ных и аллегорических, элементов означало и ее включение в сферу той
огромной и плодотворной работы, которую проделали «великие рито¬
рики» для изучения и расширения возможностей французского язы¬
ка72. Эти поэты с их изощренными стихотворными конструкциями,
виртуозными рифмами, ассонансами, аллитерациями, акростихами,
ребусами и пр. придавали важнейшее значение фонетическому и зри¬
тельному ряду своих произведений. В XV в. стихотворство, окончатель¬
но отделившись от музыки и став самостоятельной областью риторики,
потребовало повышенного внимания к смысловой нагрузке слова, сло¬
га и даже отдельной буквы73 (отсюда пресловутый «формализм», до по¬
следнего времени ставившийся в вину «риторикам»). В этом контексте
восприятие природных топосов оказывалось неотделимым от обозна¬
чающих их слое, их фонетической и графической структуры, и станови¬
лось полем сложных до изощренности семантических экспериментов.
Ярким примером подобного произведения может служить «Венок
Дам» Молине (1478) — аллегорическое прославление новорожденной
дочери императора Максимилиана, будущей Маргариты Австрийской.
Имя девочки оказывается связано с именами 10 цветков (по числу букв
в слове Marguerite), причем именно через букву — начальную букву
цветка. Эта общая для двух семантических рядов буква и становится
носительницей смысла, заключенного в цветке-эмблеме. Так, третий
цветок в «венке» Молине, роза, оказывается не только наделен всем
мощным грузом значений и толкований, берущих начало в «Романе о
Розе» (между прочим, Маро уподобляет розе свой храм Купидона), но
и распространяет свои свойства на слова, которые начинаются с одной
с ним буквы. Помимо мистической трактовки розы как «истинного от¬
дохновения мозга, красоты лица, ясности взора, жажды языка, утехи
носа, нежности руки, желания сердца, здоровья груди и помощи же¬
лудка <...> из коей (розы. — И.С.) происходит Добродетель, именуемая
71 Pasquier Е. Choix de lettres sur la litterature, la langue et la traduction. Geneve, 1956. P. 48.
72 См., например, списки неологизмов, введенных «риториками» во французский
язык: Slerca A. A propos des neologismes des Rhetoriqueurs // Les Grands Rhetori-
queurs. P. 60—88.
73 Zumthor P. Le Masque et la Lumiere. P. 244—266.
^31^
§1
*
4
Обретение великой радости»74, Молине предлагает читателю список
дам, чьи имена начинались с буквы “R” и которые поэтому сполна на¬
сладились указанной добродетелью. Таковы, например, библейская Ре¬
векка — «роза.., которая из благословенного семени своего произвела
зараз два благородных бутона, Исайю и Иакова», Рахиль — «розочка,
красотою несравненной увенчанная», Руфь и др.75 Но никакие слож¬
ные смысловые построения невозможны для «риторика» вне поэтиче¬
ской практики: Молине, завершая прозаический фрагмент о розе, под¬
крепляет тезис о первой букве слова как носительнице его семантики
молитвой-панегириком цветку, которую поет хор птиц и в которой все
слова начинаются опять-таки с буквы V’76.
Таким образом, функции locus amoenus в творчестве «великих рито-
риков» и их последователей целиком определялись общей концепцией
литературы и ее законов, сложившейся к рубежу XV—XVI вв. во Фран¬
ции. Сделав топику природы, наряду с мифологическими персонажами
и сюжетами, знаком поэтической, вымышлено-аллегорической речи,
«риторики» связали ее с самой сущностью поэзии — как в значении
стихотворства, так и в значении вымысла. Семантика природных моти¬
вов оказалась неотделима от норм риторики и «поэтрии». Представая
не «естественным» природно-культурным идеалом, подобным саннад-
заровской «Аркадии», но «земным раем», «садом любви» и одновремен¬
но «садом поэзии», locus amoenus у поэтов риторической школы служил
как бы промежуточным этапом между средневековой и ренессансной
трактовкой природы. Это была своеобразная утопия — не гармониче¬
ский космос «золотого века», созданный гуманистами, но место наи¬
высшего расцвета и могущества французского слова: предельно услов¬
ная (и потому богатая семантически) «утопия языка».
)
74 Zumthor Р. Anthologie des grands rhetoriqueurs. P. 78—79.
75 Ibid. P. 79.
76 Аналогичный прием использован у Лемера в «Храме Венеры», где главный жрец
храма Гений (персонаж «Романа о Розе») произносит хвалу французам, все сло¬
ва которой начинаются с буквы “f” (Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 98).
s«
«Прославления Галлии»
Жана Аемера де Бельж:
поэтика и история1
В 1511 г. в Лионе вышла в свет первая книга трехтомных «Про¬
славлений Галлии и Примечательностей Трои» Жана Леме-
ра де Бельж2 — обширного свода национальной мифологии,
восходящей к средневековой легенде о троянском происхож¬
дении французов. Автор — последний представитель шко¬
лы «великих риториков» — ставил своей целью «показать, что нет на
свете нации, какая пребывала бы неизменно в достоинстве своем от
античных времен и доныне»3, кроме потомков Франка, сына Гектора,
превосходящих древностью все прочие народы. Эта грандиозная за¬
дача, непосредственно вытекающая из идеи translatio studii, целиком
отвечала пафосу «защиты и прославления» национальной словесно¬
сти и языка, которым был окрашен во Франции период раннего Ре¬
нессанса. Однако замысел Лемера представляет интерес не только
как свидетельство обостренного самосознания французской культу¬
ры рубежа XV—XVI вв., утверждавшей себя в соперничестве с ита¬
льянским гуманизмом и античностью. Обосновывая тезис о том, что
именно французы являются наследниками греков, создателей всех ис¬
кусств и наук, Лемер столкнулся с необходимостью найти для свое¬
го творения новую форму, синтезирующую (и тем самым трансфор¬
мирующую) ряд средневековых традиций. «Прославления Галлии...»
с точки зрения современной им литературной теории и практики не
только выпадают из существующих жанровых рамок, но и содержат
внутреннее противоречие.
С одной стороны, Лемер, создатель нескольких политико-историче¬
ских трактатов и хроники, «смиреннейший Секретарь и Индициарий,
1 Впервые опубликовано в: Кентавр Centaurus. Studia classica et mediaevalia. M.,
2005. № 2. C. 293—302.
2 Историю изданий этого сочинения см. в: Abelard J. Les Illustrations de Gaule et
Singularitez de Troye de Jean Lemaire de Beiges. Lille, 1977.
3 Цит. no: Lemaire de Beiges /. CEuvres / Publ. par J. Stecher. Geneve, 1969. T. II. P. 475.
^33 ^
§11
¥
4
иначе Историограф»4 Маргариты Австрийской, а затем Анны Бретонской,
стремится представить свое произведение как достоверную историче¬
скую истину. В третьей книге эта установка даже специально подчеркнута
в заглавии: «Нет в книге этой ничего, что содержалось бы в иных истори¬
ях Франции и что не было бы доказано доподлинными доводами и ссыл¬
ками на авторитеты»5. В прологе первой книги Лемер указывает, что его
цель — исправить ошибки, содержащиеся в «несовершенных писаниях» и
«испорченных историях»6 едва ли не всех национальных сочинителей, из¬
лагавших историю Трои. Как явствует из текста «Прославлений...», речь
идет не только о средневековых романах и хрониках7, но и о разысканиях
современников-гуманистов, в частности, Робера Гагена:
«И о том повествует Гаген и иные историки. Однако ж тем, кто изучал
историю, нередко случается уличать его в небрежности во многих отрывках»8.
Отсылка к Гагену показательна. Лемер впервые во французской сло¬
весности делает попытку выстроить историческое повествование на
народном языке не по канонам хроники, но в соответствии с принци¬
пами гуманистической историографии. В изложении древних собы¬
тий он опирается на сочинения auctores, сравнивая различные версии
и ссылаясь на авторитеты — от античных авторов до итальянцев, от
Фульгенция до Боккаччо, от Светония до Фичино и Филельфо. Спи¬
сок «добрых авторов, <...> из сочинений коих почерпнуто содержание
(substance)»9 «Прославлений...», прилагается к каждой книге, причем
во второй и третьей он вынесен вперед, сразу после пролога10. Имена
древних служат гарантией правдивости исторического повествования,
о чем Лемер не устает напоминать читателям:
«И пусть отнюдь не удивляются читатели, если рассказываю я обо всем
этом <...> иначе, нежели в привычных им простонародных книгах. Ибо я
желаю следовать одной лишь чистой античной истине <...> многих ученей¬
4 Так он именует себя в заглавии второго тома «Прославлений...» (См.: Ibid. Т. II.
Р. 9). Должность историографа специально оговаривается и в королевской при¬
вилегии на издание этой книги, дарованной Лемеру в 1512 г.
5 Ibid. Т. И. Р. 248 (фрагмент заглавия первого издания, выпущенного Жоффруа де
Марнефом в 1513 г.).
6 Ibid. Т. I. Р. 4.
7 Например, в одной из хроник герцогства Бургундского, которая названа в Тре¬
тьей книге «лживой и апокрифичной» (Ibid. Т. II. Р. 392), или в романе «Четверо
сыновей Эмона», «о деяниях которых <...> рассказывают множество басен» //
Ibid. Р. 424.
8 Ibid. Р. 460. Ср.: Ibid. Р. 408.
9 Ibid. Р. 6.
10 В списке книги I фигурируют 57 авторов, книги II — 37, книги III — более 40.
^34^
«Прославления Галлии» Жана Лемера де Бельж: поэтика и история
ших (tressufisans) авторов, каковые будут вожатыми моими и поручителями
сего труда, если, с помощью Божией, сумею я довести его до конца»11.
Впрочем, авторитет «чистой античной истины» для Лемера безус¬
ловно выше имен конкретных авторов: например, в главе IV второй
книги, говоря о Касторе и Поллуксе, он ограничивается ссылкой на
«античные писания» вообще (буквально — на «всю античную словес¬
ность», “toute lantiquite des escritures”12). Именно опора на античность,
отличающая «Прославления...» от «простонародных» книг, сообщает
построениям автора высшую убедительность и правдивость.
Однако с другой стороны, история Трои с ее мифологическими ге¬
роями и богами имела в литературной системе позднего Средневеко¬
вья еще одно измерение, во многом противоположное историографии.
Персонажи античных мифов на протяжении всего XV в. принадле¬
жали к сфере «поэтрии» (poetrie), то есть, согласно определению Жака
Леграна, «науки о сложении вымыслов», как стихотворных, так и про¬
заических13. В «Красноречивейшей Софии-Мудрости» Леграна (как и
в ряде позднейших трактатов по «второй риторике») глава, посвящен¬
ная «поэтрии», представляет собой длинный перечень имен14, присут¬
ствие которых в произведении сигнализирует о его принадлежности к
поэтическому вымыслу (fiction pc^ticque). Принципиальное различие
между «баснями поэтов» и историей четко прослеживается и у «вели¬
ких риториков», и у современников Лемера. У «риториков», например,
у Молине, дяди и наставника Лемера, «поэтический» дискурс, не затра¬
гивая хроники, определяет структуру разного рода аллегорических ви¬
дений и «храмов». Клод де Сейсель в предисловии к своему переводу
«Анабасиса» Ксенофонта (1504), обличает «басни», изобилующие чуде¬
сами, и противопоставляет им историю, достоверность которой дела¬
ет ее школой добродетели и доблести15. Герой «Обители Чести» Окто-
11 Ibid. Р. 47.
12 Ibid. Р. 40. Точно так же в списки «использованной литературы» Лемер считает
необходимым включить не только «древние Книги, Мраморы и Надписи ста¬
ринных Эпитафий, имена сочинителей коих Автору неизвестны», но и «древне¬
го автора, имя коего неведомо». См.: Ibid. Р. 255—256.
13 Legrand ]. Archiloge Sophie. Livre de bonnes meurs / Ed. critique avec introd., notes
et index par E. Beltran. Paris, 1986. P. 149.
14 О «поэтрии» как каталоге см.: Poetiques de la Renaissance. Le modele italien, le
monde franco-bourguignon et leur heritage en France au XVI-e siecle / Sous la direc¬
tion de P. Galand-Hallyn et F. Hallyn. Geneve, 2001. P. 45—46.
15 См. об этом: Mombello G. Du doute a la conscience du succes : le cas de Claude de
Seyssel (1504—1514) // Traduction et adaptation en France a la fin du Moyen Age et a
la Renaissance: Actes du Colloque organise par l’Universite de Nancy II, 23—25 mars
1995 / Ed. par Ch. Brucker. Paris, 1997. P. 17—34.
^35^
§11
»-
4
вьена де Сен-Желе (ок. 1494) отвергает поэтические вымыслы в пользу
античных философов и историков, а также национальных хроник. На
сходной оппозиции строится и «Согласие двух языков» самого Лемера
(1513), где почвой для грядущего согласия французского и тосканского
наречий служит не «поэзия», подвластная Венере, но «хроника и исто¬
рия», моральная философия и ораторское искусство16. В «Прославлени¬
ях Галлии...» Лемер также не раз заявляет о своем неприятии поэтиче¬
ских «басен». Например, описывая первое появление Париса при дворе
Приама и его победу над Гектором, он спешит подчеркнуть: «Все это от¬
нюдь не поэтический вымысел (ces choses ne sont point feintes par maniere
poetique), но удостоверено исторически одним достойнейшим автором,
а именно Сервием, комментатором князя поэтов Вергилия...»17.
Таким образом, принцип исторической достоверности, привержен¬
ность которому декларирует автор, вступает в конфликт с «поэтиче¬
ским» измерением его материала. Чтобы устранить это противоречие,
Лемер использует опыт античных и средневековых комментаторов Го¬
мера и Вергилия, трактовавших «Илиаду» и «Энеиду» как отражение
реальных событий. Одним из основных источников служит для него
«Дневник Троянской войны» Диктиса Критянина, который он неодно¬
кратно противопоставляет гомеровской эпопее. Мифологические мо¬
тивы Лемер нередко толкует как метафоры или сравнения: к примеру,
история Леды (глава II второй книги) благодаря этому приему приоб¬
ретает почти «реалистический» характер:
«И был сказанный царь Тиндарей весьма благородным и могучим сре¬
ди государей Греции, как говорит Еврипид в трагедии “Ифигения” И была
женою сказанного Тиндарея красавица Леда, <...> дочь Фестия, царя Это-
лии, как говорит Иоанн Баптист Пий в толковании к Фульгенцию Планци-
аду. <...> К оной Леде воспылал любовью Юпитер, третий сего имени, царь
Критский. И, согласно античным басням, превратился в лебедя, сиречь
сделался красив и приятен, словно лебедь, и прекрасными речами своими
пел столь сладко, что позволила она ему возлежать с ней, и через то забе¬
ременела; и от него снесла ему по два ребенка несколько раз, иначе роди¬
ла четверых детей за два раза: и в первый раз родились Кастор и Поллукс,
братья-близнецы, а во второй Елена и Клитемнестра, сестры-близнецы. Так
полагает Боккаччо, однако Фульгенций Планциад говорит, что от одних
родов появились на свет Кастор, Поллукс и Елена, дети Юпитера, но Кли¬
темнестра была дочерью доброго царя Тиндарея. Еврипид, поэт греческий,
в трагедии, именуемой “Ифигения”, каковую переложил на латынь Эразм
16 См.: Poetiques de la Renaissance... P. 108—109.
17 Lemaire de Beiges J. Op. cit. T. I. P. 325.
^36^
«Прославления Галлии» Жана Лемера де Бельж: поэтика и история
¥
из Роттердама, говорит, что у Леды было три дочери, две сказанных выше и
еще третья, по имени Феба»18.
Превращая античных богов в царей, Лемер интерпретирует миф как
исторический документ: прибегает к гуманистической «критике текста»,
сопоставляет версии разных авторов (Еврипида, с косвенной отсылкой к
авторитету Эразма, Фульгенция и толкования Пия на последнего, Боккач-
чо). В результате этой операции «античная басня» — мотив превращения
Юпитера — оказывается простым сравнением: царь Критский уподобля¬
ется лебедю красотой и любезностью, обольщая Леду «лебединой песней»
приятных речей. Неправдоподобный мотив яйца, рудиментом которого
выступает глагол «снести»19, почти полностью заслонен мнениями ученых
авторов относительно количества детей обоего пола у Леды.
Однако — ив этом главная особенность «Прославлений...» — Лемер не
стремится свести свой текст к одному лишь «историческому» измерению.
Последовательно изгоняя все сигналы «поэтичности» из повествования,
он переносит их на более высокий уровень: на уровень структуры произ¬
ведения в целом. Прологи к первым двум книгам написаны от имени Мер¬
курия, бога красноречия20: именно Меркурий вдохновил и подвигнул авто¬
ра на создание великого труда, ибо он был послан богами на суд Париса и
только ему ведома истина об этом событии, «в коем заложено изъяснение
всей истории Троянской»21. Разделение «Прославлений...» на три книги
получает в устах Меркурия символическое обоснование: каждая из них со¬
ответствует одной из трех богинь, Палладе, Венере и Юноне. Одновремен¬
но они обозначают три возраста Париса: первый том посвящен Палладе,
поскольку в нем описана пастушеская юность греческого героя, когда он
вел «жизнь палладическую», то есть созерцательную. Все эти символиче¬
ские смыслы объединяются фигурой Маргариты Австрийской, которую
автор-Меркурий уподобляет Палладе, а также ее юного племянника Карла
18 Ibid. Т. II. Р. 21-22.
19 В Женевской рукописи «Прославлений...» мотив яйца сохранен полностью:
“pondre deux eufz” // Ibid. P. 22.
20 В прологе к третьей Лемер выступает под собственным именем, однако на обо¬
роте титульного листа ее первого издания (1513) помещена гравюра с весьма ха¬
рактерной сценой поднесения книги королеве (Рис. 1). Анна Бретонская в обли¬
чье Юноны, восседая на троне, принимает из рук крылатого мальчика большой
том (воспроизведено в кн.: Abelard }. Op. cit. Р. 110). В правом от читателя окне
виден Меркурий на облаке, указующий жезлом на далекую землю (видимо, ту,
что изображена в левом окне: над сельской местностью висит облако, подобное
тому, на котором сидит Меркурий), веля своему посланцу поднести книгу Анне.
21 Lemaire de Beiges /. Op. cit. T. I. P. 4. Показательно, что именно в прологах автор —
устами Меркурия — ссылается не на труды античных историографов, но на со¬
чинения поэтов (например, в прологе ко второй книге, излагая средневековую
концепцию двух Венер).
^37^
Рисунок 1. Jean Lemaire de Beiges. Le Tiers Livre des Illustrations de Gaule et
singulartitez de troye intitule nouuellement de France orientalle et occidentals. 1513
Австрийского и Бургундского («Париса»), который благодаря «Прославле¬
ниям...» получает возможность, взрослея, «поверять» свою жизнь истори¬
ей Париса, Ьодражая ему в добродетелях и учась на его ошибках. Вторая
книга, которую Меркурий адресует «принцессам, дамам и девицам благо¬
роднейшего языка и нации Галльской и Французской»22, посвящена прин¬
цессе Клод, олицетворяющей истинную Венеру. Третью, пребывающую
22 Ibid. Т. II. Р. 1.
£38^
«Прославления Галлии» Жана Лемера де Бельж: поэтика и история
¥
¥
под «патронажем» Юноны, автор подносит королеве Франции Анне Бре¬
тонской. Книга эта, по словам автора, главная из трех: «.. .Прошу тебя при¬
нять [ее] благосклонно, <...> как главный дар, какой я доныне приносил
дамам: ибо две предыдущие суть лишь побеги и цветы23, а вот и созрев¬
ший плод. Там была скорлупа, здесь — ядро; там рисованное, а здесь —
живое; те лишь две предпосылки силлогизма, а вот и вывод»24.
Тем самым суд Париса, занимающий центральное место в первой
книге, предстает своеобразной эмблемой, «метаязыком» всего сочи¬
нения Лемера. Его описание (глава XXXV) представляет собой весьма
редкий для «Прославлений...» пример прямой отсылки не только к
древним историкам, но и к «поэтическому» произведению:
«Что же до суда Париса, то в буквальном его строении (structure literale),
следовал я отчасти изящнейшему автору Апулею, каковой в своей книге
о Золотом осле описывает сей суд весьма тонко и изысканно. А касатель¬
но внутреннего его смысла я целиком полагался на изъяснение сказанного
Фульгенция Планциада, каковой во второй книге своих “Этимологий” из¬
лагает его с великой изобретательностью»25.
Уподобление трех государынь богиням делает «Прославления...» свое¬
образным аналогом «храмов», создаваемых «великими риториками»
для прославления и поучения высокого покровителя. Вписывая славное
прошлое французской нации в традицию poetrie, автор придает ему, по¬
мимо исторической, иную, в представлениях эпохи более высокую до¬
стоверность: оно правдиво, ибо несет морально-философскую истину.
Вина «скверных сочинителей», исказивших историю Трои, прежде в том,
что благодаря их «басням» она предстала «легковесной» (destime frivole),
тогда как в действительности она «истинна и изобильна, весьма богата
великими таинствами и поэтическими и философскими разумениями
(intelligences) и содержит полезное содержание под оболочкой выдуман¬
ных басен»26. Именно эту истину раскрывает автору Меркурий, отводя
самому Лемеру роль правдивого и ученого историографа.
Осуществленный Лемером синтез исторического и поэтического
повествования основан на том расширенном толковании «поэтрии»,
23 Лемер использует здесь топику сада, традиционно использовавшуюся в литера¬
туре позднего Средневековья для обозначения «поэтического» характера произ¬
ведения. Еще один характерный пример этой топики содержится в конце про¬
лога к первой книге: «И потому все благородны сердца, что пожелают сорвать
плод либо цветы, иначе, [извлечь] наставление (doctrine) либо развлечение в
сем саду, наполненном и украшенном примечательностями...» // Ibid. Т. I. Р. 8.
24 Ibid. Т. II. Р. 249—250.
25 Ibid. Т. I. Р. 272.
26 Ibid. Т. I. Р. 4.
^39^
§и
какое намечалось уже у французских гуманистов начала XV в. В по¬
нимании Леграна, последователя Боккаччо, «поэтрия» — это не про¬
сто раздел риторики, предметом которого являются «примеры», или
«ссылки» (allegacions), служащие для украшения речи. Это своего рода
квинтэссенция ученого, книжного знания: «...Ссылка есть не что иное
как [умение] кстати применить к тому, о чем говоришь, некие истории
либо некие вымыслы, но никто не может этого сделать, не прочитав
многие истории либо многие вымыслы. Но поскольку книги длинны, и
не всякий хочет взять на себя труд прочесть и изучить их, оттого <...>
описал я кратко и в виде фигур истории и вымыслы относительно мно¬
гих предметов»27. Невымышленные «истории», таким образом, входят
в сферу «поэтрии» благодаря возможности извлечь из них моральный
смысл. Стремление наделить историческое повествование мораль¬
ным потенциалом, придать ему отчасти «поэтический» характер от¬
личает и труды ряда современников Леграна. Так, Лоран де Премьефе
в “Compendium Statii Achilleidos” и “Compendium Statii Thebaidos” не
только демонстрирует свои познания в древней истории, но и извле¬
кает из повествования философский урок28. «Поучительный» характер
истории особо подчеркивал и упомянутый выше Клод де Сейсель, счи¬
тавший ее главной из всех studia humanitatis.
Однако, подхватывая эту традицию, Лемер придает «поэтрии» еще
более широкое значение, наделяет ее новыми, актуальными для со¬
временной культуры функциями. Среди причин, заставивших автора
«Прославлений...» прибегнуть к поэтической топике, безусловно, не
последнюю роль играл тот факт, что адресатами всех трех его книг яв¬
ляются женщины. Три «дара», которые Меркурий-Лемер подносит бла¬
городным дамам «французской нации», отвечают тому представлению
о связи поэтического языка со служением даме, какое сложилось в на¬
циональной традиции в эпоху Средневековья. Еще Легран в «Красноре-
чивейшей Мудрости» уподобляет любовь к Софии любви к даме, пред¬
посылая своему трактату стихотворный пролог, за которым следует
разъяснение, «как следует понимать вышесказанный поэтический вы¬
мысел» (ficcion)29. Для героя «Обители Чести» Сен-Желе поэтический
27 Legrand ]. Op. cit. Р. 156.
28 См. об этом: Bozzolo С. La lecture des classiques par un humaniste fran^ais : Laurent
de Premierfait // LAube de la Renaissance / Etudes reunies par D. Cecchetti, L. Sozzi,
L. Terreaui. Pour la dixieme anniversaire de la disparition de Franco Simone. Geneve,
1991. P. 67—98.
29 Legrand }. Op. cit. P. 27. Нужно отметить, что пролог и его толкование присут¬
ствуют во французском тексте трактата — но не в латинском: поэзия служит
риторическим эквивалентом философии на пространстве народного языка, ко¬
торый благодаря «баснословию» приобретает способность воплощать и переда¬
вать свет божественного знания, персонифицированный в «даме» Софии.
^40^
Прославления Галлии» Жана Лемера де Бельж: поэтика и история
¥■
*
язык неоднократно соотнесен с любовной тематикой и придворным
дамским обществом, а герой «Согласия двух языков» предается поэти¬
ческому творчеству в храме Венеры, чтобы затем, оставив его, слушать
наставления «доброго старца по имени Исторический труд». В заклю¬
чение «Прославлений...», обращаясь к читателям, Лем ер «оправдывает¬
ся» перед дамами, которые могут счесть его труд слишком ученым:
«И потому, если дамам, каковые прочтут либо будут слушать чтение сей
книги, с/1учится иной раз заскучать и досадовать на многие латинские рече¬
ния, примешавшиеся к французским, могу я найти оправдание в том, что
сие подобает призванию моему, подобно тому, как проповедники нередко
переходят на латинский язык в проповедях своих, обращаясь к деревенским
бабенкам, дабы подтвердить и сделать убедительным то, чему желают они
научить прихожан.. .»30
Несмотря на нарочито сниженное уподобление «принцесс, дам и
девиц» Франции «деревенским бабенкам», сопоставление Лемером
своей роли с ролью проповедника вновь указывает на морально-фило¬
софский смысл его сочинения, который связывается с восприятием
женской аудитории. Не случайно, что первая книга «Прославлений...»
долгое время печаталась вместе с его «Посланиями Зеленого Любовни¬
ка» — поэтическим загробным видением зеленого попугая Маргариты
Австрийской, где верный возлюбленный, скончавшись в разлуке с лю¬
бимой хозяйкой, попадает в Елисейские поля, причем его провожатым
по «поэтическому» птичьему раю выступает тот же Меркурий.
Еще одна, более важная причина обращения автора к поэзии сфор¬
мулирована им в начале пролога к первой книге. Говоря о «несовершен¬
ных и дурно выправленных» сочинениях, посвященных истории Трои,
Меркурий особо выделяет их пагубное влияние на иные сферы искус¬
ства, прежде всего живопись:
«И из-за сказанных несовершенных и дурно выправленных писаний
воспоследовало то, что все нынешние картины и ковры, из какого бы бо¬
гатого и дорогого материала ни были они изготовлены, коли выделаны они
по меркам сих испорченных историй, теряют в глазах людей сведущих и по¬
нимающих немалую толику ценности своей и славы...»31
Соотнесение словесного искусства с живописью — а не с музыкой,
как в средневековой традиции, — было для французской культуры,
безусловно, новаторским. По-видимому, здесь сказался опыт итальян¬
ских путешествий Лемера. Идея ut pictura poesis, возникшая в Италии в
30 Lemaire J. Op. cit. Т. II. Р. 469.
31 Ibid. Т. I. Р. 4.
^41^
, §ц
& ^
последней четверти XV столетия — одним из первых ее литературных
отголосков стала «Аркадия» Саннадзаро, где словесная живопись слов¬
но состязается со зримыми изображениями в описании мифологиче¬
ских («поэтических»!) полотен в храме богини Палее — и получившая
развернутое воплощение в записях Леонардо да Винчи, в годы созда¬
ния «Прославлений...» только проникала во французское придворное
искусство. По-видимому, значительную роль в усвоении Лемером этой
идеи сыграли близкие отношения с Жаном Перреалем, королевским
живописцем, «милостью счастливой своей руки заслужившим, что
короли и князья почитают его в живописи вторым Апеллесом»32; ил¬
люстрации этого знаменитого художника украшали первые издания
«Прославлений...». Параллель с живописью придавала поэтическому
языку в произведении Лемера новую, гораздо более широкую функ¬
цию: из раздела риторики poetrie превращалась в своего рода культур¬
ную среду, подчинявшую своим законам реальную жизнь, по крайней
мере в ее придворном варианте. Спустя два десятилетия этот мотив
создания единого культурного пространства подхватит, наследуя Леме-
ру, королевский печатник и гравер Жоффруа Тори: начертанные им в
трактате «Цветущий луг» «аттические» буквы национального алфави¬
та, восходящие к греческой мифологии, предназначены для создания
не только совершенных печатных книг, но и надписей на картинах и
зданиях33.
Наконец, последняя и главная причина, по которой Лемер наделяет
свое творение поэтическим статусом, заключена в самой фигуре Мер¬
курия, наставника и alter ego автора. Меркурий, посланный богами на
суд Париса, единственный, кому известна истина об этом событии, тем
самым, занимает в сложной иерархии «Прославлений...» место более
высокое, нежели «богини», которым Лемер уподобляет августейших
адресаток своего произведения. Этот высокий статус и достоинство
автора находят опору в представлении о поэте как выразителе боже¬
ственной истины (poeta teologo), которая проникла во Францию вме¬
сте с «Генеалогией языческих богов» Боккаччо и нашла отражение уже
в «Красноречивейшей Мудрости» Леграна. Одновременно поэтическая
топика выступает знаком риторического мастерства Лемера, его ора¬
торского искусства. Уже в начале XV в. гуманисты поколения Леграна
(Жан де Монтрёй, Николя де Кламанж, Лоран де Премьефе) наделяли
поэта всеми* достоинствами великого оратора, сочетающимися с бо¬
жественным вдохновением34. Отождествляя себя с Меркурием, Лемер
32 Ibid. Р. 190.
33 См. параграф «Миф и печатня: мифологизация французского языка в “Цвету¬
щем луге” Жоффруа Тори» в настоящем издании (С. 159).
34 Bozzolo С. Op. cit. Р. 70—71.
^42^
«Прославления Галлии» Жана Лемера де Бельж: поэтика и история
¥
¥
выступает в этой двоякой, «теологической» и «ораторской», ипостаси
поэта, чье творчество поднимает его над государями. Поэтическое из¬
мерение «Прославлений...» позволяет выявить истинного их адреса¬
та — французскую нацию, которой, в отличие от каждой из трех книг,
посвящено произведение в целом. «Сочинения мои достаточно говорят
о том радении, какое всегда выказывал я об общественном благе фран¬
цузской нации»35, пишет Лемер в послании Гийому Кретену, предваря¬
ющем третью книгу, на титульном листе которой он выражает надежду,
что французы заплатят благодарностью за его «бдения и труды». За¬
вершает «Прославления...» обращение автора «к благородным читате¬
лям и слушателям сей книги», и вряд ли случаен тот факт, что Лемер
отдал свою первую книгу в печатню и издал ее за свои деньги, прежде
чем поднести ее Маргарите Австрийской. Если для «великих ритори-
ков», как и для писателей более поздней эпохи, акт поднесения книги
государю-покровителю был призван сообщить ей дополнительную
ценность, возвысить ее в глазах последующих читателей, то автор-Мер-
курий вещает поэтическую истину всей Франции. Именно эта позиция
позволяет ему создать, по его словам, «универсальное творение» (euvre
universelle), прославив как прошлое, так и нынешнее культурное вели¬
чие французов, переживающих «счастливое и благодатное время, <...>
в какое все науки расцвели как никогда прежде»36.
35
36
Lemaire de Beiges J. Op. cit. T. II P. 249. Интересно, что эта забота о национальном
благе декларируется не в посвящениях покровительницам, но в послании к со¬
брату по перу.
Ibid. Т. I. Р. 4.
Sill
Морализованный перевод
и народная традиция в литературе
раннего французского Возрождения:
пример Гийома Тардифа1
Pour sexprimer avec propriete,
on ne devrait pas parler
de la renaissance, mais de vulgarisation.
Paul Villey
Изучение переводческой практики в эпоху «осени Средневе¬
ковья» требует определения культурных координат, обуслов¬
ливавших ее задачи, а значит, и исторический смысл. В зна¬
чительной мере эта система координат нашла отражение в
семантике понятия translation, с помощью которого в средне¬
вековой Франции чаще всего обозначалась деятельность переводчика и
ее результат.
История этого термина, восходящего к позднелатинскому глаголу
translatare (который, начиная с VII в., начал вытеснять классическое
transferre), укладывается в сравнительно строгие хронологические рам¬
ки. Во французский язык оно перешло, по-видимому, в XII в.2, а его
постепенное исчезновение может рассматриваться как формальный
признак отхода от средневековой переводческой традиции. Как пока¬
зал Джанфранко Фолена, уже в начале XV в. итальянские гуманисты
начинают вводить в употребление глагол traducere (впервые этот не¬
ологизм встречается в одном из писем Леонардо Бруни); «к XVI веку
слово translatare и производные от него будут выглядеть безусловным
анахронизмом»3. Во Франции, однако, смена категориального аппа¬
рата произошла примерно на полтора столетия позднее. Если в конце
XIII в. Иоанн Антиохийский, переводя две книги “De inventione” Ци¬
церона и «Риторику к Гереннию» под общим названием “Rettorique de
Marc Tulles Cyceron”, именует в прологе свой труд translacion, а себя
1 Впервые опубликовано в сборнике: Перевод и подражание в литературах Сред¬
них веков и Возрождения / Под общ. ред. А.Д. Михайлова и Л.В. Евдокимовой.
М., 2002. С. 174—239.
2 Buridant CL Translatio medievalis. Theorie et pratique de la traduction medievale //
Travaux de linguistique et de litterature. 1983. T. XXI. № 1. P. 96.
3 Folena G. Volgarizzare e tradurre. Torino, 1991. P. 71.
«^44^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
самого translateor4, то к этому же термину обратится и Пьер Берсюир в
переводе «Декад» Тита Ливия (середина XIV в.)5, и, в начале XV столетия,
Лоран де Премьефе, и, в конце века, такой видный гуманист, как Робер Га-
ген6. Еще в начале XVI в. Клод де Сейсель, говоря о переводах на француз¬
ский язык древних авторов, называет их translations7. Однако уже в 1520 г.
глагол traduire возникает в «Диалоге» Франсуа Дасси8, а в начале 30-х — в
одном из переизданий «Морализованного Овидия»9. В 1540 г. Этьен Доле,
озаглавив свой трактат о переводе “La maniere de bien traduire d une langue
en autre”10, окончательно закрепляет новое его определение, и Клеман Маро
в стихотворном обращении «к читателям французским», открывающем
первое издание перевода «Апофтегм» Эразма (1543), назовет переводчика
gentil traduysant и выстроит вокруг этого слова целую парадигму созвучий11.
«Запоздалое», сравнительно с Италией, распространение нового термина
(иначе говоря, предпочтение, отдаваемое термину средневековому) объяс¬
няется рядом важнейших культурных причин. С конца XIV в. и вплоть до
20-х гг. XVI столетия понятие translation наделялось во французской словес¬
ности (прежде всего гуманистической) особой функцией и смыслом.
Как известно, дебаты первых французских гуманистов с Петраркой во
время его пребывания в Авиньоне послужили катализатором для развития
4 Monfrin J. Humanisme et traductions au Moyen age // L’Humanisme medieval dans
les literatures romanes du XII au XIV siecle. Colloque organise par le Centre de Phi-
lologie et de Literatures romanes de TUniversite de Strasbourg (29 janvier—2 Гёупег
1962). Paris, 1964. P. 224—225.
5 Ibid. P.227.
6 См. об этом, в частности: Collard F. Un historien au travail a la fin du XV siecle:
Robert Gaguin. Geneve, 1996. P. 62—65.
7 Cm.: Seyssel Cl. de. La Monarchic de France et deux autres fragments politiques /
Textes ё1аЬН8 et ргё8еЩё8 par J. Poujol. Paris, 1961.
8 WolfL. Fr. traduire, lat. traducere und die Kulturelle Hegemonie Italiens zur Zeit der
Renaissance // Zeitschrift fur romanische Philologie. 1971. Bd. LXXXVI. S. 103; Buri-
dant Cl. Op. cit. P. 101.
9 Le grand Olympe des histoires poetiques du prince de роёз1е Ovide Naso en sa Me¬
tamorphose... Traduyct de Latin en Francoys. Imprime nouvellement a Lyon, Denys
de Harsy pour Romain Morin, 1532. Cm.: Amielle G. Recherches sur des traductions
franchises des M6tamorphoses d’Ovide illustrees et риЬИёе8 en France a la fin du XV
siecle et au XVI siecle. Paris, 1989. P. 17.
10 См. репринт первого издания трактата, осуществленного в Лионе самим автором:
Etienne Dolet. La maniere de bien traduire dune langue en aultre (1540); Jacques de
Beaune. Discours comme une langue vulgaire se peult perpetuer (1548); 'Theodore de
Beze. De Francicae linguae recta pronuntiatione (1584); Joachim Perion. I.P. Dialogorum
de lingue gallicae origine eiusque cum Graeca cognatione, libri IV (1555). Geneve, 1972.
11 Цит. no: Margolin J.-C. Erasme, son public et sa риЬИскё: A propos de quelques pre¬
faces de ses traductions franchises et italiennes du XVI siecle // L’Ecrivain face a son
public en France et en Italie a la Renaissance. Actes du Colloque International de
Tours (4—6 ОёсетЬге 1986) / Etudes reunies et present6es par Ch.A. Fiorato et J.-C.
Margolin. Paris, 1989. P. 27—28.
^45^
§ III
*
4
национальной историографии, которая, защищаясь от обвинений в «вар¬
варстве», выдвинула в центр своих построений категорию translatio studii. «В
годы, когда итальянский гуманизм, вслед за создателем “Африки”, провозгла¬
шал себя единственным наследником древнего Рима после тысячелетнего
периода забвения, первые французские гуманисты, защищая идею translatio
studii в качестве адептов translatio imperii из Рима в Париж, доказывали, что
они — прямые продолжатели традиции, нашедшей блистательное воплоще¬
ние уже в XII веке»12, т.е. при Карле Великом. Идею translatio studii развивали
Жерсон и Жан де Монтрёй, ей посвятил одну из эклог Никола де Кламанж13;
она не утратит своей актуальности и в эпоху Ренессанса: на нее будет опи¬
раться Симфорьен Шанпье в “Duellum epistolare Galliae et Italiae” (1519), Ан¬
туан Мюре и Петр Рамус, а Дю Белле в «Защите и прославлении француз¬
ского языка» подхватит, в новом контексте, ряд мыслей Жерсона.
Но тем самым translation — т.е. перевод с латыни на французский
язык, — оказывался основной моделью и инструментом «переноса зна¬
ния». Раздвигая границы национальной культуры, он способствовал
ее величию14 и, что особенно важно, играл решающую роль в обогаще¬
нии и развитии национального языка. Впервые этот программный для
французского гуманизма тезис прозвучал в окружении Карла V, кото¬
рый, как известно, сделал перевод классических латинских авторов од¬
ним из стержней своей культурной политики15. Наиболее убедительно
12 Simone Е Une entreprise oubliee des humanistes fran^ais: De la prise de conscience histo-
rique du renouveau culturel a la naissance de la premiere histoire litteraire // Humanism
in France at the Middle Ages and in the early Renaissance / Ed. by A.H.T. Levi. N.Y., 1970.
P. 114. См. также: Simone F. II Rinascimento francese. Studi e ricerche. Torino, 1965.
P. 47—51; Ouy G. La dialectique des rapports intellectuels franco-italiens et Thumanisme
en France aux XIV et XV siecles // Rapporti culturali ed economici fra Italia e Francia nei
secoli dal XIV al XVI. Atti del Colloquio italo-francese (Roma, 18—20 febbraio 1978).
Roma, 1979. P. 145 sqq.; а также библиографию вопроса в статье: Mombello G. Dalla
cattivita avignonese alia calata di Carlo VIII. Le tappe dell’influenza culturale italiana in
Francia. Risultati e prospettive. Ibid. P. 187, note 65. К началу XVI в. средневековая
концепция, согласно которой центр культуры, сместившийся в ходе столетий из
Афин в Рим, к XII в. оказался перенесен в Париж, окончательно утвердилась среди
французских гуманистов — уже как реакция на знаменитые слова Лоренцо Валлы,
что римская империя простирается всюду, где владычествует латынь.
13 См. ее подробный разбор в статье: Ouy G. Op. cit. Р 145—147.
14 Как справедливо замечает Эвенсио Бельтран, «буквально следовать гуманисти¬
ческой пррграмме значило отказаться от своего языка, культурного прошлого,
истории, короче, от национальной идентичности <...>, и подчиниться своего рода
колонизации. Таков, как мне кажется, смысл франко-итальянской полемики во¬
круг translatio stidii и translatio imperii» // Beltran E. L’humanisme fran^ais au temps
de Charles VII et Louis XI // Preludes a la Renaissance. Aspects de la vie intellectuelle en
France au XV siecle / Etudes reunies par C. Bozzolo et E. Ornato. Paris, 1992. P 152.
15 Общую характеристику группы переводчиков, работавших для Карла V, см. в
статье: Mombello G. Op. cit. Р. 167—169.
^46^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
его сформулировал Николь Орем в прологе к переводу «Этики» Ари¬
стотеля (также осуществленному по приказанию короля):
«И конечно, переводить подобные книги на французский язык и излагать
по-французски искусства и науки есть труд весьма полезный, ибо сие [ла¬
тынь — И.С.] есть язык благородный и людям большого ума и доброчестия
присущий. А как говорит Туллий <...>, вещи трудные и весьма серьезные лю¬
дям усладительны и приятны, когда изложены они на родном их языке, и по¬
тому говорит он <...>, возражая мнению некоторых, что перелагать науки с
греческого языка на латынь и излагать их и описывать на латыни есть благо.
Но в тогдашние времена греческий язык был для латыни Римлян то же, что
ныне латынь для французского нашего языка. И школяров в те времена на¬
ставляли в греческом языке и в Риме и в иных местах, и науки обыкновенно
излагались по-гречески, а обычным и естественным языком была в той стра¬
не латынь. И потому вправе я заключить, что похвальный пример дает до¬
брый наш король Карл, когда в своем понятии и рассуждении велит добрые и
замечательные книги перелагать на французский язык»16.
Через полтора столетия, в 1509 г., Клод де Сейсель, посвящая Людо¬
вику XII свой перевод “Epitoma historiarum philippicarum Pompei Trogi”
Марка Юниана Юстина, почти буквально воспроизведет основные эле¬
менты топики translatio, разработанной первым поколением француз¬
ских гуманистов:
«Народ и государи римские, дабы его [латинский язык] пополнить, воз¬
величить и прославить, прежде всего другого попытались переложить и пе¬
ревести на него язык греческий, который был тогда самым богатым, самым
красноречивым, самым совершенным и самым почитаемым среди всех,
<...> по той именно причине, что все Свободные искусства, тайны филосо¬
фов, поэзия, которая есть богословие язычников, и иные вещи, достойные
знания, излагались на языке сем обстоятельнее и красноречивее, нежели
на любом другом. И через великое умение и труд многих замечательных и
достойных римлян сделали они язык латинский почти столь же совершен¬
ным, что и греческий, как указывает сам Цицерон <...>. Также и другим,
более изысканным и хвалы достойным образом ратуете вы [Людовик —
И.С.] за то, чтобы обогатить и прославить язык французский: а именно
16 Цит. по: Berriot F. Langue, nation et pouvoir: les traducteurs du XIV siecle precur-
seurs des humanistes de la Renaissance // Langues et nations au temps de la Renais¬
sance / Sous la direction de M.T. Jones-Davies. Paris, 1991. P. 122. Те же идеи раз¬
вивает Рауль де Прель в предисловии к своему переводу (ок. 1371—1375) «Града
Божьего» св. Августина, Жан Доден, Симон де Эсдин, Жан Корбешон, Кристина
Пизанская и др.
£47^
§ III
*
книги и труды, что написаны и изложены были на языке греческом либо
латинском, в заботах своих повелеваете вы переводить на французский, что
многие предшественники ваши и иные государи крови и расы французской
делать начали...»17
Таким образом, ранний гуманизм во Франции, опираясь на автори¬
тет Цицерона18, противопоставил выдвинутой Петраркой модели ци¬
клического развития культуры модель линеарную, в основе которой
лежало представление о культурной гегемонии того или иного нацио¬
нального языка на различных стадиях исторической эволюции. Подоб¬
но тому как латынь стала «языком знания» благодаря переводам с гре¬
ческого, французский язык, в свою очередь, утверждается в качестве
«языка знания» через переводы с латыни19 (греческий к ней добавится в
самом конце XV в.). Идея «латыни, родного языка римлян» не только в
корне противоречила понятию “latinitas”, которое разрабатывал Петрар¬
ка и, позже, Лоренцо Валла, но и трансформировала само представление
о translatio studii, восходящее ко временам Кретьена де Труа. Гуманисти¬
ческое знание во Франции уже в своих истоках оказалось сопряжено с
представлением о нации и ее «естественном» языке.
Отсюда одна из главных особенностей переводческой практики кон¬
ца XIV—начала XVI в.: ее тесная и непосредственная связь с государ¬
ственной властью, прежде всего, с властью короля («народ и государи»
Сейселя)20. Культурная функция и цель переложения auctores, как она
сформулирована в прологах переводчиков, состояла, прежде всего, в
обосновании интеллектуального превосходства государя, без кото¬
рого невозможно и превосходство политическое — ибо, согласно еще
Иоанну Солсберийскому, «король без знания уподобляется коронован-
17 Цит. по: Longeon С. Premiers combats pour la langue franchise. Paris, 1989. P. 23—27.
Cp. также: Mombello G. Du doute a la conscience du succes: le cas de Claude de Seys-
sel (1504—1514) // Traduction et adaptation en France a la fin du Moyen Age et a la
Renaissance. Actes du Colloque organise par TUniversite de Nancy II, 23—25 mars
1995 / Ed. par Charles Brucker. Paris, 1997. P. 17, note 2.
18 Tusculanae, II, 15, 35; De Natura deorum, I, 4, 8; De Finibus, I, 3,10; III, 15, 51.
19 Возможно, именно в эту эпоху глагол “translater” начинает систематически упо¬
требляться применительно к переводам с латыни на французский язык. Ранее,
например, у Марии Французской, он обозначает перевод с греческого на латынь,
тогда}как переложение с латыни на французский именуется “rommanchier”. См.:
Folena G. Op. cit. Р 14—18.
20 «Читая любой пролог-посвящение к переводу, немедленно замечаешь, что перевод¬
чик ставит свое творение в перспективу передачи или присвоения знания на благо
королевской власти» И Lusignan S. La topique de la Translatio studii et les traductions
franchises de textes savants au XIV siecle // Traductions et traducteurs au Moyen Age.
Actes du colloque international du C.N.R.S. о^атэё a Paris, Institut de recherche et d’his-
toire des textes, les 26—28 mai 1986 / Textes munis par G. Contamine. Paris, 1989. P. 307.
^ 48 ^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
ному ослу»21. Пьер Берсюир переводит «Декады» Тита Ливия для Ио¬
анна Доброго22. Лоран де Премьефе, рассуждая о принципах перевода
в прологе к переработанной версии “De casibus” Боккаччо (1409), хотя
и апеллирует ко «многим мужчинам и женщинам», которым его труд
«доставит усладу»23, тем не менее, посвящает свой труд герцогу Бер-
рийскому, брату Карла V. Примеры подобного рода можно множить
до бесконечности. Николь Орем, превращая латынь из универсально¬
го языка культуры в язык национальный, стремится обосновать «рас¬
пространение французского языка на ту область знания, которая на¬
ходится в ведении короля Франции»24; он «ясно определяет читателей
своих переводов моральных сочинений Аристотеля: это государь и его
советники»25. Перевод в XIV в. — одна из центральных форм взаимо¬
действия «интеллектуальной элиты» и власти: он неизменно предназна¬
чается если не королю, то его ближайшему окружению, и предполагает
вознаграждение со стороны адресата. Эта неразрывная связь перевод¬
чика и двора начнет модифицироваться во Франции только к концу XV
в., когда между ними возникнет мощный культурный посредник, обла¬
дающий собственными интересами и целями — типограф и либрарий.
Исполняя волю высокого заказчика и покровителя, переводчик обо¬
гащает сферу «королевского знания» еще одним полезным сочинени¬
ем — мотив, присутствующий в подавляющем большинстве прологов26.
Применительно к текстам литературным это означает, что данное про¬
изведение может быть отнесено к «моральной философии» — второй
(после Священного Писания) по значению из четырех категорий зна¬
ния, выделенных Сейселем в предисловии к Юстину27.
21 С. Лузиньян, анализируя переводческие прологи конца XIV века, отмечает боль¬
шую популярность этой максимы (Lusignan S. Op. cit. Р. 306). О том же мотиве
у Лорана де Премьефе см.: Bozzolo С. La conception du pouvoir chez Laurent de
Premierfait. Ibid. P. 193.
22 Monfrin J. Humanisme et traductions au Moyen age. P. 228.
23 Цит. no: Chavy P. Traducteurs d’autrefois, Moyen Age et Renaissance. Dictionnaire des
traducteurs et de la literature traduite en ancien et moyen fran<;ais, 842—1600. Paris;
Geneve, 1988. T. 2. P. 1161.
24 Lusignan S. Le latin ё1ак la langue maternelle des Romains: la fortune d’un argument
a la fin du Moyen Age // Preludes a la Renaissance. P. 281.
25 Sherman C.R. Les themes humanistes dans le programme de traduction de Charles V:
compilation des textes et illustrations // Pratiques de la culture ёсгке en France au XV
siecle. Actes du Colloque international du C.N.R.S. (Paris, 16—18 mai 1992) organise en
Thonneur de Gilbert Ouy / Ed. par M. Ornato et N. Pons. Louvain-la-Neuve, 1995. P. 531.
26 Cp.: «Следование букве [образца] допускает включение в него моральных рас-
суждений, служащих основанием оригинала и соответствующих его глубинным
целям...» // Buridant Cl Op. cit. P. 116.
27 Две другие сферы знания — Медицина и История. См. об этом, в частности:
Chavy R Domaines et fonctions des traductions franchises a l’aube de la Renaissance
^49^
§111
4
Этот важнейший аспект переводческой деятельности отсылает, одна¬
ко, не только к социокультурному статусу перевода в конце Средневеко¬
вья, но и к еще одному значению понятия “translatio” — грамматико-рито¬
рическому. Как блестяще показал Э. Кампань28, это понятие неразрывно
связано с понятием “fabula”, которому уделялось значительное место в
риторике, начиная с Квинтилиана и кончая трактатами по французской
риторике конца XVI века. Translatio, согласно «Риторике к Гереннию»,
Квинтилиану и Марциану Капелле, есть поэтическая аллегория. Именно
поэтому «Метаморфозы» Овидия, «Библия поэтов», как назвал их зна¬
менитый либрарий Антуан Верар, стали излюбленным объектом «мо-
рализованных» переводов-интерпретаций, где удовольствие (delectatio),
доставляемое фабулой, сочетается с заложенным в ней аллегорическим
смыслом и нравственным уроком. «Басня» принадлежит к числу «укра¬
шений» текста, она сближается с метафорой и метонимией. «...Связь
между комментарием и переводом весьма глубока. <...> Язык тропов, к
которому прибегают поэты, также относится к области translatio; об этом
напоминает Антуан Фуклен, когда пишет, что метонимия есть “почти
перевод и переложение слова”, или же что метафора есть фигура, “кото¬
рую можем мы по-французски назвать translation”». Так же обстоит дело
и у Пелетье, для которого «Метафоры и Аллегории <.. .> могут равно раз¬
уметься под словом Translation». Язык комментатора и язык переводчика
имеют общую природу, ибо с помощью аллегорической экзегезы также
осуществляется «перенос смысла»29. Перевод как риторический термин и
уже, и шире понятия перевода на другой национальный язык. Именно в
таком значении употребляет глагол «translates Жан Молине, приступая к
прозаическому морализованному переложению «Романа о Розе»: “Су est
le Rommant de la Rose / moralise cler et net / translate de ryme en prose / par
vostre humbleMolinet” [выделено нами — КС.].
Таким образом, как социальный и культурный статус средневеково¬
го переводчика, так и историческая семантика понятия translation об¬
условливали понимание перевода как истолкования текста, извлечения
его скрытого смысла. В первую очередь это относится к произведениям
вымышленным — к «басням поэтов», по определению Боккаччо.
* * *
Это по необходимости краткое теоретическое вступление позволяет по¬
нять, н& какие принципы опирался в своей переводческой практике Гий¬
ом Тардиф — один из ведущих и «безусловно, самый заброшенный как
// Revue de litterature сотрагёе. 1989. № 2 (№ special: “Le texte etranger. Loeuvre
litteraire en traduction”). P. 148—150.
28 Campagne H.T. Mythologie et rhetorique aux XV et XVI siecles. Paris, 1992.
29 Ibid. P. 76-77.
^50^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
прежней, так и нынешней наукой французский гуманист XV века»30. «За¬
брошенность» эта тем более необъяснима, что в деятельности Тардифа
сходятся воедино едва ли не все культурные факторы, определявшие осо¬
бенности перевода на французский язык в эпоху позднего Средневековья.
Наиболее полные сведения об этом историческом персонаже содер¬
жатся в процитированной выше статье Э. Бельтрана. Практически все
они почерпнуты из предисловий и посвящений самого Тардифа и из не¬
многочисленных свидетельств его друзей и учеников: в архивных мате¬
риалах эпохи почти никаких данных о нем не сохранилось31. Неизвест¬
на даже точная дата его рождения — Бельтран, уточняя общепринятую
датировку (ок. 1440 г.), предлагает отнести ее приблизительно к 1436 г.,
поскольку в 1456 г. Тардиф был уже бакалавром искусств. Достоверно
известно лишь место его рождения — Пюи-ан-Веле (деп. Верхняя Луа¬
ра): в своих латинских сочинениях он обычно именует себя “Guillermus
Tardivus Aniciensis”, по названию горы Анис, находящейся в центре го¬
родка. Другом его молодости был флорентийский гуманист-эмигрант
Франческо Флорио32, который в 1467 г. посвятил ему свою «Историю
любви Камилла и Амелии», опубликованную ок. 1473 г.33 В посвящении
Флорио именует Тардифа «в разного рода науках <...> ученейшим (in
omne genere scientiarum <...> perdoctum)» и, кроме того, весьма искушен¬
ным не только в риторике, но и «в ристалищах Венериных и Марсовых
30 Beltran Е. L’humaniste Guillaume Tardif // Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance.
1986. T. XLVIII. № 1. P. 7. Действительно, биография и творчество Тардифа из¬
учены явно недостаточно: библиография работ, ему посвященных, насчитывает
не более десятка названий.
31 Впрочем, есть основания надеяться на будущие находки: так, Э. Бельтран иден¬
тифицировал один из сохранившихся манускриптов «Грамматики» Тардифа как
автограф гуманиста. Пользуюсь случаем выразить глубокую признательность
г-ну Бельтрану за его ценные советы и за возможность ознакомиться с его ста¬
тьей в рукописи.
32 См. о нем: Beltran Е. Un discours inconnu de Francesco Florio sur la Rhetorique //
Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance. 1988. Vol. 50. P. 101—109.
33 Francisci Florii Historia de amore Camilli et Ameliae. Accedit liber de duobus aman-
tibus Tancredo et Sigismunda ex Boccaccio in latinum per Leonardum Brunum Are-
tinum transfiguratus. Parisiis, Petrus Cesaris et Johannes Stol, ca. 1473—75. [B.N. Res.
Y2. 994; Rёs. Y2 530]. Таким образом, этот «эротический роман», по единодуш¬
ному определению ученых, в действительности представляет собой вольную пе¬
реработку знаменитой новеллы Боккаччо («Декамерон», IV, 1), которая, в свою
очередь, была переведена на латынь Леонардо Бруни (De duobus amantibus Gi-
rardo [sic!] et Sigismunda, 1438). Французская — стихотворная — версия этого
последнего текста, принадлежащая перу Жана Флёри (Leonardi aretini de crudeli
amoris exitu guiscardi et sigismunde tancredi solernitancium principis filie. Johannis
floridi translatio in vulgari. Traicte tresplaisant et recreatif de lamour parfaicte de guis-
gardus et sigismunde filie de tancredus prince des solernitiens. B.N. Res. Ye. 39; Res.
Ye. 40), была издана в 1493 г. Антуаном Вераром.
^51^
. ни ,
^^
(In Veneris Martisque palestra <...> te exercitatum et in rhetorica facilitate
peritissimum esse)»34. На протяжении почти 20 лет Тардиф преподавал в
Париже риторику; среди его учеников был Иоганн Рейхлин35. Большин¬
ство ученых, вслед за Ш. Роше36, полагают, что он был профессором На¬
варрского коллежа, однако документальные свидетельства его принад¬
лежности к знаменитой «кузнице гуманистов» не вполне убедительны.
Современники именовали его теологом: возможно, он был рукоположен
в священники (сам он упоминает несколько написанных им проповедей,
которые, по-видимому, до нас не дошли); весьма вероятно также, что он
слушал курс на факультете права37. Дата его кончины также неизвестна;
Э. Бельтран с большой степенью достоверности относит ее к 1495 г.
В январе 1470 г. Тардиф выпускает свое первое гуманистическое со¬
чинение (и одновременно первый собственно гуманистический трактат,
принадлежащий перу француза38) — грамматику (“Grammatice basis”), ко¬
торая была опубликована спустя два года в Страсбурге39 и ок. 1475 г. пере¬
издана в Париже под названием “Compendiosissima grammatica”. В том же
году вышли в свет сразу два издания его «Риторики» (“Guillermi Tardivi
aniciensis Rhetorica” и “Rhetorice Artis ас Oratorie facultatis Compendium”);
впоследствии оба трактата не раз публиковались вместе, а ок. 1478 г. к
34 Выполняя просьбу Флорио, Тардиф выправил его латинский текст, однако со¬
хранившиеся письма к нему флорентийца, судя по всему, остались без ответа.
См: Beltran Е. L’humaniste Guillaume Tardif. Р. 8. Исс/1едователь предполагает, что
Тардиф стремился избавиться от любых напоминаний о своей «сумасбродной
молодости» и от товарища по былым безумствам, который продолжал вести
весьма рассеянную жизнь. Впрочем, фрагмент посвящения, призванный под¬
твердить эту точку зрения (“...scias profecto tecum mihi furere dulce esse ac de-
bachari”), может быть истолкован и как риторическая условность, продиктован¬
ная тематикой самого сочинения.
35 Письмо Рейхлина, где он упоминает Тардифа и Гагена как своих учителей см. в ст.:
Simone Е Robert Gaguin ed il suo cenacolo umanistico // Aevum. 1939. T. XIII. P. 411;
а также: Beltran E. L’humaniste Guillaume Tardif. P. 9, note 11, и Charrier S. Recherches
sur loeuvre latine en prose de Robert Gaguin (1433—1501). Paris, 1996. P. 23.
36 Rocher Ch. Introduction // Les Apologues de Laurent Valla, translates du latin en fran¬
cos et suivis des ditz moraulx par Guillaume Tardif du Puy-en-Velay, professeur au
College de Navarre, Maistre-liseur du Roy Charles huitiesme de nom. D’apres lexem-
plaire sur velin de la Bibliotheque Nationale. Le Puy; Paris, 1877.
37 Весьма сведущий в вопросах канонического и гражданского права, он в 1472 г.
стремится ио/1 учить при этом факультете ученую степень; туда же он обращает¬
ся в 1486 it, ища юридической защиты от нападок Джеромо Бальби (см.: Beltran
Е. L’humaniste Guillaume Tardif. Р. 10—11).
38 Beltran Е. L’humaniste Guillaume Tardif. P. 11. «Грамматика» (точная дата ее завер¬
шения указана в колофоне первого издания) на полтора года опередила знаме¬
нитую «Риторику» Гийома Фише.
39 Э. Бельтран, вслед за А. Клоденом (Claudin A. Histoire de Timprimerie en France
aux XV et XVI siecles. 1900. Vol. 1. P. 151—158), не исключает возможности того,
что инициатором данного издания мог быть Иоганн Рейхлин.
^52^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
ним добавилась третья часть — “Elegantiae” (авторитет Лоренцо Валлы в
области риторики был для Тардифа, как и для большинства гуманистов
эпохи, непререкаемым40). Все три части вошли в “Compendium eloquentie”,
который пользовался огромным успехом и выдержал в 1480-х гг. — под
различными названиями41 — семь переизданий.
Деятельность Тардифа-гуманиста непосредственно связана со станов¬
лением национального книгопечатания. В 1470-х гг. он активно сотруд¬
ничает с одной из первых во Франции (и первой, основанной собственно
французами) типографий, обосновавшейся в Париже на улице Сен-Жак
под вывеской “Au Soufflet Vert”. Издания, осуществленные печатниками
Гаспаром, Рюссанжисом и Симонелем (к сожалению, до сих пор недо¬
статочно изученные42), восхищали современников качеством подготов¬
ки. Тардиф исполнял при типографии обязанности корректора43. Кроме
того, именно здесь он напечатал «Грамматику» и «Риторику», а позже
выпустил подготовленные им издания Солина44 и, по-видимому, Веге-
ция. До 1481 г. там же был опубликован его первый ответ на нападки Дж.
Бальби (см. ниже, сн. 53) — “Responsio ас defensio in invidiosam falsamque
detractationem”. Кроме того, как обоснованно предполагает Э. Бельтран,
Тардиф мог подготовить к изданию риторический трактат гуманиста се¬
редины XV века Пьера де Ла Азардьера “Summa de Arte dicendi”, который
вышел под маркой Au Soufflet Vert ок.1474—1475 гг.45
40 Слава Валлы во Франции была такова, что к концу XV в. его стали считать родо¬
начальником изучения классических авторов: именно так именует его Бадий в
предисловии к своему изданию “Elegantiae” (1501). См.: Simone Е II Rinascimento
francese. R 67.
41 Список изданий Тардифа (с указанием сохранившихся экземпляров) см. в пре¬
дисловии к кн.: Ruelle Р. Les “Apologues” de Guillaume Tardif et les “Facetiae mo¬
rales” de Laurent Valla. Geneve; Paris, 1986. P. 17—27.
42 Насколько нам известно, единственным исследованием, посвященным этой ти¬
пографии, продолжает оставаться глава в капитальном труде А. Клодена: Clau-
din A. Op. cit. Т. I. Р 151—170. Обстоятельное изучение продукции “Au Soufflet
Vert” тем более необходимо, что во многих случаях ее шрифты практически не¬
отличимы от тех, что использовались в другой ранней парижской печатне — у
Петра Цезарея и Иоганна Штоля.
43 Культурные функции и значение этой ключевой для раннего книгоиздания фи¬
гуры в последнее время все больше привлекают внимание исследователей. См.,
в частности: Chartier R. Histoire et litterature // Idem. Au bord de la falaise. L’histoire
entre certitudes et inquietude. Paris, 1998. P. 278—279 [рус. пер.: Шартъе P. История
и литература // Одиссей. Человек в истории. 2001. М., 2001. С. 169—170.]
44 Caii iulii solini ad adventum polihistor sive de situ orbis ac mundi mirabilibus liber.
Paris, Au Soufflet Vert, s.d. [vers 1475]. B.N. Res. G. 1027.
45 Под заглавием “Nova rhetorica magistri Petri de La Hazardiere” Cm.: Nouveaux
textes i^dits d’humanistes fran<;ais du milieu du XV siecle: Pierre de La Hazardiere,
Jean Serra, Jean JoufFroy, Guillaume Fillastre et Antoine de Neufchatel / Ed., introd.,
notes et index par E. Beltran. Paris; Geneve, 1992. P 11 — 12.
^53^
§ш
*
Заслуги Тардифа-корректора были прославлены в двух любопытных
стихотворениях, предваряющих издания его «Грамматики» и «Полиги-
стора» Солина и воспроизведенных (с незначительными изменениями)
в конце его «Риторики»46:
Lodoicus xantonensis episcopus
Guillermo tardivo aniciensi;
Lauda et mirare hec impressa volumina lector!
Scripta quibus cedit pagina queque manu.
Venduntur parvo. Nec punctum aut littera defit.
Vera recognoscit tardivus. Ecce, lege.
(«Воздай славу и восхищение сим печатным томам, читатель! Лист, от руки
писанный, им уступает. Цена их невелика. На месте все точки и буквы. Пра¬
вильность [текста] удостоверяет Тардиф. Они пред тобою, читай же»).
Simon recomadoris angeriacus lodoici
xantonensis episcopi secretarius Guil=
lermo tardivo aniciensi;
Arte nova pressos si cernis mente libellos!
Ingenium totiens exuperabit opus.
Nullus adhuc potuit huius contingere summum.
Ars modo plura nequit. Ars dedit omne suum.
Ni vim quis faciat nullo delebitur evo!
Que nitet incausto littera pulchra nimis.
Vivant autores operis feliciter isti.
Gaspar, Russangis, Tardive vive magis.
(«Когда обратишься ты мыслью к книгам этим, произведению нового ис¬
кусства, то, как сделаны они, заставит забыть гений [автора]. Никто еще не
сумел достичь подобного совершенства. Искусство не может сделать боль¬
шего; искусство отдало все, что способно отдать. Если не уничтожить их,
они пройдут через века со своими прекрасными литерами и красивыми
чернилами. Живите же счастливо, авторы подобного труда! Гаспар и Рюс-
санжис; ты же, Тардиф, живи еще счастливей!»).
)
46 Gvillermi Tardivi Aniciensis rhetorice artis ас oratorie facultatis compendium. Paris,
Au Soufflet Vert, [vers 1475]. B.N. Res. X. 1118. Согласно А. Клодену, они «сдела¬
лись в своем роде классическим обозначением хорошего издания. В дальнейшем
они не раз повторялись у различных печатников, которые присваивали их, опу¬
ская две последние строки и без указания имени автора» // Claudin A. Op. cit.
Р. 155.
^54^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
Автор первого стихотворения, Луи де Рошешуар (ок. 1433/34—
ок. 1495/96), епископ Сента, был одним из образованнейших людей
XV столетия47. Его независимый образ мыслей и знания высоко це¬
нил Гаген, которому де Рошешуар и его секретарь Симон Рокамадур,
автор второго текста, также посвятили восторженные стихи в связи с
его трактатом о стихосложении48. Как явствует из стихотворений, оба
видят в Тардифе, прежде всего, «автора» правильного текста: благода¬
ря ему читатель получает книгу, исключающую ошибочное прочтение
и истолкование. Поэтому «правильность» печатной книги оказывает¬
ся даже более важной, чем ее содержание: качество подготовки текста
«заставляет забыть гений» не только античного автора (Солина), но и
самого гуманиста, когда он печатает собственные трактаты. В стихот¬
ворениях с предельной, доходящей до парадокса ясностью сформули¬
рована первопричина восторженного интереса гуманистов к искусству
типографии: возможность распространять в необходимых количествах
аутентичное знание. Сам Тардиф, впоследствии разочаровавшийся
в возможностях печатников, которые, по его мнению, способны иска¬
зить текст не хуже копиистов49, придает «правильности» своих творе¬
ний особое значение. Он собственноручно переписывает экземпляр
«Грамматики» для поднесения своему ученику Шарлю Марьетту, крест¬
47 В Сенте де Рошешуар собрал обширную по тем временам библиотеку — более
200 томов; именно ему посвятил Филиппо Бероальдо свою “Oratio de laudibus
Gymnasii Parisiensis”. Биография епископа полна драматизма. Согласно С. Шар-
рье, он вступил в конфликт с королевской властью, отстаивая права папского
престола (Charrier S. Op. cit. Р. 37—38). Согласно А. Клодену, он на протяжении
25 лет тягался в Парламенте со своим капитулом, отстранившим его от должно¬
сти, и тщетно пытался привлечь на свою сторону Рим (Claudin A. Op. cit. Р. 154).
Так или иначе, но в 1471 г. его заключает под стражу герцог Гиеньский, к кото¬
рому он обращается за поддержкой, а в 1479 г., после окончательного вердик¬
та Парламента, он на три года оказывается узником Консьержери, откуда его,
больного, вызволяют родные. Сближение Рошешуара с парижскими издателями
приходится на период 1473—1475 гг.
48 Lodoici xantoniensi Episcopi Epigramma in Roberti gaguini ordinis sancte trinitatis et
captivorum generalis precepta [Ars versificatoria Roberti Gaguini. B.N. Res. m. Yc 364,
f. aij]; за эпиграммой Рошешуара (как и в изданиях Тардифа), следует эпиграмма
Симона Рокамадура: Simonis recomadoris Angeriaci in libros eiusdem Gaguini de
arte versificandi: Epigramma, которую предваряет его же прозаическое послание
своему «наставнику и учите/но»: Simonis recomadoris Angeriacus Lodoici xan-
tonensis episcopi secretarii suo preceptori et magistro Roberto Gaguino ordinis sancte
trinitatis et captivorum generali: S.P. [Ibid. f. aij v° — aiij].
49 Cm: Beltran E. L’humaniste Guillaume Tardif. Appendice. P. 36. Следует в скобках
отметить, что, вопреки утверждению Ф. Симоне (Simone Е Robert Gaguin ed il
suo cenacolo umanistico. P. 444), нам не удалось обнаружить у Тардифа «стихов,
полных восхищения перед новым искусством типографии»; скорее всего, уче¬
ный имел в виду именно стихотворения Рошешуара и Рокамадура.
^55^
§ III
*
4
нику Карла Гиеньского (брата Людовика XI)50, а также выступает сво¬
его рода «Петраркой от типографии», тщательно готовя к печати свои
труды. В прологе к «Компендиуму» он утверждает, что, следуя примеру
древних, от Гиппократа и Цицерона до св. Августина, выверил в своей
печатной книге «название, главы, правописание, знаки препинания, за¬
главные и строчные буквы, параграфы»51. «Правильный текст», в пони¬
мании гуманиста, является залогом его верности auctores, а тем самым
и высшей формой его собственного авторства. Позже это обостренное
авторское самосознание Тардифа найдет воплощение и в его переводах.
Ровесник Гийома Фише и Робера Гагена, Тардиф принадлежал ко вто¬
рому поколению французских гуманистов, которое развернуло свою дея¬
тельность после окончания Столетней войны, нанесшей сокрушительный
удар по поколению Жана де Монтрёя и Николя Орема. Франко Симоне
в своей известной статье52 рассматривает Гагена, Фише и Тардифа как
членов единого «гуманистического сенакля»; в реальности, однако, от¬
ношения между ними были далеко не простыми. Дружба, связывавшая
Фише и Гагена, общеизвестна — однако ни тот ни другой ни разу (случай
в гуманистической среде редкий) не обменялись посланиями с Тардифом.
Наоборот, его имя как будто старательно замалчивается. В обширном и
многообразном творчестве Гагена оно упомянуто лишь однажды, в дис¬
тихах «Хулителям Гийома Тардифа» (“Ad obtrectatoris vulhermi tardiui”),
написанных по случаю громкой, почти скандальной ссоры Тардифа с ита¬
льянским гуманистом Бальби53, в которую его призывали вмешаться как
50 Beltran Е. Un manuscrit autographe de la Grammatice basis de Guillaume Tardif //
Bibliotheque d’humanisme et Renaissance. 1999. Vol. 61 (2). R 495—508.
51 Цит. no: Beltran E. L’humaniste Guillaume Tardif, Appendice. P. 36—37.
52 Simone E. Op. cit.
53 Изложение обстоятельств ссоры см.: Beltran Е. L’humaniste Guillaume Tardif.
P. 12—15. Начало ей было положено еще до 30 августа 1483 г., т.е. до опублико¬
вания “Compendium eloquentie”. Бальби, стремившийся снискать славу в Пари¬
же и видевший во французском создателе «Грамматики» и «Риторики» главного
своего соперника, начал выступать с оскорбительными речами и писаниями в
его адрес. Защищаясь, Тардиф публикует “Responsio ас defensio in invidiosam fal-
samque detractionem”. Несмотря на внешние признаки примирения, итальянец
не прекращает нападок и ок. 1484—1485 гг. пишет знаменитую эпиграмму “Ad
Lentum”. После очередного ложного раскаяния Бальби раздраженный Тардиф
пишет “Antibalbica in Gerronymum barbarum doctorum famosum Tardivi Anicien-
sis detractprem responsio”, где подвергает все известные ему сочинения Бальби
уничтожающей критике и обвиняет их автора во всех смертных грехах. 14 марта
1486 г. Бальби обращается на факультет права с прошением запретить «Грам¬
матику» Тардифа как бесполезную; одновременно он стремится уязвить про¬
тивника в диалоге “Rhetor gloriosus”. Гуманисты из круга Гагена начинают отво¬
рачиваться от итальянца, и Тардиф, уверенный в поддержке, пишет последний
вариант “Antibalbica”, где излагает ход спора и выносит суровый приговор как
познаниям Бальби в латыни, так и его поведению. Последний же, обратив свою
^56^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
декана факультета права. Стихи эти, напечатанные в приложении к «Ис¬
кусству стихосложения», насколько нам известно, никогда полностью не
воспроизводились ни в критических изданиях сочинений Гагена, ни в ис¬
следованиях о нем54. Перечислив (не без сочувствия) устами противников
Тардифа выдвигаемые против него обвинения — высокомерие, нетерпи¬
мость, желание прослыть единственным знатоком красноречия, в кото¬
ром «спесивец» доходит до нападок на древних и даже на Цицерона, — Га-
ген призывает участников баталии покончить дело миром.
Глава ордена тринитариев подчеркнуто отстраняется от распри, не
желая взять под защиту своего соотечественника и собрата по studia
humanitatis. Вероятно, не в последнюю очередь это объясняется верно¬
стью памяти Фише, заставлявшей (отчасти справедливо) видеть в де¬
ятельности Тардифа попытку затмить славу человека, «привнесшего
светоч красноречия во мрак языка французского»55. Безусловно, Гагену
ненависть на двух конкурентов-соотечественников, Корнелио Вителли и Фаусто
Андрелини, недавно появившихся в Париже, в конечном счете вынужден был
поспешно покинуть французскую столицу (1491). Андрелини посвятил этому
событию стихотворение “Fuga Balbi”.
54 Hactenus est lusum: linguas frenate iocantes
Carta nec a valuis pendeat ulla meis.
Non locus his rixas: sed sancta silentia poscit.
Et que animum curant sobria verba dei.
Qui vos sevus agit torquens discordia livor?
Tanti ne est merces vocis iniquiloque?
Disciplinum decuit monitus audire iubentis:
Dum parce / & vere pulpita rhetor agit.
Ast sibi Tardivus nimis arrogat. Execreat omnis
Rhetores: & se fert vaniter ad superos.
Vox nulli recta est. Solus precepta loquendi
Callet. Agit causas. Urget. Inescat. Ovat.
Unius in lingua vicio sine / fluminis instar
Decurrit sermo / purus / amenus /
Astrinxit paucis annosa volumina cartis
Que faciant quinto rhetora quemque die.
Et damnat priscos: & marcum rabula carpit.
Non fero iactantis tarn pudibunda viri.
Esto. Fuit michi semper fandi censoribus hie mos.
Da veniam. Laudis ossibut heret amor.
Audi. Disce. Fave: dat vires plausus eunti.
Laxat aquas nubes excita flaminibus.
Цит. no: Ars versificatoria Roberti Gaguini. Parisiis, A. Bocard, s.d. [B.N. Res. m. Yc.
364. Carmina diversa. Sine pag.] Нападки абстрактных «противников» в изложении
Гагена в точности повторяют слова Бальби из его эпиграммы ‘Ad Lentum” (Omnia
solus habes, tu grammata solus et artem / Rhetoricam, solus verba latina tenes, / Et
solus noscis dubiosa enigmata Persii, etc.). Краткую характеристику стихотворения
Гагена дает С. Шаррье в своем исследовании о его прозе (Charrier S. Op. cit. Р. 65).
55 Charrier S. Op. cit. P. 119—120.
^57^
§ III
4
претил ожесточенный тон полемики, в ходе которой стороны не стес¬
нялись в выражениях (точно так же отнесся к ней и Эразм, назвавший
всех ее участников безумцами56): впоследствии он признавался, что ссо¬
ра гуманистов едва не отвратила его от занятий риторикой и от книго¬
печатания57. Характерен, однако, тот факт, что сам Тардиф и ряд его сто¬
ронников воспринимали нападки Бальби как очередное посягательство
«итальянской школы» на достижения «школы галльской», а последу¬
ющее изгнание противника из Франции — как торжество последней58.
В то время как Гаген и Эразм мыслят себя гражданами единой наднаци¬
ональной «республики гуманистов», Тардиф (по крайней мере импли¬
цитно) защищает достоинство французской культуры, подхватывая тем
самым традицию, заложенную придворными гуманистами конца XIV в.
Это сближение исторических позиций было обусловлено, помимо
прочего, еще одним важным обстоятельством (которое, на наш взгляд,
могло сыграть решающую роль в отношениях Тардифа и Гагена). В сущ¬
ности, рядовая гуманистическая контроверза59 приобретала для совре¬
менников особое звучание, поскольку Бальби нападал не только на гу¬
маниста, дерзнувшего соперничать с соотечественниками Валлы, но и
на придворного Карла VIII — «чтеца Короля»60.
56 Beltran Е. L’humaniste Guillaume Tardif. Р. 15, note 31.
57 «...Распрощался я с Музами и едва не питаю ненависти к обретению красно¬
речия: не оттого, что говорить правильно недостойно, но оттого, что любители
сих искусств в нынешние времена любят более всего <...> злословие; равно и
удобство, каковое, каза/юсь, доставляло книгопечатание людям ученым, оказа¬
лось в злом умышлении многих, каковые стремятся направить его всецело на
уничижение ближнего; всяк притязает возвыситься, понося другого, и почитает
себя слабее, коли вдруг заметит, что иной более него преуспел в избранной на¬
уке. <...> Гнев воспламеняется до такой степени, что иные учители словесности
не брезгуют языком, какой нельзя без стыда слышать из уст публичной девки.
Того более: даже и те, кто пребывает в поисках славы ораторской, выдают стра¬
сти свои в эпиграммах» // Charrier S. Op. cit. Р. 136—137.
58 Beltran Е. L’humaniste Guillaume Tardif. P. 15, note 32.
59 Достаточно вспомнить знаменитую полемику между Валлой и Поджо; на эту
«модель поведения» Тардиф, возможно, и ориентировался в ходе своих дебатов
с Бальби.
60 В письме, адресованном канцлеру Гийому де Рошфору из Болоньи, Гаген сдержан¬
но признается в своем давнем и, как он уточняет, избытом желании быть при¬
ближенным ко двору. Письмо датировано 1486 г.: таким образом, менее года на¬
зад Гагер завершил и поднес королю выполненный, видимо, по его заказу перевод
«Записок о галльской войне» Цезаря. Казалось бы, мечты его близки к осущест-
в/юнию, однако удовлетворения Гаген не испытывает: «Трудно мне удержаться
от смеха, и все же я ропщу на Фортуну. Меня, стоящего на пороге старости, вы¬
нуждают быть придворным; оторванный от покоя религии, я призван к делам пу¬
бличным — я, которому ничья милость не позволила получить доступ ко двору,
когда я был во цвете лет и жаждал славы. <...> Такова, бесспорно, природа Двора:
можно отличиться в рвении, но если не иметь поддержки тех богов земных, ре¬
£58^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе..^
Тардиф оказался приближен к королевскому двору, возможно, уже
ок. 1470 г.61 В 1476 г. он становится наставником дофина, будущего Кар¬
ла VIII, и 30 августа 1483 г., в день его восшествия на престол, подно¬
сит своему королю только что изданное «Наставление в красноречии»;
тогда же он получает почетную должность “liseur du Roy”62. С этого мо¬
мента характер его творчества кардинальным образом меняется. Если
наставник дофина, всецело преданный studia humanitatis, посвящает
державному питомцу латинский риторический трактат, то королевский
чтец видит поле своей деятельности почти исключительно в переводе
(translation). Решение новых культурных задач потребовало и иного из¬
дателя. Сочинения Тардифа-придворного выпускал в свет либрарий-
печатник Антуан Верар, практически не издававший латинских книг и
прославившийся великолепными подносными экземплярами, которые
он изготавливал для коронованных особ63.
* * *
В посвящении «христианнейшему Королю Карлу, восьмому по имени
сему», которое предпослано переводу «Апологов» Лоренцо Валлы (ок.
1493 г.), Тардиф перечисляет сочинения, созданные им для государя:
шения коих направляют ход царств, остается лишь уповать на лучшее и чахнуть в
трудах. Заранее предвижу, что за труды мои не воздастся мне ни советами друзей,
ни милостью государя. <...> Не останется никакой надежды на вознаграждение
друзьям словесности, коли лишишь ты их своей поддержки» // Charrier S. Op. cit.
Р. 368—369. В другом письме тому же адресату, негодуя на «нравы нынешнего дво¬
ра», он восклицает: «Пусть другие будут придворными, кто дружен с Фортуной.
С меня довольно забот по управлению моим орденом» // Ibid. Р. 370—371. Рито¬
рика «гуманистического уединения», восходящая к Петрарке, не заслоняет явной
досады автора письма. Несмотря на отсутствие прямых аллюзий, можно с боль¬
шой долей достоверности предположить, что Гаген имплицитно противопостав¬
ляет свою университетскую и церковную карьеру придворной «славе» Тардифа.
Косвенным тому подтверждением служит и тот факт, что именно в 1486 г. он «по
долгу службы» должен был вмешаться в тяжбу Тардифа с Бальби.
61 Э. Бельтран, вслед за А. Клоденом, полагает, что он был воспитателем Карла,
герцога Гиеньского (Claudin A. Op. cit. Т. I. Р. 377—378; Beltran Е. L’humaniste Guil¬
laume Tardif. Р. 11); напротив, П. Рюэль (Ruelle R Op. cit. Р. 12), ссылаясь на ста¬
тью Антуана Тома Clhomas A. ^education de Charles de France, due de Guyenne //
Annales du Midi. 1922. Vol. XXXV. № 133—134. P. 262—269), утверждает, что Тар¬
диф лишь надеялся приобрести покровительство Карла через его родственника
и своего ученика Шарля Марьетта.
62 Beltran Е. L’humaniste Guillaume Tardif. Р. 11.
63 Поэкземплярный список книг, поднесенных Антуаном Вераром своим высоким
покровителям см. в замечательном исследовании М.Б. Уинн: Winn М.В. Anthoine
Verard, parisian Publisher (1485—1512): Prologues, Poems and Presentations. Geneve,
1997 (Travaux d’Humanisme et Renaissance. № CCCXIII). Appendix III. P. 474—481.
Об издательской деятельности Bepapa см. также: Macfarlane /. Antoine Verard.
London, 1900 (гёё&: Geneve, 1971).
^59^
«С самой той норы, Сир, природный мой повелитель и единственный
сеньор, когда Господь даровал вам имя христианнейшего короля Фран¬
ции, я, ваш нижайший и покорнейший слуга, посвятил вам малый мой
ум и знание. И принимая в разумение, что Вегеций в своем Прологе к Ис¬
кусству военному пишет, что никто лучше Государя не должен ведать дела
государственные (chose publicque), я, по примеру оному, составил во имя
ваше книгу, называемую “Наставление в Грамматике, Изящной речи и Ри¬
торике”, каковая начинается с алфавита и далее все в легком порядке из¬
лагает. По велению вашему тоже и все, что сумел я найти необходимого и
верного об Искусстве соколиной и псовой охоты, описал я вам в малень¬
кой книжке; и, дабы ваше королевское величество среди великих его дея¬
ний развлечь, перевел как мог более пристойно Фацеции Поджо. И, радея
не только о телесном вашем достойном удовольствии, но также и о благе
души вашей, составил я для вас и в порядке расположил маленький томик
Часослов, в коем содержится для вас на всякий день года, но порядку, как
можете вы Богу и Святым обоего пола благочестиво служить, и в коем осо¬
бливо имеются весьма краткие и благочестивые проповеди, какие с/южил я
для вас, дабы, отходя ко сну и восстав от сна, сказывать Богоматери, двум
сестрам ее, Магдалине и Святой Екатерине, Святому Иоанну Крестителю,
святому Иерониму, за упокой и Ангелу вашему. В оном Часослове есть семь
Псалмов, каковые перевел я вам прямо с латыни и почти столь же кратко,
как и на латыни, а места темные и трудные одним словом либо в немногих
словах изложил и изъяснил. Перевел я для вас тоже и Искусство достойно
умереть, каковым, буде угодно вам мыслить и рассуждать как смертному,
коим пребудете, Господь подаст вам помощь наибольшую, как во спасение
ваше, также и в делах государственных, им на вас возложенных. Ныне пере¬
ложил я для вас на французский язык Апологи Лоренцо Валлы, им в Латин¬
ские превращенные из Эзопа, Грека, в коей книжечке в стиле (soubz couleur)
Басен многие мудрые и добродетельные наставления в кратком виде со¬
держатся. Аполог есть речь о делах повседневных, заключающая знание
нравственное (Apologue est langaige par chose familiere contenant morale
erudition). Всегда, с помощью Божией и вашей, Сир, трудиться буду, дабы
оказать вам честную службу и буду молить Бога о спасении и процветании
вашего королевского величества»64.
Таким образом, среди книг, поднесенных королевским чтецом Кар¬
лу VIII, значатся лишь два его собственных сочинения: «Искусство со¬
64 Текст посвящения сверен по следующим изданиям: Les Apologues de Laurent Val¬
la translates du latin en fran<;ois et suivis des Ditz moraulx par Guillaume Tardif du
Puy-en-Velay, professeur au College de Navarre, maistre liseur du Roy Charles huic-
tiesme de nom. Dapres lexemplaire sur velin de la B.N. Le Puy; Paris, 1877. P. 139—
141; Ruelle P. Op. cit. P 59—60; B.N. Res. Vdins 611, fol. 1 r°-l v°.
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
колиной охоты» и «Часослов»65. Последний вплоть до недавнего време¬
ни считался утраченным (или неопубликованным), однако М.Б. Уинн
удалось доказать, что маргинальные французские тексты знаменитого
«Большого Королевского Часослова» Антуана Верара (1490; впослед¬
ствии не раз переиздавался), полностью соответствуют описанию,
которое приводит Тардиф в посвящении «Апологов»66. «Искусство со¬
колиной и псовой охоты», по словам самого автора, представляет со¬
бой перевод-компиляцию, составленную на основе «ученейших и ис¬
куснейших в оном искусстве» авторов67. Трактат пользовался большой
популярностью в эпоху Ренессанса68, и еще в XIX в. Э. Жюльен считал
возможным рекомендовать его любителям охоты как полезное прак¬
тическое пособие69. Показательно, однако, что сам Тардиф рассматри¬
вает это сочинение скорее как отход от гуманистических занятий — и
одновременно, через топику «правильного» текста, стремится придать
работе над ним черты studia humanitatis. В «Заключении сей книги» он
пишет:
«Сочинение сие, Сир, по вашему велению я предпринял и ради удоволь¬
ствия вашего спешно завершил. И хотя [охоте] благородные сеньоры и кня¬
зья предаются и ими она любима и желанна, не сумел я отыскать автора, у
коего была бы она удовлетворительно изложена. И что написано о ней, со¬
держания и порядка не имеет (en aucunes materes et sans ordre); да и те [кни¬
ги] к тому ж столь испорчены, по невежеству и неисправности пишущих
либо по иным причинам, что принужден я был проверять их у людей, све¬
дущих в сем искусстве, и у врачей и лекарей. <...> Ныне, Сир, возвращаюсь
я к моим занятиям словесностью и теологией, дабы и впредь сочинять либо
65 Э. Бельтран (Beltran Е. L’humaniste Guillaume Tardif. Р. 15) полагает, что изме¬
нения, произошедшие в творчестве Тардифа в 1480-х гг., вызваны полемикой с
Бальби. На наш взгляд, характер этих изменений свидетельствует скорее о пол¬
ном и осознанном приятии гуманистом своей новой роли при Карле VIII.
66 См: Winn М.В. Guillaume Tardif s Hours for Charles VIII and Verards Grandes Heures
Royales // Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance. 1994. Vol. LVI № 2. P. 347—383.
67 Цит. no: Le Livre de l’Art de fauconnerie et des chiens de chasse, par Guillaume Tardif,
reimprime sur ledition de 1792 [sic] / Avec une notice et des notes par Ernest Jullien.
T. 1—2. Paris, 1882 (Geneve, 1980). T. 1. P. 2. Опечатка на титульном листе: издание
Э. Жюльена подготовлено по первому изданию трактата, выпущенному А. Вера-
ром «5 января 1492 г.» (т.е. 1493 г.) по новому стилю [Cest le liure de lart de faul-
connerie et des chiens de chasse. Expl.: Cy finist le liure de lart de faulconnerie et des
chiens de chasse imprime a Paris le cinquiesme iour de ianuier mil quatre cens quatre-
vingz et douze pour anthoine verard libraire demourant a Paris... B.N. Res. Velins 1023].
68 He раз переиздававшийся, он, в частности, послужил одним из источников Ра¬
бле. См.: Plattard J. Le vocabulaire de la fauconnerie dans Rabelais // Revue des etudes
rabelaisiennes. 1912. Vol. X. P. 356—374.
69 Jullien E. Guillaume Tardif et ses oeuvres // Le Livre de LArt de fauconnerie... P. XXIII.
переводить для вас то, что более полезным и насущным мне представится
для вашего благороднейшего тела и души»70.
Таким образом, к разряду гуманистических сочинений Тардиф отно¬
сит свои переводы «Апологов» Лоренцо Валлы, поднесенные королю,
возможно, в том же году, а также «Фацеций» Поджо; к ним примыкает
«Искусство достойно умереть», также переведенное им с латыни и не¬
сколькими месяцами ранее напечатанное Антуаном Вераром в составе
сборника наставлений в праведной жизни71.
В переводах Тардифа обращают на себя внимание две особенности. Пре¬
жде всего, все они (кроме «Искусства умереть») восходят к единому ис¬
точнику: вышедшему под маркой “Au Soufflet Vert” латинскому сборнику,
70 Le Livre de TArt de fauconnerie... T. II. P. 37. Косвенным подтверждением чисто
«заказного» характера труда могут служить два переведенных Тардифом текста:
2-я фацеция Поджо (De medico qui dementes et insanos curabat), в которой при¬
верженность псовой и соколиной охоте именуется величайшим безумием, и по¬
священие «Басен» Валлы, построенное на метафоре «охоты за словесностью»,
где роль добычи играют 33 6асни-«перепелки» (см. ниже).
71 Le livre intitule lart de bien mourir; Leguyllon de crainte diuine pour bien mourir ou
Traicte des paines denfer et de purgatoire [Paris, Gillet Cousteau et Jean Menard pour
Antoine Verard, 18 juillet 1492]; Le traicte de laduenement de antechrist ou des quinze
signes precedens le jugement general de dieu et des ioyes de paradis [Paris, pour Antoine
Verard, 18 juillet 1492]; Le bien viure [Paris, pour Antoine Verard, le 15 decembre 1492].
B.N. Res. Velins 351. Текст перевода в переложении на современный французский
язык был опубликован в 1986 г. П. Жираром-Огри (Ars Moriendi [1492] ou lArt de
bien mourir.../ Pres, et adaptation par Pierre Girard-Augry. Paris, 1986; Coll. “Chemins
initiatiques de la Tradition occidentale”). По сведениям, любезно предоставленным
нам г-ном Дж. Момбелло, критическое издание «Искусства достойно умереть»
было подготовлено покойным П. Рюэлем, однако его дальнейшая судьба до сих
пор остается неизвестной. В наши задачи не входит подробный анализ этой пере¬
водческой работы Тардифа; следует отметить лишь два связанных с нею обстоя¬
тельства. Во-первых, она, как и остальные переводы чтеца Карла VIII, осущест¬
влялась с учетом предшествующей традиции: анонимный французский перевод
“Ars moriendi”, начинающегося со слов “Quamvis secundum philosophum” (досто¬
верно атрибутировать этот трактат до сих пор не удалось), вошел в состав сбор¬
ника соответствующих текстов, который стал первой книгой, выпущенной из¬
вестным печатником из Брюгге Коларом Мансьоном (ок. 1490 г.; explicit: primum
opus impressum per Colardum mansion. Brugis laudetur omnipotens; B.N. Res. D. 862).
Судя по всему, Антуан Bepap, составивший сборник, аналогичный книге Мансьо-
на, и поднесший его королю, достаточно внимательно следил за деятельностью
этого печатника. Во-вторых, текст перевода, выполненного Тардифом, дополнен,
с одной стороны, обращением переводчика к читателю, а с другой, — предшеству¬
ющим ему длинным вступлением, которое включает в себя: а) жалобы грешной
души, готовящейся предстать перед Богом, 6) молитву Богоматери, ангелу-храни¬
телю, апостолу Петру и десяти тысячам великомучеников о спасении души и в)
увещевание душе быть твердой в вере. По нашему мнению, данные тексты также
можно с большой степенью достоверности атрибутировать Тардифу.
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
который включал в себя 273 «Фацеции» Поджо, «Моральные фацеции» (пе¬
реводы на латынь 33 басен Эзопа) Валлы и 49 «Фацеций» Петрарки, заим¬
ствованных из его “Rerum memorandarum Libri”, под заглавием “De salibus
virorum illustrium ас facetiis” История этого издания до конца не ясна. В ка¬
талоге инкунабул Национальной библиотеки Франции оно датировано ок.
1475 г.72 Вместе с тем Л. Соцци в своем капитальном исследовании о судь¬
бе «Фацеций» Поджо во Франции в XV в.73 относит его приблизительно к
1477 г., указывая на два других издания, отпечатанных двумя годами ранее
той же типографией и включающих только тексты Валлы и Петрарки74 75. Дж.
Момбелло, вслед за Соцци, возводит «трехчастный» парижский сборник
к аналогичной книге, вышедшей, по-видимому, в Утрехте ок. 1472 г., куда
вошли (наряду с фрагментами из других античных и средневековых авто¬
ров) «басни» Валлы, 36 «фацеций» Петрарки и 22 фацеции Поджо/5. Неиз¬
вестно, участвовал ли Тардиф в подготовке издания “Au Soufflet Vert”, одна¬
ко очевидно, что он его прекрасно знал. В его переводе после «Фацеций»
Валлы также следуют фацеции («Моральные Речения») Петрарки — с при¬
бавлением, однако, 54 примеров мудрых ответов, почерпнутых преимуще¬
ственно из «Знаменитых философов» Диогена Лаэртского.
Вторая особенность переводов Тардйфа заключается в самом выборе
произведений, которые чтец Карла VIII подносит своему государю. В от¬
личие от Гагена и от гуманистов эпохи Карла V, он перелагает на фран¬
цузский язык не античных auctores, а современных авторов, признанных
авторитетов в области риторики76. Истоки подобной ориентации лежат,
72 Poggius Florentinus. Facetiae; Aesopus. [Fabulae. Lat.:] Facetiae morales / Trad.
Laurentius Valla; Petrarca (Francesco). De salibus virorum illustrium ac facetiis. Paris,
[atelier du Soufflet vert, ca. 1475]. CIBN: P—520.
73 Sozzi L. Le Facetie di Poggio nel Quattrocento francese 11 Miscellanea di studi e ri-
cerche sul Quattrocento francese /A cura di Franco Simone. Torino, 1967. P. 410—516.
74 Между двумя экземплярами «трехчастного» сборника, хранящимися в Националь¬
ной библиотеке, имеются существенные расхождения. Если explicit «Фацеций» Вал¬
лы непосредственно предваряет в обоих incipit фацеций Петрарки, то «Фацеции»
Поджо в экземпляре B.N. Res. Y2. 892 открывают книгу, тогда как в экземпляре
B.N. Res. р. Z. 465—467 они, напротив, следуют за текстами Петрарки (а после них,
кроме того, помещен трактат “De origine nobilitatis [Incipit tractatus pulcherrimus de
origine nobilium tarn fidelium quam infidelium]”, текст которого, однако, отличается
от соответствующего трактата Поджо); в первом экземпляре отсутствует также пе¬
речень фацеций, предваряющий их текст во втором. Не исключено, что «Фацеции»
Поджо были отпечатаны отдельно и приплетались к уже существующему изданию.
75 Mombello G. “Les ditz des sages hommes” de Guillaume Tardif. Aspects litteraires et
linguistiques 11 Actes du V-e Colloque international sur le Moyen Fran^ais. Milan,
6—8 mai 1985. Milano, 1986. Vol. 3. Etudes litteraires sur le XV siecle. R 199—216.
76 Достаточно напомнить, что “Elegantiae” Валлы были отпечатаны в типографии
Сорбонны еще в 1471 г., вместе с «Риторикой» Фише и «Правилами красноречия»
Агостино Дати (см.: Claudin A. Op. cit. Т. I. Р. 38—41); о роли Валлы в развитии
французского гуманизма XV в. см: Simone Е II Rinascimento francese. Р. 63—68.
^63^
§ III
& 4
бесспорно, в его гуманистических штудиях: Тардиф был прекрасно осве¬
домлен о риторических трудах итальянских гуманистов77. Переведенные
Тардифом тексты представлялись их создателям своего рода упражне¬
ниями в красноречии, призванными упрочить статус латыни как живого
языка гуманистического общения. Поджо, подчеркивая устный характер
фацеций, видит цель сборника в том, чтобы «выразить на латинском язы¬
ке — и не очень нескладно — многое такое, что считается трудным для
передачи по-латыни и что не требует никаких украшений, никакого ора¬
торского пафоса»78, и предлагает читателям использовать его как матери¬
ал для последующих риторических экспериментов79. Со своей стороны,
Валла, посвящая переложение басен Эзопа другу и покровителю Арналь-
до Фенолледе, уподобляет их «перепелкам», добытым на «охоте за словес¬
ностью», и тем самым приглашает знатоков на «пир» латинской учености,
освященный именами Октавиана и Марка Антония80. Попутно следует за¬
метить, что Фенолледа был секретарем короля Альфонса V Арагонского:
упоминая римских императоров, Валла, скорее всего, искусно намекает на
свое желание видеть добытую им «дичину» на столе у государя. Тардиф,
включая труд Валлы в сферу «королевского знания», следует, таким обра¬
зом, примеру самого итальянского гуманиста.
Выбор для переложения на французский язык текстов, объединен¬
ных установкой на риторический эксперимент, свидетельствует о на¬
мерении Тардифа решать аналогичные задачи на почве национального
языка81. Об этом он заявляет в «Прологе переводчика», который пред¬
послан «Моральным Речениям» Петрарки:
77 Его «Компендиум красноречия» изобилует ссылками на трактаты Валлы, Лео¬
нардо Бруни, Колуччо Салутати, Гаспарино Барциццы, Франческо Филельфо,
Энея Сильвио Пикколомини и многих других. Ср.: Simone Е II Rinascimento
francese. Р. 65; Beltran Е. L’humaniste Guillaume Tardif. P. 19—21.
78 Цит. по: Поджо Браччолини. Фацетии / Пер. с лат., коммент. и вступ. статья
А.К. Дживелегова. М.;Л., 1934. С. 68.
79 «Пусть люди <...> пересказывают эти мои рассказы более гладким и более укра¬
шенным стилем. Я их прошу об этом. Этим обогатят латинский язык в наш век
и сделают его способным передавать сюжеты более легкие. Упражнение в таких
писаниях принесет пользу в деле изучения красноречия» // Там же.
80 “Promiseram nuper me tibi conturnices quas ipse venatus essem missirum. Eas capere
ut homo venandi insuetus cum non possem, ad venationem meam, id es ad litteras,
me converti etforte ad manus venit libellus grecus ex preda navali tres et triginta Esopi
fabellas cpntinens. <...> Etenim, si Octavianum Marcumque Anthonium, orbis ter-
rarum principes, ludo conturnicum delectatos accepimus, profecto tu, vir litterarum
amantissimus, litterato hoc genere ludendi delectaberis. Et, si quis Octaviano aut An-
thonio pugnacem aliquam harum avium dono dedisset, jocundam illis rem gratamque
fecisset” // Ruelle P. Op. cit. P 39.
81 Ср. вывод, к которому приходит Л. Соцци: «...Несмотря на то, что перевод
Апологов Валлы, Речений мудрецов Петрарки и Фацеций Браччолини родился,
по-видимому, из намерения доставить государю развлекательное чтение и по-
£64^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе..^
<«...> Обратил я свое разумение к тому, дабы перевести вам в общих
словах и кратко некоторые моральные речения и веселые слова благород¬
ных древних мужей, дабы Ваше Королевское Величество, буде прискучит
вам иной раз слушать рассказ и повесть о высоких делах вашего Королев¬
ства, могли иметь под рукою некоторые предметы развлекательные и для
вас и для благородных мужей, состоящих при вашем королевском Дворе,
каковые Речения будут всегда при вас и могут быть вами рассказаны соот¬
ветственно случаю, для веселия, либо для удовлетворения иных докучных
просьб, либо для того, чтобы речью учтивой и любезной, под покровом не¬
коего сходства сущностей, отвечать тому либо тем, в отношении кого Ваше¬
му высокочтимому и высоковластному величеству угодно будет их наилуч¬
шим образом употребить»82.
Тардиф подносит государю своеобразное пособие по риторике: это
примеры красноречия «благородных древних мужей», которым король
может найти применение в беседе83. Не случайно чтец короля выбирает
для перевода сборники коротких рассказов, идеально подходящих для
устного чтения84 и последующего устного же воспроизведения госуда¬
рем. Риторика предполагает активное владение loci communi, и Тардиф
создает для Карла VIII собственный компендиум «общих мест». Значе¬
ние своего предприятия он косвенным образом подчеркивает в перево¬
де фацеции Петрарки о Вергилии — «плагиаторе» Гомера, сопровождая
его следующим выводом: «Сим дано понять, что те, кто составляет книги
речений и высказываний (ditz & sentences) авторов, достойны похвалы и
памяти о себе»85. Книга «Моральных Речений» призвана не только слу¬
жить подспорьем королю, но и прославить переводчика-составителя.
Однако риторические образцы, которые Тардиф перелагает для Кар¬
ла VIII, не позволяют полностью отождествить их с loci communi: «ко¬
ролевская» риторика во многом отличается от риторики гуманистиче-
лезные наставления, он представляется исследователю литературно-стилисти¬
ческим упражнением, поиском меры повествования и определенного художе¬
ственного уровня» // Sozzi L. Op. cit. Р. 454.
82 Цит. по: Les Apologues de Laurent Valla translates du latin en fran^ois. P. 233—234;
сверено по изд.: B.N. Res. Velins 611, fol. 24 v°-25 r°.
83 Аналогичную функциональную нагрузку несли примеры стихотворных форм, в
изобилии включавшиеся в трактаты по «второй риторике».
84 О том, что подносившиеся государю тексты предназначались главным образом
для чтения вслух, косвенно свидетельствуют и переводы Гагена, который, как
известно, поднес Карлу VIII французскую версию «Римских деяний» — сбор¬
ника дидактических средневековых «примеров», и «Записок о Галльской войне»
Цезаря — сочинения с дробной структурой, вполне отвечающей потребностям
читателя-слушателя. О характеристиках текста, предназначенного для устного
чтения, см., в частности: Chartier R. Op. cit. Р. 276.
85 Цит. по: Les Apologues de Laurent Valla translates du latin en fran<;ois. P. 255.
£65^
*
§ III
ской. Показательна в этом смысле обработка переводчиком прологов,
предваряющих все три сочинения в латинском издании “Au Soufflel
Vert” От пролога Петрарки к «Фацециям» остается, по сути, одна пер¬
вая фраза, пространно изложенная в форме косвенной речи86. Тардиф
полностью игнорирует основное содержание вступительного текста:
рассуждения об античных корнях фацеции и ее обозначениях в грече¬
ском языке и латыни (со ссылками на Макробия и Цицерона). Адре¬
суясь королю, он отказывается от опоры на авторитет авторов. Более
того, в предназначенных государю текстах античные имена и реалии
снабжены пояснениями. В той же фацеции о Вергилии, например, уточ¬
няется, что Гомер — это греческий поэт, а стихи его (“les bons ditz”, пс
выражению Тардифа) Вергилий использовал в своей поэме «Энеида»
созданной «во славу Цезаря»87. Естественно, что у Петрарки нет и не
может быть ничего подобного88. Посвящение «Басен» Лоренцо Вал¬
лы — единственный текст, где в качестве «оправдания» фацеции сохра¬
нен мотив античного узуса. Однако, как мы видели, речь у Валлы идет
о римских императорах: имена Октавиана и Марка Антония (а также
контекст, в котором они упоминаются) идеально отвечают задачам
которые ставил перед собой чтец французского короля. В целом про¬
лог Валлы оставлен переводчиком практически без изменений: Тардиф
лишь дублирует его своим собственным посвящением, не вторгаясь е
текст великого гуманиста. Сложнее обстоит дело с третьим автором —
Поджо. Действительно, включение «Фацеций» в круг королевского чте¬
ния требовало серьезных обоснований: в последней четверти столетия
за их создателем уже прочно закрепилась слава «непристойного» сочи¬
нителя89. Поэтому Тардиф предваряет перевод собственным прологом
в котором — случай в его практике уникальный — излагает критерия
своего выбора, а также принципы, которых он придерживался при пе¬
реводе. Прежде всего, он подчеркивает заслуги Поджо в области рито¬
рики и риторический характер его произведения:
86 «Франческо Петрарка в некоем трактате, каковой написан им о фацециях благо
родных мужей, говорит, что подобно тому как скуку и утомление в помыслах г
делах человеческих развеивает и развлекает чередование забав и игр, подобие
же и скуку, какую может навеять повествование либо рассказ о предметах по
лезных и душеспасительных, развеивают и развлекают сказания и речи забав
ные ц отдохновительные» // Ibid. Р. 233. Ср. у Петрарки: “Etenim in cogitatonibiu
inque actibus humanis sic in verbis quoque seriis contracta fatigatio iocorum vicissitu
dine mitigatur” // B.N. Res. Y2 465.
87 Ibid. P. 255.
88 Вот полный текст фацеции Петрарки: “Virgiliis пес illepidum cum sibi exprobra
turn esset que versus homericos abstulisset et in operis sui congeriem redegisset res
pondisse fertur: Magnarum esse virium auferre clauam de manu herculis” // Op. cit.
89 О репутации «Фацеций» в XV в. см.: Sozzi L. Op. cit. Р. 415—418.
^ 66 ^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
«Вам, христианнейшему королю Франции Карлу, восьмому по имени
сему, поднесена сия французская книжечка, содержащая субстанцию весе¬
лых Речений и забавных Фацеций, какие некогда собрал и сложил в книгу
весьма просвещенный и веселый нравом муж Поджо, Флорентинец, в како¬
вой книге сей оратор, согласно с избранной материей, использовал слова ла¬
тинские, <...> весьма изысканно (elegamment) изящные и риторические...»90
Те же мотивы он повторяет и в переводе «Введения» самого Поджо
к его рассказам. Тардиф не ограничивается изложением текста Флорен¬
тийца, как в случае с Валлой, и не заменяет его своим собственным, как
он поступает с Петраркой, но дополняет и как бы обрамляет перевод
своими замечаниями и толкованиями:
«<...> Следует нам указать, что Поджо Флорентинец был муж весьма
просвещенный, великий оратор, исполненный прекрасного красноречия, и
за прекрасные достоинства и Богом данные дарования свои призван был к
Римской Курии...»91
Тардиф подчеркивает «коллективный» характер фацеций, на кото¬
рый указывает сам Поджо в «Заключении» к ним, и всячески усиливает
оправдательные мотивы пролога (среди которых фигурирует и призыв
к людям сведущим улучшать его творение). Одним из таких мотивов
служит у Флорентийца ссылка на обычаи древних — но здесь француз¬
ский переводчик умело использует отсутствие у этих «древних» каких-
либо опознавательных признаков:
«Читал я во многих местах, что предки наши, люди более мудрые и в на¬
уках великие, нежели мы, снискали великие хвалы и почести, услаждаясь
Фацециями, Рассказами басен и веселыми Речениями, неизменно храня
благопристойность, и почитали сии предметы отнюдь не низкими и не до¬
стойными осуждения, но заслуживающими похвалы...»92
Если для гуманиста Поджо «предки» — это auctores, самой общей
апелляции к которым достаточно для укоренения фацеции в античной
90 Цит. по: Les Facecies de Poge, Florentin, traitant de plusieurs nouvelles choses morales.
Traduction fran<;aise de Guillaume Tardif, du Puy-en-Velay, Lecteur du roi Charles VIII,
reimprimee pour la premiere fois sur les editions gothiques / Avec une preface et des
tables de concordance par M. Anatole de Montaiglon. Paris, 1878. P. XXXIX. Текст по¬
священия приводится А. де Монтеглоном по изданию вдовы Трепперель 1510 г.
91 Ibid. Р. 3.
92 Ibid. Р. 4. Ср. у Поджо: «Мне приходилось читать о том, что наши предки, люди бла¬
горазумные и ученые, находили удовольствие в шутках, играх и побасенках, и что
за это они получали не упреки, а похвалу...» // Поджо Браччолини. Указ. соч. С. 67.
^67^
§ III
+-
традиции, то в контексте французского переложения, предназначен¬
ного королю, они приобретают — вместе с «благопристойностью», не
упоминаемой Флорентийцем, — абстрактный характер (позволяющий,
помимо прочего, отнести к их числу и предшественников Карла). Что¬
бы, в свою очередь, избегнуть обвинений в непристойности, перевод¬
чик «не пожелал всего лишь заменить слова латинские на слова фран¬
цузские <...>, но хотел выразить суждения, касательно всякого случая
под словами скрытые»93, иными словами, преподнести читателю поуче¬
ние, содержащееся в повестушках секретаря римской курии.
Таким образом, «королевская риторика», которую стремится вырабо¬
тать Тардиф, опираясь на авторитет Валлы, Петрарки и Поджо, сохраняет
с античной традицией лишь самую условную связь. Будучи современной,
она, в понимании переводчика, должна строиться не столько на предпи¬
саниях auctores, сколько на подражании «речевому поведению» предков.
При этом основополагающее значение приобретают два понятия — «му¬
дрость» и «благопристойность»: как подчеркивает переводчик в «Проло¬
ге» к Поджо (повторяя мысль из петрарковского пролога), «полезно даже
и людям, предающимся созерцанию и ученым штудиям, развлекать свой
ум разного рода благопристойными играми, дабы направить его к весело¬
сти и удовольствию»94. «Мудрость», почерпнутая из сочинений итальян¬
ских гуманистов, носит подчеркнуто моральный характер.
Единство установки определяет, в понимании Тардифа, и жанровое
единство всех трех текстов. Все они, говоря словами пролога к Поджо —
«фацеции, рассказы басен или веселые речения». В прологе к Валле, как
мы видели, возникает еще одно жанровое обозначение, общее для всех
этих категорий короткого рассказа: аполог, или «речь о делах повседнев¬
ных, заключающая знание нравственное». Три понятия — басня, фаце¬
ция, аполог — являются для Тардифа синонимами; на их тождестве он с
редкой последовательностью настаивает в переводе Валлы. Сам итальян¬
ский гуманист называет в качестве своего источника «греческую книжеч¬
ку», содержащую 33 «эзоповых побасенки»95; у Тардифа соответствующее
место звучит следующим образом: «Книга сия в себе содержит тридцать
три маленьких басни, фацеции или аполога Эзопа, поэта греческого»96
(выделено нами — И.С.). В самом тексте жанровые определения выне¬
сены в заглавия и обычно повторяются в финале: если у Валлы басенная
мораль вводится стереотипной формулой “hec fabula innuit”, то француз¬
ский переводчик, выделяя (в том числе графически) «моральный смысл»
93 Ibid. Р. XL.
94 Ibid. Р. 5.
95 Об источнике Валлы см.: Finch Ch. Е. The Greek Source of Lorenzo Valias Transla¬
tion of Aesop’s “Fables” // Classical Philology. 1960. Vol. LV. P. 118—120.
96 Цит. по: Ruelle P. Op. cit. P. 60.
^68^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
(sens moral) рассказа, как правило, еще раз настаивает на его дефини¬
ции. В первых баснях сборника он обстоятельно повторяет все три опре¬
деления (“Le dessus dit apologue, fable ou facecie... veult innuer et donner a
entendre”), а по мере приближения к концу сводит их к главному — апо¬
логу. Книга призвана последовательно утвердить державного слушателя в
главной мысли: забавные повестушки, возвеселяющие ум мудреца и от¬
влекающие людей от дурных помыслов, несут в себе такой моральный
смысл, который помогает государю достойно вершить4 chose publique”
Итак, творения Валлы, Петрарки и Поджо объединяются в рамках
одного жанра, а вернее сказать, фигуры красноречия, по смыслу чрез¬
вычайно близкой к понятию “translation” в его риторическом понима¬
нии. Все три произведения имеют в переводе одинаковую структуру:
каждая фацеция (басня, аполог), за единичными исключениями, сопро¬
вождается развернутой морализацией97.
Любопытно, что подобная трактовка фацеции противоречила ее кано¬
ну в гуманистической традиции. Как показал А. Вебер на примере Пон-
тано, теоретика жанра, фацеция в понимании гуманистов противостоит
искусству риторики, ибо относится к области otium, приятного время¬
препровождения: «Идеал “homo facetus et urbanus” есть в известной мере
идеал порядочного человека в его развитии: он ищет в шутках и забавных
словечках только развлечения и отдохновения после трудов <...> Про¬
тивопоставляя “facetudo”, качество, присущее частной беседе, “facunditas”,
доблести оратора, он [Понтано] намечает <.. .> оппозицию между жизнью
общественной и жизнью частной»98. Больше того, Понтано прямо отрица¬
ет какой-либо моральный смысл или «полезность» фацеции99. Напротив,
причисление «Фацеций» Поджо к образцам риторики восходит к иной
традиции — к творчеству бургундских «великих риториков»100. «Морали¬
97 Правда, отдельные фацеции Поджо ставят переводчика в тупик: Тардиф при¬
знается в том, что неспособен измыслить для них моральное истолкование. Так,
в фацеции 56 он пишет: «В оной фацеции нет никакого морального смысла и
показана лишь глупость и тупоумие человека, полагавшего, будто облегчит он
ношу своему ослу, коли взвалит повозку на шею и сядет на него верхом». В це¬
лом морализация отсутствует в 20 фацециях, переведенных Тардифом: 47 (Под¬
жо 64), 48 (П. 65), 55 (П. 87), 56 (П. 89), 77 (П. 140), 81 (П. 150), 85 (П. 166), 89 (П.
190), 90 (П. 200), 91 (П. 202), 93 (П. 205), 97 (П. 213), 98 (П. 216), 100 (П. 227),
103 (П. 232), 106 (П. 241), 107 (П. 243). Показательно, однако, что отсутствие
«морали» каждый раз эксплицитно оговаривается.
98 Weber Я. La facetie et le bon mot du Pogge a Des Periers // Humanism in France at the
Middle Ages and in the early Renaissance / Ed. by A.H.T. Levi. N.Y., 1970. P. 85—86.
99 Ibid.
100Cp. приведенный Соцци фрагмент из пролога Гийома Кретена к его «Французской
хронике»: “A tout le moins se jeusse en Poge prise / Quelque le<;on, lescript que pou je
prise / Fust embelly de motz facecyeux” («По крайней мере, когда 6 у Поджо я взял /
Урок, [мое] писание, каковое ценю я мало, / Приукрасилось бы словами развлека¬
^69^
зация» же получает опору в устойчивой и по сути средневековой тради¬
ции их восприятия.
О сближении «побасенок» Поджо с эзоповой басней свидетельству¬
ют уже их первые печатные издания. Среди них Л. Соцци выделяет т.н.
«Эзопа Штейнхёвеля», отпечатанного в Ульме Йоханном Цайнером
(ок. 1476—77)101 и имевшего особую судьбу во французской культуре.
В 1480 г. в Лионе вышел французский перевод сборника, выполненный
монахом-августинцем Жюльеном Машо102 (до конца столетия его труд
выдержал 6 переизданий). Жанровое единство «Эзопа» Машо четко за¬
фиксировано в его incipit: «Начинается книга хитроумных историй и
басен Эзопа. <...> И также других басен Авиана и также Альфонса, и
нескольких веселых басен Поджо флорентинца...» (выделено нами —
И.С.; в explicit книги исчезает и слово «истории» применительно к эзо¬
тельными» // Sozzi L. Op. cit. Р. 415. Следует добавить, что, по мнению ряда ученых,
именно «великие риторики» явились наследниками традиций раннего французско¬
го гуманизма: «Будучи двуязычными и уделяя равное внимание красоте как латыни,
так и французского языка, они обращаются к произведениям, доставшимся им от
средневековой традиции и к тем, что недавно увидели свет или были восстановле¬
ны благодаря новым филологическим методам. Кроме того, они следят за поэти¬
ческими, историческими или учеными сочинениями, написанными гуманистами.
Они используют все эти сочинения и зачастую переводят их» HP. Jodogne. Les “rhe-
toriqueurs” et l’humanisme: Probleme d’histoire litteraire // Humanism in France at the
Middle Ages and in the early Renaissance / Ed. by A.H.T. Levi. N.Y., 1970. P. 165—166.
101С6орник включал в себя “Vita Esopi” Максима Плануда (в латинском переводе
Ринуччо д’Ареццо), четыре книги эзоповых басен («Обычного Ромула»), 17 fabu-
lae extravagantes сомнительной атрибуции, 17 fabulae novae, заимствованных из
перевода Ринуччо, 27 басен Авиана, и 23 fabulae collectae: 15 из них почерпнуты
из «Наставлений обучающемуся» Петра Альфонси, а 8 — из «Фацеций» Поджо.
Завершал книгу немецкий перевод новеллы Боккаччо о Гвискардо и Гисмонде,
выполненный по латинской версии Леонардо Бруни. См.: Sozzi L. Op. cit. Р. 445,
а также предисловие П. Рюэля к изд.: Recueil general des Isopets. T. Ill: L’Esope de
Julien Macho / Ed. par P. Ruelle. Paris, 1982. P. XIX—XXII. (Как ни странно, обсто¬
ятельная работа Рюэля не содержит ни одной ссылки на статью Соцци.)
102Ехр1.: Су finissent les subtitles fables de Esope translatees de latin en francoys par reve¬
rend docteur en theologie frere Julien des Augustins de Lyon, avec les fables de Avian et
de Alfonse et aussi aulcunes joyeuses fables de Poge Florentin, imprimees a Lyon par Ni¬
colas Philippi de Bensheym et Marc Reinhardi de Strasbourc Fan mil quatre cent et oc-
tante, le.xxvi; jour d’aust. По этому изданию переводы Машо из Поджо приведены
в приложении к статье Л. Соцци; издание П. Рюэля и вышедшее одновременно
с ним немецкое критическое издание «Эзопа» Машо (Macho J. Esope / Eingelei-
tet und herausgegeben nach der Edition von 1486 von Beate Hecker. Hamburg, 1982)
осуществлено по изданию 1486 г. [Expl.: Су finissent les subtilles fables de Esope,
translatees de latin en francoys par reuerend docteur en theologie frere Julien des au-
gustins de Lyon, auec les fables de Auian et de Alfonse, et aussi aulcunes ioyeuses fables
de Poge florentin, imprimees a Lyon sur le Rosne par maistre Mathis Husz. L’an de
grace Mil. CCCC. LXXXVI, le neufuiesme iour de auril.] О других работах Жюльена
Машо см.: Sozzi L. Op. cit. Р. 447—448; Ruelle Р. Op. cit. P. X—XIII.
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
повым басням). Фацеции Поджо, наряду с баснями Эзопа и Авиана и
«примерами» Петра Альфонси, обладают, согласно тому же incipit, глав¬
ным басенным свойством: «Всякие люди, каковым книгу сию прочесть
будет угодно, смогут через басни эти усвоить и понять, как верно себя
вести, ибо каждая басня дает в том наставление». На первый взгляд,
подход Тардифа к повестушкам итальянского гуманиста близок к под¬
ходу Штейнхёвеля-Машо, которые видят в Поджо, прежде всего, мо¬
ралиста. Однако Тардиф следует иному, гуманистическому источнику,
где фацеции Поджо помещены в принципиально иной литературный
контекст; соответственно, другой характер носит и мораль, которую он
выводит из забавных историй.
Августинец Машо, автор переводов и обработок наставительных
текстов — от французского перевода Библии до «Зерцала жизни чело¬
веческой», — вслед за немецким составителем сборника относит Под¬
жо к традиции средневековых «Изопетов»: его «басни» отличаются от
эзоповых (как и от exempla) разве что своей «веселостью». Естествен¬
но, что среди восьми фацеций, отобранных Штейнхёвелем, фигурирует
единственная настоящая басня Поджо — о петухе и лисе (Поджо 79)103.
Напротив, для Тардифа Поджо, образцовый ритору стоит в одном ряду
с Валлой, «восстановителем античности»; тем самым его тексты соот¬
носятся не с «Изопетами», а с гуманистической обработкой Эзопа. По¬
этому королевский чтец считает нужным предпослать своему переводу
этой басни специальный комментарий:
«Нижеследующую Фацецию, каковую приводит Поджо, некоторые при¬
писали Изопету и поместили вместе с переводом Басен Изопета; и все же не
обошел я ее в этом нынешнем переводе, дабы никто не усмотрел в нем ошиб¬
ки, ибо она вправду из этой книги, и написал ее, как по всему видно, Под¬
жо, ибо писана она латинской прозой, а Изопета надобно было в оную пере¬
лагать, а потому различие это показывает, что тот, кто поместил ее вместе с
баснями Изопета, взял ее здесь. И говорит Поджо, начиная эту Басню, слово,
каковое охотно выбирают для начала басен, сиречь слово: Однажды.. .»104
Крайне внимательный к жанровым обозначениям, Тардиф выносит эту
дефиницию и в «Содержание» книги: в отличие от всех остальных фаце-
103Приводим таблицу соответствий между фацециями Тардифа и Поджо и басня¬
ми Машо:
Тардиф
1
2
6
22—25
26
31
53
Поджо
1
2
6
31—34
36
43
79
Машо
1
4
2
5
6
3
7
l04Les Facecies de Poge, Florentin, traitant de plusieurs nouvelles choses morales... P. 151.
^71^
§ш
4
ций, его текст под № 53 назван именно басней (у Поджо, во всяком случае
в издании “Au Soufflet Vert”, он никак не маркирован). То же определение
повторяется и в морали: «В сей Басне осуждаются предатели, что, прикры¬
ваясь лживыми словами, обманывают других, подобно этому Лису.. .»105.
Тардиф противопоставляет морализованную фацецию эзоповой бас¬
не, не только отказываясь от средневековой традиции, которой следует
Машо, но и, на первый взгляд, вступая в противоречие с собственной
трактовкой «Апологов» Валлы. На самом деле речь идет о двух пони¬
маниях термина «басня». Для Машо это средневековый дидактический
жанру наставляющий читателя, как ему «верно себя вести», для Тардифа
же — риторическое понятие, «фигура речи»: не случайно, в прологе он
отождествляет «фацеции» с «рассказом басен» и «веселыми речениями»у
как бы подчеркивая заложенную в них идею красноречия. В этом он опи¬
рается на авторитет гуманистических трактатов (начиная с «Генеалогии
языческих богов» Боккаччо или, во Франции, «Красноречивейшей Со-
фии-Мудрости» Жака Леграна106), определяющих басню как синоним по¬
этического слова. Чтец Карла VIII предлагает государю образцы не «бы¬
тового», но речевого поведения. Превращая фацецию в синоним басни и
аполога, он включает повестушки Поджо в сферу поэтического вымыс¬
ла — который по самой своей сути подлежит моральному истолкованию.
Другим примером пристального внимания к жанровой «нечистоте»
фацеции-аполога может служить перевод микроцикла Поджо, посвя¬
щенного чудесам и чудовищам (фацеции 31—34). Данные рассказы во¬
шли и в состав назидательных сборников Штейнхёвеля-Машо — скорее
всего, благодаря своему формальному сходству с «басней о животных».
В переводе Машо они объединены в одну «басню»: «Басня v рассказыва¬
ет о некоторых чудовищах»107. Тардиф, верный оригиналу, сохраняет чле¬
нение на отдельные фацеции, однако, подобно Машо, создает из них как
бы единый блок историй о чудесах Бога и природы, выделенный общим
вступлением и общей морализацией и состоящий из четырех «частей»
(partie), или «глав» (chapitre). В № 22, открывающем цикл «О чудовищах
и удивительных чудесах, каковые встречались на земле в то время, ког¬
да писалась сия книга», Тардиф поясняет читателю (королю), почему эти
инородные истории присутствуют в сборнике забавных повестушек. Ре¬
шающим аргументом для него служит ссылка на те беседыу какие «в ре¬
альности» происходили при курии: «Оттого, что разум человеческий не
всегда скоро находит вещи одного содержания», веселые рассказчики
105Ibid. Р. 153.
106Новейшее (и единственное полное) критическое издание трактата см.: Legrand /.
Archiloge Sophie. Livre de bonnes meurs / Ed. critique avec introd., notes et index par
E. Beltran. Paris, 1986 (Bibliotheque du XV siecle).
l07Ruelle P. Ed. cit. P. 262.
^72^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе..^
«...не всякий раз могли найти забавную материю, или же, случалось,
время и день не были подходящими для разговоров о такой материи, и по¬
тому приходилось им проводить время за иными занятиями, а посему Под-
жо включил в книгу свою несколько глав, какие являются не фацециями,
но лишь повествованиями (narratifs) о некоторых различных и на размыш¬
ления наводящих вещах, что иногда вызывают изумление у людей <...>
А потому в сем переводе, дабы никто не мог упрекнуть его в неправиль¬
ности или в неполноте, главы, в каковых повествуется о сказанных чудесах
и чудовищах, переведены и изложены так, как сказано о том латинскими
словами...»108.
Фактором, объединяющим фацеции в рамках сборника, оказыва¬
ется риторический контекст. Кроме того, в полном соответствии с
прологом, Тардиф рисует Поджо и его собеседников людьми не только
просвещенными и красноречивыми, но и благочестивыми. В отличие
от Машо, чья «пятая басня» не содержит никакой морали, он заклю¬
чает свой микроцикл выводом, позволяющим «дать верное мораль¬
ное толкование и понять, что именно означает повествование Поджо,
Флорентийца, о сих чудовищных, ужасных и дивных вещах». Поджо,
полагает переводчик, хотел показать читателю, что не следует прово¬
дить все время в забавах, развлечениях и «отдохновенных речах, для
вящего удовольствия сказанных», но иногда, «в то время и в те дни,
что подобают для великого покаяния и благочестия», следует вспоми¬
нать о деяниях Спасителя, которые «изумительны и дивны в нашем
разумении»109. «Фацеции», таким образом, принадлежат не только вре¬
мени ученого досуга, otium, но и времени сакральному, доставляя госу¬
дарю образцы «речений», уместных в самых разных обстоятельствах —
от непринужденной беседы до рассуждений о всемогуществе Божием.
Машо, перелагая Поджо, сводит фацеции к абстрактной, вневремен¬
ной по определению, сюжетной схеме басни, или «примера», которая,
как верно подметил Тардиф, вводится словом «однажды» (или «неког¬
да», jadis). Вполне естественно, что его перевод почти полностью лишен
отсылок к «Вральне» и иным обстоятельствам рассказа: для exempla
они несущественны110. Опущены также все сколько-нибудь конкретные
географические и «местные» реалии. Тардиф идет по иному пути. При
108Les Facecies de Poge, Florentin, traitant de plusieurs nouvelles choses morales...
P. 68—69.
109Ibid. P. 76—77.
110Мотив «компании» иногда встречается как рудимент исходного текста, но по¬
скольку устный характер не является специфической жанровой чертой басни, у
Машо он повисает в воздухе: отчасти актуализованы лишь ссылки на свидете¬
лей в «басне» о чудовищах.
^73^
§ III
выборе фацеций для перевода111 он отдает явное предпочтение сюжет¬
ным историям, редко обращаясь к чистым motti, которые изобилуют у
Поджо: motto практически не поддается морализации и обычно пред¬
полагает знакомство с реалиями и историческими персонажами, из¬
вестными в гуманистических кругах, но не при дворе французского
короля. Прежде всего, он перелагает фацеции, близкие по направлен¬
ности к средневековой повествовательной традиции с ее насмешками
над порочными священнослужителями и развратными женщинами.
Ни на миг не упуская из виду своей задачи — представить царствен¬
ному слушателю примеры высокого красноречия, — он по-новому рас¬
ставляет в них смысловые акценты.
Интересно, как оба переводчика толкуют первую фацецию Поджо,
в оригинале озаглавленную «Об одном бедном матросе из Гаэты» (“De
caietano paupere nauclera”). Машо дает ей название «Басня о том, как
жена обманула мужа», сразу актуализуя отсылку к традиции exempla
и особенно фаблио — жанру, сюжетный инвариант которого сводит¬
ся именно к любовному треугольнику112. Мораль басни заявлена уже в
первой строке: «Хитрость женщины поразительна...»; герой ее из мо¬
ряка превращен в купца, традиционного «обманутого мужа» фаблио.
До предела сжимая повествование, августинец оставляет от него голую
фабулу, не привязанную ни ко времени, ни к пространству: жена купца,
считая мужа умершим, влюбляется в другого; блага, полученные ею за
время мнимого вдовства, являются не изначальной целью измены, но
побочным результатом типичной ситуации. Поэтому и реакция мужа
на «божьи дары» также типична для фаблио: разгадав хитрость женщи¬
ны, он предупреждает: «Остерегайтесь, чтобы он [Бог] больше не делал
вам детей, иначе, коли обнаружу я его в доме, быть ему битым»113.
Тардиф, как и Машо, изменяет название фацеции — однако в совсем
ином направлении: «О бедном Рыбаке, что славил и хулил Господа в один
и тот же час». Комизм рассказа, таким образом, состоит в словесной ре¬
акции мужа, забавной в двуединстве славословия и богохульства. Об¬
наружив, что за годы его отсутствия жена с помощью «Бога» обрела не
шИзвестно, что состав «Фацеций» Поджо сильно варьировался: если в рукопис¬
ной традиции сборник включал 330 «повестушек», то во всех первых латинских
изданиях (включая и издание “Au Soufflet Vert”) их число сократилось до 273. На
итальянский язык переводилось еще меньше — 177 фацеций в печатном изда¬
нии 1500 г., 169 — в изданиях 1531 и 1547 гг. (Montaiglon A. Preface // Les Facecies
de Poge, Florentin, traitant de plusieurs nouvelles choses morales... P. IV—IX). Пере¬
вод Тардифа, включающий 115 текстов Поджо, относится, для данной эпохи, к
числу наиболее полных.
112См. об этом, в частности, классическую работу П. Нюкрога: Nykrog Р Les Fa¬
bliaux: Etude d’histoire litteraire et de stylistique medievale. Copenhague, 1957.
mRuelle P. Ed. cit. P. 253.
^74^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
только достаток, но и потомство, он, по крайней мере эксплицитно, не
подвергает сомнению ее слова — но впадает в своего рода помешатель¬
ство, которое в глазах переводчика (как известно, наставлявшего короля
и в благочестии) оправдывает богохульство114. Действие разворачивается
в Гаэте, бедном рыбачьем городке, и предпосылкой его служит не при¬
родное распутство женщины, а нужда («ибо люди без денег наполовину
мертвецы»115). Молодая жена постоянно попрекает мужа убожеством их
совместного хозяйства; именно поэтому он решает отправиться за море
«на добычу», а женщина изменяет ему, не столько следуя коварной жен¬
ской природе, сколько поддавшись на дары и обещания любовника. При
этом все конкретные детали, приведенные Поджо, сохранены и приум¬
ножены: Тардиф описывает бедный домишко и скарб, оставленный жене,
чтобы затем ярче оттенить богатство, представшее взору изумленного
супруга через несколько лет. Даже детей оказывается трое, хотя для раз¬
вязки сюжета необходим (как у Поджо) только один. Если для Машо
важно подчеркнуть традиционность сюжета и морали «басни», то Тар¬
диф усиливает повествовательные и описательные элементы рассказа,
который обладает собственным, имманентным ему смыслом, не вполне
совпадающим с эксплицированным в конце «моральным» выводом: ни¬
кого нет изворотливее дурной женщины, а потому «нет человека столь
невежественного, который бы временами не понял или не заметил отча¬
сти ее уловки и ложь»116.
Различия в подходе двух переводчиков к средневековому «антифе¬
минизму» особенно наглядно проявляются в их обработках 6-й фаце¬
ции Поджо — «О вдове, воспылавшей страстью к нищему» (“De vidua
accensa libidine cum paupere”). У Машо мораль «басни» вынесена уже в
заглавие: «Басня, в коей говорится о лицемере и вдовой женщине». Как
и Поджо, он начинает рассказ с осуждения лицемерия, которое, как из¬
вестно, считалось в средневековой дидактической литературе одним из
величайших пороков; однако смысл пассажа у него претерпевает суще¬
ственную трансформацию. Если Поджо от лица собравшейся компании
клеймит лицемеров, которые принимают блага и почести якобы против
воли, то Машо стремится дать определение лицемерию как таковому:
«...Пускай и пожелает лицемер помочь какому нуждающемуся, все рав¬
но внутри него как бы пятно, а именно, он скорей предпочтет увидеть,
как добрый человек умрет, нежели захочет ему помочь без чьей-либо
просьбы и обещания денег или иных богатых даров, и эта-то наклон-
1МУ Поджо, апостолического секретаря курии, мотив «помешательства» отсут¬
ствует: ведь муж «в негодовании» хулит не Бога, но его «человеческое подобие».
Тардиф, как мы видим, гораздо более осторожен в этих вопросах.
115Les Facecies de Poge, Florentin, traitant de plusieurs nouvelles choses morales... P. 8.
116Ibid. P. 10.
£75^
§ш
¥
*
ность и именуется лицемерием»117. Логично предположить, что эти сло¬
ва относятся к «лицемеру», упомянутому в заглавии; однако в тексте
все обстоит иначе.
Следуя за Поджо, Машо подчеркивает красоту «божьего человека» и
его добродетель — с одним, но весьма показательным отличием: если
у итальянского гуманиста нищий, славящийся своим благочестием, но¬
сит прозвище «Блаженный», то в переводе прямо утверждается, что он
был «доброй жизни». Введение мотива молвы, воплощенной в прозви¬
ще, подготавливает в фацеции разоблачение лицемерной святости; в
«басне» моральная чистота нищего не вызывает сомнений: когда вдова
открывает ему свои намерения, он сопротивляется, «охваченный сты¬
дом». Уступая даме, он твердит, что грешит помимо воли и потому бре¬
мя греха ложится на нее. Порок лицемерия воплощается в фигуре лю¬
бострастной вдовы: именно она отмечена «пятном», позволяющим ей
намеренно заманивать нищего подаянием и вкусными обедами в жаж¬
де вознаграждения за свою милостыню. Такой «перенос функции» по¬
зволяет Машо снять скабрезный финал фацеции, где лицемерие «Бла¬
женного» проявляется во всей полноте (нищий предлагает женщине
взять грех на себя и самой воспользоваться его «проклятой плотью»,
делая вид, что не имеет к ней никакого отношения).
Иначе у Тардифа. Опустив начальный пассаж о лицемерии, он от¬
крывает свою фацецию «О вдове, что влюбилась в нищего» изложением
конкретных обстоятельств истории: «Во времена, когда ученики Иису¬
са Христа бродили по стране и имели обычай садиться у порога домов,
не прося милостыни...»; лишь значительно позже, в придаточном пред¬
ложении, он приводит фразу, с которой начинает фацецию Поджо: «Ли¬
цемеры — худший род людей, какие только существуют на свете»118. Его
нищий впервые появляется у дверей вдовы, и та немедленно возгорает¬
ся страстью к красавцу. Именуя вдову «лживой старухой» (faulce vieille),
Тардиф актуализует распространенный средневековый топос похотли¬
вой старухи и тем самым как бы снимает с женщины обвинение в лице¬
мерии: ее фигура наделяется иной традиционной функцией. Сохранен и
финал фацеции. Морализация не оставляет сомнений в том, кто имен¬
но является лицемером: «В фацеции этой дано понять, что многие при¬
кидываются невинными как агнцы, в то время как они хитры, словно
лисы, и даже делают вид, будто им нет никакого дела до того, что им бы
хотелось рбрести»119. Казуистика святоши является комическим пуан¬
том рассказа, который отнюдь не сводится к иллюстрации морального
niRuel\e Р. Ed. cit. Р. 254.
118Les Facecies de Poge, Florentin, traitant de plusieurs nouvelles choses morales... P. 24.
ll9Ibid. P. 26.
£76^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
^ ^
тезиса: повествование у Тардифа самодостаточно, «моральный смысл»
извлекается из него, но не определяет его построения.
Прекрасной иллюстрацией этой самостоятельной ценности пове¬
ствования может служить обработка Тардифом 36-й фацеции Поджо «О
священнике, который похоронил собачку» (“De sacerdote qui caniculum
sepelivit”); сюжет ее был известен в средневековой французской тради¬
ции, в частности, по фаблио «Завещание осла». Машо в «басне» 6 («...В
коей говорится о кюре, что похоронил собаку на кладбище, о чем доло¬
жено было епископу»), как обычно, сводит его к краткой иллюстрации
«морали»: «Деньги делают все, даже очищают оскверненное место». На¬
против, у чтеца Карла VIII фацеция по объему едва ли не вдвое превы¬
шает оригинал; более того, в ней появляются мотивы, отсутствовавшие
у Поджо. В средневековой традиции (которой в данном случае следуют
и итальянский гуманист, и монах-августинец Машо) священник хоро¬
нит животное на кладбище по большой к нему любви — у Тардифа же
он замышляет хитрую проделку, beffa, имеющую одну лишь цель: разо¬
блачить перед всеми сребролюбие епископа. Поэтому погребение пса он
совершает не тайно, а в присутствии всех своих прихожан. Если у Под¬
жо и Машо он повинен главным образом в недомыслии120, то beffatore
Тардифа кощунствует сознательно, помогая переводчику указать госу¬
дарю на моральный упадок высшего духовенства: «В фацеции этой по¬
казан великий порок, царящий в Церкви из-за алчности Прелатов, ко¬
торые берут взятки деньгами и довольны подчиненными своими, какое
бы зло те ни сотворили, и не наказывают их, лишь бы те доставляли им
денег, хотя бы грех был велик и всем известен.. .»121.
Переосмысление фацеций с учетом их державного слушателя, которому
они призваны помочь вершить “chose publique ’ — одна из главных особен¬
ностей перевода Тардифа. Этой цели подчинены даже те сюжеты Поджо,
которые, на первый взгляд, крайне далеки от государственных проблем.
Такова, например, 43-я фацеция (“De adolescentula que virum de parvo
priapo accusavit”), где молодая жена обвиняет мужа в физическом изъяне,
сравнив его достоинства с ослиными. У Машо она служит примером «без¬
умия» девушки-простушки — еще одного традиционного персонажа фа¬
блио. Тардиф же, расширив рассказ и обогатив его целым набором эроти¬
ческих метафор, превращает его в предостережение государю против тех,
«кто никогда не бывает доволен, но чем более благ имеет, тем более желает,
как эта девушка...»122. Случается, впрочем, что именно ориентация на ко¬
120Любопытна оговорка Поджо: по его словам, епископ решил наказать священ¬
ника, «как если бы тот совершил большое преступление» // Поджо Браччолини.
Фацетии. С. 47.
l21Les Facecies de Poge, Florentin, traitant de plusieurs nouvelles choses morales... P. 80.
122Ibid. P. 95—96.
^77^
роля заставляет его опускать эксплицитную «мораль», присутствующую у
итальянского гуманиста. Так происходит, например, в его фацеции 2 — «О
враче, который лечил слабоумных и безумных» (“De medico qui dementes et
insanos curabat”). Идея бессмысленности охоты, которую проповедует Под-
жо устами «естественного человека» — близкого к излечению, но потеряв¬
шего память безумца, — вряд ли была уместна в книге, предназначенной
королю: известно, каким страстным любителем этого развлечения был
Карл VIII, по велению которого Тардиф создавал свой трактат об охотни¬
чьих соколах и собаках. Поэтому, в отличие от Машо, который повторяет,
несколько переиначивая, заключительную сентенцию Поджо123, Тардиф в
данном случае воздерживается от каких-либо выводов; фацеция говорит
сама за себя. Косвенным подтверждением его позиции, отразившейся в
прологе к «Искусству соколиной и псовой охоты», можно, по-видимому,
считать перевод речей безумца из прямой речи в косвенную: благодаря
этому приему они как бы сближаются с авторским словом.
К сожалению, первое издание фацеций Поджо в переводе Тардифа,
скорее всего, не сохранилось, и о нем приходится судить лишь по кос¬
венным данным124. Напротив, до нас дошло editio princeps его перево¬
да «Апологов» Валлы и «Моральных Речений» Петрарки125; уникальную
123Поджо: «Этим он [безумец] хотел показать, что охота самое большое безумие.
Только изредка для людей богатых она может служить телесным упражнением»
// Поджо Браччолини. Фацетии. С. 28. Машо: «изучать соколиную и псовую охо¬
ту есть занятие праздное, и никто не должен им заниматься, коли нет у него
больших доходов или же не является он богатым и знатным сеньором» // Ruelle
Р. Ed. cit. Р. 261.
124Л. Соцци указывает, что оно должно было появиться не позднее 1496 г., ибо в
составленном в этом году каталоге королевской библиотеки замка Коньяк фи¬
гурирует книга переводов Поджо (Sozzi L. Op. cit. Р. 455). Учитывая, что «Фа¬
цеции» упомянуты самим Тардифом в прологе к переводу Л. Валлы (ок. 1493),
окончание работы над ними следует отнести к самому началу 90-х гг.
125Помимо экземпляров на бумаге, предназначавшихся на продажу, Вераром был
изготовлен уникальный экземпляр на велени специально для поднесения коро¬
лю (B.N. Res. Velins 611). В нем на первом листе, перед прологом Тардифа, по¬
мещена миниатюра, изображающая сцену вручения книги Карлу VIII. Заметим
к слову, что в критическом издании текста «Апологов», подготовленном П. Рюэ-
лем (Ruelle Р. Les “Apologues” de Guillaume Tardif et les “Facetiae morales” de Laurent
Valla... P. 59, 60), коленопреклоненная фигура ошибочно отождествляется с Тар¬
дифом, а аналогичный персонаж другой миниатюры, которая распо/южена на
листе 2 (и гравюра с которой встречается в ряде изданий Верара) — с Арнальдо
Фенолледой. Однако первым «дарителем» выступает сам Верар, по обыкнове¬
нию фиксирующий свою роль в создании книги (см.: Winn М.В. Anthoine Verard,
Parisian Publisher... P. 86—88); второй же персонаж является обобщенным изо¬
бражением автора данного текста, т.е. переводчика. Таким образом, «авторство»
книги как бы иерархически структурировано: «автором» подносного экземпля¬
ра является Верар (характерно, что в экземплярах на бумаге сцена поднесения
книги королю отсутствует); автором текста выступает Тардиф, чье посвящение
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе..^
книгу, выполненную Антуаном Вераром, отличает бесспорная целост¬
ность авторского и издательского замысла, в котором наиболее ярко
воплотилась ориентация на создание «королевской риторики».
Возможно, наиболее интересной — и, безусловно, наименее изучен¬
ной126 — частью данного сборника является перевод «Фацеций» Пе¬
трарки, дополненный, как уже говорилось, приблизительно полусотней
высказываний греческих философов, заимствованных из Диогена Ла¬
эртского. Каковы были причины, побудившие чтеца Карла VIII вслед за
«апологами» боготворимого им Валлы поместить избранные фацеции
Петрарки? С одной стороны, формальным поводом для этого стало объ¬
единение обоих auctores итальянского гуманизма в рамках уже суще¬
ствующей традиции, которая получила отражение в латинском издании
Валлы, Петрарки (и Поджо?) печатней “Au Soufflet Vert” С другой, — пере¬
водчик, адресуя королю свой труд, исполненный признанным мастером
подносных экземпляров, преследовал цели более широкие, нежели слепое
воспроизведение латинско-гуманистического книжного узуса. Чтобы по¬
пытаться понять, как понимал Тардиф смысл своего предприятия (в ко¬
тором, напомним, сам он видел продолжение гуманистической деятель¬
ности предыдущего периода), следует обратиться как к особенностям
самого перевода, так и к традиции восприятия Петрарки во Франции.
Название «Моральные Речения», данное Тардифом текстам Петрар¬
ки, безусловно, лежит в русле рецепции основоположника итальянско¬
го гуманизма его первыми французскими собратьями, для которых, как
показал еще Ф. Симоне, он был, прежде всего, философом-моралистом:
первым его сочинением, переведенным Жаном Доденом по заказу Кар¬
ла V, стали «Лекарства от превратностей судьбы»127. Доден в своем про¬
логе, ставя стиль Петрарки в один ряд со стилем Цицерона и Вергилия,
подчеркивает при этом, что его сочинение исполнено «всяческих пло¬
дов нравственной доктрины». Той же позиции в отношении Петрарки
держался и Жан де Монтрёй. Вместе с тем, по утверждению Симоне,
перевод Тардифа плохо укладывается в данную традицию: призван¬
ный подчеркнуть лишь блеск остроумия гуманиста, он тем самым мо¬
жет быть противопоставлен переводу «Фацеций» Поджо128. Вероятно,
Карлу VIII следует непосредственно за первой миниатюрой и «дублируется» с
помощью второй; наконец, после нее идет текст письма-посвящения Валлы Ар-
нальдо Фенолледе.
126Указанная выше статья Дж. Момбелло (Mombello G. “Les ditz des sages hommes” de
Guillaume Tardif. Aspects litteraires et linguistiques) до сих пор, насколько нам из¬
вестно, остается единственным исследованием, специально посвященным этому
переводческому труду Тардифа; судьба же его критического издания, которое, по
словам Момбелло, находилось в стадии подготовки в 1986 г., остается неясной.
127Simone Е II Rinascimento francese... R 59—63.
l28Ibid. P. 168-169.
^79^
, § III ,
^^
Симоне исходил из пролога Тардифа, где «развлекательные» фацеции
Петрарки как бы образуют оппозицию «серьезным» апологам Валлы,
а также из того факта, что по количеству морализаций «Речения» не¬
сколько уступают «Фацециям». Однако, как мы постараемся показать,
задачи переводчика в обоих случаях оставались идентичными.
Из 49 фацеций Петрарки, которые входили в латинское издание,
вышедшее под маркой “Au Soufflet Vert”, переводчик, как и в случае с
Поджо, отбирает те, что представляются ему наиболее подходящими
для «королевского чтения»: книга Верара содержит 27 текстов, причем
один, 24-й по счету у Тардифа (о «счастливом» дереве, на котором по¬
весились три жены Пациния129), в латинском сборнике отсутствует и
заимствован либо из рукописной традиции, либо из голландского из¬
дания, вышедшего, по-видимому, в Утрехте около 1472 г. и содержав¬
шего 36 фацеций130. Сопоставление латинского и переводного сборни¬
ков позволяет заключить, что Тардиф отдает предпочтение фацециям,
повествующим о великих государях античности: именно их мудрость
129Включение в сборник рассказа о дереве, которое, по словам переводчика, весьма
«плодоносно и полезно для всех женатых людей» (Р. 262) — по-видимому, не
просто дань традиции средневекового «антифеминизма». Мораль этого расска¬
за, восходящего к «Знаменитым философам» Диогена Лаэртского («Увидев жен¬
щин, удавившихся на оливковом дереве, он [Диоген] воскликнул: “О если бы
все деревья приносили такие плоды!”» // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях
и изречениях знаменитых философов / Пер. М.Л. Гаспарова. М., 1979. С. 250. Кн.
VI, 52), у Тардифа нарочито двойственна: «Сим дано понять, что если у мужа
добрая жена, то жить с нею есть для него преддверие Рая, и точно так же сущий
Ад жить с женой дурною, и можно лишь молить, чтобы он нас от нее скорее из¬
бавил» // Idem. Р. 262. Не исключено, что этот (вполне традиционный по сути)
пафос прославления хорошей жены и поношения дурной так или иначе связан
со скандальными обстоятельствами семейной жизни Карла VIII, который 6 де¬
кабря 1491 г. женился на герцогине Анне Бретонской, до того будучи в течение
семи лет мужем Маргариты Австрийской (в то время как новая его жена менее
года назад стала супругой Максимилиана Габсбурга). Брак этот вызвал возму¬
щение многих, в том числе такого восторженного поначалу поклонника Карла,
как Жан Молине (см., например: Devaux J. Jean Molinet, indiciaire bourguignon.
Paris, 1996. P. 323—336). Можно предположить, что Тардиф, предназначая, как
мы помним, «моральные речения» для дальнейшего устного воспроизведения
королем, не случайно вставил в перевод историю, где освобождение от (посты¬
лой) жены представлено величайшим благом. Не следует также забывать, что на
миниаткуэе, открывающей книгу, Верар вручает ее Карлу и Анне.
шМотЬе11о G. Op. cit. Р. 204—206. Следует уточнить, что Тардиф не просто «сле¬
довал» голландскому изданию, как утверждает Момбелло, но производил отбор
фацеций с учетом адресата своей книги. Весьма вероятно также, что перевод¬
чик стремился представить королю аутентичные тексты Петрарки: голландский
сборник, наряду с сюжетами из “Rerum memorandarum libri”, включал интерпо¬
ляции, почерпнутые как из античных (Цицерон, Валерий Максим, Тит Ливий,
Плутарх), так и из средневековых (Вальтер Man, Винцент из Бове) авторов.
^80^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
(не «античность» как таковая и не остроумие современников) призвана
служить образцом «речевого поведения» для короля. В переводе после¬
довательно опускаются те фацеции, героями которых являются люди
малоизвестные и которые требуют слишком обширных пояснений. Так,
например, из фацеций об Августе выпадают истории о трагедии «Аякс»
и похоронах по старинному обычаю, а из раздела «Современные шут¬
ки» — все 6 фацеций, посвященных «нашему доктору Экзиму». Личные
гуманистические пристрастия заставляют Тардифа обойти также раз¬
дел об остроумных ответах Цицерона131. Вместе с тем, «учтивая и лю¬
безная речь» короля может опираться на суждения знаменитых поэтов
(Вергилий) или художников (рассказ о Луции Маллии, чьи картины
были прекрасны, а дети — уродливы).
Государь может почерпнуть из фацеций наставление в том, как вести
себя по отношению к своим подданным, стоящим на различных ступенях
социальной иерархии. Ему следует быть строгим с придворными, уметь
разгадывать их уловки и взыскивать за пороки. При этом гуманистиче¬
ский пафос фацеций последовательно переводится в систему сословной
морали, актуальную для французского двора. Так, например, переосмыс¬
лен ответ Августа своему приближенному, возжелавшему добавить к
нажитым при императоре богатствам еще и родовитость. Петрарка изо¬
бражает просителя «деревенщиной»132, подчеркивая его неотесанность —
не-принадлежность культуре. У Тардифа же речь идет именно о низком
социальном статусе персонажа: он «виллан», то есть не родовит133, но хо¬
чет стать «дворянином и пажом». Смещая акценты, переводчик вводит в
текст пассаж о типичности данной ситуации: «Некто состоял при дворе
сказанного Цезаря и пощипал от благ Императора, ибо хватал и правой
рукой и левой, и от множества птиц взял перья, как и поступают многие
Придворные»134 (выделено нами — И.С.). Поэтому слова о том, что импе¬
ратор знал «природу» своего подданного, получают иной смысл: у Пет¬
рарки Август имеет в виду духовное «мужланство» просителя, у Тардифа
же — его положение (condition), а также распространенный среди при¬
1310бщеизвестная неприязнь переводчика к Туллию сказывается и в других случа¬
ях. В третьей фацеции, пересказывая забавное словцо Августа по поводу избие¬
ния младенцев царем Иродом, он опускает его сравнение с Цицероном (по сло¬
вам Петрарки, кесарь по красноречию был “non... minor et fortasse пес Tullio”):
Август в его определении — «благородный император, превеликий шутник и
весельчак» (“noble Empereur treffacecieux & recreatif”). В дальнейшем тексты Пет¬
рарки приводятся по экземпляру издания “Au Soufflet Vert” // B.N. Res. Y2 892;
пагинация отсутствует); переводы Тардифа — по изданию 1877 г.: Les Apologues
de Laurent Valla, transl. du latin en fran^ois // Op. cit.
l32“ ..Subrusticus moribus et vita incultus quidam eius seruitor...” // Op. cit.
l33“Il estoit rural & de basse condition...” // Op. cit. R 242.
l34Ibid. P. 241.
^81^
§ III
4
дворных порок, а именно казнокрадство (именно оно выступает в роли
«природы», nature). Фацеция завершается выводом: «Сим дано понять,
что не должно стремиться и тянуться к вещи, коли не отвечает она состо¬
янию (estat, т.е. сословию) и благопристойности человека»135. В фацеции о
проницательном Веспасиане, разоблачившем хитрость приближенного-
взяточника, Тардиф также подчеркивает типичность описанных обстоя¬
тельств для придворной жизни. Емкой в своей неопределенности фразе
Петрарки «Некто из его домашних очень старался выпросить должность
для одного чужестранца, под предлогом двоюродного родства»136 соответ¬
ствует у него следующая характеристика царедворца: «Один из главных
приближенных сказанного Веспасиана, каковой ловко обделывал свои де¬
лишки, чему довольно примеров видим мы при Дворах Государей, и каковой
весьма был близок и вхож к сказанному Императору, старался всякий час
молить оного Веспасиана соизволить дать должность некоему чужестран¬
цу, коего выдавал он за своего двоюродного брата»137 (выделено нами —
И.С.). Кроме того, королевский чтец расширяет сюжет за счет разговора
Веспасиана с соискателем должности, в ходе которого государь поясняет,
что ему хочется «дать иногда понять своим хитрецам-слугам (mes gens de
finesses), что случается и мне бывать столь же хитрым». Слова императо¬
ра подготавливают мораль, которую выводит Тардиф из фацеции: «Сим
дано понять, что весьма уместно и полезно для состояния дел государ¬
ственных, когда Государи показывают тем, кто состоит у них на службе,
что прекрасно понимают их обычаи»138. В том же ключе расширен и ответ
Веспасиана взяточнику139.
С другой стороны, государь должен воздавать должное тем, кто ра¬
деет о его славе или удовольствии. В этом, согласно Тардифу, состоит
«моральный смысл» фацеции о Луции Целии, получившем от Юлия
Цезаря в награду за игру в мяч 50 «экю» вместо 100 за то, что играл од¬
ной рукой: «Сим дано понять, что те, кто более трудится и имеет более
заслуг, должны получать большее вознаграждение»140. Ему следует быть
135Ibid.
136"Vnus ex domesticis cuidam externo sub obtentu germanitatis officium impetrare nite-
batur...” // Ibid.
137Ibid. P. 251.
138Ibid. P. 253.
139Если у Петрарки он просто говорит «Ищи себе другого брата, ибо тот, которого
ты почитаешь своим, мой брат» (Alium tibi fratrem quere, hinc quern tuum putas
meus est), то у Тардифа растолковывает, отчего искатель должности из «брата»
взяточника превратился в «брата» Веспасиана: «Ищи себе другого брата, ибо
тот, кого ты называешь своим братом, теперь мне ближе, чем тебе, и скорее мой
брат, нежели твой, ибо уделил мне, не скупясь, от своего добра, как брату своему
и другу» // Ibid. Р. 253.
140Ibid. Р. 255.
^82^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
милостивым к беднякам, и даже к их уловкам, если они направлены на
его прославление. Такой смысл Тардиф придает переводу микроцикла о
ловких бедняках (“De ingenio pauperitatis”), которые после победы Ав¬
густа над Антонием подносят ему ворона, предварительно обученно¬
го славить кесаря. Переводчик стремится подчеркнуть в этом рассказе
идею достойного вознаграждения за труд — сначала вкладывая соот¬
ветствующую реплику в уста Августа, обращающегося к придворным
(«Сеньоры, вот, конечно, уловка великая и хитроумная, но достигнута
она многократным повторением и великими трудами»141), а затем со¬
провождая фацецию собственной моралью: «Сим дано понять, что го¬
сударям пристало быть щедрыми и щедро вознаграждать тех, кто ради
любви к ним предается трудам либо тяготам».
Однако и подданные государя ни в чем не должны противиться его
велениям и желаниям. В доказательство этого тезиса Тардиф переводит
(и истолковывает) фацецию о совете мудреца афинянам, отказывав¬
шимся воздавать божеские почести Александру Македонскому. Корот¬
ко комментируя реплику советчика о том, что, отказывая царю в не¬
бесах, жители Афин могут утратить землю, Петрарка замечает: «Слово
[его] столь же мудро, сколь и шутливо. Кто в малом отказывает власть
имущим, большее позволяет»142. Тардиф же сопровождает фацецию вы¬
водом: «Сим дано понять, что не должно ни в чем перечить Королям и
Государям земным, во власти которых лишить жизни своих непокор¬
ных подданных»143. Очевидно, что смысл истории существенно изменен:
итальянский гуманист видит в ней скорее формулу собственного поли¬
тического опыта, французский — подтверждение той иерархии земной
и небесной власти, которая лежала в основании средневековой соци¬
альной системы. Идея внутренней устойчивости государства проведена
иногда настолько тонко, что ее можно выявить только при сопоставле¬
нии с латинским оригиналом. Так, среди поучительных рассуждений о
причинах упадка некогда могучих государств две фацеции посвящены
пагубной власти денег. Героем первой из них выступает у Петрарки Гней
Помпей — знаменитый полководец, который, наряду с Цезарем, вошел
в первый триумвират, но после его распада повел против Цезаря оже¬
сточенную борьбу. Под пером же переводчика Помпей превращается в
Гая Понтия, «герцога Санитов» (Due des Sanitiens), т.е. в военачальника
самнитов, победившего римлян в 321 г. до н.э. и впоследствии убитого
ими. Нет оснований полагать, что «переатрибуция» фразы о неизбеж¬
ном упадке Рима из-за продажности власти вызвана неправильным
l4lIbid. Р. 245.
l12“Non minus sapienter dictum que festine. Qui enim potenti minora negat maiora per-
mittir // Ibid.
l43Ibid. P. 257.
^83^
§ III
*
прочтением источника (отличавшегося, как уже было сказано, редким
качеством подготовки и исполнения) или «необразованностью» Тарди-
фа. Речь, на наш взгляд, идет о сознательной и крайне показательной
замене. Подчеркивая, вслед за Петраркой144, справедливость суждения
персонажа («ни одна Империя, Королевство либо Сеньория не может
процветать долго, если правители оной продаются за деньги»145), Тардиф
не может оставить его в устах человека, ставшего виновником государ¬
ственной смуты: из фацеций изгоняется даже намек на возможность
мятежа; с другой стороны, «внешнее» военное противостояние само по
себе не лишает противника права на обладание моральной истиной, а
значит, и на остроумное и верное высказывание.
«Идеальный» государь «Речений» — это, прежде всего, полково¬
дец. Поэтому в переводе Тардифа сохранены практически все фаце¬
ции об Александре Македонском146; чтец Карла VIII превращает их в
апологию тех добродетелей, которые способны еще более возвысить
короля — доблестного воина и христианина. У Петрарки Александр,
отвечая «некоему человеку» (quidam), упрекавшему его за личное уча¬
стие в сражениях, говорит: «Не подобает, чтобы я отдыхал, а другие за
меня воевали»147. У Тардифа царь возражает на упрек своего советника:
«Великой было бы с моей стороны трусостью спать и предаваться от¬
дыху, когда верные мои подданные подвергают тела свои опасности и
испытанию ради меня и ради моей страны»148. С помощью нескольких
слов Тардиф вводит в реплику целую систему средневековых социаль¬
но-нравственных ценностей: оппозиция «я/другие», предполагающая
военное братство на поле битвы, замещается оппозицией «государь/
подданные», где государь к тому же отождествлен со «страной», гла¬
вой и символом которой он выступает; возникает отсылка к главному
эпическому пороку — трусости; наконец, имплицитно заявлена оппо¬
зиция «тело/душа», которая в данном контексте несет на себе всю ду¬
ховную нагрузку, связанную с идеей смерти за родину и государя. Из¬
менен и смысл следующей фацеции — о женах побежденных врагов.
В латинском сборнике Александр, отвергая трофей, произносит: «Не
пристало тому, кто победил мужей, властвовать над женами»149. В пере¬
воде же недруги искушают царя, доставляя ему «всех самых красивых
144“Videbat enim imperium donis corruptibile diuturnum esse non posse” // Ibid.
145Ibid. P. 253.
^Единственная фацеция об Александре, пропущенная в переводе — о гордой ре¬
плике царя перед лицом стотысячного войска Дария («добрый пастух не боится
большого стада»), — лишь подтверждает наш вывод.
147“Alios pro me bellare me quiescente inconueniens est” // Ibid.
148Ibid. P. 264.
l49"Non decere eum qui viros vicit / superari a mulieribus” // Ibid.
^84^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
жен погибших» не в качестве военной добычи, но для того, чтобы его
«обмануть и победить» (decevoir & vaincre). Но прозорливый государь
разгадывает их замысел и не поддается греховному соблазну: «Не по¬
добает, чтобы Король, одержавший победу над мужчинами, изнежился
и оказался побежденным, во власти безумных женщин (estre effemine,
vaincu, ou surmonte par folles femmes)»150 — тем самым, согласно мора¬
лизации переводчика, «давая понять, что Королям и Государям долж¬
но быть во время войны и сражения чистыми и сдержанными и преда¬
ваться честным и добродетельным занятиям».
Античные государи могут даже (при соответствующем толковании)
служить для короля образцом истинно христианского смирения перед
смертью. В рассказе о шутке умирающего Веспасиана, который призы¬
вал не сожалеть о его болезни, ибо благодаря ей он сделается одним из
богов, Тардиф опускает уточнение Петрарки о посмертном обожествле¬
нии римских императоров151: ссылку на античный обычай, важную для
Петрарки, но неуместную в «королевской» риторике, Тардиф заменяет
моралью, интерпретируя юмор Веспасиана в духе «Искусств умирать»:
«...Государю великодушному отнюдь не должно бояться смерти, ибо
если жил он добродетельно, то следует ему верить, что будет он возне¬
сен на Небо и причислен к блаженным, где удвоится слава его»152.
Как и в фацециях Поджо, «государственному» толкованию подвер¬
гаются у Тардифа «речения» иногда самого неожиданного содержания.
В сентенции Августа по поводу избиения младенцев царем Иродом Пет¬
рарка видит остроумный намек на обычай евреев не есть свинины153;
Тардиф же, сохраняя комментарий Петрарки как свидетельство обра¬
зованности Августа (который был, по словам переводчика, «весьма све¬
дущ в религии и законе Иудейском»), выводит из рассказа иную мораль:
«Сим дано понять, что величайшую бесчеловечность являет тиран, когда
велит неправедно и беспричинно убивать своих собственных детей»154.
Богослов Тардиф словно не ведает об истинных причинах избиения мла¬
денцев: его цель — поднести государю образец изречения, отвечающего
«королевской» тематике и применимого в беседе с приближенными.
Между тем, мораль, которую выводит Тардиф из фацеций, может
вступать в прямое противоречие с ее содержанием: королевскому чте¬
цу не всегда удается примирить тот блеск самодостаточного остроумия
и красноречия, который служит главной ценностью для Петрарки, с
l50Ibid. Р. 265.
l51“Alludens predecessoribus suis deorum numero relatis...” // Ibid.
152Ibid. P.253.
l53“Cum inquit cesar herodis porcum esse malimque filium. Alludens mori hebraico. sic.
n. carnibus suillis sicut humanis abstinent” // Ibid.
154Ibid. P. 238.
^85^-
§ III
*
4
традиционным христианским представлением о нравственных нор¬
мах. Так, рассказ об Августе, повелевшем доставить себе кровать умер¬
шего римского всадника (romanus eques), на которой тот, невзирая на
огромные долги, забывался спокойным сном, иллюстрирует у него пря¬
мо противоположную истину: «неразумен тот, кто обременен долгами,
коли не старается неусыпно с ними рассчитаться»155. Дабы сгладить
противоречие, Тардиф снова прибегает к мотиву государственных дел,
бремя которых тяготеет над государем. Его Август, обращаясь к «не¬
веждам» (ignorans) поясняет свою необычную просьбу: «Не удивляй¬
тесь, что хочется мне обладать сей кроватью и постелью, ибо она по¬
зволит мне заснуть, когда устану я думать о делах моей Империи, ибо
сказанный служитель наш, что был тесним и отягощен столькими дол¬
гами, нимало не терял на ней сна, но спал и отдыхал так, словно уже
расплатился и не имел забот»156 (выделено нами — И.С.).
Дидактический характер «Моральных Речений» не подлежит сомне¬
нию; больше того, если в «Фацециях» Поджо морализация и повество¬
вание уравновешивали друг друга, то при переложении Петрарки Тар¬
диф безусловно подчиняет его sales общей идее наставления государя,
нередко изменяя в угоду проповедуемому нравственному принципу
само их содержание. Задача, которую он ставит перед собой, заставля¬
ет вспомнить функции многих представителей школы «великих рито-
риков» при герцогах Бургундских157. Однако, как мы помним, главную
цель сборника Тардиф видит в предоставлении королю риторических
образцов, позволяющих поддерживать просвещенную беседу. В этой
связи особый смысл приобретает фацеция о бедном и богатом, кото¬
рую кратко излагает Петрарка со ссылкой на Квинтилиана и которая
претерпевает у Тардифа значительную и крайне показательную транс¬
формацию, позволяющую в известном смысле считать ее выражением
взглядов королевского чтеца на природу и функции риторики.
l55Ibid. Р. 240.
156Ibid. Р. 239—240.
157С функциональной точки зрения переводческий труд Тардифа (как и издатель¬
ская деятельность Верара) представляет собой очевидный аналог творчества
«риториков», которое, напомним, именно в этот период, и не в последнюю оче¬
редь благодаря Верару, получило известность при французском дворе. В наши
цели! не входит сопоставительный анализ социокультурного статуса придвор-
ных-поэтов (в широком смысле) и исповедуемых ими литературных принципов.
Отметим лишь тот факт, что бургундские риторики, как правило, подносили го¬
сударю свои оригинальные творения — тогда как чтец Карла VIII предпочитает
выступать в роли переводчика. Среди причин этого кардинального различия
следует назвать в первую очередь весьма проблематический литературный ста¬
тус народного языка в гуманистической среде и, с другой стороны, — непосред¬
ственно связанную с ним идею соперничества с Италией.
^86^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
Фацеция Петрарки по объему не превышает трех строк: бедный и бо¬
гатый судятся, богач именует бедняка «богатым болтливостью» (“diuiti
loquentem increpanti pauperem”), бедняк же возражает, что владение сло¬
вом не зависит от владения имуществом. Тардиф, для которого Квин¬
тилиан (в отличие от Цицерона) был непререкаемым авторитетом, по-
видимому, счел тему фацеции столь важной, что, обратившись через
голову Петрарки к первоисточнику, развернул перед королем обстоя¬
тельное сюжетное повествование, построенное (случай для французско¬
го гуманиста уникальный) на метафоре. Судебная тяжба между бедным
и богатым соседом разгорается из-за ульев бедняка, в которые богач
сыплет отраву под тем предлогом, что пчелы портят цветы в его саду.
У Петрарки вопрос о виновности богача не стоит: чтобы подчеркнуть
остроумие ответа, достаточно лишь ссылки на неравенство тяжущихся
сторон. Напротив, Тардиф повествует о том, как богач отнимает у сосе¬
да его последнее добро; поэтому его бедняк не просто констатирует, что
красноречие не зависит от обилия благ земных, но провозглашает свое
право на него как на единственную собственность, еще остающуюся в
его распоряжении: «Коли уж вышло так, что по твоей злонамеренности
утратил я все, чем владел, то остается мне одна лишь бедная моя речь,
которой ты, хоть и богат, лишить меня не можешь»158. По эксплицит¬
ному своему содержанию фацеция примыкает к циклу о хитроумных
бедняках, перекликаясь с другими (нередкими у Тардифа159) сюжетами,
демонстрирующими, что не следует излишне притеснять бедняков. Од¬
нако мотив пчелы и цветов отсылает ко второму, скрытому смыслу рас¬
сказа. Как известно, этот образ, восходящий к античности, превращен¬
ный гуманистической традицией в топос и перешедший в этом качестве
в поэзию на народном языке, самым тесным образом связан с представ¬
лением о красноречии: как говорит Лукреций в «Природе вещей», поэт
подобен пчеле, которая, летая «по лугам цветоносным», собирает мед
l58Ibid. Р. 267. Эти слова почти буквально повторяются и в морализации: «Сим дано
понять, что никто, будь он даже самым богатым и могущественным человеком,
не может отнять у бедняка того, что принадлежит ему от природы, пускай даже
способен он лишить его даров фортуны» // Ibid.
159В качестве наиболее показательного примера можно привести тот «моральный
смысл», который королевский чтец выводит из аполога XXI Лоренцо Валлы,
басни о коне и осле: «В вышесказанном апологе и басне показано и дано понять,
что богатые и власть имущие жители городов не должны возлагать на бедных
крестьян и поселян все бремя поборов и налогов, каковые установлены для них
князьями ради сохранения государства (chose publicque), но должны облегчить
его для них и платить часть сказанных налогов, ибо когда бремя крестьян и се¬
лян будет столь тяжким, что их лишат всякого пропитания и совсем ощиплют,
то впоследствии придется богатым и власть имущим доставлять и платить все»
// Ruelle Р. Op. cit. Р. 78—79.
^87^
§ III
*
4
«слов золотых»160. Метафора «меда» поэзии, рождающегося из много¬
цветной мудрости auctores, лежит в основе гуманистической идеи loci
communi, превращенной в программу именно Петраркой. Таким обра¬
зом, богач, отравив пчел, лишает бедняка не просто последнего источ¬
ника дохода, но и, символически, способности к красноречию. Отсюда
его нелогичный довод, что пчелы соседа «портят» цветы, и удивление
«разговорчивостью» потерпевшего в суде. Отсюда же и показатель¬
ная (отсутствующая у Петрарки) ссылка Тардифа на «природу», кото¬
рая предоставила бедняку речь в неотчуждаемое владение. В первый (и
единственный) раз чтец короля прибегает в своих переводах к аллего¬
рии: «прирожденное» красноречие бедного в контексте фацеции означа¬
ет владение «естественным», народным языком, который латинская уче¬
ность отлучает от «цветов» своего знания. Дополнительным аргументом
в пользу такой интерпретации служит еще один, и также восходящий к
античности, смысл символа: пчела обозначает народ, покорный госуда¬
рю161. Тем самым, меткий ответ бедняка, не утратившего, вопреки коз¬
ням соседа, способности красноречиво изъясняться, прочитывается как
торжество народного языка — сферы «королевской» культуры — над
узко-гуманистическим (и, учитывая мотив соседства, возможно, над
итальянским) пониманием риторического мастерства. Отсылка к Квин¬
тилиану, в сущности, служит Тардифу для прямой полемики с Петрар¬
кой: не случайно, что именно на этой фацеции он завершает перевод его
sales, переходя к другому образцу — Диогену Лаэртскому162.
Эта часть «Речений» Тардифа практически никогда не привлекала
внимания исследователей163. Вместе с тем, бесспорно, интересно задать¬
ся вопросом, почему французский гуманист счел необходимым, хотя и
160Среди воистину бесчисленных примеров разработки этого топоса можно отме¬
тить, с одной стороны, «Речь о Фабии Квинтилиане и Сильвах Стация» Анджело
Полициано (где присутствует, в частности, отсылка к Лукрецию; см.: Сочинения
итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). М., 1985. С. 247), а с дру¬
гой, — стихотворную традицию «великих риториков», где он накладывается на
описание locus amoenus. См. об этом в параграфе «Природа, любовь и риторика
во французской литературе начала XVI в.» (С. 23—26).
l6lTervarent G. de. Attributs et symboles dans Part profane. Dictionnaire dun langage
perdu (1450—1600). 2-e ed. revue et corr. Geneve, 1997. P. 19.
162Тардиф сохраняет в переводе порядок книг Диогена Лаэрция; это свидетельству¬
ет, что в его распоряжении находился текст греческого автора, а не какой-либо
средневековой компендиум наподобие «Речений философов» Алена де Камбре,
изданных Вераром ок. 1492 г. Дж. Момбелло полагает, что источником для Тар¬
дифа послужил перевод Лаэрция Амброджо Траверсари, изданный сначала в
Риме (ок. 1472), а в 1475 г. — в Венеции, одним из компаньонов знаменитого
Никола Женсона (Mombello G. Op. cit. Р. 207).
163Статья Дж. Момбелло до сих пор остается единственной работой, где ей (вернее,
ее источникам) уделено несколько строк.
^ 88 4
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
имплицитно — не называя своего источника, однако отделяя графиче¬
ски сентенции, почерпнутые у Диогена, от фацеций Петрарки, — расши¬
рить в переводе число авторов, входивших в сборник “Au Soufflet Vert”
На наш взгляд, дополнение это проливает свет на сам замысел книги по
риторике, адресованной государю. Вероятно, не последнюю роль здесь
сыграл и тот факт, что авторитет Петрарки в глазах французского гума¬
низма конца века был значительно потеснен авторитетом более поздних
auctores, и прежде всего Валлы. Однако более важным представляется
другое обстоятельство. «Речения» Диогена эксплицируют вторую (наря¬
ду с античным кесарем) ипостась персонажа, владеющего мастерством
остроумного слова и достойного служить образцом для красноречия
короля — а именно философа. «Фацеции» Петрарки, с точки зрения за¬
дач, стоявших перед королевским чтецом, не до конца отвечали замыслу
сборника в силу той чисто гуманистической концепции красноречия, на
которой они основывались: остроумное слово в них самоценно вне зави¬
симости от того, кто его произносит. Введение же в книгу фигуры антич¬
ного мудреца позволяло обозначить как бы второй ее полюс, персони¬
фицировать источник того знания, без которого не может существовать
просвещенная государственная власть. Естественно, что для Тардифа
безразличны школы, к которым принадлежали цитируемые им персо¬
нажи: все они охарактеризованы предельно обобщенно — как «благо¬
родные и мудрые философы». Гораздо важнее то определение философа,
которое он развивает в одном из рассказов об Аристиппе. В ответ на во¬
прос тиранна Дионисия, почему философы часто посещают государей и
богачей, тогда как богатые редко входят в дома философов, Аристипп го¬
ворит: «Философы хорошо знают, как удовлетворить свои нужды, бога¬
тые же не ведают, в чем их потребность»164. Сопровождая ответ филосо¬
фа «моралью», Тардиф прибегает к изречению, приведенному Лаэрцием
в другой истории о том же философе («Но ведь и врачи ходят к дверям
больных», II, 70): «Как Врачи часто приходят к дверям и в дома Больных,
сходным образом и Философы, каковые суть Врачи богатых, часто посе¬
щают их дома». Философ — это духовный, нравственный целитель зем¬
ных владык: так решает Тардиф важнейшую для него проблему отноше¬
ний государя и мудреца, власти и знания.
Мотив этот не только маркирован переводчиком, но и привносится в
сюжеты изначально иного содержания. Так, у Лаэрция (I, 86) некий не¬
честивец вопрошает философа Бианта, что такое благочестие, и полу¬
чает ответ: «Ты спрашиваешь не о своем деле». У Тардифа тот же ответ
получает «тиран», желающий знать, что такое «милосердие, жалость и
сострадание». В сферу «королевского» знания переносится и сюжет од-
l64Ibid. Р. 280.
^89^
Sill
ной из фацеций об Аристиппе (№ 23): с вопросом о том, в чем различие
между образованным и невежественным человеком, в переводе обраща¬
ется к философу не «некто», как у Лаэрция, а Дионисий, и ответ ему при¬
обретает под пером Тардифа программный характер. В оригинале совет
житейски прост: «Отправь обоих нагишом к незнакомым людям, и ты
узнаешь» (II, 73). В переводе же Аристипп предлагает отправить обоих
«нагими и лишенными преходящих благ» в чужую страну, к иным на¬
родам; толкуя эти слова, Тардиф поясняет: «как если бы хотел он сказать:
Мудрец проживет своим знанием, дурак же будет просить подаяния»165.
Использование денег на нужды знающих — одна из сквозных идей пе¬
ревода, находящая опору в известном речении Диогена о том, что все
на свете принадлежит мудрецам, ибо они друзья богов (VI, 72); в этом
смысле Тардиф перетолковывает и ряд других сентенций, как, например,
ответ Аристиппа о причинах его ухода от Сократа к Дионисию (№ 21)166.
Философ находится в зависимости от государя: подобно врачу, он
служит ему своей мудростью за вознаграждение. Главной его доброде¬
телью перед лицом властей предержащих является терпение; именно
поэтому Тардиф уделяет особое внимание фигуре сократика Аристиппа
(ему посвящено 13 «речений») — по словам Лаэрция, тот пользовался
особым успехом при дворе Дионисия, ибо «умел применяться ко вся¬
кому месту, времени или человеку, играя свою роль в соответствии со
всею обстановкой» (II, 66). В изображении Тардифа Аристипп становит¬
ся носителем христианского смирения, торжествуя над властной горды¬
ней государя благодаря «малой толике терпения»167. В рассказе о плевке
Дионисия, который философ стерпел, уподобив его морским брызгам,
окатывающим рыбаков, Тардиф видит свидетельство того, что «терпение
побеждает и одолевает любое оскорбление». При этом обидчиком у него
всегда выступает человек, стоящий выше мудреца в социальной иерар¬
хии. Если, например, у Лаэрция Аристипп отвечает бранившему его
человеку: «Твое право — ругаться, мое право — не слушать» (II, 70), то у
Тардифа ответ приобретает несколько иной смысл: «У тебя есть могущест¬
во (puissance) и способность (faculte) браниться, а у меня нет ни способ¬
ности, ни желания тебя слушать»168 (выделено нами — И.С.). Ругани
16Tbid. Р. 283.
166В переводе сведены воедино два высказывания Аристиппа: «К Сократу я при¬
ходил для учения, к Дионисию — для развлечения» (II, 80) и «Когда я нуждался в
мудрости, я пришел к Сократу; сейчас я нуждаюсь в деньгах и вот пришел к тебе
[Дионисию]» (II, 78). У Тардифа философ говорит: «Покуда нуждался я в знании
и дисциплине, жил я в доме Сократа, но когда возникла у меня нужда в деньгах,
пришел я в дом Дионисия, во власти коего ими меня снабдить» // Ibid. Р. 282.
167Ibid. Р. 279.
168Ibid. Р. 281.
^90^
Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
могущественного хулителя мудрец может противопоставить лишь свое
безразличие. Характерно, что среди «речений» Тардифа отсутствуют все
(многочисленные в оригинале) сентенции, в которых находит выраже¬
ние внутренняя свобода мудреца — наподобие известной фразы Диоге¬
на Александру Македонскому «Не заслоняй мне солнце» (VI, 38).
Однако унижение философа государем может в конечном итоге
обернуться унижением самого государя. Философу присуще умение
держать себя в любых обстоятельствах, в том числе и при дворе (в по¬
следнем, 54-м «речении» Зенон просит передать царю, что на его пиру
был человек, умеющий молчать, и Тардиф толкует его слова: «Сим
дано понять, что молчание благоприличествует за столом у знатных
Сеньоров»169), но в его власти перенести поступки и слова владыки в
область, где они подлежат исключительно его суду — в область морали.
Таков, например, смысл истории об «ушах на ногах» Дионисия (II, 79):
философ, прося за друга, падает ниц перед тиранном, но остроумно
возражает человеку, осуждавшему его за это. Строго следуя в данном
случае тексту Лаэрция, Тардиф сопровождает его следующим поучени¬
ем: «Никому не следует воздавать чрезмерные почести, ибо это значит
посягать на принадлежащее Богу»170.
«Распределению функций» между государем и философом посвяще¬
ны два сюжета о Диогене и Александре Македонском (VI, 60 и 68). Фило¬
соф не боится царя, ибо тот — «добро», а не зло171. Удел же философа (и
сфера его власти) — это обличение пороков: когда Александр, подойдя
к Диогену, объявляет ему, что он — «великий царь Александр», у Лаэр¬
ция философ отвечает: «А я собака Диоген», поясняя, почему его так зо¬
вут: «Кто бросит кусок, — тому виляю, кто не бросит — облаиваю, кто
злой человек — кусаю» (VI, 60). Из этой кинической программы Тар¬
диф в 36-м «речении» оставляет лишь последнюю часть; перед «великим
(grand) царем» у него стоит «большой (grand) лающий пес», который «об¬
лаивал и кусал дурных людей, упрекая их за пороки»172. Эксплицитное
уподобление философа проповеднику возникает у Тардифа в рассказе
о шутке Диогена, обращенной к детям, которая претерпевает в перево¬
де характерную трансформацию. Как сказано у Лаэрция, «собака»-киник
169Ibid. Р. 302. У Лаэрция Зенон присутствует просто на «попойке», и ответ его
адресован посланникам Птолемея, спрашивавшим, что передать от него царю и
удивлявшимся его молчанию. Таким образом, Зенон «Знаменитых философов»
видит в молчании добродетель, Зенон «Речений» — правило поведения, отвеча¬
ющее социальной иерархии.
l70Ibid. Р. 285.
171Тардиф выводит из рассказа ту мораль, что «добрые никогда не пожелают нико¬
го обидеть» // Ibid. Р. 294.
172Ibid. Р. 293.
^91^
§ III
*
4
«не укусит» мальчиков по их малолетству173; у Тардифа же двусмыслен¬
ная острота толкуется в духе христианской идеи о детской чистоте и
добродетели («Не бойтесь, дети мои; пес кусает и добрых, и злых, я же
преследую и хватаю только порочных»174) и заключается моралью: «Не
следует ни браниться, ни обижаться на проповедников, обличающих
пороки» (выделено нами — И.С.). Диогену отводится особое место в
сборнике: ему посвящено 22 «речения», и в его уста королевский чтец
вкладывает основные наставления в добродетельной жизни. Ведь он,
согласно морализации, которой Тардиф сопровождает первое посвя¬
щенное ему «речение», печалится о том, что «люди работают и трудятся,
вспахивая землю и плавая по морю, дабы набрать преходящих благ это¬
го мира, но мало трудятся, чтобы заслужить имя доброго человека»175, то
есть исповедует — и проповедует — подлинно христианскую мораль.
Действительно, суждения Диогена в переложении Тардифа под¬
вергаются подчас кардинальным изменениям. От совета по поводу
женитьбы («Молодым еще рано, старым уже поздно», VI, 54), не впи¬
сывающегося в христианское понимание брака, остается только пер¬
вая половина: «Не должно юному отроку жениться слишком рано»176;
не всякая любовь есть «дело бездельников», как у Лаэрция (там же),
но лишь «любовь безумная и развратная (foie & luxurieuse amour)»177.
Естественно, из «Моральных Речений» изгоняется малейший намек
на гомосексуализм, тема которого часто всплывает у Лаэрция как раз
в связи с Диогеном. Рассказ о юноше, который играет в бане в коттаб,
т.е. гадает «любит — не любит» по плеску вина (VI, 46), превращается в
переводе в напоминание о всевластии Фортуны: внимая «весьма мело¬
дичному пению» (в бане!) молодого человека, философ предостерегает
присутствующих, что «за великой радостью следует великая скорбь»178.
Античный мудрец у Тардифа — проповедник морального учения,
выраженного в слове. Последнее обстоятельство представляется осо¬
бенно важным. Для персонажей «Знаменитых философов» Лаэрция
философия есть образ жизни, и речь служит для них таким же инстру¬
ментом, как поступок и жест. Тардиф оставляет им одну обязанность —
говорить, соединяя нравственные представления с правилами риторики.
173«такой белой свеклы ни одна собака в рот не возьмет» // Ibid. VI, 45.
174Ibid. Р. 294.
175Ibid. Р. 296.
176Ibid. PJ298.
177Ibid. R 297.
178Ibid. P 293. To же понимание философа как христианского проповедника ста¬
ло, видимо, причиной смещения сюжетных акцентов в рассказе об Аристиппе:
у Лаэрция (II, 74) его бранят за то, что он живет с гетерой; у Тардифа же (№ 25)
к философу апеллирует человек, бранивший своего друга за посещение публич¬
ных женщин.
^92^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе..^
Так, некий человек спрашивает Аристиппа (И, 72), какую пользу при¬
несет его сыну образование. У Лаэрция философ отвечает: «По крайней
мере... [он] не будет сидеть в театре как камень на камне». У Тардифа (№
20) на тот же вопрос «власть имущего» (puissant homme) Аристипп дает
иной ответ: «По крайней мере на благо и пользу пойдет ему то, что сре¬
ди других (en compaignie) не будет он словно животное, ни о чем сказать
не умеющее»179. Мудрость оказывается тождественна владению речью.
Отсюда одна особенность, отличающая философа, каким он предстает
в «Моральных Речениях»: подобно императору в «Фацециях» Петрарки,
он всегда окружен свитой, которая внимает его суждениям. В отличие от
своего греческого прототипа, он очень редко обращается к конкретному
человеку, чтобы наставить его на путь истинный, и использует его, пре¬
жде всего, в качестве наглядного примера, позволяющего проиллюстри¬
ровать своему окружению некое нравственное правило. Философ дает
ответ тем, кто обращается к нему с вопросом, но показательно, что роль
вопрошающего в подавляющем большинстве случаев отдана или госуда¬
рю, или кому-либо из власть имущих.
Отсюда одна из важнейших характеристик философского слова как
образца «королевского красноречия» у Тардифа: его недвусмыслен¬
ность, ясность, никак не противоречащая остроумию. «Двойное и не¬
однозначное» выражение не позволяет «говорить о чем-либо достой¬
ном и честном (aucune chose de loyaulte)»180, т.е. разъединяет риторику и
мораль. Язык, произносящий «софистические речи», схож со «змеиным
языком доносчика, который за глаза до крови кусает человека, ничего
дурного ему не сделавшего, и языком льстеца, который хвалит челове¬
ка в глаза, вознося ему славу и наделяя добродетелями, дабы войти к
нему в милость...»181. Ясная речь, синоним добродетели и душевной чи¬
стоты, всегда торжествует, тогда как «софистическая» может поставить
говорящего в неловкое положение: эта мысль проходит сквозь все «Мо¬
ральные Речения». Достаточно вспомнить одну из фацеций Петрарки,
где (случай исключительный) осмеянию подвергается не кто иной как
император: юноша, очень похожий на Августа, парируя каверзный во¬
прос кесаря, отводит от своей матери подозрение в адюльтере и, на¬
против, ставит под сомнение законнорожденность спрашивающего.
Ошибка Августа, согласно Тардифу, в том и состоит, что он прибегнул
к «двойному», неясному способу изъясняться: «темный и хитроумный
179“...Н ne sera pas en compaignie comme une beste, qui de rien ne scet parler” // Ibid.
P. 281.
180Ibid. P. 273 (№ 8).
18lIbid. P 298; cp. у Лаэрция (VI, 51; ответ Диогена на вопрос, какие звери всего
опаснее кусаются): «Из диких — сикофант, из домашних — льстец».
^93^
, § III
& ^
вопрос требует хитроумного ответа (obscure & sophistique demande
requiert sophistique response)»182, отмечает переводчик в морализации.
В своем собственном труде Тардиф неукоснительно следует этому
правилу, превращая его в главный переводческий принцип. Воплоще¬
нием его служат в первую очередь морализации, с помощью которых,
согласно уже цитированному нами прологу к «Фацециям» Поджо, ко¬
ролевский чтец «хотел выразить суждения, касательно всякого случая
под словами скрытые». Однако существуют и иные, не менее показа¬
тельные примеры. Когда у Петрарки Александр Македонский отвечает
послам Дария, явившимся за данью: «Умерла курица, что несла подоб¬
ные яйца»183 184 185, Тардиф подробно растолковывает метафору царя: «Ибо
курица {то был его отец, Царь Филипп), которая несла им такие яйца,
то есть платила сказанную дань, умерла, и потому говорил, чтобы
больше они от нее ничего не ждали»ш (выделено нами — И.С.).
Представление о ясности речи, воплотившееся в переводах Тардифа,
имеет особый интерес потому, что принадлежит гуманисту, который в
латинских трудах (прежде всего, в «Наставлении в красноречии») сфор¬
мулировал то же понятие применительно к латыни. В прологе к своим
“Elegantiae” Тардиф так определяет их предмет: “Elegantia est que facit ut
unumquodque latine ac lucide dicatur. Due sunt eius proprietates: latinitas et
claritas 485 (выделено нами — И.С.). «Латинскость» предполагает строгое
следование римским образцам, исключающее неологизмы и «варвариз¬
мы», «ясность» — отказ от архаизмов, темных и редких слов. В отличие
от многих своих современников, начиная от Бальби и кончая Гийомом
Фише, создавшим целый ряд новых риторических терминов, Тардиф
выступает за канонизацию классического языка, представленного огра¬
ниченным набором auctores, тогда как, например, Фише рассматривал
латынь как живой язык, поддающийся изменению и развитию. Нель¬
зя не заметить, что позиция Тардифа, в сущности, смыкается с идеей
Николя Орема о латыни как естественном языке римлян и тем самым
подразумевает возможность для национального наречия занимать рав¬
ноправное место в культуре, подчиняясь собственным законам. Но при¬
знание специфики каждого из языков исключает возможность дословно¬
го перевода с одного на другой; эту мысль в самом начале XV в. с редкой
последовательностью сформулировал Лоран де Премьефе в прологе ко
второй редакции перевода “De casibus” Боккаччо (1409):
182Ibid. R 244.
183“Mortua est... galina que talia oua pariebat” // Ibid.
184Ibid. P. 263—264.
185См. об этом подробно: Beltran E. Un manuscrit autographe de la Grammatice basis
de Guillaume Tardif // Bibliotheque d’humanisme et Renaissance. 1999. Vol. 61 (2).
P. 495—508.
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
«Книги латинские, сказанные и написанные философами, поэтами и
историками, многознающими во всех науках человеческих, много превы¬
шают и превосходят разумение, каковое госпожа Природа обыкновенно от¬
пускает человеку. А потому, кажется мне, подобает, чтобы в переводе кни¬
ги латинские были поданы и изложены таким языком, чтобы читающие и
слушающие их могли понимать действие речений (lefFect de la sentence) без
слишком тяжкого и слишком долгого труда <...> Чем более ясной и более
открытой в речениях и словах будет [моя книга], тем усладительнее будет
читать и слушать ее многим мужчинам и женщинам <...>»186
Не случайно через полтора столетия оба понимания «ясности», гу¬
манистическое и «народное», смыкаются в трактате Этьена Доле «Спо¬
соб правильно переводить с одного языка на другой», где почти бук¬
вально повторяется тардифова концепция “latinitas & claritas”, но — в
применении к народному языку:
«Итак, если случится тебе переводить какую-либо Латинскую Книгу на
[народные языки], особливо на Французский, следует тебе остерегаться
слов, слишком приближенных к Латыни и мало употребительных в про¬
шлом: довольствуйся общепринятым <языком>, не придавай неразумной
новизны никаким выражениям, подвигаемый предосудительным любопыт¬
ством.... Самое лучшее — держаться всем привычной речи»187.
Однако «ясность» перевода, поднесенного королю, носителю и во¬
площению национального языка par excellence, предполагает у Тардифа,
как мы видели, не только использование общепринятых слов, истолко¬
вание темнот и морализацию рассказа, но также и отказ от реалий и
персонажей, не принадлежащих национальной традиции. Обращение к
народному языку требовало обращения к культуре, которая в течение
веков создавалась на этом языке. Это понимание языка как средоточия
культуры данного народа (римлян ли, итальянцев или французов) —
вторая, и очень важная особенность переводческой практики Тардифа.
Его «королевская риторика» не могла не учитывать опыт французской
средневековой словесности. Не случайным представляется тот факт,
что наиболее последовательная попытка перевести образцы гуманисти¬
ческой риторики в русло средневековой литературной традиции была
186Цит. по: Chauvy Р. Traducteurs d’autrefois, Moyen Age et Renaissance, dictionnaire
des traducteurs et de la litterature traduite en ancien et moyen fran^ais, 842—1600. Pa¬
ris; Geneve, 1988. T. 2. P. 1160—1161. Та же идея содержится в посвящении Людо¬
вику Бурбону, которым открывается перевод Премьефе трактата «О старости»
Цицерона (1405).
l*7Dolet Е. Op. cit. Р. 14.
^95^
§ III
*
предпринята Тардифом на материале произведения, принадлежащего
тому, кто был для него наивысшим авторитетом в области красноре¬
чия — «Басен», или «Апологов» Лоренцо Валлы.
* * *
Риторический эксперимент, предпринятый Валлой, имел целью пере¬
вести в сферу гуманистического знания один из самых популярных и
устойчивых жанров Средневековья — т.н. «Изопеты». Его филологиче¬
ский труд, основанный на аутентичной греческой рукописи, создавал
противовес многочисленным, самым разным по составу сборникам, ко¬
торые, наряду с творениями баснописца, могли включать в себя и латин¬
ские exempla, и, как мы видели, «Фацеции» Поджо. В посвящении своего
переводческого труда Карлу VIII Тардиф, поясняя свой выбор, обращает
внимание, прежде всего, на «мудрые и добродетельные наставления»,
которые содержатся в «книжечке» итальянского гуманиста; между тем,
уже изменяя жанровое наименование эзоповых басен, превращающих¬
ся в «апологи», королевский чтец демонстрирует стремление решать не
столько дидактические, сколько сугубо литературные задачи.
Вслед за Валлой Тардиф (уже в силу обращения к эзоповой басне) по¬
лемически ориентирован на традицию средневековых «Изопетов». За¬
метим в скобках, что, по-видимому, как раз этим фактом объясняется
присоединение к переводу «Речений» Петрарки фрагментов из Диогена
Лаэртского. Как известно, в состав многих «Изопетов» — и, в частности,
«Эзопа» Штейнхёвеля, переведенного Машо, — входило, помимо басен,
«Жизнеописание» греческого баснописца, написанное ок. 1300 г. Мак¬
симом Планудом и переложенное в середине XV в. на латынь Ринуччо
д’Ареццо. Перенося на французскую почву тот гуманистический вариант
басни, который создавал Валла, Тардиф стремится пойти дальше своего
образца и поднять на новый уровень не только содержание, но и струк¬
туру «Изопета». Совокупная мудрость греческих философов, почерп¬
нутая из античного источника, противостоит той моральной доктрине,
чьим жанровым воплощением выступала в Средние века басня о живот¬
ных, а персонификацией — фигура Эзопа. Свидетельством тому служит
любопытный мотив, введенный Тардифом в «Речения» Лаэрция. В двух
сюжетах, посвященных Хилону (№ 3 и 4), в роли человека, что задает
философу вопросы, выступает не кто иной, как сам Эзоп. При этом в №
3 возникает ситуация, обратная описанной у Лаэрция: не Эзоп отвечает
Хилону, что делает Зевс (у Тардифа Юпитер), но, наоборот, Хилон делит¬
ся знанием с Эзопом. В № 4 фигура баснописца введена переводчиком —
Лаэрций в данном случае просто излагает некоторые ответы и «предписа¬
ния» Хилона, не соотнося их с конкретным вопрошающим персонажем.
Таким образом, средневековый авторитет баснописца оказывается не
■^96^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
абсолютным: он — всего лишь ученик тех истинных философов, знание
которых способно помочь государю вершить дела во всеоружии христи¬
анской добродетели и владеть подлинно королевским красноречием.
Однако и риторический эксперимент самого Валлы претерпевает в
переводе значительные изменения. Прежде всего, как и фацеции Пет¬
рарки и суждения греческих философов, «Басни» итальянского гума¬
ниста призваны предоставить государю моральные принципы, кото¬
рыми он должен руководствоваться, принимая решения. В этом смысле
Тардиф последовательно трансформирует морали басен. Так, в фаце¬
ции 4, повествующей о «землепашце и его детях» — известный сюжет
о прутьях, которые легко сломать поодиночке, — обобщенная мораль
(“Нес fabula innuit eque res humanas capere vel a concordia incrementum
vel a discordia jacturam”188), которой она сопровождается у Валлы, пре¬
образуется в переводе следующим образом: «Сказанный аполог дает по¬
нять, что любые <государства>, будь то королевства или иные сеньории
(toutes choses, soient royaulmes ou autres seigneuries) растут и процветают
через согласие и союз тех, на кого они возложены и кто ими правит, и
напротив, от их разногласий и отсутствия единства грозят им великие
беды»189 (выделено нами — И.С.). Аналогичное развитие претерпевает
мораль фацеции 11: осуждение льстецов (“Нес fabula innuit coarguendos
esse assentatores”190) разрастается до обличения советников государей:
«Сказанный аполог означает и дает понять, что всем людям следует из¬
бегать, сторониться и чураться общества льстецов и угодников, како¬
вые всегда говорят лишь угодное тому, кому льстят и не желают сказать
ему правду из боязни упустить свою добычу. И тем часто грешат со¬
ветники государей, каковые льстят им и восторгаются ими, не желая
сказать им правду, к великому ущербу для сказанных государей и госу¬
дарственных дел»191 (выделено нами — И.С.).
Примеры подобного рода можно множить; но перевод Тардифом
сочинения Валлы имеет и другие особенности, не так непосредствен¬
но связанные с адресатом. Прежде всего, нельзя не обратить внимание
на то, что предельно краткие фацеции-басни под его пером в несколько
раз увеличиваются в объеме, утрачивая свои жанровые характеристи¬
ки — и приобретая взамен другие. В качестве образца можно привести
фацецию о лисе и мраморной голове волка, иллюстрирующую, соглас¬
но Валле, мысль о ничтожности чисто телесной, не духовной красоты:
188Ссылки на «Моральные фацеции» Валлы и «Апологи» Тардифа даются по кри¬
тическому изданию: Ruelle Р. Les “Apologues” de Guillaume Tardif et les “Facetiae
morales” de Laurent Valla. Geneve;Paris, 1986. P. 40—41.
189Ibid. P. 64.
19()Ibid. P. 42.
191Ibid. P. 69.
<^97^
&
9Ш .
^
Valla XVI: De vulpe et
capite quodam
Tardif: Le xvu apologue ou fable est dyung regnart et
d’utie teste
Vulpes aliquando in domum
citharedi ingressa, dum om¬
nia instrumenta musica om-
nemque supellectilem scru-
taretur, repperit e marmore
caput lupinum scienter fa-
breque factum. Quod cum
in manus sumpsisset inquit:
“0 caput! cum magno sensu
factum nullum sensum obti-
nens!”
)
Maistre regnart, ung jour, pour mieulx entretenir et de-
corer lestat de la chapelle de son nouveau hermitage,
voulut devenir musicien et chantre, car, ainsi qu’il passoit
par devant lostel dung menestrier qui jouoit de la harpe
aussi doulcement ou pres que Orpheus, se arresta pour
escouter larmonie de la harpe, ainsi qu’il a lesperit subtil,
et aussi les proportions et accordz de la dicte harpe. Et,
en effect, fut tant le maistre regnart ravy du son et melo-
die d’icelle harpe qu’il entreprint entrer dedans la maison
du dit menestrier pour apprendre quelque chose de l’art.
Quant il fut entre dedans et fait son inclinabo ainsi que
bien le s<;avoit faire, il se assist en une chaire pour es¬
couter mieulx a son ayse le son de l’instrument. Et bien
eust voulu qu’il у eust couste deux ou trois des gelines de
Jaques Bons Homs sans rien у employer du sien et il eust
autant sceu de l’art de musique et de l’instrument comme
faisoit celui qui du dit instrument jouoit. Apres ce que
ce bon religieux et vaillant hermite dam regnart eut lon-
guement recree et refocille ses esperitz, il regarda et ad-
visa plusieurs manieres de instrumens musicaulx qui la
estoient et se print a les manier lung apres l’autre. Puis
demanda au maistre menestrier se, por estre expert du
mestier, convenoit jouer de tous les dis instrumens qui
la estoient. Et le maistre lui respondit que ouy. Maistre
regnart, considerant que trop lui porteroit de dommage
estre si longuement escolier pour apprendre musique,
se advisa qu’il lui suffiroit bien, pour lestat de son dit
hermitage, avoir une chapelle de coqs et de gelines qui
chanteroient les responds et des poucins pour dire les
verses et que bien et honnestement sen estoit ayde le
temps passe et que encores ainsi le feroit. Et, ainsi qu’il
eut prins congie du maistre et qu’il fut hors de la maison,
advisa l’ostel d’ung paintre, ouquel avoit plusieurs sortez
et differentes manieres de ymages, et la entra pour regar-
der quelle ymage lui seroit propice en sa chapelle. Si tost
qu’il fut entre, trouva une teste de loup, laquelle estoit de
marbre faicte et taillee par curieulx et industrieux arti¬
fice, car elle estoit tiree sur le vif si proprement que on
eust peu dire, au premier salut, que la dicte teste estoit
toute vive. Maistre regnart, qui la dicte teste speculoit et
regardoit tres diligemment, apres ce qu’il eut ainsi tout
bien regarde et specule, comment a dire, en la presence
de ceulx qui la estoient: «0 teste! Tant tu as estё faicte par
grand sens et exquise subtilite de engin humain! Tant tu
es decoree et embelie par subtil artifice! Et, touteffois, il
n’y a point de sens en toy, de utilite ne de prouffit.
Fabula hec ad eos spectat
qui corporis dignitatem ha-
bent, animi industriam non
habent.
Sens moral. Ce dessus dit apologue et facecieuse fable
veult innuer et donner a entendre que peu vault vacquer
a choses qui n’aportent point de prouffit, mesmement
que beaute exteriore artificiele ou naturelle ne vault se on
n’a quelque science ou vertu en sa pensee interiore.
^98^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
Как очевидно, «моральный смысл», который выводит из рассказа Тар-
диф, почти не отличается от морали Валлы. Напротив, само повествова¬
ние претерпевает столь значительные изменения, что изначальный ма¬
териал оказывается даже не основой, но лишь поводом для построения
связного, отнюдь не сводимого к заключительной сентенции сюжета.
В нем возникает герой, отшельник, движимый конкретной целью: при¬
украсить богослужение в своей часовне с помощью искусства. Эта задача
приводит его сначала к музыканту («менестрелю»), а затем к художни¬
ку, причем каждый из двух мастеров наделяется, в свою очередь, харак¬
теристикой — так, менестрель играет на арфе «подобно Орфею», — и
участвует в действии. Диалог с музыкантом, в результате которого герой
оставляет мысль овладеть его искусством, образует отдельную сюжет¬
ную ветвь, соотнесенную не с конечным выводом, но исключительно с
«характером» персонажа. Нарративный момент, как мы видим, стано¬
вится самодовлеющим, независимым от «морального смысла».
Но главная особенность перевода заключается, бесспорно, в фигуре
самого отшельника — Лиса Ренара. Отсылка к «Роману о Ренаре» и, кон¬
кретно, к сюжету о Ренаре-жонглере192, позволяет чтецу Карла VIII при¬
внести в свой труд богатство семантики, связанной с этим традицион¬
ным средневековым персонажем. Хитрый святоша, чьи богослужения до
сей поры служили «куры, петухи и цыплята», добытые у «Жака-Добря¬
ка», естественно, отнюдь не стремится пойти в учение к музыканту, чье
мастерство может лишить его безбедного существования. Отсюда возни¬
кает у Тардифа и мотив «бесполезных вещей», который он, что любопыт¬
но, вводит в морализацию, делая Ренара носителем нравственной мудро¬
сти. Дело, по-видимому, не в том, что переводчик видит в средневековом
воплощении хитрости и ложного благочестия образец добродетельной
философии, аналогичный греческим мудрецам. Персонаж Ренара несет
в «Апологах» важнейшую двоякую функцию. Во-первых, он позволяет
развить предельно сжатый, скупой на детали рассказ Валлы до размеров
самодостаточного повествования, наполнив его узнаваемыми и привыч¬
ными образами и мотивами. Так, в 14-м апологе тот же «преподобный
лис», «благочестивый отшельник», прежде чем повстречать льва и сде¬
латься его другом (благодаря, конечно, своей «ловкости и изворотливо¬
сти»), бродит по деревням, «дабы исполнить некое данное ему поруче¬
ние, а именно изловить и поймать петухов, кур и уток», и лев пугает его,
ибо «мэтр Ренар не привык видеть подобного священнослужителя среди
192См. об этом: Flinn /. Le Roman de Renart dans la litterature fran<;aise et dans les li¬
teratures etrangeres au Moyen Age. Paris, 1963. P. 465—469. К сожалению, крайне
поверхностные суждения автора о «живом и игривом воображении» перевод¬
чика Валлы остаются на сегодняшний день единственной критической оценкой
литературного опыта Тардифа.
^99^
. § III
& ^
братьев своего ордена»193. Во-вторых, и это главное, введение в перевод
признанного авторитета в области гуманистической риторики традици¬
онного средневекового персонажа имело бесспорно знаковый характер.
Тардиф тем самым еще раз подчеркивает национальную принадлежность
своего труда, адресованного французскому королю.
Изменение жанровой принадлежности итальянской фацеции, на кото¬
рой, как мы помним, настаивает переводчик в своих прологах, приобретает
тем самым более конкретную направленность и смысл. Развивая повество¬
вание, нарушая его прямую подчиненность морализации, Тардиф превра¬
щает «Моральные фацеции» Валлы — как и «Фацеции» Поджо — в новеллы.
Тесная связь двух жанров во французской позднесредневековой словес¬
ности уже была отмечена исследователями. Мысль о преимущественной
роли фацеции в становлении жанра новеллы во Франции была высказа¬
на, в частности, А. Вебером194. Ту же закономерность в трансформации
фацеций Поджо на французской почве отмечает и Л. Соцци195. Наконец, в
работе Л. Росси196 содержатся ценные соображения относительно проис¬
хождения и культурного статуса первого французского новеллистического
сборника — «Ста новых новелл». «Если задаться вопросом — пишет уче¬
ный, — каковы были образцы, использованные автором в тех новеллах,
которые он “оставил за собой”, нельзя не отметить, что речь всегда идет
о текстах, так сказать, “ученого” происхождения, восходящих к гумани¬
стической традиции: к Петрарке, Поджо, Николя де Кламанжу, Альбрех¬
ту фон Эйбу. <...> Это обстоятельство позволяет уточнить, какого рода
операция была произведена нашим автором. С одной стороны, он подчер¬
кивает ценность традиции короткого рассказа на языке “ойль”, придавая
ей свежесть изысканными приемами своего письма; с другой, — в своих
собственных рассказах он отдает предпочтение гуманистической состав¬
ляющей своей культуры. Таким образом, аналогия с теми литературными
принципами, которыми руководствовался в своих “Фацециях” Поджо,
оказывается гораздо глубже, нежели до сих пор утверждалось.. .»197.
Замечание это представляется тем более важным, что издатель труда
Тардифа, Антуан Верар, в 1486 г. подготовил и выпустил в свет первое пе¬
193Ibid. Р. 71-72.
19Л Weber A. Op. cit. Р. 83.
195«Многие фацеции, которые Поджо выстраивает как производные от блистатель¬
ной заключительной остроты, были трансформированы французскими рассказ¬
чиками в обширные и более сложные конструкции, где действие имеет большее
значение, нежели язык <...> Трансформируясь, предложенная Поджо модель ис¬
пользовала штампы новеллы...» // Sozzi L. Op. cit. Р. 482, 506.
196Rossi L. Entre fabliau et facetie: la nouvelle en France au XV siecle // La nouvelle de langue
fran^aise aux frontieres des autres genres, du Moyen Age a nos jours. Vol. I. Actes du Col-
loque de Metz, juin 1996 / Sous la dir. de V. Engel et M. Guissard. Ottignies, 1997. P. 28—39.
197Ibid. P. 39.
^100^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
чатное издание «Ста новых новелл». В нем текст «Посвящения», предва¬
ряющего новеллы, содержал интересную интерполяцию, которая на про¬
тяжении веков служила основанием для ошибочной атрибуции книги:
«И примечайте, что во всех новеллах, где говорится рассказана Монсеньо¬
ром, имеется в виду Монсеньор Дофин, каковой впоследствии унаследо¬
вал престол и сделался королем Людовиком Одиннадцатым, ибо в ту пору
пребывал он во владениях герцога Бургундского»198. Тем самым Верар пре¬
вратил бургундский сборник во французский образец жанра, противосто¬
ящий «Декамерону» и эксплицитно соотнесенный с символом Франции и
ее языка — королем199. Национальный характер новеллы, зафиксирован¬
ный в вераровском издании, скорее всего, и позволил Тардифу выбрать
именно этот жанр в качестве ориентира для переработки «Моральных фа¬
цеций» Валлы в русле французского — королевского — красноречия.
Однако одной только жанровой принадлежности было явно недо¬
статочно для оправдания высокой задачи, которую ставил перед собой
королевский чтец. Французский язык сам по себе в конце XV столетия
(и на протяжении всего раннего Ренессанса) значительно уступал по
своему культурному статусу гуманистической латыни, с которой осу¬
ществлял свои переводы Тардиф. Требовалось найти тот языковой эк¬
вивалент, который бы окончательно утвердил «королевский» характер
риторики, предложенной переводчиком, стал знаком принадлежности
его речи к высокому стилю.
Помимо чисто стилистических приемов, к которым прибегает Тардиф
(таково, например, обилие синонимических конструкций, амплификация,
служившая в эту эпоху отличительным признаком «высокой» речи), в его
переводах присутствуют иные, также знаковые приметы. Как уже говори¬
лось выше, королевский чтец, давая фацециям Валлы, Поджо и Петрарки
жанровое обозначение «аполог», включает тексты всех трех авторов в сфе¬
ру басни в ее гуманистическом понимании, то есть поэтического вымыс¬
ла. Эта категория в конце XV в. подробно разрабатывалась во Франции в
трактатах по «второй риторике», искусству стихосложения, однако, соглас¬
но определению, данному еще в начале века Жаком Леграном, поэтическая
речь совсем не обязательно предполагала версификацию. В традиции «ри-
ториков» признаком poetrie, поэтического текста, служили, прежде всего,
упоминаемые в этом тексте античные боги и библейские персонажи, пере¬
чень которых обычно и составлял содержание трактата. В начале 1490-х
гг., когда Тардиф готовил свои тексты для поднесения государю, эти сочи¬
нения бургундских поэтов стали (опять-таки благодаря Верару) получать
198Цит. по: Les Cent Nouvelles nouvelles, dites les Cent nouvelles du Roi Louis XI /
Nouv. ed. par RL. Jacob, bibliophile. Paris, 1858. P. 2.
199Подробнее см. параграф: «Книгопечатание и народная литература во Франции
XV века» (С. 121—123).
^101^
, § III
& ^
известность при французском дворе. Поэтому вряд ли можно назвать слу¬
чайным тот факт, что на протяжении всей книги переводчик подчеркива¬
ет и выделяет каждое упоминание античного божества — как правило, со¬
провождая его появление кратким объяснением, о ком идет речь.
Так, в 19-м апологе, где повествуется о пройдохе, задумавшем обма¬
нуть Дельфийский оракул, Тардиф дважды (в том числе в заглавии) уточ¬
няет, что Аполлон был богом мудрости, а «на острове Дельфы» находил¬
ся «храм сказанного Аполлона»200. В «третьем апологе или басне о кошке
и Венере» юноша, желая превратить любимую кошку в девушку, возно¬
сит молитвы «богине Венере, матери Купидона, бога любви»201. В 30-м
апологе столь же обстоятельно поясняется, что Юпитер был «богом-са-
модержцем, царем и государем прочих богов (souverain dieu, roy et prince
des autres dieux)»202. Эти толкования, по понятным причинам отсутству¬
ющие у Валлы, служат у Тардифа знаком принадлежности его перевода к
поэтической речи. Больше того, иногда переводчик включает античные
божества в рассказы, где их не было у Валлы. Так происходит, например,
в 13-м апологе, где пастух, заделавшись торговцем и попав на корабле в
бурю, «призывал богов и богинь на помощь. Воска целого королевства не
достало бы на то, чтобы сделать и оплатить свечи, каковые он обещал бо¬
гам и богиням, если угодно им будет спасти ему жизнь <...> И когда бы
не милосердие и сострадание морских богов, Нептуна, Эола, Тритона и
прочих.., вряд ли вернулся бы пустой корабль в спасительный порт»203.
Аналогичные приметы «поэтического вымысла» включает Тардиф и
в 18-й аполог («здесь Родос — здесь прыгай»), где хвастун, рассказыва¬
ющий о своих подвигах в далеких краях, уподобляется целому ряду ге¬
роев греческой мифологии:
Vir quidam aliquamdiu ре-
regrinatus, cum iterumdo-
mum rediisset, turn multa
ardua in diversis regionibus
a se viriliter gesta jactabun-
dus predicabat...
Un homme asses glorieux et qui de ses fais avoit de cous-
tume de soy louer et jatter trop plus que il riavoit de puis¬
sance ou faculte en luy, ung certain jour, apres ce qui fut
retourne en sa maison de quelque voyage ou il avoit este,
se trouva en une compaignie de gens de bien et commen-
<;a a reciter et compter quil avoit este en plusieurs et di-
verses regions et contrees esquelles il avoit fait plusieurs
vaillantises et faits d armes. A le ouyr parler, il avoit fait
autant ou plus de vaillance et de faits darmes que firent
oncques Hercules, Jason, Hector ou Achilles, ainsi que ce
glorieux fol se vantoit... (выделено нами — И.С.)
200Ibid. Р. 76.
201 Ibid. Р. 63.
202Ibid. R 85.
203У Валлы этому пассажу соответствует обтекаемая фраза: “Ab orta autem vehe-
mendi tempestare et navi mergi periclitante, omne pondus navis in mare dejexit vix-
que evasit exonerata nave” // Ibid. P 43.
^102^
^Морализованный перевод и народная традиция во французской литературе...^
Знаком «поэзии» отмечены у Тардифа и «речения» греческих филосо¬
фов. Так, в № 16 содержится подробное изложение мифа о Парисе и трех
богинях («Не на пользу пошло Парису, сыну Приама, царя Трои, то, что
он предложил яблоко и предпочел красоту дамы Венеры другим богиням,
Юноне и Падладе, из чего воспоследовал для Троянцев большой соблазн»)
в связи с выбором из трех «самых красивых в стране» гетер, который Ди¬
онисий предложил сделать Аристиппу. Вместе с тем, именно в «Речениях»
философов сформулировано (устами Диогена) главное отличие философ¬
ской речи от речи поэтической — то самое, которое стремится преодо¬
леть Тардиф. В переводе Диоген удивляется, почему поэты (у Лаэрция —
грамматики), кладут столько трудов на то, чтобы выяснить все невзгоды
и опасности, каким подвергался Улисс, но с удовольствием не замечают
собственных пороков и тех опасностей, которым они из-за них подверга¬
ются. Если грамматики у Диогена отчасти схожи с философом Фалесом из
первого «речения», который, засмотревшись на звездное небо, упал в яму,
то у Тардифа поэты не ведают собственных пороков и грехов.
Таким образом, в переводе «Моральных фацеций» Лоренцо Валлы
возникает как бы синтетический образ той высокой риторики, которая
должна стать национальным эквивалентом латыни гуманистов. Новел-
лизация повествования сопровождается у Тардифа маркированным
употреблением (а иногда и введением в текст) имен античных богов и
героев, призванных служить знаком поэтического вымысла.
* * *
Подведем некоторые итоги. Тардиф мыслит переводы, выполненные по
велению государя, как продолжение своей гуманистической деятель¬
ности. Его труд имеет целью представить королю образцовое пособие
по современной — основанной на сочинениях Валлы, Петрарки и Под-
жо — национальной риторике. Для этого он переносит на почву фран¬
цузской словесности те же принципы, которыми руководствовались в
своих риторических экспериментах избранные им итальянские гума¬
нисты. Если Валла, обрабатывая басни Эзопа, стремится расширить
границы латыни и создать гуманистический аналог средневековым
«Изопетам», то Тардиф расширяет культурные границы национального
языка, привнося в структуру «Изопета» новое, гуманистическое содер¬
жание. Если Поджо, преследуя ту же цель, призывает читателей пере¬
сказывать его «побасенки», улучшая их язык и стиль, то королевский
чтец предлагает королю использовать его переводы в беседах с при¬
ближенными. Одновременно гуманистическая фацеция, будучи пере¬
несена Тардифом на почву французской культуры, приобретает черты
жанра, который воспринимается переводчиком как воплощение совре¬
менных (и национальных) повествовательных принципов — новеллы.
^103^
Следуя традиции, заложенной первыми французскими гуманиста¬
ми, состоявшими при дворе Карла V, Тардиф придает своей деятель¬
ности переводчика черты translatio studii, создает «королевский», т.е.
национальный par excellence аналог сочинений гуманистов, объеди¬
ненных, в его трактовке, принадлежностью к единому жанру — аполо¬
гу, который выступает эквивалентом басни и фацеции и в то же время
обозначает принадлежность такого короткого повествования к сфере
поэзии. Этот «национальный гуманизм» требует и принципиально ино¬
го отношения к античности: Тардиф видит в ней не столько образец
для подражания, сколько материал, нуждающийся в осмыслении на
основе национальной литературной традиции (отсюда введение в бас¬
ни Валлы такого сугубо французского персонажа, как Лис Ренар).
Масштабный по замыслу (и по значению для французской культу¬
ры) переводческий труд Тардифа, тем не менее, уже спустя несколько
десятилетий оказался полностью забыт. Лакруа дю Мэн в своей «Фран¬
цузской Библиотеке» упоминает лишь одно его сочинение: «Он соста¬
вил из многих Авторов Книгу о Соколиной охоте, разделенную на две
Книги: первая учит понимать в хищных птицах (каковые используются
[на охоте]), обучать их и справляться с ними, и лечить их, дабы сохра¬
нять их здоровье; вторая учит лечить собак. Таково заглавие Книги вы¬
шесказанного Тардифа, каковая находится перед нами в рукописи, со¬
вокупно с книгою Жана де Франшьера, каковые с того времени были
отпечатаны в Пуатье ле Марнефами и Буше, в году 1567. Он процветал
около 1480 г.»204. Те же сведения повторяются и в некоторых современ¬
ных изданиях — как, например, в «Словаре французской литературы»
Тиландье 1964-го года, к которому с удивлением отсылает Л.Соцци205.
Тардиф, таким образом, остался для потомков автором единствен¬
ного сочинения, которое в его собственных глазах было скорее вы¬
нужденным, досадным уклонением от истинной литературной де¬
ятельности. Переводы же чтеца Карла VIII, представлявшие собой,
по-видимому, первую во Франции осознанную и последовательную
попытку создать национальную риторику, в которой гуманистические
образцы сочетаются с народной традицией, уже менее столетия спустя
оказались вытеснены за рамки новой культуры.
204Les Biblioth£ques franchises de La Croix du Maine et de Du Verdier, sieur de Vaupri-
vas. Nouv. ed. dediee au roi... A Paris, chez Saillant & Nyon, Libraires; Michel Lam¬
bert, Impr. 1772. T. I. P. 351. Правда, Дю Вердье в своей «Библиотеке» упоминает
еще одно сочинение Тардифа — «Грамматику» (Ibid. 1773. Т. IV. Р. 131).
20SSozzi L. Op. cit. Р. 416.
[IV
Образ поэта
во французской культуре
раннего Возрождения
(от легенды о Вийоне к легенде о Маро)1
Каждая эпоха в истории культуры создает свой идеальный образ
поэта — точнее, набор «матриц», на основе которых формирует¬
ся восприятие той или иной конкретной поэтической индивиду¬
альности. Культурная ситуация, сложившаяся во Франции к на-
налу XVI в., представляет с этой точки зрения особый интерес.
Деятельность «великих риториков», первой французской поэтической
школы2, ставшая воплощением того взлета национального самосознания,
которым был отмечен во Франции рубеж XV—XVI вв., подготовила и за¬
крепила постепенную смену средневекового образа поэта ренессансным.
Фактическое равенство социального и культурного статуса «риториков»
(поэты-придворные), общность в понимании задач и существа поэзии,
единство эстетических принципов, на почве которого естественно воз¬
росло значение каждого отдельного творца, — все эти отличительные
черты школы свидетельствовали об окончательном отходе от средневеко¬
вого, корпоративного по природе своей, типа словесного творчества.
Изменения, происходившие в представлениях о поэзии и о фигуре
поэта в эпоху раннего французского Возрождения, отчетливо прослежи¬
ваются в легендах о двух великих поэтах — Франсуа Вийоне и Клемане
Маро. Сопоставлению их отчасти способствует и известное сходство
творческих установок, которому отдал дань сам Маро, предприняв в
1533 г. по предложению Франциска I издание сочинений Вийона. В об¬
ращении к читателям, открывающем книгу, Маро бранит своих пред¬
шественников, по небрежению которых стихи «лучшего из парижских
1 Впервые опубликовано в сборнике: Культура Возрождения и Средние века. М.,
1993. С. 58—62.
2 Некоторые историки литературы полагают неправомерным называть «ритори¬
ков» школой (несмотря на то, что этот термин вошёл в традицию) именно из-за
общенационального характера их творчества. См.: Giraud У, Yung M.-R. La Re¬
naissance. Paris, 1972. T. I. 1480—1548. P. 124.
^ 105^
^^
поэтов» оказались «столь грубо испорченными»3, и тем самым делает по¬
пытку ввести Вийона в число средневековых авторов (таких, как Гийом
де Лоррис, Жан де Мён, Ален Шартье, Гийом де Машо и др.), составив¬
ших своего рода «национальный пантеон» раннего Ренессанса, который
служил доказательством многовекового расцвета искусств во Франции.
Однако попытка Маро окончилась неудачей, и неудачей закономерной.
Хронологически совпадая с началом деятельности «риториков», поэзия
Вийона в целом не укладывалась в канон, разрабатываемый школой. При
этом Вийон, едва ли не единственный из французских стихотворцев второй
половины XV в., не был поэтом придворным: как известно, его намерение
поступить в 1456 г. на службу к «королю-пастуху» Рене Анжуйскому не
осуществилось4. Для эпохи, когда идеал поэта включал обязательную при¬
ближенность к государю, а поэзия обретала высший смысл, прославляя го¬
сударя и наставляя его в добродетели, это обстоятельство отнюдь не было
безразличным. Даже Маро, признавая дарование Вийонд, спешит огово¬
риться: «Я нимало не сомневаюсь, что среди всех поэтов его времени имен¬
но он был бы увенчан лавровым венком, когда бы вскормлен он был при
дворе королей и князей, где суждения обретают блеск, а язык — остроту»5.
Вийон воспринимался как поэт-«одиночка», и легенда о нем, сложившаяся
уже к концу XV в., по-своему преломила этот специфический статус.
Одним из первых памятников, зафиксировавших легенду о «мэтре
Франсуа», стал анонимный сборник стихотворных новелл «Обеды на
даровщинку»6 (издан в 1490 г.), где Вийон выступает героем пяти сюжетов
«Первого обеда». Ловкач и пройдоха, он обманом добывает еду — рыбу,
требуху, хлеб, вино и жаркое — для себя и своих нищих приятелей. Вийон
представлен вне какой-либо связи с поэтическим творчеством: это всего
лишь хитрец, способный любого обвести вокруг пальца. Кроме того, он
изображен не один, но во главе компании таких же бродяг и пройдох.
Возможно, в легенде отразились некоторые факты вийоновской биогра¬
фии, в частности, пресловутая — и весьма проблематичная — близость к
«кокийярам», однако дело не только в них. Наконец, фигура Вийона объ¬
единяет в сборнике ряд средневековых бродячих сюжетов, известных по
фаблио, анекдотам об Ойленшпигеле и фарсам об адвокате Патлене7. За-
3 Marot CL CEuvres / Ed. G. Guiffrey. Geneve, 1969. T. 2. P. 263.
4 Cm.: Fav\er /. Francois Villon. Paris, 1982. P. 367—372.
5 Marot CL Op. cit. P 266.
6 Les Repeues franches de Francois Villon et de ses compagnons // CEuvres completes de
Francois Villon / Par P. Jannet. Paris, s.a. P. 243—284. Вплоть до XIX века этот текст
ошибочно приписывался Вийону.
7 Сюжет первый («Способ добыть рыбу») аналогичен сюжету «Нового Патлена».
Любопытно, что «Завещание Патлена» содержит текстуальные переклички с
«Большим Завещанием» Вийона.
^ 106 ^
Образ поэта во французской культуре раннего Возрождения
¥
¥
мена плута-адвоката на Вийона далеко не случайна. На протяжении по
крайней мере первой половины XVI в. их имена неизменно будут стоять
рядом, как стоят они уже во «Втором обеде»8 или у Рабле в «загробном ви¬
дении» Эпистемона («Пантагрюэль», гл. 30)9.
При этом уравнивание исторического лица и фарсового персонажа
означало нечто большее, чем возведение поэта в ранг величайших про¬
ныр и полное поглощение его личности легендой. В конце XV в. имя
Вийона стало связываться с той сферой искусства, которая в его аутен¬
тичном наследии не нашла прямого отражения, — с театром10. Вийон
не только соседствовал с Патленом: долгое время ему приписывалось и
авторство популярных фарсов. Начиная с 1532 г. в его сочинения вклю¬
чался комический «Монолог Вольного стрелка из Баньоле», а также
«Диалог господ де Малоплата и де Пустосвиста»11. Пролог к «Обедам на
даровщинку» построен как обращение балаганного зазывалы к публи¬
ке. А в «Четвертой Книге» Рабле (глава 13)12 Вийон во главе труппы ко¬
медиантов готовит к постановке в Пуату мистерию Страстей Господних
и разыгрывает дьяблерию для устрашения жадного монаха-кордельера:
ипостаси Вийона-пройдохи и Вийона-«фарсёра» сливаются воедино.
В целом восприятие фигуры Вийона в конце XV—начале XVI в. ос¬
новывалось на категориях средневековой народной традиции. Подобно
тому, как в издательской практике эпохи его стихи прочно заняли место
среди «народных книг», «ярмарочной литературы»13, легенда делала из
него самого, по существу, жонглера — члена низшей корпорации поэтов,
которой в Средние века приписывались разнообразные пороки. Отсюда
и постоянный мотив окружения, компании приятелей-бродяг, в которой
главенствует Вийон. «Театральная» легенда трансформировала этот образ
жонглера в соответствии с представлениями раннего Возрождения, когда
аналогичную роль в культуре играли братства «Базоши» или «Беззабот¬
ных ребят». Такой вариант легенды, безусловно, нес отпечаток вийонов-
ского профессионализма; однако поэт выступал не в обличье остроум¬
ца, как, например, комедиант мэтр Жан Понтале в новелле Бонавантюра
Деперье14 (остроумие было важной частью гуманистической концепции
красноречия), а исключительно как мастер ловкой плутни: выражение
8 Villon F. Op. cit. Р. 261.
9 Rabelais F. CEuvres completes. Paris, 1955. P. 300—301.
10 Интересные соображения по поводу «театрального начала» в творчестве Вийона
см.: Muhlethaler J.-CL Poetiques du quinzieme siecle. Paris, 1983.
11 Villon F. Op. cit. P. 215—242. Вольный стрелок из Баньоле — также один из пер¬
сонажей «загробного видения» Эпистемона у Раб/ie.
12 Rabelais F. Op. cit. Р. 575—578.
13 Характерно, что они печатались готическим шрифтом — преимущественным
шрифтом «народных книг».
14 См.: Conteurs fran<;ais du XVI siecle. Paris, 1956 (Bibiotheque de la Plei'ade). P. 442—445.
^107^ •
S. § /V .
«вийоновские проделки» (“tours villoniques”) вошло в разговорный язык
эпохи. Средневековая по топике, легенда о Вийоне стала принадлежно¬
стью «низовой» смеховой культуры французского Ренессанса.
На принципиально иной основе строится в 1530-х гг. прижизненная
легенда о Клемане Маро — часть поэтического пантеона поздних «ри-
ториков». Подхватив и развив средневековый миф о происхождении
французов от Франка, сына Гектора, дополнив его идеей превосходства
древней галльской культуры над культурой римской, школа создала и
величественный поэтический миф, вобравший в себя, помимо средне¬
вековых авторов, самих «риториков» и имевший двойную полемиче¬
скую ориентацию на античные и итальянские образцы. Почти каждая
выдающаяся (и не только) фигура французской поэзии превращалась в
национальный аналог кого-либо из древних или заальпийских писате¬
лей. Так, Жан Лемер де Бельж играл роль французского Гомера, Окта-
вьен де Сен-Желе — северного Цицерона, Жан де Мён — французского
Данте, и т.д. Поэтическое имя Маро возникло в результате простого со¬
звучия: Marot — Publius Vergilius Маго. Когда в 1540 г. Жиль Коррозе
напечатал перевод Маро поэмы Мусея «Геро и Леандр», он предварил
текст стихотворением, где есть следующие строки:
Маро не ниже во французской речи,
Чем Маро, что в своей латыни вечен15.
Маро и сам обыгрывал эту перекличку имен — например, в поэме
«Ад», где он с горделивой скромностью протестует против своего «ото¬
ждествления» с Вергилием:
Он звался Маро, я ж Маро зовусь,
Я лишь Маро, и Маро мне не быть:
Он умер, и его не повторить16.
Очевидно, что главное отличие подобной легенды от легенды вий-
оновского типа состоит в ее всецело литературном характере; она ос¬
нована на признании поэтических заслуг личности, ее значения для
живой литературной традиции. Это ярко проявилось в ходе одного из
наиболее заметных событий в культурной жизни Франции 1530-х гг. —
разгоревшейся в 1536—1537 гг. полемики (чтобы не сказать «перебран¬
ки») Маро с нормандским стихотворцем Франсуа Сагоном, который,
15 [Marot non moindre en sa fran<;oyse veine / Questoit Maro en sa langue romaine] //
Marot Cl Op. cit. T. 1. P. 481.
16 [Maro s’appelle, & Marot je me nomme, / Marot je suis, & Maro ne suis pas, / II rien
fut oncq depuis la sien trespas...] // Ibid. T. 2. P. 181.
^ 108 ^
Образ поэта во французской культуре раннего Возрождения
¥
¥
воспользовавшись пребыванием поэта в Ферраре, обвинил его в ереси
и несоблюдении поста17. Возникнув на почве личной вражды и начав¬
шихся гонений на протестантов, полемика немедленно приобрела вто¬
рое, собственно литературное измерение. Уже в печально знаменитом
опусе «Первый опыт» (“Coup dessay”, 1536) Сагон стремится не только
заклеймить противника, но и подорвать его славу первого поэта Фран¬
ции, вывести его из созданного «риториками» пантеона. Место Маро,
согласно Сагону, — в той самой «низовой» традиции, к которой легенда
отнесла Вийона. Имена двух поэтов оказываются рядом, и к ним впол¬
не естественно прибавляется имя адвоката Патлена:
... За фальшивый твой [Маро — И.С.] язык
Тебя считают все вторым Патленом,
Плутом Вийоном и лжецом отменным18.
Но тем самым должен быть уничтожен и миф о Маро как француз¬
ском Вергилии. И Сагон включает в «Опыт» десятистишие, цель которо¬
го — развести имена Маро (с буквой “t” на конце) и Марона, Маро (без
“t”). Довольно неуклюжее по форме, стихотворение начинается так:
Маро без буквы Т — поэт прекрасный,
А с буквой Т — испорченный совсем.
Он с Т, фигляр, морочит всех напрасно,
Без Т творит, как по плечу не всем19.
Принадлежность «мэтра Клемана» к «высокой» или, напротив, «ни¬
зовой» литературе стала основным предметом дискуссии. В первом же
ответе Маро своего врагу — послании «Фриппелипп, секретарь Клема¬
на Маро, Франсуа Сагону, секретарю аббата Сент-Эвруля» (1537) ав¬
тор негодует, что Сагон удостоился непомерной чести — послания от
самого слуги французского Вергилия20. Зато создатель «Великой Гене¬
алогии Фриппелиппа», сторонник Сагона Матье де Восель, открывает
свое творение рассказом о том, как он тщетно пытался восстановить
происхождение вымышленного слуги Маро сначала в священных кни-
17 Подробнее об этой полемике см. параграф «Поэтическая полемика в эпоху пе¬
чатной книги: спор Клемана Маро и Франсуа Сагона».
18 [...Par ton farde langage / Qui ta fait croire ung second Pathelin, / Ung fin Villon, ou
traistre cathelin...] // Marot CL CEuvres... La Haye, 1731. T. 4. P. 388. Собрание тек¬
стов полемики см.: Ibid. Р. 373—572.
19 [Maro sans .t. est excellent poete, / Mais avec .t. il est tout corrompu. / II prent de .t.
marotte pour holette / Et peult sans .t. ce que plusieurs n'ont peu] // Ibid. P. 391.
20 Ibid. P. 422.
^109^
, §IV
& ^
rax (Библии, произведениях св. Августина, св. Иеронима, св. Бонавен-
туры и др.), затем в древней истории (у Тита Ливия, Плутарха, Фуки¬
дида), пока, наконец, не добрался до «народных книг» — романов о
Персевале, Гюоне из Бордо, Мерлине21. Одновременно в ходе перепалки
возникала и новая система поэтических имен, оскорбительных и уни¬
чижительных. Основным их приемом их создания служила анаграмма,
чрезвычайно распространенная в данную эпоху. Из имени Маро стара¬
ниями главного сподвижника Сагона Ла Юэтри родился девиз “A mort”
(«Смерть ему») и «имя» “Clame-tourment” (нечто вроде «Призыв к пыт¬
ке»; эта неловкая конструкция стала предметом бурных насмешек). Ос¬
новой для прозвищ становились и простые созвучия: “Marot” — “mar¬
mot” («обезьяна»), “Sagon” — “sagouin” (тоже «обезьяна») и т.п.
Таким образом, столкновение двух стихотворцев вылилось в одну из
первых во Франции собственно литературных полемик. Показательно,
что Маро в ней ведет спор исключительно с точки зрения поэтическо¬
го мастерства, фактически игнорируя идеологические обвинения про¬
тивников и громя «этих скотов»22 за их нескладные «по смыслу, метру,
вокабулам и цезурам»23 вирши. Поэтическое имя, вокруг которого раз¬
вернулись дебаты, означало, таким образом, сформировавшееся пред¬
ставление об индивидуальной литературной репутации, принципиально
отличной от той роли, что исполнял член средневековой поэтической
корпорации. Полемика с Сагоном отразила и еще один процесс, проис¬
ходивший во французской культуре раннего Возрождения, — возник¬
новение литературных группировок. Нападки Сагона, с одной стороны,
привлекли на его сторону нескольких второстепенных стихотворцев, а с
другой — вызвали бурную реакцию многих крупных поэтов эпохи (Бо-
навантюра Деперье, Шарля Фонтена, Меллена де Сен-Желе, Эроэ, Бро-
до и др.), выступивших как «партия Маро». При этом подобная реакция
была не только стихийным выступлением в защиту первого поэта Фран¬
ции; Маро сам, устами Фриппелиппа, призвал своих «милых учеников»
поддержать его в борьбе с «кучей невиданных рифмачей»24.
Два раннеренессансных образа поэта, легенда о Вийоне и легенда о
Маро, отразили две различные, во многом противоположные концеп¬
ции литературного творчества. Сопоставление их позволяет судить как
о переменах в литературном сознании на переходе от Средневековья к
Возрождению, так и о неоднородности культуры раннего Возрождения
во Франции.
21 Ibid. Р. 425—426.
22 Ibid. Р. 420.
23 Ibid. Р. 417.
24 Ibid.
§_v
Книгопечатание и народная литература
во Франции XV в.1
Постановка проблемы, обозначенной в заглавии нашей работы,
требует некоторых оговорок. Во-первых, понятие «народная
культура» употреблено нами чисто формально, вне каких-
либо оценочных либо теоретико-квалифицирующих конно¬
таций: имеется в виду «литература на народном языке». Та¬
кой смысл термина обусловлен культурными параметрами, в которых
осознавали свою деятельность первые французские печатники и из¬
датели; бурный расцвет дешевой «ярмарочной» литературы (litterature
de colportage) наступит позже — в середине XVI столетия. Во-вторых, в
наши задачи не входит рассмотрение всего корпуса национальных тек¬
стов, отпечатанных во Франции за последние тридцать лет XV в. — не
входит, помимо прочего, потому, что для подобного анализа потребо¬
валось бы априори принять не только естественную нижнюю границу
изучаемого периода (1470 г., когда в Париже вышла в свет первая пе¬
чатная книга), но и его верхнюю границу, т.е. отождествить XV век как
эпоху в развитии культуры с эпохой инкунабул. Наша же цель скорее
прямо противоположна: мы попытаемся, выделив основные тенден¬
ции, характерные для начального периода книгопечатания, установить,
какую роль оно сыграло в становлении национальной культуры, как
отразилась практика печатен на ее ценностной иерархии и жанровой
системе и, в конечном счете, — когда взаимодействие французской ли¬
тературы и типографии подошло к той пограничной черте, за которой
мы можем с полным правом говорить о рождении ренессансной кни¬
ги и, шире, ренессансного литературного сознания. Иными словами,
мы не можем не вернуться к вопросу о рубеже между XV в. как эпохой
«осени Средневековья» и XVI в. как эпохой Возрождения во Франции.
Изучение книгопечатания sub specie литературы — задача новая не
только для отечественной, но и для западной научной традиции. Ко-
1 Впервые опубликовано в сборнике: Пятнадцатый век в европейском литератур¬
ном развитии / Отв. ред. А.Д. Михайлов. М., 2001. С. 133—171.
£ ^
нечно, за последние три десятилетия, благодаря, прежде всего, школе
Роже Шартье, традиционное книговедение во Франции вплотную при¬
близилось к истории культуры в рамках исследования такой фундамен¬
тальной категории, как чтение во всей совокупности своих историче¬
ских модификаций2. Книга (как печатная, так и рукописная), перестав
восприниматься как особый материальный объект, нейтральный по от¬
ношению к содержащемуся в нем произведению, была осмыслена как
тонкая и сложная система факторов, определяющих способ прочтения
этого произведения в различных социальных и культурных группах.
Такой подход оказался чрезвычайно плодотворным, в частности, для
изучения функционирования литературы как социального института:
достаточно сослаться на исторический анализ понятия авторства, про¬
деланный Р. Шартье в полемике с М. Фуко3. Однако, несмотря на этот
принципиальный сдвиг исторической перспективы — а во многом
именно в силу этого сдвига, — начальный период книгопечатания ли¬
шился того ореола «революционности», которым он был окружен в
чисто книговедческих работах. «...Очевидно, что с изобретением Гу¬
тенберга основные структуры книги не изменились. С одной стороны,
печатная книга по крайней мере до начала XVI в. напрямую зависит от
манускрипта. Она наследует у него расположение текста на странице,
шрифты, внешний вид, а главное — ее завершение происходит вруч¬
ную: рукой иллюстратора, который рисует украшенные инициалы и
миниатюры; рукой корректора (emendator), который расставляет зна¬
ки препинания, рубрики и заголовки; рукой читателя, который пишет
на странице свои пометы и ставит знаки на полях. С другой стороны,
что еще важнее, книга и до, и после Гутенберга остается материальным
объектом, состоящим из сложенных, сшитых в тетради и переплетен¬
ных вместе листов»4. Вполне естественно, что по способу чтения пе¬
чатный кодекс мало чем отличался от кодекса рукописного, а потому
в данном аспекте не представляет специального интереса для учено¬
го. Печатная книга не только в начале, но еще и в середине XVI в. вос¬
производила ряд особенностей манускрипта, изготовление которого в
2 См.: Chattier R. Lectures et lecteurs dans la France dAncien Regime. Paris, 1987; Idem.
De l’histoire du livre a Thistoire de la lecture: les trajectoires // Histoire du livre: nou-
velles orientations / Sous la dir. de H.E. Bodeker. Paris, 1995. P. 23—45; и в особен¬
ности: Storii della lettura nel mondo Occidentale / A cura di G. Cavallo e R. Chartier.
Roma, 1995, где содержится обширная библиографии по данному вопросу.
3 Chartier R. Figures de l’auteur 11 Chartier R. L’Ordre des livres. Aix-en-Provence, 1992.
P. 35—67 [рус. пер.: Автор в системе книгопечатания // Шартье Р. Письменная
культура и общество / Пер. с фр. и послесл. И.К. Стаф. М., 2006. С. 44—77].
4 Chartier R. Lecteurs dans la longue duree: du codex a lecran // Histoires de la lecture:
un bilan de recherches / Sous la dir. de R. Chartier. Paris, 1995. P. 272 [цит. по: Шар¬
тье P. Указ. соч. C. 28].
^112^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
*-
*
XIV—XV вв. было поставлено почти на промышленную основу; тем не
менее, «революция Гутенберга» во Франции произошла, хотя ее мате¬
риальные последствия, т.е. новый облик книги-кодекса, в полной мере
сказались едва ли не столетие спустя. В XV в. это была «революция в
сознании»: современники стремились осмыслить роль, задачи и функ¬
ции нового способа делать книги — способа, в культурном значении
которого в ту эпоху не сомневался, кажется, никто.
В 1470 г. ректор Сорбонны, доктор богословия и преподаватель ри¬
торики Гийом Фише открывает при университете первую французскую
печатню. К тому времени немецкие печатные книги были уже извест¬
ны в Париже, Йохан Фуст имел даже своего представителя при Сор¬
бонне. По приглашению приора Сорбонны Иоганна Хейнлина трое со¬
отечественников Гутенберга5 — Ульрих Геринг из Констанца, Михаель
Фрибургер из Кольмара, магистр искусств Базельского университета,
и рабочий Мартин Кранц из Штайна — прибыли в Париж. Рождение
французской типографии было ознаменовано выходом в свет «Писем»
Гаспарино Барциццы из Бергамо.
Странно (и вместе с тем характерно), что ни в одной из известных нам
работ по книговедению и по истории культуры не содержится даже по¬
пытки объяснить этот выбор Фише. Между тем, он представляется дале¬
ко не случайным и даже символичным. Гаспарино Барцицца (1359—1431),
гуманист и педагог, преподававший философию в Падуанском универ¬
ситете, как известно, создал частную школу, призванную воплотить на
практике принципы гуманистической педагогики; его учениками были,
среди прочих, Франческо Барбаро и Франческо Филельфо. Гийом Фише,
много раз совершавший поездки в Италию (он и скончался в Риме око¬
ло 1480 г.), в 1470-е гг. был главой группы — правда, весьма немного¬
численной — парижских гуманистов, ставивших своей целью изучение
античных (т.е., в то время, латинских) классиков. Преподаватель рито¬
рики — одной из основ studia humanitatis, согласно Гаспарино из Берга¬
мо, — он выбрал для печати книгу, которая, с одной стороны, должна
была предоставить его ученикам образцы совершенного эпистолярного
стиля, т.е. имела чисто прикладное значение как учебное пособие, но, с
другой, — самой фигурой своего создателя обозначала программу новой
педагогики и, шире, новой культуры, на службу которой Фише стремился
поставить гутенбергово изобретение. Французский гуманист явно хотел
представить себя и свое окружение продолжателями дела Гаспарино Бар¬
циццы в новых условиях. В новых — потому что Гаспарино еще не ведал
возможностей, открывающихся перед гуманизмом благодаря книгопеча-
5 И, возможно, его учеников. См.: Варбанец Н.В. Йоханн Гутенберг и начало кни¬
гопечатания в Европе. М., 1980. С. 225.
^ из ^
§ V
танию. Именно печатня призвана обеспечить гуманистов необходимым
количеством выверенных текстов Цицерона (особо почитавшегося Га-
спарино Барциццей), Вергилия, Саллюстия и других античных авторов,
манускрипты сочинений которых были во Франции редки и к тому же
изобиловали ошибками и неточностями. Первой своей книгой универси¬
тетская типография заявляет о себе как о гуманистическом центре, пря¬
мо обозначив образец, которому группа Фише собиралась следовать — и
который собиралась превзойти. Частное, в буквальном смысле слова до¬
машнее детище Гаспарино (его школа функционировала на дому), буду¬
чи перенесено на университетскую почву и подкреплено возможностями
типографии, получало невиданный доселе размах и статус социального
и культурного института. Идея превосходства над великим итальянским
предшественником — отметим сразу, более чем актуальная для зарож¬
дающегося французского гуманизма во всех его проявлениях6, — про¬
низывает и вступительное слово, которое Фише предпослал изданию
«Писем». Первая в истории развернутая похвала Гутенбергу накрепко
связала книгопечатание с гуманизмом и тем духом соревнования, кото¬
рым он оказался проникнут во Франции. Тот же пафос присутствует и в
послании Фише Роберу Гагену, датированном 1 января 1472 г.; послание
должно было предварять издание другого труда Гаспарино Барциццы,
трактата «Об орфографии», который был выпущен Сорбоннской печат¬
ней в том же году, однако по неизвестным причинам оказалось опущено7.
Фише описывает грядущий расцвет подлинной образованности в Люте¬
ции, набрасывает перечень античных авторов, изучение которых прибли¬
жает этот расцвет (Тибулл, Лукреций, Гораций, Овидий, Стаций, Лукан,
Марциал, Ювенал), и одновременно сравнивает Гагена с «князем» поэтов
Вергилием. Гутенбергово же изобретение он именует «германским Троян¬
ским конем», вторгающимся во тьму средневекового невежества и разго¬
няющим ее «великим светом» studia humanitatis.
За первые неполных три года своего существования печатня Сор¬
бонны выпустила около 20 книг (точное число назвать невозможно,
ибо колофон этих изданий не включал датировки8). Фише и Хейнлин
не отступали от провозглашенных принципов: вышли в свет Саллю¬
стий, Валерий Максим, Ювенал, «Об обязанностях» Цицерона; нако¬
нец, было издано программное для гуманистической филологии сочи-
6 На тот момент она оказывалась и во многом исторически оправданной, ибо
гуманистические печатни Италии развернут свою деятельность в полную силу
лишь к концу века.
7 Epitre adressee a Robert Gaguin le 1 janvier 1472 par Guillaume Fichet // Bulletin de la
Societe de Thistoire de Paris et de Tlle-de-France. 1887. juil.-aout. T. XIV. P. 106—110.
8 Histoire de ledition franchise. T. I. Le livre conquerant / Sous la dir. de H.-J. Martin et
R. Chartier. Paris, 1982. P. 151.
•^114^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
4
4
нение — “Elegantiae” Лоренцо Валлы, а также «Риторика» самого Фише,
который, тем самым, как бы закрепил свою роль родоначальника фран¬
цузского гуманизма, «национального Гаспарино Барциццы».
Исследователи, так или иначе обращавшиеся к деятельности печат¬
ни, отмечали, что внешне книга «Писем» Гаспарино ничем не отлича¬
лась от манускрипта9 — за исключением, правда, одной особенности.
Шрифт, которым она была отпечатана, был для Франции новшеством:
вместо обычных для рукописной книги готических литер здесь исполь¬
зована антиква (lettres antiques или romaines). Каким бы формальным
ни представлялось на первый взгляд это обстоятельство, для дальней¬
шего развития книгопечатания оно оказалось весьма значимым. Как
мы увидим, тип шрифта довольно точно отражал и культурную ориен¬
тацию каждого конкретного типографа, и его представление о статусе
выпускаемых им текстов.
В 1472 г. Гийом Фише уезжает в Италию, на сей раз навсегда. С его
отъездом деятельность основанной им печатни постепенно изменя¬
ет свое направление. Круг парижских гуманистов был слишком тесен
для того, чтобы печатня в своей практике могла долгое время ориен¬
тироваться лишь на те возвышенные цели, какие были провозглашены
ее основателем. Идеал гуманизма, достигшего с помощью печатни ста¬
туса «официальной», институционализированной культурной доктри¬
ны, столкнулся с потребностями типографии как коммерческого пред¬
приятия. Геринг и его компаньоны переселяются на улицу Сен-Жак и,
обосновавшись под вывеской «Золотое Солнце», открывают собствен¬
ное, независимое дело. Отныне основной массив их продукции будет
адресован гораздо более широкой публике: они печатают богослов¬
ские сочинения, дидактические трактаты, пособия для исповедников,
классические средневековые житийные своды типа «Золотой легенды»
Иакова Ворагинского. И эта смена ориентации немедленно отражается
на шрифте: антиква снова сменяется традиционной готикой. Если, бу¬
дучи еще в Сорбонне, немецкие типографы выпустили в свет по зака¬
зу Хейнлина «Комментарии» Дунса Скота к четвертой книге «Сентен¬
ций» Петра Ломбардского, используя для этой цели те же доски, что и
для «Тускуланских бесед» Цицерона и «Писем» Платона, то теперь они
вновь переиздают «Комментарии», но уже готикой10.
Таким образом, в деятельности первой французской печатни оказа¬
лись сфокусированы как основные тенденции рождающегося издатель¬
ского дела во Франции, так и его основные противоречия. Изначальная,
9 См., в частности: Parent A. Les metiers du livre a Paris au XVI siecle. Geneve, 1974.
P. 27.
10 Febvre L., Martin H.-J. Lapparition du livre. Paris, 1958. P. 253—254.
4П54
*
§ V
4
как бы наперед заданная связь с гуманизмом — и неизбежная ориента¬
ция на сравнительно массового читателя; служение новой, гуманистиче¬
ской филологии — и подчинение законам предложения и спроса.
* * *
Одним из наиболее «чистых» печатников-гуманистов, продолживших дело
Гийома Фише, был знаменитый Иодок Бадий (Jodocus Badius Ascensius),
или, во французской транскрипции, Жосс Бад (1461?—1535). После учебы
в Лувенском университете и поездки в Италию — в Ферраре он слушал лек¬
ции Баттисты Гварино да Верона, развивавшего идеи, близкие к Гаспарино
Барцицце, — Бадий в 1492 г. обосновался в Лионе и начал читать курс ри¬
торики в одном из коллежей. В том же году он выпускает у печатника Жана
Трекселя комментированное издание «Молений» Филиппо Бероальдо11 и
комедий Теренция. Трексель поручает ему отбор текстов для своей печатни
и подготовку их к изданию. В 1497 г., во время поездки в Париж, Бадий зна¬
комится с Гагеном, между ними завязывается тесная дружба. Впоследствии,
судя по переписке, он сближается с Эразмом и Гийомом Бюде и становится
одной из ключевых фигур французского гуманизма. После смерти Трекселя
(1498) он перебирается в Париж и при поддержке крупнейшего парижского
издателя Жана Пети12 открывает собственное дело.
Мы не будем подробно останавливаться на весьма плодотворной (и
успешной в финансовом отношении) деятельности Бадия-печатника:
всего за период с 1503 по 1535 гг. им было выпущено более 750 изданий13.
Для нас он интересен, прежде всего, редкой последовательностью своих
пристрастий: все без исключения изданные им книги так или иначе при¬
надлежат к studia humanitatis в самом строгом смысле. В подавляющем
большинстве это античные авторы, латинские и греческие (греческому
он учился у Баттисты Гварино), сочинения гуманистов — Лоренцо Вал¬
лы, Франческо Филельфо, Гийома Бюде, Эразма, — и отцов церкви. Ба¬
дий печатал только латинские и греческие книги; лишь 5 его изданий (в
том числе два переиздания!) — это сочинения на французском языке:
«О войне между Пелопоннесянами и Афинянами» Фукидида (перевод
«Истории Пелопоннесской войны», выполненный Клодом де Сейселем),
«История наследников Александра Великого» Диодора Сицилийского (в
переводе того же Сейселя) и «Житие монсеньора святого Иеронима» Ло-
11 Бадий, по-видимому, слушал лекции Филиппо Бероальдо в Мантуе. В XV—XVI
вв. «Моления» издавались по всей Европе и имели громадный успех. Как извест¬
но, в 1530-х гг. их переводил Маро.
12 Febvre L., Martin H.-J. Op. cit. P. 181.
13 Cm.: Imprimeurs et libraires parisiens du XVI siecle / Ouvrage publ. dapres les ma-
nuscrits de Ph. Renouard... Paris, 1969. T. 2. P. 6—297. К сожалению, это ценнейшее
издание оказалось прервано уже на первых томах.
^ не ^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
4
иса Лассере. Все они вышли после 1527 г., когда французский язык уже
обрел права гражданства во многих сферах официальной и частной жиз¬
ни, когда благодаря деятельности «великих риториков» (к этому мы еще
вернемся) он стал полноправным языком культуры.
Любопытен и показателен еще один факт. Среди «Молений» Филип¬
по Бероальдо присутствуют два латинских перевода из «Декамерона»
Боккаччо (новелла о Чимоне, V, 1, и новелла о Тите и Джизиппо, X, 8 —
излюбленный сюжет итальянских гуманистов, неоднократно его пере¬
водивших) и один перевод из Петрарки («Канцона к пречистой Деве»)14.
Каждый из текстов сопровождается комментарием Бадия, который вы¬
соко оценивает морально-дидактический смысл боккаччиевского по¬
вествования и пылкое религиозное чувство, одушевлявшее Петрарку.
Перед нами характерный подход гуманиста: ни проза, ни поэзия на на¬
родном языке не достойны входить в сферу риторики (до «реабилита¬
ции» Боккаччо — создателя «Декамерона» усилиями Бембо оставалось
еще более тридцати лет); фактом высокой культуры они могут стать
лишь в переводе, который, впрочем, все равно не придает им самостоя¬
тельного эстетического значения (им наделены только классики антич¬
ности), а потому ценность их заключается в нравственном уроке.
Среди шрифтов, которые использовал Бадий, преобладает антиква,
а также, естественно, греческие' литеры; к готике он обращается не¬
охотно (к 1530-м гг. она исчезает полностью) и, как правило, сочетает
ее с «римскими буквами». Но один тип шрифта печатник-гуманист за
всю свою долгую карьеру не применил ни разу: это т.н. «бастарда»15.
* * *
Прямым антиподом Бадия и его грандиозной гуманистической про¬
граммы предстает в своей деятельности еще один знаменитый париж¬
ский издатель — Антуан Верар. Собственно печатником он, в отличие от
14 Simone F. L’importance historique et litteraire des premiers editions lyonnaises de
Dante, Petrarque et Boccace 11 Annales de TUniv. de Lyon. 3e serie: Lettres. 1965. Fasc.
39. P. 35—36.
15 У средневековых писцов XV в. этот термин «использовался для характеристики
письма книг исторического и литературного содержания». Подробнее см.: Рома¬
нова В.Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII—XIV вв. М.,
1975. С. 172—173. Свидетельством тому что проблема соотношения шрифта и
содержания текста в период раннего Ренессанса стояла во Франции весьма остро
и не менее остро осознавалась, может служить еще один пример. Когда лионский
издатель, итальянец Бальдассаре да Габиано, стоявший у истоков того культурно¬
го процесса, благодаря которому Лион в начале XVI века превратился в «столицу
поэзии», задумал впервые издать во Франции Данте и Петрарку, он не прибегнул
ни к одному из традиционных французских типов шрифта. Подобно Фише, он
использует принципиально новые литеры, позаимствовав у Альда Мануция его
знаменитый «итальянский» шрифт — “italiques”. См.: Simone F. ’Op. cit. Р. 34.
^ 117 ^
^^
Бадия, не был: несмотря на то, что в некоторых колофонах его изданий
значится «imprime par — а не pour — Anthoine Verard», он не имел своей
типографии, предпочитая поручать исполнение нужной книги печатни¬
ку со сложившейся репутацией и передавая ему комплекты шрифтов и
гравированных досок для иллюстраций с сохранением права собствен¬
ности на них. Такая практика была в Париже широко распространена: к
примеру, Жан Пети, покровитель Бадия, передавал свои заказы несколь¬
ким десяткам (!) печатников, причем достаточно крупных — Ги Марша-
ну, Ульриху Герингу, Николя Деспре. Верар отличается от Пети только
тем, что в его лице книготорговец-либрарий впервые совпал с издате¬
лем в близком к современному смысле этого понятия. Он осуществлял
отбор и подготовку текстов, а также шрифтов, инициалов, миниатюр, а
затем реализовывал готовый тираж: ему принадлежали две книготорго¬
вые лавки в Париже, склад в Туре (там его влияние на торговлю книгами
было чрезвычайно велико), он вел дела даже в Англии. Со строго кни¬
говедческой точки зрения Верар — прежде всего основоположник фран¬
цузской иллюстрированной книги. В 1480-х гг. (возможно, и раньше) он
владел мастерской по изготовлению иллюстрированных рукописных
книг: сначала, по-видимому, в Турени, затем в Париже. Известны четы¬
ре манускрипта, вышедшие из его мастерской; среди них — роскошный
часослов, принадлежавший Карлу VIII и Людовику XII, и Псалтирь, так¬
же изготовленная для Карла VIII. Таким образом, вераровская рукопис¬
ная книга поставлялась ко двору. В начале 1480-х гг. в Париже появились
первые иллюстрированные книги, выпущенные печатником Жаном
Дюпре. Каллиграф и миниатюрист Верар сразу оценил открывающуюся
перед ним перспективу; 27 ноября 1485 г. вышла его первая книга (отпе¬
чатанная тем же Дюпре) — перевод «Декамерона» Боккаччо, выполнен¬
ный в начале столетия Лораном де Премьефе. Она открывалась большой
гравюрой с клишированным изображением писателя за работой.
История французского книгопечатания отводит Верару достаточно
почетное место, высоко оценивая его деятельность издателя и мастера
иллюстрированной книги16. Однако, как нам представляется, в исто¬
рии литературы и культуры Франции он сыграл не менее значительную
роль, только описание ее требует несколько иной системы историче¬
ских координат.
16 Материалов о Вераре, впрочем, не так много. Основополагающей работой по-
прежнему остается монография Дж. Макфарлейна: Macfarlane /. Antoine Verard.
London, 1900; не так давно к ней добавилась обширная и весьма обстоятельная моно¬
графия М.Б. Уинн: Winn М.В. Anthoine Verard, Parisian Publisher, 1485—1512. Prologues,
Poems and Presentations. Geneve, 1997 (Travaux d’Humanisme et Renaissance, № CCCXIII),
содержащая, помимо интересных наблюдений, огромный и по большей части неис¬
следованный фактографический материал и полезный справочный аппарат.
^118^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
¥
Рубеж XV—XVI вв. — время подъема напряженного национального
самосознания. Школа «великих риториков», поставив перед собой задачу
«защитить и прославить» французский язык, подготавливала своей по¬
этической практикой программные в этом смысле тексты («Храм доброго
имени» Жана Буше, знаменитый панегирик Кристофа де Лонгёйя Людови¬
ку Святому, наконец, «Согласие двух языков» и, конечно же, «Прославле¬
ния Галлии и примечательности Трои» Жана Лемера де Бельж). В первое
десятилетие XVI в. Кристоф де Лонгёй назовет Октовьена де Сен-Желе
«северным Цицероном»; чуть позже общепринятым поэтическим топосом
станет уподобление Клемана Маро Вергилию. Симфорьен Шанпье пишет
«Поединок в послании Галлии и Италии», дабы в споре с Джироламо да
Павия выяснить, какая из двух наций достигла наибольшей славы на по¬
чве словесности. В «поединок» вступают две ренессансные культуры: на
защиту литературной чести Италии встают три «флорентийских светоча»,
Данте, Петрарка и Боккаччо; со стороны Франции выступают Жан де Мён,
Фруассар, Ален Шартье, Молине, Шатлен, Сен-Желе. Заметим, что все
французские поэты, за исключением Жана де Мёна, представляют именно
литературу XV в., тогда как итальянцы — литературу Треченто.
Но этот пафос, в сущности, совпадает с гуманистической топикой,
служившей, от Фише до Гийома Бюде17, к прославлению современности
как золотого века наук и искусств; меняется лишь почва, на которой
произрастает это восторженное славословие — место антикизирующей
философии и филологии занимает литература на народном языке. По¬
этому в качестве точки отсчета в итальянской словесности берутся не
гуманисты Кватроченто, но родоначальники и образцы того «тоскан¬
ского наречия», которое вскоре будет канонизировано Бембо. Напом¬
ним, что издания Данте и Петрарки на вольгаре осуществил в Лионе
Бальдассаре да Габиано (1501 и 1502 гг., соответственно), как бы проти¬
вопоставив их гуманистическому восприятию сквозь призму латыни.
С Боккаччо дело обстояло сложнее.
Общеизвестно, что знакомство французов с творчеством великого
новеллиста началось с его латинских трактатов (прежде всего «О зло¬
счастной судьбе знаменитых мужей» и «Генеалогии языческих богов»).
Первый из них оказал влияние на французскую историографию XV в.,
второй — наряду с «Метаморфозами» Овидия, — служил незаменимым
источником для сложившейся в начале столетия и развитой «велики¬
ми риториками» науки о поэзии, poetrie, пересекавшейся со «второй
риторикой»18. «Декамерон» же был издан полностью (хотя и с искажени¬
17 См. трактат Бюде «Об изучении словесности» (“De studio literarum recte et com¬
mode instituendo”), изданный в 1532 г. Бадием.
18 См. параграф «Природа, любовь и риторика...» в настоящем издании.
¥ 119 ^
§ V
ями) сразу во французском переводе. Это и было первое издание, подго¬
товленное и осуществленное благодаря Жану Дюпре Антуаном Вераром.
Публикация «Бокаса ста новелл» интересна не только гравюрой с
изображением пишущего автора. Колофон книги гласит: «Здесь кон¬
чается книга камерона, иначе именуемая принцем Галиотом <...>,
каковую книгу в давние времена составил и написал Жеан Бокас из
Чертальд’ на латыни, и недавно была она переведена с латыни на фран¬
цузский язык мэтром Лораном дю Премьефе»19. Курьезный с нашей
точки зрения20, колофон этот встраивает вераровский «Декамерон» в
не менее последовательную, чем у Бадия, но принципиально отлича¬
ющуюся от бадиевской по направлению издательскую программу. Ве-
рар представляет творение Боккаччо как текст, написанный на латыни
в стародавние времена; по всей видимости, речь здесь вряд ли идет о
добросовестном заблуждении: переводчик сборника, Лоран де Премье¬
фе, не скрывал, что следовал не итальянскому оригиналу, но латинско¬
му переложению Антонио д’Ареццо, и трудно предположить, что Верар
совсем не имел представления о времени, когда был выполнен перевод
(1414 г.; т.е. хронологически перевод ближе к дате написания «Декаме¬
рона», чем к дате издания). Однако дело, в конечном счете, не в этом.
Цель вераровского колофона — вовсе не снабдить читателя точными
фактами: либрарий стремится соответствующим образом подать книгу
и одновременно обозначить свою собственную роль. Боккаччо, напи¬
савший «книгу Камерона» на латыни, — это если не античный классик,
то по крайней мере один из классических гуманистов, а его «новый»
переводчик превращается в одного из тех, кто, подобно Клоду де Сей-
селю, трудится над обогащением и обновлением национального языка
с помощью переводов. Таким образом, Верар предстает пропаганди¬
стом французского языка, ставящим ему на службу гуманистическую
латынь; предприятие это — в своем роде параллель изданию переводов
Теренция, которое он осуществил около 1500 г. и которое противостоит
латинскому комментированному изданию Бадия.
«Декамерон» открывает целую серию вераровских публикаций Бок¬
каччо. 28 апреля 1493 г. он издает «Книгу Жеана Боккасса (Boccasse)
19 Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque Nationale: Auteurs. T. 14.
Col. 612 [Macfarlane J. Op. cit. № 1. P. 1].
20 Чего стоит одна “livre de cameron”: [следуя неисправному манускрипту перевода
Премьефе: см., в частности, Cappello S. Le prime traduzioni francesi del Decame¬
ron : Laurent de Premierfait (1414), Antoine Verard (1485) e Antoine Le Ma^on (1545)
// Fortuna e traduzioni del Decameron in Europa. Atti del trentacinquesimo Conve-
gno sui problemi della traduzione letteraria e scientifica. Monselice, 2008. P. 234, n.
3], Верар трансформирует греческое заглавие сборника в предлог и некое имя
собственное (по сути, приравняв его к «принцу Галеотто»); в первой половине
XVI в. эта ошибка переходила из издания в издание.
^120^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
¥
о похвале и добродетели благородных и знаменитых дам», 4 ноября
1494 г. — «О несчастных благородных мужах» (перевод того же Лора¬
на де Премьефе), в январе 1499 г. — «О Генеалогии Богов». О том, что
речь идет о программе последовательного переведения принципов гу¬
манистической филологии в регистр национальной литературы, свиде¬
тельствует хотя бы отдельное издание новеллы о Гвискардо и Гисмонде
(Декамерон, IV, 1), принадлежащей к числу тех, которые итальянские
гуманисты Кватроченто любили переводить на латынь: «Весьма при¬
ятный и увеселительный трактат о совершенной любви Гвискардуса и
Сигизмунды» (6 мая 1493 г.).
Однако идея служения национальному языку и литературе неотде¬
лима в это время от идеи равенства (если не превосходства) француз¬
ской словесности с итальянской. Издав перевод «Декамерона», Верар
уже в следующем году выпускает в свет французский аналог и «проти¬
вовес» итальянским «Ста новеллам» — «Сто новых новелл».
Книга эта заслуживает отдельного разговора. Написанный при
дворе герцога Бургундского Филиппа III Доброго в 1462 г., сборник
на протяжении следующих 20 лет, вплоть до Аррасского мира, будет
французским только по языку: Бургундия, как известно, находилась
в состоянии перманентной войны с Францией. Именно поэтому до¬
фин, будущий Людовик XI, мог укрываться при дворе герцога от гне¬
ва своего отца Карла VII. Факт пребывания дофина при дворе Филип¬
па Доброго, по-видимому, и лег в основу «апроприации» сборника — у
Верара «Сто новых новелл» подаются читателю как французское «на¬
циональное достояние».
24 декабря 1486 г. вышли в свет (скорее всего, из печатни Пье¬
ра Леве21) «Сто новых новелл, сочиненных и рассказанных в недавнее
время новыми людьмй» (т.е. современниками, в отличие от «старо¬
давнего» Боккаччо). Текст самих новелл предваряло «Посвящение»,
в котором анонимный автор декларировал свою ориентацию на Бок¬
каччо, подчеркивая при этом важные отличия своего произведения от
образца. Заключалось же «Посвящение» словами: «И примечайте, что
во всех новеллах, где говорится “рассказана Монсеньором”, имеется в
виду “Монсеньор Дофин”, каковой впоследствии унаследовал престол
и сделался королем Людовиком Одиннадцатым, ибо в ту пору пребы¬
вал он во владениях герцога Бургундского»22. Эта атрибуция, не снимая
вопроса об авторстве текста, оказалась весьма устойчивой: вплоть до
21 Колофон не содержит имени печатника, однако А. Клоден на основании анализа
шрифта убедительно доказывает, что книга была изготовлена именно Леве: Clau-
din A. Histoire de Fimprimerie en France au XVе et XVIе siecle. Paris, 1901. T. 2. P. 411.
22 Les Cent Nouvelles nouvelles, dites les Cent nouvelles du Roi Louis XI / Nouv. ed. <...>
par P.L. Jacob, bibliophile. Paris, 1858. P 2.
^ 121 ^
^^
1858 г., когда Т. Райт опубликовал единственный сохранившийся ма¬
нускрипт сборника, обнаруженный им в университетской библиотеке
Глазго, первое печатное издание считалось единственно авторитетным.
Однако в глазгоской рукописи, как оказалось, заключительный пас¬
саж «Посвящения» отсутствовал. Сам Т. Райт считал, что Верар, по-
видимому, имел дело с «неисправной рукописью» и проявил «большую
небрежность» как издатель23. Нам, однако, представляется, что причина
различия между манускриптом и печатным изданием глубже.
Верар, бесспорно, замышлял свою книгу как выдающееся типо¬
графское произведение: изящный шрифт, гравюры, предпосланные
каждой отдельной новелле (в его «Декамероне», напомним, гравюра
с изображением автора была единственной), текст, расположенный в
два столбца, наконец, солидный формат ин-фолио ставят издание в
один ряд скорее с утраченным манускриптом «Ста новых новелл» из
библиотеки герцогов Бургундских, чем с теми иллюстрированными
рукописями «скромного формата», которые в то время циркулиро¬
вали во Франции и предполагали отношение к сборнику как к тексту
полузапретному и «развратному»24 (к числу последних принадлежит
и рукопись из Глазго). Верар с его близостью ко двору ориентируется
на богатый «подносной» манускрипт. Но описание рукописи 1261 из
библиотеки герцогов Бургундских, сделанное в конце XV в., не остав¬
ляет сомнений в том, что пресловутый «Монсеньор» отождествлял¬
ся отнюдь не с дофином Людовиком, но с самим Филиппом Добрым:
«Книга совсем новая, писанная на пергамене в две колонки, покрытая
белою замшей, украшенная во многих местах богатыми миниатюра¬
ми, содержащая Сто новелл как самого Монсеньора (да простит его
Бог!), так и многих иных из его приближенных (de son hostel)»25. Речь
идет о Бургундском дворе и его государе, и глазгоская рукопись сви¬
детельствует, что неизвестный автор неукоснительно выдерживал
придворную иерархию в структуре сборника. Адресат книги и глава
кружка рассказчиков — сам герцог Филипп: к нему обращено «По¬
священие», ему отдано право рассказать первую новеллу. В тексте он
именуется «Монсеньор» и тем самым выделяется из числа прочих
«монсеньоров»-рассказчиков, названных по именам (монсеньор де
Ларош, монсеньор де Лоан, и т.д.). У Верара же «Монсеньор»-дофин
и «монсеньор герцог» противопоставлены как рассказчики на про¬
тяжении всей книги: дофин рассказывает 10 новелл, Филипп — всего
23 Les Cent Nouvelles nouvelles / Publ. dapres le seul ms connu <...> par M. Thomas Wright.
Paris, 1858. T. 1—2. P. IX—X. Это мнение остается авторитетным до сих пор.
24 Saenger Р. Leggere nel tardo medioevo // Storia della lettura nel mondo Occidentale.
P. 152.
25 Les Cent Nouvelles nouvelles / Ed. par P.L. Jacob, bibliophile. P. XX, n. 1.
^122^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥■
4
три (в рукописи — 14); по числу новелл, т.е. по своему красноречию,
герцог Бургундский у парижского издателя приравнен к безвестному
клирику Понселе или оруженосцу Алардену, превращаясь в поддан¬
ного Людовика.
Тем самым апроприация бургундских «Ста новых новелл» станови¬
лась отражением и косвенным прославлением присоединения герцог¬
ства к Французскому королевству, заслуги Людовика XI. Естественно,
изменился и адресат «Посвящения»; поскольку, обращаясь к Филиппу
Доброму или Людовику, странно было бы пояснять, кто из них, соб¬
ственно «Монсеньор»26, то посвящение, с одной стороны, может им¬
плицитно подразумевать Карла VIII (вступившего на престол в 1483 г.
и, как мы видели, охотно принимавшего от Верара его книжную про¬
дукцию), а с другой, — из текста неведомого бургундца превращается в
текст самого либрария, адресованный читателям книги. Благодаря Ве-
рару «Сто новых новелл» превратились во французский образец жан¬
ра, в эквивалент «Декамерона», — но одновременно и сам Верар кос¬
венным образом выступил как бы в функции их автора.
Вмешательство Верара в рукопись не ограничивается интерполяци¬
ей в «Посвящении» и перераспределением новелл между рассказчика¬
ми. Издатель насыщает текст синонимическими конструкциями, харак¬
терными для высокого стиля, отчасти сокращает его (руководствуясь
представлением о краткости как о преимуществе прозы перед поэзией)
и, наконец, приводит его в соответствие с парижской языковой нор¬
мой, «очищая» от устаревших слов и диалектизмов27. С его легкой руки
«Сто новых новелл» становятся одним из популярнейших и наиболее
часто издаваемых текстов в XVI в., присутствующим во многих част¬
ных библиотеках парижан28.
Таким образом, в издании «Ста новых новелл» Верар берет на себя
роль, отчасти приближающуюся к роли автора. Случай этот не был
единичным; более того, в ряде выпущенных им книг квазиавторская
функция заявлена еще более открыто. Мери Бет Уинн, проанализиро¬
вав практику вераровской подачи текста, обратила особое внимание
на предваряющие основной текст прологи-посвящения, послания и
стихотворения: по ее подсчетам, в 13 сочинениях, выпущенных в свет
парижским либрарием, посвящения подписаны автором либо перевод¬
26 Т. Райт приводит занятный пример аберраций, к которым приводило пояснение
Верара: в одном из описаний сборника, сделанном в XVIII веке, сказано, что со¬
ставлен он «для развлечения короля Людовика XI, когда он был еще Герцогом
Бургундским...» // Les Cent Nouvelles nouvelles / Publ. par Th. Wright. T. 1. P. V—VI.
27 См.: Стаф И.К. Издательский заказ и становление жанра новеллы во Фран¬
ции // Книга в системе международных культурных связей. М., 1990. С. 33—35.
28 Doucet R. Les bibliotheques parisiennes au XVIе siecle. Paris, 1956. P. 49.
^123^
S. § V ^
чиком, а в 16-ти — самим Вераром, который обращается к Карлу VIII
посредством формулы «смиреннейший и покорнейший слуга»29. Под¬
носные экземпляры обычно открываются миниатюрой, изображающей
момент вручения книги государю, причем зачастую на ней фигуриру¬
ет портрет самого Верара30. Иногда он пишет оригинальный текст по¬
священия, но в ряде случаев присваивает, подписывая своим именем,
пролог, адресованный подлинным автором совсем другому государю.
Так, 8 июня 1493 г. Верар выпускает «Древо битв» Оноре Боннора; ав¬
торское посвящение, обращенное к Карлу VI, он переадресует от соб¬
ственного имени Карлу VIII. «Рассматривая себя как “авторов” книг,
текст которых, однако, написан не ими, — заключает свои рассуждения
на тему фигуры издателя-псевдоавтора Р. Шартье, — либрарии подно¬
сят государю для его библиотеки экземпляры своих изданий, дабы за¬
ручиться его покровительством»31.
К сожалению, трудно сказать, насколько распространенной была
подобная практика среди других либрариев и печатников во Франции
XV—начала XVI в.: специальные исследования на эту тему нам неиз¬
вестны. Но, как представляется априори, случай Верара — особый.
Дело не только в том, что он предпочитает не выпускать сочинений
только что написанных, останавливая свой выбор на текстах, уже име¬
ющих определенную рукописную историю: по-видимому, это было ха¬
рактерно для раннего этапа книгопечатания вообще (за исключением
гуманистической линии)32. Важна сама культурная ориентация Верара,
поставившего перед собой — сознательно или бессознательно — задачу
прославить французский язык и литературу.
За исключением роскошных часословов, исполнявшихся по его за¬
казу, и двух-трех богослужебных книг, парижский либрарий никогда не
обращался к латыни. Однако он был свободен и от той «узкой специ¬
ализации», которой уже в ту эпоху отличались многие печатники: так,
упомянутый выше Мишель Ленуар был известен как издатель рыцар¬
ских романов, а Жан Трепперель — как основоположник «ярмарочной»
литературы, которая получила мощное развитие в первой половине
29 Списки соответствующих изданий см.: Winn М.В. Antoine Verards Presentation
Manuscripts and Printed Books // Manuscripts in the Fifty Years After the Invention of
Printing. Some Papers Read at a Colloquium at the Warburg Institute on 12—13 march
1982 / Ed. liy J.B. Trapp. London, 1983. P. 73—74.
30 Весьма выразительную иконографию см.: Claudin А. Op. cit.
31 Chatrier R. Le prince, la bibliotheque et la dedicace // Le pouvoir des bibliotheques /
Ed. par M. Baratin et Chr. Jacob. Paris, 1996. P. 212—213.
32 Любопытно, что произведения, например, Антуана де Ла Саля увидели свет
лишь к 20-м годам XVI в: «Маленький Жан из Сантре» — в 1518 г., “La Salade” —
в 1522-м (оба текста вышли у Мишеля Ленуара, специализировавшегося на ры¬
царских романах).
^ 124 ^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
¥
XVI в. Корпус книг, подготовленных Вераром, свидетельствует, что по-
своему он стремился вписаться в ту теоретико-литературную и куль¬
турную проблематику, которая разрабатывалась вторым, современным
ему поколением «великих риториков». Он выпускает по крайней мере
два издания «Романа о Розе» — текста, который в глазах «риториков»
служил достойным национальным аналогом «Комедии» Данте и созда¬
телей которого, Гийома де Лорриса и Жана де Мёна, именовали в этот
период французскими Эннием и Данте33. При этом он печатает роман
в обработке Жана Молине (1511), который, использовав анонимное
прозаическое переложение текста, сопроводил его морально-аллего¬
рическим толкованием и тем самым поставил в один ряд с «Метамор¬
фозами» Овидия, этой «Библией поэтов», превратившейся в XIV в. в
огромный латинский компендиум «Морализованный Овидий» (в XV в.
он был переведен на французский язык и издан Коларом Мансьоном34,
а вслед за ним — тем же Вераром35). Тем самым, Верар включался в про¬
цесс осознания сущности и функций поэзии, который был стержнем
творческой деятельности «риториков», понимавших поэзию прежде
всего как «баснословие»36.
Парижский либрарий выпускает не только «библии поэтов», слу¬
жившие источником мифологических — т.е. поэтических par excel¬
lence — персонажей и связанных с ними сюжетов. 10 мая 1493 г. вы¬
ходит в свет подготовленное им «Искусство и наука Риторики для
писания рифм и баллад». В прологе значится имя автора трактата —
Анри де Круа, подносящего книгу Карлу VIII. Однако Э. Ланглуа пер¬
вым заметил, что текст великолепного подносного экземпляра на ве-
лени из библиотеки Карла идентичен тексту «Маленького трактата,
составленного мэтром Жаном Молине для поучения тех, кто желает
познать искусство Риторики»37. Собственно, и пролог-посвящение
представляет собой лишь измененный (не в лучшую сторону) пролог
Молине; иногда они совпадают дословно:
33 Первое «имя» активно употреблял еще Маро; второе ввел в оборот Жан Лемер
де Бельж.
34 Су commence Ouide <...> son liure intitule Metamorphose <...> moralise par maistre
Thomas waleys docteur en theologie, translate et compile par Colard Mansion <...>
Faict et impime en la noble ville de Bruges par Colard Mansion <...> 1484.
35 Без упоминания имени Колара Мансьона (1493).
36 Т.е. в соответствии с толкованием, данным Боккаччо в «Генеалогии языческих
богов» (также, как мы видели, изданной Вераром во французском переводе).
Традиция эта сохранялась долго: как известно, свое аллегорическое толкование
дал «Роману о Розе» Клеман Маро (1526), оказавший в данном случае влияние
даже на «Разыскания о Франции» Этьена Пакье. К слову, фигура Маро-издателя
заслуживает, на наш взгляд, самого пристального внимания.
37 Langlois Е. Recueil d’Arts de seconde rhetorique. Paris, 1902. P. LVI—LVII.
^ 125 ^
» - - - —
«Искусство и наука Риторики»
«Маленький трактат»
Certes, sire, се tant peu que je vous
presente ne vous peut gueres aider, vous en
avez plus en la bouche que rien s<;auroye
mettre par escript, ne la chalemelle de Pan,
qui abusa le roy Midas, ne la flute de Dieu
Mercure, qui endormit le cler Argus, ne la
vielle de Amphion qui repara les murs de
Thebes, ne aussi la harpe d’Orpheus, qui
ouvrit les portes denfer neurent ensemble
tel resonance ne si joyeuse armonie
que vous, sire, avez au sens de vostre
entendement sans toucher par art...
Конечно, сир, та сущая малость, что
подношу я вам, нисколько вам не в по¬
мощь, в устах ваших более [красноре¬
чия], чем сумею я изложить на письме;
ни свирель Пана, что обманула короля
Мидаса, ни флейта Бога Меркурия, что
усыпила зоркого Аргуса, ни виела Ам-
фиона, что восстановила стены Фив, ни
равно арфа Орфея, что отворила врата
ада, не имели все вместе того звучания
и той веселой гармонии, какая дана
вам, сир, в силу вашего разумения и без
участия искусства...
Certes, tres honnoure seigneur, ce tant рои
que jen ay en teste ne vous у puet gaire ou
pou aidier; vous en avez plus en la bouche
que nen s<;ay mettre par escript; ne la cha-
lumele de Pan, qui abusa le roy Midas;
ne la fleute du dieu Mercure, qui endor-
mi le cler Argus; ne la viele dAmphion
qui repara les murs de Thebes; ne aussi la
harpe d’Orpheus, qui ouvri les portes den¬
fer, neurent ensemble tele armonie ne si
joyeuse resonance que vous, tres honnoure
seigneur, avez en bouche et en faconde...
Конечно, досточтимый сеньор, та су¬
щая малость, что есть у меня в голове,
нисколько вам не в помощь, либо [в
помощь] малую; в устах ваших более
[красноречия], чем сумею я изложить
на письме; ни свирель Пана, что обма¬
нула короля Мидаса, ни флейта Бога
Меркурия, что усыпила зоркого Аргуса,
ни виела Амфиона, что восстановила
стены Фив, ни равно арфа Орфея, что
отворила врата ада, не имели все вме¬
сте той гармонии и столь веселого зву¬
чания, какое дано вашим устам, досточ¬
тимый сеньор, и в изобилии...38
Любопытно, что автор пролога к вераровскому изданию явно чув¬
ствует себя несколько скованно именно в части мифологических пер¬
сонажей: краткий список Молине переписан слово в слово, как если
бы мнимый создатель трактата боялся ошибиться, но вместе с тем не
хотел упустить ни единой «поэтической» фигуры. В начале пролога
нежелание расстаться с еще одним божеством, Купидоном, приводит
автора к логической неувязке: «знамена Купидона», под которыми
якобы оказался король, весьма слабо согласуются с необходимостью
возносить хвалу Богу и «нашей святой матери-Церкви» по всем пра¬
вилам риторики. У Молине все просто: его сеньор, «встав под знамена
Купидона», просит просвещенного историографа Бургундского двора
дать ему образцы и примеры различных стихотворных форм, чтобы
он мог «завоевать противника своего и одержать над ним славную
победу». Автору же пролога в парижском издании приходится объя¬
вить, что Венера и Купидон «правят ходом времен согласно искусству
риторики».
38 Ibid. Р. 214—215.
^ 126 ^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
Э. Ланглуа убедительно доказывает, что Анри де Круа как раз и мог
быть тем «досточтимым сеньором», которому посвящает свою ритори¬
ку Молине; потомок одного из самых древних и мощных бургундских
родов, он, по мнению Ланглуа, мог попросту присвоить сочинение «ве¬
ликого риторика» и поднести его Карлу VIII как свое собственное39.
Такую возможность нельзя исключать: представления об авторском
праве в эту эпоху допускали подобное присвоение патроном творения
поэта как нечто вполне естественное. Однако, как нам кажется, в дан¬
ном случае дело обстоит несколько сложнее.
Примечателен сам тон пролога, обращенного к государю. Автор
убежден, что Карлу VIII неведомо искусство, которому он намерен его
обучить: если король и способен затмить своей «веселой гармонией»
Пана, Меркурия, Амфиона и Орфея вместе взятых, то только в силу
своего природного «разумения», а отнюдь не риторических познаний.
Из этого следует, что Карлу предлагается трактат, посвященный науке
совершенно новой, при дворе совсем неизвестной: в противном слу¬
чае эти слова звучали бы обвинением государя в невежестве, вряд ли
уместным в посвящении подносного экземпляра. Лишним тому под¬
тверждением служит упоминание в двух местах латинской ритори¬
ки — ее значение неоспоримо, однако «потребно государям и князьям
постигать разумом своим» риторику французскую, «дабы научиться
излагать, диктовать и правильно записывать всевозможные поэтиче¬
ские творения (oeuvres de poetrie), сходным образом как на латинском
языке, так и, на подобный же манер, на языке французском». «Вторая
риторика» — наука действительно новая при дворе французского ко¬
роля, учитывая, что все ее предшествующие представители состояли в
окружении герцогов Бургундских (Молине отнюдь не исключение; бо¬
лее того, он включает в свой трактат в качестве примеров антифран-
цузские стихи). Однако в 1493 г. Анри де Круа, старший сын Филиппа,
графа Шиме, сеньора де Сампи и де Кьеврен, преподносит один из пло¬
дов этой расцветшей в Бургундии науки Карлу, дважды повторив в по¬
священии формулу «ваш смиреннейший и покорнейший подданный и
слуга». Действительно ли он делает это сам?
Вспомним, что Верар неоднократно предварял чужие сочинения
своими собственными посвящениями королю; вспомним, что он стре¬
мился своей деятельностью прославить Францию и ее язык; вспомним,
наконец, что ему уже случалось, изменяя «авторство», представлять
литературное достояние Бургундии («Сто новых новелл») как исконно
французское. Вполне возможно, что посвящение трактата свидетель¬
ствует не столько о «плагиате» (который, подчеркнем еще раз, воспри-
39 Ibid. Р. LXII—LXIII.
^127^
^^
нимался как вполне правомерное для сеньора поведение), сколько об
очередной попытке Верара приумножить славу французской культуры,
заодно напомнив о том, что могущественная прежде Бургундия ныне
принадлежит короне. Если новеллы, призванные встать в один ряд с
«Декамероном», парижский либрарий украшает именем Людовика XI,
придавая им «королевский» статус40, то первое в истории французской
литературы издание трактата по «второй риторике» представлено как
подношение подданного (и не просто безвестного поэта, но знатнейше¬
го из бургундских сеньоров) Карлу VIII41. Можно сказать, что даже если
заказ на изготовление книги, в самом деле, исходил от Анри де Круа, то
решающая роль в переносе на парижскую почву литературных плодов
«Бургундского древа» (так назвал один из своих прозиметров Молине)
принадлежит, безусловно, Верару.
Судя по всему, эта первая прививка “poetrie” к книгоиздательской
практике оказалась удачной. Около 1500 г. (колофон книги не датиро¬
ван) Верар выпускает поэтическую антологию под красноречивым на¬
званием «Сад Удовольствия и цвет Риторики»42 — собрание лучших
стихотворных произведений, созданных французскими поэтами XIV—
XV вв. «Цветом» выступает «Наставление во второй риторике», трактат,
автор которого скрылся под псевдонимом «Горемыка» (“Infortune”); «са¬
дом» — стихи Карла Орлеанского, Алена Шартье43, его довольно попу¬
лярного подражателя Боде Геренка44, Кокийяра, Вийона. Последнее имя
в данном контексте особенно знаменательно. Известно, что сочинения
Вийона — в отличие от большинства поэтов эпохи, — не были обойде¬
ны вниманием печатников. В 1489 г. Пьер Леве, тот самый, чей вариант
шрифта использовал Верар для издания «Ста новых новелл» и которо¬
му он поручал исполнение целого ряда своих книг, выпустил издание
сочинений Вийона и сразу вслед за ним — перепечатку, к которой были
добавлены фарсы об адвокате Патлене. Леве «материализовал» в этой
книге — и особенно в перепечатке — легенду о Вийоне-пройдохе, пер¬
сонаже столь же нарицательном, как и мэтр Патлен, и представил его
40 Любопытно, что именно на «Ста новых новеллах» 1486 г. впервые появляется
издательская марка Верара.
41 На рубеже веков трактат еще несколько раз выходил в печатном виде, но всегда
издавался как анонимный — без имени Молине, но и без имени Анри де Круа.
42 Le Jardin dejPlaisance et fleur de Rhetorique. Nouuellement imprime a Paris pour Ant.
Verard (s.l., s.d.).
43 В «Храме Купидона» Клемана Маро «мэтр Ален», наряду с Овидием, Петрар¬
кой и создателями «Романа о Розе», упомянут как автор «сакрального» текста —
«Безжалостной красавицы». Но для Верара, возможно, большее значение имел
тот факт, что Шартье был секретарем Карла VI и Карла VII.
44 Автора «Обвинения против Безжалостной красавицы» (в «Саду...» оно названо
«Суд любви»).
^128^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
¥
поэтом сугубо «ярмарочным», «фарсёром», чрезвычайно далеким от
исканий «риториков» (последнее во многом справедливо). Тем самым
включение Вийона — пусть даже отдельных его баллад — в контекст
риторического «Сада» выглядело безусловным новшеством. Посколь¬
ку среди поэтов, представленных в антологии, бургундские «риторики»
демонстративно отсутствуют, можно предположить, что «Сад Удоволь¬
ствия...» задумывался как образцовое собрание «чисто французских»
поэтов — предприятие совершенно в духе Верара. Так или иначе, ан¬
тология сыграла в литературной судьбе Вийона значительную роль.
Когда в 1533 г. Клеман Маро подготовил к печати полное собрание его
творений, призванное, наконец, представить публике и Франциску
I (которому и принадлежала мысль выпустить новое издание поэта)
Вийона, очищенного от искажений невежественных издателей, он, в
сущности, шел по стопам Верара. Маро оттого и мог пенять автору «За¬
вещаний» за излишне низменную и частную материю его стихов, что к
30-м гг. XVI в. репутация Вийона как одного из первейших парижских
стихотворцев уже сложилась. Как сложилось и утвердилось при дворе
убеждение, что только придворный стихотворец может быть настоя¬
щим поэтом — идея, восходящая к «великим риторикам» и внедренная
в структуру сознания и обычаев французского двора при активном со¬
действии Антуана Верара.
Наконец, еще одним показательным примером значения вераров-
ских изданий для подготовки того расцвета национальной поэзии, ка¬
кой наступит в период царствования Франциска I, может служить под¬
несенный Карлу VIII экземпляр книги, озаглавленной «Сад чести» (“Le
Vergier d’honneur”). Датировать ее следует, по-видимому, 1496—1498 гг.,
последними годами правления короля. «Сад чести» — случай уникаль¬
ный в вераровской практике: впервые он удостаивает издания поэта не
только не «классического», но и относительно молодого: Андре де Ла
Виня (ок. 1470—после 1515). Безусловно, этот выбор был обусловлен
тем, что Ла Винь состоял на службе у Карла; именно ему было поручено
вести дневник первого итальянского похода (1495)45. Среди текстов, со¬
ставляющих «Сад чести», выделяются «Упование Христианского мира»
(“La Ressource de Chrestiente”), прозиметрическая аллегория, персона¬
жи которой провозглашают необходимость нового крестового похо¬
да, а также «Путешествие в Неаполь», та самая хроника, а вернее, за¬
писки очевидца вторжения французов в Италию, которые создавались
по заказу Карла. Андре де Ла Винь, таким образом, выступает во всех
ипостасях образцового бургундского «риторика»: функция хрониста
45 В свите короля в Италии побывал и Коммин, решительный противник этой
кампании.
^129^
£ ^
совмещается у него с владением стилистикой риторической школы.
Фигура молодого поэта идеально отвечала культурным устремлениям
Верара — тем более что «Путешествие в Неаполь» всецело проникну¬
то пафосом возвеличения французской нации и культуры, ни в чем не
уступающей культуре итальянской; именно этот пафос одушевлял и из¬
дательскую практику Верара.
Отбирая, обрабатывая и поднося государю (и одновременно чита¬
ющей публике) «цвет» французской риторики, Верар оказывает силь¬
ное влияние на формирование среды, в которой получит развитие на¬
циональная поэзия на протяжении следующих десятилетий. Но то же
самое можно сказать и о способе подачи, «презентации» его книг. Все
исследователи справедливо отмечают, что вераровские подносные эк¬
земпляры почти не отличаются от великолепно иллюстрированных
манускриптов; это относится и к материалу, на котором печатаются
подобные книги — велени, и к исполненным вручную миниатюрам и
инициалам, и к шрифту, изысканной бастарде, которой переписыва¬
лись литературные произведения на народном языке в мастерских XV
в. Однако толковать эти особенности только как свидетельство «сред¬
невековое™» первых французских печатных книг было бы, по нашему
мнению, упрощением. Можно взглянуть на сходство вераровских изда¬
ний с рукописями в другом аспекте, учитывая установку либрария на
придание нового статуса французской словесности.
Поэзия, и в особенности поэзия живая, современная, в продукции
парижских46 печатников и издателей не занимала практически ника¬
кого места. Отчасти, конечно, это обусловлено тем, что «в силу своего
частного характера она не была предназначена для широкого тиражи¬
рования: это литература элиты, не выходившая за пределы аристокра¬
тической среды. Вот почему она оставалась рукописной»47. Объясне¬
ние, быть может, и справедливое, но вряд ли достаточное: французский
гуманизм на раннем этапе своего развития был явлением не менее и
даже более элитарным, и тем не менее он первым поставил достиже¬
ния книгопечатания себе на службу; кроме того, уже в самом начале
XVI в. новое поколение «риториков», в частности, племянник Молине
Жан Лемер де Бельж, стало все более активно использовать возможно¬
сти печатен. Более глубокой причиной рукописного по преимуществу
бытования поэзии был сам статус поэта-«риторика» — творца, прежде
всего, придворного, адресующего свои сочинения в первую голову госу¬
дарю или иному высокому покровителю, а нередко и пишущего по его
46 Впрочем, примерно так же обстояло дело и в Лионе, признанном центре изда¬
ния литературы на народном языке.
47 Giraud Y., JungM.-R. La Renaissance. Paris, 1972. Vol. I: 1480—1548. P. 47.
^130^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥■
*
заказу. Поэт, поднося патрону вновь созданное произведение, в обмен
получает то или иное вознаграждение за свои труды — деньги, долж¬
ность и т.п. Ритуал поднесения рукописи сохранялся в основных чертах
на протяжении по крайней мере полутора веков — с конца XIV-го по
первые десятилетия XVI столетия — и, скорее всего, не слишком ви¬
доизменился и в дальнейшем, если учесть, что еще в середине XVII в.
«собрания королевской библиотеки состояли преимущественно из ру¬
кописных книг»48. Характерно, что по мере распространения книгопе¬
чатания в среде «риториков» возрастал престиж фигуры переписчика49:
печатная книга воспринималась как объект утилитарный, лишенный
той индивидуальности, какой обладает уникальный, сделанный вруч¬
ную на заказ богатый манускрипт. Именно в этот сложившийся ритуал,
оформлявший отношения государя и придворного стихотворца, втор¬
гается Верар со своими печатными книгами, призванными соперни¬
чать с книгами рукописными50. Либрарий, оформляя их в полном соот¬
ветствии с каноном подносного манускрипта (несмотря на связанные с
этим немалые технические трудности), выделяет их из общего тиража,
в том числе с помощью своих, оригинальных либо заимствованных, по¬
священий, которые включаются лишь в экземпляры, предназначенные
для государя. Верар вполне сознательно и последовательно вытесняет
манускрипт из исконной — и последней устойчивой в области словес¬
ности — сферы его полновластного господства.
Однако, парадоксальным образом, оформление подобных «квази¬
рукописей» заставляет сделать вывод, что Верар фиксирует и развива¬
ет представление о поэте, независимом в своем творчестве. Как пока¬
зала С.Дж. Браун51 на примере того же «Сада чести» Андре де Ла Виня,
изображения автора в рукописи «Упования Христианского мира», так¬
же присутствующей в библиотеке Карла VIII, и в печатном издании
«Сада...» принципиально различны. В первом случае на миниатюре,
открывающей манускрипт, автор фигурирует в канонической позе да-
48 Chartier R. Le prince, la bibliotheque et la dedicace. P. 207. В той же работе Шартье,
ссылаясь на Ж. Серкильини-Туле (Cerquiglini-Toulet ]. La Couleur de la melancolie.
La frequentation des livres au XIV siecle, 1300—1415. Paris, 1993. P. 160—161), ци¬
тирует описанную Фруассаром сцену вручения им собственных стихов Ричарду
II в 1395 г., где особо подчеркнута красота и богатство поднесенной рукописи.
49 Zumthor Р. Le Masque et la Lumiere: La poetique des Grands rhetoriqueurs. Paris,
1978. P. 31, 98.
50 Косвенным подтверждением нашей гипотезы может служить замечание
М.Б. Уинн: «Верар, насколько мне известно, был первым парижским печатни¬
ком, кто включал французские стихотворные тексты в качестве маргиналий в
свои печатные Часословы» // Winn М.В. Op. cit. Р. 66.
51 Brown C.J. Text, Image, and Authorial Self-Consciousness in Late Medieval Paris //
Printing the Written Word. Ithaca—London, 1991. P. 103—142.
^131^
. § V
& ^
рителя, преклонившего колена перед королем и протягивающего ему
свою книгу (в этой позе в ряде своих книг Верар изображает себя); имя
Ла Виня возникает лишь в последнем стихе «Упования...», и то замаски¬
рованное, по обычаю «риториков», с помощью игры слов. В печатной
же книге имя автора обозначено на титульном листе, а миниатюра на
фронтисписе изображает не сцену поднесения, но писателя (абстракт¬
ного), восседающего перед своим завершенным, т.е. имеющим вид го¬
товой книги, произведением52. Печатная книга, проникая в рукописную
par excellence сферу бытования придворной поэзии, как бы освобож¬
дает поэта от всецело зависимого положения, автономизирует его со¬
чинения, наделяет их самостоятельной ценностью, не связанной прямо
с придворным статусом автора. Не отсюда ли отчасти проистекают и
вераровские попытки заполнить собой пустующее место автора-при-
дворного? Судя по всему, пример этот остался едва ли не уникальным
для практики книгопечатания, с одной стороны, и для истории того, что
М. Фуко именовал «авторской функцией», с другой. Но и сама вераров-
ская идея «придворного печатного манускрипта» была уникальна, и эта
фиксация книжными средствами рождающегося нового самосознания
французской поэзии выглядит ее прямым логическим следствием.
* * *
Мощная фигура Верара, этого «великого риторика» от книгопечатания,
знаменует собой новый этап в осмыслении роли и функции печатной
книги: парижский издатель целенаправленно стремится с ее помощью
повысить статус национальной литературы, утвердить ее достоинство и
ценность. Его деятельность завершается как раз в те годы, когда снача¬
ла в Лионе (1509), а затем в Париже (11 изданий между 1510 и 1530 гг.!)
начинают выходить три книги «Прославлений Галлии и Примечатель¬
ностей Трои» Жана Лемера де Бельж — колоссальный свод культурной
мифологии французов рубежа XV—XVI столетий, облаченной в поэти¬
ческие (т.е. вымышлено-антикизирующие) формы. В древности фран¬
цузской нации, чьи корни восходят ко временам разрушения Трои, Ле-
мер видит убедительное свидетельство ее культурного превосходства
над Италией, а тем самым — и над всем латинским миром (latinitas). Па¬
триотическая идеология объединяет в это время и гуманистов, которые,
подобно Кристофу де Лонгёйю или Клоду Сейселю, отстаивают права
французского языка, и поэтов. Вместе с тем, в сфере книгопечатания
по-прежнему сохраняется возникшая еще на его заре «диглоссия»: ла¬
тинские гуманистические издания используют антикву, книги на фран-
52 В перепечатке издания Ла Винь изображен уже в процессе творчества, окружен¬
ный своими аллегорическими персонажами.
^ 132^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
¥
цузском языке печатаются готикой, а бастарда продолжает служить
опознавательным знаком историографии и поэзии в широком смысле.
По существу, книгоиздательская практика, сложившаяся в XV в., всту¬
пает в противоречие с новыми потребностями культуры. Разрешени¬
ем этого затянувшегося противоречия стала книга, значение которой
трудно переоценить; предмет ее потребовал сведения воедино античной
древности и современной поэзии, философии и живописи, математики
и лингвистики, средневековой аллегории и позитивного знания. «В сре¬
ду, XXVIII дня месяца Апреля, Года Тысяча пятьсот двадцать девятого»
вышел в свет трактат Жоффруа Тори «Цветущий луг, в коем заключено
Искусство и Наука должной и истинной пропорции Букв Аттических,
иначе называемых Античными, а на народном языке Буквами Римски¬
ми, в соразмерении с Телом и Лицом человеческим»53.
Автор его родился в 1480 г. в Бурже, одном из центров французского
гуманизма. Около 1505—1506 гг. он совершает путешествие в Италию,
дабы завершить образование, начатое на факультете искусств у себя на
родине. В университете Болоньи его наставником становится Филиппо
Бероальдо. Вернувшись в конце 1506 г. в Париж, Тори преподает в не¬
скольких коллежах и параллельно предается сугубо гуманистическим
трудам: готовит для ведущих парижских печатников-гуманистов (Ба-
дия, Анри Этьенна, родоначальника знаменитой династии типографов,
Жофруа де Марнефа) тексты «Космографии» Помпония Мелы (1508),
«Космографии» Энея Сильвия Пикколомини, папы Пия II (1509), «Вос¬
питания оратора» Квинтилиана (1510), «О зодчестве» Леона Баттисты
Альберти (1512) и др. Однако в 1515 г. Тори внезапно оставляет свои
штудии и снова отправляется в Италию; по возвращении он открыва¬
ет мастерскую по изготовлению гравюр на дереве, а затем — книжную
лавку возле Пон-Нёф. Хотя никаких точных данных об этом периоде
его жизни не сохранилось, можно с большой долей уверенности пред¬
полагать, что второе итальянское путешествие было предпринято для
более внимательного изучения практики заальпийской типографии.
Любопытно, что первым результатом этого опыта стало изготовле¬
ние миниатюр, инициалов и виньеток «наподобие античных, и равно
других, в новом духе»54, которые Тори использовал для часослова, от¬
печатанного у Симона де Колина: подобно Верару, он стремится видо-
53 Champ Fleury, Au quel est contenu Lart & Science de la deue & vray Proportio des
Lettres Attiques, quo dit autremet Lettres Antiques, & vulgairement Lettres Romaines
proportionnes selon le Corps & Visage humain. Ссылки даются по изданию: Tory G.
Champ Fleury ou l’Art et science de la proportion des lettres. Geneve, 1973.
54 Так значилось в издательской привилегии, которую получил Тори для своего ча¬
сослова 23 сентября 1524 г. Цит. по: Tory G. Champ Fleury. Preface de К. Reichen-
berger et T. Berchem. P. XI.
¥ 133 ¥
§ V
изменить один из наиболее традиционных (и при этом наиболее по¬
пулярных) типов издания, наследующих средневековому манускрипту.
Одновременно он работает над главной своей книгой — трактатом о
начертании «аттических» букв. Слава, достигнутая им благодаря это¬
му сочинению, заставила Франциска I — возможно, по совету своего
библиотекаря Рене Массе, неоднократно упомянутого в «Цветущем
луге», — назначить его в 1530 г. королевским печатником; 18 февраля
1533 г., незадолго до смерти55, Тори становится одним из 25 «присягнув¬
ших либрариев» Сорбонны.
Переворот, совершенный Тори в книгопечатании, заслуживал этих
высоких почестей. Будущему королевскому печатнику удалось не только
найти синтез гуманистической и «вульгарной» издательской практики, но
и вписать, казалось бы, прикладную проблему в контекст едва ли не всех
культурных тенденций раннего французского Ренессанса. Произошло
это благодаря тому, что предметом его изысканий выступает не столько
начертание букв как таковое (математически строгому их построению
посвящена заключительная, третья книга трактата), сколько алфавит в
целом, основа французского языка и культуры. В этом его принципиаль¬
ное отличие от предшественников — итальянцев Сиджисмондо де’ Фан-
ти и Луки Пачоли (которого, правда, он открыто объявляет плагиатором,
присвоившим идеи и разработки Леонардо да Винчи56), немца Альбрехта
Дюрера с его «Четырьмя книгами о пропорциях человека» и даже от са¬
мого боготворимого им Леонардо. Алфавит и каждая отдельная его буква
исполнены для Тори глубокого смысла, причем смысла не «природного»,
как у Леонардо, познающего космические, универсальные законы миро¬
здания в каждом их конкретном проявлении, а «культурного», связанного
со всей историей французского языка и нации французов. Трактат Тори с
этой точки зрения — логическое продолжение и своеобразный итог более
чем полувековой деятельности «великих риториков».
* * *
К традиции «риториков» отсылает уже само заглавие книги — «Цве¬
тущий луг». Гюстав Коэн в предисловии к фототипическому изданию
трактата (1931) прямо соотносит его с «Садом Удовольствия и цветом
Риторики», изданным Вераром. Правда, текстуальных подтверждений
этой гипотезы нет; к 20-м гг. XVI в., когда Тори работал над своей кни-
55 Тори, по-видимому, скончался в октябре 1533 г. Правда, автор самой авторитет¬
ной работы о нем Огюст Бернар (Bernard Aug. Geofroy Tory, peintre et graveur, pre¬
mier imprimeur royal, reformateur de lorthographe et de la typographic sous Francois I.
Paris, 1857) полагает, что в это время он лишь отошел от дел, а скончался в 1554 г.
56 Champ Fleury, fol. XIII r°.
^134^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
*
гой57, тексты «риториков» были известны уже достаточно широко, а
главное — созданная ими топика, в рамках которой идея красноречия
неразрывно связывалась с идеей цветения природы, превратилась в по¬
этический канон, который активно разрабатывался и Лемером, и отцом
и сыном Маро. Косвенное доказательство этой ориентации на придвор¬
ную «риторическую» практику (с фигурой автора, подносящего свой
труд государю) содержится уже в первых строках пролога; но интерес¬
нее то, что апелляция к ритуалу придворного бытования книги нужна
Тори лишь для того, чтобы немедленно этот ритуал нарушить.
«Когда поэты и ораторы и иные сведущие в словесности и науках
люди, — пишет автор, — старательной и усердной рукой своей создали и со¬
ставили некое Сочинение, то в обычае у них поднести его в дар кому-либо
из знатных сеньоров Двора или Церкви <...>, каковой, как почитается, дол¬
жен и обязан вознаградить их каким-либо богатым даром, либо бенефици¬
ем, либо должностью за те труды и бдения, какие употребили они на созда¬
ние сказанных своих Произведений и Подношений. С легкостью мог бы и я
поступить так же с этой маленькой Книгой, но, рассуждая, что если я под¬
несу ее кому-нибудь одному, а не другому, то может из того проистечь какая
докука или угрызение совести, почел я, что поступлю честно, если поднесу
ее в дар всем вам, о Благочестивые Любители добрых Литер и Литературы58,
не отдавая предпочтения великому перед малым — разве что постольку, по¬
скольку сильнее любит он Словесность и ближе сердцу его добродетели»59.
Тори сознательно отказывается от роли придворного-просителя60,
адресуясь всему кругу просвещенных людей, т.е. заменяет риторику
традиционного посвящения на риторику гуманистическую. Вместе с
тем его текст наследует у традиции, которой следовал Верар, отнюдь не
только заглавие и не только фразу из обращения к читателю, из которой
Г. Коэн выводит сопоставление трактата с «Садом Удовольствия...»:
«И так понемногу пройдем мы весь путь и в конце его прибудем на обшир¬
ные Поэтические и Риторические Луга, изобильные прекрасными, добрыми и
благоухающими цветами достойных и незатрудненных слов и речений.. .»61.
57 Сам Тори в начале трактата датирует начало работы 1524 г.; привилегия на его
издание получена в сентябре 1526 г. Вероятно, значительный (по тем временам)
разрыв между окончанием манускрипта и изданием книги объяснялся техниче¬
скими трудностями.
58 Тори последовательно обыгрывает два значения выражения “les bonnes Lettres”,
которые в его трактате становятся действительно неразделимыми.
59 Champ Fleury, Aij v°.
60 На деле, как мы видели, ритуал все же был исполнен, во всяком случае госуда¬
рем — Франциском I.
61 Champ Fleury, А VIII v°.
^135^
, $ V
^^
Структура «Цветущего луга» — это структура прозиметрического
видения, жанра, чрезвычайно популярного у «риториков». Как прави¬
ло, видения эти были посвящены политическим проблемам, вернее, во¬
просам нравственного долга государя перед лицом определенных об¬
стоятельств, либо — гораздо реже — различным аспектам любовного
служения. Видение посещает поэта во сне, обычно на том самом цвету¬
щем лугу красноречия, который и упоминает Тори: среди зелени, цве¬
тов и листвы. Отличие лишь в том, что луг у «риториков» — это «про¬
странство поэтического вымысла», обусловливающее аллегорический
характер вещего сна поэта62; у Тори же он — метафора грядущего рас¬
цвета французского красноречия, который будет подготовлен усилия¬
ми многих просвещенных людей: если сам он, описав буквы, положил
начало этому пути, то вслед за ним должны прийти те, кто задаст пра¬
вила для вокабул, затем для предложений и, наконец, для целых речей
и произведений. И поскольку трактат мыслится Тори лишь как пер¬
вый шаг к торжеству этого риторического земного рая, которому еще
только суждено когда-нибудь воплотиться, видение является ему не на
природе, а в собственной постели, где его не до конца пробудившемуся
мысленному взору предстает прекрасная буква (по-видимому, иници¬
ал для девиза или монограммы?), созданная им самим для знаменитого
Жана Гролье63.
Интересная и по-своему очень характерная параллель возникает меж¬
ду «Цветущим лугом» и «Прославлениями Галлии...» Лемера де Бельж,
которого Тори неоднократно упоминает. Во-первых, оба сочинения схо¬
жи по тем специфическим (во всяком случае, в нашем восприятии) це¬
лям, которые они преследуют. Если Лемер в конце второй книги «Про¬
славлений...» выражает удовлетворение по поводу того, что вследствие
его кропотливых трудов «все читатели [его сочинения — И.С.] и слуша¬
тели могут почитать себя довольными и достаточно сведущими каса¬
тельно истины всей истории, дабы отныне никто не погрешал против
нее ни в изображениях живописных, ни в картинах тканых»64, то Тори
предназначает свои «аттические» буквы не только любителям словес¬
ности, но и «сеньорам, что к своему удовольствию возводят дворцы и
дома и любят картины и девизы»65.
62 Angeli G. Le type-cadre du songe dans la production des Grands Rhetoriqueurs // Les
Grands Rhetoriqueurs. Actes du Vе Colloque International sur le Moyen Fran^ais. T. I.
Milano, 1985. P. 7—20.
63 Вряд ли случайно сразу после упоминания Гролье, прославившегося своей би¬
блиотекой и замечательным экслибрисом — “Grolierii et amicorum”, Тори рас¬
суждает о том, сколь недостойно скрывать от публики свои идеи и изобретения.
64 Lemaire de Beiges J. Oeuvres. T. 2. Geneve, 1969. P. 244.
65 Champ Fleury, fol. LVII v°.
^ 136 ^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
4
Своеобразным дополнением к «Цветущему лугу» становится сборник
надписей и девизов, пригодных для различных целей66. И Лемер, и Тори
окружены единым, не членимым на материальный и духовный, миром
культуры: ученость первого позволяет мастерам, пишущим картины и из¬
готавливающим шпалеры, правильно выбирать и трактовать сюжеты и
персонажей, ученость второго — соблюдать единую пропорцию в надпи¬
сях, венчающих эту изобразительную мифологию.
Вслед за Лемером Тори подробнейшим образом обосновывает троян¬
ское происхождение французов и, как следствие, доказывает, что француз¬
ский алфавит основан не на латинском, а на греческом. Именно поэтому он
именует свои буквы «аттическими», а не «античными» (антиква) и тем бо¬
лее не «римскими». Как и у Лемера, его доказательства опираются на антич¬
ную мифологию. В первой книге трактата миф о Юпитере и Ио истолкован
как история возникновения письма: после того как Меркурий освобожда¬
ет прекрасную корову Ио, отданную Юноной из ревности во власть Аргу¬
са, возлюбленная громовержца возвращается к отцу, речному богу Инаху;
лишенная дара речи, она может лишь оставить отпечаток своего копыта,
и по этому отпечатку, в котором сочетаются буквы «I» и «О», отец узнает
ее; страна получает имя «Иония», а жители ее зовутся ионийцами. Далее
у Тори следует его собственное (эксплицитно противопоставленное бок-
каччиевскому в «Генеалогии богов») аллегорическое толкование этой «бас¬
ни» — ибо «под оболочкой Басни скрыта Истина, и познать ее может лишь
тот, кто созерцает ее и рассматривает вблизи»67. Однако главное, что при¬
зван доказать миф об Ио с его сокровенным смыслом — это первичный,
изначально «природный» (отпечаток копыта на прибрежном песке) харак¬
тер двух букв, образующих ее имя, двух «пра-литер», на основе которых мо¬
гут быть построены все прочие буквы (сочетающие в себе прямую линию,
I, и круг, О; как раз поэтому, считает Тори, восклицание «Ю!» выражало у
греков торжество и триумф). Во второй книге, после соотнесения букв «I»
и «О», с одной стороны, с пропорциями человеческого тела, а с другой —
опять-таки с мифологическим контекстом (на сей раз не генетическим,
но графическим: «I» по своим очертаниям отождествляется с флейтой из
«Эклог» Вергилия, «О» соотносится с Аполлоном и девятью музами68), ав-
66 Aediloquium seu disticha, partibus Aedium urbanarum & rusticarum suis quaeque
locis adscribenda. (Paris, Simon de Colines, 1531).
67 Champ Fleury, fol. IX r°. Юпитер, согласно Тори, — это «воздух и изящный образ жиз¬
ни» Ионии, где цвели искусства, науки и словесность, подобно тому, как процветают
они ныне в Париже; Ио — наука, отданная во власть Юноны-богатства; стоглазый
Аргус — невежды, преследующие «добрые Науки и Словесность» (fol. VIII v°).
68 См. во второй книге (fol. XXVIII v°) замечательное изображение Солнца-Аполло¬
на с кифарой — буквы “О”, от которой в виде лучей расходятся буквы алфавита, а
между ними — 9 муз и 7 свободных искусств (рис. 5, с. 160 настоящего издания).
^137^
£ ^
тор, обнаружив полную гармонию между графикой букв, их глубинной се¬
мантикой и строением человеческого тела, специально выговаривает себе
право в знак торжества и восторга воскликнуть «Ю!».
Приблизительно так же вычерчивает Тори и все остальные буквы:
каждая из них получает аллегорическое толкование, каждая подобаю¬
щим образом вписывается в квадрат, поделенный по горизонтали на
10 частей (Аполлон + 9 муз), и в круг — фигуру, управляемую Аполло¬
ном и семью свободными искусствами. Число букв алфавита представ¬
ляет собой сумму 9 муз, 7 свободных искусств, 4 основных добродетелей
(Веры, Надежды, Любви и Мудрости) и 3 Граций, прислужниц Венеры69.
Таким образом, тайная гармония букв французского алфавита, выявлен¬
ная средствами как ренессансных живописно-геометрических постро¬
ений, так и средневекового аллегорического толкования, находит под¬
крепление в символике алфавита как основы любой культуры; все это,
помноженное на греческие истоки французской нации и французских
литер, сообщает национальному языку невиданное доселе достоинство.
Тори закладывает серьезную научную (в понятиях эпохи) базу под про¬
возглашенную еще в XV в. идею превосходства французского языка над
итальянским и его безусловного равенства латыни. Та же работа, кото¬
рую проделал Лемер в своей поэзии и «поэтической историографии», те¬
перь совершается Тори применительно к самой основе и материи языка.
При этом Тори не ограничивается только письменным языком. В трак¬
тате воспроизведены фонетические особенности диалектального произ¬
ношения, а также даны примеры некоторых «социолектов»70. Француз¬
скому языку еще только предстоит достигнуть «поэтических лугов» с их
цветами красноречия, его современная жизнь строится на многообразии
узусов, а не на единстве нормы, и фиксация этих узусов (при ясном созна¬
нии исторической изменчивости и подвижности лингвистических явле¬
ний, отраженном в том же обращении к читателю) придает трактату, на¬
ряду с научной ценностью, бесспорное литературное измерение.
Но, подобно букве, заключающей в себе, помимо материальности гра¬
фического объекта, и аллегорический смысл, и ценность всего словесного
искусства в целом, язык у Тори наделен сугубо телесной материальностью.
В самом начале первой книги помещена гравюра, изображающая Геркуле¬
са Галльского: старик в львиной шкуре, с палицей и луком в руках, влечет
за собой великое множество людей посредством цепочек, которые тянутся
от его языка к их ушам. Как всегда у Тори, изображение это обстоятельно
и точно документировано: автор ссылается на «богатую картину» (“riche
69 Champ Fleury, fol. XXII r°.
70 Подробнее см. параграф «Миф и печатня: мифологизация французского языка в
“Цветущем луге” Жоффруа Тори».
^138^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
¥
paincture”), виденную им в Риме, а также на отрывок из Лукиана, переве¬
денный с греческого языка на латынь Эразмом (в издании “Opuscula” Луки¬
ана 1506 г.), а с латыни на французский — самим Тори71. Лукиан, подобно
Тори в Риме, описывает свое впечатление от изображения Геракла, кото¬
рого «французы на родном своем наречии именуют Геркулесом Огмием»72;
смысл изображения толкует удивленному греку некий француз-философ.
Галлы, по его словам, почитают как бога красноречия именно Геркулеса, а
не Меркурия, ибо он «гораздо больший богатырь», и представляют его ста¬
риком, ибо именно в этом возрасте речь человека обретает истинную кра¬
соту и сладкозвучие. Дырявый же язык бога, к которому прикреплено все
бесчисленное множество цепочек, означает высшую степень ораторского
искусства, «украшенную речь», ибо, по словам француза, «вспоминается
мне, что в комедиях ваших есть такие ямбические стихи, где сказано, что
у всех людей, говорить любящих и умеющих, язык с дырою»73. Тем самым,
делает Тори логический вывод, французский язык есть в буквальном смыс¬
ле слова продырявленный язык Геркулеса Галльского: ведь ни латиняне, ни
даже греки не поклонялись столь замечательному божеству74.
Фигура Геркулеса Галльского не была открытием Тори. О нем писал
еще Лемер, доказывая происхождение французов от троянцев. В лион¬
ском издании «Прославлений Галлии...» 1510 г. имеется гравюра на де¬
реве с изображением Геркулеса, его супруги Галаты (прародительницы
галатов) и сирены Араксы75. Однако у Лемера Геркулес — царь галлов,
их первый правитель, и на гравюре, обычно атрибутируемой Жану Пер-
реалю (которого Тори называет своим учителем и чей рисунок, являю¬
щийся на самым деле подражанием Леонардо, он приводит на листе
XLVI v° своего трактата), его величественная фигура никак не связана с
идеей красноречия. Разница задач, поставленных перед собой Лемером
и Тори, обусловила и разницу в трактовке одного и того же мифологи-
71 В подкрепление лукиановского текста приведены также цитаты из Помиония
Мелы и Ювенала, смысл которых сводится к тому, что французы от природы
более красноречивы, нежели любая другая нация.
72 Champ Fleury, fol. II v°. Геркулес-Огмий — реальное божество древних галлов.
73 Ibid., fol. Ill r°.
74 Отметим в скобках, что в том же пассаже Лукиана присутствует и обоснова¬
ние метафоры «красноречие — цветы»: «Сходным же образом глас послов Трои
весьма был цветист, и речь их названа была Lirioessa. Liria по-гречески, как мне
помнится, означает “цветы”» // Ibid. Таким образом, устойчивый троп «ритори-
ков» обретает свой источник и подтверждение в древности, в греческой тради¬
ции: Тори снова и снова заставляет античность, предмет гуманистических шту¬
дий par excellence, служить опорой для национального языка и словесности.
75 См. рис. 8, с. 164 настоящего издания. Причудливое смешение разных мифо¬
логий, восходящее, как и все сочинение Лемера, к 17-томным “Antiquitatum va-
riarunT Анния из Витербо. Согласно одной из традиций, Геракл был женат на
дочери речного бога Аракса, убитого им.
¥ 139 ^
^ § V ^
£ ^
ческого персонажа: труд «великого риторика» — это по-новому написан¬
ная хроника, имеющая дело с историческими фигурами; трактат будуще¬
го королевского печатника — это неожиданный синтез аллегорического
видения и гуманистической науки, и в его контексте персонаж божества
с его подчеркнуто двойственным (не историческим, но и не целиком вы¬
мышленным) статусом оказывается чрезвычайно уместным. О том же,
насколько значимым для французской культуры оказалось это первое
развернутое словесное и графическое изображение Геркулеса Галльско¬
го, свидетельствует хотя бы тот факт, что Дю Бюлле завершает этим об¬
разом «Защиту и прославление французского языка. Следует отметить,
что, несмотря на одушевляющий Дю Белле протоклассицистический
пафос и презрительное неприятие им традиции «великих риториков»,
его знаменитое сочинение во многих местах текстуально (и еще чаще —
идейно) восходит к далеко не столь знаменитому, однако сыгравшему
поистине революционную роль во французской культуре трактату Тори.
* * *
«Цветущий луг» оказался разъят на цитаты такими писателями, как Ра¬
бле, Агриппа д’Обинье, Дю Белле, и это закономерно. До него во Фран¬
ции не было произведения, где бы настолько последовательно, осоз¬
нанно — и талантливо — преодолевалась оппозиция гуманистической
латыни и народного красноречия. Адресуясь не к государю или вельмо¬
же, но к широкому кругу «Любителей добрых Литер и Литературы», Тори
эксплицитно отказывается писать свой труд на латыни:
«Я изложил бы и написал его на латыни, как мог бы я, думается мне, сде¬
лать недурно и как могут все судить по тем латинским сочиненьицам, каковые
я напечатал и представил взору всех усердно обучающихся, равно и в стихах,
и в прозе. Но, желая несколько украсить наш Французский язык, и еще для
того, чтобы вместе с людьми, сведущими в словесности, обычный народ мог
извлекать из него для себя пользу, желаю я написать его по-французски»76.
Парижский печатник делает все богатство гуманистической образован¬
ности доступным любому, кто способен читать (или слушать чужое чтение)
по-французски — точно так же, как он не желает держать при себе секрет
своих гармоничных и пропорциональных литер (мотив, не раз повторяю¬
щийся на протяжении трактата). Грань между латынью и народным языком,
между studia humanitatis и французской словесностью стирается не на уров¬
не деклараций или умозрительных построений, но в самой структуре текста,
где ни одна латинская цитата не оставлена без перевода. Некоторые ново¬
введения, которыми Тори обогащает французскую орфографию, он даже
76 Champ Fleury, fol. I r°.
^140^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
4
успевает применить на практике: в выпущенном им в 1533 г. четвертом из¬
дании «Клемановой юности» Маро впервые используются апострофы, буква
а также «аксан-эгю» («то есть поставленный на ё мужском, в отличие от
женского»). «Защита и прославление» идеального печатного шрифта, фран¬
цузской фонетики и орфографии, национального алфавита и, наконец, язы¬
ка и красноречия — для Тори единая и достойнейшая задача.
Но, тем самым, его трактат приобретает безусловно нормативное зна¬
чение для практики книгопечатания. В начале «Цветущего луга» он пишет,
что, возможно, посвятит одно из следующих своих сочинений готическо¬
му шрифту — и т.н. “lettre de forme”, и бастарде. Однако по завершении
трактата это обещание выглядит избыточным — несмотря на то, что в
приложении Тори приводит образцы самых разных литер, от той же ба¬
старды или букв с цветочным орнаментом до букв халдейских, арабских,
«фантастических» (в форме ремесленных и сельскохозяйственных ору¬
дий) и утопийских (позаимствованных у Томаса Мора)77. Все эти шрифты
в смысловой системе трактата выглядят не более чем упражнениями уме¬
лого рисовальщика и гравера, прихотью художника. Весь строй «Цветуще¬
го луга» заведомо лишал их права на место в культуре, хотя бы отдаленно
сопоставимое с «аттической» антиквой в исполнении Тори. Соотнесение с
человеческим телом и отдельными его органами делало ее единственным
типом письма, отвечающим самой природе человека; мифологический
контекст превращал «аттические литеры» не только в древнейшие пра-
письмена (отпечаток копыта Ио), но и в воплощение глубинных поэтиче¬
ских и мистических смыслов; наконец, культурно-лингвистический пласт
сочинения Тори заведомо исключал какие-либо иные, кроме описанных,
очертания французского алфавита. Силами парижского гравера и печат¬
ника антиква сделалась французским национальным шрифтом.
Последствия этой «революции в сознании» не замедлили сказаться.
Отвечая на насущные потребности раннеренессансной культуры Фран¬
ции, Тори — возможно, сам того не сознавая, — поставил жирную точ¬
ку в «литературном» бытовании бастарды. «Книга эта не только спо¬
собствовала отказу от готических шрифтов, но и привела к тому, что
старые римские шрифты были перелиты заново. Среди прочих, Робер
Этьенн тогда же подверг переделке все наборы, которые достались ему
от отца, Анри I, или, вернее сказать, от тестя, Симона де Колина, и за¬
менил их литерами новой формы, гравированными, как я полагаю, са¬
мим Тори...»78. Уже в конце 1528 г. Галлио Дюпре выпускает «обновлен¬
ные» издания «Романа о Розе» и сочинений Алена Шартье (т.е. светочей
национальной поэзии), выполненные антиквой. В 1532 г. той же чести
77 Ibid., fol. LXXI r° - LXXIX r°.
78 Bernard Aug. Op. cit. P. 47.
4 141 4
§ V
удостаивается «Большое Завещание» Вийона (ответом на это издание и
стала книга, подготовленная Маро). В 1530 — 1540-е гг. бастарда, вме¬
сте с другими типами готического шрифта, стремительно сдает свои
позиции. Она становится уделом самых бедных печатников, не имею¬
щих денег, чтобы обзавестись новыми наборами шрифтов, и выпуска¬
ющих большими тиражами альманахи, брошюры и готические «ярма¬
рочные» книжки. Культурная стратификация шрифтов сохраняется и
в это время, однако теперь она, во-первых, не совпадает со стратифи¬
кацией языковой (тем более что разрыв между изданиями на латыни
и на французском языке стремительно сокращается, и к середине века
число франкоязычных изданий превысит число изданий на латыни);
во-вторых, отныне граница между антиквой и бастардой обозначает
водораздел между studia humanitatis и французской поэзией в широ¬
ком смысле, с одной стороны, и «ярмарочной» литературой, с другой79.
В самой практике печатников антиква утверждается как алфавит высо¬
кой французской культуры, обрекая на «вне-культурное» бытие любой
текст, отпечатанный устаревшей бастардой.
Насколько четкой была эта граница в сознании 1530—1540-х гг., сви¬
детельствует хотя бы пример первых изданий «Гаргантюа и Пантагрюэ¬
ля» Рабле. Известно, что первые две книги романа, стилизованные под
народную хронику, Рабле во всех подготовленных им самим переиз¬
даниях неизменно печатал бастардой, а пиратское издание Этьена Доле
1542 г., выполненное антиквой, вызвало его гневную отповедь. Шрифт в
. сочетании с форматом ин-октаво служил для шинонского врача зримым
знаком принадлежности его произведения к определенной культурной
традиции и в не меньшей степени обусловливал неповторимый облик
его текста, чем архаизирующие неологизмы и площадной комизм. При
этом Рабле специально подчеркивает, что бастарда — шрифт старинный,
архаичный (в подтверждение этого можно вспомнить хотя бы о том, что
Тубал Олоферн учил Гаргантюа писать «готическими буквами»). Образ
новой французской книги уже настолько прочно утвердился в сознании
писателя и его аудитории (напомним, что первое издание «Пантагрюэля»
вышло в 1532 г.), что использование бастарды как архаического шрифта
может в это время выступать в качестве художественного приема.
Таким образом, в конце 20-х гг. XVI в. в пространстве французской
культуры возникает и постепенно набирает силу, вытесняя прежние
представления, то понятие книги, которое, вместе с разработанны¬
ми тогда же шрифтами, просуществует по крайней мере два столетия
79 К 1520—1530-м гг. поэзия стала доминирующей формой литературы (и лите¬
ратурного быта), тогда как предшествующая мощная прозаическая традиция,
развивавшаяся в XV в. под знаком хроники, переместилась в сферу «народной
словесности».
142 ^
Книгопечатание и народная литература во Франции XV в.
¥
¥
(«пунсоны, выточенные в эту эпоху, будут постоянно использоваться
вплоть до XVIII века»80).
* * *
Рассмотрев в самых общих чертах эволюцию самосознания француз¬
ского (а вернее, парижского) книгопечатания на начальном этапе его
существования, мы, таким образом, достаточно точно можем ответить
на вопрос, поставленный в начале работы: какова верхняя граница
«осени Средневековья», когда французская литература и французское
книгопечатание, объединившись, создадут собственно ренессансное
пространство и формы бытования литературного произведения как
книги. Если деятельность Антуана Верара на рубеже XV—XVI вв.
объективно создала предпосылки для постепенного выведения ма¬
нускрипта за рамки этого бытования (несмотря на то, что в историче¬
ской реальности рукописная книга будет существовать и в XX в., эта
ее «жизнь» будет отныне неизменно маркированной, культурно не¬
нейтральной — в отличие от XV в.), то «Цветущий луг» Жоффруа Тори
представил тот идеал книги и те возможности книгопечатания, после
которых книга, по-старому воспроизводящая канон манускрипта, ока¬
зывалась культурно несостоятельной. Ее эпоха завершилась в 1529 г.
Безусловно, мы не стремились охватить весь материал, который мог¬
ла бы нам предоставить история французских печатен в 1470—1530-е
гг. Важнейшее значение, на наш взгляд, имеет эволюция презентацион¬
ных особенностей книги, которую мы затрагивали лишь окказиональ¬
но и явно недостаточно. Между тем, было бы крайне интересно про¬
следить, например, какие именно тексты и какие именно жанры стали
первыми издаваться с титульным листом, который в 1510-е гг. все боль¬
ше теснит традиционный колофон. Чрезвычайно актуальной остает¬
ся и проблема рождения «ярмарочной» литературы, детища в первую
очередь лионских печатников, и ее культурных функций, несводимых к
чистой эстетике; “litterature de colportage” — очевидная производная от
практики книгопечатания, и именно в ее рамках способ печати (шрифт,
расположение текста, формат, оформление) становился одним из фак¬
торов поэтики, а печатник уравнивался с автором, а часто замещал его.
Однако вся эта совокупность проблем еще нуждается в основательном
изучении. Целью же нашей работы было, прежде всего, наметить под¬
ход к изучению литературы позднего Средневековья через призму «Гу-
тенберговой революции», чье влияние на жизнь национальной словес¬
ности, видимо, никогда не было столь сильным, а главное, столь остро
осознаваемым, как на рубеже веков.
80 Febvre L., Martin H.-J. Op. cit. P. 120.
$w
Изображение книги и проблема авторства
в издательской деятельности
Антуана Верара1
В эпоху позднего Средневековья представление о книге, ее культур¬
ной роли и функциях претерпевает значительные изменения, свя¬
занные, прежде всего, с возникновением книгопечатания. Одним
из важных показателей происходящих перемен стал ритуал под¬
несения книги государю (придворному, заказчику), который на не¬
сколько столетий вперед, вплоть до XVIII в.2, задал параметры социального
статуса и самосознания писателя, переводчика, комментатора. Во Франции
этот ритуал, получивший распространение по крайней мере еще в XIII в.3,
окончательно сложился, по-видимому, в период правления Карла V.
Оставляя в стороне его истоки и идеологические предпосылки (сре¬
ди которых первостепенное значение имеет тот факт, что в государе
видели не только покровителя и мецената, но и олицетворение нацио¬
нального начала: достаточно вспомнить идею translatio studii, которая
легла в основу широкой программы переводов на французский язык,
осуществлявшейся в окружении Карла V), отметим лишь, что в нем
получило реализацию средневековое понятие о литературном автор¬
стве. Об этом свидетельствует, в частности, традиционная иконогра¬
фия подносных рукописей. Наиболее распространенный тип миниатю¬
ры, открывающей манускрипт, воспроизводит сцену поднесения книги:
коленопреклоненный «автор» вручает свое произведение (богато укра-
1 Впервые опубликовано в сборнике: Книга в культуре Возрождения. М., 2002.
С. 211—218.
2 См.: Chartier R. Patronage et dedicace // Chartier R. Culture ecrite et societe : Lordre
des livres (XIV—XVIII siecle). Paris, 1966. P. 81—106 [рус. пер: Шартъе P. Патро¬
наж и посвяфение // Шартъе Р. Письменная культура и общество. М., 2006.
С. 78—101.]
3 Первые известные нам подносные экземпляры (речь идет, как правило, о Книге в
высшем смысле — Библии) относятся еще к IX в., однако устойчивым культурным
институтом ритуал поднесения книги сделался позднее. Блестящий разбор его от¬
ражения в рукописях прозаического «Романа о Тристане» см.: Baumgartner Е. La
“premiere page” dans les manuscrits du “Tristan en prose” // La Presentation du livre :
Actes du Colloque de Paris X—Nanterre (4, 5, 6 decembre 1985). Paris, 1987. 51—60.
^ 144 ^
^ Изображение книги и проблема авторства в издательской деятельности... ^
Ф ^
шенный кодекс) государю, восседающему на троне. Структура данной
сцены повторяет мотив, часто встречающийся на миниатюрах, фре¬
сках, витражах той эпохи: жертвователь протягивает Богу построенную
на свои средства церковь или часовню, изображенную в виде макета4.
В системе этого изоморфизма книга оказывается функциональным эк¬
вивалентом храма, возведенного наместнику Бога на земле, — иначе
говоря, имплицитно сохраняет сакральную функцию, которой она на¬
делялась в Средние века. Сцена фиксирует, с одной стороны, прямой
«личностный» характер отношений между автором и покровителем
(читателем par excellence), а с другой — целостное представление о са¬
мой книге, которая, подобно храму, воплощает в зримом совершенстве
формы ученый труд ее создателя.
Возникшая во Франции в 70-х гг. XV в. практика книгопечатания
не отменила средневекового ритуала, однако внесла в него значитель¬
ные коррективы. Известно, сколь непростыми были отношения меж¬
ду автором и типографом в эпоху раннего Возрождения. Печатники и
либрарии первыми стали получать привилегию на публикацию про¬
изведений, и сетования авторов на их «произвол», невежество и коры¬
столюбие превратились в один из топосов литературной жизни XVI в.
(как, впрочем, и последующих столетий). Сугубо личная, даже интим¬
ная связь автора с уникальной подносной рукописью оказывалась под
угрозой, поэтому еще в XVII в. подносные экземпляры нередко заказы¬
вались у мастеров, изготовлявших их вручную5. Имя либрария и печат¬
ника, указанное в incipit и колофоне книги, а позднее на ее титульном
листе, зачастую заслоняло, если не вытесняло имя автора. Вместе с тем,
соперничество «сопроизводителей» печатной книги и связанное с ними
напряженное осмысление ее специфики способствовали рождению
нового авторского самосознания. Именно в этот период стало очевид¬
ным, что «авторы пишут отнюдь не книги, они пишут тексты, которые
другие превращают в печатные объекты»6. Помимо прочего, это вызы¬
вало и некоторые любопытные изменения в иконографии подносных
экземпляров. Ярким примером подобных процессов служит деятель¬
ность одного из самых известных и плодовитых французских либрари-
ев рубежа XV—XVI вв. — Антуана Верара.
4 Chartier R. Op. cit. Р. 86 [Шартье Р. Указ. соч. С. 83]; Duby G. Fondements dun
nouvel humanisme. 1220—1440. Geneve, 1966. P. 21—29.
5 Обычным компромиссным решением было предоставление автору в качестве
гонорара определенного количества несброшюрованных экземпляров, чтобы
он, заказав для них богатый переплет, мог рассчитывать на вознаграждение со
стороны знатных сеньоров.
6 Chartier R. Le monde comme representation // Chartier R. Au bord de la falaise: L’his-
toire entre certitudes et inquietude. Paris, 1998. P. 77.
^ 145 ^
S. $ vi .
Антуан Bepap (первая его печатная книга датируется 1485 г., послед¬
няя — 1512 г.) прославился главным образом замечательными поднос¬
ными экземплярами, предназначавшимися для короля и его ближайше¬
го окружения. К числу его адресатов принадлежали Карл VIII, Людовик
XII, Анна Бретонская, Луиза Савойская, Карл Ангулемский и др. Изго¬
товленные Вераром и для него7 издания отличаются ярко выраженным
«авторским» началом. Известно, что Верар достаточно вольно обращал¬
ся с публикуемыми текстами, приводя их в соответствие с потребностя¬
ми заказчика и собственными представлениями об иерархии культур¬
ных ценностей; часто он прямо аттестовал себя «автором» подносимой
книги. В фундаментальном исследовании М.Б. Уинн справедливо под¬
черкивается именно эта «авторская функция» парижского либрария,
отразившаяся в его прологах, посвящениях, вступительных стихах8.
Известно также, что с его именем оказался связан один из первых во
французской культуре судебных процессов по вопросу авторского пра¬
ва. Около 1503 г. Верар опубликовал поэму «великого риторика» Жана
Буше, в то время молодого и никому не известного писателя, «Лисы, пе¬
ресекающие опасные пути дурацкой доверчивости мира», представив ее
на титульном листе как творение Себастиана Бранта9. Автор подал жа¬
лобу в парижский парламент, и она была удовлетворена.
Однако в этом деле есть одна интересная деталь: как явствует из
«Второго морального послания» Буше (1545), где он задним числом из¬
лагает эту историю, его разгневала не столько ложная атрибуция книги,
сколько включение в нее чужих текстов и искажение его собственного:
Le premier fut les Regnards traversans,
Пап mil cinq cens quavois vingt cinq ans
Ou feu Verard pour ma simple jeunesse
7 A. Bepap не был печатником и в большинстве случаев осуществлял, говоря со¬
временным языком, «издательские» функции, передавая нужный текст, иногда
вместе с досками, кому-либо из крупных типографов — Пьеру Ле Ружу, Ги Мар-
шану, Пьеру Ле Карону, Антуану Кайо, Этьену Жанно и др.
8 Winn М.В. Anthoine Verard, Parisian publisher. 1485—1512. Prologues, Poems and
Presentations. Geneve, 1997 (Travaux d’Humanisme et Renaissance, № CCCXIII).
Полный список адресатов его подносных экземпляров, а также сотрудничавших
с ним печатников см.: Ibid. Appendix III, VI.
9 Les regnars trauersant les perilleuses voyes des folles fiances du monde. Composees par
Sebastien brand, lequel composa la nef des folz derrenierement Imprimee a Paris. Et
autres plusieurs choses composees par autres facteurs... Imprime a paris pour Anthoyne
verard. О процессе Буше см.: Picot Е.} Piaget А. Une supercherie d’Antoine Verard :
“Les regnars traversants” de Jean Bouchet // Romania. 1893. Vol. 22. P. 244—260; Winn
M.B. Publisher vs. Author : Anthoine Verard, Jean Bouchet, and F“Amoureux transy” //
Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance. 1988. T. 1. № 1. P. 40—41; Brown C Poets,
Patrons, and Printers: Crisis of Authority in Late Medieval France. Ithaca, 1995. P. 17—35.
^146^
Изображение книги и проблема авторства в издательской деятельности...
Changea le nom, се fut a luy finesse,
L’intitulant au пот de monsieur Brand
Un Alemant en tout s<;avoir tresgrand,
Qui ne sceut one parler langue fran<;oyse,
Dont je me teu, sans pour ce prendre noise,
Fors que marri je fuz, dont ce Verard
Y adjousta des choses dun aultre art
Et qu il laissa tresgrant part de та prose,
Qui mest injure et a ce je moppose
Au Chastellet ou il me paciffia
Pour un present lequel me dedia.
(«Первое [мое сочинение] было «Лисы, пересекающие», [написанное] /
В году тысяча пятисотом, когда было мне двадцать пять лет, / И когда по¬
койный Верар просто по молодости моей / Изменил название [его], то была
его уловка, / Озаглавив его именем господина Бранда, / Немца, во всех на¬
уках величайшего, / Каковой отнюдь не знал по-французски, / То я смолчал
и не стал на то сердиться, / Однако же разгневался я, что сей Верар / При¬
бавил к ним изделия чужого искусства / И выпустил изрядную долю моего
текста, / Это мне обида, и я против того принес протест / В Шатле, где он
примирился со мною, / Поднеся мне дар».)10
Вынесение на титул чужого известного имени не нанесло «обиды»
автору, он видит в этом не более чем издательскую «уловку», призван¬
ную обеспечить коммерческий успех книги11; напротив, вторжение ли-
брария в текст его творения вызывает резкий протест. «Содержание»
произведения и книга как таковая в сознании автора разделяются.
А. Клоден еще в 1900 г. отмечал: «В XV веке автором именовали как
сочинителя, перу которого принадлежала книга, так и в равной мере
тех, кто трудился над ее материальной частью»12. Однако «дело Буше»
заставляет предположить, что на раннем этапе развития книгопечата¬
ния во Франции возникло известное «разделение» понятия об автор¬
стве книги между автором произведения и его издателем, печатником,
либрарием. Мы попытаемся показать, что в книжной продукции Вера-
10 Цит. по: Winn М.В. Anthoine Verard... Р. 78—79.
11 Появление имени Себастиана Бранта оправдано тем, что первым текстом, вклю¬
ченным в книгу, была латинская элегия немецкого поэта (“De vulpe”), вольным
парафразом которой и являются «Лисы» Буше. Возможно, Верар имел в виду
представить «Лис» как перевод «из Бранта»: среди его продукции встречаются и
издания-«билингвы».
12 Claudin A. Histoire de Timprimerie en France au XV et au XVI siecle. Paris, 1900. T. 1.
P. 157.
^ 14 7^
. § Vi .
& ^
pa использовался особый прием, обозначающий это разделение. В каче¬
стве примера рассмотрим корпус подносных экземпляров, выполнен¬
ных для основного покровителя парижского либрария — короля Карла
VIII.
Корпус, состоящий из 52 изданий13, позволяет судить о задачах, ко¬
торые ставит перед собой Верар, отбирая книги для государя. Он стре¬
мится поднести королю лучшие, освященные традицией образцы «до¬
бродетели и мудрости»14 на народном языке. Латинские сочинения (за
исключением «Часословов»15) представлены только во французских
переложениях. Творения современных авторов крайне редки: помимо
переводов Октовьена де Сен-Желе — выпущенных после смерти и ав¬
тора, и короля, «встреча» которых поэтому происходит лишь на про¬
странстве книги, — это «Записки о Галльской войне» Цезаря в переводе
Робера Гагена, «Риторика» Жана Молине и французские произведения
королевского чтеца Гийома Тардифа16. Значительная часть экземпля¬
ров содержит миниатюры со сценой поднесения книги Карлу VIII, вы¬
полненные в соответствии с вышеописанным средневековым каноном
(Рис. 2). От традиционной иконографии они отличаются лишь в одном,
но весьма существенном моменте: доказано, что в виде коленопрекло¬
ненного автора-донатора на них изображен сам Верар17. Сцена, впер¬
вые появившаяся в 1491 г. и воспроизведенная в 14 поднесенных Карлу
13 См.: Winn М.В. Anthoine Verard... Appendix III. P. 475—477. Семь сочинений из
этого списка опубликованы (со всеми посвящениями) в 1500—1508 гг., уже по¬
сле смерти короля. Перечни книг, поднесенных другим основным покровителям
Верара (Анне Бретонской, Карлу Ангулемскому, Людовику XII), гораздо короче
и во многом повторяют список Карла VIII.
14 Об этом он пишет в своем прологе к изданию «Часов Мудрости» Генриха Сузо
1493—1494 гг. (B.N. Res. Velins 359, fol. [1] v°). См.: Winn M.B. Anthoine Verard...
P. 282.
15 В «Часословах», впрочем, также может присутствовать значительная доля фран¬
цузского текста: достаточно упомянуть «Большой королевский часослов» (ок.
1491—1492 гг.) с его обширными маргиналиями. Как показала М.Б. Уинн, их ав¬
тором является Гийом Тардиф, см.: Winn М.В. Tardif s Hours for Charles VIII and
Verard’s “Grandes heures royales” // Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance. 1994.
№ 56. P. 347—383.
16 См. «Искусство соколиной и псовой охоты» (“Liure de lart de faulconnerie et des
chiens de chasse”, 1493), а также переводы «Искусства достойно умереть» (“Le
Liure intitule lar{ de bien mourir” 1492 — в составе сборника религиозных со¬
чинений) и 33 эзоповых «Аполога, или Басни», в свою очередь, переложенных
на латынь Лоренцо Валлой (ок. 1490 г., см. ниже), к которым автор добавил ряд
«фацеций», почерпнутых у Петрарки и из жизнеописаний древних философов
и государей [см. об этом подробнее параграф «Морализированный перевод и
народная традиция в литературе раннего французского Возрождения: пример
Гийома Тардифа» настоящего издания].
17 См.: Claudin A. Op. cit. Т. 2. R 396 ; Winn М.В. Anthoine Verard... R 66—69.
^148^
Рисунок 2. Антуан Верар подносит книгу Карлу VIII. Les paraboles maistre alain en
francois. 1492/3
^ 149 ^
. § VI
^^
экземплярах18 (в общей сложности портрет Верара-донатора в различ¬
ных вариантах присутствует примерно в двух дюжинах его изданий),
наделяет королевский корпус своего рода визуальным знаком «автор¬
ства» Верара, нередко дублирующим его прологи-посвящения. Либра-
рий, вручающий книгу королю, вступает с ним в отношения, аналогич¬
ные отношениям автора и покровителя.
Однако в те же годы у Верара появляется еще одна серия типовых
миниатюр и гравюр, изображающих ритуал поднесения книги госу¬
дарю (Рис. 3). В композиции той же сцены фигура либрария замещена
иным персонажем, который, стоя перед восседающим на троне госу¬
дарем, вручает ему книгу. Впервые этот вариант встречается в экзем¬
пляре «Искусства достойно умереть», переведенного с латыни Гийомом
Тардифом19, и повторяется в 19 последующих изданиях Верара20, из
которых 8 содержат посвящения Карлу VIII. Среди них — «Риторика»
Жана Молине (авторство которой Верар приписывает бургундскому
сеньору Анри де Круа21), «Библия» Петра Коместора и переводе Гийя-
ра де Мулена, подготовленном к печати королевским исповедником
Жаном де Рели, «Часы Мудрости» Генриха Сузо в анонимном переводе
XIV в. и «Апологи, или Басни» Лоренцо Валлы в переложении Тардифа.
Персонаж-донатор (в ряде случаев он облачен в богатые одежды,
украшенные королевскими лилиями) отличается от «автопортрета»
Верара не только более независимой позой. Иначе изображена и кни¬
га, подносимая королю. Если Верар неизменно протягивает государю
закрытую книгу, то персонаж второй серии — книгу открытую, при¬
чем обращенную не к королю, а к читателю. Благодаря этому книга
«выпадает из рамок сцены и предстает перед нами так, как если бы мы
читали ее сами; она по самой своей природе является носительницей
значения»22. Если семантика миниатюр с «автопортретом» строится во¬
круг отношений либрария и государя, то смысловым центром изобра-
18 Winn М.В. Anthoine Verard... Р. 475—477; ср.: Macfarlane J. Antoine Verard. London,
1900. P. 135.
19 Macfarlane J. Op. cit. № 18; см. также: Winn M.B. Anthoine Verard... P. 91.
20 Macfarlane J. Op. cit. № 26, 27, 33, 36, 46, 53, 67, 68, 103, 105, 110, 114, 134, 138, 140,
141, 150, 153, 182.
21 Э. Ланглуа обоснованно предполагает, что Анри де Круа был адресатом посвя¬
щения «Риторики» Молине (Langlois Е. Recueil darts de seconde rhetorique. Paris,
1902. P. 214—215).
22 Martinet MM. Le livre dans les tableaux de la Renaissance: perspective directe ou
perspective inversee? // L’Europe de la Renaissance: Cultures et civilisations. Paris,
1988. P. 104. Статья M.M. Мартине посвящена анализу некоторых изданий зна¬
менитого английского печатника Кекстона, продукция которого представляет
ряд аналогий с произведениями Верара.
^150^
Изображение книги и проблема авторства в издательской деятельности.
ЧП
confc^uti nent а
моггв а 13го*с ft'ri; <ш
(щ <(л Qtfetmitia
fop'
ШЩ fattf* f gfiff, fop
Щпи/confhimtiot}/pmttct/
$:ы: managc/ff
$>e fatikf/rV fr nfupff i] о
uppfiTf ft (arrrmf rtf brrn
m<Tf Snf<«orj,iSf pouter qttc
Senff BtVfjSiiirr rf ronffgnri
•н'Л tfrnj mourtrbort dwonf ft
raxznxxcsa^ti
Рисунок 3. Автор (?) подносит открытую книгу Карлу VIII. Le Liure intitule lart de
bien mourir. 1492
^151^
^ § VI ^
жений второго типа служит, напротив, сама книга, как бы «раскрываю¬
щая» перед читателем содержащееся в ней знание.
В средневековой книжной миниатюре изображение открытой кни¬
ги обычно используется в религиозных сочинениях и символизиру¬
ет явленную читателю истину Слова Божьего. Открытая книга может
выступать атрибутом Христа во славе. В большом цикле миниатюр к
«Морализированной Библии», который был выполнен в начале XV в.
братьями Лимбургами для Филиппа Смелого, она фигурирует в сценах
проповеди23. Подносные манускрипты из библиотеки Карла V также по¬
зволяют говорить о непосредственной связи этого изображения с иде¬
ей божественной правды. Так, на миниатюре, предваряющей посвяще¬
ние королю Раулем де Преслем своего французского перевода «Града
Божьего» св. Августина (ок. 1376 г.)24, изображены, помимо коленопре¬
клоненного переводчика, протягивающего королю открытую книгу, сам
св. Августин и два ангела. На миниатюру вераровского издания «Часов
Мудрости» Генриха Сузо этот символ также перешел из традиционного
изображения: в парижском манускрипте 1445—1450 гг.25 «Мудрость во
славе», окруженная ангелами, держит в правой руке повернутую к чи¬
тателю книгу; внизу такая же книга лежит на столе перед молящимися.
Однако именно сопоставление с традицией позволяет оценить глу¬
бину функциональных изменений, какие претерпело изображение от¬
крытой книги в подносных экземплярах Верара.
Прежде всего, у парижского либрария изображение явственно «се¬
куляризируется», лишается непосредственной связи с идеей боже¬
ственной истины. Сцена поднесения открытой книги встречается в та¬
ких далеких от религиозной тематики изданиях, как упомянутые выше
«Риторика» Молине и «Апологи» Валлы — Тардифа, «Трактат о двух
влюбленных» Леонардо Бруни Аретино (1493; речь идет о стихотвор¬
ном переводе Жаном Флери латинского переложения знаменитой пер¬
вой новеллы Четвертого дня «Декамерона» о Гвискардо и Гисмонде)26 и
переводы «Сочинений» Сенеки27 и «Декамерона»28 — вплоть до «Лис,
пересекающих...» Буше, переизданных Вераром ок. 1510 г.29.
23 См. об этом: Gueret-Laferte }. Aspects de la symbolique religieuse du livre dans lenlu-
minure de la fin du Moyen Age // La Symbolique du livre dans Tart occidental du Haut
Moyen age a Rembrandt. Bordeaux—Paris, 1995. P. 72.
24 Миниатюра воспроизведена в кн.: Delisle L. Recherches sur la librairie de Charles V,
roi de France. 1337—1380. Amsterdam, 1967. Part. 2. Appendice. Planche IX.
25 Bibliotheque royale de Bruxelles, ms IV. Ill, f. 13. Cm.: Delisle L. Op. cit. P. 73, ill.
26 Macfarlane J. Op. cit. № 26.
27 Ibid. № 150.
28 Ibid. № 134.
29 Ibid. № 182. Отметим, что все перечисленные произведения имеют одну общую
особенность: они относятся к сфере poetrie, т.е. поэтического вымысла. Возмож¬
^ 152 ^
^ Изображение книги и проблема авторства в издательской деятельности... ^
Обращает на себя внимание и то, что в ряде изданий миниатю¬
ры этого типа соседствуют с изображением Верара-донатора: подоб¬
ные «дублеты» встречаются, например, в «Книге о любви, именуемой
Памфил»30, в «Апологах» Валлы — Тардифа, в антологии «Сад Удоволь¬
ствия и цвет Риторики» (ок. 1501 г.)31. Таким образом, можно говорить
об определенной дистрибуции функций между двумя изображениями:
оппозиция закрытой и открытой книг в рамках ритуала их поднесения
наполняется новым по сравнению с традицией смыслом.
Миниатюры в различных подносных экземплярах «Часов», выпол¬
ненных Вераром32, свидетельствуют о том, что этот новый смысл свя¬
зан у либрария с представлением об авторстве книги. На листе 1 эк¬
земпляра, хранящегося в Национальной библиотеке Франции (B.N. Res.
Velins 359), изображен Верар, протягивающий государю закрытую
книгу; король, в свою очередь, молится перед открытой книгой. На ли¬
сте а1 того же экземпляра мы видим автора, который сидит перед ле¬
жащей на пюпитре открытой книгой. На ее текст указует перстом ле¬
вой руки «Дама Мудрость», держащая в правой руке часы. Читателю
тем самым наглядно представлен истинный «автор» книги, Мудрость,
которая излагает свое учение записывающему клирику; тот, в свою
очередь, откроет его государю. Те же персонажи, Мудрость и клирик
(«автор» письменного текста), присутствуют и в экземпляре «Часов»,
предназначенном для Карла Ангулемского (B.N. Res. Velins 360, fol. al),
который в структуре изображения замещает Карла VIII. На миниатюре
экземпляра, поднесенного Вераром королю Генриху VII (B.L. IB 41151,
fol. al), оба «автора», клирик и Мудрость, изображены в окружении че¬
тырех сословий. Та же дистрибуция сохраняется и в двух миниатюрах,
украшающих лист al экземпляра из Pierpont Morgan Library: на первой
Верар вручает закрытую книгу знатной даме, на второй изображен «ав¬
тор» с открытой книгой в руках перед представителями разных сосло¬
вий; за его спиной стоит Мудрость.
Итак, изображение открытой книги в руках предстоящего королю
персонажа указывает в подносных миниатюрах Верара на передачу чи-
тателю-государю содержащейся в ней истины. Тем самым персонаж,
подносящий книгу (с учетом также его позы: напомним, что Мудрость,
как и св. Августин на указанной выше миниатюре, изображается сто¬
ящей), отождествляется с источником этого содержания, с его «гаран-
но, мы имеем дело с характерным для эпохи расширением понятия сакрально-
сти книги: известно, что вераровское издание переложения «Метаморфоз» Ови¬
дия носит заглавие «Библия поэтов». См.: Macfarlane J. Op. cit. № 104.
30 Ibid. № 36.
31 Ibid. № 141.
32 См.: Winn M.B. Anthoine Verard... III. 5.6a—5.6g.
^153^
, §V1
& 4
том», т.е. с автором. Средневековая традиция трансформируется у Ве-
рара в такое символическое изображение книги, где особо подчеркнута
роль ее «первичного» создателя.
Распределение функций между двумя типами изображений отчет¬
ливо прослеживается на примере знаменитого подносного экземпляра
«Апологов» Лоренцо Валлы в переложении Тардифа (B.N. Res. Velins
611). Специально изготовленный для короля, этот веленевый экзем¬
пляр отличается сложной и продуманной структурой презентации. Он
открывается миниатюрой первого типа, где коленопреклоненный Ве-
рар подносит Карлу VIII и Анне Бретонской большой закрытый кодекс.
Миниатюра предшествует прологу переводчика, королевского чтеца,
где тот перечисляет труды, выполненные им для государя. М.Б. Уинн,
анализируя этот экземпляр, рассматривает такое соседство как доказа¬
тельство стремления Верара представить именно себя автором книги,
узурпировать права Тардифа, невзирая на то, что притязания либрария
опровергаются текстом пролога на пространстве одного листа33. Одна¬
ко американская исследовательница упускает из виду, что вслед за про¬
логом Верар помещает миниатюру второго типа (с поднесением королю
открытой книги), за которой, в свою очередь, следует перевод посвя¬
щения Валлой своих латинских басен другу и покровителю Арнальдо
Фенолледе, секретарю короля Альфонса V Арагонского. Таким обра¬
зом, иерархия посвящений в этом уникальном экземпляре закрепляет
четкую иерархию «авторов»: Верар, подносящий королевской чете за¬
крытую книгу, изображает себя создателем конкретного кодекса, но не
«содержания», текста книги, «гарантом» которого выступает второй
персонаж-донатор. Показательно, что в экземплярах на бумаге, предна¬
значавшихся для продажи, первая миниатюра отсутствует, зато сохра¬
няется гравюра со второй34.
Таким образом, в издательской деятельности Антуана Верара мож¬
но проследить отчетливую тенденцию к разграничению «автора» книги
в целом, материального объекта, и «автора» ее содержания, текста, ко¬
торая находит выражение в миниатюрах изготовленных им подносных
экземпляров. Изображая себя перед государем с закрытой книгой в
33 Ibid. Р. 87—88. Особенно любопытен тот факт, то пролог Тардифа, как и миниа¬
тюра «Верара-донатора», был отпечатан специально для подносного экземпляра.
34 В современном критическом издании труда Тарифа, осуществленном П. Рюэлем
на основании данного экземпляра, содержится характерная ошибка: персонаж-
донатор первой миниатюры именуется «автором», т.е. Гийомом Тардифом, тогда
как персонаж второй — Лоренцо Валлой, вручающим свои басни Арнальдо Фе¬
нолледе (Ruelle Р. Les “Apologues” de Guillaume Tardif et les “Facetiae morales” de
Laurent Valla. Geneve-Paris, 1986. P. 59—60). Это лишний раз свидетельствует о
том, насколько важно комплексное историческое изучение книги и связанных с
нею представлений в эпоху раннего книгопечатания.
^ 154 ^
^ Изображение книги и проблема авторства в издательской деятельности... ^
руке, Верар утверждает свое «авторство» как либрария, ответственного
за презентацию книги; вместе с тем, он подчеркивает роль автора тек¬
ста, наделяя его таким атрибутом, как открытая перед читателем книга.
Одновременно происходит своеобразное членение книжного про¬
странства. Либрарий очерчивает границы своего присутствия в кодек¬
се, оставляя за собой пространство «паратекста» — incipit, колофона и
титульного листа, посвящений и обращений к читателю, иллюстраций.
Именно этим можно объяснить позицию автора в «деле Буше», упомя¬
нутом нами в начале: действительно, если «паратекст» (в данном слу¬
чае — заглавие с вынесенным в него чужим именем) предстает у него
прерогативой печатника, то его собственное имя неотделимо от самого
текста «Лис, пересекающих...»: в соответствии со средневековой тра¬
дицией, оно названо в акростихе, завершающем поэму, причем Верар
выделяет этот акростих в особую рубрику: «Увещание, в первых буквах
строк коего найдете вы имя автора этой книги и место его рождения».
Либрарий, автор презентации книги, и поэт, автор ее содержания, име¬
ют в ее пространстве собственные «зоны ответственности».
Безусловно, продукция лишь одного, пусть даже знаменитого либра-
рия не позволяет уверенно судить обо всем многообразии изменений в
представлениях о книге и ее авторе, которые происходили во Франции
эпохи раннего Возрождения. Важнейшую роль в этих процессах игра¬
ли социальные, экономические, собственно художественные факторы;
анализ книг, выпущенных в данный период другими печатниками, ско¬
рее всего, существенно скорректирует или даже опровергнет намечен¬
ную здесь картину. Наша задача состояла в том, чтобы показать на еди¬
ничном (и, возможно, не самом характерном) примере неразрывную
связь культурно-исторических явлений, определивших особенности
печатной книги на первом этапе ее развития.
SVII
Миф и печатня:
мифологизация французского языка
в «Цветущем луге» Жоффруа Тори1
Закрепление за народными языками статуса литературных в эпо¬
ху Возрождения всегда в той или иной степени сопровождалось
мифологизацией их происхождения. Эта тенденция была менее
выражена в Италии, где фиксация норм вольгаре происходила в
XVI в. преимущественно по гуманистической модели, через «ка¬
нонизацию» национальных auctores (Петрарки и Боккаччо)2; напротив,
она мощно проявилась во Франции, где особенности раннеренессансной
культуры были во многом обусловлены духом соперничества с итальян¬
ским гуманизмом. Еще Николь Орем на рубеже XIV—XV вв. высказал
программную мысль о том, что латынь была родным языком для древ¬
них римлян3, а следовательно, «культурное достоинство» наций опреде¬
ляется не столько успешным подражанием auctores, сколько развитием
и потенциями словесности на национальном языке. Зародившись в кон¬
тексте идей translatio studii4, мысль эта была подхвачена и развита столе¬
1 Расширенный вариант статьи, впервые опубликованной в сборнике: Миф в
культуре Возрождения / Отв. ред. Л.М. Брагина. М., 2003. С. 253—259.
2 Одним из характерных примеров такой мифологизации вольгаре может слу¬
жить теория так называемых «арамеев» (сторонников Пьерфранческо Джамбул-
лари, в конце 40-х гг. главенствовавших во Флорентийской академии), согласно
которой тосканское наречие восходит не к латыни, а к древнееврейскому языку,
осененному божественной благодатью.
3 Lusignan S. Le latin etait la langue maternelle des Romains: la fortune dun argument a la
fin du Moyen age // Preludes a la Renaissance: Aspects de la vie intellectuelle en France
au XV siecle / Etudes reunies par C. Bozzolo, E. Ornato. Paris, 1992. P 265—303.
4 См. об этом: Simone F. II Rinascimento francese: Studi e ricerche. Torino, 1965; Bel¬
tran E. L’humanisme fran<;ais au temps de Charles VII et Louis XI // Preludes a la Re¬
naissance. P. 123—162; Ouy G. La dialectique des rapports intellectuels franco-italiens
et rhumanisme en France aux XIV et XV siecles // Rapporti culturali ed economici fra
Italia e Francia nei secoli dal XIV al XVI. Roma, 1979. P. 137—155. Библиография no
данной проблеме содержится в статье Дж. Момбелло, помещенной в последнем
сборнике: Mombello G. Dalla cattivita avignonese alia calata di Carlo VIII: Le tappe
deU’influenza culturale italiana in Francia: Risultati e prospettive // Rapporti culturali
ed economici... P. 157—206.
^ 156 ^
Миф и печатня: мифологизация французского языка в «Цветущем луге»...
тие спустя, когда растущее национальное самосознание нашло опору в
средневековой легенде о троянском происхождении французов. Обшир¬
ный свод Анния из Витербо, содержащий наиболее полное изложение
троянского мифа, послужил — несмотря на разоблачение его «басен» в
гуманистической историографии5 — источником для целой серии патри¬
отических произведений, от «Прославлений Галлии и примечательно¬
стей Трои» Жана Лемера де Бельж (1510—1512) до «Франсиады» Ронсара.
Однако в тот же период обозначилась важная проблема, которая с
особой остротой встала перед новой отраслью французской культуры —
книгопечатанием: принципы гуманистической филологии, использовав¬
шиеся при издании классических латинских текстов, были непримени¬
мы к текстам французских авторов, прежде всего тех, кто причислялся к
пантеону равных античным национальных auctores (Гийома де Лорриса
и Жана де Мёна, Кретьена де Труа, Алена Шартье, Гийома Кретена и др.).
Обладая достаточно разработанной риторикой, фиксирующей нормы
поэтической речи (poetrie) и версификации6, французский язык, в от¬
личие от языков классических, не имел собственной нормативной грам¬
матики. Тем самым, древнее культурное достоинство Франции, получая
опору в мифе, не находило подтверждения в реальном статусе языка, по-
прежнему требующего «защиты и прославления». В практике типогра¬
фии выражением этого языкового неравенства служила стратификация
шрифтов: если французские тексты печатались готикой (т.н. бастардой),
то латинские — гуманистической антиквой.
Одной из первых и, бесспорно, самых плодотворных попыток осмыс¬
лить и разрешить это противоречие стал небольшой трактат, посвящен¬
ный на первый взгляд сугубо прикладной проблеме: «Цветущий луг, в
коем заключено Искусство и Наука должной и истинной пропорции Букв
Аттических, иначе называемых Античными, а на народном языке Буква¬
ми Римскими, в соразмерении с Телом и Лицом человеческим» (1529)7.
5 В частности, в “Compendium de origine et gestis Francorum” Робера Гагена.
6 Проза в целом подчинялась правилам латинской риторики, о чем решительно
заявлял в начале XVI в. Пьер Фабри, автор одного из самых авторитетных трак¬
татов эпохи — «Великое и истинное искусство полной риторики» (6 изданий с
1521 по 1544 гг.): «Латынь содержит в себе науку всеобщую, а потому примени¬
мую ко всем языкам» // Fabri Р. Le Grand et vrai art de pleine rhetorique / Publ. avec
introd., notes et glossaire par A. Heron. Geneve, 1969. P. 9.
7 Champ Fleury, Au quel est contenu Lart & Science de la deue Sc vray Proportio des
Lettres Attiques, quo dit autremet Lettres Antiques, Sc vulgairement Lettres Romaines
proportionnes selon le Corps Sc Visage humain. [Paris, 1529]. Ссылки в тексте при¬
водятся по фототипическому изданию: Tory G. Champ Fleury ou l’Art et science de
la proportion des lettres / Precede dun avant-propos et suivi de Notes, Index et Glos¬
saire par G. Cohen. Avec une nouvelle preface et une bibliographic par K. Reichenber-
ger et T. Berchem. Geneve, 1973.
^ 157 ^
§ VII
*
4
Почти забытый историками8, трактат этот, однако, не только оказал зна¬
чительное влияние на развитие книжного дела во Франции, но и стал по¬
воротным моментом в дискуссии о статусе народного языка. Автор его,
печатник-гуманист Жоффруа Тори (ок. 1480—1533?) — уроженец Буржа
и ученик Филиппо Бероальдо, издавший во Франции ряд латинских и
итальянских авторов9 и получивший в 1530 г. должность королевского пе¬
чатника, — сумел связать проблему построения идеальных литер едва ли
не со всеми культурными тенденциями раннего французского Ренессан¬
са. Подобный «универсализм» обусловлен самим предметом трактата: в
противоположность своим предшественникам — Сиджисмондо де’ Фан-
ти из Феррары10, Луки Пачоли (или Пачуло) ди Борго Сан-Сеполькро11
(который, впрочем, назван у Тори плагиатором Леонардо да Винчи), Лео¬
ну Батисте Альберти, Лодовико Вичентино, Альбрехту Дюреру12 и велико¬
му Леонардо, — Тори описывает не только построение отдельных букв, но
и алфавит в целом, основу национального языка и культуры.
Алфавит у Тори существует как бы в нескольких измерениях. Про¬
порции букв определяются математическими законами, которые из¬
ложены в третьей, последней части «Цветущего луга»: именно в соот¬
ветствии с ними первой буквой алфавита является «А», соединяющая в
себе треугольник (нечетное число) в верхней части и четырехугольник
(четное число) в нижней. Однако и каждая литера, и все они вместе за¬
ключают в себе глубокий символический смысл, обусловленный их про¬
исхождением. В первой книге трактата Тори толкует греческий миф об
Ио как историю рождения письма. И в этой перспективе особая роль
8 Едва ли не единственной крупной работой, специально посвященной Ж. Тори
(кроме упомянутого в предыдущей сноске предисловия Гюстава Коэна к изданию
«Цветущего луга»), до сих пор остается вышедшая полтора столетия назад книга
Огюста Бернара: Bernard Aug. Geofroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur
royal, reformateur de l’orthographe et de la typographic sous Francois I. Paris, 1857. [B
2011 г. во Франции прошла выставка сочинений Тори и был издан каталог: Geof-
froy Tory: Imprimeur de Francois Ier, graphiste avant la lettre. Catalogue de lexposition
organisee au musee national de la Renaissance —chateau d’ficouen, du 6 avril au 4 juillet
2011, en partenariat avec la Bibliotheque nationale de France. Paris, 2011].
9 Библиографию изданий Ж. Тори см.: Bernard Aug. Op. cit. P. 54—67. [Подробнее о
биографии Тори см. параграф «Книгопечатание и народная литература во Фран¬
ции XV ве^а» настоящего издания, с. 133—134]
10 Сиджисмондо де’ Фанти — автор «Книги об элементах букв» (Liber elementorum
litterarum. Venezia, 1514) и «Сокровищницы Писцов» (Thesauro de Scrittori; ла¬
тинская версия — Theoria et practica de modo scribendi fabricandique omnes litera-
rum species. Venezia, 1524).
11 Луке Пачоли ди Борго Сан-Сеполькро принадлежит трактат «О божественной
пропорции» (De divina proporzione. Venezia, 1509).
12 Подробный разбор «О перспективе» Дюрера (со списком ошибок в начертании
букв) дан у Тори на fol. XIII. r°-v°.
^158 4
^ Миф и печатня: мифологизация французского языка в «Цветущем луге»... ^
отводится двум «прабуквам» — I и О, образующим имя возлюбленной
Зевса-Юпитера и служащим основой для построения всех прочих букв.
Меркурий освобождает Ио, превращенную Юноной в корову, от стогла¬
зого Аргуса, и она возвращается к своему отцу Инаху, ставшему речным
божеством. Лишенная дара речи, она оставляет на прибрежном песке
отпечаток своего копыта, в котором сочетаются буквы ее имени; отсюда
происходит и название страны — Иония. Таким образом, первые пись¬
мена принадлежат у Тори одновременно и природе, и культуре. С од¬
ной стороны, они в буквальном смысле запечатлены на земле, в книге
Природы. Характерно, что та же особенность приписана и «греческим и
иудейским» письменам друидов, высеченным на камнях (fol. V v°) и во¬
бравшим в себя древнее знание, которое было уничтожено нашествием
римлян во главе с Юлием Цезарем. Тем самым обретает символический
смысл одна из чисто прагматических задач, которые ставит перед собой
автор: его идеальные литеры призваны не только способствовать совер¬
шенствованию типографского искусства, но и служить для украшения
домов и замков надписями и девизами13. Они должны стать тем «есте¬
ственным» элементом, который объединяет человека и окружающее его
пространство в (мифологический) универсум, подчиненный общему
для всех его элементов закону гармонии.
С другой стороны, буквы вписываются в контекст древнего мифа,
или поэтической «басни» (в боккаччиевском смысле), а значит, заклю¬
чают в себе аллегорический смысл. Толкование мифа об Ио у Тори экс¬
плицитно противопоставлено его трактовке в «Генеалогии языческих
богов»: Юпитер — это «дух и изящный образ жизни Ионии», где рас¬
цветали искусства и науки, подобно тому, как ныне цветут они в Пари¬
же; Ио — знание, пребывающее во власти Юноны-богатства; стоглазый
Аргус — «те, кто по неотесанности своей и маловежеству преследует
добрые Науки и Словесность» (fol. VIII v°). Во второй книге, после со¬
отнесения букв I и О с пропорциями человеческого тела, они вторич¬
но мифологизируются, на сей раз уже не «генетически», а семантиче¬
ски, превращаясь в эмблему всей совокупности человеческого знания:
I представлена в виде флейты из «Эклог» Вергилия (fol. XV v° — XVI r°;
рис. 4), каждому отверстию которой соответствует одна из девяти муз
(именно поэтому буква занимает девятое место в алфавите), а О — в
13 Образцы такого рода речений Тори приводит в другом труде: Tory G. Aedilo-
quium seu disticha, partibus Aedium urbanarum & rusticarum suis quaeque locis
adscribenda. Paris, 1531. В этом отношении «Цветущий луг» представляет собой
интересную параллель к «Прославлениям Галлии и примечательностям Трои»
Лемера, который создавал свой труд, содержащий «истину всей истории, дабы
отныне никто не погрешал против нее ни в изображениях живописных, ни в
картинах тканых» // Lemaire de Beiges J. Oeuvres. Geneve, 1969. T. 2. P. 244.
^ 159 ^
Рисунок 4. Буква I в виде «флейты Верги- Рисунок 5. Буква О в виде Солнца-
лия». Geoffroy Tory. Champ Fleury. fol. XV v° Аполлона. GeofFroy Tory. Champ Fleury.
fol. XXVIII V1
виде Солнца-Аполлона, от которого лучами расходятся все остальные
буквы, а также 9 муз и 7 свободных искусств (рис. 5).
Столь же глубокого смысла и гармонии исполнен алфавит в целом.
Число его букв представляет собой сумму 9 муз, 7 свободных искусств,
4 основных добродетелей (Веры, Надежды, Любви и Мудрости) и 3 Гра¬
ций, прислужниц Венеры14 (fol. XXII г°). Его эмблемой становится Золо¬
тая ветвь из «Энеиды» — ветвь Знания, имеющая 3 ответвления и 23 ли¬
ста: 9 букв на средней, самой длинной веточке означают муз, 7 букв на
левой — тривиум и квадривиум, а 7 букв на правой — 4 добродетели и
3 Грации (рис. 6)15. Алфавит охватывает всю сферу «естественной» (жи¬
вая ветвь), т.е. истинной культуры, отождествляемой со словесностью:
автор неоднократно подчеркивает двуединый смысл слова “lettres”, начи¬
ная уже с посвящения своего трактата всем «Благочестивым Любителям
добрых Литер и Литературы (bonnes Lettres)» (Aij v°).
Но, создавая (или, вернее, «открывая») свой идеальный алфавит, Тори
закономерно вторгается в сферу того свободного искусства, ведению кото-
14 «Под каковой Венерой понимаем мы всякую вещь честную и пристойную, а под
сказанными прислужницами ее — всякое совершение вещи весьма подобающей
и уместной».
15 Рядом с изображением этой ветви Тори помещает выразительный символ невежества
(Рис. 6): голую ветвь, черенки листьев на которой выглядят шипами.
^ 160 ^
^ Миф и печатня: мифологизация французского языка в «Цветущем луге»... ^
рого подлежала азбука любого язы¬
ка, — грамматики16. Именно на ее
пространстве достигается синтез
между универсальным характером
антиквы, используемой как латы-
конечном счете подчинены все по¬
строения печатника-гуманиста. Пра¬
вильные литеры — лишь средство
прославить достоинство француз¬
ского языка, помочь ему возвысить¬
ся над всеми остальными «языками
культуры» и, прежде всего, над латы¬
нью. Поэтому Тори принципиально
отказывается именовать свою анти¬
кву “lettres romaines” и даже “lettres
antiques”: оба названия закрепляют
культурную гегемонию Древнего
Рима и Италии, тогда как обозна¬
чение “lettres attiques” указывает на
древние «аттические» корни францу¬
зов и их наречия.
«Цветущий луг» написан по-французски, «дабы вместе с людьми, про¬
свещенными в словесности, мог им пользоваться и простой люд» (fol. I г°);
ни одна латинская цитата, понятная любому сколько-нибудь образованно¬
му современнику, не оставлена в тексте без перевода. Трактат мыслится как
первый шаг в выработке норм национального языка. «Все вещи имели свое
начало, — пишет Тори. — Когда один из нас изложит науку Литер, а дру¬
гой — Вокабул, явится третий и опишет Речения, а потом придет еще один
и даст правила прекрасной Речи. И так понемногу пройдем мы весь путь и
в конце его прибудем на обширные Поэтические и Риторические Луга, изо¬
бильные прекрасными, добрыми и благоухающими цветами достойных и
незатрудненных слов и речений обо всем, что угодно нам будет сказать»
(«Читателям сей Книги смиренный Привет»). Впервые восхваление — или,
по выражению Тори, «украшение» (“decoration”) — французского наречия,
выйдя за рамки теоретических деклараций17 и переводческой практики, со¬
нью, так и народными языками, и
национальным мифом, которому в
LE SECOND LIVRE,
FEVIL.XXVIJJ.
^Huad^iofiAinccQatfuniciccUiron. ’ fogubcr,
Ху„Сс nrftpliu du propcduit R*m«udor,iTUBj <fcm aorrt, parquoy
donquct cclliiy quibicn Ic Гои uitnioudc Vugilclt(ouaaadlic vtar
tout cc que ten ау и <y dcflui dit ft cfcnpt fdoa in* pente apptchm lion,
b£ KAMEAV DORET DESCIBNCE.
pte» luuc apart de
huQT, ncuf Mu
tce^.CD.KG.K
y.Q.T.qwnowre
Ref comic lot rttuf
uTcs.yuiscnUu*
ticvogcqutiduo
fter<ncfbc,Y*fcpt
fuallctcfqittUa pa
tcUcrocnilontefm
la branche dignorance
\ 0^
xoti .
Note»
en under
bunfcy.
qudlet font eCfTij>to.l.fnfuiqvofjl<tl.attne*-/\.E.I.O.VAvne deque.
*•* aueetellr» |( .lafpuatio, bqu t-It рошс< qurtlc пгй du tout teputec vru
ycl<ttrc,rit efciiptc си la plnfluiTe Mle.Kout kfi^rllalu Vocilti, & Hi
aTpuatioojaitcnjoiu tc* quarie vatu* Cuduuk» ft lo ttoi» Otun dc уши*
fdq.
Рисунок 6. Золотая ветвь знания и Ветвь
невежества. Geoffroy Tory. Champ Fleury.
fol. XXVIII r°
16 «Научая здесь изготовлять сказанные Литеры Аттические, я, с Божией помощью,
изложу по порядку, согласно обычному положению их друг за другом, свойства
каждой из них в согласии с искусством Грамматики» // Ibid. Bi v°.
17 Помимо хорошо известных текстов Лемера, Клода де Сейселя, Кристофа де Лон-
гёйя, Жана Буше и других непосредственных предшественников Тори здесь сле-
^ 161 ^
§ VII
*
4
провождалось требованием создать грамматику народного языка, т.е. урав¬
нять его в правах с языками классическими. В трактате не только приведен
канонический список национальных auctores (Кретьен де Труа, Пайен из
Мезьера, Арнуль и Симон Гребан, Ален Шартье, Жорж Шатлен, Жан Лемер
и, наконец, Гийом Кретен, превзошедший Гомера, Вергилия и Данте; fol. IV
г°), но и даны образцы спряжений французских глаголов (fol. Ill v°), а кроме
того, предложен ряд орфографических новшеств (например, апострофы и
буква “<;”)> которые впоследствии закрепились в языке* 18.
Обосновывая тезис о греческом происхождении национального на¬
речия, Тори не стремится, подобно Лемеру, придать мифу статус исто¬
рического факта. Мифологическая «басня», как в случае с Ио, создает в
трактате единое символико-аллегорическое измерение, скрепляющее и пи¬
тающее все его построения — математические, исторические, лингвисти¬
ческие. Французский подобен греческому: на этом уровне залогом его ве¬
личия служит даже само отсутствие единой литературной нормы и обилие
диалектов — черта, благодаря которой оба языка противостоят монумен¬
тальному единству классической латыни. Тори подробно описывает фоне¬
тические особенности беррийского, бургундского, тулузского, гасконского
и других диалектов, останавливается на особенностях произношения па¬
рижских дам, а также приводит примеры некоторых «социолектов». Он
выделяет «три особенных вида людей, каковые находят удовольствие в
стараниях его [французский язык] испортить и искалечить. Таковы Гра¬
бители Латыни, Шутники и Жаргонеры (Escumeurs de Latin, Plaisanteurs &
Jargonneurs)» (fol. VIII r°). Блестящие образцы их речи, сочиненные Тори,
позднее обрели свою литературную судьбу: речь «Грабителей латыни» поч¬
ти дословно воспроизвел Рабле в эпизоде с лимузенским школяром, фи¬
гура Шутника оказала бесспорное влияние на начальные сцены «Барона
Фенеста» Агриппы д’Обинье, а критику «жаргонеров» подхватил и развил
Маро в предисловии к своему изданию стихов Вийона. «Порча» искажает
природу французского языка, тогда как естественное многообразие узусов
служит, в конечном счете, к его славе. Точно так же естественное многооб¬
разие шрифтов — от бастарды и арабских букв до литер утопийских, за¬
имствованных у Томаса Мора, и «фантастических», в форме ремесленных
и сельскохозяйственных орудий, которые приводит Тори в приложении к
дует упомянуть гораздо более раннюю «Красноречивейшую Софию-Мудрость»
Жака Леграна (ок. 1405), где впервые были изложены по-французски основы всех
семи свободных искусств и где автор, говоря о грамматике, сожалел об отсут¬
ствии франко-латинского словаря. См.: Legrand ]. Archiloge Sophie; Livre de bonnes
meurs / Edition critique avec introd., notes et index par E. Beltran. Paris, 1986. P. 66.
18 Сам Тори опробовал заявленную им в «Цветущем луге» орфографическую си¬
стему в четвертом издании сочинений Клемана Маро, датированном 7 июня
1533 г. (см. ниже).
^ 162 4
^ Миф и печатня: мифологизация французского языка в «Цветущем луге»... ^
своему трактату (fol. LXXI г° — LXXIX г°), — лишь подчеркивает идеаль¬
ные пропорции выстроенной им антиквы, тогда как нарушение этих про¬
порций «калечит» достоинство букв, восходящих к отпечатку копыта Ио.
Еще одной ипостасью национального мифа выступают сама жанро¬
вая форма трактата и его заглавие. «Цветущий луг» представляет со¬
бой видение, топика которого была детально разработана — примени¬
тельно к политико-нравственной, реже любовной тематике — школой
«великих риториков», которая сыграла значительную роль в развитии
французского искусства красноречия (ко второму поколению «рито¬
риков» принадлежал Лемер). Как правило, герой такого видения, поэт,
засыпал именно на «цветущем лугу»19. Однако Тори, сознавая новизну
своего замысла, переосмысляет этот топос. В его трактате видение по¬
сещает автора в постели, в момент пробуждения: перед его дремотным
взором возникает «некая античная буква, каковую выполнил [он] неког¬
да для монсеньора <...> Жана Гролье, Советника и Секретаря Короля»
(fol. I г°). Эта абстрактная «некая буква» служит предвестьем и эмблемой
«поэтических и риторических лугов», которых благодаря усилиям Тори
и его последователей суждено достичь национальной словесности.
Подобно тому, как величие французского алфавита воплощается в
великолепной букве, язык в целом также обретает в «Цветущем луге»
свою мифологическую эмблему. В самом начале первой книги помещена
гравюра, изображающая Геркулеса Галльского: старик в львиной шкуре
влечет за собой толпу людей, от ушей которых тянутся цепочки к его
языку (Рис. 7).
Тори сообщает, что видел подобную картину в Риме, на пьяцца ди тор
Сангуинья, «неподалеку от церкви Святого Людовика», а также в «Космо¬
графии» Помпония Мелы; в качестве пояснения он приводит так называ¬
емый «Пролог о Геракле» Лукиана, переведенный на латынь Эразмом20, а с
латыни на французский — им самим. Галлы, говорится в «Прологе», почи¬
тают Геракла, которого они «на родном своем наречии именуют Геркулесом
Огмием» (fol. II v°), как бога красноречия; они представляют его стариком,
поскольку лишь в старости речь человека обретает истинную красоту. Ды¬
рявый же язык божества, к которому прикреплены цепочки, символизиру¬
ет высшую меру ораторского мастерства: ведь в греческих комедиях «есть
19 Angeli G. Le type-cadre du songe dans la production des Grands Rhetoriqueurs // Les Grands
Rhetoriqueurs. Actes du Vе Colloque International sur le Moyen Fran<;ais. Milano, 1985. T.
I. R 7—20. Г. Коэн в предисловии к трактату возводит его заглавие к поэтической ан¬
тологии «Сад Удовольствия и цвет Риторики» (“Le Jardin de Plaisance et fleur de Rhe-
torique”), изданной в 1501 г. Антуаном Вераром; однако представляется, что для Тори
важен не какой-либо конкретный, пусть сколь угодно важный текст, но сам излю¬
бленный «риториками» топос цветущей природы, неотделимой от красноречия.
20 В издании “Opuscula” Лукиана 1506 г.
^163^
Рисунок 7. Геркулес Галльский. GeofFroy Tory. Champ Fleury. fol. Ill v°
такие ямбические стихи, где сказа¬
но, что у всех людей, говорить лю¬
бящих и умеющих, язык с дырою»
(fol. Ill Г1). А значит, делает вывод
Тори, французский язык — это в
буквальном смысле продырявлен¬
ный язык Геркулеса Галльского:
ведь ни римляне, ни даже греки не
поклонялись столь великому боже¬
ству. Фигура бога воплощает в себе
то естественное красноречие, кото¬
рое, как стремится доказать Тори,
искони присуще французам и в ко¬
тором он видит главный залог и ос¬
нование для оформления его по ка¬
нонам классических языков.
К фигуре Геркулеса обращал¬
ся и Лемер в «Прославлениях Гал¬
лии...». Несколько глав первой
книги посвящены у него деяниям
легендарного прародителя галлов; в
лионском издании 1510 г. содержится также гравюра (традиционно атрибу¬
тируемая Жану Перреалю, которого Тори считал своим учителем) с изобра¬
жением Геркулеса, его супруг и Галаты и сирены Араксы (Рис. 8)21.
Рисунок 8. Геркулес с супругой Галатой и
сиреной Араксой. Jean Lemaire de Beiges.
Le premier liure des Illustrations de Gaule,
et singularitez de Troye. Nouuellement
imprime. 1511
21 По одной из средневековых версий, содержащихся у Анния из Витербо, Геракл
был женат на дочери речного божества Аракса.
^164^
^ Миф и печатня: мифологизация французского языка в «Цветущем луге»... ^
Однако в рамках поэтической историографии Лемера великий пра-
государь французов никак не соотнесен с идеей красноречия; именно
в «Цветущем луге» он впервые предстает тем символом исполинской
мощи французского языка, которому суждено будет обрести оконча¬
тельную и законченную форму в «Защите и прославлении...» Ж. дю
Белле22. Две ипостаси Геркулеса Галльского — «государственная», пред¬
ставленная у Лемера, и «риторическая», описанная Тори, — сливаются
в манифесте Бригады воедино, и древний прародитель самого красно¬
речивого народа превращается в символ культурного величия фран¬
цузской нации, служащей образцом и «водителем» других наций.
Программа «украшения» языка, изложенная в «Цветущем луге», отве¬
чала одной из главных культурных задач французского Ренессанса. Она,
безусловно, оказала влияние на грандиозный (но неосуществленный)
замысел другого гуманиста и печатника, Этьена Доле — создать «Фран¬
цузского оратора», включающего грамматику, риторику и поэтику наци¬
онального языка. Трактат Тори сыграл решающую роль в развитии наци¬
онального книгопечатания. «Книга эта не только способствовала отказу
от готических шрифтов, но и привела к тому, что старые римские шриф¬
ты были перелиты заново»23. Мифологический контекст, в который ока¬
зались помещены «аттические литеры», делал их не только древнейшими
праписьменами, но и воплощением глубинных поэтических и культур¬
ных смыслов, заведомо исключая какие-либо иные очертания француз¬
ского алфавита. Благодаря усилиям парижского печатника изменилась
сама семантика антиквы: утратив прямую связь с латинской гуманисти¬
ческой традицией, она стала французским национальным шрифтом.
* * *
Столь успешно решенная Тори задача осознавалась как принципиальная
не только французскими гуманистами. «Лобби» антиквы (lettres romaines)
в этот период исходило и от королевского двора и окружения Маргариты
Наваррской. А.-Ж. Мартен писал: «Национальным французским письмом
была готика, а для Канцелярии Франции — бастарда, которую чаще все¬
го использовали во французских литературных текстах. Но вот с 1510—
1520-х гг. намечается лобби, за которым, вокруг епископа Клода де Сейсе-
ля, Гийома Бюде, Клемана Маро и Маргариты Наваррской, стояла целая
группа королевских нотариев и секретарей, высших государственных
чиновников, великих строителей замков в новом стиле на берегах Луары,
на которых было возложено составление канцелярских актов и которые
22 «Пусть вспомнится вам <...> ваш Геркулес Галльский, тянущий за собой с по¬
мощью цепи, привязанной к его языку, народы за уши» // Эстетика Ренессанса.
М., 1981. Т. 2. С. 263 (перевод М. Толмачева).
23 Bernard Aug. Op. cit. P. 47.
^ 165^
§ VII
*-
были охвачены итальянизмом. Это лобби убеждает короля покровитель¬
ствовать публикации “римским” шрифтом целого ряда сочинений, среди
которых я упомяну, прежде всего, краткое французское переложение “De
asse” Гийома Бюде: с ним желали ознакомиться король и придворные, не
знавшие латыни, и он стал одной из первых книг на французском языке,
отпечатанных антиквой (1522); за ним последовали многие переводы ан¬
тичных авторов, а также издание “Романа о Розе”, выверенное Маро и вы¬
пущенное впервые “римским” шрифтом в 1529 г.: требовалось словно бы
освятить новый тип письма, использовав его в публикации самого знаме¬
нитого шедевра Средних веков»24. Таким образом, антиква оказалась под
патронажем двора и наиболее влиятельной части общества; возможно,
именно поэтому Тори счел правомерным аттестовать себя на титульном
листе «Цветущего луга» как королевского печатника, хотя эта должность
была ему дарована лишь после издания трактата.
Тем самым, унаследованная от прошлого столетия культурная стра¬
тификация шрифтов претерпела значительные изменения. Это ока¬
зало воздействие и на социальную парадигму бытования книги, и
прежде всего на традиционный ритуал поднесения книги государю.
Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, новый нацио¬
нальный шрифт находился под патронажем двора, а с другой, — при¬
надлежность отпечатанной с его помощью книги к масштабному госу¬
дарственному мифу сообщала ей собственный авторитет, расшатывая
устойчивую связь автора с патроном. Печатная книга обретала свое,
независимое от власти пространство, в котором на передний план вы¬
ходили отношения сочинителя и печатника с читателем. Характерно,
что сам Тори в предваряющем его трактат приветствии «всем истин¬
ным и благочестивым Любителям добрых Литер и Литературы» экс¬
плицитно отказывается следовать придворному ритуалу:
«Когда поэты и ораторы и иные сведущие в словесности и науках люди стара¬
тельной и усердной рукой своей создали и составили некое Творение, то в обы¬
чае у них поднести его в дар кому-либо из знатных сеньоров Двора или Церкви,
<...> каковой, как почитается, должен и обязан вознаградить их каким-либо бо¬
гатым даром, либо бенефицием, либо должностью за те труды и бдения, что упо¬
требили они на создание сказанных своих Творений и Подношений. С легкостью
мог бы и к поступить так же с этой маленькой Книгой, но, рассуждая, что если я
поднесу ее кому-нибудь одному, а не другому, то может из того проистечь какая
докука и угрызение совести, почел я, что поступлю честно, коли поднесу ее в дар
24 Martin H.-J. Lectures et mises en textes // Histoires de la lecture: un bilan de re-
cherches. Actes du colloque des 29 et 30 janv. 1993 / Sous la dir. de R. Chartier. Pa¬
ris, 1995. P. 253—254.
^166^
^ Миф и печатня: мифологизация французского языка в «Цветущем луге»... ^
всем вам, о Благочестивые Любители добрых Литер и Литературы, не отдавая
предпочтения великому перед малым — разве что постольку, поскольку более
любит он Словесность и ближе сердцу его добродетели» (f. Aij v°).
На место вертикали патронажа выдвигается у Тори сообщество люби¬
телей Словесности: это, насколько нам известно, первая во французской
традиции апелляция к новой «литературной республике», которая за¬
явит о себе несколькими годами позднее, в ходе полемики Клемана Маро
и Франсуа Сагона25. Такая, казалось бы, чисто формальная характеристи¬
ка книги, как шрифт, становилась знаком принадлежности данного сочи¬
нения к «доброй Литературе», а его автора — к придворному кругу.
Тем самым проблема шрифта, выходя за рамки «чистого» книгоиз¬
дания, обретала актуальность для авторского самосознания. Одним из
любопытных примеров тому может служить конфликт, разгоревшийся
в начале 1540-х гг. между знаменитым гуманистом и печатником Этье¬
ном Доле, с одной стороны, и Клеманом Маро — с другой.
История изданий Маро свидетельствует о том, что поэт вниматель¬
но следил за качеством печати своих творений. Он нередко жалуется на
неисправные издания, находя в них не только неточности и опечатки,
но и не принадлежащие ему произведения; такое внимание, еще дале¬
ко не ставшее правилом в эту эпоху, в конечном счете, заставило его в
1534 г. самого испросить привилегию на издание своих произведений.
«Гражданским властям отныне вменялось в обязанность преследовать
и наказывать всех, кто напечатает поэмы Клемана неисправно и без до¬
зволения автора. Соответствующее поручение за подписью Франциска
было дано прево Парижа, бальи Руана и Дижона, сенешалям Лиона, Ту¬
лузы и Гиени либо лицам, исполняющим их обязанности»26.
Первое собрание стихотворений Клемана Маро вышло без ведома автора
около 1531 г. в Лионе, у издателя Оливье Арнулле, специализировавшегося
на народных хрониках, романах и тому подобной «ярмарочной» литерату¬
ре. Оно было отпечатано готическим шрифтом и сопровождалось гравюрой
со стереотипным изображением автора, пишущего на пергаменном (бу¬
мажном?) свитке27. Но уже в августе следующего, 1532 г. появилось издание
«Клемановой юности» и других сочинений Маро, выполненное для издателя
Пьера Роффе Жоффруа Тори, который использовал в нем разработанный
25 См. параграф «Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор Клемана
Маро и Франсуа Сагона».
26 Цит. по: Dejean J.-L. Clement Marot. Paris, 1990. P. 311.
27 Les Opuscules et petitz Traictez de Clement Marot de Quahors, varlet de chambre du
Roy... (B.N. Res. p. Ye 736) (№ 6). Здесь и далее в скобках указаны номера изданий
в библиографии К.А. Мейера: Mayer С.А. Bibliographic des oeuvres de Clement Ma¬
rot. Geneve, 1954. T. 2.
^167^
$ VII
4
им вариант антиквы. Как явствует из заглавия книги, Тори постарался при¬
дать своей книге «образцовый» характер, выверив тексты Маро и располо¬
жив их в «правильном порядке»28. Издание это было перепечатано 13 ноя¬
бря 1532 г., 12 февраля 1533 г. (нов. ст.) и 7 июня 1533 г. (№№ 11,12,14).
Традиция этих «правильных» парижских изданий выдерживалась и
после смерти Роффе, когда книгоизданием занялась его вдова. Показа¬
тельно, что в издании, помеченном 19 августа 1534 (№ 19) и подготов¬
ленном для вдовы Роффе печатником Сианеусом (L. Cyaneus), не только
сохраняется шрифт, но и впервые появляется упоминание о полученной
Маро привилегии на издание «Юности» и о контрафактных изданиях: «...
И нет в сей книге иных, дурных и плохо составленных творений, како¬
вые приписываются сказанному автору и каковые он осуждает и оспари¬
вает, как видно из привилегии, полученной им для сего издания»29.
Сам Маро, как явствует уже из предисловия к «Клемановой юности»
1532 г., также уделял пристальное внимание составу своих книг30. Этой
проблеме посвящено и его предисловие к собранию сочинений, выпу¬
щенному Этьеном Доле в 1538 г. В жанровом отношении оно представ¬
ляет собой послание к издателю, распадающееся на две части. В первой
Маро жалуется на произвол либрариев и печатников, включавших в чис¬
ло его творений тексты, оделяющие его «чужим невежеством», а порой
«полные соблазна и скандала», — и все ради собственной выгоды (“par
avare convoitise de vendre plus cher et plus tost ce qui se vendoit assez”31). Bo
второй обосновывается правильный, то есть авторский, состав книги:
«Выбросил я из моей Книги вещи не только дурные, но и хорошие, не мои
и мне не принадлежащие, довольствуясь теми, что породила наша Муза. Од¬
28 LADOLESCENCE CLEMENTINE Autrement, les Oeuures de Clement Marot de
Cahors en Quercy, Valet de Chambre du Roy, composees en leage de son Adolescence.
Auec la Complaincte sur le Trespas de feu Messire Florimond Robertet. Et plusieurs
autres Oeuvres faictes par ledict Marot depuis leage de sa dicte Adolescence. Le tout
reueu, corrige & mis en bon ordre. Expl. : Ce present Liuvre fut acheve dimprimer le
Lundy XII. jour Daoust. Lan M.D. XXXII. pour Pierre Roffet, diet le Faulcheur. Par
Maistre Geofroy Tory, Imprimeur du Roy (B.N. Res. Ye 1532) (№ 9).
29 “Et ne sont en ce present livre autres meschantes oeuvres mal composees, que on im¬
pose estre du diet acteur, les quelles il reprouve & desadvoue, comme il appert par le
privilege par luy obtenu pour ceste presente impression”. Тот же текст присутствует
и в переиздании «Юности» для вдовы Роффе 20 июня 1535 г. (№ 32).
30 См. об этом, в частности: Alduy С. LAdolescence de Marot mise en recueil: ordre du
livre, fiction d’auteur // L’information litteraire. 2006. Vol. 58. № 3. P. 10—18.
31 Цит. no: Marot Cl. CEuvres. T. 1—4 / Ed. G. Guiffrey, mise au jour d’apres les papiers
posthumes de lediteur, avec des commentaires et des notes par R. Yve-Plessis. Geneve,
1969. T. 1. P. 462. Любопытно, что Маро здесь переносит на отношения автора и
издателя унаследованную от «великих риториков» топику сада: «Я посадил дере¬
вья, а они собирают с них плоды» // Ibid. Р. 463.
^168^
^ Миф и печатня: мифологизация французского языка в «Цветущем луге»... ^
нако (дабы не жаловались читатели) добавил я в нее на место выброшенных
в дюжину раз больше иных своих сочинений, прежде не печатавшихся <...>
И, пересмотрев и старое и новое, изменил к лучшему порядок Книги (change
lordre du Livre en mieulx) <...> и решил отослать тебе все, дабы под прекрас¬
ной и обширной привилегией, каковая за доблесть твою и заслуги дарована
была тебе Королем, ты (ради дружбы нашей) отпечатал ее заново, не толь¬
ко исправной, какой я ее тебе шлю, но и еще лучшей, что нетрудно тебе бу¬
дет, коли приложишь к сему усердие, равное учености твоей. <...> Ибо тогда
творения мои выйдут в свет и попадут в руки [печатников] не по отдельно¬
сти, как они их подбирают по разным местам, но в прекрасной форме книги.
Сверх того, из-за подобных их добавок разбивается весь порядок моих книг,
каковой я такими трудами выстроил (qui tant та couste a dresser)»32.
Итак, в 1538 г. поэт передает выверенную рукопись своих сочинений
Этьену Доле, уповая на гуманистическую образованность собрата33.
Однако сразу по выходе книги между ними происходит ссора, нашед¬
шая отражение в эпиграмме СХХ, обращенной к Доле: Маро отказыва¬
ет разделять с бывшим другом славу, какую приносят его стихи, и пред¬
сказывает, что тот умрет в безвестности:
Si n’auras tu jamais la renommee
Que de long temps tu cherches par mes vers,
Et nonobstant tes gros tomes divers
Sans bruict mourras.34
(«Никогда не достигнешь ты славы, / какой давно жаждешь за счет моих
стихов, / и, несмотря на все свои толстые тома, / умрешь в забвении»).
Издатель-гуманист явно не оправдал возлагавшихся на него надежд.
Жан-Люк Дежан своей обстоятельной биографии Маро35 предполагает, что
дело было в изобилии опечаток и неточностей, в том, что Доле использовал
не столько предоставленную ему рукопись, сколько прежние издания, кото¬
рые поэт отверг. Можно, однако, сделать еще одно предположение.
32 Ibid. Р. 463—464.
33 К слову, в том же году Маро поднес рукопись своих еще не изданных сочинений
коннетаблю Франции Анну де Монморанси (этот единственный достоверно ав¬
торский манускрипт находится в музее Конде в Шантийи: Recueil des dernieres
Oeuvres de Clement Marot, non imprimees / Et premierement / Celles quil fit durant
son exil, Et depuis son retour / 1537/ En mars; Musee Conde, ms. n° 748). Поднесе¬
ние неизвестной широкому читателю рукописи свидетельствует об изменении
характера отношений с высокопоставленным адресатом: поэт не ищет покрови¬
тельства, он уверен в своей силе как автора и ценности своих творений.
34 Ibid. Р. 409.
35 Dejean J.-L. Op. cit. Р. 337—338.
^ 169 ^
$ VII
*
4
«Сочинения» Маро, содержавшие 4 части в одном томе, представляли со¬
бой in-8, отпечатанный готикой, то есть имели формат и шрифт народной
книги (№ 70, B.N. Res. Ye 1457—1460); между тем даже в Лионе традиция «го¬
тических» изданий поэта, которую твердо выдерживал Франсуа Жюст (№№
13,14 bis и далее), прервалась уже с 1536 г.36 Видимо, не будет натяжкой пред¬
положить, что тип шрифта играл восприятии поэта далеко не последнюю
роль. Доле стратифицировал шрифты по «по старинке», по гуманистическо¬
му принципу, согласно которому поэзия на народном языке печаталась го¬
тикой. В пользу этой гипотезы говорит и другой факт. Одновременно с Доле
в Лионе вышло еще одно издание Маро, осуществленное Себастианом Гри-
фиусом (или Грифом; № 70) и отпечатанное антиквой. Судя по обращенным
к читателям словам Маро в его переводе «Геро и Леандра» (октябрь 1541 г.),
где Грифиус назван «отменным искусником в книгопечатании» (“excellent
homme en Tart de rimprimerie”)37, этот издатель-гуманист остался у него в
полном доверии. Готическое же издание Доле оказывалось для поэта двой¬
ным культурным ударом: во-первых, его «Юность» оказывалась прирав¬
нена к народной книге, во-вторых, тем самым ставилась под сомнение его
близость ко двору, откуда исходило «антикизирующее» влияние. Возможно,
Маро усмотрел в этом намек на опалу, изгнание, из которого он только что
возвратился. Так или иначе, вне зависимости от присутствия политических
мотивов, снижение культурного статуса книги (и ее автора), пусть неосознан¬
ное, было очевидным. Когда в 1542 г. Доле предпримет издание «Ада» Маро,
он уже воспользуется антиквой; судя по всему, инцидент будет исчерпан.
Таким образом, новое сознание материальности книги, возникшее
во Франции на рубеже 20—30-х гг. XVI в. и блистательно зафиксиро¬
ванное в «Цветущем луге» Жоффруа Тори, имело решающее значение
для развития словесности. Исполненная новым национальным шриф¬
том — антиквой, книга повышала статус произведения на народном
языке, превращала его в частицу национального мифа. Одновременно
менялся и статус самого литератора, чье творчество оценивалось те¬
перь с точки зрения достоинства французской культуры. Авторитет
французских auctores, формально соотнесенных с античными и ита¬
льянскими авторами, вступал в противоречие с системой патронажа,
заставляя поэтов уделять гораздо большее внимание изданию своих
текстов. Патрон начинает уступать место читателю, с одной стороны,
и собратьям по перу, с другой. Новая «литературная республика» впер¬
вые заявила о себе через несколько лет, и оказалось, что ее устройство
и функции также теснейшим образом связаны с печатной книгой.
36 О /шонских изданиях Маро см.: Defaux G. Marot et ses editions lyonnaises: Etienne
Dolet, Sebastien Gryphe et Francois Juste // Revue d’Histoire Litteraire de France.
1993. № 6. P. 819—849.
37 Marot CL CEuvres. T. 2. P. 416.
$VM
Поэтическая полемика
в эпоху печатной книги:
спор Клемана Маро
и Франсуа Сагона1
На протяжении нескольких месяцев 1537 г. в Париже разво¬
рачивалась настоящая «битва книг». Именно такую форму
приняла полемика между признанным лидером новой при¬
дворной поэзии Клеманом Маро, «французским Вергилием»,
и менее известным нормандским поэтом Франсуа Сагоном.
Обстоятельства этой распри, взбудоражившей весь литературный и из¬
дательский мир, неплохо изучены2; в самом общем виде они сводятся к
следующему. Первая ссора двух поэтов — по утверждению Сагона, едва
не стоившая ему жизни — случилась еще в августе 1534 г., незадолго
до знаменитого «дела о плакатах против мессы»: благочестивого нор¬
мандца возмутили реформатские взгляды, высказанные Маро в личной
беседе. Летом следующего года Маро, внесенный на родине в список
еретиков и укрывшийся в Ферраре, пишет две стихотворных эписто¬
лы: «Послание к королю, пребывая в изгнании в Ферраре» и «Другое
послание Маро, каковой обращается к Девицам»3. В первой (адресо¬
ванной Франциску I) поэт заявляет о своей невиновности и объясня-
1 Впервые опубликовано в сборнике: Теория и мифология книги. Французская
книга во Франции и России (Российско-французская конференция. Москва,
РГГУ, 11—12 сентября 2006 г.). М., 2007 (Чтения по истории и теории культуры.
Вып. 53). С. 17—29.
2 Первое более или менее систематическое изложение фактов, связанных с этой
полемикой, принадлежит, по-видимому, П. Бонфону (Bonnefon R Le differend
de Marot et de Sagon // Revue d’histoire litteraire de la France. 1894. P. 103—138;
1895. P. 259—285) и, несколько позже — Ж. Гиффре (в биографии Клемана Маро,
предваряющей издание его сочинений: Marot Cl (Euvres / Ed. par G. Guiffrey. Pa¬
ris, 1911. T. 1. P. 340—416). Из более новых работ по этому вопросу следует отме¬
тить: Saulnier V.-L. Le faux denouement de la querelle opposant Marot a Sagon // Me¬
langes R. Lebegue. Paris, 1969. P. 3—44; Desan Ph. Le Feuilleton illustre Marot-Sagon
// La Generation Marot. Poetes fran^ais et neo-latins (1515—1550). Actes du Colloque
du Baltimore, 5—7 dec. 1996 / Ed. G. Defaux. Paris, 1997. P. 349—380; Mantovani T.
La querelle de Marot et de Sagon: essai de mise au point // Ibid. P. 381—404.
3 Cm. Marot CL CEuvres poetiques / Ed. par G. Defaux. Paris, 1993. T. II. P 80, 78.
^171^
§ VIII
4
ет бегство из «неблагодарной Франции» кознями врагов, в том числе
«невежественной Сорбонны»; во второй (распространявшейся в спи¬
сках) — уподобляет свои бедствия участи всех истинных последовате¬
лей Христа и призывает «двух милосердных сестер» к стойкости в вере.
Сагон, усмотрев противоречие между двумя сочинениями, решает, что
настал момент разоблачить двуличие своего обидчика и в начале 1536 г.
подносит Франциску стихотворный «трактат» под названием «Первый
опыт», обвиняя Маро в ереси. Эта атака на отсутствующего поэта слу¬
жит сигналом к масштабному выступлению друзей «мэтра Клемана».
Бонавантюр Деперье, одним из первых откликнувшийся на «Опыт», об¬
ращается ко всем стихотворцам и ценителям знания:
Nobles espritz amateurs de scauoir,
Quil vous ennuye, & vous est grief de veoir
Vostre Maro indignement traicte
D ung coup dessay, trop venimeux traicte <...>
Quattendez vous, О Poetes Francoys
Ses bons Amys?4
(«Благородные умы и любители знания, да будет вам досадно и тяжко ви¬
деть, как недостойно оскорблен ваш Маро «Первым опытом», ядовитейшим
творением <.. .> Чего ждете вы, о поэты Франции, добрые его друзья?»).
Однако в том же 1536 г. Маро получает разрешение вернуться во
Францию. Пройдя в Лионе через церемонию публичного отречения от
своих «заблуждений», он прибывает в Париж и печатает приветственное
послание двору «Храни Боже»5, где заявляет, что, по примеру милости¬
вого короля, от чистого сердца прощает всех врагов. В самом начале сле¬
дующего года Франциск возвращает ему место «королевского камерди¬
нера» (“valet de chambre du roy”). В июне 1537 г. враги вновь встречаются
на празднестве в Сен-Клу, после чего Маро пишет послание к Сагону от
лица своего вымышленного слуги Фриппелиппа («Слуга Маро против
Сагона, с комментариями») и печатает его6. Полемика разгорается с но-
4 Des Periers В. Pour Marot absent contre Sagon // (Euvres fran^oises de Bonaventure des
Periers / Rfv. sur les ed. originales et annotees par L. Lacour. Paris, 1856. T. 1. P. 179.
5 Le dieu gard de Marot a son retour de Ferrare en France Avecques la triumphe des
trioletz ou est comprins les neuf preuses. Les devis de deux amans & pluiseurs bal¬
lades Rondeaux, epistres, disains, huictains & quatrains ensemble la chanson de hesdin
composez par Jean Chapperon dit le lasse de Repos. On les vent a Paris a la rue neufve
nostre dame a lanseigne sainct Nicolas.
6 Le valet de Marot contre Sagon, cum commento. On les vend a Paris en la rue sainct
Jacques, pres sainct Benoist, en la bouticque de Jehan Morin, pres les troys Couronnes
dargent. 1537.
4 172 ^
^Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор Клемана Маро и Франсуа Сагона^
вой силой, не оставив в стороне почти никого из значительных нацио¬
нальных поэтов. При этом участие самого Маро в стихотворном риста¬
лище, породившем на свет более 35 разнообразных изданий7 (цифра для
эпохи очень высокая), ограничилось эпистолой Фриппелиппа, если не
считать рондо «Невежественному поэту» из «Клемановой юности», до¬
бавленного к одному из текстов — скорее всего, издателем Жаном Море¬
ном8. Главная битва происходила между окружением Маро (помимо уже
упоминавшегося Деперье, следует в первую очередь назвать Шарля Фон-
тена, Николя Глотеле и Клода Доле) и Сагоном, на стороне которого вы¬
ступал преимущественно Шарль Юэ (Huet, он же Ла Юэтри, La Hueterie).
Полемика Маро и Сагона по праву считается первым собственно ли¬
тературным спором во Франции9. Конечно, сама его форма, обмен по¬
сланиями, равно как характер обвинений, на которые не скупились обе
стороны, во многом традиционны. Если оставаться в рамках словесно¬
сти (оставив в стороне некоторые интересные, но слишком общие ин¬
терпретации10), то корни их следует искать по крайней мере в прошлом
столетии, эпохе бурных полемик между гуманистами. И в скандальной
дискуссии, разгоревшейся в 1480-х гг. между чтецом Карла VIII гумани¬
стом Гийомом Тардифом и итальянцем Джеронимо Бальби11, и в ее «про¬
тотипе», знаменитой полемике между Поджо Браччолини и Лоренцо
Валлой12 — а еще раньше в споре о «Романе о Розе»13, — рождалось но¬
вое, отличное от средневекового представление о литературе и ее связи
с «моральной философией». Именно поэтому позиция противника по
тем или иным проблемам словесности напрямую связывалась с его, так
сказать, моральным обликом. У Поджо в “Orationes” радикальное анти-
цицеронианство Валлы неотделимо от его аморализма, который выра-
7 Основные тексты полемики были собраны и изданы Э. Пико: Picot Е. La Querelle de
Marot et Sagon, / pieces reunies en collab. avec P. Lacombe. Rouen, 1920 (Geneve, 1969).
8 Rescript a Francoys Sagon & au ieune poete Champestre facteur de la genealogie de
Frippelippes. Auecques ung Rondeau faict par Clement Marot dudict ieune poete. 1537.
9 Cm.: Mantovani T. Op. cit. P. 383—385.
10 Например, статью Эрве Кампаня (Campangne Н. Disputes et “crimes verbaux”: la
querelle litteraire au XVIе siecle en France // Revue d’histoire litteraire de la France.
1998. Vol. 98. № 1. P. 3—15), который соотносит литературные баталии в ренес¬
сансной Франции, в том числе и полемику между Маро и Сагоном, с дуэльным
кодексом эпохи.
11 См. об этом: Beltran Е. L’humaniste Guillaume Tardif // Bibliotheque d’Humanisme et
Renaissance. 1986. T. XLVIII. № 1. P. 12—15.
12 Общую характеристику этой полемики, отозвавшейся в гуманистических кругах
всей Италии, см.: v.s. L Camporeale. Lorenzo Valla. Umanesimo e Teologia. Firenze,
1972; Idem. Poggio Bracciolini contro Lorenzo Valla. Le “Oraziones in L. Vallam” //
A.A.V.V. Poggio Bracciolini. 1380—1980. Nel VI centenario della nascita. Firenze,
1982. P. 137—156.
13 Cm.: Le Debat sur la “Roman de la Rose” / Ed. par E. Hicks. Paris, 1977.
^ 173 ^
§ VIII
*
4
жается не только в ереси, но и во всех мыслимых и немыслимых поро¬
ках, вплоть до неопрятности в еде и одежде. Именно Поджо привносит
в гуманистические баталии тот оттенок площадного комизма, которым
будет окрашен не один полемический памфлет итальянского и француз¬
ского Ренессанса. Тардиф в своем «Ответе» Бальби14 15, подвергая разгром¬
ной критике творения соперника, изображает его клятвопреступником,
еретиком, невеждой, развратником и т.п. Аналогичным образом в ходе
столкновения Маро и Сагона «французского Вергилия» обвиняют не
только в ереси, но и в гордыне, разврате, «эфиопской» внешности (из-за
черной бороды) и сходстве с обезьяной, тогда как «маротики» награжда¬
ют Сагона и его окружение вшивостью и дурными болезнями.
Полемика Поджо и Валлы, а затем Тардифа и Бальби имеют еще одну
особенность, в полной мере проявившуюся в стихотворном споре 1537 г.:
коллективный характер дебатов. Контроверза итальянских гуманистов де¬
лит весь полуостров, от Неаполя до Венеции, на poggiani и laurenziani; Тар¬
диф идет еще дальше и, апеллируя к собратьям по словесности, призывает
дать отпор итальянцу, дерзко покушающемуся на достижения националь¬
ного гуманизма. В полемике Маро и Сагона эта черта становится домини¬
рующей. Если сторонники Тардифа оказались, по правде говоря, не слиш¬
ком многочисленными, а, например, Робер Гаген, вынужденно принявший
участие в споре как декан факультета права Сорбонны, высказался не
столько в пользу кого-либо из противников, сколько за их примирение13,
то «сыны Аполлона», откликнувшись на призыв Деперье, а затем и само¬
го Маро (в послании Фриппелиппа), выступили единым фронтом против
«провинциала», оскорбляющего первого придворного поэта.
Однако эта вторая особенность претерпевает в трех полемиках ха¬
рактерную трансформацию: раздвигаются и смещаются границы социо¬
культурной группы, внутри которой развертывается полемика и к кото¬
рой адресуются ее участники. Спор Поджо и Валлы протекает в рамках
интернациональной «литературной республики» гуманистов, вбираю¬
щей в себя и римскую курию, апостолическими секретарями которой
состояли оба противника, и едва ли не все области Италии, и Европу16.
Тардиф, напротив, ищет поддержки именно у французских собратьев,
14 Antibalbica in Gerronymum barbarum doctorum famosum Tardidi Aniciensis detrac-
torem responsio. Cm.: Beltran E. L’humaniste Guillaume Tardif // Bibliotheque d’Hu-
manisme et Renaissance. 1986. V. XLVIII. № 1. P. 12—15.
15 См. параграф «Морализированный перевод и национальная традиция в литературе
раннего французского Возрождения: пример Гийома Тардифа» в настоящем изда¬
нии, особенно сноску. 53, где приводятся дистихи Гагена в адрес хулителей Тардифа.
16 Неслучайно, нападая на Валлу, Поджо во второй Огайо ссылается на европей¬
ский успех своих «Фацеций», которые “diffusa sint per universam Italiani, et ad Gal¬
los usque, Hispanos, Germanos, Britannos, caeterasque nationes transmigrarint qui
sciant loqui latine”.
Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор Клемана Маро и Франсуа Сагона
вписывая свою полемику со скандальным итальянцем в контекст со¬
перничества двух национальных культур — весьма актуальной и даже
болезненной проблемы рубежа XV—XVI вв. Наконец, обмен послани¬
ями между «маротиками» и сторонниками Сагона происходит как бы
в двух плоскостях. С одной стороны, противники из обоих лагерей не
устают апеллировать к королю Франциску I, и как к государю, и как к по¬
эту. С другой, — истинным и куда более значимым их адресатом служит
французская публика, та фигура «благосклонного читателя», какая начи¬
нает вырисовываться в первой половине XVI в. под действием нового и
весьма мощного фактора — книгопечатания.
Собственно, мотив печатной книги и ее культурной роли возника¬
ет уже в письмах Гагена, связанных со спором Тардифа17 и Бальби. Се¬
туя на скандальный характер спора (участников которого Эразм назвал
безумцами18), Гаген признается:
«Распрощался я с Музами и едва не ненависть питаю к обретению крас¬
норечия: не оттого, что говорить правильно недостойно, но оттого, что лю¬
бители искусства сего в нынешние времена любят более всего <...> злосло¬
вие; равно и удобство, какое, казалось, доставляло книгопечатание людям
ученым, оказалось в злом умышлении многих, каковые стремятся напра¬
вить его всецело на уничижение ближнего...»19
Гуманист считает недопустимым «осквернение» новейшего способа из¬
готовления книг, с которым связывались восторженные надежды на рас¬
пространение подлинного древнего и нового знания, воплощенного в
выверенных текстах. Между тем, к середине 1530-х гг., когда разгорелась
полемика Маро и Сагона, искусство печатной книги уже успело выйти
далеко за пределы гуманистических кругов и продемонстрировать разно¬
образие своих функций. В частности, стало очевидно, что способность на¬
делять любой печатный текст не зависимой от автора публичной жизнью
17 Стоит напомнить, что Гийом Тардиф сыграл немалую роль в развитии книгопе¬
чатания во Франции, работая в качестве корректора в одной из первых париж¬
ских типографий (“Au Soufflet Vert”).
18 Любопытную параллель отстраненной и несколько брезгливой позиции Эразма
представляет собой, применительно к полемике Маро и Сагона, точка зрения Дю
Белле, выраженная в прологе к его первому сборнику стихов «Олива» (1549): «Но
ежели кому хочется прямо или, как говорится, непрямо меня задеть, не рассудитель¬
но и скромно, как подобает во всех честных спорах о словесности, но хотя бы с ма¬
лейшей долею бранчливости и крутя носом, то предупреждаю, чтобы не ждали от
меня ответа, ибо я не желаю делать столько чести таковым грубиянам, скрывающим
лицо свое, и считаю, что ничего они не заслуживают, кроме моего гнева. Если кому
угодно опять повторить фарс о Маро и Сагоне, помешать я им не могу, но пускай по¬
ищут другого шутника, чтобы разыграть с ними эту роль» (выделено нами — КС.).
19 Цит. по: Charrier S. Recherches sur loeuvre latine en prose de Robert Gaguin (1433—
1501). Paris: H. Champion, 1996. P. 136—137.
^ 175 ^
§ VIII
*
делает его незаменимым орудием как достижения славы, так и уничтоже¬
ния противника. Маро, придававший, как известно, большое значение из¬
данию своих стихов, вполне сознавал эту двойственную, а главное, само¬
стоятельную роль печатной книги. В частности, в предисловии к своим
сочинениям, выпущенным Этьеном Доле в 1538 г., он жалуется на произ¬
вол издателей, которые приписали ему чужие произведения «из алчно¬
го стремления продать подороже и побыстрее то, что и так продавалось
хорошо»20. Скорее всего, тот факт, что именно после возвращения Маро из
Феррары полемика вышла за рукописные рамки и переместилась в печат¬
ни, объясняется не только благополучным (хотя и временным) избавлени¬
ем поэта от клейма «еретика». Происходит сдвиг всей парадигмы спора: в
то время как взаимные обвинения сторон переносятся из морально-рели¬
гиозной в чисто литературную плоскость, эпистолы, адресованные коро¬
лю и (как в случае Деперье) собратьям по поэтическому цеху, сменяются
книжечками и брошюрами, адресованными широкой публике21.
Роль «издательского фактора» представляется ключевой для пони¬
мания смысла полемики и самого ее хода. Между тем, она до сих пор не
становилась предметом сколько-нибудь обстоятельного изучения22. Без¬
условно, такого рода анализ затрудняет отсутствие точных датировок;
кроме того, до нас, по-видимому, дошли не все книжечки, брошюры и
20 Цит. по: Les Oeuures de Clement Marot de Cahors, valet de chambre du Roy. Aug-
mentees des deux Liures d’Epigrammes : Et dung grand nombre d’aultres Oeuures par
cy deuant non imprimees. Le tout songneusement par luy mesmes reueu, & mieulx
ordonne. A Lyon : au Logis de Monsieur Dolet. M.D.XXXVIII. f. aij.
21 Иногда этот сдвиг приводит к любопытным недоразумениям. Например, в «Защи¬
те Сагона, им адресованной Клеману Маро...» (Defense de Sagon par luy adressee
a Clement Marot, Disciples dicelluy, Appoincteurs, Et aux luges Prudens. S.l. s.d. On
les vend au mont Sainct-Hylaire, devant le college de Reims) нормандский поэт
иронически вопрошает Деперье, имея в виду его вышеупомянутое стихотворение
в защиту Маро: “A quel propos faictz tu lexcuse / Au roy dung homme quon nacuse,
/ Pour luy demander pardon / Dont six mois quil a le don ?” («Отчего оправдыва¬
ешь ты перед королем человека, которого никто не обвиняет, и испрашиваешь
ему прощение, которое он получил пол года назад?» // Ibid. f. D iii v°). По мнению
T. Мантовани (Op. cit. Р 382—383), Деперье своим «неловким» заступничеством
заслужил этот язвительный упрек. Однако дело, по-видимому, обстоит гораздо
проще: «Защита» Сагона была напечатана в ответ на выход сборника «Ученики и
друзья Маро против Сагона, Ла Юэтри и их приспешников» (Les disciples et Amys
de Marot contre Sagon, La Hueterie, et Leurs Adherentz. On les vend a Paris en la Rue
sainct Iacques, pres sainct Benoist, a lenseigne du Croissant, en la boutique de Iehan
Morin. M.D.XXXVII). Сборник этот вобрал в себя стихи, написанные на разных
этапах полемики. Призыв Деперье помиловать Маро, обращенный к Франциску,
относился ко времени феррарского изгнания «мэтра Клемана», но в то время (как,
собственно, и “Coup dessay” Сагона) еще оставался рукописным.
22 К сожалению, в статье Филиппа Дезана, несмотря на ее многообещающее назва¬
ние («Иллюстрированный фельетон Маро-Сагон»: Desan Ph. Op. cit.), эта про¬
блематика практически не затронута.
^ 176 ^
^Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор Клемана Маро и Франсуа Сагона^
листки, возникавшие в ходе обме¬
на поэтическими «любезностями».
Необходимо также определить
круг печатников и книготоргов¬
цев, так или иначе причастных к
полемике. На данный момент от¬
носительно ясна только роль Жана
Морена, исправно выпускавшего
произведения «маротиков» и удо¬
стоенного внимания историков,
прежде всего, из-за преследова¬
ний, которым он подвергся после
издания «Кимвала мира» Деперье
(1538). Однако не приходится со¬
мневаться в том, что выбору ли-
брария участники конфликта при¬
давали весьма важное значение.
Вот лишь один небольшой пример
(насколько нам известно, ускольз¬
нувший от внимания историков).
Рисунок 9. Издательская марка Жоффруа Титульный лист второго изда-
^°РИ ния «Опыта» Сагона содержит, по¬
мимо заглавия, странную надпись: “Les semblables sont a vendre a Paris а
lenseigne du pot casse” («Подобные [книги?] должны продаваться в Пари¬
же под вывеской разбитого горшка»). Что значит — «подобные»? И поче¬
му не «продаются» (on les vend), как обычно указывают книготорговцы, а
«должны продаваться»? Ответ кроется, на наш взгляд, именно в «разби¬
том горшке», а вернее, античной вазе, пробитой штихелем гравёра (Рис.
9): издательской марке, украшавшей книги замечательного парижского
печатника-гуманиста Жоффруа Тори, для которого в 1530 г. была, впер¬
вые в истории, создана должность королевского печатника. Именно Тори
выпустил в свет первый сборник Маро «Клеманова юность»* 21 * 23, а затем
осуществил ее знаменитое 4-е издание (1533), где применил на практике
реформу орфографии, предложенную еще в 1529 в трактате «Цветущий
луг»24. После июня 1533 г., наиболее вероятной даты смерти Тори, его пе-
23 Ladolescence clementine. Autrement les oeuvres de Clement Marot de Cahors en
Quercy, valet de chambre du roy, composees en leage de son adolescence... Expl.: Ce
present livre fust acheve dimprimer le lundy. XII. iour daoust. Lan M.D.XXXII. Pour
Pierre RofFet diet Faulcheur. Par maistre Geofroy Tory de Bourges, imprimeur du roy.
21 Champ Fleury, Au quel est contenu Lart & Science de la deue & vray Proportion des
Lettres Attiques, quon dit autrement Lettres Antiques, & Vulgairement Lettres Ro-
maines proportionnes selon le Corps & Visage humain. Ce Liure est Priuilegie pour
^177^
§ VIII
*
чатня и издательская марка — тот самый «разбитый горшок» — перешли
к Оливье Маллару, также назначенному королевским печатником* 25. Ина¬
че говоря, загадочная фраза, на наш взгляд, может означать лишь одно:
издатель Сагона (а вернее, он сам) заявляет о том, что «Опыт» никак не
меньше «Клемановой юности» заслуживает публикации в королевской
печатне. Косвенные подтверждения этому можно найти в упомянутом
выше послании Маро Сагону от лица Фриппелиппа, своего слуги. Здесь
Сагон, во-первых, обвиняется в плагиате, причем именно из «Клемано¬
вой юности» (из ее предисловия он почерпнул название своего опуса
“Coup dessay”)> а во-вторых, именуется «потрошителем латыни»:
Si goulu, friant & gourmand
De la peau du poure Latin
Quil lescorcha comme vng mastin26.
(«Столь жадным и лакомым до шкуры бедной латыни, которую он обо¬
драл как пес»).
Выражение это получило известность благодаря Рабле, который ис¬
пользовал его в эпизоде с лимузенским школяром. Однако сам автор
«Гаргантюа и Пантагрюэля» заимствовал его, вместе с образчиком речи
«потрошителя», из того же «Цветущего луга» Тори, где оно прямо от¬
сылает к поэтической школе «великих риториков». Для гуманиста Тори
«риторики» — предшествующее Маро поколение поэтов, творчество ко¬
торых в 1520-х гг. уже стало восприниматься как архаичное, — не раз¬
умея «доброй словесности» (“bonnes lettres”), калечат неуклюжими ла¬
тинизмами французский язык, во славу которого написан его трактат27.
Иными словами, «потрошитель латыни» не только не может соперни¬
чать с Маро, но и не вправе претендовать на место в окружения Франци¬
ска I — короля, воплощающего в себе самый дух национального языка и,
по словам Деперье, царящего подобно Фебу на французском Парнасе:
О Roy Francoys, qui au mylieu resides
Dix Ans Par Le Roy nostre Sire. & est a vendre a Paris sus Petit Pont a Lenseigne du
Pot Casse par Maistre Geoffroy Tory de Bourges / Libraire, & Autheur du diet Liure.
<...> Expl.: Cy finist ce present Liure <...> Qui fut acheue dimprimer Le mercredy.
xxviij. lour du Mois Dapuril. Lan Mil Cincq Cens. XXIX. Pour Maistre Geofroy Tory
de Bourges.
25 Bernard Aug. Geoffroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur royal, reformateur
de lorthographe et de la typographic sous Francois I. Paris, 1857. P. 66—69.
26 Le valet de Marot contre Sagon, cum commento. f. Aij.
27 Tory G. Champ Fleury ou Lart et science de la proportion des lettres / Precede d une
avant-propos et suivi de Notes, Index et Glossaire par G. Cohen. Avec une nouvelle pre¬
face et une bibliographic de K. Reichenberger et T. Berchem. Geneve, 1973. f. VIII r°.
^ 178 ^
^Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор Клемана Маро и Франсуа Сагона^
Du Mont sacre, & aux Muses presides
Comme vng Phebus.. ,28
(«О Король Франциск [или Французский], что пребываешь на вершине
Священной горы, во главе Муз, подобно Фебу...»).
Это противопоставление «старой» и «новой» поэтических школ нашло
выражение не только в характере взаимных упреков и тех изъянов, какие
во множестве находили обе стороны в чужих стихах, но и в самом оформ¬
лении книг. Все многочисленные брошюры, выпущенные сторонниками
Маро, отпечатаны ясной и красивой антиквой — «идеальные» пропорции
которой рассчитаны и описаны все тем же Жоффруа Тори. Напротив, в
изданиях Сагона и его последователей нередко встречается прежний, для
той эпохи уже отчетливо архаичный шрифт, использовавшийся прежде
для поэзии на народном языке — готика (gothique batarde), а в их оформ¬
лении присутствуют средневековые аллегорические эмблемы и девизы.
Наконец, говоря о роли печатной книги как нового фактора в лите¬
ратурном споре, нельзя не обратить внимания еще на два обстоятель¬
ства. Во-первых, полемика обнажает переоценку прежней системы по¬
этических заслуг и способов их культурной фиксации. Сагон — отнюдь
не новичок в искусстве стихотворства, стяжавший славу на поэтических
состязаниях, в частности, на пюи братства Непорочного Зачатия в Руане
(где в свое время не раз получал награды Жан Маро, отец «французско¬
го Вергилия»), — в своем стремлении оспорить роль Маро и отвоевать
для себя место в новой, придворной поэтической иерархии вынужден
прибегнуть к печатному станку. «Первый опыт» в буквальном смысле
оказывается его первой попыткой переместиться в новую систему коор¬
динат, где слава неотделима от признания публики (свои стихи, удосто¬
енные наград на пюи, он издаст гораздо позже, лишь в 1544 г.29). По его
собственным словам, ему нет необходимости добывать свой хлеб стиха¬
ми; поднося королю свое творение, он не стремился получить от него ни
денег, ни даров, ни должностей, в чем бы его ни обвиняли «маротики».
Секретарь аббата Сент-Эвру, он не нуждается в новом патроне:
Jay, grace a dieu, ung maistre qui men livre
Autant quil faut pour honnestement vivre30.
(«У меня, слава богу, есть господин, который дает мне достаточно для
достойной жизни»).
28 Des Periers В. Pour Marot absent contre Sagon. P. 178.
29 Le triumphe de grace, et prerogative d’innocence originelle, sur la conception et tres-
pas de la vierge esleve mere de Dieu, сотрозё par Sagon. Paris: Jehan Andre, 1544.
30 Defense de Sagon par luy adressee a Clement Marot...
^ 179 ^
§ VIII
*
4
Зато он стремится к национальной славе, достичь которой, как вы¬
ясняется, можно лишь посредством печатного станка. Однако тем са¬
мым он открывает для противника и возможность публичной критики
своих творений. Более того, среди множества свидетельств бездарности
Сагона, приведенных сторонниками Маро, одним из первых встречает¬
ся упоминание того, что издатель «Первого опыта», потеряв на этом со¬
мнительном предприятии последнюю рубашку, послал автора ко всем
чертям. Клод Коле (Claude Colet), укрывшийся за псевдонимом-ана¬
граммой Далюс Лосе (Daluce Locet), пишет:
Mais le pis est, que le pauure Imprimuer (sic!)
Qui Timprima, ta donne (sot rhimeur)
A cent diableiz ainsi que Ion ma diet
Car par ton liure il a perdu credit
Et ne sen peult despescher nullement
De puis quon icet quil est contre Clement
Et par ainsi fauldra que le pauure homme
Perde largent (par toy) bien grosse somme...31
(«Но что всего хуже, бедный печатник, который его [«Первый опыт»]
напечатал, как мне сказали, послал тебя ко всем чертям, ибо из-за твоей
книги он потерял доверие с тех пор, как все узнали, что он против Клемана,
и он не может от этого избавиться. И потому бедняге непременно придется
из-за тебя потерять большую сумму денег...»).
В ответ нормандцу приходится дополнить следующее издание по¬
слесловием от лица «друга издателя», который заверяет читателей, что
«Опыт» был напечатан уже несколько раз и принес большую прибыль,
и к тому же вынести уведомление об этом послесловии на титульный
лист. Со своей стороны, в ответ на насмешки Фриппелиппа Сагон (так¬
же от имени своего вымышленного «пажа», Матье де Бутиньи) насме¬
хается над дурным изданием, которое выпустил соперник:
Je mesbahy comme il imprime
Ou que fripelippes aucteur
J Nen fut luymesmes correcteur...32
31 Цит. no: Remonstrance a sagon, a la huterie, & au Poete Champestre, par Maistre
daluce Locet, Pamanchoys. On la vend au mont sainct Hylaire, devant le college de
Reims. S.n., [1537].
32 Le rabais du caquet de Fripelippes et de Marot diet Rat pele adictione Auec le com¬
ment. Faict par Mathieu de boutigni page de maistre francoys de Sagon seertaire (sic!)
^180^
^Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор Клемана Маро и Франсуа Сагона^
(«Удивляюсь, каково он печатает. Или уж автор Фриппелипп сам был
корректором?»).
Это недоумение Сагона возвращает нас ко второму важному аспекту
«книжного» измерения полемики. Чтобы вернее уничтожить противни¬
ка, Маро использует новую, по сравнению с прежними дискуссиями, воз¬
можность, которую открывает перед ним именно печатная книга: возмож¬
ность перевести полемику в регистр ярмарочной, «лубочной» литературы.
Со вступлением в полемику «французского Вергилия» и, соответственно,
с ее выходом в публичное пространство в ней не только стало преобладать
пародийное, «раблезианское» начало: именно с этого момента она пре¬
вратилась в «иллюстрированный фельетон» (по удачному выражению Т.
Мантовани) и стала развиваться как бы в двух плоскостях. С одной сто¬
роны, она по-прежнему оставалась фактом литературной и придворной
жизни. В потоке взаимных обвинений и брани прояснялось новое пред¬
ставление о боговдохновенном поэте, силой своего дара свободном от лю¬
бых изъянов, которые выискивают у него бездарные (а значит, порочные)
зоилы. Как явствует из «Кимвала мира» Деперье (текста, по-видимому,
гораздо теснее связанного с этой полемикой, чем принято считать), при¬
мирить «враждующие стороны» пыталась сама Маргарита Наваррская. Но
с другой стороны, запущенный Маро механизм «ярмарочного» книгопе¬
чатания набирал обороты, порождая все новые и новые издания и пере¬
издания листков и брошюр, украшенных гравированными карикатурами
и содержащими более или менее забавные взаимные насмешки. Эта «из¬
дательская» ипостась полемики получила собственное и вполне логичное
развитие: самым убедительным призывом покончить с «войной книг»
стал выход в свет «Апологии, написанной великим аббатом Конаров на
Инвективы Сагона, Маро, <...> и пр.»33. Нормандское братство шутни¬
ков, ставившее своей целью пародировать все и вся, напечатало шутов¬
скую хронику «военных действий», за которой последовало еще несколько
книжечек в аналогичном духе. Начавшись при дворе с обвинений в ереси,
первая национальная литературная полемика завершилась «Честным пи¬
ром по случаю Мира, заключенного между Клеманом Маро, Франсуа Са-
гоном, Фриппелиппом, Юэтри и иными из их приверженцев»34.
de Labbe de sainct Eburoult. S.l. s.d.
33 LAppologie faicte par le grant abbe des Conards Sur les Inuectiues Sagon, Marot, La
Huterie, Pages, Valetz, Braquetz, &c. On la vend Deuant le College de Reims.
34 Le bancquet Dhonneur sur la Paix faicte entre Clement Marot, Francoys Sagon, Fripe-
lippes, Hueterie & aultres de leurs ligues. Nouuellement imprime. 1537.
six
Книга и творение:
«Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
Обитель Чести», opus major Октовьена де Сен-Желе, при¬
дворного поэта Карла VIII, наглядно демонстрирует те
изменения, которые произошли в понимании книги
на рубеже Средних веков и Возрождения. Этот текст,
продолжающий при королевском дворе поэтические
традиции школы бургундских «великих риториков», представляет¬
ся показательным по целому ряду параметров. Во-первых, уже благо¬
даря дате своего создания (1490—1494) и близости автора к государю
он принадлежит к придворной культуре, в рамках которой на рубеже
XV—XVI вв. складывались основные модели бытования ренессансной
книги. При этом положение Сен-Желе, покинувшего в 1494 г. двор и
занявшего должность епископа Ангулемского, позволяет ему в своем
прощальном даре королю как бы взглянуть со стороны на придворные
ценности, в число которых входит и словесность. Во-вторых, «Оби¬
тель Чести» принесла своему создателю немалую славу: до нас дошли
две рукописи книги, в том числе подносная1, и четыре ее печатных из¬
дания до 1526 г. Соотношение рукописной и печатной традиции в дан¬
ном случае также заслуживает внимания. Сам автор, скончавшийся
в 1502 г. в возрасте 34 лет, не принимал участия в публикации произ¬
ведения: следуя сложившейся на протяжении столетия практике, он
предназначил для Карла VIII рукописный экземпляр. Первое издание
«Обители Чести» вышло после 1503 г.2 из типографии Андре Бокара,
1 B.N. Ms. fr. 12783. Богато иллюминированный манускрипт на велени; миниатюра
на первой странице изображает автора, подносящего свое сочинение королю.
2 Описание см.: Macfarlane /. Antoine Verard. Geneve, 1971. № 187. Издание не да¬
тировано; датировка определяется адресом книжной лавки Верара, указанным в
колофЬне: “Су finist le seiour dhonneur nouuellement imprime pour anthoyne verard
marchand librayre demourant a paris deuant la rue neufue nostre dame ou au palays
au premier pillier” впервые появляющимся в июле 1503 г. М.-Б. Уинн в разных
местах своего исследования, посвященного Верару, дает сразу три даты: после
1503 г., ок. 1505 г. и ок. 1506 г. (Winn М.-В. Anthoine Verard, Parisian Publisher.
1485—1512. Prologues, Poems and Presentations. Geneve, 1997. P. 175, 177, 480). Так
или иначе, книга относится к периоду между 1503 и 1508 гг., когда Верар работал
для Луизы Савойской и Ангулемского двора.
^ 182 ^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
¥
¥
напечатавшего его для знаменитого Антуана Верара, который, в свою
очередь, преподнес роскошно изданную книгу будущему Франциску
I3. В 1519 г. книга была переиздана, по-видимому, Бартелеми Вераром,
сыном Антуана4, что свидетельствует о коммерческом успехе предпри¬
ятия. В этом издании печатник не воспроизводит миниатюру с подне¬
сением книги Франциску Ангулемскому, помещая вместо нее стерео¬
типное изображение пишущего автора5, имя которого как бы говорит
само за себя. Еще одним подтверждением авторитета Сен-Желе и его
сочинения служат, среди прочего, две печатные книги, появившиеся
в Париже на рубеже столетий: «Искание и уход Любви»6 (1509 г.; впо¬
следствии перепечатана Филиппом Ленуаром, а также вдовой Треппе-
рель) и «Сад Чести» (впервые издан в Ангулеме в 1495 г.; парижское из¬
дание появилось в 1498-м)7. Первая книга, обозначенная как сочинение
3 Выбор адресата был продиктован, прежде всего, происхождением автора, епи¬
скопа Ангулемского и уроженца Коньяка. Этим обусловлен и характер «поднос¬
ной миниатюры»: в отличие от других книг Верара, изготовленных для Луизы
Савойской, на ней либрарий вручает богатый том не самой супруге Карла Валуа,
которая изображена в центре сцены, но ее юному сыну (см.: Winn М.В. Op. cit.
Р. 175—179, и fig. 4.18)
4 Winn М.В. Op. cit. Р. 28, note 43.
5 Le Seiour dhonneur. Compose par reuerend pere en dieu messire Octouien de sainct
gelaiz Euesque dangoulesme Nouuellement imprime a Paris pour Anthoyne verard
<...> Cum priuilegio. Expl.: <...> Et fut acheue le xxvL iour Daoust Mil. ccccc. et. xix.
fol. a.ii. (B.N. Res. Y. 4438). Далее ссылки даются на это издание.
6 La Chasse et le depart damours Faict et Compose par reuerend pere en dieu messire
Octouien de sainct gelaiz euesque dangoulesme et par noble homme blaise dauriol
bachelier en chascun droit demourant a Thoulouse... <...> nouuellement imprime a
paris le .xiiii. iour dauril mil cinq cens et neuf pour Anthoyne verard marchant libraire
<...> (Macfarlane J. Antoine Verard. Geneve, 1971. № 91).
7 Le vergier dhonneur nouuellement imprime a Paris / De lentreprise et voyage de
Nappies. Auquel est compris commat le roy Charles huitiesme de ce nom a banyere
desployee passa et repassa de journee en journee depuis Lyon jusques a Nappies / &
de nappies jusques a Lyon, ensemble plusieus aultres choses faictes & composees Par
reuerend pere en dieu monseigneur Octauien de sainct Gelais euesque dangolesme et
par maistre Andry de la vigne secretaire de monsieur le due de Savoie <...> (Macfarlane
J. Antoine Verard. Geneve, 1971. № 280). История многочисленных изданий «Сада
Чести» и связанных с ними перипетий подробно рассмотрена, в частности, в ра¬
ботах С. Браун: Brown C.J. The Evolution of Andre de la Vignes La Ressource de la
Chrestiente: From the Manuscript Tradition to the Vergier d’honneur Editions // Bi-
bliotheque d’Humanisme et Renaissance. 1982. Vol. 45. P. 115—125; Idem. Text, Image,
and Authorial Self-Consciousness in Late Medieval Paris // Printing the Written Word.
The Social History of Books, circa 1450—1520 / Ed. by S. Hindman. Ithaca—London,
1995. P. 103—130; Idem. Poetes, mecenes et imprimeurs a la fin du Moyen age fran<;ais:
Une crise dautorite // Pratiques de la culture ecrite en France au XVе siecle. Actes du
Colloque international du CNRS (Paris, mai 1992) en honneur de G. Ouy / Ed. par E.
Ornato et N. Pons. Louvain—La-Neuve, 1995. P. 423—440; Idem. Poets, Patrons, and
Printers: Crisis of Authority in Late Medieval France. Ithaca—London, 1995. P. 85 sq.
¥ 183 ^
, §1Х
& ^
«мессира Октовьена де Сен-Желе, епископа Ангулемского, и дворяни¬
на Блеза д’Ориоля, бакалавра обоего права», в действительности пред¬
ставляет собой антологию, которая была составлена Блезом д’Ориолем
и куда, наряду со стихами Карла Орлеанского и других поэтов, вошла
лишь одна поэма епископа Ангулемского — «Сожаление на смерть
Карла VIII». Верар, вынося на титульный лист имя создателя «Обите¬
ли Чести», безусловно, имел в виду привлечь к книге внимание про¬
свещенного читателя8. Вторая, заглавие которой (принадлежащее, по-
видимому, первому издателю, Мишелю Ленуару9) тоже содержит имя
Сен-Желе и намеренно отсылает к его сочинению, также является ан¬
тологией, включающей два крупных сочинения Андре де Ла Виня, се¬
кретаря Анны Бретонской — «Упование христианского мира» и «Путе¬
шествие в Неаполь», хронику неаполитанского похода Карла VIII. Как
и Верар, издатель-пират рассчитывает обеспечить читательский инте¬
рес к книге, используя известность епископа Ангулемского.
Наконец, в-третьих, — и это главное — «Обитель Чести» представ¬
ляет собой беспрецедентный для эпохи пример рефлексии позднесред¬
невекового литератора о сущности своего труда и его духовных и куль¬
турных параметрах. Обширный прозиметрический текст Сен-Желе
строится как аллегория жизненного пути автора: наследуя богатой
традиции «странствий» и «видений» (от «Романа о Розе» до произведе¬
ний «великих риториков» и «Комедии» Данте, упомянутого в третьей
части книги10), автор описывает этапы своего духовного возмужания,
каждый из которых протекает под водительством и в окружении раз¬
личных аллегорических фигур. Но одновременно взыскующий истины
странник попадает в различные «сектора» литературного простран¬
ства, а конечной целью его скитаний оказывается создание «нового
творения» (“nouuelle oeuure”).
Героя Сен-Желе на протяжении всего долгого пути сопровождают
книги. В начале произведения «я» — юноша, вооруживший свою мысль
«здравым суждением» (“bon aduis”), — предается чтению древних ав¬
торов. Сочинения Тита Ливия, Орозия, Вегеция и других «знаменитых
8 См. об этом, в частности: Winn М.В. Op. cit. Р. 71, 93.
9 О пиратском издании Ленуара и реакции на него Андре де Ла Виня см.: Brown
С.]. The Confrontation Between Printer and Author in Early Sixteenth-Century
France: Another Example of Michel Le Noir s Unethical Printing Practices // Biblio-
theque d’Humanisme et Renaissance. T. LIII. 1991. № 1. P. 105—119.
10 Возможно, именно творение Данте оказало решающее влияние на замысел
«Обители Чести». Во всяком случае, в описании Сен-Желе оно обнаруживает
известное сходство с его собственным: “II declara de sa vie presente / Soubz sainct
langaige et poeticques vers / Les accidens et tourbillons diuers <...>” // Ibid. fol. v.iii.
v° («Он изъяснил благочестивым языком и поэтическими стихами различные
происшествия и превратности своей жизни <...>»).
^184^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
ораторов» утверждают его в мысли о том, что истинное благородство
даруется не родовитостью, но добродетелью. Он читает Лукана, Юстина
и Винцента из Бове, книги о деяниях троянцев и о судьбах Карфагена,
сочинения французских хронистов. Этот мотив предваряет традицион¬
ный — восходящий, через прозиметрические трактаты «великих рито-
риков», к поэзии Гийома де Машо, Фруассара, Алена Шартье, а в пределе
к стильновизму и лирике трубадуров, — зачин «Обители Чести»: одино¬
кий юноша, перелистывая страницы, спасается от непременной «мелан¬
холии», которая терзает чувства почти всех героев видений, принадле¬
жащих перу «риториков»11. Однако уже здесь намечается существенное
различие. Если, например, герой политической аллегории Жана Моли¬
не «Упование простого люда» (1481), «думая избыть свою меланхолию»,
отправляется в поля и созерцает «приятные глазу цветы, коими богато
были украшены травы на лугах»12, то юноша не уступает желанию разве¬
яться на лоне весенней природы, истинного «земного рая». Обозначен¬
ный Сен-Желе «весенний зачин» остается нереализованным, а его место
занимает топос, отразившийся, помимо прочего, в изобразительном ис¬
кусстве эпохи: книга выступает атрибутом Меланхолии, дочери Сатур¬
на13, во власти которой и остается «я», отказываясь перенестись в тра¬
диционный для «риториков» локус поэтического вымысла.
Тем самым автор намечает одну из центральных оппозиций «Оби¬
тели Чести»: книга противостоит поэзии. Не ограничиваясь контра¬
стом между полной старинных книг комнатой и ликующей природой,
Сен-Желе описывает попытку юноши, умевшего некогда ласкать слух
«мелодичными звуками», сыграть песню. Поддавшись «легковесному»
(“fragille”) желанию отдохнуть — мотив сна маркирует у «риториков»
переход от зачина к собственно видению14, — он закрывает книги и на¬
ходит у кровати заброшенную лютню. Одновременно перечень прочи¬
танных героем томов дополняется зеркальным перечнем мифологиче-
11 См., в частности: Poirion D. Le Poete et le Prince: revolution du lyrisme courtois de
Guillaume de Machaut a Charles d’Orleans. These... Grenoble, 1965. P. 488 sq.; Zum-
thor P. Le Masque et la Lumiere. La poetique des Grands Rhetoriqueurs. Paris, 1978.
P. 79—94; Angeli G. Le type-cadre du songe dans la production des Grands Rhetori¬
queurs // Les Grands Rhetoriqueurs : Actes du Vе Colloque International sur le Moyen
Fran^ais... Milano, 1985. Vol. 1. P. 7—20.
12 Цит. но: Zumthor P. Op. cit. P. 282.
13 Как, например, в знаменитой «Меланхолии» Дюрера (см.: Tervarent G. Attributs
et symboles dans lart profane. Dictionnaire dun langage perdu, 1450—1600. 2e ed.
Geneve, 1997. P. 299. Art. Livre).
14 Cp., например, у Молине в «Троне Чести»: «Желая обрести в душе своей отдо¬
хновение и радость и услышать мелодичные песни птичек, отправился я в пре¬
лестный лесок, где весьма сладко уснул под прекрасным, изобильным листвою
дубом, и во сне виделось мне, что я пребываю в изысканном саду...» // Molinet J.
Les Faictz et Dietz de Jean Molinet / Publ. par N. Dupire. Paris, 1936. T. 1. P. 36.
^185^
. §IX
& ^
ских поэтов (Орфей, Орион, Фетида и др.). Однако попытка кончается
неудачей, и «я» прощается с Каллиопой и источником Геликона, то есть
с лирикой, эмблемой которых служат лютня и флейта:
Or vous dormez et la fleuste et le luthz
De vous nay plus en mes escriptz que faire (fol. a.iiii.v0)
(«Так спите же, флейта и лютня: отныне мне нечего делать с вами в моих
писаниях...»).
Оппозиция очерчена тем более наглядно, что Сен-Желе, в отличие
от «риториков», избегает введения любовного мотива: причина мелан¬
холии героя вскользь упомянута гораздо дальше, началом же его стран¬
ствий становится именно выбор между двумя областями словесности —
«песней» (и, шире, поэзией), и мудростью, содержащейся в книгах.
Отказ от первой в пользу вторых и определяет дальнейшие странствия
юноши. Явившаяся ему дама Чувственность (Sensualite), в описании ко¬
торой автор детально развертывает топос белокурой красавицы, вновь
убеждает отложить книги и отправиться в цветущие поля:
Or sus doncques laissons се lieu trop vmbrageux / alios aux champs ou fait bel
estre / fermons nos liures / cest assez par trop lyre la teste deult / du passetemps
ailleurs у a plus conuenable... (fol. c.iiii.r0)
(«Довольно же, оставим столь сумрачное место, отправимся в поля, где
так прекрасно, закроем книги, хватит, голове надобно развеяться от излиш¬
него чтения, а отдыхать более подобает вне дома...»).
Одновременно в речах Чувственности обозначается еще одна фундамен¬
тальная оппозиция: уединение героя противопоставляется двору, где он,
сумев ловкой болтовней (Ucaquetz... de bonne estoffe”) снискать расположе¬
ние дам, достигнет большего, чем если бы стал обладателем философского
камня. Призыв этот подкреплен опять-таки ссылками на книги, в которых
излагается история похода Париса за Еленой: таков, по утверждению на¬
ставницы, путь всякого, кто стремится к славе. Цели, предложенные герою,
вполне согласуются с атрибутом, который она держит в руке — хрусталь¬
ным зеркалом, эмблемой суетной гордыни и сладострастной Венеры15.
Следуя за своей прекрасной вожатой, герой попадает в порт Мир¬
ской радости (“port de ioye mondaine”) и вспоминает всех тех несчаст¬
ных, что оказались здесь прежде и чей удел описан в «достопамятных
15 Ibid. Р. 322—324. Art. Miroir.
^ 186 ^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
¥
¥
книгах». Среди последних автор особо выделяет “De casibus virorum
illustrium” Боккаччо, подчеркивая, что красноречивое и «приятное чи¬
тающим» сочинение великого итальянца отнюдь не является «басней»
(fable), ибо несчастным можно назвать всякого человека со времен Ада¬
ма (fol. e.iii.r0). Столкновение почерпнутой у древних книжной мудро¬
сти и поэзии продолжается и в замке Заблуждения (Abus). Попав туда,
юноша внимает дивному пению хозяина, исполняющего лэ, и его мене¬
стрелей, столь искусных,
Que bien pensay en paradis lors estre
Et one nouy de chanter si bon maistre
Qui decouppast virelays ne chancons
Si doulcement ne en si plaisans sons (fol. f.iii.r0)
(«.. .Что подумалось мне, что я в раю, и никогда не слыхал я столь прекрас¬
ного певца, столь сладостно и благозвучно слагающего вирелэ и кансоны»).
Пение это заставляет его забыть наставления, почерпнутые у Валерия
Максима, писавшего о ничтожестве мира и всевластии Фортуны. В про¬
тивовес книге «величайшего и многоопытного ученого мужа Валерия»
Заблуждение ссылается на историю Энея, утверждая, что все великие
люди пересекли «море мирской жизни». По-прежнему направляемый
дамой Чувственностью, герой пускается в опасное морское плавание и
попадает на остров, где расположен сад Тщетной Надежды (Vaine Espe-
rance). Отведав сладчайшей груши из этого сада, он целиком оказывается
во власти отвергаемой им поэзии: все его помыслы отныне сосредоточе¬
ны лишь на создании «новых песен» (“chansons nouuelles”). Вовлеченный
в вихрь танца, которому предаются все обитатели острова, он видит во¬
круг себя знаменитых «рыцарей Надежды» (champions desperance) —
персонажей античных «басен»: Гектора, Париса с Еленой, Приама, Хри-
сеиду, Ясона с Медеей, Геракла с Деянирой, Нарцисса, Пирама и Фисбу,
Дидону... Судьбы этих «фигур» служат примерами, демонстрирующи¬
ми тщету и греховность мирских упований, итогом которых неизменно
оказывается гибель. Наряду с ними в танце участвуют герои рыцарских
романов (Тристан, Ланселот) и исторические лица из числа тех, кто так
или иначе воевал против Франции — король английский Генрих III, с его
неудачными военными кампаниями против Людовика Святого, герцог
Бургундский Иоанн Бесстрашный, убитый сторонником Карла VII. Мо¬
ральная аллегория повествования Сен-Желе, опирающаяся на мудрость
древних, уравнивает их с поэтическими персонажами, объединяя тех и
других в общем суетном хороводе, который, несмотря на музыку и пре¬
красные песни, подозрительно напоминает Пляску Смерти.
^187^
§IX
*-
Осененный Божественной Благодатью, герой покидает остров, не под¬
давшись на уговоры Тщетной Надежды — которая облекает свои полные
соблазна речи в форму рондо, — и вновь отправляется в плавание по
житейскому морю. На другом берегу перед ним предстает Лес Преврат¬
ностей (Forest des Aduentures) и дворец Рокового Случая (Cas Fatal), где,
помимо хозяина, обитают также его супруг а Фортуна и три дочери-пар¬
ки, о которых, как указывает автор, «многие тома» написал Сенека. Сти¬
хи, звучащие в стенах дворца, принадлежат к иному регистру, нежели
предшествующая любовная лирика: парки декламируют строфы с тради¬
ционным для дидактической поэзии зачином ubi sunt, вспоминая рыца¬
рей и дам былых времен. Сам Роковой Случай в беседе с гостем приво¬
дит множество примеров своей безграничной власти над историческими
событиями. Из пространства поэзии герой, возмужав, переходит в про¬
странство хроники. Его верная спутница, дама Чувственность, в полном
согласии со структурой жанра, кратко излагает главные вехи древней
истории, от Адама до появления франков, а затем ведет юношу по дре¬
мучему лесу, где они встречают целый ряд персонажей недавнего нацио¬
нального прошлого — прежде всего, Столетней войны.
В этом новом пространстве у книг появляется новая, не менее важ¬
ная функция. На первый план выходит их способность запечатлевать
доблестные деяния, сохраняя для потомков имена тех, кто их совер¬
шил, и тем обеспечивая им вечную славу — ту, которая, по словам Чув¬
ственности, ожидает Карла VIII:
En се palais et glorieux pretoire
Est huy regnant par diuin sentement
Roy si parfaict quen maint liure et histoyre
Sera loue perpetuellement (fol. t.ii.r0)
(«В сем дворце и славном шатре правит ныне в силу божественного про¬
мысла король столь совершенный, что будет он прославлен навеки во мно¬
жестве книг и историй...»).
В контексте хроники меняется и смысловая нагрузка стихотворного
слова. Если на протяжении прежних странствий героя стихи связыва¬
лись с идеей qлyжeния Амуру, то теперь автор подчеркивает их ритори¬
ческий аспект, неотделимый от книжного знания. Показательно в этом
смысле описание некоего короля (в котором читатель без труда угадывал
Карла Орлеанского), которого герой созерцает в лесу. Его местопребы¬
вание в точности соответствует топике, посредством которой Сен-Желе
изображал остров Тщетной Надежды:- иначе говоря, это все тот же «Сад
Любви», унаследованный от труверов и «Романа о Розе» и выступаю-
^188^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
*
*
щий в произведениях «великих риториков» средоточием поэзии как та¬
ковой16. Король восседает посреди прекрасного сада, «второго земного
рая», где звучит музыка и сладкие песни; сам он — «искусный поэт, лю¬
бящий словесность». Однако герой (и автор) видит в герцоге Орлеан¬
ском, прежде всего, великого государя и воина, чью злосчастную судьбу
(как известно, Карл провел 25 лет в английском плену) символизирует
пропасть, разверзшаяся у самых его ног и «полная плача и сожалений»17.
А потому его поэтическое наследие оказывается примером высокой ри¬
торики: герцог назван «истинным оратором, подобным сыну Туллия»
(“vray orateur comme de tulle filz”). Государь и окружающий его locus
amoenus относятся как бы к разным «регистрам» словесности: прекрас¬
ный сад обозначает поэзию, герцог же предстает искусным ритором18;
это разграничение подготавливает оппозицию «государь vs двор», четко
обозначенную далее в описании Карла VIII.
Дело в том, что лес изображен как пространство, где обитают не
только «совершенные государи», но и великие ораторы — как древние,
так и современные, как греческие и римские, так и национальные. Все
они сосредоточены в одном, особо отведенном для них месте:
Ains fut се lieu seulement desdie
Pour gens de prix qui ont estudie
Qui ont ouuert par art et diligence
Le sainct fermail de la diuine science (fol. B.ii.r0)
(«Место сие было предназначено только для тех бесценных людей, кто
предавался наукам, кто своим искусством и усердием открыл священную
шкатулку божественного знания...»).
16 См., в частности: Соколов М.Н. «Природная утопия» XVI—XVII вв. — к иконо¬
графии «Садов Любви» // Природа в культуре Возрождения. М., 1992. С. 188—
198; JungM.-R. Poetria. Zur Dichtungstheorie des ausgehenden Mittelalters in Frank-
reich // Vox Romanica. Bern. 1971. Vol. 30/1. S. 44—46; Zumthor R Le Masque et la
Lumi£re. La poetique des Grands Rhetoriqueurs. Paris, 1978. P. 152—160; Planche A.
Lexique et fonction du vegetal dans un corpus de textes fran^ais des XIV et XV siecles //
Actes du Vе Colloque International sur le Moyen Fran^ais. Milano, 1986. T. 3: Etudes
litteraires sur le XV siecle. P. 7—25, а также параграф «Природа, любовь и ритори¬
ка во французской литературе начала XVI в.».
17 Здесь возможна перекличка с «Упованием простого люда», политической алле¬
горией Ж. Молине, герой которой, удалившись в цветущие поля, неожиданно
созерцает «пропасть глубины необычайной» // Zumthor Р. Op. cit. Р. 282.
18 Скорее всего, здесь играет роль и приверженность Карла Орлеанского полити¬
ко-моральным аллегориям, во многом близким к тем, что использует сам Сен-
Желе; так или иначе, важно, что фигура герцога выпадает из пространства «зем¬
ного рая», отождествляющегося с любовной лирикой.
^189^
4. §IX ,
£ — ^
Перечень ученых мужей занимает в «Обители Чести» несколько
страниц. Герою предстают философы — Аристотель, Платон, Диоген,
Зенон, Демокрит, Эмпедокл, Сократ, Пифагор; риторы — Цицерон,
Саллюстий, Теренций, Сенека, Лукан, тот самый Валерий Максим, чьи
«уроки» ранее были противопоставлены поэтическим удовольствиям
острова Тщетной Надежды, Ювенал, Плутарх, Солин, Тит Ливий,
Qui aux rommains fist sumptueuse ayde
Non par armes / mais par autre remede
Car il escript de termes tresparfaictz
Diceulx rommains la louenge et les faictz
En decades daornees dictature (fol. B.ii.r0)
(«Каковой оказал прекраснейшую помощь римлянам не оружием, но
иным лекарством, ибо записал в совершеннейших выражениях славу и дея¬
ния означенных римлян в «Декадах» с их украшенным слогом...»).
Авторы исторических сочинений приравнены у Сен-Желе к фило¬
софам, в число которых входит Гомер, Вергилий, Петрарка, Боккаччо,
Данте, Жан де Мён, Ален Шартье, Жак Миле... Все они — создатели со¬
чинений, которые автор, с незначительными вариациями, характери¬
зует одними и теми же чертами: это «весьма моральные и изысканные
книги» (о Петрарке и Боккаччо), или «творения» (oeuures):
Bien firent ceulx oeuures moult meritoires
De nous laisser ce noble erudiment
Pour recreer lhumain entendement... (fol. v.iii. r°, о Юстине)
(«Весьма достойны похвалы были эти творения, ибо сохранили для нас
это благородное обширное знание для услады понимания человеческого...»).
В сущности, странник попадает в «ожившую библиотеку» — идеаль¬
ное подобие той, что он оставил в самом начале, последовав за Чувствен¬
ностью. И вполне логично, что именно созерцая этот «локус auctores»,
герой ясно осознает цель своего путешествия: Чувственность предска¬
зывает^ что ему суждено завершить собственное «творение», и вскоре
уступает место даме Разуму (Raison), которая и руководит конечным эта¬
пом его пути. Любопытную параллель этому мотиву содержат «Княже¬
ские окуляры» (“Lunettes des Princes”) Жана Мешино (1461—1465): здесь
дама Разум, явившись погруженному в отчаяние поэту, вручает ему, на¬
ряду с аллегорическими окулярами, «книжечку» с описанием тех добро¬
детелей, из которых они изготовлены. Стихотворная «книжечка» — это
^190^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
*-
*
своего рода вербальный эквивалент «окуляров», с помощью которых
автор сможет читать «книгу своей совести»19. Таким образом, у Мешино
дама Разум представлена если не создательницей, то во всяком случае ис¬
точником одной из частей его прозиметра, содержащей, как и подобает
книге в средневековом понимании, наставление в добродетелях. Более
того, Разум спускается к поэту с небес, а значит, и ее оптический прибор,
и дидактическая книга — божественного происхождения. Напротив, у
Сен-Желе та же дама выступает лишь вожатой (в отличие от Чувствен¬
ности, достаточно безликой) автора в его продвижении к «творению»,
которое целиком и полностью принадлежит ему самому; функциональ¬
но приравненная к Чувственности, она из посланницы небес становится
аллегорией не дарованной свыше, но уже достигнутой героем мудрости.
При этом, осознав свое писательское предназначение, «юный странник»
(который, впрочем, уже «начал терять цвет сей весенней поры и при¬
ближаться к середине пути») сразу же прибегает к риторическому топо-
су humilitas, не дерзая отнести себя к числу «авторов». В конце третьей
части он отказывается подписывать «Обитель Чести» своим именем, ат¬
тестуя себя «бесхитростным создателем сего творения, чье имя хочется
мне утаить по причине неотесанности моей и малой учености». Откры¬
вая последнюю, четвертую часть небольшим риторическим трактатом,
основанных на предписаниях «Поэтического искусства» Горация, Сен-
Желе взывает к Клио, моля музу помочь ему в трудах:
Si iay doc prins basse oeuure non pas grande
Trop touteffois pour mon faix a lamande
Ie men soubmetz certes dame honnoree
Vous suppliant que par vous decoree
Soit ma fragille et trop debille lettre (fol. y.ii.v0)
(«Так что взялся я за творение низкое и небольшое, но все же превыша¬
ющее мои силы; конечно, досточтимая дама, я готов понести за то наказа¬
ние, моля вас украсить мой чахлый и чересчур грубый стиль...»).
Таким образом, герой от чтения пришел к созданию собственного
«творения». И если песни, которые автор «искусно» слагал до своего
паломничества, не требовали владения искусством риторики, то, взяв¬
шись писать «творение» (пусть «низкое и небольшое»), он подчеркива¬
ет, что оказался в сфере действия ее законов.
19 Анализ «Княжеских окуляров» см., в частности: Евдокимова Л.В. Проза и стихи
во французских прозиметрах XV века // Пятнадцатый век в европейском лите¬
ратурном развитии. М., 2001. С. 295—298.
^191^
¥
§ IX
4
После этого «вступления» (exorde) взору странника предстает Дво¬
рец Чести, выстроенный словно бы «небесным искусством». Здесь оби¬
тает воплощение этой добродетели — король Карл VIII, восседающий
на троне в окружении придворных. Однако прежде чем удостоиться
лицезрения государя, герой ведет характерный диалог с привратни¬
цей — дамой Двором (la Court). Дама предупреждает, что лишь с ее по¬
мощью он может достигнуть дворца и приобщиться Чести:
Et tous ceulx qui a honneur pretendent
Premier fault quamoy ils entendent
Assez peuuent hurter a la porte
Rien ny font si ie ne les porte (fol. z.iii.r0)
(«Все, кто притязают на честь, сперва должны договориться со мною;
они могут сколько угодно стучаться в ворота, но ничего не получат, коли я
их не представлю...»).
Дама Двор — аллегория, скорее всего, заимствованная Сен-Желе из
«Обманутого Придворного» (“Abuze en Court”, 1450—1470), прозиметри-
ческого диалога, атрибутируемого обычно Рене Анжуйскому. Однако
и в данном случае Сен-Желе не воспроизводит образец, но подвергает
его значимым модификациям. В «Обманутом Придворном» герой со¬
стоит на службе у Дамы и, доведенный всесильной повелительницей до
нищеты, выступает по отношению к ней в роли униженного просителя.
В «Обители Чести» Двор предстает хоть и могущественной, но всего лишь
привратницей, во власти которой пропустить или не пропустить героя
к замку. Ее вердикт зависит от того, владеет ли странник одним из двух
искусств, необходимых для придворного служения Чести (но отнюдь не
самой даме Двору!): военным или риторическим. Герой, выбрав служение
не мечом, но словом и одолев высокую и неприступную гору, оказывается
во дворце — где король «читает содержание» (teneur) его прошения, кото¬
рое облечено в форму баллады, традиционного поэтического обращения
к государю. Однако, допущенный ко двору, он посвящает свое время уже
не поэзии как таковой, но переводам латинских книг:
j Quant au premier le liure translatay
Deurialus et de dame lucresse
Et quen francoys de latin le gectay
Selon mon sens et ma rude simplesse (fol. A.v.r°)
(«Первым делом перевел я книгу об Эвриале и даме Лукреции, переложил ее
с латыни на французский язык в силу своего понимания и неотесанности...»).
^ 192 ^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
¥
¥
Речь идет о стихотворном переводе «Истории Эвриала и Лукре¬
ции», латинской повести гуманиста Энеа Сильвио Пикколомини (папы
Пия И), напечатанном около 1493 г. Антуаном Вераром20 без указания
имени переводчика. Книга эта открывается короткой балладой-по¬
священием Карлу VIII, где Сен-Желе называет имя латинского автора,
добавляя, что описал он историю «крепчайших любовных уз» в «дав¬
ние времена»21, иными словами, представляя папу Пия как auctor. Из¬
вестно, что Сен-Желе выполнил для Карла VIII и посвятил ему целый
ряд других переводов: «Сокровище Дворянства» Эгидия Римского,
«Книгу о преследованиях христиан» Бонифация Симонеты, «Героиды»
Овидия22. Упоминая лишь первый свой переводческий труд, автор (со¬
знательно или бессознательно) вновь представляет читателю Двор как
средоточие поэзии, — причем преимущественно любовной, даже когда
речь идет о книгах «древних» сочинителей.
Поэтому для юноши-книжника, превратившегося в автора, двор яв¬
ляется лишь промежуточной целью странствия: достигнув, на первый
взгляд, искомого средоточия Чести, он вскоре покидает его и, ведомый
Дамой Разумом, направляется к небольшой уединенной часовне у ис¬
точника. Первым и буквальным смыслом этого аллегорического удале¬
ния от мира, безусловно, является отъезд Сен-Желе в Ангулем; однако,
как и все мотивы «Обители...», оно имеет и литературное, книжное из¬
мерение. Часовня — это «келья мудрости» (точнее, «понимания»: “lher-
mitage dentendement”), здание-эмблема, вратами которого служит вооб¬
ражение (ymagination). Именно здесь герою предстоит завершить свое
«творение», вобравшее в себя историю его жизни и приобщения к твор¬
честву и придавшее этой частной истории новое, всеобщее звучание.
Непосредственная связь между категориями «творение» и «пони¬
мание» — важная черта ментальной парадигмы конца XV в. К приме¬
ру, современник Сен-Желе Филипп де Коммин, также одно время со¬
стоявший на службе у Карла VIII, прибегает к тем же самым терминам,
адресуя свои «Мемуары» заказчику, архиепископу Вьеннскому Андже¬
ло Като. На основании его записок о Людовике XI, полагает он, архи-
20 Lystoire de eurialus et lucresse. vrays amoureux. Selon pape pie. Cm.: Macfarlane J. Antoi¬
ne Verard. Geneve, 1971. № 114. Об издании Bepapa cm.: Winn M.B. Op. cit. P. 87—92.
21 “De latin en francois jay translate / Lystoire du tresfort amoureux lien / D’Eurialus et
de Lucresse le maintien / Que en amours ont eu durant leur vie / Ainsi que Га descript
ou temps ancien / Eneas Silvius nomme Pape Pie” // Winn M.B. Op. cit. P. 89.
22 Правда, датировать эти переводы достаточно сложно: известно лишь, что они
были напечатаны после смерти автора и адресата, а также что «Книга о пресле¬
дованиях христиан» переводилась по заказу короля. Возможно, что часть из них
была выполнена уже после отъезда Сен-Желе в Ангулем в 1494 г. Следует, одна¬
ко, отметить, что в таком случае пребывание во владениях Луизы Савойской не
мешает автору по-прежнему осознавать себя придворным поэтом Карла VIII.
^193^
. §IX
& ^
епископ сможет создать «некое творение», которое прославит не толь¬
ко покойного государя, но и самого творца:
«Посылаю вам то, что сумел в короткий срок припомнить, в надеж¬
де, что просите вы меня о том, намереваясь создать некое творение (pour
le mettre en quelque oeuvre) на латинском языке, в коем вы весьма искусны.
По сему творению можно будет судить о величии государя, о коем поведаю
вам, а равно и о вашей мудрости (entendement)»23.
Данный фрагмент проливает свет и на трактовку Сен-Желе своего ли¬
тературного замысла. Хроника, в пространстве которой оказался герой и
где обретается Дворец Чести, не тождественна «творению»24. Цель создате¬
ля хроники — поведать правду о событиях, доподлинно известных ему; его
«книга» гласит о том, что он видел своими глазами, и умалчивает о деяниях,
ему неведомых: именно эта установка на «верифицируемую» историческую
истину заставляет хрониста непременно назвать в произведении не только
свое имя, но и все регалии. Его повышенное авторское самосознание лишь
косвенно связано с литературными достоинствами текста: это самосозна¬
ние свидетеля, очевидца. Еще рукопись «Завоевания Константинополя» Ро¬
бера де Клари завершается следующим explicit: «Ныне слышали вы правду,
как на самом деле завоеван был Константинополь; <...> и свидетельствует
о том бывший там и видевший это и слышавший Робер де Клари, рыцарь,
который повелел записать правду о том, как он [Константинополь] был по¬
корен. И хоть и не рассказал он ее столь же красиво, как рассказали мно¬
гие красноречивые люди (maint bon diteur), однако же рассказал чистую
правду, и много еще правды умолчал, ибо не все сумел запомнить»25. Жуан-
виль, создав в 1309 г. по просьбе Жанны Наваррской «книгу святых речей
и добрых деяний короля нашего Людовика Святого», указывает: «Извещаю
всех, что сюда включил я многие деяния сказанного святого нашего короля,
каковые видел я и слышал, <...> дабы те, кто будет слушать эту книгу, вери¬
ли крепко тому, о чем в книге сказано и что я доподлинно видел и слышал;
а за прочие вещи, в ней записанные, не поручусь, что они правдивы, ибо их
я не видел и не слышал»26. Та же установка на правдивость повествования
обеспечивает авторское самосознание и Фруассара, и Коммина: именно по-
23 Цит. по: Histopens et chroniqueurs du Moyen Age / Ed. etablie et annotee par A. Pau-
philet. Textes nouveaux comm, par E. Pognon. Paris, 1979 (Bibliotheque de la Pleiade).
P. 950. В русском переводе (Филипп де Коммин. Мемуары / Пер., статья и прим.
Ю.П. Малинина. М., 1986. С. 6) это место передано не совсем точно.
24 Различие между хроникой и книгой-«творением» проявляется и в приведенных
выше словах Чувственности о том, что Карл VIII будет прославлен во множе¬
стве «книг и историй».
25 Ibid. Р. 81.
26 Ibid. Р. 366.
^ 194 ^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
*
4
этому последний видит в своих записках лишь материал для последующего
«творения», которое должен создать архиепископ Вьеннский и которое по¬
служит к славе не только короля, но и писателя, наделенного entendement.
Содержание последнего понятия у Коммина и Сен-Желе в целом совпада¬
ет: «понимание» проистекает из божественной благодати (Коммин адресу¬
ет свои записки архиепископу, Сен-Желе обретает ее в уединенной келье) и
требует владения правилами риторики (у Коммина — латинской). И все же
понятие «творение» у Сен-Желе содержит ряд новых смысловых нюансов,
характерных уже для ренессансного авторского сознания и выявляющихся
в рамках оппозиции oeuvre/livre.
Смысл повествования в «Обители Чести» как бы двоится. С одной
стороны, как подчеркнуто в заключительных строках, «творение» соз¬
дано во славу правящего государя, который выступает не только его
«идеальным читателем», но и «основателем»:
lay nouuelle oeuure bastie
Laquelle est pour vous assortie
Et en serez le fondateur
Sire cest le seiour dhonneur.
(«Я воздвиг новое творение, каковое составлено для вас, и вы, Сир, бу¬
дете его основателем; это есть обитель чести»).
Но с другой, этот «трактат о человеческой жизни» всецело принад¬
лежит автору, который адресует его «всем читателям» (tous les lysans), в
надежде, что они почерпнут в нем нравственный урок:
Се liure leu presente don
Sil у a faulte ie proteste
Que ce nest si non de la reste
De lignorance pour certain
Dequoy ie suis charge et plain
Et a tous les lysans supplie
Que si ie nay loeuure acomplie
Pour у prendre esbat et plaisir
Quilz prengnent au moins le loysir
A veoir du creux de mon dommayne
Ce traicte de la vie humaine... (fol. C.iiii.d)
(«...Дарю им сию книгу. Если есть в ней ошибки, то заверяю, что это, ко¬
нечно, не что иное, как остатки невежества, коим я обременен; и если не
создал я творения, где бы можно было найти развлечение и удовольствие,
то молю я всех читателей, дабы они по крайности на досуге взглянули на
сей трактат о человеческой жизни, вышедший из недр моего знания...»).
^ 195 4
S. SIX ,
Сен-Желе создает одновременно «новое творение» и «книгу». Пер¬
вое он посвящает королю, вторую «дарит» читателям; первое заключает
в себе «обитель чести», основанную Карлом VIII, вторая, помимо «мо¬
рали», — возможные «ошибки» (faultes) и «деревенскую риторику» ав¬
тора, за которые он, неоднократно заявляя о своем невежестве, испра¬
шивает прощения. Аналогичная дистрибуция семантики присутствует
и в посвящении «Обители Чести». Автор (также не называя своего
имени) заявляет, что «задумал по крайней мере сделать или попытать¬
ся доделать до конца (“faire <...> ou essayer a parfaire”) какое-либо малое
творение, если не умею великое», и в ему удалось «составить новое тво¬
рение», каковое он предназначает государю (fol. a.iii.r0). При этом сам
акт поднесения описан как вручение именно книги:
“Pourtant sire ie vous supplie tant et le plus treshumblement quil gist certes en
mon possible que non de desdaigneuse main /ains pitoiable et gracieuse vous plaise
recueillir ce present liure que ay voulu baptiser se ainsi vous plaist le seiour dhoneur
a vous deuement dedie pour heberger vostre hault nom comme seul digne entre
tous roys dores regnans auoir dhonneur le territoire et le dommaine (Ibid.)”
(«И все же, Сир, молю вас столь смиренно, как только в моих силах, что¬
бы отнюдь не презрительной, но снисходительной и благой дланью угодно
было вам принять сию книгу, каковую хотелось мне назвать, с вашего по¬
зволения, “Обителью Чести”, вам должным образом посвященную, дабы
заключить в себе ваше высокое имя, как единственного из ныне правящих
государей, кто достоин владеть территорией и доменом чести»).
Таким образом, между терминами «книга» и «творение» у Сен-Желе
намечается тонкое семантическое различие, связанное, прежде всего, с
пониманием творцом своего авторства. «Творение» есть плоть от плоти
автора: оно задумано им, оно заключает в себе его жизненный путь, по¬
учительный для любого читающего27. Для его завершения требуется до¬
стигнуть «кельи мудрости»; процесс его создания уподобляется работе
ремесленника над «шедевром» (т.е. изделием, позволяющим мастеру
быть принятым в члены цеха):
la ne fera bon orfeure chief doeuure
j
Si grossement premierement il noeuure
Car par apres pourra son or pollir
Et par paine son rouille luy tollir (fol. y.ii.v0)
27 Показательно, что в том же «автобиографическом» аспекте понятие «творение»
возникает и в связи с именем Данте (см. выше).
^196^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
¥
(«Прежде чем изготовить шедевр, хороший золотых дел мастер всегда
сработает его начерно, ибо затем уже сможет отполировать золото и, усер¬
дно трудясь, удалить с него ржавчину...»).
«Новое творение», создаваемое Сен-Желе, предстает «черновым» на¬
броском шедевра. Чтобы придать ему законченность, автор, не надеясь
только на свои силы, обращается к Клио с мольбой украсить его стиль.
Но, доведя свое произведение до конца, он одновременно «заключает»
в него имя государя, «свет добродетели» которого, как сказано в посвя¬
щении, способен возвысить его собственную «деревенскую риторику».
Именно такое, осененное величием короля, «творение» превращается
в «книгу». Именно в этом качестве оно приобретает и такой необхо¬
димый «книжный» элемент, как заглавие: метафорическое именование
государя, «обители Чести», заслоняет имя автора, придавая произведе¬
нию необходимую auctoritas.
Тем самым книга, превращаясь в своего рода ремесленное изделие
(«шедевр») и выступая смысловым центром традиционного придвор¬
ного ритуала, объединяет в себе донатора (автора) — и «читателя» par
excellence, в роли которого выступает король. В посвящении автор об¬
ращается к Карлу VIII как к ценителю наук и словесности, окруженно¬
му множеством книг:
“Bon desirez <...> repaistre voz plaisans yeux en seiour de maintes sciences
et maintz liures lyre et ouyr ou les grans faitz des anciens cheualereux et nobles
hommes sont a plain leuz et recitez <...> Moult vous plaist liures auoir et pas¬
ser temps en maint volume comme vng second iulles cesar / vng ptholomee / ou
vng theodose / ou comme voz tressainctz et glorieux predecesseurs voz ancestres
les roys de france / moseigneur sainct charles le grat et sainct loys qui tant ayma
saincte escripture (fol. a.ii. v°)”.
(«Угодно вам <...> питать удовольствием взоры ваши в обиталище мно¬
гих наук, и многие книги читать и слушать, в коих великие деяния доблест¬
ных древних, также и благородных людей подробно читаны и рассказаны
<...> Весьма любезно вам обладать книгами и проводить время среди мно¬
гих свитков, подобно второму Юлию Цезарю, Птолемею либо Феодосию,
либо подобно святейшим и достославным предшественникам, предкам ва¬
шим, королям Франции монсеньору святому Карлу Великому и Святому
Людовику, каковой столь любил Священное Писание»).
Уподобленная персонажам античной и национальной истории фигу¬
ра короля (который назван в балладе-«прошении» «кофром словесно¬
сти», “coffre de litterature”, и «прекрасным шедевром») принципиально
^197^
X, §/Х
выпадает из топики «двора»: последний, как мы видели, представлен
пространством поэзии. Центральная, организующая на разных уров¬
нях всю «Обитель Чести», оппозиция книга vs поэзия приобретает еще
один семантический нюанс. Государь, воплощение идеи и духа нации
(недаром в окружающем его Лесу Превратностей герой встречает це¬
лый ряд персонажей времен Столетней войны), тем самым естествен¬
но воспринимается и как эмблема национального языка и словесности.
Но преимущественной сферой «литературы» на народном языке вы¬
ступала именно поэзия: одно из ярких тому свидетельств — многочис¬
ленные трактаты по искусству стихосложения, созданные в последней
трети XV в. «риториками» и к концу столетия завоевавшие большую
популярность в Париже28. Книжная же мудрость, знатоком которой
Сен-Желе представляет Карла VIII, ассоциируется у него, как видели, с
сочинениями древних, латинских и национальных «философов» — но
также и с хрониками29, поскольку в них запечатлелись достойные об-
28 Так, в 1493 г. Антуан Верар издал «Искусство риторики на народном языке» Жана
Молине (иод заглавием «Искусство и наука риторики»: Lart et science de rhetho-
rique pour faire rigmes et ballades... Macfarlane }. Antoine Verard. Geneve, 1971. № 27),
а около 1500 г. — знаменитую поэтическую антологию «Сад Удовольствия и цвет
Риторики» (Le Jardin de plaisance / Et fleur de Rethoricque nouuellement Imprime a
paris... Macfarlane J. Antoine Verard. Geneve, 1971. № 141), куда вошло «Наставле¬
ние но второй риторике» анонимного автора, скрывшегося за псевдонимом «Го¬
ремыка» (“Infortune’). Заметим в скобках, что указанная нами семантика подне¬
сения книги государю, выступающему ее «основателем», быть может, проливает
новый свет на вераровскую атрибуцию трактата Анри де Круа (см.: Recueil dArts
de seconde rhetorique / Publ. par M.E. Langlois. P., 1902. P. LXI—LXIII; Winn M. B.
Op. cit. P. 94—95). Речь, безусловно, идет не о «присвоении» знатным фландрским
сеньором сочинения замечательного поэта (как полагает Ланглуа) и, возможно,
даже не о (обычной для Верара) практике заведомо ложной атрибуции — как по¬
лагает, в частности, Ц. Браун: Brown C.J. Leveil d une nouvelle conscience litteraire en
France a la grande epoque de transition technique: Jean Molinet et son moulin poetique
// Du manuscrit a Timprime. Actes du colloque international... / Publ. par G. Di Stefano
et R.M. Bidler (Le Moyen fran^ais. 1988. № 22) P. 18—20. Снимая все указания на
авторство трактата, присутствовавшие в рукописной традиции — подпись-ка¬
ламбур, упоминание имени автора в заглавии, — Верар заменяет их в подносном
экземпляре, изготовленном для Карла VIII, именем де Круа, и во всех экземпля¬
рах, в том числе и на бумаге, добавляет в конце акростих собственного сочине¬
ния с именем «Карл Валуа». Молине же обозначен в его издании лишь как автор
ряда стихотворных гримеров, иллюстрирующих различные виды «рифм». Про¬
исходит, если можно так выразиться, «апроприация в квадрате»: издавая книгу,
Верар (точно так же, как Сен-Желе) эксплицирует лишь имена двух ее адресатов.
Книга, будучи поднесена заказчику (Анри де Круа), становится его полноценной
собственностью, и уже от его имени вручается королю.
29 При этом создатели книг именуются «авторами», а создатели хроник — «дик¬
тующими»: погруженный в меланхолию юноша обращает свою “char de souue-
nance” («колесницу памяти») к “dictateurs de croniques de france” (букв, «диктова-
телям французских хроник»).
^ 198 ^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
¥
¥
разцы и примеры великих деяний государей. Вхождение хроник в сфе¬
ру «книжности», отразившееся в деятельности первых печатников30 и
связанное, безусловно, с тем культом национального прошлого, какой
был характерен в целом для французского Ренессанса, требовал и при¬
менения к ним риторических норм. Совсем не случайно герой «Обите¬
ли Чести» в ходе своего странствия движется именно от поэтики к ри¬
торике, занимающей столь важное место в заключительной части его
«творения»: благодаря фигуре короля двор выступает центром станов¬
ления национального искусства красноречия. Именно в рамках этого
семантического пласта государь может предстать «обителью чести» и
«осенять своим именем» творение преданного ему автора.
Таким образом, понятие «книга» в «Обители Чести» претерпевает
знаменательный семантический сдвиг. Если у Мешино, как мы уже упо¬
минали, поэт получал «книжечку», содержавшую в себе божественное
наставление в добродетели, от дамы Разума, выступая тем самым лишь
в роли «медиатора», то Сен-Желе дарует читателю «книгу», где место
высшего поручителя занимает уже не бог, а король, и чей урок, адре¬
сованный читателям, целиком вытекает из его, автора, земного пути.
Сама фигура дамы Разума также приобретает несколько иную семан¬
тику: функционально приравненная к Чувственности, она отнюдь не
спускается с небес, но лишь принимает под свое покровительство ав¬
тора на определенном этапе его жизни, на пороге зрелости. Тем самым
из эмблемы высшего смысла, внеположного поэту и лишь осеняющего
его своей благодатью, она превращается в эмблему разума самого авто¬
ра — разума, способного руководить им в создании «творения», но не
преподнести это творение в законченном виде.
Такая «секуляризация» представления о произведении и книге от¬
личает «Обитель Чести» даже от самых ближайших аналогов — прози-
метров «великих риториков», прежде всего, «Трона Чести» Жана Мо¬
лине (1467) и «Храма Чести и Добродетелей» Жана Лемера де Бельж
(опубликован в 1503 г.). Оба они, в противоположность сочинению
Сен-Желе, созданы по случаю кончины государей (герцога Бургунд¬
ского Филиппа Доброго у Молине и герцога Пьера II де Бурбона31 у Ле¬
мера); поэтому видение поэта, который созерцает своего повелителя
в посмертной славе, естественным образом строится, так сказать, «по
вертикали». Герцог Бургундский восходит по девяти небесам к Трону
Чести, встречая на каждом небе даму, которая держит одну из букв его
30 Свод «Великих французских хроник» был первой книгой на национальном язы¬
ке, вышедшей из французской печати; следует напомнить также, что все круп¬
нейшие представители школы «великих риториков» (Жорж Шатлен, Жан Моли¬
не, Жан Лемер де Бельж) занимали должность придворного историографа.
31 Супруга Анны Французской, сестры Карла VIII.
¥ 199 ^
S. SIX
& ^
имени, а также персонифицированную добродетель, начинающуюся
с той же буквы; здесь же пребывают герои древности и усопшие бур¬
гундские вельможи, прославившиеся этой добродетелью, причем один
из них неизменно встречает герцога стихотворным «приветом». В бо¬
лее сложном по структуре «Храме Чести и Добродетелей» княгиня
Аврора (она же Анна Французская), убитая горем после гибели Пана
(герцога Бурбона), переносится во сне на вершину уходящей за облака
горы, «подобной той, что именуют Олимпом в Македонии, столь цвету¬
щей, столь зеленеющей и столь разубранной деревцами <...>, словно то
был второй земной рай»32; здесь, выше туч, помещается блистательный
храм чести и добродетелей — первые буквы которых, как и у Молине,
образуют имя герцога, Pierre. В виду этого храма ей является Пони¬
мание (Entendement — мудрость, которая, согласно Сен-Желе, и есть
главное условие творения), паранимфа и хранительница добродетелей,
и утешает Анну-Аврору, повествуя об устройстве храма и воцарении в
нем ее достославного супруга. Конечно, «земной рай» Лемера располо¬
жен не вполне на небесах, хотя в тексте неоднократно (и вряд ли слу¬
чайно) подчеркнут «ангельский» голос Понимания, а в финале гора на¬
звана «святой»: это аллегория того идеального пространства поэзии, от
пребывания в котором отказывается юноша-книжник у Сен-Желе. По¬
эзия сливается с высшей, божественной мудростью, оставляя «автору»
(lacteur), как и у Мешино, роль «медиатора», свидетеля аллегорического
действа: «...Впоследствии узнал я, — пишет Лемер, — что благородная
паранимфа Понимание предстала перед их величествами христиан¬
нейшим королем Людовиком, двенадцатым сего имени, <...> и высо¬
чайшей государыней Анной, королевой Франции и герцогиней Бре¬
тонской», дабы поведать им о «славном воцарении» герцога в храме33.
Таким образом, автор, в полном соответствии с традицией «великих
риториков», наделяется двоякой функцией: это поэт и хронист, верно
фиксирующий современные ему события. В посвящении «Храма...» эта
установка на хроникальность сформулирована предельно четко:
“...II me semble que les nobles escrivains de laage present ont matiere asses
fertille pour deplourer la triste conjecture du temps futur, voire trop fecunde pour
semployer a graver en marbre, cestadire en perpetuelles cronicques les merveilleux
cas funebres qui adviennent de jour en jour, desquelz tres recommandez histo-
riens modernes je tres petit et incongneu disciple et loingtain imitateur, desirant
suivre les vestiges de monseigneur lindiciaire archiducal maistre Jehan Moulinet
32 Цит. no: Lemaire de Beiges J. Oeuvres / Publ. par J. Stecher. Geneve : Slatkine Reprints,
1969. T. IV. P. 216.
33 Ibid. P. 237.
^200^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
¥
mon precepteur et parent, ay prins une petite portion des adventures de ce temps
turbulent a descripre et rediger en forme lisable... ”34
(«...Представляется мне, что у благородных писателей нынешнего време¬
ни довольно материала, дабы с сокрушением предполагать печали грядущих
времен; его даже в избытке достанет для того, чтобы начертать на мраморе,
иначе в нетленных хрониках, те невиданные кончины, какие случаются вся¬
кий день. Я, ничтожный и безвестный ученик и далекий подражатель сих по¬
хвальнейших современных историков, желая следовать образцам монсеньора
эрцгерцогского индициария, мэтра Жеана Мулине, моего наставника и род¬
ственника, взялся описать и представить в удобной для чтения форме малую
толику происшествий сего бурного времени...» [выд. нами — И.С.]).
Очевидно, что Лемер осознает свою задачу несколько иначе, нежели
Сен-Желе, который, дистанцируясь и от поэзии, и от чистой хроники,
стремится создать «новое творение», целиком производное от его соб¬
ственного «понимания» и риторического мастерства. Сопоставление
двух чрезвычайно близких по тематике и форме памятников позволяет
четче уяснить и семантику понятий «книга» и «творение».
«Храм Чести и Добродетелей», как и «Обитель...», предназначен для
поднесения высокому адресату. У Лемера в этой роли выступает граф
де Линьи35, у которого он состоял на службе: скорбь графа после кончи¬
ны герцога Бурбона побудила преданного секретаря обратиться к нему
с утешением:
“Je, Jehan le maire natif de haynault, son tres adonne serviteur <...> pour mitiguer
sa douleur me mys a bastir ung petit ediffice quant a la structure, mais grant quant au
subget dont il est fonde. Lequel je luy presentay peu de jours avant son trespas a lyon”36.
(«Я, Жан Лемер, родом из Геннегау, преданнейший его служитель <...>
дабы утишить его боль, принялся возводить некое строение, малое по раз¬
меру, но великое по предмету, лежащему в основании его. Каковое поднес я
ему незадолго до его кончины в Лионе»).
34 Ibid. Р. 190. Можно предположить, что Лемер не с/1учайно называет Молине,
своего дядю, именно его «поэтическим» именем (moulinet, «меленка»), которое
он неоднократно обыгрывал в прологах к своим сочинениям и чье изображение
не раз служило «эмблемой» его авторства в печатных изданиях (см.: Brown С./.
L’Eveil dune nouvelle conscience litteraire en France... P. 17—20, 32—33).
35 Фаворит Людовика XI и двоюродный брат Анны Французской Людовик Люк¬
сембургский, граф де Линьи, коннетабль де Сен-Поль скончался в 1503 г.; Лемер
написал на его смерть также «Жалобу об оплакиваемом» (“La Plainte du Desire”)
и ряд эпитафий.
36 Lemaire de Beiges J. Oeuvres... P. 185.
¥ 201 ^
V. Six ,
£ ^
Следует отметить две принципиальных переклички с «Обителью Че¬
сти», содержащиеся в этом небольшом отрывке. Во-первых, Лемер, по¬
добно епископу Ангулемскому, принимается «возводить» (bastir) свой
«Храм...»: общий управляющий глагол свидетельствует, что «творение»
(nouuel oeuure) у Сен-Желе также выступает эквивалентом сакрального
здания. В конце посвящения появляется и само слово oeuvre — автор ат¬
тестует свою «постройку» как «малое творение, поднесенное смиренной
рукой» (“une petite oeuvre partant dhumble main”)37. Во-вторых, «величие»
постройки обусловлено «предметом», который лежит в ее основании, слу¬
жит ее, в буквальном смысле, «фундаментом»; предмет этот, как и в «Оби¬
тели Чести» — государь, во славу которого возводится творение-храм.
Таким образом, и Лемер, и Сен-Желе адресуют покровителям свои
«творения». Епископ Ангулемский, как упоминалось выше, поднес
Карлу VIII иллюминированную рукопись своего труда. Интересно, что
Лемер, как явствует из посвящения, адресовал свое «здание» графу де
Линьи по настоятельному совету Жана Парижского (или Жана Пер-
реаля), королевского художника, «милостью счастливой своей руки
заслуживший, что короли и князья почитают его в живописи вторым
Апеллесом»38. Вполне возможно, что при участии этого знаменитого
живописца и гравера, чьи иллюстрации будут украшать первые изда¬
ния «Прославлений Галлии и Примечательностей Трои», создавался и
(не сохранившийся) рукописный подносной экземпляр «Храма Чести и
Добродетелей».
Судить о том, что, говоря о «здании», Лемер имеет в виду именно ру¬
копись своего творения, можно на основании второго по времени по¬
священия, которым открывается печатное издание «Храма...». Посколь¬
ку первый покровитель скончался вскоре после получения книги, автор
«переадресовал» ее «величайшей и благороднейшей государыне Анне
Французской»: по его словам, если бы граф де Линьи был жив, он бы
сам поднес кузине этот «небольшой утешительный трактат». Во испол¬
нение воли графа Лемер вручает Анне Французской печатную книгу:
“Pour donner effect consequutif a son intension puis que ce livre (tel quil est)
mest demoure entre les mains : Apres lavoir communique a Michel le noir libraire
et imprimeur de Paris, lequel la bien voulu mettre sur ses formes impressoires et
le publier3par tout, tant en contemplation des merites du tres bon prince deffunt
que de vous madame. Je vous en fais ung petit present... ”39
37 Ibid. P. 191.
38 Ibid. P. 190.
39 Ibid. P. 186. Прежде чем Bepap выпустил свое издание, исполненное по воле ав¬
тора, книга вышла в пиратском издании Мишеля Ленуара (6 апреля 1504 г.), ко¬
торый в этом фрагменте заменил имя Верара своим собственным.
^202^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
¥
(«Дабы исполнить такое его намерение, и поскольку книга эта, какова
она есть, осталась в моих руках; прежде передал я ее Антуану Верару, париж¬
скому либрарию и печатнику, каковой охотно отправил ее на свои печатные
формы и распространил всюду равно ввиду заслуг достойнейшего усопшего
государя и ваших, государыня. Примите от меня сей малый дар...»).
Автор подносит произведение бывшей регентше не столько от себя
лично, сколько от имени своего господина, первого и истинного адре¬
сата «Храма...». Выстроенное им «здание»-творение, благосклонно
принятое графом, уже как бы освящено высоким именем последнего,
подкрепляющим собой высокий «предмет» повествования. Как ни па¬
радоксально, автор выступает «заместителем» владельца книги40; ут¬
вердив тем самым в акте поднесения рукописи статус «творения» и,
следовательно, свое авторство, он эксплицитно превращает его в пе¬
чатную книгу, адресованную многим читателям (она «распространена
всюду» Антуаном Вераром). Соответственно, именно в качестве «кни¬
ги», а не «творения», или «трактата» (термин, использованный и Сен-
Желе) «Храм...» обретает нового покровителя.
Разделенные совсем небольшим промежутком времени, два посвя¬
щения, тем не менее, разительно отличаются друг от друга в трактов¬
ке подносимого произведения и фигуры его автора. Лемер, обращаясь
к Анне Французской, почти дословно воспроизводит ту же топику, к
какой прибегал создатель «Обители Чести», говоря о государе-адреса-
те как о «поручителе» творения, придающем ему необходимый автори¬
тет, — но вводит совершенно новый мотив: возможной хулы, которая
может обрушиться на автора со стороны излишне строгих судей его
поэтического мастерства. И для того, чтобы избежать «профессиональ¬
ной» критики, одного лишь имени повелительницы оказывается недо¬
статочно. Если у Сен-Желе фигура Карла VIII сама по себе способна
возвысить «деревенскую» риторику сочинителя, то «гарантами» книги
Лемера выступают великие поэты — Жан Молине, чье имя неслучай¬
но вынесено в заглавие «Храма...», а также «мэтр Гильом Кретен, ко¬
ролевский каноник, глава и монарх риторики французской»41, чье хва¬
лебное стихотворное послание автору помещено в конце посвящения
Анне. Возможно, отчасти обращение к поддержке Кретена было про¬
диктовано политическими мотивами42; однако гораздо важнее то, что
40 Возможно, выстраиваемая Лемером иерархия «авторства» косвенно подтверждает
нашу гипотезу о причинах атрибуции трактата Молине Анри де Круа (см. сн. 28).
41 Ibid. Р. 187.
42 Лемер, потерявший в 1503—1504 гг. сразу нескольких меценатов (Петра Бур¬
гундского, графа де Линьи и, чуть позже, Филибера Савойского) впервые — и,
судя по всему, не слишком удачно, — ищет покровительства при французском
^203^
. SIX ,
£ ^
для повышения статуса своей книги (и себя самого как ее автора) Ле-
мер апеллирует не только к властям предержащим, но и к «республике
словесности». Этот мотив принадлежности к поэтическому сообществу
пронизывает все посвящение. В отличие от Сен-Желе, бургундский
литератор, следуя традиции «великих риториков», утверждает себя
именно в сфере поэзии. Поэтому содержание «трактата» — в изложе¬
нии которого акцент естественным образом смещается на страдания и
жалобы Анны-Авроры, — представлено в полном соответствии с изо¬
щренными поэтическими правилами, выработанными бургундцами,
прежде всего, Молине43.
Мастерство Лемера-поэта, создателя поучительных «вымыслов»,
является и стержнем послания Кретена. Парижский поэт ставит про¬
изведения собрата в один ряд с «писаниями» древних и великих со¬
временных авторов; его перо «излагает и описывает поэтические вы¬
мыслы, полные смысла и в равной мере моральные»44 45. В стихах Кретена
эти похвалы относятся именно к «творению», в котором обнаружива¬
ет себя «знание» Лемера (“...ton oeuvre manifeste // Le tien scavoir>45; слу¬
чайно ли речь идет о «знании», а не о «понимании», как у Сен-Желе?).
В целом дистрибуция терминов в его послании сходна с той, какую мы
наблюдали в «Обители Чести»: с фигурой автора-творца связаны поня¬
тия «творение», «шедевр», а также «том», или «свиток» (volume)46; зато,
обращаясь к аудитории произведения, Кретен призывает «всех добрых
слушателей» с вниманием отнестись к «книге» Лемера:
дворе; выбор фигуры Кретена, знаменитого поэта, приближенного Карла VIII, а
затем Людовика XII и Франциска I, в этом свете представлялся весьма удачным.
43 “Affin que vous vei'ssiez voz cris dedans escriptz couleur de douleur plains de tous
plaintz. Et que voz soulas qui sont las et voz rys qui sont peritz prissent quelque sourse:
Affin que lhonneur de bourbon bon resplendist en triumphant, triumphast en floris-
sant et flourist en accroissant par la diuturnite de tous siecles advenir” // Ibid. P. 185—
186. Следует напомнить, что грандиозное видение храма составляет вторую
часть произведения, тогда как первая представляет собой пастораль в вергили-
евском духе, которая, вполне вероятно, создавалась в подражание «Аркадии»
Саннадзаро; на итальянские корни недвусмысленно указывает строфа, впервые
введенная Лемером во французскую поэзию — терцина, или terza rime.
44 “...Couche et descript fictions poeticques / Pleynes de sens, non tant soit pou ethiques”
// Ibid. P. 188.
45 Ibid. P. 187.
46 “Or te doint Dieu povoir et vouloir destre // Tousjours soigneux demployer ta main
dextre // Pour enrichir volumes a plante // Du fruict si doulx quen toy у a plante” //
Ibid. P 188 («Пусть дарует тебе Бог возможность и желание всегда заставлять
трудиться твою десницу, дабы щедро вложить в множество томов сладчайший
плод, какой взрастил он в тебе»).
^204^
Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе
Je qui hay le cacquet des meschans
Prie a tous bons auditeurs de ce livre
Qua le gouster oeil et oreille en livre47.
*
(«Я, ненавидящий трескотню злопыхателей, прошу всех добрых слуша¬
телей этой книги вкусить от нее взором своим и слухом»).
Таким образом, если автор, как явствует из текста Сен-Желе и «па¬
ратекста» Кретена, создает «творение», требующее от него «понима¬
ния» (связываемого с божественной благодатью) и «знания» (ассоции¬
руемого с поэтическим мастерством), то читателю адресуется «книга»,
обязательной принадлежностью которой является высокий «смысл».
Однако для превращения «творения» в «книгу» для первого недоста¬
точно лишь авторитета самого автора: оно должно быть осенено вели¬
чием того покровителя, которому автор подносит плод своего труда.
Государь-адресат выступает «основателем» произведения у Сен-Желе;
герцог Бурбонский обеспечивает достоинство его «предмета» у Ле-
мера, а поднесение «творения» графу де Линьи оправдывает «пере¬
адресовку» — уже в печатном виде — книги Анне Французской. При
этом переход от рукописной к печатной книге, с редкой наглядностью
эксплицированный в сложной системе презентации «Храма Чести и
Добродетелей», с особой остротой ставит проблему авторства про¬
изведения. Случай Лемера в этом отношении весьма показателен. В со¬
знании литератора начала XVI в. печатная книга, по сравнению с ману¬
скриптом, по-видимому, требует от автора гораздо более развернутого
и обоснованного утверждения своего статуса.
47 Ibid.
sx
Конец средневековой мифологии книги:
«Кимвал мира» Бонавантюра Деперье1
Кимвал мира» (“Cymbalum mundi”, 1538) — одно из самых
загадочных сочинений французского Ренессанса. Среди
историков и по сей день не утихают споры о смысле че¬
тырех диалогов, вызвавших гнев Франциска I и обернув¬
шихся арестом и судебным разбирательством для либра-
рия Жана Морена, для которого они были отпечатаны.
Исследования о «Кимвале мира» можно условно разделить на четы¬
ре группы. Одни ученые, вслед за А. Шеневьером, создателем первой
обстоятельной биографии Деперье, видели в нем лишь забавную и в
целом безобидную сатиру2; другие искали в тексте свидетельства, под¬
тверждающие скептицизм и эпикурейство автора3, третьи, в том числе
Абель Лефран и Люсьен Февр (на работах которых во многом основа¬
но предисловие И.К. Луппола к русскому переводу сочинений Деперье,
выпущенному издательством «Academia» в серии «Предшественники и
классики атеизма»4), толковали его как мощное антирелигиозное сочи¬
нение, принадлежащее перу безбожника5. Наконец, четвертое направ¬
ление в изучении «Кимвала мира» задал В.-Л. Сонье, обнаруживший в
нем мистическое содержание, близкое по духу к взглядам Маргариты
1 Впервые опубликовано в: Arbor Mundi. Мировое древо. М., 2006. Вып. 13.
С. 108—139.
2 Cheneviere A. Bonaventure des Periers. Sa vie et ses oeuvres. Paris, 1886; Delaruelle L.
Etude sur le probleme du Cymbalum mundi // Revue d’histoire litteraire de la France.
1925. Vol. XXXII. P. 1—23; Morrison I.R. The Cymbalum Mundi Revisited // Biblio-
theque d’Humanisme et Renaissance. 1977. Vol. XXXIX. P. 263—280.
3 Becker Ph.-Aug. Bonaventure des Periers als Dichter und Erzahler. Wien, 1924 ; Bo-
hatec }. Bonaventure Des Periers // Revue historique. 1939; Wencelius L. Bonaventure
des Periers, rqoraliste ou libertin: une nouvelle interptetation du Cymbalum mundi //
Bulletin de TAssociation Guillaume Bude. 1949. P. 191—194.
4 Деперье Б. Кимвал мира. Новые забавы. М.;Л., 1936.
5 Lefranc A. Rabelais et les Estienne. Le proces du Cymbalum Mundi de Bonaventure
Des Periers // Revue du Seizieme siecle. 1928. Vol. XV. P. 356—366; Febvre L. Origene
et Des Periers ou lenigme du Cymbalum Mundi. P, 1942; Busson H. Le rationalisme
dans la litterature fran^aise de la Renaissance. P, 1957; Mayer C.A. The Lucianism of
Des Periers // Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance. 1950. P. 190—207.
^206^
^ Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деперье ^
Наваррской6. Нужно отметить, что трактовка Лефрана и Февра находит
частичное подтверждение в истории восприятия этого странного текста
современниками. Так, Гийом Фарель в памфлете «Меч слова истинного»
(Женева, 1550), защищая Кальвина от нападок некоего монаха, писал:
«Пусть он покажет, как это св. Павел исказил Писание дурацкими алле¬
гориями, какие в употреблении у этого Монаха, и как это Иисус прибегал к
дурацким аллегориям. Боюсь, голова этого несчастного, раз он ведет подоб¬
ные речи, полна заблуждениями не только вольномыслов, но и зловредней¬
шего Депериуса и Атеистов»7.
Слава «атеиста» проливает свет и на суждение о Деперье Анри
Этьенна, который впервые открыто связал с именем секретаря Марга¬
риты Наваррской напечатанный анонимно «Кимвал...»:
«Никогда не забыть мне Бонавентуру Деперье, автора отвратительной
книги, озаглавленной Кимвал Мира, который, несмотря на все усердие, с
каким его сторожили (ибо, как все видели, он впал в отчаяние и намерен
был лишить себя жизни), найден был пронзенным собственным мечом; он
с такой силой бросился на него, уперев его в рукоятью в пол, что острие
прошло через грудь и торчало из спины»8.
Здесь уже намечена получившая весьма широкое распространение в
конце века версия о самоубийстве Деперье в припадке безумия («отчая¬
ния»). Ее, в частности, выдвигает в трактате «О великих и грозных карах
и Божием суде» Ж. Шассаньон9; однако уже само заглавие этого трактата
дает ключ к легенде, сложившейся на основании свидетельства Этьенна.
Смерть лишившегося рассудка Деперье — это пример господней кары,
ниспосланной ему как «безбожнику». Как представляется, прав А.-М.
Шмидт, чье суждение сочувственно, хотя и с оговорками, приводит Л.
Соцци: «Деперье покончил жизнь самоубийством около 1544 г., как гово-
6 Saulnier V.-L. Le sens du Cymbalum Mundi de Bonaventure Des Periers // Bibliotheque
d’Humanisme et Renaissance. 1951. Vol. XIII. P. 43—69, 137—171 ; Nurse P.-H. Erasme
et Des Periers // Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance. 1968. Vol. XXX. P. 53—64.
7 Цит. no: Des Periers В. Le Cymbalum Mundi / Introd. et annote par Y. Delegue. Paris,
1995. (Textes de la Renaissance, № 4). P 115. (Далее — Delegue). По этому же из¬
данию даются ссылки на документы, относящиеся к «процессу о Кимвале мира»
(Р. 109—112), а также на текст самого Деперье.
8 Estienne Н. Apologie pour Herodote. Paris, 1879. T. 1. P. 403; T. 2. P. 105. На осно¬
вании этого свидетельства последующие исследователи творчества Деперье, по
справедливому замечанию Л. Соцци, «нагородили целые романы» (Sozzi L. Les
Contes de Bonaventure des Periers: Contribution a letude de la nouvelle franchise de
la Renaissance. Torino, 1965. P. 44).
9 De grands et redoutables jugements et punitions de Dieu, par J. Chassanion. Morges:
Jean Le Preux, 1581.
^ 207 ^
. §х .
^^
рят, в припадке буйного помешательства. Однако последнее обстоятель¬
ство вызывает известные сомнения, ибо приступы отчаяния и безумия
традиционно считались карой, ниспосланной Богом за атеизм»10.
Прочно закрепившаяся за «Кимвалом мира» репутация «безбожного»
сочинения, впрочем, не вполне согласуется не только с текстом произведе¬
ния, но и с архивными документами, относящимися к процессу над ним.
Прежде всего, запрос президенту парижского парламента Пьеру Лизе от¬
носительно «Кимвала...» поступил от самого короля, которого к тому же
в это время не было в Париже. Скорее всего, гнев Франциска был вызван
доносом Сагона или кого-либо из близких к нему литераторов. Однако,
несмотря на то, что арестованный либрарий Морен сразу же назвал имя
автора11, сам Деперье, судя по всему, никогда не подвергался преследова¬
ниям. Более того, прямо в разгар громкого процесса вслед за первым, па¬
рижским изданием «Кимвала...» 1537 г.12 он выпустил в Лионе второе из¬
дание13, не повлекшее для печатника никаких негативных последствий.
Еще более странным в свете легенды о «безбожной» книге выглядит
уклончивое заключение богословского факультета Сорбонны (от 19 июля
1538 г.), вынесенное по просьбе парламента: а<...> auditis deliberationibus
magistrorum nostrorum, conclusum fuit quod, quamvis liber non continet er-
rores expressos in Fide, tamen quia perniciosus est, ideo supprimandus”14. Маги¬
стры, решительно осудившие, например, «Зерцало грешной души» самой
королевы Наваррской, хотя и предписали уничтожить «Кимвал...», но не
обнаружили в нем «явных ошибок в вере». Сорбонна — случай невероят¬
ный, — по сути, отказалась поддержать обвинение в ереси, содержавшееся
в королевском послании. Да и суровый приговор, вынесенный либрарию
17 июня 1537 г. (Морена ожидало публичное покаяние, бичевание, а затем
10 Sozzi L Op. cit. Р. 45.
11 В своем прошении на имя канцлера Дю Бурга либрарий молил выпустить его из
тюрьмы, «в рассуждении того, что по заточении своем объявил он автора ска¬
занной книги и что в случае сем он вовсе не повинен, и когда бы задумывал что
дурное, так не поставил бы на нее ни марки своей, ни имени...» // Ibid. Р. 110.
12 Cymbalum mundi en francoys contenant qvatre Dialogues Poeticques, fort antiques,
ioeux & facetieux. Expl.: Fin du present Liure intitule Cymbalum Mudi, en Francoys
Imprime nouuellement a Paris pour Jehan morin Libraire demourant audict lieu en la
rue sainct Iacques a Lenseigne du croyssant. M.D. XXXVII. Факсимильное издание
единственного сохранившегося экземпляра (хранящегося в библиотеке Верса¬
ля) было выпущено в 1914 г.: Cymbalum mundi. Facsimile de led. de 1537 / Par
P.P. Plan. Paris, 1914 (далее — Plan).
13 Cymbalum mundi en francoys contenant qvatre Dialogues Poeticques, fort antiques,
ioeux & facetieux. [Lyon, Benoist Bonyn]. M.D. XXXVIII. Б. Бонен, возможно, сын
печатника из Рагузы Бонино Бонини, обосновавшегося в 1500 г. в Лионе, начал
свою деятельность около 1523 г. и продолжал ее без каких-либо существенных
временных лакун по крайней мере до 1543 г.
14 Delegue. Р. 111.
^208^
Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деперье
*
*
пожизненное изгнание из Франции с конфискацией имущества13), скорее
всего, так и не был приведен в исполнение: архивы не сохранили на сей
счет никаких документов. Суд, отложивший расправу до заключения Сор¬
бонны, видимо, почел за лучшее спустить дело на тормозах16.
С другой стороны, у толкования «Кимвала...» как антирелигиозной
сатиры — равно как и у остальных перечисленных выше интерпретаций
(кроме разве что первой, согласно которой он является невинной лите¬
ратурной шуткой), — есть еще два существенных недостатка. Во-первых,
они фактически изымают его из контекста остального творчества Депе¬
рье — его стихов и сборника новелл «Новые забавы и веселые разговоры»,
а во-вторых, не позволяют интерпретировать его как целостное произве¬
дение: более или менее убедительным выглядит лишь анализ отдельных
диалогов. В самом деле, как связать историю об украденной у Меркурия
книге Юпитера (диалог первый) с описанием философов, разыскиваю¬
щих в песке осколки философского камня (диалог второй), речами раска¬
явшейся жестокосердой красавицы и говорящей лошади (диалог третий)
и беседой собак, некогда входивших в свору Актеона (диалог четвертый)?
При том, что «Кимвал мира» явно изобилует понятными для современ¬
ников историческими реминисценциями и аллюзиями, все попытки про¬
честь его как злободневный памфлет до сего дня терпели крах. Толкования
большинства «говорящих» имен его персонажей настолько противоречи¬
вы, что выглядят произвольными: бесспорны только две прозрачные ана¬
граммы из второго диалога (RhetuIus=Luther и Cubercus=Bucer), все прочие
персонажи вряд ли поддаются однозначной идентификации. Например,
Арделио, любителя новостей, возникающего в первом и третьем диалогах,
15 Ibid.
16 На это обстоятельство указывал еще в 1889 г. Альфред Картье: Cartier A. Le li-
braire Jean Morin et le Cymbalum mundi de Bonaventure des Periers devant le par-
lement de Paris et la Sorbonne // Bulletin de la societe de Thistoire du protestantisme
fran<;ais. Documents historiques inedits et originaux, XVIe, XVIIe et XVIIIe siecles.
Paris, 1889. Vol. 38. P. 575—588. Более того, ученый обнаружил неизвестное до
того момента издание «Романа о Розе», выпущенное Жаном Мореном уже в
1538 г. (по старому стилю), т.е. безусловно, по окончании процесса над «Ким¬
валом...» (Le Rommant de la Rose, nouvellement reveu et corrige oultre les prece-
dentes impressions. On les vend a Paris en la rue Sainct Jasqs / en la boutique de Jehan
Morin m.d. XXXVIII). Однако его работа прошла практически незамеченной, и
легенда о жестоких гонениях, постигших несчастного либрария, превратилась
в работах о Деперье в непреложный факт. К тому же, как явствует из судебных
бумаг, издание «Кимвала мира» было отнюдь не единственным преступлением,
в котором обвиняли Морена: ему вменялось в вину хранение и распространение
«официальных» еретических книг. Кроме того, Морен принимал самое деятель¬
ное участие в споре Маро с Сагоном (см. параграф «Поэтическая полемика в
эпоху печатной книги: спор Клемана Маро и Франсуа Сагона»), печатая сочине¬
ния сторонников опального поэта.
^ 209 ^
£ ^
исследователи пытались отождествить с Кальвином, Этьеном Доле, Фаре-
лем и даже Франциском I; уже Л. Февр иронизировал над этими «сериями
идентификаций, которые ничего не идентифицируют»17.
Деперье словно намеренно играет с читателем, заставляя его, подобно
философу, ищущему частички философского камня, отыскивать в сво¬
ем тексте некий скрытый позитивный смысл. Возможно, загадку «Кимва¬
ла мира» так и не удастся разгадать до конца18. Однако не так давно была
предпринята попытка дать непротиворечивое толкование «Кимвала мира»,
наметить в нем единую сквозную проблематику. Ив Делег в предисловии к
своему изданию «Кимвала мира», отказываясь примкнуть к какой-либо из
существующих трактовок, ставит вопрос о его смысле в иной плоскости.
По его мнению, смех у Деперье, как во многом у Рабле и позднее Монтеня,
обращен на возможности слова как такового: «...Он [Деперье — И.С.] на¬
мечал границы и возможности владения словом, его опасности и иллюзии,
его истинность, но и его ничтожество.. .»19. Эта интерпретация представля¬
ется нам, безусловно, заслуживающей интереса. Со своей стороны, мы по¬
пытаемся конкретизировать ее, определив то особое место, какое занимал
«Кимвал мира» в системе раннеренессансных представлений о литературе
и книге. Соотнесение текста самих диалогов с другими произведениями Де¬
перье и, по мере возможности, с литературным контекстом эпохи позволя¬
ет выявить ряд смысловых пластов «Кимвала...», до сих пор, насколько нам
известно, ускользавших от внимания историков.
* * *
Реакция современников на сочинение Деперье безусловно свидетель¬
ствует только об одном: оно было воспринято как опасное и вредное.
Однако его «опасность» предстает не совсем обычной. С одной стороны,
резкое неприятие «Кимвала...» в стане сторонников протестантизма (с
которыми Деперье сблизился в молодости20) не позволяло обвинить его
17 Febvre L. Op. cit. Р. 68.
18 Свидетельством тому — посвященный Деперье коллоквиум, состоявшийся в
2000 г. и в очередной раз продемонстрировавший разброс и противоречивость
современных толкований произведения: Le Cymbalum Mundi. Actes du col-
loque de Rome (3—6 novembre 2000) / Ed. par F. Giacone. Geneve, 2003. (Travaux
d’humanisme et Renaissance; № 383).
19 Delegue. P. 12. Правда, в результате данной трактовки, также основанной глав¬
ным образом на имманентном анализе текста, французский гуманист предстает
скорее предшественником Ролана Барта или деконструктивизма, нежели писа¬
телем эпохи Возрождения.
20 Ок. 1530 г. он получал образование при аббатстве св. Мартина в Отене, аббат
которого, Робер Юро, некогда наставлявший в философии Маргариту Наварр¬
скую, сочувственно относился к идеям Реформации. В 1535 г. Деперье сотрудни¬
чал с кузеном Кальвина Оливетаном в его переводе Ветхого и Нового Заветов на
французский язык.
^210^
Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деперье
¥
в главном — и вызывавшем особую тревогу Франциска I — грехе эпохи:
«лютеровой ереси». С другой, закрепившееся за автором прозвище «обе¬
зьяны Лукиана», которое он делил с Рабле, свидетельствует, что образо¬
ванные крути усматривали некое сходство во взглядах обоих писателей,
несмотря на то, что в книге Деперье отсутствует та стихия «ярмарочного»
смеха, что определяет поэтику выпущенных к 1537 г. шпионским врачом
первых двух книг «Гаргартюа и Пантагрюэля». Наконец, репутация «без¬
божника» (также сближающая автора «Кимвала...» с Рабле и, заметим,
противоречащая тому неизменному покровительству, какое он находил у
Маргариты Наваррской), закрепленная авторитетом не только Кальвина,
но и гуманистов — Гийома Фареля, Анри Этьенна, Этьена Пакье, Лакруа
дю Мэна21, заставляет предположить, что писатель не только отступил от
современных ему понятий о благочестии, но и, по какой-то причине, на¬
рушил более общие нормы восприятия литературного текста.
Первый диалог «Кимвала...» открывается появлением Меркурия. Сто¬
ронники «антирелигиозного» толкования произведения — Лефран, Со-
нье, — вслед за Гийомом Бюде (в “De Asse”), склонны были видеть в этой фи¬
гуре пародийный образ Мессии: посланец богов нисходит с небес на землю,
неся с собою высшую истину, заключенную в книге Юпитера. Текст диалога,
однако, дает весьма скудные основания для подобной интерпретации. Мало
что объясняет и предложенная И. Делегом22 трактовка Меркурия как карна¬
вального персонажа, выступающего во множестве разнообразных обличий.
Скорее всего, истоки этой фигуры лежат гораздо ближе, а именно в той тра¬
диции, на которую прямо указывает обозначение «поэтические диалоги»,
вынесенное в заглавие произведения; ключом же к дальнейшим событиям
«Кимвала...» служит как раз «атрибут» посланца богов — книга.
Явление Меркурия в Афинах23, которое наблюдают двое приятелей,
немедленно вводит в текст мотив поэтического вымысла. Курталиус и
21 См. Ibid. Р. 115—116.
22 Ibid. Р. 88.
23 Выбор места действия «Кимвала мира», безусловно, не случаен. В первую очередь
он обусловлен, конечно, «античным» характером текста; однако, как представ¬
ляется, он содержит и более глубокий смысл. Известно, насколько актуальным
для французского гуманизма был топос translatio studii, исторического переноса
центра наук и искусств из Афин в Рим, а затем в Париж. Идея наследования
именно греческой традиции, получившая воплощение в сочинениях гуманистов
еще в XV в., стала одной из главных основ самосознания национальной сло¬
весности (см. параграфы «Морализованный перевод и национальная традиция
в литературе раннего французского Возрождения: пример Гильома Тардифа» и
«Миф и печатня: мифологизация французского языка в “Цветущем луге” Жоф-
фруа Тори» настоящего издания). Поэтому упоминание Афин в «Кимвале мира»
актуализует, как ни парадоксально, именно национальный, французский харак¬
тер произведения: Меркурий отправляется в новый (противостоящий Риму)
мировой центр просвещения и словесности.
^ 211 ^
^ €$•
Бирфанес узнают посланца богов именно потому, что не раз встречали
его описание в книгах поэтов:
«Курталиус. Куда я смотрю? я вижу то, о чем столько раз читал (que jay
tant de foys trouve en escript) и чему не мог поверить. <.. .>
Бирфанес. <...> Черт возьми, этот человек выглядит в точности так,
(acoustre de la sorte), как Поэты описывают нам Меркурия»24.
Имена приятелей достаточно красноречивы: стилизованные под ла¬
тинское и греческое, в паре они образуют своего рода эмблему гумани¬
стической образованности — что в дальнейшем подтверждается той
легкостью, с какой оба разбираются в содержании Юпитеровой книги.
Благодаря этим знатокам античности и поэзии текст, казалось бы, сразу
переводится в пространство аллегории: Бирфанес, отказываясь пона¬
чалу верить приятелю, утверждает, что тот «грезит наяву» (“tu as cela
songe en veillant”), иными словами, повторяет традиционный зачин ви¬
дения у «великих риториков». Однако это намеченное было измерение
немедленно отбрасывается — далее действие разворачивается в трак¬
тире, и вместо традиционных аллегорических фигур и поэтической то¬
пики читатель наблюдает чисто новеллистическую проделку и внимает
беседе о сравнительных достоинствах бонского вина и нектара.
Сам посланец богов также выступает в не совсем обычной ипоста¬
си. У Лемера де Бельж, например, Меркурий играл роль alter ego автора25:
он, покровитель красноречия, оказывался вдохновителем «Прославлений
Галлии...» и от имени сочинителя подносил его творение адресату. Ана¬
логичную функцию выполняет этот персонаж и у Маро (как, например, в
послании «Обездоленного к герцогине Алансонской и Беррийской», т.е. к
Маргарите Наваррской, где бог побуждает поэта обратиться со своими сти¬
хами к сестре короля). Таким образом, у обоих писателей Меркурий пред¬
стает не просто покровителем словесности26, но и, конкретнее, эмблемой
поэзии и оказывается соотнесен с ритуалом поднесения книги патрону.
(Поэтому его появление в «Кимвале мира» с книгой вполне закономерно).
Однако в «Кимвале мира» Меркурий — скорее не посланец, а служитель и
секретарь богов: в начале второго диалога Тригабус называет его «ловким
24 Delegue. Р. 48.
25 См. параграф «“Прославления Галлии” Жана Лемера де Бельж: поэтика и исто¬
рия».
26 Tervarent G. de. Attribute et symboles dans lart profane. Dictionnaire dun langage
perdu (1450—1600). Geneve, 1997. P. 318—319. Здесь же приводится, например,
интереснейшее высказывание Якопо Сансовино, создателя статуи Меркурия на
фасаде Лоджетта в Венеции, задумавшего в обличье этого бога прославить сло¬
весность и красноречие.
^212^
Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деиерье
¥
¥
слугой» (caut Varlet), а в третьем диалоге он перебирает ворох записок с но¬
выми поручениями, возложенными на него небожителями, выбирая из них
те, что исходят от Минервы. В последнем случае комментаторы «Кимва¬
ла...» единодушны: имя Минервы отсылает к Маргарите Наваррской, а ее
приказ поэтам «воздержаться впредь писать друг против друга»27 содержит
недвусмысленную аллюзию на бурную полемику Сагона и Маро, которая,
как мы видели28, в значительной своей части велась от имени слуг — va¬
lets, или секретарей. Деперье, первым выступивший в защиту опального
Маро29, сам занимал должность камердинера (valet de chambre) и секрета¬
ря Маргариты. Кроме того, в стихах Деперье, адресованных Франциску I, не
раз возникает и фигура Юпитера30. Взятые вместе, эти мотивы закрепляют
связь между фигурой Меркурия и автором — придворным поэтом.
Однако и эта топика в «Кимвале мира» лишается традиционной се¬
мантики. Во-первых, книга в руках Меркурия не влечет за собой ритуала
ее поднесения повелителю: Юпитер велит своему посланцу всего лишь от¬
дать ее в переплет по причине ветхости. Комическая озабоченность «слу¬
ги» богов (выбрать ли сафьян или телячью кожу с позолотой и переделать
ли застежки по новой моде), роднящая его с сочинителем, выбирающим
оформление подносного экземпляра, не служит знаком его авторства —
книга уже принадлежит самому Юпитеру. Тот же факт, что она обладает
исключительной ценностью, отсылает уже к иной культурной практике,
а именно к обычаю гуманистов облачать в богатые переплеты сочинения
античных авторов. Но и эта парадигма в дальнейшем опровергается.
Дело в том, что в тексте настойчиво актуализуется еще одна ипостась
Меркурия (самым непосредственным образом связанная с его статусом
«слуги»): он покровитель не только красноречия, но и обмана, плутовства31.
Именно это наводит приятелей-«гуманистов» на мысль украсть у него
книгу: «Для нас это будет великая доблесть (vertu) и слава — ограбить не
просто вора, но творца (auteur) всех воровских проделок, каков он есть»32.
27 Del£gue. Р. 70.
28 См. параграф «Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор Клемана
Маро и Франсуа Сагона».
29 Стихотворением «В защиту отсутствующего Маро, против Сагона».
30 Как, например, в стихотворении 1536 г., написанном на смерть дофина, где упо¬
добление двора Олимпу, а Франциска — Юпитеру выступает сюжетообразую¬
щей метафорой (см. Des Periers В. Oeuvres franchises / Ed. par Louis Lacour. P.,
1856. T. 1. P. 107—108). To, что Олимп был общепринятой и устойчивой поэти¬
ческой метафорой двора, подтверждает и «Гептамерон» Маргариты, где она, как
известно, выступает под именем Дамы Минервы.
31 Ср. у Рабле в главе V «Пантагрюэлева предсказания»: «Меркурию подвластные,
каковы шулера, обманщики, ловкачи, <...> рифмачи, фигляры, фокусники, по¬
трошители латыни...» (см. Приложение).
32 Delegue. Р. 48.
^213^
£ ^
Курталиус, первым узнавший Меркурия по описаниям поэтов, предсказы¬
вает каждый его шаг. Он знает наперед, что бог, вместе с которым приятели
пришли в трактир, сразу отправится искать, где бы что стянуть: «Он оста¬
вит свой сверток тут, на кровати, и тут же пойдет шарить по дому, вдруг что
где плохо лежит и нельзя ли это стащить и сунуть себе в карман»33. Плутов¬
ская функция Меркурия, который в буквальном смысле действует «как по
писаному», стирает границу между «басней» и «реальностью», всегда четко
обозначенную в поэзии. Однако именно наличие этой границы обеспечи¬
вает сакральную функцию поэзии, а потому покушение на нее восприни¬
мается как богохульство. Книжник Курталиус (чье имя, бесспорно, несет в
себе семантику «придворного», иными словами, по определению связано
с поэзией34) владеет поэтическим кодом настолько, что, пользуясь своим
знанием, обманывает посланца богов, — но в застольном споре о бонском
вине и нектаре Юпитера оба приятеля разыгрывают возмущение, когда
Меркурий утверждает, что пробовал оба напитка:
«Бирфанес. Вино славное, но не следует уподоблять земное вино некта¬
ру Юпитера.
Меркурий. Чтоб мне сдохнуть, Юпитеру не подносили лучшего нектара.
Курталиус. Думайте, что вы говорите, ведь вы страшно богохульствуете;
дрянной вы человек, скажу я вам, коли утверждаете такие вещи, клянусь богом!
Меркурий. Друг мой, не гневайтесь. Я пробовал оба и говорю, что это
вино лучше.
Курталиус. Сударь, я вовсе не гневаюсь и никогда не пил нектара, как
якобы пили вы, но мы верим тому, что об этом написано и говорится (mais
nous croions се quen est escript, & ce que Ion en diet)»35.
Необходимым условием сакральности поэзии служит, таким образом,
непреложная вера в чужое (письменное и устное) слово. Однако подобная
«книжная» правда на самом деле лжива: приятели всего лишь повторяют
общепринятые истины, чтобы посмеяться над божественным собутыльни¬
ком36. Истина, заключенная в книгах, отрицает сама себя: истинным в пер-
33 Ibid. Р. 49.
34 Толкование «придворный» было предложено Ф. Франком и А. Шеневьером еще
в XIX в. (Frapk Е> Cheneviere A. Lexique de la langue de В. Des Periers. Paris, 1888),
однако в дальнейшем исследователи стремились отождествить этого персонажа
с каким-либо конкретным лицом: Кальвином, Г. Бюде и др.
35 Delegue. Р. 50.
36 Они утаивают свое знание от Меркурия — но не от читателя «Кимвала мира»:
знаком этого выступает реплика a part Курталиуса: «Слушай, приятель, клянусь
Богом, он что-то такое стянул в верхней комнате, это уж точно (il riy a rien de
si vray)» // Ibid. P 51. Причем кража Меркурия, в которой он сознается (перед
читателем же) в конце первого диалога, парадоксальным образом подтверждает,
^214^
Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деперье
¥
¥
вом диалоге оказывается разве что достоинство вина, вновь заставляющее
вспомнить Рабле. Не случайно Меркурий, когда хозяйка трактира отказы¬
вается верить в его способность наделить ее долгой жизнью, в ответ обру¬
шивает на нее целый ворох типичных «пантагрюэлевых предсказаний».
Плуты-«гуманисты» догадываются и о сути поручения, возложен¬
ного на Меркурия Юпитером. «Латинист» Курталиус, прочтя заглавие
книги, оценивает ее как большую редкость — «думаю, второй такой в
Афинах не продается», — а Бирфанес обнаруживает свою близость к
миру книгоиздания: во-первых, он сразу же идентифицирует том, а во-
вторых, выражает уверенность, что любой либрарий озолотит друзей за
возможность снять с него копию* 37. При этом Деперье не оставляет чита¬
телю возможности интерпретировать интерес приятелей к книге в гума¬
нистических категориях: книга не вызывает у друзей ни малейшего пие¬
тета, это просто источник недурной наживы, поэтому они подменяют ее
другой, внешне похожей, уверенные, что Меркурий ничего не заметит.
Подобно тому, как аллегория поэтического видения ранее замещалась
сугубо земной реальностью трактира, топика, связанная с книгой, заме¬
щается новеллистическим топосом «обманутого обманщика».
Между тем подмена книги приобретает в «Кимвале мира» глубокий
символический смысл, который до конца раскрывается в третьем диа¬
логе. Смысл этот обусловлен самим содержанием книги Юпитера. Ее
заглавие гласит: “Quae in hoc libro continentur: chronica rerum
MEMORABILIUM QUAS JUPITER GESSIT ANTEQUAM ESSET IPSE. FATORUM
PRESCRIPTUM : SIVE, EORUM QUAE FUTURA SUNT, CERTAE DISPOSITIONS.
Catalogus HEROUM IMMORTALIUM, QUI CUM JOVE VITAM VICTURI SUNT
sempiternam” («Что содержится в сей книге: хроника достопамятных
деяний, кои совершил Юпитер до собственного рождения. Предна¬
чертания судеб, сиречь каковы достоверные расположения грядущего.
Перечень бессмертных героев, каковые обретут вечную жизнь с Юпи¬
тером»).
Меркурий приносит на землю Книгу в высшем смысле, книгу Судеб, за¬
ключающую в себе как прошлое, так и грядущее — причем и людей, и само¬
го верховного божества38, — книгу, символизирующую истинность писан¬
ного текста (недаром это книга латинская!) в ее средневековом понимании.
Это подтверждается и ее, так сказать, жанровым составом: сочетанием хро¬
что в споре о вине и нектаре посланец богов говорил правду: он украл серебря¬
ный образок, чтобы подарить его своему «кузену Ганимеду за то, что он всегда
отдает <ему> остатки нектара из кубка Юпитера» // Ibid. Р. 52.
37 Delegue. Р. 50. Согласно одному из толкований, Деперье вывел под этим именем
Робера Этьенна.
38 По замечанию И. Делега, «книга выше самого Юпитера уже потому, что пред¬
шествует ему во времени» // Delegue. Р. 16. Introduction.
^ 215 ^
*
4
ники и предсказания. Однако при ближайшем рассмотрении и этот символ
оказывается двусмысленным.
Прежде всего, хроника, один из центральных жанров придворной
литературы в эпоху «осени Средневековья», к 30-м годам XVI в., вре¬
мени создания «Кимвала...», уже сомкнулась с традицией «народной»
книги (эту ее эволюцию окончательно закрепил «Пантагрюэль» Рабле).
Кроме того, «хроника» эта повествует о деяниях бога «до <его> соб¬
ственного рождения», иными словами, пародийно отрицает самое себя.
Предсказание — еще один жанр, получивший распространение в «на¬
родной словесности» и заставляющий читателя вспомнить, помимо яр¬
марочных альманахов, как «Пантагрюэлево предсказание» Рабле, так и
стихотворное «Предсказание предсказаний» самого Деперье39, в кото¬
ром, как явствует из авторского заглавия, он разоблачал «бесстыдство
предсказателей» (Timpudence des Prognosticqueurs”)-
Таким образом, «высшая истина», заключенная в книге Юпитера, при¬
обретает отчетливо пародийный характер. Двусмысленность этого симво¬
ла божественного всеведения ярче всего выражает апория, дважды (сперва
плутами, затем Меркурием40) повторенная в «Кимвале мира»: если книга
«ведает все», то написано ли в ней о той самой краже, что происходит на
глазах у читателя? Вопрос остается без ответа. Люди, обладающие «по¬
этическим» знанием, могут в деталях предсказывать поведение богов, зато
«божественное» знание о делах людей ставится под сомнение. Недаром, по
словам Меркурия, Юпитер обращается к своей книге, чтобы «повелевать,
какая должна настать погода»41. По самому своему содержанию книга ока¬
зывается предназначена именно для такого применения, какое находят для
нее двое мошенников. Как явствует из третьего диалога, Бирфанес и Кур-
талиус, вопреки первоначальному намерению, не продали книгу либрарию:
«Купидон. Кажется, я слыхал про какую-то удивительнейшую книгу, ко¬
торая есть у двух приятелей; говорят, они по ней гадают всем желающим, да
так хорошо умеют предсказывать будущее, как не удавалось ни Тиресию, ни
39 Цитаты даются по изданию: La Prognostication des prognostications, non sevlement de
ceste presente annee M.D.XXXVII. Mais aussi des aultres a venir, voire de toutes celles qui
sont passees, Composee par Maistre Sarcomoros, natif de Tartarie, & Secretaire du tresillustre
& trespuissant Jtoy de Cathai, serf de Vertus. M.D.XXXVII. (Cp. Des Periers B. Oeuvres ffan-
<;oises / Par L. Lacour. T. 1. P. 131—143). «Предсказание» было первым текстом, который
он переслал Маргарите Наваррской, стремясь получить место при ее дворе.
40 «Меркурий. <...> Право же, не знаю, как этому старому сумасброду не стыдно?
Не мог он, что ли, заранее прочесть в своей книге (откуда он обо всем узнаёт),
что в один прекрасный день с этой самой книгой случится? По-моему, его осле¬
пило собственное сияние, ибо это происшествие непременно должно быть там
предсказано, равно как и все прочие, — а иначе его книга лжет» // Delegue. Р. 68.
41 Delegue. Р. 71.
^216^
Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деперье
*
4
Дубу Додоны. Многие астрологи спят и видят, как бы заполучить ее или ее
копию, и уверяют, что тогда их эфемериды, предсказания и альманахи бу¬
дут куда надежнее и правдивее. Да к тому же эти дружки обещают людям за
известную мзду вписать их в книгу бессмертия»42.
Плуты-«гуманисты» находят более верный (и адекватный содержа¬
нию книги) способ извлечь из нее барыш: они превращаются в бродя¬
чих прорицателей, подменяя собой верховного вершителя судеб. При¬
чем обратной перемены ситуации в «Кимвале...» так и не происходит:
несмотря на гнев Юпитера, Меркурий не слишком спешит разыскивать
пропавший том, без которого тот не может повелевать погодой, согла¬
сившись с двустишием Купидона:
Tousjours les amoureux auront bon jour,
Tousjours 8t en tout temps les amoureux auront bon temps.
(Все дни влюбленным хороши, в любую погоду им светит солнце.)43
«Поэтическая правда», вложенная в уста Купидона (с удовольствием
цитирующего Маро), вновь оказывается выше «божественной» исти¬
ны. Грозное поручение Юпитера теряется в ворохе записок, которыми
снабдили боги своего посланца и среди которых он выбирает для ис¬
полнения только наказы Минервы, обращенные опять-таки к поэтам.
Здесь же, в третьем диалоге, выясняется и смысл подмены, совер¬
шенной плутами: вместо книги судеб Меркурий вручает государю-
Юпитеру заново переплетенную книгу о его собственных любовных
похождениях. Хроника «деяний» еще не родившегося верховного боже¬
ства замещается его «подлинными» авантюрами:
«Меркурий. <...> Эти предатели-люди мало того что осмелились забрать
себе его книгу, <...> так еще и, словно в обиду и насмешку, отослали ему
взамен такую, где содержатся все любовные забавы его юности, которым,
как он думал, он предавался тайком от Юноны, богов и всех людей: как он
превратился в быка, чтобы похитить Европу, и как обернулся лебедем, что¬
бы отправиться к Леде, и как принял облик Амфитриона, чтобы возлечь с
Алкменой, и как сделался золотым дождем, чтобы сойти к Данае, и как ста¬
новился Дианой, пастухом, огнем, орлом, змеем, и много прочих проделок,
о которых людям отнюдь не подобает знать, а тем паче писать»44.
42 Ibid.
43 Ibid. Р. 72.
44 Ibid. Р. 67. Последнее сетование отсылает к тому правилу poetrie, которое, вслед за
Боккаччо, формулировал еще Жак Легран — поэтам не следует изображать богов
развратниками: «И в самом деле, новые поэты пересказывают многих древних
^ 217 ^
. sx .
£ 12 ^
Перечень «шалостей» бога (объединенных мотивом превращения)
прямо указывает на характер книги, которую подсунули Бирфанес
и Курталиус Меркурию: речь идет, по-видимому, о «Метаморфозах»
Овидия, основном источнике сюжетов poetrie, получившем в издании
Верара заглавие «Библия поэтов».
Тем самым подмена книги получает символический характер. «Хро¬
ника» и poetrie оказываются взаимозаменимыми (поэтому и две книги
невозможно отличить друг от друга). Обе служат обману: «божествен¬
ная» истина годится лишь для обмана простаков, а Юпитер обманом
удовлетворяет свои страсти. Подлинным владыкой мира богов и мира
людей выступает поэтому Меркурий — обманщик и, напомним, покро¬
витель словесности. Тесная взаимосвязь обеих его ипостасей раскры¬
вается в том же третьем диалоге с помощью ключевого для «Кимвала
мира» понятия — «новость» (nouvelle). Именно новостей требуют от
посланца богов и люди, и боги:
«Меркурий. Ну не жалость ли: хоть явись я на землю, хоть вернись на
небо, вечно и мир, и боги спрашивают, нет ли у меня или не знаю ли я чего
нового. Чтобы я мог им всякий день ловить свежие новости, понадобилось
бы целое их море»45.
Это понятие вновь заставляет вспомнить «Предсказание предсказа¬
ний» Деперье — в контексте которого, кстати, проясняется и негатив¬
ная семантика слова «мир» (mundus) в заглавии “Cymbalum mundi”:
Mode aueugle, mode sot, mode imude
Dont vient cela, que, soit en prose, ou vers,
Tu vas cerchant par tout les yeulx ouuers,
Si tu verras point choses non pareilles,
Et qua tous motz tu lieues les aureilles? (A ij)
(«Мир ослепленный, мир дурацкий, мир нечистый, отчего ты во все гла¬
за ищешь повсюду, не увидишь ли чего необычного, хоть в стихах, хоть в
прозе, и наставляешь уши на любые слова?»).
)
[авторов] по причине безобразных и отвратительных вымыслов, что содержатся
во многих их книгах. И на сей счет читаем мы у Бокаса в его Книге о генеалогии
богов, как он осуждает сказанных поэтов: “Многие сказанные поэты изобража¬
ют богов развратными и говорят, будто они портят девственниц, каковые вещи
говорить гадко, и за то заслуживают поэты сурового порицания”» // Legrand J.
Archiloge Sophie. Livre de bonnes meurs / Ed. critique avec introd., notes et index par
E. Beltran. Paris, 1986. P. 150; cp. De genealogiae deorum gentilium, XIV, 14).
45 Ibid. P. 73.
^218^
Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Денерье
¥
«Предсказание...» проясняет два момента, чрезвычайно важных для
понимания «Кимвала мира». Во-первых, понятие «новости» у Деперье са¬
мым непосредственным образом связано с предсказаниями — тем самым
предназначением, какое оказалось уготовано в «мире» Юпитеровой книге:
Chasses tu pas apres abusion,
Cuydant trouuer Prognostication,
Ou il у ayt des nouueautez nouuelles?
О affame belistre de Nouuelles,
Paoure altere coquin de vanite
Quen est il mieulx a ta mondanite?
(«Разве не гонишься ты [мир] за заблуждением, надеясь найти такое предска¬
зание, где были бы разные новые новости? О ничтожество, жадное до новостей,
жалкий обманутый суетный плут, что больше под стать твоей мирской сути?»).
И во-вторых, что главное, «свежие новости» (“nouuelles fresches” —
те самые, что «ловит» Меркурий) отождествляются с литературой, «в
стихах и прозе». Поэт в широком смысле, автор книг, оказывается по¬
ставщиком новостей для мира, жалкого в своей жажде быть обману¬
тым, — иначе говоря, является обманщиком, или создателем вымыслов.
Не случайно в записке Минервы, адресованной поэтам, предписывается
«не развлекаться суетными лживыми речами, но всегда помнить о по¬
лезном молчании истины»46. Литература не может быть ничем иным,
кроме «суетных лживых речей», она по определению не заключает в
себе никакой истины. Этот парадокс Деперье доводит до логического
предела в «Новых забавах и веселых разговорах»47, где он превращается
в развернутую эстетическую программу, сформулированную в «Первой
новелле в форме предисловия». Рассказчик, обращаясь к читателю, при¬
зывает его не искать в забавных историях ни аллегории, ни историче¬
ской достоверности, то есть ни одного из главных принципов, обуслов¬
ливающих правдивость книги в средневековом понимании:
Обещаю, что не замышляю ничего дурного, никаких хитростей; тут нет ни¬
какого аллегорического, мистического, фантастического смысла. И не труди¬
тесь спрашивать, как понимать это, как понимать то; тут не нужно ни словарей,
ни комментариев: какими видите их [новеллы, точнее, вымышленные рассказы
(Comptes) — И.С], такими и берите. <...> И не приставайте ко мне со всякими
придирками: «О! это совершил не тот человек. О! это случилось не в том квартале.
46 Ibid. Р. 70.
47 Следует напомнить, что заглавие этого сборника, изданного в 1557 г., уже после
смерти автора, Николя Денизо и Жаком Пелетье дю Маном, скорее всего, при¬
надлежит издателям.
^219^
^^
Я уже об этом слыхал, это произошло в нашем околотке. Смейтесь только, и что
вам за дело — Готье это или Гаргиль. <...> Имена только затем и служат, чтобы
люди о них спорили. Я оставляю их тем, кто заключает договоры да затевает тяж¬
бы. <.. .> И йотом, я нарочно выдумал некоторые имена, чтобы вы поняли: нечего
плакать о том, что я вам рассказываю, ибо, быть может, это все неправда»48.
Апология чистого развлечения и чистого вымысла, эмблемой которой
служит обращенный к читателю девиз “bene vivere et laetari”, «славно жить и
веселиться», логичным образом приводит у Деперье к отождествлению и ав¬
тора и читателей с шутами (folz): «Ну вот, и шуты вступили на сцену — но
какие! Я первый, ибо вам о них рассказываю, а вы второй, ибо меня слушае¬
те, а тот — третий, а вон тот — четвертый. О! сколько же их! и не перечесть.
Оставим их здесь да пойдем поищем умных; посветите-ка мне, что-то я ни¬
кого не вижу»49. Заметим в этой связи, что обращение гуманиста Деперье к
новелле оказывается не просто писательской данью популярному жанру,
но логично вытекает из его представлений о сущности литературы вообще,
придавая забавному сборнику глубокий — и трагический — смысл.
Именно в этом контексте раскрывается функция Меркурия в «Ким¬
вале мира». Он, как и в предшествующей традиции, предстает alter ego
автора — но автора как создателя вымыслов, пустопорожних «ново¬
стей», занимающих умы людей и богов. Эта идея находит блистатель¬
ное развитие во втором, самом знаменитом диалоге произведения,
общий сюжет которого (философы, ожесточенно спорящие из-за пу¬
стяков), скорее всего, отсылает к диалогу Лукиана «Евнух», а также,
бесспорно, к диалогу «Алхимия» из «Разговоров запросто» Эразма50.
Здесь возникает второй, но столь же иллюзорный, как и книга Юпи¬
тера, символ истины — философский камень, который обманщик-Мер-
курий якобы отдал в свое время философам, предварительно распылив
его на арене театра. Свойства его описывает Тригабус51:
48 Цит. по: Conteurs fran<;ais du XVIе siecle / Textes pres, et annot. par P. Jourda. Paris,
1979. (Bibl. de la Pleiade). P. 368. Исследователями не раз отмечалось сходство
этой новеллы-предисловия с прологами Рабле к «Гаргантюа и Пантагрюэлю»
(см., в частности: Charpentier F. Une page rabelaisienne de Des Periers: La Premiere
nouvelle en forme de preambule // RHLF. 1967. № 3. P. 601—605).
49 Ibid. P. 372. Cp. в «Кимвале мира» слова Тригабуса: «Теперь я понимаю, что поис¬
тине безумен (fol) человек, желающий получить нечто из ничего» // Delegue. Р. 65.
50 Из этого диалога почерпнуто комическое отождествление обманщика-алхимика
с ритором, а растраты добытых обманом денег — с изменением «обличил ве¬
щей». См.: Себастиан Брант. Корабль дураков; Эразм Роттердамский. Похвала
глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто; Письма темных лю¬
дей; Ульрих фон Гуттен. Диалоги. М., 1971. С. 329—330.
51 Этого персонажа комментаторы отождествляли с Мишелем Серветом, Этьеном
Доле, Корнелием Агриппой; В.-Л. Сонье толковал его имя, напоминающее Трис-
мегиста, ученика Меркурия, как «троякий, великий шутник».
^220^
Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Денерье
¥
4
«...Коли найдут они хоть малую частичку оного философского камня,
так будут творить чудеса — превращать металлы, взламывать засовы у от¬
крытых дверей, толковать язык птиц, без труда испрашивать что угодно у
Богов, лишь бы это было дозволено и должно случиться, вроде как после
солнышка дождичка, цветов да прохлады весной, пыли да жары летом, пло¬
дов осенью, холода да грязи зимой <.. .> 52»
Помимо ложности (и мотива погоды!), два воплощения истины об¬
ладают и другими общими чертами. Если книгу судеб невозможно от¬
личить по внешнему виду от «Библии поэтов», то частицы пресловуто¬
го камня, по словам Меркурия, «весьма трудно распознать среди песка,
потому что между ними нет почти никакой разницы»53. Кроме того, ка¬
мень подобен «Метаморфозам» благодаря главному своему свойству:
он — прежде всего, средство превращения. По словам Меркурия (кото¬
рый для беседы с философами превращается в старика), если бы кто-
то нашел хотя бы его частицу, он бы смог сделать всех нищих богачами,
а больных — здоровыми. Но именно об этой своей способности под¬
робно и цинично рассуждает в споре с Меркурием Ретулюс-Лютер:
«Я <...> совершаю с ним превращения людей: изменяю их взгляды, что
тверже любого металла, и заставляю их жить по-иному — ибо тем, кто пре¬
жде не осмеливался и глядеть на весталок, я внушаю мысль, что с ними не¬
дурно спать. Тех, кто одевался по-цыгански, я заставляю надевать турецкие
уборы. Тех, кто раньше ездил верхами, я заставляю трусить пешком. Тех,
кто привык давать, я вынуждаю просить. И того больше, ибо я заставляю
говорить о себе по всей Греции...»54.
Подобно тому как пройдохи-«гуманисты», украв божественную кни¬
гу, превращают ее в средство наживы, «философ» Ретулюс мастерски
пользуется несуществующими частичками камня, находя покровителей
и даровые обеды (выражение “repues franches”55, к которому прибегает
Тригабус, отсылает к заглавию стихотворного сборника XV в. о ловких
проделках Вийона и его приятелей). Камень — такая же «новость», как
предсказания новоявленных пророков, также заставляющих «говорить
о себе по всей Греции»: «все это лишь слова, — заявляет Меркурий, —
а ваш камень служит лишь для того, чтобы сочинять сказки (faire des
comptes)»56. Именно в этом диалоге посланец богов прямо указывает на
свою роль покровителя риторики как словесного обмана:
52 Delegue. Р. 55.
53 Ibid. Р. 56.
54 Ibid. Р. 61.
55 Ibid. Р. 64.
56 Ibid. Р. 63.
^ 221 ^
£ ^
«Меркурий. И что с того? Ваше великое пустословие и высокая болтов¬
ня тому причиной, а отнюдь не ваши песчинки: только это получили вы от
Меркурия, и ничто иное. Ибо как он заплатил вам словами, уверив, что это
философский камень, так и вы довольствуете мир просто-напросто слове¬
сами. Вот чем, думаю я, обязаны вы Меркурию»57.
Закономерно поэтому, что в третьем диалоге бог «лживых речей»
вместо того, чтобы искать Юпитерову книгу, выступает в главной сво¬
ей роли — творца «новостей». Заставив говорить лошадь, носящую
имя одного из коней Аполлона (Флегон), он выражает уверенность, что
вскоре какой-нибудь сочинитель добавит эту историю в число своих
рассказов (comptes) и продаст рукопись либрариям58. Не менее зако¬
номерно и появление во второй половине «Кимвала мира» множества
литературных реминисценций, от стихов Маро и Анны де Гравиль до
«Ста новых новелл». В числе аллюзий, помимо прочего, встречается
«басня о великом Геркулесе Ливийском и басня о суде Париса»59 — цен¬
тральные сюжеты «Прославлений Галлии...» Лемера де Бельж, превра¬
тившиеся под пером Деперье в небылицы, ничем не отличающиеся от
«песенки о Рикошё», т.е. от сказки про белого бычка...
Апофеозом поэтической «басни», превратившейся в чистый вымы¬
сел, лишенной «аллегорического, мистического, фантастического» смыс¬
ла, является четвертый, заключительный диалог «Кимвала...»: беседа
Гилактора и Памфагуса, двух псов из своры Актеона, которые, вместе с
другими растерзав своего превращенного в оленя хозяина, случайно
проглотили по куску его языка и обрели дар речи. «Метаморфозы» Ови¬
дия, неявно присутствовавшие в «Кимвале...» с момента подмены Юпи-
теровой книги, в последнем диалоге выходят на передний план. Если в
третьем диалоге Меркурий заклинанием создавал «новость» — говоря¬
щую лошадь, то в четвертом аналогичная «новость» возникает сама, как
бы самозарождаясь из пространства книжного вымысла: Памфагус, один
из псов, читал (!) Овидия60 и нашел в книге объяснение и подтверждение
своего загадочного дара. Как и в первом диалоге, книга служит высшим
воплощением истины («Уверяю тебя, друг мой Гилактор, все именно так
57 Ibid. Р. 63. з
58 Ibid. Р. 76.
59 Ibid. Р 85.
60 «Памфагус. <...> Помнишь, наши сотоварищи Меланхет, Теридамад и Орези-
троф набросились на Актеона, доброго своего хозяина, и нашего тоже, которого
Диана только что превратила в оленя, а потом прибежали и мы, остальные, и
искусали его так, что он умер на месте? Ты должен это знать (а я потом об этом
читал в какой-то книге, что есть у нас дома)» // Ibid. Р. 81. Имена псов в точности
соответствуют тем, что даны у Овидия: см. Метаморфозы, III, 232—236.
^ 222 ^
Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деперье
*
4
и есть: ведь я читал об этом в книге»61) — и при этом высшим ее отри¬
цанием, хотя бы потому, что мотив съеденного языка у Овидия отсут¬
ствует. Но даже и в этом мире чистого вымысла обнаруживаются свои
«новости»: говорящие псы находят на дороге связку писем (lettres), адре¬
сованных нижними Антиподами Антиподам верхним62. «Лживое слово»
не просто несет в себе пустоту, оно порождает целые миры, весь смысл
которых, однако, сводится все к тому же беспрерывному звону «кимва¬
ла мира»; ибо, как грустно замечает Памфагус в финальной реплике про¬
изведения, «уж таковы люди, больно они любопытны да любят болтать
о вещах невиданных (nouvelles) и странных»63. Единственным способом
противостоять тотальности «суетных лживых речей» оказывается мол¬
чание — к которому, в полном соответствии с заветом Минервы поэтам,
безуспешно призывает Памфагус Гилактора, вознамерившегося проде¬
монстрировать людям свою способность говорить, а значит, обреченного
превратиться для них в очередную «новость».
Таким образом, книжное слово у Деперье полностью десакрализует-
ся, лишается способности воплощать в себе какую-либо истину. Автор
подвергает сомнению тот краеугольный принцип веры в писанное сло¬
во, который обеспечивал высочайший культурный статус книги не толь¬
ко в средневековой традиции, но и в гуманистической среде. Безусловно,
его позиция близка к идеям Рабле, высказанным устами Алькофрибаса
Назье в прологах к первым двум книгам «Гаргантюа и Пантагрюэля», од¬
нако секретарь Маргариты Наваррской идет еще дальше. Если гуманист
Рабле, комически выворачивая средневековую топику «истинности»
книги, превращая ее в пастиш, создает пусть смеховую, но утопию про¬
свещенной монархии, то гуманист Деперье творит утопию самопорожда-
ющейся «новости», свободной от всякого однозначного толкования. Его
книга отрицает самое себя — и одновременно всю систему координат,
определяющих восприятие ее самой и фигуры автора в культуре эпохи.
Свидетельством тому служит открывающий «Кимвал мира» про-
лог-послание, который, как не раз отмечалось исследователями, паро¬
дирует эпистолы гуманистов. Тома дю Клевье адресует «своему другу
Пьеру Триокану» «маленький трактат», который обещал ему перевести
на французский язык еще «лет восемь назад или около того»64. Оба име¬
ни представляют собой прозрачные анаграммы: Du Clevier=lTncredule,
Tryocan=Croyant, т.е. «Фома Неверующий» и «Петр Верующий» (в этих
именах комментаторы обычно усматривали «религиозный» ключ к
61 Ibid. Р. 82.
62 «Вот это новости! (Voyla bien des nouvelles!)» — реагирует на находку Памфагус
(Ibid. Р. 85).
63 Ibid.
64 Ibid. Р 45.
^223^
& ^
«Кимвалу мира»). Как топика пролога, так и фигуры «автора» и «адре¬
сата» проливают дополнительный свет на то совершенно особое место,
которое суждено было занять Деперье в литературе эпохи и которое, в
конечном счете, обусловило неприятие его сочинения современниками.
«Маленький трактат» представлен как перевод с латыни65, то есть
встраивается в полуторавековую традицию придворных гуманисти¬
ческих переводов. Сам Тома дю Клевье выступает в ипостаси гума¬
ниста — искателя древних книг: «Кимвал...» найден им «в старинной
Библиотеке одного монастыря, что находится подле города в нижнем
мире (aupres de la cite de dabas)». При этом «географическое» уточне¬
ние в буквальном смысле слова переворачивает тот статус, каким на¬
делялись в культуре гуманизма вновь обнаруженные античные тексты:
скорее всего, оно отсылает к «Утопии» Мора, чей идеальный остров на¬
ходился «по ту сторону равноденствия», и к первой книге Рабле (Пан¬
тагрюэль родился именно в Утопии); подтверждением тому служит по¬
следний диалог, где говорящие собаки находят послания Антиподов.
Иными словами, дю Клевье прямо указывает на принадлежность ори¬
гинала «нижнему» миру, обратному действительности66.
Далее «переводчик» поясняет свои принципы переложения «трактата»
с латыни на французский язык, четко отсылая к традиции, которая через
три года нашла законченное оформление в трактате Этьена Доле «Способ,
как хорошо переводить с одного языка на друзой» (напечатан самим ав¬
тором в Лионе в 1540 г.). Перечисляя правила, которым должен следовать
переводчик, Доле отвергает принцип пословной (mot a mot) передачи тек¬
ста67, признавая единственно верным перевод «свободный» (par sentences)
и при этом соответствующий нормам общеупотребительного языка:
«Если же случится тебе переводить некую Латинскую Книгу на эти [на¬
родные] языки (равно и на французский), должен ты остерегаться слов,
65 Характерно, что этот устойчивый тонос авторитетности текста некоторыми
современниками был воспринят буквально; так, создатель «Французской би¬
блиотеки», одного из первых каталогов национальной словесности, Лакруа дю
Мэн писал о Деперье: «Он — автор отвратительной, нечестивейшей книги, оза¬
главленной Cymbalum mundi, или Колокольчик мира, первоначально писанной
оным Деперье по латыни, а после им же переведенной на французский язык под
именем Тома Д16 Клевье» // Ibid. Р. 116.
66 Стоит напомнить, что «Предсказание предсказаний» написано от лица «маги¬
стра Саркомороса, уроженца Татарии (Tartarie)»: родина «магистра» недвусмыс¬
ленно соотнесена с Тартаром.
67 См.: Евдокимова Л.В. Эволюция стихотворного и прозаического перевода в
XIII—XIV веках. Несколько старофранцузских переложений «Утешения Фило¬
софии» Боэция // Перевод и подражание в литературах Средних веков и Воз¬
рождения. М., 2002. С. 116—120.
^ 224 ^
^ Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деперье ^
слишком близких к латинским и редко использовавшихся в прошлом: до¬
вольствуйся словами повседневными, не выдумывай из пагубной страсти
к необычному никаких дурацких речений (dictions). И если кто так посту¬
пает, не следуй их примеру: ибо высокомерие их ничтожно и меж людьми
учеными недопустимо»68.
Доле, как и большинство французских гуманистов, видит в переводе
главное средство развития, обогащения и «прославления» национально¬
го языка. В эпистоле Тома дю Клевье этот принцип следования законам
«обычной речи» повторен почти дословно, но в пародийном ключе:
«Если я его [трактат] не передал для тебя буквально (mot a mot), соглас¬
но латыни, то следует тебе понимать, что сделано это нарочно, дабы следо¬
вать возможно точнее тому, как принято говорить на нашем языке Фран¬
цузском: это ты с легкостью распознаешь по формам божбы, какие в нем
есть, ибо вместо Me Hercule, Per Jovem, Dispeream, Aedepol, Per Styga, Proh
Jupiter и иных, им подобных, поставил я те, что в обычае у наших молодцов,
иначе: Черт побери, Мой бог, Чтоб я сдох, желая скорее передать и истолко¬
вать (translater & interpreter) чувства говорящего, нежели сами слова»69.
«Переводчик» стремится вписать найденный им «древний» текст в
пространство современной национальной культуры: поэтому он заменя¬
ет фалернское вино бонским (разновидностью бургундского), а лириче¬
ские стихи, которые распевает Купидон в третьем диалоге — «песнями
нашего времени» (главным образом стихами Маро). Само по себе, как
мы видели, это стремление не противоречит практике гуманистическо¬
го перевода, однако тем самым ставится под вопрос статус адресата эпи¬
столы. Гуманист обращается не к ученому собрату, но к человеку, не зна¬
комому с античными реалиями. «...Вместо фалернского вина поставил
я вино бонское, дабы оно тебе было привычнее и понятнее. Еще решил
я добавить к Протею мэтра Гонена [т.е. фокусника, шарлатана — И.С.],
чтобы лучше изъяснить тебе, что такое Протей»70. Пояснение античных
имен не могло иметь места в тексте, адресованном гуманисту; как мы ви¬
дели, к подобным объяснениям прибегает, например, Гийом Тардиф71 —
68 Цит. по: Etienne Dolet. La maniere de bien traduire dune langue en aultre (1540);
Jacques de Beaune. Discours comme une langue vulgaire se peult perpetuer (1548);
Theodore de Beze. De Francicae linguae recta pronuntiatione (1584); Joachim Perion.
I.D. Dialogorum de linguae gallicae origine eiusque cum Graeca cognatione, libri IV
(1555). Geneve, 1972. P. 14.
69 Delegue. P. 45.
70 Ibid.
71 См. параграф «Морализированный перевод и народная традиция во литературе
раннего французского Возрождений: пример Гийома Тардифа».
^225^
^^
но его переводы были выполнены для короля, символа национального
государства и национального языка.
Было бы логичным связать такую «национализацию» якобы древне¬
го текста с социальным статусом самого Деперье, придворного поэта,
автора многочисленных стихов, адресованных Маргарите Наваррской,
Франциску I и другим членам королевской семьи. Однако при более
внимательном их анализе выясняется парадоксальный факт: Деперье
ни разу не использует ту традиционную риторику поднесения своих
сочинений, к которой широко прибегал, например, Маро. Его обраще¬
ния к Маргарите выдержаны в тоне обычного для поэтов школы Маро
обращения к подруге и возлюбленной72 — чему нисколько не противо¬
речит восторженное преклонение перед ее красотой и добродетелями.
Раскаиваясь в одной из баллад в причиненном Маргарите огорчении,
Деперье винит себя, прежде всего, в неблагодарности, которой он от¬
платил за ее участие и дружбу:
Princesse pure autant que colombelle,
Ou des Vertus la tourbe gente et belle
A mis des dons sans regarder combien,
Je me confesse estre envers toy rebelle:
Je te fais tort, que ne te rendz le tien73.
(«Принцесса, чистая, как голубка, в которую множество изящных и пре¬
красных Добродетелей вложили, не считая, свои дары, каюсь, я был непокорен
по отношению к тебе: я огорчил тебя, не вернув тебе твое [расположение]»).
72 Еще один, но также необычный способ обращения к покровительнице встре¬
чается в записанном прозой стихотворении, где Деперье выражает желание
беседовать напрямую с сердцем Маргариты, объясняя свою вольность идеей
братства во Христе: “Si je vous dis icy ou toy ou tienne, ne vous soit grief; car liberte
chretienne si en dispense, et Dieu laccepte aussi, quand on l’invoque et on l’appelle
ainsi. Or, parler veulx a toi une fois Tan, ainsi que Dieu diet de Jerusalem: «Parlez,
dict-il a elle et en son cueur.» Ainsi veulx done, sans rigueur ne rancueur, parler un
peu a ton cueur gracieux, ou sont les loiz et statutz precieux du Roy des roys gravez
et entaillez, bien mieulx quen pierre ilz ne furent baillez. Escoute done, de par Dieu !
cueur royal, ce que te diet ton serviteur loyal...” («Если я говорю вам ты или твой,
пусть это будет вам не в обиду, ибо христианская свобода разрешает это, и сам
Бог соглашается, чтобы к нему так взывали. Так что хочу раз в год говорить с
тобой так, как Господь сказал о Иерусалиме: «Говорите, велит он, с нею и с серд¬
цем ее». И потому хочу я без строгостей и обид побеседовать немного с сердцем
твоим, где драгоценные законы и предписания Царя царей вырезаны и запечат¬
лены прочнее, чем в камне. Послушай же, ради Бога, о королевское сердце, что
скажет тебе твой верный служитель...») // Des Periers В. CEuvres franchises / Ed.
par L. Lacour. Paris, 1856. T. 1. P. 141—142.
73 Ibid. P. 140.
&226^
^ Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деперье ^
Королева Наваррская никогда не выступает в стихах Деперье в роли
литературного патрона; его верное служение ей не распространяется на
творчество:
...si tu veulx que sois ton secretaire,
Je s^aurois bien le poinct du secret taire;
Ou bien pourrois estre laquais de court,
Pour bien courir la poste en sale ou court;
Ou si javois sur moy ton equipage,
Je pourrois estre un tien honneste page,
Oucuysinier, pour servir (quoy quil tarde)
Apres disner de saulse ou de moustarde;
Ou pour mieulx estre eslongne de la table,
Estre pourrois quelque valet destable74 75.
(«Если ты хочешь, чтобы я был твоим секретарем, я сумею хранить
тайну; или же я могу быть придворным лакеем, бегать по поручениям во
дворце либо на дворе; а если ты мне поручишь свою карету, я бы мог быть
твоим честным пажом, или поваром, дабы подавать, хоть и запоздало, по¬
сле обеда соус или горчицу; или, чтобы быть подальше от стола, могу быть
каким-нибудь конюшим»).
Возможно, наиболее выразительным примером такого необычного
обращения к патрону является посвящение к переводу «Лисия» Пла¬
тона — уже потому, что в данном случае Деперье оказывается в рам¬
ках весьма устойчивого и имеющего весьма давнюю и разработанную
традицию гуманистического ритуала, который воспроизводится и в
прологе «Кимвала...». Но, посылая перевод Маргарите, он отбрасывает
традиционную топику и адресует госпоже пространную стихотворную
мольбу о дружбе-любви, завершающуюся строками:
Arrestez vous, 6 petits vers courantz,
Et merciez Amytie et la dame
Dont vous tenez, si netes ignorantz,
Tout quant quavez, le corps, lesprit et lame73.
(«Остановите же свой бег, о легкие стихи, и благодарите Дружбу и даму, кото¬
рой, как вам ведомо, обязаны вы всем, что у вас есть — телом, умом и душой»).
В результате посвящение и перевод как бы меняются местами. Вме¬
сто того, чтобы подтверждать в глазах истинного знатока словесности и
74 Ibid. Р. 145.
75 Ibid. Р. 54.
^227^
*
*
добродетелей, каким обычно предстает патрон, авторитетность перево¬
димого текста (а значит, и ценность труда самого переводчика), посвяще¬
ние, утрачивая свою вспомогательную роль, не только становится равно¬
ценным переводу, но и подчиняет его себе. Древний текст, вовлекаясь в
череду «легких» песенных строф, превращается в иллюстрацию к ним:
автор-переводчик, ища расположения дамы, представляет ей античный
образец той дружбы, какой он взыскует своей мольбой. Это обратное со¬
отношение функций двух текстов получает выражение в их заглавиях:
«Искание дружбы», заголовок поэмы-посвящения, становится и заглави¬
ем платоновского диалога: «Речь об искании дружбы, именуемая Лисий
Платона» (“Le Discours de la queste damytie, diet, Lysis de Platon').
Единственное «правильное» посвящение, адресованное Маргарите,
принадлежит не самому Деперье, но его другу Антуану Дюмулену76, по¬
смертному издателю его сочинений. Адресуя сборник королеве Наварр¬
ской, Дюмулен воспроизводит ряд топосов, характерных для ритуала
поднесения книги патрону. Указывая, что покойный друг перед кончиной
приводил в порядок свои творения, дабы поднести их госпоже, он име¬
нует ее их «всеобщей наследницей» (“heritiere universelle”)77 и выражает
уверенность, что, охраняемые ее «добродетелями и доблестями, коими
украшен и убран Мир», они, тем самым, избегнут нападок завистников.
Однако и в тексте Дюмулена есть ряд новых, необычных моментов. Во-
первых, завистниками выступают не только недоброжелатели поэта, но и
«завистница-смерть, которая тоже пыталась (если бы не я) похоронить в
вечном забвении творения вместе с телом». Во-вторых, издатель имену¬
ет сочинения Деперье «изящными и прекрасными писаниями, воистину
священными реликвиями..., извлеченными из торса и пылкого духа их
господина (tirees du Buste et feu de leur Seigneur)». Тем самым, подвергает¬
ся радикальному переосмыслению топос, встречавшийся еще в «Согла¬
сии двух языков» Лемера — стихи как подношения, возлагаемые на ал¬
тарь храма Венеры. Ореол сакральности оказывается присущ «писаниям»
поэта не благодаря их посвящению богине (покровительнице), но исклю¬
чительно в силу его собственного дарования: из даров, которые божество
может принять, а может и отвергнуть (как в «Согласии...»), они превра¬
щаются в «реликвии», т.е. в объекты поклонения par excellence. Священ-
76 Уроженец Макона, обосновавшийся в Лионе, Дюмулен с сотрудничестве с печат¬
ником Жаном де Турном (см. ниже) издал ряд сочинений современных поэтов,
в частности, Маро и Пернетты дю Гийе, а также “Couronne Margaritique” Лемера
де Бельж. Ему посвящены три стихотворных произведения Деперье, в которых
он предстает наставником автора (см.: Ibid. Р. 81—83, 148—149, 160—161).
77 Цит. по: Recveil des oewres de fev Bonaventvre des Peries, Vallet de Chambre de
Treschrestienne Princesse Marguerite de france, Royne de Nauarre. A Lyon, Par lean
de Tournes. 1544. Auec Priuilege. f. a r°-v°.
^228^
Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деперье
*
4
на сама фигура поэта, его «торс и пылкий дух (буквально: “огонь”)». На¬
конец, по словам Дюмулена, издание предпринято им в память о близком
человеке, «ради утешения своего и тех, кто был его друзьями»; книга
служит памятником писателю и одновременно скрепляет собой круг его
друзей, к числу которых принадлежит и Маргарита. Не случайно автор
посвящения, сетуя на вынужденную неполноту своего собрания, обра¬
щается к королеве как хранительнице еще не известных читателю сочи¬
нений своего секретаря — уравнивая ее в этом качестве с «одним [своим]
знакомым из Монпелье». Наряду с иерархией патронажа в тексте отчет¬
ливо очерчивается новое измерение — та дружеская «республика фран¬
цузской словесности», что впервые заявила о себе в ходе полемики Маро
с Сагоном, в год публикации «Кимвала мира».
Таким образом, в творчестве Деперье кристаллизуется одна из глав¬
ных тенденций в эволюции ренессансных представлений о социальном
и культурном статусе литературы и книги — автономизация фигуры
поэта. Существуя в пространстве придворного ритуала, секретарь Мар¬
гариты Наваррской в своей поэзии парадоксальным образом отказыва¬
ется от его риторики, утверждая себя как самодостаточного творца.
Поэтому и статус адресата пролога к «Кимвалу...» не сводится ни к од¬
ной из устойчивых, восходящих к позднему Средневековью традиций.
«Дружеская» риторика «Фомы Неверующего» отсылает к тому новому типу
литературного сообщества, какой сложился во Франции во второй полови¬
не 30-х гг. XVI в. С одной лишь важной поправкой — на которую указывает
противопоставление имен «переводчика» и знатока доброго вина.
В конце пролога «переводчик» просит адресата ни в коем случае не
снимать со своего текста копию, «дабы, переходя из рук в руки, не по¬
пал он к тем, кто имеет дело с печатанием книг, каковое искусство (не¬
когда, казалось, принесшее многие удобства словесности) ныне слиш¬
ком обыденно, ибо напечатанное отнюдь не столь изящно и менее
ценится, чем если бы оно осталось просто написанным, разве что пе¬
чать будет чистой и вполне исправной»78.
Перед нами снова гуманистический топос: автор посылает адресату
«исправный» экземпляр рукописи, на искажения которого при печати
столь часто жаловались не только гуманисты, но и литераторы, пишущие
на национальном языке (достаточно вспомнить Маро). Как и предыду¬
щие, этот топос подвергается у Деперье комическому отрицанию — уже
самим фактом того, что «маленький трактат» (безусловно, с ведома и
при участии автора) предстает в виде печатной книги. Именно введение
мотива печатни в конечном счете окончательно определяет статус Пье¬
ра Триокана: этот знаток не столько древней мудрости, сколько доброго
78 Ibid. Р. 45-46.
^229^
вина — читатель произведения (еще одна реминисценция из Рабле79),
к которому, как и в «Первой новелле в форме предисловия» из «Новых
забав...», напрямую обращается автор80. «Петру Верующему», веряще¬
му в истинность книг-«новостей», «Фома Неверующий», последователь
обманщика-Меркурия, адресует «четыре поэтических диалога», истина
которых состоит в отрицании книги как носительницы высшей истины.
Тем самым читатель лишается даже той двусмысленной опоры, кото¬
рую он получал в прологах Рабле с его поэтикой «ярмарочной» народ¬
ной книги и даже в прологе «Новых забав...» с их шаткой ориентацией
на жанровую традицию. Получая псевдо-гуманистическое послание, он
не получал иного ключа к его прочтению, кроме утверждения авторского
права на поэтический вымысел, объявляемый обманом81.
Эта главная идея «Кимвала мира» нашла своеобразное отражение
и в оформлении двух его изданий. В нем обнаруживается прямая — и
в книгоиздательской практике эпохи чрезвычайно редкая — связь с со¬
держанием «маленького трактата». На титульном листе первого, принад¬
лежащего Жану Морену, изображена аллегорическая фигура Славы (Re-
пошгпёе): увенчанная лаврами дама в античном одеянии держит в одной
руке пальмовую ветвь, а в другой — меч (два ее традиционных атрибута);
справа и слева от нее расположены две головы, из уст которых исходят
слова EVGE и SOPHOS (последнее в весьма причудливом псевдогрече-
ском написании; оба буквально означают: «хвала [тебе]»). Ниже начер¬
тана латинская пословица: “Probitas laudatur et alget” («Честность вос¬
хваляется и терпит нужду»). Судя по всему, этот девиз принадлежит не
печатнику, но самому Деперье, поскольку он же украшает и титульный
79 Ср. предисловие к «Пантагрюэлю», обращенное к любителям выпивки. Однако
одновременно Деперье, как и во многих других местах «Кимвала...», пародиру¬
ет еще один топос studia humanitatis, восходящий к античности и получивший
развитие, например, в посвящении, предпосланном Лоренцо Валлой к своему
латинскому переводу басен Эзопа: уподобление чтения пиршеству.
80 Ср. характеристику Л. Соцци «Новых забав и веселых разговоров»: «Это сочи¬
нение гуманиста, но гуманиста разочарованного, высмеивающего мифы и при¬
тязания официального гуманизма. Напитанные соками культуры, они [новел¬
лы], судя по всему, подаются читателям как некий учебник анти-культуры» //
Sozzi L. La satire du monde intellectuel dans les contes de Des Periers // Regards sur
la Renaissance: Textes et conferences de la Societe des amis du Centre detudes supe-
rieures de la Renaissance. Amboise, 1993. P. 59.
81 Между прочим, эта идея, как ни парадоксально, объясняет как обвинения Депе¬
рье в «безбожии», так и неожиданную снисходительность Сорбонны. Богословы
не обнаружили в «Кимвале...», прежде всего, ереси («ошибок против веры»), т.е.
некоей истины, противоречащей католическим догматам; более того, они наш¬
ли в произведении фигуру циничного обманщика Ретулюса. Однако неверие в
способность слова нести истину безусловно сродни безбожию уже потому, что
вера зиждется на слове и книге.
^230^
Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира» Бонавантюра Деперье
¥
*
лист второго, лионского издания — сопровождая, однако, уже не алле¬
горию, но гравюру в итальянском духе: стереотипное (в круге) изобра¬
жение поэта в лавровом венке, с кифарой и пером в руках. Аллегория
Морена — который, как мы уже отмечали, не прибегал к заимствованию
гравюр из других (своих и чужих) изданий, — это, скорее всего, попытка
проиллюстрировать традиционными изобразительными средствами об¬
раз, заключенный в самом заглавии «Кимвал мира», то есть звон тысяче¬
устой молвы, эмблемой которой служат «говорящие» (по-гречески!) го¬
ловы. Смысл изображения отчасти корректируется латинским девизом:
хвала возносится Честности, которая, тем не менее, терпит лишения, ибо
Мир предпочитает пребывать в обмане и верить пустым словесам. Гра¬
вюра тем самым приобретает характер (вполне справедливого) истолко¬
вания текста в духе идей Маргариты Наваррской и «Предсказания пред¬
сказаний». Кстати, насколько нам известно, никто из исследователей не
обратил внимания на тот факт, что «Предсказание...» отпечатано тем
же шрифтом — четкой и изящной антиквой, — что и «Кимвал мира», и
в Национальной библиотеке Франции существует в составе конволюта,
включающего также «Ответ аббату Конару» (т.е. Сагону, в защиту Маро),
где имя Морена вынесено на титульный лист. Судя по всему, «Предска¬
зание...» было отпечатано для того же либрария. Таким образом, «Ким¬
вал...», вышедший без имени автора, но с издательской маркой, подается
читателю как «честная» книга (по иронии истории, оправдавшая, неожи¬
данно для либрария, и вторую часть пословицы), несущая правду о сует¬
ных заблуждениях мира. Однако, как мы видели, мысль Деперье отнюдь
не исчерпывается этим толкованием. И титульный лист Бенуа Бонена,
где воспроизведена гравюра из издания «Латинских эпиграмм» Ж. Вуль-
те, выпущенного в 1537 г. лионским либрарием Пармантье82, в каком-то
смысле дополняет его. В центре читательского внимания оказывается
фигура самого автора — гуманиста, который доминирует над книгой и
чья «честность» обусловливает ее истинность и авторитет.
«Маленький трактат», принадлежащий перу секретаря королевы На¬
варрской, обозначил собой радикальный разрыв со средневековой па¬
радигмой бытования книги, во многом продолженной и развитой гума¬
низмом. Книга у Деперье перестает быть воплощением божественной
истины, превращаясь в очередную «новость», о которой звенит «ким¬
вал» суетного мира. Поэзия, во имя которой «литературная республи¬
ка» встала на защиту Маро, перенимает главную функцию своего по¬
кровителя Меркурия — обман, иными словами, право на свободный
вымысел. Поэт, утратив опору на авторитет патрона или античных
авторов, оказывается в своеобразном культурном вакууме, — но одно-
82 См.: Cartier A. Op. cit. Р. 579, note 3.
^231^
sx
временно завоевывает новое, куда более широкое пространство, кото¬
рое открывает перед ним печатня.
Несколько лет спустя эти идеи Деперье приобретут характер мани¬
феста в прологе-послании, предпосланном Этьеном Доле своему из¬
данию «Ада» Маро83. Обращаясь к другу, издателю Лиону Жаме, Доле
объяснял, почему он не находит ничего предосудительного в этом про¬
изведении:
«Это [поэтическое — И.С,] усилие ума должно быть свободным, без
всякой оглядки на то, что недоброжелатели могут оклеветать либо осудить
вещи, им отнюдь не принадлежащие. Ибо если у Автора все время звенит в
голове, что то или иное место в его Произведении будет истолковано таким
или сяким образом клеветниками сего Мира, никогда не сочинит он ничего
стоящего. Но если <...> не задета им Религия, и не затронута честь Госу¬
даря, и никого он открыто не обидел (да и то если тот сварлив), назвав но
имени, то все остальное можно допустить и не держать перо свое в узде; а
иначе не надо и писать. Ибо если сочиняешь в угоду другому, то остаешься
холоден как лед, и лучше тебе отдохнуть (f. A i v°)».
Доле, конечно, более сдержан, нежели Деперье; кроме того, значи¬
тельная часть его послания посвящена урокам, которые можно извлечь
из поэмы Маро. Гуманистическая программа лионского издателя ли¬
шена той доходящей до трагизма последовательности, какая была ха¬
рактерна для автора «Кимвала мира». Нужно также учесть, что два за¬
прета, сформулированные в послании (недопустимость оскорбления
религии и королевского достоинства), адресованы авторам, которые
предназначают свои произведения для печати, иными словами, каса¬
ются скорее издателя. Тем существеннее главный момент, общий для
обоих гуманистов: поэт свободен в своем творчестве. Не случайно, что
издательская марка Доле включает девиз: «Охрани меня, Господи, от
клеветы человеков». Между поэтом и Миром, между книгой и читате¬
лем не осталось никого, кроме Бога.
)
83 L’Enfer de Clement Marot de Cahors en Quercy, Valet de chambre du Roy. Item : Aul-
cunes Ballades, & Rondeaulx cy presents a l’argument. Et en oultre plusieurs aultres
compositions dudict Marot, par cy deuant non imprimees. A Lyon, Ches Estienne Do-
let. 1544. Auec priuilege du Roy. Любопытно, что «Ад», по словам Доле, «никогда
прежде не был напечатан, разве только в городе Наоборот (sinon en la uille d’En-
uers)», безусловно, расположенном там же, где и “cite de dabas” у Деперье.
Приложение
Пророчества Пантагрюэля1
ШпщпШпс
pjog»o^tc(Trt3ccrfm>jt^nYa6fc pifamt
w tuipio*
0t'6ef?oiJr8io ctmufarebemifurt»нпт|>
ftt Mf«>fn6ae атфМсШ) bvSictpanU^nMt
Рисунок 10. Pantagrueline prognostication certaine veritable & infalible pour lan
mil.D.XXXIIL nouuuellement composee au profit & aduisement de gens estourdis & musars
de nature par maistre Alcofribas architriclin dudict Pantagruel. Lyon, 1532
Впервые опубликовано в: Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 325—334.
^ 233 ^
Приложение
+
4
О том, что в основе знаменитого романа Рабле «Гаргантюа и
Пантагрюэль» лежит традиция народной смеховой культу¬
ры и, уже, народные хроники о великане Гаргантюа, знают
все. Однако не менее, а быть может, и более интересен другой
факт: Рабле создал фигуру нового великана, которому, в свою
очередь, суждена была громадная популярность в рамках той же самой
«смеховой», «ярмарочной» словесности. Изначально имя Пантагрю¬
эль принадлежало чертенку из средневековых мистерий, насылающему
жажду и болезни горла. Почему Рабле выбрал именно этого средневе¬
кового персонажа, сохранив за ним отчасти «пьяную» семантику, но
сделав его великаном и сыном Гаргантюа? Однозначного ответа на этот
вопрос до сих пор нет; зато есть непреложные свидетельства широчай¬
шего и весьма активного использования фигуры Пантагрюэля — начи¬
ная от карнавальных шествий и кончая новыми версиями старинных
«гаргантюинских хроник». После 1532 г., когда в Лионе увидела свет
книга под названием «Ужасные и устрашающие деяния и подвиги до¬
стославного Пантагрюэля, короля Дипсодов, сына великана Гаргантюа,
недавно сочиненные мэтром Алькофрибасом Назье», французские пе¬
чатники эксплуатировали ее успех на все лады. Пантагрюэль настоль¬
ко прочно вписался в традицию национальной народной культуры, что
еще совсем недавно ведущие специалисты по творчеству Рабле диску¬
тировали о том, не могла ли одна из народных хроник, где упоминается
этот великан, появиться раньше, нежели творение шпионского врача, а
значит, не совершил ли тот простого заимствования из нее.
Сам Рабле, безусловно, осознавал и развивал успех своей первой
книги и ее героя — великана-гуманиста, просвещенного, но вместе
с тем «народного» короля. Одно из доказательств тому — публикуе¬
мый ниже текст, впервые изданный у лионского печатника Ф. Жюста
(издателя «Пантагрюэля») в 1533 г. Будучи по внешнему оформлению
типичной народной книгой — равно как и две первые книги самого
романа, — «Пантагрюэлево предсказание», как нетрудно заметить, па¬
родирует не менее популярные в его эпоху, нежели в наши дни, астро¬
логические прогнозы. При переизданиях в заглавии текста поначалу
менялся год — от 1533 до 1538, покуда в 1542 г. «Предсказание» не по¬
лучило, наконец, того названия, под которым оно приводится здесь и
которое окончательно закрепило его смеховой статус.
Перевод выполнен по изданию: Rabelais F. CEuvres completes / Ed. etablie et annotee
par J. Boulenger, rev. et compl. par L. Scheler. Paris, 1955. P 896—905.
^234^
Пророчества Пантагрюэля
Франсуа Рабле
*
ПАНТАГРЮЭЛЕВО ПРЕДСКАЗАНИЕ, ВЕРНОЕ, ИСТИННОЕ
И НЕПРЕЛОЖНОЕ НА ВСЯКИЙ ГОД, СОЧИНЕННОЕ
НЕДАВНО НА ПОЛЬЗУ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМ
СУМАСБРОДАМ И БЕЗДЕЛЬНИКАМ МЭТРОМ
АЛЬФРИБАСОМ, ГЛАВНЫМ СТОЛЬНИКОМ СКАЗАННОГО
ПАНТАГРЮЭЛЯ.
К благосклонному читателю
Привет и мир во Иисусе Христе
В рассуждении того, что из-за уймы предсказаний, в Лувене сочинен¬
ных и винным стаканом осененных, распространилось кругом обману
без меры, расчислил я ныне для вас свое предсказание, самоистиннейшее
и вернейшее, какое только может быть на свете: поживете — сами уви¬
дите. Ибо нет сомнения: коли сказано царственным Пророком Господу,
Псал. V: «Ты погубишь говорящих ложь»2, так, стало быть, великий грех
лгать умышленно да обманывать весь бедный мир, до новостей охочий.
А особенно французы любопытны были во все времена, как пишет о том
Цезарь в своих «Записках» и Жан из Граво в «Мифологиях Галльских»3.
И теперь еще видишь всякий день во Франции, как первым делом все вы¬
спрашивают вновь прибывшего: «Какие новости? Не узнали ли чего но¬
венького? Что говорят? Что слышно на свете?» И так боятся, не упустили
ли чего, что частенько сердятся на тех, кто, воротившись из чужих краев,
не приволок новостей полну котомку, и бранят их олухами да дурнями.
И как готовы они в любой час вызнавать новости, так и, если не
больше, готовы верить всему, что им рассказывают; а оттого разве не
стоило при входе в Королевство наше поставить людей, заслуживаю¬
щих доверия, и положить им жалованье за то лишь, чтобы досматри¬
вали они внимательно все свежепринесенные новости и определяли,
правдивы они или нет? Конечно же, стоило. А добрый господин мой
Пантагрюэль так и сделал по всей стране Утопии и Дипсодии. И про¬
2 Псалтирь, 5, 7.
3 Вымышленное сочинение (возможно, отсылка к «Прославлениям Галлии...»
Жана Лемера де Бельж). Граво — деревня близ Шинона, родного города Рабле.
235 ^
Приложение
+
4
изошло из этого столь великое благо, и в таком процветании пребыва¬
ют владения его, что жители тамошние уже не в силах пить, и когда бы
не поспевала им подмога от пьяниц да славных зубоскалов, ничего бы
другого и не оставалось, как выливать вино на землю.
Итак, преисполнившись желания помочь любопытству всех добрых
собутыльников, изучил я карты небесные, рассчитал квадраты луны,
проник разумом все, что приходило когда-либо на ум и астрофилам, и
гипернефелистам, и анемофиласам, и уранопетам, и омброфорам, и к
тому ж обо всем держал совет с Эмпедоклом, каковой поручает себя ва¬
шим молитвам.
И весь этот Tu autem изложил я здесь в немногих главах и, заверяю
вас, говорю в них только то, что думаю, а думаю то, что есть на самом
деле, а то, что есть на самом деле, и есть, говоря по правде, то, что сию
минуту вы прочтете. А все сказанное сверх того ссыпано будет впере¬
мешку в большое сито и либо по случайности случится, либо по слу¬
чайности не случится вовсе.
Об одном лишь предупреждаю вас: коли не поверите вы каждому
слову моему, то сыграете со мною злую шутку и не избежать вам за нее
жестокого наказания либо на этом свете, либо на том. Не будет плечам
вашим защиты от плетей под ременным соусом, а воздух втягивать в
себя станете, словно устрицы, сколько угодно, ибо, верно говорю, мно¬
го вас там будет славно поджариваться, коли печник, конечно, не за¬
снет.
А стало быть, утрите носы, детишки мои, а вы, старые чудаки, на¬
вострите очки и внимайте всякому слову моему, будто Священному
Писанию.
Глава I
0 ПРАВИТЕЛЕ И ГОСУДАРЕ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
Что бы там ни болтали все полоумные астрологи лувенские, нюрнберг¬
ские, тюбингенские и лионские, не верьте: не будет в году нынешнем ино¬
го правителя в поднебесном мире, кроме Господа творца, каковой боже¬
ственным1 глаголом своим, чрез который все вещи пребывают в естестве
их и сущности и на своих местах, все направляет и укрощает и без под¬
держки и правительства какового все вещи были бы в единый миг обра¬
щены в ничто, как из ничего и были порождены им в бытии своем. Ибо
всякая тварь и всякое благо, всякая жизнь и всякое движение от него про¬
исходит, в нем пребывает и чрез него совершенства достигает, как возгла¬
^236 4
Пророчества Пантагрюэля
¥
шает о том труба евангельская св. апостол Павел (Рим., XI)4. А следствен¬
но, согласно непреложному нашему суждению, правителем в нынешнем
году, равно как и в другие годы, будет Господь всемогущий. И ни Сатурн,
ни Марс, ни Юпитер, ни какая иная планета и, разумеется, ни ангелы, ни
святые, ни люди, ни черти не будут ни власти иметь, ни действия, ни вли¬
яния, коли не угодно это будет Господу; как говорит Авиценна, причины
вторичные ни влияния никакого не имеют, ни действия, коли не влияет
на них причина первичная. Что, разве он не прав, мальчуган?
Глава II
0 ЗАТМЕНИЯХ В НЫНЕШНЕМ ЮЛУ
Затмений солнца и луны случится в нынешнем году столько, что,
боюсь (и не напрасно), кошелек наш пребудет от того в истощении, а
чувства — в возмущении. Сатурн будет пятиться, Венера — идти впе¬
ред, а Меркурий будет переменчив. И еще уйма других планет пойдут
по небу, и не по вашему велению.
Стало быть, в году нынешнем шанкр выйдет боком, а рак — задом
наперед, скамейка встанет на ножки, вертел залезет на таган, а шля¬
па — на голову; у многих вместо мошны висеть будет мошонка; блохи
будут по большей части черны; в пост горох разлучится с салом; брюхо
пошагает впереди, зато зад всегда сядет первым; на праздник Королей
вы не найдете в пироге боба и останетесь на бобах; в картах пребуде¬
те вы при пиковом интересе, а кости, как их ни проси, выпадут не так,
как вам хочется, и на всякое хотение будет терпение; звери во многих
местах обретут дар речи. Заговенье пост одолеет: все люди поделятся
на две половины, и одни, переодевшись, будут дурить головы другим и
носиться по улицам, словно полоумные и бесноватые; вовек не видано
было в природе подобного беспорядка. И еще родятся в нынешнем году
27 неправильных глаголов, коли не возьмет их Присциан в ежовые ру¬
кавицы. И если не поможет нам Господь, будет у нас хлопот полон рот;
если ж, напротив, будет он на нашей стороне, нам все будет нипочем,
как говорит о том небесный астролог, что вознесен был прямо на Небо
(Рим., VII, глава Si Deus pro nobis, quis contra nos?)5. Право же, nemo,
Domine, ибо доброта его и могущество безмерны. Так благословляйте
святое имя его, для примера6.
4 Пародийная ложная отсылка.
5 Пародийная ложная отсылка.
6 Выражение, принятое в адвокатской практике эпохи и нередко обыгрывавшееся
в литературе из-за чрезмерно частого и неоправданного употребления.
^ 237 ^
Приложение
Глава III
О БОЛЕЗНЯХ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
В нынешнем году слепые будут близоруки, глухие туги на ухо, а не¬
мые неразговорчивы; богатые станут поживать чуть лучше бедных, а
здоровые — лучше больных. Множество баранов, быков, свиней, гусей,
цыплят и уток настигнет смерть, зато не будет большого мора среди
обезьян и верблюдов. Старость будет неизлечима в нынешнем году по
причине годов прошедших. У кого случится плеврит, будет мучиться
болью в боку. Страдающие поносом частенько станут заседать орлом.
Катары в году нынешнем сходить будут от мозга вниз, к другим членам.
От глазных болезней произойдет немалый вред для зрения. Уши в Га¬
скони будут короче обыкновенного и встречаться реже. И едва не во
всем поднебесном мире владычествовать станет болезнь ужаснейшая
и страшная, злая, лихая, противная и трепет наводящая, и повергнет
она мир в изумление великое, и многие из-за нее голову потеряют и ча¬
стенько предаваться станут мечтаниям бесплодным и рассуждениям о
философском камне да Мидасовых ушах. При мысли о ней сам я дрожу
от страха — ибо, говорю вам, будет это истинная эпидемия, а имя ей
дает Аверроэс (VII, Colliget)7: безденежье, сиречь карманная чахотка.
А в ожидании прошлогодней кометы и попятного движения Сатурна
помрет в больнице мошенник великий, катаром и струпьями изъеден¬
ный, по смерти коего нещадная начнется война промежду кошками и
крысами, собаками и зайцами, соколами и утками, монахами и яйцами.
Глава IV
0 ПЛОДАХ И РАСТЕНИЯХ ЗЕМНЫХ
По расчетам Альбумасера8, из его Книг великой конъюнкции и про¬
чих, полагаю я, что будет год нынешний весьма плодородным, и всяк
обретет многие блага, у кого будет на что их обрести. Однако ж вино¬
град пикардийский не вполне будет устойчив к холодам; овес вели¬
кую лошадям доставит пользу; сала неоткуда будет взять, как только
от свиней; по причине Рыб восходящих великое случится в этом году
изобилие сельдей. Меркурий грозит повредить петрушке, но все же
она пребудет в цене разумной. Ноготки да незабудки расцветут пыш¬
7 Пародийная ложная отсылка.
8 Арабский астролог IX в.
^238^
Пророчества Пантагрюэля
*
ным цветом, и не будет недостатка в горе луковом. А коли услышит Бог
мольбы бедняков, в невиданном произрастут количестве хлеб, вино,
фрукты и овощи.
Глава V
О НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ ПОЛОЖЕНИИ
Нет большего безумия на свете, нежели полагать, будто есть звезды
особенные для королей, пап и вельмож, отличные от тех, что светят лю¬
дям бедным и страждущим — словно бы сотворены были какие-то но¬
вые звезды со времен Потопа, или Ромула, или Фарамонда9, когда по¬
ложено было начало новым царям. Никогда бы ничего подобного не
сказали ни Трибуле, ни Кайет10, а они все же были люди весьма ученые
и достославные. И случилось так, что в Ковчеге Ноевом происходил оз¬
наченный Трибуле от королей Кастильских, а Кайет был рода Приамова.
Но заблуждение такое происходит единственно от недостатка истинной
католической веры. Стало быть, считаю я непреложным, что звездам
столь же мало дела до королей, как и до нищих, и до богачей, как и до
пройдох, и потому предоставляю иным безумцам-астрологам вещать о
королях и богачах, а сам говорить стану о людях низкого сословия.
И в первую голову — о людях, Сатурну подвластных, каковы люди
безденежные, ревнивцы, фантазеры, злоумышленники, подозритель¬
ные, вечно крадущиеся, ростовщики, процентщики, заклепщики, ду¬
бильщики, черепичники, отливщики колоколов, должники, башмачни¬
ки и меланхолики; они в году нынешнем не все, чего хотят, получат, но
будут учиться таскать каштаны из огня, не станут сорить деньгами и
самих себя не раз погладят против шерсти.
Юпитеру подвластные, каковы ханжи, святоши, сапожники, воз-
носители молитв, сочинители булл, писцы, копиисты, буллисты, да-
тарии, сутяги, разбивщики на главы, монахи, отшельники, лицемеры,
притворщики, почитатели святых, втируши, льстецы, бумагомараки,
читчики, любезники, канцелярские крысы, бумаготорговцы, продавцы
четок, писаки, нотариусы, пииты упиитанные, суфлеры, фискалы не
будут ни в чем знать недостатка, покуда остаются при деньгах. И най¬
дет такой мор на церковников, что некому будет раздавать бенефиции,
9 Легендарный вождь франков, потомок Приама, живший якобы в V в.
10 Знаменитые шуты Франциска I, ставшие частыми персонажами в комической
литературе.
^239^
Приложение
*
4
и многие станут владеть сразу двумя, тремя, четырьмя, а то и больше.
И ханжество всяко похваляться будет древностью своей, ибо мир те¬
перь уже не дурак и превратился в большого сквернавца, как возвещает
о том Авензагель.
Марсу подвластные, каковы палачи, убийцы, ловкачи, разбойники,
городовые, свидетели, караульные, гарнизонные вояки, зубодеры, хо¬
лостильщики, цирюльники, мясники, фальшивомонетчики, врачи-пу¬
стомели и альманашники, богохульники, спичечники, поджигатели,
трубочисты, держиморды, угольщики, алхимики, медники, решеточ-
ники, колбасники, торговцы игрушками, рукояточники, фонарщики в
нынешнем году плакать не будут; однако ж по некоторым из них будет
плакать палка. Некто из людей вышеназванных столь вознесется, что
на всех станет смотреть свысока — коли веревка не оборвется.
Солнцу подвластные, каковы пьяницы, выпивохи, бражники, пи¬
вовары, вязальщики снопов, грузчики, косцы, сборщики податей, но¬
сильщики, укупорщики, пастухи, волопасы, скотники, птичники, са¬
довники, побирушки, попрошайки, нищеброды, христарадники, иначе
говоря, все, у кого брюхо к спине прилипает, будут здоровы и веселы, и
как придет им время жениться, так и ночь будет коротка.
Венере подвластные, каковы шлюхи, сводни, волокиты, потаскуны,
мужеложцы, сифилитики, развратники, распутники, блудники, горнич¬
ные, nomina mulierum desinentia in —ка, ut прачка, торговка, или —ица,
ut трактирщица, вязальщица, будут и в нынешнем году в большом по¬
чете; однако ж поскольку Солнце вступает в созвездие Рака и в иные
знаки, весьма следует им опасаться венериных болезней. Едва ли удаст¬
ся в нынешнем году монашкам зачать непорочно. Не много найдется
девиц, кто сумеет кормить грудью.
Меркурию подвластные, каковы шулера, обманщики, ловкачи, шар¬
латаны, разбойники, мельники, бездельники, магистры искусств, де-
кретисты, дрягили, бродяги, рифмачи, фигляры, фокусники, потроши¬
тели латыни, составители ребусов, бумажники, карточники, пустомели,
пираты частенько делать будут хорошую мину при плохой игре и сме¬
яться, когда не смешно, и весьма им грозит оказаться на мели, когда в
кошельке ветер засвистит.
Луне подвластные, каковы разносчики, охотники, ловчие, соколь-
ничьи, почтари, солевары, лунатики, безумцы, безмозглые, ворчуны,
посыльные, гонцы, лакеи, стекольщики, вестовые, жители побережий,
матросы, верховые, барышники не будут в нынешнем году знать ни от¬
дыха, ни срока. Впрочем, в Сант-Яго отправится все же не так много
дурней, как в году 524-м. В великом множестве спустятся разбойники-
испанцы с гор в Савойе и Оверни, однако Стрелец уже готов поразить
в пяту их мулов.
^240^
Пророчества Пантагрюэля
Глава VI
О НЕКОТОРЫХ СТРАН СОСТОЯНИИ
В благородном королевстве Французском случится в нынешнем году
торжество и процветание всяческих утех и услад, и оттого народы чу¬
жеземные охотно сюда устремятся. Тысячи веселых развлечений, пиру¬
шек и невинных радостей найдет здесь всякий, к удовольствию своему;
вино, и самое лакомое, польется рекой; в великом изобилии уродится
репа в Лимузене, каштаны — в Перигоре и Дофине, оливки — в Лан¬
гедоке; в изобилии будет песку в Олоне, рыбы — в море и звезд — на
небе, а соли — в Бру; не будет недостатка в хлебе, овощах, фруктах,
плодах садовых, в масле и молоке. Никакой чумы, никакой войны, ни¬
каких забот — плевать на бедность, плевать на нужду, плевать на ме¬
ланхолию! и вернутся в обращение старинные деньги — древние двой¬
ные дукаты, нобли с розой, монеты с ангелочками, орлами, короной,
длинношерстыми баранами, а с ними в изобилии шарати11 и экю с изо¬
бражением солнца. Однако ж в середине лета опасаться следует наше¬
ствия черных блох и мошкары. Adeo nihil est ex omni parte beatum. Ho
укрощать их придется посредством полуночных возлияний.
Италия, Романия, Неаполь и Сицилия пребудут там же, где находи¬
лись в прошлом году. Под конец Великого Поста погрузятся они в глу¬
бокую спячку, и временами в полдень будут одолевать их мечтания.
Германия, Швейцария, Саксония, Страсбург, Антверпен и т.д., коли
не придут в упадок, то станут процветать; бродячие монахи должны
остерегаться их, и в нынешнем году мало кто трудами монашескими
там родится.
Испания, Кастилия, Португалия, Арагон нередко подвержены будут
внезапным потрясениям и едва не перемрут все, от мала до велика, од¬
нако ж устоят и нередко пересчитывать будут деньги в чужом кармане,
коли будет что считать.
Англия, Шотландия, Уэльс весьма скверными будут Пантагрюэли-
стами. Им все не диво — что вино, что пиво, было бы доброе и вкусное.
За столом никогда их не оставит надежда. Св. Триньян Шотландский
станет, что ни день, творить новые чудеса. Однако, сколько ни ставь
ему свечек, видеть он лучше не будет, разве что Арей восходящий его
разбудит, коли от него не убудет.
Московитам, Индийцам, Персам и Троглодитам, что бегут пастырей
римских, не раз случится нести чушь, но отнесут они ее, куда надо, ког¬
да взойдет Стрелец.
11 Древняя египетская золотая монета.
^241^
Приложение
4
Цыгане, Жиды, Египтяне не все получат в нынешнем году, чего их
душа пожелает; Венера грозит им жестокой золотухой, однако ж они
где сядут, там и слезут, а как встанут, так вам нос натянут.
Улитки, Монахи-расстриги, Кокмары12, Каннибалы примут страда¬
ния великие от кусачих мух, и коли не будет им Водолей в помощь, то и
не играть им ни на цимбалах, ни в пестик и ступку.
А про Австрию, Венгрию и Турцию, право же, детишки мои, ничего
я не знаю и знать не хочу по причине доблестного вступления Солнца в
знак Единорога; а коли вам ведомо больше, чем мне, так и помалкивай¬
те, не то черт заберет!
Глава VII
О ЧЕТЫРЕХ ВРЕМЕНАХ ГОДА, И ПЕРВО-НАПЕРВО 0 ВЕСНЕ
Во весь нынешний год будет в небе всего лишь одна луна, да и та не
первой свежести; конечно, вам это не по вкусу, вам, в Бога не верую¬
щим, хулителям и гонителям его святого и божественного Слова, а
равно и прославителям его. Ну так и можете удавиться! никакой вам не
будет другой луны, кроме той, что сотворена Господом нашим вместе
с остальным миром и каковая велением означенного священного его
слова утвердилась на небосклоне, дабы светить людям в ночи и указы¬
вать им путь. Боже упаси, я вовсе не хочу из того заключить, что не яв¬
ляет она земле и людям земным, как уменьшается и возрастает сияние
ее в зависимости от того, приблизится она к солнцу либо удалится от
него. Но почему? Да потому что. В придачу молитесь не ей, а Богу, что¬
бы хранил вас от волков, ибо в нынешнем году они, уверяю, к вам и не
притронутся. А кстати! в это время года взору вашему предстанет впо¬
ловину больше цветов, чем в три остальных, вместе взятых. И вряд ли
тот прослывет глупцом, кто в это время заведет себе денег в кармане
больше, чем блох на аркане за целый год. Жители гор Савойских, До-
финейских и Гиперборейских и грифоны тамошние лишены будут это¬
го времени года и никогда его не увидят, как полагает Авиценна, гово¬
рящий, что в>есна тогда приходит, когда снега сходят с гор, а там снег
лежит вечно. Верьте ему, он вещает правду. В мое время наступление
Ver считали с той поры, когда солнце вступало в первую фазу Марса.
Если нынче считают по-другому, я не против. Ну и ладно.
12 Фантастическое животное (от этого названия происходит слово «кошмар»).
^242^
Пророчества Пантагрюэля
Глава VIII
О ЛЕТЕ
4
Какой летом подует ветер и откуда, я не знаю; но знаю точно, что
должно быть жарко, а по ветру надо держать нос. Однако ж если случит¬
ся по-другому, отнюдь не нужно поэтому хулить Господа Бога. Ибо му¬
дрость его превосходит нашу, и ему лучше нашего ведомо, что нам необ¬
ходимо, клянусь честью, что бы там ни говорили Гали и подручные его.
Лучше всего будет веселиться да пить вино холодным, хоть и утвержда¬
ют некоторые, будто весьма это противно жажде и нимало ее не утоляет.
Наверно, так оно и есть. А стало быть, contraria contrariis curantur.
Глава IX
ОБ ОСЕНИ
По осени будем мы собирать виноград, рано или поздно, мне безраз¬
лично, лишь бы винишка было вдоволь. Шерсть будет в цене, и кто по нее
пойдет, вернется стриженый. Те, кто дал обет поститься, покуда не взойдут
звезды на небе, нынче могут перекусить, с моего дозволения и благослове¬
ния. Да и то припозднились, ибо звезды появились шестнадцать тысяч и не
знаю сколько еще дней назад и держатся на небе крепко, уверяю вас. Но не
надейтесь, что станет падать на вас манна небесная — на ваш век ее не хва¬
тит, клянусь честью! Ханжи, святоши, объедалы, бродячие монахи, и равно
и прочие брюхачи повылезут из нор. Пускай хоронится от них, кто хочет.
А как будете есть рыбу, храни вас Бог и от костей, и от гостей!
ГлаваХ
О ЗИМЕ
По малому моему разумению, не самое умное — продавать зимой
шубы свои и меха, чтобы купить дров. И древние так не поступали,
Авензоар13 тому свидетель. Коли польет, как из ведра, не печальтесь —
меньше будет пыли на дороге. Сидите в тепле. Берегитесь катаров. Пей¬
те лучшее вино — покуда прочее не подешевеет, и не мочите без нужды
постель. Ну где же вы, курочки мои, неужто улетели?
13 Арабский врач и философ XI—XII вв., наставник Аверроэса.
Summaiy
The chapters of the book are devoted to various aspects of the development
of the national French literature at the turn of the Middle Ages and Moder¬
nity. The formation of the national historical myth and the first attempts at
“defense and illustration” of the French language associated with this myth,
as well as the emergence of new ideas regarding authorship, readership, writ¬
ing, poetic fiction and book are investigated on the basis of the works of lead¬
ing writers of this epoch (Jean Lemaire de Beiges, Guillaume Tardif, Octovien
de Saint-Gelais, Clement Marot, Bonaventure des Periers etc.). Particular at¬
tention is paid to the role in this process of the first French printers and pub¬
lishers (from Guillaume Fichet and Antoine Verard to Geoffroy Tory and Eti¬
enne Dolet), and the impact of new book-printing art on literary practices of
this period. The book is addressed to literary historians as well as to teachers
and students specializing in the history of world literature.
j
Content
Preface 7
§ I. Nature, love and rhetoric in French literature in the beginning
of 16th century 16
§ II. Jean Lemaire de Beiges’ “Illustrations de Gaule”:
poetics and history 33
§ III. Moralized translation and vernacular tradition in French literature
of the early Renaissance: the case of Guillaume Tardif 44
§ IV. Poets image in the French culture of the early Renaissance
(from the legend of Villon to the legend of Marot) 105
§ V. Typography and the vernacular literature in France in the 15th century.... Ill
§ VI. The book’s image and the problem of authorship
in Antoine Verard’s publishing practice 144
§ VII. Myth and printing: the mythologization of the French language
in Geoffroy Tory’s “Champfleury” 156
§ VIII. Poetic polemic in the era of printed book: the dispute between
Clement Marot and Francois Sagon 171
§ IX. Book and creation: Octovien de Saint-Gelais’ “Le Sejour
d’honneur” 182
§ X. The end of Medieval book’s mythology: Bonaventure des Periers’
“Cymbalum mundi” 206
Appendix. Pantagruel’s Prognostications 233
Научное издание
Ирина Карловна Стаф
Цветы риторики и прекрасные литеры.
Французская литература позднего Средневековья и раннего Возрождения
Макет и оформление Ю.В. Балабанов
Издательский редактор И.В. Румянцева
Корректор Н.С. Головин
Предложения и вопросы можно присылать на электронный адрес серии:
medieval.books@mail.com
Утверждено к печати Ученым советом Института мировой литературы РАН
Подписано в печать 26.08.2016. Формат 70x100/16. Заказ № 149.
Тираж 500 экз. 15,5 п.л. 22,0 уч.-изд. л.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpk.ru. e-mail: marketing@chpk.ru
факс 8(496) 726-54-10, тел. 8 (495)988-63-87
По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
e-mail: unikniga@yandex.ru. Руководитель центра П.В. Соснов
Комплектование библиотек, оптовая продажа в России и странах СНГ
ООО «Университетская книга-СПб».
«Университетская книга-СПб» предлагает книготорговым организациям,
библиотекам и простым читателям широкий ассортимент книг по всему спектру
гуманитарных наук — философии, филологии, лингвистики,
истории, социологии и политологии.
Вы можете приобрести у нас по издательским ценам продукцию ведущих
научно-гуманитарных издательств России.
Контакты:
в Санкт-Петербурге: Тел. (812) 640-08-71, e-mail: uknigal@westcall.net
в Москве: ООО «Университетская книга-СПб». Тел. (495) 915-32-84,
e-mail: ukniga-m@libfl.ru
) Книжные новинки издательства всегда представлены
в киоске Государственного института искусствознания:
Москва, Большой Козицкий переулок, д. 5 (ст. метро «Чеховская»,
выход в сторону Музыкального театра им. К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко).
Тел./факс: (495) 692-29-39, e-mail: kiosk_gii@sias.ru
Рассылка по России:
Интернет-магазин Лабиринт.ру: http://www.labirint.ru/
И.К. Сгаф
Цветы риторики
и прекрасные литеры
Французская литература
позднего Средневековья
и раннего Возрождения
В эпоху раннего Возрождения во Франции начинает
складываться литература в современном
понимании слова, с новыми, отличными
от средневековых, понятиями об авторе
и произведении, поэтическом вымысле
и литературном языке, читающей публике
и книге. Какую роль сыграло в этом процессе
книгопечатание? Как взаимодействовали
французский гуманизм и национальная
словесность? Почему «защита и прославление»
французского языка была связана с мифом
о греческом происхождении французов?
Эти и другие вопросы рассматриваются
в параграфах книги на примере творчества
ведущих писателей эпохи
(от Жана Лемера де Бельж до Клемана Маро
и Бонавантюра Деперье), а также деятельности
первых французских типографов и либрариев